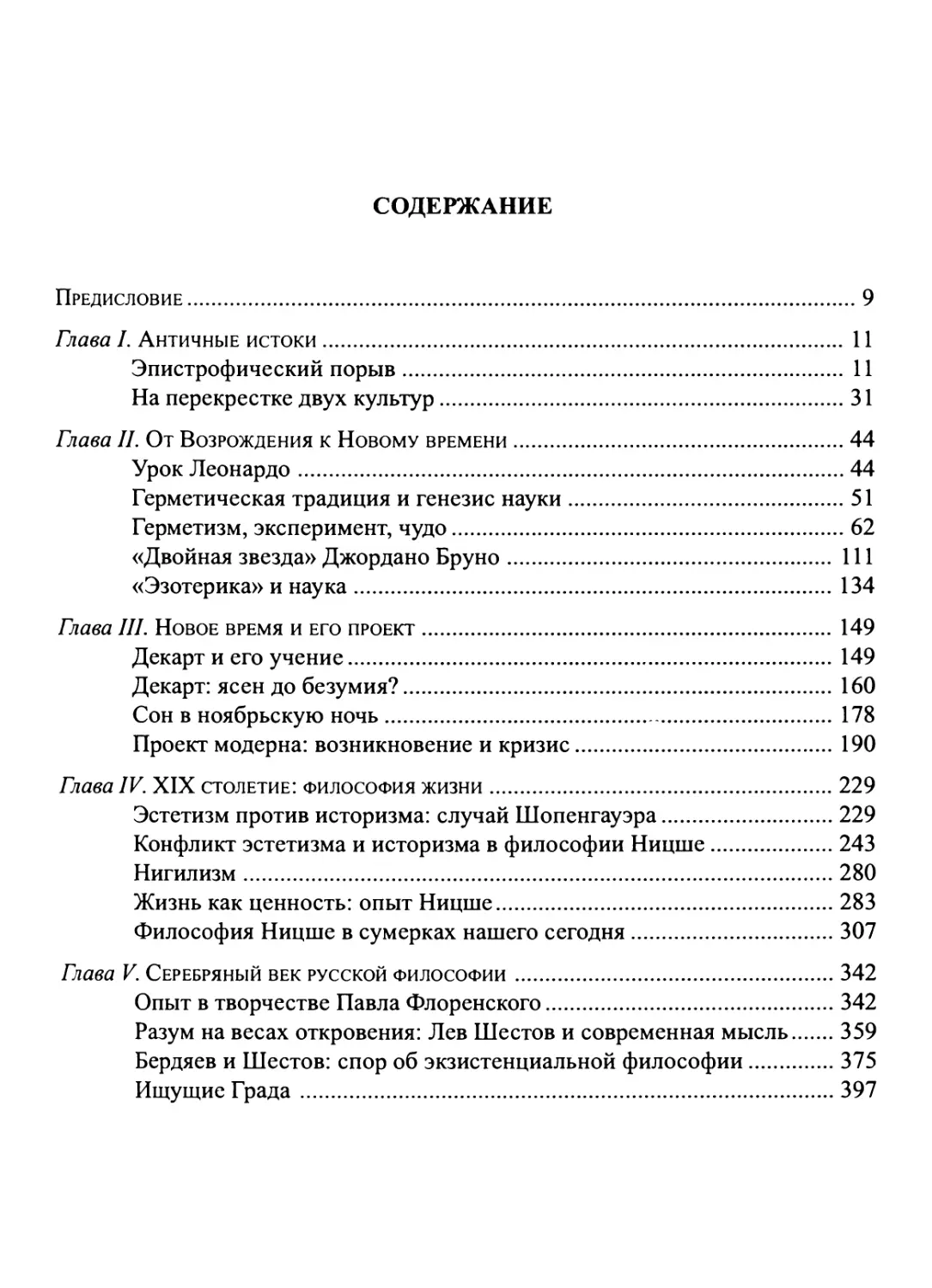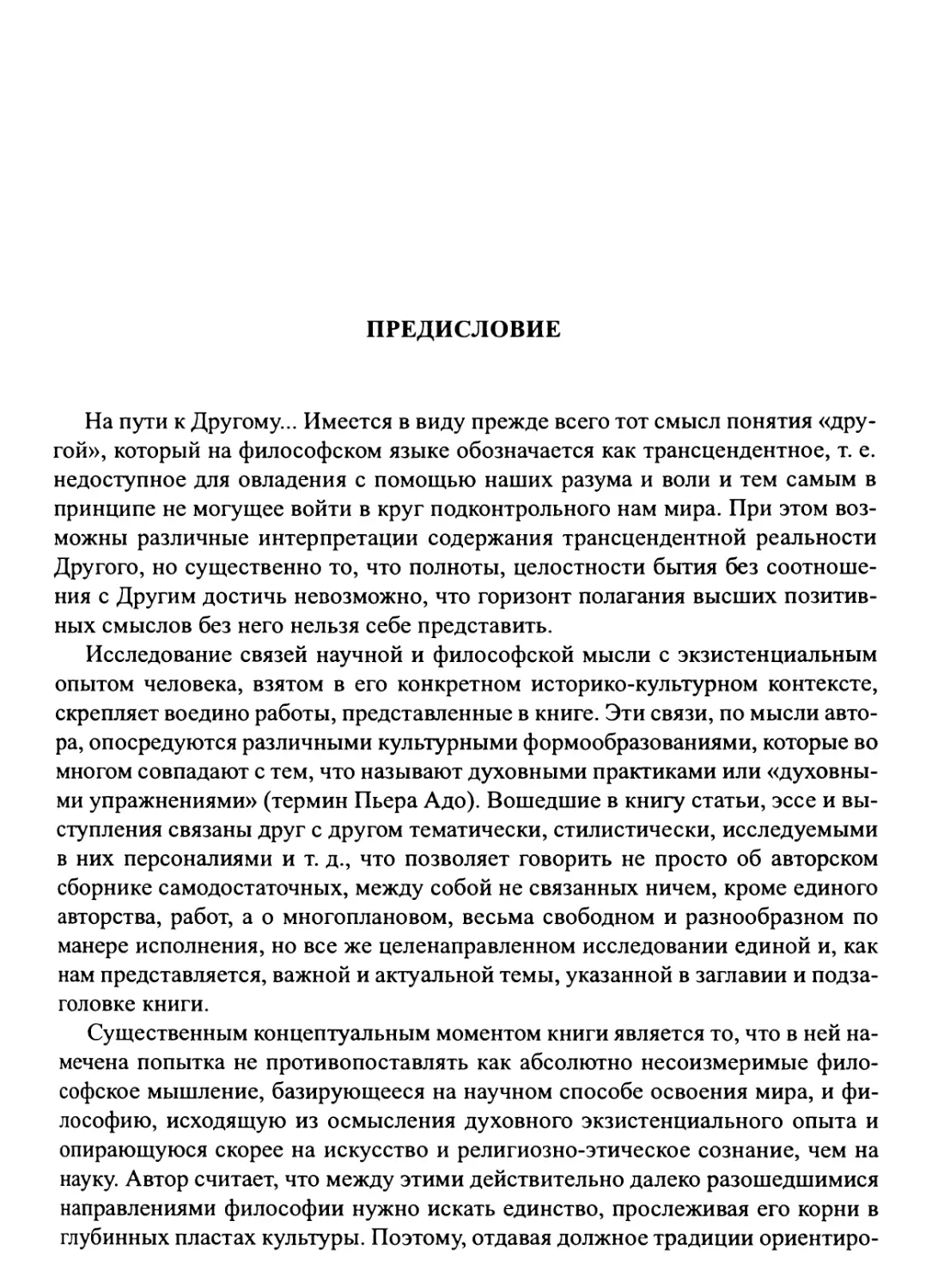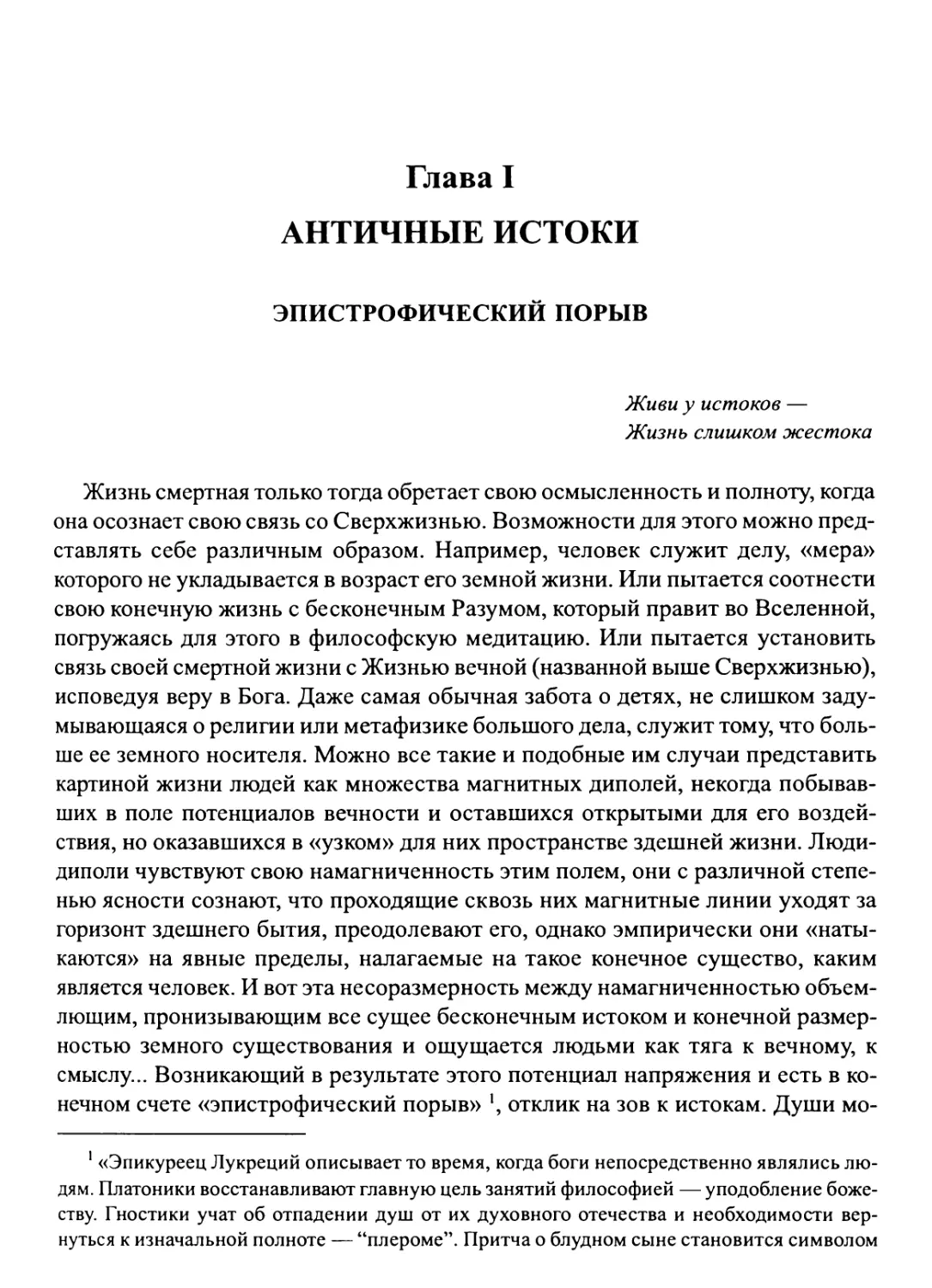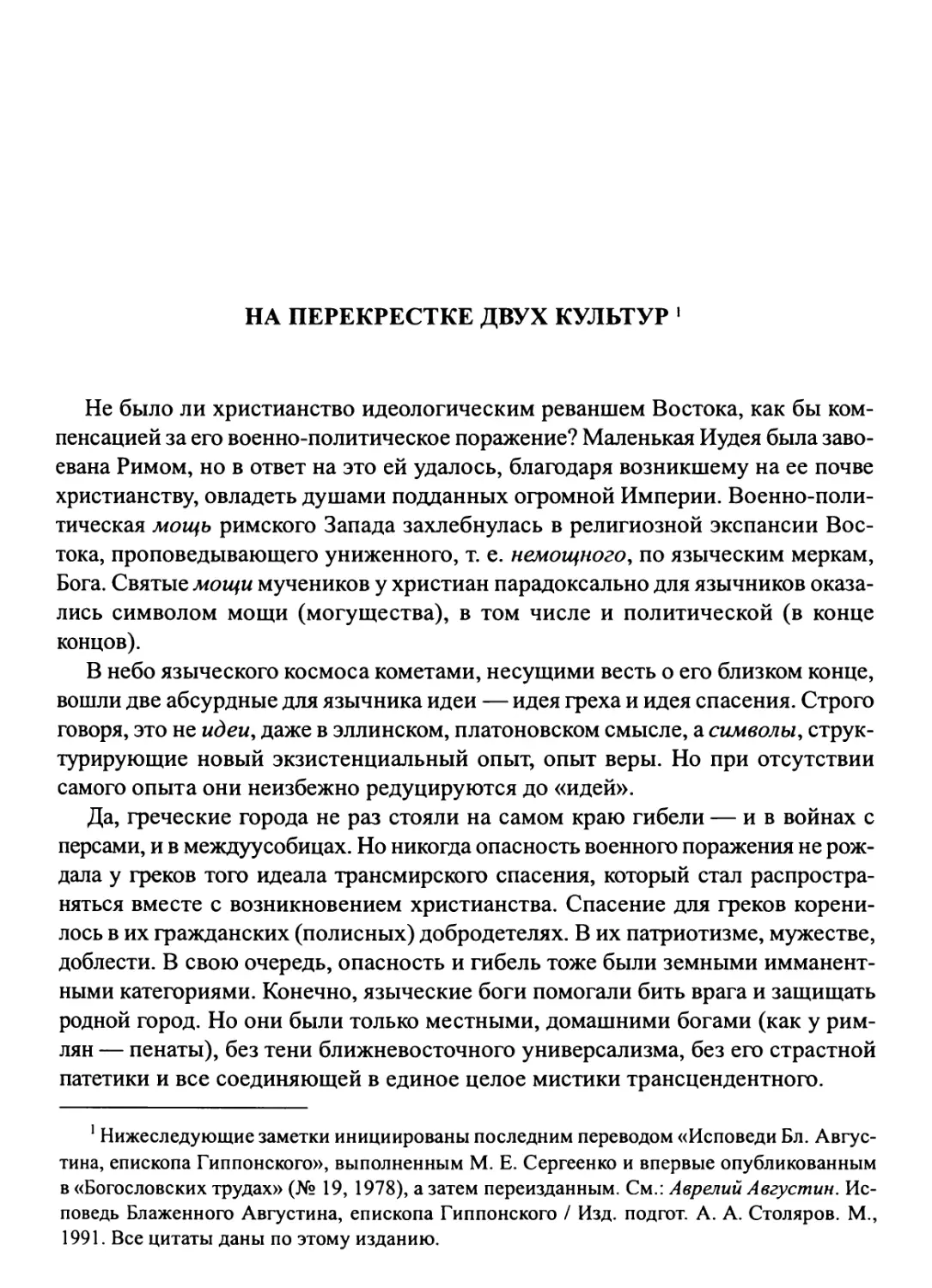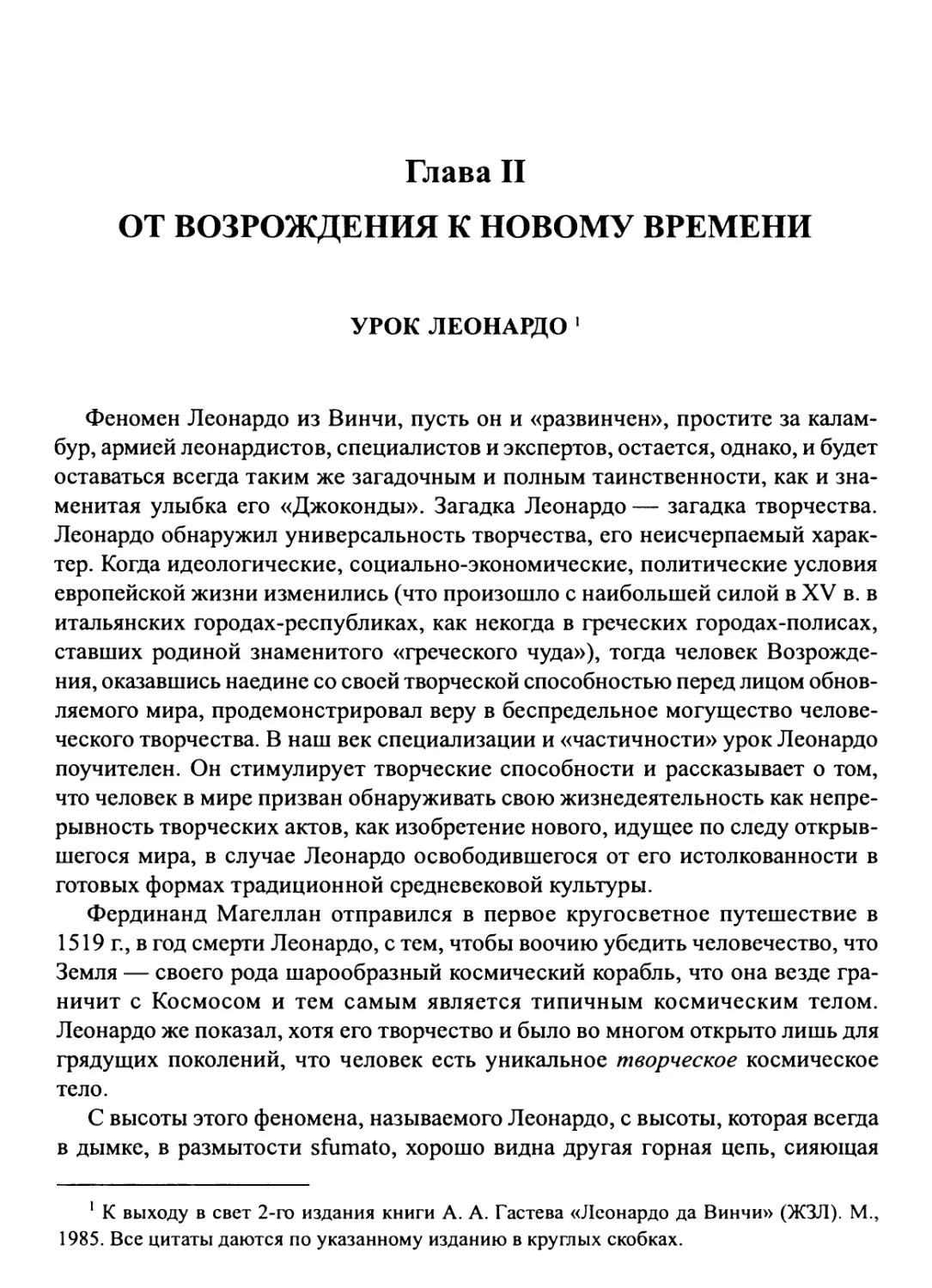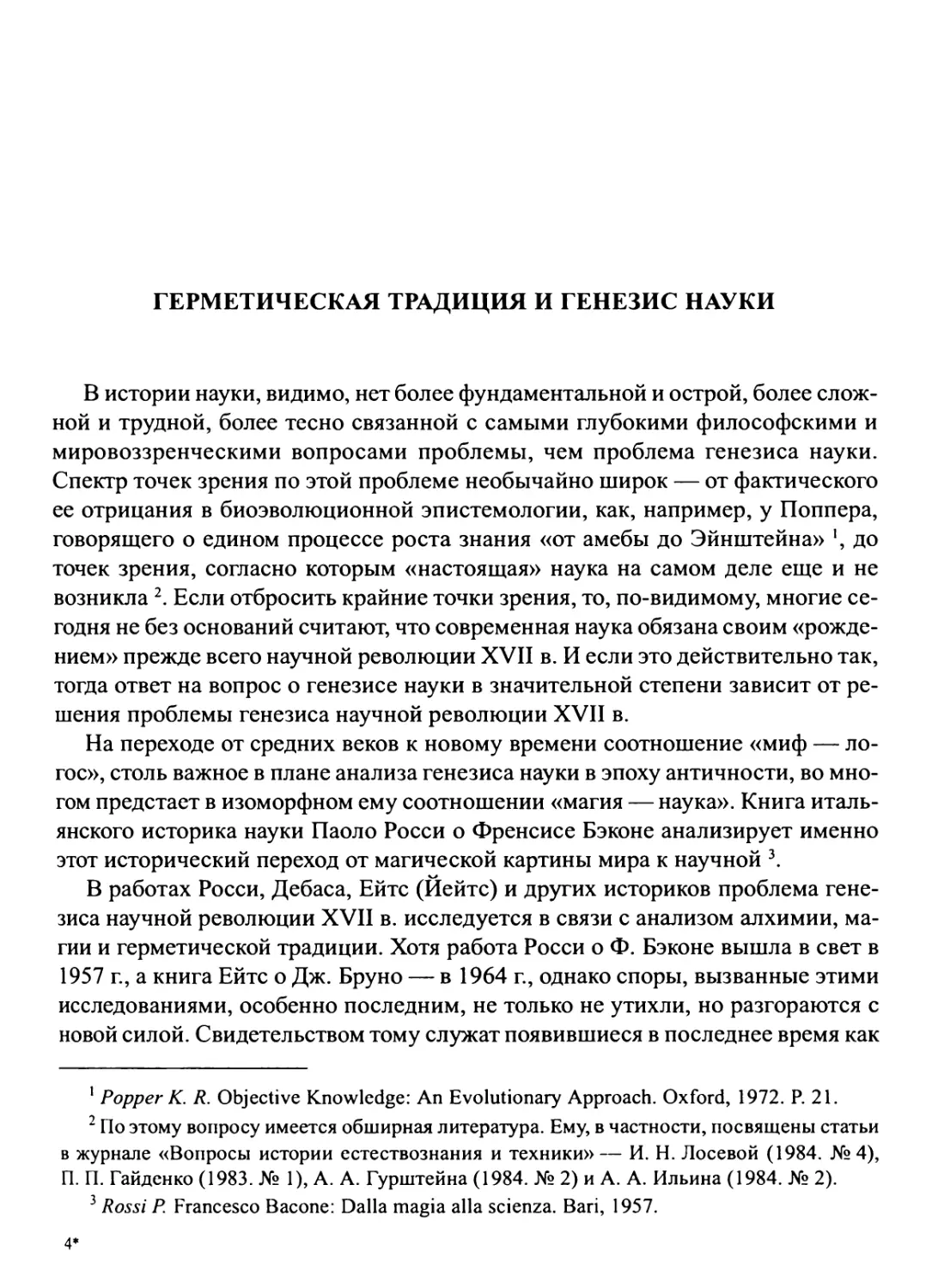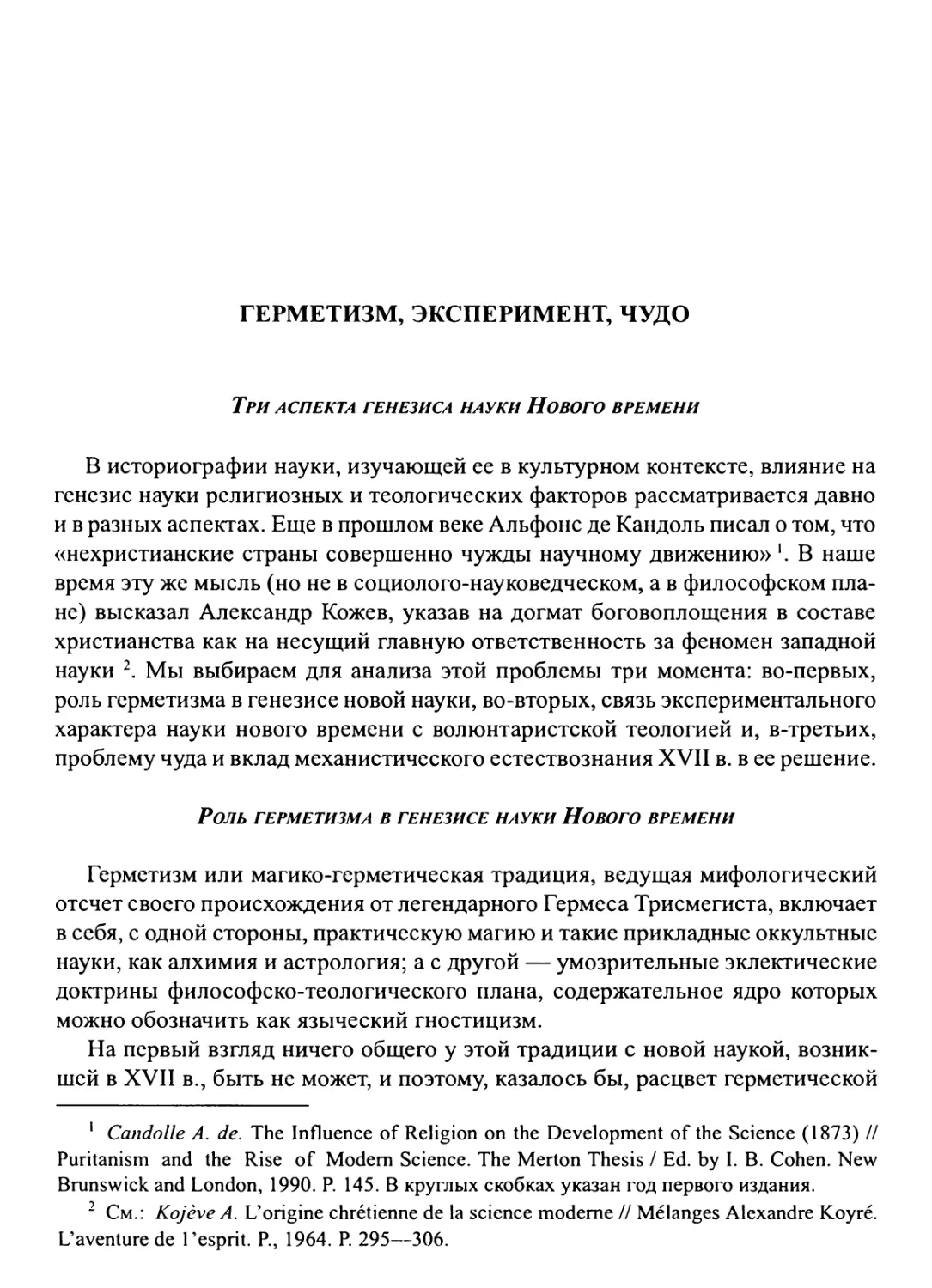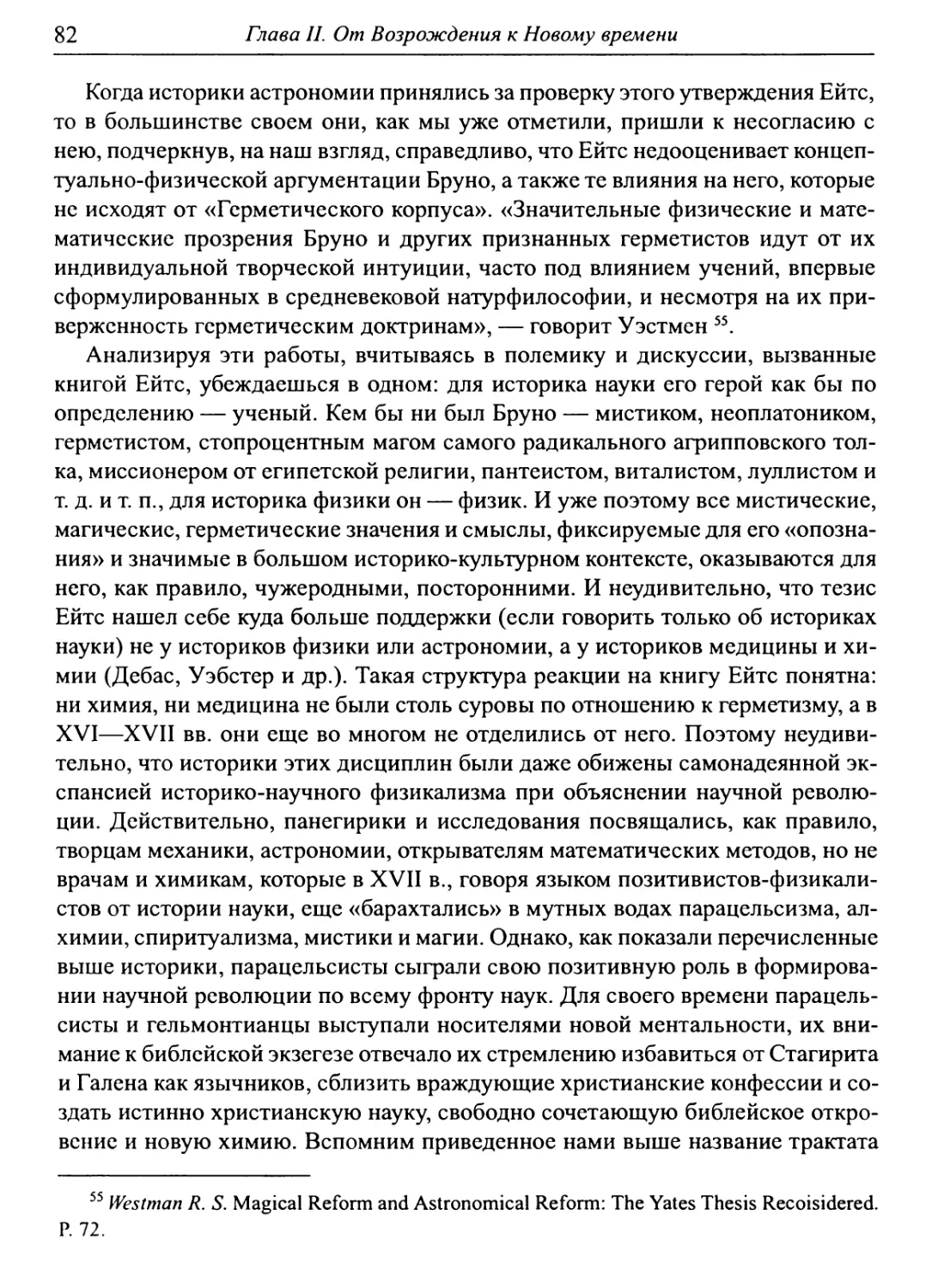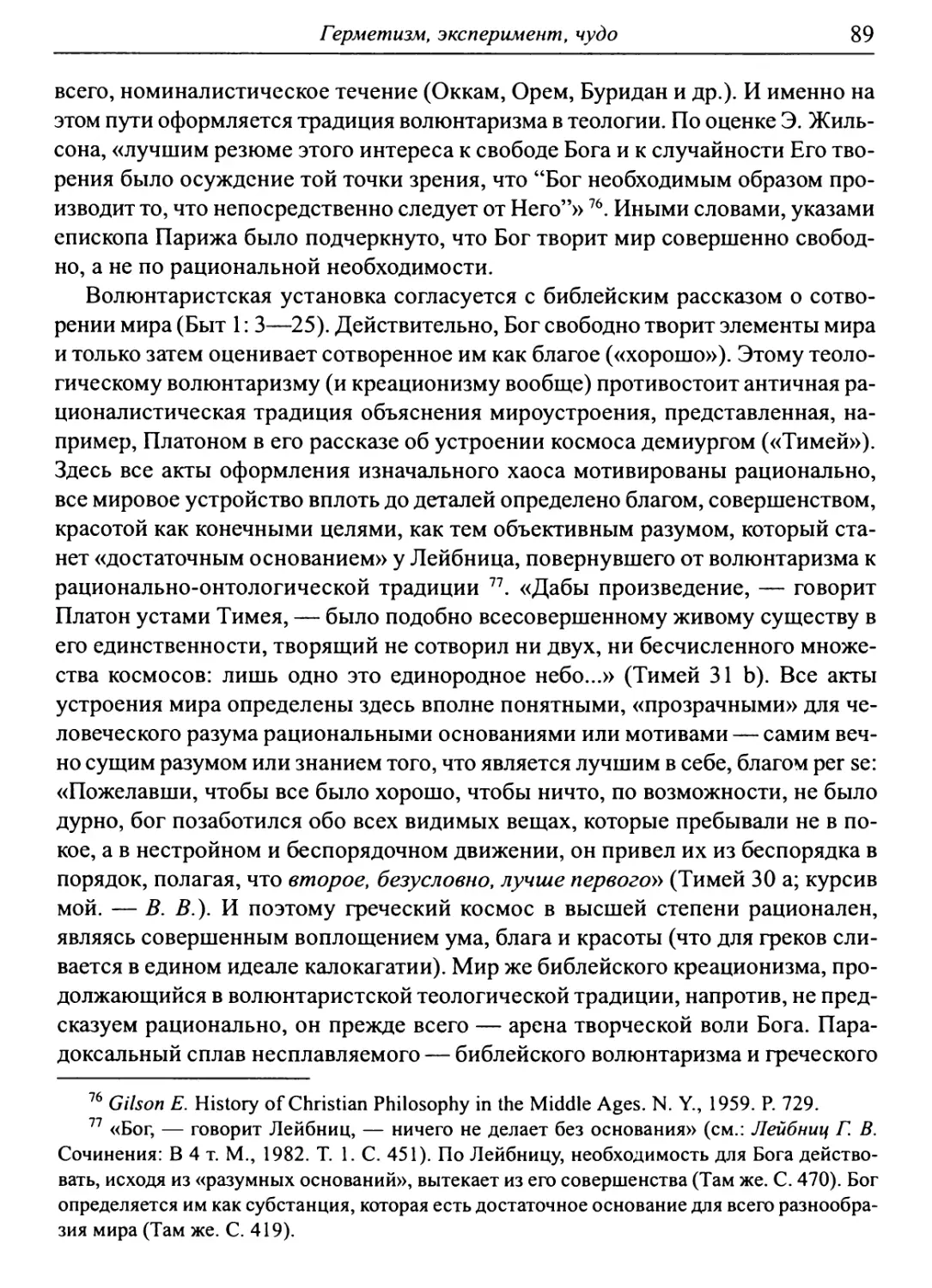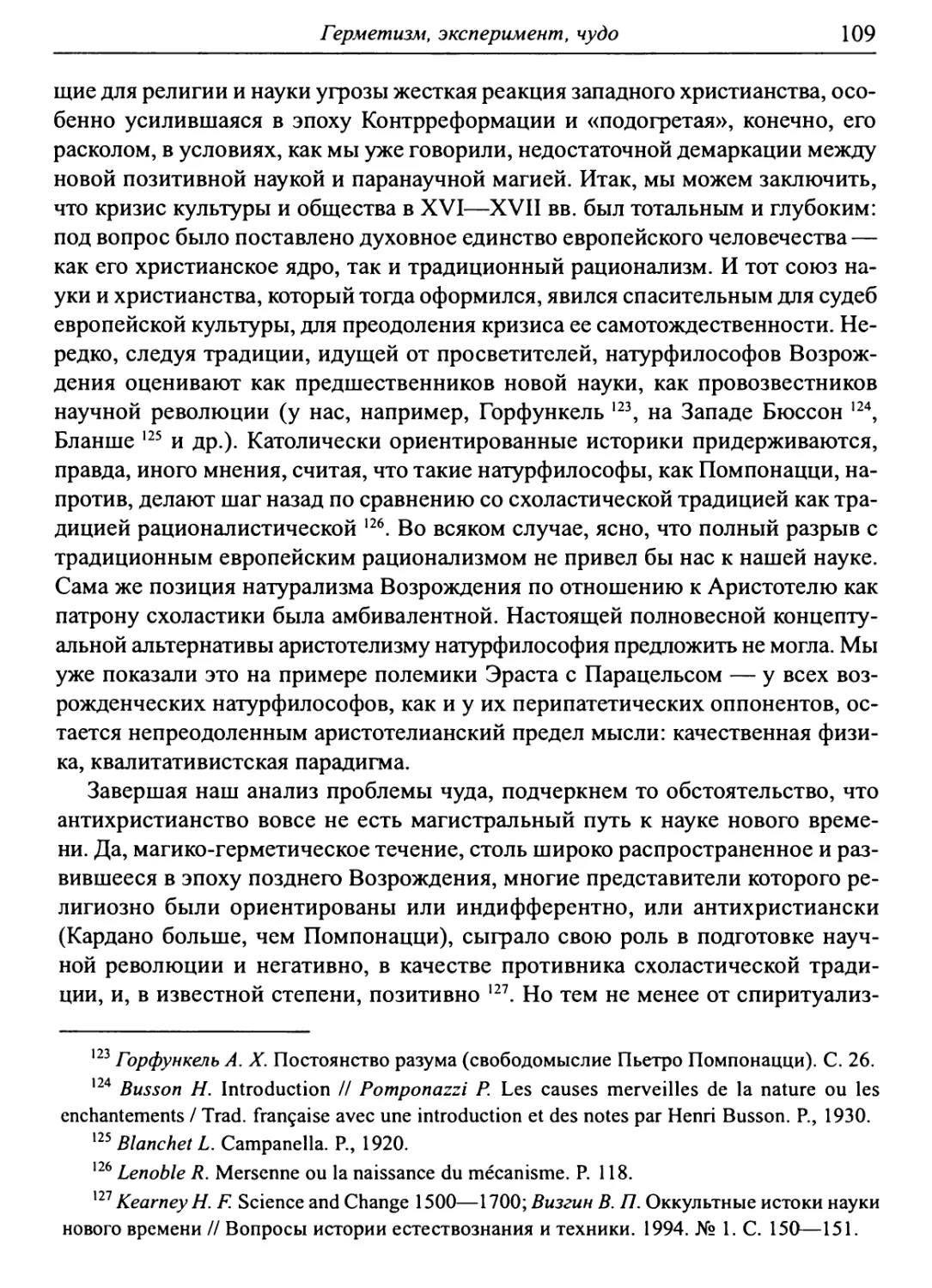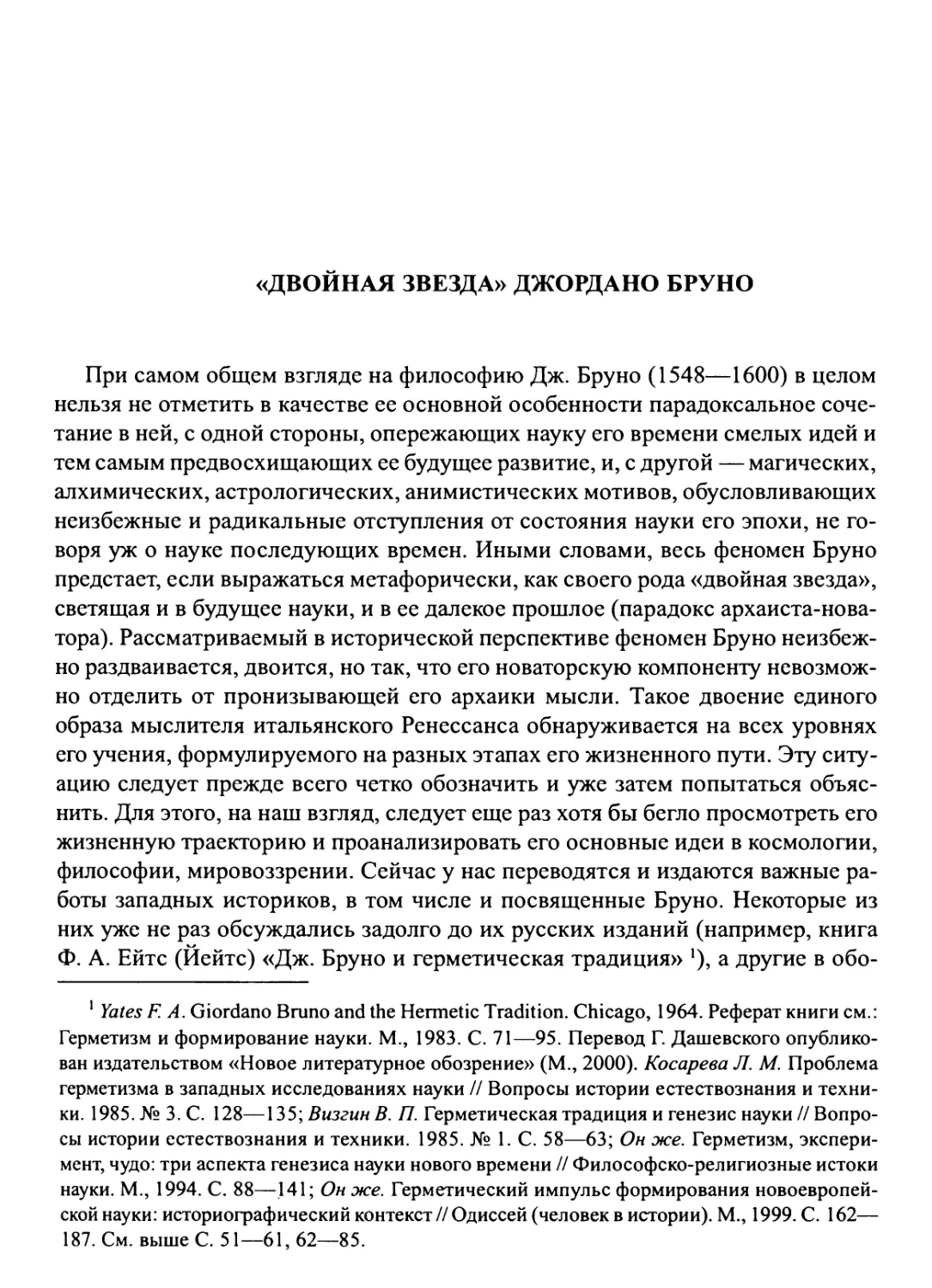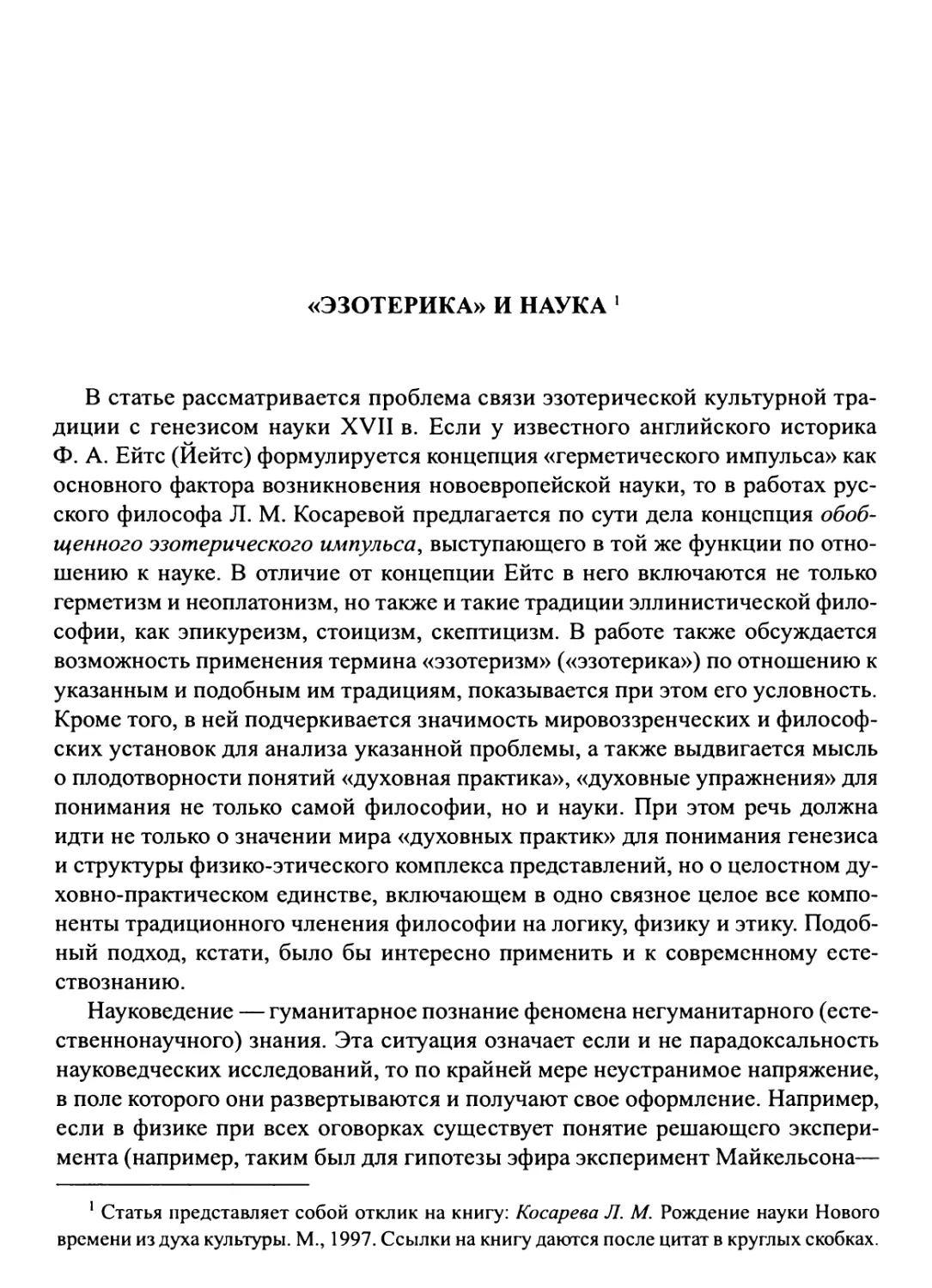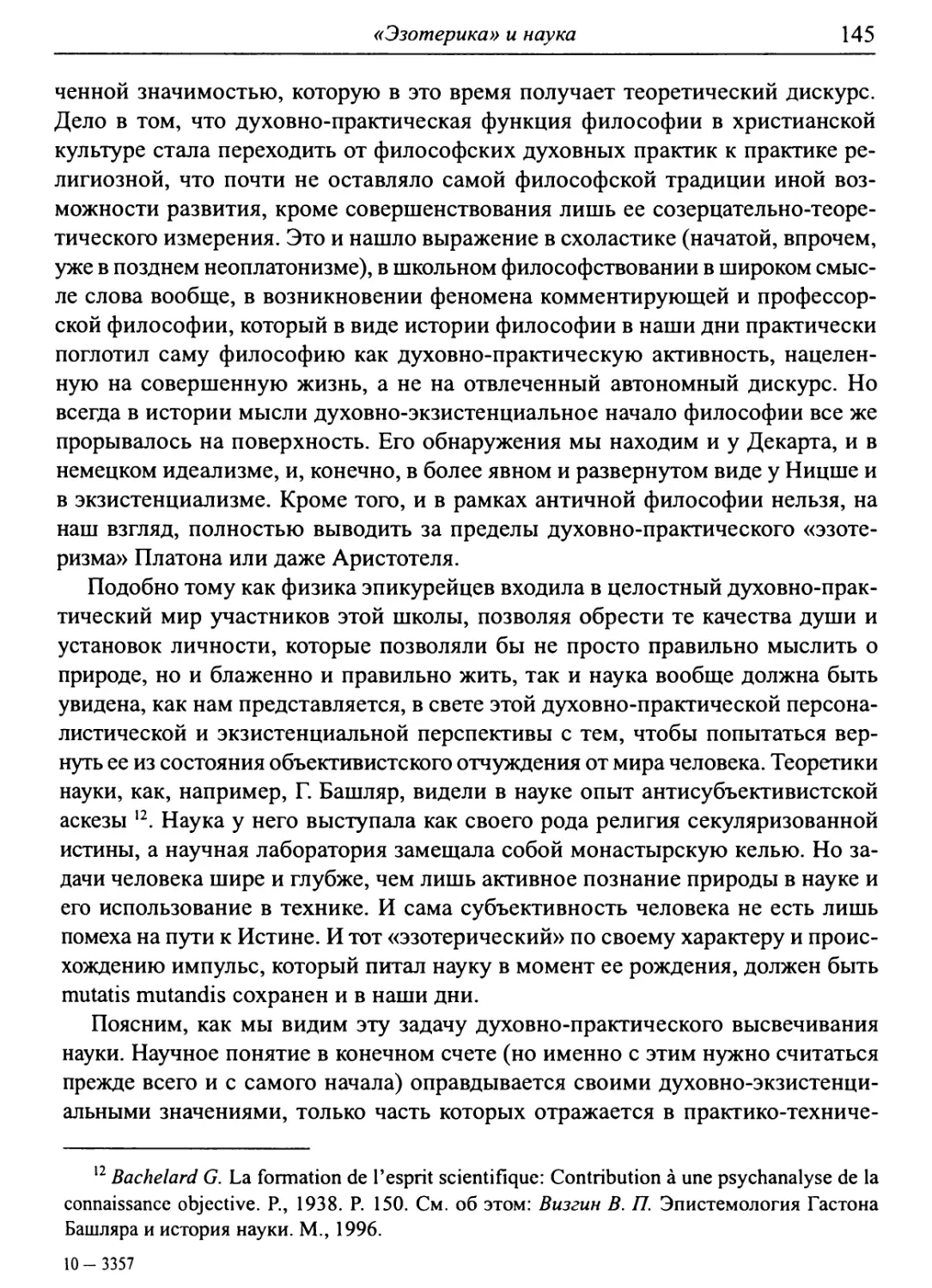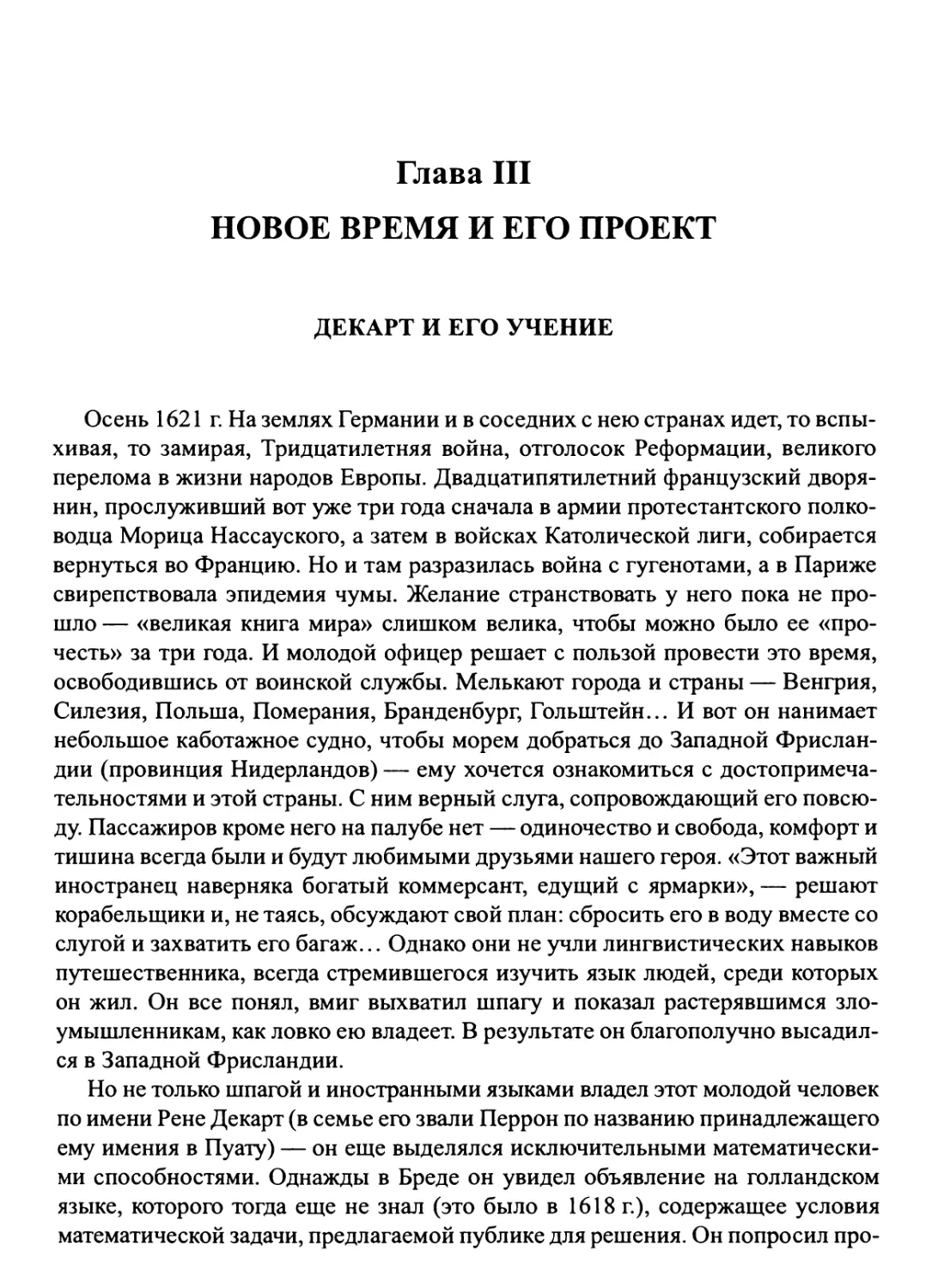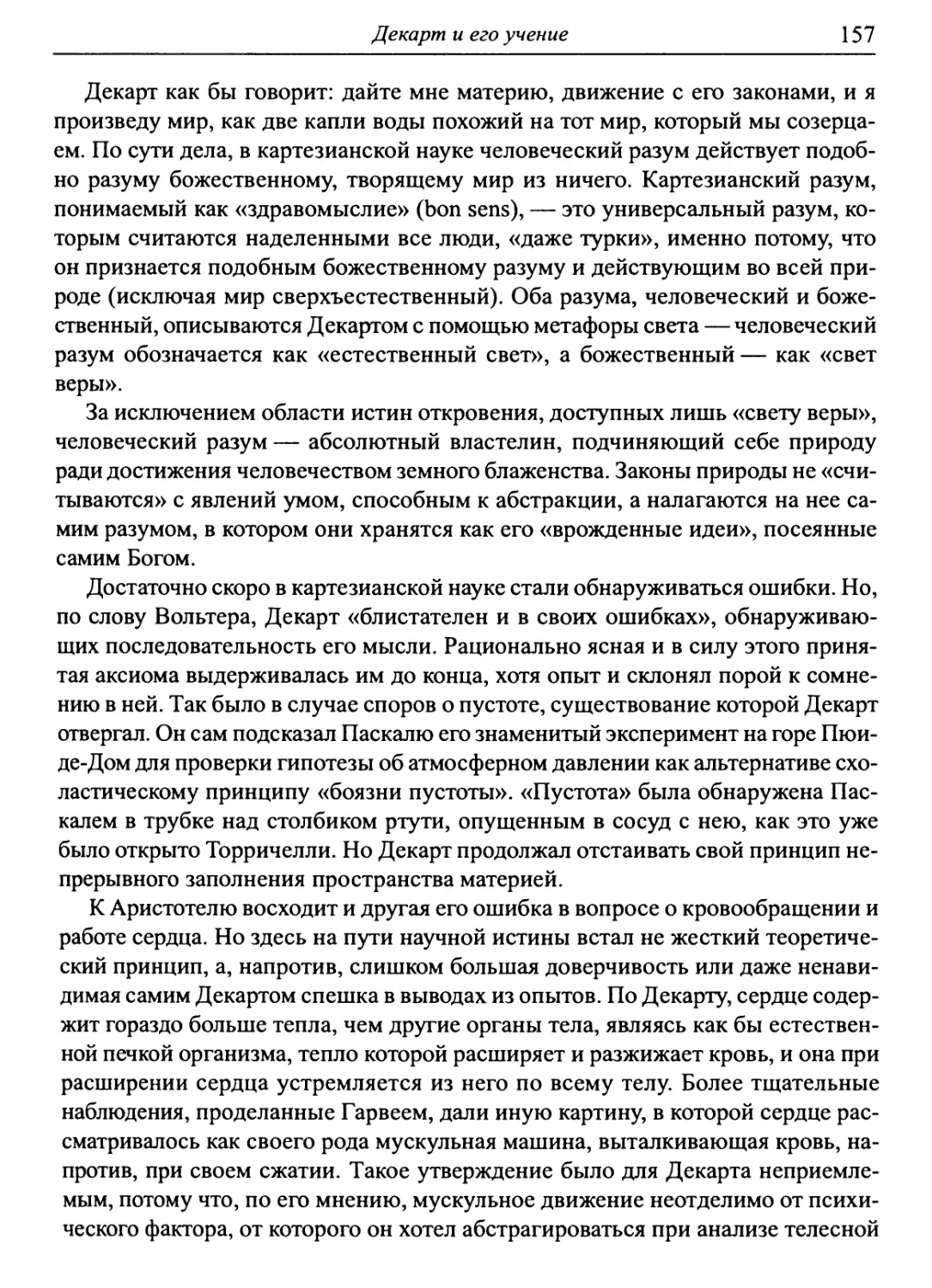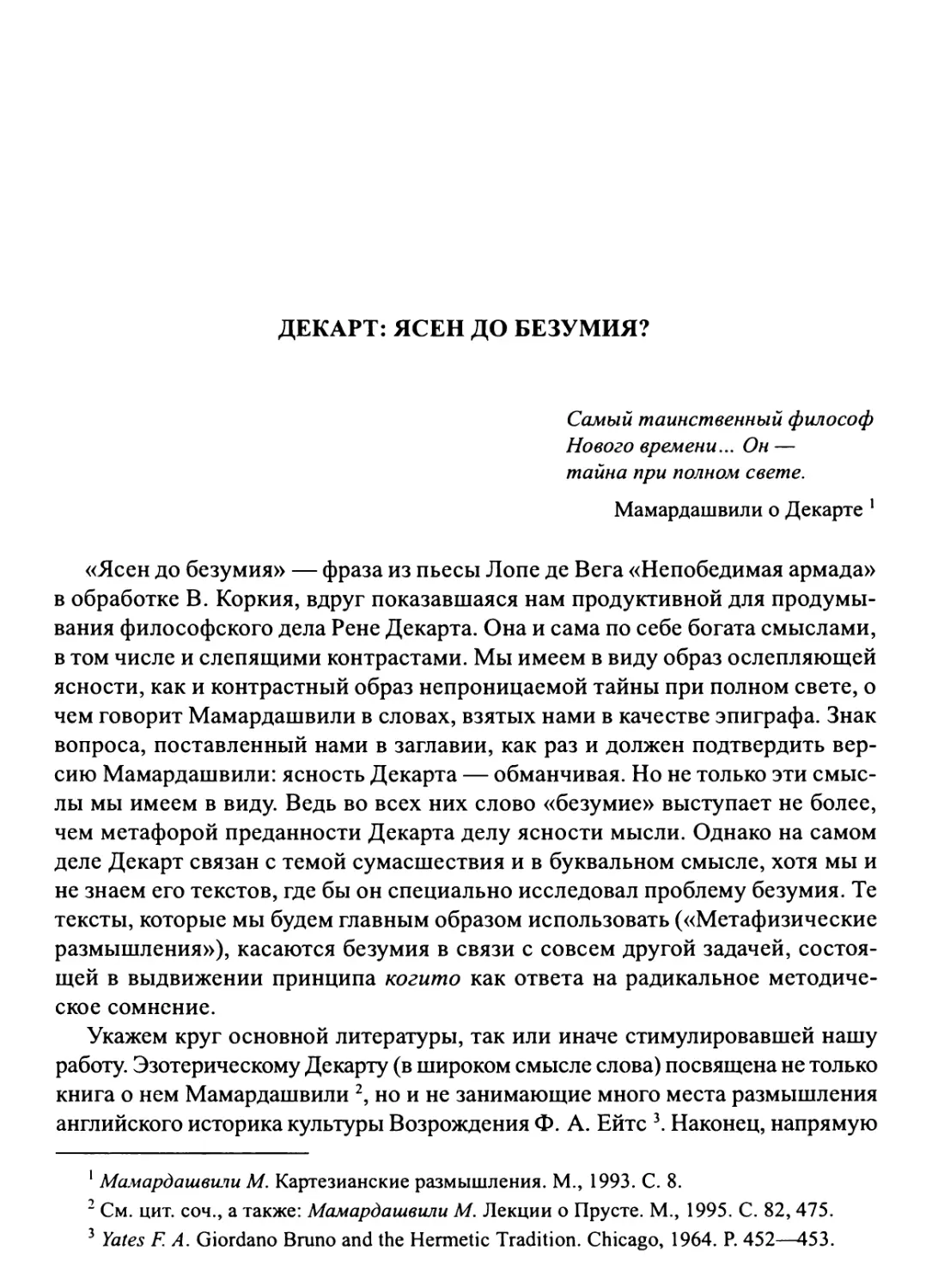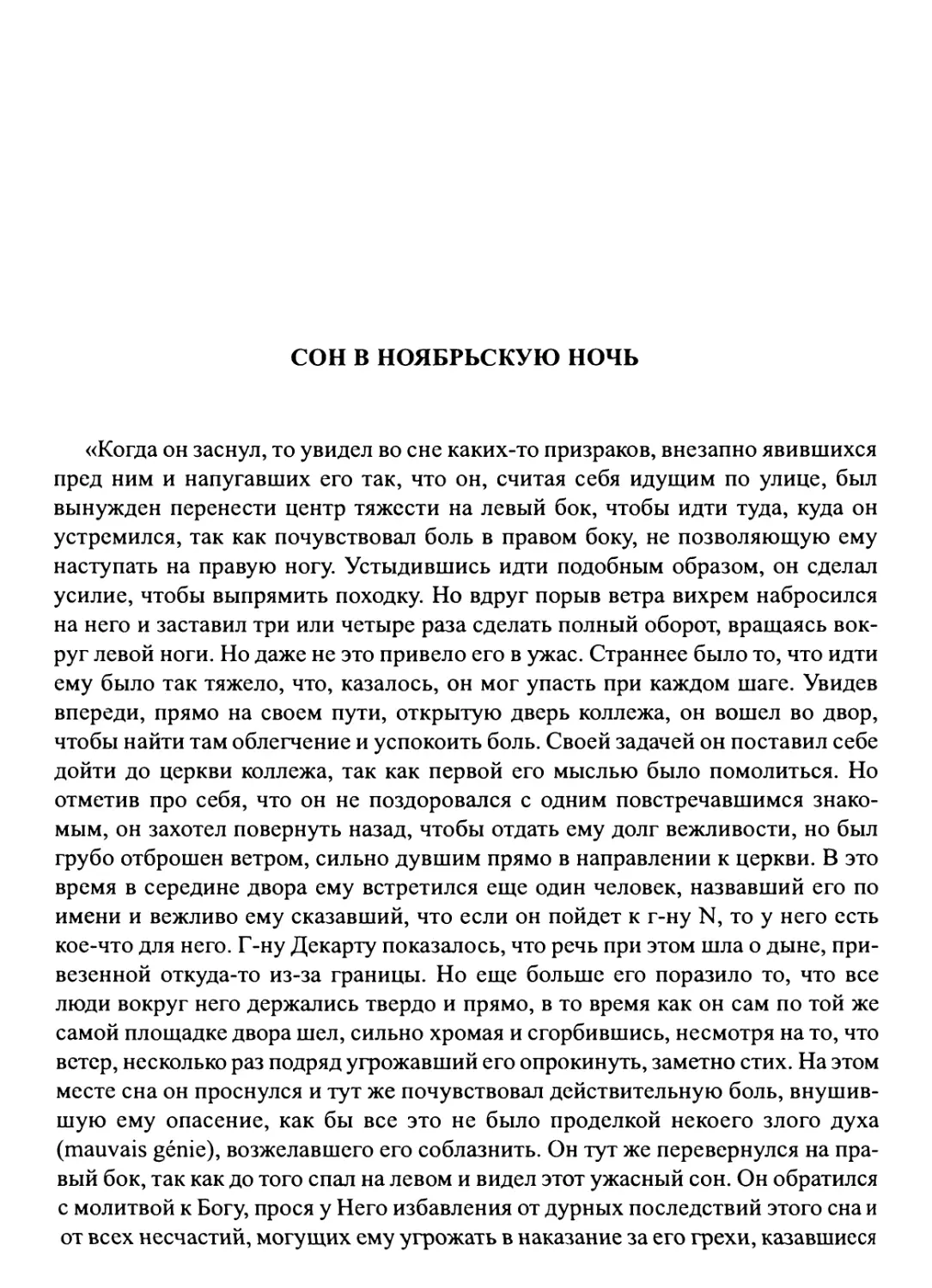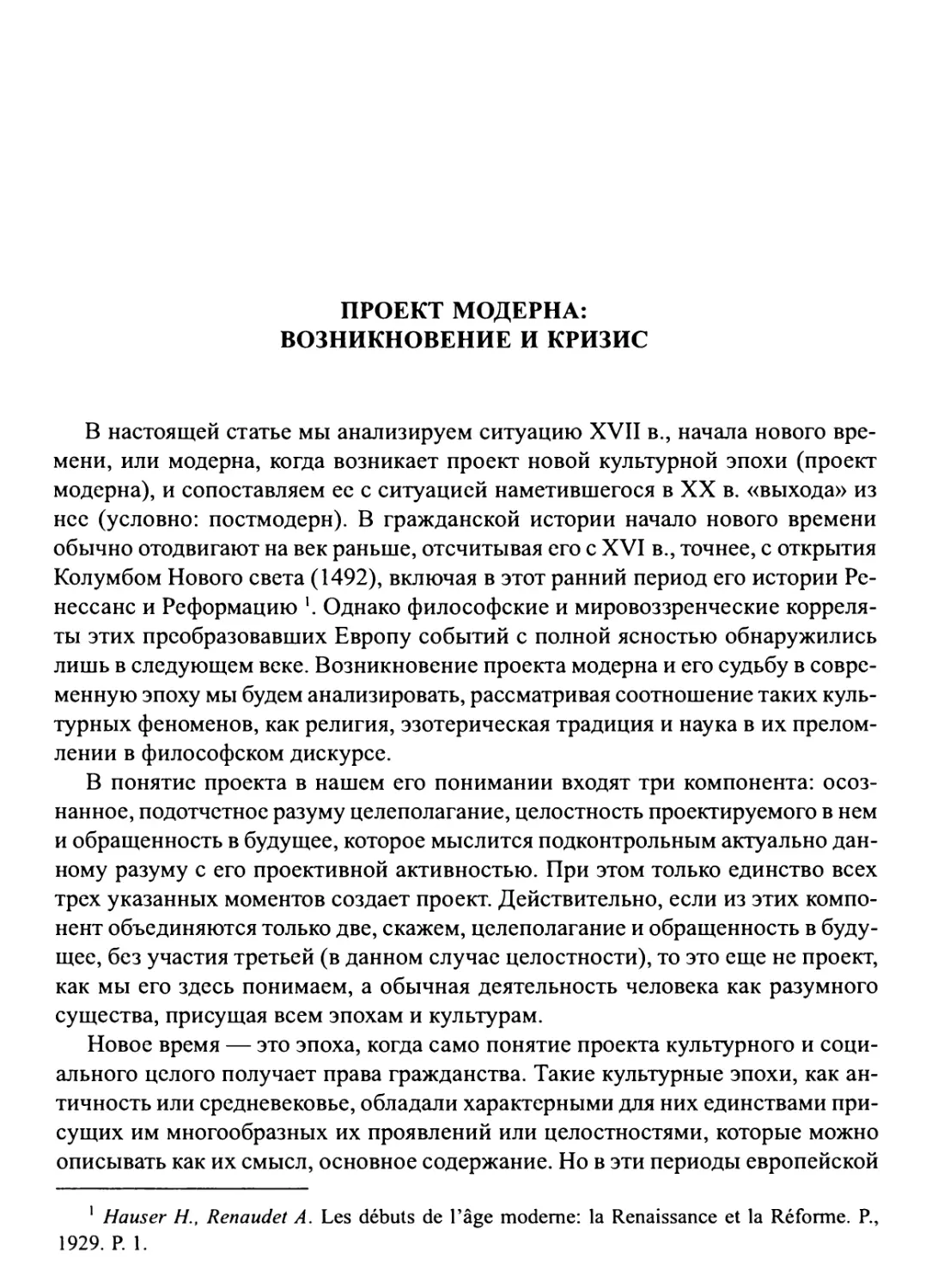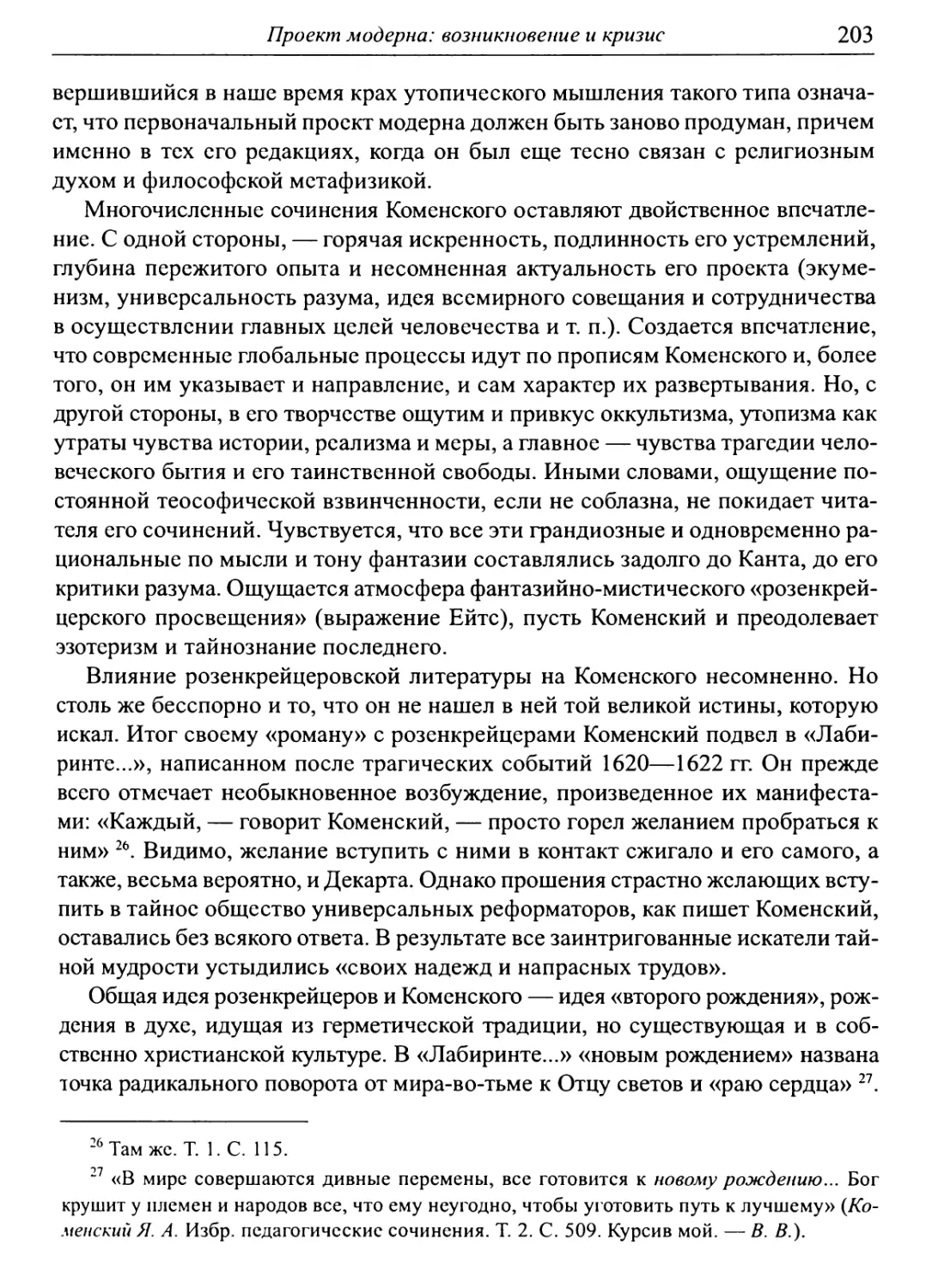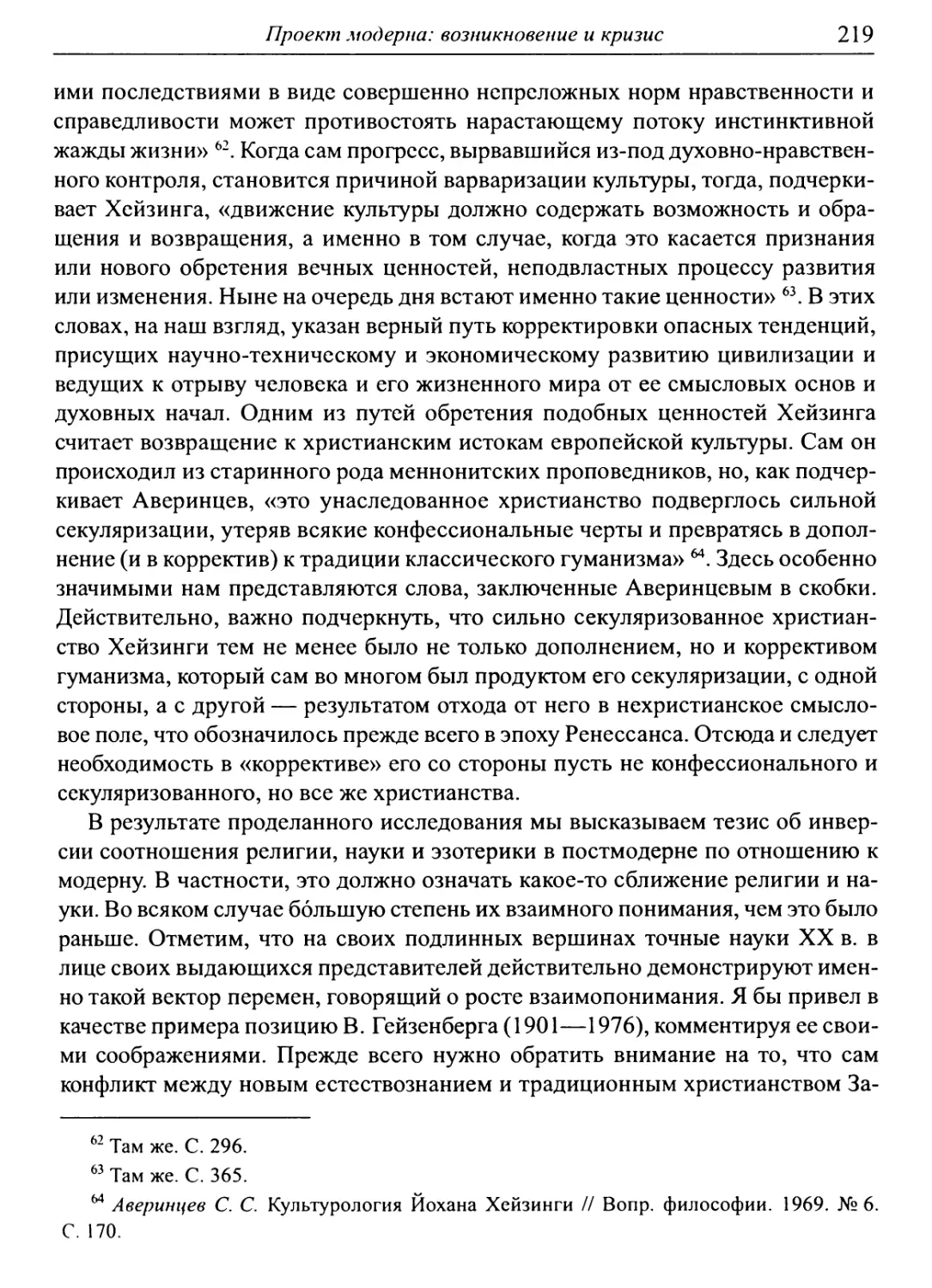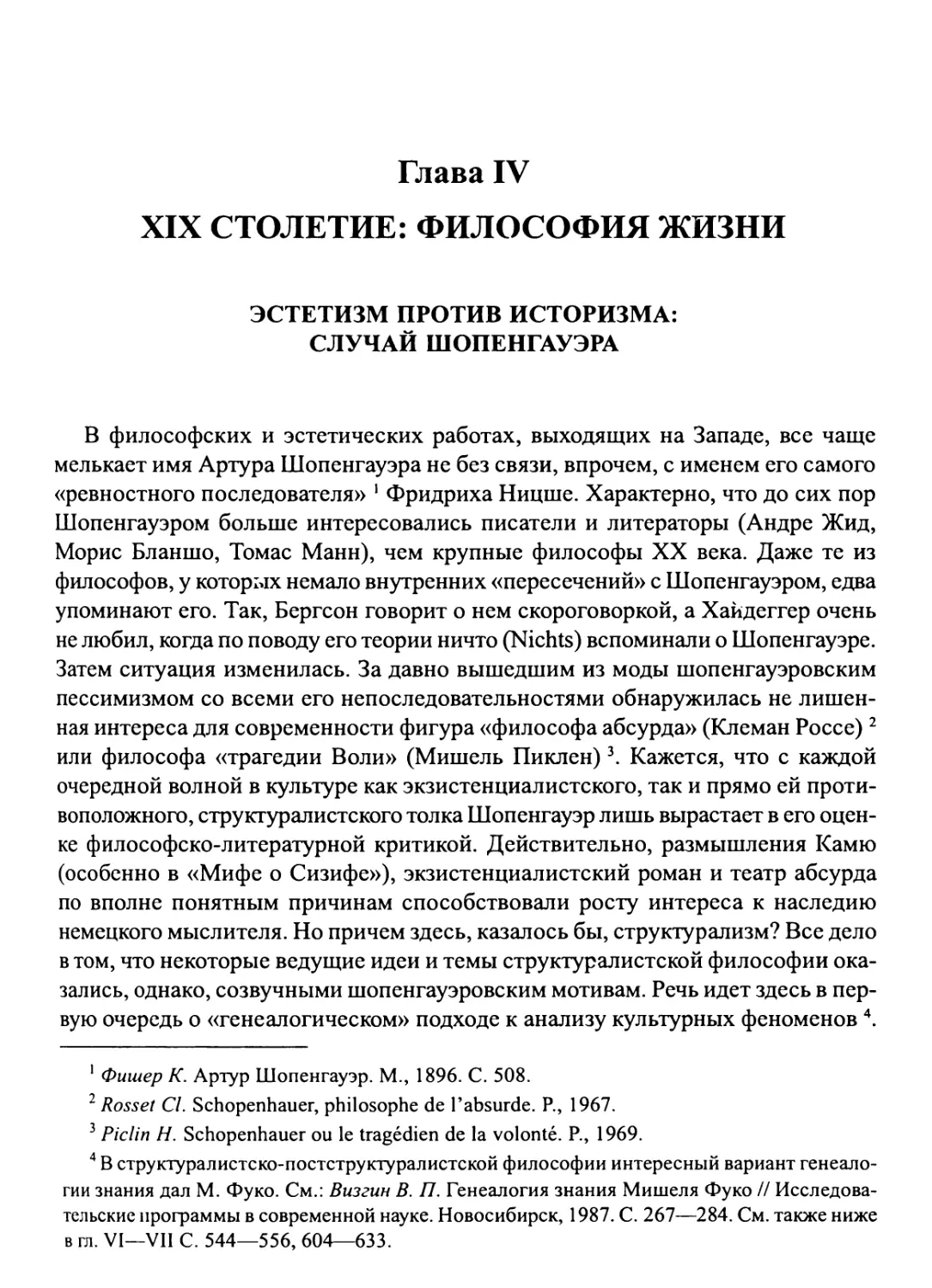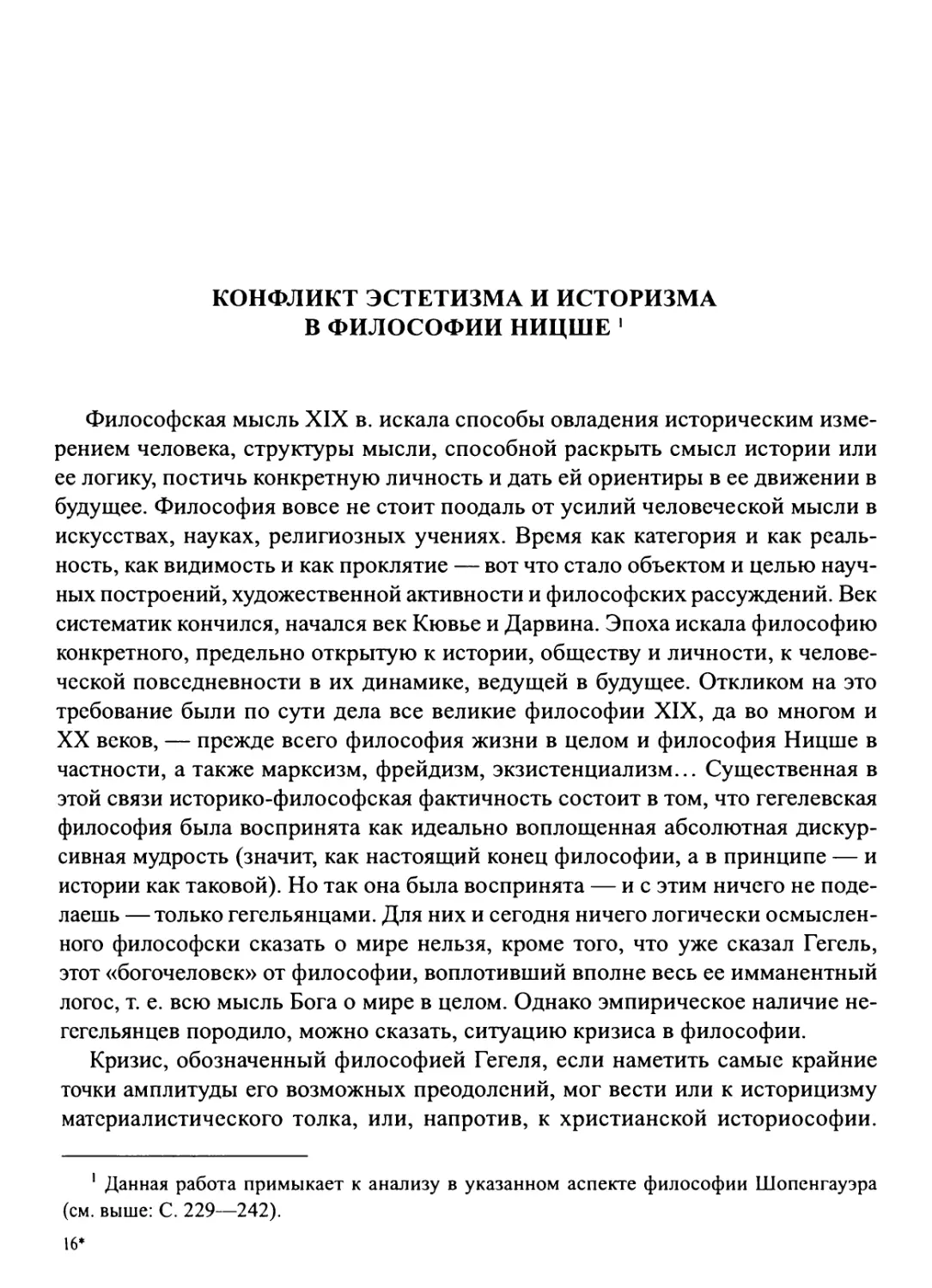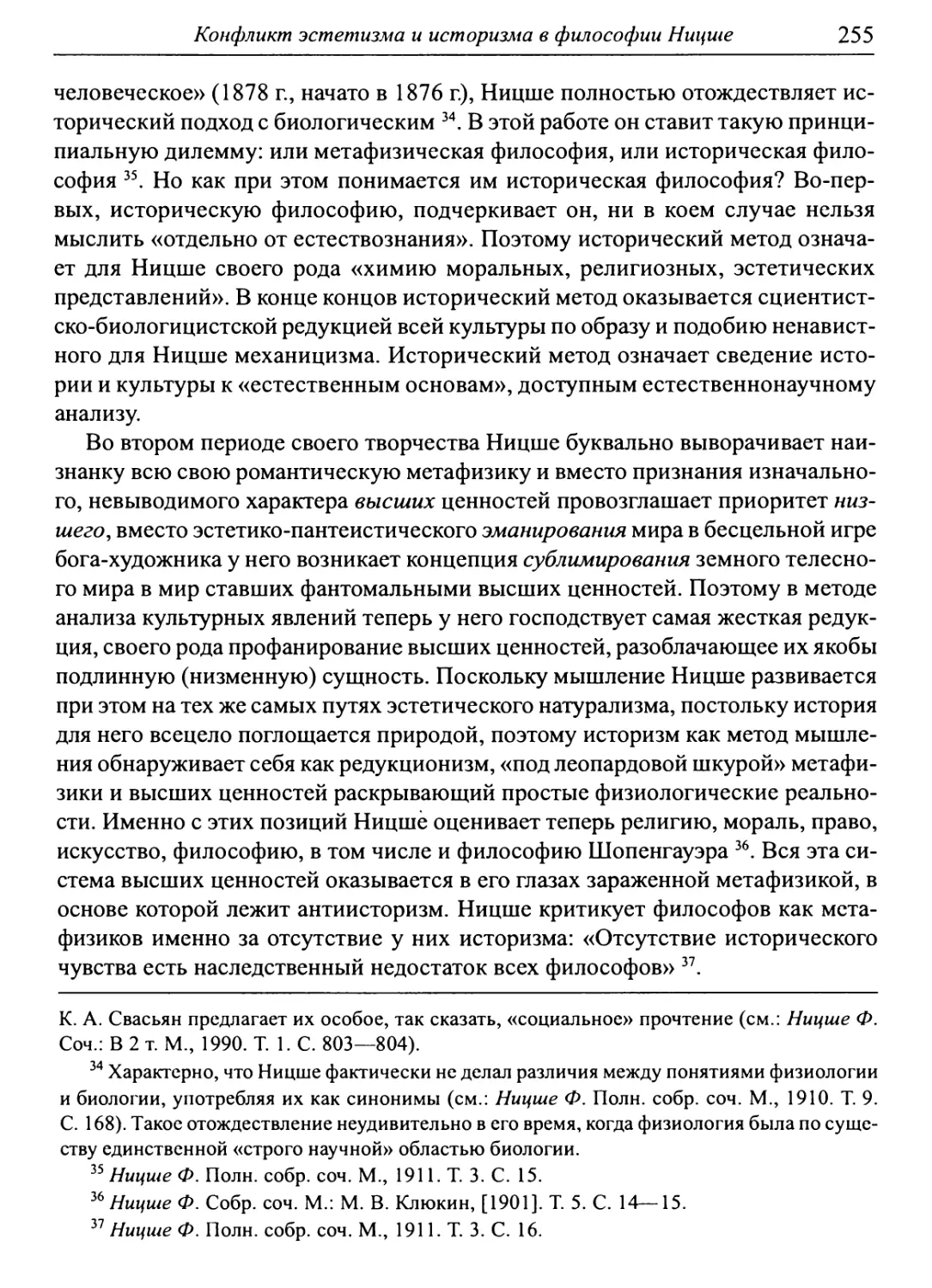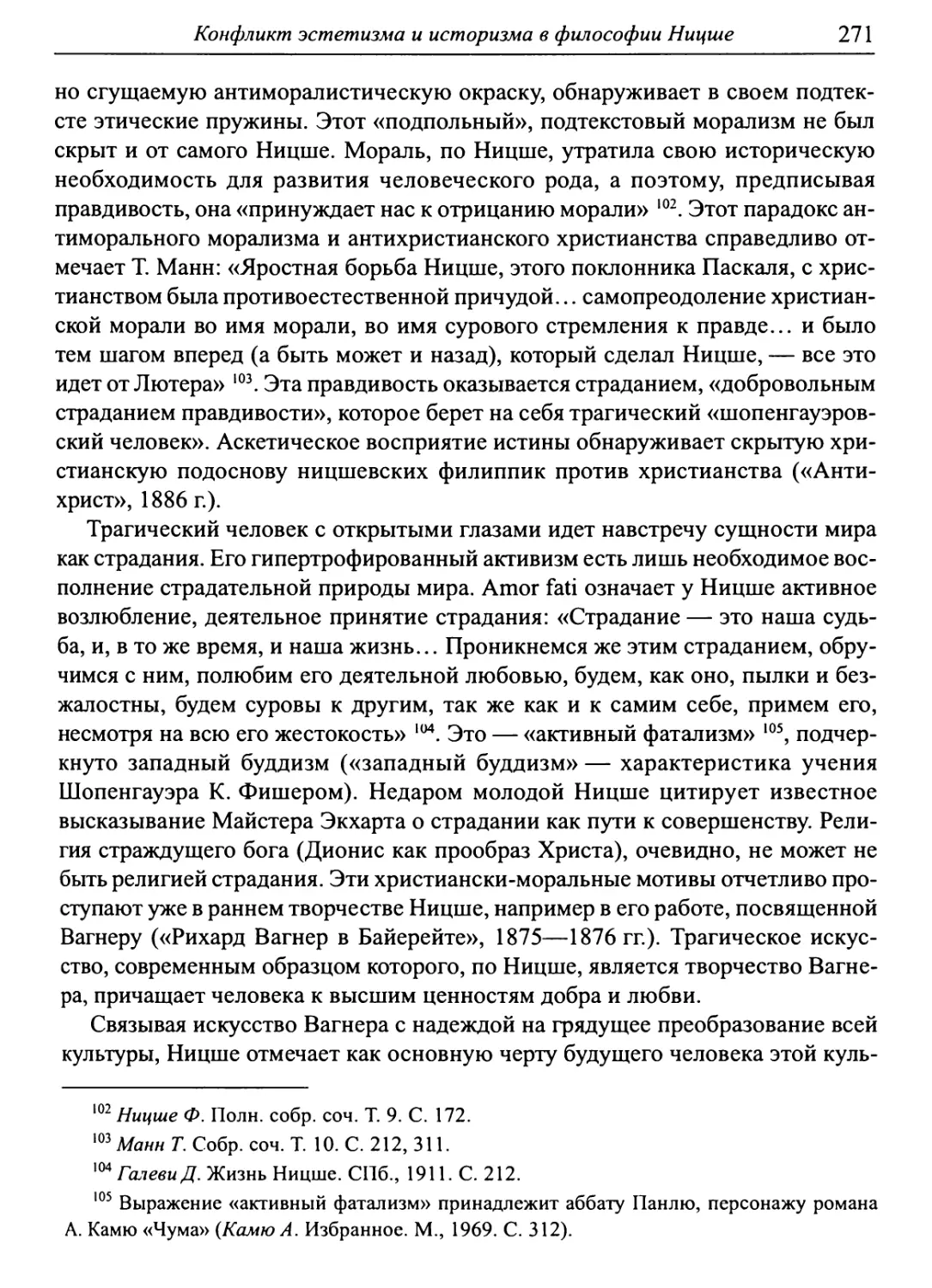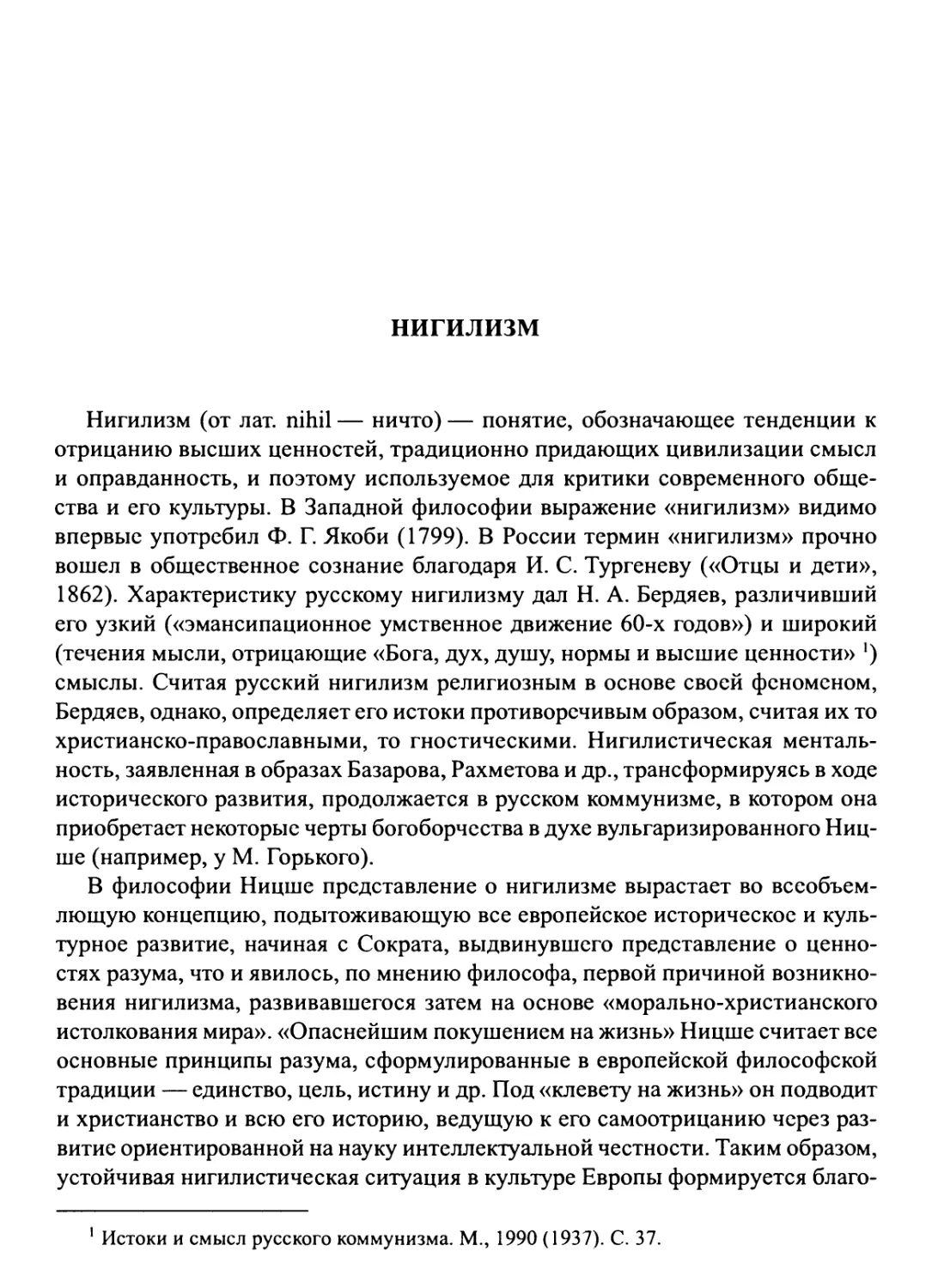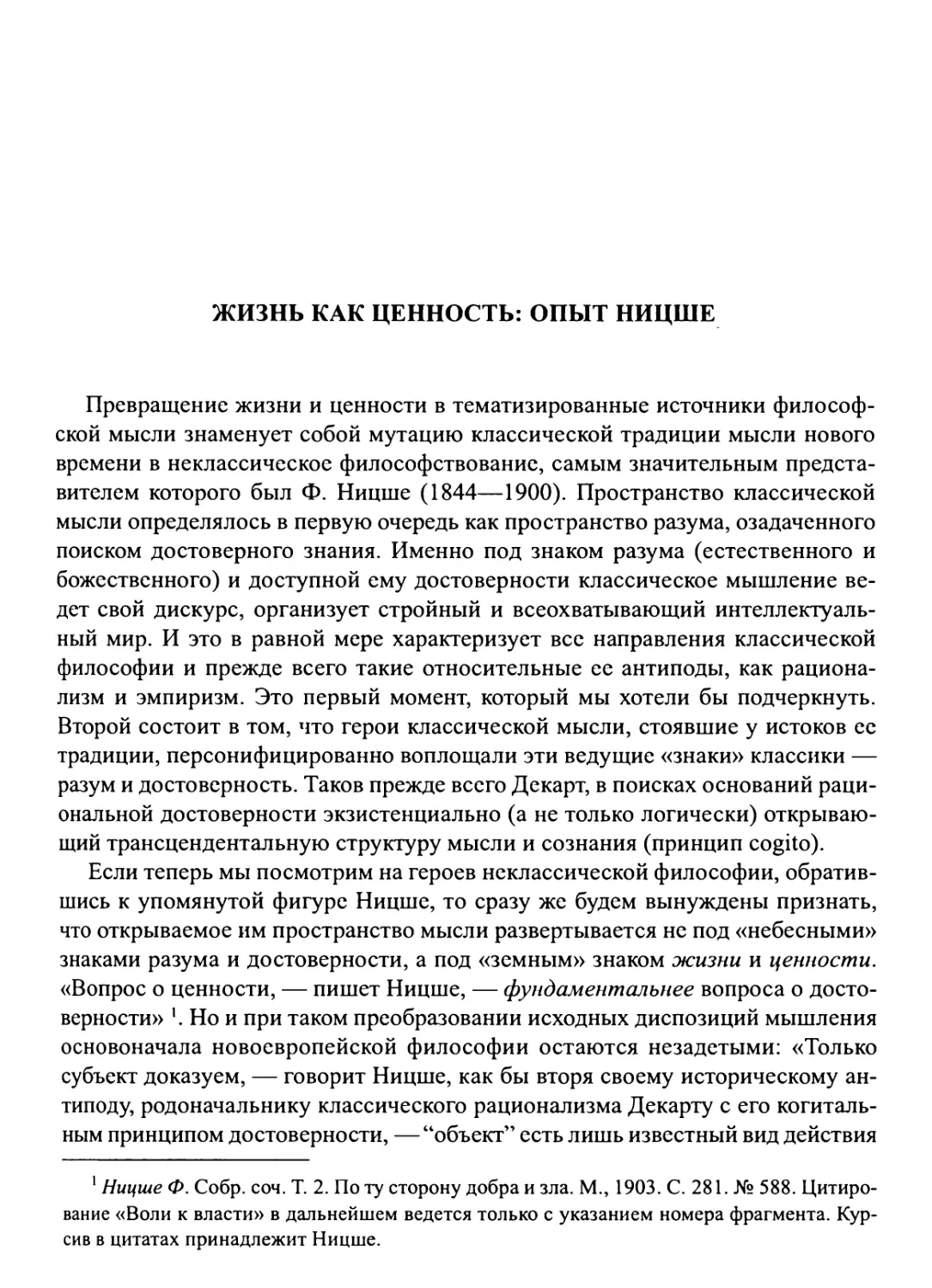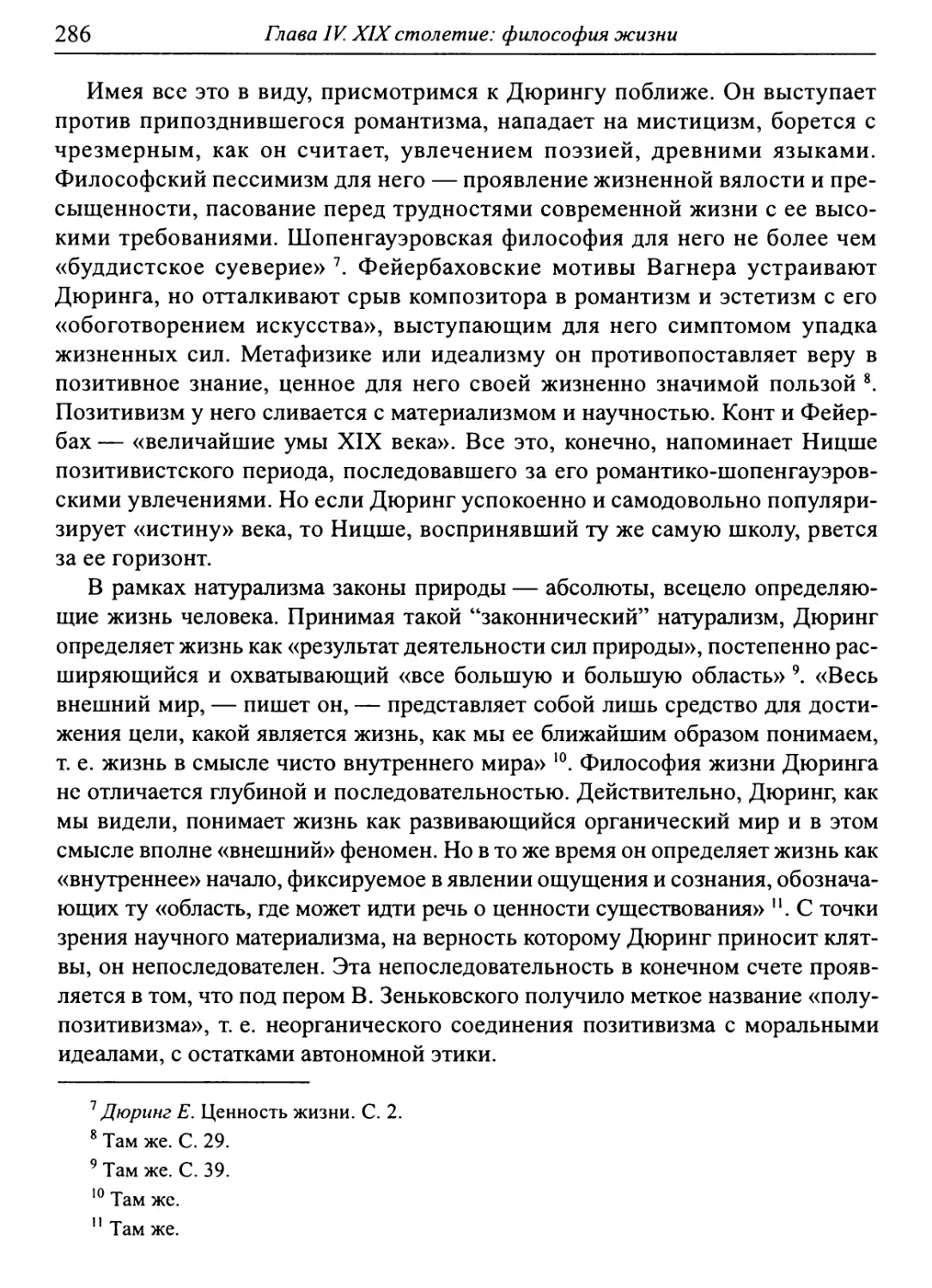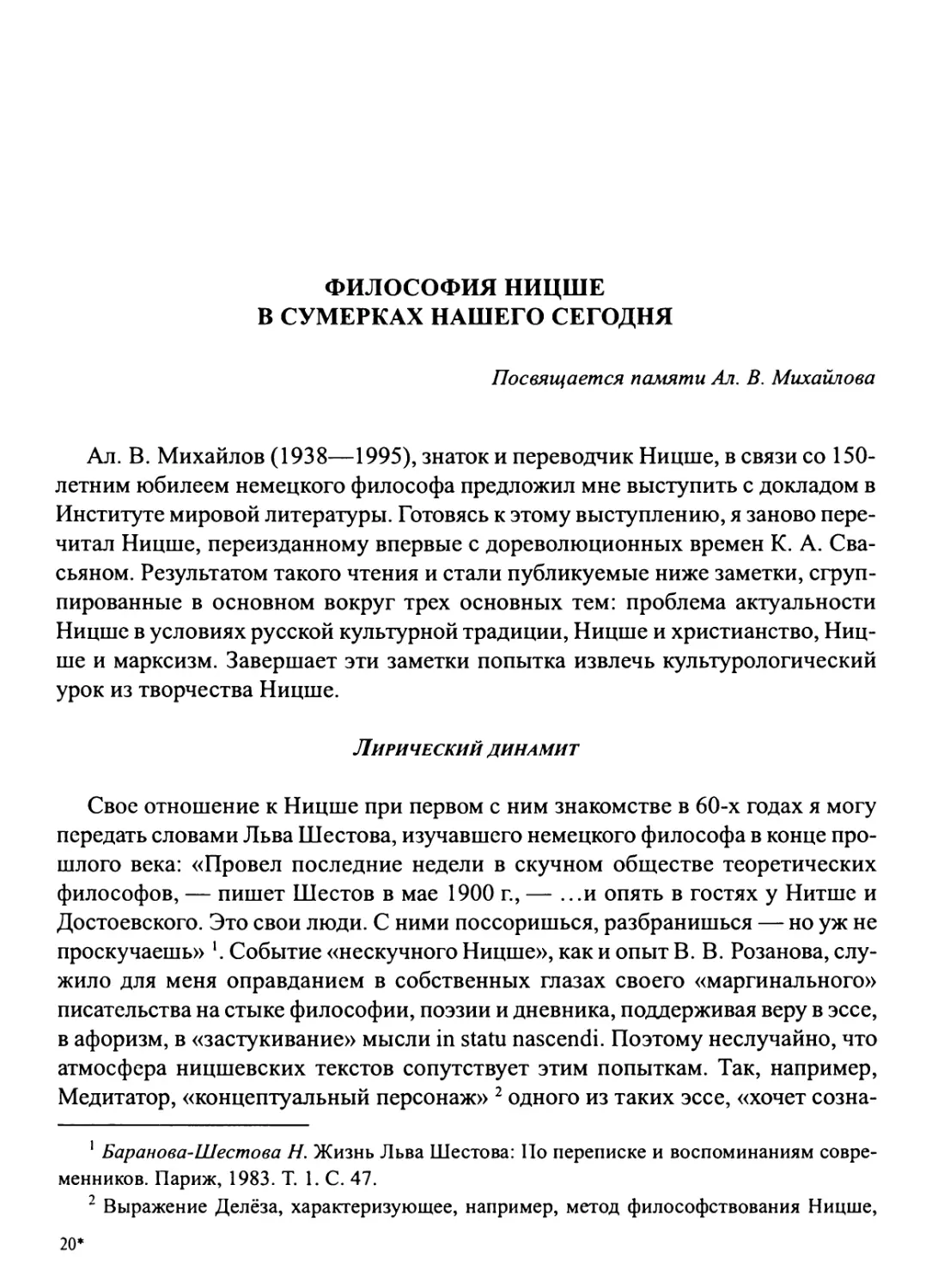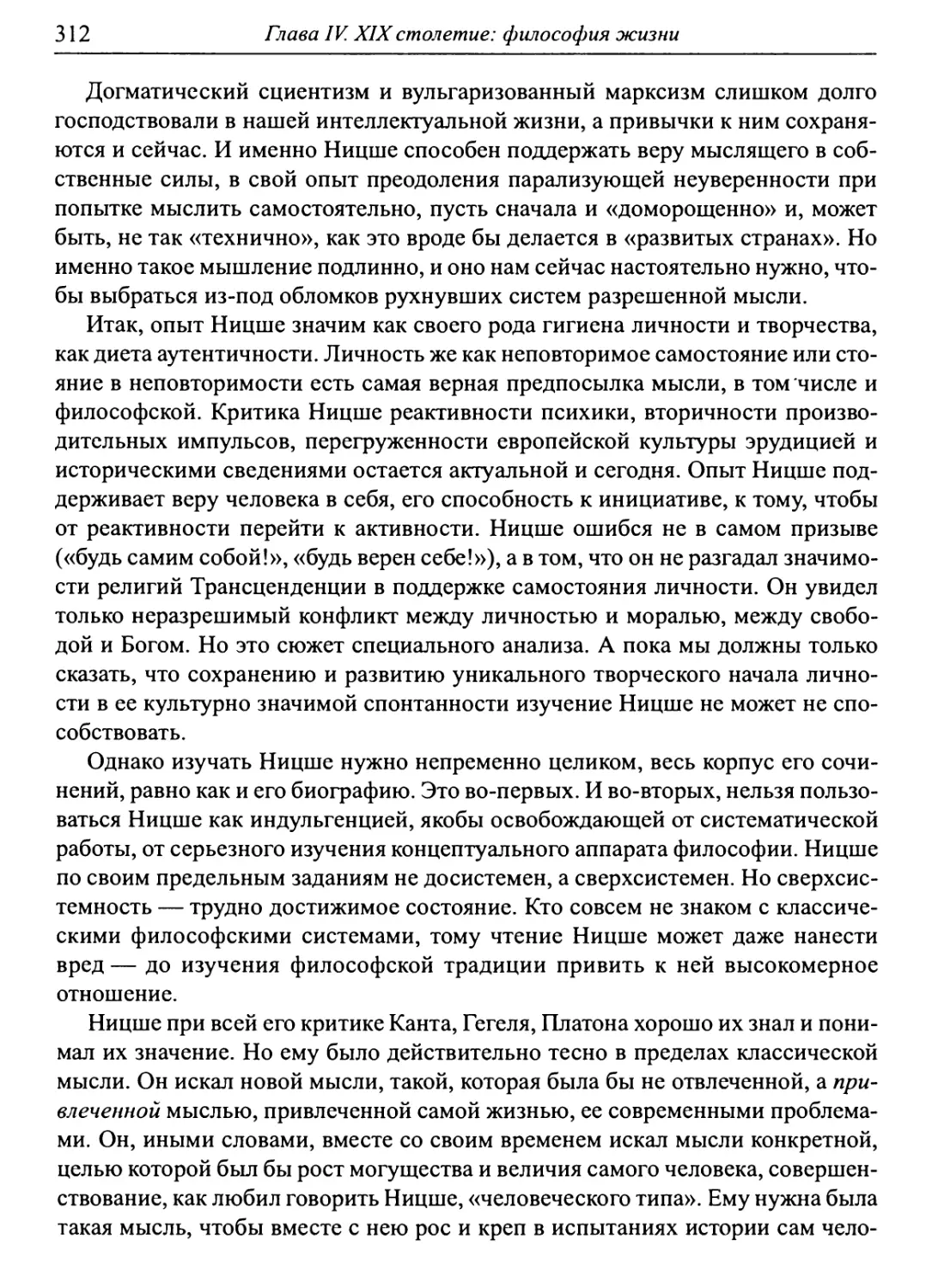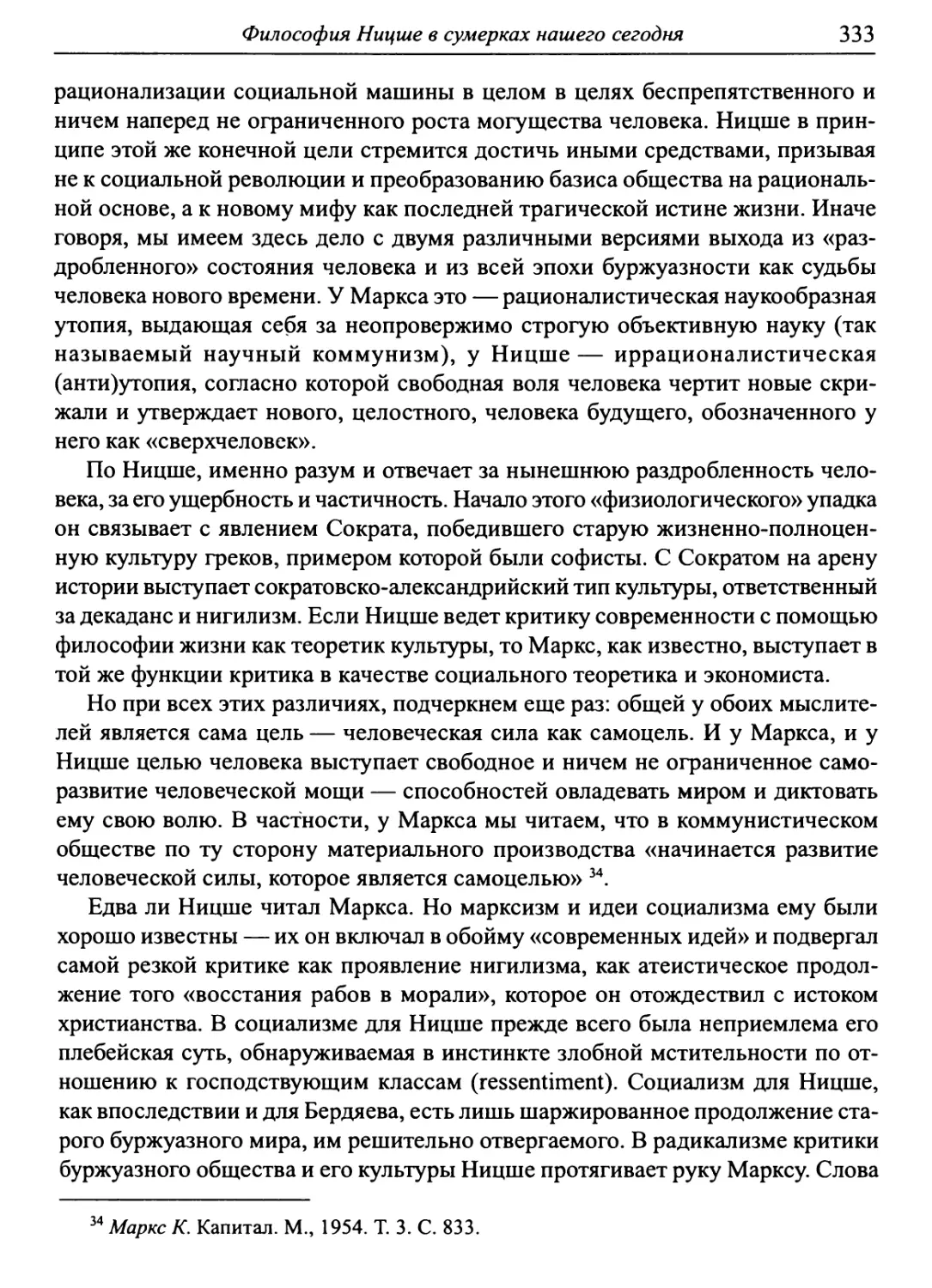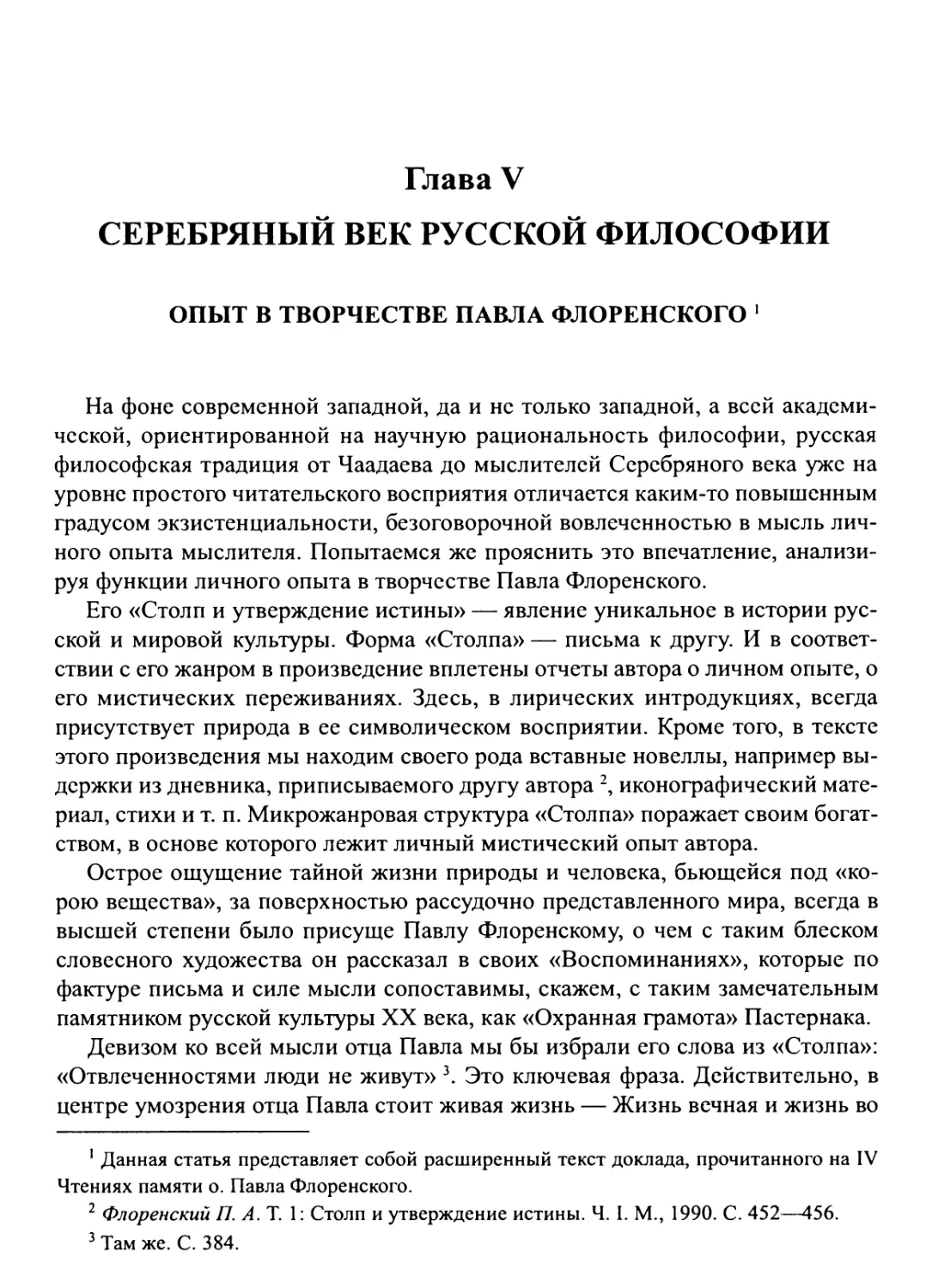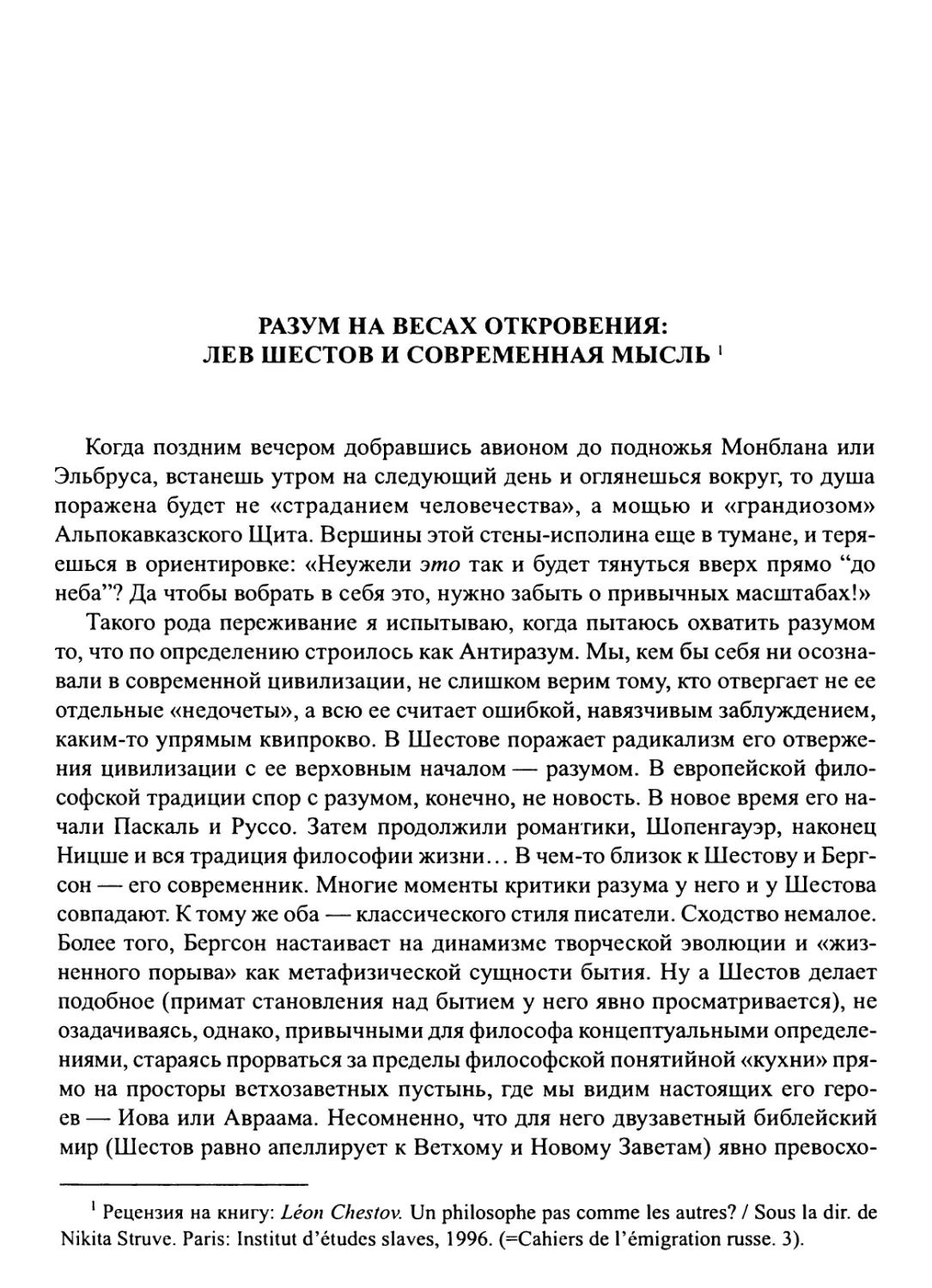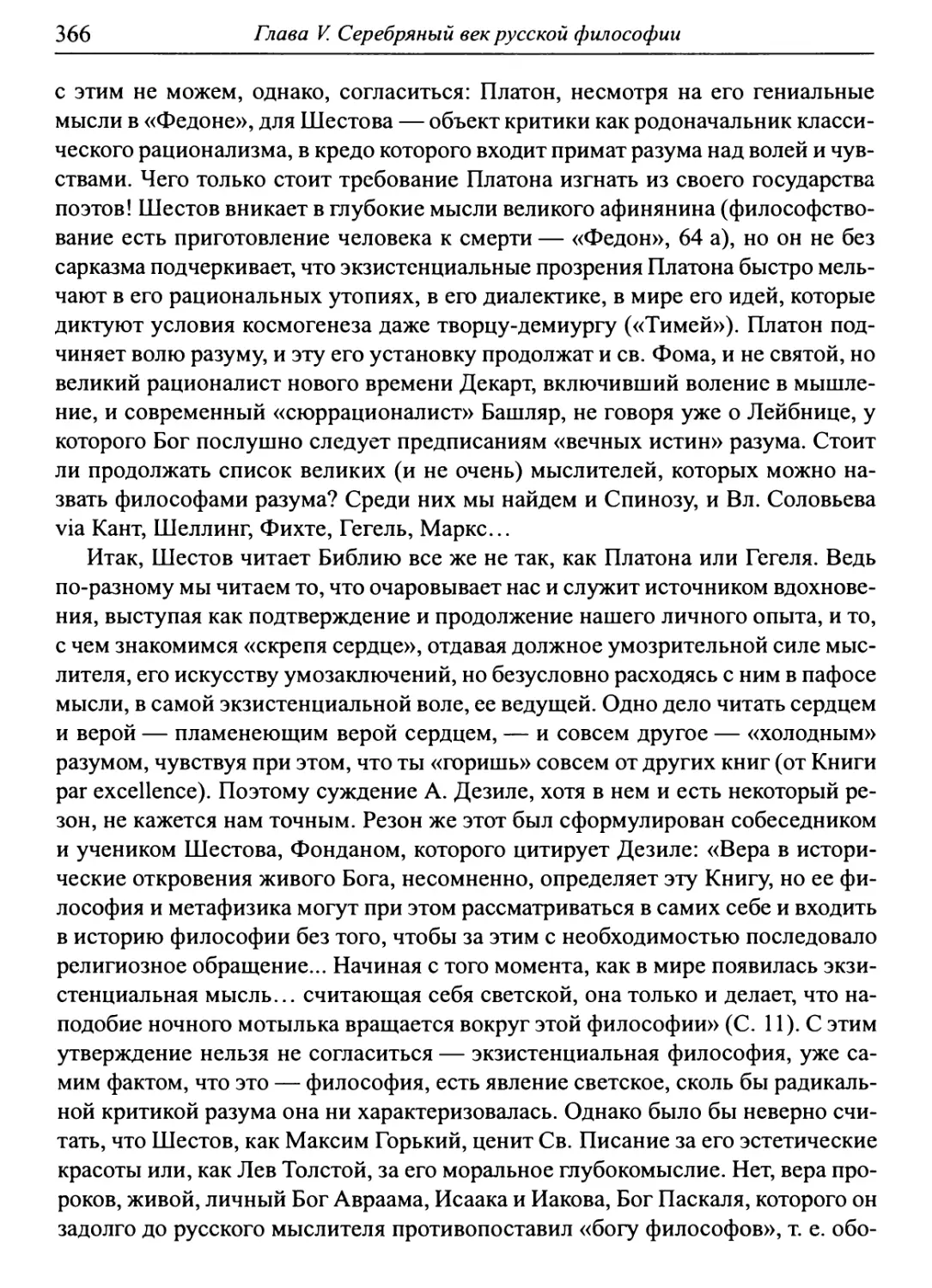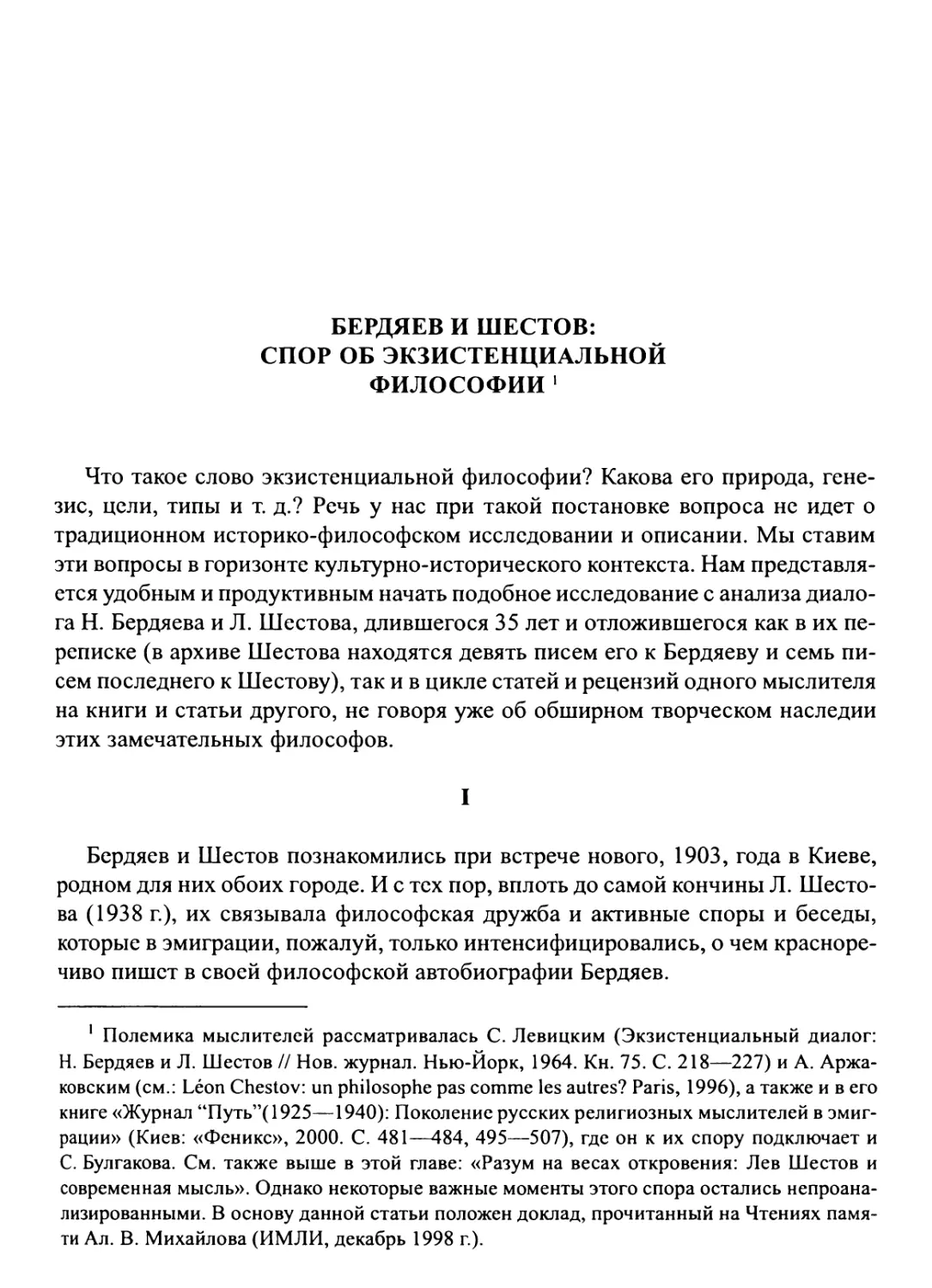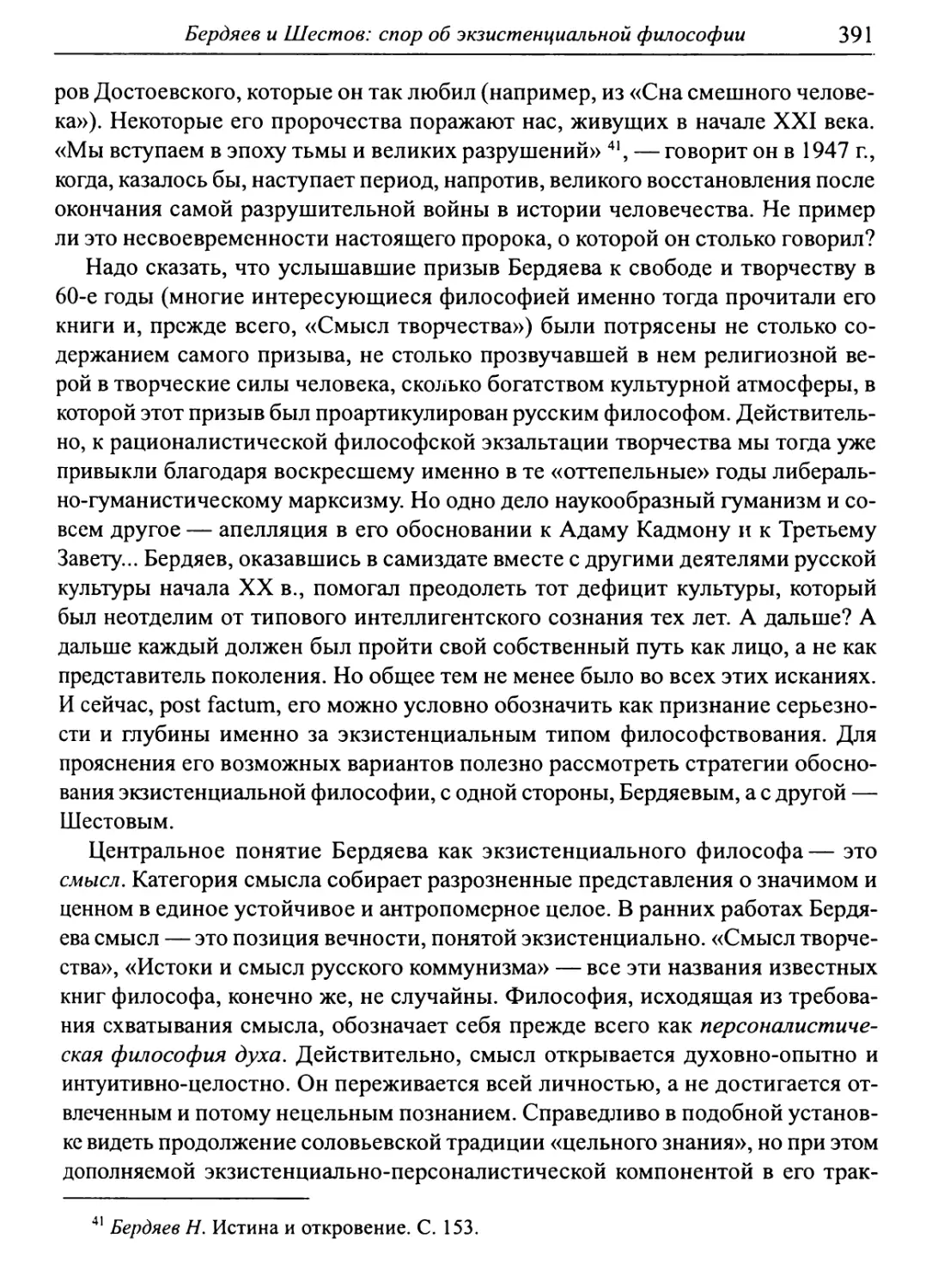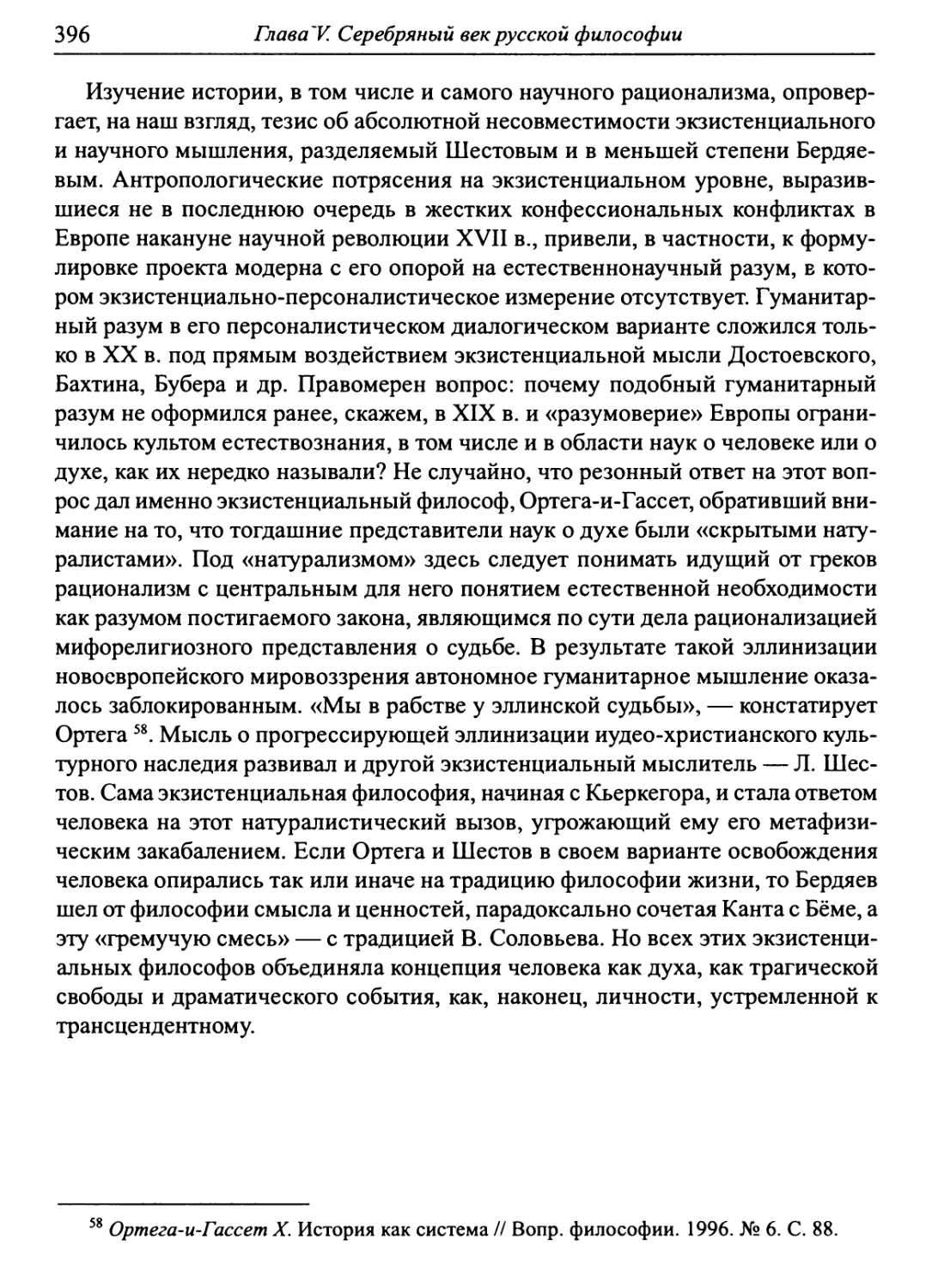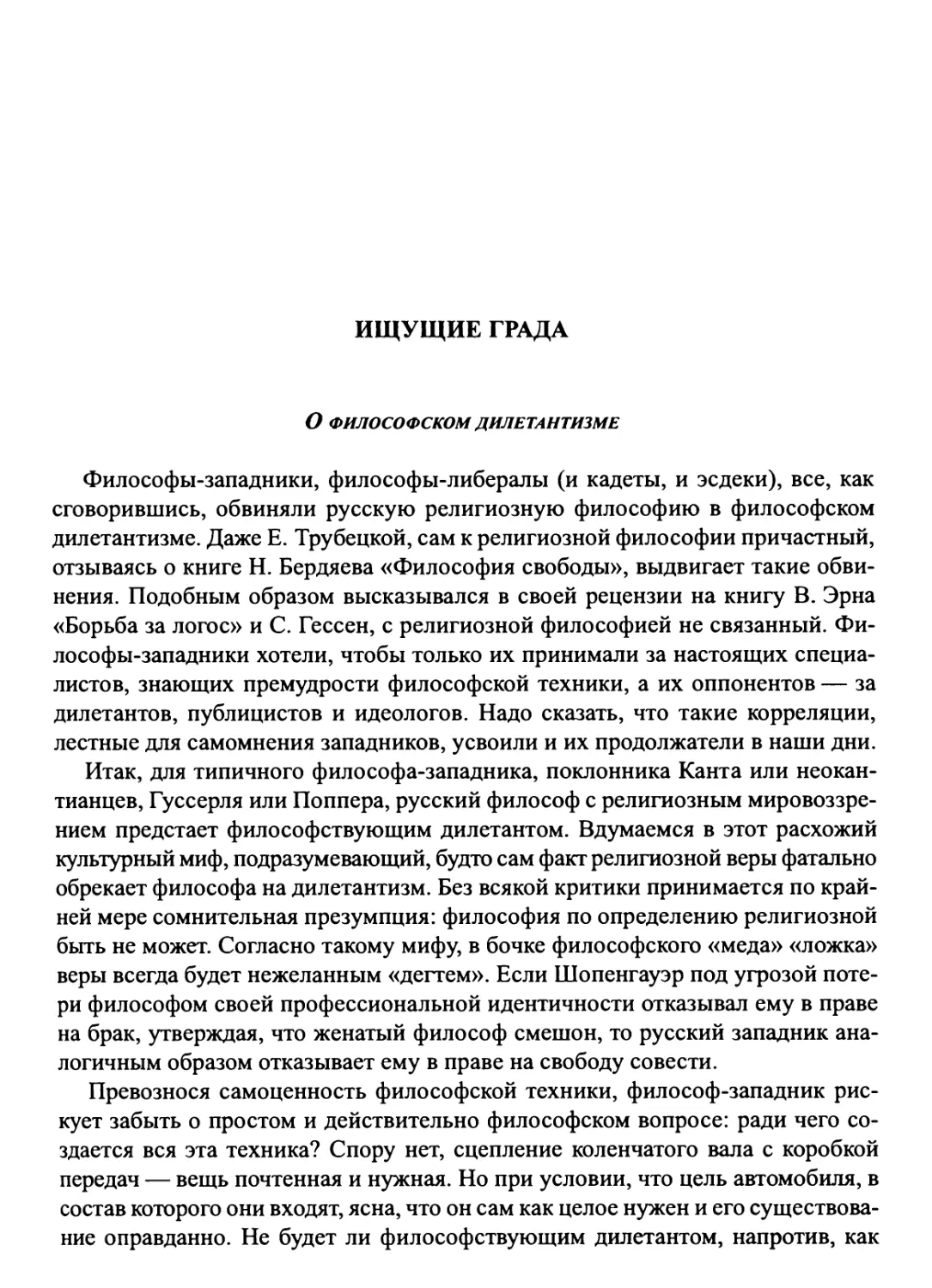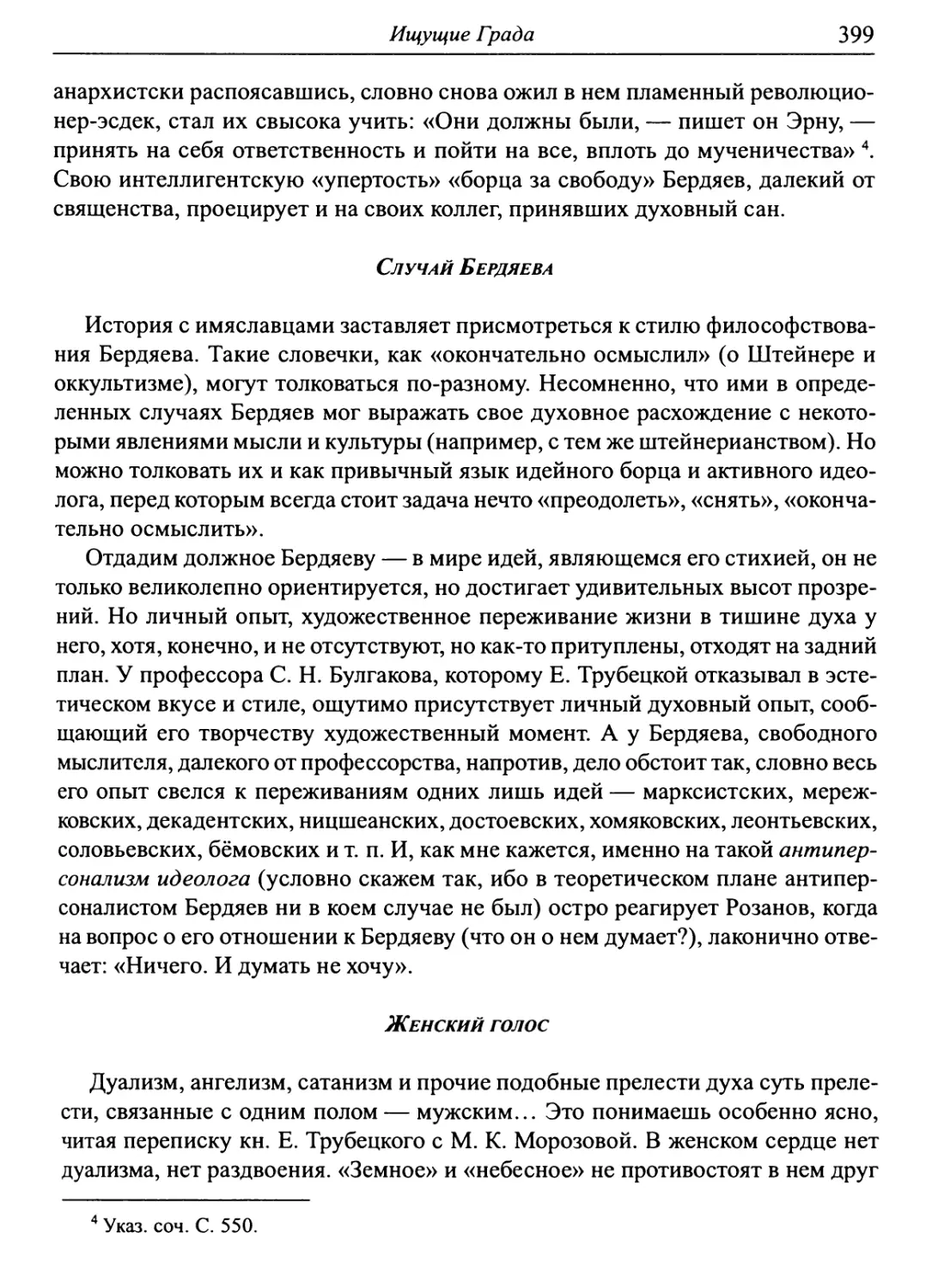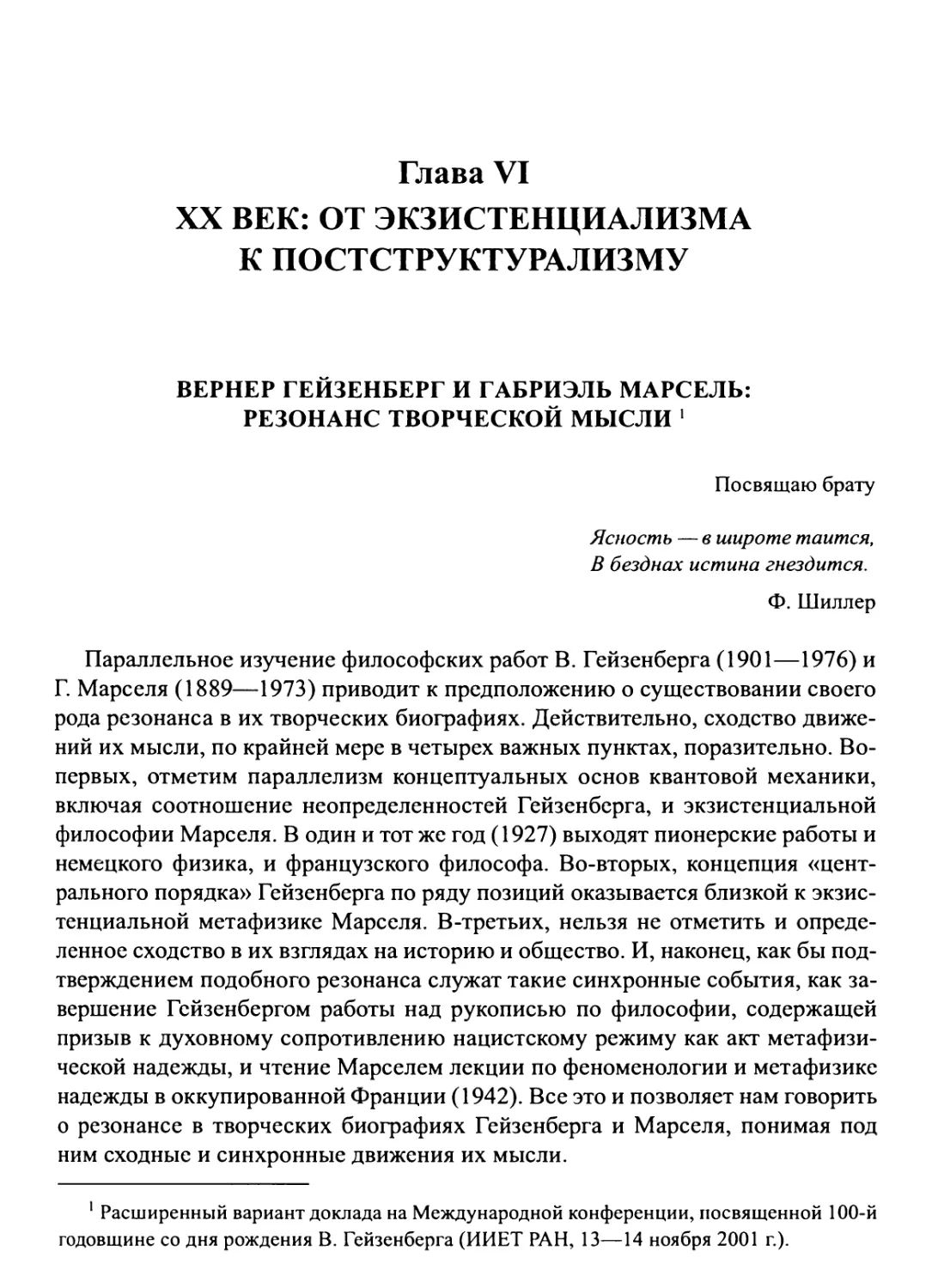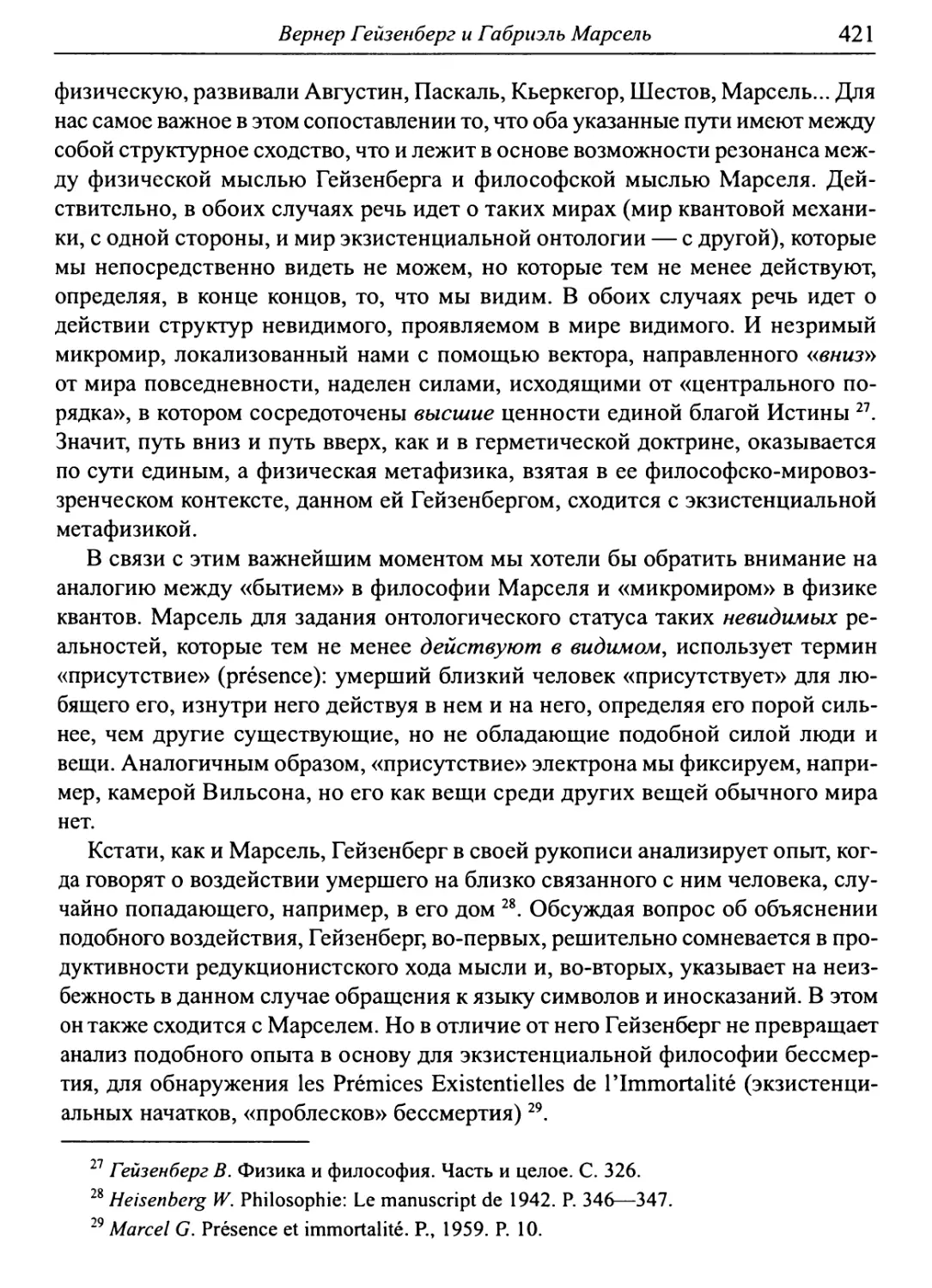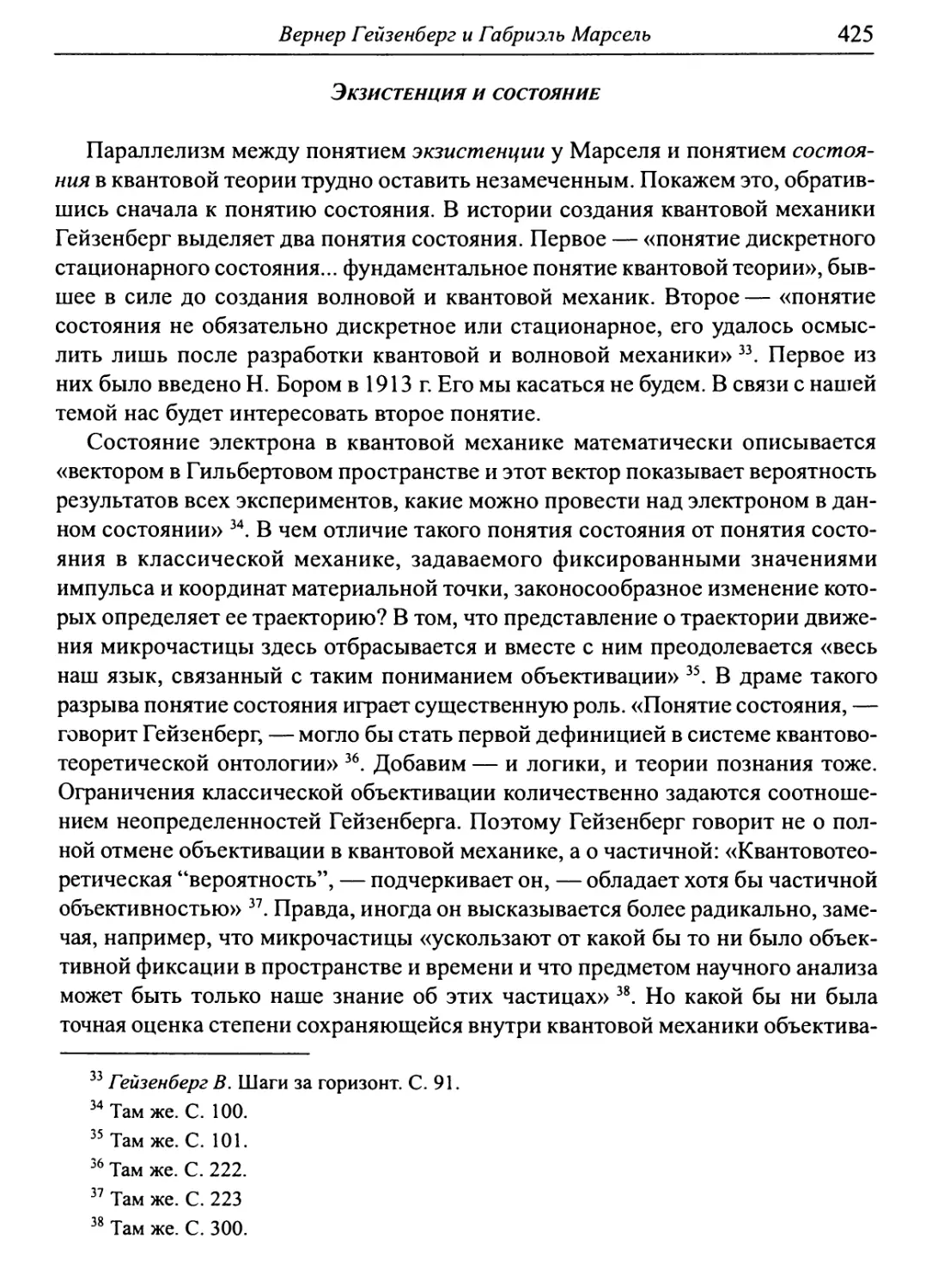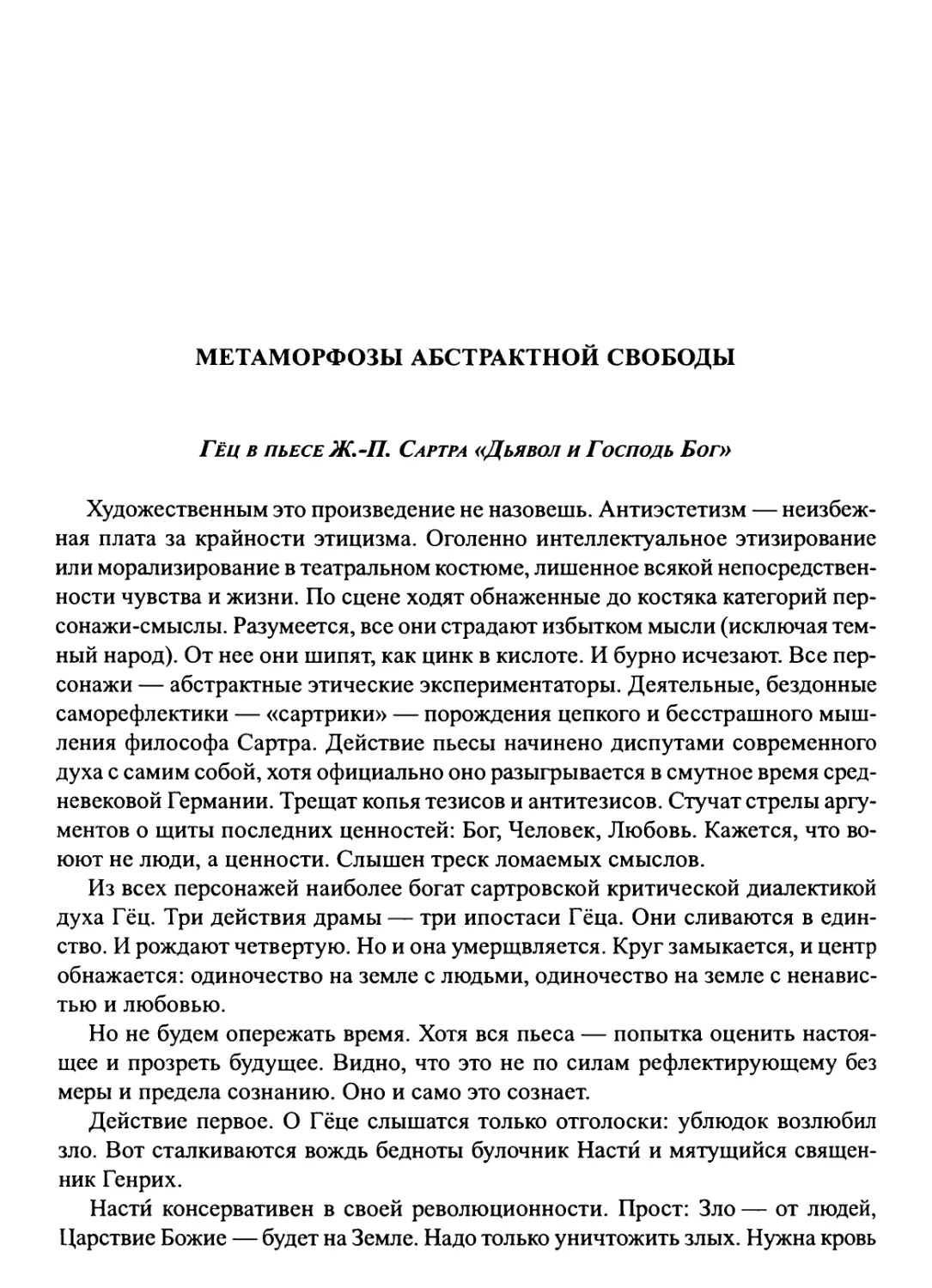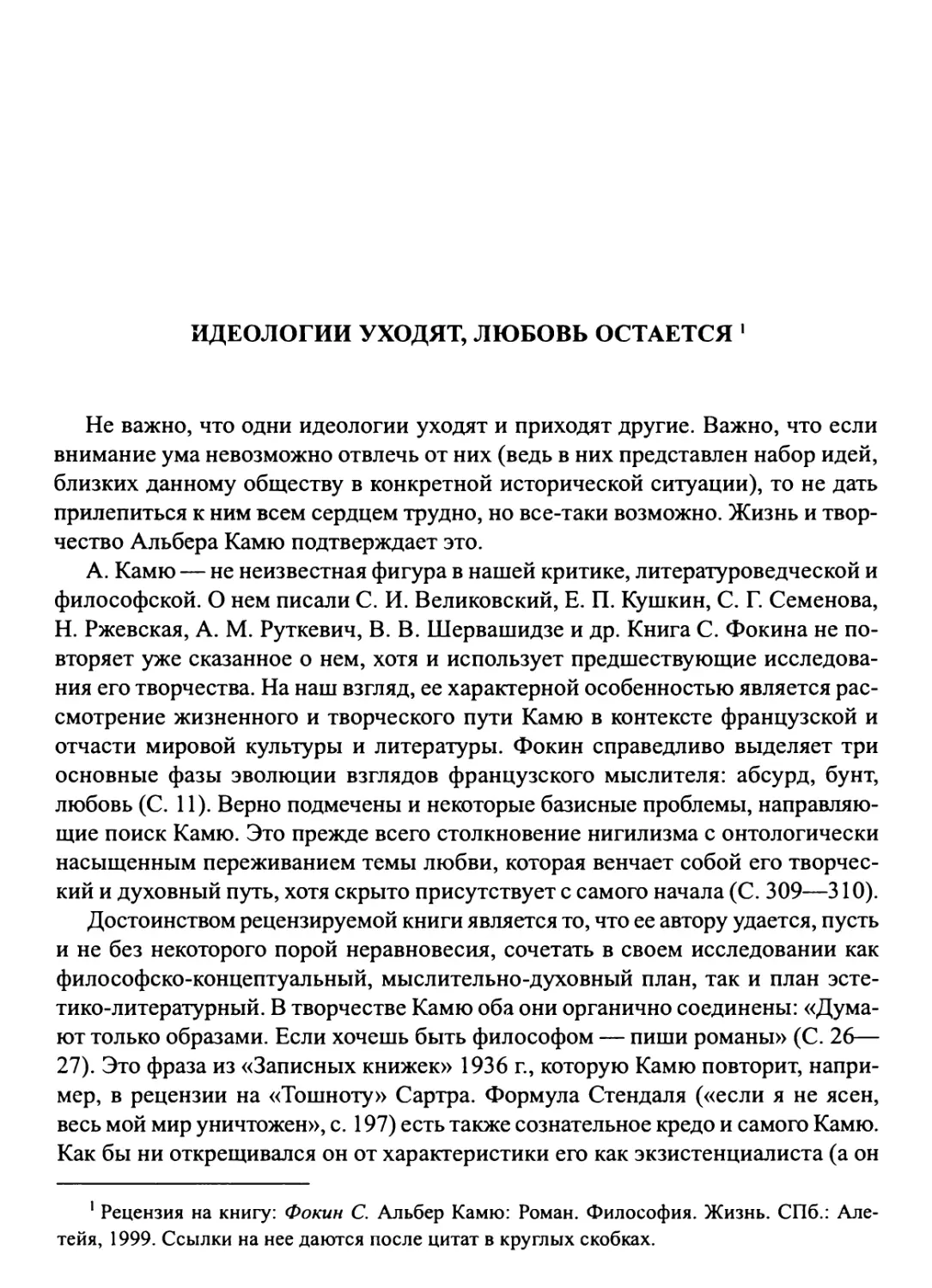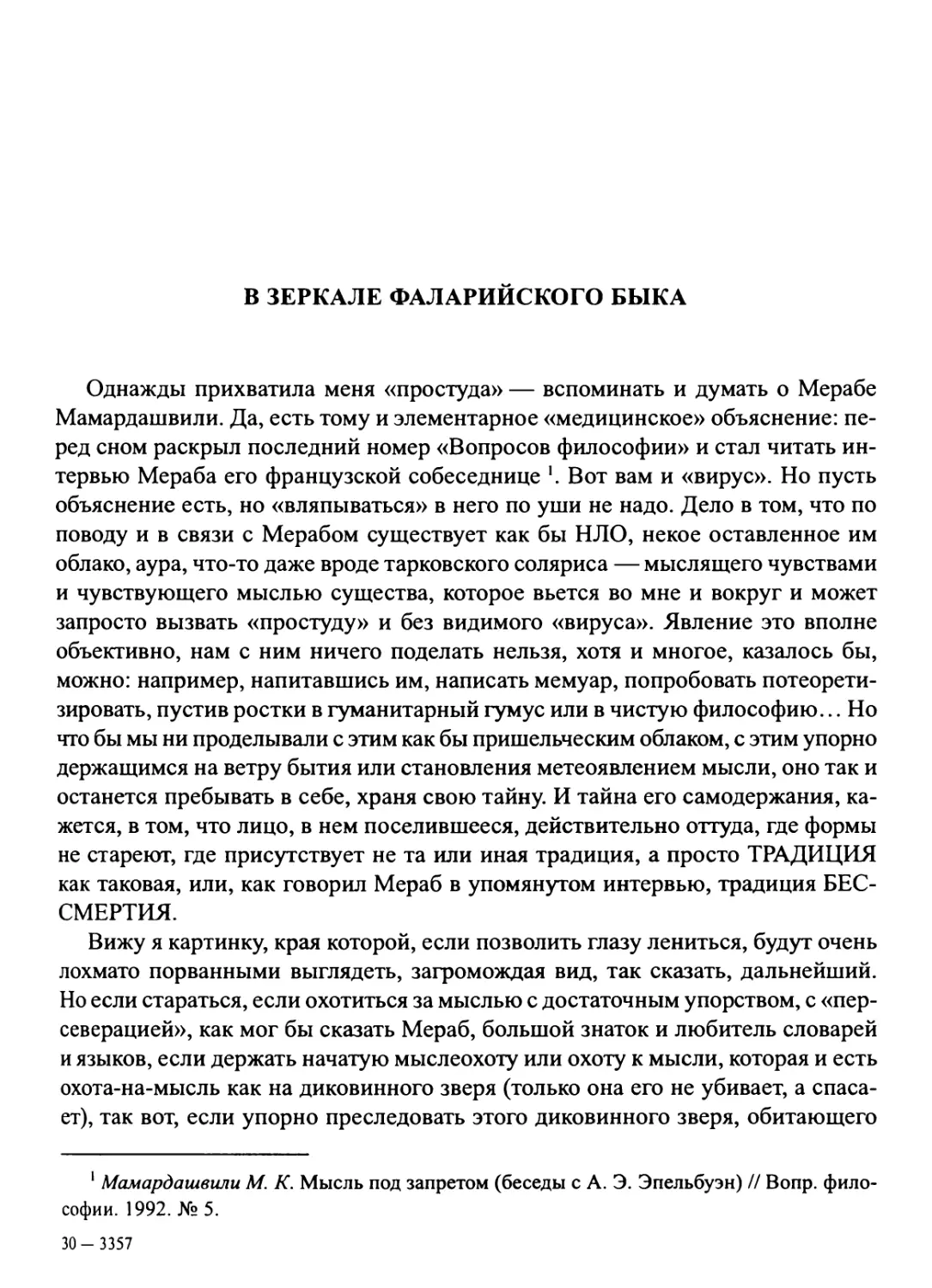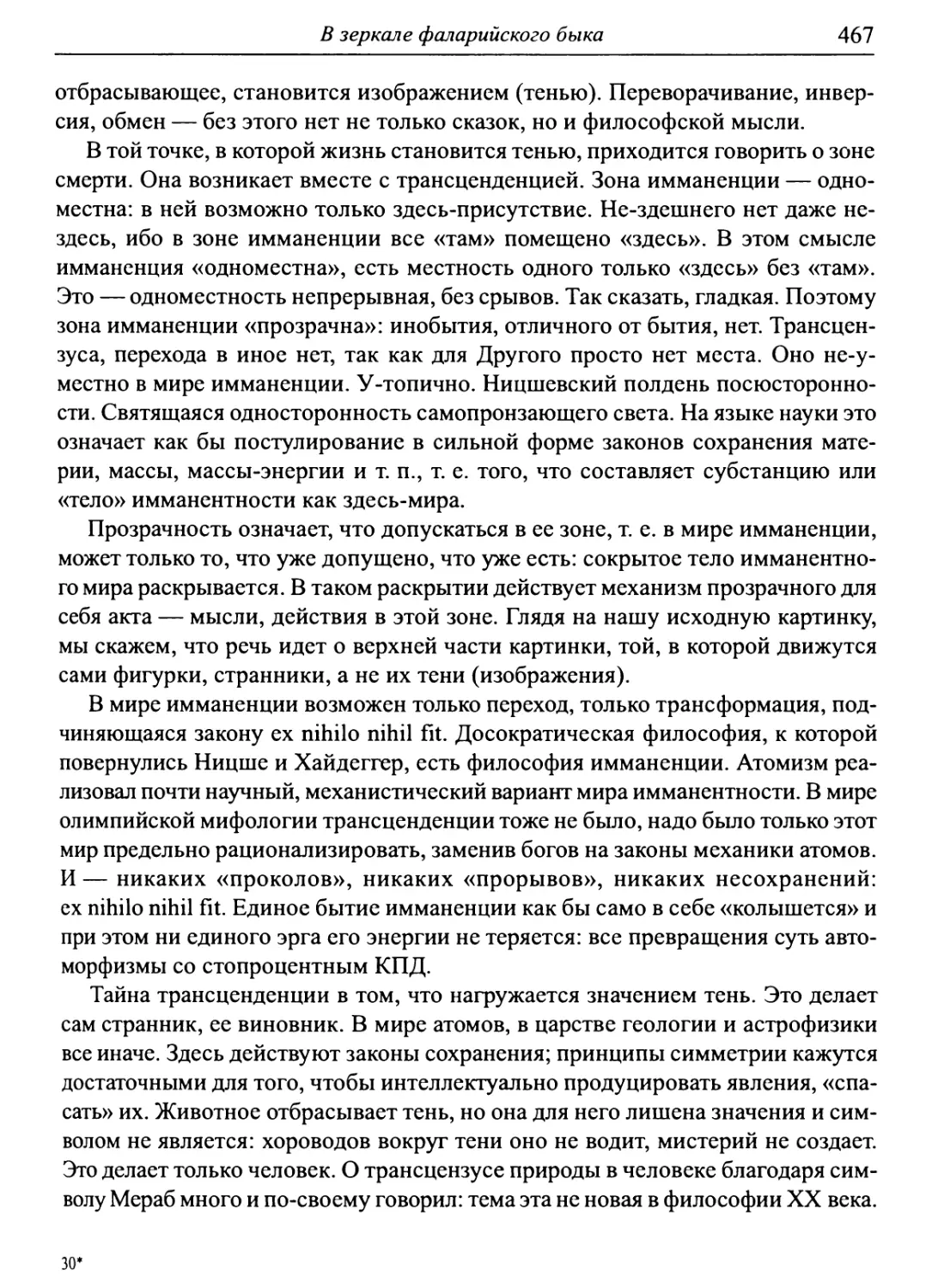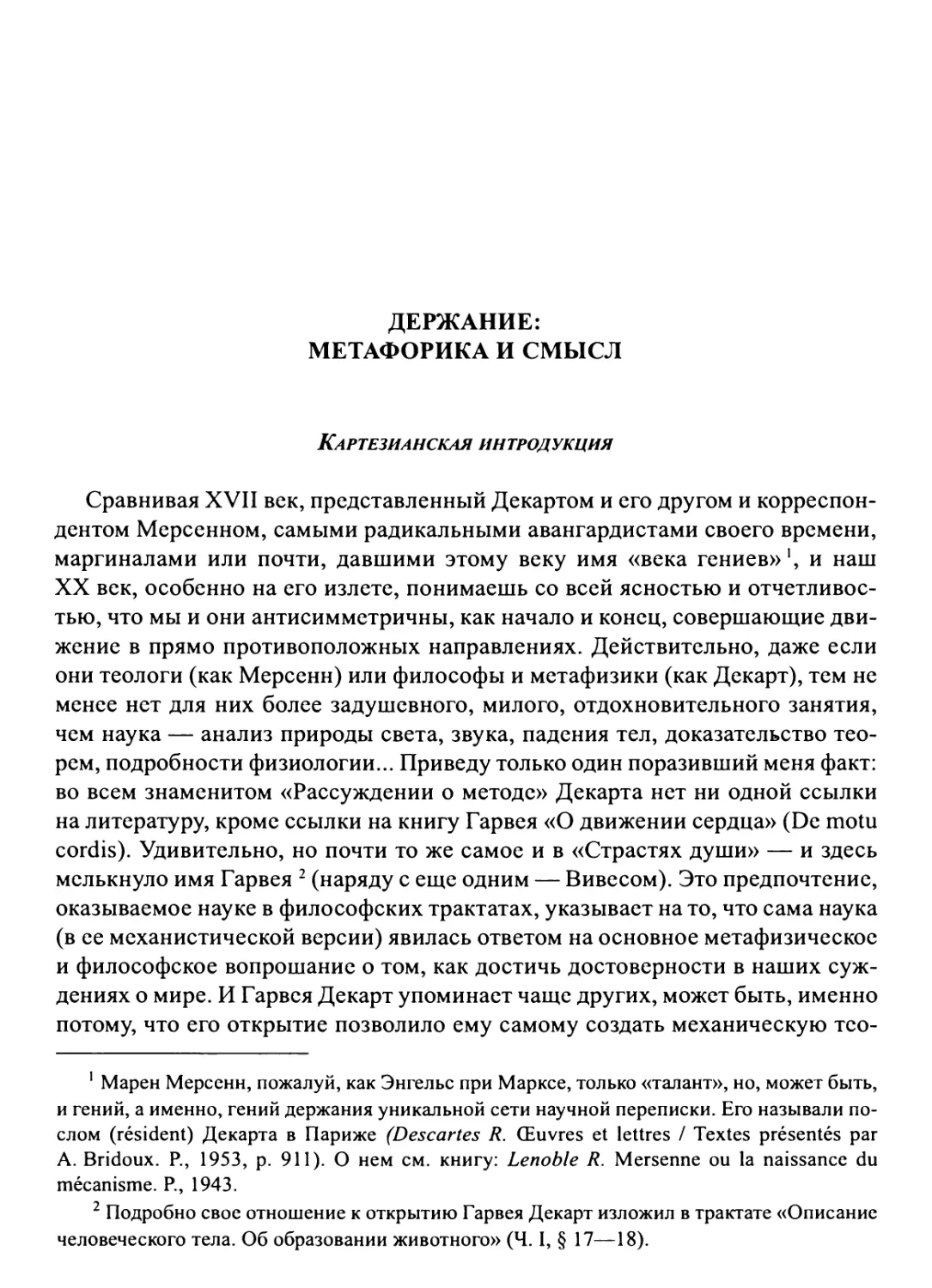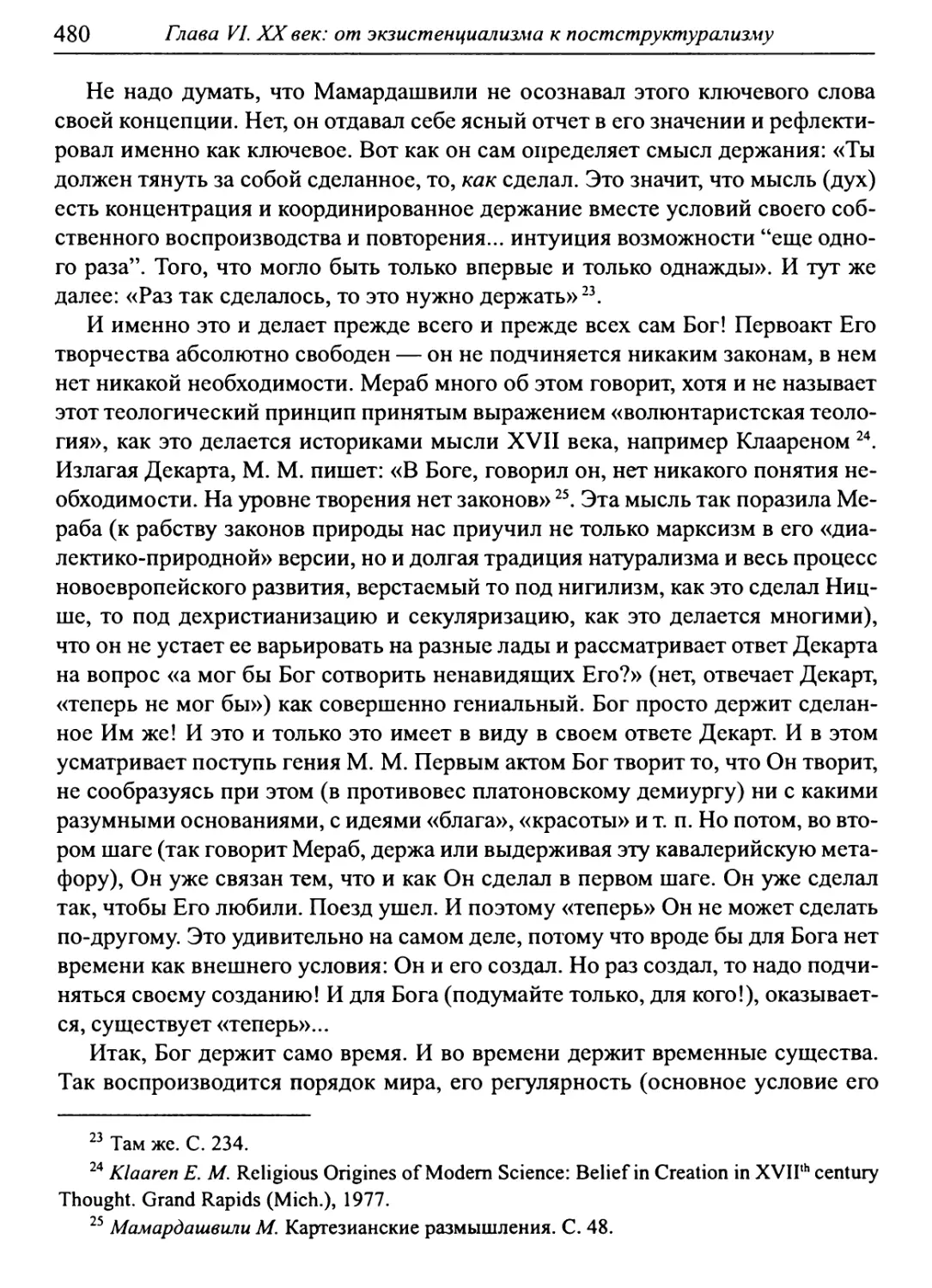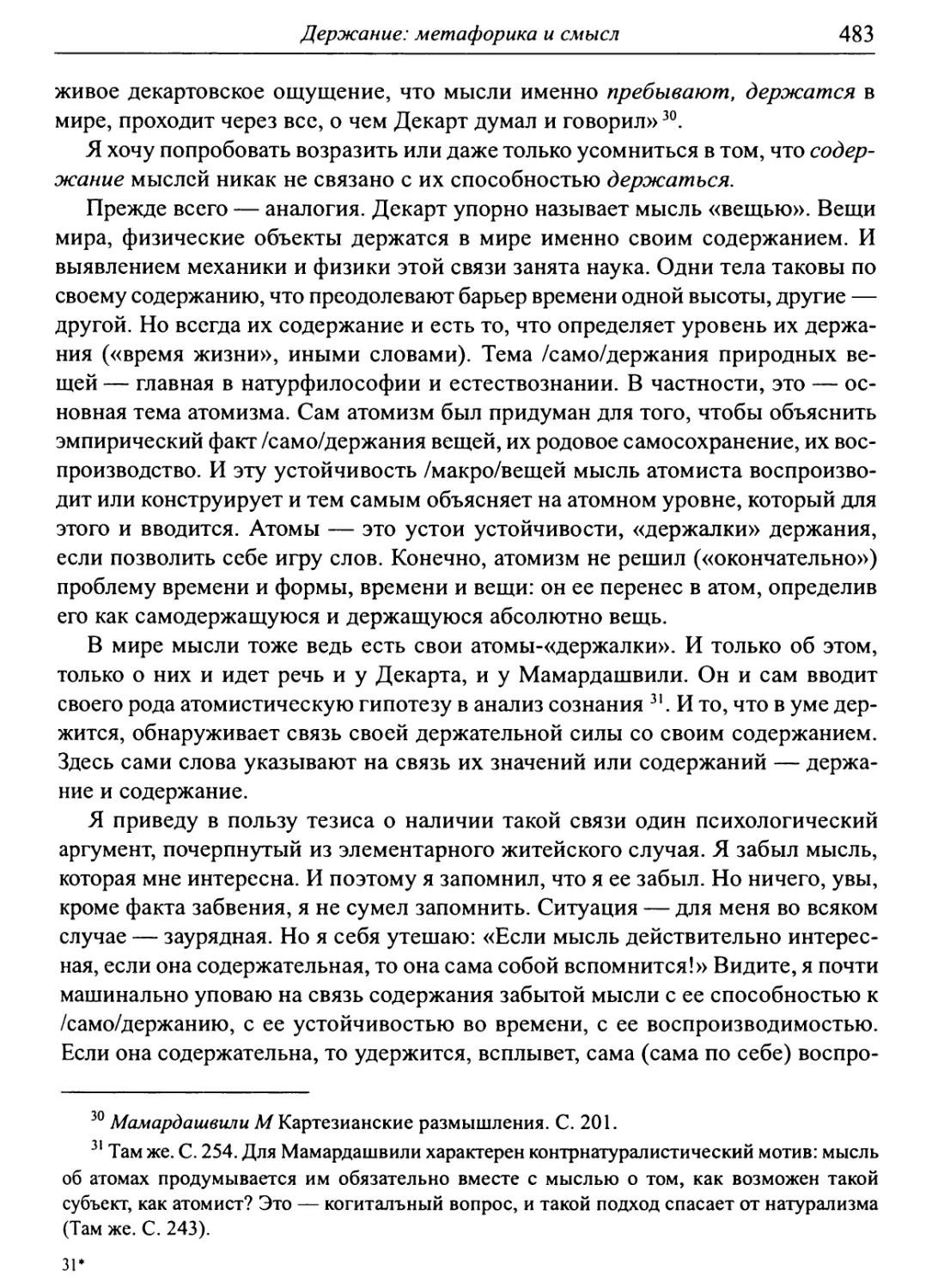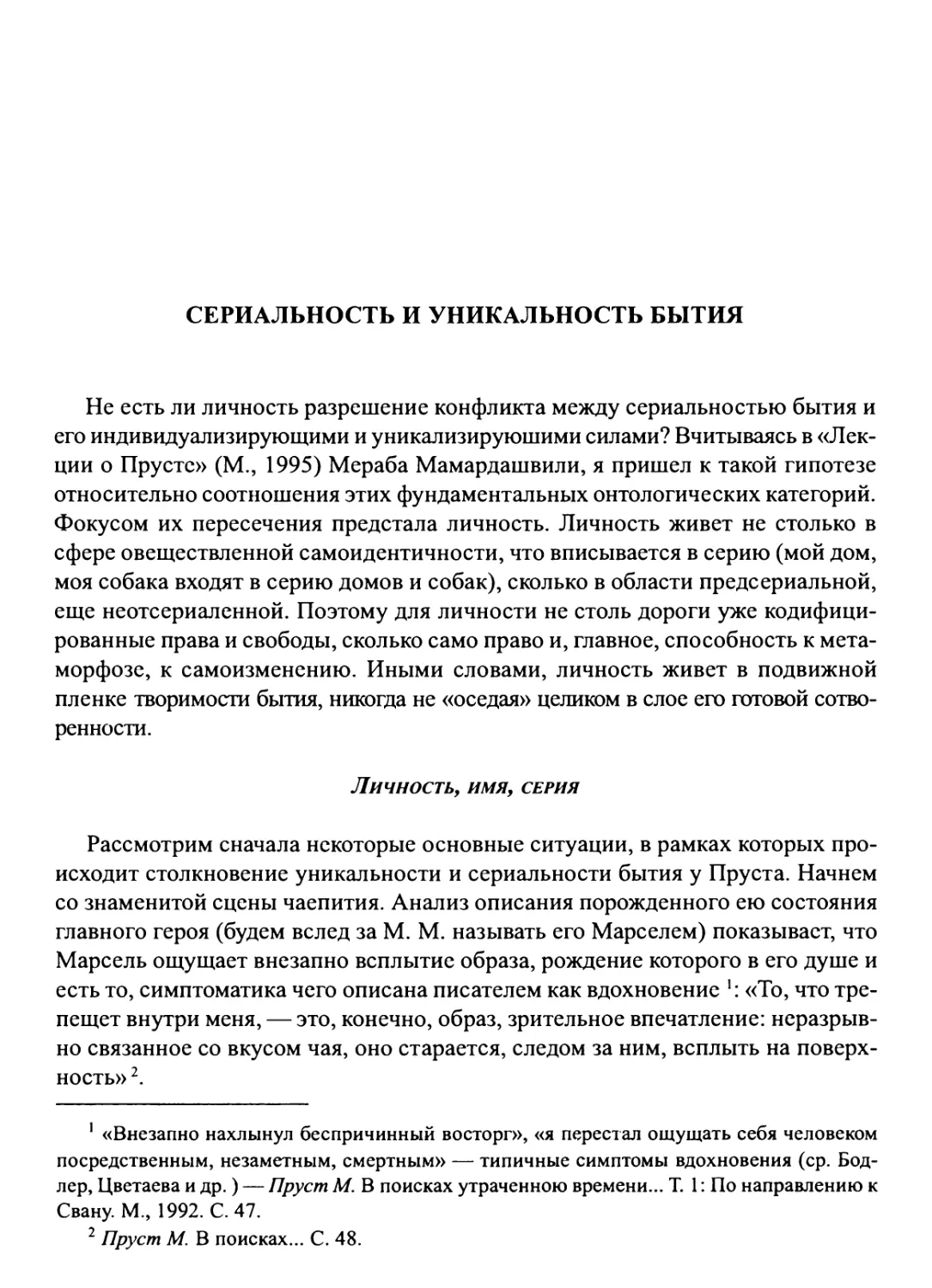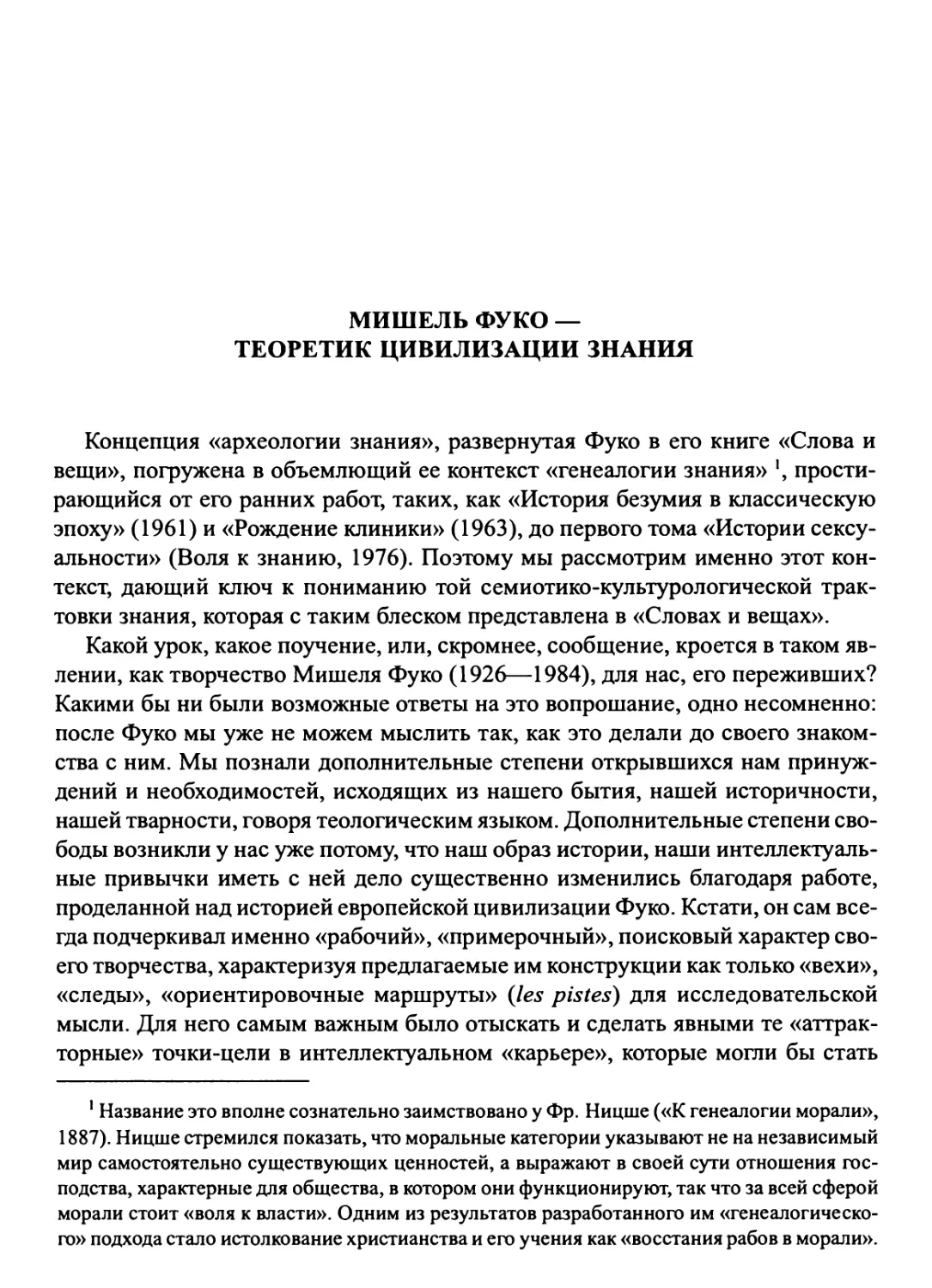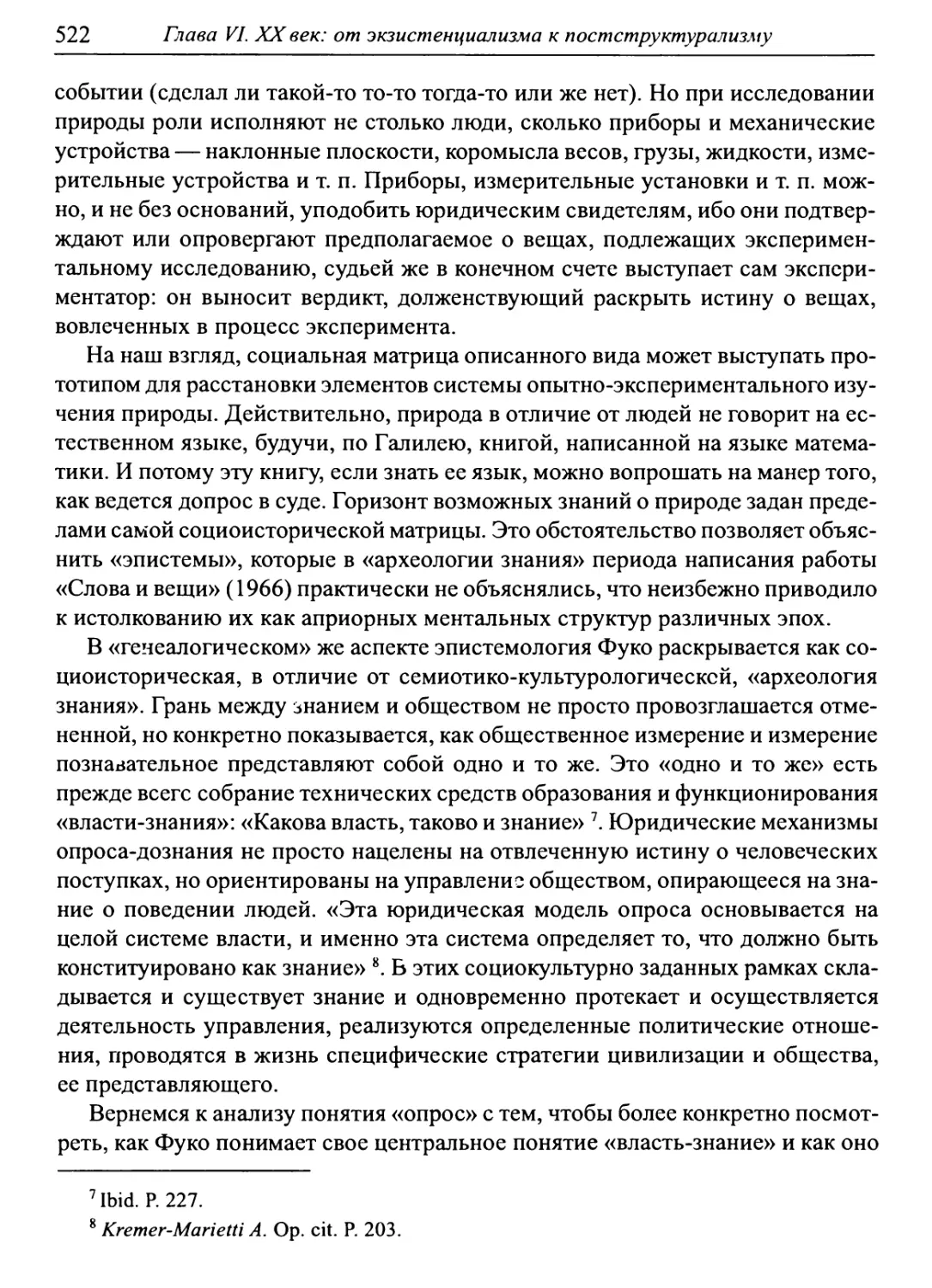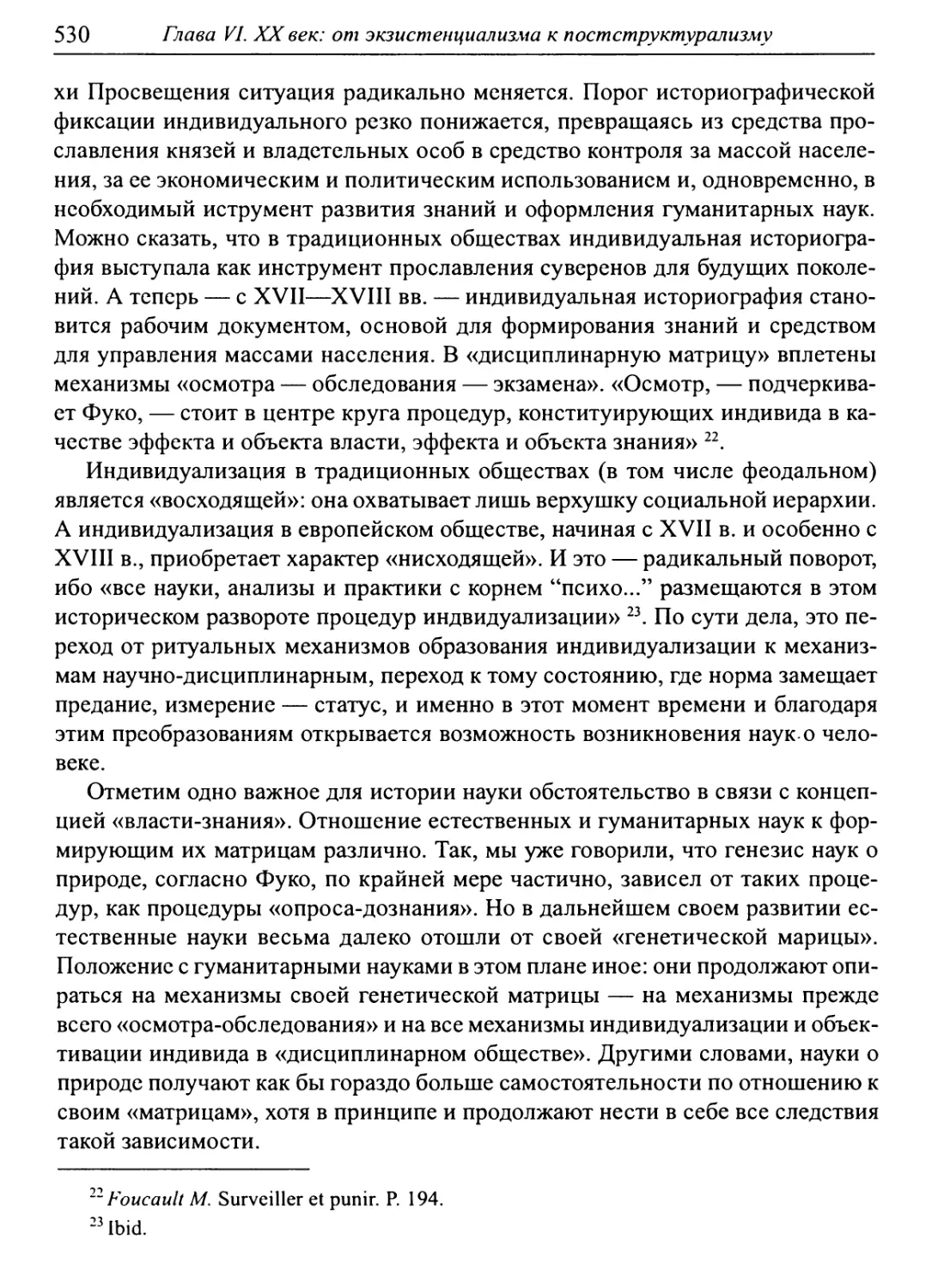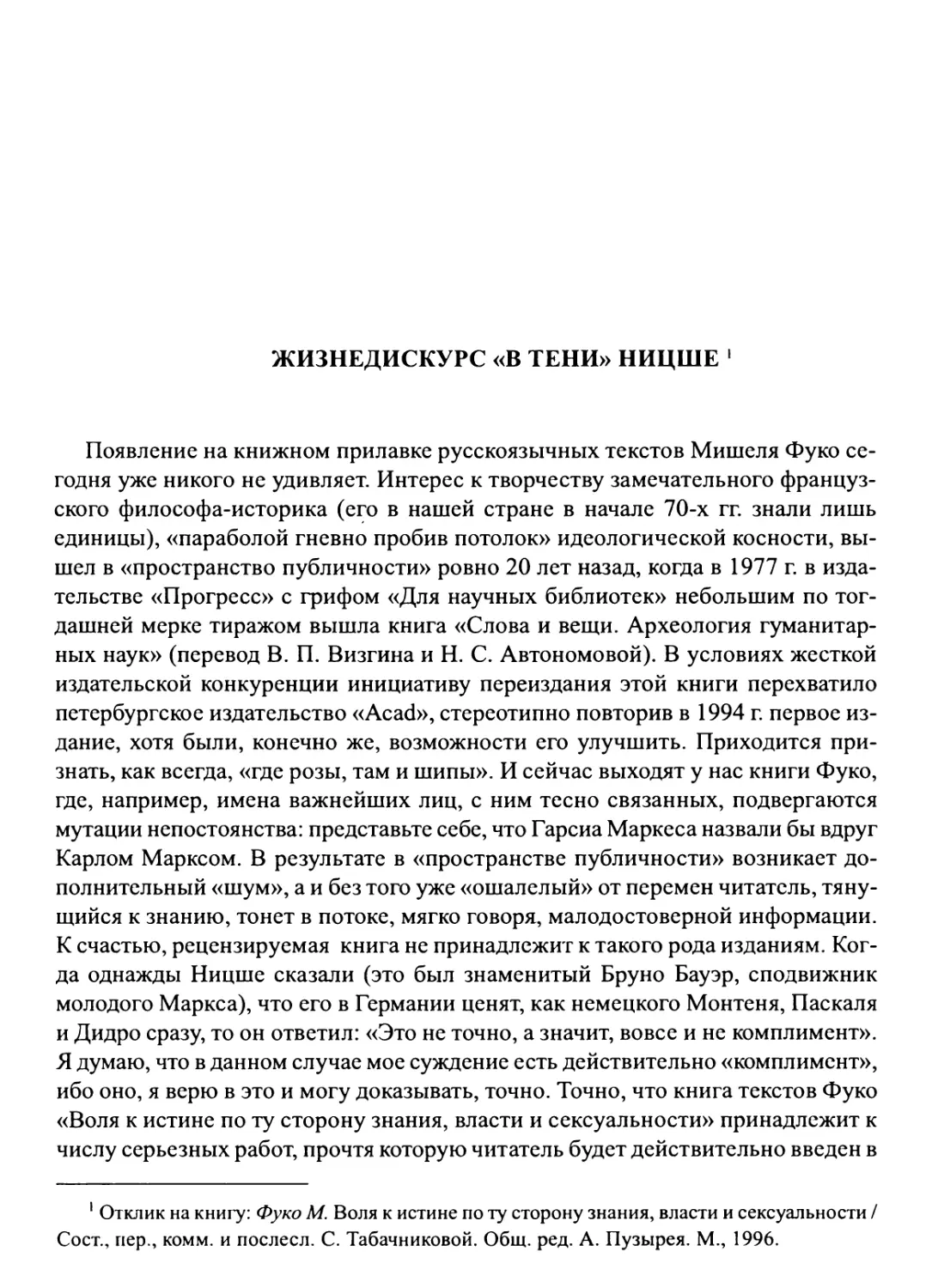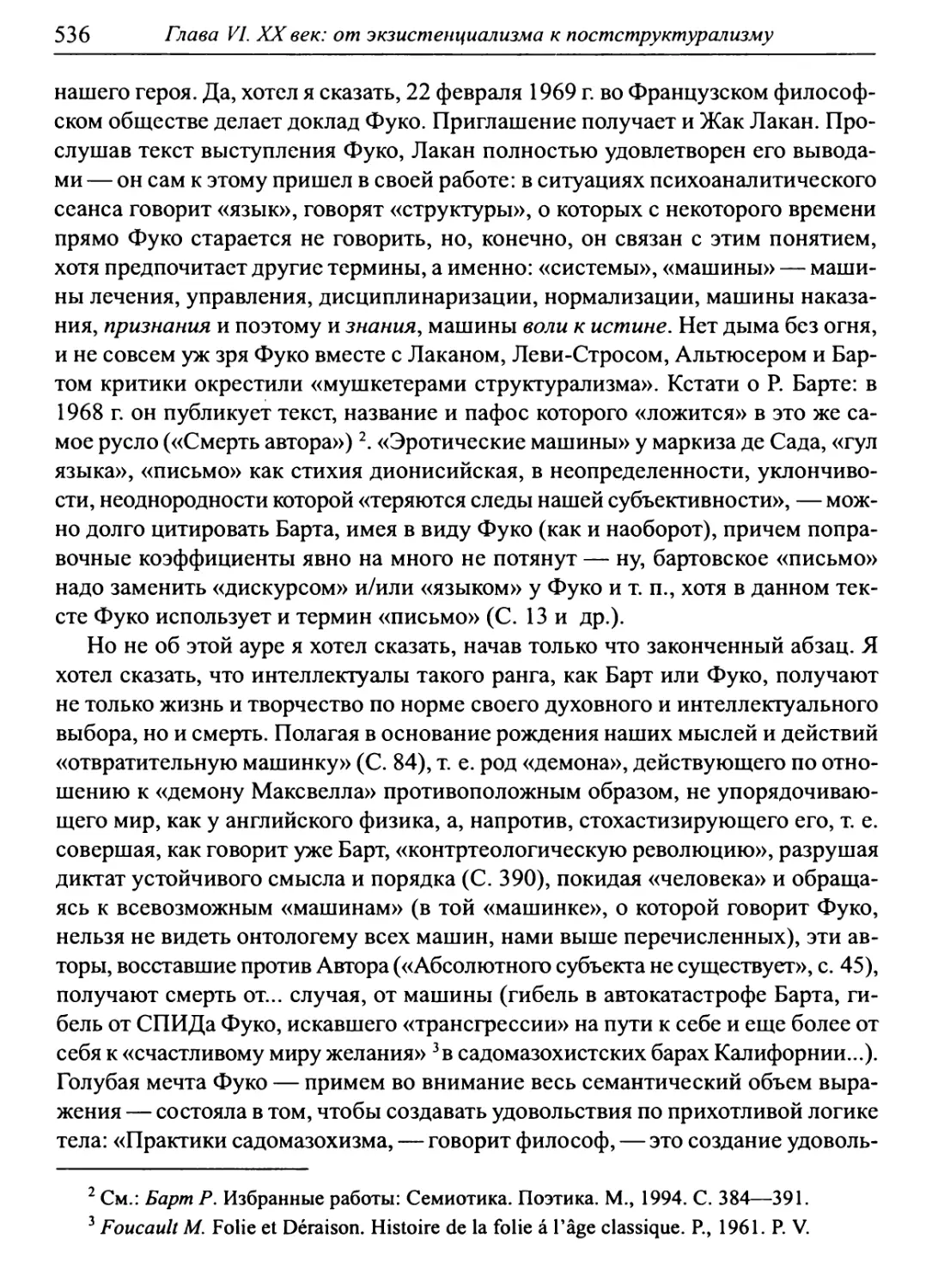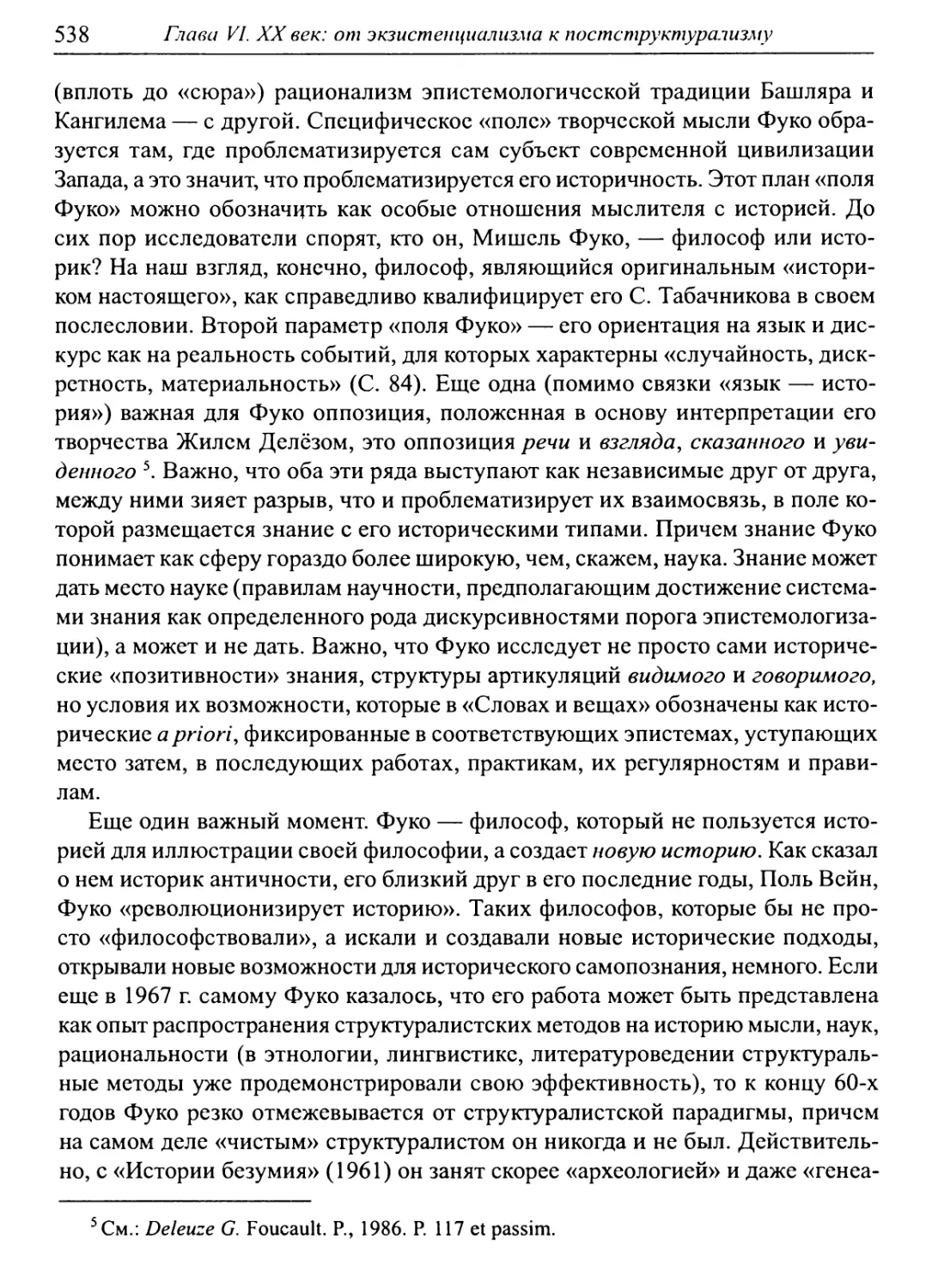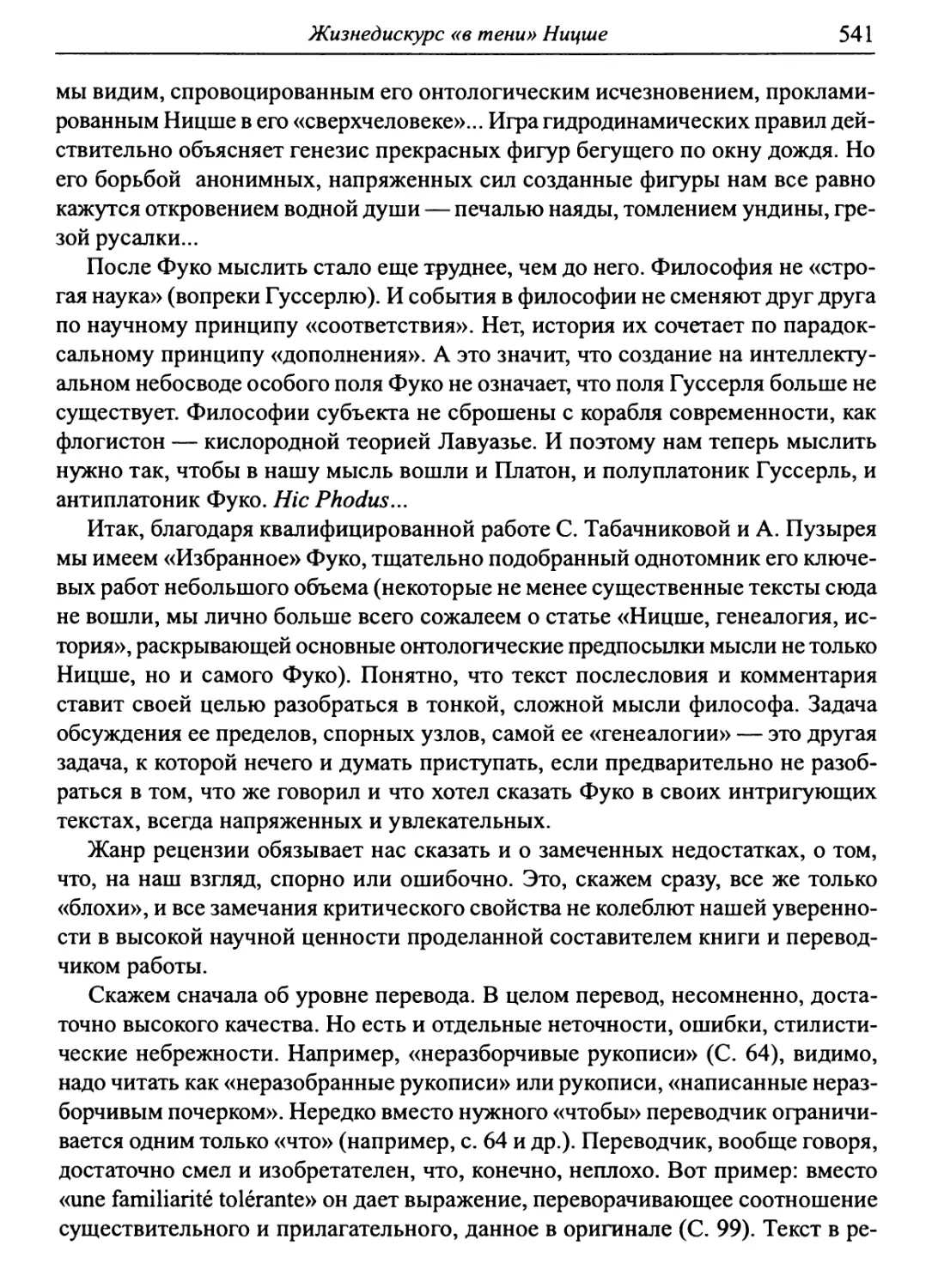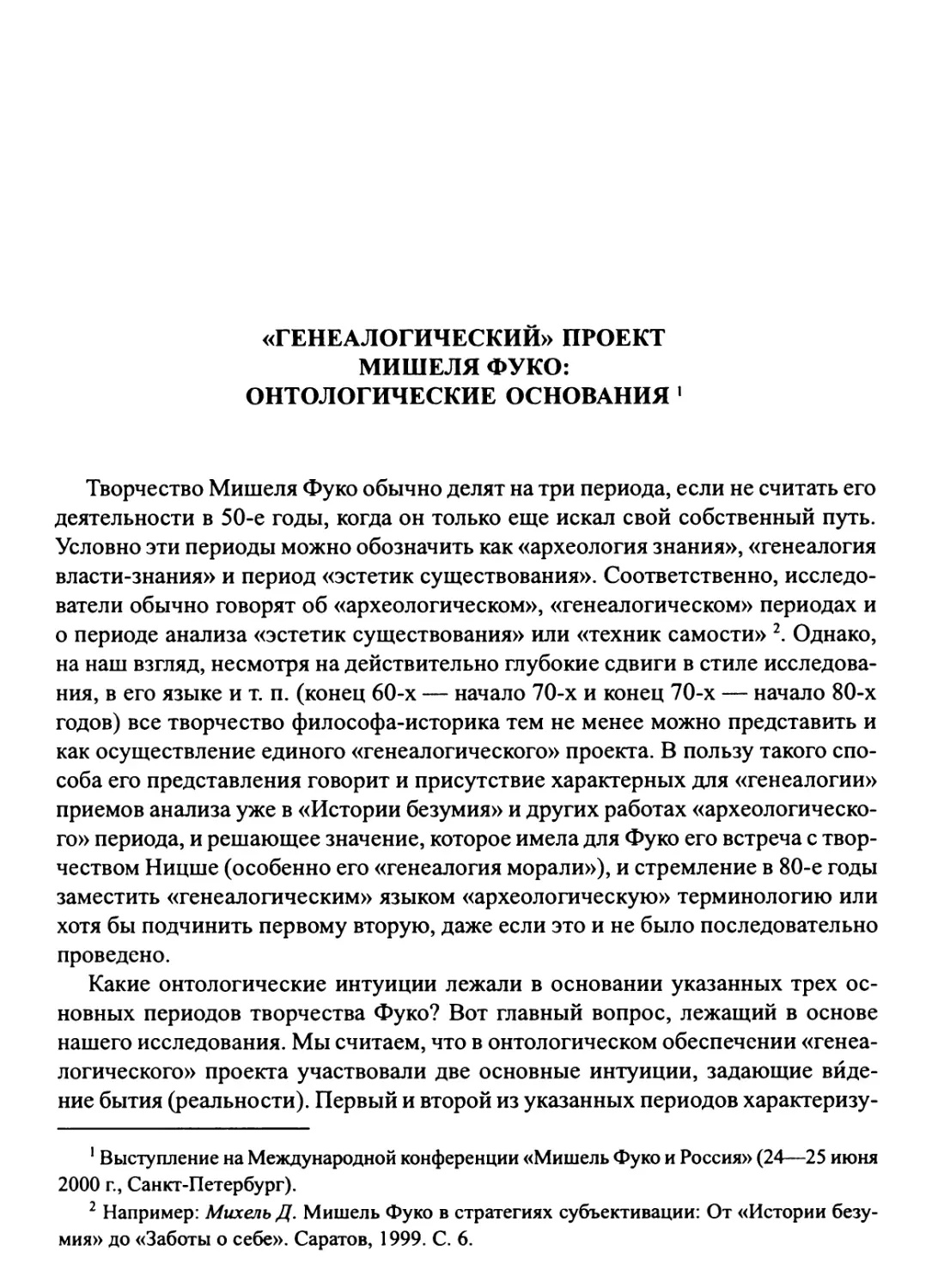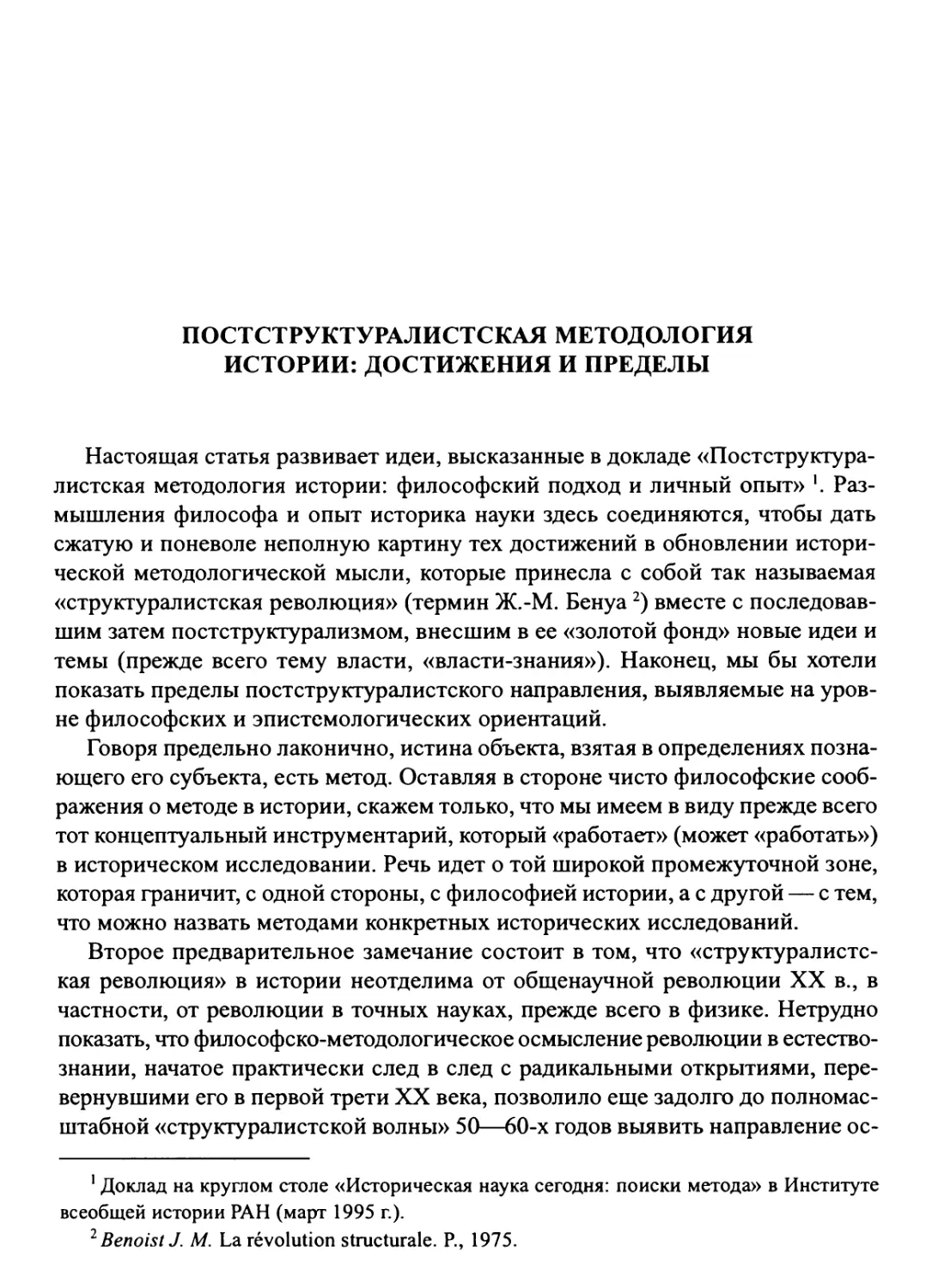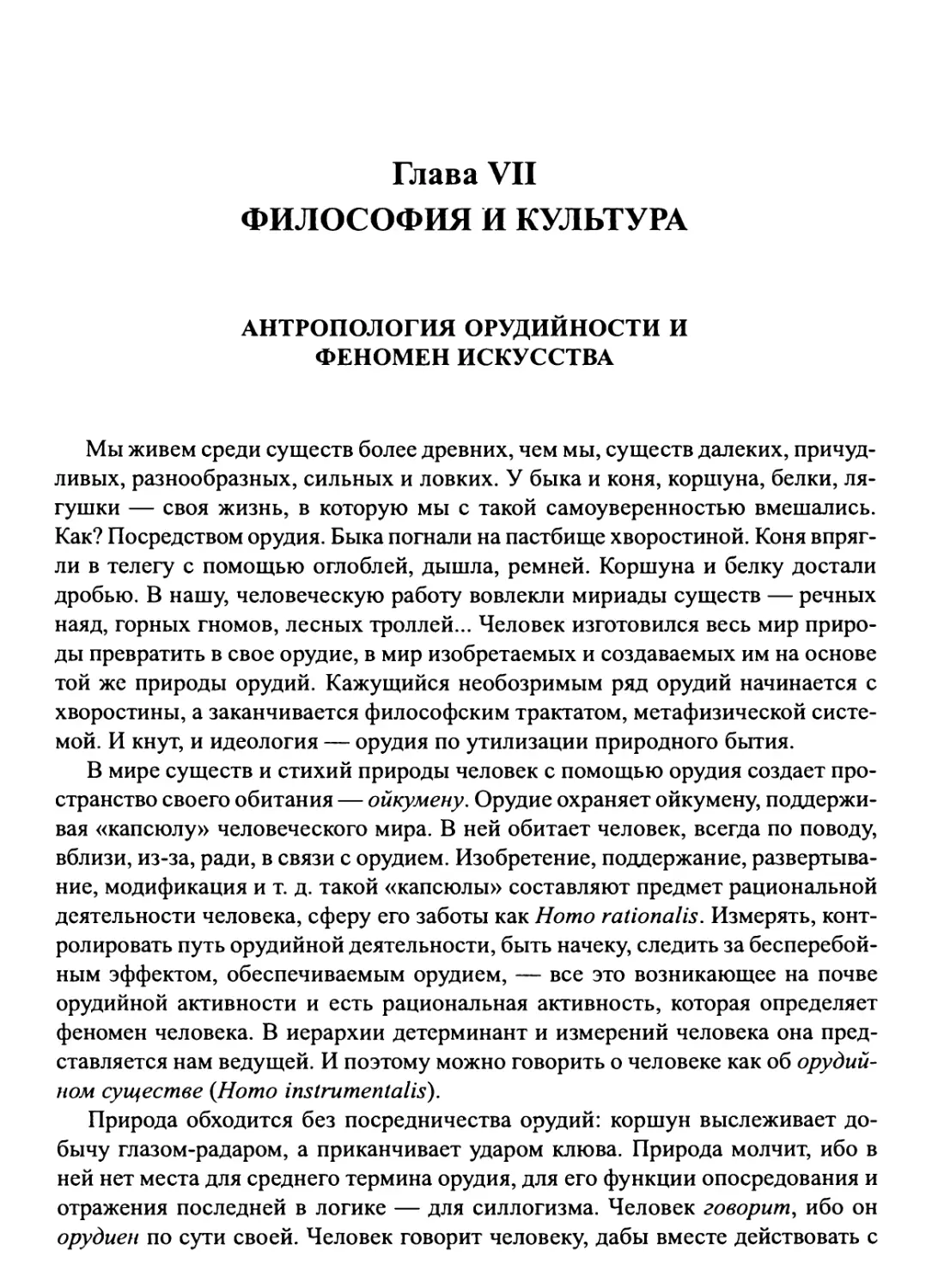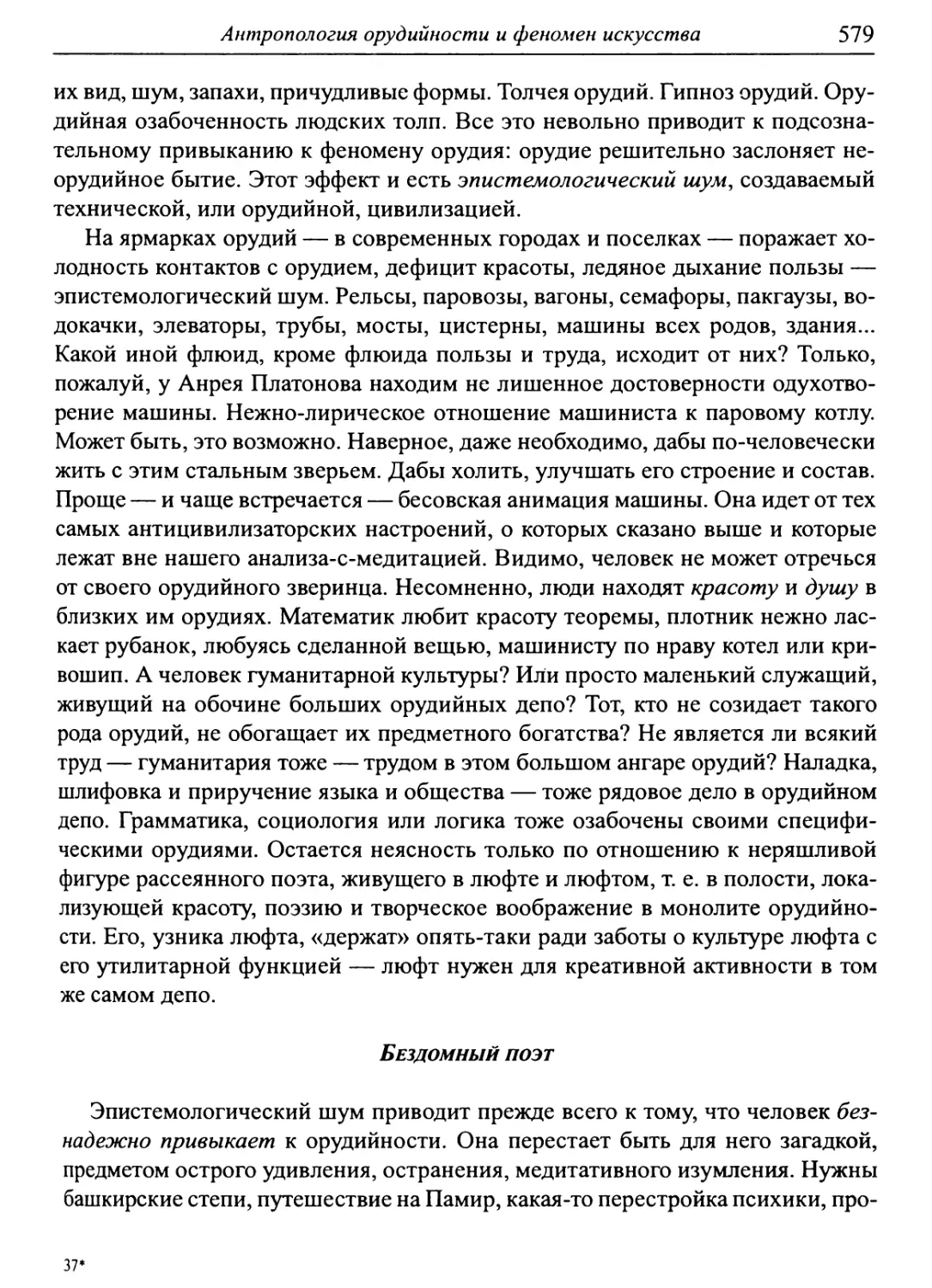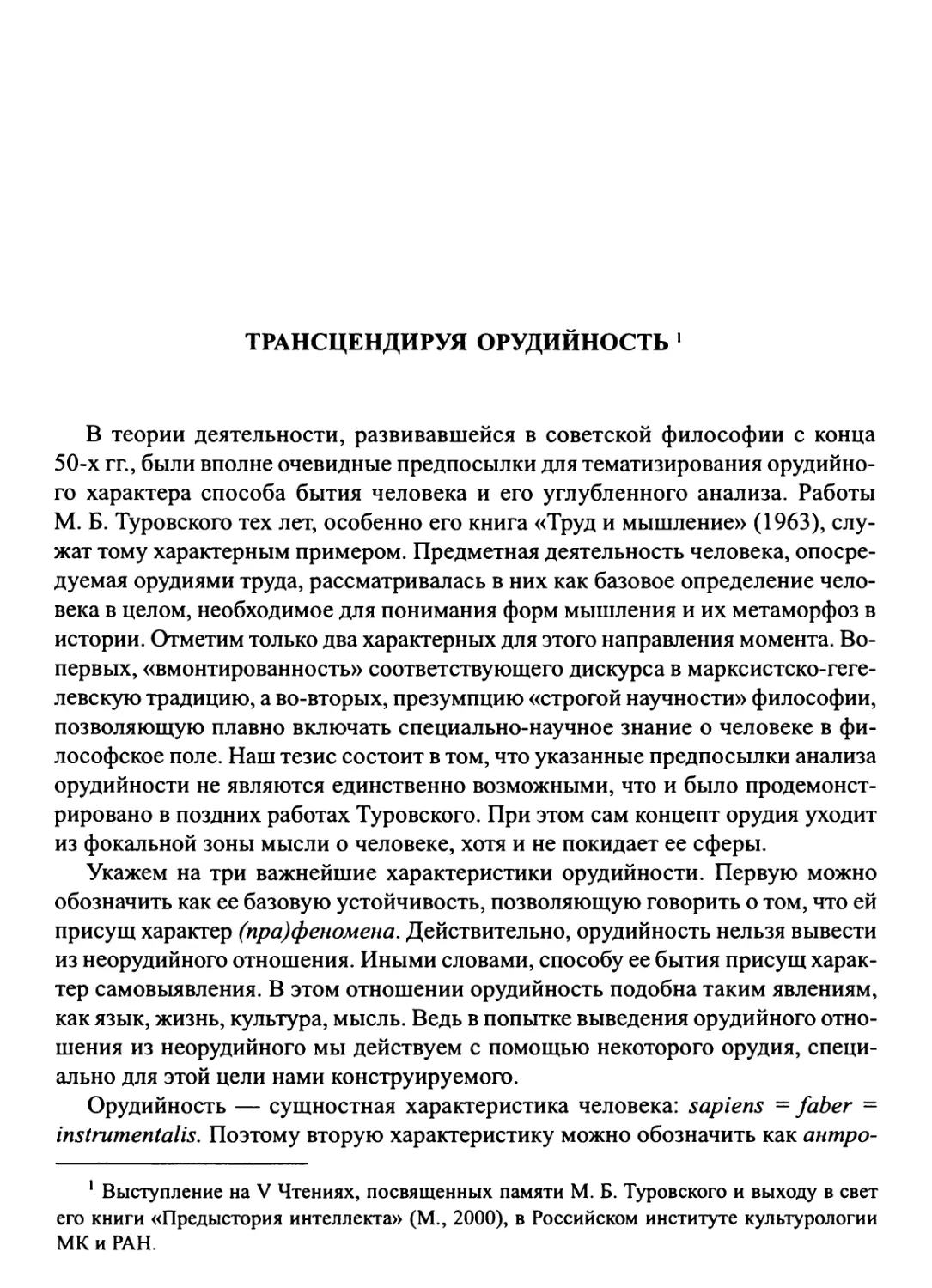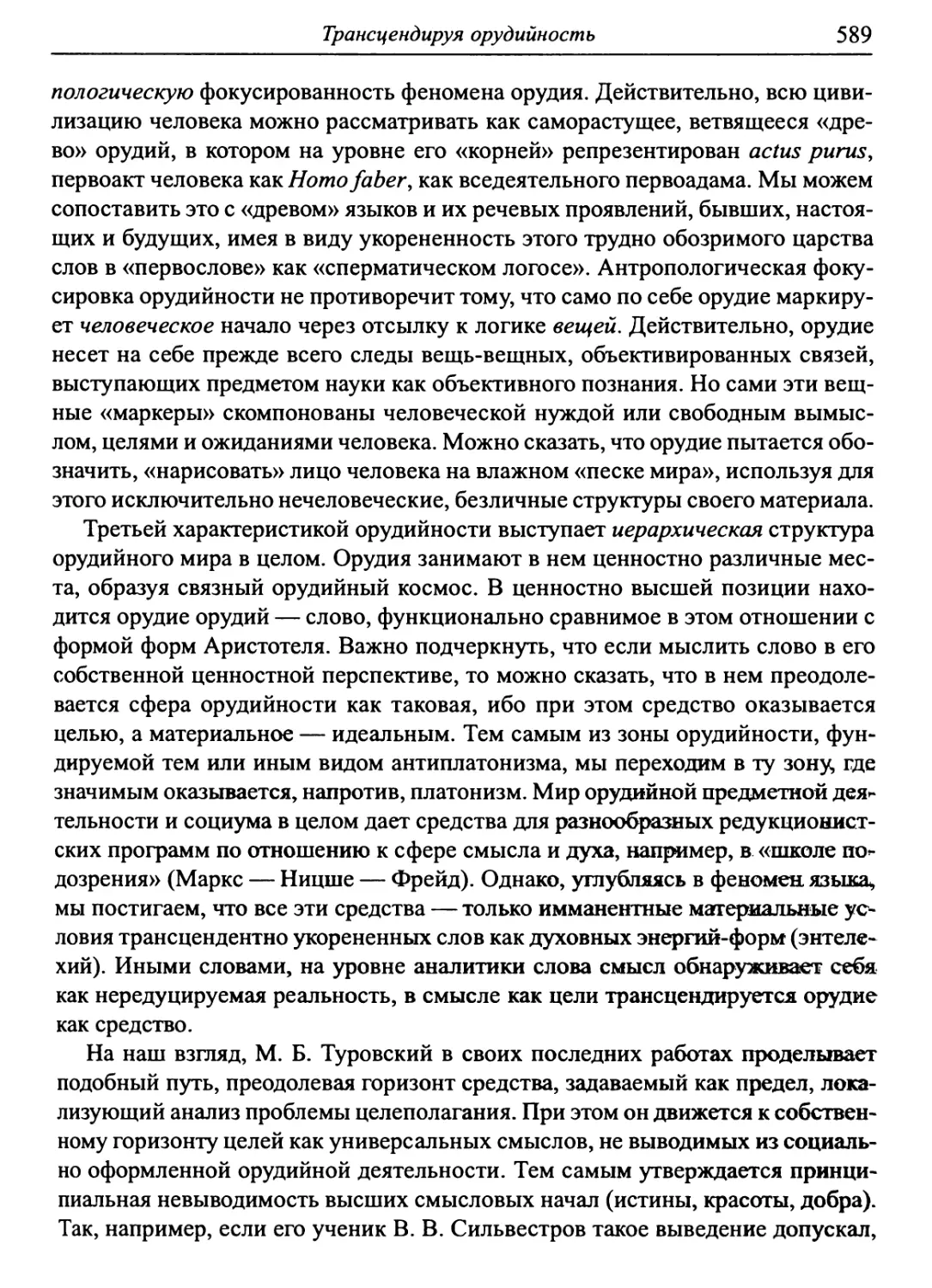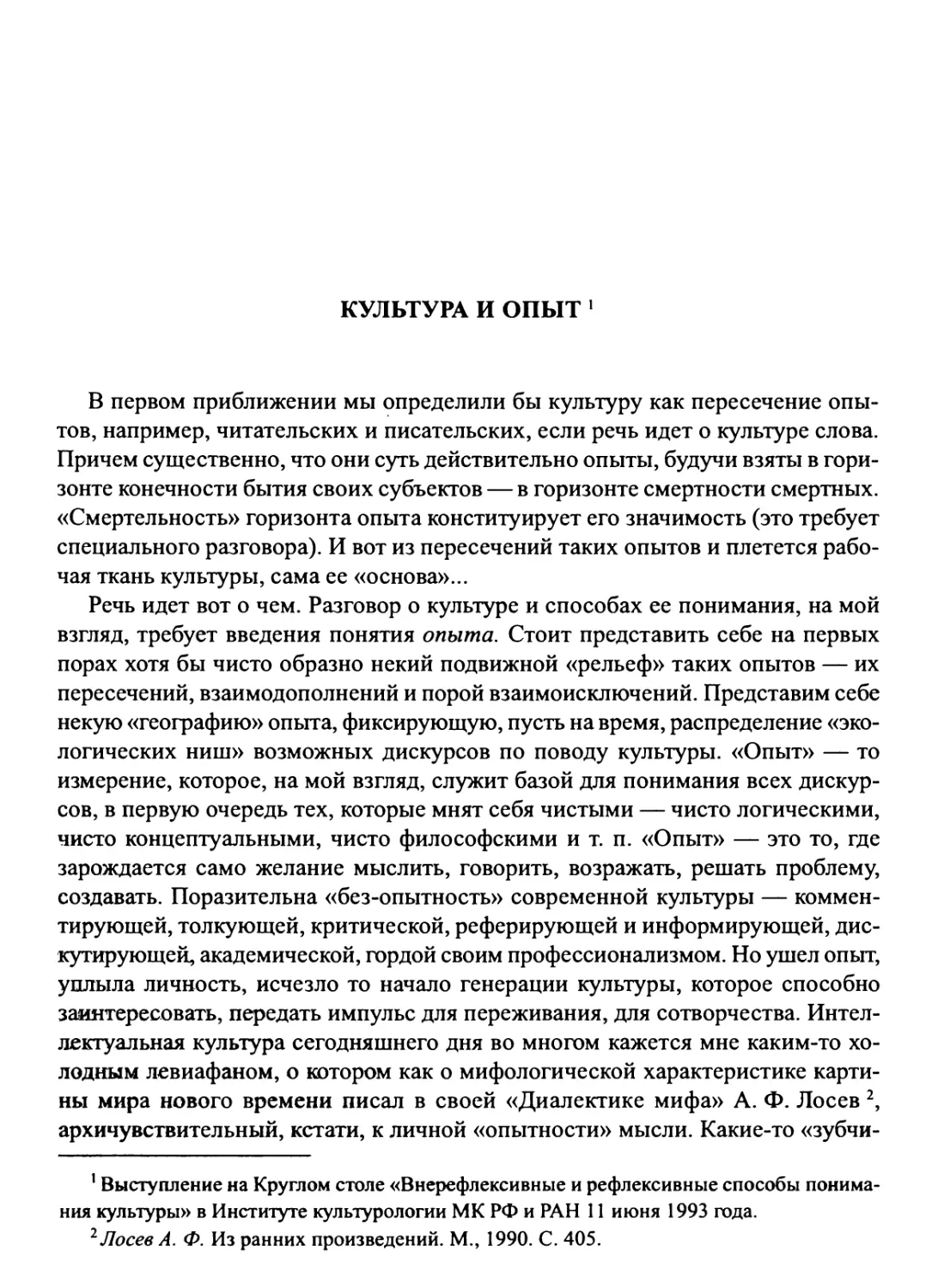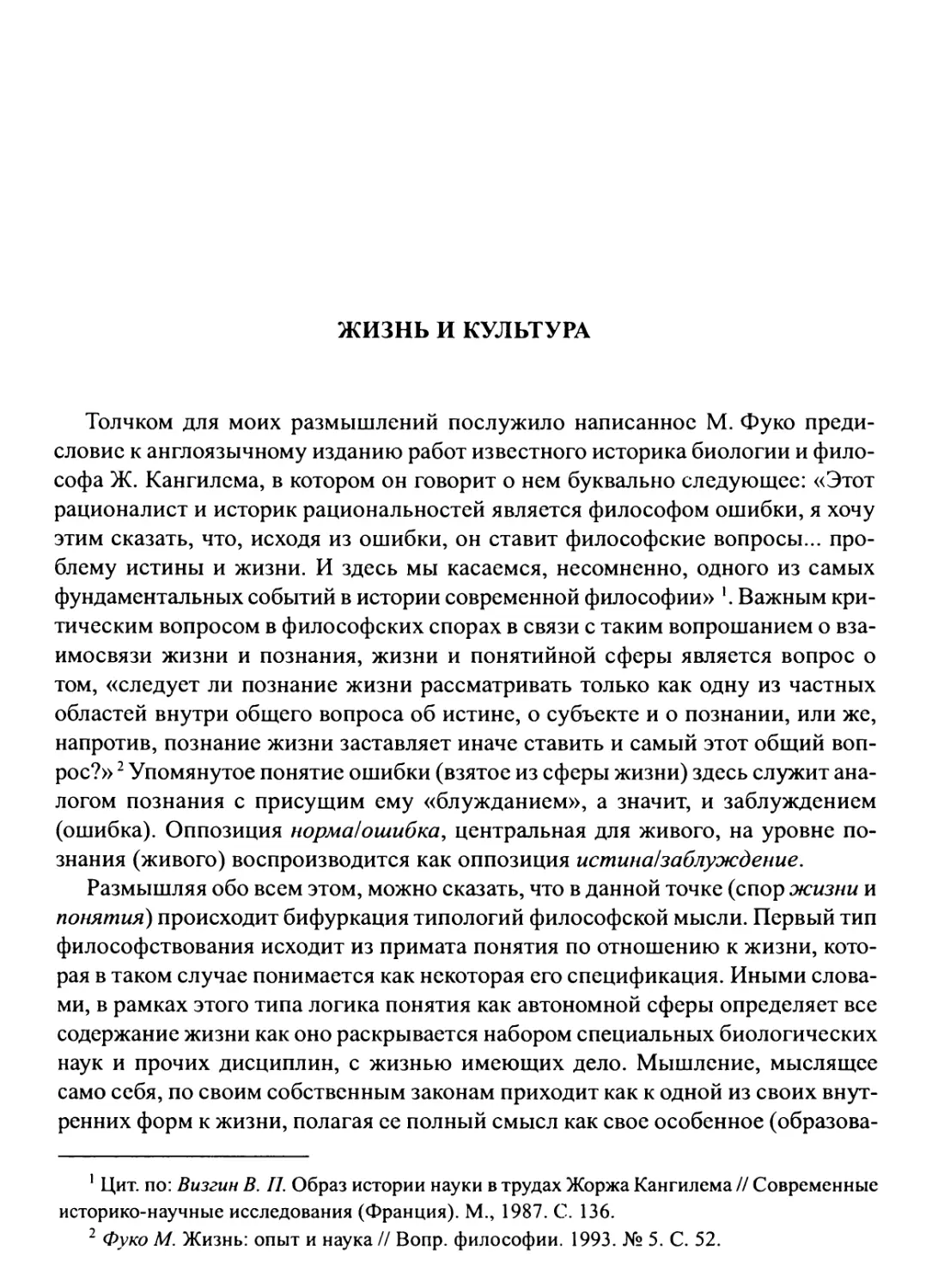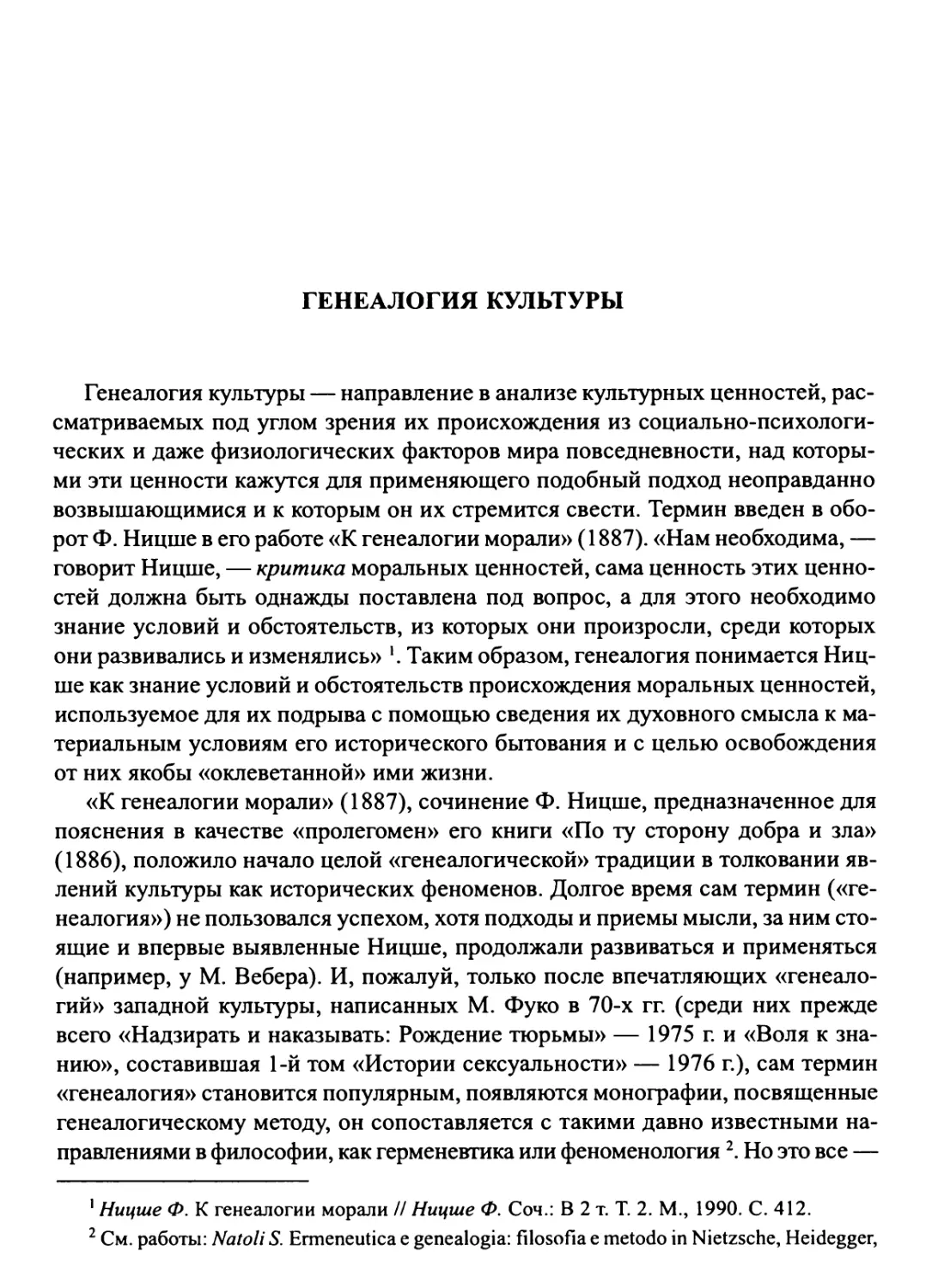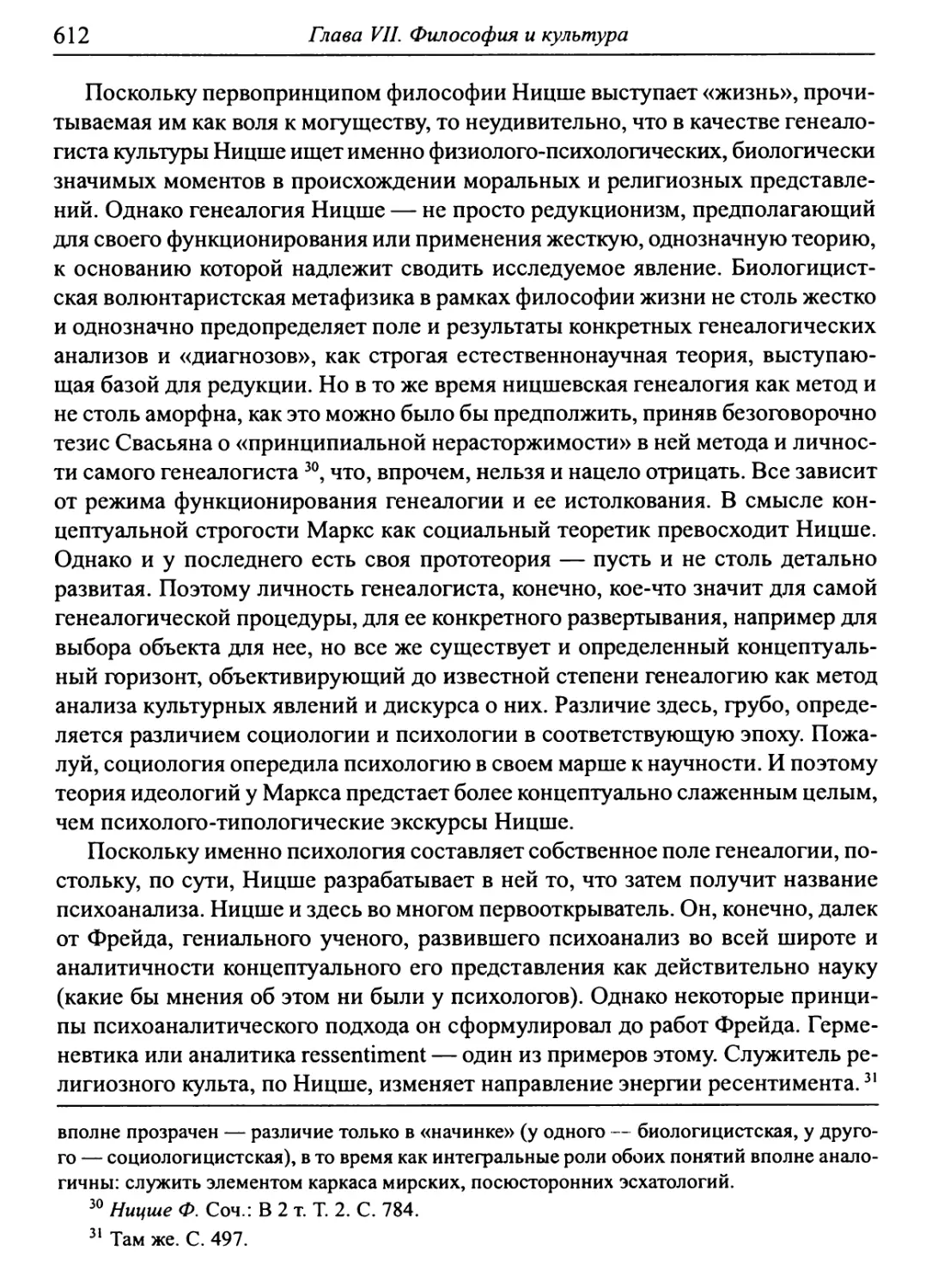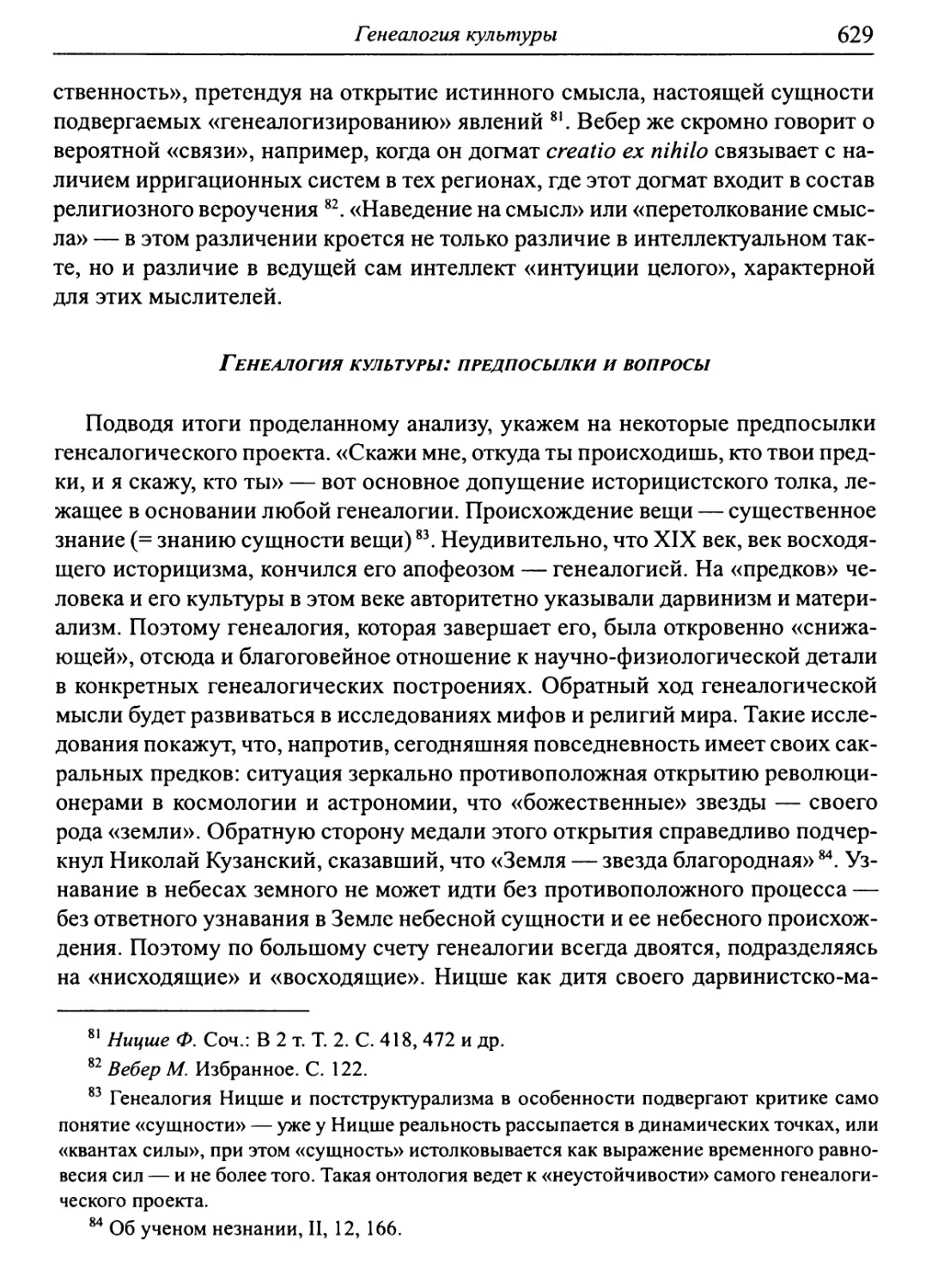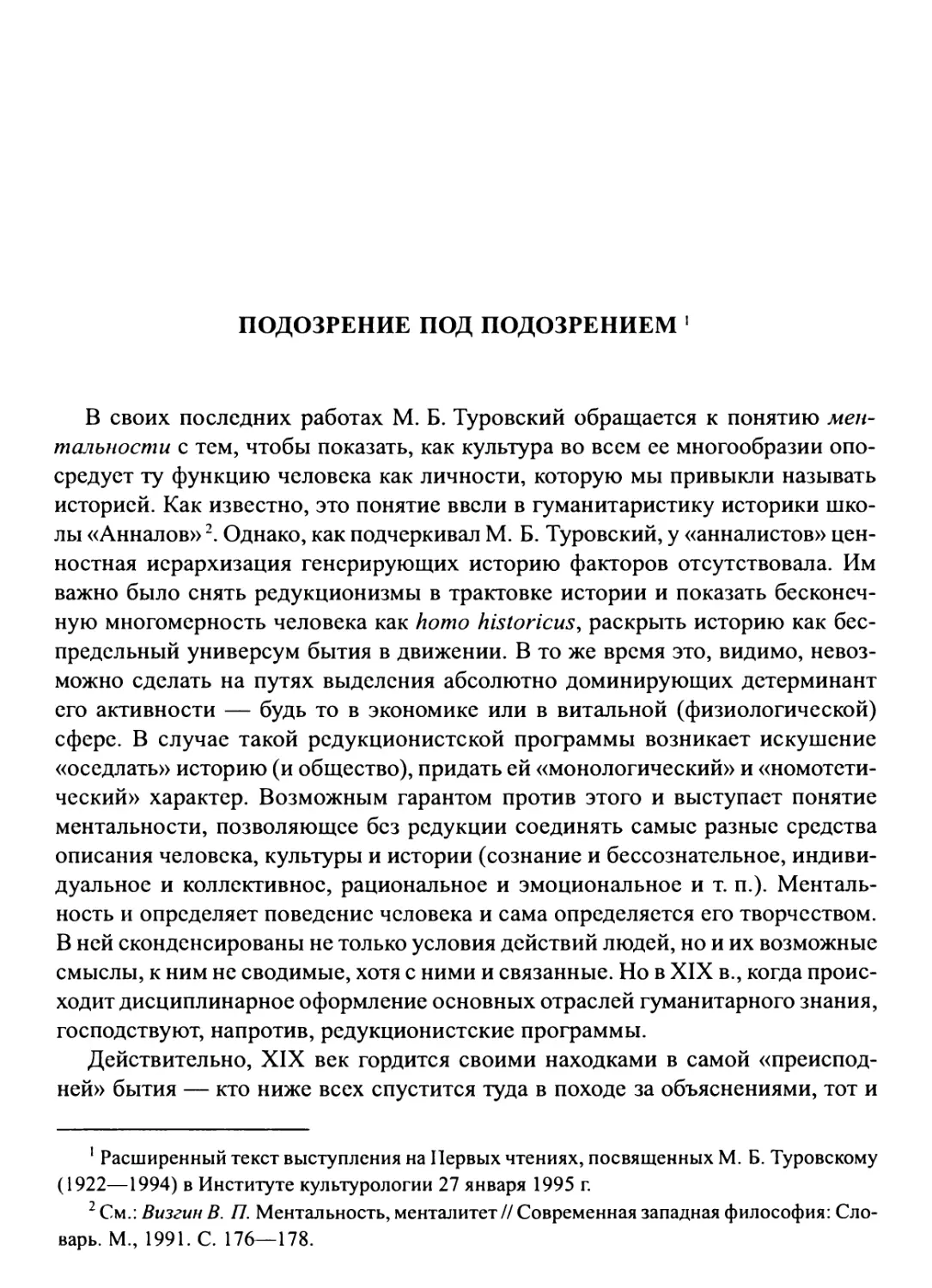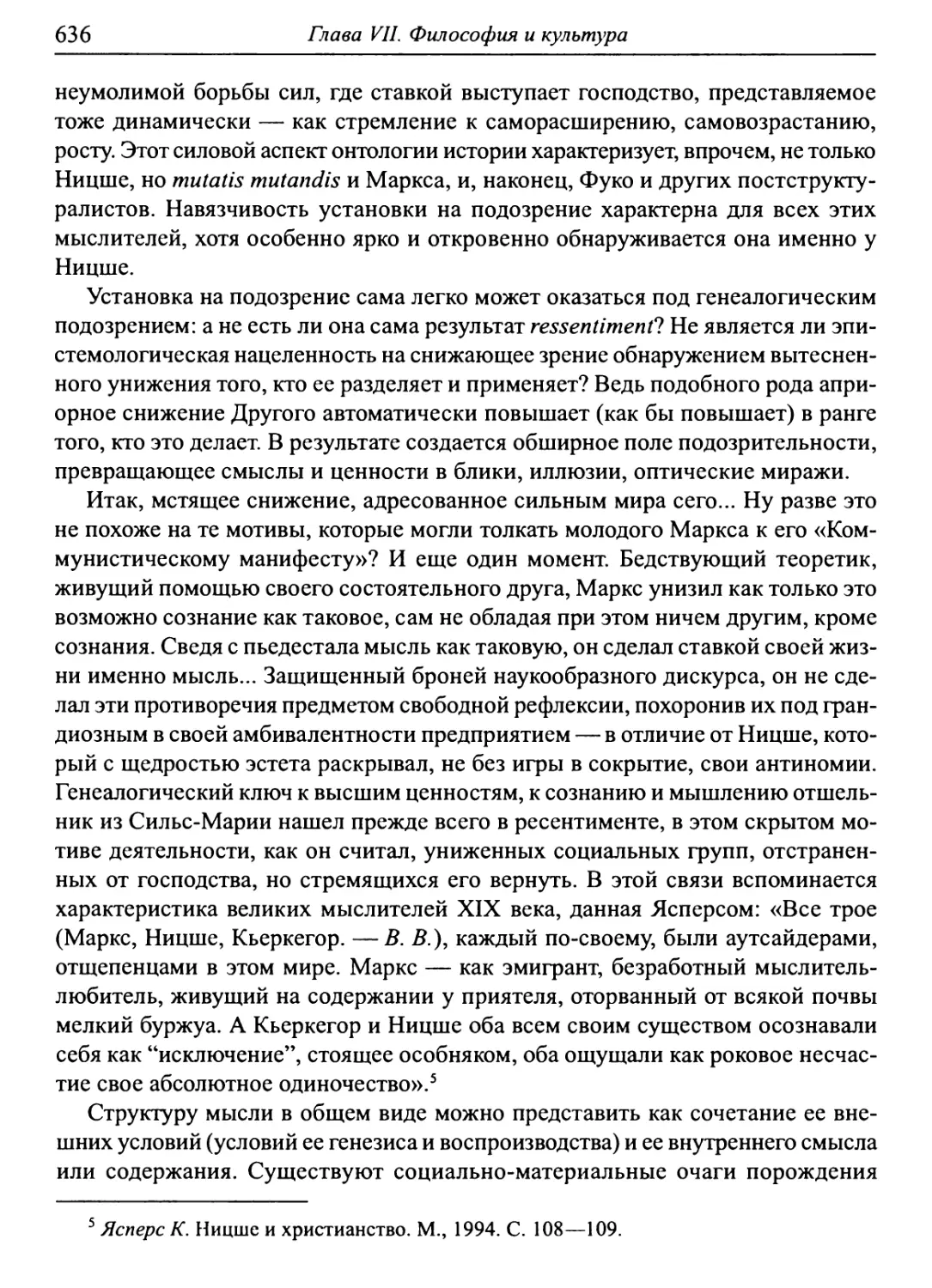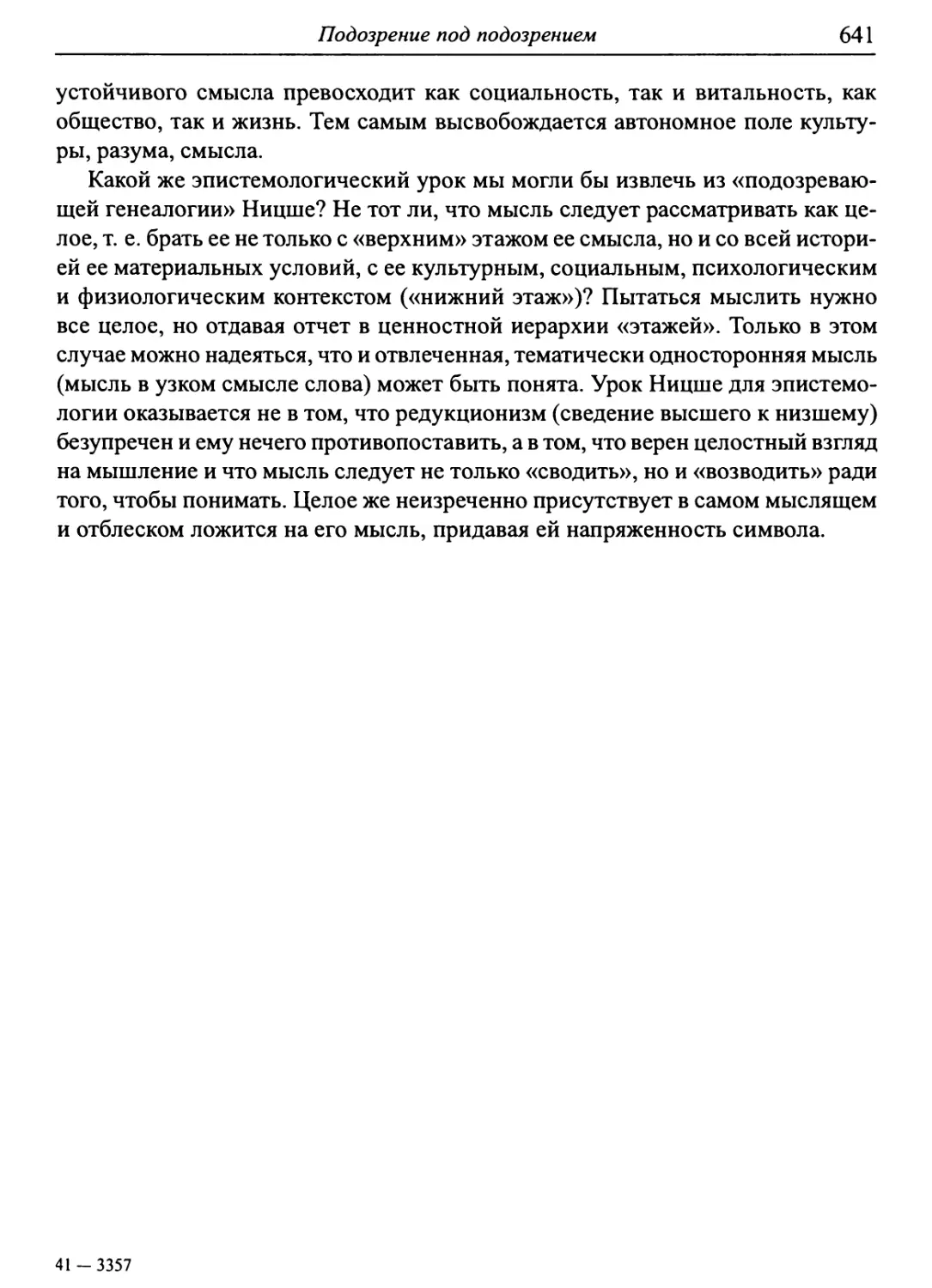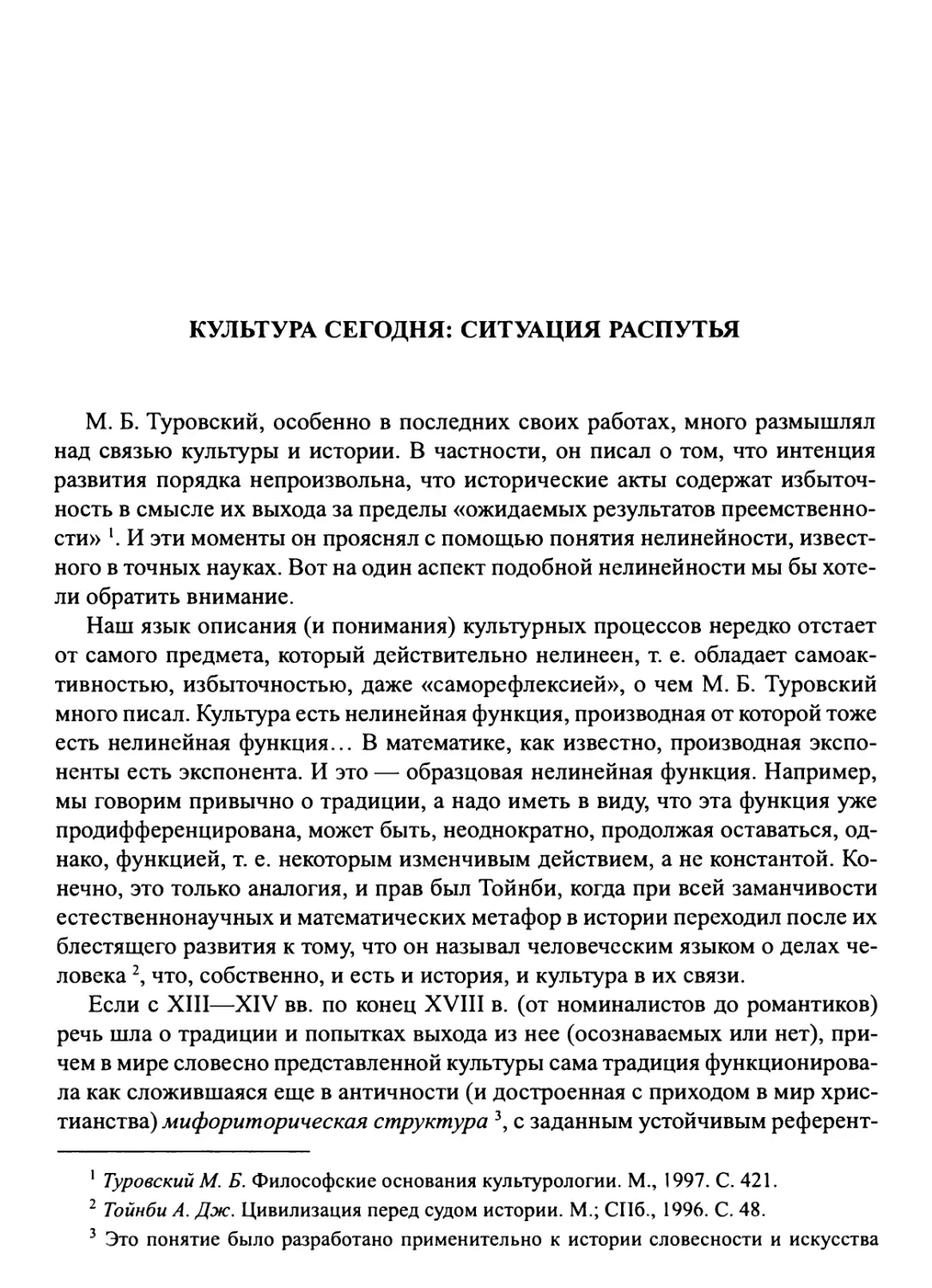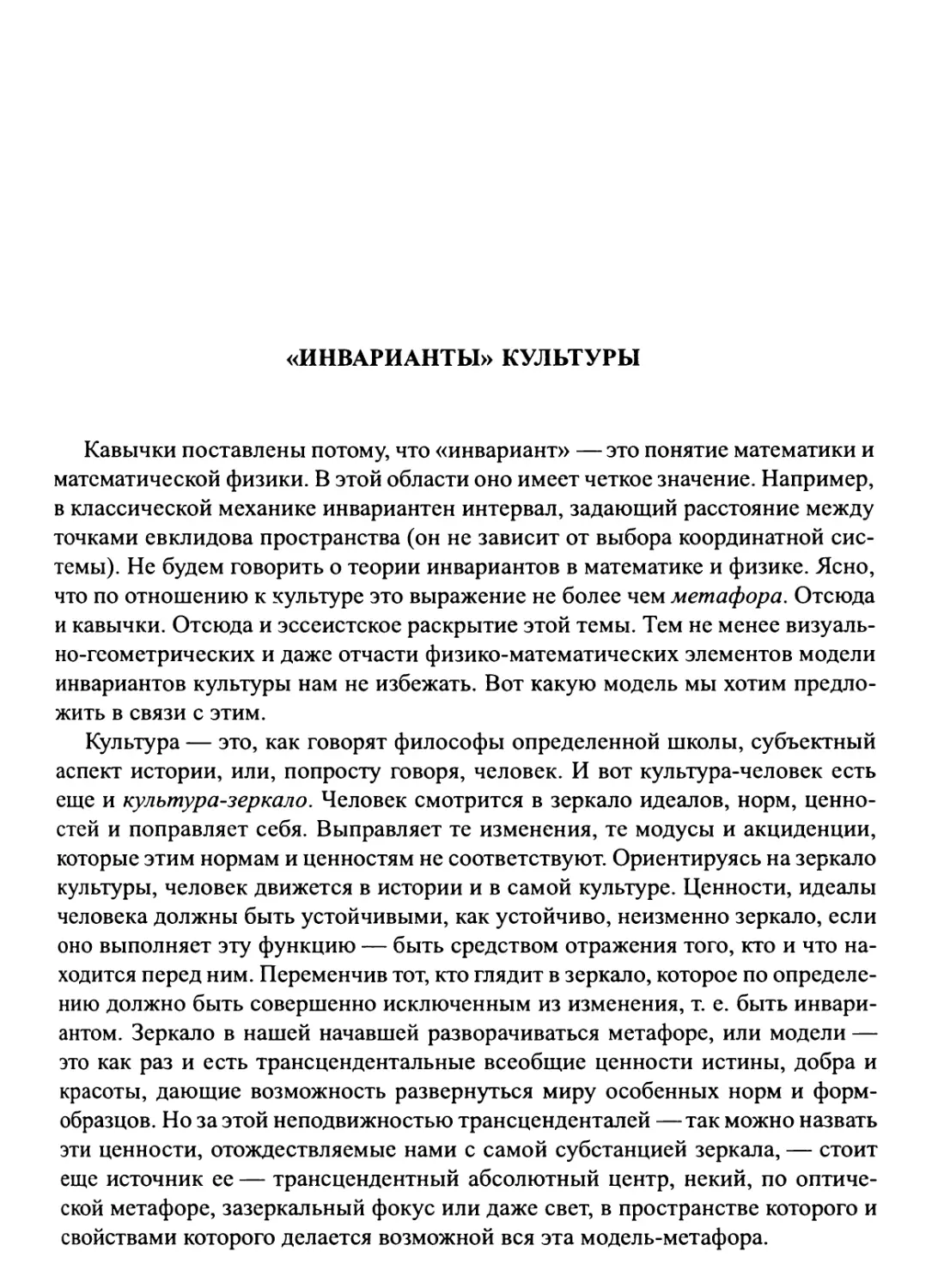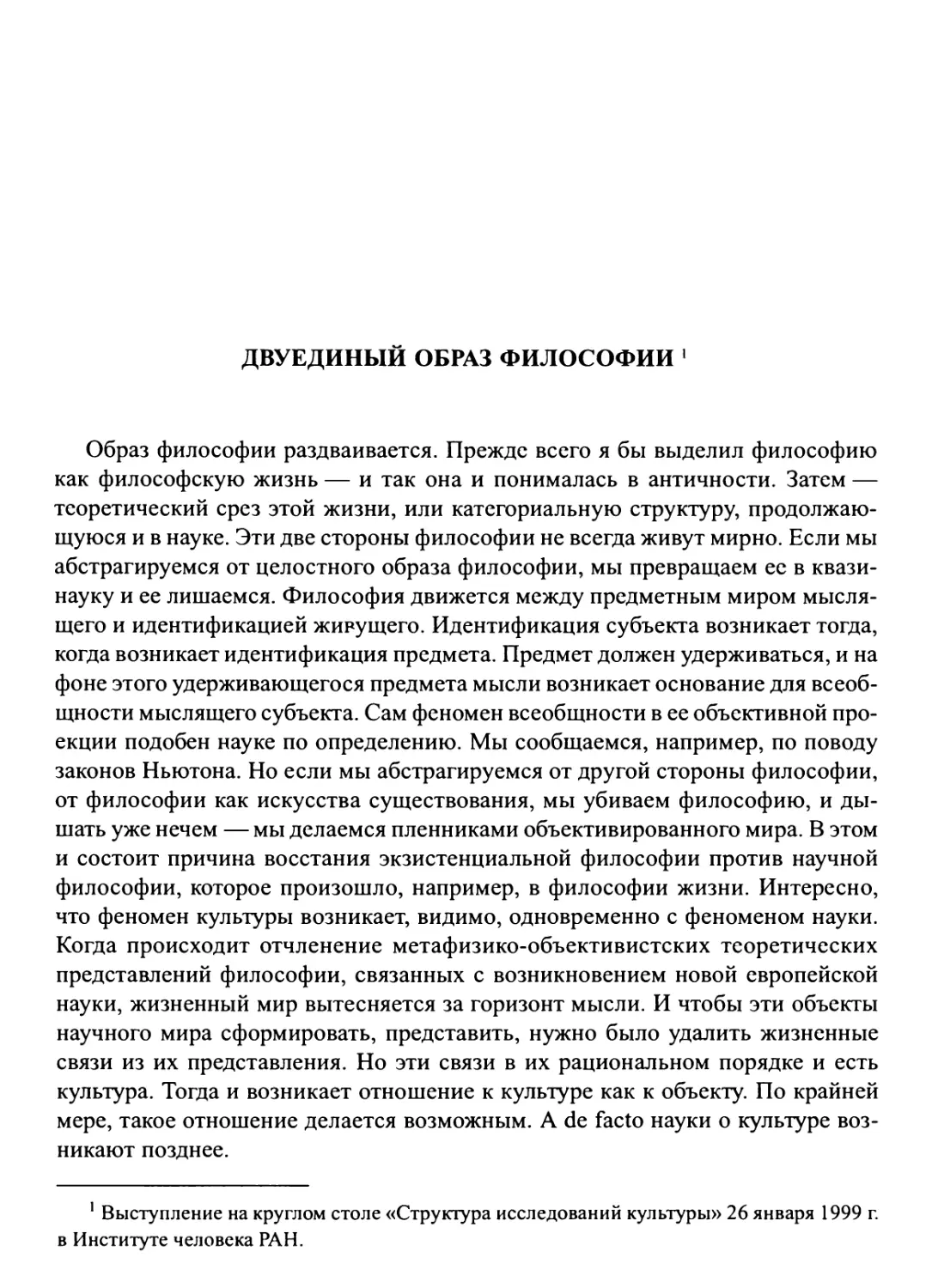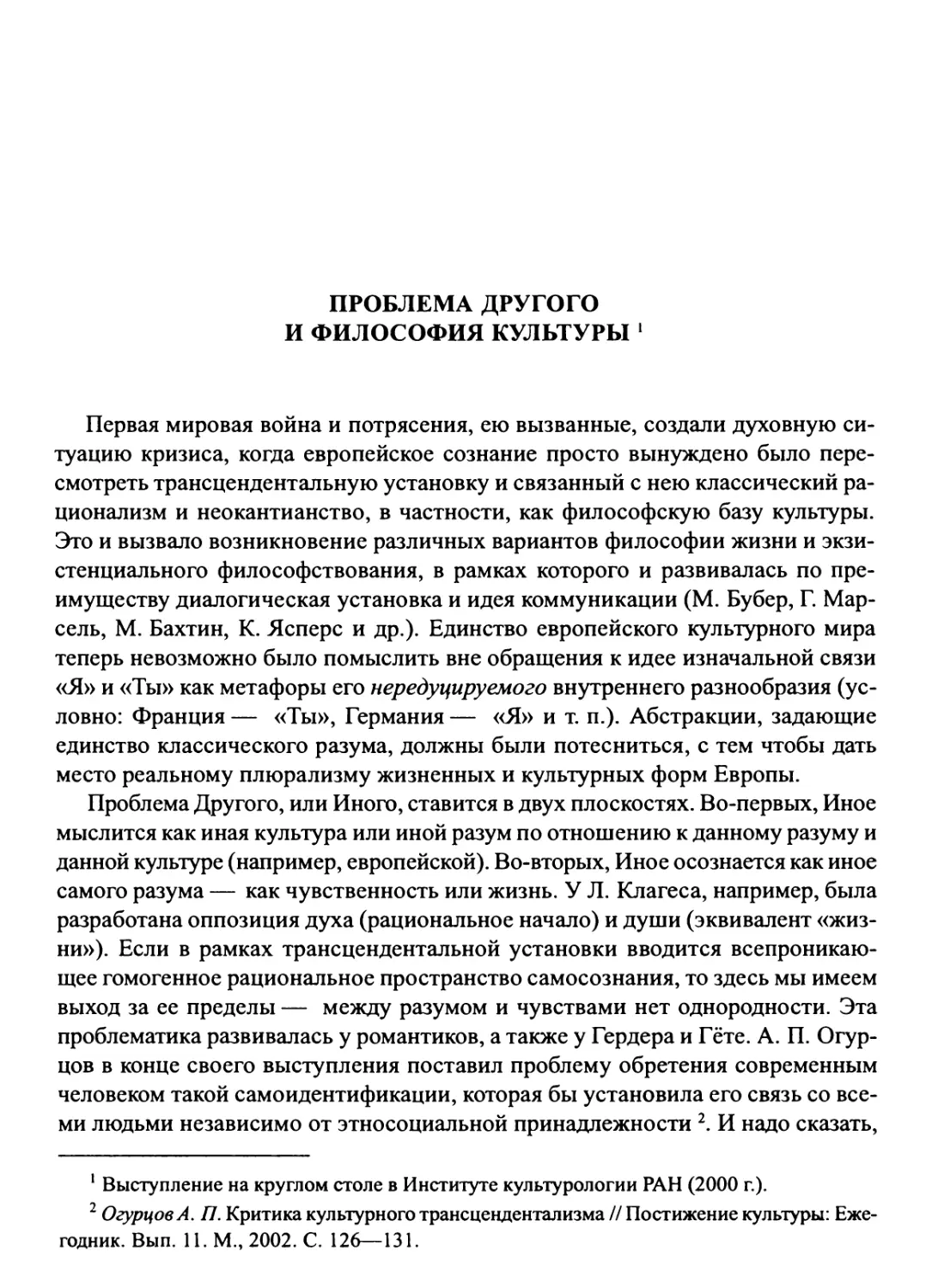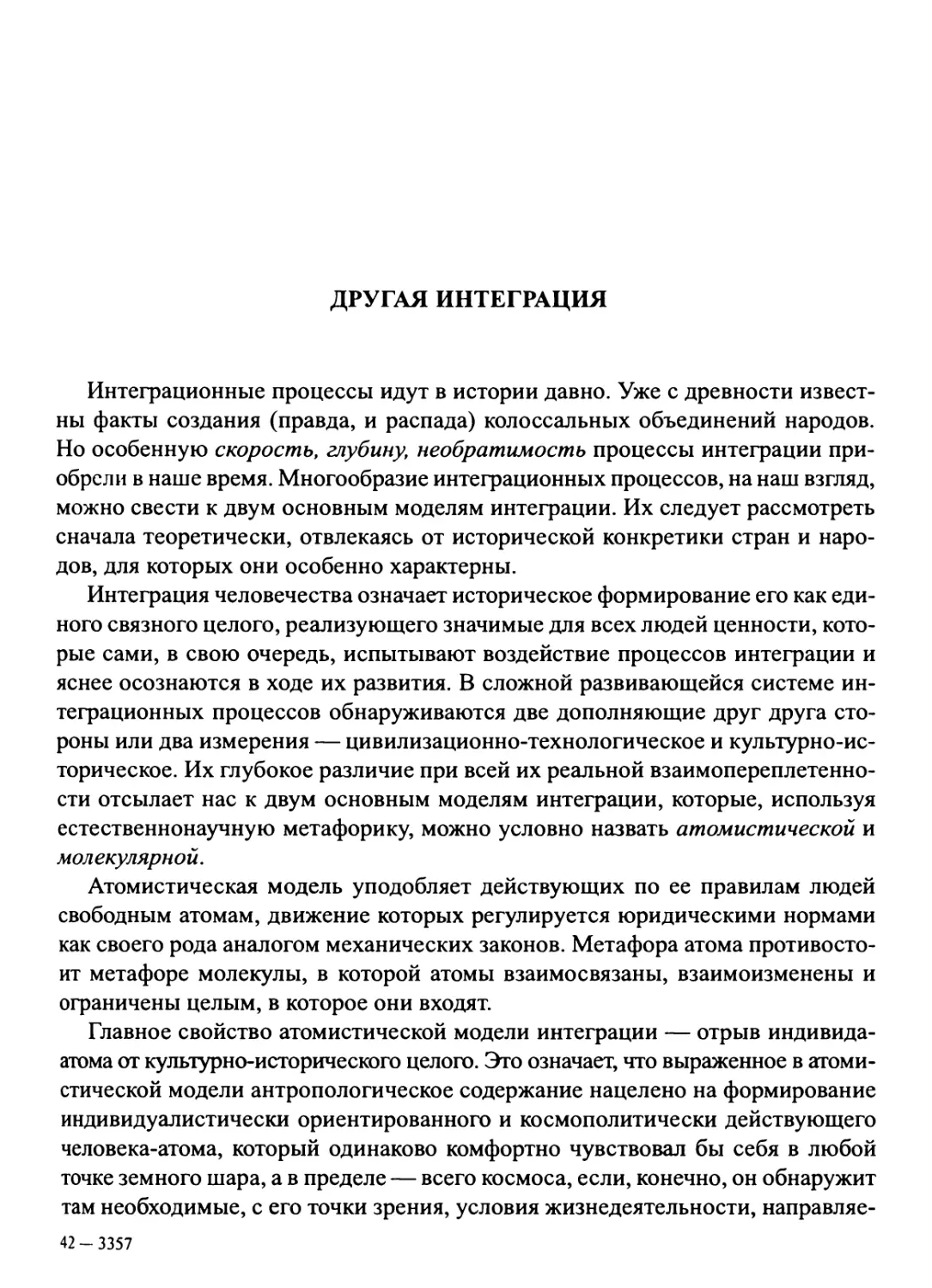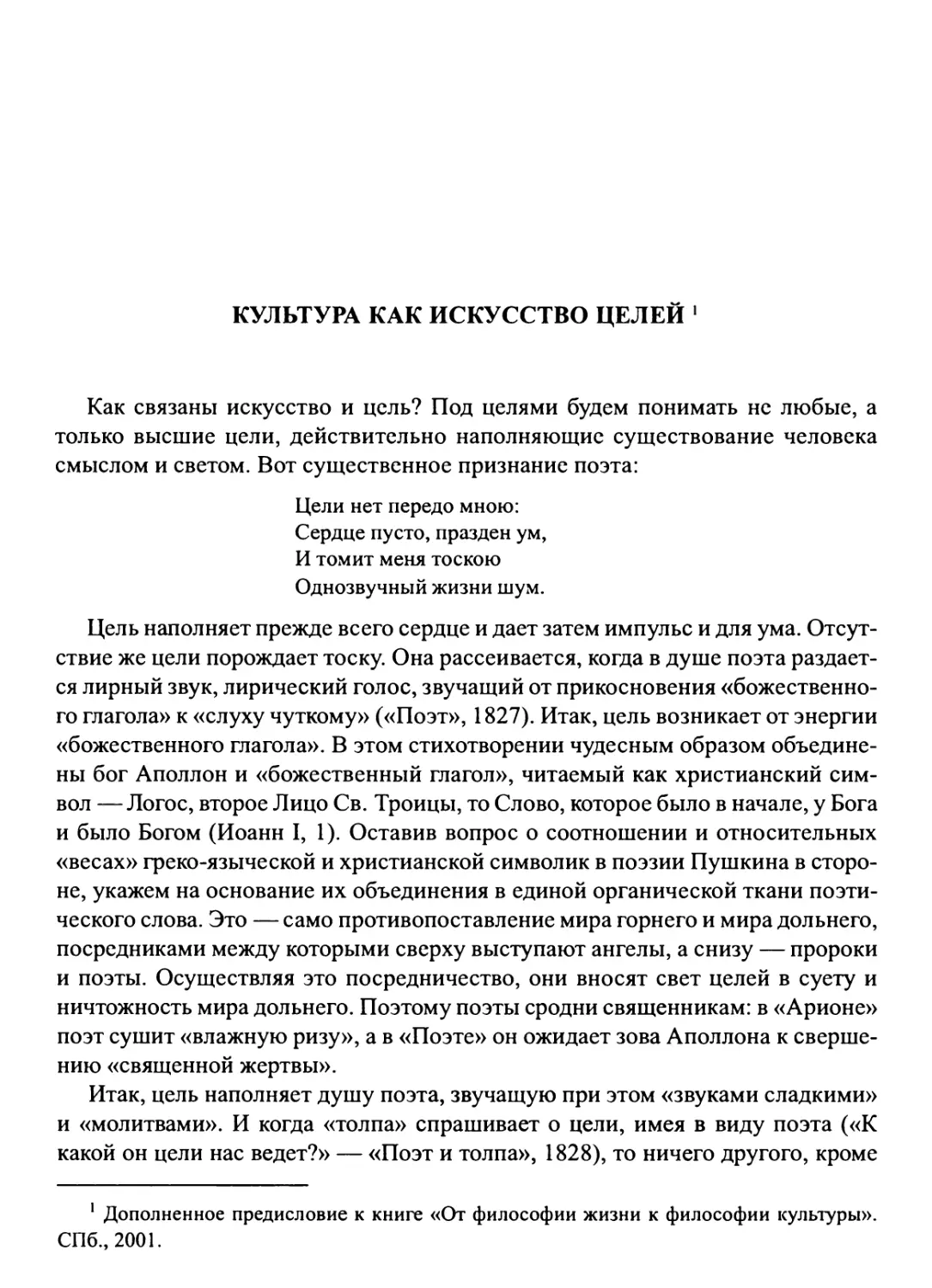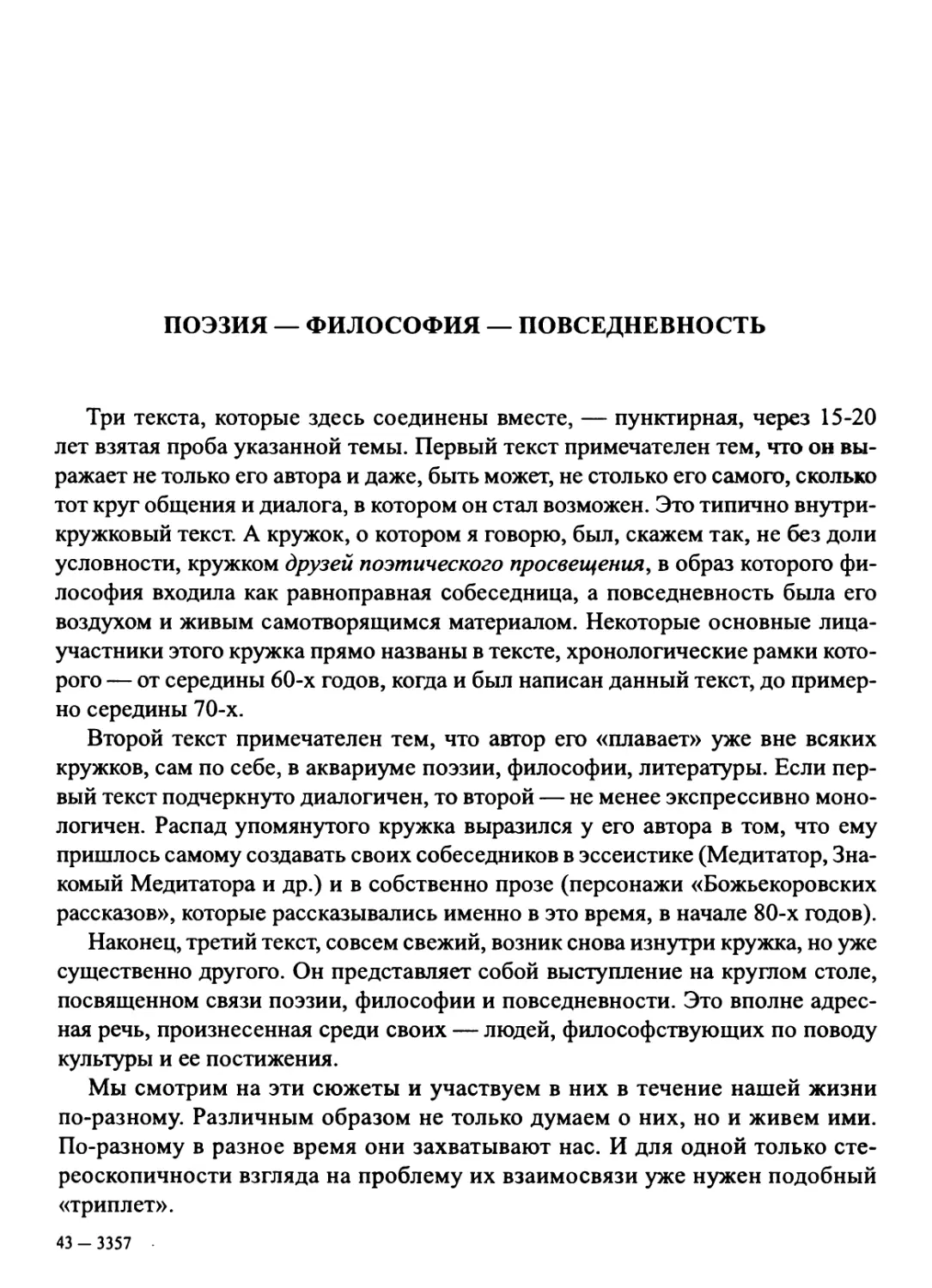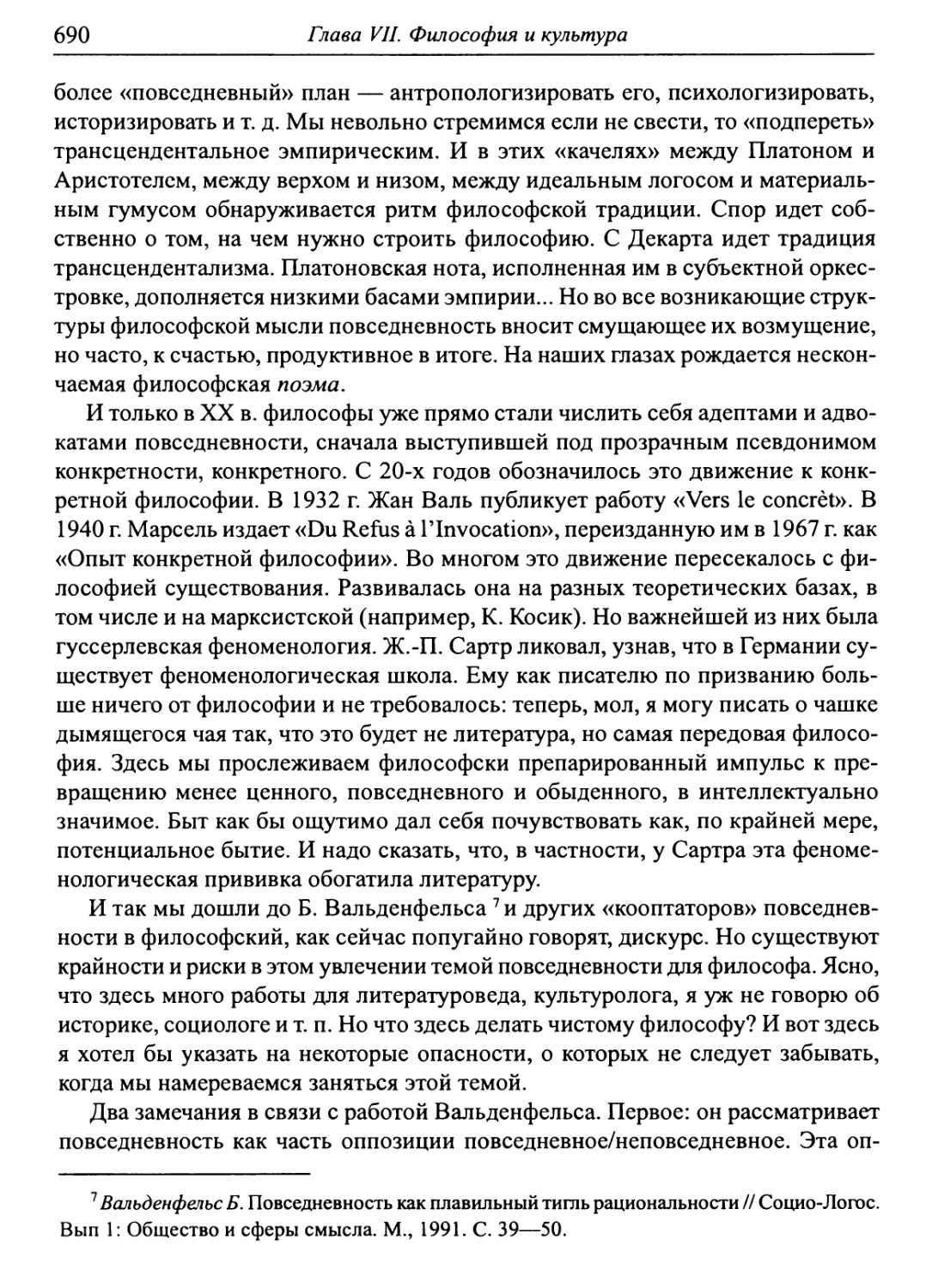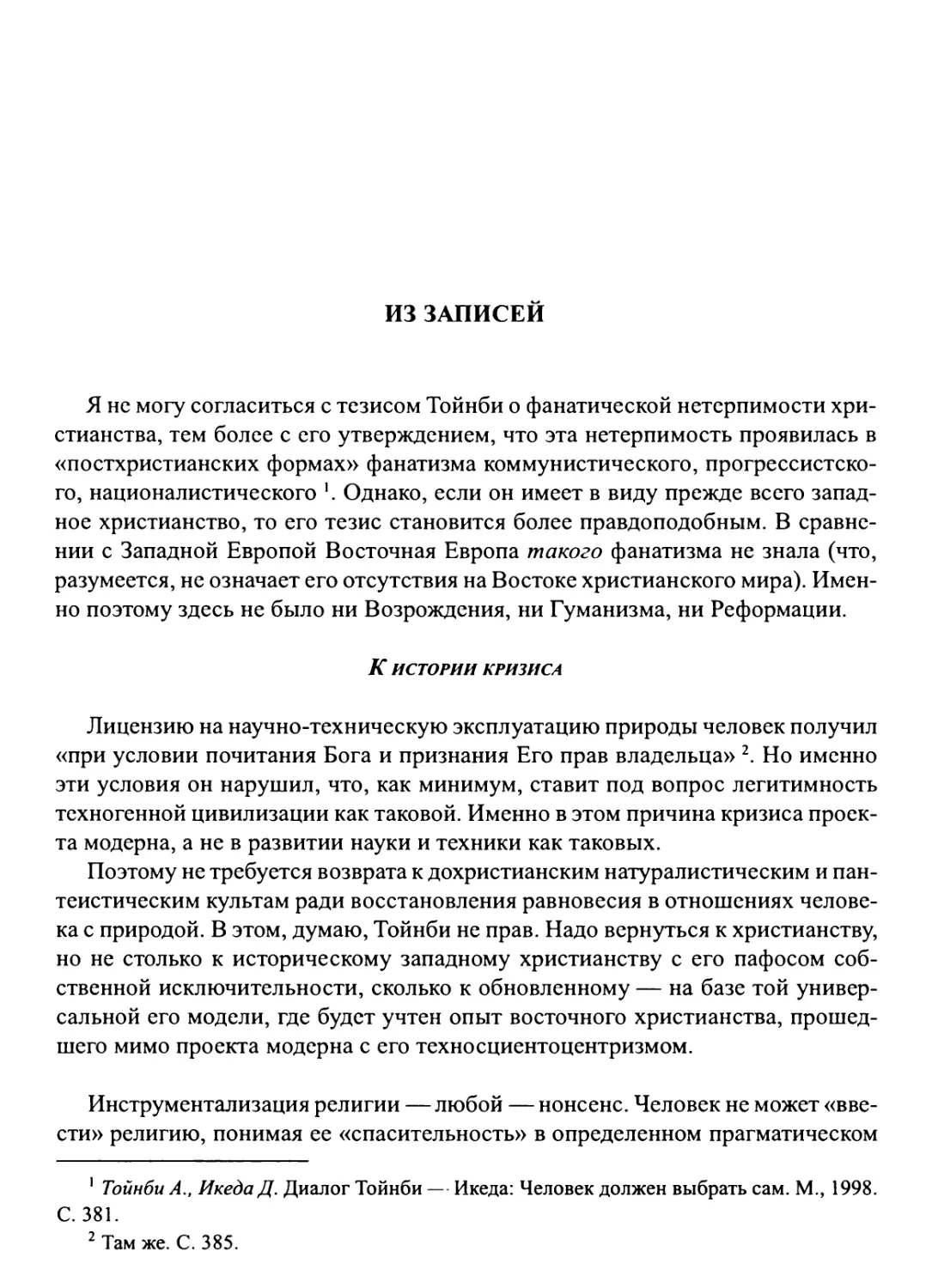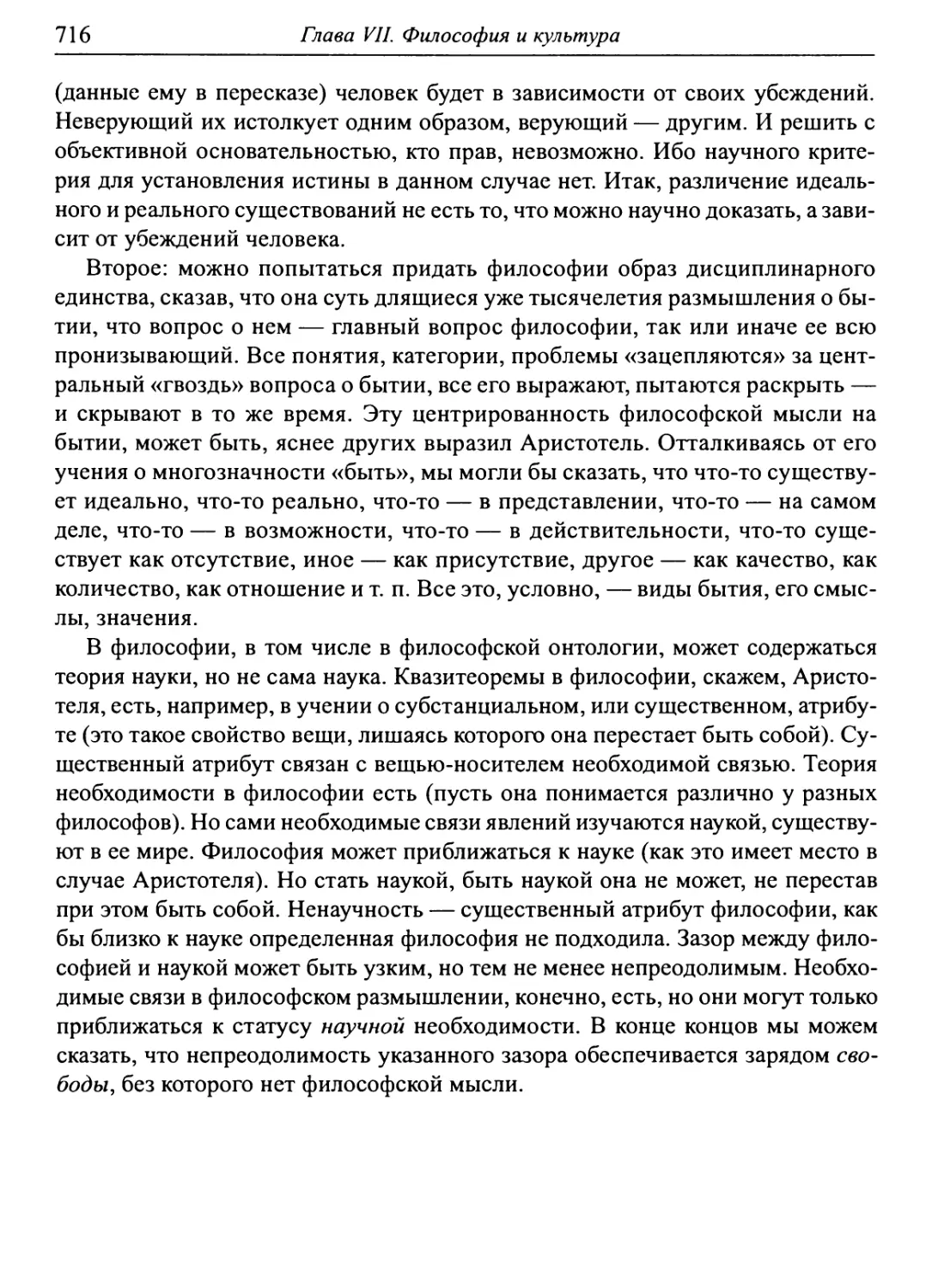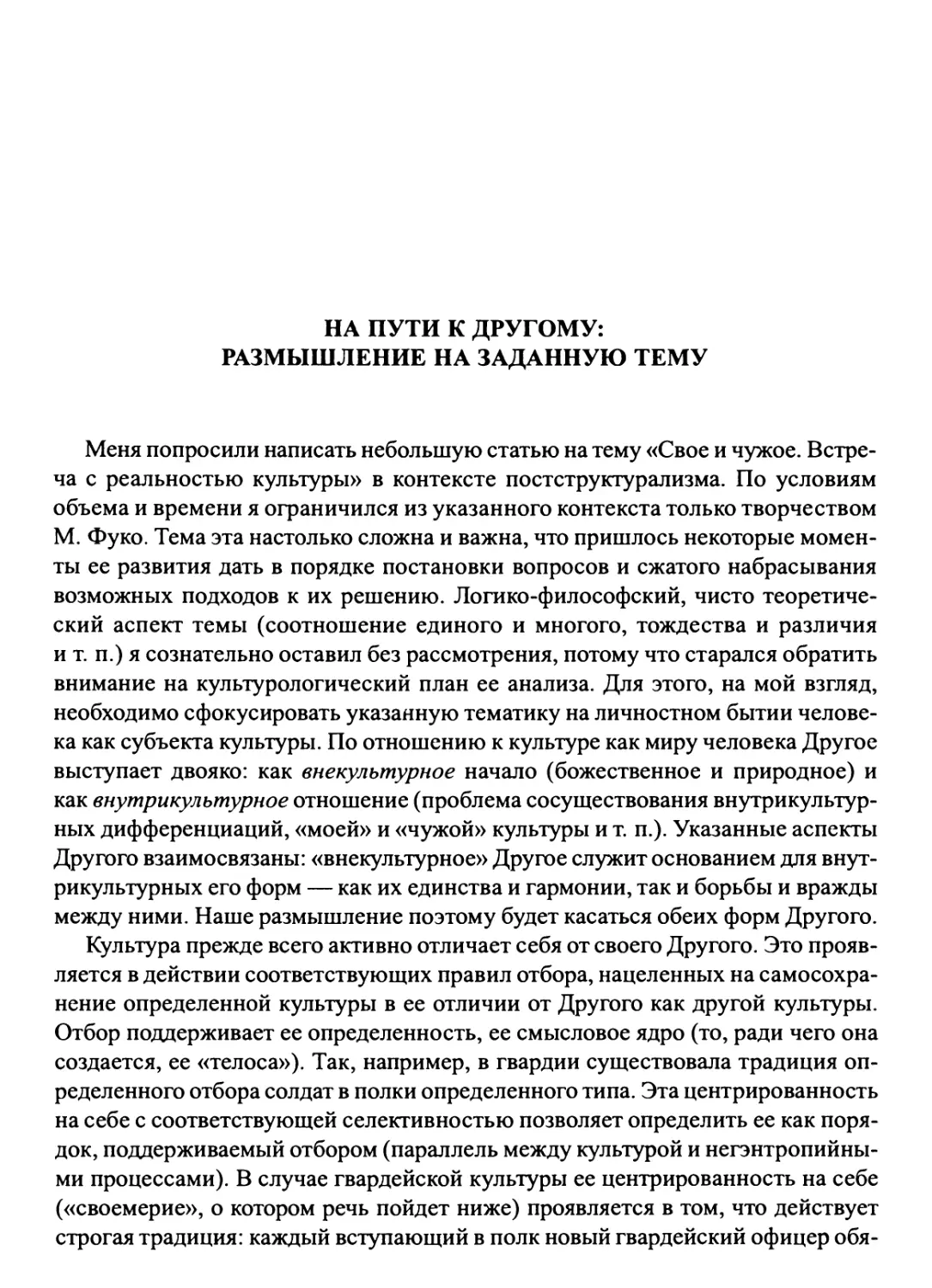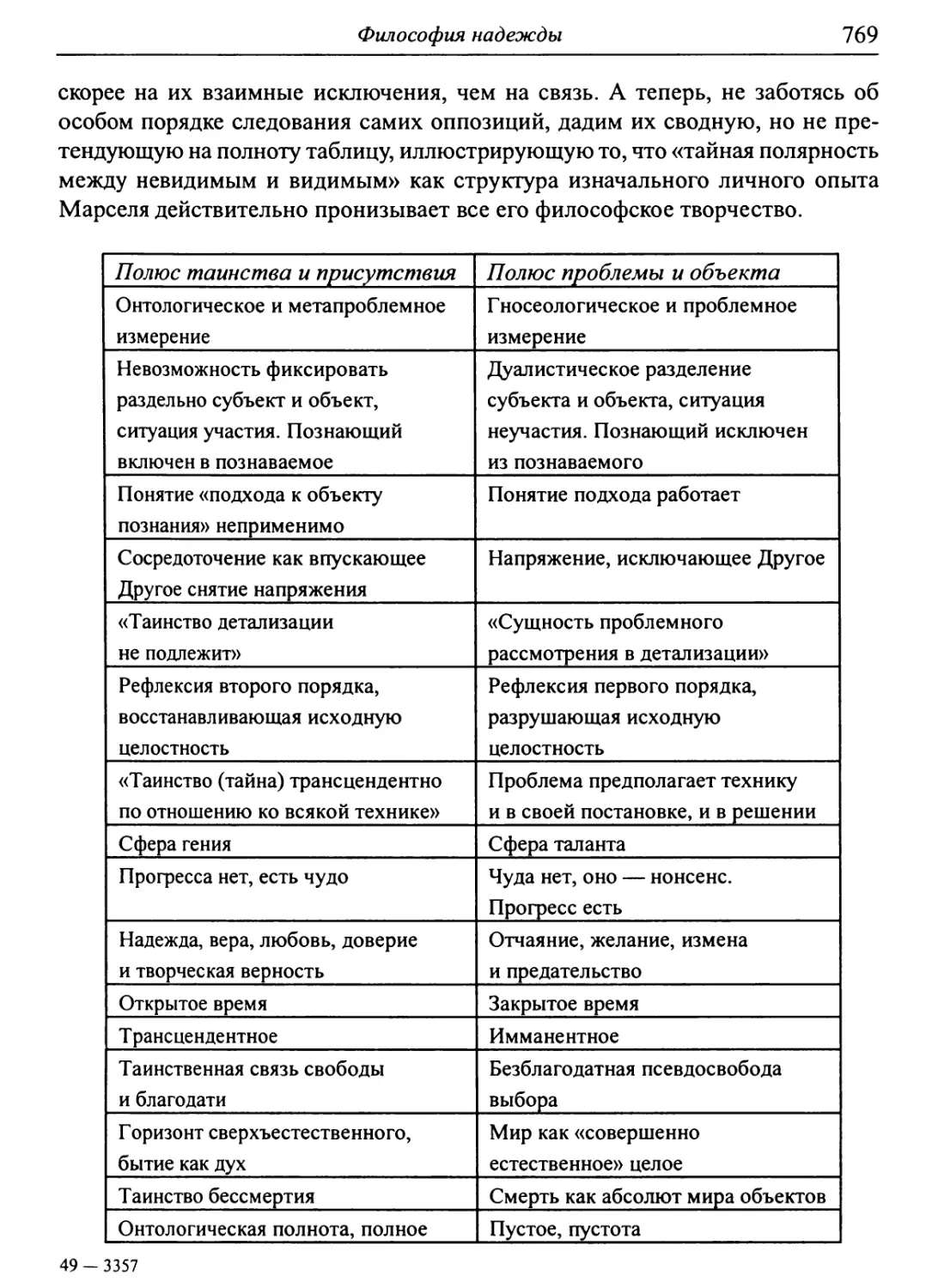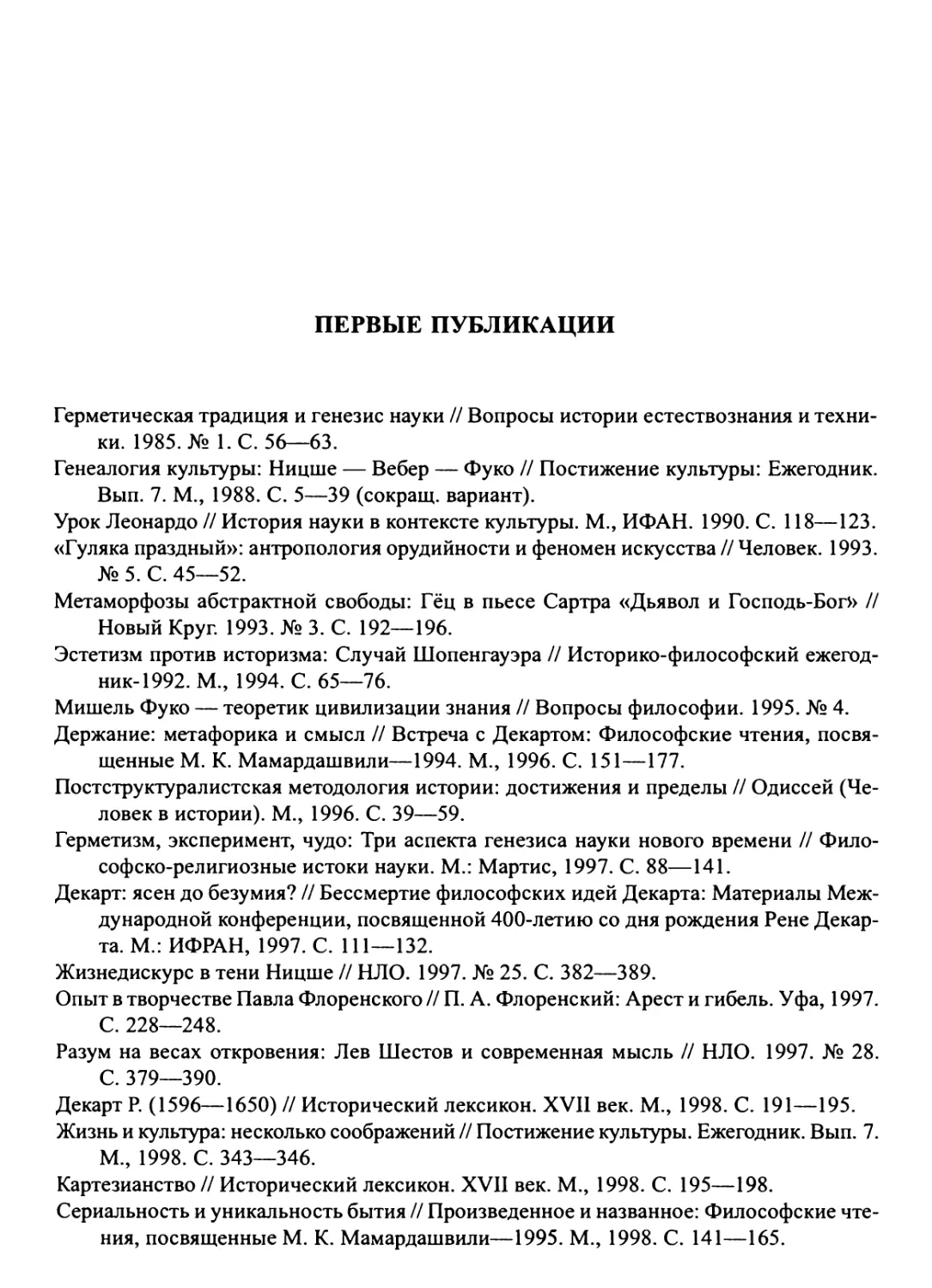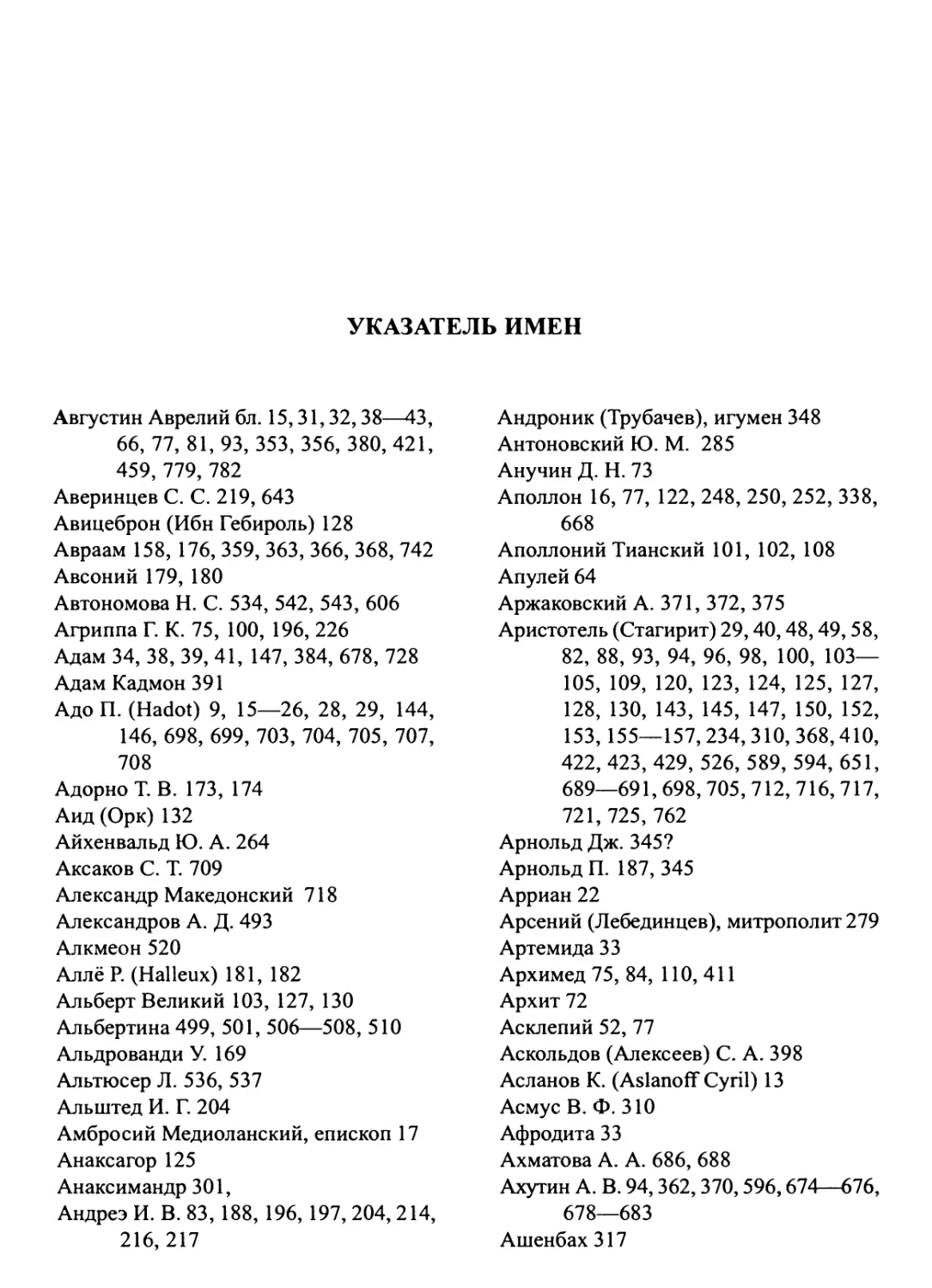Автор: Визгин В.П.
Теги: философские науки философия философия науки научный метод метафизика издательство языки славянской культуры
ISBN: 5-94457-142-Х
Год: 2004
Текст
в.п.визгин
уДИшЕ
НА ПУТИ К ДРУГОМУ
в. п.визгин
НА ПУТИ К ДРУГОМУ
ОТ ШКОЛЫ ПОДОЗРЕНИЯ
К ФИЛОСОФИИ ДОВЕРИЯ
/-^^
ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2004
ББК 87
В41
Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 02-03-16058
Визгин В. П.
В 41 На пути к другому: От школы подозрения к философии доверия. -
М.: Языки славянской культуры, 2004. - 800 с.
ISBN 5-94457-142-Х
Книга посвящена анализу связей философской и научной мысли с экзистен-
циальным опытом человека, взятом в его историко-культурном контексте. В ра-
боте показывается плодотворность понятий «духовная практика», «духовные уп-
ражнения» (П. Ало) для понимания не только философской мысли, но и науки.
Подробно анализируется проблема влияния герметизма на генезис науки Нового
времени. Другой фокус исследования - проблема поиска альтернативы «генеало-
гической» редукции культурных смыслов, онтологические и методологические
предпосылки которой проанализированы в философии жизни Ницше и пост-
структурализме Фуко. Главный тезис автора состоит в том, что философские ус-
тановки «школы подозрения» (Рикер) при их относительной научной продуктив-
ности не позволяют показать, как возможна причастность человека к высшим по-
зитивным смыслам, и тем самым утвердить их нередуцируемость к низшим уров-
ням реальности.
ББК 87
В оформлении переплета использован фрагмент картины
Жерико «Плот "Медузы"» (1819).
Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 с/о M153, E-mail: ko-
shelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller OE*C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail:
slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.
Право на продажу этой книги за пределами России, кроме юдательства «Языки славянской культу-
ры», имеет только датская книготорговая фирма G>E*C GAD.
ISBN 5-94457-142-Х
9»785944"571 427
©ВизгинВ.11,2003
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 9
Глава I. Античные истоки 11
Эпистрофический порыв 11
На перекрестке двух культур 31
Глава II. От Возрождения к Новому времени 44
Урок Леонардо 44
Герметическая традиция и генезис науки 51
Герметизм, эксперимент, чудо 62
«Двойная звезда» Джордано Бруно 111
«Эзотерика» и наука 134
Глава III. Новое время и его проект 149
Декарт и его учение 149
Декарт: ясен до безумия? 160
Сон в ноябрьскую ночь 178
Проект модерна: возникновение и кризис 190
Глава IV. XIX столетие: философия жизни 229
Эстетизм против историзма: случай Шопенгауэра 229
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 243
Нигилизм 280
Жизнь как ценность: опыт Ницше 283
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня 307
Глава V. Серебряный век русской философии 342
Опыт в творчестве Павла Флоренского 342
Разум на весах откровения: Лев Шестов и современная мысль 359
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии 375
Ищущие Града 397
6 Содержание
Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму 407
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель: резонанс творческой мысли 407
Метаморфозы абстрактной свободы 446
Идеологии уходят, любовь остается 452
В зеркале фаларийского быка 465
Держание: метафорика и смысл 470
Сериальность и уникальность бытия 494
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания 516
Жизнедискурс «в тени» Ницше 534
«Генеалогический» проект Мишеля Фуко: онтологические основания. 544
Постструктуралистская методология истории: достижения и пределы .557
Глава VII. Философия и культура 576
Антропология орудийности и феномен искусства 576
Трансцендируя орудийность 588
Культура и опыт 592
Жизнь и культура 599
Генеалогия культуры 604
Подозрение под подозрением 634
Культура сегодня: ситуация распутья 642
Инварианты культуры 647
Двуединый образ философии *. 650
Проблема Другого и философия культуры 653
Другая интеграция 657
Культура как искусство целей 668
Поэзия — философия — повседневность 673
Из записей 694
На пути к Другому: размышление на заданную тему 748
Философия надежды (вместо заключения) 760
Первые публикации 781
Указатель имен 783
Посвящаю
моим ушедшим родителям
Павлу Александровичу Визгину
и Екатерине Михайловне Визгинои
ПРЕДИСЛОВИЕ
На пути к Другому... Имеется в виду прежде всего тот смысл понятия «дру-
гой», который на философском языке обозначается как трансцендентное, т. е.
недоступное для овладения с помощью наших разума и воли и тем самым в
принципе не могущее войти в круг подконтрольного нам мира. При этом воз-
можны различные интерпретации содержания трансцендентной реальности
Другого, но существенно то, что полноты, целостности бытия без соотноше-
ния с Другим достичь невозможно, что горизонт полагания высших позитив-
ных смыслов без него нельзя себе представить.
Исследование связей научной и философской мысли с экзистенциальным
опытом человека, взятом в его конкретном историко-культурном контексте,
скрепляет воедино работы, представленные в книге. Эти связи, по мысли авто-
ра, опосредуются различными культурными формообразованиями, которые во
многом совпадают с тем, что называют духовными практиками или «духовны-
ми упражнениями» (термин Пьера Адо). Вошедшие в книгу статьи, эссе и вы-
ступления связаны друг с другом тематически, стилистически, исследуемыми
в них персоналиями и т. д., что позволяет говорить не просто об авторском
сборнике самодостаточных, между собой не связанных ничем, кроме единого
авторства, работ, а о многоплановом, весьма свободном и разнообразном по
манере исполнения, но все же целенаправленном исследовании единой и, как
нам представляется, важной и актуальной темы, указанной в заглавии и подза-
головке книги.
Существенным концептуальным моментом книги является то, что в ней на-
мечена попытка не противопоставлять как абсолютно несоизмеримые фило-
софское мышление, базирующееся на научном способе освоения мира, и фи-
лософию, исходящую из осмысления духовного экзистенциального опыта и
опирающуюся скорее на искусство и религиозно-этическое сознание, чем на
науку. Автор считает, что между этими действительно далеко разошедшимися
направлениями философии нужно искать единство, прослеживая его корни в
глубинных пластах культуры. Поэтому, отдавая должное традиции ориентиро-
10
Предисловие
ванной на науку философии и, более того, признавая научные достижения, свя-
занные с так называемыми философиями «школы подозрения» (термин П. Ри-
кёра ', куда он включал Маркса, Ницше, Фрейда), и одновременно разделяя
некоторые установки экзистенциальной философии, автор не склонен акцен-
тировать полную противоположность и взаимную несовместимость указанных
направлений, понимая, однако, что такое противопоставление и даже взаим-
ное отчуждение отнюдь не случайны и выражают напряженную духовную борь-
бу, скрывающуюся за поверхностью пестрого мирового театра современности.
Главный же тезис автора состоит в том, что философии подозрения при всей их
относительной научной продуктивности не могут показать, как возможна при-
частность человека к высшим позитивным смыслам и утвердить их нередуци-
руемость к низшим срезам реальности и что для этого требуется другая уста-
новка философского сознания, обозначенная нами как установка доверия 2.
Автор стремился к ясному и по возможности нескучному изложению нелег-
кой темы. В книгу вошли как неопубликованные, так и опубликованные, но
дополненные и заново отредактированные работы.
Автор хотел бы выразить свою признательность и благодарность тем, с кем
он многие годы плодотворно общался и кто так или иначе повлиял на его работы,
вошедшие в данную книгу, а именно ныне покойным Б. С. Грязнову, Г. С. Бати-
щеву, М. К. Мамардашвили, В. С. Библеру, Ал. В. Михайлову. Особенную при-
знательность автор выражает заведующему Сектором философских проблем
истории науки ИФРАН чл.-корр. РАН П. П. Гайденко. Хочу поблагодарить за
поддержку и директора Института философии академика РАН В. С. Степина, а
также Н. В. Мотрошилову, И. К. Лисеева, О. К. Румянцева.
1 Рикёр П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М, 1996. С. 181.
2 Доверие больше исследуется социологами, как, например, А. Селигменом, обнару-
жившим его кризис в современном западном обществе (см.: Селигмен А. Проблема дове-
рия. М.: 2002), чем философами, что, на наш взгляд, не соответствует онтологическому
«весу» этого феномена. Селигмен отвергает традицию Кьеркегора и Бубера, сближающую
религиозную веру и доверие, и принимает позицию Юма, в соответствии с которой дове-
рие рассматривается «просто как хитрое изобретение общества» (Указ. соч. С. 18). Нам
же, напротив, традиция Кьеркегора, Бубера, Марселя представляется плодотворной для
разработки философии доверия.
Глава I
АНТИЧНЫЕ ИСТОКИ
ЭПИСТРОФИЧЕСКИЙ ПОРЫВ
Живи у истоков —
Жизнь слишком жестока
Жизнь смертная только тогда обретает свою осмысленность и полноту, когда
она осознает свою связь со Сверхжизнью. Возможности для этого можно пред-
ставлять себе различным образом. Например, человек служит делу, «мера»
которого не укладывается в возраст его земной жизни. Или пытается соотнести
свою конечную жизнь с бесконечным Разумом, который правит во Вселенной,
погружаясь для этого в философскую медитацию. Или пытается установить
связь своей смертной жизни с Жизнью вечной (названной выше Сверхжизнью),
исповедуя веру в Бога. Даже самая обычная забота о детях, не слишком заду-
мывающаяся о религии или метафизике большого дела, служит тому, что боль-
ше ее земного носителя. Можно все такие и подобные им случаи представить
картиной жизни людей как множества магнитных диполей, некогда побывав-
ших в поле потенциалов вечности и оставшихся открытыми для его воздей-
ствия, но оказавшихся в «узком» для них пространстве здешней жизни. Люди-
диполи чувствуют свою намагниченность этим полем, они с различной степе-
нью ясности сознают, что проходящие сквозь них магнитные линии уходят за
горизонт здешнего бытия, преодолевают его, однако эмпирически они «наты-
каются» на явные пределы, налагаемые на такое конечное существо, каким
является человек. И вот эта несоразмерность между намагниченностью объем-
лющим, пронизывающим все сущее бесконечным истоком и конечной размер-
ностью земного существования и ощущается людьми как тяга к вечному, к
смыслу... Возникающий в результате этого потенциал напряжения и есть в ко-
нечном счете «эпистрофический порыв» \ отклик на зов к истокам. Души мо-
«Эпикуреец Лукреций описывает то время, когда боги непосредственно являлись лю-
дям. Платоники восстанавливают главную цель занятий философией — уподобление боже-
ству. Гностики учат об отпадении душ от их духовного отечества и необходимости вер-
нуться к изначальной полноте — "плероме". Притча о блудном сыне становится символом
12
Глава I. Античные истоки
гут жить в подземелье или пещере без света, но это еще не значит, что для них
отрезаны все пути повернуться к небу и солнцу, которое, как они чувствуют,
сияет у них за спиной. Момент, когда у человека возникает потребность в таком
повороте, и называют началом «обращения». В истории людей всех культур
этот момент — самый серьезный и важный, и поэтому он с такой силой при-
влекает к себе исследовательскую мысль.
Книга «Возвращение, раскаяние и образование самости», выпущенная в свет
издательством «Врен» (составитель и отв. редактор — Анник Шарль-Саже,
проф. античной философии и руководитель Центра Фестюжьера)2, представ-
ляет собой сборник работ различных авторов, объединенных заявленной в наз-
вании тематикой. Филологи-гебраисты и антиковеды, а также историки рели-
гий и философии (сюда мы относим и философов) рассматривают проблему
обретения человеком своей религиозно-духовной и культурной идентичности,
анализируя такие «понятия», как «возвращение», «обращение», «раскаяние» и
«покаяние». По сути дела речь идет о соотношении духовных практик, фикси-
руемых этими «понятиями» (кавычки здесь стоят для того, чтобы подчеркнуть,
что строгими понятиями указанные выше «смыслы» назвать вряд ли можно
хотя бы в силу отсутствия общепринятых теоретических систем, в которые
они включались бы), и выражающего их дискурса. Кроме того, соотношение
духовной практики и выражающего ее языка исследуется здесь в историче-
ской динамике. Центром всего замысла книги является изучение формирова-
ния самости, или «Я», на базе определенным образом структурированных ду-
ховных практик. Понятно, что сюда же относится и вопрос об их «стыковке» и
взаимодействии, об осмыслении их внутри (и вне) соответствующих тради-
ций. Поликультурная тематика по предмету и междисциплинарный подход по
методологии — таковы общие параметры этой коллективной монографии.
Особо подчеркнем, что в замысел книги входит рассмотрение (конечно, очень
выборочное) внутренней связи и взаимодействия различных духовно-интел-
лектуальных практик в переломные моменты европейской культурной исто-
рии. Такими моментами выступает прежде всего период раннего христианства,
взаимодействующего с иудаистической, с одной стороны, и эллинистической
традициями — с другой, равно как и встреча этих традиций. Наконец, другим
временным «узлом» всей этой проблематики выступает современная эпоха,
практически всех духовных движений, но формы, в которых эта возвратная тенденция,
этот élan épistrophique проявляется — всякий раз разная» (Шичалин Ю. 4Етотрскрг|, или
феномен возвращения в первой европейской культуре. М., 1994. С. 97).
2 Retour, repentir et constitution de soi / Sous la direction de Annick Charles-Saget. P., 1998.
(Ссылки на сборник даются после цитат в круглых скобках. Данное эссе было задумано как
отклик на указанный сборник и поэтому содержит незначительный элемент рецензии.)
Эпистрофический порыв
13
XX век. Имена Г. Когена и Ф. Розенцвейга в работах М. Делоне и Б. Дюпюи
фиксируют его начало, а С. Хоружий, В. Бибихин, Д. Бурель и Ш. Тригано по-
казывают, как они видят продолжение базовых духовных традиций европей-
ской культуры в наши дни или как они сами в своем собственном опыте фило-
софствования связывают их с некоторыми современными течениями в фило-
софии и культуре.
Подобного рода исследования можно рассматривать как разработку расши-
ренной или интегральной философски ориентированной (мета)антропологии,
способной внести свой вклад в создание интеллектуальной основы для совре-
менных интегративных процессов в планетарном масштабе. Выбор подобной
антропологии как возможного основания для базового интеллектуального кон-
сенсуса разных культурных миров представляется нам вполне обоснованным.
Как практически, так и теоретически ясно, что попытки найти основания для
такого консенсуса, скажем, в рамках некой общей гипотетической теологии
более проблематичны. Антропологический общий знаменатель работ, состав-
ляющих данную книгу, вычитывается и в том, что ее завершает перевод первой
главы трактата Немезия Эмесского «О природе человека» 3.
Отметим только некоторые моменты, не ставя сознательно своей целью
критический разбор всех вошедших в данное издание работ. Иногда филосо-
фы, уже привыкшие к не только законной, но и необходимой оглядке на фи-
лологию и даже чрезмерно увлекающиеся этимологизированием, считают,
что историю понятия можно вычитать из простого факта перевода, скажем,
аристотелевской огкшх как essentia (сущность). Но, по утверждению К. Асла-
нова (Cyril Aslanoff), исследовавшего язык Септуагинты, «переход от одного
языка к другому меньше влиял на эволюцию понятий возвращения к Богу и
раскаяния, чем их внутренняя эволюция в лоне того же самого языка и тради-
ции» (С. 63).
Блюменталь рассматривает судьбу индивидуальной души в философии Пло-
тина. Как известно, проблема эта имеет два основных аспекта: во-первых,
зависимость судьбы человеческой души от ее экзистенциальных и познаватель-
ных усилий, направленных на соединение с первоистоком жизни и своего бы-
тия, и, во-вторых, существование души до и после ее земной жизни (предсуще-
ствование и реинкарнация). У Плотина второй аспект проблемы по степени
разработанности явно уступает первому. Возвратное, или эпистрофическое, дви-
жение души к первоистоку, или Единому, относится к «вневременной» ее судьбе.
Насколько глубоким может быть такой возврат? Доходит ли он только до уровня
Души мировой или до уровня Ума (No\iç)? Или же эпистрофический порыв
Этот трактат вместе с посвященным ему исследованием был недавно переиздан у нас:
Немезий Эмесский. О природе человека. М., 1998 (пер. Ф. С. Владимирского).
14
Глава I. Античные истоки
может вернуть душу прямо к Единому? Рассматривая эти возможности, Блю-
менталь подвергает сомнению тезис о том, что основной вклад в определение
судьбы души вносится ее «мистическим союзом» с Первоначалом.
Дж. Диллон исследует трудности, содержащиеся в неоплатонической тео-
рии исхождения/возвращения, предназначенной связать различные онтологи-
ческие уровни интеллигибельного мира. Основная трудность может быть сфор-
мулирована таким образом: поскольку исхождение есть вневременной процесс,
предполагающий, что исходящее содержится в том, из чего оно исходит,
постольку можно, видимо, считать, что при этом на самом деле ничего как бы
и не происходит. Действительно, понятие происхождения требует допущения
времени как пространства события, а раз речь идет о вневременном «процессе»,
то это условие как раз отсутствует. Для того чтобы прояснить ситуацию, автор
предлагает использовать в качестве модели теорию эмердженции, согласно
которой такие явления, как «жизнь» или «сознание», возникают «залпом» на
базе накопленной сложности в недрах уже существующей реальности.
Статья П. Обена посвящена анализу параллели между христианской Тро-
ицей и неоплатонической триадой. Ориген говорит о трех «ипостасях» хрис-
тианской теологии, а у Плотина в «Эннеадах» (V, 1 ) говорится «о трех изна-
чальных ипостасях». Нет ли тут какого-то влияния Оригена на Плотина? Ана-
лизируя этот сюжет, П. Обен приходит к следующим выводам. Во-первых,
плотиновская триада несимметрична по своей структуре, так как Единое иерар-
хически отделено от ее остальных членов, что подтверждается и грамматичес-
ким анализом соответствующих слов и выражений. Во-вторых, основной схе-
мой у Плотина выступает даже не триада сама по себе, а пара «исхождение —
возвращение» (лрообос — £7иатро(рг|, exitus — reditus). Его триада представля-
ет собой иерархию все менее и менее совершенных исхождений, которые, од-
нако, обращаются назад в созерцании своих истоков, так что порожденное, со-
зерцая порождающее его начало, возвращается к нему. Обен при этом считает,
что этот возврат к истокам есть одновременно и возврат к себе самому. Дей-
ствительно, обращение произведенного к производящему его началу есть его
поворот к себе самому, потому что «продуцирующее начало выступает внут-
ренним центром того, что оно производит, которое в свою очередь представля-
ет собой его, центра, периферическое распространение» (С. 104). И Обен до-
бавляет, что подобный ход мысли образует ту перспективу, «которая много позже
будет столь близкой сердцу мистиков Рейнской области» (Там же). Очевидно,
он имеет в виду Мейстера Экхарта, а также его учеников (И. Таулера и Г. Су-
зо), радикализировавших христианский неоплатонизм Псевдо-Дионисия Аре-
опагита.
Анализируя тринитарные споры и заключая, что христианская истина о
Троице располагается между еретическими крайностями савеллианства и ари-
Эпистрофический порыв
15
анства, Обен приходит к выводу, что «иерархия плотиновского типа, которая
могла бы подойти к арианству, совершенно исключается христианской теоло-
гией, несмотря на утверждение Бога-Отца как первоначала» (С. 106). И «поэ-
тому и схема "исхождение — возвращение" не занимает какого-то места в хри-
стианской Троице» (С. 110). Ведь от Бога-Отца исходит и к нему возвращается
единственно лишь сама божественная жизнь, но не ипостаси. Несмотря на это
неоплатонические схемы через Псевдо-Дионисия, Августина, Эуригену и дру-
гих глубоко вошли в христианскую традицию и стали характерной чертой тео-
логических компендиумов. И вплоть до наших дней, продолжает рассуждать
бывший профессор догматической теологии, обычная французская газета, опо-
вещая о чьей-либо кончине, употребляет такие выражения, как «возврат к Богу»
(С. 111). Однако пласт современной жизни с подобными клише и формами
кажется ученому теологу абсолютно «несерьезным». Видимо, «серьезность»
он привык связывать лишь со словами Петра Ломбардского или Фомы Аквин-
ского и других мэтров схоластики.
Данный эпизод, вроде бы совершенно мимоходного значения в научной ра-
боте теолога, заставляет подумать, на наш взгляд, о самых глубоких вещах во
всем этом сюжете, провоцируя такой вопрос: а не представлен ли в современ-
ной западной цивилизации эпистрофический порыв лишь как предмет науч-
ного изучения, как тема теоретического дискурса, но не как характеристика
образа или стиля жизни? Мы могли бы, казалось, дать положительный ответ
на этот вопрос, если бы не творчество М. Фуко и П. Адо, позволяющее преодо-
леть односторонность сциентистско-филологического схоластического отно-
шения к этому фундаментальному сюжету и тем самым дать более адекватное
его понимание.
Движение Фуко к истокам европейской культурной традиции, локализовав-
шееся на изучении философских школ эллинизма, направлялось не отвлечен-
ным теоретическим интересом, а потребностью обрести адекватные его соб-
ственному опыту «духовные практики» и «духовные упражнения» (термин Адо).
Античная философия, а вместе с ней и философия как таковая была осознана
Фуко как образ жизни или «искусство существования», как своеобразная тера-
пия. Такой поворот его исследовательского интереса от «археологии знания» и
«генеалогии власти-знания» к практикам «заботы о себе» был связан, на наш
взгляд, с трагическим личным опытом мыслителя. Катастрофические разломы
повседневности и вызывают захватывающий всего человека эпистрофический
порыв, который, будучи устремлен к обретению философии как целительной
системы духовных упражнений, вместе с тем способствует и развитию внутри
нее теоретического дискурса. Напротив, исследование дискурса как знания с
помощью, казалось бы, объективных научных критериев не приводит чело-
16
Глава L Античные истоки
века к его эффективному самоизменению, отвечающему на вызов повседнев-
ности.
Понятие «заботы о себе» (souci de soi) было введено Фуко в результате ана-
лиза эллинистических школ— стоицизма и эпикуреизма прежде всего (см.,
например, Письмо к Менекею. Диоген Лаэрт. X, 122—123; Марк Аврелий, III,
14; и др.). «Античная философия и христианская аскеза, — говорит Фуко, —
размещаются под одним и тем же знаком, а именно знаком заботы о себе» 4. В
указанном письме Эпикур говорит о философии, которой надо заниматься для
«душевного здоровья» всегда — ив молодости, и в старые годы. Эпикуреизм и
стоицизм хранят понимание философии как правильного образа жизни, кото-
рому учатся в кругу друзей и единомышленников под руководством опытного
наставника. Фуко подчеркивает, что принцип заботы о себе является определя-
ющим, что познавательный принцип, лаконично формулируемый девизом, на-
чертанным на храме Аполлона в Дельфах, — «познай самого себя» 5 — подчи-
нен ему. «Между Сократом и Григорием Нисским забота о себе, — замечает
Фуко, — конституирует не только принцип, но также и устойчивую практи-
ку» 6. Христианская забота о себе, по Фуко, самопротиворечива, ибо это забота
о самости в форме отказа от нее. И поэтому он говорит, что только с XVI в.
возрождается настоящая забота о себе, когда начинается решительная критика
христианского аскетизма.
Другой вывод, общий для Фуко и Адо, о чем мы еще скажем ниже, состоит
в том, что приход христианства серьезно ослабил духовно-практическое изме-
рение, типичное для традиции философских эллинистических школ, оставив
философии лишь сферу теоретического дискурса. Рост значения теоретиче-
ской познавательной установки в постэллинской культуре Фуко связывает с
отвержением самости в христианской аскетической морали. «В греко-римской
античности, — говорит Фуко, — забота о себе конституирует познание себя,
в современном же мире, напротив, познание себя образует фундаментальный
принцип» 7. Иными словами, при переходе от античного мира к христианству
4 Foucault M. Dits et écrits. 1954—1988. Vol. 4. P., 1994. P. 787. См. также: Foucault M.
Histoire de la sexualité. Vol. 3: Le souci de soi. P., 1984. В этой работе Фуко описывает то, что
он называет «практиками самости» (pratiques de soi), включающими заботу о себе, которая
может осуществляться лишь под руководством наставника и в которую входят попечение о
состоянии души и тела (тренировки в воздержанном образе жизни, самоотчет, отбор мен-
тальных представлений с целью достижения устойчивого самообладания).
5 Герменевтику надписей на этом храме, включая загадочную букву Е, о которой писал
Плутарх (Об «Е» в Дельфах // Плутарх. Исида и Осирис. Киев, 1996. С. 71—96), дает
В. В. Бибихин {Бибихин В. В. Узнай себя. СПб., 1998. С. 28—62).
6 Foucault M. Op. cit. P. 787.
7 Ibid. P. 789.
Эпистрофический порыв
17
субординация принципов «заботы о себе» и «познания себя» испытывает
обращение. Поэтому и возникает потребность ее второй инверсии, состоящей
в том, чтобы вернуть заботе о себе ее изначально фундаментальный смысл,
вводящий познавательную установку как таковую в ее формообразующий
контекст.
В чем мы видим заслугу Адо, работы которого с пользой для себя изучал
Фуко? Адо (род. в 1922 г.) всю жизнь занимался исследованиями античной
философии, в том числе и на «пересечении» ее с христианством (издания, пере-
воды и исследования творчества Мария Викторина, Плотина, Порфирия, Амб-
розия Медиоланского, стоиков и т. д.). «В ходе нашего исследования, — пишет
он, — мы убедились, что существует, с одной стороны, некая философская
жизнь, а точнее, некий образ жизни, характеризуемый как философский и про-
тивопоставляемый образу жизни нефилософов, и, с другой стороны, философ-
ский дискурс, который оправдывает, объясняет и обусловливает этот образ
жизни» 8. «Философом» в античности называли людей, ведущих особый образ
жизни (признаваемый ими за наилучший и наидостойнейший), причем нали-
чия при этом специального «философского дискурса» вовсе не предполагалось.
Например, императора Марка Аврелия называли «философом» до того, как уз-
нали, что он автор «Размышлений». Образ жизни давал право называть чело-
века «философом» независимо от того, имеется у него особая «философская
теория» или же нет. Кстати, такое понимание философии было в ходу уже в
эпоху Сократа, если не раньше. По Диодору Сицилийскому, первым ввел в ход
подобное словоупотребление Пифагор, определивший философа как человека,
который «стремится к нраву и образу жизни мудрого существа» (Диодор Сиц.
X, 10, I)9.
Как считает Адо, философия есть конструкция, в основе которой лежит образ
или стиль жизни, находящий свое оправдание, объяснение и завершение в фило-
софском дискурсе. До известной степени философия как жизнь и философия
как дискурс несоизмеримы между собой, но в то же время и нераздельны. Их
несоизмеримость обусловлена тем, что в основе философской жизни лежит
духовный опыт, не доступный полному рациональному высвечиванию. Эту
часть опыта можно назвать его мистическим ядром. «Мистический опыт, —
говорит Адо, — показывает нам другой аспект философской жизни: не обду-
манное решение, не предпочтение определенного образа жизни, а находящееся
по ту сторону всякого дискурса невыразимое переживание, чувство неизъяс-
нимого присутствия, которое преисполняет индивидуума и производит пере-
8 Адо П. Что такое античная философия? М., 1999. С. 188. Первая работа Адо, переве-
денная на русский язык: Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М., 1991.
9 Цит. по: Шичалин Ю. Указ. соч. С. 36—37.
2-3357
18
Глава 1. Античные истоки
ворот в его самосознании» ,0. Кстати, этот «переворот» и есть «философское
обращение», о котором в рецензируемом сборнике говорит, например, С. Хору-
жий. Наличие подобного духовного опыта позволяет поставить в один иссле-
довательский ряд философию и религию, что является центральной методоло-
гической презумпцией всего представленного в данной книге направления
исследований.
Но между философской жизнью философа и его дискурсом не только зияют
пропасти, но и наблюдается прямая и позитивная связь. Дискурс рационально
оправдывает выбор образа жизни, представляя как бы интеллектуальную его
часть. Но, с другой стороны, он сам этим выбором предопределяется. Дискурс
служит, конечно, для убеждения или «обращения» других, но он играет роль и
внутреннего духовного упражнения или медитации, обусловливающей настрой
философствующего субъекта на нужный тон жизнечувствия и жизнемыслия.
Дискурс помогает утверждению философа в избранном им образе жизни.
Существенно здесь то, что дискурс нацелен на такую «настройку» индивида,
которая позволяет ему добиться выполнения философией ее главных функций.
Это — если кратко — состояние нерушимого светлого покоя души, бесстра-
шия, безмятежности, невозмутимости и счастья или блаженства. Как говорит
Адо, философский дискурс «призван произвести некоторое действие, создать
в душе некий habitus, повлечь за собой преображение личности» п.
Мы теперь можем сделать вывод, что философия вместе с присущим ей
дискурсом есть духовная практика самоизменения человека (пусть ее целью и
будет «внутренняя нерушимость», «крепость» или цитадель, как говорит Адо,
характеризуя стоицизм Марка Аврелия)12. Говоря словами Фуко, она есть вид
«заботы о себе», одна из систем «техники самости».
«Философ, — говорит Дэвидсон, излагая позицию Адо, — испытывал нужду
не только тренироваться в том, чтобы знать, как следует вести беседу и спор,
но и в том, чтобы знать, как нужно жить» 13. Эти тренировки, которые велись
10 Адо П. Что такое античная философия? С. 178.
11 Там же. С. 192.
12 «Записывая свои мысли, составившие его "Размышления", Марк Аврелий практику-
ет духовные упражнения, т. е. он использует особую технику, в том числе письмо, чтобы
повлиять на себя самого, преобразовать свою внутреннюю речь (discours) посредством ос-
новоположений и правил жизни, присущих стоицизму» {Hadot Р La citadelle intérieure.
Introduction aux «Pensées» de Marc Aurèle. P., 1992. P. 67).
13 Davidson A. I. Introduction: Pierre Hadot and the Spiritual Phenomenon of Ancient Philo-
sophy. P. 25 // Hadot P Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault.
Oxford and Cambridge (USA), 1995. P. 1—46. Критика Фуко со стороны Адо рассмотрена в
работе: Davidson A. I. Ethics as ascetics: Foucault, the History of Ethics and Ancient Thought //
Goldstein J. (éd.). Foucault and the Writing of History. Oxford, 1994.
Эпистрофический порыв
19
устно в философских школах, отложились в оставленных ими письменных тек-
стах. Итак, цель античной философии — не тренаж отвлеченного интеллекта,
не преподавание готовой доктрины, разработанной учителем, а преображение
всего человека в направлении к совершенству. Коротко говоря, главная цель
философии — научить людей, желающих усовершенствовать душу и жизнь,
жить философски, приближаясь к мудрости. И только в свете такого ее назна-
чения оправдан и собственно философский дискурс.
«Обращение» ((lexàvoia, conversio) на уровне философии — это метамор-
фоза человеческого существа, рвущего с нефилософским образом жизни и пере-
ходящего к философскому искусству жить. И все духовные упражнения, кото-
рыми занимаются в философских школах, нацелены на такое «обращение». В
этом философия сходна с религией, причем слова, используемые для обозначе-
ния «обращения», там и тут одни и те же ,4.
Как мы уже сказали, представление о философии как системе «духовных уп-
ражнений», выдвинутое и разработанное Адо, относится не только к этике как ее
части (логика — физика — этика), но ко всем ее частям. И эта позиция представ-
ляется нам последовательной и продуктивной. Полнота искусства жить фило-
софски не вмещается одной лишь этикой, каждая часть философии имеет свое
практическое и теоретическое измерение, причем второе подчинено первому.
Поэтому и физика с космологией, и логика суть не столько отвлеченные теории,
сколько духовные практики, вписанные в философию как целое. В эпикуреизме,
например, созерцание картины вселенной, наполненной множеством возникаю-
щих и гибнущих миров, в пространствах между которыми пребывают не вмеши-
вающиеся в них боги, позволяет настроить душу на богоподобную невозмути-
мость и обеспечить ее бесстрашие, освободив от страха перед богами. Подобное
созерцание возвышает и врачует соответствующим образом настроенную душу,
демонстрируя содержащийся в физике глубокий терапевтический урок.
14 «Согласно своему этимологически устанавливаемому значению слово "обращение"
(от лат. conversio) означает поворот, изменение направления. Это слово, таким образом,
служит для обозначения всякого рода перемены направления... Латинское conversio соот-
ветствует двум греческим словам с различными смыслами, во-первых, épistrophé, обозна-
чающего такое изменение направления, которое содержит в себе идею возвращения (к исто-
кам, к себе самому), а во-вторых, métanoia, обозначающего перемену мыслей... Явление
обращения отражает неустранимую амбивалентность человеческой реальности. С одной
стороны, обращение свидетельствует о свободе человеческого существа, способного к пол-
ному своему преображению с перетолкованием своего прошлого и будущего, а с другой
стороны, оно обнаруживает, что это преображение человеческой реальности является резуль-
татом вмешательства внешних по отношению к самости человека сил, что речь идет в дан-
ном случае о божественной благодати или же психосоциальном принуждении. Можно ска-
зать, что идея обращения представляет собой одно из конститутивных для западного созна-
ния понятий» (Hadot P. Exercices spirituels et philosophie antique. P., 1981. P. 175, 182).
2*
20
Глава I. Античные истоки
Здесь уместно сказать об отличии концепции «духовных упражнений» Адо
от концепции «заботы о себе» Фуко. Это тем более важно, что, говоря о «куль-
туре самости», Фуко подчеркивает, что она как «искусство существования»
определяется «принципом необходимости "заботиться о себе самом"» 15. При
этом он ссылается на книгу Адо «Духовные упражнения и античная филосо-
фия», указывая, что в ней разбирается вся эта тема «заботы о себе» ,6. Поэтому,
читая только Фуко, можно было бы подумать, что между ним и историком антич-
ной философии — полное согласие. Однако это не так.
Адо считает, что Фуко «чрезмерно фокусируется на "самости"». Возражая
ему, он говорит, что, например, Сенека, к которому они оба многократно обра-
щаются, «находит радость своей жизни не в "Сенеке", а трансцендируя
"Сенеку"» 17. Не в своей недифференцированной самости, подчеркивает Адо,
находит античный философ, практикующий философию как «искусство суще-
ствования», свою цель и «радость», а в «лучшей части самого себя». Поэтому
Фуко и не различает «радость» (gaudium) и «наслаждение» (voluptas), переда-
вая и то и другое одним термином «удовольствие» (plaisir). Согласно стоикам,
«лучшая часть» нас самих — та, которая влечет нас к «истинному благу», а не
к внешним наслаждениям, порождая в нас радость, неотделимую от чистой
совести, устремленного к добру сознания и правильных поступков и мыслей.
Важно, что достигаемая на этом пути внутренняя устойчивость и невозмути-
мость духа обеспечиваются приобщением практикующего стоические «духов-
ные упражнения» к Разуму и Природе. Иными словами, стоический философ
тогда обретает самого себя, достигая тем самым радости существования, когда
он, выходя в универсальное измерение бытия, преодолевает себя в качестве
ограниченного эгоистического индивида. «Цель стоических упражнений, —
говорит Адо, — преодолевать себя, мыслить и действовать в согласии с уни-
версальным разумом» 18.
Фуко, стремящийся не только к познанию «археологии» и «генеалогий»
современного субъекта, но и к тому, чтобы использовать античные философ-
ские практики как возможность его самоизменения, видимо, считает, что сегодня
понятия «универсальный разум», «природа как целое» мало что говорят чело-
веку и поэтому при попытке реактуализации античной философии можно обой-
тись и без них, сосредоточившись исключительно на «заботе о себе». Действи-
тельно, современная философия сделала такие понятия в какой-то мере про-
15 Foucault M. Histoire de la sexualité. Vol. 3. Le souci de soi. P., 1984. P. 57—58.
16 Hadot P. Exercices spirituels et philosophie antique. P., 1981. Последнее расширенное
издание: P., 2002. Англ. перевод: Philosophy as a Way of Life. Oxford, Cambridge (USA), 1995.
17 Ha dot P. Philosophy as a Way of Life. P. 207.
18 Ibid.
Эпистрофический порыв
21
блематическими, во всяком случае, она постаралась подорвать к ним доверие в
глазах человека наших дней. Но безотносительно к обоснованности или нео-
боснованности подобных понятий абсолютно ценным моментом, с ними свя-
занным, все равно остается тенденция к преодолению ограниченной и эгоис-
тической самости индивида. Может показаться, что и Фуко, подобно Адо, говоря
о самоизменении человека как цели практик самости, имеет в виду подобное
трансцендирование. Однако горизонт стратегий самоизменения, по Фуко,
существенным образом предопределен отсутствием в его концепции «заботы о
себе» ценностно разновысоких уровней в структуре самости.
В противовес Фуко Адо подчеркивает, что самотрансцендирование самости
происходит в ценностно иерархизированной ее структуре. В частности, он
говорит об этом, анализируя в качестве духовного упражнения записи, кото-
рые ведутся ради самоконтроля. Фуко также анализировал это явление поздне-
античной духовности. И в данном случае расхождение между ним и Адо про-
ходит по тому же самому, выше нами уже обозначенному рубежу: практика
подобного «духовного блокнота» (l'écriture de soi у Фуко) нацелена, считает
Адо, не на самоизменение вообще, а на универсализацию сознания и образа
жизни практикующего такой прием. Говоря гегелевским языком, благодаря
такой практике субъективность духа с ее смутностью и шаткостью должна
дорасти до его объективности с ее ясностью и уверенностью. При этом дол-
жно иметь место духовное возрастание личности, ценностно значимый подъем
уровня ее возможностей. Но именно на этом универсализирующем и космизи-
рующем личность измерении духовных практик Фуко, как деликатно выража-
ется Адо, «недостаточно настаивает». Подобная, в целом справедливая, оценка
смягчает позицию Фуко. На самом деле он фактически сводит античную фило-
софию к практикам самости как выражениям «заботы о себе», вследствие чего
ее физико-космическая составляющая, понимаемая самими античными фило-
софами как важная часть искомого образа жизни, выносится им за скобки его
размышлений. Его близкий друг в его последние годы, историк античности
Поль Вейн рассказывает, что когда он спросил его о том, как же проявляется
«забота о себе» в логике и физике (составные части философии наряду с эти-
кой), то Фуко назвал их «чудовищными наростами» на теле философии как
«заботы о себе» и тем самым вывел их из поля своего внимания (и заботы).
Американский исследователь справедливо замечает, комментируя это выска-
зывание Фуко: «Ничего не может быть более далеким от установки самого Адо
(чем подобное отношение к физике и логике. — В. В.), так как для него физика
и логика как жизненно испытываемые упражнения столь же находятся в цент-
ре оснований философии, сколь и этика» ,9.
19 Davidson А. I. Op. cit. Р. 21.
22
Глава I. Античные истоки
Если теперь попытаться подобрать ключевое слово, аккумулирующее основ-
ные возражения Адо в адрес Фуко в связи с его трактовкой «духовных упраж-
нений», то таким словом будет чрезмерность их эстетизации. «Я опасаюсь, —
пишет Адо, — что сосредоточивая свою интерпретацию (античной филосо-
фии. — В. В.) исключительно на культуре самости, на заботе о себе самом, на
обращении к себе или, более общим образом, определяя этику как эстетику
существования, М. Фуко предлагает чрезмерно эстетизированную версию куль-
туры самости» 20. Поэтому, опасается Адо, подход Фуко может стать новой фор-
мой дендизма. На наш взгляд, непреодоленное влияние Ницше, «в тени» кото-
рого мыслит Фуко, по-видимому, сказывается и в этом случае 2|.
Но достаточно ли защищена собственная позиция Адо от того же самого
влияния и, следовательно, от аналогичного упрека в эстетизме? Не ведет ли
стоически-ницшеанская форма натуралистического мировоззрения, которую
выбирает Адо, неминуемо к эстетизму, пусть это будет и иной по типу эсте-
тизм, чем у Фуко? На наш взгляд, изучение работ Адо, особенно последних,
показывает, что признание духовно-практической значимости приобщения
философа к универсальной Природе не может защитить его позицию от эсте-
тизма. Конечно, эстетизации философии как духовных упражнений у Фуко и у
Адо существенно различаются. В первом приближении, отдавая отчет в услов-
ности этого сравнения, можно сказать, что если позиция Фуко сопоставима с
субъективной эстетикой романтиков, то позиция Адо ближе к объективной эсте-
тике в духе Гёте, к которому он неслучайно обращается как к образцу для выра-
жения собственной точки зрения.
Специфический эстетизм, присущий позиции Адо, трудно распознать, если
ограничиться изучением только его исторических и экзегетических исследова-
ний античной философии и не ознакомиться с его последней книгой, представ-
ляющей собой его итоговую духовно-интеллектуальную автобиографию.
Подобно текстам многих античных философов она представляет собой запись
устных бесед историка. Это сходство усугубляется еще и тем, что по примеру
Арриана, автора «Руководства» по философии Эпиктета, заключившего его крат-
ким набором ярких цитат из различных авторов, Адо завершает свои беседы
также цитатами из разных близких ему писателей, передавая их словами суть
своего «послания» человеку нашего и будущего веков 22. Читатель, может быть,
удивится, найдя в этом списке самых значимых для Адо авторов из стоиков
20 Hadot Р Philosophy as a Way of Life. P. 211.
21 См. ниже: «Жизнедискурс "в тени" Ницше» (гл. VI). С. 534—544.
22 Arrien. Manuel d'Épictète / Introduction, traduction et notes par P. Hadot. P., 2000. P. 201;
Hadot P. La philosophie comme manière de vivre / Entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold
I. Davidson. P., 2001. P. 273—279.
Эпыстрофический порыв
23
одного только Сенеку и с единственным высказыванием: «У меня, — пишет
Сенека, цитируемый Адо, — всегда много времени отнимает само созерцание
мудрости: я гляжу на нее с изумлением, словно на вселенную, которую подчас
вижу как будто впервые» 23. Для Адо здесь не столь важна упоминаемая «муд-
рость», сколько свежесть («как будто впервые») восприятия мира, неотдели-
мая от изумления. Обратим внимание, что подобный эстетический мотив ле-
жит скорее на периферии стоицизма, чем составляет его фокус. Еще ярче вы-
ражают его другие цитаты, прежде всего из Руссо, говорящего о переживании
существования как такового и о «сладостном опьянении», исходящем от чув-
ства погруженности «одинокого мечтателя» в универсум 24.
Уже простое перечисление цитируемых в финале книги авторов дает чита-
телю возможность понять основную тональность его «послания»: Гёте, Рильке,
Блейк, Ф. Томпсон, Гофмансталь, Руссо, Ницше, Торо, Сезанн... Не пребыва-
ние в мире морали, не переход от одного выполненного долга к другому как
образ правильной жизни (Марк Аврелий) предстает перед нами, медитирую-
щими над этими текстами, а настоящий прорыв в прекрасное. Причем, по Адо,
это не столько встреча с искусством, сколько внезапное переживание вдруг
открывшейся красоты бесконечного космоса, повергающее человека в восторг
или изумление, преображающее его при этом. В цитируемом им отрывке из
прозы Гуго фон Гофмансталя юноша, увидевший в беспредельной голубизне
неба клин летящих белых цапель, явившийся ему откровением вечности, недо-
ступной выражению, переживает потрясение всего своего существа и падает
наземь как мертвый... Если в подобных цитатах и присутствует стоическое
приобщение к универсальному, то момент рациональности в нем практически
стерт и замещен эстетически насыщенным мотивом ликования, восторга, вне-
запного преображения благодаря прорыву в открывшуюся красоту мирозда-
ния. В противовес типично стоической разумности здесь подчеркнута загадоч-
ность и, значит, трансрациональность, мистическая невыразимость телесного
космического целого во всех его проявлениях. Если эти экстатические мгнове-
ния чувства приобщения к красоте и беспредельности вселенной и доступны
23 Hadot P. La philosophie comme manière de vivre. P. 274. Цит. по: Луций Анней Сенека.
Нравственные письма к Луциллию / Изд. подг. С. А. Ошеров. М, 2000. С. 188 (Письмо
LXIV, 6).
24 Одно цитируемое Адо место: «Ощущение существования, освобожденное от всех
других впечатлений, представляет само по себе драгоценное чувство удовлетворенности и
покоя, которого одного было бы достаточно, чтобы сделать это существование милым и
радостным всякому, кто умеет отстранять от себя все чувственные, земные впечатления,
беспрестанно появляющиеся, чтобы отвлечь нас от него и нарушить в этом мире его сла-
дость» {Руссо Ж.-Ж. Избр. сочинения. Т. 3. М., 1961. С. 617). Другое— на с. 631 указ.
издания.
24
Глава I. Античные истоки
какому-то выражению и оформлению, то уж скорее не средствами рациональ-
ного дискурса, а художественными приемами. Связанная с подобной косми-
ческой эстетикой мистика является всецело имманентной, не отсылающей ни
к какой трансценденции.
Если теперь попытаться подвести итог нашему анализу философской пози-
ции Адо, то прежде всего вспоминается Ницше с его формулой («мир оправ-
дан как эстетический феномен»). Знаком принятия и оправдания мира в этом
его качестве выступает у Ницше и у Адо мироутвердительное «Да!» существо-
ванию в данный его момент и тем самым во всей совокупности моментов, с
ним связанных. Однако, в отличие от стоиков и Ницше, прокламируемое Адо
духовное сосредоточение на настоящем моменте времени, без которого немыс-
лима подобная эстетика существования, не требует обязательного принятия
идеи «вечного возвращения того же самого». Несмотря на его возвращение к
дохристианским эллинским истокам, Адо близка идея прогресса. Влияние не
только эволюционизма Бергсона и Тейяра де Шардена, но и новоевропейского
просветительского менталитета, неотделимого от идеи прогресса, здесь несом-
ненно.
Человек не может уйти от своего собственного духовного опыта, подме-
нить его опытом других людей, «придумать» себе такой опыт, который ему
хотелось бы считать своим. Все долгие годы учения Адо, его юность и моло-
дость, прошли в системе католического духовного образования. Обучаясь в
семинариях Реймса, он интересовался и мистикой, в том числе св. Терезой
Авильской и св. Хуаном де ля Крус. Но его духовные наставники его разочаро-
вывали своим отталкиванием даже от католического мистицизма. В семинар-
ские годы Адо по-юношески ярко и глубоко, на всю жизнь, пережил опыт кос-
мического откровения или, как он его называл потом, «океанического чувства»
(Р. Роллан): «Я пережил, — рассказывает он, — чувство странности, изумле-
ния и восторга перед здесь-бытием. В то же время я испытал и чувство своей
погруженности в мир, почувствовал себя его частью, частью мира, простираю-
щегося от малой былинки до самых звезд... Этот опыт был для меня открыти-
ем чего-то волнующего, какого-то очарования, совершенно не связанного с хри-
стианской верой... и он казался мне гораздо более существенным и более глу-
боким, чем тот, который я мог испытывать в христианстве, на литургии и рели-
гиозных службах» 25. Этот опыт во многом предопределил мировоззрение, к
которому пришел Адо, и характерные для такого мировоззрения духовные
упражнения. Это, во-первых, духовное упражнение, состоящее в практикова-
нии взгляда сверху, когда человек осознает грандиозность мира, а себя —лишь
малой, но неотъемлемой его частью. Во-вторых, это — практика интенсифика-
Hadot P. La philosophie comme manière de vivre. P. 24, 25.
Эпистрофический порыв
25
ции переживания настоящего момента, опыт такой жизни, «как если бы мы
видели сейчас мир в последний, но также и в первый раз» 26. Причем максимум
его интенсивности обнаруживается в восторге, изумлении, чувстве красоты и
великолепия беспредельного мира. Подобное духовное упражнение по обнов-
лению чувства присутствия в мире хорошо знакомо прежде всего поэтам, поэ-
там в широком смысле слова, первооткрывателям неизведанного. Вспомина-
ются стихи А. Блока:
Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!
Если не касаться практически весомых, описанных самим Адо поводов, воз-
никших в начале 50-х годов, для его разрыва с католичеством (он был рукопо-
ложен в священники в 1944 г.), а попытаться указать только его главные при-
чины, то, на наш взгляд, надо прежде всего принять во внимание следующее.
Католицизм, в форме которого Адо по преимуществу мог воспринимать хрис-
тианство, был для него не собственным выбором, а решением его властной, не
терпящей возражений матери, страстно верующей католички. Безусловно, семи-
нарские годы много дали ему для его гуманистической образованности, но ни
в эти годы, ни после разрыва с церковью (1952) он «никогда не переживал ми-
стического опыта в христианском смысле слова» 27. Церковная жизнь и католи-
ческая среда в целом казались ему чем-то «искусственным», ненатуральным,
миром сомнительных социальных условностей и банальной повседневности.
Напротив, «эстетика существования» в духе романтических поэтов и восточ-
ных мистиков была ему, как мы уже сказали, внутренне близка и именно в ней
он находил себе духовную опору. История в общем-то банальная: ничто, ка-
жется, не ведет человека с такой силой к атеистическому «миробожию» и «при-
родоверию», как обучение в духовной семинарии, особенно вынужденное.
Поэтому неудивительно, что духовно значимым для него открытием стали не
христианские мыслители, а, напротив, языческие, в конце концов, стоики и
эпикурейцы, а ранее — неоплатоники, особенно Плотин, самый мистически
одаренный из них. Читая Адо, мы поэтому не удивляемся, что интерес к мисти-
ческому вмиг его покидает, как только он от созерцания Природы и Космоса
переходит к разговору о церкви (осуждение случаев педофилии у кюре, про-
тест против папского отвержения эволюционизма Тейяра и т. п.). Реальность
христианства выступает для него прежде всего в инквизиторски-диктаторских
Ibid. Р. 268.
Ibid. Р. 32.
26
Глава I. Античные истоки
проявлениях церковных властей. В своем «семинаристском» неприятии хрис-
тианства Адо неоригинален, повторяя не отличающиеся глубиной и вкусом ар-
гументы просветительской рационалистической критики (противоестествен-
ность христианства во всем, ограничение свободы человека и т. п.).
Выбрав эллинский натурализм в качестве стержня своего философского
мировоззрения, Адо отказался и от экзистенциальной философии, которой он
интересовался, изучая труды прежде всего Г. Марселя и М. Хайдеггера. В тече-
ние года он посещал марселевские «пятницы», но сам мэтр, «увиденный вблизи,
равно как и окружавшие его люди», ему не понравились «из-за их нарочитого,
искусственного (artificiel) многословия» 28. Здесь следует обратить внимание
на слово artificiel, которое в разных формах и контекстах Адо употребляет для
характеристики своего критического отношения к христианству. Так как были
отвергнуты и экзистенциализм 29, и христианское мировоззрение, ему не оста-
валось другого духовного выбора, кроме натурализма. Этику природы и разу-
ма, судьбы и необходимости, которая «покорного ведет, а непокорного тянет» 30,
он предпочел онтологии свободы и любви. Духовный путь, проделанный Адо,
лишь подтверждает нашу мысль о том, что основной философско-мировоззрен-
ческой дилеммой является выбор между эстетико-натуралистической установ-
кой и религиозно-экзистенциальной.
Перейдем теперь к обсуждению роли духовных практик в эпоху существо-
вания языческого эллинства и христианства. Хотя между античной философи-
ей и христианством сохранялась определенная преемственность на уровне
духовных упражнений, однако, давая несомненный для верующего путь спасе-
ния, создавая свою культуру духовной жизни, христианство сделало античную
философию как бы излишней. Идеал стоического философа, каким бы благо-
родным и целительным перед лицом жизненных испытаний он действительно
ни был для тех, кто следовал ему, тем не менее не смог выдержать конкурен-
ции с Благой вестью христианства. Эту ситуацию метко охарактеризовал
Э. Жильсон: «Лучшая философская позиция (имеется в виду образ жизни, а не
только дискурс. —В. В.) —позиция не философа, а христианина» 31. В результа-
28 Ibid. Р. 42.
29 Об экзистенциальной мысли Адо говорит как о «музейном» эпизоде интеллектуаль-
ной истории Запада, канувшем в прошлое. С подобным прогрессизмом трудно согласиться,
когда ему хотят подчинить мир философской мысли, в отличие от науки и техники, не зна-
ющей прогресса.
30 Стих Клеанфа (331/330—232 до н. э.), греческого стоика, переведен на латынь Сене-
кой {Сенека. Нравственные письма к Луциллию. С. 477, письмо CVII, 11 — ducunt volentem
fata, nolentem trahunt), для экзистенциальной мысли служит эмблемой несвободы, которой
она бросает вызов (Л. Шестов).
31 Цит. по: Адо П. Что такое античная философия? С. 273.
Эпистрофический порыв
27
те философию стали рассматривать по преимуществу как теорию, познава-
тельный дискурс на службе сначала теологии, а потом, начиная с XVII в.,
науки.
Шаг философии навстречу религии, который можно истолковать как ее само-
отказ, обнаружился уже в позднем неоплатонизме, у Ямвлиха и Прокла. Внутрь
философии как аскезы (ocokt|oiç — упражнение) и дискурса с нею связанного,
входит языческий религиозный ритуал, который можно считать дохристиан-
ским аналогом христианской благодати. На излете своего развития античная
философия приходит к пониманию своей собственной ограниченности как
духовной практики и как дискурса. Выступающие как обнаружения самоопор-
ного имманентного разума духовно-практическое и теоретическое измерения
античной философии уже не кажутся достаточными для того, чтобы подвести
человека к высшей духовной цели — к божественной жизни. У эпикурейцев
подражание богам было возможно и без ритуала. Но для Ямвлиха достижение
такой предельной цели требует превзойти горизонт обычных философских
духовных упражнений, которые до сих пор вместе с сопровождающим их дис-
курсом мыслились как всецело имманентные рациональные структуры. Для
того чтобы вступить в спасительное соприкосновение с божественным, по
Ямвлиху, требуется исходящий от самого божества ритуал. Богообщение в
ритуале и теургия в позднем неоплатонизме указывают на кризис философии
как сферы автономного разума, как она была сформирована в античности.
Иными словами, описанное выше вытеснение христианством философии как
способа жизни подготовлялось еще в недрах античной языческой культуры.
Это обстоятельство не могло не облегчить духовную победу христианства над
язычеством.
Одновременно с этим процессом, условно говоря, капитуляции философии
перед религией происходит установление в качестве философской доминанты
комментаторской или схоластической в широком смысле установки. Вот как
характеризует платоновскую школу времен Прокла Ю. А. Шичалин: «Вся жизнь
мэтра и его учеников целиком обращена к текстам, которым грозит уход в небы-
тие. И еще — к обрядам, над которыми давно нависла та же угроза... Религиоз-
ная практика, ритуалы были необходимы для искусно и искусственно запол-
ненной жизни так же, как и строгое школьное расписание. Это впервые понял
Ямвлих, с которого начинается расцвет неоплатонической схоластики» 32. Итак,
в позднем неоплатонизме известная ритуализация философского образа жизни
сопровождается упадком ее опытно-экзистенциального ядра, проявляющегося
в господстве комментаторской текстолатрии. В христианской культуре ритуа-
лизованные практики спасения и схоластический дискурс окажутся разведен-
Шичалин Ю. Указ. соч. С. 111—112.
28
Глава I. Античные истоки
ными по разным культурным сферам, став достоянием религии, с одной
стороны, и теологии и философии — с другой.
Результатом свершившегося разрыва между философией как жизнью и фило-
софией как философским дискурсом в рамках христианской культуры высту-
пает схоластическая установка в широком смысле слова. У Л. Шестова этот
процесс получил парадоксальное, если учесть концепцию Адо, наименование
«эллинизации» философии, превращающей ее в отвлеченное теоретизирова-
ние, где для человека все кончается замыканием в фаталистической установке,
неизбежной в силу неумолимости Разума с его законами 33. Л. Шестов увидел
во всех философиях, которых множество, общее содержание — гимн Необхо-
димости, противиться которой невозможно. Необходимость может выступать
под разными формами — как Разум, Закон, Судьба и т. п. Но суть ее, неустанно
подчеркивает Шестов, одна — полная зависимость человека от нее. Действи-
тельно, и эпикурейцы, и стоики, и новые философы (Гегель и др.) учат о Еди-
ном Разуме, Единой Природе, Едином Духе. Тем не менее есть и оттенки в
подобных учениях. Например, у эпикурейцев предполагается законность мно-
жественности объяснений природных явлений. И уже тем самым ум оказыва-
ется в какой-то степени свободным от тисков природной необходимости. Более
того, введение в физический мир спонтанного отклонения атомов (clinamen)
дает естественную опору для духовных упраэ/снений в свободе. Уже только это
имея в виду, можно сказать, что Шестов преувеличил всевластие необходимо-
сти в ущерб свободе, которую, надо сказать, философы столь же восславляли и
воспевали (как и необходимость). Укажем в связи с этим только на традицию
экзистенциальной философии, к которой принадлежит и сам Шестов. Весь
разобранный здесь в общих чертах случай означает, что философия сама себя
корректирует. Этим и объясняется прежде всего множество философий, не-
редко служащее аргументом против философии как таковой.
Присмотримся теперь к тому, что выше было названо схоластической уста-
новкой в широком смысле слова. Схоластика, по Шеню, есть «рациональная
форма мысли, сознательно и охотно развиваемая на основе некоторого текста,
почитаемого авторитетным» 34. Определение Жильсона («применение разума
для нужд веры и в самой вере, приобретшее в конечном счете научную форму,
и есть схоластика» 35) не существенно отличается от формулировки Шеню. Мы
употребляем здесь это выражение в широком смысле слова, понимая под схо-
ластикой установку на замыкание горизонта философии в рамках толкования
Подробнее об этом см. ниже: «Разум на весах откровения: Лев Шестов и современная
мысль» (гл. V). С. 359—375.
34 Адо П. Что такое античная философия? С. 167.
35 Жилъсон Э. Философ и теология. М., 1995. С. 153.
Эпистрофический порыв
29
готового авторитетного текста. Подчеркнем, что такая установка характерна
не только для поздней античности или средних веков, но и для наших дней.
«Отныне, — говорит Адо о ситуации в античной философии начиная с III в.
нашей эры, — спорят не о самих проблемах, толкуют не о самих вещах, а о
том, что говорят относительно проблем и вещей Платон, или Аристотель, или
Хрисипп» 36. Сегодня ситуация аналогичная: философский «цех» представлен
множеством историков философии, толкователей и герменевтов философских
текстов, но в нем мало оригинальных философов, идущих от осмысления лич-
ного духовного опыта. «Наши университеты, — говорит Адо, — все еще оста-
ются наследниками "Школы", т. е. схоластической традиции» 37.
Противостоящая схоластической текстолатрии опытно-экзистенциальная
установка, не отвергая авторитета текста, базирующегося на откровении, об-
ращает внимание прежде всего на то, что истина содержится в духовном мис-
тическом опыте, в событиях свободы и встречи, в опыте трагедии человече-
ского существования. По сути дела противоречия между этими концепциями
истины может и не быть, если только признать определенные права и за второй
из них. А именно, что и Бог, и дух, и свобода, и истина могут жить и действи-
тельно живут и в тексте, и вне его, в опыте присутствия истины внутри духовно
значимой повседневности. Смысл сопоставления этих концепций истины в том,
чтобы не считать текст исключительным, единственным «местом» истины.
Тот факт, что после прихода в мир христианства практика духовных упраж-
нений ушла из философии, потому что ее роль взяло на себя само христиан-
ство с собственными духовными практиками, привел к тому, что философия
схоластизировалась. Фуко и Адо и отправились в далекий эпистрофический
поход в античность для того, чтобы вернуть философию к себе самой, призвав
ее к тому, чтобы снова стать искусством жизни, системой духовных упражне-
ний, выполняющих задачу совершенствования человека, а не только познания
мира. В условиях, когда концептуальное содержание такого познания стало
считаться естественной и единственной стихией философии, опасность номер
один для философа — попасть под чары концептуальной «паутины». Если это
происходит, а это, увы, самый распространенный случай, то философ или тот,
кто претендует на это звание, становится своего рода «мухой», влипающей в ту
«паутину», которую сплела история философии и науки и которую он сам, при
этом не без самомнения, хочет напаутинить еще и еще...
Как философия сегодня «вязнет» в истории философии, а жизнь философ-
ская стушевывается, уступая место наукоподобному дискурсу, так и эпистро-
фический порыв — порыв к истокам — может увязнуть в комментарии, тол-
Адо П. Что такое античная философия? С. 167.
Там же. С. 272.
30
Глава I. Античные истоки
ковании, предисловии, переводе и т. д. Чем отличается профессорская фило-
софия от философии tout court? Тем, что первая более или менее изощренно
толкует готовые философские тексты, не предполагая при этом в своих пред-
ставителях даже намека на личный экзистенциальный опыт той глубины и зна-
чимости, оформлением и осмыслением которого и являются толкуемые ими
тексты. В связи с этим законно встает и такой вопрос: а почему, собственно
говоря, в наши дни наблюдается такой небывалый интерес к неоплатонизму,
что демонстрирует, в частности, и рецензируемый сборник? Не потому ли, что
в нем, особенно послеплотиновском, доминирует та же в принципе вторичная
комментаторская культура^ что и в нашем «постмодерне»? Similis simili... Но
не забудем при этом о Ямвлихе и других неоплатониках, внесших в филосо-
фию ритуал и теургию. Не симптом ли это был внутреннего конца философии
как конкурента религии?..
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДВУХ КУЛЬТУР '
Не было ли христианство идеологическим реваншем Востока, как бы ком-
пенсацией за его военно-политическое поражение? Маленькая Иудея была заво-
евана Римом, но в ответ на это ей удалось, благодаря возникшему на ее почве
христианству, овладеть душами подданных огромной Империи. Военно-поли-
тическая мощь римского Запада захлебнулась в религиозной экспансии Вос-
тока, проповедывающего униженного, т. е. немощного, по языческим меркам,
Бога. Святые мощи мучеников у христиан парадоксально для язычников оказа-
лись символом мощи (могущества), в том числе и политической (в конце
концов).
В небо языческого космоса кометами, несущими весть о его близком конце,
вошли две абсурдные для язычника идеи — идея греха и идея спасения. Строго
говоря, это не идеи, даже в эллинском, платоновском смысле, а символы, струк-
турирующие новый экзистенциальный опыт, опыт веры. Но при отсутствии
самого опыта они неизбежно редуцируются до «идей».
Да, греческие города не раз стояли на самом краю гибели — ив войнах с
персами, и в междуусобицах. Но никогда опасность военного поражения не рож-
дала у греков того идеала трансмирского спасения, который стал распростра-
няться вместе с возникновением христианства. Спасение для греков корени-
лось в их гражданских (полисных) добродетелях. В их патриотизме, мужестве,
доблести. В свою очередь, опасность и гибель тоже были земными имманент-
ными категориями. Конечно, языческие боги помогали бить врага и защищать
родной город. Но они были только местными, домашними богами (как у рим-
лян — пенаты), без тени ближневосточного универсализма, без его страстной
патетики и все соединяющей в единое целое мистики трансцендентного.
1 Нижеследующие заметки инициированы последним переводом «Исповеди Бл. Авгус-
тина, епископа Гиппонского», выполненным M. Е. Сергеенко и впервые опубликованным
в «Богословских трудах» (№ 19, 1978), а затем переизданным. См.: Аврелий Августин. Ис-
поведь Блаженного Августина, епископа Гиппонского / Изд. подгот. А. А. Столяров. М.,
1991. Все цитаты даны по этому изданию.
32 Глава I. Античные истоки
Греко-языческий мир знал слабость, нечистоту, зло, несовершенство и свя-
зывал их, как это делали платоники, с материей, с телесностью, с тем началом,
которое препятствует чистым и совершенным образцам-идеям осуществляться.
Но «идеи» греха он не знал (идея эта — «умная» проекция мифа и символа,
содержащихся в Священном Писании). Между самой благородной и возвы-
шенной эллинской философией (например, Плотина) и христианством — непре-
одолимый разрыв (типа «земля — небо») просто уже потому, что «христиан-
ство— не философская школа..., но... общение с живым Богом» 2. Именно в
свете такого общения бл. Августин открывает нового человека, мир его страс-
тей, равно как и горизонт его спасения. Рассказывая о своем жизненном пути,
он обращается к проблеме греховности новорожденных. Прежде всего Авгус-
тин подчеркивает, что греха в человеке Бог не создавал 3, создав самого челове-
ка. «Я видел и наблюдал, — говорит Августин, — ревновавшего малютку: он
еще не говорил, но бледный, с горечью смотрел на своего молочного брата» 4.
Зависть, обидчивость, жадность и прочие естественные устремления души че-
ловека, наделенной, по замыслу Творца, свободой воли, обнаруживают его гре-
ховность. Иными словами, не плоть как таковая служит источником греховно-
сти, а своеволие гордой и заносчивой, эгоистически ориентированной души.
«Младенцы невинны, — говорит бл. Августин, — по своей телесной слабо-
сти, а не по душе своей» 5. Гордынное и суетное своеволие первочеловека ис-
казило всю плоть мира, утратившую с тех пор свою райскую чистоту. И на эту
основу первородного греха человек продолжает «наматывать» новые акты сво-
еволия, множащие мировую «массу греха» 6. Капризная требовательность груд-
ничка, его завистливая оглядка на брата своего, его жадность — проявления
его греховности, коренящейся в его душе, в его воле, а не в его слабом и беспо-
мощном теле. Жизнь «в Адаме» продолжается для постадамного человека с
его первого слишком жадного, слишком страстного вздоха, с его первым соса-
тельным рефлексом, выполненным «нескромно». Первогрех внес в мир везде-
сущий изъян, трещину, «недуг», чего не знал мир эллинско-языческий. Первый
стигмат этого онтологического изъяна — смертность человека. Поэтому с при-
ходом в мир христианства прежде всего меняется отношение к смерти. Рели-
гия «общения с живым Богом» есть религия вечной жизни, и поэтому смерть
эмпирическая ни в коем случае не мыслится как абсолютный конец для чело-
2 Лосский В. И. Очерк мистического богословия восточной Церкви. Догматическое
богословие. М., 1991. С. 35.
3 Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. С. 59.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же. С. 39.
На перекрестке двух культур
33
века. Для эллина же жизнь под солнцем всегда предпочтительнее жизни в Аиде,
даже если она на Земле и будет проходить в тяжких трудах, о чем красноречиво
говорит у Гомера Ахилл. Вся языческая мудрость в том, чтобы научить челове-
ка не слишком страшиться смерти, неприязнь к которой у него, языческого
человека, непреодолима, несмотря ни на какие неопровержимые пассажи ума
(как, например, у Эпикура).
* * *
Как весло, опущенное в воду, душа двоится. Каков ее настоящий вид? И кто
же она на самом деле, по природе своей: христианка (Тертуллиан) или языч-
ница (Платон)? Всматриваюсь в свою душу и вижу: петляет, как дорожка, при-
сыпана христианским песочком, а все в сад языческий норовит попасть! Язы-
ческие боги — крепки, налиты жизнью, бодры и веселы: пышнолицые Помо-
ны, дородные Юноны, прекрасные Афродиты, ловкие Артемиды... А христи-
анский Бог? Мертвое тело на позорном кресте — без жизни, со спекшейся,
потемневшей кровью. В лице — ни кровиночки. Как же можно живому верить
в такого Бога? Оказывается, что можно, если только преодолеть в себе самом
природу, естество, жизнь земную и земной человеческий разум. Можно, если
только отбросить как самое высокое и непреложное природу-разум, естество-
ум и «проголосовать» самой волей, экзистенциальным fiat за откровенно Не-
постижимое — за христианского Бога. Можно, если отречься от полносущих
стихий, от тяжелых налитых плодов, от цветения сада земного, от зримого солн-
ца, от буйного ветра, от ручья, полного вкрадчивой целебной прохлады, от туч-
ной земли плодоносящей, от живоглазого огня неукротимого, если отречься от
всех стихий как последних начал мира и всего бытия, если отречься от всей
родовой жизни и скачком свободной воли (да будет!) перенести внимание на-
дежды на новый мир, в за-естественный, за-природный эон, где царит не При-
рода, не ее разумом постигаемые законы и не ее цветущие боги, а Царь не от
мира сего — Отец Небесный, для которого природа, разум, законы — не более
чем послушные инструменты для осуществления Воли Его. В этом за-стихий-
ном, за-небесном мире «материей» выступает Свет Невечерний, сама Любовь
здесь — и душа, и вещество этого мира. Это — порядок не природы, а духа, не
естества, а свободы, не необходимости, а любви. Порядок не эллинского разума,
а христианской веры, для которой Логос существует не столько как закон,
порядок космоса, его ритм и гармония, сколько как воплотившийся в челове-
ческую природу Бог, который бесконечно выше, чем космос и закон его.
Сияние земное (доблестью хранимый родной город, потом политая пашня,
домашние боги, процветание на земле рода своего) и сияние неземное (крот-
кий лучистый взгляд, своего не ищущий, струение любви, прощение врагов
3 - 3357
34
Глава I. Античные истоки
своих, тихое радование не о себе, а о други своя, а через ближнего — о Боге, в
котором нет ни эллина, ни иудея)... Два света — два мира. Два зона. Два ума.
Две души. Бабочка-психея и пчела-монашенка. Две жизни. Одна из них — закон
города и племени, труд и род, семья и сад земной. Другая — служение Неведо-
мому Богу, смирение и любовь.
На перекрестке этих двух светов стоит человек. Неверны стихии, неустой-
чивы комбинации атомов, нет уверенности в прочности семьи и общества.
Несчастья, катастрофы, войны только ждут своего часа. И как тогда, в первых
веках нашей эры, так и теперь в этом прекрасном, яростном, цветущем и рас-
падающемся мире, мире земли и сада, смерти и гибели, вспыхивает тоненький
луч надежды на его преодоление как мира последнего, как последней реально-
сти. Загорается надежда в сиянии любви, в самоотречении и самопреодоле-
нии. Кроткий, униженный, слабый, по канонами мира языческого, стражду-
щий и умирающий, этот новый человек, совлекающий с себя ветхого Адама,
грядет насельником нового мира, нового эона.
Кажется, что языческий мир сам пришел к христианству, но без христиан-
ского Бога... Я имею в виду, например, учение стоиков, их практическую мораль.
Действительно, суровый, как резцом по металлу, взгляд: признание суетности
всех обычных земных приманок, чувство ненадежности ни в чем, ни в природ-
ном, ни в людском мире, сознание отсутствия гарантий для самой добродете-
ли, чувство необоснованности любых расчетов и надежд на мирское благопо-
лучие. Мир стоического сознания — мир суровой трезвости, предписывающей
идти по жизни как через пустыню, вооружившись только неукоснительно
соблюдаемым долгом, гуманностью, чувством справедливости, не щадя самого
себя и будучи снисходительным к слабостям других. Нет иллюзий, нет и осо-
бых радостей, нет надежды — все черно-бело, сурово, все строго разумно, при-
знаны за действительные лишь законы природы, которую превзойти нельзя, и
неумолимый нравственный закон — закон стойкости, выдержки, строгости к
себе, закон справедливости и гражданского служения. Стоик — неутомимый
Сизиф, осмотрительно вглядывающийся в мир вокруг себя: как бы не задеть
своим камнем кого-нибудь из людей, как бы не обидеть кого-то из богов. Мир
стоического сознания — по-своему совершенный мир, но сердца, душевного
тепла в нем нет. Только разум, только долг представляют его в пространстве
морали. Самоконтроль, самоотчет, придирчивая суровость к самому себе. Это —
служба без праздников, монашество без Бога, любовь без братства и почти даже
и без учительства, ибо стоик не считает себя и свой взгляд на мир таким, чтобы
к нему нужно было бы обязательно привлекать других, если только не делать
это тихо, скромно, ненавязчиво, как и делает, например, Сенека в своих пись-
мах к Луцилию. Впрочем, и от этого камерного учительства отказывается самый
стоический стоик — «монах» и монарх — Марк Аврелий.
На перекрестке двух культур
35
И вот в этот мир ледяного разума и долга врываются фантастические, бур-
ные восточные ритмы — еврейские, сирийские, египетские, персидские, со
всего Востока, втянутого в Империю. Кажется, в них есть все, кроме привыч-
ного для эллинов холодного ума: поэзия, магия, астрология..., но, главное, в
них звучит вера, поет сердце, страстное и живое. Если греческий разум в конце
своего развития приходит к холоду стоического служения — без веры, без
надежды, — то человека позднего эллинизма это уже не насыщает. Он как бы
уже пресыщен разумом, ему уже ненавистен ледяной интеллект — и он ищет
новой земли и взыскует нового неба. И в конце концов находит его в мире
восточных культов, обретая его в христианстве.
Рассказывают, что в Северодвинске хоронят только на девятый день — не
хватает гробов. Вешаются, травятся, гибнут по пьянке, в дорожных катастро-
фах и от болезней... В стране леса и теса не хватает досок для гробов!
Бомжи с льняными, белесыми, как осенние мухи, глазами, причитают по
углам потертых северных гостиниц, просясь на ночевку. А живут они стойким
бутылкособирательством.
— Кто же виноват? — спрашивает меня светлоглазый, с прямыми русыми
волосами, красивый, средних лет бомж.
Что я ему отвечу? Что все виноваты и что виноватых нет? Как я его утешу?
Какой языческий сад ему достался в жизни? Сейчас его пустили в холл гости-
ницы и он там, довольный, ночует. А днем собирает по паркам и набережным
пустые бутылки. И, Боже ты мой, он счастлив: поет, и хорошо поет, трогая
песней душу! Ну, а что будет с ним зимой? Ведь замерзнет сердешный... А
лицо сияет — смирением и кротостью так и светится. А жизнь-то его какая:
один, совсем один, по чужим углам все время, попрошайка, никем и ничем не
защищенный. Но, посмотрите, как он кроток, как лучист сердцем!
Сенеке или Марку Аврелию «идея» спасения не нужна. Она для них и не
понятна, даже абсурдна, на их взгляд: от чего, мол, это надо спасаться? Да и
разве можно спастись от Природы, от Разума и его Законов, в Природе вопло-
щенных? Разве может смертный уйти от смерти! Разве можно спастись от
того, от чего, по определению, спасения нет и быть не может? Разве можно
спастись от Судьбы, правящей не только людьми, но и самими богами? Выне-
сти судьбу смертного с достоинством, с ясным сознанием исполненного долга —
это, правда, возможно, и ради этого и надо потратить все свои земные силы,
так как других у человека просто нет. Но что при этом значит — «спастись»?!
Так — для эллина. Для лучшего из лучших эллинов. Для христианского
сознания идея спасения — центральная. Но как римскому патрицию проник-
з*
36
Глава 1. Античные истоки
нуться ею, если для того, чтобы приблизиться к ее пониманию, нужно стать
бомжем, рабом последним? Впрочем, и этого мало: ведь был же рабом Эпик-
тет, но христианином так и не стал, оставшись стоиком. Для того чтобы стать
им, нужно жить в мире другого предания, в другом культурном мире. Тень биб-
лейского Бога для этого поворота души благоприятнее света языческого разума.
Все мировые религии — религии спасения. Но прежде всего таково христи-
анство, религия спасения по преимуществу. Из постулата спасения происте-
кает в нем все: сама Церковь понимается как новый «Ноев ковчег». Вся струк-
тура ее, ее функции, вероучение и мироощущение верующего христианина цен-
трированы императивом спасения. Что же такое спасение? Уже «Ветхий Завет»
высказывает основную мысль, конституирующую «идею» спасения: правед-
ник спасется. В «Книге Бытия» это — Ной. Спасается идущий за Богом, ходя-
щий пред Богом, выполняющий Его Волю. Как спастись? — вот основной воп-
рос. Гибель кажется очевидной, бьющей в глаза. Ведь сам мир, сама земная
жизнь, особенно на закате эллинизма, стали восприниматься как тюрьма, тем-
ная пещера, гибельная юдоль. Гибельны стихии в их неистовстве. Боги, ими
управляющие, уже не могут их обуздать. Да если порой и могут, то ничего,
кроме мертвого порядка, при этом не возникает. Гибелен и град человеческий —
Государство, и его самое мощное воплощение — Империя. Гибельно все, что
под солнцем, что «суета сует». Понятно, что при таком мироотношении «идея»
спасения возникает совершенно естественно. «Как спастись?» становится воп-
росом номер один. И ответом на него и выступает Церковь — ковчег спасения
на водах земного существования. И сам храм строится по образу корабля —
дабы в нем, с его помощью переплыть гибельное море, одолеть хляби земного
существования.
Понять разумом (извне по отношению к вере) все это невозможно. Действи-
тельно, что же, собственно говоря, гибнет? Душа? Но как это возможно, если
она бессмертна? Ясно, что смысл «идеи» спасения в другом. «Спасение» озна-
чает состоявшийся союз с Богом, правильное хождение пред Ним, т. е. «пра-
ведность» (почти «правильность»). Праведником жил Ной — смертным в смер-
тном мире — и был спасен. Чистота жизни и души, достигаемые правильным
хождением пред Богом, т. е. послушанием Его Воле, — вот что требуется, чтобы
«спастись». Бог— всё: жизнь вечная, любовь, спасение... Он все может, для
Него нет необходимости, нет законов, нет судьбы. Правильная жизнь с Богом,
в Боге, пред Богом, под Богом — идея спасения не содержит чего-то большего,
чем это.
В Ветхом Завете «гибель» мыслится житейски просто — как исчезновение
с лица земли. Смыслы Ветхого Завета обыденны и просты: гибель — это про-
сто гибель, элементарное уничтожение, т. е. уничтожение в элементе воды (эпи-
зод с Ноем). Только религиозность, возникшая под влиянием Нового Завета,
На перекрестке двух культур
37
поставила во главу угла «гибель души», спиритуализировав библейский мир.
«Непогибшая душа» в новозаветном смысле — чистая, свободная от грехов.
«Спасение души» заменило «элементарное спасение» от разбушевавшихся эле-
ментов (стихий). Библейский ветхозаветный мир целостнее — в нем нет этого
спиритуалистического пафоса чисто духовного начала, как это с особенной си-
лой заявлено в Евангелии от Иоанна. И поэтому сама «идея» спасения, в нем
содержащаяся, ближе для простого человека, не слишком перегруженного ин-
теллектом и культурой. Ходи правильно пред Богом — и цел будешь! И поля
твои не сгорят, и скот не падет, и семья сохранится, и дом не рухнет. И для
всего этого нужны самые простые и ясные правила (обрезание, суббота, пост
и т. п.). Живи сообразно с Божьим законом — и спасешься, т. е. жизнь твоя
будет полной: и нивы тучны, и скот изобилен, и семья огромна. Конечно, и
здесь обозначен дуализм двумирия, но пока еще достаточно элементарно и про-
сто — пастухам и земледельцам это доступно.
Разделение мира, рассечение жизни разовьется только тогда, когда жизнь с
Богом получит наименование «духовной», а жизнь без Бога — «телесной»,
«неправедной», «греховной». И если в эмпирической реальности Бог подза-
держался с «элементарным» уничтожением явных «неправедников», то это озна-
чает, что созрели условия для возникновения «идеи» спасения как «спасения
души» — в духе и через дух. И тогда все получает свой смысл. Неправедник,
хорошо по мирским меркам живущий, только по видимости спасен: на самом
деле, как неправедник, духовно он мертв. И наоборот: почти мертвый физи-
чески (и даже взаправду умерший) в высшем, духовном смысле — жив (ду-
ховно).
Кажется, что именно задержка со вторым пришествием Мессии заставила
тех, кто искал нового мира и нового неба, прислушаться к гностикам, к неопла-
тоникам, к другим спиритуалистам эллинистического мира. В Ветхом Завете
Бог не мешкал: впали люди в разврат и бесчестие — и потоп хлещет без оста-
новки сорок дней и сорок ночей до их полного (кроме Ноя и его домочадцев)
изничтожения. Никаких проволочек! А где-то в I, во II веках (и потом) все по-
шло наперекосяк: погряз Рим в разврате — и хоть бы хны, стоит и процветает!
Ну как тут не вспомнить о «духовном факторе» и не перенести справедливость
Божью в «тот» мир, на «тот» свет — в духовный, замогильный мир «не от мира
сего». И получается, что если бы библейский Бог не «уснул», то христианства
бы и не возникло... Невольно приходишь к мысли, что «обморок Иеговы» —
причина возникновения новой религии. Чтобы раз и навсегда парировать язы-
ческие или просто маловерные насмешки над неэффективностью Бога, нужно
было ввести в мир Дух. Сам библейский Бог это позволял — Он ведь тот Бог,
для которого «все возможно», в том числе и проволочки (на наш человеческий
взгляд) с актами справедливости.
38
Глава I. Античные истоки
* * *
Дрейф конфигурации возможностей — вот что такое время. И такое суще-
ствует даже в Эдеме: ситуация до искушающих слов змия (Бытие: 3, 1) и
после — это две разные конфигурации возможностей. Соблазн может войти
даже в рай — свобода воли есть даже у падших ангелов, у таких существ, как
змей. Тем более наделены ею первочеловеки — Адам и Ева. Первой поддается
соблазну Ева и вводит в него затем, без всякого сопротивления с его стороны, и
Адама. Адам, муж, проявляет потрясающую пассивность — суперженствен-
ность. Он даже не пытается возразить Еве. Библейский рассказ как бы наро-
чито скуп на слова. Но нам достаточно констатировать: события в Эдеме про-
исходят — значит, время там существует.
Обычная фраза, которой пользуется бл. Августин, говоря о времени: «Про-
шлого времени нет, уже нет, а будущего еще нет». Настоящего времени, правда,
тоже нет, если не считать неделимого мгновения, которое, однако, неуловимо.
Поэтому если время есть сумма, условно говоря, прошлого, будущего и насто-
ящего, то его вообще нет, ибо нет ни того, ни другого, ни третьего. Есть только
сам переход, само течение будущего через горловину настоящего в прошлое.
Но ни один из этих моментов как таковой не существует. Существует единство
течения. Это единство и удобно обозначить как спонтанный дрейф конфигура-
ции возможностей. «Возможностей» потому, что «бытия» во времени, строго
говоря, нет. Несовместимость времени и бытия открыл еще Парменид.
Удивительна фраза «memento mori»: ведь помнить (memento: помни) можно
прошлое, а наша смерть — в будущем! Она сразу дает козырь теории Платона
о предсуществовании душ до рождения человека, о целой цепи их воплощений
(теория метемпсихоза). Если фраза эта — не просто façon de parler для совсем
другого смысла, то есть над чем задуматься, рассуждая об этих материях. Если
смерть нам действительно дана как воспоминание о будущем, то загробная
жизнь не пустая выдумка, и формулы религии спасения встают тогда со всей
неслыханной серьезностью прямо посреди сегодняшнего атеистического тех-
нотронного общества.
Время течет через остановку нашего бытия на моменте настоящего - на
настоящем, стоящем моменте — атоме времени, намеке на вечность. Мы как
бы «вставлены» в этот стоящий и текущий одновременно настоящий момент.
Только через точку касания прошлого и будущего течет время — и здесь же
оно стоит или, быть может, как бы стоит. «Речка движется и не движется». Эта
амбивалентная фигура (или конфигурация) нашей психики, ума, воли называ-
ется «вниманием», «сосредоточением». В искусстве жить в этой горловине те-
кущего времени — ключ к искусству жизни, просто к жизни (и, в конце кон-
цов, к тому, что называют «вечной жизнью»). Будущее нам дано в треволне-
На перекрестке двух культур
39
ниях души, в страхе («за будущее»), в ожидании, в томительном беспокойстве:
что там, впереди? Прошлое, как говорит бл. Августин, дано нам в нашей памяти,
в той копилке следов, которые жизнь щедро оставляет нам — на сейчас и на
будущее. А настоящее нам доступно через такую функцию души, как внима-
ние («внимание мое сосредоточено на настоящем, через которое переправля-
ется будущее, чтобы стать прошлым» 7).
Ключом к жизни — и к жизни вечной — служит у бл. Августина именно
внимание-сосредоточение: «Уйдя от ветхого человека и собрав себя..., не рас-
сеиваясь в мыслях о будущем..., но сосредотачиваясь на том, что передо мной,
не рассеянно, но сосредоточенно "пойду к победе призвания свыше"» 8. При-
звание или зов свыше — призыв от Вечности, а во время человек «низвергает-
ся», время — низина, оно существует только там, где существует тварный мир 9.
Христианский миф о новом Адаме, о спасении как о подъеме из низины смер-
тности и временности в вечную жизнь через приобщение к Иисусу Христу
(облечение во Христа предполагает совлечение одежд ветхого Адама) требует
особого тренинга внимания, сосредоточения, преодоления смуты души, иду-
щей от несуществующих «экстазов» времени, прежде всего от прошлого (через
память) и от будущего (через ожидание).
Рассеянная, несообразная, несосредоточенная душа сама в себе несет свое
наказание. Она мечется от воспоминаний о прошлом к ожиданиям будущего —
и смятениям ее нет конца. Она проходит мимо сосредоточения на миге настоя-
щем, и наказание ее — неотвратимо: «Ты повелел, — говорит бл. Августин, —
и так и есть — чтобы всякая неупорядоченная душа сама в себе несла свое
наказание» 10. «В потоке времени носится сердце» рассеянной неупорядочен-
ной души, и поэтому постичь Вечное она не в состоянии. Пусть это суетное
сердце, говорит бл. Августин, замрет на миг, «пусть минуту постоит непод-
вижно» и, «пусть поймает отблеск всегда недвижной сияющей вечности» 12.
Вечность — полна, сияет, неподвижна. И «отблеск» ее можно ухватить через
сосредоточение в настоящем. Мне кажется, что именно этот отблеск улавли-
вали созерцатели Средиземноморья, замирая в неподвижности мига на при-
брежных холмах. Это были греки, евреи, финикийцы, соплеменники прочих
этносов, рассеянных по всей округе великого региона. Вечерний час. Ровным
светом сияет неподвижное море. Застыли голубые горы на горизонте земли.
7 Там же. С. 307.
8 Там же. Курсив мой. — В. В.
9 Там же. С. 308.
10 Там же. С. 65.
11 Там же. С. 290.
12 Там же.
40
Глава I. Античные истоки
Это — не сама вечность, но ее «отблеск». Здесь присутствует, пусть намеком,
полнота (лАлрсоцос). Все стихии замерли в порядке космоса, в красоте своего
наряда, застыли на своих «естественных местах» (Аристотель). Здесь присут-
ствует свет — ровный, мягкий, спокойно-мощный. И здесь — пусть на миг, на
тихий вечерний миг — присутствует неподвижность, пусть видимая только,
только в порядке «кажимости» явленная. Но ведь это, повторяю, только отблеск
вечности — намек на нее.
Различие между языческими созерцателями, платониками и неоплатониками,
с одной стороны, и бл. Августином — с другой, в том, что он призывает заме-
реть в сосредоточенности сердце, а не ум. То, что он открывает, это — сердце-
зрение, точнее сердцеслушанье, а не умозрение. У бл. Августина мы находим
оригинальную, глубоко проработанную кардиоэпистемологию. Сердце —глав-
ный орган и богопознания, и жизни праведной 13. Сердце у бл. Августина име-
ет все необходимые для духовной жизни органы — уши, уста и прочее 14. И
саму вечность, да, саму Вечность, человек обретает, тайно касаясь Ее «трепе-
том сердца» 15.
Парадокс всей этой ситуации в том, что Средиземноморье — регион как бы
специально сотворенный для зрения. Море, яркое солнце, четкость контуров,
чистота воздуха, струящийся эфир, прозрачность — все это как бы для взгляда
создано, и греки раскрыли такое соответствие лучше других, создав удивитель-
ную культуру «умного глаза». Но в том же географическом регионе (правда,
немного от моря вглубь, в передней Азии, в Палестине, в благословенной Гали-
лее) развивается принципиально иная культура — культура слуха. Звук, зов,
призыв становятся бесконечно важнее, чем вид, очерк, контур. «Сердце» нельзя
зреть — его можно только слушать, прислушиваться к нему. У бл. Августина
все звучит — сам Космос, весь мировой процесс для него не более чем песня
(см. кн. XI, особенно конец). Лучшей метафоры, лучшего сравнения для пости-
жения тварного мира (мира-со-временем) он не находит. Откуда это? Очевидно
от псалмов Давидовых — излюбленного жанра бл. Августина. Это они, псал-
мопевцы Востока, принесли сюда, на солнечные берега Средиземноморья, куль-
туру музыки — напева, псалма («псаллейн» по-гречески означает «трогать паль-
цами струны» 16). Псалом — вот великая метафора мира. Таковой является не
образ, не вид или «идея» 17, а песня-псалом. И эта песня-мир повергает сердце
13 Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990. С. 69—103; Флоренский П. А.
Столп и утверждение Истины. Т. 1. М., 1990. С. 267 и ел.
14 Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. С. 227 и др.
15 Там же. С. 228.
16 Косидовский 3. Библейские сказания. М., 1987. С. 329.
17 iÔéa от eïôco — «вижу». См.: Дворецкий И. X. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1.
На перекрестке двух культур
41
в священный трепет. По сути дела эта песня не что иное, как хвала Творцу
мира. Хвалебным гимном звучал Эдем, затем прозвучала отщепившаяся нота
или нота отщепления (грехопадение, выбор своей воли), а затем начинает
звучать музыка драмы возвращения к изначально звучащей Хвале — через
постижение Бога сердцем, через искупительную жертву Иисуса Христа, че-
рез приобщенье к Нему и через Него к Творцу. Песня звучит во времени: эта
«песня возвращения» и есть макет истории. «Не суетись, душа моя: не дай
оглохнуть уху сердца от грохота суеты твоей. Слушай, само Слово зовет тебя
вернуться» ,8. В этих словах — весь бл. Августин, весь новый мир и новый
миф о новом человеке, новом Адаме, Адаме, спасающемся через сердце, ко-
торое учится слушать и быть послушным воле Творца. Древний Хаос (от
Xocivco — «зеваю», «разеваю») получает здесь не зрительное, а слуховое про-
чтение. Соответственно, и космизация выглядит теперь не как зримое упоря-
дочивание сущего, не как красота (коацос — порядок и наряд, или красивый
убор: здесь они не различимы), а как послушание воли через слух сердца, как
музыкальный порядок, песенное упорядочивание души. Соответственно псал-
му (50, 10) «ликуют» даже «кости» ,9. Все поет — кости, тело, душа. Сердце
же — главный орган этого мира поющего звука. И отсюда, из явного преиму-
щества, оказанного сердцу и слуху перед умом и зрением (вместе: умозрени-
ем), строится новая культура, которую мы до сих пор зовем христианской и в
которой до сих пор живем, несмотря на все неверия, включая и современные
сциентистские атеизмы.
Тела, материя — все звучит и оглушает сердце («материальные образы,
оглушающие уши моего сердца», — говорит бл. Августин 20). Телесность не
затмевает умозрения, а засоряет уши сердца — вот новая концепция взамен
старой, язычески-эллинской. Разум, очевидно, при таком раскладе ценност-
ных установок, при таком порядке приоритетов сходит со своего пьедестала:
«Наш разум, — говорит бл. Августин, — не представляет собой высшего и
неизменного блага» 21. Разум слишком привязан к телу, к зримому виду — к
«идее». «Разум, — говорит бл. Августин о зле, — не умел мыслить себе его
иначе, как в виде тонкого тела» 22. И поэтому он ограничен в своих познава-
тельных возможностях, которые теперь гарантированы чутким сердцем, а не
острым умозрением.
М, 1958. С. 460, 809. Неологизм «виден» позволяет зримо прочертить связь этих смыслов.
18 Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. С. 113.
19 Там же. С. 120.
20 Там же.
21 Там же. С. 119.
22 Там же. С. 138.
42
Глава I. Античные истоки
Признаем, что бл. Августин принял неоплатоников (и Плотина, и Порфи-
рия — видимо, их обоих) слишком близко к сердцу, чтобы все свести только к
сердцу, — позволим себе этот каламбур. Эллинское точное и ясное умозрение
у него еще сохраняется в своей функции богопознания, хотя явно сдает пози-
ции сердцу. Вот, например, он говорит: «Ты колол мое сердце стрекалом Сво-
им, чтобы не было мне покоя, пока не уверуюсь в Тебе внутренним зрением» 23.
Это место — не единственное («не имея ясного разума, бессильные найти
истину и т. д.» 24). Однако поющее и чуткое сердце явно первенствует над эллин-
ским умом или разумом.
Именно потому, что голос Платоновой Эллады не умолк в бл. Августине,
сердце у него не только имеет уши и настороженно прислушивается к миру и к
Богу, но ему одновременно доступен и свет, и вид. Так, после духовного пере-
ворота, пережитого бл. Августином, после его чудесного обращения в веру
Христову он говорит: «После этого текста (места из Священного Писания, кото-
рое он прочел в решающую минуту. — В. В.) сердце мое залили свет и покой,
исчез мрак моих сомнений» 25. Сердце, по бл. Августину, таким образом, очень
богатый орган, как бы вмещающий в себя и глаза, и уши, и ум, не говоря уже о
совести, стыде и других качествах и функциях с ним специально связанных.
Бог может в сердце и видеть 26. Сердце — источник стремлений, движений воли.
Но сердце также и источник познания. Бл. Августин говорит о том, что он «за-
думывается в сердце» 27, что сердце его «горит размышлять» 28. Сама истина
обитает в сердце 29. Сердце — орган беспредельный. Бл. Августин часто гово-
рит о его «глубине» 30, о его тайнах и «тайниках» 3l. Уши, уста, голова, даже
тело — все это сердце имеет. Сердце может и ожиреть, как жиреет наше мгно-
гоядущее тело 32. Сердце, повторяю, у него явно разумно, ибо не только может
слушать, но и понимать Слово, «поражаться» Словом 33. Телесные излишества
также влияют на него. Невоздержанность, в частности, в пище и питье его отя-
гощает, нарушая его правильную работу 34.
23 Там же. С. 177. (Курсив мой. — В. В.)
24 Там же. С. 150.
25 Там же. С. 211.
26 Там же. С. 283.
27 Там же. С. 281.
28 Там же. С. 282.
29 Там же. С. 92.
30 Там же. С. 114.
31 Там же. С. 218.
32 Там же. С. 167.
33 Там же. С. 240.
34 Там же. С. 265.
На перекрестке двух культур
43
Итак, мы видим, что сердце у бл. Августина — полифункциональный целост-
ный орган жизни, познания, воли и действия. По сути дела, мы здесь присут-
ствуем не только при создании своеобразной кардиоэпистемологии или кардио-
гносеологии, но кардиоонтологии и кардиоантропологии. Человек в сути
своей — сердце. Вот новая концепция человека, создаваемая частично из стро-
ительных материалов греческой культуры (прежде всего неоплатонизма), но
по проекту христианской веры. Содержание сердца читает Бог, и Он корректи-
рует все познание, служа критерием истины, так как Сам и есть Истина. Можно
сказать, что смена культур (от греко-языческой к христианско-библейской)
состоит в замене парадигмы ее: с разумных очей на чуткое сердце. Человек, по
бл. Августину, скажем мы, —сердечный искатель истины. Бл. Августин гово-
рит об искании смысла сердцем 35. Пророки Священного Писания прорицали
сердцем, и бл. Августин характеризует его как «прорицалище» 36. Но сердце
псалмопевцев и пророков вобрало в себя и эллинский свет и разум, однако в
качестве своих подчиненных, второстепенных моментов, которые оправдыва-
ются исключительно сердечным слухом, послушанием сердца Слову, зовуще-
му человека вернуться к Богу 37.
Там же. С. 148.
Там же.
Там же. С. 139.
Глава II
ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ
УРОК ЛЕОНАРДО 1
Феномен Леонардо из Винчи, пусть он и «развинчен», простите за калам-
бур, армией леонардистов, специалистов и экспертов, остается, однако, и будет
оставаться всегда таким же загадочным и полным таинственности, как и зна-
менитая улыбка его «Джоконды». Загадка Леонардо — загадка творчества.
Леонардо обнаружил универсальность творчества, его неисчерпаемый харак-
тер. Когда идеологические, социально-экономические, политические условия
европейской жизни изменились (что произошло с наибольшей силой в XV в. в
итальянских городах-республиках, как некогда в греческих городах-полисах,
ставших родиной знаменитого «греческого чуда»), тогда человек Возрожде-
ния, оказавшись наедине со своей творческой способностью перед лицом обнов-
ляемого мира, продемонстрировал веру в беспредельное могущество челове-
ческого творчества. В наш век специализации и «частичности» урок Леонардо
поучителен. Он стимулирует творческие способности и рассказывает о том,
что человек в мире призван обнаруживать свою жизнедеятельность как непре-
рывность творческих актов, как изобретение нового, идущее по следу открыв-
шегося мира, в случае Леонардо освободившегося от его истолкованности в
готовых формах традиционной средневековой культуры.
Фердинанд Магеллан отправился в первое кругосветное путешествие в
1519 г., в год смерти Леонардо, с тем, чтобы воочию убедить человечество, что
Земля — своего рода шарообразный космический корабль, что она везде гра-
ничит с Космосом и тем самым является типичным космическим телом.
Леонардо же показал, хотя его творчество и было во многом открыто лишь для
грядущих поколений, что человек есть уникальное творческое космическое
тело.
С высоты этого феномена, называемого Леонардо, с высоты, которая всегда
в дымке, в размытости sfumato, хорошо видна другая горная цепь, сияющая
1 К выходу в свет 2-го издания книги А. А. Гастева «Леонардо да Винчи» (ЖЗЛ). М,
1985. Все цитаты даются по указанному изданию в круглых скобках.
Урок Леонардо
45
чистотой форм, — Античность. Соединяя эти вершины в ландшафте истории
человека, убеждаешься в том, что эта история проходит как минимум через две
основные фазы — фазу сведения многообразия и неисчерпаемости мира и чело-
века к немногим элементарным символам и фазу открытия мира и человека в
их бесконечности как самостоятельно существующих и бесконечно ценных
самих по себе во всем их беспредельном разнообразии независимо ни от каких
символов.
Наблюдая движение вод, Леонардо, например, называет 64 глагола, описы-
вающих различные его виды. И этот перечень он обрывает так же, как обрывал
чтение своих стихов Велимир Хлебников, с кроткой улыбкой говоря слушате-
лям «и так далее». Этот «эчетеризм» 2 («итакдалеизм») в высшей степени ти-
пичен для Леонардо, воплощающего дух беспредельности творчества, для ко-
торого нет незначительных деталей, так как каждое различие, каким бы малым
оно ни казалось, является бесконечно важным и неисчерпаемым. Нет предела
человеческим способностям, нет предела миру, нет предела разнообразию
веществ и существ, его населяющих. Леонардо твердо уверен в одном: беско-
нечность — это подлинная «субстанция» мира и человека. И если мы, огляды-
ваясь на его творческую судьбу, впадаем в сетования по поводу того, что ему не
повезло, что его творчество осталось незавершенным и неизвестным в течение
четырех столетий, то мы поступаем несправедливо по отношению к худож-
нику, пытаясь представить его жертвой внешних обстоятельств. Принципиаль-
ный «итакдалеизм» Леонардо и стал его судьбой. И благодаря ему его судьба
продолжается. Леонардо с нами, он — наш современник, и ему нет заверше-
ния и сейчас, хотя мы о нем знаем, наверное, больше, чем он сам знал о себе.
Всем угрозам бытия Леонардо противопоставлял немедленный творческий
акт их преодоления в конструктивной изобретательности. Если Леонардо видел
пропасть на пути, то сразу же начинал воображать мост. И воображал он его со
всей «упорной строгостью» (hostinatio rigore), бывшей его девизом.
Кто же такой все-таки Леонардо? Художник? Инженер? Механик? Оптик?
Математик? Геолог? Биолог? Анатом? Теоретик искусства, наконец? Мы бы
сказали — Поэт, имея в виду неисчерпаемую семантику греческого глагола
Ttoiécû, означающего делать, строить, возводить, изобретать и выдумывать,
изображать и рисовать и так далее. Явление Леонардо — это явление твор-
чества или «пойэзиса», определенного Платоном как причина перехода небы-
тия в бытие. Благодаря уроку, данному нам Леонардо, человек сегодняшнего
дня может поддерживать свое культурное и человеческое бытие. И сталкива-
ясь с пропастями, вновь открываемыми нами сегодня и неведомыми Леонардо,
мы сразу же начинаем думать о тех мостах, в которых бы зримо выступила для
2 От ecceîera — и т. д. (итал.).
46
Глава II. От Возрождения к Новому времени
всех бесспорная сообщительность их разумной конструкции, несущая прямой
витальный смысл. Тем самым Леонардо поддерживает в нас веру в то, что
выжить современный человек может лишь благодаря творчеству и его строго-
сти. И то обстоятельство, что феномен Леонардо в истории каждый раз воскре-
шают прежде всего поэты — Гёте в XIX, Поль Валери в XX в., — доказывает
нам, что каравелла универсального творчества в наше время бросила свой якорь
на той, казалось бы, неуниверсальной акватории, которую зовут сегодня поэзией.
И нам остается только добавить, что сокрытые в ее трюмах сокровища вооду-
шевляют не только собственно поэзию, литературу, искусство, но и науку, кото-
рая ищет новых синтезов естественнонаучного и гуманитарного знания. И в
этих трудных поисках фигура Леонардо служит гарантом, что цель может быть
достигнута, что тайна всех сложностей и расходимостей — в «неслыханной
простоте» невиданных симметрии и структур, которые, однако, можно уви-
деть-построить-изобрести, поскольку человек — это предельно гибкое мысля-
щее космическое тело, способное к самому мощному континууму бесконечно
разнообразных движений.
Когда по Европе расходились инкунабулы, в век необычайного расцвета
печатного слова, «леттризма» и гуманизма, Леонардо обращается к устному
слову, к живому диалогу с мастерами и знатоками, с умельцами, ремесленни-
ками, изобретателями. Он необычен для своего времени, века книжной эруди-
ции, бесконечных комментариев, переводов древних, начатых неоплатониче-
скими энтузиастами и нашедших веком спустя в Джордано Бруно своего само-
го красноречивого и знаменитого представителя. Леонардо — совсем другой.
Конечно, сопоставляя эти две фигуры, хочется сказать о контрасте севера и
юга (Бруно — южанин из Нолы, из-под Неаполя, Леонардо — тосканец). Но у
Леонардо не только северная кровь, у него совсем другой творческий темпера-
мент. Его духовная направленность не столько словесно-мыслительная, идей-
ная, сколько художественно-созидательная, визуально-медитативная. Леонардо
не дает нам вербально-артикулированного в философском дискурсе нового
мировоззрения, радикально и открыто порывающего со старым, как это делает
Бруно, а обнаруживает перед нами спокойно текущий творческий процесс
духовно свободного человека, гармонически сочетающего наблюдение и кон-
струирование.
С точки зрения истории познания феномен Леонардо поразителен своей
самостоятельностью, независимостью. Кажется, что дело обстоит так, будто в
нем начинаются новые нити, открываются новые земля и небо для разума и
рационального научного освоения мира человеком. Конечно, хочется не без
основания назвать раздумья и догадки Леонардо «несвоевременными размыш-
лениями» (выражение Ницше). Но это вовсе не значит, что Леонардо — чемпион
предвосхищений, что он «угадал» новую науку. Нет, его наука совсем иная, чем
Урок Леонардо
47
механистическое естествознание XVII века, на Леонардо будет опираться Гёте
в своем споре с Ньютоном по поводу теории цвета. И если наука Леонардо
носит качественный характер, то это вовсе не квалитативизм перипатетиков.
Его наука — уникальный случай, особая территория, и понять ее мы можем не
столько с помощью нахождения для Леонардо предшественников в прошлом и
не столько с помощью указания на тех, по отношению к кому его самого мож-
но считать предшественником, сколько с помощью анализа и реконструкции
своеобразия и уникальности этого феномена.
Гастев удачно передает атмосферу, в которой развился феномен Леонардо.
Это мир художественных мастерских итальянских городов (боттег), соприка-
савшийся с гуманистическими кружками, но ощущавший себя особым миром,
ареной не книжных сражений и отражений «пересказчиков и трубачей чужих
дел» (С. 58), а миром самостоятельных творцов, имеющих что сказать людям и
в технических выдумках, и в предметах искусства. В этом отношении книга
Гастева дополняет другие работы о Леонардо, в частности хорошо известную
историкам науки монографию В. П. Зубова.
Гастев избегает привычных штампов биографического жанра. Этот жанр
благодаря расхожести многих его приемов стал слишком облегченным, чему
способствовали такие крупные мастера биографии, как А. Моруа и некоторые
другие. Гастев сумел найти свой вариант рассказа о великом деятеле итальян-
ского Возрождения, приблизив свое повествование к стилю самого Леонардо.
Это высокорационалистический стиль своеобразной научной прозы, жестко-
ватый, «въедливый» своим аналитизмом, стиль точных наблюдений, «ума и
сердца горестных замет». Но это не абстрактно-математический стиль механи-
стической новоевропейской науки —это явление художественного разума, как
и весь феномен науки Леонардо. Человек и природа в этом феномене пусть и
сочетаются друг с другом посредством изобретенных орудий, технических при-
способлений, механических ухищрений, но среда технологии здесь еще очень
близка человеку, будучи скроенной по мерке его естественных способностей,
по масштабу его активности мастера. В ней нет той подавляющей громадности
закодированной в ней информации, как это имеет место с современной науч-
ной и технической машинерией, что вызывает специфический познаватель-
ный — да и не только познавательный — кризис, неведомый человеку Воз-
рождения.
В атмосфере художественно-механических мастерских Милана и Флорен-
ции у Леонардо созревают научные проекты универсальной азбуки механиз-
мов, предназначенной для создания бесконечного разнообразия технических
устройств, исходя из конечного и небольшого числа исходных деталей. Это —
программа всякого научного предприятия, начиная с античной Греции (идея
элементов). В виде проекта универсального математического языка мы нахо-
48
Глава II. От Возрождения к Новому времени
дим ее у Лейбница. В современной науке эта идея давно стала основой ее до-
стижений, хотя обилие ее следствий и способствует ее маскировке.
Каким же вырисовывается образ Леонардо со страниц книги Гастева? В
Леонардо мы видим «существо, равно обладающее могучим прыжком и пче-
линой тщательностью, озирающее целиком мироздание и одновременно кру-
жащее возле какой-нибудь частности» (С. 117). И получается, что этот универ-
салист создает одновременно и первоосновы узкоспециальных подходов. Ведь
без специализации нет науки, как, впрочем, нет ее и без универсализма как
мощного и эффективного ее идеала.
Автор помещает читателя в плотную и напряженную атмосферу созидания
рукотворных вещей, инструментов в их конкретной исторической фактуре. Как
Леонардо вываривает тела умерших существ, чтобы обнажить их скелеты, так
и автор стремится достичь серьезности и весомости в описаниях вещей, пре-
образуемых непрерывным изобретением.
«Скорее смерть, чем усталость» — гласит еще один девиз Леонардо. Отсюда
и стиль книги — он немного тяжеловесен, веществен, плотен, густ, кажется,
что ты присутствуешь в мастерской среди тяжелых ограниваемых глыб грани-
та, металла для отливок, деревянных брусов, шестеренок и тросов. Это мир
преобразования форм вещей и их самих в их тяжелой материальности. Словес-
ное сопровождение при этом дается скупо, но характеристично. Курсивом сле-
дуют собственные слова Леонардо. Но и помимо закурсивленных цитат текст
насыщен словами Маэстро.
Язык книги в целом — «леонардескный». Это и орнитологические сравне-
ния, например «брови, похожие на седеющие крылья полевых ласточек»
(С. 106), с их точностью в детали — полевая ласточка. Со страниц книги вста-
ет образ симбиоза творческой личности и конструируемых ею предметов. Дух
вещей, их нелегких метаморфоз в творческих актах, дух объективного созида-
ния, отсутствие легковесного психологизма, столь привычного в биографичес-
ком жанре, делает эту книгу нелегкой для чтения, придает ей специфический
вкус, вводящий в суть дела, приглашающий читателя к активному воссозда-
нию атмосферы возрожденческого духа созидания, исследования, открытий.
Фигуры развития научного знания живут в творческих актах Леонардо как
бы в миниатюре, в программном микроварианте. Сходятся вместе разные дис-
циплины и из их пересечений возникают новые (С. 106). Знание ветвится, рас-
тет. Наука Леонардо воспринимается как все знание, как вся наука сразу — ив
своей универсальности, и в своей специализации, в своей теории, и как практика.
И этот объективный дух органически растущего знания дан в адекватной сти-
листике его демонстрации.
Как мы уже сказали, качественный характер науки Леонардо иной, чем у
физики Стагирита. Конечно, между аристотелевской наукой и Леонардовой есть
Урок Леонардо
49
пересечения — и немалые. Теория стихий, в известной степени теория тяжести
и другие учения Леонардо взяты им из перипатетической традиции. Но в осно-
ве «качественности» его науки лежит не ориентация на язык, не использование
логико-грамматических моделей в качестве основных точек отсчета, расчленя-
ющих бытие, а деловой практицизм художника и ремесленника, эмпиризм инже-
нера. У Леонардо нет ни аристотелевской телеологии, ни его иерархизма в пони-
мании устройства мира, ни гилеморфизма в концептуальном мышлении. Основ-
ные идейные установки Стагирита в науке Леонардо не действуют. Но она все
равно остается качественной.
Арифметика и геометрия, по Леонардо, «распространяются только на изу-
чение прерывных и непрерывных количеств, но не трудятся над качеством и
красотой творений природы и украшением мира, как это делает живопись»
(С. 355—356). Не математика, как у Галилея, а искусство, живопись у Леонар-
до — наивысшая наука, носящая универсальный и объединяющий все знание
характер. Его математика не порывает с чувственно-конкретным опытом и не
становится абстрактной. Как удачно выражается Гастев, чувственный мир, ото-
двигаемый обычно при математическом рассмотрении вещей, у Леонардо все-
гда «остается в виду, хотя бы и где-то на горизонте воображения» и поэтому
«в долину абстракции всякими путями проникает сырость действительности»
(С. 252). И если уж сравнивать Леонардо и Аристотеля, то нужно сказать, что
Леонардо близок к Аристотелю как наблюдателю и «историку» животных, нату-
ралисту и «физику» и весьма далек от догматизированного Философа схола-
стики.
Дух поисков Леонардо — это действительно научный дух в самом точном
смысле слова. Леонардо ставит вопросы природе, стремясь услышать ее ответ,
выдвигает гипотезы и трезво проверяет их. И если они не выдерживают прове-
ряющего их контакта с опытом и экспериментом, то Леонардо от них отказы-
вается. Поэтому он нередко изменяет свою позицию, возвращаясь на прежнюю
точку зрения. Леонардо знает сомнения и колебания. Но он всегда ищет и снова
ищет, опираясь на воображение и опыт, на рассуждение и наблюдение. Знание,
по Леонардо, — условно и гипотетично и поэтому подлежит проверке и крити-
ческому обсуждению. «Отважный прямой взгляд на вещи и ничем не стесняю-
щееся любопытство исследователя» (С. 393) ставят его в ряд великих ученых,
пусть современность и находит у него массу фактических ошибок, например в
учении о полетах птиц и в метеорологии ветров и воздушных потоков.
Если о механике Леонардо-инженера устами Фацио Кардано было сказано,
что «бесчисленные машины и есть его главное искусство и художество» (С. 222),
то о живописи Леонардо можно с таким же правом сказать, что она есть его
подлинная механика и инженерия. Его определение живописи как «изобрете-
ния, которое с философским и тонким размышлением изучает все качества
4-3357
50
Глава IL От Возрождения к Новому времени
форм» (С. 160), показывает, что живопись для него — это благороднейшая на-
ука, осуществляющая универсальное познание истины с помощью своих мо-
гущественных инструментов — глаз и рук, опирающихся на размышление.
ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ГЕНЕЗИС НАУКИ
В истории науки, видимо, нет более фундаментальной и острой, более слож-
ной и трудной, более тесно связанной с самыми глубокими философскими и
мировоззренческими вопросами проблемы, чем проблема генезиса науки.
Спектр точек зрения по этой проблеме необычайно широк — от фактического
ее отрицания в биоэволюционной эпистемологии, как, например, у Поппера,
говорящего о едином процессе роста знания «от амебы до Эйнштейна» \ до
точек зрения, согласно которым «настоящая» наука на самом деле еще и не
возникла2. Если отбросить крайние точки зрения, то, по-видимому, многие се-
годня не без оснований считают, что современная наука обязана своим «рожде-
нием» прежде всего научной революции XVII в. И если это действительно так,
тогда ответ на вопрос о генезисе науки в значительной степени зависит от ре-
шения проблемы генезиса научной революции XVII в.
На переходе от средних веков к новому времени соотношение «миф — ло-
гос», столь важное в плане анализа генезиса науки в эпоху античности, во мно-
гом предстает в изоморфном ему соотношении «магия — наука». Книга италь-
янского историка науки Паоло Росси о Френсисе Бэконе анализирует именно
этот исторический переход от магической картины мира к научной 3.
В работах Росси, Дебаса, Ейтс (Йейтс) и других историков проблема гене-
зиса научной революции XVII в. исследуется в связи с анализом алхимии, ма-
гии и герметической традиции. Хотя работа Росси о Ф. Бэконе вышла в свет в
1957 г., а книга Ейтс о Дж. Бруно — в 1964 г., однако споры, вызванные этими
исследованиями, особенно последним, не только не утихли, но разгораются с
новой силой. Свидетельством тому служат появившиеся в последнее время как
1 Popper К. R. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford, 1972. P. 21.
2 По этому вопросу имеется обширная литература. Ему, в частности, посвящены статьи
в журнале «Вопросы истории естествознания и техники»— И. Н. Лосевой (1984. №4),
П. П. Гайденко (1983. № 1), А. А. Гурштейна (1984. № 2) и А. А. Ильина (1984. № 2).
3 Rossi Р Francesco Bacone: Dalla magia alla scienza. Bari, 1957.
4*
52
Глава IL От Возрождения к Новому времени
в нашей стране 4, так и за рубежом 5 работы, так или иначе затрагивающие ис-
торию споров и дискуссий по проблеме роли герметической традиции в гене-
зисе научной революции XVII в. и, следовательно, в генезисе науки нового вре-
мени. Сама долгоживучесть и острота этих споров наглядно показывают, на-
сколько глубоко такая, казалось бы, «спокойная» академическая дисциплина,
как историография науки, связана с самыми фундаментальными вопросами ми-
ровоззрения, духовной ориентации человека в современном мире.
Над осознанием науки с самых древнейших времен довлеет мифический об-
раз легендарного Гермеса, греческого бога, известного своей проницательно-
стью, хитростью, изобретательностью. Изобретатель лиры, ловкий защитник
героев и богов, покровитель торговли, не гнушающийся и воровством, патрон
ораторов и изобретатель весов, открывший искусство меры и взвешивания,
Гермес всегда оберегает границы и проводит через них путешественников.
Недаром в древности статуи Гермеса устанавливались на скрещении дорог. Это
он проводит души умерших в Гадес. Итак, Гермес — бог посредничества и
изобретательства, бог коммерции и ловкости рук и ума, не слишком нравствен-
ный, по нашим меркам, но, несомненно, хитроумный (он спасает от притяже-
ний Калипсо и Цирцеи даже такого полного смекалки героя, как Одиссей), в
котором острота воображения соединена с умением видеть внутреннее уст-
ройство вещей. На своем закате эллинский мир превращает Гермеса в Трисме-
гиста или Трижды Величайшего. Он включается в древнеегипетскую тради-
цию, в которой его аналогом можно считать бога Тота, основоположника алхи-
мии и других «тайных» или оккультных наук, получивших позднее название
герметических.
Во II—III вв. н. э. были написаны сочинения, рассматривавшиеся как творе-
ния самого Гермеса Трисмегиста 6. В этих разнородных по составу сочинениях
трактуются астрология и алхимия, секреты скрытых сил камней и растений;
они содержат магические рецепты, в которых рассказывается о способах под-
чинения этих сил человеку; в них разбираются и такие «технологические» воп-
росы, как способы изготовления талисманов и т. п. Кроме этих магико-практи-
ческих текстов в герметической литературе содержатся более умозрительные
тексты, в которых представлены основные доктрины герметизма. Одним из
самых известных сочинений этого рода является «Асклепий».
4 Герметизм и формирование науки. М., 1983.
5 Metaxopoulos Е. A. À la suite de F. A. Yates. Débats sur le rôle de la tradition hermétiste
dans la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles// Revue de synthèse. 1982. T. 103.
№ 105. P. 55—65.
6 Corpus Hermeticum. Textes établis par A. D. Nock et trad, par A.-J. Festugière. T. 1—2. P.,
1946.
Герметическая традиция и генезис науки
53
Вопрос о происхождении герметических сочинений продолжает интенсив-
но обсуждаться специалистами. В частности, видный исследователь гермети-
ческой традиции Фестюжьер 7 считает, что определяющим фактором в созда-
нии герметической литературы была греческая традиция, а Блумфилд 8 такую
роль приписывает культуре древнего Египта. Как считает Френсис Ейтс, эти
сочинения только заимствуют древнеегипетский стиль, но на самом деле в них,
видимо, совсем немного подлинных египетских элементов 9. Мы согласны с
мнением видного ученого и можем сказать, что герметическая литература —
это типично эклектическая литература эллинистического периода, сочетающая
в себе расхожие формулы платонизма в духе неоплатоновской традиции с иде-
ями разных эллинистических школ, прежде всего стоицизма. Конечно, при этом
в них несомненно наличие гностических и восточных элементов, в том числе
персидских.
Почему же возникает вопрос о связи герметической традиции с генезисом
науки в эпоху Возрождения и в XVII в.? Что, казалось бы, может быть обще-
го у магии, астрологии и типично мистических текстов, полных заклинаний
и иррационального косноязычия, с новой наукой, исследующей природу с
помощью строгого теоретического мышления, в тесном контакте с экспери-
ментом? Этот вопрос со всей силой был поставлен в обширной историко-
культурной и историко-научной литературе, начало которой во многом было
положено работой Френсис Ейтс «Джордано Бруно и герметическая тради-
ция» (1964).
Книга Ейтс вызвала огромный интерес и привлекла к этой проблеме внима-
ние многих историков науки. Сама исследовательница является специалистом
по культуре Возрождения, в этом плане истории культуры и построена ее кни-
га о Бруно. Но в своей работе автор пришел к таким выводам, которые непо-
средственно относятся к вопросу о генезисе науки нового времени. Действи-
тельно, выдвинув тезис о практически стопроцентном герметизме Джордано
Бруно, Ейтс уже тем самым подводит к мысли о том, что представители пере-
довой ренессансной мысли, несомненно, способствовавшие возникновению
нового научного видения мира, были герметистами. Так, коперниканство, счи-
тает Ейтс, было принято Бруно именно в силу того, что сам Бруно был интен-
сивно верующим герметистом 10. И не одного Бруно Ейтс считает таким убеж-
денным герметистом, а и многих других видных деятелей Возрождения — Флуд-
да, Джона Ди, Патрици и др.
7 Festugière A.-J. La Révélation d'Hermès Trismégiste. P., 1950—1954. (4 vols).
8 Bloomfield M. W. The Seven Dadly Sins. Michigan, 1952. P. 342.
9 Yates F A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964. P. 2.
10 Ibid. P. 155.
54
Глава II. От Возрождения к Новому времени
Не рассматривая здесь детально аргументации Ейтс (кстати, она, на наш
взгляд, развивает ее в минимальной степени, ограничиваясь лобовым сопо-
ставлением «близких» или похожих мест из герметических сочинений, с одной
стороны, и из сочинений Ноланца — с другой), отметим только наше общее
отношение к основным выводам английского историка. Методы работы Ейтс с
текстами и способ ее аргументации не вызвали нашего доверия. И вот почему.
Прямое сопоставление похожих текстов мало что доказывает. Во-первых, как
мы отметили, содержание герметических учений в высшей степени несамо-
стоятельно и неоригинально в идейно-философском плане. Идея связи микро-
космоса с макрокосмосом, которую можно проследить как в герметических
трактатах, так и у Бруно, в греческой традиции в ясной афористической форме
высказана задолго до написания герметических сочинений Демокритом, вели-
ким атомистом, научный дух которого поражает своей силой и чистотой прояв-
ления. Идея об одушевленности космоса содержится независимо от герметиз-
ма у ранних греческих мыслителей, Платона и других философов. Использова-
ние бинарных противоположностей составляет фундамент греческой мысли и
является вообще универсальной формой осознания человеком мира, начиная с
мифа. Спиритуалистический монизм, означающий духовное единство миро-
здания также не является оригинальной чертой герметизма, и его мы находим
и у Платона, и в неоплатонизме.
Сделаем наш первый вывод. Мы не можем принять тезис Ейтс о стопро-
центном герметизме Бруно. Говорить о влиянии на него герметической тра-
диции, конкретно разбирая формы и пределы такого влияния, — это одно,
но считать Бруно всецело «герметическим магом» п, сводить без остатка
всю «философию рассвета» к оккультному герметическому «знанию», на
наш взгляд, необоснованно. Ейтс является одним из лучших специалистов-
экспертов по культуре Ренессанса. Это несомненно. Она прекрасно владеет
обширнейшим материалом истории культуры. И поэтому, как ученый, она
не может не отметить, разбирая предпосылки философии Бруно, такие фи-
гуры, как Николай из Кузы и Лукреций. Анализ содержания самих текстов
приводит ее к признанию того, что такие существенные черты учения Бру-
но, как представление о бесконечном множестве миров, имеют своим не-
посредственным источником не герметизм, а поэму Лукреция. «Что же ка-
сается непосредственного источника нового видения мира, — пишет
Ейтс, — то относительно него не может быть сомнений. Бруно нашел кон-
цепцию бесконечного пространства и бесконечного множества миров, на-
селенных подобно нашему, в поэме Лукреция "De rerum natura", которую
он часто цитирует в данной связи в диалоге "De l'infïnito universo е mondi"
11 Ibid. P. 168.
Герметическая традиция и генезис науки
55
и в других местах» ,2. Однако это верное замечание относительно источни-
ков концепции Бруно дезавуирует исходный, принятый без веских доказа-
тельств тезис Ейтс о полном герметизме и магизме Джордано Бруно. Тем не
менее Ейтс вопреки этому, исходя из своей заранее фиксированной и тем са-
мым выведенной из сферы научного анализа установки, говорит, что «эмоцио-
нальной движущей силой интенции Бруно, рвущего с рамками коперниканства
и ведущего к бесконечной Вселенной, населенной бесчисленными мирами, был
герметический импульс» 13. Герметический порыв оказывается всеобъясняю-
щим фактором, и незачем исследовать материал, говорящий совсем о другом,
если в качестве магической веры принята эта установка. Научное исследова-
ние подменяется ненаучной идеологией.
Об элементах магии, астрологии, гилозоизма и витализма у Бруно говорили
задолго до работы Ейтс. Они, действительно, присутствуют в текстах великого
Ноланца. И все дело в их оценке, в понимании способов их проникновения в
мышление Бруно, в исследовании границ их воздействия на его мысль в целом.
Любопытно при этом отметить, что если Александр Койре называл мировоз-
зрение Бруно «виталистическим и магическим», то Ейтс переоценивает при-
оритеты и на первое место ставит магизм Бруно: фундаментом философии
Бруно, говорит она, были магия и витализм |4.
Внимание историков науки было привлечено к работе Ейтс по разным при-
чинам. Не последней из них было то, что специалист по истории культуры эпо-
хи Возрождения пришел к диаметрально противоположным по отношению к
широко распространенным в среде историков науки установкам в вопросе о
генезисе науки. Покажем это на примере сравнения позиций по этому вопросу
Койре и Ейтс. Койре, анализируя космологию Бруно, ее радикальный и нова-
торский характер, сознательно оставляет в стороне его витализм и склонность
к магии. «Мой очерк его космологии, — пишет Койре, — неполон и односто-
ронен: его концепция мира — виталистическая и магическая, его планеты —
это одушевленные существа, свободно движущиеся в пространстве согласно
их собственным желаниям, как это имеет место у Платона или Патрици»15. Мо-
гучее влияние Бруно на научное мировоззрение, как считает Койре, как бы пре-
одолевает эти ненаучные компоненты его мышления, оно столь значительно,
несмотря на них. Ейтс же говорит прямо противоположное: влияние Бруно
столь велико именно благодаря герметизму и магии. Это изменение на проти-
12 Ibid. Р. 246.
13 Ibid. Р. 156.
14 Ibid. Р. 244.
15 Koyré A. Du monde clos à l'univers infini / Trad, de l'anglais par R. Tarr. P., 1962. P. 58.
Рус. пер.: Койре A. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М., 2001.
56
Глава IL От Возрождения к Новому времени
воположную оценку роли магии и герметизма в генезисе науки и оказалось
одним из провоцирующих историко-научную мысль моментов, внесенных в
интеллектуальный оборот работой Ейтс. Конечно, этому необычайно бурно про-
будившемуся интересу к связи генезиса науки и герметизма в значительной
степени способствовали как литературные достоинства книги Ейтс, ее велико-
лепная эрудиция и своего рода «пророческий» стиль, так и социокультурная и
интеллектуальная атмосфера 60-х годов на Западе, когда поток историко-науч-
ных исследований взрывает позитивистские каноны анализа науки.
В рамках позитивистской догмы наука длительное время изучалась исклю-
чительно как замкнутый, изолированный от мира культуры и общества фено-
мен. В силу своих исходных установок позитивизм не мог анализировать науку
в ее социальных и культурных измерениях. Кризис позитивистской ориента-
ции усилил и обновил интерес ко всем возможным способам видения, оценки
и методам анализа науки в самом широком контексте социальной действитель-
ности и культуры. В эти годы возникает и структуралистское направление, и
разные иные постпозитивистские течения, такие, как «критический реализм»,
историческая школа, развивается историческая эпистемология, начатая Баш-
ляром, формируются и другие направления, ставящие науку в широкий социо-
культурный контекст.
Кризис позитивизма и, более широко, кризис технократических и сциенти-
стских иллюзий западного мира и возникновение различного рода антисциен-
тистских настроений и учений, оформляющих их, делают вполне понятным
интерес к вненаучным традициям в культуре, а попытки редукции науки к не-
науке выступают как своего рода компенсация за сциентистское сведение в
духе позитивизма всей культуры к научной рациональности.
Возвращаясь к нашему сопоставлению принятой историками науки вместе
с Койре установки по отношению к иррациональным моментам в культуре с
аналогичной установкой, столь ярко прозвучавшей в работе Ейтс, мы видим их
диаметральную противоположность. «Возрожденческая магия, — говорит
Ейтс, — это фактор, обеспечивающий фундаментальные изменения в миро-
воззрении человека» 16. Койре же и следующие за ним историки науки факти-
чески отбрасывали анализ витализма и магии, герметизма и других «теневых»
неофициальных сторон духовной жизни средних веков и Возрождения.
Итак, суть драматически напряженного спора, открытого яркой книгой Ейтс,
такова: благодаря или вопреки герметизму и оккультному знанию возникает
научное знание? Спор этот серьезен и затрагивает самый нерв историко-науч-
ной мысли. Аргументы Ейтс в пользу тезиса о герметизме как полностью пози-
тивном посреднике в процессе возникновения науки нового времени, на наш
16 Yates F. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. P. 155.
Герметическая традиция и генезис науки
57
взгляд, несостоятельны. В частности, таков основной аргумент, сводящийся к
указанию на практическую направленность, присутствующую в герметической
традиции, которая могла бы привести к отбрасыванию умозрительной схолас-
тики перипатетическо-томистскои мысли и установлению нового взгляда на
мир, в центре которого стояло бы практическое и экспериментальное к нему
отношение. Так, стопроцентный «герметист» Бруно поражает отсутствием у
него какой-либо практической ориентации, и если, например, и до него, и пос-
ле были попытки разработки, пусть и утопические, технологии полетов чело-
века в воздухе около Земли и между мирами (вспомним и Леонардо, и Годвина,
и Сирано де Бержерака), то у него они отсутствуют полностью. И это понятно.
Зачем разрабатывать механическую технологию полетов, если миры — живые
существа и сами в силу своей биоморфной природы могут сближаться и даже
соединяться друг с другом, причем такое соединение носит витальный харак-
тер и подобно половому размножению животных? Способствует ли витализм
и магия развитию практико-технологического отношения к миру? Из этого при-
мера видно, что они скорее препятствуют развитию рациональной техники и,
соответственно, науки как способа ее теоретического обоснования. И как мож-
но забыть при этом, что в стороне от магии и герметизма в Возрождении разви-
валась традиция рационально-художественной практики, находившая свою
социальную базу в мире «боттег» итальянских городов? И разве не в лоне имен-
но этой традиции развился такой мощный феномен «рационалистического Гер-
меса», как Леонардо да Винчи?
В творчестве Леонардо самые разнообразные будущие «фигуры» научного
знания живут как бы в своем зародыше. В них сходятся воедино различные
дисциплины и направления поисков, и из их пересечений в точках творческих
решений возникают новые знания. Знание как бы непрестанно ветвится, рас-
тет. Рост знания в науке Леонардо подобен движению речных потоков и струй,
на наблюдениях за которыми он оттачивал свое «ястребиное зрение». Художе-
ственно-практическая наука Леонардо располагается по ту сторону веры в абсо-
лютный авторитет словесной традиции, будь то античная или средневековая.
Все виды только лишь словесно представленного знания или порой трудно от
них отделимые широковещательные претензии на него подлежат, согласно
Леонардо, строгой проверке с помощью наблюдений, опытов, экспериментов
и рассуждений, взаимно опирающихся друг на друга. Таким образом, дух поис-
ков Леонардо — это действительно рациональный научный дух.
Выше мы употребили ключевой для нас термин — «рационалистический
Гермес». Иррационалистический Гермес оккультизма и магии, Гермес герме-
тической традиции, — это вовсе не единственный способ выразить и осуще-
ствить единство знания и мира. Это и не единственный способ представить
себе прогресс знаний, их превращение в науку.
58
Глава II. От Возрождения к Новому времени
Парадоксальным образом идея «рационалистического Гермеса» в максималь-
ной степени антигерметична: не в замыкании познающего субъекта в форму-
лах чернокнижия и магии обретается единение его с миром и мира с самим
собой, а, напротив, в предельной раскрытое™ и сообщительности всех форм
культуры между собой, причем рационально мыслящий субъект и осуществля-
ет это единство. Иными словами, антигерметизм рационалистического Герме-
са означает, что различные отрасли культуры и знания предельно раскрыты
для взаимопроникновения, причем такое взаимопроникновение происходит не
через неподвижные и доступные лишь для адептов рецепты и формы, а через
величайшую по напряжению активность рационального воображения. В раци-
оналистическом варианте идея Гермеса оборачивается не герметичностью свя-
занной с его именем традиции, а максимальным взаимным посредничеством,
взаимооткрытостью, нахождением пересечений и общих структур в самых раз-
личных сферах культуры, знания и мира.
Генезис науки в XVI—XVII вв. должен был пройти буквально сквозь иголь-
ное ушко, минуя Сциллу официального схоластико-аристотелевского мировоз-
зрения и Харибду неофициального и оккультного герметического мироотно-
шения. В этом движении высочайшей информационной емкости и поэтому
крайне трудном для историко-научных реконструкций и состояла траектория
акта рождения новоевропейской науки. Описывая эту траекторию, представ-
ляя себе ее повороты и динамику, мы не можем, однако, упускать из виду то
обстоятельство, что неофициальный герметизм в широком смысле (алхимия,
астрология, магия, другие оккультные науки и, конечно, то, что можно назвать
собственно герметическим мировоззрением) в качестве оппонента официаль-
ного аристотелизма способствовал ослаблению его влияния на общество и его
культуру. В высшей степени это и происходит в эпоху Возрождения.
Однако при этом надо учитывать весь спектр неперипатетических доктрин,
а не только герметизм. Влияние в этом плане неоплатонизма Ренессанса на
прокладывание путей для становления нового мировоззрения хорошо изучено.
Отметим в связи с этим переключение внимания современных исследовате-
лей с анализа созерцательного, спиритуалистического платонизма флорентий-
ской школы на исследование эмпирического платонизма Италии и особенно
Англии 17. Выдвинутый Койре в духе интерналистского дисконтинуализма тезис
о «реванше Платона над Аристотелем» как своего рода «гештальт-переключе-
нии», ответственном за смену ментальных установок, приведшую к науке но-
вого времени, если и не совершенно отброшен современной историографией,
то, безусловно, существенно переосмыслен и наполнен новым конкретно-исто-
рическим социокультурным содержанием. Но роль всех этих мировоззрений и
17 Metaxopoulos Е. A. À la suite de F. A. Yates... P. 56—60.
Герметическая традиция и генезис науки
59
культурных форм двойственная: они ослабляют социальный престиж средне-
векового аристотелизма, но сами рано или поздно должны сойти со сцены, что-
бы дать место научному отношению к миру.
Последнее обстоятельство очевидно, если мы обратимся снова к фигуре
Джордано Бруно. Это — ум, в высшей степени далекий от норм рационально-
сти механико-математического знания. Его отношение к математике, сугубо
качественный и анимистический взгляд на природу, допущение магии и астро-
логии, некритические установки по отношению ко всему неофициальному сред-
невековому багажу идей, вдруг получивших возможность своего широкого рас-
пространения в ренессансном обществе, — все это говорит о том, что новая
наука в процессе своего возникновения должна была не только подвергнуться
мощному и освобождающему влиянию идей Бруно, воздействию его радикаль-
ного инфинитизма, его интуиции беспредельного и однородного космического
пространства, но и преодолеть, отталкивая от себя, сам этот чисто возрожден-
ческий пафос и настрой философии великого Ноланца. Как справедливо пи-
шет Койре, «Бруно никоим образом не является современным умом ,8. И тем не
менее его видение мира, его представление о бесконечной Вселенной столь
могуче и пророчески весомо, столь глубоко обосновано и столь поэтически
выражено, что им можно только восхищаться. И оно глубоко повлияло на на-
уку и на философию нового времени по крайней мере в том, что касается их
общей структуры» 19.
Аристотелизм в качестве развитой формы рационализма (хотя в средние века
он и был привит к христианскому мировоззрению с характерным для него ирра-
ционализмом) был мощной защитой от герметизма и магии в среде ученых.
Ослабление его влияния не привело автоматически к установлению нового
научного мировоззрения. Оно позволило лишь прийти в движение разнород-
ным культурным силам, в том числе и герметической традиции. Это переход-
ное состояние с типичным для него набором самых разных культурных форм
и, можно сказать, самых разных исторических времен было питательной поч-
вой для поисков нового. Они протекали не только в чисто умозрительной сфе-
ре, не только в среде гуманистов с их книжной мудростью и филологической
направленностью интересов, но и в среде мастеров — художников, архитекто-
ров, строителей, практиков ремесел и инженеров. Однако эти оба потока не
могли слиться в единое течение в эпоху Возрождения. Только XVII век, преоб-
разовав оба потока, сумел соединить теорию и практику, представления о мире
Мы не согласны с трактовкой Бруно как почти современного по своим методам и
подходам к миру ученого, которую дает Антуанетта Патерсон (Paterson А. М. The Infinite
Worlds of Giordano Bruno. Springfield (USA), 1970).
19 Koyré A. Du monde clos à l'univers infini. P. 58.
60
Глава II. От Возрождения к Новому времени
с техникой его освоения. И только тогда и возникла новая, экспериментальная
наука.
Подведем итоги нашему анализу проблемы. Как же соотносятся герметизм
и наука? Когда науки еще нет, но ее зарождение или созревание уже происхо-
дит, тогда то, чему суждено в будущем стать наукой, так сказать, «преднаука»,
преобразуя разные культурные формы, в том числе и герметическую тради-
цию, превращает некоторые элементы «нерационалистического» культурного
наследия в свои формирующиеся структуры. На этом этапе развития процесса
генезиса науки можно и нужно исследовать определенную позитивную функ-
цию культурных посредников, способствующих генезису науки хотя бы уже
самим фактом их влияния на ослабление господствующего мировоззрения в
духе схоластического перипатетизма. Но когда основы научного мировоззре-
ния уже заложены, когда наука фактически родилась, тогда ее связь с герметиз-
мом и другими подобного рода культурными образованиями резко меняется.
Теперь наука кровно заинтересована в том, чтобы освобождаться от инород-
ных форм и влияний. Тогда магия и герметизм уже не могут способствовать
научному росту, хотя, конечно, в науке всегда есть и активно работают такие
«нелогические» формы познания, которые присущи и другим формам духов-
ного производства: воображение, метафора, догадка и т. п. Но эти элементы
научного творчества ничего общего не имеют с догматической идеологией гер-
метической традиции. Своей, бесспорно, яркой, увлекательной и богато доку-
ментированной книгой Френсис Ейтс способствовала постановке проблемы
связи герметизма с генезисом науки в более острой и конкретной форме. Ясно,
что такая проблема, как проблема генезиса науки, не может быть решена в
позитивистской традиции. Но это вовсе не означает, что она вообще неразре-
шима на путях рационализма. Рационализм сам по себе — не неизменное зас-
тывшее образование, а динамическое мировоззрение, которое развивается, ме-
няет свои формы, обновляясь вместе с ростом и качественными сдвигами в
научном знании и культуре в целом, способное исследовать и решать эту слож-
ную проблему. Как справедливо показал в своих работах Росси и на что обра-
тил внимание Метаксопулос, замена позитивистского континуализма мисти-
ческим лишена всякого исторического основания 20.
И, наконец, последнее. История науки должна оставаться свободной от ин-
теллектуальных мод века. Судьям Джордано Бруно из римской инквизиции было
удобнее и проще дискредитировать свободного мыслителя-новатора, представ-
ляя его магом и колдуном, чем разбираться в сути его философского учения.
И если в период кризиса сциентизма и разочарования в науке как панацее от
всех зол на Западе возникает мода на колдунов, магов и шаманов и если, покор-
Metaxopoulos Е. A. À la suite de F. A. Yates... P. 64.
Герметическая традиция и генезис науки
61
ствуя этой моде, соблазнительно представить героев научного мировоззрения
снова как магов и колдунов, но уже со знаком плюс, якобы спасая их тем самым
от кажущегося набившим оскомину узколобого сциентизма, то история науки
как наука не должна поддаваться моде и легковесным решениям, ничего обще-
го не имеющим с поисками истины.
ГЕРМЕТИЗМ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ЧУДО
Три аспекта генезиса науки Нового времени
В историографии науки, изучающей ее в культурном контексте, влияние на
генезис науки религиозных и теологических факторов рассматривается давно
и в разных аспектах. Еще в прошлом веке Альфонс де Кандоль писал о том, что
«нехристианские страны совершенно чужды научному движению» '. В наше
время эту же мысль (но не в социолого-науковедческом, а в философском пла-
не) высказал Александр Кожев, указав на догмат боговоплощения в составе
христианства как на несущий главную ответственность за феномен западной
науки 2. Мы выбираем для анализа этой проблемы три момента: во-первых,
роль гсрметизма в генезисе новой науки, во-вторых, связь экспериментального
характера науки нового времени с волюнтаристской теологией и, в-третьих,
проблему чуда и вклад механистического естествознания XVII в. в ее решение.
РОЛЬ ГЕРМЕТИЗМА В ГЕНЕЗИСЕ НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Герметизм или магико-герметическая традиция, ведущая мифологический
отсчет своего происхождения от легендарного Гермеса Трисмегиста, включает
в себя, с одной стороны, практическую магию и такие прикладные оккультные
науки, как алхимия и астрология; а с другой — умозрительные эклектические
доктрины философско-теологического плана, содержательное ядро которых
можно обозначить как языческий гностицизм.
На первый взгляд ничего общего у этой традиции с новой наукой, возник-
шей в XVII в., быть не может, и поэтому, казалось бы, расцвет герметической
1 Candolle A. de. The Influence of Religion on the Development of the Science (1873) //
Puritanism and the Rise of Modem Science. The Merton Thesis / Ed. by I. B. Cohen. New
Brunswick and London, 1990. R 145. В круглых скобках указан год первого издания.
2 См.: Kojève A. L'origine chrétienne de la science moderne // Mélanges Alexandre Koyré.
L'aventure de l'esprit. P., 1964. P. 295—306.
Герметизм, эксперимент, чудо
63
традиции накануне научной революции XVII в. не более чем исторический
курьез, никак не связанный с возникновением новоевропейской научной мен-
тальное™. Такая точка зрения, идущая от Просвещения, сохраняется и до сих
пор. Правда, в последние примерно 30 лет ситуация существенно изменилась,
о чем и пойдет речь в этом разделе.
Чем же была герметическая традиция для генезиса новоевропейской науки?
Какую роль играла она в процессе формирования новой науки, сложившейся к
концу XVII в.?
Вопрошание это не ново. Известно, что в сообществе историков науки оно
приобрело новую актуальность после появления книги английского историка
культуры Возрождения Френсис Амелии Ейтс (1899—1981) «Джордано Бруно
и герметическая традиция»3. За два года до того вышла в свет знаменитая кни-
га Т. Куна «Структура научных революций»4. В судьбе обеих книг общим явля-
ется не только время их выхода в свет. Подобно работе Куна работа Ейтс про-
шла многостороннюю и придирчивую «проверку» историков науки, стремив-
шихся подтвердить или опровергнуть содержащиеся в ней тезисы. Мощный
резонанс, который они вызвали, не случаен. Обе книги стали свидетельством
отхода истории науки от позитивистской традиции. Обе стоят под знаком втор-
жения в историографию науки анализа психологических, социологических и
исторических аспектов научной деятельности. В отличие от Куна Ейтс не исто-
рик науки в узком смысле, она — историк культуры, ее основные работы по-
священы малоизученным проблемам культурной истории Ренессанса. Поэто-
му неудивительно, что, когда ее тезисы стали апробироваться специалистами в
области истории науки, то в большинстве случаев последние пришли к весьма
критическим выводам по поводу убедительности предложенной ею концеп-
ции. Тем не менее сила воздействия книги английского историка такова, что
она до сих пор приковывает к себе внимание ученых.
К проблемам научной революции Ейтс обратилась в ходе исследований «ис-
кусства памяти», музыки и академий в средние века и в эпоху Возрождения.
Занимаясь изучением жизни Дж. Бруно (1548—1600), намереваясь издать ком-
ментированный перевод его диалога «Пир на пепле» (La cena de le ceneri), Ейтс,
однако, чувствовала, что ни полного понимания столь смелого принятия им
коперниканства, ни понимания цели его визита в Англию она не находит. И
тогда, обратив внимание на ряд трудов историков, подчеркивавших важную
роль герметической традиции в истории ренессансной мысли, она, как сама об
этом пишет, вдруг нашла искомый «ключ»: Бруно — религиозно верующий
герметист, основу его убеждений составляет египетская магия, образец кото-
Yates F. A. Giordano Bruno and Hermetic Tradition. Chicago, 1964.
4 Kuhn T. Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962.
64
Глава IL От Возрождения к Новому времени
рой дан в «Асклепии», известном герметическом произведении, ходившем в
списке в средние века в латинском переводе, ошибочно приписываемом Апу-
лею (греческий оригинал был утрачен). И так, шаг за шагом, была выстроена
увлекательная и изобретательная концепция, связавшая, действительно, мно-
жество самых разнородных историко-культурных фактов, в том числе истори-
ко-научных. Ейтс дает герметическое истолкование различным фактам не только
интеллектуальной, но и художественной истории, включая живопись Ботти-
челли, мозаику Сиенского собора, покрытие пола которого украшает фигура
Гермеса Трисмегиста, стоящего рядом с Моисеем. Это — символы и образы,
убеждающие сильнее, чем логическая аргументация. Это — сама реальность
ренессансной жизни с ее особым менталитетом. И, прочитав и продумав книгу
Ейтс, уже не сомневаешься: герметический «шифр» действительно адекватен
культурному «посланию» этой странной эпохи глубоких перемен, переведшей
стрелки часов европейской истории от традиционного средневекового мира к
новому времени — к «Модерности»5 с научным мировоззрением во главе. И
сейчас мы все так мучительно вопрошаем эту эпоху, столкнувшись, быть мо-
жет, с обратно направленным процессом — к «новому средневековью», к ново-
му магизму и новой органике, испытав кризис нашей, «механистической» в ее
основе, техногенной цивилизации.
Книга Ейтс вызвала резонанс со стороны и отечественных историков на-
уки 6. Пионером изучения связи герметической традиции с генезисом новой
науки, раскрывшим нашему читателю полемику вокруг этой проблемы в зару-
бежной историографии, была Л. М. Косарева, чье стимулирующее влияние в
данном направлении исследований мы все должны с благодарностью признать.
Однако начатые у нас исследования, обзоры и другие попытки анализа этой
сложной проблематики не получили в дальнейшем заслуженного развития, хотя
отдельные статьи и выходили 7. Наша историография науки, однако, продол-
5 Убедительную, на наш взгляд, аргументацию в пользу легитимности этого неологизма
дает В. Страда. См.: Страда В. Западничество и славянофильство в обратной перспекти-
ве // Вопросы философии. 1993. №. 7. С. 57—63.
6 Герметизм и формирование науки. М, 1983; Косарева Л. М. Проблема герметизма в
западных исследованиях генезиса науки // Вопросы истории естествознания и техники.
1985. № 3. С. 128—135; Визгин В. П. Герметическая традиция и генезис науки // Вопросы
истории естествознания и техники. 1985. № 1. С. 56—63. См. выше С. 51—61.
7 Напр.: Дмитриев И. С. Охота на зеленого льва (алхимия в творчестве Исаака Ньюто-
на) // Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 2. С. 52—66. Интересные рабо-
ты В. Л. Рабиновича по истории алхимии, публикуемые с конца 60-х годов, прямо не связа-
ны с работами Ейтс и с поставленной в них проблематикой, причем главная из них была
опубликована в 1979 г., т. е. до выхода в свет сборника, посвященного вопросу о связи
герметизма с формированием науки нового времени, подготовленного Л. М. Косаревой
Герметизм, эксперимент, чудо
65
жала исследовать проблемы, связанные с научной революцией XVII в., что,
впрочем, поддерживало интерес и к анализу той «магической» ее составляю-
щей, какой является герметизм 8.
Зарубежные и отечественные исследования роли герметической традиции в
научной революции оказались плодотворными для методологического осмыс-
ления истории науки. В частности, обсуждение данной проблематики остро
поставило вопрос о метаязыке историографического описания науки. «Герме-
тический импульс» (выражение Ейтс) в историографии привел к новому ос-
мыслению базовых категорий истории науки, таких, как рациональное и ирра-
циональное, интернализм и экстернализм, соизмеримость/несоизмеримость
ментальных парадигм, соотношение преемственности (непрерывности) с раз-
рывным (дискретным) характером движения знаний.
Вызванная книгой Ейтс дискуссия, однако, приняла несколько неадекват-
ный характер, потому что концепция историка культуры, имеющего в виду кон-
текст гражданской истории, стала проверяться специальными историко-науч-
ными исследованиями, которые, как правило, проводились в духе методоло-
гии case studies. В результате у некоторых историков науки вполне естественно
возникло чувство дефицита убедительности выводов Ейтс, которая в данном
случае разошлась, пусть и частично, с убедительностью историко-научной. В
качестве характерного примера можно сослаться на основательные «провероч-
ные» исследования историка астрономии Уэстмена и историка физики Макгу-
айра, выпустивших книгу «Герметизм и научная революция» 9. Внимательно
изучив восприятие коперниканства известными герметистами — Дж. Бруно,
Франсуа де Фуа де Кандалем (1512—1594), Дж. Ди (1527—1608), Фр. Патрици
(1529—1597), Т. Кампанеллой (1568—1639) и Р. Флуддом (1574—1637), Уэст-
мен пришел к выводу, что «герметическая традиция сама по себе не создала ни
"атмосферы", ни связной аргументации, достаточных для того, чтобы скло-
нить принадлежащих к ней деятелей к принятию гелиоцентрической альтер-
нативы» 10. Более того, не отрицая присущей ей возможности служить для
при участии В. Л. Рабиновича (1983). Кстати, именно в книге В. Л. Рабиновича отече-
ственный читатель может увидеть упомянутую нами мозаику из собора в Сиене с изобра-
жением Гермеса Трисмегиста {Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой куль-
туры. М., 1979. С. И).
8 Кирсанов В. С. Научная революция XVII века. М., 1987; Традиции и революции в
истории науки. М, 1991; Современные историко-научные исследования (Ньютон). М., 1984.
9 Westman R. S. Magical Reform and Astronomical Reform: The Yates Thesis Reconsidered //
Westman R. S., McGuire J. E. Hermetism and The Scientific Revolution. Los Angeles, 1977.
P. 1—91; McGuire J. E. Neoplatonism and Active Principles: Newton and the «Corpus
Hermeticum» // Ibid. P. 93—142.
10 Westman R. S. Magical Reform and Astronomical Reform: The Yates Thesis Reconsidered P. 53.
> - 3357
66
Глава IL От Возрождения к Новому времени
формирования науки «скромной поддержкой» п, историк астрономии подчер-
кивает, что «значительные физические и математические прозрения Бруно и
других признанных герметистов идут от их индивидуальных творческих инту-
иции и часто под влиянием учений, впервые сформулированных еще в сред-
невековой натурфилософии и независимо от их приверженности герметиче-
ским доктринам» 12. Здесь мы сталкиваемся с тонко нюансированной позицией
историка науки, признающего как позитивное влияние герметизма на форми-
рование научных концепций, пусть и в форме слабой поддержки или некого
культурного «фона», так и одновременно его негативное или тормозящее воз-
действие на формирующуюся науку (наука возникает не столько благодаря кон-
тактам с герметизмом, сколько вопреки им).
Макгуайр, внимательно изучивший возможное влияние на Ньютона «Гер-
метического корпуса», пришел к выводу, что, по сути дела, нельзя вообще го-
ворить о герметизме как самостоятельном идейном течении: «Герметизм не
был ни независимой исторической силой, ни обособленной интеллектуаль-
ной традицией, но... был почти всегда консолидирован и организован неопла-
тонизмом и распространялся благодаря оживлению последнего, так что нео-
платонизм существует как независимая историческая реальность, чего нельзя
сказать об интеллектуальных элементах герметизма» 13. Кембриджские плато-
ники, действительно повлиявшие на научные идеи Ньютона, скептически от-
носились к герметической магии, если не сказать больше. И в этом они следо-
вали традиции Августина. С одной стороны, интеллектуально-теологическая
аргументация против магии, выдвигавшаяся кембриджскими платониками,
состояла в том, что содержащаяся в ней уверенность в жестком всеохватном
натуралистическом детерминизме угрожала тезису о свободе воли. С другой
стороны, принципы герметической магии натурализировали чудотворение и
предоставляли его возможность безблагодатным, стоящим вне христианской
традиции операторам, что безусловно подрывало христианское учение о чуде-
сах ,4. Таким образом, Макгуайр в поисках истоков научных представлений Нью-
тона не склонен вообще разыгрывать герметическую «карту», выбирая в каче-
стве фактора генезиса науки традицию «волюнтаристской теологии творения»
(изученной в связи с проблемой генезиса науки Клаареном ,5) и неоплатонизм.
11 Ibid. Р. 70.
12 Ibid. Р. 72.
13 McGuireJ. Е. Neoplatonism and Active Principles: Newton and the «Corpus Hermeticum».
P. 127.
14 Ibid. P. 131.
15 Klaaren E. M. Religious Origines of Modern Science: Belief in Creation in XVIIth century
Thought. Grand Rapids (Michigan), 1977.
Герметизм, эксперимент, чудо
67
Наши собственные исследования космологии Дж. Бруно ,6 дали в целом тот
же результат, что и исследования Уэстмена и Макгуайра, что и было выражено
в статье, справедливо оцененной в качестве критической по отношению к кон-
цепции Ейтс ,7. Однако, перечитывая книгу Ейтс, проникаешься уверенностью
в неслучайности герметического «ключа», действительно во многом (но, ко-
нечно же, не во всем) способного «декодировать» то «послание», каковым яв-
ляется для нас культура Возрождения. Это впечатление усиливается в резуль-
тате знакомства с другими работами историка, в частности с ее книгой «Розен-
крейцеровское просвещение» 18, не получившей, к сожалению, резонанса в тех
отечественных обзорах и работах, о которых было сказано выше.
Розенкрейцерство и наука
Ейтс определяет розенкрейцерство как особое культурное течение, связы-
вающее Возрождение с научной революцией XVII в. и сочетающее в себе две
герметические традиции: возрожденческую каббалу, с одной стороны, и алхи-
мию — с другой. Этот сплав магии, каббалы и алхимии влияет на формирова-
ние своеобразного «предпросвещения» в Европе при переходе к Просвещению.
Ведущей фигурой такой переходной культуры выступает, по мнению Ейтс,
Джон Ди 19, герметист-математик, написавший введение к английскому пере-
воду «Начал» Евклида20. «В качестве розенкрейцера, — говорит Ейтс, — Ди —
типичный пример последних магов Возрождения, соединявших магию, кабба-
лу и алхимию с целью построения такой картины мира, в которой прогресс
знания был бы странным образом соединен с ангелологией»21. В этой работе
Ейтс реконструирует историю своеобразной культуры, созданной в результате
трансплантации английского Ренессанса на германскую почву благодаря бра-
Визгин В. П. Идея множественности миров: Очерки истории. М, 1988. Гл. 5.
17 Косарева Л. М. Проблема герметизма в западных исследованиях генезиса науки. С. 128.
Речь идет о статье: Визгин В. П. Герметическая традиция и генезис науки // Вопросы исто-
рии естествознания и техники. 1985. № 1. С. 56—63. (См. выше С. 51—61).
18 Yates К A. The Rosencrucian Enlightenment. London, 1972. Рус. пер.: Йейтс Ф. Розенк-
рейцерское Просвещение. М., 1999.
19 Главный труд Дж. Ди «Monas hierogliphica» (1564) переведен на английский Джосте-
ном: Josten С. Н. A Translation of John Dee «Monas Hieroglyphica» (Antuerp., 1564) with
Introduction and Annotation // Ambix. 1964. Vol. 12. №. 2. Рус. пер. Ю. А. Данилова см.:
ЦиДж. Иероглифическая монада// Герметизм, магия, натурфилософия в европейской куль-
туре XIII—XIX вв. М., 1999. С. 168—216.
20 Yates F. A. La. lumière des Rose-Croix: L'illuminisme rosicrucien / Trad, par M. D. Delorme.
P., 1978. P. 8. Русский перевод: Франсес Йейтс. Розенкрейцерское Просвещение. М., 1999.
21 Ibid. Р. 9.
68
Глава IL От Возрождения к Новому времени
ку дочери Якова I, принцессы Елизаветы, с главой протестантской унии Фрид-
рихом Пфальцским (1613). Елизавета изучала труды Бэкона, а Фридрих, склон-
ный к мистике, интересовался искусством, музыкой, архитектурой. В резуль-
тате слияния разнообразных культурных течений в столице Пфальца Гейдель-
берге (где действовал знаменитый университет) был создан очаг высокой куль-
туры позднеренессансного типа, в которой явно просматривалось влияние, с
одной стороны, новых реформаторов наук и общества, а с другой — гермети-
ческих эзотерических течений, причем эти влияния нередко смешивались между
собой. Именно это соединение универсалистского утопизма с герметизмом и
создавало неповторимый климат этой переходной по своему типу культуры.
Хотя Пфальц этого периода (1613—1619) был кальвинистским государством,
однако возникшее и расцветшее там в это время культурное движение имело
мало общего с кальвинистской теологией. Многие европейцы, скептически на-
строенные по отношению к папству, симпатизировали этому движению и его
представителям. «Королевство Фридриха, — продолжает Ейтс, — формирова-
ло как бы огромный коридор свободы в Европе — от Италии через Германию и
Голландию к Англии»22. В этой культурной атмосфере формировались и рабо-
тали многие выдающиеся ученые, деятельность которых в той или иной степе-
ни была «окрашена» своеобразным герметизмом. Вторым центром (помимо
Гейдельберга) этой оказавшейся недолговечной культуры была Прага. Дж. Ди,
Дж. Бруно, И. Кеплер участвовали в ее культурной жизни. Покровителем наук
и искусств здесь выступал Рудольф П. Чешским сеймом Фридрих Пфальцский
был призван в Прагу в качестве правителя, но вскоре потерпел военное пора-
жение от Католической Лиги (8 ноября 1620 г.), что привело к полному разгро-
му всей этой цветущей культуры. Библиотеки, дворцы и сады Гейдельберга
были разгромлены. Рукописи выбрасывались и топтались копытами лошадей.
Ейтс, исследовавшая последствия этого погрома, свидетельствует об этом так:
«Я не нашла никаких документов, указывающих на то, что же стало с замеча-
тельными гидравлическими органами, поющими фонтанами и другими чуде-
сами, украшавшими дворец»23. Первый проблеск грядущего Просвещения, еще
не отчлененный от Возрождения, потерпел военно-политическое поражение.
Но тем не менее духовный и научный вклад этого удивительного культурного
очага сохранился, пусть и не дав тех плодов, которые он мог бы дать, если бы
политическая история пошла иначе и протестантские немецкие князья поддер-
жали бы Фридриха и чехов.
Последняя книга Ейтс стимулирует изучение связей эзотеризма и науки,
которые никогда не были простыми. Эти связи существовали с тех пор, как
Ibid. Р. 43.
Ibid. Р. 44.
Герметизм, эксперимент, чудо
69
существуют эзотерические общества. Примером такого взаимодействия, пере-
сечения эзотерической и экзотерической форм знания еще в античности вы-
ступает прежде всего пифагореизм. Здесь роль символа играет легенда о том,
будто бы Гиппас из Метапонта был утоплен пифагорейцами за разглашение им
тайного знания о несоизмеримости стороны квадрата и его диагонали 24. Ис-
следователи, пишущие об этом, не всегда обращают внимание на тот факт, что
тайное (эзотерическое) знание превращается в элемент знания экзотериче-
ского (открытого) — превращение, типичное для науки как античности, так и
нового времени. Эзотерические корни европейского Просвещения прочитыва-
ются уже в самой этимологии слов — «просвещенные» и «просветленные»
обозначаются одним и тем же словом (illuminati, illuminés). Темные века сред-
невековья сменились эоном света — вот миф Просвещения о самом себе, над
созданием которого немало потрудились и «иллюминаты», посвященные и «про-
светленные», члены тайных обществ и мистических сект, особенно размно-
жившихся именно в этот переходной период. Кстати, своим рационализмом
«иллюминаты» не отличались от экзотериков-просветителей вольтерьянского
толка. Как говорит В. О. Ключевский, масоны «отличались от вольнодумцев
морально-набожным настроением, но сходились с ними рационалистическим
мышлением, выправленным на том же Вольтере»25. Связь посвященных в эзо-
терическое знание с просветителями как носителями экзотерического знания
демонстрирует нам сама история — как в Западной Европе, так и в России.
Действительно, первыми просветителями в России XVIII века были именно
масоны — Н. И. Новиков, С. И. Гамалея и др., причем само масонство как явле-
ние, возникшее в Англии XVII в., продолжало традиции розенкрейцеровского
герметизма26. В своей лаконичной заметке о русском масонстве В. О. Ключев-
ский на первое место в ряду его принципов ставит именно просвещение —
«просвещение и равенство» 27. Розенкрейцеровское просвещение органически
переходило в масонско-вольтерьянское: «Кружок московских розенкрейце-
ров, — пишет Г. Флоровский, — и был самым важным и влиятельным из рус-
ских масонских очагов того времени»28. «Сейчас уже бесспорно, — продолжа-
ет он, прослеживая эту традицию, — что у романтизма вообще были "оккульт-
ные истоки"»29. Но были ли подобные истоки у новой науки — трезвой, реали-
Fritz Kurt von. The Discovery of Incommensurability by Hippas of Metapontum // Annals
of Mathematics. 1945. Vol. 46. P. 242—264.
25 Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. T. V. Курс русской истории. Ч. 5. М., 1989. С. 406.
26 Arnold P. Histoire des Rose-Croix et les origines de la Franc-Maçonnerie. P., 1955.
27 Ibid. P. 406.
28 Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 115.
29 Там же. С. 116.
70
Глава II От Возрождения к Новому времени
стической, рационалистически строгой? Вот вопрос, к которому мы снова здесь
обращаемся.
От розенкрейцерства через масонство прослеживается прямая связь с тра-
дицией романтической натурфилософии. Но в начале XIX в. профессионали-
зирующееся и дисциплинарно оформляющееся естествознание, с одной сто-
роны, и романтическая натурфилософия — с другой, резко и, как казалось тогда
и позднее, навсегда расходятся. Однако в XVI—XVII вв. ситуация была совер-
шенно иной. У видных ученых оккультистского толка того времени (Дж. Ди,
Р. Флудд) позитивно-научное и герметическое измерения их учений, самой их
ментальное™ еще совершенно свободно сочетаются, легко смешиваясь друг с
другом и при этом вовсе не обнаруживая каких-либо противоречий, очевидных
для них самих или для образованной публики, читавшей их трактаты. Как заме-
чает Дж. Годвин, представивший учения Р. Флудда через иллюстрации к его
сочинениям с сопроводительными цитатами и со своими комментариями к ним,
«тогда еще все было возможно» 30. Все было возможно в эпоху интеллектуаль-
ного формирования Флудда и все еще было возможно, когда и он сам выступил
в качестве герметического автора и врача. Вот как описывает дух этого пере-
ходного времени А. Койре: «Для людей XVI—XVII вз. все естественно и нет
ничего невозможного, так как все понимается магически и сама природа — не
более чем магия с Богом как высшим Магом» 31. Между Флуддом и той самой
пфальцеко-пражской культурой, о которой мы уже сказали, — прямая связь.
Все основные сочинения Флудда были изданы пфальцеким издателем И. Т. Де
Бри, пользовавшимся покровительством Фридриха Пфальцского и принцессы
Елизаветы 32.
Итак, характерно, что четкой демаркации между наукой и ненаукой в этот
период не было установлено ни эпистемологически, ни институционально. Она
только еще начинала оформляться. И творчество Флудда, в котором научное
содержание вряд ли вообще можно отделить от ненаучного герметизма, было
вполне цельным. Флудд здесь, конечно, только яркий пример нечеткости такой
демаркации приблизительно до середины XVII в., причем абсолютная четкость
никогда не будет достигнута, хотя каждый раз, когда натурфилософские, мис-
тические и прочие такого типа «контексты» науки будут выноситься за ее пре-
делы, возможность новых «смешений» всегда будет оставаться и осуществ-
ляться в различных новых формах. Поэтому сказанное справедливо и относи-
30 Godwin J. Robert Fludd: Hermetic Philosopher and Surveyor of Two Worlds. L., 1979. P. 5.
31 Цит. no: Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P., 1943. P. 85. См. также:
Yates F. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. P. 433.
32 Главный труд Флудда: Utriusque cosmi, maioris scilicet et minoris, metaphysica, physica
atque technica historia. Oppenheim, 1617, 1619.
Герметизм, эксперимент, чудо
71
тельно других ученых, как близких Флудду (например, Дж. Ди), так и значи-
тельно с ним расходящихся и спорящих (как, например, Кеплер). Вот что над-
лежит понять при историко-научной и историко-культурной реконструкции
генезиса науки, долженствующей прояснить вопрос о связи оккультизма и но-
воевропейской науки.
Флудд начал свою литературную деятельность с публикации в защиту ро-
зенкрейцеровских манифестов (1614—1616), вызвавших большой шум в обра-
зованных кругах и подвергнутых критике известным тогда ятрохимиком, про-
тивником парацельсистского направления в медицинской химии, А. Либавием
(1540—1616). По оценке Дебаса, американского историка химии и медицины,
представленное как движение розенкрейцеров течение мысли, заявившее о себе
в указанных манифестах, «было на самом деле неопарацельсистским и алхи-
мическим движением, будучи к тому же и миссионерским, обращенным к по-
иску нового более совершенного знания, которое было бы знанием "Иисуса
Христа и Природы"»33. Но не только парацельсовская традиция была источни-
ком указанных манифестов. По оценке Дж. Годвина, «философскими источни-
ками этих манифестов были Иоахим Флорский, Фома Кемпийский, Таулер,
Рейсбрук Удивительный, Ди, Парацельс» 34. Характерная для них алхимиче-
ская струя сливалась с мистико-христианской и каббалистической (Дж. Ди).
Когда вышли в свет эти манифесты (они вышли анонимно) и быстро, сразу на
пяти языках, стали распространяться по всей Европе, никакого прокламируе-
мого в них тайного братства, видимо, просто не существовало 35. Но впослед-
ствии такие общества стали действительно возникать, присваивая себе титул
розенкрейцеровских, порой сливаясь с масонскими ложами 36.
Флудца нередко прямо относят к розенкрейцерам, т. е. считают участником
их тайных обществ. Оставляя этот вопрос в стороне (для ответа на него у нас
не хватает данных), мы можем отметить, однако, большую духовную близость
авторов розенкрейцеровых манифестов, с одной стороны, и Флудца, их защи-
щавшего, — с другой. Его защита розенкрейцеров носила не только идейный
характер, но и теолого-политический. Флудд отвергал обвинения в их адрес
33 Debus A. G. The Chemical Dream of the Renaissance. Cambridge, 1968. P. 17.
34 Godwin J. Robert Fludd: Hermetic Philosopher and Surveyor of Two Worlds. P. 10.
35 Arnold R. Histoire des Rose-Croix et les origines de la Franc-Maçonnerie. P. 166—177.
36 О соотношении розенкрейцеров и масонов см.: Arnold R. Histoire des Rose-Croix et les
origines de la Franc-Maçonnerie. P. 229. На этот счет существуют разные мнения. См.:
Yates F. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. P. 414. В России эти манифесты сто-
летие спустя переводились, переписывались и в списках распространялись среди русских
масонов. См.: Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. С. 118. Новый перевод
двух из них см. в кн.: Йейтс Ф. Розенкрейцерское Просвещение. (Приложение. С. 411—
442).
72
Глава IL От Возрождения к Новому времени
как разносчиков политической крамолы (как считал Либавий). Он, напротив,
считал их истинными христианами, которые подобно лютеранам и кальвини-
стам выступают против римского папы, но не против Христа и его учения.
Флудд не считал их магизм черной магией, полагая, что отказ от магии в духе
розенкрейцеров приведет к тому, что будет отброшена вся натурфилософия, в
которую он зачислял различные науки, в том числе и математику. Как и Дж. Ди,
который, как считает Ейтс, здесь повлиял на Флудда, он называет магов специ-
алистами в области математики и приводит целый список магико-механиче-
ских чудес, начиная с деревянного голубя Архита. Розенкрейцеры не ответили
на их апологию Флуддом, который прямо выражал желание примкнуть к ним.
Поэтому по сути дела (а не формально) мы можем считать Р. Флудда по духу
его деятельности и трудов типичным розенкрейцером, изучение творчества
которого, на наш взгляд, способно в какой-то степени прояснить вопрос о вли-
янии герметизма на становление новой науки.
Характеристику стиля учений Флудда мы дадим ниже. Но прежде остано-
вимся на одном моменте, важном как для понимания истории герметической
традиции в целом, так и для понимания личности и творчества Флудда в част-
ности. В эпоху Ренессанса автором герметических сочинений, объединенных
в «Герметический корпус» («Асклепий» и «Поймандр» — самые известные из
включенных в него трактатов), считался Гермес Трисмегист, египетский свя-
щенник, современник Моисея. На такое к нему отношение прямо указывает
надпись на мозаичном полу собора в Сиене: Hermes Mercurius Contemporaneous
Moyse. Важным рубежом в истории герметической традиции стало опублико-
ванное в 1614 г. открытие выдающегося швейцарского филолога и теолога-
кальвиниста Исаака Казобона (1559—1614), доказавшего, что трактаты «Гер-
метического корпуса» создавались не ранее I в. н. э. Однако позднейшие иссле-
дователи, в частности Скот, издавший и переведший эти трактаты, пришли к
выводу, что И. Казобон слишком ранним сроком датировал их написание. Сей-
час принято считать эти разнородные греческие тексты написанными пример-
но во II—III вв. н. э. Открытие Казобона произвело своего рода шок; хотя и не
сразу, но его результаты сказались на ментальных привычках людей, переходя-
щих от Возрождения к новому времени. Одни ученые под влиянием этого от-
крытия отбрасывают авторитет «Герметического корпуса», как это было, на-
пример, с Генри Мором (1614—1687), одним из самых известных кембридж-
ских платоников (при этом пифагорейско-платоновское наследие и каббала
сохраняют на него свое влияние), другие же, как это было с Р. Флуддом, оста-
ются в поле притяжения герметических идей. Однако удар по авторитету гер-
метической традиции был нанесен, и теперь нужно было только время, чтобы
ученая Европа, по крайней мере в своей подавляющей массе, отодвинула ее в
оккультную тень. Эту дату (1614 г.) Ейтс считает «водоразделом, отделяющим
Герметизм, эксперимент, чудо
73
мир Возрождения от нового, или современного мира». Вера в единую тради-
цию древнейших знатоков Божественной мудрости (prisci theologi), соединяв-
шую в одну цепь Моисея, Гермеса Трисмегиста, Орфея, Пифагора, Платона,
была решительным образом подорвана, что означало закат герметизма и его
влияния на науку и постепенный уход в социокультурный андерграунд у ро-
зенкрейцеров.
Флудд, убежденный герметист, проигнорировавший открытие Исаака Казо-
бона, поражает нас еще и тем, что в нем мы находим позитивного ученого: он
конструирует измерительные приборы, придумывает свой теодолит, применя-
ет для расчета расстояний тригонометрию, создает прибор, соединяющий в
себе свойства термометра и барометра (weather-glass), опираясь на описания
опытов, найденных в одной средневековой рукописи, не без научного резона
отмечает важность определения температуры для медицинской практики, кон-
струирует водяные часы и т. п. При этом он озабочен точной градуировкой
приборов, а при расчетах использует обычную, а не каббалистическую мате-
матику. Говоря о том, насколько органично в герметико-магическое, каббали-
стическо-алхимическое творчество Флудда вплетены элементы научного под-
хода, рациональной мысли, математической строгости, экспериментального ис-
кусства, вспоминаешь типично розенкрейцерское название трактата зидного
немецкого алхимика Кунрата (XVII в.), ходившего в списках среди русских
масонов: «Трижды Триединый Всеобщий Христианско-Каббалистический Бо-
жественно-Магический и Физико-Химический Амфитеатр Вечной и Единствен-
ной Премудрости Генриха Кунрата» [рукопись, 1823, ОР РГБ]. Здесь по-совре-
менному научно звучащее определение («физико-химический») естественно —
для автора и его тогдашних читателей — сопровождается эпитетами совсем
иного плана. У Флудда с такой же точностью и строгостью, как измеряются
температура, время или давление, «вычисляется» отрицательный вес жизнен-
ного духа, покидающего тело человека в момент его смерти. Мертвое тело, по
Флудду, тяжелее живого на 60 фунтов, которые представляют собой величину
той левитационной силы, с помощью которой эфирное тело покойника подни-
мается в сферу Солнца37.
Такое как бы непротиворечивое (для адептов) сочетание математически
оформляемого естествознания с явным оккультизмом характеризует все это те-
чение мысли, идущее от Флудда к Штейнеру. Недаром к нему нередко склоня-
ются люди, прошедшие выучку у строгой науки, но склонные к мистицизму
(замечательный тому пример в прошлом веке Андрей Белый, писавший дип-
лом об оврагах у Анучина и воодушевленный в то же время философией Вла-
димира Соловьева). Расположившись в «желобе» между религией, с одной сто-
Godwin J. Robert Fludd: Hermetic Philosopher and Surveyor of Two Worlds. P. 66.
74
Глава IL От Возрождения к Новому времени
роны, и наукой — с другой, магико-теософско-герметическая традиция с жест-
костью типичного для нее «механического» рассудка редуцирует до своих «ас-
тралов» и «эфиров» содержание религиозных и научных представлений, пре-
тендуя на их полный «синтез» и апеллируя в зависимости от идеологической и
политической «погоды» то к своему религиозному лоялизму (как это было,
например, с Фичино и Пико), то, напротив, к своей «научности», как это мы
видим в наши дни у новых адептов этой древней традиции. Но именно этот, по
сути своей гностический, редукционизм никогда не устраивал ни христиан-
скую религию (ведь Христос при таком подходе ставится в один ряд с Орфеем,
Пифагором и прочими мудрецами и мифическими учителями человечества),
ни настоящую науку (когда механика или учение о теплоте ставится даже не
столько в один ряд с астральной «соматикой» и ангелологией, сколько в подчи-
ненное положение по отношению к ним). И вовсе не удивительно, что самая
выдающаяся апология новой науки XVII в.38, направленная против всей этой
герметическо-теософской магической традиции, вышла из-под пера правовер-
ного католика и ученого Марена Мерсенна (1588—1648). Кстати, его главной
мишенью был именно Флудд, осмелившийся продолжать в XVII в. традицию
возрожденческой магии и герметизма, сильно дезавуированную (среди прочих
факторов) упомянутым нами выше открытием И. Казобоном относительно
правильной даты создания герметических сочинений.
Кстати, господство стихии рассудочности в герметико-каббалистическом
гнозисе обнаруживается уже в том обстоятельстве, что стиль мышления Флуд-
да прекрасно передается именно на плоскости — в схемах, диаграммах, рисун-
ках. Мы уже сказали, что пфальцский издатель иллюстрировал его труды — в
этом ему помогал и сам Флудд. Схема по своей природе не может не ставить в
один ряд, на одну плоскость самое разнородное: ангела и материальную сти-
хию, Бога и смертного, ум и страсть, добродетель и порок, падение и взлет,
трансцендентное и имманентное. От схемы ничто не может укрыться, она все
обнажает, но однообразным, унифицирующим, эгалитарным образом. Между
всеми позициями она может установить связи и влияния. Идея схемы предпо-
лагает некую однородность, некоторое изначальное равенство высшего и низ-
шего, духовного и телесного, божественного и материального. Космология при
этом «естественно» переходит в теологию, поскольку за видимым небом, за
его звездной твердью на тех же правах единой схемы помещает мир ангелов, а
затем сферу добродетелей, выше — слои пред-умного мира, оканчивающиеся
сферой Ума, переходящего в Бога. Так происходит схематически-рассудочное
упрощение и оплощение неплоского и скрытого. Пора процитировать самого
38 Mersenne M. Quaestiones celeberrimae in Genesim... Paris, 1623. Об этой полемике см.:
Yates F. A. Giordano Bruno... P. 432-^40.
Герметизм, эксперимент, чудо
75
Флудда: «Гермес, Моисей и Платон, все они согласны в том, что первым актом
творения было явление Света»39. Здесь характерен уже набор авторитетов —
древних теологов (prisci theologi) — и, конечно же, мотив неизменности веч-
ной премудрости, хранившейся у самых древних Учителей, среди которых Гер-
мес Трисмегист — звезда первой величины. Схема — на то она и схема, чтобы
в ней можно было объединить все (создав при этом не подлинный синтез про-
тивоположностей, а лишь рассудочный их парасинтез), но «работать» при по-
мощи такой схемы нельзя (разве только в качестве мага, каковым и был, веро-
ятно, Флудд)40.
Для прояснения того смысла, который Флудд вкладывал в понятие магии,
показательно его отношение к Архимеду. Архимед как искусный механик вы-
ступает для Флудда не как ученый, а именно как настоящий натуральный маг
(имея в виду «натуральную», или «спиритуальную», магию, противопоставля-
емую магии «демонической») 4|. Флудд совершенно естественным для него
образом подводит все науки, в том числе и механику, под понятие магии. По
Флудду, сами основания науки (ее онтология) магичны. И поэтому, если мы
привыкли думать, что Галилей во многом опирался на архимедову традицию,
преодолевая наследие аристотелевской физики, и что, следовательно, можно
считать именно эту традицию одним из источников формирования новой на-
уки в XVI—XVII вв., то мы будем удивлены панмагизмом английского врача,
сумевшего и в самом средоточии научности увидеть только хорошую магию.
Этот пример должен показать нам, что в начале XVII в., в его первой трети по
крайней мере, привычное для нас взаимоисключающее соотношение магии и
науки не имело места. И Ф. Бэкон с равной убежденностью говорит как о ре-
форме наук, так и об усовершенствовании магии: для него это — одна Рефор-
ма, одно Великое Восстановление знаний. «Следует потребовать, — говорит
Бэкон, — восстановления древнего и почтенного слова "магия", которое дол-
гое время воспринималось в дурном смысле. Ведь у персов магия считалась
возвышенной мудростью, знанием всеобщей гармонии природы, и те три царя,
которые пришли с Востока, чтобы поклониться Христу, носили имя магов. Мы
же понимаем магию как науку, направляющую познание скрытых форм на свер-
39 Godwin J. Robert Fludd: Hermetic Philosopher and Surveyor of Two Worlds. P. 24.
40 «Был ли Флудд, — спрашивает Ейтс, — практикующим магом, так сказать, "операто-
ром"? Его частые цитаты из сочинения Агриппы "De occulta philosophia" позволяют с уве-
ренностью предположить это, и я считаю, что он на самом деле был им. Мерсенн также
был уверен в этом и определенно обвинял его в том, что он прибегает к магии» (Yates F. А.
Giordano Bruno... P. 405^06).
41 Такую классификацию видов магии дает в своем основательном исследовании Д. Уол-
кер, опираясь на анализ традиции, идущей от М. Фичино. См.: Walker О. P. Spiritual and
Demonic Magic from Ficino to Campanella. L., 1958. P. 75.
76
Глава IL От Возрождения к Новому времени
шение удивительных дел, которая, как обычно говорят, "соединяя активное с
пассивным", раскрывает великие тайны природы» 42. Здесь главным в понима-
нии Бэконом «новой магии» выступает ее четкая практическая направленность
на «удивительные дела», на те самые mirabilia, трактаты о которых входят в
герметическую традицию оккультных наук43. Именно в русле этой традиции,
начиная с эпохи эллинизма, формируется фаустовский образ ученого-мага,
противопоставляемый образу ученого-естествоиспытателя аристотелевского
типа.
Магия и наука
В сознании европейского общества начала XVII в. «идея» науки и «идея»
магии не слишком отличались друг от друга. Можно сказать, что в менталитете
тогдашней Европы этой переходной эпохи присутствовали на равных правах и
почти отождествлялись самые различные модели знания. Они свободно взаи-
модействовали друг с другом, вступая в отношения то сотрудничества, то со-
перничества и конкуренции за право быть господствующей моделью. В такой
же «предпарадигмальной» стадии своего дооформления элементы научной
модели или метода соседствовали с иными элементами и моделями. И именно
такие резкие и публичные размежевания, как полемика Мерсенна и Кеплера с
Флуддом, которая шла на глазах всей образованной Европы, оформляли соци-
окогнитивное размежевание традиций и моделей знания, науки и не-науки.
Обратим теперь внимание на один существенный момент. При выборе мо-
делей знания важным был мотив религиозной лояльности. Сначала, еще в пе-
риод Возрождения, магико-герметическая традиция казалась защитой от язы-
ческого по своим религиозным основаниям аристотелизма. А кроме того, уже
в XVII в., как говорит Ч. Уэбстер, «обращение к категориям неоплатонизма и
герметизма обещало защиту от резкого размежевания, проводимого между Бо-
гом и Его вселенной» 44. Угрозу такого разделения и вместе с тем угрозу мате-
риалистического и атеистического прочтения восходящей механистической фи-
лософии пытались предотвратить удержанием анимизма и герметизма, прису-
щих ренессансной традиции. Но важно подчеркнуть, что эта христиански ори-
ентированная мотивация герметизма имела свои пределы, которые формиро-
вались уже в средние века, когда герметизм встретил, скажем так, далеко не
42 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Ф. Бэкон. Сочинения: В 2 т. М.,
1971. Т. 1.С. 244—245.
43 Festugière A. J. Hermétisme et mystique paienne. P., 1967. P. 32.
44 Webster Ch. From Paracelsus to Newton: Magic and Making of Modem Science. Cambridge
Univ. Press. Cambridge, 1982. P. 65.
Герметизм, эксперимент, чудо
11
однозначное к нему отношение (различие позиций Лактанция и Августина тому
яркий пример)45. Магическая египетская религиозность «Асклепия», особен-
но те его места, где говорится о магическом оживлении 46 рукотворных статуй
богов, многими христианскими писателями ощущалась как угроза их религии.
Разбирая идололатрию «Асклепия», Августин подвергает критике магию в це-
лом (О граде Божием, VIII, 13—22). Однако очищенная от демонической ма-
гии герметическая традиция порой, напротив, казалась дополнительным авто-
ритетом, освящающим само христианство (Лактанций). Эту ситуацию запе-
чатлел художественный памятник Кватроченто — роспись пола в центральном
нефе собора в Сиене (художник Джованни ди Стефано, 1488 г.), дающая не-
посредственно почувствовать тот самый герметический «ключ» ко всей куль-
туре Возрождения, раскрытию которого посвятила свою книгу Ейтс. И вот пра-
воверный католик Мерсенн рвет эту традицию христианизации герметизма (она
широко была представлена особенно во Франции XVI в.47). И здесь, конечно,
отойти от Лактанция помог не только блестящий филолог из Женевы (И. Казо-
бон) — здесь уже разверзалась и новая пропасть: механическая философия не
могла ужиться с герметизмом и присущими ему магизмом, анимизмом и спи-
ритуализмом.
Прямым выражением этой несовместимости стал, как можно предположить,
опираясь на исследование Ейтс, знаменитый декартов дуализм, предписываю-
щий разрыв между протяженной материей, действующей по механическим
законам и наделенной математической формой, с одной стороны, и духовной
субстанцией, непротяженной и полностью исключенной из мира механики и
математики, — с другой. Пик декартовских поисков истины, его долгие меди-
тации о том, как обрести надежное знание, исторически проходили в атмосфе-
ре всеобщего возбуждения, вызванного розенкрейцеровскими манифестами, а
также острой полемикой Флудда с Мерсенном и Кеплером. Как можно судить
по документам, на которые обращает внимание Ейтс, Декарт погружен в эту
атмосферу, пробует что-то разузнать о розенкрейцерах, а когда он в 1623 г. воз-
вращается из Германии в Париж, то сам попадает под подозрение в принад-
лежности к тайному братству48. По-видимому, его энтузиазм поисков истинно-
45 Yates F. A. Giordano Bruno and Hermetic Tradition. P. 6—12.
46 Согласно греческим мифам, Асклепий, сын Аполлона и нимфы Корониды, наделен
воскрешающей силой. Он воскрешает из мертвых Ипполита, Капанея, Главка (см.: Мифы
народов мира. Т. 1. М., 1980. С. 113), а по другим источникам — также Ликурга и Тиндарея
(см.: Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 1992. С. 135). В «Асклепий» подобной силой
наделен человек в качестве мага.
47 Yates F A. Giordano Bruno and Hermetic Tradition. Ch. X.
48 Ibid. P. 452-453.
78
Глава II. От Возрождения к Новому времени
го знания не чужд «герметическому импульсу». Вот как изображает эти поис-
ки биограф философа в изложении Френсис Ейтс: «Это было 19 ноября 1619 г.,
он прилег отдохнуть, охваченный своим энтузиастическим порывом и всецело
занятый мыслью о том, чтобы уже сегодня найти, наконец, основы чудесной
науки (la science admirable). И вот ночью его посещают три видения, одно за
другим, которые, как это ему кажется, исходят свыше. Здесь мы присутствуем
в атмосфере герметического транса, такого усыпления чувств, при котором
открывается истина» 49.
Однако то, что ему открывается как результат этих вдохновенных поисков,
требует, оказывается, защиты от этого «стимулятора» в виде начального «гер-
метического импульса». Действительно, механико-математическая картина мира
должна была защитить себя от герметического «тумана». И как результат такой
самозащиты — полное вытеснение ума, духовного начала из механической
картины мира: ум как мыслящая, непротяженная субстанция помещается в
шишковидную железу, статус его бытия вне протяженности, а значит, и вне
рациональной механики и математики становится «странным». Возникает го-
ловокружительная гносеологическая проблема, пресловутый психо-физический
параллелизм. Таким образом, в декартовом дуализме распознается вытеснение
латентным герметистом своего герметизма после того, как последний сыграл
свою роль первичного импульса, трансформировавшись в новую механическую
науку. Для такого «психоаналитического» прочтения декартова механицизма
есть основания. Действительно, в герметическом мировоззрении господствует
принцип абсолютного ментализма, т. е. весь мир воспринимается изнутри ума
(mens), а вещи мира при этом выступают лишь как тени внутренне наличного
ума, вся «вселенная есть нечто умственное», как говорится в одном гермети-
ческом памятнике, известном под названием «Кибалион» 50. Мир, таким обра-
зом, насквозь ментализован, понят исключительно как ум, как идея, как дух.
Но искомый идеал точного, надежного, ясного, удерживающего различия ве-
щей знания в этом ментальном всепроникающем и все вещи фактически в себе
растворяющем «тумане» недостижим. И поэтому нужно как можно дальше
оттеснить весь этот ментализм, заклясть его с тем, чтобы открылось «поле»
для построения искомого надежного, достоверного знания. Если маг-герме-
тист «овнутряет» мир, то ученый-естествоиспытатель, напротив, его «овнеш-
няет», превращая в доступный для надежного знания «объект» (объективация
мира в науке). И лучшим способом такого «овнешнения» и явилась изобретен-
ная Декартом аналитическая геометрия. Упорядоченный и неизменный мир
механики и математики возникает, таким образом, как бы из самоотрицания
Ibid. Р. 452. См. выше гл. III. С. 178—189.
Странден Д. Герметизм: Сокровенная философия египтян. СПб., 1914. С. 45.
Герметизм, эксперимент, чудо
79
мира герметического, послужившего для его создания стимулирующим им-
пульсом. Итак, с одной стороны, герметическая «туманность», а с другой —
мир точных, правильных, постоянных механических процессов. Здесь неволь-
но напрашивается аналогия с гипотезой Канта — Лапласа: механическая кар-
тина мира — своего рода солнечная система, но... без Солнца! Действительно,
она лишена душевного, ментального, «нутряного» тепла и света. Но зато в выс-
шей степени «объективна», вещна, исчислима, неизменна. Герметическая «прав-
да» о мире решительно, даже как бы преувеличенно решительно (не от страха
ли перед ней?) отброшена и предоставлена себе самой. Именно в это время и
исторически, и социально герметизм уходит в «андерграунд», т. е. в тайные
общества и братства (розенкрейцеры, а затем масоны — тому свидетельство).
Из сокрывшейся в «тени» традиции рождаются сентиментализм и романтизм,
на ее почве расцветают натурфилософия, теория цветов Гёте (так напоминаю-
щая учение о цветах Флудда 5|), мистицизм и теософия. А механика при этом
добивается головокружительных успехов в практическом овладении миром, в
той самой задаче управления им, которую начертала отброшенная теперь гер-
метическая магия.
Как же можно описать это гипотетическое рождение науки из духа магии?
При том, что магия вовсе не исчезает в возникшей науке, а только уходит (и то
частично) в культурное и социальное «подполье»?
Попытаемся предельно схематически изобразить «синтетическую химию»
рождения новоевропейской науки на переломе от Возрождения к новому вре-
мени 52. Для этого представим новую науку как математически оформляемую
суперпозицию дедуктивной теории (А) и экспериментального метода (В). Тог-
да, следуя логике новообразования качеств (новой целостности) в процессе
химического синтеза, мы можем представить себе реакцию рождения науки
следующим образом:
51 Цвет в этом учении рассматривается как результат смешения света и тьмы (тени) в
определенной пропорции. Эту идею Флудда развивали затем Гёте и Штейнер и их последо-
ватели. «Таблица цветов Гёте отличается от соответствующей таблицы Флудда только од-
ним — Гёте помещает зеленый цвет между голубым и желтым» {Godwin J. Robert Fludd:
Hermetic Philosopher and Surveyor of Two Worlds. P. 64).
52 Приводимая здесь схема генезиса науки, конечно, упрощает реальную историческую
картину факторов ее возникновения. В частности, следует особо подчеркнуть, что без вер-
ности творцов новой науки христианской традиции с усвоенным ею из античного наследия
рационализмом наука нового времени не возникла бы. Верующее сердце даже таких со-
мнительных, казалось бы, христиан, как Парацельс, сдерживало провоцируемый магико-
герметическим импульсом возможный срыв ренессансного ума в дохристианский анимизм
и гностицизм. Об этом убедительно написал К. Г. Юнг (См.: Юнг К. Г. Сочинения. Т. 15.
М., 1992. С. 28—29).
80
Глава II. От Возрождения к Новому времени
А + В = АВ.
Однако, как свидетельствует история, такая реакция идет только на опреде-
ленном катализаторе (К):
А + К = АК
АК + В = АВ + К
А + В = АВ.
Катализатор, выполняющий функцию посредника, и есть «герметический
импульс», та самая герметическая «туманность», в которой «плавала» культура
Европы особенно с 1471 г. (года первого издания переведенного Фичино на
латынь «Герметического корпуса») по 1614 г. — год выхода в свет «De rebus
sacris et ecclesiasticus exercitationes...» — комментария И. Казобона на «Annales
Ecclesiastici» итальянского кардинала Чезаре Барония, нанесшего тяжелый удар
по герметическому мифу. Осуществив свою посредническую функцию, ката-
лизатор синтеза новой науки выходит из «игры», теперь уже в оккультный «ан-
дерграунд».
Герметический импульс: мотивация воли
При попытке понять события такого масштаба, как рождение новоевропей-
ской науки, историк естественно ищет основные объяснения на уровне моти-
ваций коллективной воли. В XVI—XVII вв. воля европейца говорит на религи-
озном языке. Это не обязательно язык привычных традиционных конфессий.
Религиозность человека позднего Возрождения стремится найти себе как раз
новые формы, обрести невиданные еще контуры и размах. Поэтому это время,
когда дух религиозной (а также социальной и культурной) реформы овладева-
ет интеллектуальной элитой общества. Историку науки, погруженному в спе-
циальные проблемы внутренней истории определенной дисциплины, трудно
воссоздать ту картину широкого исторического контекста, внутри которого
возникает новая наука, находя в нем свои ведущие мотивы. Уже поэтому ясно,
что проблема генезиса науки, нуждающаяся для своего решения в участии
многих специалистов помимо историков науки, требует к себе внимания со
стороны историков, историков культуры прежде всего. И книга Ейтс о Джор-
дано Бруно — лучший тому пример. Для нее главное в феномене возникнове-
ния новоевропейской науки в XVII в. — новое направление воли человека этой
эпохи, ведущее его к радикальному преобразованию интеллектуальной карти-
ны мира. «За возникновением новой науки, — говорит Ейтс, — стояло новое
направление воли, ее обращение к миру, к его чудесам, к таинственным явле-
ниям, страстное желание и решимость объяснить эти явления и практически
Герметизм, эксперимент, чудо
81
воздействовать на них» 53. Стремление к чудесному, к таинственному, как изве-
стно, характеризует ту долгоживущую и связанную с герметизмом традицию,
которая исторически проявлялась в написании трактатов о чудесах (mirabilia),
включая и «Естественную историю» Плиния, и небольшой средневековый трак-
тат «Physiologus», и многое другое. Но с небывалой силой это стремление к
практическому овладению миром развернулось именно в эпоху Возрождения.
И этим импульсом питалось творчество как Флудда, так и Ф. Бэкона, и многих
других, кого мы привыкли считать творцами новой науки. Существенным для
приживляемости «герметического импульса» в культуре Ренессанса было то,
что Гермес Трисмегист был (в большей или меньшей степени) христианизиро-
ван (начиная с Лактанция и до Фичино). Связываемая с ним древнейшая теоло-
гия (prisca theologia) воспринималась в большинстве случаев как дохристиан-
ское оправдание христианского откровения. Правда, с Августином была связа-
на и другая линия, состоящая в неприятии магической стихии, содержащейся в
этой традиции. Однако многие герметисты могли (как это делал Фичино) очи-
щать свой герметизм от демонической магии, обращаясь к религиозно более
приемлемым формам магии — к натуральной магии, замыкающей мир маги-
ческого интереса на посюстороннем мире природы. Однако нельзя не видеть,
что возрождение эллинистической мистики и магии затрагивало и религиоз-
ный центр души. Так, у Дж. Бруно его грандиозная концепция Вселенной как
образа бесконечного божества, полностью одушевленного, населенного бес-
численными живыми мирами, выступала именно как религиозный гнозис 54.
По оценке Ейтс, Бруно стремился реформировать духовный и интеллектуаль-
ный мир человека своего времени на основе такого гнозиса, примирить враж-
дующие христианские конфессии (что было характерно и для повлиявшего на
него кардинала Николая из Кузы), установить новую, более либеральную и «эпи-
куреизированную» мораль. Его принятие коперниканства, считает Ейтс, отве-
чало его задачам как религиозно-гностического реформатора, так как связыва-
лось им с древней мудростью, с культом солнца и света, что типично и для
неоплатонизма, и для герметизма.
53 Yates F. A. Giordano Bruno and Hermetic Tradition. P. 449.
54 Как считает Ейтс, к духовному опыту не только Бруно, но и Фичино и Пико, от кото-
рых он прямо зависит, применим термин «гнозис», так как у всех них этот опыт представ-
ляет собой поиск религиозно значимого и религиозно насыщенного знания (Yates К А.
Giordano Bruno... P. 129). Как «верующий герметист» (Ibid. Р. 155) Бруно — типичный ре-
нессансный гностик, ведь основу магии и герметизма Возрождения составлял языческий
гностицизм первых веков нашей эры, когда и был создан «Герметический корпус». В соот-
ветствии с этим философско-научные элементы творчества Бруно, как считает историк,
подчинены его герметико-гностической религиозности, представленной, прежде всего, в
его диалоге «Изгнание торжествующего зверя» (1584).
6-3357
82
Глава IL От Возрождения к Новому времени
Когда историки астрономии принялись за проверку этого утверждения Ейтс,
то в большинстве своем они, как мы уже отметили, пришли к несогласию с
нею, подчеркнув, на наш взгляд, справедливо, что Ейтс недооценивает концеп-
туально-физической аргументации Бруно, а также те влияния на него, которые
не исходят от «Герметического корпуса». «Значительные физические и мате-
матические прозрения Бруно и других признанных герметистов идут от их
индивидуальной творческой интуиции, часто под влиянием учений, впервые
сформулированных в средневековой натурфилософии, и несмотря на их при-
верженность герметическим доктринам», — говорит Уэстмен 55.
Анализируя эти работы, вчитываясь в полемику и дискуссии, вызванные
книгой Ейтс, убеждаешься в одном: для историка науки его герой как бы по
определению — ученый. Кем бы ни был Бруно — мистиком, неоплатоником,
герметистом, стопроцентным магом самого радикального агрипповского тол-
ка, миссионером от египетской религии, пантеистом, виталистом, луллистом и
т. д. и т. п., для историка физики он — физик. И уже поэтому все мистические,
магические, герметические значения и смыслы, фиксируемые для его «опозна-
ния» и значимые в большом историко-культурном контексте, оказываются для
него, как правило, чужеродными, посторонними. И неудивительно, что тезис
Ейтс нашел себе куда больше поддержки (если говорить только об историках
науки) не у историков физики или астрономии, а у историков медицины и хи-
мии (Дебас, Уэбстер и др.). Такая структура реакции на книгу Ейтс понятна:
ни химия, ни медицина не были столь суровы по отношению к герметизму, а в
XVI—XVII вв. они еще во многом не отделились от него. Поэтому неудиви-
тельно, что историки этих дисциплин были даже обижены самонадеянной эк-
спансией историко-научного физикализма при объяснении научной револю-
ции. Действительно, панегирики и исследования посвящались, как правило,
творцам механики, астрономии, открывателям математических методов, но не
врачам и химикам, которые в XVII в., говоря языком позитивистов-физикали-
стов от истории науки, еще «барахтались» в мутных водах парацельсизма, ал-
химии, спиритуализма, мистики и магии. Однако, как показали перечисленные
выше историки, парацельсисты сыграли свою позитивную роль в формирова-
нии научной революции по всему фронту наук. Для своего времени парацель-
систы и гельмонтианцы выступали носителями новой ментальности, их вни-
мание к библейской экзегезе отвечало их стремлению избавиться от Стагирита
и Галена как язычников, сблизить враждующие христианские конфессии и со-
здать истинно христианскую науку, свободно сочетающую библейское откро-
вение и новую химию. Вспомним приведенное нами выше название трактата
55 Westman R. S. Magical Reform and Astronomical Reform: The Yates Thesis Recoisidered.
P. 72.
Герметизм, эксперимент, чудо
83
Генриха Кунрата, вспомним название третьего розенкрейцеровского манифеста
(«Химическая свадьба Христиана Розенкрейцера», Страсбург, 1616), принадле-
жащего перу лютеранского пастора Иоганна Валентина Андреэ, автора утопии
«Христианополис» (1619), во многом аналогичной утопии Ф. Бэкона «Новая Ат-
лантида». Во всех этих сочинениях отражается та великая «химическая мечта»
Возрождения, когда с помощью химизма стремились истолковать обе великие
книги — Священное Писание (прежде всего книгу Бытия) и Природу, сам мир,
возникший по воле божественного Творца. Для этого мощного течения мысли
«химия имела божественное значение, так как Творение (в смысле сотворения
мира. — В. В.) понималось как химический процесс и поэтому считали, что и
дальше природа должна оперировать химически», — пишет Дебас 56, исследо-
вавший трактаты парацельсистов, в том числе и Флудда57. Химия как метод бо-
жественной экзегезы, как самая глубокая герменевтика — вот какую созвучную
эпохе мысль предлагали парацельсисты, уводя тем самым умы от перипате-
тикосхоластических и галенистских схем и приемов мысли. Оправдание «химиче-
ской мечты Ренессанса» (выражение Дебаса) для людей этой эпохи крылось в ее
подчеркнутом «библеизме», означавшем возврат к истокам христианской веры,
но без утраты накопленных знаний о природных явлениях. Для нас же, пережив-
ших кризис механистической картины мира и революцию XX в. в науке, ясно,
что химическая картина мира имеет свои права на существование и что механи-
стический редукционизм зауживал, обеднял образ научной рациональности. Но
механоцентризм уже тогда, в период создания механистической картины мира,
оспаривался химиками вообще и ятрохимиками в частности, как и теми, кого
называли «герметическими философами», а мы привыкли называть алхимика-
ми. Как и «чистые» герметисты (вроде Бруно или Флудда), парацельсисты не
были в полном смысле слова ни «новыми», ни «древними» (мы имеем в виду,
быть может, главную оппозицию сознания той переходной эпохи, представлен-
ную как тяжбу между «древними» и «новыми» по поводу того, кто же кого пре-
восходит) 58. Они выполняли функцию посредника между «древними» и «новы-
ми», выступая как раз в той самой роли катализатора перемен и нового синтеза,
о котором уже было сказано выше.
Завершая наш анализ связи герметизма с новой наукой, мы хотели бы крат-
ко подвести итоги. Первое, что следовало бы подчеркнуть, — это то обстоя-
56 Debus A. G. The Chemical Dream of the Renaissance. P. 14.
57 Debus A. G. The English Paracelsians. L., 1965; Idem. The Chemical Philosophy: Paracelsian
Science and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth centuries. 2 vols. N. Y., 1977; Idem.
Chemistry, Alchemy and the New Philosophy, 155a—1700. L., 1987.
58 Jones R. Ancients and Modems: A Study of the Rise of Scientific Movement in Seventeenth
century England. N. Y., 1961; Спор о древних и новых. M., 1985.
6*
84
Глава II. От Возрождения к Новому времени
тельство, что проблема соотношения герметизма и генезиса науки XVII в. тре-
бует прежде всего анализа соотношения магии, с одной стороны, и науки — с
другой. Вопрос не нов. Но полезно его по-новому поставить и посмотреть на
него, отталкиваясь от уже проделанных в мировой науке исследований. Еще
Фрезер, а за ним Юбер, Мосс и другие исследователи, изучавшие прежде всего
социологические аспекты магии, писали о том, что наука связана с магией и
развивается, питаясь специальным интересом к ее технической компоненте,
освобождаясь при этом от того, что можно назвать «мифическими» представ-
лениями. А. Рей, в свою очередь, подчеркивал, как впоследствии и Ейтс, сти-
мулирующий характер мистического и магического направления в культуре для
генезиса и формирования науки: «Мистицизм препятствует науке, когда он ста-
новится авторитарным, догматическим... Но расцвет энтузиазма мистическо-
го, мифического, магического, дух авантюрности, любопытства, беспокойства
и дерзости воображения скорее благоприятствует научному оживлению. Так
было, в частности, в эпоху Возрождения...» 59. Исследования историков науки,
дискуссия и полемика, вызванные книгой Ейтс, расширили и углубили пред-
ставления о связи магии и герметизма с наукой. Как пишет канадский философ
и историк науки Шие, автор вступительной статьи в специально посвященном
этой проблематике сборнике, «теперь уже ясно, что герметизм и алхимия вне-
сли позитивный вклад в развитие экспериментального метода, подчеркивая важ-
ность наблюдений, освобождая науку от оков унаследованных авторитетов, а
также благодаря тому, что они признавали ценность и высокое достоинство
ремесел, подчеркивая утилитарную цель научного познания» 60. Значение на-
блюдений и практическая ориентация указывают на самую важную, по наше-
му мнению, зону влияния герметической магии на генезис науки.
Второе обстоятельство состоит в том, что, вопреки обыденному представ-
лению, наука не рождается из магии в том смысле, что возникновение науки
означает исчезновение магии (магия буквально превратилась в науку). Соотно-
шение магии и науки — иное. Они соотносятся скорее как «братья-враги». Это
означает, что они могут взаимно стимулировать друг друга, воздействовать друг
на друга, но развиваются они параллельно, причем магия, оставаясь магией,
меняется. А наука при этом имеет свои собственные традиции (от античности
она наследует, по меньшей мере, три из них — аристотелевскую, атомистиче-
скую, идущую от Левкиппа и Демокрита, и математическую, идущую от Пи-
фагора и Архимеда), так что она также меняется, оставаясь наукой, рациональ-
Rey A. La science dans l'antiquité: La jeunesse de la science grecque. P., 1933. P. 117—
118.
60 Shea W. R. Trends in the Interpretation of Seventeenth Century Science // Reason, Experiment
and Mysticism in the Scientific Revolution. N. Y., 1975. P. 17.
Герметизм, эксперимент, чудо
85
ным познанием. Но факт судьбоносного для человечества в целом «пересече-
ния» обозначенных выше научных и герметических (мистицизма и алхимии,
прежде всего, помимо собственно герметической, связанной с традицией, иду-
щей от «Герметического корпуса») традиций остается при этом в силе. Изме-
нения в науке от античности к средним векам и затем через Возрождение к
новому времени историкам науки более известны, чем аналогичные, парал-
лельно протекавшие процессы изменения магии и мистики. В своей книге Ейтс,
в частности, обращает внимание на изменение стиля и характера магии при
переходе от средних веков к Возрождению. Магия из «грубой» становится при
этом «элегантной», она эстетизируется в духе Возрождения, и лучше всего этот
переход можно представить, сравнивая готический собор, с одной стороны, и,
скажем, живопись Боттичелли — с другой. Выше мы уже сказали, что после
«рождения» новой науки герметическая традиция переходит в формы оккуль-
тизма и теософии, культивируемые тайными обществами и братствами.
И, наконец, третий момент, на который мы хотели бы обратить внимание,
подводя итоги проделанному нами анализу. Интеллектуальные «шаги», офор-
мляющие опыт европейского человека, соотносятся между собой не по прин-
ципу «снятия» (с исчезновением «снимаемого» в «снимающем»), а по совсем
иному принципу, по принципу дополнения. Это означает, что герметизм и ма-
гия не «рождают» новую науку, исчезая в своем «отпрыске», а что они, после
того как такое «рождение» свершилось, дополняются новой наукой, обогащая
универсум культуры. Этот вывод направлен против идущей от позитивизма
традиции рисовать упрощенные триадические схемы духовно-интеллектуаль-
ного развития человечества. Комплементарное описание исторического дви-
жения культурных феноменов, конечно, бросает вызов прямолинейному рас-
судку, которому хотелось бы поубавить их многообразие и избежать «противо-
речивого» соположения. Но «дополняющий» характер культурной динамики
на самом деле необходим для того, чтобы она не утратила своих потенциалов.
Поэтому герметическо-магическое соседство науке обеспечено надолго, хочет
она того или нет.
Волюнтаристская теология и опытный характер новой науки
Мощный импульс для исследований связей религии и науки в эпоху ее гене-
зиса был дан М. Вебером 6I и Р. Мертоном 62. Что касается вопроса о связи
61 Вебер Л/. Протестантская этика и дух капитализма (1905) // М. Вебер. Избранные
произведения. М., 1990. С. 61—272. В круглых скобках указан год первого издания.
62 Merton R. К. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England// Osiris. 4
(1938). P. 360-632.
86
Глава II. От Возрождения к Новому времени
протестантской теологии с эмпирической направленностью новой науки, то
здесь интересные замечания были высказаны голландским историком науки
Р. Хойкасом 63. Правда, он не говорит о волюнтаристском характере этой тео-
логии, но зато подчеркивает ее антирационализм: «Для протестантов с их ан-
тирационализмом дух Реформации и дух экспериментальной науки были близ-
кородственными явлениями» м. Причем сами теологи сознавали это родство,
рассматривая экспериментальную науку как деятельного помощника религии.
Именно антирационалистическая установка, считает историк, вела Ф. Бэкона,
испытавшего влияние пуритан, к его апологии эмпирического исследования.
Действительно, в соответствии с их учением человеческий разум считался ис-
каженным в результате грехопадения библейских прародителей и впавшим с
тех пор в непомерную гордыню, загораживая своими грубыми схемами реаль-
ность вещей, которые следовало бы, согласно Бэкону, внимательно исследо-
вать в благочестивой настроенности эмпирически, потому что они были созда-
ны не по рациональным схемам, а как Богу было угодно 65. Здесь за теологи-
ческим антирационализмом уже проглядывает волюнтаризм, который не только
санкционировал акцент на эксперименте и опыте, но и сам получал от них
дополнительный импульс. В частности, великие географические открытия этой
эпохи, обнаружив неслыханное разнообразие и чудесность мира и посрамив
при этом умствования отвлеченных теоретиков, «подтвердили признание бес-
конечной мощи Бога» 66. Теологически фундированный эмпиризм вел ученых
к «умеренному скептицизму даже по отношению к их собственным теориям»67,
что укрепляло методологическую парадигму новой науки в ее имманентной
обращенности на сверхтеоретический авторитет.
О связях пуританского менталитета с экспериментальным подходом к изу-
чению природы говорит и английский историк науки Ч. Уэбстер: «Кальвинист-
ский Бог, — подчеркивает он, — был далек и недосягаем, но прилежное при-
менение точных методов экспериментальной науки, постепенно проникающих
в область вторичных причин вещей ради покорения природы, представляет
собой ту форму интеллектуальных и практических усилий (endeavour), кото-
рая наиболее полно отвечает пуританскому менталитету» 68.
63 Hooykaas R. Science and Reformation (1956) // Puritanism and the Rise of Modern Science.
The Merton Thesis / Ed. by I. B. Cohen. New Brunswick and London, 1990. P. 191—194.
64 Ibid. P. 191.
65 Ibid.
66 Ibid. P. 192.
67 Ibid. P. 191.
68 Webster Ch. The Great Instauration: Science, Medicine and Reform 1626—1660. N. Y,
1976. P. 506.
Герметизм, эксперимент, чудо
87
Мысль о связи так называемой волюнтаристской теологии с эксперимен-
тальным характером науки нового времени, таким образом, не нова, но выска-
зывалась она, как правило, в неявной форме. Явно она была сформулирована и
высказана Робером Леноблем в его фундаментальном исследовании роли Ма-
рена Мерсенна, которую тот сыграл в рождении механицизма нового времени 69,
а затем также и Клаареном 70.
Правда, и в этих работах указанная связь не стала предметом специального
анализа, проскользнув в них, так сказать, en passant. Начнем, поэтому, с самой
сути дела, как она нам представляется, а именно с логики указанной связи.
Прежде всего заметим, что различия между экспериментом и опытом мы не
будем проводить, так как сам обсуждаемый тезис состоит лишь в констатации
транстеоретического «заземления» познавательной процедуры, вытекающего
из волюнтаристской установки в теологии. Признание наличия подобной тео-
лого-эпистемологической связи означает, что эксперимент оказывается неотъем-
лемой конститутивной частью нового естествознания, логически необходимой
его характеристикой, если все явления в мире мыслятся определенными, в ко-
нечном счете, абсолютно свободной во всем и прежде всего в том, что касается
творения мира, рационально непостижимой Божьей волей. Последнее утверж-
дение и составляет основу как раз той теологической установки (присущей
целой исторической традиции и не ограниченной какой-то определенной кон-
фессией), которую Клаарен назвал волюнтаристской теологией творения7|. Речь
идет фактически о синтезе двух основных моментов, составляющих данную
установку: во-первых, тезиса о примате свободной воли Бога над Его разумом,
и, во-вторых, особой фокусировки теологической мысли на творении — как
процессе и как результате.
Волюнтаристская установка в теологии переносит центр тяжести с разума
Бога на Его волю, понимаемую как основное определение природы Бога как
Творца и не вытекающую с необходимостью из разума, к которому в какой-то
мере причастен и человек как существо разумное. Что касается структуры ре-
лигиозного сознания, формируемого такой установкой, то на первый план в ее
составе выступает не столько спасение как высшая цель, сколько переживание
динамической творческой воли Божией, интуиция ее беспредельной мощи, яв-
ленной во всем сотворенном ею мире. При этом типичная для схоластической
традиции рациональная онтология отступает на второй план. «Реальность Твор-
ца, — говорит Клаарен, характеризуя эту установку, — открывается с такой
Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P., 1943. P. 85.
70 Klaaren E. M. Religious Origines of Modem Science: Belief in Creation in XVIIth century
Thought. Grand Rapids (Michigan), 1977.
71 Ibid.
88
Глава IL От Возрождения к Новому времени
силой, что нет больше необходимости в онтологии» 72. Очевиден глубоко мис-
тический дух этой установки, который в русской философской традиции ярче
всех выразил, пожалуй, Н. А. Бердяев с его принципом примата свободы над
бытием. Мысль о рационально организованном иерархическом порядке бытия
(линия рациональной онтологии, идущая от Аристотеля к Фоме Аквинскому и
продолжающаяся у Лейбница, а в русской традиции, например, у Н. О. Лосско-
го) затеняется при этом обостренным чувством провиденциальной работы Бога.
В соответствии с такой установкой Бог обнаруживается не столько в величе-
ственном, устойчивом и разумном порядке мира, сколько в живом опыте лич-
ности, в ее внутренней активности, направленной на мир и его преобразова-
ние. Бог мыслится, таким образом, скорее практически, т. е. как воля, чем тео-
ретически как разум, философскую кодификацию чего мы находим у Канта,
являющегося, по мысли А. Кожева, первым последовательно христианским
мыслителем 73.
Итак, мы видим, что волюнтаризму в теологии отвечает своеобразная экзи-
стенциальная настроенность в философской рефлексии, что было ярко показа-
но, например, в книгах Льва Шестова, сделавшего своей монотемой противо-
поставление личной воли безличному разуму, безосновной («беспочвенной»)
свободы — необходимостям рациональных оснований. Шестов показал и глав-
ных героев волюнтаристской традиции от Тертуллиана и Лютера до Кьеркего-
ра. У истоков ее стоит, прежде всего, Августин, заложивший теологические
основы западной христианской традиции, отделив ее как от античной тради-
ции с ее тезисом о несотворенности мира, так и от ветхозаветной религиозно-
сти с ее креационизмом, вписанным в сотериологию избранного народа. Важ-
ным рубежом в становлении традиции волюнтаристской теологии стали осуж-
дения парижским епископом Э. Танпье аверроистско-томистских тезисов,
ограничивающих свободу воли Бога-Творца (1277 г.), что дало импульс для
выдвижения новых подходов к познанию мира 74, в частности для допущения
возможности множественности миров75. В результате в культуре позднего сред-
невековья усилилось то течение, которое затем привело к крушению аристоте-
левско-томистской картины мира. В этом направлении действовало, прежде
72 Ibid. Р. 47.
73 Kojève A. L'origine chrétienne de la science moderne // Mélanges Alexandre Koyré.
L'aventure de l'esprit. P., 1964. P. 301.
74 Койре, в отличие от Дюгема, сдержанно оценивает значение этих указов и особенно
подчеркивает вклад такого «волюнтаристского» теолога и математика, как Т. Брадвардин, в
инфинитизацию Вселенной (См.: Койре А. Пустота и бесконечное пространство в XIV в. //
Койре А. Очерки истории философской мысли. М., 1985. С. 74—108).
75 Duhem P. Études sur Leonard de Vinci. Vol. 2. P., 1909; Визгин В. П. Идея множествен-
ности миров: Очерки истории. М., 1988. С. 251.
Герметизм, эксперимент, чудо
89
всего, номиналистическое течение (Оккам, Орем, Буридан и др.). И именно на
этом пути оформляется традиция волюнтаризма в теологии. По оценке Э. Жиль-
сона, «лучшим резюме этого интереса к свободе Бога и к случайности Его тво-
рения было осуждение той точки зрения, что "Бог необходимым образом про-
изводит то, что непосредственно следует от Него"»76. Иными словами, указами
епископа Парижа было подчеркнуто, что Бог творит мир совершенно свобод-
но, а не по рациональной необходимости.
Волюнтаристская установка согласуется с библейским рассказом о сотво-
рении мира (Быт 1: 3—25). Действительно, Бог свободно творит элементы мира
и только затем оценивает сотворенное им как благое («хорошо»). Этому теоло-
гическому волюнтаризму (и креационизму вообще) противостоит античная ра-
ционалистическая традиция объяснения мироустроения, представленная, на-
пример, Платоном в его рассказе об устроении космоса демиургом («Тимей»).
Здесь все акты оформления изначального хаоса мотивированы рационально,
все мировое устройство вплоть до деталей определено благом, совершенством,
красотой как конечными целями, как тем объективным разумом, который ста-
нет «достаточным основанием» у Лейбница, повернувшего от волюнтаризма к
рационально-онтологической традиции 77. «Дабы произведение, — говорит
Платон устами Тимея, — было подобно всесовершенному живому существу в
его единственности, творящий не сотворил ни двух, ни бесчисленного множе-
ства космосов: лишь одно это единородное небо...» (Тимей 31 Ь). Все акты
устроения мира определены здесь вполне понятными, «прозрачными» для че-
ловеческого разума рациональными основаниями или мотивами — самим веч-
но сущим разумом или знанием того, что является лучшим в себе, благом per se:
«Пожелавши, чтобы все было хорошо, чтобы ничто, по возможности, не было
дурно, бог позаботился обо всех видимых вещах, которые пребывали не в по-
кое, а в нестройном и беспорядочном движении, он привел их из беспорядка в
порядок, полагая, что второе, безусловно, лучше первого» (Тимей 30 а; курсив
мой. — В. В.). И поэтому греческий космос в высшей степени рационален,
являясь совершенным воплощением ума, блага и красоты (что для греков сли-
вается в едином идеале калокагатии). Мир же библейского креационизма, про-
должающийся в волюнтаристской теологической традиции, напротив, не пред-
сказуем рационально, он прежде всего — арена творческой воли Бога. Пара-
доксальный сплав несплавляемого — библейского волюнтаризма и греческого
76 Gilson Е. History of Christian Philosophy in the Middle Ages. N. Y., 1959. P. 729.
77 «Бог, — говорит Лейбниц, — ничего не делает без основания» (см.: Лейбниц Г. В.
Сочинения: В 4 т. М., 1982. Т. 1. С. 451). По Лейбницу, необходимость для Бога действо-
вать, исходя из «разумных оснований», вытекает из его совершенства (Там же. С. 470). Бог
определяется им как субстанция, которая есть достаточное основание для всего разнообра-
зия мира (Там же. С. 419).
90
Глава II. От Возрождения к Новому времени
рационализма — и дал жизнь европейской культурной традиции, став источ-
ником ее удивительного динамизма и внутренней напряженности.
Наличие в греко-языческой культуре безусловной рациональной мотивиров-
ки, предваряющей акт творческой воли демиурга, означает, что предполагает-
ся существующим некий неизменный идеальный объективный мир — мир веч-
ных канонов блага, добра, красоты, умный мир совершенных форм, или эйдосов,
с которым не может не считаться даже Бог и который, по сути дела, определяет
его «миротворческую» деятельность. В библейском же мировоззрении такого
особого, или отдельно (хсорюцос по Платону) сущего и не зависимого от боже-
ственной воли, мира не существует. Если в определенных исторических усло-
виях на передний план в составе европейской культурной традиции выступает
античная традиция рациональной онтологии, то и познавательная установка
при этом приобретает особые характеристики. Действительно, если все в мире
есть воплощенный разум, объективированная цель, зримое благо, то тогда и
познание такого мира должно быть познанием в высшей степени рациональ-
ным, дедуктивным, умозрительным, или «теорийным» (в греческом смысле).
Если же, напротив, все в нем определено, в конце концов, исключительно Бо-
жьей волей, не знающей никаких пределов и превосходящих ее разумных ос-
нований, тогда, чтобы понимать такой мир, необходимы, прежде всего, опыт,
эксперимент, испытание (себя и природы).
В начале XVII в. теологическая карта Европы была чрезвычайно пестрой;
это порождало конкуренцию различных теологических установок и вело к тому,
что возникающая новая наука формировалась полифилетически, т. е. на путях
разных традиций или программ, отвечающих разным теологическим установ-
кам. Например, в Англии преобладала волюнтаристская установка в теологии,
причем в самой радикальной форме, и это отвечало особенностям английской
истории и культуры. «На континенте, — говорит Клаарен, — религиозные ус-
тремления направлялись на порядок, компромисс, стабильность, и целью было
спасение. В Англии же сильнее проявлялась реформаторская суть кальвиниз-
ма... и в центре внимания оказалась именно творческая функция Бога, а не
спасающая...» 78. Английский протестантизм, особенно кальвинистские тече-
ния, был, пожалуй, самым динамическим и эсхатологически насыщенным из
всех форм протестантизма в тогдашней Европе. Среди этих течений преобла-
дала интенция на преобразование мира — общества, государства, наук, культу-
ры, образования, всего бытия. В высшей степени это стремление к решитель-
ной и универсальной реформе характерно для пуританского менталитета. Имен-
но поэтому пуритане с такой уверенностью захватывали государственную
78 Klaaren Е. М. Religious Origines of Modern Science: Belief in Creation in XVIIth century
Thought. P. 49—50.
Герметизм, эксперимент, чудо
91
власть, пробуждали преобразующую жизнь,социальную активность, не без их
влияния выдвигались планы великого восстановления наук (Ф. Бэкон) и строи-
лись проекты нового естествознания, в которых библейская экзегеза органи-
чески дополнялась бы «экзегезой» научно-эмпирической и экспериментальной
(Р. Бойль). Нельзя сказать, что на континенте мы не видим проявления такой
же динамики, не находим волюнтаристской установки в теологии. Нет, ее мы
находим, например, и у Декарта, и у Мерсенна, и у Гассенди 79. Но в целом
волюнтаризм континентальной теологии умеривается большой дозой рацио-
нализма, с которым связана другая теологическая установка — на рациональ-
ный порядок и стабильность существующей иерархии бытия и общества.
В рациональных онтологиях и теологиях от Фомы до Лейбница Божествен-
ный разум поставлен иерархически выше воли Бога-Творца. В плане такой те-
ологической установки закон природы истолковывается как правило или инва-
риант ума, как его имманентное определение. Самым очевидным правилом ума
является закон запрета противоречия, который и выступает первым ограничи-
телем для проявления Божьей воли в теологии. Но в радикально проведенной
волюнтаристской теологии Божья воля не ограничена и этим логическим зако-
ном. Сама возможность подобных ограничений возникает при установлении
терминологического различения двух божественных потенций — potentia
absoluta и potentia ordinata. Волевая мощь Бога как potentia absoluta в силах
опрокинуть любой порядок природы, преодолеть любой естественный закон,
сделать, как любил повторять Шестов, невозможное возможным (например,
вернуть Регину Ольсен ее жениху — Сёрену Кьеркегору). В качестве абсолют-
ной мощи Бог не обязан подчиняться никакому природному, разумному, мораль-
ному и прочему закону или необходимости 80. Но у многих ученых, разделяв-
ших принципы теологии воли, творческая мощь Бога все же как-то ограничи-
валась. Например, у Бойля — законом противоречия: Бог не может одной и
79 Христианизируя эпикуровский атомизм и опровергая в связи с этим аргументы Эпи-
кура в пользу тезиса о смертности души, Гассенди явно опирается на волюнтаристскую
установку в теологии («действия Бога не являются необходимыми»). И отсюда он заключа-
ет, что если творческое деяние Бога не ограничено пределами понимания для человека, для
его ума и воображения, то Бог мог бы сотворить, вопреки мнению Эпикура, сущность бес-
телесную, но не являющуюся пустотой, чего древние атомисты не могли допустить, деля
все сущее на атомы и пустоту. См. об этом: Osier M. J. Baptizing Epicurean Atomism: Pierre
Gassendi on the Immortality of the Soul // Religion, Science and Worldview: Essays in Honor of
Richard S. Westfall. Cambridge; New York; Melbourne, 1985. P. 168.
80 Примером такого радикализма в волюнтаристской теологии выступает Петр Дамиа-
ни (1007—1072): «Кто властвует над сотворенными вещами, — говорит он в своем тракта-
те «О божественном всемогуществе», — тот не подчинен законам творца... тот легко мо-
жет, если хочет, уничтожить эти законы природы» (перев. Л. Шестова) (см.: Шестов Л.
Киркегард и экзистенциальная философия. М., 1992. С. 290).
92
Глава II. От Возрождения к Новому времени
той же вещи одновременно придать прямо противоположные характери-
стики.
Волюнтаристская установка в теологических предпосылках характеризует,
прежде всего, представителей механистической программы — Декарта, Гас-
сенди, Мерсенна, Бойля, Ньютона — и в разной мере у каждого из них легити-
мизирует экспериментальный подход в концепции науки. Однако и при других
теологических установках возможность эмпиризма, направленности на опыт-
ное исследование природы не исключается в силу того, что исторические фе-
номены синкретичны и не укладываются в жесткие логические схемы. Прав-
да, при иных установках в теологии и иных традициях этот экспериментализм
не получает статуса методологической базы знания, который он получает в
новой механистической науке, когда теория и эксперимент смыкаются в еди-
ное связное целое, как это продемонстрировал, прежде всего, Галилей. Так,
видный представитель спиритуалистического направления мысли, питаемого
герметической и неоплатонической традициями, получившими второе дыха-
ние в эпоху Возрождения, И. Б. Ван-Гельмонт (1577—1644) известен своими
опытами, предназначенными доказать его умозрительные теории природы (в
частности, теорию воды как первоэлемента). Однако его представление о Боге
не укладывается в схему волюнтаристской теологии81. По Гельмонту, не воля
главное в Боге, а дух. Именно поэтому творческий дух в человеке рассматрива-
ется им как подлинный образ Божий. По Гельмонту, налично данный разум
человека — плод грехопадения и уже поэтому должен быть преодолен твор-
ческим духом, свободным от его горделивых замашек. Как пишет Клаарен,
«Гельмонт находит религиозно, морально и научно предосудительной способ-
ность разума к почти неограниченному продуцированию все новых и новых
мыслей» 82. Такое отношение к вербалистически-схоластическому разуму до-
полняется у него ориентацией на опытное исследование природы, особенно в
том, что касается ее химизма, понимаемого предельно широко, как продолже-
ние Божьего творения, описанного в книге Бытия. Парацельсовскую ятрохи-
мию Гельмонт расширяет во всеохватывающую философию, называя ее то «ес-
тественной», то «химической», то «христианской» 83. Эпитет «христианская»
81 Бог у английского гельмонтианца Томаса Шерли подобен платоновскому демиургу:
«Бог, — говорит Шерли, — подобно живописцу постигает своим разумом прежде всего
духовную Идею картины, которую он затем намерен создать с помощью особых движений
руки, руководимой этой Идеей, с тем, чтобы получить Совершенную вещь, отвечающую
тому образцу, который он имел в своем уме» (см.: Kearney H. F. Science and Change 1500—
1700. N. Y.; Toronto, 1971. P. 129.
%1Klaaren E. M. Religious Origines of Modem Science: Belief in Creation in XVIlth century
Thought. P. 78.
83 Ibid. P. 79.
Герметизм, эксперимент, чудо
93
не случаен: для многих спиритуалистов создаваемая ими натуральная филосо-
фия казалась именно христианской — в противовес языческим спекуляциям
Аристотеля и Галена84. Сомнение в христианской аутентичности схоластичес-
кой традиции укрепилось со времени упомянутых нами указов епископа Пари-
жа. И поиски философии, отвечающей новому чувству христианской истины,
разными путями вели к тому перевороту, который ознаменовался рождением
новой науки и созданием впоследствии на ее основе современной техногенной
цивилизации.
Христианская направленность знания теперь — у Ван-Гельмонта, у его уче-
ников, у Р. Бойля и других ученых XVII в. — формулируется как прославление
Творца в исследованиях Его творения, приносящих практическую пользу лю-
дям 85. XVII век — век гениев, начало новой эры — полон рассказов о духов-
ных опытах, обращениях и переворотах. Одним из его типичных жанров ока-
зываются опыты (эссе) и исповедь (как и в век Августина). Но если исповедь
Августина обозначила выбор христианской веры на фоне языческих культов и
гностических течений, то исповеди XVII в. (Ван-Гельмонт, Бэкон, Бойль, Декарт
в его «Рассуждении о методе» и др.) обозначают выбор новой философии и
науки, понимаемых как подлинно христианское мировоззрение. Сам переход
от отвлеченных умозрений схоластики к практически значимому знанию оце-.
нивается как христианизация науки: «Первая глава, открывающая исповедь у
Ван-Гельмонта в "Oriatrike", — свидетельствует историк, — призывает отка-
заться от личного "Я" и приписывать всю славу только Богу, практикуя хими-
ко-медицинскую натуральную философию ради "пользы ближнего"» 86.
Рассказ о духовном перевороте Бэкона содержится в его неопубликованном
произведении «Masculin Birth of Time» (1605). Тональность обретенной исти-
ны здесь согласуется со свидетельствами Ван-Гельмонта, Бойля и Декарта, ко-
торый, в частности, говорит о необходимости «найти практическую филосо-
фию» с тем, чтобы «сделаться хозяевами и господами природы» и приносить
людям пользу, причем среди разных благ первым он, в духе Ван-Гельмонта,
признает здоровье, а тем самым выше всех знаний ставит медицину 87.
Ван-Гельмонт «не допускал, что Бог открыл тайну исцеления языческим авторам.
Поэтому любой сторонник «языческих школ» исключался им из числа обладателей «ис-
тинными принципами лечения» {Kearney H. F. Science and Change 1500—1700. P. 127).
85 По P. Мертону, такая направленность отвечает «главным постулатам пуританского
этоса» (см.: Merton R. К. Science, Technology and Society in Seventeenth century England
Ch. IV).
86 Klaaren E. M. Religious Origines of Modern Science: Belief in Creation in XVIIth century
Thought. P. 81.
87 Декарт P. Избранные произведения. M., 1950. С. 305.
94
Глава П. От Возрождения к Новому времени
Другим общим полюсом всех этих духовно-религиозных и мировоззренче-
ских переворотов и обращений является тема опыта, эксперимента. Каждый
мыслитель толкует ее по-своему. Так, Ф. Бэкон вступает в спор с Парацель-
сом — одним из столпов спиритуалистической традиции: «Смешением боже-
ственного и естественного, профанного и священного, ересей и мифов ты, о,
богохульный обманщик!, нанес вред сразу и человеческой и религиозной исти-
нам... Если софисты забросили опыт, то ты его предал. Очевидное, добытое из
вещей, подобно маске, скрывающей реальность, нуждается в осторожном и
тщательном отборе, а ты подчинил его приготовленной заранее схеме истолко-
вания» 88. «Софисты» здесь — это представители школьной мудрости, схолас-
тической традиции. И не удивительно89, что они считаются чуждыми идее опыт-
ного познания.
Но и сам Парацельс, отвергший вербальную псевдоученость схоластов,
Аристотеля и Галена и призвавший черпать знание из раскрытой книги приро-
ды, оказывается, по Бэкону, недостаточно правильно понимающим опыт, под-
чиняющим его готовым схемам, предзаданным конструкциям. Именно здесь и
надо видеть развертку настоящего понятия опыта и эксперимента в мысли
XVII в.: опыт — это то, что позволяет осуществлять направленное на более
достоверное знание движение в области теоретического конструирования пред-
мета познания. Эксперимент в новом естествознании — это такая сфера актив-
ности познающего разума, в которой осуществляется спор теорий, а также их
оценка и проверка и происходит обоснованный выбор теоретической конст-
рукции, это — точка трансформации теории 90. И упрек, брошенный Бэконом
Парацельсу, вернут затем самому Бэкону те, кто нашел не найденное им самим
эффективное сочетание теории и эксперимента, давшее математическое есте-
ствознание — самое революционное открытие XVII в.
Рассказ о духовном обращении Р. Бойля содержится в его отчете о пребыва-
нии в Женеве. Он клянется в том, что будет усердно служить Богу в своей науч-
ной деятельности. Ему тогда открылось, что вся жизнь есть не что иное, как
сознательное служение Богу, исполнение Его воли. Если средневековая схола-
стическая традиция понимала человеческую жизнь в ее оправданности как
88 Klaaren Е. М. Religious Origines of Modem Science: Belief in Creation in XVIIth century
Thought. P. 99.
89 В аристотелизме XVI—XVII вв. существовало и эмпирическое направление, отвеча-
ющее подходу к изучению природы у самого Стагирита (особенно в его биологических
сочинениях). Самым известным представителем аристотелевского эмпиризма этой эпохи
был падуанец Джакомо Забарелла (см.: Kearney И. F. Science and Change 1500—1700. P. 78).
90 «Эксперимент, — справедливо подчеркивает А. В. Ахутин, — отвечает необходимо-
сти одному понятию отстаивать себя перед лицом предмета от другого возможного поня-
тия» (см.: Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента. М., 1976. С. 183).
Герметизм, эксперимент, чудо
95
опосредованное церковной традицией бытие в присутствии Бога (онтологи-
ческая рациональная теология), если возрожденческий спиритуализм от Пара-
цельса до Ван-Гельмонта понимал жизнь как жизнь в духе (холистская спири-
туалистическая теология, рискующая сорваться в пантеизм), то нововремен-
ная установка от Бойля до Ньютона понимает ее как исполнение воли Бога
(волюнтаристская теология, повернутая к индивидуальной активной практи-
ке, имеющей ясный религиозный смысл).
Бойль продолжает и расширяет критику Бэконом парацельсовского пони-
мания опыта. Но он уже критикует не самого Парацельса, а другого спиритуа-
листа, на которого повлиял основатель ятрохимии, — Ван-Гельмонта, вступая
с ним в спор по поводу того, насколько правильно приписывать Богу, исходя из
предпосылки Божественного провидения, то, что Он создал лекарства от всех
болезней. Такое рассуждение для Бойля страдает априоризмом и вовсе не яв-
ляется свидетельством высокого благочестия. «Я полагаю, — говорит Бойль, —
что доказательства, которые Гельмонт и другие выдвигают, исходя из Боже-
ственного провидения насчет излечимости всех болезней, не очень-то убеди-
тельны и задевают Божественное достоинство, так как Бог не обязан продле-
вать жизнь греховному человеку дольше, чем животному, и это не задевает Его
достоинства, и мы смиренно должны благодарить Его, если Он действительно
распространил лекарства от каждой болезни, но мы не имеем права Его обви-
нять, если Он этого не сделал» 91.
Априорная дедукция в природознании, по Бойлю, не только не имеет теоло-
гического оправдания, но даже оскорбляет Божественное достоинство, кото-
рое мы соблюдем лучше, если отбросим подобные схемы и будем опытным
путем изучать природу, в частности вопрос о том, какие именно лекарства су-
ществуют в природе, а каких в ней нет, какие болезни излечимы, а какие — нет.
Тот образ благочестия, который усваивает себе Бойль, требует именно смирен-
ного эмпиризма, выжидательной экспериментальной установки, а не самоуве-
ренной рациональной дедукции, якобы прославляющей Творца. Нет лучшего
способа славить Творца, считает Бойль, чем заниматься именно опытным ис-
следованием творения Его, ставя под вопрос все априорные схемы. Разгадать
волевые поступки Бога-Творца мы не в состоянии, действуя с помощью схема-
тика-разума, склонного к априорным выводам: воля Бога выше Его разума и
этому их соотношению в Боге отвечает примат экспериментального исследо-
вания в человеческом познании природы. Так, исходя именно из волюнтарист-
ской ориентации в теологии, Бойль критикует Ван-Гельмонта, у которого тоже
можно заметить движение к эмпиризму, за его непоследовательность в этом
91 Klaaren Е. М. Religious Origines of Modern Science: Belief in Creation in XVIIth century
Thought. P. 99.
96
Глава IL От Возрождения к Новому времени
движении. Итак, волю Бога (например, в конкретном вопросе о том, сколько и
какие лекарства существуют в природе) можно узнать, в конце концов, опира-
ясь на опытное исследование, а не на склонный к дедукциям разум. Вот основ-
ной вывод Бойля, диктуемый ему его теологической установкой, его понима-
нием христианского благочестия.
Познавательный приоритет опыта по отношению к притязаниям теорети-
ческого разума Бойль защищает, споря с Декартом. Декартов теологический
волюнтаризм ограничен его рационалистической метафизикой, стремлением
из простых первопринципов, данных нам как нечто предельно ясное и отчет-
ливое, вывести содержание всех явлений мира. Декарта можно считать созда-
телем нового — механистического — мировоззрения. Проявляя чувство меры,
или здравого смысла, он избегает крайностей — как радикального эмпиризма
(Бойля и Локка), так и радикального рационализма (характерного, например,
цля Лейбница). Декарт понимал роль опыта в новой науке, не умаляя, конечно,
значения теоретической дедукции из принципов, которая у него, однако, фак-
тически доминирует над экспериментальным познанием. «Что касается опы-
тов, — говорит он, — то я заметил, что они тем более необходимы, чем дальше
мы продвигаемся в познании»92. Опыты, согласно Декарту, значимы тогда, когда
из принципов можно вывести несколько решений. В начале исследования еще
незачем прибегать к опытам: здесь работает дедукция, рациональная дискур-
сия. Однако могущество природы (и Бога, за ней стоящего) настолько велико,
рассуждает Декарт, что приходится ставить опыты, чтобы установить одно-
значные связи явлений. Итак, опыт приходит на помощь там, где нужно выб-
рать конкретный механизм определенного явления: дедукция дает несколько
возможных механизмов, правильный же можно установить, лишь производя
опыты 93.
Связь нового, экспериментального механистически ориентированного ес-
тествознания с волюнтаристской установкой в теологии еще определеннее, чем
у Декарта, обнаруживается у Мерсенна. Мерсенн критикует Аристотеля за то,
что он «не признавал свободы первой причины»94. Первопричина, перводвига-
гель или бог Стагирита сам подчинен универсальной необходимости — раци-
ональному аналогу судьбы в языческом религиозном мировоззрении. Мерсенн
восторгается св. Фомой за то, что он в этом важнейшем пункте исправил Фило-
софа, признав абсолютную свободу божественной первопричины. В этом от-
ношении Мерсенн следует за схоластической традицией. Но он с нею и расхо-
дится, поскольку последняя в своем рационалистическом реализме делает, как
Декарт Р. Избранные произведения. С. 306.
93 Там же. С. 307.
94 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 275.
Герметизм, эксперимент, чудо
97
он считает, чрезмерный акцент на разуме, раскрывающем внутренние формы
вещей как их интеллигибельные телеологически активные сущности. Для Мер-
сеннаже рациональная метафизика вообще оказывается излишней. «Согласно
Мерсенну, — говорит Ленобль, — познание реальности не есть более умозре-
ние, но есть дело опыта» 95. В результате Мерсенн создает такую концепцию
науки, которая приближается к канонам позитивистского образа знания. Как
устроены вещи на самом деле, мы никогда не узнаем в нашей земной жизни —
мы можем узнать об этом, говорит Мерсенн, только на небе. И эта возмож-
ность, кстати, дает мощный дополнительный импульс для любознательного
ума туда стремиться, исполняя предписания религии и морали.Такая трактов-
ка знания прямо связана с волюнтаризмом в теологии. Мерсенн считает, что
мир и все вещи в нем созданы свободной волей Бога, которая в своем творче-
стве не подчинялась никаким необходимостям, никаким разумным основани-
ям, которые тем самым стояли бы выше ее. Этой теологической ситуации отве-
чает в эпистемологии принцип эксперимента, вытекающий из учения об абсо-
лютной свободе воли Творца как его главное следствие. Законы природы при
этом «упираются» как в свое последнее основание в безосновность Божьей
воли, их создавшей. В этом смысле они иррациональны, или случайны, и уста-
навливать их возможно только при условии обращения к эксперименту. Един-
ственным теологически понятным основанием для них выступает «удоволь-
ствие Бога-Творца», поступившего при их создании исключительно по своему
желанию. «Omnia quaecumque voluit, fecit», т. е. «все, чего Бог хочет, все это Он
и делает», — говорит Мерсенн 96. И поэтому адекватным языком для такой
теологии становится язык политического абсолютизма, установившегося, кста-
ти, тогда во Франции: «C'est le maistre, c'est le Roy absolu et souverain de tous les
corps et de tous les esprits» 97, — говорит о Боге Мерсенн 98. Поэтому нечего
спрашивать о последних основаниях физики мира, нечего допытываться до
его окончательного устройства — за миром ничего, кроме воли Бога, Его «хочу
так» не стоит. Поэтому, считает Мерсенн, искать знание о мире надо прежде
всего с помощью опытов, позволяющих законосообразно связывать явления,
строя гипотезы об их связях с помощью математически оформленных постро-
ений, не претендующих на метафизическую окончательность.
Многие ученые, с которыми Мерсенн вступал в полемику, напротив, счита-
ли, что в мире действуют целевые причины, присущие ему как его умопостига-
емые активные формы. Так считали, прежде всего, те, кто остался на позициях
Ibid. Р. 273.
Ibid. Р. 264.
«Это господин, абсолютный Монарх, суверен надо всеми телами и всеми умами».
Lenoble R. Mersenne ou la naissance... P. 264.
7-3357
98
Глава IL От Возрождения к Новому времени
аристотелизма, хотя некоторые из них пытались выйти за его пределы. Такое
убеждение разделяли и оппоненты аристотелизма — спиритуалисты и герме-
тисты, хотя они и давали своему финализму неоплатоновскую и неопифаго-
рейскую трактовку. К первым принадлежал, например, Жан Рей (1583—1645),
врач из Монпелье, предшественник Лавуазье, опубликовавший интересные
наблюдения о падении тел, заинтересовавшие Мерсенна. Ко вторым относится
знаменитый английский герметист, тоже врач, Р. Флудц. В полемике с ними
обоими в качестве основного аргумента Мерсенн выдвигает теологический
принцип свободы воли Бога-Творца, делающий излишними, как он считает,
любые предположения о финализме самой природы: раз природа мыслится
как механизм, или машина, созданная волей Бога, то в ней нет никакой автоно-
мии, никаких имманентных целей, оснований, или причин, которые ограничи-
вали бы волю Бога и не зависели бы от нее. Единственное, что нам доступно в
области познания природы, считает Мерсенн, это постижение закономерной
механической связи явлений благодаря опыту и его математическому описа-
нию. Узнать же, как устроена природа сама по себе или «в себе», мы никогда в
этой жизни не сможем, да это и не нужно нам на Земле, ибо цель знания —
служение благу людей, в чем тоже проявляется забота Бога о нас. «Науки, —
говорит Мерсенн, — неполноценны, если они не применяются в практической
жизни, так как Бог дал их нам для того, чтобы ими пользоваться» ". Ученый,
по Мерсенну, — это инженер-механик, конструктор-практик и в этом он под-
ражает Богу — величайшему Инженеру, Творцу машины мира.
Спиритуалисты магико-герметической традиции перипатетический фина-
лизм сменили на анимистический или панпсихический. Споря с Аристотелем,
они приняли доктрину его учителя Платона, неоплатоников и пифагорейцев.
Так, Флудц, исходя из соотношений музыкальной гармонии, предписывает пла-
нетам их взаимное расположение. Тем самым умозрительный принцип гармо-
нии ставится им выше воли Бога. Так же поступают Бруно и другие натурфи-
лософы Возрождения, предписывая миру финальные причины в поведении тел,
понимаемые ими по типу финализма, заложенного якобы в действии магнита,
в силах симпатии и антипатии. Аргументация Бруно в пользу бесконечности
Вселенной строится аналогично аргументации Платона в «Тимее»: сначала
осознаются вечные каноны блага и красоты, а затем по ним создается мир.
«Весь этот финализм, основанный на необходимости, — говорит Ленобль, —
исчезает из системы Мерсенна» ,0°. Настоящей аподиктичности в финалист-
ских заключениях, считает Мерсенн, нет и быть не может, потому что воля
Бога-Творца абсолютно свободна. И поэтому единственной подлинной необ-
Ibid. Р. 265.
) Ibid. Р. 273.
Герметизм, эксперимент, чудо
99
ходимостью в сфере познания остается опыт. Так, например, Мерсенн призна-
ет, что Бог может создать бесконечное множество миров. Но решить этот воп-
рос (создал его Бог или нет), исходя из априорных соображений, считает он,
невозможно. Нужен опыт. И, например, телескоп, столь замечательно усовер-
шенствованный Галилеем, может нам сказать, существуют ли на самом деле
другие миры или нет.
Подводя итог рассмотрению связи волюнтаристской установки в теологии
с экспериментальным характером новой науки у Мерсенна, нужно подчерк-
нуть, что у него речь идет не о науке вообще, а об определенном ее типе, а
именно о механистическом естествознании. Тот эмпиризм, который содержал-
ся в конкурирующих с механицизмом программах — в перипатетической тра-
диции, а также в анимистических натурфилософиях Возрождения, — не со-
ставлял основополагающего элемента этих познавательных систем, в частно-
сти потому, что теологический контекст, с ними связанный, не включал в себя,
как правило, волюнтаристской установки, а если и включал, то в редуцирован-
ной форме.
Проблема чуда
Натурфилософия Возрождения, столь характерная для культуры Европы на
ее переломе от средних веков к новому времени, и религиозно, и научно была
амбивалентным феноменом. Известно, какое место в ней занимала магико-гер-
метическая традиция, воскрешавшая атмосферу гностицизма первых веков
христианской эры, преодолевая которую, оформлялось догматическое ядро
христианской традиции. Хотя и существовали течения христианской каббалы,
а спиритуалистические учения натурфилософов, как правило, открыто не по-
рывали с христианством, а иногда даже их представители искренне, как, на-
пример, Ван-Гельмонт, стремились к новой христианской науке, однако весь
этот, философски выражаясь, натурализм был окрашен пантеистически, а ма-
гия и оккультизм, в нем содержащиеся, не отвечали нормам христианской ре-
лигиозности и ортодоксальной теологии.
Такое же, по меньшей мере двусмысленное, отношение связывало натурфи-
лософскую традицию Ренессанса и с зарождающимся математическим есте-
ствознанием. С одной стороны, натурализм Возрождения был средством для
того, чтобы расшатать авторитет схоластической традиции, перипатетической
науки университетов. На этом пути натурфилософы выдвигали порой новые
идеи, поддерживая смелые научные новации (например, инфинитист Бруно был
пламенным пропагандистом коперниканства ,01). Но несмотря на это, натурфи-
Вплоть до Галилея коперниканская система была принята (и с энтузиазмом) только
7*
100
Глава П. От Возрождения к Новому времени
лософия Возрождения в целом представляла собой, скорее, «эпистемологиче-
ское препятствие» (выражение Башляра) новой науке, чем служила ее разви-
тию и оформлению. Как ни критиковали натурфилософы Аристотеля, однако
их собственная физика оставалась квалитативистской, как и у самого Стагири-
та. Этот сложный узел взаимных отношений и острых противоречий между
ортодоксальным схоластическим рационализмом, зарождающейся новой ме-
ханистической наукой и натурфилософской спиритуалистической традицией
со всем драматизмом завязывается уже в XVI в.
Действительно, в этом столетии магико-герметическая традиция, усвоив
каббалу, переживает свой расцвет, получив мощный импульс от работ
М. Фичино и Пико делла Мирандола, в трудах Агриппы, Рейхлина, Джорджо и
других представителей оккультной науки. Расцветает и натурфилософия, тес-
но связанная с указанной традицией (Помпонацци, Нифо, Телезио, Кардано,
Патрици, Бруно и др.). Но одновременно набирает силу и антимагическое, ан-
тигерметическое течение (Дель Рио, иезуит, выступивший с огромным фоли-
антом против магии в конце века, протестант Иоганн Виер, стремившийся к
полному очищению религии от магии, Томас Эраст, присоединившийся к нему
в этом отношении и др.) 102. Прежде чем перейти к анализу этой антимагичес-
кой атаки, бьющей и по натурфилософам, посмотрим, как ставилась и реша-
лась такая важная для выяснения всех этих сложных взаимосвязей проблема,
как проблема чуда, в натурфилософской традиции Возрождения.
Наиболее известным сочинением, посвященным этой проблеме, был трак-
тат Пьетро Помпонацци (1462—1525) «О причинах естественных явлений или
о чародействе» 103, законченный автором к 1520 г. и распространявшийся сна-
чала в рукописных списках. Что такое чудо, моделью которого в этом трактате
выступает излечение словом (или заклинанием — название трактата можно
перевести и как «О заклинаниях»), приводящее на ум мысль об участии в этом
процессе сверхъестественных сил, — ответу на этот вопрос и посвящен трак-
тат. Разбирая в связи с этим большой материал, накопленный в античности
касательно различных чудес, чар, заклинаний, магических операций, Помпо-
нацци приходит к однозначному выводу, что все эти явления, во-первых, дей-
ствительно существуют, а во-вторых, все они могут получить совершенно ес-
тественное истолкование, а потому нет никакой нужды, как это часто делается,
обращаться при попытке их объяснения к сверхъестественным сущностям —
представителями неоплатонической магико-герметической традиции (см.: Kearney H. F.
Science and Change 1500—1700. P. 104), что является, кстати, косвенным указанием на ту
традицию, к которой принадлежал и сам Коперник.
102 Yates F A. Giordano Bruno and Hermetic Tradition. P. 157—159.
103 «De naturalium effectuum causis seu de incantationibus». Basel, 1556.
Герметизм, эксперимент, чудо
101
демонам, ангелам и т. д. Например, известный чудотворец Аполлоний Тиан-
ский мог видеть (как это следует из его биографии |04) на огромном расстоя-
нии. Помпонацци утверждает, что это так и было на самом деле, но не благода-
ря магической силе Аполлония, а в силу естественных причин: «Ибо явления
земного мира, — говорит он, — распространяют свои образы по воздуху и
вплоть до неба, как бы от одного зеркала к другому, и, таким образом, эти пред-
меты могут быть видимы издалека» 105. Для всех необыкновенных явлений или
чудес Помпонацци находит естественное объяснение — то это деятельность
«жизненных духов», вполне природных, то сила воображения и психического
внушения, но, в конечном счете, во всех этих явлениях обнаруживается влия-
ние звезд. Астрология у Помпонацци оказывается главной наукой, дающей пос-
леднее и решающее объяснение всей природе, в том числе и чудесным ее про-
явлениям. «Пусть же, — говорит философ из Мантуи, — прибегающие к суще-
ствованию демонов обратят внимание на низвержение царств, возвышение
империй на месте неисчислимых пришедших в упадок, на бедствия от воды и
огня, на столь удивительные события во Вселенной, совершаемые силой не-
бесных тел: никто, в том числе и они сами, находясь в здравом уме, не станут и
не посмеют отрицать, что рассматриваемые явления могут быть совершены
небесами, ибо это свидетельствовало бы о скудоумии и полном отсутствии
прозорливости» 106.
Что же происходит у Помпонацци? Истечения или испарения, жизненные
духи и тому подобные естественные факторы привлекаются им при рассмот-
рении чудесных явлений, для объяснения которых не надо больше обращаться
к богам, демонам и прочим сверхъестественным сущностям. Магия, таким об-
разом, натурализируется, чудо ставится в разряд природных явлений, быть
может, отличающихся от обычных только более редкой периодичностью 107.
Магическая беспредельность возможностей (в принципе для мага нет невоз-
можного), отнятая у профессиональных магов и колдунов, с одной стороны, у
демонов и ангелов — с другой, приписана самой природе. В результате магия
не изгоняется из мира, а делается еще более обоснованной, будучи прочно впи-
санной в сам природный фундамент мироздания.
Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах естественных явле-
ний или о чародействе». М., 1990. С. 224.
105 Там же. С. 152.
106 Там же. С. 277.
107 «Не потому это чудеса, что происходят полностью вопреки природе и помимо порядка
движения небесных тел, но потому они именуются чудесами, что необычны и чрезвычайно
редки и происходят не по обычному ходу природы, но с весьма долгой периодичностью»
(см.: Горфункель А. X. Постоянство разума (свободомыслие Пьетро Помпонацци) // Помпо-
нацци П. Трактаты. М., 1990. С. 17).
102
Глава IL От Возрождения к Новому времени
Рассмотрим в качестве примера только одно чудо — воскрешение из мерт-
вых — и его трактовку, с одной стороны, у Помпонацци, с другой — у Мерсен-
на. Помпонацци стремится к тому, чтобы и это чудо из чудес сделать обычным
естественным явлением. В частности, он говорит, что воскрешения, приписы-
ваемые Аполлонию Тианскому, ничего невероятного в себе не содержат, явля-
ясь естественными явлениями 108.
Если Помпонацци стремится расширить понятие естественного за счет ут-
верждения такого всемогущества природы, для которого и воскрешение не есть
чудо, то Мерсенн озабочен как раз противоположным — тем, как ограничить
область естественных явлений, сделав категорию природы четко определен-
ной и строго ограниченной. На этом пути он подвергает критике различные
рассказы о подобного рода чудесах. И если величайшие учителя и религиоз-
ные законодатели действительно совершали такие чудеса (как Моисей и Иисус
Христос), то потому только, говорит Мерсенн, что в них действовала воля Бо-
жья. Чудо — проявление сверхъестественного, божественного начала. Приро-
да не знает чудес — она характеризуется строго очерченными пределами, не-
возможностями, диктуемыми принципом запрета нарушения ее законов. Мер-
сенн, таким образом, готов признать такие чудеса, как воскрешения, но лишь
при одном условии: если они будут знаком божественной благодати, объясне-
ние которой является прерогативой религии и теологии. «И если религия и
говорит нам, — пишет Ленобль, излагая Мерсенна, — о некоторых воскреше-
ниях, то пусть она и объясняет их нам. И лучше отнести их на счет Божествен-
ной свободы, чем искажать понятие естественной причинности» 109. В этих
словах — суть спора новой механистической науки с натурфилософией Воз-
рождения, которая, беспредельно расширяя естественную причинность и об-
ласть естественного вообще, искажает, деформирует само понятие природы.
Новая же наука, напротив, стремится жестко ограничить понятие природы, сведя
его к механическим закономерностям по.
Врагом религиозно значимого чуда, таким образом, выступает чудодействен-
ность природы, питаемая, прежде всего, астрологическим магизмом — верой
в то, что все необыкновенные силы камней, трав, стихий, животного мира и
человека происходят от звезд, от их влияний. Борьба конкурирующих познава-
Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах естественных явле-
ний или о чародействе». С. 224.
109 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 121.
110 Аналогичным образом Мерсенн критикует и Дж. Кардано (1502—1576): «Он (Кар-
дано. — В. В.) говорит о пришествии нашего Господа, о христианском законе, который Он
установил, так, как если бы звезды были причиной всего этого, смешивая тем самым Твор-
ца и творение и делая все сверхъестественное и чудесное следствием естественных при-
чин» (см.: Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 122).
Герметизм, эксперимент, чудо
103
тельных программ в XVI—XVII вв. неотделима от борьбы религиозных и тео-
логических установок, с этими программами связанных 1П. Барьер на пути безу-
держной экспансии магико-натуралистической концепции природы был постав-
лен не столько в силу эпистемологического предпочтения конкурирующих с
ней программ, сколько в результате самозащиты христианских ценностей евро-
пейской культуры.
Магическая концепция природы характерна и для других натурфилософов
Возрождения, в частности для такого влиятельного, как Парацельс (1493—1547).
Именно Парацельс был главным объектом критики со стороны Иоганна Либе-
ра, или Томаса Эраста (его литературное имя), швейцарского врача и теолога
(1524—1583). Сочинение Эраста против Парацельса («Disputationum de medicina
nova Philippi Paracelsi partes quatuor», Basel, 1572—1573) использовалось Mep-
сенном в его решительной борьбе с анимистической натурфилософской тради-
цией. Для Эраста неприемлемой оказывается сама суть парацельсовского при-
родоведения — магическая концепция природы, ее анимизм и спиритуализм.
В натуральном магизме Помпонацци или Парацельса по сути исчезало само
понятие чуда как сверхъестественного нарушения природной регулярности.
Размывание чуда в натуралистической всевозможности угрожало основам хри-
стианского мировоззрения, хотя Парацельс был верующим христианином, да и
Помпонацци стремился все-таки провести грань между чудесами религии, с
одной стороны, и чудесами магии — с другой 112, возможно, скрывая свои на-
стоящие убеждения и маскируя их «ортодоксально-благочестивым обрамлени-
ем» пз. С целью спасения чуда от натуралистической его редукции Эраст обра-
щается к Аристотелю, у которого главным в его природоведении было утверж-
дение строгой регулярности порядка природы, его органической правильности.
Достается от Эраста и самому Помпонацци, а также и другим натурфилосо-
фам, как новым, так и древним — Плутарху, Альберту Великому, Р. Бэкону,
М. Фичино, Пико... Сама идея магии — будь то магии демонической или, на-
111 Основными научными программами (и традициями) в эту эпоху были: 1) органиче-
ская, или перипатетическая, 2) магическая, или спиритуалистическая, 3) механистическая
(см.: Kearney H. F. Science and Change... P. 17—48). M. Ослер выделяет из спиритуалисти-
ческой традиции парацельсовскую, возможно, под влиянием работ Ч. Уэбстера и А. Деба-
са (см.: Webster Ch. From Paracelsus to Newton: Magic and the Making of Modem Science;
Debus A. C. The English Paracelsians; Idem. The Chemical Philosophy: Paracelsian Science and
Medicine in the Sixteenth and Seventeenth centuries; Idem. Chemistry, Alchemy and the New
Philosophy, 1550—1700). См.: Osier M. J. Baptizing Epicurean Atomism: Pierre Gassendi on
the Immortality of the Soul. P. 163.
112 Помпонацци П. Трактаты. С. 166.
113 Горфункель А. X. Постоянство разума (свободомыслие Пьетро Помпонацци) // Пом-
понацци П. Трактаты. С. 16.
104
Глава IL От Возрождения к Новому времени
против, натуральной — вызывает у него безусловное отрицание. Те чудеса, о
которых сообщает Библия, считает Эраст, ничего общего с магическими чуде-
сами не имеют. Нет магии и в церковных ритуалах: они лишь обозначают таин-
ственное действие благодати сообразно с богооткровенными установлениями,
и никакой магической операциональной эффективности в жестах и словах цер-
ковных обрядов нет. Против Парацельса и натуральных магов, использующих
каббалу, Эраст выдвигает номиналистическую теорию знаков. Христианское
благочестие, по Эрасту, стремится к тому, чтобы природа рассматривалась как
игра сил, господином над которыми выступает один лишь Бог, управляющий
миром согласно строгому порядку, а не по произволу фантазии. Однако для
конкретного определения такого порядка Эраст мог предложить только пери-
патетическую качественную физику, противоречия которой уже начали раскры-
ваться пытливым ученым. Поэтому стремление спасти саму возможность чуда,
опираясь на упорядоченность природы, на ее законы, вело к Аристотелю, а от
него к новому порядку природы — к порядку механистическому, более ста-
бильному и объективному, чем порядок, устанавливаемый качественной физи-
кой. Основу такого порядка природы составил закон инерции прямолинейного
равномерного движения. Поэтому те ученые и теологи, которым был близок
пафос Томаса Эраста в его борьбе с магико-натуралистическим размыванием
понятия чуда, впоследствии опирались уже не на Аристотеля в своей апелля-
ции к регулярности природы, а на Галилея. Надежной опорой в борьбе с маги-
ей физика Аристотеля в это время быть уже не могла. Это и показал весь опыт
полемики Эраста. «Эрасту не удалось, — пишет Ленобль, — поставить барьер
анимизму в сфере физики качеств, из чего Мерсенн извлек урок: науку от ма-
гии может спасти только новая физика» 114. Итак, мы видим, что в вопросе о
чуде наука и религия идут рука об руку: христианской ортодоксии было необ-
ходимо отстоять идею чуда, а науке нужно было покончить с магией и анимиз-
мом. Интересы новой — механистической — науки и христианской религии
здесь совпадали. И лучше всего, пожалуй, это совпадение реализовалось в та-
кой типичной для первой половины XVII в. фигуре, как Марен Мерсенн —
видный ученый и монах католического ордена минимов (les minimes) ,I5.
Суть взаимодействия теологии и науки в вопросе о чуде можно сформули-
ровать таким образом: защита чуда — пусть это и покажется кому-то парадок-
114 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 605.
1,5 Приведем данный Леноблем психологический портрет Мерсенна: «Скромный по
характеру и по духу, глубоко честный в своем поиске, любознательный без меры и просве-
щенный во всех науках своей эпохи, достаточно проницательный, чтобы понять эволюцию
своего времени и в ней участвовать, но при этом слишком уж забавляющийся деталями в
ущерб интересу к системе — таким был Марен Мерсенн» (Lenoble R. Mersenne ou la naissance
du mécanisme. P. 80).
Герметизм, эксперимент, чудо
105
сом — оказалась и защитой науки от возрожденческого паннатурализма с его
естественной магией. И у религии, и у науки в это время был общий сильный
противник, несущий угрозу им обеим. По сути дела Помпонацци и другие на-
турфилософы рассматривали природу не столько как рациональный порядок
(это было у Аристотеля и сохранялось в схоластической традиции), сколько
как волюнтаристский произвол симпатий и антипатий, подобий и отталкива-
нии, аналогий и влияний. Панпсихизм, принцип аналогии микрокосма и мак-
рокосма, мировая душа и жизненные духи — весь этот типичный для натур-
философии Возрождения стиль мышления не мог служить базой для уста-
новления постоянно действующих законов природы, постулирование которых
является необходимым условием для того, чтобы было возможно само чудо
как их нарушение. Поэтому теологам, борющимся с магией, на помощь прихо-
дил Аристотель, проявлявший сдержанность по отношению к чудесному в при-
роде П6. Но аристотелизма в это время было недостаточно. Авторитет Аристо-
теля — как и сам принцип авторитета — уже был расшатан. И для того чтобы
противостоять наплыву возрожденческого иррационализма, нужен был новый
рационализм и более строгое и объективное понимание закона природы, чем
перипатетическое. Его и дали Коперник, Кеплер и особенно Галилей. И поэто-
му апология христианства у Мерсенна не случайно сливается с апологией но-
вой механистической науки. Для него Помпонацци и Бруно, Кампанелла и Флудд
в равной мере представляют собой и антирелигию, и антинауку.
Основу для сближения интересов новой науки и религии составляло стремле-
ние отстоять (в случае религии) или выдвинуть (случай науки) такое понимание
самой идеи природы (естественного), которое четко было бы противопостав-
лено сверхприродному началу. Концептуально природа может быть вразуми-
тельно определена, если определено со всей ясностью и недвусмысленностью
противопоставление естественного и сверхъестественного. Натуралистическая
же концепция отличалась, напротив, предельным смешением этих категорий —
у представителей магико-герметической традиции отличить естественное от
сверхъестественного (или божественного) было невозможно. Развитие этой
традиции вело к тому, что Льюис назвал «природоверием» 117, к пантеизму и
даже прямому атеизму, в котором фактически все функции Бога (в том числе и
те, которые касаются чудотворчества) несет на себе эта беспредельная, само-
достаточная, самодвижущаяся и сама себя оформляющая природа. Очевидно,
116 Помпонацци, будучи аристотелианцем падуанской школы, считал, что сам Аристо-
тель ничего не говорит о чудесах и что поэтому разумно рассуждать о них можно, лишь
исходя из духа его философии природы (см.: Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души»,
О причинах естественных явлений или о чародействе». С. 126; Miller R. The Manifestation
of Occult Qualities in the Scientific Revolution // Religion, Science and Worldview. P. 192).
117 Льюис К. С. Чудо. M., 1991. С. 7—27.
106
Глава IL От Возрождения к Новому времени
что эта тенденция по сути дела восстанавливает дохристианское язычество в
мире верований, реабилитирует тот несозданный, самодвижущийся космос, о
котором учили греки.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что одновременно с тем, как в
экстенсивном плане понятия мира и природы, начиная особенно с Коперника,
постоянно расширяются, в интенсивном плане, напротив, происходит концепту-
альное сужение этих понятий, благодаря возникновению механики и ее экспан-
сии в область мировоззрения. Эталоном естественности, образцом для пони-
мания того, что есть природа, выступает при этом закон инерции: инерционно
движущиеся тела — вот что такое природа согласно новому мировоззрению,
природа per se. Когда к этому закону были добавлены и другие основные меха-
нические законы, то тем самым обрисовался и в принципе замкнулся круг при-
родного бытия, схваченного в научных понятиях. И это означало конец воз-
рожденческого натурфилософского понимания природы, продолжавшего ма-
гико-герметическую традицию.
В магической традиции наука и религиозность (нередко явно нехристиан-
ского толка) смешивались. И именно это смешение стало теперь (в начале
XVII в.) особенно неприемлемым, так как представляло угрозу как для рели-
гии откровения — христианства, так и для новой экспериментально-математи-
ческой науки. В конце концов, Новое время стремилось к тотальной диффе-
ренциации во всем П8, в том числе и к тому, чтобы отделить науку от религии.
И не было лучшей возможности для этого, чем новое механистическое есте-
ствознание. Оно четко и недвусмысленно определило, что такое естественное,
что такое природа. Религии и теологии в качестве их привилегии, которую они
ни с кем разделять не хотели, осталось определение Бога или сверхъестествен-
ного. И чудо в такой системе дифференциации стало элементом исключитель-
но религиозной системы, покинув область природознания 119.
1 Эта характеристика нового времени как его специфика была рассмотрена Клаареном
(см.: Klaaren Е. М. Religious Origines of Modern Science. P. 96—97).
119 Такая трактовка чуда содержится, например, в поэтическом комментировании Пас-
тернаком евангельского рассказа о смоковнице, осужденной на мгновенное засыхание Иису-
сом (Мф 21: 19):
Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Пастернак Б. Избранное: В 2 т. М., 1985. ТА. С. 414.
Данное поэтом толкование чуда предполагает, что и свобода природы (здесь вспомина-
ется Тютчев с его утверждением свободы природы (см.: Тютчев Ф. И. Лирика. М., 1965.
Т. 1. С. 81)), и ее законы характеризуют мир в его падшем, т. е. обезбоженном, состоянии
Герметизм, эксперимент, чудо
107
Если мы теперь посмотрим на взаимосвязи и противостояния различных
традиций с точки зрения христианства, с позиций, например, Мерсенна как
католического теолога, то нам станет ясно, что магическая традиция, расцвет
которой приходится на конец XVI в. 12°, была для него религиозно значимым
соперником и притом весьма грозным (косвенно об этом свидетельствует и
влияние герметизма вплоть до XVII в. включительно). Поэтому для того же
Мерсенна существовал очевидный религиозный стимул для борьбы с магией и
натурфилософским анимизмом. Но это стремление совпадало и с его научны-
ми ориентациями и симпатиями, фокусировавшимися на архимедовой, меха-
нистической, математической традиции. Явственно также проступает как у него,
так и у других ученых (например, у Ф. Бэкона), и стремление спасти новую
(природа сопротивляется Божьей воле с помощью своей свободы, оформленной в ее зако-
нах и поэтому тождественной со своеволием). Эта трактовка подчеркивает главный мо-
мент в понятии чуда — теистический тезис в теологии. При его отрицании (например, у
пантеиста Спинозы) чудо делается невозможным, «так как природа, — говорит философ, —
следует постоянному и неизменному порядку» (см.: Kearney Н. F. Science and Change 1500—
1700. P. 226). Но можно и по-иному представить себе это понятие, понимая по-другому и
свободу природы, и ее законы. Мы можем истолковать чудо так. В его понятии соединены
два момента. Во-первых, момент сверхъестественного, божественного вмешательства. Но,
во-вторых, поскольку чудо касается вещей этого мира, то логично допустить, что оно мо-
жет протекать только по законам природы. Таким образом, чудо — сверхъестественное, но
прикрытое естественными законами, вмешательство в природу. Например, было замечено,
что колокольный звон способствует прекращению ненужных дождей, так как при этом дож-
девые тучи рассеивались (этот случай анализирует Мерсенн). Простой народ при этом го-
ворил: «Чудо!» «Воля звезд» — говорил ученый натурфилософ типа Помпонацци. «Воля
Божья» — говорит теолог и монах Мерсенн, но как ученый он тут же спрашивает: а не
действует ли воля Бога, в этом явлении обнаруживаемая, с помощью законов движения
жидкостей и газов? И если допустить это, то возникает возможность и сохранить религию,
и дать место механистической науке... Свобода природы при этом истолковывается не как
характерное для падшего состояния ее своеволие, противящееся Божьей воле, а как не за-
детая грехопадением ее первосуть, продолжающая пребывать в Боге. Возможность такого
толкования чуда допускал и Павел Флоренский. В своих «Воспоминаниях» он дает, так
сказать, дольнюю интерпретацию горнего зова, позвавшего его лунной ночью во дворе его
тифлисского дома летом 1899 г. Не отрицая «небесных внушений и голосов, лишенных
физической основы» (см.: Свящ. П. Флоренский. Детям моим. Воспоминания прошлых
дней. Генеалогические исследования и др. М., 1992. С. 216), он, тем не менее, объясняет
этот эпизод с помощью физических посредников, понимая при этом, что все физическое,
или дольнее, протекающее по законам этого мира, определялось миром горним, «который
и направил все внешние обстоятельства так, чтобы наиболее доступным мне образом про-
бить кору моего сознания» (см.: Там же). Глубокий анализ чуда в категориях личности и
символа как «мифической целесообразности» дает А. Ф. Лосев (см.: Лосев А. Ф. Из ранних
произведений. М., 1990. С. 535—581).
120 Kearney H. F Science and Change 1500—1700. P. 41.
108
Глава IL От Возрождения к Новому времени
науку от обвинений в магии, которые были типичны для контрреформацион-
ной Европы, что заставляло многих ученых открещиваться от магии и герме-
тизма, даже если они и не принадлежали к магической традиции: природозна-
ние в общественном сознании не отделялось тогда от оккультизма и магии.
Но если мы теперь посмотрим на того же Мерсенна как на ученого, как на
человека в высшей степени любознательного, заинтересованного в познании
мельчайших «деталей» природы (акустика, механические явления, астрономия,
баллистика и т. п.), опирающегося при этом на парадигму механико-математи-
ческого естествознания, то нам станет понятной и чисто научная мотивация в
пользу ортодоксального христианства, в союзе с которым, «под крылом» кото-
рого новая наука, казалось, надежно защищена.
Конечно, в XVI и XVII вв. существует еще и другая антимагическая тради-
ция — скептицизм и течение «либертинов» или вольнодумцев (от Рабле до
Сирано). Но это течение склонно было вообще отрицать все чудесное — ив
самом христианстве тоже, несмотря на некоторую вполне понятную осторож-
ность в выражениях. Однако «ставить на одну доску Аполлония Тианского и
Иисуса Христа Мерсенн отказывается» 121. Ибо для него как убежденного ка-
толика, пусть и погруженного больше в науку, чем в теологию или мораль,
чудо чуду рознь, и нужно уметь отделять истинные чудеса от ложных. А для
этого нет лучшей основы, чем новое механистическое естествознание, форму-
лирующее ясные, однозначные, экспериментально верифицируемые законы.
XVII век — век высокой религиозной активности и одновременно век науч-
ных гениев, эпоха, быть может, самого продуктивного в истории напряжения
научного разума. И оба этих энтузиазма — религиозный и научный — слива-
ются в едином порыве, результатом которого стал мощный вклад в научную
революцию, оформившую начало переворота в культуре Европы, в этом столе-
тии свершившегося. Угроза христианству была, действительно, велика, осо-
бенно в конце XV в., когда устраивались культы Венере и Марсу, а Гермесу
Трисмегисту поклонялись в такой степени, что его изображением украсили
кафедральный собор в Сиене, когда верховным властителем человека снова
становятся звезды и все сущее попадает в тиски астрального детерминизма.
Это был возврат язычества, греческих мойр, восточных культов, гностицизма.
И видное место в этом религиозном откате занимала как раз возрожденческая
натурфилософия ,22. Но и угроза науке при этом была немалой. Причем — раз-
нообразной. Науке угрожали пантеистический и панпсихический натурализм
и магия. Однако ей не в меньшей степени угрожала и отвечающая на эти об-
121 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 94.
122 «Теперь не христианский Бог занимается людьми, — говорит о Помпонацци Ле-
нобль, — а звезды» (Ibid. Р. 116).
Герметизм, эксперимент, чудо
109
щие для религии и науки угрозы жесткая реакция западного христианства, осо-
бенно усилившаяся в эпоху Контрреформации и «подогретая», конечно, его
расколом, в условиях, как мы уже говорили, недостаточной демаркации между
новой позитивной наукой и паранаучной магией. Итак, мы можем заключить,
что кризис культуры и общества в XVI—XVII вв. был тотальным и глубоким:
под вопрос было поставлено духовное единство европейского человечества —
как его христианское ядро, так и традиционный рационализм. И тот союз на-
уки и христианства, который тогда оформился, явился спасительным для судеб
европейской культуры, для преодоления кризиса ее самотождественности. Не-
редко, следуя традиции, идущей от просветителей, натурфилософов Возрож-
дения оценивают как предшественников новой науки, как провозвестников
научной революции (у нас, например, Горфункель 123, на Западе Бюссон 124,
Бланше ,25 и др.). Католически ориентированные историки придерживаются,
правда, иного мнения, считая, что такие натурфилософы, как Помпонацци, на-
против, делают шаг назад по сравнению со схоластической традицией как тра-
дицией рационалистической 126. Во всяком случае, ясно, что полный разрыв с
традиционным европейским рационализмом не привел бы нас к нашей науке.
Сама же позиция натурализма Возрождения по отношению к Аристотелю как
патрону схоластики была амбивалентной. Настоящей полновесной концепту-
альной альтернативы аристотелизму натурфилософия предложить не могла. Мы
уже показали это на примере полемики Эраста с Парацельсом — у всех воз-
рожденческих натурфилософов, как и у их перипатетических оппонентов, ос-
тается непреодоленным аристотелианский предел мысли: качественная физи-
ка, квалитативистская парадигма.
Завершая наш анализ проблемы чуда, подчеркнем то обстоятельство, что
антихристианство вовсе не есть магистральный путь к науке нового време-
ни. Да, магико-герметическое течение, столь широко распространенное и раз-
вившееся в эпоху позднего Возрождения, многие представители которого ре-
лигиозно были ориентированы или индифферентно, или антихристиански
(Кардано больше, чем Помпонацци), сыграло свою роль в подготовке науч-
ной революции и негативно, в качестве противника схоластической тради-
ции, и, в известной степени, позитивно 127. Но тем не менее от спиритуализ-
123 Горфункель А. X. Постоянство разума (свободомыслие Пьетро Помпонацци). С. 26.
124 Busson H. Introduction // Pomponazzi P. Les causes merveilles de la nature ou les
enchantements / Trad, française avec une introduction et des notes par Henri Busson. P., 1930.
125 BlanchetL. Campanella. P., 1920.
126 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 118.
127 Kearney H. F. Science and Change 1500—1700; Визгин В. П. Оккультные истоки науки
нового времени // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 1. С. 150—151.
ПО Глава IL От Возрождения к Новому времени
ма, анимизма и натуральной магии не было пути к новой науке, даже если бы
вместе с этими учениями развился не только пантеизм, но и крайний атеизм.
Антихристианство послужило всеобщему брожению умов и душ в эпоху Ре-
нессанса, но науки не создало и не могло создать. Поэтому тезис Фр. Ейтс об
определяющей роли «герметического импульса» в генезисе науки Нового вре-
мени 128 должен быть скорректирован, или, точнее говоря, дополнен выявле-
нием других, в том числе даже противоположных, импульсов 129. И нет, пожа-
луй, более удачного материала для этого, чем анализ тех полемик и споров,
которые вел Мерсенн.
Yates F. A. Giordano Bruno and Hermetic Tradition. P. 155—156, 449—450 и др.
129 Подчеркнуто католическую версию генезиса науки дает С. Яки. В противовес Ейтс и
отчасти в противовес ученым, подчеркнувшим роль протестантизма в формировании на-
уки (Вебер, Мертон, Уэбстер), Яки считает основой для возникновения новой науки хрис-
тианство вообще и схоластику в частности (главный герой у него Буридан). Он отрицает
значение традиции греческого рационализма. Фразу из книги Премудрости Соломона (11 :
21) об упорядочении Богом мира мерою, числом и весом он считает несравненно более
важной в этой связи, чем творчество Архимеда (см.: Яки Ст. Л. Спаситель науки. М., 1992.
С. 118. О концепции Яки см.: Маркова Л. А. Наука как способ рационального постижения
Бога: Концепция Стенли Л. Яки // Вопросы истории естествознания и техники. 1996. №. 3.
С. 144—152). В результате, во-первых, стушевывается классический греческий рациона-
лизм, вся эллинская наука, а во-вторых, исчезает сложная ситуация Ренессанса с его явно
нехристианской магико-герметической традицией. Концепция Яки, на наш взгляд, слиш-
ком проста, чтобы быть верной. Из существования в истории веры в разумность мира еще
вовсе не следует, что она обязательно должна быть христианской (такая вера существовала
и в языческой Греции), а из наличия ее еще не следует с неизбежностью новая эксперимен-
тальная наука. Наша позиция (отвлечься от нашего пребывания на восточно-европейской
великой равнине с ее восточнохристианской традицией мы не можем, если бы даже хотели
того), может быть, как раз удачна для того, чтобы при анализе проблемы генезиса новой
науки не впасть в односторонность. Герметический импульс расшатал традиционное хри-
стианство Запада, но наука возникла потому, что антихристианского срыва в восточный
гностицизм при этом не произошло. И в этом уникальном событии свою роль сыграли и
герметисты, и пуритане, и католики.
«ДВОЙНАЯ ЗВЕЗДА» ДЖОРДАНО БРУНО
При самом общем взгляде на философию Дж. Бруно (1548—1600) в целом
нельзя не отметить в качестве ее основной особенности парадоксальное соче-
тание в ней, с одной стороны, опережающих науку его времени смелых идей и
тем самым предвосхищающих ее будущее развитие, и, с другой — магических,
алхимических, астрологических, анимистических мотивов, обусловливающих
неизбежные и радикальные отступления от состояния науки его эпохи, не го-
воря уж о науке последующих времен. Иными словами, весь феномен Бруно
предстает, если выражаться метафорически, как своего рода «двойная звезда»,
светящая и в будущее науки, и в ее далекое прошлое (парадокс архаиста-нова-
тора). Рассматриваемый в исторической перспективе феномен Бруно неизбеж-
но раздваивается, двоится, но так, что его новаторскую компоненту невозмож-
но отделить от пронизывающей его архаики мысли. Такое двоение единого
образа мыслителя итальянского Ренессанса обнаруживается на всех уровнях
его учения, формулируемого на разных этапах его жизненного пути. Эту ситу-
ацию следует прежде всего четко обозначить и уже затем попытаться объяс-
нить. Для этого, на наш взгляд, следует еще раз хотя бы бегло просмотреть его
жизненную траекторию и проанализировать его основные идеи в космологии,
философии, мировоззрении. Сейчас у нас переводятся и издаются важные ра-
боты западных историков, в том числе и посвященные Бруно. Некоторые из
них уже не раз обсуждались задолго до их русских изданий (например, книга
Ф. А. Ейтс (Йейтс) «Дж. Бруно и герметическая традиция» *), а другие в обо-
1 Yates F. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964. Реферат книги см.:
Герметизм и формирование науки. М., 1983. С. 71—95. Перевод Г. Дашевского опублико-
ван издательством «Новое литературное обозрение» (М, 2000). Косарева Л. М. Проблема
герметизма в западных исследованиях науки // Вопросы истории естествознания и техни-
ки. 1985. № 3. С. 128—135; Визгин В. 77. Герметическая традиция и генезис науки // Вопро-
сы истории естествознания и техники. 1985. № 1. С. 58—63; Он же. Герметизм, экспери-
мент, чудо: три аспекта генезиса науки нового времени // Философско-религиозные истоки
науки. М., 1994. С. 88—.141; Он же. Герметический импульс формирования новоевропей-
ской науки: историографический контекст//Одиссей (человек в истории). М., 1999. С. 162—
187. См. выше С. 51—61, 62—85.
112
Глава IL От Возрождения к Новому времени
рот нашей исторической и философской мысли практически еще не включены
(например, книга того же историка «Искусство памяти» 2). Поэтому мы специ-
ально остановимся на искусстве памяти Бруно в культурном контексте его эпо-
хи. Именно на таком материале удобно показать а/шшконоваторский харак-
тер его творчества и тем самым способствовать раскрытию его «двоезвездной»
природы.
Curriculum vitae
Дж. Бруно родился в небольшом городке Нола, в 12 милях от Неаполя. Из
дома, где он родился, был виден Везувий и старые, римской постройки, двор-
цы. Когда-то в древности здесь была греческая колония. Дух античной культу-
ры, казалось, не прерываясь, жил в этих местах. Отец Бруно дружил с извест-
ным поэтом, представителем неаполитанской поэтической традиции Л. Тан-
силло (1510—1568), юношеская поэма которого «Сборщик винограда» из-за
своего эпикурейского вольнодумства была включена в 1559 г. в индекс запре-
щенных книг. Неподалеку отсюда был похоронен и Вергилий, а впоследствии —
другой знаменитый поэт Дж. Леопарди (1798—1837), подобно Дж. Бруно вос-
певавший бесконечность, но не с «героическим энтузиазмом» ее первооткры-
вателя, а с меланхолией романтика. Эти живописные «полуденные» края, на-
зываемые «счастливой Кампаньей» и находившиеся в то время под испанским
владычеством, местной образованной элите казались завоеванными чуждым
ей католическим христианством с его аскетизмом и вмешивавшейся в их дела
римской инквизицией. Дух языческой фронды не случайно был силен в этих
местах, где сама природа и история, казалось бы, подтверждали эпикурейскую
точку зрения на телесный мир как на единственную подлинную реальность,
выступающую источником безмятежных и законных наслаждений. Опорой для
подобного свободомыслия служила не так давно ставшая известной поэма Лук-
реция «О природе вещей», в которой в жанре дидактической поэзии развива-
лись идеи греческих атомистов. Бруно не мог избежать ее мощного воздей-
ствия. Сходство с Лукрецием прослеживается не только в основных идеях, но
и в общей для них обоих поэтической позиции, воспевающей одинокий путь
поэта-мыслителя к вершинам созерцания бесконечной вселенной:
По бездорожным полям Пиэрид я иду, по которым
Раньше ничья не ступала нога.
(Лукреций)
2 Yates F. A. The Art of Memory. L., 1966. Русское издание: Йейтс Ф. Искусство памяти.
СПб., 1997. Рец. на нее (Визгин В. П. Мнемозина и Гермес // Новое литературное обозре-
ние. 1999. № 35. С. 387—393) использована во втором разделе данной работы.
«Двойная звезда» Джордано Бруно
ИЗ
Мой путь уединенный...
Уводит в бесконечность...
(Бруно).
Но непосредственным предшественником Ноланца (так любил называть себя
Бруно, никогда в своих странствиях не забывавший свою малую родину) был
итальянский ученый и поэт П. А. Мандзолли, известный как Марселлий Палин-
гений (ок. 1500—1543), автор популярной в то время латинской поэмы «Зоди-
ак жизни», запрещенной цензурой и поэтому распространявшейся в Италии в
годы учения Бруно в рукописных списках 3. Бруно хорошо ее знал, обсуждал и
цитировал в своей космологической латинской поэме «О безмерном и неис-
числимых» (1591)4. Настоящее имя ее автора тогда не было известно, и Бруно
считал, что ее написал немецкий ученый, которого он ставил в один ряд с таки-
ми великими мыслителями, как кардинал Николай из Кузы и Коперник, ока-
завшими на него наибольшее влияние. Подобно диалогам и поэмам самого
Бруно поэма Палингения воспевала беспредельность вселенной, соединяя при
этом такие разнообразные идейные явления, как неоплатонизм, языческая ми-
фология, герметизм и христианские мотивы. Как и Лукреций, Палингений учил
о множественности миров, что будет затем подхвачено и Бруно, который, одна-
ко, отвергнет представление Палингения о занебесном бесконечном и бесте-
лесном свете, назвав его «химерой». У Бруно герметическо-платонические ис-
точники его мысли освободятся от христианских теистических мотивов, при-
сутствующих у Палингения, что приведет его к пантеистической концепции
вселенной.
В годы учения (16 июня 1566 г. он вступил в доминиканский орден, обуча-
ясь в монастыре св. Доминика в Неаполе) Бруно познакомился с книгой Копер-
ника «Об обращениях небесных сфер» (1543), которая тогда еще не была зап-
рещена. Она, хотя и не сразу, вызвала в нем настоящий энтузиазм, потому что
давала совершенно новый образ мира, несовместимый с аристотелевско-пто-
лемеевской вселенной. Кроме философии, поэзии, теологии и космологии
Дж. Бруно в молодые годы увлеченно занимается изучением «великого искус-
ства» Р. Луллия (1235—1315), которое он постиг, как сам говорил, лучше его
изобретателя. Это «искусство», выступившее одной из первых попыток фор-
мализации процессов мышления и использовавшее для этого неоплатониче-
ские идеи и каббалу, повлияло на разработанное Ноланцем искусство памяти,
в котором своим умением традиционно славились как раз доминиканцы. Именно
3 См. о нем: Горфункель А. X. Философская поэма Пьер-Анджело Мандзолли «Зодиак
жизни» // Научн. докл. высш. школы. Философские науки. 1977. № 3; Визгин В. П. Идея
множественности миров: Очерки истории. М, 1988. С. 190—195.
4 В этой поэме Бруно называет Палингения «возвышенным умом» (sublime ingenium).
8-3357
114
Глава II. От Возрождения к Новому времени
из-за выдающихся мнемотехнических знаний и способностей подающего боль-
шие надежды юношу возили в Ватикан к папе показывать грядущую славу ор-
дена. Об этом визите мы имеем сообщение библиотекаря аббатства Сен-Вик-
тор (Париж): «Джордано рассказывал мне, — свидетельствует он, — что был
вызван в Рим из Неаполя папой Пием V и кардиналом Ребибой и доставлен
туда в карете с тем, чтобы продемонстрировать искусность своей памяти. Он
читал на иврите псалом "Fundamenta" и обучил Ребибу кое-чему из того, что
умел сам» 5.
Еще древние авторы, столь любимые Бруно, говорили, что характер челове-
ка — это его судьба. Характер же у Бруно был неуживчивый, ему были свой-
ственны импульсивность и резкость в суждениях. Самому себе он дал прозвище
il fastidito, что можно перевести как «беспокойный, непоседливый, настырный».
Как сообщает настоятель кармелитского монастыря во Франкфурте, хорошо
знавший его, «он был человеком универсального ума (homo universale), знал
все науки (délie littere), но в нем не было никакой религии» 6. Имеются в виду
христианские конфессии, так как религиозные убеждения у него были. Гордый
ум с необычайно высокой самооценкой чувствовался в нем всегда. Еще в мона-
стыре, застав однажды молодого монаха за чтением популярной книги о семи
радостях Пресвятой Девы, он посоветовал ему ее выбросить и читать, напри-
мер, «Житие св. Отцов» (Vita de'santi Padri). Из своей кельи он вынес иконы
святых, оставив только распятие. Поэтому неудивительно, что, получив сан
священника (1573 г.), он прослужил в нем недолго 7. Провинциал ордена, мо-
нах Вито, выступил со 130 статьями обвинений против него, уличая его в ере-
си. Одним из поводов к этим преследованиям послужило то, что в его келье
были найдены книги св. отцов с комментариями Эразма Роттердамского, вне-
сенные в папский индекс. Сначала он хотел оправдаться в Риме, а затем, поняв,
что это ему не удастся, в конце 1576 г. тайно бежит сначала на север Италии, а
потом за границу. Так начались его продлившиеся 15 лет скитания по Европе.
Мы не можем проследить всех зигзагов его маршрута. Остановимся только
на некоторых важных моментах. Они, как правило, связаны с искусством па-
мяти, которым в высшей степени владел философ и которое в значительной
степени определяло как его успехи (например, при дворе Генриха III), так и его
роковые шаги (возвращение в Италию).
5 Documenti della vita di Giordano Bruno. Ed. V. Spampanato. Firenze, 1993. P. 42—43.
Йейтс Ф. Искусство памяти. С. 257.
6 Bruno G. Œuvres complètes. Documents I. Le procès // Introduction et texte de L. Firpo.
Trad, et notes de A.-Ph. Segonds. P., 2000. P. 29 (doc. 8) (сокр. Documents I).
7 Вопрос о точной дате вступления в сан священника спорен. Спампанато считает, что
оно произошло в 1572 г., а М. Миеле — в 1573, что, видимо, лучше согласуется со словами
самого Бруно (Documents I. Р., 2000. Р. 543, п. 15).
«Двойная звезда» Джордано Бруно
115
По сообщению одного из свидетелей на венецианском процессе 1592 г. Бру-
но «память и другие схожие с нею тайные искусства (altri secreti simili) сделал
своею профессией» 8. И действительно, по его собственному признанию, его
репутация в этой области была такова, что «однажды, — свидетельствует Бру-
но, — меня позвали к королю Генриху III, который спросил меня о том, была
ли память, которой я владел, естественной или же приобретенной магическим
путем... Позднее, —добавляет он, — была напечатана моя книга о памяти, оза-
главленная "De umbris idearum" (О тенях идей), с посвящением Его Величе-
ству» 9. Король Франции отблагодарил Бруно тем, что дал ему рекомендатель-
ные письма, адресованные французскому послу в Англии, благодаря покрови-
тельству которого он получил не только великолепные условия для работы, но
и возможность издания своих новых сочинений.
В Англии он активно пропагандирует свое учение о бесконечности вселен-
ной и множестве миров, знакомя с ним ученых людей Альбиона. Вот отзыв
очевидца Джорджа Эббота, будущего архиепископа Кентерберийского, о его
лекциях в Оксфорде: «Более смелый, чем разумный, он поднялся на кафедру
нашего прославнейшего университета, засучив рукава, как фигляр, и нагово-
рив кучу всякого о центре, круге и окружности, пытался обосновать мнение
Коперника, что Земля вертится, а небеса неподвижны, тогда как на самом деле
кружилась его собственная голова» 10. На диспуте в июне 1583 г. он показал
свои полемические способности таким образом, что профессора единодушно
отказали ему в праве чтения лекций. Раздосадованный философ запирается в
доме своего покровителя в Лондоне и пишет свои полные сарказмов и прозре-
ний итальянские диалоги.
Его пламенная защита коперниканского учения подкрепляется не столько
эмпирическими или математическими, сколько анимистическими (Земля вра-
щается потому, что она, как и все небесные тела, является живым существом)
и герметическими аргументами, которые он находит в книге М. Фичино
(1433—1499) об астральной магии. Бруно критикует порядки в Оксфорде,
считая, что Реформация привела только к упадку образования. Такая критика
не могла не вызвать столь бурных протестов, что порой он опасался выхо-
дить из дома французского посла, приютившего его в Лондоне. Итальянские
диалоги Бруно были и остаются самыми читаемыми его произведениями,
принесшими ему репутацию смелого мыслителя, решительно рвущего со
средневековой картиной мира и открывающего новые космологические го-
ризонты.
8 Documents I. Р. 23, 25 (doc. 7).
9 Documents I. P. 51 (doc. 11).
10 Цит. по: Yates F. Giordano Bruno... P. 208.
8*
116
Глава IL От Возрождения к Новому времени
В это время во Франции Католическая лига укрепляет свои позиции, влия-
ние Генриха III падает, его либеральный посол отзывается из Лондона и вместе
с ним возвращается в Париж и Бруно (1585 г.). Лишившись поддержки короля,
он ищет новое пристанище и в конце концов находит его в коллеже в Камбре,
где читает лекции. Однако и здесь он вступает в спор с итальянским изобрета-
телем Ф. Морденте, заинтересовавшись его конструкцией компаса. Ситуация
становится для него опасной и в 1586 г. Бруно уезжает в Германию. Относи-
тельный покой он обретает в Виттенберге, столице лютеранства. Здесь он пло-
дотворно работает, публикует ряд работ, развивающих идеи Р. Луллия. Когда
же к власти в Саксонии приходят кальвинисты, он покидает Виттенберг и пе-
реезжает в Прагу. Здесь он издает «160 тезисов против математиков и филосо-
фов нашего времени» (1588) с посвящением императору Рудольфу II, извест-
ному своим покровительством, которое он оказывал талантливым ученым. В
этой работе намечается новый этап «философии рассвета», Бруно разрабаты-
вает здесь свою систему анимистического атомизма, выступает против мате-
матиков и в «Посвящении» высказывается за религиозную терпимость и фи-
лантропию. Однако даже Рудольф II, любивший собирать вокруг себя необыч-
ных и интересных людей, не оказал ему желанного приема. Правда, он дал ему
немного денег, но не обеспечил устойчивого положения в обществе, и фило-
соф вынужден был уехать в Гельмштедт. Здесь он, наконец, нашел поддержку
у герцога Юлия Брауншвейгского, который, видимо, действительно симпати-
зировал его идеям. Но после смерти герцога он был отлучен от лютеранской
церкви, в которую вступил ранее, и положение его снова стало хрупким. Воз-
можно, ему помогла денежная поддержка герцога, потому что в это время Бру-
но много работает, издает латинские поэмы («О безмерном и неисчислимых»,
«О тройном наименьшем и мере», «О монаде, числе и фигуре», 1591 г.).
Неожиданно он получает от богатого венецианского патриция Дж. Мочени-
го приглашение обучать его искусству памяти и другим подобным наукам. Бруно
уже и раньше думал о возвращении в Италию в связи с переменами в полити-
ческой конъюнктуре. Победы Генриха Наваррского укрепляли позиции уме-
ренных кругов в католических странах. Несмотря на свой разрыв с католиче-
ской церковью Бруно, видимо, считал, что его взгляды могут быть совмещены
с ее учением при условии ее обновления. При возвращении в Италию Бруно
взял с собой рукопись книги, намереваясь посвятить ее папе Клименту VIII,
что свидетельствует о том, что он надеялся ее там издать и, значит, не слишком
думал о грозящей ему опасности. Однако его пребывание в Италии оказалось
трагическим.
«Двойная звезда» Джордано Бруно
117
Искусство памяти: культурный контекст
Ренессанс — эпоха по преимуществу южноевропейская, итальянская —
вспомним «сфумато» Леонардо, тонкость и нежность линий Боттичелли, всю
эту странную и волнующую, несущую аромат тайны и «секрета» поэтику цве-
та и формы, которую невозможно не почувствовать, скажем, во Флоренции или
в Ферраре, заглянув во дворец Скифанойа. А уж если мы доберемся до Сьены
и зайдем в его кафедральный собор, то прямо в центральном нефе, у нас под
ногами, раскроется тот самый «ключ» к «секрету» культуры Ренессанса, тот
буквально магический «сезам», открытие которого и стало славой выдающего-
ся английского историка Ф. А. Ейтс. Мы имеем в виду исполненное в жанре
мозаики изображение Гермеса Трисмегиста (художник Джованни ди Стефано,
1488 г.), «современника Моисея», как гласит латинская надпись под его фигу-
рой. Именно это изображение было выбрано Ейтс художественным эпиграфом
к ее знаменитой книге о Дж. Бруно и герметической традиции.
Ейтс как историк всегда интересовалась маргинальными темами, забыты-
ми героями и традициями, выступая адвокатом «проигранных дел» истории.
Например, неудача, постигшая примирительную тенденцию по отношению к
конфликту между католиками и гугенотами, развивавшуюся в рамках академи-
ческого движения во Франции, стала одним из предметов ее исследования
(1947 г.) м. Тот же пафос сопротивления тирании «свершившегося факта» оду-
шевлял английского историка и при исследовании герметической традиции.
Еще в 40—50-х годах герметические мотивы Возрождения, включая и его на-
уку, исследовались отдельными учеными (О. Кристеллер, Э. Гарэн, П. Росси),
но их работы, публиковавшиеся по-итальянски, были мало известны научному
сообществу, особенно в англоязычных странах. До работы Ейтс о магико-гер-
метических моментах у Бруно, кроме упомянутых выше историков, писали
также Ольшки, Койре и др. Правда, Койре сознательно обходил эти моменты,
подчеркивая, что Бруно является провозвестником нового мировоззрения не-
взирая на них. Зато Ольшки, написавший, на наш взгляд, глубокий очерк о
творческой поэтике Бруно, одним из первых нанес удар по сциентистско-пози-
тивистской легенде о Ноланце как «мученике науки», увидев в нем яркого пред-
ставителя культуры барокко, в котором надламывается «в последнем цвете-
нии» ренессансный гуманизм, дошедший у него до своих пределов 12. Тем са-
11 Yates F. A. The French Academies of the Sixteenth century. L., 1947. P. 208.
12 Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 3. Галилей и его время.
М.; Л., 1933. С. 48. Типичным представителем сциентистско-позитивистской интерпретации
Бруно, достигшей расцвета к концу XIX в., был, например, А. Риль, считавший его «про-
роком естественнонаучного миросозерцания» {Риль А. Джордано Бруно. СПб., 1903. С. 50).
118
Глава II. От Возрождения к Новому времени
мым он открыл путь к более взвешенной и объемной его оценке, которой не-
возможно достичь, оставаясь всецело в историко-научном «поле» и не выходя
в область истории культуры. Однако его работа, как и некоторые другие иссле-
дования, идущие в этом русле, сенсацией не стали. Но когда в середине 60-х
годов Ейтс пришла к выводу, что Бруно вопреки упомянутой легенде вовсе не
«мученик науки», а скорее уж «мученик магии», сделав при этом главный упор
в своем исследовании на «рождении науки из духа герметической магии», то
это уже была действительно «бомба». И с тех пор мир историков и особенно,
быть может, историков науки все еще гудит как растревоженный улей...
Современные исследователи нередко спорят с ней и не соглашаются со мно-
гими ее выводами. Так, например, те, кто, как и она, изучают связи магии с
рождающейся новой наукой, отмечают, что английский историк чрезмерно уни-
версализирует свои выводы, упрощая или унифицируя такие сложные гетеро-
генные явления, как ренессансная магия 13. В частности, отмечают, что она
преувеличила роль флорентийского неоплатонизма в своей картине генезиса
новоевропейской науки. В итоге концепция Ейтс получает, на наш взгляд, необ-
ходимую корректировку, не отменяющую, однако, ее значения. Действитель-
но, после ее работ и вызванных ими исследований трудно не признавать, пусть
в разных степени и качестве, вклад герметизма и искусства памяти в науку и
культуру нового времени. Что касается герметизма и его роли как в творчестве
Дж. Бруно, так и в генезисе новой науки, то об этом в связи с концепцией Ейтс
нам уже не раз приходилось писать 14. Менее известно, однако, значение для
понимания идейного мира Бруно искусства памяти, исследование которого так-
же было предпринято английским историком. Остановимся поэтому на неко-
торых важных моментах этой относительно малоизвестной у нас темы.
Читая Бруно, мы отмечаем одно, казалось бы, незначительное обстоятель-
ство — у него слова «доктрина», «знание» и т. п. нередко стоят в одном ряду со
словом «секрет». И это не случайно: для Бруно знание, а значит, вспомним
Платона (Федон 72 с 5), и память, есть по определению тайнознание. Он ве-
рит в единую и вечную Мудрость, в prisca theologia, родоначальниками кото-
рой считались Гермес, Моисей, Пифагор, Орфей, Зороастр, Платон... Здесь для
нас важен не список сам по себе, который мог, впрочем, и незначительно варь-
ировать, но сама вера в секрет и в посвященных в него. Исследуя ренессанс-
13 См., например: Clulee N. H. John Dee's Natural Philosophy. L.; N. Y., 1988. P. 129.
14 К упомянутым в п. 1 работам можно добавить: Визгин В. П. Оккультные истоки науки
нового времени // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 1. С. 140—152; Он
же. История и метаистория // Вопросы философии. 1998. № 10; Он же. La tradition
hermétique et la révolution scientifique: vers une nouvelle révision de la thèse de F. A. Yates //
Alchemy, Chemistry and Pharmacy. Ed. by Michel Bougard. Turnhout (Belgium), 2002. P. 61 —
66.
«Двойная звезда» Джордано Бруно
119
ную культуру, Ейтс настолько глубоко слилась с душой любимого ею Возрож-
дения, что сама попала под чары его «секретомании». Поэтому неудивительно,
что некоторым ученым она могла показаться своего рода адептом магии... Как
бы предвосхищая подобное впечатление, она в конце своей статьи, посвящен-
ной науке Ренессанса, подчеркивает, что она, однако, вовсе не маг, но и не по-
зитивный ученый в современном смысле слова. «Я только историк», — гово-
рит она 15. Нелишне добавить — историк Ренессанса. Действительно, трудно
представить ее историком какого-либо другого времени: настолько она конге-
ниальна избранной ею эпохе.
Занимаясь Бруно, она намеревалась издать перевод его диалога «La cena de
le ceneri» («Пир на пепле» в русском переводе), в котором в типично ренессан-
сно-барочном ключе изложены перипетии бесед Ноланца в доме Фолка Греви-
ла, поэта и драматурга. Вот тогда-то и возникло у нее томящее чувство «секре-
та»: зачем эта южноиталийская комета ворвалась в туманы пуританского Аль-
биона? Почему с такой страстью Ноланец проповедовал здесь коперниканскую
систему, вовсе не собираясь при этом доказывать ее математически? Что за
всем этим стояло? Вставали и другие вопросы подобного рода, ответа на кото-
рые она не находила. Хотя многие факты историку были известны, но в целом
пребывание Бруно в Англии с его спорами с профессорами Оксфорда и с про-
поведями английским поэтам оставалось для Ейтс подернутым чарующей дым-
кой какой-то неузнанности, неизвестности, тревожащей, но в то же время как
бы уверяющей, что все это можно раскрыть и что разгадка «секрета» лежит в
нашей душе. Надо только вспомнить... И так или почти так она вышла в конце
концов на тезис о «герметическом импульсе» как ключе не только к Бруно и к
его визиту в Англию, но и к генезису всей новоевропейской науки.
Секреты ренессансного искусства памяти, которым бесподобно владел
Дж. Бруно, и загадка Шекспира с его театром «Глобус» связываются англий-
ским историком. На первый взгляд, казалось бы, что может быть общего у зна-
менитого «мнемоведа» из Нолы и величайшего английского драматурга? Но,
как показывает Ейтс, их соединяет Воображение и его воплощение — Театр.
Ключевыми фигурами этой театрально-оккультной традиции выступают Джу-
лио Камилло (р. 1480) из Венеции и Роберт Флудд (1574—1637), знаменитый
английский врач-оккультист, автор герметических сочинений, полемика с ко-
торым со стороны М. Мерсенна (1588—1648) и И. Кеплера (1571—1630) зна-
менует собой решительное размежевание новой науки с герметической маги-
ей, включавшей в себе и отдельные элементы рождающейся науки. Бруно, бу-
дучи доминиканским монахом, уже тем самым, в силу традиций Ордена, был
15 Yates F. Л. The hermetic tradition in Renaissance science // Art, Science and History in the
Renaissance. Baltimore, 1968. P. 274.
120
Глава IL От Возрождения к Новому времени
лучше многих посвящен в средневековое и ренессансное искусство памяти.
Тогдашняя Европа знала его не столько как философа или поэта, сколько как
выдающегося «искусника памяти», посвященного как никто другой в ее секре-
ты, овладеть которыми пытались сильные мира сего. Памятуя историю с
Дж. Мочениго, пригласившим Ноланца обучать его тайнам искусства памяти и
выдавшим его инквизиции, можно сказать, что и слава и гибель Ноланца ока-
зались исходящими по сути дела из одного и того же источника — из его гер-
метического искусства памяти.
В истории европейского искусства памяти Дж. Бруно — одна из централь-
ных фигур. Цитируя Аристотеля («мыслить значит созерцать в образах» —
О душе 431 а 17), он вкладывает в эту мысль Стагирита совсем не то, что тот
хотел сказать (что мышление без опоры на чувственное восприятие вещей не-
возможно). В данном случае авторитет Философа понадобился Бруно для того,
чтобы провести свой тезис в духе александрийского неоплатонизма, состоя-
щий в том, что воображение столь ценно для мысли потому, что служит про-
водником божественных воздействий на человека. Тем самым он совершает
переход от традиции классического искусства памяти к оккультной ее модифи-
кации. «Ошеломляющая поглощенность воображением» 16 возникает у него
именно из-за явных оккультно-магических коннотаций его искусства памяти.
Традиционные мнемонические образы при этом талисманизируются (т. е. ма-
гически активируются), а сами талисманы (списки которых ему были хорошо
известны из соответствующей традиции) мнемонизируются. В результате та-
кой метаморфозы искусство памяти становится надежной базой для магико-
герметической религиозно-имажинативной утопии Ноланца, проповедником
которой он и выступал в своих скитаниях по Европе в поисках как покровите-
лей, так и адептов.
Ситуацию, в которой оказался Бруно, иначе, чем положением между моло-
том и наковальней, трудно назвать. Действительно, он бежал из Италии, по-
рвав все связи со своим Орденом, и тем самым с католицизмом, немыслимым
без соответствующей системы образов. Но оказавшись среди пуритан Англии,
многие из которых были сторонниками Петра Рамуса, отвергавшего имажина-
тивную основу мысли в пользу рациональной диалектики, он как бы завис в
«мертвой точке». Такое положение не могло не добавить желчи в его сарказмы,
так что он в конце концов начинает открыто предпочитать католическое мона-
шество профессорам английских университетов. Опыт испытанной им нетер-
пимости со стороны кальвинистов Женевы в августе 1579 г. действовал в том
же направлении. В этой ситуации ему не оставалось ничего другого, как идти
по пути оккультной герметической образности, отвергая одновременно и хри-
16 Йейтс Ф. Искусство памяти. С. 370.
«Двойная звезда» Джордано Бруно
121
стианизированный окатоличенный герметизм, и лишенный имажинативных кор-
ней педантизм логиков и грамматиков рамистского направления.
Мир, в эпоху средних веков стоящий под знаком (божественной) Книги, в
эпоху Возрождения оборачивается книгой (обожествленного) Мира. Емкая
метафора «книги мира» становится универсальным топосом не только Воз-
рождения, но и того, что из него воспоследовало, — эпохи Нового времени с
новой наукой в центре ее проекта (Декарт переходит от «мира книг» к «книге
мира», le grand livre du monde, a Галилей подчеркивает, что эта книга написана
на языке математики). Важную роль в этой инверсии метафорического поля
культуры сыграло маргинальное для нашего современного восприятия искус-
ство памяти. Базовая для всей культуры метафора чтения (мира) материализу-
ется благодаря открытию книгопечатания, разрушающего, как подчеркивает
Ейтс, «вековые обычаи искусства памяти». В результате значение искусства
памяти ставится под вопрос, что способствует его маргинализации. В свою
очередь подъем гуманистического движения, особенно в его Эразмовой вер-
сии, тоже маргинализирует его, вытесняя «из первичного центра европейской
традиции» 17. В этой критической ситуации искусство памяти (его символ —
Мнемозина) спасает его союз с герметической традицией (Гермес — ее сим-
вол). В результате классическое искусство памяти превращается в оккультное
искусство со своей специфической магически активированной образностью.
Это означает, что особым родом понимаемое художественное начало («внут-
ренний художник» как своего рода natura naturans) обеспечивает тождество
ключевых культурных фигур — Мыслителя, Поэта и Художника (к нему, огля-
дываясь на Бруно, следует добавить, на наш взгляд, и образ религиозного Рефор-
матора-Пророка). Иными словами, благодаря перешедшей в союз встрече Мне-
мозины и Гермеса имагоцентричный пласт в культуре Европы смог продлить
свое существование, поставленное под угрозу в XVI в.
Существенной структурой в этом процессе был Театр, который обогащал
метафорическое поле культуры, способствуя удержанию его имажинативного
наследия в новых условиях. Театр в качестве космологической метафоры («весь
мир — театр») возникает прежде всего в венецианской версии христианизиро-
ванного герметизма у Дж. Камилло. В средние века мир как театр был еще и
«позорищем» в негативном смысле, ибо его, мира, истина была ему трансцен-
дентна. Но в эпоху Возрождения набирает силу тезис, выраженный Бруно ус-
тами Саулина в его самом откровенно «египетско»-герметическом диалоге:
natura est deus in rebus 18. Это — «пантеизм» (все есть Бог), который иногда, но
17 Там же. С. 165.
18 «Природа есть бог в вещах». См.: Бруно Дж. Изгнание Торжествующего Зверя / Пер.
А. Золотарева. Самара, 1997 (1-е изд.: СПб., 1914). С. 213.
122
Глава II От Возрождения к Новому времени
редко (например, Бердяевым) прочитывается и справа налево, т. е. как «тео-
пантизм» (Бог есть все). И поэтому мир раскрывается как божественное вели-
колепие, как живая бесконечность, и исповедующий подобное «мироверие»
Ноланец гордо говорит о себе в том же диалоге как о «слуге мира» и «сыне
Отца-Солнца и Матери-Земли» (до ницшевского «будьте верны Земле, братья!»
отсюда, если расстояния в истории культуры измерять экспресс-логикой мыс-
ли, а не годами, совсем недалеко). Трансцендентное стало имманентным. И
еще в начале XVII в. вкус, цвет, аромат такой не вполне секуляризированной
божественности ярко пылает, смешиваясь без ущерба для нее со всеми каче-
ствами земли и неба (Я. Бёме). Но когда на традицию оккультного театра «те-
ней идей», стоящих под астрально-магическими знаками («изваяниями» по-
зднего Бруно ,9), проливается ледяной душ картезианского метода, то боже-
ственность одухотворенного мира уступает место блистательной галантности
звездного театра Фонтенеля, секретом которого выступают не Бог и не боги, и
даже не демоны, духи и оккультистские «деканы» герметизма, а банальные
рычаги, шарниры, лебедки, пружины или их естественные аналоги, действую-
щие по механическим законам с их математической неумолимостью 20. Воца-
ряется машинерия мировой сцены, означающая вторую (первая совпала с при-
ходом в Европу христианства) смерть Пана, а заодно — и союза Мнемозины и
Гермеса.
«Философия рассвета»
Джордано Бруно — фигура не однозначная в историческом ее восприятии,
пусть и лишенная в своих многочисленных сочинениях единой строгой фило-
софской системы рациональной мысли, но зато художественно яркая и по-сво-
ему цельная, забегающая в своих построениях далеко вперед и в то же время
воспроизводящая уходящие средневековые типы мышления. Философская
мысль Бруно неотделима от мифопоэтической формы ее представления, насы-
щенной аллегориями, образами античной мифологии, в ней чувствуется влия-
ние традиций дидактической поэзии, риторики, искусства памяти, различных
течений средневековой и ренессансной мысли, что создает из творчества этого
философа-поэта уникальный памятник культуры позднего Возрождения. Свое-
Речь идет о религиозно-мистическом аллегоризме Бруно в сочинении «Lampas trigina
statuarum» (Светильник тридцати изваяний), написанном в 1588 г. в Виттенберге, но впер-
вые изданном только в 1891 г. См.: Йейтс Ф. Искусство памяти. С. 359—363. Посредством
аллегорических изваяний (Бездна, Аполлон, Сатурн и т. д.) ум поэта-художника-философа
возносится к божественным персонифицированным силам мироздания.
20 О картезианском театре миров у Фонтенеля см.: Визгин В. П. Идея множественности
миров. М., 1988. Гл. VI.
«Двойная звезда» Джордано Бруно
123
образный «барочный характер» мыслительного стиля Бруно, проявляющийся,
например, в том, что он легко смешивает классы явлений совершенно различ-
ного плана, выражает, во-первых, центральную для него интуицию живого
бесконечного всеединства, а во-вторых, отсылает к стилистике натурфилософ-
ской литературы того времени, образцом которой можно считать творчество
упомянутого выше Палингения или земляка Бруно, Дж. Б. делла Порты, автора
«Натуральной магии» (1558). «Среди различных способов лечения, —говорит
Теофил, alter ego Бруно, — я не отвергаю тот, который производится магиче-
ски, при помощи приложения корней, привешивания камней и нашептывания
заговоров... Одобряю я и тот, который производится физически при помощи
аптекарских средств... Приемлю я также и тот, который производится хими-
чески, извлекает квинт-эссенции и при помощи огня заставляет ртуть выпари-
ваться...» 2l В этом кредо медицинского плюрализма глядящая в будущее хими-
отерапия свободно и на равных сочетается с талисманами и заговорами герме-
тической магии.
Хотя взгляды Бруно претерпевали определенное развитие и об их строгой
системе, как мы сказали, говорить трудно, тем не менее у него четко просле-
живаются две центральные интуиции — идея всеединства и идея бесконеч-
ности, объединяемые им в одну идею бесконечной единой всецелостности,
являющейся живым тождеством всего, всех мыслимых противоположностей
и прежде всего таких фундаментальных онтологических категорий, как воз-
можность и действительность, материя и форма и т. п. В отличие от неопла-
тоников и досократиков, которые, как он считал, близко подошли к постиже-
нию этой идеи, Аристотель не сумел помыслить такое всеединство и своим
авторитетом на долгие годы затруднил его познание. При этом Бруно считал,
что прямых выразительных возможностей рациональной мысли недостаточ-
но для раскрытия содержания такой интуиции. Поэтому он использует как
рациональные модели (например, представления арифметики, проводя ана-
логию между единицей и единым), так и различные художественные приемы
и символы (типа «светящейся ночи»). Особенно мощную поддержку для мыс-
лительного конструирования подобного абсолюта он находит в учении «бо-
жественного» Николая из Кузы (1401—1464) о «совпадении противополож-
ностей». Наблюдаемые вещи как «следствия» бесконечного единого, являю-
щегося первопричиной всего, мы можем, по Бруно, познавать с помощью
нашего разума, но от положительного познания подобного рода само единое
начало ускользает. Поэтому здесь необходимо познание отрицательное или
апофатическое, идею которого вслед за Псевдо-Дионисием Ареопагитом (V—
VI вв. н. э.) разрабатывал кардинал Николай. «Абсолютнейшая действитель-
21 Бруно Дж. Диалоги. М., 1949. С. 238.
124
Глава IL От Возрождения к Новому времени
ность, тождественная с абсолютной возможностью, — говорит Диксон, уче-
ник Бруно и персонаж его диалога, — может быть схвачена интеллектом лишь
путем отрицания» 22. Понятия минимума и максимума, свертывания и развер-
тывания, единого и многого, идея качественной однородности вселенной и свя-
занный с нею принцип относительности, несовместимые с иерархическим и
ограниченным космосом Аристотеля, и многие другие моменты «философии
рассвета», питающие ее новаторские идеи, берутся ее создателем у Кузанца.
Но в то же время Бруно модифицирует отдельные заимствуемые им у Кузанца
идеи. Если у кардинала Николая только Бог признается актуально бесконеч-
ным, то у Бруно — и вселенная. В результате они максимально, почти до
отождествления, сближаются. Правда, между ними все же остается некото-
рое различие, состоящее в том, что если Бог «совершенно» (totalmento) беско-
нечен, то бесконечность вселенной лишена подобного совершенства из-за на-
личия в ней внеположных друг другу частей. Кроме того, у Бруно отсутствует
характерная для Кузанца христологически и поэтому и антропологически ори-
ентированная диалектика «абсолютной максимальности» как «творца-творе-
ния без смешения и составности» (Об уч. незн., III). Дело в том, что сама инту-
иция всеединства как вездесущего божества («всё во всем») трудно согласует-
ся с догматом о вочеловечивании Бога. Кардинал из Кузы такое согласование,
однако, проводил. Но Бруно, еще в стенах монастыря вступивший на путь раз-
рыва с христианской традицией, стремился обрести новую религиозность на
путях возвращения к натуралистической магической религии древних егип-
тян, опираясь на ее представление в сочинениях «Герметического корпуса»,
переведенного на латынь Фичино. Поэтому у него как христианский неоплато-
низм Кузанца, так и христианизированный герметизм Фичино существенным
образом дехристианизируются. У Бруно отсутствует также и характерная для
Кузанца высокая оценка математики и количественного подхода как познава-
тельного средства. В духе отвергаемого им Аристотеля Бруно, возражая карди-
налу Николаю, говорит: «Нам нет нужды прибегать к математическим фанта-
зиям, когда мы говорим об естественных вещах» 23.
В первый период своего философского развития («Тени идей», 1582) меха-
низм построения бесконечного всеединства Бруно находит в представлениях
неоплатоников об эманации. Всеединство как абсолютная субстанция, высшее
и единое начало, «развертывает» в своих «эманациях» то, что в нем содержит-
ся в «свернутом» виде, «рассыпаясь» многообразием вещей чувственно данно-
го мира, выступающего завершением этой «лестницы» нисхождений и, соот-
ветственно, восхождений. Действительно, проходя ту же самую «лестницу» в
Там же. С. 246.
Там же. С. 369.
«Двойная звезда» Джордано Бруно
125
обратном порядке, интеллект возвышается от чувственного многообразия к
единому.
Во второй период своего творчества, представленный прежде всего в его
итальянских диалогах, свою центральную идею о бесконечном всеединстве
Бруно развивает как метафизически («О причине, начале и едином», 1584), так
и космологически («Пир на пепле», 1584 и «О бесконечной вселенной и ми-
рах», 1584), а также развертывает ее религиозно-нравственные, гносеологи-
ческие и эстетические импликации («Изгнание торжествующего зверя», 1584
и «О героическом энтузиазме», 1585). В этот период к глубоко усвоенному Бруно
наследию неоплатонизма присоединяются влияния атомизма Эпикура и Лук-
реция, а также досократиков, включая Анаксагора, Гераклита и Парменида,
причем Платон иногда уступает в высоте оценки Пифагору. Однако знание до-
сократиков у Бруно не было глубоким. Так, например, он сильно преувеличи-
вает число греческих мыслителей, учивших о бесконечном множестве миров,
стремясь как можно убедительнее подкрепить собственное учение древними
авторитетами 24.
В последний период творчества у Бруно еще больше обнаруживается влия-
ние пифагореизма, а также скорее метафизического, чем физического атомиз-
ма (поэмы «О монаде», «О неизмеримом» и «О минимуме», опубл. в 1591 г.,
названия их даны нами в краткой форме). Бесконечное всеединство теперь кон-
струируется Бруно с помощью «минимумов» или «атомов» всего сущего, явля-
ющихся как бы его «семенами». Идея «совпадения противоположностей» в духе
Кузанца и здесь служит основным методом такого конструирования. Так, на-
пример, «минимум» и «максимум» как лишенные размеров (один в силу своей
абсолютной малости, а другой — как абсолютно большое) совпадают друг с
другом, причем такое совпадение описывается с помощью представления о
«сфере», выступающей в качестве самой емкой по своим синтетическим воз-
можностям формой, поглощающей все остальные по принципу предельного
перехода. Бруно пытается также объединить гилеморфизм Аристотеля с меха-
ницизмом атомистов с помощью принципа «всеобщей одушевленности»
(animazione universale) и учения о «внутреннем художнике» (artifice interno),
придающими его атомизму и учению в целом анимистический и динамиче-
ский характер. Точно так же Бруно стремится преодолеть противоположность
материи и формы, подчеркивая активность материи как формообразующего
начала. В результате материя утрачивает некоторые принятые у платоников и
перипатетиков характеристики и становится «божественной сущностью» (cosa
divina), «великолепной родительницей и матерью природы». Таким образом
сконструированный абсолют отождествляется Бруно с Богом, так что возника-
Тамже. С. 140—141.
126
Глава IL От Возрождения к Новому времени
ющее при этом философское учение по праву должно называться пантеизмом,
хотя полной имманентности Бога природе или вселенной у него нет, так как
подчеркивается, что вселенная есть только его «великое подобие» и «великий
образ» (il grande simulacro, la grande imagine).
Учение Бруно о едином интересно еще и тем, что в его рамках он отстаи-
вает права категории различия перед опасностью ее унификаторского истол-
кования, разделяемого, кстати, в его время, например, таким близким к нему
по духу мыслителем, как Т. Кампанелла (1568—1639). Как считает Бруно,
сообщения между мирами, в том числе и между мирами различных культур
на Земле, не должны вести к их нивелировке, к ассимиляции одним миром
других. Видимо, усвоив опыт недавней насильственной колонизации Амери-
ки, Бруно придает ему глубокое философское и культурное звучание. Воз-
можно, что сама настроенность мысли Ноланца на эстетику барокко с ее куль-
том разнообразной сложности, с ее невозможностью «растворить» в одной
доминанте не укладывающееся в нее разнообразие способствовали этой апо-
логии различия, тем более интересной, что ее мы находим у философа все-
единства.
Пантеистическая метафизика всеединства тесно связана у Бруно с его ин-
финитистской космологией, на создание которой сильно повлияло учение
Коперника (1473—1543), а также Лукреций (ок. 99—55 до н. э.), Палингении
и некоторые средневековые мыслители, учившие о бесконечном всемогуществе
Бога, не говоря уже о Кузанце, влияние которого и здесь было значительным.
Коперник выстроил свою гелиоцентрическую систему как математик, создав
для объяснения астрономических наблюдений новую, более компактную ма-
тематическую модель с ее неизбежными новаторскими физическими и кос-
мологическими следствиями. Бруно же пришел к идее бесконечной вселен-
ной, наполненной бесконечным множеством миров, как философствующий
поэт-энтузиаст универсальной реформы духа (от религии до политики). Сво-
им делом, профессией Бруно считал «словесность и всякую науку» (di littere
et d'ogni scientia)25. Разделения культуры на гуманитаристику и науку для
него не существовало. Но оно существовало для Коперника, который вряд ли
мог бы определить свою профессию иначе, чем математика и астрономия. И
в подобной анкетной пробе нам открывается то, что мы назвали двоением
феномена Бруно. Разобщение культурных миров — характерный знак нового
времени. Ренессанс, к которому всецело принадлежит Бруно, этого разобще-
ния не знал. Но изнутри ренессансной культурной парадигмы Бруно повер-
нут к новым горизонтам, которые он, однако, мыслит вполне в духе преобра-
женного средневекового универсализма. Ренессансная парадигма в феномене
Documents I. Р. 37 (doc. 9).
«Двойная звезда» Джордано Бруно
127
Бруно тем самым раскрывается как парадоксальная «смесь» опережающих
его время нововременных интуиции со средневековыми архетипами созна-
ния.
Правда, математика Коперника связывало с поэтом-философом Бруно об-
щее для них влияние неоплатонизма и неопифагореизма вместе с близкой к
ним традицией герметизма, чему в немалой степени способствовали флорен-
тийские платоники XV в., особенно М. Фичино. Но если эти духовно-интел-
лектуальные влияния для Коперника были скорее всего только стимулом для
его гелиоцентризма, ничуть не задевающими его работу как математика-астро-
нома, то в случае Бруно они насквозь пронизывают его мировоззрение и при-
емы мышления. В герметизме и неопифагореизме близкой для Бруно была их
духовно-религиозная и мистическая составляющая, в свете которой он воспри-
нимал и новую астрономию Коперника. Поэтому он включал Коперника не
только в список астрономов и математиков, но и в сакральный и мистический
список «древних теологов» (prisci theologi), начинавшийся с халдейских и еги-
петских жрецов и включавший восточных магов, орфиков, пифагорейцев и,
наконец, мыслителей к нему более близких, таких, как Альберт Великий и
Николай из Кузы, противопоставляемых им Аристотелю.
Для Бруно Коперник — это «заря, которая должна предшествовать восходу
солнца истинной древней философии» 26, а его система — небесный знак «фи-
лософии рассвета», как он называл свое собственное учение. Математика не
слишком привлекает Бруно в новой космологии. Он принимает гелиоцентри-
ческую систему Коперника и как физическую реальность, и даже как своего
рода религиозное откровение древнего культа солнца, почитаемого за боже-
ство многими народами задолго до прихода христианства. В коперниканской
системе Бруно не устраивало, однако, признание «ограниченности периферии
вселенной» 27. Он идет дальше Коперника в утверждении актуальной беско-
нечности вселенной. Действительно, вселенная у Коперника была лишь нео-
пределенно большой по своим размерам (immensum), но не актуально беско-
нечной (infinitum).
Существенной особенностью учения Бруно выступает объединение в од-
ной картине мира основных антиперипатетических тезисов. До Бруно о мно-
жестве миров во вселенной высказывался и Леонардо да Винчи (1452—1519).
Т. Диггс (1576) утверждал тезис о бесконечности вселенной, но при этом он не
упоминает принципа множественности миров. Палингений же признавал бес-
конечность вселенной, но отрицал однородность ее пространственной струк-
туры. И только Бруно объединил все эти три смелые для того времени положе-
Бруно Дж. Диалоги. С. 56.
Там же. С. 107.
128
Глава IL От Возрождения к Новому времени
ния в единую картину мира. У него бесконечность вселенной принимается
вместе с бесконечным множеством миров и однородностью ее пространства.
Тем самым он в своем учении соединяет все эти тезисы, являющиеся самыми
радикальными попытками отказаться от аристотелевской космологии. Инте-
ресно отметить, что если принцип бесконечности вселенной ставит ее вне воз-
можности ее рационального познания как целого, то принцип однородности,
напротив, делает его возможным.
Сказанное говорит о радикализме новаторства Ноланца. Но столь же радика-
лен и его архаизм. Покажем это на примере его концепции движения, которое
он понимает как обнаружение внутренней силы, как самодвижение (совпаде-
ние двигателя и движимого). У него отбрасывается лежащая в основе космоло-
гии Аристотеля теория естественных мест, объясняющая движение элементов
во вселенной. Но, с другой стороны, он восстанавливает архаический доарис-
тотелевский анимизм и гилозоизм. Причем анимизм сочетается у него с атоми-
стическими утверждениями. Поэтому мы можем говорить о парадоксальном
соединении у него архаических умозрений относительно души и одушевлен-
ности вселенной с радикально новаторскими идеями. При этом сама интенция
его мысли носит скорее умозрительно-метафизический и даже религиозный
характер нового откровения, но отнюдь не научный в новоевропейском гали-
леевском смысле слова. Точные математические описания закономерных свя-
зей явлений, открываемые в искусственно создаваемых экспериментальных
ситуациях с их теоретическими идеализациями, не являются для него тем по-
знавательным идеалом, которому он следует. Поэтико-умозрительное целое,
схватываемое скорее интуитивно и в духе неоплатонизма (но и здесь без вы-
держанности его схем 28) или же по методам Р. Луллия и герметического искус-
ства памяти, вот что составляет основу его познавательных устремлений, а не
воспроизводимое количественно точное математическое описание искусственно
фиксируемых срезов и аспектов реальности. Риторика пророка и универсаль-
ного реформатора в нем преобладает над дисциплиной мышления нового уче-
ного с его математической объективацией воспринимаемого мира. И поэтому,
справедливо подчеркивает М. де Гандийак, его полемика с Коперником о коли-
честве движений Земли не так уж важна, ибо он «был всего лишь астрономом-
любителем, не касавшимся астрономических инструментов и считавшим бес-
28 Существенное отличие учения Бруно от классического неоплатонизма состоит в том,
что он отказывается от низкого онтологического статуса материи. Материя у Бруно прямо
эманирует от единого, или божества, и не является последним пунктом его нисхождения
(см. об этом, например: Michel Р.-Н. Cosmologie de Giordano Bruno. P., 1962. P. 88). Такой
деформацией неоплатонической традиции Бруно, возможно, обязан влиянию Авицеброна
(Ибн Гебироля) (см.: Gandillac M. de. Philosophie de la Renaissance // Histoire de la Philosophie.
Vol. 2. P., 1973. P. 328).
«Двойная звезда» Джордано Бруно
129
плодными математические вычисления» 29. Понятно, что и астрономом-люби-
телем его можно назвать лишь условно, ибо не наука в нашем смысле слова
служила ему образцом для его умозрений и прозрений.
Бесконечная вселенная у Бруно наполнена бесчисленным множеством оду-
шевленных миров, этих «великих животных» (grandi animali), существующих
не в пустом пространстве, как у античных атомистов, а в питающей их среде,
которая их «охватывает, хранит, движет и производит». Бруно рисует гранди-
озную, захватывающую воображение величественную картину содружества
таких миров, которые подобно Земле в ее вращении вокруг своей оси руковод-
ствуются жизненной необходимостью, поворачивая свои «спины» (dorsi) к сво-
им солнцам с тем, чтобы они, освещая и согревая их, поддерживали на их по-
верхности существование живых организмов. Миры наделены у Бруно не только
жизнью, эмоциями, разумом, но и «достоинством», состоящим в том, что они
выступают «посланниками и вестниками великолепия высшего единства, ко-
торое в музыкальной гармонии образует стройный порядок, являясь живым
зерцалом бесконечного божества» 30. Бруно приписывает мирам, во-первых,
бесконечно быстрое движение (pulso infinito), когда покой и движение совер-
шенно совпадают, а во-вторых, движение с конечной скоростью. Бесконечное
движение выражает приобщенность миров к «мировой душе» (l'anima del
mondo) и к божественному первоначалу, а конечное имеет своим источником
собственную внутреннюю силу (virtu intrinseca) движущегося тела. Тем самым
теория движения Бруно радикально отличается от теории внешних двигателей
у перипатетиков. Принимая тем не менее некоторые постулаты аристотелев-
ской теории движения (принцип противоположностей, конечность движений),
Бруно решительно отказывается, как мы уже сказали, от таких ее моментов,
как принцип «естественных мест» и абсолютный характер качественных раз-
личий «тяжелого» и «легкого».
Божественное начало, скрытое в природе, у Бруно блещет и сверкает вели-
колепием красоты и жизненности. Жизнь пронизывает собой всю вселенную и
поэтому в ней нет иерархически привилегированного места, откуда бы могло
исходить начало движения в ней. Бруно несколько модифицирует герметико-
неоплатоническую по своим истокам формулу Кузанца («машина мира имеет
свой центр повсюду, а периферию — нигде»), говоря, что «вселенная — вся
центр и вся — периферия» 31.
В личности и творчестве Бруно соединяются самые непримиримые, каза-
лось бы, противоположности. Действительно, с одной стороны, он необыкно-
29 Gandillac M. de. Op. cit. P. 332.
30 Бруно Дж. Диалоги. С. 141.
31 Bruno G. Dialoghi italiani. Dialoghi metafîsici e dialoghi morali. Firenze, 1958. P. 143.
9-3357
130
Глава IL От Возрождения к Новому времени
венно чуток к новым идеям, значимым для возникающей новой науки. Так,
например, в физике и астрономии он решительно отвергает теорию «естествен-
ных мест» Аристотеля и становится убежденным коперниканцем в то время,
когда мало кто в Европе слышал о великом реформаторе неба. Но в то же вре-
мя, с другой стороны, Бруно находил для себя опору в магико-герметической
традиции, отсчитывающей свое происхождение от Моисея, Гермеса Трисме-
гиста, Пифагора, Орфея и других мудрецов и учителей человечества. Только с
подъемом новой науки уже в XVII в. эта традиция будет вытеснена в культур-
ный андерграунд. Но в эпоху Бруно она еще полна претензий на универсаль-
ный синтез наук, включая и духовно-религиозное ядро мировоззрения. И оста-
ваясь в орбите этой традиции, Бруно выступает скорее все же архаистом, чем
новатором, потому что его младшие современники, такие, как Кеплер и Гали-
лей, занимались наукой как автономной деятельностью, полагая, что книга
природы записана на языке научной математики, и поэтому не примешивая в
свои математические расчеты герметические соображения.
У Бруно же в силу его амбивалентного культурного статуса все двоится, в
том числе, например, и его теория познания. Он, видимо, одним из первых
выдвинул идею прогресса знаний, понимая его как рост благоразумия в силу
течения времени (in molti anni la prudenza). «У Евдокса, — говорит он, — жив-
шего вскоре после рождения астрономии, не могло быть столь зрелого сужде-
ния, как у жившего через тридцать лет после смерти Александра Великого
Калиппа, который с каждым годом мог прибавлять наблюдение к наблюде-
нию...» 32 И так он выстраивает длинную цепь кумуляции астрономических
знаний вплоть до Коперника, знавшего больше всех астрономов, живших до
него. Однако в то же время Бруно, как мы говорили, считал, что высшее знание
абсолютно неизменно и не подвержено никакому прогрессу, что оно было у
Моисея, халдеев, орфиков, пифагорейцев, а среди более близких к нему по
времени мыслителей — у Альберта Великого, Николая из Кузы и Коперника!
Коперник включается в два совершенно разных списка — в магический и в
научный. Высшее магическое знание, говорит Бруно, стало со временем забы-
ваться, затмеваться вымыслами, воззрениями, как он говорит, «глупыми и пус-
тыми», в которых нет ничего истинного и которые надо теперь совершенно
отбросить, с тем, чтобы в свете коперниканской «зари» увидеть вечную истину
древнего тайнознания. И то, как Бруно описывает свое прозрение этой извеч-
ной истины, показывает, что следует он здесь за неоплатоническими мистика-
ми и духовидцами герметического толка, а не за рационалистами, которые поз-
же учили о прогрессе разума. Скачок к такому вечному знанию изображен им
как религиозно-мистический экстаз-озарение:
32 Бруно Дж. Диалоги. С. 63.
«Двойная звезда» Джордано Бруно
131
Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры,
Кристалл небес мне не преграда боле,
Рассекши их, подъемлюсь в бесконечность...
Это — религиозное откровение бесконечности: бесконечности божества в
природе, бесконечности вселенной и бесконечности миров, которыми она на-
полнена. Эта новая вера воспринимается Бруно в образах прихода света на
место старой «тьмы», которую он видит не только в схоластике, но в христиан-
ской религии вообще, затмившей, как он считает, магическую религию древ-
них египтян с ее культом всего живого.
Бруно считал, что языки монотеистических религий Писания и Слова ус-
тупают языку политеистической религии природы, жизни и посюстороннего
мира древних египтян, которую он излагает по герметическим источникам.
Так, например, в «Изгнании торжествующего зверя» Изида от имени богов
говорит: «Мы, боги, желаем, чтобы люди слушали и понимали нас не в зву-
ках тех наречий, какие они измыслили, но в звуках явлений природы» 33. В
соответствии с такой установкой высшим языком общения человека с бога-
ми выступает язык самих вещей. Если человек стремится к победе над вра-
гом, то ему следует обратиться к «великодушному Юпитеру» с помощью
жертвы в виде орла, так как орел уже сам собой указывает на то, чего хочет
человек от божества. Если же у богов просят осмотрительности в делах, то
жертвой им должна стать змея — существо умное и осторожное. «Нет ника-
кого основания, — говорит Бруно, — насмехаться над магическим и боже-
ственным культом египтян» 34. Он считает, что звезда этого культа закатилась
временно, что победа монотеистических религий трансцендентного Бога над
пантеистической и политеистической религией посюстороннего мира не явля-
ется прочной, что грядет возврат этой истинной веры и он, Ноланец, является
ее пророком и предтечей. Знаком ее восхода он считал гелиоцентрическое уче-
ние Коперника, математические выкладки которого его мало интересовали. В
этом нет ничего удивительного, ибо он никогда не ставил математиков высоко,
называя их «глупыми» и нападая на них столь же яростно, как и на педантов-
схоластов и грамматиков (заметим, что физики получали у него несколько бо-
лее высокую оценку: у Бруно мы встречаем такие, например, выражения, как
«не очень мудрые физики»).
Несмотря на сильные анимистические, виталистические и герметические
мотивы или даже в какой-то степени благодаря им, учение Бруно содержало
немало опережающих его время идей, предвосхищающих будущие научные
открытия. Хотя он, как мы видели, ни в коей мере и не был ученым, опираю-
33 Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. С. 214.
34 Там же. С. 218.
9*
132
Глава IL От Возрождения к Новому времени
щимся на математику и эксперимент, однако некоторые его интуиции были
глубоки и обгоняли время. Так, например, используя типичную для герметиз-
ма аналогию между человеком как микрокосмом и вселенной как макрокос-
мом, Бруно задолго до открытия Гарвея выдвинул идею о круговом обращении
крови в организме. Диалог «Пир на пепле» повлиял на развитие учения о маг-
нитных явлениях у Гильберта. Космологические идеи Бруно были известны
Кеплеру 35, его пантеистическая философия всеединства повлияла на Спинозу,
вдохновляла предпросветительский антиклерикально ориентированный деизм
Толанда, оказала воздействие на Шеллинга, а его луллистские построения в
рамках герметического искусства памяти были близки Лейбницу, который, по-
знакомившись с его космологией и признав проницательность Ноланца, тем не
менее отметил, что он «превысил пределы разумного» 36.
Эти слова Лейбница требуют комментария. Были ли ему действительно близ-
ки взгляды Бруно, или же он просто интересовался ими, находя относительное
созвучие со своими идеями только в некоторых определенных пунктах? Сан-
тильяна (G. de Santillana) назвал Лейбница «исполнителем завещанной Нолан-
цем воли» (l'exécuteur testamentaire des volontés du Nolain 37). На наш взгляд,
это только отчасти верно, будучи справедливо, например, в том, что касается
принципа полноты или антимеханистических мотивов философии Лейбница.
Да, у Лейбница, как и у Бруно, бытие «кишит» бесконечностями. Но если у
Лейбница его бесконечности светлые, то у Бруно за его бесконечностями вста-
ет тень мрачного Аида, или, в римской версии, принимаемой Ноланцем, Орка.
Действительно, именно Орк, или Бездна, в его позднем неоконченном сочине-
нии «Lampas trigina statuarum» (1588), как пишет Ейтс, у него «означает беско-
нечное желание и тягу к божественной бесконечности, жажду бесконечности,
35 Кеплер отдавал должное мужеству и смелости мысли Бруно, называя его «защитни-
ком бесконечности» (defensor infinitatis) (Kepler J. Dissertatio cum nuncio sidereo. Narratio
de observatis Jovis satellitibus / Texte, traduction et notes par I. Pantin. P., 1993. P. 30). Как
справедливо замечает Изабелла Пантен, «Кеплер находил в Бруно наиболее близкого и од-
новременно наиболее далекого по отношению к себе философа. Близкого потому, что он
разделял многие его положения: гелиоцентризм, отказ от аристотелевской теории естествен-
ных мест, идею, что Земля такая же звезда, как и другие, что звезды — живые существа...
Но Бруно был ему столь чужд потому, что Кеплер не разделял его инфинитистской космо-
логии и его пантеизма» (Op. cit. Р. 103, п. 172). Неприятие пантеизма Бруно мы находим в
его письме Георгу Бренггеру от 5 апреля 1608 г. («Бога он (Бруно. — В. В.) превратил в
мир, круги, точки») (Op. cit. Р. 103. См. также: Рожицын В. С. Джордано Бруно и инквизи-
ция. М., 1955. С. 378).
36 Toland — Leibniz Letters About Bruno's Philosophy H Paters on A. M. The Infinite Worlds
of Giordano Bruno. Springfield, 1970. P. 177.
37 Santillana G. de. De Bruno à Leibniz // La science an seizième siècle. Coll. internat.
Royaumont 1—4 juillet 1957. P., 1960. P. 248.
«Двойная звезда» Джордано Бруно
133
как в "De l'infinito universo е mondi"» 38. Образ этой бездны с эпохи Просвеще-
ния привыкли читать, однако, лишь в светлой, прогрессистско-сциентистской
гамме:
Открылась бездна звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна...
Но эта бездна, открытию которой вместе с Коперником способствовал и
итальянский поэт-мыслитель, в его религиозно-мифологической философии
есть не только нечто «без дна», но и «без дня», без света, без света разума, т. е.
темная, ночная бездна не знающих предела и удержа хтонических сил. И
Лейбниц, как никто другой, стремился как раз не воспевать такую бездну, а
уйти от мрачного колорита распахнувшейся вместе с нею бесконечности, сменив
его на светлые гармонические разумные тона. И именно поэтому он, знающий
толк в разумности, увидел в учении Бруно превышение границ разума (les justes
bornes de la raison).
Йейтс Ф. Искусство памяти. С. 360.
«ЭЗОТЕРИКА» И НАУКА »
В статье рассматривается проблема связи эзотерической культурной тра-
диции с генезисом науки XVII в. Если у известного английского историка
Ф. А. Ейтс (Иейтс) формулируется концепция «герметического импульса» как
основного фактора возникновения новоевропейской науки, то в работах рус-
ского философа Л. М. Косаревой предлагается по сути дела концепция обоб-
щенного эзотерического импульса, выступающего в той же функции по отно-
шению к науке. В отличие от концепции Ейтс в него включаются не только
герметизм и неоплатонизм, но также и такие традиции эллинистической фило-
софии, как эпикуреизм, стоицизм, скептицизм. В работе также обсуждается
возможность применения термина «эзотеризм» («эзотерика») по отношению к
указанным и подобным им традициям, показывается при этом его условность.
Кроме того, в ней подчеркивается значимость мировоззренческих и философ-
ских установок для анализа указанной проблемы, а также выдвигается мысль
о плодотворности понятий «духовная практика», «духовные упражнения» для
понимания не только самой философии, но и науки. При этом речь должна
идти не только о значении мира «духовных практик» для понимания генезиса
и структуры физико-этического комплекса представлений, но о целостном ду-
ховно-практическом единстве, включающем в одно связное целое все компо-
ненты традиционного членения философии на логику, физику и этику. Подоб-
ный подход, кстати, было бы интересно применить и к современному есте-
ствознанию.
Науковедение — гуманитарное познание феномена негуманитарного (есте-
ственнонаучного) знания. Эта ситуация означает если и не парадоксальность
науковедческих исследований, то по крайней мере неустранимое напряжение,
в поле которого они развертываются и получают свое оформление. Например,
если в физике при всех оговорках существует понятие решающего экспери-
мента (например, таким был для гипотезы эфира эксперимент Майкельсона—
1 Статья представляет собой отклик на книгу: Косарева Л. М. Рождение науки Нового
времени из духа культуры. М, 1997. Ссылки на книгу даются после цитат в круглых скобках.
«Эзотерика» и наука
135
Морли), то в гуманитаристике, как правило, его нет. И в соответствии с этим
гипотезы о причинах генезиса новоевропейской науки оказываются непрове-
ряемыми — ни фальсифицируемыми, ни верифицируемыми, как в естество-
знании. И поэтому науковедение вынуждено использовать другие критерии,
если, скажем мягче, не истины, то убедительности своих построений. Конеч-
но, сами коды убедительности меняются при переходе от одной сферы гумани-
тарного познания к другой. В истории науки они одни, в искусствоведении —
другие, а в науковедении — третьи. Современная ситуация в гуманитаристике
в целом и в науковедении в частности характеризуется среди прочего одним
существенным обстоятельством. Концепции, полученные в одном ее секторе
при опоре на одни коды убедительности, подвергаются проверочным исследо-
ваниям другими, соседними секторами, для которых характерны другие коды
убедительности и удостоверения. Так случилось с концепцией «герметиче-
ского импульса» Ф. А. Ейтс, возникшей в рамках культурной истории Ренес-
санса, но проверяемой средствами истории астрономии и физики (С. 151—
164). В результате эта концепция получила сертификат историко-научной ма-
лонадежное™. Однако на уровне истории культуры это ничуть не убавило ее
веса.
Другой методологический момент, который мы хотим отметить, состоит в
признании и осознании роли мировоззренческого фактора в науковедении.
Именно этот фактор — основная причина самых фундаментальных размеже-
ваний исследовательского поля и тем самым того, что на нем может «произра-
сти». В физике, как мы видим это в последнее время с особенной ясностью,
указанный фактор тоже начинает играть заметную роль. Но все же наличие
консенсусных, экспериментальных и прочих стандартных процедур миними-
зирует его в качестве субъективного, подавляя мощью объективирующих дис-
циплинарных механизмов. Столь важная для культурологии и науковедения
антитеза экзотерики и эзотерики присутствует и в современной физике. Дей-
ствительно, есть некая, условно говоря, магистральная, полномочно офици-
альная физика, а есть физика маргиналов. Но, возвращаясь мыслью к наукове-
дению: как быть с этой ситуацией мировоззренческого плюрализма, раз иссле-
дования науки претендуют на научность, т. е. ищут истину о своем предмете?
Эту апорию мы уже разбирали для исторического познания, причем сформу-
лированный результат может быть отнесен и к науковедению 2. Одним из вы-
водов, полученных из ее анализа, было требование диалога исследователей,
занятых одной проблемой, но исследующих ее с различных позиций. Другим
требованием был фактор «времени и судьбы» — гуманитарию важно самому
пройти через точки «мыслеперемены», или «метанойи», через события смены
2 Визгин В. П. История и метаистория // Вопр. философии. 1998. № 10. С. 98—111.
136
Глава IL От Возрождения к Новому времени
мировоззрения и базовых философских позиций, для чего, естественно, требу-
ется время. В таком случае его потенциал как историка, науковеда и т. п. лишь
возрастает.
И последний методологический момент. Ситуация, обрисованная выше,
получает еще один дополнительный фактор усложнения: эзотерика порой не-
предвиденным образом способна к превращению в экзотерику. Приведем один
пример. Интересоваться в начале XX в. проблемами гравитации было явной
«маргиналистикой» и «эзотерикой». Но когда в 1919 г. А. Эддингтоном были
получены эмпирические подтверждения общей теории относительности как
теории гравитации, выдвинутой А. Эйнштейном в 1916 г., то маргинальное
стало (пусть и не сразу) магистральным, а эзотерическое обернулось экзотери-
ческим, войдя затем в учебники физики. Другой пример такого превращения
эзотерического знания в экзотерическое — это разглашение пифагорейцем
Гиппасом из Метапонта тайны иррационального числа (несоизмеримости диа-
гонали квадрата с его стороной). По преданию, Гиппас был жестоко наказан,
но тайнознание стало в результате «явнознанием».
Сепарирование культуры на «экзотерику» и «эзотерику» с ценностным «рас-
крашиванием» полученных «зон» немыслимо без определенного мировоззрен-
ческого выбора. Но разделяющий определенное мировоззрение «прирастает»
к нему так, что не может от него «отслоиться», встать по отношению к нему во
внешнюю позицию, ибо это означает разрыв с собственными верованиями, а,
по слову Ортеги, в верованиях человек живет, это его «дом», а из дома, как
известно, уходят только «блудные» дети. В знаменитой книге Ейтс о Дж. Бруно
и герметической традиции реабилитируется маргинальное и эзотерическое те-
чение, целый «подводный» пласт оккультных наук, в эпоху Возрождения вы-
шедший на поверхность культуры и общества и занявший в них такое важное
место 3. В не менее знаменитой книге M. М. Бахтина о Рабле подобным же об-
разом реабилитируется карнавальная смеховая народная «субкультура», при-
чем ее реабилитация происходит, на наш взгляд, с некоторым перекосом оцен-
ки по отношению к ее официальному противовесу, который изображается как
нечто бестворческое, застывшее, лишенное потенциала обновления и самораз-
вития 4. В обоих случаях относительные истины и правды, особенно не у са-
мих пионеров гуманитарной мысли, а у их последователей, легко превращают-
ся в односторонности, в идеологемы. Одним словом, если обобщить интенции
или пафосы обеих указанных книг, возникает герметико-анархистская утопия
или плебейско-иррационалистическая мифология, раскрашивающая свою осо-
3 Yates F. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964.
4 Бахтин M. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессан-
са. М., 1965. С. 12—13 и т. д.
«Эзотерика» и наука
137
бую культурную «зону» в цвета общечеловеческие и самые привлекательные
(снятие «отчуждения», творческий «порыв» и т. д.). Но в гуманитаристике
вообще и в науковедении в частности, как и в механике Ньютона, действие
уравновешивается противодействием. И, например, на концепцию научной ре-
волюции, разделяемую А. Койре, отвечает антиконцепция Ст. Яки — последо-
вателя П. Дюгема5. В результате проблема генезиса новоевропейской науки
попадает под какие-то зашкаливающие потенциалы напряжений в самих сво-
их основаниях.
В книге Л. М. Косаревой нигде прямо не говорится, что она предпочитает
позиции Койре или Ейтс позициям Дюгема или критиков английского истори-
ка, но роль «эзотерики» как наукогенного фактора в социальных условиях XVI—
XVII вв. отчетливо в ней прослеживается. Дело еще и в том, что представлен-
ные в книге работы — по своему жанру в большинстве своем научно-аналити-
ческие обзоры, пусть и никак не сводящиеся к изложению точек зрения зару-
бежных и отечественных исследователей, а проводящие авторскую точку зре-
ния. Тем не менее обзор все же порой сковывает автора в открытом и тем более
развернутом выражении своей позиции. Она остается как бы упрятанной в ана-
лизе концепций других авторов. Однако, если исходить из содержания основ-
ных проводимых в этой книге тезисов, то их суть весьма близка к формуле
Койре: научная революция XVII в. — это реванш Платона в союзе с Демокри-
том 6. Здесь важна интенция, содержащаяся в самой этой формуле, историче-
ски, конечно, не вполне точной. Так, например, как это справедливо подчерки-
вает Л. М. Косарева, не только античная атомистика и Платон, «возрождаемые»
в XVI—XVII вв., открыли путь для новой науки, но и стоицизм и тот же герме-
тизм, который все же от неоплатонизма отличается. Если формула эта указыва-
ет на то, что аристотелевская картина мира средних веков была разрушена бла-
годаря восставшим из культурной «тени» платонизму вместе с атомизмом, то
Ейтс, в отличие от Койре, выдвигает на первый план герметизм в качестве ос-
новного источника науки нового времени. Соединяя тезисы о главных факто-
рах наукогенеза XVII в., прозвучавшие у Койре и Ейтс, мы получим обобщен-
ную формулу: новая наука XVII в. возникла прежде всего благодаря «эзотери-
ческому» фактору в культуре.
Такое объединение подходов Койре и Ейтс (несмотря на существенные рас-
хождения между ними в других отношениях) Л. М. Косарева, как нам кажется,
вполне приняла бы. В «эзотерику» она включает не только герметизм с неопла-
тонизмом, но и позднеантичные философские традиции, такие, как эпикуре-
5Яки Стэнли Л. Спаситель науки. М., 1992.
6 Койре А. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий // Койре А.
Очерки истории философской мысли. М, 1985. С. 19.
138
Глава II. От Возрождения к Новому времени
изм, стоицизм, скептицизм. И это — безусловно верный шаг, уводящий от той
явной односторонности, которая легко может возникнуть, если сосредоточить-
ся только на «герметическом импульсе» и забыть о других факторах, воздей-
ствовавших на процесс «рождения» новой науки. Хотя Л. М. Косарева действи-
тельно ставит проблему генезиса науки шире, чем Ейтс и Койре, тем не менее
полноты охвата релевантного ей культурного контекста она все же не достига-
ет, оставляя «линию» Дюгема за кадром своих работ. Речь идет о вкладе в гене-
зис новой науки как раз официальной аристотелизированной научной культу-
ры. То обстоятельство, что она не была полностью вытеснена герметическим и
позднеантичным «импульсами», явилось одним из условий возникновения но-
воевропейской науки как рационального предприятия, продолжающего тради-
цию античного рационализма.
Работы Л. М. Косаревой писались в 1980-е годы, когда тема «постмодерна»
у нас еще не слишком волновала ученых. Оуа не ставит новоевропейскую на-
уку в перспективу соотношения «модерн — постмодерн», сосредоточиваясь
всецело на анализе перехода от позднего Возрождения к новому времени. Это
безусловно оправданно и ведет к тому, что пристальное внимание может уде-
ляться мыслителям переходной эпохи, что позволяет выявить важные каналы
воздействия социокультурного контекста на становление новой науки. Однако,
на наш взгляд, в плане метаперспективы такое сопоставление все же необходи-
мо для того, чтобы снять оттенок сциентистского триумфа при анализе возник-
новения новой науки. Для более взвешенной оценки самого феномена новоев-
ропейской науки необходим анализ целостной культурной стратегии, которая
стояла за возникшей наукой. Иными словами, исследование тех же процессов
наукогенеза и тех же его героев (Ф. Бэкон, Р. Декарт и др.), но не в терминах
только знания (философского и научного), а в терминах целостного проекта —
антропологического, социального, религиозного, политического, образователь-
ного и т. п. — представляется нам необходимым, причем такое исследование
уже нельзя отделить от сопоставления культуры модерна с культурой постмо-
дерна.
Поэтому основной вопрос, на который отвечают исследования, проделан-
ные Л. М. Косаревой, мы формулируем так: как всплывшая на поверхность
культурной сцены в XV—XVI вв. «эзотерика» вошла в проект модерна, ска-
жем, у Декарта? Она сказалась в нем и как осознание и обеспечение практи-
ческого измерения новой науки (ее вещная технологичность), и как осознание
ее возможностей для совершенствования человека и преобразования его души
(антропологическая технологичность). Известно, что «великое делание» алхи-
миков, эзотериков без кавычек («герметических философов», по другой терми-
нологии) как раз и содержало, причем в тесной взаимосвязи, именно оба ука-
занных измерения. Только механизм их связи в рамках «герметического искус-
«Эзотерика» и наука
139
ства» был иным, чем в механике нового типа, ставшей основой для экспери-
ментальной науки нового времени.
Какой же подход развивает Л. М. Косарева к изучению генезиса новоевро-
пейской науки? Она сама называет его «социологическим» (С. 231). Однако
правильнее, на наш взгляд, считать его социокультурным анализом науки,
особенно плодотворно действующим, как она и отмечает это, в период реши-
тельных преобразований общества, культуры и науки. Если рассмотреть соот-
ношение трех основных факторов наукогенезиса, упоминаемых в ее книге (эко-
номический, социальный, культурный), то наиболее исследованным из них вы-
ступает, несомненно, культурный, или культурологический, аспект феномена
науки. Экономические факторы упоминаются, пусть и довольно часто, но от-
сылки к ним достаточно декларативны. Мелькают выражения типа «раннека-
питалистические», «раннебуржуазные» отношения или способ производства и
т. п. Но проработанного и оригинального анализа связи этих факторов с наукой
и ее преобразованиями в работе нет. В то же время экономические детерминизм
и редукционизм оцениваются критически, в результате чего создается впечат-
ление, что автор выбирает позицию «мягкого» варианта социоэкономического
детерминизма по отношению к культуре и науке, подчеркивая, что материаль-
ный базис воздействует на эти сферы опосредованно. В частности, воздействие
на науку оказывается опосредуемым культурой.
Суть развиваемого Л. М. Косаревой подхода можно выразить таким обра-
зом: содержание сдвигов в научной методологии, гносеологии, а также в фун-
даментальных понятиях научного знания сначала вызревает внутри культуры,
оформляясь в качестве ее категорий (С. 144), а уже затем передается науке,
запечатлеваясь в ее структурах, стиле мышления и т. п. Если на уровне поня-
тий и можно говорить о временном разрыве между культурным вызреванием
наукозначимого концептуального сдвига и его собственно научной реализаци-
ей, то на уровне субъекта, подчеркивает Л. М. Косарева, такого зазора во вре-
мени нет: «Эмпирическое бытие личности, попавшей в условия раннебуржуаз-
ной действительности, являлось разорванным, мозаичным, лишенным цель-
ности. В новых социальных условиях от отдельной личности требовалось то,
что прежде осуществляла традиция, а именно: выстраивание осмысленного
жизненного континуума...Тип теоретика в экспериментальной науке и новый
тип нравственного бытия человека рождаются в культуре нового времени од-
новременно, вырастая из единого социокультурного корня» (С. 270, курсив
мой. — В. В.). Такой подход, несомненно, преодолевает односторонность эко-
номического и даже социологического редукционизма по отношению к науке.
Остается неясным определение «социокультуного корня» в его конкретности.
И здесь у нас с автором порой возникают разногласия. Например, смену науч-
ной эпистемологии Л. М. Косарева выводит, следуя марксистскому канону, из
140
Глава IL От Возрождения к Новому времени
«непредсказуемой стихии рынка» (С. 197), бурно развивавшегося в это пере-
ходное время. Однако, на наш взгляд, сам проект модерна с его наукоцентрист-
ским ядром явился, скорее, ответом на неудачные попытки на религиозно-
теологической почве достичь межконфессионального синтеза и примирить
«развоевавшуюся» Европу, столкнувшуюся с непреодолимостью конфессио-
нальных конфликтов и войн. Растянувшиеся на двести лет попытки объедине-
ния Европы с помощью межконфессионального синтеза и примирения (от Ни-
колая Кузанского и Бруно до Лейбница) привели к полному разочарованию в
них, а вместе с тем и в религии вообще. В результате фокусом упований евро-
пейца стал не религиозный, а научно-технический универсализм. Вот как пи-
шет об этом А. Дж. Тойнби: «После сотни лет бесконечных кровавых граждан-
ских войн под знаменами различных религиозных течений западные народы
почувствовали отвращение не только к религиозным войнам, но и к самой ре-
лигии» 7. Но чем в таком случае можно было заменить религию, вера в кото-
рую так серьезно надломилась? Была сделана попытка заменить ее наукой,
нацеленной на земное обустройство человека с помощью зависимой от нее
техники. Этот проект, выдвинутый Р. Декартом, Ф. Бэконом и другими, и стал
проектом нового времени, или модерна.
Научно-культурный проект Бэкона и Декарта взамен хаоса мнений и теоло-
гических споров, ведших к необратимым конфликтам, предлагал создать такое
общезначимое рациональное предприятие, как новая экспериментальная на-
ука, практиковать которую могли бы все люди независимо от их конфессий,
национальностей и социального статуса, следуя «естественному свету» разу-
ма, которым обладает, как подчеркивал Декарт, каждый человек (за исключе-
нием, правда, безумцев 8).
О причинах генезиса науки нового времени, на мой взгляд, больше, чем эко-
номический анализ (например, Маркса), говорит история (например, цитиро-
ванный выше Тойнби). Та «неустойчивость», из которой у Л. М. Косаревой
выводится в качестве ее специфического преломления концепция темпораль-
ной дискретности (прообраз современной идеи квантования времени), вряд ли
может быть однозначно идентифицирована как неустойчивость капиталисти-
ческого рынка. «Неустойчивость» бытия человека в XVI—XVII вв. была глуб-
же неустойчивости чисто экономической. Действительно, рынок был всегда. В
развитом виде и в последующие столетия он будет характеризовать европей-
ские общества. Однако наука нового типа возникает не раньше, но и не позже,
чем она возникла, а именно в период от середины XVI до середины XVII в. И
7 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1996. С. 179.
8 О связи безумия с декартовским cogito см.: гл. III. «Декарт: Ясен до безумия?» С. 160—
177.
«Эзотерика» и наука
141
ситуацию, на наш взгляд, лучше обозначить как тотальный кризис общества и
его ценностей. В этих условиях ориентация на новую науку была выбором эф-
фективного способа преодолеть этот «хаос», найти новую культурную форму
для консенсуса, для того, чтобы решать проблемы экономические, демографи-
ческие, политические и т. д., что и стало осуществляться в европейской исто-
рии с XVII столетия и привело затем к Просвещению.
Итак, в целом для работ Л. М. Косаревой, представленных в данной книге,
характерно наложение марксистского канона в его «мягкой», просвещенной
версии на такого типа концепции генезиса науки, которые предлагает, напри-
мер, Ф. А. Ейтс. Действительно, английский историк построила концепцию
решающего вклада магико-герметической традиции в генезис новоевропейской
науки. Л. М. Косарева внимательно рассматривает концепцию Ейтс и отклики
на нее, но остается при этом в рамках аналитического обзора, избегая ясного
обнаружения своей собственной позиции (С. 151—164). Правда, базовая оппо-
зиция «экзотерическое— эзотерическое», проходящая красной нитью по всем
ее работам и составляющая основу подхода автора к объяснению научной ре-
волюции, указывает на то, что перед нами, по сути дела, обобщенный вариант
концепции Ейтс. Действительно, в «эзотерический» фактор Л. М. Косарева
включает, как мы уже сказали, более широкий диапазон традиций, чем англий-
ский историк, и весь этот внутри себя неоднородный «подводный» блок, вы-
тесняемый официальной культурой с господствующим в нем аристотелико-то-
мистским мировоззрением, всплывает на поверхность общества и культуры в
эпоху Возрождения, становясь мощной силой культурных перемен, захватыва-
ющих и собственно науку. Сходство обеих концепций очевидно. Но тем не ме-
нее марксистский канон сохраняет свое присутствие, пусть в значительной сте-
пени и декларативное, что не может не производить впечатления некоторой
эклектики. «Идея вторжения человека в естественный порядок вещей, — пи-
шет Л. М. Косарева, — своим появлением обязана социальным условиям ран-
небуржуазной действительности» (С. 147). Очевидно, не культурный «эзоте-
ризм» имеется в виду под этими «условиями», но социоэкономический аспект
генезиса науки, остающийся практически без проработки. Если Ейтс пыталась
вывести феномен научной революции и — более узко — практическую, ути-
литарную направленность новой науки из герметического мировоззрения с его
магическим активизмом, то Л. М. Косарева именно эту характеристику рожда-
ющейся науки и соответствующего ей мировоззрения связывает с социоэконо-
мическими условиями «раннебуржуазной эпохи».
В результате такого смешения складывается впечатление, что просвещен-
ный советский марксизм под влиянием западной историографии науки, осо-
бенно постпозитивистской и даже «иррационалистической» ориентации, «плы-
вет» в знакомую нам «культурологию». Плюсы такого перехода всем хорошо
142
Глава II. От Возрождения к Новому времени
известны. Поэтому отметим некоторые менее очевидные минусы. Современ-
ная «культурология», вводимая сейчас повсеместно, как пресловутая картошка
при Екатерине Великой, представляет собой крайне эклектичную интеллекту-
альную сферу — в отличие от лучших образцов просвещенного советского
марксизма. Но та культурология генезиса новоевропейской науки, некоторые
моменты которой ярко и убедительно раскрываются в рецензируемой моно-
графии, отличается, напротив, большой собранностью и сосредоточенностью.
Аморфной «культурологии» в работах Л. М. Косаревой как раз и нет. У нее
есть своя концепция (пусть в нее как бы уходящей тенью и входит марксист-
ский канон), которую условно можно назвать концепцией обобщенного эзоте-
рического импульса как фактора научной революции. Рассмотрим ее теперь
подробнее.
Основу подхода Л. М. Косаревой к проблеме генезиса новоевропейской на-
уки составляет идея о том, что все главные мировоззренческие, эпистемологи-
ческие, методологические и содержательно-понятийные сдвиги, без которых
она не смогла бы «родиться», сначала апробировались в культуре и лишь при
условии «резонанса» с нею получали свое специально научное оформление.
Культура в такой «оптике» выступает своего рода промежуточной инстанцией
между социальными условиями, с одной стороны, а с другой — собственно
наукой как относительно автономной когнитивной сферой. «Европейская куль-
тура XVI—XVII вв., — пишет Л. М. Косарева, — осознает реальность диск-
ретности времени вначале в сфере бытия человека, "выброшенного" социальны-
ми потрясениями из колеи традиционного уклада жизни, из реки непрерывно-
го социального времени. И лишь затем культура XVII в. "учится" применять
эти идеи темпоральной дискретности в математике, в физике, в механике, за-
ново открывая для себя мир атомарных движений в дискретном пространстве
и времени с присущими этому движению свойствами изотахии, кекинемы и
реновации» (С. 271—272). Культура выступает, таким образом, «учебным по-
лигоном» для новой науки.
Другой существенной чертой развиваемого автором рецензируемой книги
подхода является жесткое разведение экзотерических и эзотерических течений
и традиций, причем первые из них связываются с культурой традиционалист-
ской, официальной, характеризуемой как господствующая культура «докапи-
талистических обществ», а вторые, напротив, с культурой неофициальной, «под-
польной», в которой человек ищет спасения от «отчуждения» в рамках первой
культуры. При этом так называемой экзотерической и традиционалистской
культуре отказывается в каком-либо творческом потенциале. Творчество —это
«феномен, — подчеркивает Л. М. Косарева, — не свойственный для традици-
онализма экзотерической культуры докапиталистических обществ, а система-
тически реализовавшийся лишь в рамках эзотерических течений» (С. 273). Нам
«Эзотерика» и наука
143
этот тезис представляется не подтверждаемым историей и поэтому ошибоч-
ным. По своему происхождению это — просвещенский «догмат», попавший в
оборот нашей гуманитаристики через посредство марксизма с его дифирам-
бом Возрождению и отповедью «темному» средневековью. Его широкое и не-
критическое распространение было подкреплено также и авторитетом
M. М. Бахтина с его концепцией смеховой карнавальной народной культуры,
говорящей о том же самом ценностно окрашенном соотношении официальной
и неофициальной культур. Исследования науки и культуры средних веков и
Возрождения от Дюгема до Кладжета и Ф. А. Ейтс опровергают этот тезис.
Хотя, конечно, как и почти под каждой ошибкой, в нем скрывается некоторое
«рациональное» зерно. Но в работах Л. М. Косаревой оно, на наш взгляд, пре-
увеличено. Укажем в связи с этим на значение европейского средневекового
аристотелизма для удержания ценностей европейской рационалистической
традиции в эпоху Ренессанса и в начале XVII в., что сыграло свою роль и в
генезисе новой науки. Правда, католически ориентированные историки науки,
как, например, Ст. Яки, в пику своим оппонентам явно преувеличивают роль
отдельных представителей этой почтенной традиции (в частности, Ж. Бури-
дана 9).
И еще один момент в связи с этим. Л. М. Косарева связывает творческий
потенциал «эзотерики» с тем, что в ней практиковались техники самосовер-
шенствования в форме духовных упражнений, нацеленных в итоге на преобра-
жение человеческой природы, на сотериологические цели. Человек в рамках
эзотеризма оказывался практикующим «искусство самосборки», как мы могли
бы лаконично его определить. Это во многом действительно так, хотя само
противопоставление «эзотеризм—экзотеризм» нам не представляется безуп-
речным в том смысле и том контексте, в которых оно выступает в рецензируе-
мой книге. Действительно, применение понятия эзотерики к античному ато-
мизму весьма условно. Между ним и магико-герметической традицией, кото-
рая составляет, видимо, ядро этого эзотеризма, не много общего. Кроме того,
понятие «эзотеризма» смешано с понятием «мистики» и «мистицизма». Имар-
гинальность доктрины в определенных социокультурных условиях (например,
физической атомистики древних в средние века) еще вовсе не означает ее «эзо-
теризма», под которым все же следует понимать прежде всего тайнознание
для посвященных, каковым подчеркнуто рационалистический атомизм вряд ли
может считаться.
9 По Яки, Буридан предвосхитил первый закон Ньютона в своих комментариях к «Фи-
зике» и «О небе» Аристотеля. Согласно Буридану, небесные тела получили инерциальное
движение в виде импетусов, данных им Богом. См.: Яки Ст. Л. Спаситель науки. С. 72.
Это предвосхищение, считает американский историк науки, дает основание рассматривать
его как свидетельство о рождении ньютоновской и современной науки (Там же. С. 68).
144
Глава II. От Возрождения к Новому времени
Кроме того, «духовные упражнения» разрабатывались не только в «андер-
граунде» «эзотерических» течений, но и внутри культурного «официоза». Мы
имеем в виду, например, знаменитые «духовные упражнения», систему кото-
рых разработал основатель Ордена иезуитов св. Игнатий Лойола, кстати, упо-
минаемый в книге. Так что существовала не только реформационная «эзотери-
ка» (о ней много говорится в книге), но и контрреформационная. Практики
самосовершенствования не были чужды и якобы «стерильной» по части твор-
чества католической реакции.
Приходится сожалеть, что работы крупного историка античной философии
П. Адо 10 остались неизвестными Л. М. Косаревой. Она была поглощена миром
англоязычной литературы, а при ее жизни Адо на английский еще не переводи-
ли. Дело в том, что концепция Адо позволяет уточнить и углубить понимание
духовных практик как основы философии, рассматриваемой в качестве фено-
мена культуры, что дает иное освещение и для науки, поскольку начиная с ан-
тичности научное измерение органически входило в религиозно-философский
комплекс (например, у пифагорейцев, причем именно Пифагору и Гераклиту и
приписывают первое употребление термина «философия» и). Учитывая рабо-
ты Адо и размышляя в связи с ними, многое можно уточнить и в концепции
Л. М. Косаревой, которая независимо от французского философа развивала в
некоторых отношениях сходные взгляды. Она их формулировала в виде тезиса
об этической укорененности физики. Однако подобный тезис в свете концеп-
ции Адо следовало бы несколько откорректировать: речь должна идти не о «фи-
зико-этическом комплексе» (С. 98) только, а о духовно-практическом единстве,
органически включающем в себя все традиционное членение философских наук
(логика — физика — этика).
Другое отличие концепции Адо от подхода Л. М. Косаревой состоит в том,
что если она связывает феномен духовных практик почти исключительно с
«позднеантичными философскими течениями» (С. 97), то у французского фи-
лософа духовно-практическое ядро определяет вообще феномен философии,
правда, в средние века, да и в новое время эта ее основа затеняется преувели-
10 Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М., 1991; Он лее. Что такое античная филосо-
фия? М., 1999; HadotP. La citadelle intérieure. Introduction aux «Pensées» de Marc Aurèle. P.,
1992; Idem. Exercices spirituels et philosophie antique. P., 1981; Idem. Philosophy as a Way of
Life: Spiritual Exercices from Socrates to Foucault. Oxford, 1995. О понятии духовной прак-
тики у Адо и Фуко см.: выше в гл. 1. «Эпистрофический порыв» С. 11—30.
11 «Устойчивая традиция передает, что Пифагор "первым ввел в Элладу философию"
(Исократ, Бузирис, 28)» (Шичалин Ю. А. Эпистрофе, или феномен «возвращения» в первой
европейской культуре. М., 1994. С. 36). Кстати, биограф Пифагора неоплатоник Порфирий
прямо гвворит, что науки, в частности математика, практиковались Пифагором ради совер-
шенствования души (Жизнь Пифагора, 47).
«Эзотерика» и наука
145
ченной значимостью, которую в это время получает теоретический дискурс.
Дело в том, что духовно-практическая функция философии в христианской
культуре стала переходить от философских духовных практик к практике ре-
лигиозной, что почти не оставляло самой философской традиции иной воз-
можности развития, кроме совершенствования лишь ее созерцательно-теоре-
тического измерения. Это и нашло выражение в схоластике (начатой, впрочем,
уже в позднем неоплатонизме), в школьном философствовании в широком смыс-
ле слова вообще, в возникновении феномена комментирующей и профессор-
ской философии, который в виде истории философии в наши дни практически
поглотил саму философию как духовно-практическую активность, нацелен-
ную на совершенную жизнь, а не на отвлеченный автономный дискурс. Но
всегда в истории мысли духовно-экзистенциальное начало философии все же
прорывалось на поверхность. Его обнаружения мы находим и у Декарта, и в
немецком идеализме, и, конечно, в более явном и развернутом виде у Ницше и
в экзистенциализме. Кроме того, и в рамках античной философии нельзя, на
наш взгляд, полностью выводить за пределы духовно-практического «эзоте-
ризма» Платона или даже Аристотеля.
Подобно тому как физика эпикурейцев входила в целостный духовно-прак-
тический мир участников этой школы, позволяя обрести те качества души и
установок личности, которые позволяли бы не просто правильно мыслить о
природе, но и блаженно и правильно жить, так и наука вообще должна быть
увидена, как нам представляется, в свете этой духовно-практической персона-
листической и экзистенциальной перспективы с тем, чтобы попытаться вер-
нуть ее из состояния объективистского отчуждения от мира человека. Теоретики
науки, как, например, Г. Башляр, видели в науке опыт антисубъективистской
аскезы 12. Наука у него выступала как своего рода религия секуляризованной
истины, а научная лаборатория замещала собой монастырскую келью. Но за-
дачи человека шире и глубже, чем лишь активное познание природы в науке и
его использование в технике. И сама субъективность человека не есть лишь
помеха на пути к Истине. И тот «эзотерический» по своему характеру и проис-
хождению импульс, который питал науку в момент ее рождения, должен быть
mutatis mutandis сохранен и в наши дни.
Поясним, как мы видим эту задачу духовно-практического высвечивания
науки. Научное понятие в конечном счете (но именно с этим нужно считаться
прежде всего и с самого начала) оправдывается своими духовно-экзистенци-
альными значениями, только часть которых отражается в практико-техниче-
12 Bachelard G. La formation de l'esprit scientifique: Contribution à une psychanalyse de la
connaissance objective. P., 1938. P. 150. См. об этом: Визгин В. П. Эпистемология Гастона
Башляра и история науки. М., 1996.
10-3357
146
Глава II. От Возрождения к Новому времени
ском их использовании. Другая же их часть повернута к целостной личности и
выступает как научная проекция «культуры самости», говоря словами М. Фу-
ко, который последние годы своей жизни посвятил изучению «искусства суще-
ствования» в эллинистических философских школах 13, включаемых Л. М. Ко-
саревой в «эзотерическую традицию». На какие вопросы отвечают или пыта-
ются дать ответ эти значения? В частности, на такие: как научные понятия и
картина мира, из них складывающаяся, служит симфонии духовного целого?
Каким образом, созерцая научную картину мира, человек достигает согласия с
миром, с самим собой и высшим началом бытия и жизни? В составе научного
понятия существенно не только то, что природа как объект «ждет» от человека
как субъекта, но и то, как в формах объективного знания просвечивает пожела-
ние, адресованное человеком из глубин его души самой природе и формулиру-
ющее то, какой он хочет ее видеть. В науке есть не только овеществленная и
поэтому несущая «отчуждение» объективация, но и скрытая «субъективная»
компонента. В конце концов наука — не монолог овеществленной природы с
ее неумолимостями, а диалог человека с миром, где не менее ответов природы
важны как сами вопросы, задаваемые ей человеком, так и их интенция, нрав-
ственное и духовное содержание. Ведь в конечном счете познание и деятель-
ность на основе его результатов есть сотрудничество человека с природой, это
синергийный процесс, а не односторонняя адаптация «субъекта» к неизмен-
ной логике «объекта».
На уровне своих оснований новоевропейская наука от метафизического
субъекта (Бог или природа, стоящая под знаком доступности для рационально-
го познания) перешла к субъекту трансцендентальному, имеющему дело не
столько с бытием как таковым, сколько с познанием бытия, с осознанием само-
го сознания (принцип декартовского cogito). Поэтому наука стала понимать
собственно не природу (в ее исходном античном и «традиционном» смысле), а
видимость природы, устроенную, однако, рационально, по канонам новой на-
уки, математикой функций и бесконечностей измеряющей конечные явления (а
не саму природу как их сущность, подчеркнем еще раз) i4. Истина стала пони-
маться через сконструированносты если мы знаем, как «устроены» явления, то
мы и знаем их «по истине» и можем ими управлять. А Декарт к тому же считал,
что мы можем тогда не только управлять ими с пользой для человека, но даже
достигать его совершенствования 15. И в этом он был еще человеком переход-
13 Foucault M. Histoire de la Sexualité. Vol. 3. Le souci de soi. P., 1984. P. 57—58. На Фуко
повлияли работы Адо, на которые он здесь ссылается (см. выше С. 20).
14 Этот сдвиг интересно проанализирован в книге: Погоняйло А. Г. Философия завод-
ной игрушки или апология механицизма. СПб., 1998.
15 Первоначально Декарт планировал свое главное сочинение («Рассуждение о мето-
«Эзотерика» и наука
147
ной эпохи, когда в душах и умах людей жили эзотерические духовные практи-
ки, питающие проекты грандиозных реформ, из «котла» которых во многом и
родилась новоевропейская наука. Эти реформы одушевлялись задачей целост-
ного преображения человека, совлечения с него «ветхого Адама» ради Адама
нового. Но в конце нашего тысячелетия стало ясно, что именно эта функция
науки, родившейся в XVII в., и не смогла реализоваться. А вместе с ее невы-
полнением потерпел крах и весь проект модерна, хотя бесплодным его никак
назвать нельзя.
Поэтому в наши дни вопрошание о культуре, в которой эта функция могла
бы осуществляться в новых условиях, прямо затрагивает и размышления о на-
уке, о ее кризисе не столько научно-содержательного, сколько духовного пла-
на. Именно поэтому актуальным и представляется вновь освежить постановку
тех задач, которые возлагали на науку «эзотерические» практики. Конечно,
вместе с тем встает и задача нового обоснования науки — не на классическом
философском трансцендентализме от Декарта до Канта, а, скажем условно, на
практико-духовном основании, которое по-иному позволило бы взглянуть и на
классическую метафизику, оттесненную от науки Просвещением.
Античную физику пронизывали интуиции человекомерного целого, в ее
центре стояли антропологические проекты достижения лучшей жизни — бла-
женства, мудрости, способности преодолевать превратности судьбы смертно-
го. Например, принцип множественности физических объяснений явлений был
у Эпикура средством избавить человека от давления неумолимости судьбы,
которую представляли в виде неизменного природного порядка, всеохватыва-
ющего и принудительного. В стоицизме, напротив, был силен момент смире-
ния, резиньяции перед этим порядком, который безапелляционно признавался
воплощением высшего разума. Но в обоих случаях физика выражала единое
мироотношение человека, служила средством поддержать его духовно-нрав-
ственные ориентиры. Поэтому она была особым родом духовных упражнений,
а не отвлеченным объективным познанием, не пассивной адаптацией к неиз-
менным «вещам». Если момент адаптации и присутствовал, то это было при-
способление к тому, что почиталось духовно высшим, на чем лежал отблеск
своеобразной религии разума, что вызывало духовный подъем, ощутимый не
только в философии Платона, но и у Аристотеля и, конечно, в эллинистиче-
ских школах. Философии этих школ практиковались именно как философская
жизнь — в рамках общины, во главе с учителем, например Эпикуром, поощ-
рявшим дружбу и наслаждения жизнью созерцательной и добродетельной, а
де») назвать так: «Проект Универсальной Науки, могущей возвысить нашу природу на вы-
сочайшую ступень совершенства» {Descartes. Œuvres et Lettres / Textes présentés par A. Bri-
doux. (Bibl. de la Pléiade). P., 1953. P. 958).
10*
148
Глава IL От Возрождения к Новому времени
не чувственно-разнузданной, в чем обвиняли потом эпикурейцев их идейные
противники. На самом деле в любой большой философии может быть обнару-
жена духовно-практическая сторона. Если мы возьмем Гегеля или Маркса, то у
них главным вопросом остается вопрос о том, как человеку вмешаться в исто-
рический процесс с тем, чтобы помочь Мировому духу или тенденциям обще-
ственного развития воплотиться? Или как провести в очерченных ими услови-
ях свой гуманитарный проект? У Кьеркегора же мы видим обратную тенден-
цию, но столь же практическую: как мировым необходимостям противостоять,
чтобы сохранить свое духовное ядро и возможность спасения? Философы круп-
ного стиля мышления никогда не ограничивались анализом историко-фило-
софских связей, а умели, каждый на свой страх и риск, углубиться в экзистен-
циальный опыт, пытаясь оформить его концептуально. Это экзистенциально-
опытное духовное измерение является главным, на наш взгляд, не только в
философии, но и в понятийной работе вообще, а значит, и в науке. Если, конеч-
но, сама наука хочет быть не только пассивным компендиумом объективных
знаний, не просто арсеналом познавательных средств, предназначенных для
конструирования используемого человеком технического мира, но и духовным
предприятием, обращенным не только вовне, но и внутрь человека, а значит, и
мира.
Итак, попытка с духовно-практической точки зрения взглянуть не только на
философскую, но и на собственно научную традицию представляет, на наш
взгляд, актуальную задачу современной философской и науковедческой мыс-
ли. Исследования рождения науки из «духа культуры», в которых активное,
стимулирующее участие принимала Л. М. Косарева, вносят в ее решение су-
щественный вклад.
Глава III
НОВОЕ ВРЕМЯ И ЕГО ПРОЕКТ
ДЕКАРТ И ЕГО УЧЕНИЕ
Осень 1621 г. На землях Германии и в соседних с нею странах идет, то вспы-
хивая, то замирая, Тридцатилетняя война, отголосок Реформации, великого
перелома в жизни народов Европы. Двадцатипятилетний французский дворя-
нин, прослуживший вот уже три года сначала в армии протестантского полко-
водца Морица Нассауского, а затем в войсках Католической лиги, собирается
вернуться во Францию. Но и там разразилась война с гугенотами, а в Париже
свирепствовала эпидемия чумы. Желание странствовать у него пока не про-
шло — «великая книга мира» слишком велика, чтобы можно было ее «про-
честь» за три года. И молодой офицер решает с пользой провести это время,
освободившись от воинской службы. Мелькают города и страны — Венгрия,
Силезия, Польша, Померания, Бранденбург, Гольштейн... И вот он нанимает
небольшое каботажное судно, чтобы морем добраться до Западной Фрислан-
дии (провинция Нидерландов) — ему хочется ознакомиться с достопримеча-
тельностями и этой страны. С ним верный слуга, сопровождающий его повсю-
ду. Пассажиров кроме него на палубе нет — одиночество и свобода, комфорт и
тишина всегда были и будут любимыми друзьями нашего героя. «Этот важный
иностранец наверняка богатый коммерсант, едущий с ярмарки», — решают
корабельщики и, не таясь, обсуждают свой план: сбросить его в воду вместе со
слугой и захватить его багаж... Однако они не учли лингвистических навыков
путешественника, всегда стремившегося изучить язык людей, среди которых
он жил. Он все понял, вмиг выхватил шпагу и показал растерявшимся зло-
умышленникам, как ловко ею владеет. В результате он благополучно высадил-
ся в Западной Фрисландии.
Но не только шпагой и иностранными языками владел этот молодой человек
по имени Рене Декарт (в семье его звали Перрон по названию принадлежащего
ему имения в Пуату) — он еще выделялся исключительными математически-
ми способностями. Однажды в Бреде он увидел объявление на голландском
языке, которого тогда еще не знал (это было в 1618 г.), содержащее условия
математической задачи, предлагаемой публике для решения. Он попросил про-
150
Глава III. Новое время и его проект
хожего, оказавшегося рядом, перевести ему это объявление на латынь. Прохо-
жий тут же согласился, но затем, желая подшутить над иностранцем, добавил:
«А вы, сударь, должны мне за это сообщить ее решение!» На следующий день
к великому удивлению незнакомца (им оказался известный математик и врач
Исаак Бекман) Декарт принес верное решение. Математик (он был старше
Декарта на восемь лет), пораженный талантом молодого человека, вступил с
ним в интенсивное научное общение. Как и в этом случае, друзьями Декарта
часто становились люди гораздо старше его и уже зарекомендовавшие себя как
крупные ученые. Таким, например, был и французский физик и эрудит Марен
Мерсенн (1588—1648). Его называли послом Декарта в Париже — он вел пе-
реписку со всей ученой Европой и сообщал ему новости научной жизни.
Интерес к математике Декарт проявил еще в годы учения в коллеже Ла Флеш,
находившемся в прекрасном замке, подаренном королем Генрихом IV иезуит-
скому ордену. Юный дворянин из Турени отличался усидчивостью, послуша-
нием и успехами по всем дисциплинам. Но, как он пишет, «особенно мне нра-
вилась математика из-за достоверности и очевидности своих выводов, но я еще
не видел ее истинного применения, а полагал, что она служит только ремес-
лам, и дивился тому, что на столь прочном и крепком фундаменте не воздвиг-
нуто чего-либо более возвышенного». Но вскоре после окончания коллежа та-
кую цель — и возвышенную, и очень практическую одновременно — он найдет.
Стремление возвести на прочном фундаменте здание всех без исключения
наук стало миссией Декарта как реформатора знания и одного из основателей
современной науки наряду с такими учеными, как Ф. Бэкон и Галилей, его со-
временник. Но замысел Декарта на самом деле был глубже, чем радикальная
реформа научных знаний: он хотел найти для них несомненные основания в
философии, преобразовав и ее, и тем самым возвести по единому плану здание
всех наук. Реализуя этот грандиозный, неслыханный по своей дерзости замы-
сел, претендующий заменить систему Аристотеля, издавна и безраздельно гос-
подствовавшую во всех школах Европы, Декарт стал основателем не только
современной науки, но и современной философии.
Все подчиняющее себе стремление к неколебимому обоснованию любого
суждения, претендующего на истину, поразительно в Декарте. Можно предпо-
ложить, что на его раннее развитие повлияло его хрупкое с детства здоровье.
Действительно, его мать, умершая спустя год после его рождения, наделила
его «сухим кашлем и бледным цветом лица». Все вокруг с печалью смотрели
на болезненный вид ребенка и прочили ему близкую смерть. Но он выжил, не
в последнюю очередь благодаря кормилице. Учитывая его слабое здоровье,
его воспитатели разрешили ему поздно вставать и работать в постели в утрен-
ние часы, что стало у него привычкой на всю жизнь. Нет, не только, конечно,
стремление упрочиться в жизни, которая была так хрупка и неустойчива, тол-
Декарт и его учение
151
кало его с такой силой на путь обретения надежных основ для суждений о
мире. Декарт был наблюдательным и любопытным человеком и не мог не за-
метить, насколько в начале XVII в. все было шатко в мире знаний — без конца
спорили ученые и философы. Старое явно уходило, но новое не спешило ясно
обнаружить себя. Популярными были скептические мыслители, подчеркиваю-
щие ненадежность всех философий, призывающие не доверять признанным
авторитетам. Декарт и сам пропитался этим духом осторожности и недоверия
по отношению к любым суждениям, спешащим выдать свое правдоподобие за
истину, но он не остановился на этом, а пошел дальше — стал искать несом-
ненные основания для суждений о любых предметах. «Моя цель, — говорит
он, — заключалась в том, чтобы достичь уверенности и, отбросив зыбучие на-
носы и пески, найти твердую почву».
Нужно сказать, что к концу XVI в., когда родился Декарт, новый человек в
основных чертах его психологического склада уже был создан самой бурно
меняющейся в это время жизнью. Это был человек, стремящийся во всем опи-
раться на самого себя, привыкший доверять не книжным авторитетам школ, а
своему личному опыту, пытающийся строить свою жизнь по мерке своего соб-
ственного разума. Однако этот новый человек, выходящий из смуты и шатаний
эпохи Возрождения, не имел ясной общезначимой программы для утвержде-
ния своей сущности, выводящей его из зыбучих песков сомнения и разъедаю-
щего скепсиса. Этот выход из лабиринта переходной эпохи и нашел Декарт, и
нашел он его не в чем ином, как в новой Науке — Науке с большой буквы,
единой и всеохватной, достоверной, рациональной, умозрительной и практи-
ческой, могучей и полезной, обещающей человечеству не только прочные зна-
ния, но и земное блаженство в будущем, а в скором времени победу над болез-
нями и благополучие, причем не в фантазиях, как это уже было у алхимиков и
оккультистов, а на самом деле...
10 ноября 1619 г. в местечке Нейбурге под Ульмом двадцатитрехлетний офи-
цер Рене Декарт, находившийся там на зимних квартирах, пережил централь-
ное событие своей жизни — в состоянии необычного духовного подъема ему
открылись «основания чудесной науки» (mirabilis Scientiae fundamenta). В
сверхъестественном источнике полученного тогда откровения Декарт никогда
не сомневался. Можно констатировать, что современный рационализм родился
в результате загадочных и иррациональных переживаний, на высоте экстатичес-
кого воодушевления, пронзивших молодого любителя наук тремя последовав-
шими друг за другом сновидениями... Ученые до сих пор спорят о содержании
пережитого Декартом в ту переломную ноябрьскую ночь, задаваясь вопросом:
«Что же ему действительно открылось тогда?» Опираясь на его собственный
рассказ об этом, опубликованный 18 лет спустя, мы с уверенностью можем
сказать, что Декарту открылась тогда идея новой всеохватывающей и единой,
152
Глава III. Новое время и его проект
достоверным образом построенной Науки, возвести здание которой и передать
его человечеству для его блага он осознал как свое высокое призвание.
Он как бы единым взором увидел все древо человеческого познания — от
его корней до могучей кроны. Метафизика образует корни его, так как именно
она дает абсолютно надежные основания всем остальным наукам. Физика со-
ставляет его ствол, а полезные прикладные науки, такие, как Медицина, Меха-
ника и Мораль, образуют его ветви и листву. Интересно, что у Аристотеля, с
которым всю жизнь так или иначе спорил Декарт, древо познания выглядит
совершенно иначе. У Стагирита путь познания начинается с чувственного зна-
комства с вещами, а это значит, что корни его образуют эмпирические и при-
кладные знания. Впрочем, физика, как и у Декарта, уподоблена у него стволу.
Но вершину дерева образует Метафизика — высшее и самоценное интеллек-
туальное достижение человека, оправдывающее все древо знаний, да и саму
жизнь людей. Кроме того, разные науки у Аристотеля имели разные начала и
существовал принцип, запрещающий переход между ними. У Декарта же, на-
против, вся сфера знания мыслится однородной, представляя собой как бы
продление математики на другие предметные области. Иными словами, у него
единство знаний скреплено единством метода, заимствованного у математи-
ки, но представленного в обобщенной форме. Его основу составляет требова-
ние усмотрения в ясной и отчетливой форме элементарных начал, из которых
столь же ясно и отчетливо, подлежа по всему пути контролю разума, выводят-
ся все следствия. Древо Науки, считает Декарт, оправдано своими плодами, а
они, как и положено, растут наверху и приносятся Медициной, Механикой и
Моралью.
В те годы Европу будоражили так называемые «манифесты», рассылае-
мые повсюду от имени тайного братства розенкрейцеров. Ученые были
взволнованы их содержанием — одни негодовали и отвергали, другие защи-
щали выдвигаемые в них идеи. А эти идеи, между прочим, были удивительно
созвучны пафосу «чудесной науки» Декарта! Авторы «манифестов» предлага-
ли всеобщую реформу знаний, говорили о новой науке, ими якобы открытой,
идущей на смену бесполезной схоластике и обещавшей человечеству победу
над болезнями, овладение силами природы. Неудивительно, что Декарт был
заинтригован этими слухами. Он просит, чтобы ему поточнее рассказали о та-
инственных «братьях» и даже хочет с ними встретиться. Душевный подъем и
интеллектуальное возбуждение, охватившие Декарта в ноябре 1619 г., могли в
результате этого только усилиться. Однако до встреч с «невидимыми» дело не
дошло, а собственная интеллектуальная эволюция Декарта, весь круг его бли-
жайших друзей, начиная с Мерсенна, вели его к решительному разрыву со всей
магико-герметической традицией. Действительно, наука Декарта, хотя в дог-
матическом рационализме ей и не откажешь, была наукой открытой для крити-
Декарт и его учение
153
ки разумом, наукой для всех людей, овладение которой не требует никаких осо-
бых посвящений и, кроме того, в основе ее лежала научная, а не каббалисти-
ческая математика.
Декарту было мало узнать свое призвание: он не мог не последовать по
указанному ему свыше пути. А для этого ему нужны были свобода и ничем
не ограниченный досуг, чего он, как считал, не мог найти в родной Франции.
Свобода и досуг, говорил он, «две вещи, которые ни одному монарху в мире
не купить у меня ни за какие деньги». После путешествий и жизни в Париже
(1626—1628) он переезжает в Голландию, страну, которую он уже хорошо
знал и которая вполне ему подходила во всех отношениях. Здесь он мог спо-
койно работать, обладая богатой информацией о научной жизни всей Европы
благодаря переписке и отчасти встречам, которые он тщательно контролиро-
вал, скрываясь от нежелательных посетителей. Изобретатель метода как пути
для нахождения истин во всех науках, Декарт и свою жизнь подчинил строгим
правилам. Он поздно вставал, привыкнув подолгу размышлять в постели,
иногда немного писал. К полудню завтракал, работал в саду, как это принято
в Голландии, а после занимался анатомическими исследованиями животных
или ставил эксперименты с линзами, которые и сам умел обрабатывать. Как
и положено дворянину, он совершал прогулку верхом и только потом брался
за научные бумаги. Каждый день по несколько часов он уделял переписке, а
один день в неделю, когда отправлялась почта, целиком посвящал письмам.
Неудивительно, что именно письма составляют половину объема всего его
творческого наследия, причем многие важные вопросы рассмотрены только
в них.
Зимой 1630 г. в мясных лавках Голландии, уже тогда отличавшихся изоби-
лием, можно было видеть, как Декарт покупает различных животных, чтобы
затем их анатомировать. Кажется, что весь необъятный мир он хочет «прощу-
пать» и промерить своим придирчивым, недоверчивым умом. Животные, орга-
ны которых он так тщательно изучал, не были для него одушевленными су-
ществами, какими они были для Аристотеля, а только — живыми автоматами.
«Я исследую анатомически головы различных животных, — пишет он Мер-
сенну, — чтобы посмотреть, где заключаются память, воображение и про-
чее».
Как наблюдательный зритель в «театре мира», вооруженный мощным мето-
дом, он открыл много научных истин, отсутствовавших в тогдашних книгах.
Но кроме знаний о внешнем мире ему еще был нужен опыт самопознания для
того, чтобы в глубине своего мыслящего духа найти незыблемые основы всех
возможных знаний. Декарт погружается для этого в метафизические размыш-
ления и в недрах своего мыслящего «Я» находит абсолютно твердое ядро исти-
ны, которое не может быть задето никаким сомнением. Это было открытием
154
Глава III. Новое время и его проект
его знаменитого принципа «когито»: «я мыслю, следовательно, я существую»
(cogito ergo sum). В ситуации ненадежности в содержании мыслимого нами, в
случае даже полного обмана нас со стороны гипотетического «злого духа»,
подменяющего образ мира по истине фальшью и смутой его искаженных пред-
ставлений, нам все равно с абсолютной надежностью дана реальность нашего
мыслящего «Я» («когито»). И этот незатопляемый водами никакого скепсиса и
сомнения островок достоверности служит Декарту плацдармом для того, что-
бы, исходя из него, построить стройное и целостное здание надежного знания.
От «я мыслю» Декарт переходит к идее Бога, который, как он подчеркивает,
никогда не может быть обманщиком и, следовательно, это Он гарантирует нам
достоверность познания вещей в ясных и отчетливых идеях о них, которые мы
имеем в нашем уме. Таким образом, последним и безусловным гарантом дос-
товерности знания выступает для Декарта Бог, в существовании которого мы
убеждаемся, как показывает философ, обращаясь к содержанию нашей идеи о
Нем как о бесконечном и совершенном начале. Провозгласив принцип «коги-
то», Декарт построил здание своей метафизики, которая, как он считал, ценна
не сама по себе, а тем, что позволяет надежно обосновать научное познание
мира.
Свод всей его системы, охватывающий и метафизику и физику, был им на-
писан и издан на латыни в 1644 г. с посвящением принцессе Елизавете, чье
заинтересованное отношение к идеям философа было им встречено с благо-
дарностью. В это время имя Декарта становится широко известным. Он при-
обретает немало активных сторонников, но одновременно сталкивается с рез-
кими нападками, которые заставляют его подумать о возвращении на родину.
Но политическая ситуация там выходит из равновесия: умирает король
Людовик XIII, а еще раньше — кардинал Ришелье, хорошо относившийся к
философу, начинаются волнения, известные под названием Фронды. И Декарт
решает остаться в привычной ему Голландии.
Осенью 1649 г. он получает приглашение от молодой шведской королевы
Христины переехать в Стокгольм. Однако его мучают сомнения относительно
целесообразности такого переезда, связанные не в последнюю очередь с суро-
вым климатом этой страны «скал и льдов». Однако стремление обрести высо-
кое покровительство и тем самым создать более благоприятные условия для
утверждения своей философии в Европе заставляют его принять приглашение.
В Стокгольме он получил королевское предписание являться к пяти часам утра
в библиотеку дворца для занятий философией с королевой. Напряжение, свя-
занное с уходом за заболевшим другом, а также губительный режим занятий,
идущий наперекор всем привычкам Декарта, ослабили его, он простудился,
заболел и 11 февраля 1650 г. умер от воспаления легких.
Декарт и его учение
155
Учение Декарта встретило, особенно во Франции и в Голландии, блестя-
щих пропагандистов и талантливых последователей. Что касается Франции,
то здесь оно утверждалось не в официальных университетских кругах (Сор-
бонна еще в 1671 г., когда новые идеи повсюду успешно распространялись,
пыталась убедить парижский парламент запретить преподавание любых фило-
софий, кроме аристотелевской), а в светских салонах. Академия наук, образо-
ванная в 1666 г., также была настроена в пользу картезианства. Ее бессменный
секретарь Фонтенель был выдающимся писателем и ученым, преданным но-
вой философии. Ему удалось представить учение Декарта в изящной галант-
ной форме светских бесед, отвечающей духу французского классицизма, с ха-
рактерным для него своего рода культом представлений и зрелищ, в том числе
и театральных. Сам Декарт подчеркивал, что в «театре мира» он только любо-
пытствующий, но недоверчивый зритель. Аналогия между природой и теат-
ром была в то время общепринятой.
Представим, что и мы с вами в театре зимним вечером 1683 г. на плас Опера
в Париже, где дают лирическую комедию «Фаэтон» (автор — Кино, музыка —
Люлли). Как известно, Фаэтон, сын Гелиоса, попросивший у своего отца раз-
решения прокатиться по небосводу на огненной колеснице, не смог удержать
могучих крылатых коней, и они пронеслись в опасной близости от Земли, так
что наша планета едва не воспламенилась. За непослушание он был наказан
Зевсом, поразившим его молнией. И вот мы видим, как перед нами на сцене
театра колесница с Фаэтоном поднимается вверх какой-то могучей силой. Пред-
ставим, следуя Фонтенелю, что в зале вместе с нами сидят великие мыслители
прошлого — Пифагор, Платон, Аристотель и один новый философ — Декарт.
Каждый из них даст свое объяснение удивительного явления — полета тяже-
лой колесницы.
Пифагор скажет, что «Фаэтон составлен из определенных чисел, заставля-
ющих его подниматься». Платон же укажет на то, что «Фаэтон наделен опреде-
ленной симпатией к верхней части театра». Аристотель обязательно упомянет
«скрытое качество» легкости, которое, мол, и поднимает Фаэтона вверх. Каж-
дый мыслитель дает свое объяснение этого явления. Но все эти интересные
объяснения, говорит нам Фонтенель, ровным счетом ничего не стоят по срав-
нению с тем ясным и четким объяснением, которое дает Декарт: «Фаэтон под-
нимается потому, — говорит он, — что его тянут за веревку, причем груз более
тяжелый, чем он сам, в это время опускается вниз». Итак, суть дела не в числе,
не в симпатии, не в скрытом качестве и не в других подобных причинах, быв-
ших в ходу у философов до Декарта, а в закулисной механике сцены, скрытой
от глаз зрителя.
Обратим внимание: когда колесница с Фаэтоном поднимается, невидимый
нами груз опускается. Взаимосвязь движений по Декарту такова, что их после-
156
Глава III. Новое время и его проект
довательности замыкаются в своего рода круги или «вихри». Есть «вихри»
Солнца, Земли, других планет и звезд. Если мы и не видим таких «вихрей», то
потому, поясняет Декарт, что тела обычно движутся в воздухе (как и Фаэтон), а
воздух мы привыкли рассматривать как пустое пространство, но это не так. По
Декарту существует еще более «тонкая» и подвижная материя, чем воздух. А
пустоты в природе, говорит он, не существует. Природа — протяженная мате-
рия, непрерывная и делимая. Протяжение — главное ее свойство. Явления в
видимой природе нужно объяснять, говорит Декарт, «не обращаясь ни к чему
другому, кроме движения, величины, фигуры и расположения» частиц мате-
рии. Движение передается от тела к телу толчком. Из всех видов движения,
которые принимались философами древности, Декарт признает только пере-
мещение. Все остальные изменения, относимые Аристотелем к видам движе-
ния (движение по качеству, по количеству или рост, возникновение и уничто-
жение), сводятся Декартом к перемещению частиц протяженной материи.
Среди законов движения, постулируемых в картезианской механике, —прин-
цип инерции («каждая частица материи продолжает находиться в одном и том
же состоянии до тех пор, пока столкновение с другими частицами не вынудит
ее изменить это состояние») и закон сохранения количества движения, гаран-
том которого выступает Творец Вселенной. В отличие от античных филосо-
фов, считавших круговое движение самым совершенным, Декарт признает
примат движения по прямой, несмотря на свою теорию «вихрей»: «Хотя и не-
возможно произвести ни одного движения, которое не было бы так или иначе
круговым, тем не менее каждая из частиц тела в отдельности всегда стремится
продолжать его по прямой линии».
Система мира Декарта есть последовательный механицизм. Это означает,
что правила механики тождественны «принципам природы». В «Началах фи-
лософии» (IV, § 203), подводящих итог всей его системе взглядов, он подчер-
кивает, что между «машинами, сделанными руками мастеров», и «природны-
ми вещами» существует аналогия и лишь чисто количественная разница: «труб-
ки, пружины и иного рода инструменты» в природных вещах более мелкие,
чем в искусственных, и поэтому невидимы для глаз. Таким образом, механи-
цизм системы Декарта тесно связан с его рационализмом как в учении о бытии
(принцип мыслящей субстанции), так и в учении о познании (достоверность
достигается ясными и отчетливыми представлениями ума, а не показаниями
внешних чувств). Иными словами, по выражению Фонтенеля, его философия
«основывается на любопытстве ума и близорукости глаз».
Картезианская механика природы проста и изящна. Все машинное обеспе-
чение «театра мира» скрыто от глаз и недоступно сознанию, если только оно
не руководствуется ясным и проницательным умом, у которого для достиже-
ния истинного знания имеется четко определенный метод.
Декарт и его учение
157
Декарт как бы говорит: дайте мне материю, движение с его законами, и я
произведу мир, как две капли воды похожий на тот мир, который мы созерца-
ем. По сути дела, в картезианской науке человеческий разум действует подоб-
но разуму божественному, творящему мир из ничего. Картезианский разум,
понимаемый как «здравомыслие» (bon sens), — это универсальный разум, ко-
торым считаются наделенными все люди, «даже турки», именно потому, что
он признается подобным божественному разуму и действующим во всей при-
роде (исключая мир сверхъестественный). Оба разума, человеческий и боже-
ственный, описываются Декартом с помощью метафоры света — человеческий
разум обозначается как «естественный свет», а божественный — как «свет
веры».
За исключением области истин откровения, доступных лишь «свету веры»,
человеческий разум — абсолютный властелин, подчиняющий себе природу
ради достижения человечеством земного блаженства. Законы природы не «счи-
тываются» с явлений умом, способным к абстракции, а налагаются на нее са-
мим разумом, в котором они хранятся как его «врожденные идеи», посеянные
самим Богом.
Достаточно скоро в картезианской науке стали обнаруживаться ошибки. Но,
по слову Вольтера, Декарт «блистателен и в своих ошибках», обнаруживаю-
щих последовательность его мысли. Рационально ясная и в силу этого приня-
тая аксиома выдерживалась им до конца, хотя опыт и склонял порой к сомне-
нию в ней. Так было в случае споров о пустоте, существование которой Декарт
отвергал. Он сам подсказал Паскалю его знаменитый эксперимент на горе Пюи-
де-Дом для проверки гипотезы об атмосферном давлении как альтернативе схо-
ластическому принципу «боязни пустоты». «Пустота» была обнаружена Пас-
калем в трубке над столбиком ртути, опущенным в сосуд с нею, как это уже
было открыто Торричелли. Но Декарт продолжал отстаивать свой принцип не-
прерывного заполнения пространства материей.
К Аристотелю восходит и другая его ошибка в вопросе о кровообращении и
работе сердца. Но здесь на пути научной истины встал не жесткий теоретиче-
ский принцип, а, напротив, слишком большая доверчивость или даже ненави-
димая самим Декартом спешка в выводах из опытов. По Декарту, сердце содер-
жит гораздо больше тепла, чем другие органы тела, являясь как бы естествен-
ной печкой организма, тепло которой расширяет и разжижает кровь, и она при
расширении сердца устремляется из него по всему телу. Более тщательные
наблюдения, проделанные Гарвеем, дали иную картину, в которой сердце рас-
сматривалось как своего рода мускульная машина, выталкивающая кровь, на-
против, при своем сжатии. Такое утверждение было для Декарта неприемле-
мым, потому что, по его мнению, мускульное движение неотделимо от психи-
ческого фактора, от которого он хотел абстрагироваться при анализе телесной
158
Глава III. Новое время и его проект
субстанции. Таким образом, выдающиеся научные открытия Декарта, как и
его «блистательные ошибки», проистекали из одной и той же особенности его
как мыслителя — из принятых и последовательно затем проводимых им по-
стулатов, предполагавших в основе познания мира неизменные «атомы» оче-
видности. Такой очевидностью был для него и знаменитый дуализм (призна-
ние двух независимых начал) души и тела, породивший неразрешимые про-
блемы не только в философии, но и в физиологии и психологии, что послужи-
ло, однако, прогрессу познания во всех этих сферах.
Система Декарта представляет собой уникальный синтез традиций и нова-
торства, революционных нововведений и консервативного уважения к уста-
новленному порядку. И если даже, по Декарту, испытавшему нападки теоло-
гов, как протестантских, так и католических, «схоластику надо прежде всего
уничтожить», то его учение тем не менее в немалой степени базировалось на
понятиях именно схоластической философии, пусть они и сильно модифици-
ровались мыслителем. Своеобразие и сила Декарта были именно в том, что он
умел соединять различные интеллектуальные традиции, в том числе и те, кото-
рые, казалось, непримиримо отвергал.
Если основатель картезианства умел гармонично соединять различные
интеллектуальные и культурные традиции, то уже его некоторые ученики и
младшие современники утрачивают эту классическую гармонию. Одни из
них нарушат ее тем, что принципу телесной субстанции подчинят мысля-
щую субстанцию и тем самым сведут декартовский дуализм к материалис-
тическому монизму. Именно так поступит ученик Декарта Де Руа (1598—
1679), голландский философ и физиолог, вызвавший бурную, но ни к чему
не приведшую критику своего учителя. «Свет веры» при такой деформации
картезианского учения, использующей его физику для дискредитации его
метафизики, будет, конечно же, казаться «тьмой предрассудков». К такому
одностороннему результату придут некоторые философы Просвещения в
XVIII в. Другие же философы, испытавшие воздействие учения Декарта,
будут, напротив, искать пути к новой универсальной метафизике, синтези-
руя в единой системе механицизм и телеологию, христианские ценности и
науку (Лейбниц, Мальбранш).
Если в творчестве Декарта метафизический бог философов соседствует с
антиметафизически ориентированной экспериментально-математической на-
укой, то в его личности к этому мирному союзу присоединяется и традицион-
ный христианский Бог, «Бог Авраама, Исаака и Иакова» — Бог Паскаля. Одна-
ко, подчеркнем еще раз, вскоре все эти гармонии и союзы будут или оставлены
или разрушены... И именно поэтому опыт Декарта остается актуальным, и к
нему обращаются крупные философы нашего времени, вступая с ним в спор,
или же ища у него поддержки, или даже соединяя и то и другое. Если, говоря
Декарт и его учение
159
условно, либерально-рационалистическая традиция видит в Декарте своего
«отца-основателя», то консервативно-спиритуалистическая с ее верой в ду-
ховное первоначало подчеркивает у него начавшееся разрушение органиче-
ской гармонии веры и разума, ведущее к соблазну человекобожия.
ДЕКАРТ: ЯСЕН ДО БЕЗУМИЯ?
Самый таинственный философ
Нового времени... Он —
тайна при полном свете.
Мамардашвили о Декарте х
«Ясен до безумия» — фраза из пьесы Лопе де Вега «Непобедимая армада»
в обработке В. Коркия, вдруг показавшаяся нам продуктивной для продумы-
вания философского дела Рене Декарта. Она и сама по себе богата смыслами,
в том числе и слепящими контрастами. Мы имеем в виду образ ослепляющей
ясности, как и контрастный образ непроницаемой тайны при полном свете, о
чем говорит Мамардашвили в словах, взятых нами в качестве эпиграфа. Знак
вопроса, поставленный нами в заглавии, как раз и должен подтвердить вер-
сию Мамардашвили: ясность Декарта — обманчивая. Но не только эти смыс-
лы мы имеем в виду. Ведь во всех них слово «безумие» выступает не более,
чем метафорой преданности Декарта делу ясности мысли. Однако на самом
деле Декарт связан с темой сумасшествия и в буквальном смысле, хотя мы и
не знаем его текстов, где бы он специально исследовал проблему безумия. Те
тексты, которые мы будем главным образом использовать («Метафизические
размышления»), касаются безумия в связи с совсем другой задачей, состоя-
щей в выдвижении принципа когито как ответа на радикальное методиче-
ское сомнение.
Укажем круг основной литературы, так или иначе стимулировавшей нашу
работу. Эзотерическому Декарту (в широком смысле слова) посвящена не только
книга о нем Мамардашвили 2, но и не занимающие много места размышления
английского историка культуры Возрождения Ф. А. Ейтс 3. Наконец, напрямую
Мамардашвили М. Картезианские размышления. М, 1993. С. 8.
2 См. цит. соч., а также: Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1995. С. 82, 475.
3 Yates F. Л. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964. P. 452—453.
Декарт: ясен до безумия?
161
с темой декартова отношения к безумию связаны несколько страниц Фуко 4,
вызвавшие в качестве своего комментария большую работу Ж. Деррида 5. Все
перечисленные авторы создают то проблемное пространство, в котором поме-
щаются и наши соображения, нацеленные не столько на окончательное прояс-
нение декартовой ясности, сколько на то, чтобы привлечь внимание к глубо-
ким, на наш взгляд, проблемам, с нею связанным.
Ясность — ключевое понятие философского метода Декарта. Общее прави-
ло, говорит Декарт, в том, что «все вещи, воспринимаемые нами очень ясно и
очень отчетливо, являются истинными» 6. Ясность при этом фундаментальнее
отчетливости, так как она без отчетливости возможна, но отчетливость без яс-
ности — нет. Определение же Декартом ясности до предела кратко: то, что
дано внимательному уму (qui est présente et manifeste à un esprit attentif7). Мож-
но добавить: дано явно, очевидно. Аналогом здесь служит зрение, четко осу-
ществляющее свою функцию, когда вещи воздействуют на него достаточно
сильно, чтобы их видеть ясно. Здесь ясность не определена, а лишь пояснена
сравнением ясно мыслящего ума с ясно видящими глазами. Сравнение можно
продолжить: нечто мыслится ясно, когда мыслимая вещь присутствует с неот-
вратимой силой в мышлении внимательного ума. Итак, со стороны субъекта
признаки или условия ясности — внимание и расположенность мыслить, а со
стороны объекта мысли — сила самораскрытия вещи, мощь ее присутствия,
воздействующего на внимательный ум. Само внимание и эта сила присутствия
вещи, очевидно, взаимосвязаны. Принимая во внимание данную Декартом де-
финицию ясности, вряд ли можно сказать более о ней, чем то, что это — не-
сомненная усмотренностъ. Понятие света, в том числе естественного, являю-
щегося как бы элементом (стихией) ясности, служит еще одним средством по-
яснить понятие ясности 8.
Все мышление Декарта стоит под знаком ясности, что отмечают историки
философии. Декартова ясность —ясность здравого рассудительного смысла, а
не ясность ясновидца, который воспринимается людьми как безумец (фигура
Кассандры). Правда, грань здесь тонка, и уже для ученых XVII в. многие физи-
ческие идеи Декарта казались безумными фантазиями 9. Ясность Декарта как
4 Foucault M. Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique. P., 1961. P. 54—57.
5 Derrida J. Cogito et histoire de la folie // Derrida J. L'écriture et la différence. P., 1967.
P. 51—98.
6 Descartes. Œuvres et Lettres / Textes présentés par A. Bridoux. P., 1953 (Bibl. de la Pléiade).
P. 284.
7 Descartes. Op. cit. P. 591 (Principia. 1. § 45).
8 Descartes. Op. cit. P. 288.
9 Например, Паскаль называл учение Декарта о природе «грезами» и «романным вы-
11-3357
162
Глава HI. Новое время и его проект
маску на лице неясном, неуверенном и неопределенном увидел Паскаль, ска-
завший о нем inutile et incertain (бесполезен и ненадежен) 10. Сомнительность,
неуверенность, недостоверность и, следовательно, корневую неясность — вот
что прозрел Паскаль за ясностью и несомненностью декартова метода и его
принципов. Декартова ясность обнажилась как своего рода бессильное закли-
нание шевелящегося под ней хаоса. Подобного типа квазипсихоаналитическое
прочтение декартова дуализма и механицизма, полностью изгоняющего вся-
кую ментальную природу из мира физики, мы предложили, опираясь на выс-
казывания Ф. Ейтс, раскрывающие своего рода возможный латентный герме-
тизм Декарта п. Дементализация мира, явленная в механистической картине
вселенной, для Декарта могла бы быть своего рода надежным алиби от воз-
можного его обвинения в крамольном (особенно в эпоху Контрреформации)
герметизме и магизме. Ясность механицизма с его полной неодушевленнос-
тью мира «по истине» (мира тел) как бы лишь внешне прикрыла этот дымя-
щийся хаос сил, который вновь, как джин из бутылки, будет выпущен Ницше,
этим антиподом Декарта. Причем выпущен парадоксальным, так сказать, из-
наночным образом, как бы дублирующим его, выбалтывая его секреты и вы-
теснения.
Ясность и очевидность, о которых так много говорит Декарт как об общих и
неизменных свойствах ума, ему естественным образом присущих, есть миф
философа. Дело в том, что никогда этой ясности в неизменном виде в истории
не существовало. И сама история восприятия Декарта это показывает доста-
точно ясно. Следуя тому же принципу ясности и очевидности, Вл. Соловьев из
той же посылки («я мыслю») «вывел» совсем иное, чем Декарт 12. Затем тот же
шаг сделал и Гуссерль, отбросивший вовсе неочевидную (по крайней мере для
него) метафизику декартовского «Я» или «Эго» ,3. Увы, исходные методологи-
ческие и метафизические принципы воспринимаются различно в разные эпо-
хи. Однако Декарт верил в неизменность разума. И это и был его миф, который
он, впрочем, передал и Просвещению, столь сильно им подготовленному.
«Масочный» характер ясности, ее внутреннее тождество с темнотой вплоть
до безумия — эти самые трудные и спорные смыслы фразы «ясен до безумия»
мы постараемся обсудить в конце нашего анализа. А начнем мы его с более
мыслом о природе, приблизительно напоминающим историю Дон-Кихота». Pascal. Œuvres
complètes / Présentation de L. Lafuma. P., 1963. P. 641.
10 Pascal. Op. cit. P. 615. Это высказывание поясняет другая запись Паскаля: Цит. соч.
С. 510 (№84).
11 Визгин В. П. Оккультные истоки науки нового времени // Вопросы истории естествоз-
нания и техники. 1994. № 1. С. 147—148. См. также ниже С. 77—79.
12 Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 781,783.
13 Husserl Е. Méditations cartésiennes. Introduction à la phénoménologie. P., 1931. P. 21.
Декарт: ясен до безумия?
163
ясного смысла этой фразы, вполне ординарного и по-декартовски четкого и
легко визуализируемого. Это смысл взаимного исключения ясности и безумия.
Безумие при этом мыслится как располагающееся за внешней границей ясно-
сти: ясность длится буквально до безумия как до того рубежа, где она досто-
верно кончается.
Так как замысел «установить в науках нечто прочное и постоянное» ,4 Де-
карт связал с радикальным методическим сомнением, то для оправдания его
обоснованности ему потребовалось указание на ситуации шаткости, неверно-
сти и обмана, связанные с нашими чувствами. Эти ситуации, в которых прояв-
ляется ирреальность работы мышления или сознания 15, он фиксирует в трех
основных формах: безумец, сновидец и заблуэюдающийся. Безумец производит
то, что можно назвать бредом или фантазмами сумасшедшего (Декарт обозна-
чает сознание безумца как «экстравагантное» — характеристика, применяемая
им и в других случаях, например для определения позиции скептиков). Снови-
дец видит сны, переживая их как реальность. Заблуждающийся делает ошиб-
ки, неправильно судит о данных своих чувств в состоянии бодрствующего ума.
Декарт ограничивается этим набором основных уклонений от истины. Эти три
фигуры (безумец — сновидец — заблуждающийся) и, соответственно, три со-
стояния человека как существа способного к истине исчерпывают типологию
модусов ума, не вошедшего в «разум истины» (выражение Вл. Соловьева). Од-
нако безумие лишь формально можно представить как модус ума. На самом
деле ум кончается там, где начинается безумие. И более того, определение здра-
вого ума настолько существенно для определения самой природы человека,
что безумец оказывается как бы за порогом человеческой природы и общества.
Рассмотрим ближе всю ситуацию с безумцем у Декарта.
14 Descartes. Op. cit. P. 267.
15 Сознание понимается Декартом как непосредственная отрефлектированность во «внут-
реннем схватывании» (la connaissance intérieure) состояний мышления, к которым он отно-
сит понимание, желание, представление, чувствование. Декомб определяет декартово по-
нятие сознания как «чистое "внутреннее познание"». См.: Descombe V. La denrée mentale.
P., 1995. P. 29. С таким представлением о декартовом сознании в его соотношении с мыш-
лением вполне согласуется и позиция Мамардашвили (Цит. соч. С. 53). Сознание (conscientia)
терминировано у Декарта больше в латинских текстах, чем во французских их переводах.
Видимо, это обстоятельство и явное предпочтение и нагрузка, падающие у философа на
понятие мышления, объясняют то, что историки философии иногда вообще отрицают на-
личие понятия сознания у Декарта, как, например, А. И. Введенский (см. его книгу: Декарт
и окказионализм. Берлин, 1922. С. 75), на что было как на ошибку указано H. Н. Сретен-
ским (Лейбниц и Декарт. Казань, 1915. С. 12). Вторичность (условно) сознания по отноше-
нию к мышлению у Декарта терминологически несомненна, и это, видимо, в первую оче-
редь объясняет такую позицию. Действительно, сознание включено в мышление и образу-
ет часть его состояний.
11*
164
Глава III. Новое время и его проект
Первое метафизическое размышление дает нам картину эскалации сомне-
ния, переходящего от как бы естественной попытки поставить под сомнение
все, что исходит от чувств («осторожность состоит в том, чтобы не доверять
всецело тем, кто нас хотя бы раз обманул» 16), к абсолютному сомнению реши-
тельно во всем, включая то, что по сравнению с чувственными данными каза-
лось несомненным («я думаю, что у меня нет никаких чувств, что тело, фигура,
протяженность, движение и место суть только вымыслы моего ума» 17). Обо-
снованием оправданности такого тотального сомнения служит гипотеза «злого
гения». Но сначала присмотримся к первой фазе сомнения. Здесь попытка его
обосновать приводит к упоминанию фигуры безумца: «Но может быть, чув-
ства обманывают нас только относительно вещей мало ощутимых и чересчур
отдаленных, и остается много других, сомнение в которых будет неразумным,
хотя они и познаются при посредстве чувств? Например, то, что я здесь, сижу
перед огнем, одетый в домашнее платье, и держу в руках эту бумагу и тому
подобные вещи. И каким образом мог бы я отрицать, что эти руки и это тело
принадлежит мне иначе, как приравняв себя к каким-то безумцам (insensés),
мозг которых настолько помрачен парами черной желчи, что они упорно счи-
тают себя королями, хотя очень бедны, или одетыми в золото и пурпур, хотя
совершенно наги, или воображают себя кувшинами или имеющими тело, сде-
ланное из стекла? Но, стоп, это же сумасшедшие (des fous), и я был бы таким
же экстравагантным, если бы действовал по их примеру» 18 (пер. В. М. Неве-
жиной с нашими поправками. — В. В.). И далее, отбросив ситуацию с безум-
цем, Декарт обращается к другому состоянию, которое для всех привычно и
знакомо — к сновидениям или ночным грезам спящего. И тем самым он дает
понять, что безумец ему и не нужен, ибо, говорит он, «я привык спать и пред-
ставлять себе в сновидениях те же, а иногда и еще менее вероятные вещи, ка-
кие представляют себе эти безумцы, когда они бодрствуют» ,9. И далее Декарт
дезавуирует сновидческие грезы, показывая, что они противоречат ясному и
отчетливому бодрому сознанию, хотя, вообще говоря, ясность и отчетливость,
подчеркивает он, может характеризовать и сновидения.
Сновидческие образы, даже если они и могут быть ясными и отчетливыми,
представляют собой своего рода «раскрашенные картинки» (des tableaux et des
peintures), в которых подлинными могут быть только их части (или их конту-
ры, или, напротив, их цветовые наполнения), но не сами они в целом. Таковы
чувственные фантазии вообще, а не только сновидения. И при совершенном
16 Descartes. Op. cit. P. 268.
17 Декарт P. Избранные произведения. M., 1950. С. 341.
18 Descartes. Op. cit. P. 268. См.: Декарт P. Цит. соч. С. 336.
19 Descartes. Ibid.
Декарт: ясен до безумия?
165
вымысле подобных картин истинными будут, по крайней мере, цвета, которые
можно отнести к умопостигаемой, а не чисто чувственной чувственности: это
протяжение, фигура, величина или количество и т. п. Здесь Декарт намечает
свою рационалистическую программу с ее неизбежным делением мира
надвое — на мир первичных и мир вторичных качеств. При этом у него интел-
лектуальные положения (например, арифметические) в этом шаге развертыва-
ния методического сомнения предстают как «ясные и очевидные истины», для
обоснования сомнительности которых ему и понадобится гипербола «злого ге-
ния» (mauvais génie), так как ни сновидения, ни дневного заблуждения здесь
уже недостаточно, поскольку они демонстрируют шаткость именно только чув-
ственного познания.
Но вернемся к безумцам. Каково отношение к ним Декарта? Обратим вни-
мание на то, что Декарт совершенно не касается содержания безумного бреда в
плане его фальсификации. Он нам только говорит одно: «это же сумасшед-
шие». Но поскольку весь контекст этих слов задан обоснованием сомнения и
речь идет об эпистемологических значениях данных сознания, постольку факт
указания на субъекта этих данных, производимых безумным сознанием, вос-
принимается на первый взгляд как их, так сказать, чисто субъектное дезавуи-
рование. Но не дезавуирование (или фальсификация) их содержания содер-
жится в этом жесте Декарта, а просто отбрасывание всего случая безумца — в
эпистемологическом тексте он вообще неуместен.
Жест Декарта, таким образом, даже не argumentum ad hominem, потому что
субъектная характеристика объектных представлений безумцев нацелена не на
то, чтобы дезавуировать или фальсифицировать их, а только на то, чтобы отве-
сти в качестве модели, обосновывающей возможность заблуждений на уровне
чувственного познания, случай безумного бреда как таковой и перейти к дру-
гой модели — к фигуре сновидца и заблуждающегося. Весь пример с безум-
цем ему понадобился лишь как первый «пробный шар», запускаемый в эту
нужную ему область — в область анализа различных ситуаций, когда чувства
нас обманывают, что и оправдывает установку сомнения. Но тем самым Де-
карт говорит, что безумному сознанию нет места там, где речь идет об истине и
заблуждении (о втором ради первого). В мир экономии истины фигура безумца
не входит — она вытолкнута из него, так сказать, по субъекту. К такому выводу
мы приходим, анализируя то место «Метафизических размышлений», в кото-
ром упоминаются безумцы с их бредом.
Само приравнивание безумия к экстравагантности указывает на амбива-
лентный характер связи здравомыслия и безумия. Действительно, с одной
стороны, здравый рассудок может прибегать к экстравагантным утверждени-
ям, как поступают, например, скептики («истина: я мыслю, следовательно я
существую столь прочна и надежна, что самые экстравагантные предполо-
166
Глава HI. Новое время и его проект
жения скептиков неспособны ее поколебать» 20). Но, с другой стороны, имен-
но экстравагантность безумцев заставляет Декарта с порога отбросить сам
случай безумца с его бредом. Ум, мысль не могут быть экстравагантными в
смысле безумия, безумным может быть только сам человек, но не его мысль,
предположенная по сути своей «здоровой» (пусть и самым экстравагантным
образом заблуждающаяся). Эта двойственность экстравагантности указыва-
ет нам на то, что в эпоху Декарта, с одной стороны, сохраняется память о
более ранней, но еще очень близкой эпохе (Возрождении), когда границу меж-
ду нормой и безумием допускалось пересекать в плане объектной непрерыв-
ности между содержанием безумного бреда и заблуждением. Но, с другой
стороны, исключение безумия по субъекту, экстравагантность-безумие как
сигнал «стоп!», означающий абсолютную грань, перейти которую невозмож-
но для здравомыслия ни в коем случае (человек может быть безумным, но не
мысль), указывает на новый режим функционирования безумия в европейс-
кой культуре. Вчитываясь в эти страницы первого метафизического размыш-
ления, мы видим, что три указанные нами выше случая (безумец — снови-
дец — заблуждающийся) несимметричны: случай безумца явно выпадает из
всей этой связки и стоит особняком. Ведь в случае сновидения и заблужде-
ния Декарт применяет стратегию истины — он верифицирует отдельные их
моменты или части и фальсифицирует другие или целые представления, пусть
и имеющие какие-то достоверные элементы. Но из этого процесса экономии
истины безумец с его бредом исключен, так сказать, с порога, по субъекту. В
результате безумие консолидировано, но консолидирована тем самым и сфе-
ра разума (рацио). Именно такого рода консолидация с обостренным само-
сознанием рациональности отсутствовала в эпоху Возрождения. Здесь мы не
можем не процитировать Фуко, который первым проанализировал в плане
культурной стратегии и ее мутации текст Декарта по поводу безумцев в «Мета-
физических размышлениях». «Было бы экстравагантным предположить, —
говорит Фуко, интерпретируя позицию Декарта и весь его жест в его культу-
рогенной значимости, — что мы являемся экстравагантными. Как опыт мыс-
ли безумие имплицирует само себя и исключено из проекта. Таким образом,
угроза безумия исчезла из самого применения Разума. Разум теперь вытес-
нен в полное обладание собой, где он не может встретить других ловушек,
кроме ошибки и иллюзии» 21.
Мы бы кратко обозначили всю эту ситуацию, как она развертывается Де-
картом, так: в случае безумца действует квазиаргумент ad hominem, дающий
основание не для опровержения объектного содержания представлений безум-
20 Descartes. Op. cit. P. 147—148.
21 Foucault M. Op. cit. P. 56.
Декарт: ясен до безумия?
167
ца (это был бы просто argumentum ad hominem), а для исключения всего этого
случая, случая безумца и безумия, из сферы эпистемологического разбира-
тельства и поиска надежного основания для наших суждений. Быть «экстра-
вагантным» в смысле безумия — запредельно для мысли, ищущей истину,
т. е. просто для мысли, как она осознается Декартом в отличие от предыду-
щей эпохи.
Сновидец и заблуждающийся же в полной мере своими объектными пред-
ставлениями включены в экономию истины, и тем самым их представления
подлежат анализу по существу содержания, утверждаемого в них: простран-
ство субъекта здесь не ставится под вопрос в своей однородности, в своей ра-
зумной или рациональной непрерывности. Это пространство — пространство
имманенции истины и поэтому и пространство нормальных заблуждений, по
отношению к которым применяется та или иная стратегия их разоблачения. Но
все это, повторяю, обычная работа внутри «ковчега эпистемологического спа-
сения». Напротив, представления безумцев никак не оцениваются по их досто-
верности, но сам этот случай отбрасывается с порога, и не потому, что в безум-
ных представлениях есть что-то неверное, а потому, что они произведены
сумасшедшими.
Действительно, описав свой сон («сколько раз мне случалось ночью видеть,
что я нахожусь вот в этом месте, перед огнем, одетый, хотя я лежал совсем
раздетый в своей постели»), Декарт тут же дает его опровержение («хотя я
лежал...» 22). Здесь нет и речи об отводе объектных представлений указанием
на «экстравагантность» их субъекта, хотя Декарт и признает, что сонные виде-
ния могут быть куда более невероятными и, значит, экстравагантными, чем
безумный бред. Значит, дело не в самой «экстравагантности» представлений
как таковой, а в том, кто ее производит.
Итак, мы видим, что сновидческие фантазии, как и фантазии заблуждаю-
щегося в качестве данных объективированного сознания, проверяются тем или
иным образом, тем самым на полных правах включаясь в режим экономии ис-
тины, в систему эпистемологического хозяйствования. Безумец же со своими
грезами полностью из нее исключен, и повторим, не в силу характера его пред-
ставлений (они могут быть менее экстравагантными, чем первые), а в силу
самого их субъекта («это — сумасшедшие»). Тем самым мы фиксируем здесь
не просто неоднородность состояний безумца и сновидца (с ним рядом стоит и
заблуждающийся), но абсолютный разрыв между ними.
Отметим еще один момент. Декарт не проводит различия между состояния-
ми сновидения и состояниями заблуждения как обмана чувств, объединяя их в
их противопоставлении безумию. А между тем между ними можно подметить
Декарт Р. Цит. соч. С. 336.
168
Глава III. Новое время и его проект
и известное различие, ставящее их в не совсем равное положение по отноше-
нию к безумию. Если ввести понятие «ближайшего субъекта» как, скажем, ана-
лога аристотелевского понятия «ближайшей материи», то в случае сновидения
его ближайший субъект (спящий) и субъект нормального бодрствующего со-
знания будут различаться. И различаться тем самым именно по субъекту, как и
в случае безумия, которое противопоставляется обоим этим состояниям, вклю-
ченным в экономию истины и иллюстрирующим оправданность сомнения в
адрес чувственного источника познания. К полнокогитальному состоянию спо-
собно, собственно говоря, только бодрствующее состояние здорового ума, вклю-
чая, конечно, и заблуждение. Именно работа бодрствующего сознания сопро-
вождается всеми видами рефлексии, что и резюмируется в его когитальности.
В случае спящего надо еще привести к единству двух субъектов — субъекта
бодрствующего сознания и субъекта сновидений. Ведь момент отчуждения
присущ в известной степени и спящему по отношению к бодрствующему со-
знанию, и поэтому условно эту ситуацию можно обозначить как полусубъект-
ный разрыв, имея в виду, что безумие есть реализация полносубъектного раз-
рыва. Это обстоятельство позволяет ранжировать все три состояния в таком
порядке: безумец — спящий — заблуждающийся. Спящий выступает своего
рода аналогом безумца, но уже в плане имманентности экономии истины, при
этом сам безумец радикально порывает с самим этим планом, оставаясь всеце-
ло за его пределами. При этом, конечно, такой разрыв не есть акт самого безум-
ца, а лишь констатация активности новой, рационалистической культуры, за-
являющей о себе этим жестом раздела и демаркации, отгораживающим ее от
предшествующей культурной эпохи и манифестирующим укорененность ее са-
мотождественности в рацио и когито.
Для характеристики декартовской ясности как ясности классической ново-
европейской культуры существенно то, что можно назвать исключением или,
точнее, нейтрализацией языка. Ко времени Декарта открытие нового человека,
или человека нового времени, — уже свершившийся факт, о чем свидетель-
ствует, например, Монтень, рассуждающий о том, что «мудрости свойственна
никогда не утрачиваемая ясность» 23, какая существует лишь в надлунном мире.
Эти ясность и предпочтение, которое нужно отдавать доводам кратким и точ-
ным, не могли бы иметь места, если бы язык как непокорная для рационально-
сти нового типа стихия не был нейтрализован, эпистемически нивелирован.
Вот как Монтень выражает это, на наш взгляд, одно из основных условий клас-
сического мышления: «Это словам надлежит подчиняться и идти вслед за мыс-
лями, а не наоборот, и там, где бессилен французский, пусть его заменит гас-
конский. Я хочу, чтобы вещи преобладали, чтобы они заполняли воображение
Монтень М. Опыты. Кн. 1. М., 1958. С. 205.
Декарт: ясен до безумия?
169
слушателя, не оставляя в нем никакого воспоминания о словах» 24. Подобное
послушание слов мыслям и есть упомянутая нами нейтрализация языка. Сло-
воприемное устройство разума конструируется таким образом, чтобы прини-
мались в учет лишь логико-аналитические параметры языка, равняющие один
естественный язык с другим. И поэтому неудивительно, что «век гениев» гово-
рит на латыни и одновременно переходит к национальным языкам, но еще дуб-
лируя их в универсальном языке ученого посредничества. В эпоху Возрожде-
ния правил бал именно язык — он силой своей безучастной к логике вещей
семантики сближал геральдических змеев с объектами научной серпентоло-
гии (например, у Альдрованди). Этот режим построения дискурса подпирала
соответствующая метафизика с ее постулатами всесильности подобий, симпа-
тий, антипатий и аналогий. Такое господство человеческой речи над логосом
самих вещей подвергается иронии и насмешке в XVI в. (например, у Рабле и
Монтеня). Возникает поворот от слов к вещам. И восхождение установки на
скромное, но точное и ясное знание самих вещей сопровождается «дрессиров-
кой», опрозрачиванием языка, способствующим вхождению его в новую эпи-
стемическую дисциплину опыта и скупого, но ясного естественного света. И
это новое соотношение слов и вещей характеризует основную установку клас-
сического мышления, проявившуюся в механистической науке и в новой мета-
физике. В этом рубежном повороте Декарт — звезда первой величины. Лите-
ратурно-моралистический портрет нового человека, набросанный великим
эссеистом (особенно в гл. XVI, ч. I его «Опытов»), Декарт перевел на язык
метафизики и научной методологии. Если в этом отношении Монтень протя-
гивает руку Декарту, то в позиции, занятой перед лицом безумца и безумия, два
великих француза расходятся между собой. Монтень допускает безумие самой
мысли. Исключение языка в его непокорности новой рациональной дисципли-
не опережает подобное исключение безумца из сообщества новых рациональ-
но мыслящих людей. Декарт, как его, на наш взгляд, в целом верно толкует
Фуко, отрицая возможность помещения безумия внутрь экономии истины и
сомнения, удерживает оба этих исключения, что и позволяет классическому
мышлению окончательно конституироваться.
Интерпретация Декарта, предложенная Фуко, которую мы здесь в основ-
ном разделяем, вызвала интересные комментарии и размышления философов,
среди которых, пожалуй, наиболее весомой была обстоятельная работа
Ж. Деррида, сама, в свою очередь, включенная в дискуссию 25. Мы не имеем
здесь возможности рассмотреть всю эту проблематику подробно. Остановим-
24 Там же. С. 218.
25 Natoli S. Ermeneutica е genealogia: Filosofia e metodo in Nietzsche, Heidegger, Foucault.
Milano, 1981.
170
Глава III. Новое время и его проект
ся только на самых существенных моментах, касающихся, прежде всего, не
столько вопроса о безумии и его истории (что, пожалуй, лежит в центре рабо-
ты Деррида), сколько о значимости слов Декарта о безумцах в связи с его сомне-
нием, когито и рацио нового времени.
Подмечая спорные и непроработанные моменты в концепции Фуко, в том
числе и в его чтении Декарта, Деррида, на наш взгляд, не опровергает главного
для нас тезиса Фуко о том, что водораздел в фигурах, претендующих у Декарта
на роль моделей, оправдывающих сомнение в чувственном познании, пролега-
ет между безумцем, вытесненным по субъекту, и сновидцем и заблуждающим-
ся, принятых с их представлениями в экономию истины. Мысль, вычитывае-
мую нами у Декарта о том, что безумец исключен не в результате разбиратель-
ства его представлений, а с порога («это — сумасшедшие»), которую, на наш
взгляд, адекватно прочитывает и Фуко, по сути дела не принимается во внима-
ние у Деррида. Он говорит, правда, об этом в связи с Фуко («Фуко первый,
насколько мне это известно, изолирует бред и безумие от чувственного воспри-
ятия и сновидений. В этом оригинальность его интерпретации Декарта» 26), но
тезиса Фуко, для которого существенна именно субъект-объектная оппозиция,
он не разбирает. В отличие от Фуко главной оппозицией при чтении этих тек-
стов Декарта для Деррида выступает оппозиция «чувственное—рациональное».
На наш взгляд, это вполне релевантная Декарту оппозиция, но базирующийся
на ней герменевтический анализ не дезавуирует чтения Фуко, а только допол-
няет его, что, безусловно, важно и обогащает наше понимание всей этой про-
блематики. Деррида справедливо подчеркивает, что оппозиция «чувственное—
умопостигаемое (рациональное)» не интересует Фуко и тем самым объясняет
расхождение концептуальных фокусов своего чтения Декарта и чтения Фуко.
В подходе, избранном Деррида, безумие лишается своего отличия от других
иллюзий чувств. И, безусловно, новое и оригинальное прочтение Декарта Дер-
рида состоит в его тезисе: «Акт когито остается в силе, если даже я являюсь
сумасшедшим, если даже моя мысль целиком и полностью безумна» 27. На наш
взгляд, тезис о полной включенности безумного бреда внутрь когито сомните-
лен. Деррида его обосновывает тем, что Декарт и позицию скептиков называет
«экстравагантной». Но нам представляется, что «экстравагантность» у Декарта
в данном случае лишь метафора безумия. В качестве метафоры безумие может
входить внутрь экономии истины и тем самым внутрь когито и рационально-
сти. Но сам метафоризм возможен лишь тогда, когда возникает не-метафори-
ческий модус отношения к безумию, исключаемому из этой экономии именно
по субъекту и с порога. Тезис о значимости когито и для безумца уточняется у
Derrida J. Op. cit. Р. 76.
Ibid. Р. 85.
Декарт: ясен до безумия?
171
Деррида: он, безумец, не может сообщить о своей когитальности другому. «Если
когито и значимо даже для самого безумного из всех безумцев, — говорит Дер-
рида, — то нельзя быть безумцем таким образом, чтобы на самом деле раз-
мышлять о нем, удерживать его, сообщать о нем другому, передавать его
смысл» 28. «Естественный свет» Декарта, как считает Деррида, значим и для
умалишенного: «Естественный свет в своем неопределенном источнике, —го-
ворит он, — должен быть значимым и для умалишенных» 29. Деррида допуска-
ет, что безумец в своем безмолвном когито мог бы опровергнуть и самого злого
гения, но он не смог бы, в отличие от нормального человека, никому об этом
сказать. И в этом коренится, по Деррида, сам водораздел разум — безумие, а не
в когито как таковом.
Другая, пожалуй, самая важная оппозиция у Деррида, — это оппозиция «по
праву — по факту». Он подчеркивает, что безумец исключался из социума и из
когито всегда только по факту, но никогда по праву, а это возможно только с
помощью силы и насилия. Это различие фактичности и права полагает воз-
можность самой историчности, в данном случае по отношению к безумию. Вот
этот аспект анализа Деррида нам представляется интересным шагом, ведущим
мысль в том же направлении, что и у Фуко, но высвечивающим замысел исто-
рии безумия новым светом. Глубоким и верным у Фуко Деррида считает тезис
о том, что главной характеристикой безумца является «отсутствие произведе-
ния» (l'absence d'oeuvre), эквивалентное в принципе отсутствию способности
к коммуникации с другим.
На наш взгляд, имплицитно у Декарта присутствует отождествление рацио-
нальной способности со способностью к коммуникации с другим, но экспли-
цитно подчеркнуто в рацио логическое, а не коммуникативное начало — ори-
ентация на вещь и истину вещи, открываемую в ясном и отчетливом ее вос-
приятии. Интересная тема о возможности молчащей ясности, инициируемая
работой Деррида, выходит за рамки нашей работы.
Итак, мы считаем в принципе верным чтение Декарта Фуко, но анализ
Деррида не может никоим образом быть упущенным при его использовании.
Выше мы дали свой вариант чтения ключевого места Декарта о безумцах в
контексте «Метафизических размышлений», который не совпадает ни с чте-
нием Деррида, ни с чтением Фуко, будучи в целом ближе к последнему, чем к
первому.
Если выразить это кратко, то Фуко прочитывает высказывания Декарта о
безумцах как философский жест их социокультурного и в итоге психиатриче-
ского заключения (le grand renfermement). Деррида прав, подчеркивая остав-
Ibid. Р. 89.
Ibid. Р. 92.
172 Глава III. Новое время и его проект
шуюся у Фуко логическую непроработанность статуса этого жеста. Это типич-
ный прием Фуко, встречающийся у него и в других книгах: в качестве значи-
мых для новой эпистемы выбираются некие знаменательные культурные фак-
ты (например, Дон-Кихот как симптом предела возрожденческой эпистемы 30).
Их статус — не причина, не следствие, а весомый знак рубежа, фигура перело-
ма. Тот же статус прочитывается и в жесте Декарта по отношению к безумцам,
как он представлен Фуко. Для детерминистской научной историографии этого,
безусловно, мало, но для философско-структуралистской рекогносцировки,
пожалуй, и достаточно.
И в заключение нашего сопоставления чтений Декарта Фуко и Деррида ска-
жем несколько слов по основному вопросу: возможна ли молчащая ясность,
некоммуникабельное когито, замурованное в безмолвие рацио? Фуко говорит:
«Если человек всегда может стать сумасшедшим, то мысль в качестве проявле-
ния суверенитета субъекта, ставящего своим долгом восприятие истины, не
может быть безумной» 31. В каких формах возможно само восприятие истины?
Если оно возможно только в формах коммуникации мысли, то между чтениями
Фуко и Деррида различие существенно сокращается. На наш взгляд, дело об-
стоит именно таким образом. Временной разрыв, разделяющий работы Фуко и
Деррида, также должен быть подключен к объяснению этого различия в ин-
терпретации Декарта: в эти годы нарастает интерес к анализу именно комму-
никационного измерения разума и его значимости для теории познания. Отме-
тим, что значимость коммуникации в этом плане не новость для истории фило-
софии — о ней говорил еще Дильтей, что затем (правда, после работы о Фуко
Деррида) проанализировал Хабермас 32.
Фуко не считает, что именно Декарт провел водораздел между рацио и безу-
мием, заключив последнее, пусть на уровне философии, в «психушку». Он гово-
рит, что событие прихода на авансцену истории новоевропейского рацио слу-
чилось между Монтенем и Декартом, и история Запада не может быть сведена
к истории рацио как к прогрессу «рационализма», так как ее значительная часть,
хотя и скрытая, включает в себя как раз это вытеснение в саму почву западной
цивилизации неразумия (Déraison) не столько для того, чтобы оно исчезло без
следа в ней, сколько для того, чтобы в ней, напротив, укоренилось. И собствен-
но эту-то историю и пишет Фуко в своей книге, покидая Декарта и классиче-
скую метафизику и переходя к анализу становления таких наук о человеке, как
психиатрия, психология и т. п. Беспокойство, всегда идущее к человеку от фак-
та безумия, кажется снятым благодаря тому, что оно вытеснено из области клас-
30 Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 94.
31 Foucault M. Histoire de la folie. P. 57.
32 Habermas J. Connaissance et intérêt. P., 1976. P. 190.
Декарт: ясен до безумия?
173
сического разума (рацио), в которой человек нового времени осуществляет свое
право на истину. Но так как безумие не только исчезает из пространства леги-
тимного поиска истины и социально значимой коммуникации людей, но и уко-
реняется в самой потаенной почве западной цивилизации, то эта угроза сохра-
няется. Если же мы возьмем безумца только как символ всех вытеснений, про-
деланных этой цивилизацией «по субъекту» (это могут быть негры, женщины,
дети, новобранцы, безработные и другие «маргиналы»), то поймем масштаб
той «пороховой угрозы», которая за ними скрывается и которая есть плата за
рациональную прозрачность и техноэкономическую эффективность европейс-
кого когито.
Принцип когито как модель для определенной социо-культурной иденти-
фикации можно представить таким образом: а может ли данный субъект про-
делать все те операции методического сомнения, которые продемонстрировал
Декарт? Отрицательный ответ на этот вопрос может служить основанием ле-
гитимизации определенной дискриминации такого субъекта. По отношению к
безумцу отрицательный ответ кажется очевидным, ибо даже если он и спосо-
бен к когито как таковому (вещь проблематическая, ибо, как мы уже сказали,
изолировать когито от форм коммуникации вряд ли возможно), то сообщить о
своих актах его полагания, в частности о полагании мыслящей вещи (chose qui
pense Декарта), он не может. Пытаясь помыслить имманентно для когито си-
туацию трансцендентности безумия, мы сталкиваемся с предельной ситуа-
цией, когда колеблется твердая почва под самой возможностью мысли — почва,
самим когито обозначенная. У нас есть опыт дневных заблуждений, есть опыт
ночных иллюзий и грез, но нет и не может быть опыта безумия, ибо этот опыт
подобен опыту самой смерти: «оттуда» еще никто не возвращался, по крайней
мере в этом рациональном мире.
До сих пор наш анализ касался первой зоны смысла фразы «ясен до безумия»
применительно к Декарту. Вторая зона значительно труднее для ясного анали-
за, и мы ограничимся лишь небольшими островками возможной здесь и сейчас
для нас ясности. Это смысл ясности, о котором здесь должна вестись речь,
подразумевает безудержность самой страсти к ясности, своего рода фанатизм
ясности разума. По меткому слову Ницше, Декарт — отец рационализма и дед
Революции 33, подготовленной Просвещением. А мы хорошо знаем, какой кри-
тике был подвергнут разум Просвещения, например, в известной работе Адорно
и Хоркхаймера, в русле идей которой движется и Фуко, толкующий Декарта.
Прямо с Фуко (rt через него и с Декартом как основателем новоевропейского
3 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 32. Декарта и Ницше в отношении к безумию
сравнивает В. Подорога: первый «изгоняет безумие из мира», второй «вводит» его в мир. См.:
Подорога В. А. Метафизика ландшафта. М., 1993. С. 155.
174
Глава III. Новое время и его проект
рационализма) перекликаются, например, такие фразы Адорно и Хоркхаймера
в стилистике Маркса, как «приспособление к власти прогресса имплицирует
необходимость прогресса власти» 34. Именно Декарт был философом рациона-
листического научно-технического прогресса, основанием которого служила
его метафизика с принципом когито. И этот прогресс разума в конце концов
обнаружился, согласно философам-социологам Франкфуртской школы, как
разум «машинный», технократический и тоталитарный.
Мы вспомнили об этой критике новоевропейской рационалистической ци-
вилизации представителями Франкфуртской школы лишь для того, чтобы по-
казать, что есть основания заподозрить ясность декартовского когито, в част-
ности, заподозрить в чрезмерности саму ясность, что позволяет говорить о ней
как о ясности-до-безумия, как о безумной ясности. Пробу на безумие ясности в
декартовской конструкции сомнения и когито как ответа на него выдерживает
«злой гений», допускаемый для оправдания самого радикального и полного
сомнения. Действительно, не более ли безумен в такой фантазии сам ясно мыс-
лящий Декарт, чем все описываемые им в своих безумных бредах безумцы? Ну
что такого в том, чтобы помыслить себя стеклянным кувшином или королем?
Все это так-себе-безумие, пустячки по сравнению с тем, что помыслил в своей
гипотезе злого гения Декарт. Ведь в такой гипотезе мыслится ни много ни мало
как абсолютная обманность, тотальная и сознательно подстроенная фиктив-
ность мира в целом, не только чувственного, но и интеллигибельного. В своих
картезианских размышлениях, являющихся, на наш взгляд, шедевром русской
феноменологии, Вл. Соловьев упоминает безумные грезы одной парижской
девицы, выдававшей себя за парижского архиепископа 35. Но и это, по большо-
му счету, не безумие и, пожалуй, уступает в безумности декартовским безум-
цам, которых, впрочем, могут затмить, как отмечает сам философ, и некоторые
сновидцы. Но никто из них всех не может превзойти в безумности своей фан-
тазии идеи злого гения, создающего целый мир сплошной фальши и подделки!
Ясный и трезвый Декарт выступает здесь как безусловный лидер в этом зачете
на максимальный коэффициснт безумия в идеях и представлениях. В ситуа-
ции, описываемой Декартом в гипотезе злого гения, весь декартов свет — ес-
тественный и божественный — оказывается худшим вариантом тьмы, потому
что если тьма — отсутствие света, то мир злого гения — это мир ложного све-
та, мир злой его имитации.
Не получилось ли с этим сюжетом злого гения как раз то, о чем писал Фуко,
говоря о том, как классическая культура Европы, парадигмально репрезенти-
34 Horkheimer M., Adorno T. W. La dialectique de la Raison. Fragments philosophiques. P.,
1974. P. 51.
35 Соловьев В. С. Цит. соч. С. 786.
Декарт: ясен до безумия?
175
рованная именно Декартом, загоняет безумца в психушку и одновременно в
свою подпочву, что не может не быть угрозой для нее, пусть видимостно скры-
той? Декарт не допускает безумца к святилищу истины, но вводит внутрь сво-
их построений такую безумную гипотезу, которая затмевает своей «экстрава-
гантностью» бред любого сумасшедшего. В результате делается возможной
полная драматизма сцена схватки нового Давида с новым Голиафом (когито с
обманным миром злого гения), в которой побеждает когито. Кроме того, гро-
тескность соперника и всего события ложится тенью безумия и на победителя
(когито). И не в том ли, в конце концов, безумность ясного когито, что оно само
все это сочинило? В самоположенности когито и кроется его безумность, по-
скольку побеждать и бороться ему на самом деле надо не с «бумажными» злы-
ми гениями своего собственного производства, а с реальным миром...
Зачем понадобилась Декарт эта безумная гипербола? Для того, чтобы пока-
зать силу когито — над ним не властно не только эмпирическое безумие (бе-
зумцы вытеснены из социума и сферы разума), но и метафизическое безумие
(«злой гений»): «Пусть он меня обманывает, сколько ему угодно, но все-таки
он никогда не сможет сделать, чтобы я был ничем, пока я буду думать, что я
нечто».
Интеллектуальная диалектика ясности и безумия трансмутирует в экзистен-
циальную вместе с Ницше, этой поворотной фигурой новоевропейской фило-
софии, стоящей, однако, не у ее входа, а у выхода из нее. Декарт связан с Ниц-
ше связью амбивалентности, что хорошо передает французская формула frères-
ennemies, братья-враги. Ницше проделал своим «жизнемыслием» (термин
Г. Гачева) диалектику ясности и безумия. Он проделал ее, в конце концов, de
facto, осуществив in vivo запрещенный для интеллекта переход от ума к безу-
мию. Воспитанный в протестантской культуре, Ницше воспринял заветы де-
картовской ясности, правдивости, интеллектуальной добросовестности. Сле-
дуя этим идеалам, он отказывается от Бога в пользу истины — как он ее пони-
мает в духе своего времени, когда, начиная с Паскаля, истина науки и истина
религии кажутся навсегда разошедшимися (чего, кстати, не знал гармониче-
ский и классический опыт Декарта). И, вступив на этот путь, Ницше пережива-
ет его так экзистенциально плотно, что своей судьбой лучше всяких рассужде-
ний демонстрирует срыв ясности когито в ночь безумия.
В своем поиске надежного основания знаний Декарт наметил перенос дове-
рия с мира книг на книгу мира (Рассуждение о методе, I). Сам он еще мог
удерживать доверие к обеим книгам — к книге книг, Библии (свет веры) и к
книге мира (естественный свет). Но уже его ученики и младшие современники
разорвали связь этих книг и светов. Они поставили книгу мира или, как читает
это место Декарта (le grand livre du monde) Мамардашвили, «книгу жизни»
выше книги откровения. У Паскаля, напротив, наука выступила неглубоким
176
Глава III. Новое время и его проект
занятием, придание которому «чрезмерной» глубины он хотел поставить в уп-
рек Декарту. А глубокое для его верующего сердца осталось, конечно, с верой
и с Библией.
Но я хотел заметить иное: в этом выдвижении на передовые позиции в иерар-
хии ценностей «книги жизни» и затем просто «жизни» прочитывается подго-
товка философии жизни, возникшей в эпоху разочарования разумом Просве-
щения в кругах немецких романтиков. И затем это движение доводится до
своего апогея у Ницше. Так прочерчивается связь когито Декарта с «волей к
власти» и безумной алогической жизнью у Ницше. Другой мостик их связи —
схожие ясность и очевидность на дне основных интуиции: у Декарта это его
легендарные видения, ведущие к рационализации мира (1619 г.), у Ницше —
его головокружительные созерцания «вечного возвращения» и «сверхче-
ловека».
Как Ницше поражает нас своей дисгармоничностью (романтик-позитивист,
антихристианство как результат христианской правдивости и т. п.), так Декарт,
напротив, своей удивительной — классической — гармонией. И уже поэтому
безумие его ясности нужно раскрывать, так сказать, археологически, занима-
ясь своего рода его психоанализом или исследуя его отдаленные «дериваты»
вроде Ницше... Разрывы классической гармонии начинаются уже у Паскаля,
когда религия Авраама, Исаака и Иакова разойдется с религией разума и науки.
Для Гуссерля признание Декартом онтологемы мыслящей субстанции высту-
пает как непоследовательность в проведении трансцендентально-феномено-
логической установки. То же самое, конечно, следует сказать, если рассуждать
в такой ментальной установке, и о Боге Декарта. Но у Декарта мирно уживают-
ся не только бог философов с антиметафизической научностью, но и Бог Авра-
ама, Исаака и Иакова с богом философов. Ницшевские «сумерки кумиров» по-
вергают в ночь скепсиса сначала Бога библейского, затем бога философов и
ученых, а потом и просто философию и метафизику. Но, повторяю, все эти
боги дружно сосуществовали в гармоничном мире Декарта.
Декартов бог — самый свободный бог (Сартр). Но и сам Декарт — человек
гармонии и свободы. Человек, сделавший сам себя, основавший себя на почве
разума и тем самым заложивший фундамент новой цивилизации Европы. Че-
ловек, бесспорно, рискующий, ставящий свою жизнь на кон в поисках надеж-
ных оснований знания. Но этот человек неслыханной ранее свободы в то же
время и традиционно верующий католик, хотя и живущий в протестантской
стране (Голландии), но не изменяющий своей конфессии, как это сделал, на-
пример, брат принцессы Елизаветы, с которой дружил Декарт. Декарт не чуж-
дается общества вольнодумцев, но не впадает при этом в атеизм. А религиоз-
ный фанатизм ему столь же чужд. И эта гармония, органичность соединения
традиционной веры отцов с верой в свет разума и в науку привлекает нас в
Декарт: ясен до безумия?
177
Декарте, ибо нам сегодня так нужен живой образец свободного «гуманомерно-
го» равновесия основных начал европейской культуры как целого {традиций
греческого рационализма, с одной стороны, и иудео-христианского наследия —
с другой). И поэтому мы можем назвать его «героем нашего времени». Кто еще
с такой пушкинской естественностью соединяет в себе искренность просве-
щенного традиционалиста с преданностью идеалам прогресса и гуманизма?
Жизнь и мысль Декарта движутся в пересечении двух светов — естественного
света (lumière naturelle) и света сверхъестественного, света откровения (lumière
de la foi)36. Хотя текстологически чаще у него встречается первый из этих све-
тов, тем не менее мы повсюду ощущаем у него и освещенность вторым светом,
присутствие которого, пожалуй, полнее обнаруживается в частных дружеских
письмах, чем в научных трактатах.
Эту двусветную ситуацию можно представить в виде такой картины. Из ас-
трономии известно о существовании двойных звезд. Представим, что мы живем
на планете такой звездной системы. Тогда наша жизнь будет освещена сияни-
ем сразу двух по-разному светящих светил, каждое из которых нам одинаково
необходимо для жизни. И вот мы видим, что в одно время доминирует одно
солнце, а в другое — другое. И если мы перебросим наше астрономическое
сравнение к началу XVII в., когда прошли школьные годы Декарта и в нем
возникали первые смутные еще предчувствия его призвания, то можно будет
сказать так: тогда казалось, что одна из этих звезд закатывается, а другая, на-
против, вступает в силу, но еще ждет своего часа. Действительно, надежных
научных знаний было тогда немного. Принципы изучения природы оставались
неясными. А надежные методы естественнонаучного познания не были найде-
ны. Критерии для отличения истины от заблуждения не были еще выявлены со
всей убедительностью. Солнце традиционной веры, казалось, светит уже ве-
черним светом, и помочь в делах земной науки не может. Такова ситуация на-
чала XVII века. И, принимая ее во внимание, мы не можем удивляться тому,
что будущий реформатор науки и философии, затворник голландских городков
и замков, французский дворянин Рене Декарт, пожалуй, в большей мере озабо-
чен нуждами земных знаний и их прогресса, чем знанием откровенным. Но
начало нового времени сменяется его концом («постмодерн»), и свет сверхъес-
тественный, пожалуй, начинает не меньше заботить беспокойных и вперед-
смотрящих людей, чем свет естественный, приведший за истекшее время как к
выдающимся успехам науки, так и к ужасающим поражениям смысла, с ними
связанным (Хиросима и Чернобыль — их символы). Однако, как и в эпоху
Декарта, мы постигаем, что должны жить и работать тем не менее на двойном
свету, как и он. И в этом ясность разума, стоящая на пути безумия.
36 Descartes. Op. cit. P. 1282.
12-3357
СОН В НОЯБРЬСКУЮ ночь
«Когда он заснул, то увидел во сне каких-то призраков, внезапно явившихся
пред ним и напугавших его так, что он, считая себя идущим по улице, был
вынужден перенести центр тяжести на левый бок, чтобы идти туда, куда он
устремился, так как почувствовал боль в правом боку, не позволяющую ему
наступать на правую ногу. Устыдившись идти подобным образом, он сделал
усилие, чтобы выпрямить походку. Но вдруг порыв ветра вихрем набросился
на него и заставил три или четыре раза сделать полный оборот, вращаясь вок-
руг левой ноги. Но даже не это привело его в ужас. Страннее было то, что идти
ему было так тяжело, что, казалось, он мог упасть при каждом шаге. Увидев
впереди, прямо на своем пути, открытую дверь коллежа, он вошел во двор,
чтобы найти там облегчение и успокоить боль. Своей задачей он поставил себе
дойти до церкви коллежа, так как первой его мыслью было помолиться. Но
отметив про себя, что он не поздоровался с одним повстречавшимся знако-
мым, он захотел повернуть назад, чтобы отдать ему долг вежливости, но был
грубо отброшен ветром, сильно дувшим прямо в направлении к церкви. В это
время в середине двора ему встретился еще один человек, назвавший его по
имени и вежливо ему сказавший, что если он пойдет к г-ну N, то у него есть
кое-что для него. Г-ну Декарту показалось, что речь при этом шла о дыне, при-
везенной откуда-то из-за границы. Но еще больше его поразило то, что все
люди вокруг него держались твердо и прямо, в то время как он сам по той же
самой площадке двора шел, сильно хромая и сгорбившись, несмотря на то, что
ветер, несколько раз подряд угрожавший его опрокинуть, заметно стих. На этом
месте сна он проснулся и тут же почувствовал действительную боль, внушив-
шую ему опасение, как бы все это не было проделкой некоего злого духа
(mauvais génie), возжелавшего его соблазнить. Он тут же перевернулся на пра-
вый бок, так как до того спал на левом и видел этот ужасный сон. Он обратился
с молитвой к Богу, прося у Него избавления от дурных последствий этого сна и
от всех несчастий, могущих ему угрожать в наказание за его грехи, казавшиеся
Сон в ноябрьскую ночь
179
ему достаточными для привлечения возмездия с Неба, хотя он и вел себя дос-
таточно безупречно в глазах людей...» '
Такова первая часть знаменитого сновидческого триптиха, пережитого двад-
цатитрехлетним Декартом в ночь с 10 на 11 ноября 1619 г., когда он находился
в войсках герцога Максимилиана Баварского на зимних квартирах вблизи го-
рода Ульм. Рассказана она его биографом, Адриеном Байе (1649—1706), сель-
ским викарием, а затем библиотекарем, автором не только процитированной
выше двухтомной «Жизни Декарта» (1691), но и многочисленных объемистых
трудов по агиографии, библеистике и т. п. Байе имел под рукой латинские за-
писи самого сновидца о пережитом в ту ноябрьскую ночь, к сожалению, впо-
следствии утраченные, содержание которых, однако, сохранил не только он, но
и Лейбниц, купивший в Париже часть рукописей Декарта у Клода Клерселье,
видного картезианца и издателя трудов своего учителя. Оригинальный текст,
содержащий собственноручный отчет Декарта о пережитом им в ту ноябрь-
скую ночь, назывался «Olympica», и, как считают исследователи, его содержа-
ние весьма точно отражено в рассказе биографа (совпадающем с тем, что со-
хранил Лейбниц), хотя, конечно, Байе дал французский перевод латинского
оригинала и, кроме того, слегка обработал его, включив в обширную и доку-
ментально точную картину жизни и творчества великого мыслителя. Поэтому
все три части, по сути дела, единого сна расшифровываются декартоведами на
основе сообщения Байе. Недостаток места не позволяет дать полный перевод
его на русский язык; отметим только несколько моментов. Как и в случае с
первой частью сна, события, разыгрывающиеся в онирическом 2 пространстве,
удивительным образом продолжаются в реальном мире после пробуждения
сновидца. Так, например, во втором сновидении Декарт слышал сильный удар
грома, а искры от молнии увидел, уже проснувшись. Видения бодрствующего
сознания плавно и естественно продолжают эффекты сознания сонного. Итог
всему сновидению в целом подводит третья часть сна, в которой Декарт, от-
крыв наобум книгу «Corpus poetarum», видит слова римского поэта Авсония
(310—394): «Quod vitae sectabor iter?» («Каким жизненным путем я последую?»).
Кроме того, на своем рабочем столе он нашел непонятно как туда попавшую
другую книгу, представлявшую собой некий «Словарь», которому очень обра-
довался, решив, что он ему будет полезен. Уже во сне он начал интерпретиро-
1 Baillet A. Vie de Monsieur Des-Cartes. P., 1691. Цит. по рецензируемой книге: Jama
Sophie. La nuit de songes de René Descartes. P.: Aubier, 1998. 430 p. P. 23—24. Ссылки на нее
даются после цитат в круглых скобках.
2 Пространство сновидений. См,: Башляр Г. Онирическое пространство // Визгин В. П.
Эпистемология Гастона Башляра и история науки. М., 1996. С. 251—256.
12*
180
Глава III. Новое время и его проект
вать текущий сон, истолковав, в частности, этот «Словарь» как исчерпываю-
щую энциклопедию знаний, а сборник стихов — как органический сплав фи-
лософии и мудрости. При этом он отметил, что благодаря идущему свыше эн-
тузиазму, одушевляющему поэзию, она глубже проникает в суть вещей силой
действующего в ней Воображения, чем Разум философов. В словах Авсония
он не мог не признать знак доброго совета, который ему хочет дать один из
мудрецов в ответ на мучительно переживаемое им чувство неопределенности
его жизненного пути. Возможно, что этот призыв к решению своей судьбы был
как-то связан с «моральной теологией», преподававшейся ему иезуитами в кол-
леже Ла-Флеш. И сразу после пробуждения Декарт продолжал истолковывать
свой сон, о чем нам сообщает его биограф. Существенный момент третьей ча-
сти сна связан с образом незнакомца, который, после того как Декарт увидел
приведенный выше стих Авсония, показал ему и другие стихи поэта, в частно-
сти те, что начинаются словами «Est» и «Non», т. е. «Есть» и «Нет» или «Бы-
тие» и «Небытие», и он рекомендовал их как превосходные. Но Декарт, при-
знав, что он их сам хорошо знает, не мог их найти, однако, в указанном сборни-
ке. Ситуация, отметим, довольно типичная для снов. После пробуждения он
решил, что здесь речь идет о противоположностях, сформулированных Пифа-
гором и его школой, и истолковал их как Истину и Ложь, лежащие в основе
наших познаний. И тогда же он подумал, что это сам Дух Истины хотел от-
крыть ему тайну всех наук, просветив его умением отличать истинное от лож-
ного. У Декарта не было сомнения, что увиденное им во сне было ниспослано
ему свыше (d'en haut) (С. 29).
Неподготовленный читатель, в том числе, конечно же, и философ, без обра-
щения к имеющимся техникам толкования сновидений и без целенаправлен-
ного изучения исторического, биографического, этнографического, фольклор-
ного и других релевантных культурных контекстов вряд ли сможет хоть как-то
осмыслить причудливую по своей фактуре ткань знаменитого сна. Его «дын-
ные» подробности скорее всего ничего ему не скажут. Его ресурс толкования
сна Декарта ограничен тем, что ему известно из классических работ по исто-
рии философии и из текстов самого философа. Но для понимания такого сна
этого, по-видимому, недостаточно. Правда, философу-профессионалу может
показаться, что ему вполне достаточно почувствовать атмосферу сна, осознать
его значение для философии Декарта, которая ему известна. Ведь сам этот сон,
не без основания считает философ, имеет какой-то смысл прежде всего в связи
с ней.
Действительно, на наш взгляд, имеет смысл сопоставить текст «Рассужде-
ния о методе» (1637) (в котором Декарт, не упоминая о самом сне, тем не менее
описывает свое тогдашнее уединение и напряженные поиски надежного пути
в жизни и науках) с рассказом о его сне у Байе. И тогда сам Декарт нам скажет,
Сон в ноябрьскую ночь
181
что же в итоге решилось в его судьбе в те ноябрьские дни и ночи 1619 г. А это
и оформившийся в главных чертах именно тогда замысел универсальной ре-
формы познания с содержащейся в нем мыслью о том, что красота здания наук
обеспечивается гораздо лучше в том случае, когда оно возводится с самого на-
чала одним и тем же архитектором, по единому плану, и связанная с этим за-
мыслом идея метода с его четырьмя правилами, и принципы морали, опти-
мальные для исследователя нового типа, и, наконец, принцип cogito. Все эти
пилоны будущей картезианской системы загадочным образом были сложены
из материала того ноябрьского сна. В этом, конечно, и состоит его основная
ценность для истории. Такого рода концептуальный анализ сна Декарта и его
опосредованного воздействия на его мысль С. Жама не без основания передо-
веряет историкам философии (С. 266). Однако, по-видимому, не будут напрас-
ным трудом и поиски явных и непосредственных следов онирических пережи-
ваний Декарта в самом тексте «Рассуждения...», в его лексике, стиле и т. п.
Например, Декарт говорит здесь о себе как об одиноком путнике, «с трудом и
страхом упасть бредущим в потемках». Причем, что также прямо перекликает-
ся со сном, эта картина служит экспозицией к его открытию метода для отли-
чения истины от заблуждения (distinguer le vrai d'avec le faux) как пути, осве-
щаемого «естественным светом» разума, идти по которому пусть и нелегко, но
зато надежно. Переживания сна получают здесь не только свой отголосок, но и
разрешение.
Признавая первостепенную значимость именно такого подхода к анализу
сна Декарта, связывающего его непосредственно с философией французского
мыслителя, не менее увлекательно и небесполезно попытаться проинтерпре-
тировать его, не обращаясь к философии Декарта напрямую. Соблазнитель-
ность этой задачи связана с тем, что по существу речь здесь идет о своего рода
иррационалистической, в данном случае онирической, «мине», подкладывае-
мой под европейский рационализм. Эта «генеалогическая» (в смысле Ницше)
тенденция обозначилась в современной историографии науки начиная с того
момента, когда в 1930-х годах на аукционе Сотби было продано около 120 алхи-
мических манускриптов Ньютона. Купивший их лорд Кейнс так сформулиро-
вал значение события: «Ньютон не был первым представителем эры разума.
Он был последним адептом учений вавилонян и шумеров» (С. 7). Указанная
тенденция распространилась затем и на Кеплера, Бойля, Бэкона и даже Гали-
лея. Ярким ее представителем была Ф. А. Ейтс (Йейтс), заговорившая о реша-
ющей роли «герметического импульса» в генезисе новоевропейской науки 3. И
вот теперь, как считает Робер Алле, известный бельгийский историк науки,
представляющий книгу С. Жама, очередь дошла и до Декарта.
См.: Yates F. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964.
182
Глава III. Новое время и его проект
Но так ли это, действительно ли раньше не было подобных попыток приме-
нительно к основоположнику современного рационализма? Позволим себе не
согласиться с мнением уважаемого профессора Алле, полагающего, что до
появления книги С. Жама Декарт оставался единственным из пионеров новой
науки, кому удавалось избежать «герметической чумы», распространяемой ис-
ториками. Действительно, уже в исследованиях Ейтс он был, пусть и бегло,
мимоходом, подключен к стратегии «герметизирующего» чтения. Из биогра-
фии Декарта известно, что его напряженные поиски пути к надежному знанию
проходили в атмосфере всеобщего интеллектуального возбуждения, вызван-
ного розенкрейцерскими манифестами. Как можно судить по достоверным
источникам, Декарт был погружен в эту атмосферу, пытался разузнать о самих
розенкрейцерах побольше, возможно даже, вступить с ними в контакт, сопо-
ставить свой замысел преобразования знания с их идеей универсальной ре-
формы. Впрочем, возможно, что в своем стремлении к преобразованию зна-
ния, не задевающему ни религии, ни политики, ни морали, Декарт сознательно
дистанцировался от неприемлемой для него всеохватывающей реформы, про-
кламируемой в этих манифестах 4. Кстати, когда в 1623 г. он возвратился в Па-
риж из Германии, откуда исходили эти будоражащие Европу волны, то сам был
заподозрен в принадлежности к тайному братству. По-видимому, его энтузиаз-
му поисков надежного, а значит, истинного знания действительно не был чужд,
как это и предположила Ейтс, «герметический импульс». Вот как изображает
эти поиски Декарта английский историк, цитирующий и комментирующий сви-
детельства Байе: «10 ноября 1619 г. он прилег отдохнуть, "охваченный энтузиа-
стическим порывом и всецело увлеченный мыслью о совершаемом в эти дни
обретении основ чудесной науки (la science admirable)". И вот ночью он видит
три сна, которые, как ему кажется, исходят свыше. Здесь мы наблюдаем атмо-
сферу герметического транса, такого усыпления чувств, при котором открыва-
ется истина» 5. Намеченное английским историком герметическое прочтение
сна Декарта уместно дополнить, на наш взгляд, аналогом психоаналитического
подхода, могущим пролить свет на генеалогию декартова дуализма.
Действительно, то, что открывается Декарту как результат вдохновенных
поисков, требует защиты от их начального импульса. И как результат такой
4 Монодоктринальная интерпретация указанных манифестов плохо согласуется с их
игровым, провокативным и эклектическим характером. Поэтому понятна критика их тол-
кования Ейтс, давшей однозначное или почти однозначное их прочтение через призму гер-
метического оккультизма Дж. Ди. См. об этом в обстоятельном исследовании Э. Меля, по-
священном анализу влияния немецкой культуры первой трети XVII в. на становление науч-
ного метода и философии Декарта: MehlÉ. Descartes en Allemagne 1619—1620: Le contexte
allemand de l'élaboration de la science cartésienne. Strasbourg, 2001. P. 96—98.
5 Yates F. A. Op. cit. P. 452.
Сон в ноябрьскую ночь
183
самозащиты — полное вытеснение ума, духовного начала вообще из возника-
ющей при этом механистической картины мира. Таким образом, в декартовом
дуализме можно увидеть результат самовытеснения латентным герметистом
своего герметизма, после того как тот сыграл роль первичного импульса, транс-
формировавшись в новую механистическую науку. Для такого прочтения де-
картова механицизма и дуализма есть определенные основания. В самом деле,
в герметическом мировоззрении господствует принцип абсолютного ментализ-
ма, согласно которому весь мир воспринимается изнутри ума, а вещи при этом
выступают лишь как его тени или проекция. Вся «вселенная есть нечто ум-
ственное», говорится в одном герметическом памятнике, известном под назва-
нием «Кибалион» 6. Мир, таким образом, насквозь ментализован, понят исклю-
чительно как ум, идея, дух. Но искомый идеал точного, надежного рациональ-
ного знания в подобной магико-ментальной, всепроникающей и все вещи в
себе растворяющей стихии недостижим. И поэтому нужно как можно дальше
оттеснить весь этот «ментализм», заклясть его, с тем чтобы открылось «поле»
для построения искомого достоверного знания. Если маг-герметист «овнутряет»
мир, то ученый-естествоиспытатель нового типа, напротив, его «овнешняет»,
превращая в доступный для надежного знания «объект» (объективация мира в
науке). Упорядоченный и неизменный мир механики возникает, таким обра-
зом, как бы из самоотрицания мира герметического, послужившего для его
создания стимулирующим импульсом. Кстати, характерная для начала Нового
времени оппозиция эзотерического спиритуализма и рационалистического скеп-
тицизма «снимается» в философии Декарта. Он как бы одним ударом своего
метода с принципом cogito преодолевает обе формы познавательного кризиса,
представленные ее полюсами (теософское всеведение versus скептическая не-
возможность знания)7.
Философский дуализм Декарта можно, однако, читать и с помощью друго-
го кода, а именно через призму «моральной теологии» иезуитов, основы кото-
рой заложил св. Игнатий Лойола. Эта теология характеризуется жесткой аль-
тернативой — быть «солдатом Христа» или «слугой Люцифера». Практика
«духовных упражнений» св. Игнатия делает акцент на необходимости сделать
свой выбор, когда третьего не дано. Фигура дуализма предстает здесь в своей
религиозно-моральной форме. Декарт, воспитанник иезуитов, переносит ее в
научно-философскую сферу. Принимая это во внимание, мы можем понять те
настойчивость и энтузиазм, с которыми он медитирует о выборе жизненного
пути и метода познания. При этом сам выбор становится не внутрирелигиоз-
См.: Странаен Д. Герметизм: Сокровенная философия египтян. СПб., 1914. С. 45.
7 Подобную ориентацию исследования генезиса философии Декарта мы нашли в работе
Э. Меля. Op. cit. Р. 12—13.
184
Глава III. Новое время и его проект
ным, а внешним по отношению к религиозно-теологической сфере. Для того
чтобы посвятить себя теологии, указывает Декарт, требуется благодатное вме-
шательство Неба (extraordinaire assistance du ciel) и тем самым нужно быть боль-
ше чем простым смертным (plus qu'homme)8. Но, подчеркнем, ситуация выбо-
ра, задаваемая душеспасительной педагогикой Ордена Иисуса, перемещаясь в
философское «поле», сохраняет вместе с тем некоторые ее типичные характе-
ристики.
Итак, отдельные важные моменты христианской духовной культуры, при-
витые Декарту воспитанием в коллеже Ла-Флеш, смещаются под влиянием
совершаемых им актов выбора из религиозного контекста в контекст философ-
ский. При этом христианская аскеза превращается в свой научно-философский
аналог. Например, в сцене ноябрьского сна, когда Декарт проводит свое время
в полном уединении в теплой комнате (dans le poîle — букв, «в печке»), нетруд-
но увидеть транспозицию регулярно практикуемого в коллеже недельного от-
шельничества. Конечно, такое уединение на берегах Дуная у Декарта меняет
объемлющую его систему отсчета, но его формальная структура как духовного
упражнения сохраняется. Кстати, выработанная со времен коллежа привычка
к постоянному самоотчету морально-религиозного сознания и вся практика
казуистики 9 как части теологии (от casus, что на церковной латыни означает
«cas de conscience» — «затруднение в сфере нравственной оценки») способ-
ствовали формированию у Декарта принципа cogito.
Читателя, не подготовленного к герменевтике сновидений, но знакомого с
творчеством Декарта, при чтении отчета о его сне вряд ли минует элементар-
ное вопрошание: а что же все-таки открылось той ноябрьской ночью Декарту?
Может быть, ему явилась во сне идея аналитической геометрии, прославившая
его имя в истории математики? Или же он нашел прообраз метода для всех
наук, пусть в еще не вполне ясной форме, но уже достаточной для создания в
дальнейшем его универсальной программы исследования природы? А может
быть, он уже тогда подошел к открытию своего принципа cogito, формулирую-
щего предельно ясное и отчетливое обоснование достоверности знаний сред-
ствами рефлектирующего сознания? Но найдет ли читатель решение этих воп-
росов, прочитав и продумав книгу С. Жама? Даже если и нет, то, во всяком
случае, он лучше поймет жизнь и творчество Декарта... Знакомый с филосо-
фией Декарта читатель волен обратить внимание в связи с его сном на то или
иное его научно-философское достижение. Но средств проверить свои догад-
8 Descartes R. Discours de la Méthode // Œuvres de Descartes / Ed. par J. Simon. P., 1842.
P. 6.
9 Ее задачей является расширение вклада свободного, сознательно производимого вы-
бора в поведение, ставящее своей целью спасение.
Сон в ноябрьскую ночь
185
ки у него нет, если только он пройдет мимо действительно фантасмагорически
странной фактуры рассказа сновидца об увиденном той ноябрьской ночью. По-
этому такой читатель с интересом обратится к книге С. Жама. Не исключено,
что он будет удивлен, если не шокирован, тем, что он в ней найдет. Действи-
тельно, в книге, казалось бы, посвященной Декарту, о самом философе сказано
немного, но еще меньше о его философии. О знаменитом cogito, о врожденных
идеях, об индукции и дедукции, о механицизме и дуализме и т. д. вообще ни
слова. Зато здесь есть любопытные сведения о католическом календаре и де-
сятки страниц, посвященных св. Мартину, его подвигам и чудесам. Погруже-
ние в народную культуру Европы столь неожиданно в случае с декартоведени-
ем, что кто-то из читателей, возможно, позволит себе и улыбку, например, по
поводу своего рода новой дисциплины, символической вязологии, контуры
которой намечены в книге С. Жама. Действительно, деревня в Пуату, где у Де-
карта было с рождения пожалованное ему имение, благодаря которому он по-
лучил титул сьёра Дю Перрона, называлось Les-Ormes-Saint-Martin, т. е. Вязы
Святого Мартина. А в то же время город на Дунае, в котором Декарту приви-
делся многозначительный сон, назывался Ульм, т. е. тоже Вяз (вяз по-немецки —
Ulmenbaum). Вяз — символ рубежа, раздела или границы, как и сам святой
Мартин, с ним тоже связанный. Декарт был связан с вязом (просим прощения
за невольный каламбур), осенен им с рождения и в самые рубежные моменты
своей жизни. Конечно, прежде всего — в ту легендарную ноябрьскую ночь под
Ульмом в канун праздника св. Мартина, ночь его второго, духовного, рожде-
ния. Но и диплом бакалавра в Пуатье (9—10 ноября 1616 г.), и знакомство с
И. Бекманом (10 ноября 1618 г.) были тоже ноябрьскими событиями — вехами
в его жизни. «Св. Мартин, — пишет исследовательница, — многими связями
связан с вязом. Действительно, Декарту принадлежит имение Дю Перрон в
общине Орм-Сен-Мартен. И в силу того, что Мартин и вяз сосредоточивают в
себе одну и ту же символику, неудивительно, что святой раздела вступает в
связь с деревом, тоже выступающим символом рубежа» (С. 108). Кстати, рас-
тущие в местности Декартова первого рождения вязы обозначали администра-
тивную границу провинций Пуату и Турень.
Символическая вязология сама подобна ветвистому дереву, связывая погру-
женного в ноябрьское сновидение мыслителя не только со св. Мартином, но и
с медведем, залегающим в это же время в зимнюю спячку в берлоге, соответ-
ствующей декартовской «печке». Кстати, Мартин — это одно из имен медведя
в народной культуре. Поэтому «Декарт, — констатирует С. Жама, — находит-
ся в точно той же ситуации, что и Мартин, и медведь» (С. 113). По народному
поверью, медведь к Рождеству, после сорока дней спячки, сбрасывает с себя
солому, на которой зимует, и покидает берлогу. И Декарт в свою очередь, «от-
шельничая в своей "печи", сбрасывает с себя покров предрассудков... и высту-
186
Глава III. Новое время и его проект
пает освобожденным от своих телесных оков ,0. И тогда его единственным за-
нятием становится достижение истины» (С. 113). Погружаясь в такую густую
вязь символических переплетений, читатель, пожалуй, может и не сдержать
легкой улыбки: а при чем, простите, подумает он, здесь дуализм, рационализм,
cogito, механицизм и т. п.? В сети онирического шифра или кода, сотканного из
грубого холста народной культуры, где ритмы задаются календарем с его свя-
тыми, попадает и упомянутая выше «дыня» из первой части сна Декарта, выб-
ранная нами в качества эталона его странности. Известно, кстати, что в празд-
ник св. Мартина (11 ноября), являющийся одновременно праздником кануна
зимы и окончания сбора урожая, крестьяне во Франции устраивают процес-
сии, освещаемые свечами, вставляемыми в полые дыни и тыквы. Света нату-
рального в эту пору, как известно, совсем мало. Да и дыни пора снимать. И этот
дынный свет кажется декартоведу-этнографу удачным чтением того энтузиа-
стического огня (feu au cerveau), о котором говорит сновидец устами своего
биографа (с. 23). Аналогия между дыней и головой действительно лежит на
поверхности. Но почему Декарту грезится дыня именно из чужих стран? Не
потому ли, риторически вопрошает С. Жама, что и св. Мартин, с которым она
связана, был солдатом в Паннонии, кстати, недалеко от мест декартовских сно-
видений? Аналогия между Декартом и св. Мартином выступает системообра-
зующим принципом для всей этой сети символических перекличек, служащих
средством, способным если и не однозначно истолковать сон философа, то, по
крайней мере, дать для того необходимый ресурс.
Остановимся на минуту. Не топчемся ли мы на месте, читая сон Декарта
подобным образом, — по-сен-мартеновски, по-вязовски, по-медвежьи? Ведь
акт чтения должен, казалось бы, быть открытием ясного смысла, редуцирую-
щего странности онирических фантазий до какой-то значимой простоты и ре-
зультирующего их пестроту единства, чего, однако, при таких вариантах чте-
ния не происходит. Искусные параллели, проводимые с помощью фольклори-
стики и этнографии, не убавляют его странностей. Встает законный вопрос:
что же все это может значить? Что философ, стоя на распутье, медитируя в
одиночестве, был пропитан, сам того не осознавая, народной культурой своего
времени? Пусть так. Но интересен ведь не этот, в общем-то, банальный факт.
Интерес представляет осмысление сна как выдающегося, значимого для Декарта
события его жизни. Интересно то, почему он, не упоминая явно о своем сне,
придавал ему огромное значение и как этот сон придал его жизни окончатель-
ную форму, сообщив определенное направление его мысли. Но как раз собы-
тие сна остается для нас непроясненным такого рода чтением. Поэтому у нас
складывается впечатление, что для понимания смысла этого события нужна
10 Перекличка Декартовой «печи»/берлоги с платоновской пещерой (Государство VII, 514а).
Сон в ноябрьскую ночь
187
другая система отсчета. Самым значимым чтением сна является чтение его са-
мим сновидцем. Сон становится событием, если таковым его делает своей ак-
тивностью тот, кому он приснился. Декартовы слова о том, что сон был «нис-
послан ему свыше», означают, что он был для него личным опытом прорыва в
трансцендентный мир, который Декарт как практикующий католик принимал,
но как философ сомнения выносил «за скобки» вместе с теологией, избирая
для себя путь «естественного света» разума. Поэтому для нас важно понять,
как сам Декарт читал свой сон. Для проникновения в генеалогию европейско-
го рационализма важен не факт сна как такового, указывающий на его истоки,
а то, что для Декарта он был откровением свыше. Сон был только одной из,
форм откровения искомой им истины. Действительно, пережитый Декартом
10 ноября 1619 г. опыт выходит за рамки сна как такового, поскольку явление
Духа Истины в образе раската грома (сон) он воспринимает также и в образе
рассыпающихся искр от связанной с ним молнии (наяву). Иными словами, сно-
видение входит в состав целостного события решающего озарения, свершив-
шегося той ноябрьской ночью. И именно поэтому оно занимает такое важное,
рубежное место в жизни и творчестве мыслителя.
Что же касается понимания Декарта как человека, принадлежащего своей
эпохе, то нужно признать, что микрокультурное исследование, проделанное
С. Жама, ему действительно способствует. Читатель, ожидавший доказанной
редукции декартовой философии к нефилософии — мифу, традиции, поверью
и т. п., — может разочароваться, ее не обнаружив. Но книга выполняет несколько
иную задачу — вписать великого рационалиста в контекст культуры его време-
ни, и с этой задачей С. Жама вполне справляется.
Обращение к народной культуре, календарю, агиографии и т. п. составляет
только один из подходов к интерпретации сна Декарта, предлагаемых С. Жа-
ма. Декарт-сновидец уподобляется ею не только св. Мартину, но и св. Игнатию
Лойоле, и легендарному Христиану Розенкрейцеру. Книга о сне Декарта построе-
на так, что в каждой главе дается сначала экспозиция определенного культур-
ного пласта (народная культура, иезуитский коллеж, розенкрейцерский фено-
мен, античная культурная традиция), а затем проводятся параллели между его
компонентами и образами и ситуациями сна. Такая структура исследования не
может не вести к сознательно допускаемой многозначности толкования сна
Декарта. Так, например, коллеж в первой части сна может читаться и как кол-
леж иезуитов, и как более ирреальный коллеж розенкрейцеров, тайного братства
которых, возможно, и не существовало вовсе (точка зрения П. Арнольда п,
с которым не согласен С. Ютен 12). Но все эти варианты чтения в книге С. Жа-
11 См.: Arnold P. Histoire des Rose-Croix et les origines de la Franc-Maçonnerie. P., 1990.
12 См.: Hutin S. Histoire des Rose-Croix. P., 1981.
188
Глава III. Новое время и его проект
ма включаются в единое русло результирующего чтения, которое она находит
в символике пифагорейского Ипсилона (его форму передает и латинский Иг-
рек — Y), выражающего амбивалентность жизни во всех ее проявлениях. Эта
насыщенная мистикой и символикой буква выступает для С. Жама как «одно-
временно тайный знак розенкрейцеров, символ адептов Пифагора и крест хри-
стиан: она суть сам Рене Декарт в его самости» (С. 265). Здесь имеется в виду
прежде всего символика имени Декарта — Renatus, т. е. буквально «вторично
рожденный» или возрожденный (в духе). В одном из розенкрейцерских мани-
фестов — романе «Химическая свадьба Христиана Розенкрейцера», принад-
лежащем перу швабского теолога И. В. Андреэ (1586—1654), — говорится о
рыцарях Ордена Золотого Камня, которые в результате снизошедшей на них
благодати стали «Renati и приобрели тем самым способность побеждать неве-
жество, бедность и болезни» ,3. Для Возрожденного (Renatus) пелена мировой
порчи спадает, и он способен прозревать последние спасительные символы
благодаря своей очищенной и преображенной природе. Таков смысл Renatus'a,
эзотерической мифологемы, распространенной в мистически активных кругах
протестантских новых реформаторов, к которым принадлежал Андреэ 14. Декарт
не только читал все эти манифесты, но и видел в них нечто близкое его соб-
ственным поискам. Это и решение навсегда победить невежество и навести
стройный и непоколебимый порядок в деле отличения истины от заблужде-
ний, это и гарантирующий такое различение проект универсального метода
познания, ведущего к процветанию и искоренению болезней, возможно даже,
к победе над самой смертью. Если (в отличие от «розенкрейцеров») чего и нет
у Декарта, так это планов всеобъемлющей религиозно-политической рефор-
мы. В области морали и религии Декарт оказался человеком гораздо более кон-
сервативным — здесь сказался его католицизм, диктующий ему традицион-
ные ценности. И кроме того, оккультный «герметический импульс» у Декарта
решительным образом дезоккультируется, дегерметизируется, о чем иногда
забывают некоторые исследователи, увлеченные «магическим ключом» к на-
уке и рационализму в духе Ф. Ейтс.
13 Chymische Hochzeit: Cristiani Rosenkreutz. Anno 1459. Strassburg. ANNO MDCXVI.
S. 122. Цит. no: Edighoffer R. Les Rose-Croix et la crise de conscience européenne au XVIle
siècle. P., 1998. P. 48.
14 Современный историк розенкрейцерского движения Ролан Эдигхоффер считает, что
И. В. Андреэ вместе со своими тюбингенскими друзьями активно участвовал в создании
всех манифестов движения, хотя признавал свое авторство только по отношению к «Хими-
ческой свадьбе...» (Edighoffer R. Op. cit. P. 107—108). Что касается Декарта в этом контек-
сте, то Эдигхоффер ставит его в один ряд с такими именами, как М. Майер, Р. Флудд и сам
Андреэ, что, на наш взгляд, требует пояснений, позволяющих отличить философа-рацио-
налиста от его герметических «двойников» (Ibid. Р. 36).
Сон в ноябрьскую ночь
189
Кстати, если книги Ейтс, которые у нас сейчас активно переводятся и изда-
ются ,5, несмотря на содержащиеся в них спорные моменты и порой преувели-
чения, тем не менее убеждают читателя в ее исторических открытиях (напри-
мер, «герметического ключа» для творчества Дж. Бруно), то книга С. Жама,
полезная и нужная в длинном списке декартоведческих исследований, все же
не смогла убедить нас в том, что итоговой и потому однозначной расшифров-
кой сна (да и творчества) Декарта является греческая буква Ипсилон, идущий
от Пифагора символ жизни, подлинного гнозиса, синтеза знания и морали. Нам
этот вывод показался слишком формальным, схематичным и абстрактным, рис-
кующим нивелировать то богатство микрокультурных контекстов жизни и твор-
чества Декарта, раскрытием которых и ценна данная книга. Впрочем, возмож-
но, мы не правы в нашем сомнении относительно Ипсилона, и Декарт именно
в этом образе или эмблеме ,6 нашел наконец абсолютно надежную почву и для
жизни, и для познания.
15 См.: Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение / Пер. с англ. А. Кавтаскина под ред.
Т. Баскаковой. М., 1999.0 розенкрейцерском импульсе, полученном Декартом, см. с. 210—
217. В приложении к этой книге дан перевод упоминавшихся нами манифестов (кроме
«Химической свадьбы...»). Были изданы ее же книги «Искусство памяти» (нашу рец. см. в
НЛО, № 35 за 1999 г.) и «Джордано Бруно и герметическая традиция».
16 Эмблема, по Ф. Бэкону, во-первых, «сводит интеллигибельное к чувственному» и, во-
вторых, сходствует с изображаемой в ней вещью (Бэкон Ф. Соч. Т. 1. М, 1971. С. 329, 332).
В начале XVII в. издавалось множество сборников эмблем, особенно в любимой Декартом
Голландии (см.: Edighoffer R. Op. cit. P. 53).
ПРОЕКТ МОДЕРНА:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И КРИЗИС
В настоящей статье мы анализируем ситуацию XVII в., начала нового вре-
мени, или модерна, когда возникает проект новой культурной эпохи (проект
модерна), и сопоставляем ее с ситуацией наметившегося в XX в. «выхода» из
нее (условно: постмодерн). В гражданской истории начало нового времени
обычно отодвигают на век раньше, отсчитывая его с XVI в., точнее, с открытия
Колумбом Нового света (1492), включая в этот ранний период его истории Ре-
нессанс и Реформацию ]. Однако философские и мировоззренческие корреля-
ты этих преобразовавших Европу событий с полной ясностью обнаружились
лишь в следующем веке. Возникновение проекта модерна и его судьбу в совре-
менную эпоху мы будем анализировать, рассматривая соотношение таких куль-
турных феноменов, как религия, эзотерическая традиция и наука в их прелом-
лении в философском дискурсе.
В понятие проекта в нашем его понимании входят три компонента: осоз-
нанное, подотчетное разуму целеполагание, целостность проектируемого в нем
и обращенность в будущее, которое мыслится подконтрольным актуально дан-
ному разуму с его проективной активностью. При этом только единство всех
трех указанных моментов создает проект. Действительно, если из этих компо-
нент объединяются только две, скажем, целеполагание и обращенность в буду-
щее, без участия третьей (в данном случае целостности), то это еще не проект,
как мы его здесь понимаем, а обычная деятельность человека как разумного
существа, присущая всем эпохам и культурам.
Новое время — это эпоха, когда само понятие проекта культурного и соци-
ального целого получает права гражданства. Такие культурные эпохи, как ан-
тичность или средневековье, обладали характерными для них единствами при-
сущих им многообразных их проявлений или целостностями, которые можно
описывать как их смысл, основное содержание. Но в эти периоды европейской
1 Hauser H., Renaudet A. Les débuts de l'âge moderne: la Renaissance et la Réforme. P.,
1929. P. 1.
Проект модерна: возникновение и кризис
191
истории человек еще не делал столь исключительной ставки на самого себя, на
свой разум 2. Человеческая субъективность еще не получила до этого времени
своего полного выражения и поэтому не принималась за абсолютное начало.
Для греков таким началом был космос, они ощущали свою зависимость от него,
неважно, понималась ли она при этом как опосредуемая его законами, волей
богов или судьбой. И только в период развернувшегося в полную силу кризиса
средневекового миропорядка, в эпоху Ренессанса и еще решительнее в эпоху
Реформации, человек Запада, порывая с объективирующей его мир традицией,
решается взять свою судьбу полностью в свои руки. Если человек античной
культуры в своем творчестве подражает природе, учится у нее, развивая искус-
ства и науки, то человек нового времени осознает себя творцом своего мира,
«кузнецом своего счастья». Начав со скепсиса по отношению к унаследованной
традиционной культуре, он в конце концов приходит к догматически формули-
руемым принципам самостояния на очевидностях своего разума. Реформация,
безусловно, была решающим шагом в такой попытке абсолютного самостоя-
ния человека на себе самом. Сама логика свершившегося в годы Реформации
сдвига вела к полному отрыву от традиции, которого у Лютера и его ближай-
ших последователей еще не было. Не рассматривая этой логики подробно, от-
метим только такой парадокс реформационного сознания: разрыв с традицией
оправдывался требованием возврата к ее истокам. Первые реформаторы от-
бросили Предание, но оставили Писание. Однако в силу уже запущенного ме-
ханизма в XVII в. очередь дошла и до Писания 3. Именно эта ситуация безудер-
жно развивающегося разрыва со всем прошлым стимулировала Лейбница и
близких ему по духу деятелей, например Н. Мальбранша (1638—1715), отве-
тить на подобный вызов, угрожающий полным отказом от традиций христиан-
ской культуры 4.
2 Именно поэтому мы не можем отождествлять, вообще говоря, близкое по смыслу по-
нятие «общей задачи» эпохи у Э. Кассирера с нашим проектом. «Отдельные индивиды, —
писал Кассирер, — составляют единое целое не потому, что они одинаковы или схожи, но
потому, что работают вместе над общей задачей, которую мы воспринимаем новой по от-
ношению к средневековью и составляющей собственный "смысл Возрождения"» {Касси-
рер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 80. Курсив мой. — В. В.).
3 Скандалом эпохи явилась анонимная публикация «Богословско-политического трак-
тата» (1670) Спинозы, положившего начало его рационалистической филолого-историче-
ской критике (см.: Fhedmann G. Spinoza: Scandale de son temps // Revue de Métaphysique et
de Morale. Janv. 1946).
4 Характеризуя ситуацию начала XVIII в., Лейбниц в ноябре 1715 г. писал принцессе
Уэльсской: «Кажется, что даже естественная религия чрезвычайно теряет свою силу. Мно-
гие считают души телесными, другие считают телесным самого Бога» {Лейбниц Г. В. Соч.:
В 4 т. М., 1982. Т. 1.С. 430). Ускоренная секуляризация европейского сознания началась,
конечно, раньше этого времени.
192
Глава III. Новое время и его проект
Предпосылки нововременного менталитета складывались и до Реформации,
прежде всего в период Ренессанса. Так, например, установка на естественный
разум и его свет, на поиск истины в самой природе, минуя традиционную книж-
ную культуру, возникает в этот период (мы ее находим, скажем, у Парацельса
(1493—1541) и его сторонников). Но полное свое развитие, далеко выходящее
за пределы ренессансной парадигмы мышления, она получает позднее. Тако-
ва, например, позиция Декарта и Коменского. Разрыв с традицией средневеко-
вой схоластической учености, начатый в Возрождении, доводится до своего
логического конца уже в XVII в., давая ему не магико-герметическую форму, а
научную. В этом одно из важных отличий проекта модерна от того нового, что
создавалось уже в эпоху Возрождения.
Начиная также с эпохи Возрождения идея спасения постепенно заменяется
идеей земного счастья человечества в будущем. Сначала мы наблюдаем только
отдельные ее проблески. Но затем она уже выстраивается как мировоззренче-
ская альтернатива религии, определяясь как вера в прогресс. Заменив спасение
земным счастьем (полным в будущем), нашли и другие, чем предлагаемые хри-
стианством, пути для достижения этой высшей цели — науку и основанную на
ней технику, воспринятые как универсальные средства не только подчинения
природы человеку, но и его совершенствования. Человек одержим двумя ос-
новными стремлениями — к истине и к счастью. Как связать их между собой?
Что из них главное? Новое время нашло истину в науке (в математическом
естествознании прежде всего). И человек этой эпохи, устремившись как к выс-
шей ценности к земному счастью, поставил ему на службу истину в виде науч-
ного прогресса. Вот краткая формула проекта модерна.
Возникновение проекта модерна мы будем анализировать на материале
философии XVII столетия, учитывая социокультурный контекст. Здесь выде-
ляются две основные кризисные зоны. Первая связана с соперничеством воз-
никающей новой механистической науки с магико-герметической традицией
уходящего Ренессанса за лидерство в культурном ансамбле и в самом проекте
будущей культуры. Спор идет о том, на каких основаниях ее строить: на рацио-
нально-экзотерических (новая наука) или на герметико-эзотерических. В XVII в.
важной вехой в их споре-конкуренции стало открытие в 1614 г. швейцарским
филологом Исааком Казобоном достоверной датировки «Герметического кор-
пуса», создание которого приписывали Гермесу Трисмегисту и относили к глу-
бокой древности. Это был научный удар по всему герметизму. Другим важным
моментом в процессе вытеснения с авансцены культуры герметической тради-
ции стали публикации критических по отношению к ней работ, оспаривающих
все ее основные положения с точки зрения научной математики и новой меха-
нистической науки, вступающих в союз с традиционной религией. Речь идет о
полемиках Кеплера и Гассенди с Флуддом и особенно о работах М. Мерсенна,
Проект модерна: возникновение и кризис
193
направленных против него же и других герметиков и оккультистов (1623,
1627 гг.)5. Итак, двадцатые годы XVII в. обозначают начало вступления Евро-
пы в классическую эпоху нового времени, когда в соревновании двух указан-
ных систем мысли побеждает механистическая наука.
Вторая зона кризиса охватывает последние два десятилетия XVII в., пере-
ходя и на начало следующего столетия. В это время нарастает неустойчивость
классицистской культуры, ее стиля жизни, творчества и восприятия. Существен-
ной здесь является фигура Лейбница, который по сути дела выступал, как не-
когда и Платон, за возврат к классическим идеалам гармонии и равновесия
всех разумных начал культуры и общества. Но указанный кризис обнаружива-
ется уже в том, что синтетический гармонический проект Лейбница не был
понят его временем, спешившим к новой односторонности — на этот раз
просветительской. Излюбленной формой альтернативы «древних» и «новых»
у критиков классической культуры выступала противоположность между при-
нуждающим авторитетом и свободой индивида. Это время, когда уровень до-
стигнутого к концу века универсализма проекта культурного будущего Европы
снижается, «высокий» рационализм сменяется «низким», поскольку целост-
ный гармоничный духовно-интеллектуальный мир философских гениев XVII в.
при его проекции на массовое интеллигентское сознание XVIII в. утрачивал
свою гармонию и полноту, становясь плоским и односторонним. Постепенно
метафизика, а вместе с ней и религия вытесняются наукой. Это время начала
оформления уже действительно в полной мере наукоцентристского проекта,
когда наука с оформившимся в условиях ее подъема мировоззрением (научно-
механистическим и материалистическим) вытесняет религию с ее позиции
образующего культурное целое начала, оставляя за ней в качестве ее оправда-
ния в лучшем случае социально-прагматическую функцию поддержки уровня
морали в обществе. Это период вступления Европы в эпоху Просвещения, вы-
лившегося во Французскую революцию и гигантские потрясения всего евро-
пейского мира с нею связанные.
Концепция, предлагаемая в статье, основана на анализе творчества Ф. Бэко-
на (1561—1626), Р. Декарта (1596—1650), Я. А. Коменского (1592—1670),
Р. Флудда (1574—1637), М. Мерсенна (1588—1648), Г. В. Лейбница (1646—
1716). В сжатой форме мы ее можем представить следующим образом. Ситуа-
ция начала модерна характеризуется постепенно «охлаждающимся» союзом
религии и новой, механистической, науки, совместными усилиями оттеснив-
5 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P., 1943. P. 103—105, 127—128,
367—370. См. также: Паули В. Влияние архетипических представлений на формирование
естественнонаучных теорий у Кеплера // Паули В. Физические очерки. М., 1975. С. 137—
175; Yates F. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964. P. 432—444.
13-3357
194
Глава III. Новое время и его проект
ших с авансцены культуры эзотерическую традицию Ренессанса, внесшую свой
вклад в генезис новой науки. Переживающая небывалый подъем и обновление
наука наделяется задачами, носящими эрзац-религиозный характер (совершен-
ствование человека и общества, установление «царства человека» 6 на Земле
на основе прогресса знаний и их практического применения). И тем самым она
может рассчитывать на замещение в скором времени религии в качестве цент-
ра нового культурного поля. Таким образом, религия, наука и эзотерическая
традиция расходятся по своим новым культурным «нишам».
Ситуация постмодерна характеризуется инверсией соотношения указанных
культурных феноменов. Действительно, человек постмодерна стремится к но-
вым смыслообразующим горизонтам, не отказываясь при этом от науки. Но в
глубине своего существа он уже не склонен наделять ее своего рода религиоз-
ной миссией, возлагая на нее и только на нее свою самую серьезную надежду
на преодоление противоречий своего времени. Напротив, религия, «перезимо-
вавшая» суровое для нее время казавшейся неодолимой секуляризации, пре-
вращающей ее в лучшем случае в Privatsache, надеется играть более значи-
тельную роль в обновленном культурном ансамбле нового тысячелетия. Что
же касается эзотерической традиции, также испытывающей несомненный
подъем в эпоху постмодерна, то ее функции в культуре по отношению к науке
не только меняются по сравнению с началом модерна, но и прямо инвертиру-
ются. Действительно, теперь эта традиция с почтенным возрастом вносит свой
вклад в изменение образа науки, воздействуя скорее на ее созерцательную сто-
рону, чем на практическо-утилитарную, как это было в период ее генезиса в
начале модерна. Эзотеризм, неоязыческие и восточные доктрины пытаются при
этом изменить менталитет «научного человека» с тем, чтобы «экологизировать»
его сознание, развив потенции «мягкого» диалога с природой, установив свое-
го рода новый антропокосмический союз. Иными словами, в противополож-
ность тенденции к дифференциации указанных культурных форм, характер-
ной для модерна, в эпоху постмодерна начинает проявляться обратная тенден-
ция — к сближению религии, науки и эзотерической традиции.
В связи с указанными синтетическими тенденциями и с наметившимся в
наши дни кризисом проекта нового времени актуальным, на наш взгляд, ока-
зывается заинтересованное продумывание прежде всего тех его вариантов, в
которых была сделана попытка органически соединить метафизическое умо-
зрение, новую науку и религию, примирить враждующие христианские кон-
фессии. Эти наиболее универсальные и гармонически полно охватывающие
Концепцию «царства человека» (regnum hominis, the kingdom of man) развивал Ф. Бэ-
кон: «Пусть вход в царство человека, основанное на науках, будет почти таким же, как вход
в царство небесное...» (Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 33).
Проект модерна: возникновение и кризис
195
все сферы человеческой деятельности проекты по сути дела обогнали свое время
и поэтому не могли быть им в полной мере приняты и оценены (Я. А. Комен-
ский, Г. В. Лейбниц). Но именно они в силу своего культурного универсализма
обладают мощным запасом исторической прочности, делающим их актуаль-
ными в наше время.
Сделаем теперь предварительные замечания другого рода, носящие мето-
дологический характер. Мы отличаем явный «текст» культуры определенной
эпохи (он выступает как нечто статическое) от ее «подтекста», который дина-
мичен, но как «подтекст» менее явен. Действительно, в начале нового времени
даже явно синтетические формулы («текст») в конце концов вели к дифферен-
циации указанных культурных феноменов («подтекст»). В эпоху же наметив-
шегося конца нового времени даже видимое и привычное разобщение указан-
ных культурных явлений, давно ставшее нормой, не препятствует их схожде-
нию.
В нашем сопоставительном анализе соотношения религии, науки и эзоте-
рической традиции язык кинематики (схождение — расхождение, интеграция —
дифференциация и т. п.) не означает, что сами сходящиеся/расходящиеся куль-
турные феномены остаются, как в механике, константами. Нет, вся эта кинема-
тика (термин здесь метафоричен), как и ее инверсия (это один из главных на-
ших выводов), обусловлены качественными преобразованиями как самих дан-
ных культурных явлений, так и поля культуры и общества в целом. Иными
словами, анализ, ведущийся, казалось бы, в формальных терминах, выражает
процессы качественных содержательных мутаций культуры и изменения ха-
рактера самой переходной эпохи.
Речь у нас идет по преимуществу о процессах и тенденциях. Мы фокусиру-
ем внимание не столько на самих культурных функциях, т. е. не на религии,
науке, эзотерических движениях самих по себе, сколько на их «дифференциа-
лах», на направленности их изменчивости, на векторе их текучести. Культура,
по нашему мнению, — нелинейно действующий, а значит, самодействующий
организм. В ее строении можно различать два слоя — наружный интеграль-
ный и внутренний дифференциальный. Мы будем наблюдать в особенности за
вторым. И затем соотношение этих «дифференциалов» сравним на «входе» в
новое время и в его начале и, соответственно, на «выходе» из него.
Возникновение проекта модерна
Считавшийся вечным и наделенным божественными санкциями порядок в
обществе и культуре, в науках и образовании, построенных на традициях сред-
невекового аристотелизма, рухнул. Задача нахождения нового порядка такого
же масштаба — главный императив эпохи. Поиски его — ответ на этот вызов.
13*
196
Глава III Новое время и его проект
В этих поисках смелые новаторы — Ф. Бэкон, Р. Декарт, Я. А. Коменский — во
многом движутся по сходным траекториям, что не отменяет, впрочем, суще-
ственных различий между ними.
На подобный поиск устремляются и такие, не менее образованные и дина-
мичные натуры, как М. Майер (1566—1622), Р. Флудд, И. В. Андреэ (1586—
1654), продолжающие ренессансные традиции герметического и мистическо-
го эзотеризма. Обозначенные всеми этими именами линии поисков можно ус-
ловно назвать рационалистическо-экзотерическим и, соответственно, герме-
тическо-эзотерическим направлениями. В начале XVII в. непроходимой про-
пасти между ними еще не возникло. В проектирование образа будущего поряд-
ка пытались внести свой вклад все перечисленные выше деятели.
Со стремлением к новому порядку связана и ключевая идея эпохи — идея
правильного пути или метода. Действительно, из состояния затянувшегося ха-
оса и беспорядка нужно было найти выход или верный путь. Греческое слово
«метод» (ц |ié9o5oç) и означает путь, ведущий к цели. Старый порядок, оказав-
шийся беспорядком, и новый искомый порядок связываются путем-методом.
Найти его, четко сформулировав, чтобы можно было применять во всех сферах
деятельности (не только в познании и науках), — вот главная задача эпохи.
Важная функция идеи метода состоит в том, что она направляет поиски на со-
вершенствование ума, на преобразование интеллекта, на расчистку завалов,
оставленных старым путем-методом, который самыми радикальными новато-
рами признан не только не эффективным, но и просто ложным. Учение о мето-
де лежит в основе размышлений и Ф. Бэкона, и Р. Декарта, да во многом о том
же говорят Лейбниц и Коменский.
Ситуация кануна модерна характеризуется невиданным прежде, но неупо-
рядоченным ростом знаний, поддерживаемым широким распространением
книгопечатания и книготорговли. Книг стало слишком много, говорит Коменс-
кий, и отсюда заключает, что реформа знаний «более, чем необходима» 7. Дале-
ко не все из этой огромной массы знаний можно было считать настоящей или,
как говорил влиятельный представитель герметической традиции Г. К. Агриппа
(1486—1535), «сильной наукой» 8, открытия которой и ожидали от реформы
знаний в первую очередь. Сила знанию, как не без оснований считали тогда,
сообщается правильным методом 9. От подобного, методически организован-
7 Коменский Я. А. Избр. педагогические сочинения. М, 1982. Т. 1. С. 486.
8 По оценке Ейтс, «цель Агриппы в том, чтобы дать технические возможности и проце-
дуры для достижения более сильной, "творящей чудеса" философии... включающей в себя
герметически-каббалистическое ядро» (Yates F. A. The Occult Philosophy in the Elizabethan
Age. L., 1979. P. 46).
9 Лейбниц, например, таким образом формулировал эту связь: «После того как однаж-
Проект модерна: возникновение и кризис
197
ного знания ожидали теперь не столько просветления души или созерцатель-
ной настроенности ума, сколько практических достижений — победы над не-
вежеством, болезнями и нищетой. Все это и обещали реформаторы века — от
«розенкрейцеров» до Декарта и Коменского. Поэтому и неудивительна та вол-
на ажиотажа или энтузиазма, которая захлестнула почти всю Европу в связи с
так называемыми «розенкрейцеровскими» манифестами 10.
Возбуждение умов, спровоцированное манифестами «розенкрейцеров», ви-
димо, повлияло и на Декарта. Но в силу разных причин, в том числе и благода-
ря своему консерватизму Декарт придал этому герметико-розенкрейцеровско-
му импульсу подчеркнуто научное воплощение п. А Ф. Бэкон в это время был
уже слишком стар, чтобы «загореться» от поднятого «розенкрейцерами» ажио-
тажа, который Англию, кстати, не слишком и задел. Правда, в его последнем
неоконченном сочинении «Новая Атлантида» (1627) розенкрейцеровские мо-
тивы нетрудно обнаружить, о чем писала, в частности, Ф. Ейтс ,2.
В охваченных Реформацией странах религиозно-мистический импульс, не-
редко перекрывающийся с герметическим, играет главную роль в этих поис-
ках. «Ныне все мы ждем, — говорит Коменскому его собеседник, канцлер
Швеции, — пришествия Христа на суд» 13. Характерен для духа времени и такой
ды будут установлены характеристические числа для большинства понятий, род челове-
ческий обретет своего рода новый "органон", который значительно сильнее будет содей-
ствовать могуществу духа, чем оптические стекла содействовали силе глаз, и который бу-
дет настолько же превосходнее микроскопов* и телескопов, насколько разум выше зрения»
{Лейбниц Г. В. Соч. М, 1984. Т. 3. С. 416).
10 Впервые розенкрейцеровские манифесты появляются в рукописном виде в 1610 г.
(«Fama Fraternitatis...»), ас 1614 г. — в печатной форме. Переводы двух из них на русский
язык см.: Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. М., 1999. С. 411—442. Хотя сам Анд-
реэ признавал себя атором только одного манифеста («Химическая свадьба...»), его учас-
тие в их создании было гораздо большим. Сам он вскоре откажется от литературной игры
(ludibrium) в тайное общество с его особым мифом и придет к более эзотерическому, окра-
шенному в мифические тона и христиански ориентированному утопическому мировоззре-
нию. Новейшие исследования розенкрейцеровской проблемы отражены в книге:
Edighoffer R. Les Rose-Croix et la crise de conscience européenne au XVIIe siècle. P., 1998.
11 Основной источник для обсуждения влияния розенкрейцеровской литературы на Де-
карта — его биография: BailletA. Vie de Monsieur Des-Cartes. P., 1691. См. также: Yates F. A.
Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964. P. 452—453 (есть русский пере-
вод); Jama S. La nuit de songes de René Descartes. P., 1998. P. 210—217. См. ниже в гл. II:
«Герметизм, эксперимент, чудо: три аспекта генезиса науки нового времени», а также в
гл. III: «Сон в ноябрьскую ночь». С. 178—189.
12 Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. С. 230—237. «Мы собрали достаточно
подтверждений тому, — пишет английский историк, — что он (Бэкон. —В. В.) был знаком
с розенкрейцерским мифом и использовал его в своей притче» (С. 233—234).
13 Коменский Я. А. Избр. педагогические сочинения. Т. 1. С. 41.
198
Глава III. Новое время и его проект
вопрос, который он обратил к Коменскому: «Ныне, когда все на свете находит-
ся в крайнем противоречии, откуда у тебя надежда на столь всеобъемлющее
примирение?» А примирение, предлагавшееся Коменским, было действительно
предельно всеобъемлющим. Такой полноты и интенсивности реформаторской
мысли Европа больше уже не знала. Грандиозная всеохватность проектируе-
мой реформы (новой, наконец, победоносной) была не в последнюю очередь
следствием того, что царящий в мире беспорядок воспринимался как поистине
ужасающий. И ответ Коменского состоял, как это можно предположить, в том,
что установления нового универсального порядка ждет от человека сам Бог,
что это дело «небесного разума», «соработничества» человека с Творцом 14. Вера
и разум у чешского мыслителя без противоречий входят в состав мотивов про-
ектируемого великого преобразования, что удачно выражают процитирован-
ные выше слова («небесный разум») 15.
Импульсы реформаторской мысли Р. Декарта были другой тональности.
Для основателя новой науки характерна в моральном плане опора на рацио-
нальную этику в духе стоиков при сохранении верности своему королю и
католической церкви. У Декарта научный импульс доминирует надо всеми
прочими. «Книга мира» (le grand livre du monde) влечет его любопытство уче-
ного. Он явно настроен на то, чтобы научиться правильно, т. е. методически,
читать эту книгу и тем самым приспособиться к миру. Декарт хочет рацио-
нально выверенно, без ошибок, оставив заботу об ином мире священникам и
теологам, надежно устроиться в этом мире, разработав для этого «чудесную
науку» (la science admirable), способную беспредельно улучшать жизнь чело-
века, даже совершенствовать его природу, а не только побеждать болезни и
нищету 16.
14 Идея «соработничества» человека с Богом проводится в книгах «Всеобщего совета
об исправлении дел человеческих» (Панавгия IV, 2, Панортосия V, 18 и др. места). Всеоб-
щее исправление дел, по Коменскому, «будет произведено Христом, однако требует чело-
веческого соработничества» {Коменский Я. А. Избр. педагогические сочинения. М., 1982.
Т. 2. С. 454). О синергетике у Коменского см.: Funda О. A. Der Gedanke des Synergismus in
der Théologie von J. A. Comenius // Comenius als Theologe: Beitr. zur Internat. Wiss. Konferenz
«Comenius' Erbe u. die Erziehung des Menschen fur 21 Jahrhundert» (Sekt. VII). Hrsg. Von
Dvorak u. J. B. Lâsec. Prag, 1998.
15 Коменский Я. A. Указ. соч. T. 1. С. 85.
16 В марте 1637 г. Декарт пишет Мерсенну о своем главном сочинении, подготовленном
к печати: «Оно будет состоять из четырех трактатов на французском языке с общим назва-
нием "Проект Универсальной науки, могущей возвысить нашу природу на высочайшую
ступень совершенства"» {Descartes. Œuvres et Lettres / Textes présentés par A. Bridoux. P.,
1953. P. 958). Однако затем он дал своему сочинению другое, более скромное название
(«Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в на-
уках»).
Проект модерна: возникновение и кризис
199
Сравним Декарта с Коменским. Оба пережили политические смуты и смер-
тельные опасности. Но если Коменский свой личный опыт встречи со смер-
тью без прикрас и иллюзий переживает как точку поворота от «земли» к
«Небу», пытаясь вырваться из тьмы «мира» на спасительный свет (идея «Ла-
биринта мира и рая сердца»), то Декарт вообще не включает религиозно-
экзистенциальное измерение в свой проект. Его встреча в 1642 г. с Комен-
ским в Голландии четко выявила их разногласия. Для него подход Коменско-
го был слишком уж всеохватывающим, ибо в рациональную конструкцию
своего проекта чешский мыслитель включал и религию. Как сообщает нам
сам Коменский, Декарт, прочитав его «Предвестник всеобщей мудрости»
(1639), «выразил свое несогласие, увидев здесь примесь теологии» 17. Если
Декарт сознательно ограничивал свой проект рамками «естественного све-
та» разума, развивая его исключительно в границах научно-философского
дискурса, то Коменский был устремлен к полному синтезу науки, филосо-
фии, религии и практической жизни. Поэтому восприятие его образа не может
не двоиться. Действительно, с одной стороны, мы не можем не видеть в нем
приверженца новой механистической философии (в духе того же Декарта), а
с другой — он предстает перед нами как теолог и религиозный мистик ха-
рактерного реформаторского склада 18. Для него мир, в котором мы живем,
выступает как гигантский часовой механизм, но в то же время этот же мир —
настоящий гимн Славе Божией. Можно сказать, что, по Коменскому, мир —
часы, играющие хвалу Творцу, но часы, если так можно выразиться, еще не
окончательно обездушенные. Итак, если в пансофии Коменского реализует-
ся синтез науки, философии и религии, то у Декарта в его учении синтезиру-
ются только наука и философия 19.
В соответствии с этим у Коменского, в отличие от Декарта, большую роль в
построении его проекта играют библейские тексты. Назовем только два из них:
17 Коменский Я. А. Указ. соч. Т. 1. С. 31. О встрече Коменского с Декартом см.: Там же.
С. 36, а также: Blekastad M. Comenius. Versuch eines Umriss von Leben, Werk und Schicksal
des J. A. Komensky. Oslo; Praha, 1969. S. 338—339.
18 О Коменском как теологе в свете современных глобальных проблем говорится в тру-
дах конференции, посвященной его 400-летию: Commenius als Theologe: Beitr. zur Internat.
Wiss. Konferenz «Comenius' Erbe u. die Erziehung des Menschen fur 21. Jahrhundert» (Sekt.
VII) / Hrsg. von Dvorak u. J. B. Lâsek. Prag, 1998.
19 Замысел пансофии, справедливо говорит В. Бибихин, «соответствовал философской
и научной задаче эпохи: всемерно увеличивая познания и опираясь на это увеличение, обес-
печить для человека и человечества надежное, правильное положение как в мире, так и
перед лицом божества» {Коменский Я. А. Указ. Соч. Т. 1. С. 638). Правильное расположе-
ние человека в мире, по Коменскому, совпадает с его правильным положением по отноше-
нию к Богу.
200
Глава III. Новое время и его проект
пророчество из книги пророка Даниила (12,4)20, на которое в своем устремле-
нии к универсальной реформе знаний опирались и другие деятели эпохи (на-
пример, Ф. Бэкон), и утверждение из книги Премудрости Соломона (11, 21) о
том, что Творец все в мире «расположил мерою, числом и весом» 2|.
Устройство мира по мере, весу и числу, подтверждаемое авторитетом Биб-
лии, Коменский понимал по-своему, в далеком от буквализма чтении этого тек-
ста. Не разбирая здесь этого специально, можно сказать, что он рассматривал
указанное триединство (мера — число — вес) как синтетическую метафору
эффективного познавательного акта, формулируя на ее основе конкретные ука-
зания для реформы познания.
В рамках типичной для эпохи библейской экзегетики понимался и весь фор-
мулируемый великими реформаторами века проект, базирующийся на идее
возврата человека к состоянию райской невинности, чистоты и связанного с
ними его изначального господства над всем тварным миром. Этот возврат, по
Коменскому, должен был произойти благодаря универсальной реформе зна-
ний, образования, культуры и всего человечества в целом. По сути дела, ядро
проекта модерна можно представить как рационализацию религиозного соте-
риологического мифа. У Ф. Бэкона роль автономного разума в этом «возвраще-
нии», пожалуй, еще значительнее, чем в учении Коменского, для которого по-
добная сотериология немыслима без акта искупления, совершенного Иисусом
Христом, и без благодатных сил Неба. Поэтому он говорит о «соработниче-
стве» или, как сейчас любят говорить, «синергии» человека и Бога в сверше-
нии земной и небесной драмы, в доведении ее до окончательного итога. В от-
личие от теолога Коменского с его всеохватным универсализмом Ф. Бэкон, как
и Декарт (но по-другому), поглощен по преимуществу задачей реформирова-
ния разума с тем, чтобы он эффективно работал, подчиняя природу целям че-
ловека.
Сопоставим теперь Бэкона и Коменского на уровне поэтики мысли. Оба
действовали в рамках протестантской культуры. Протестантская культура стре-
мится zur Sache selbst, в суть самого дела. Таков и Коменский, духовный лидер
«чешских братьев», учившийся в Германии. К чему прикрасы, тонкости стиля,
чеканка слов? Надо брать за рога саму суть дела! А если эта ускользающая
суть проявляет себя как раз в стиле, в красотах словесных, в тонкости письма?
Такой же «сущностный» подход и у Бэкона. Но он ближе к традиции гума-
нистической риторики, увлекается красотой рассказа, нюансами античных ис-
20 «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени;
многие прочитают ее, и умножится ведение» (синодальный перевод).
21 «Нужно все исчислять, измерять и взвешивать, пока глазам нашим не откроется все-
общая гармония» {Коменский Я. А. Указ соч. Т. 1. С. 499).
Проект модерна: возникновение и кризис
201
торий, изяществом стиля. В отличие от Коменского он крупный художник сло-
ва, мастер письма и красноречия.
О Коменском этого не скажешь. Он зато устремлен неудержимо ко Всеедин-
ству. Он по-своему эсхатологичен. Он — экстремист духа. Ему нужно только
Целое, только Всё: всем людям дать всю полноту всей Истины или Идеала.
Всем и всю. Ни больше (ибо невозможно), ни меньше (ибо бесполезно).
Бэкон, напротив, любит деталь, частность. Он поэтизирует стиль естествен-
ной истории. И готов собирать и описывать все без исключения. С религией у
него иные, чем у Коменского, отношения. Коменский исходит из религиозного
начала. Правда, постепенно, быть может, под влиянием критики, в том числе и
со стороны Декарта, это начало у него стушевывается, как бы формализуется.
Но тем не менее остается. Частичное отступление собственного религиозного
начала дает место для гуманизма как религии. Это обнаруживается в двойном
чтении его сотериологической доктрины. Действительно, рай на Земле, счита-
ет он, достижим человеческим усилием богоподобного разума. Но второе чте-
ние — совсем другое: рай на Земле без вмешательства Бога с Его благодатью
невозможен. Характерно, что в обоих вариантах сотериологического проекта
речь идет о рае на Земле. Итак, рая на Земле можно достичь собственным уси-
лием человека, опираясь на присущий ему богоподобный разум (эту веру в
богоподобие разума человека разделял весь Ренессанс, например Шекспир). И
в то же время Коменский противоречит себе, утверждая, что это возможно только
при участии Бога как последнего и абсолютного гаранта его возможности. Бог,
считает Коменский, хочет счастья человека, рая для него на Земле. Событие
грехопадения у него отходит на задний план. И соответственно, высочайшей
экзальтации и возвеличиванию подвергается человек с его разумом. Здесь он
сходится с Бэконом.
Укажем на определенную перекличку тем и мотивов у Бэкона и Коменского
только на одном примере. Для обоих мыслителей ключевой фигурой, обеспе-
чивающей переход от мира неподлинности, тьмы и маскарада, неразумия и
беспорядка к миру истины, света и нового порядка, охватывающего всю сово-
купность вещей, выступает библейский царь Соломон. У Коменского он —
истинный пансоф, срывающий маски с лицемеров и лицедеев, разоблачающий
Королеву Мира, олицетворяющую у него псевдомудрость. У Бэкона же науч-
ная организация островитян Бенсалема называется Домом Соломона или «Кол-
легией Шести Дней Творения» 22, целью которой является установление «цар-
ства человека».
Антрополого-метафизическое основание проекта Коменского, особенно в
той форме, в какой он реализовался во «Всеобщем совете об исправлении дел
Бэкон Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 500.
202 Глава III. Новое время и его проект
человеческих», состоит в допущении возможности для человека как конечного
тварного существа вместить всю полноту божественного идеала. По сути дела,
Коменский считает человека «микробожеством». Он полагает возможным, что
тот свет истины, «который показал бы людям всё их благо, причем всем и все-
цело, вне всякого самообмана и заблуждения» 23, может быть полностью до-
стигнут. Слабый свет способен превратиться в «мощное свечение» 24. Это и
означает, что весь идеал доступен для воплощения всеми и целиком. А это и
есть презумпция «микробожия» человека, если и не «человекобожия». Беско-
нечное и абсолютное, считает Коменский, может стать уделом конечного и от-
носительного, каким является человек как тварное существо. Можно предпо-
ложить, что Коменский принимает эту основную свою презумпцию потому,
что на самом деле считает человека в принципе богоравным. И если актуально,
в данный момент, человек не богоравен, то это преодолимо с помощью средств,
предлагаемых самим Коменским. Причем уравняться с Богом человек может,
развивая активность разума, поддерживаемую верой (в этот союз Коменский
верил). И если богоравенство доступно для человека, то тогда понятно, что и
вмещение им всей полноты идеала тоже возможно. Поэтому, можно сказать,
что весь проект Коменского держится на его уравнивающей человека и Бога
антропологии: разрыв между ними минимизирован, пусть формально он и
заявлен, как того требует исповедание христианской веры. Это абсолютное
слияние со всей полнотой идеала называется у Коменского Панавгией, «сия-
нием всеобщего света» 25. Такова, на наш взгляд, основная предпосылка его
учения.
Присмотримся к сложной, но целостной метафоре Коменского, заданной
названием его драмы в прозе «Лабиринт мира и рай сердца». Обратим внима-
ние в связи с этим, что у деятелей Просвещения и затем у Маркса соотношение
«лабиринта» и «рая», характерное для Коменского, инвертируется, если сравни-
вать соответствующие содержательные аналоги этих понятий-образов. Действи-
тельно, у них речь идет уже не о «лабиринте мира», а, наоборот, о (будущем)
«рае мира» (или разума) и, соответственно, не о «рае сердца», а, наоборот, о
(прошлом) «лабиринте сердца» (или веры). «Лабиринт» и «рай» обменялись
своими значениями в ходе утверждения и доведения до логического конца того,
что было заложено в изначальном проекте модерна. Можно сказать, что вели-
кая метафора Коменского выворачивается наизнанку его отдаленными просве-
тительскими и сциентистскими последователями, превращающими его проект
с присущим ему христианским ядром в атеистическую утопию. Поэтому со-
23 Коменский Я. А. Указ. соч. Т. 2. С. 313. (Курсив Коменского. — В. В.)
24 Там же. С. 311.
25 Там же. С. 313.
Проект модерна: возникновение и кризис
203
вершившийся в наше время крах утопического мышления такого типа означа-
ет, что первоначальный проект модерна должен быть заново продуман, причем
именно в тех его редакциях, когда он был еще тесно связан с религиозным
духом и философской метафизикой.
Многочисленные сочинения Коменского оставляют двойственное впечатле-
ние. С одной стороны, — горячая искренность, подлинность его устремлений,
глубина пережитого опыта и несомненная актуальность его проекта (экуме-
низм, универсальность разума, идея всемирного совещания и сотрудничества
в осуществлении главных целей человечества и т. п.). Создается впечатление,
что современные глобальные процессы идут по прописям Коменского и, более
того, он им указывает и направление, и сам характер их развертывания. Но, с
другой стороны, в его творчестве ощутим и привкус оккультизма, утопизма как
утраты чувства истории, реализма и меры, а главное — чувства трагедии чело-
веческого бытия и его таинственной свободы. Иными словами, ощущение по-
стоянной теософической взвинченности, если не соблазна, не покидает чита-
теля его сочинений. Чувствуется, что все эти грандиозные и одновременно ра-
циональные по мысли и тону фантазии составлялись задолго до Канта, до его
критики разума. Ощущается атмосфера фантазийно-мистического «розенкрей-
церского просвещения» (выражение Ейтс), пусть Коменский и преодолевает
эзотеризм и тайнознание последнего.
Влияние розенкрейцеровской литературы на Коменского несомненно. Но
столь же бесспорно и то, что он не нашел в ней той великой истины, которую
искал. Итог своему «роману» с розенкрейцерами Коменский подвел в «Лаби-
ринте...», написанном после трагических событий 1620—1622 гг. Он прежде
всего отмечает необыкновенное возбуждение, произведенное их манифеста-
ми: «Каждый, — говорит Коменский, — просто горел желанием пробраться к
ним» 26. Видимо, желание вступить с ними в контакт сжигало и его самого, а
также, весьма вероятно, и Декарта. Однако прошения страстно желающих всту-
пить в тайное общество универсальных реформаторов, как пишет Коменский,
оставались без всякого ответа. В результате все заинтригованные искатели тай-
ной мудрости устыдились «своих надежд и напрасных трудов».
Общая идея розенкрейцеров и Коменского — идея «второго рождения», рож-
дения в духе, идущая из герметической традиции, но существующая и в соб-
ственно христианской культуре. В «Лабиринте...» «новым рождением» названа
точка радикального поворота от мира-во-тьме к Отцу светов и «раю сердца» 27.
26 Там же. Т. 1.С. 115.
27 «В мире совершаются дивные перемены, все готовится к новому рождению... Бог
крушит у племен и народов все, что ему неугодно, чтобы уготовить путь к лучшему» (Ко-
менский Я. А. Избр. педагогические сочинения. Т. 2. С. 509. Курсив мой. — В. В.).
204
Глава III. Новое время и его проект
Несмотря на большое впечатление, произведенное на него розенкрейцеровс-
кой литературой, включая и сочинения Андреэ, написанные после манифестов
(«Civis christianus...», «Peregrinus...»), Коменский пошел своим путем. «Если
они уверены в своих знаниях, — говорит Коменский о розенкрейцерах, — по-
чему же смело не выступят на свет, а свищут откуда-то из-за углов, из тьмы, как
летучие мыши?» 28 Именно розенкрейцеровская установка на тайнознание, на
эзотеризм секты «посвященных» становится для него, как и для Ф. Бэкона, со-
вершенно неприемлемой.
Универсальный проект Лейбница
Вершиной синтетической универсалистской мысли XVII в. наряду с Комен-
ским выступает Лейбниц. Между обоими мыслителями существует тесная связь.
Даже влияния, которые они испытали, во многом были одними и теми же. Так,
например, И. Г. Альштед (1588—1638), профессор теологии и философии в
Герборне, учитель Коменского, оказал своим творчеством воздействие и на
Лейбница, связанное с его луллианством. Ему импонировало у Алыптеда стрем-
ление соединить современную математику и научную мысль в целом с религи-
озно-мистическим умозрением 29. Как и некоторые другие мыслители, ищущие
синтеза расходящихся интеллектуально-духовных тенденций своего времени,
Лейбниц хотел встроить содержание христианского вероучения в объемлющее
рационалистическое мировоззрение. Его основу составляет отождествление
Бога со сверхмировым Разумом: «Бог, по нашему мнению, — говорит он в "Те-
одицее", — есть Intelligent^ extramundana, как выражается Марциан Капелла,
или, лучше, supramundana» 30. Именно в свете таким образом понимаемого ра-
зума религия откровения могла соединиться с механистической наукой ^.Лей-
бниц хорошо знал не только педагогические, но и пансофические труды Ко-
менского и предсказывал им великое будущее. Возможно, что знакомство с
идеями кардинала из Кузы происходило у него через посредство работ Комен-
ского. О том, что между ними было глубокое внутреннее родство, свидетель-
28 Коменский Я. А. Указ. соч. Т. 1. С. 173. Флудд, напротив, восхищался розенкрейцера-
ми, считая, что они смело раскрылись в своих сочинениях, несмотря на то, что его просьба
о присоединении к ним также осталась без ответа.
29 Работу Алыптеда «Architectura Artis Lullianae» двадцатилетний Лейбниц с большим
одобрением цитирует. Но впоследствии он полемизирует с ним и с его «Encyclopaedy» (См.:
Meyer R. W. Leibniz und die europàische Ordnungskrise. Hamburg, 1948. S. 102. Anm. 165).
30 Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. М., 1989. Т. 4. С. 283.
31 Соотношение философии и теологии Откровения у Лейбница подробно анализирует-
ся в книге: Antognazza M. R. Trinità e Incarnazione: Il rapporto tra fîlosofia e teologia rivelata
nel pensiero di Leibniz. Milano, 1999.
Проект модерна: возникновение и кризис
205
ствует и тот факт, что Гёте открыл для себя мир мысли Лейбница благодаря
изучению сочинений чешского мыслителя 32.
Для Лейбница противоречия между античным наследием и христианством
не было в принципе. Они для него сходились в «естественной теологии» разу-
ма как единого начала истины, добра и красоты. Обращение к «высшей разум-
ности», по его мнению, позволяет избежать кажущейся несовместимости ме-
ханистической науки с христианской верой. Он считал, «что нельзя вывести
принципы физики из законов математической необходимости, но для их обо-
снования следует в конце концов обращаться к высшей разумности. Благодаря
этому благочестие примиряется с разумением, и если бы Г. Мор и др. ученые и
благочестивые люди приняли это во внимание, то они менее опасались бы того,
чтобы религия сколько-нибудь пострадала вследствие развития механистиче-
ской или корпускулярной философии» 33. Как и Мерсенн, но с иным обоснова-
нием своей позиции, Лейбниц считал, что механистическая философия и на-
ука «вовсе не отклоняет от Бога и нематериальных субстанций» 34. Поэтому
мы можем сказать, что объединяющим ядром синтетизма и универсализма Лейб-
ница выступает именно его метафизика, включающая прежде всего учение о
верховном разуме, динамических монадах и предустановленной гармонии. В
свете такой метафизики разума христианское благочестие, согласно Лейбницу,
может только укрепляться. Если у Коменского религиозно-мистическое нача-
ло его построений составляет одушевляющий их центр, то у Лейбница, напро-
тив, энергию всему дает высокое метафизическое умозрение, благородство и
возвышенность которого не только не позволяют ему выступать против рели-
гии, но и служат основой для ее утверждения и защиты от поднимающегося
неверия, стремящегося противопоставить ей новую науку, якобы необходимо
ведущую к материализму и атеизму.
Как Ф. Бэкон, Декарт и Коменский, Лейбниц верит, что прогресс наук при-
несет людям счастье. В связи с разработкой идеи об «универсальной характе-
ристике», которую он понимал как алфавит истинных мыслей, позволяющий
ими методически оперировать и тем самым устанавливать новые истины, Лей-
бниц планировал написать книгу под названием «Архитектонические науки о
Мудрости и Счастье». «В этой книге, — говорит он, — будет показано, что мы
можем всегда быть счастливы и становиться все счастливее, и будут названы
некие средства приумножения счастья, в чем и состоит назначение всех наук» 35.
Подобно проекту Ф. Бэкона всеобщая наука, разрабатываемая Лейбницем, дол-
MeyerR. W. Op. cit. S. 103.
Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. M., 1982. Т. 1. С. 210-211.
Там же.
Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 3. С. 397.
206
Глава III Новое время и его проект
жна была содержать в себе также «методическую постановку новых экспери-
ментов» с целью, чтобы «и здоровье, и другие блага приятной жизни» не были
при этом упущены 36.
Именно Ф. Бэкон в большей степени, чем другие мыслители XVII в., спо-
собствовал пробуждению реформаторских устремлений Лейбница. В авто-
биографических набросках, где немецкий философ выступает под псевдони-
мом Пацидия, он сообщает о себе: «К счастью, случилось так, что в руки
юноши попали проекты достославного канцлера Англии Френсиса Бэкона,
касающиеся приумножения наук» 37. О том, что грандиозный замысел Ф. Бэ-
кона был глубоко усвоен им в юности, Лейбниц сообщает и в другом месте:
«Бэкон и Гассенди прежде других, — пишет он, — попали мне в руки, их
простой и изящный стиль оказался более доступным для человека, стремяще-
гося прочесть все» 38. «Несравненный», «великий муж», «человек божествен-
ного ума» — эти характеристики английского мыслителя — не преувеличе-
ния в устах Лейбница. Он действительно ставил очень высоко тот поворот
мысли от схоластической лжемудрости со всякими «этостями» и «этовостя-
ми» 39, который вывел философию из «лугов воображения» на твердую почву
«практических потребностей жизни» 40. Лейбниц принимает стремление
Ф. Бэкона к «приумножению наук», к их всеобъемлющей реформе в целях
улучшения положения человека в мире, но расходится с ним частично в том,
как этого достичь. Признавая выдающуюся роль Ф. Бэкона в обновлении фи-
лософии и наук в целом, Лейбниц при этом обращает внимание на то, «что
великому мужу недоставало досуга и более глубокой эрудиции и, конечно,
безупречной математической строгости суждения... Он придавал слишком
большое значение эмпирической философии, через которую путь к истине
слишком долог, в то время как многое из того, что он предлагал исследовать
с помощью таких экспериментов, постановка которых едва ли по карману
царю, могло быть открыто и доказано посредством верных рассуждений» 41.
Близким Лейбницу было и положение Ф. Бэкона о том, что между разумом и
верой нет непримиримых противоречий, что на своих высотах разум не уво-
дит, а, напротив, приводит к истинам религии 42. Итак, принимая проект
Ф. Бэкона, Лейбниц корректирует пути его осуществления, подчеркивая роль
36 Там же. С. 442.
37 Там же. С. 410.
38 Там же. С. 269.
39 Там же. С. 71.
40 Там же.
41 Там же. С. 426.
42 Там же. Т. 1.С. 78.
Проект модерна: возникновение и кризис
207
рациональной мысли, прежде всего математики и логики, в достижении его
целей — «приумножения наук» на благо человека.
Подобно Ф. Бэкону, Декарту и Коменскому Лейбниц хотел поставить задачу
ускоренного развития всех наук на прочный теоретический и методологиче-
ский фундамент с целью максимально быстрого прогресса благосостояния
людей. Но если в начале века Ф. Бэкон больше думал об исправлении зна-
ний, то Лейбниц в его конце стремится прежде всего к ускорению в их прира-
щении. Так, например, он говорит о том, что знает, как достичь того, чтобы
рост медицинских знаний ускорился в десять раз. По отношению к некото-
рым своим предшественникам, прежде всего к Коменскому, Лейбниц высту-
пает как более трезво-практически и реалистически мыслящий деятель, луч-
ше чувствующий политическую ситуацию. В его проектах меньше утопистс-
кого глобализма. Своими планами об «универсальной энциклопедии» всех
знаний он заглядывает в близкое будущее, в век энциклопедистов 43. Гармо-
ническая, классическая, благородная душа Лейбница ставит проектируемую
всеобщую энциклопедическую науку очень высоко, но, что существенно,
после «благочестия и справедливости, дружбы и здравия» 44. Обозначив свои
приоритеты, Лейбниц добавляет: «Я дерзнул бы утверждать, что у обладате-
ля этой науки само благочестие и справедливость будут следовать неизмен-
но, а дружба и здоровье — в большинстве случаев» 45. Но, с другой стороны,
вопреки этой принимаемой им иерархии ценностей он саму веру подчиняет
рациональной всеобщей науке, в которой истины о Боге и душе, как он счи-
тает, строго доказываются. По сути дела гармония веры и разума по Лейбни-
цу достигается тем, что вере все же приходится несколько потесниться, чтобы
в гармонически устроенном здании Разума найти себе место. Даже любовь к
Творцу, основное религиозное чувство, он считает выводимым из разумных
оснований. Действительно, если прогресс наук будет все полнее и очевиднее
раскрывать премудрость и всеблагость Творца в природе, то тем самым он
усилит, как считает Лейбниц, и благочестие, вызвав подъем веры. И в этом
он видит, кстати, высшее оправдание науки помимо ее общепонятного ути-
литаристского и прагматического оправдания. Даже монастырская жизнь,
полагает философ, может усовершенствоваться и должным образом возвы-
ситься, если монахов будут обучать естественным наукам: «Только тогда, —
писал он, — род человеческий сделает большие успехи в изучении природы,
когда любознательность проникнет в монастыри и когда будет вменяться в
благочестие обитателям их восхваление божией мудрости изучением ее чу-
Тамже. Т. 3. С. 436.
Там же. С. 441.
Там же.
208
Глава Ш. Новое время и его проект
десных творений» 46. Лейбниц настолько непоколебимо верил, что между
научным познанием и верой невозможны никакие противоречия, что совер-
шенно не опасался развития научной любознательности в духовном сосло-
вии. И как почти во всех его проектах за его универсальными синтетическими
установками стояли и прагматические расчеты. Так, например, педагогиче-
ская реформа монастырского образования была бы в высшей степени целе-
сообразна, считает он, и с экономической точки зрения, позволяя сберегать
огромные силы людей, которые тратятся на пустые слова. К этому убежде-
нию Лейбница можно найти еще одно объяснение — не знающий меры ра-
ционализм лишал великого мыслителя должного понимания эстетического
начала, заставляя его считать, что церковные песнопения (carmina) приносят
людям несравненно меньше пользы в смысле укрепления благочестия, чем
занятия точными науками. «Я занимаюсь математическими науками, — го-
ворил он, — не ради них самих, но для того, чтобы посредством их прине-
сти пользу религии» 47. Пользу эту он представлял себе в разных аспектах. В
частности, он рассчитывал с помощью математически точных рассуждений
совершенно строго доказать возможность всех основных таинств христиан-
ской религии.
Анализ попыток Лейбница примирить враждующие христианские конфес-
сии (протестантизм и католицизм, о восточном христианстве речи в те годы не
шло) позволяет поставить некоторые важные вопросы, в том числе и вопрос о
причинах удивительного динамизма европейской истории. Одним из способов
содействовать примирению конфессий Лейбниц считал нахождение таких
богословских форм изложения христианского вероучения, которые были бы
приемлемы для всех умеренных людей обеих сторон. Для этого он задумал и
написал изложение основоположений христианской веры с католической точ-
ки зрения, которое он хотел опубликовать, не раскрывая своего собственного
вероисповедания, так как понимал, что предрассудки у католиков по отноше-
нию к протестантам помешают беспристрастному его рассмотрению. Сама идея
написать такое изложение христианского учения с позиций противоположной
его автору конфессии обнаруживает в Лейбнице не только глубокого теорети-
ка, но и опытного практика и дипломата. Действительно, такой текст не мог не
представить христианское кредо с учетом точек зрения обеих конфессий, нахо-
дящихся в споре и даже вражде между собой. Поэтому такое его изложение не
могло не сблизить разошедшиеся позиции обеих церквей. Это тем более был
верный расчет, что сам Лейбниц не только превосходно знал историю, теорию
и практику католицизма, но его связывали со многими видными католиками
Цит. по: Герье В. Лейбниц и его век. СПб., 1868. С. 363.
Там же. С. 278.
Проект модерна: возникновение и кризис
209
дружеские и научные связи. В благожелательности, чистосердечии и такте не-
достатка у Лейбница не было. И поэтому его попытки действительно могли бы
способствовать нахождению взаимоприемлемых вероисповедных формул для
достижения искомого примирения. Но почему же Европа конца XVII в. не по-
шла по пути воссоединения христианских конфессий, хотя и в это время, и
раньше за эту великую цель боролись не только Лейбниц, а многие деятели с
обеих сторон?
Ответить на этот вопрос непросто. Можно лишь констатировать, что возоб-
ладал не универсалистский, а, напротив, партийный подход со своим фанатиз-
мом и узостью взгляда. Почему уже произошло именно это? Попытаемся отве-
тить на таким образом сформулированный вопрос, прибегая к некоторым пред-
ставлениям, развитие которых требует специального рассмотрения и выходит
за рамки нашего исследования. Мы можем сказать, что исторические процес-
сы скорее следуют цивилизационным императивам, чем логосу высшего куль-
турного сознания, носителями которого выступают самые выдающиеся пред-
ставители культуры. Иными словами, в истории действует прежде всего фак-
тор массового сознания и действия, закон, так сказать, «больших чисел», а не
закон «выдающихся единиц». И в связи с этим можно сказать, что культура,
которая не может не меряться по ее вершинам (Лейбниц — одна из них), и
цивилизация — это разные реальности и понятия. В истории действует, конеч-
но, и то, и то. Но эти действия носят нередко антагонистический характер. Да,
культуру и цивилизацию связывает общее им начало, идущее от культурного
творчества. Но между ними существуют и противоречия, причем в данном слу-
чае речь идет об очень глубоком противоречии, которое вообще не может быть
примирено или «снято» раз и навсегда. Речь идет о самом фундаментальном
для истории Европы противоречии в ее основаниях — о противоречии между
наследием греко-римского древнего мира и наследием христианства. Именно с
помощью этих основных координат европейского сознания объяснимо и ука-
занное нами различие между культурой и цивилизацией Европы. В ее культуре,
можно сказать и так, присутствие христианских ценностей вообще значитель-
нее, чем в ее цивилизации. Культура, персонифицированная в разбираемом нами
случае Лейбницем, натолкнулась на ее непонимание со стороны современной
ей цивилизации. В частности, проект великого философа не нашел понимания,
а поэтому и поддержки, у его покровителя, герцога Ганноверского, который
интересовался примирением церквей с чисто утилитарной и даже эгоистиче-
ской позиции, рассчитывая в случае успеха получить звание курфюрста, сбли-
зившись с католическим двором императора. И поэтому позиция метафизика и
теолога-универсалиста вообще была ему чужда — ему достаточно было чисто
политического конкордата. Но Лейбниц (ипостась культуры) хорошо понимал
вторичность политического самоопределения по отношению к духовно-мета-
14-3357
210
Глава III. Новое время и его проект
физическому и религиозному. И поэтому он стремился именно здесь, на выс-
ших этажах культурного сознания, сблизить разошедшиеся ветви некогда еди-
ного христианства западного мира.
Противоположность между античным и христианским наследиями высту-
пает, на наш взгляд, универсальным основанием для наполнения конкрет-
ным содержанием самых различных оппозиций и различений в составе
европейской истории, внутри сознания и практики европейцев. Мы уже свя-
зали это основополагающее обстоятельство с различением «культуры» и «ци-
вилизации». История примирения разошедшихся христианских конфессий в
XVII в. связана с амбивалентностью самих истоков Европы именно через по-
средство этого противоречия между культурными и цивилизационными ее
факторами. Историю Европы вообще мы можем представить себе как неус-
тойчивую систему культур-цивилизационного комплекса, в котором времен-
ное относительное равновесие его компонент сменяется доминированием ци-
вилизационного момента или начала. Цивилизационное же начало само по
себе есть начало по преимуществу имперско-римское, правовое и даже —
силовое, милитаристское. Именно поэтому кризисы европейской культуры
совпадают с усилением греко-римско-языческого вектора в составе европей-
ского исторического комплекса (например, в период Ренессанса в XV—
XVI вв.). В XVII в. действуют оба момента: если сами войны, занявшие боль-
шую часть этого века, числить по разряду римско-языческого фактора, то
присутствие в них существенной религиозной составляющей заставляет от-
нести ситуацию частично и к координате христианского наследия. Однако
неудача примирительных попыток, а их было немало, и они носили далеко не
случайный и спорадический характер, говорит о том, что верх взяло цивили-
зационно-римско-языческое начало. Подобный спор двух начал европейской
истории и составляет основную причину ее удивительного динамизма, когда
кризисы следуют за кризисами.
Универсально мыслящие люди, стоявшие в XVII в. над схваткой партий,
пусть они сами в силу своего происхождения и симпатизировали больше од-
ной из них, такие, как Я. А. Коменский и Г. В. Лейбниц, в конце концов не были
поняты своими современниками, можно сказать, своим временем. Цивилиза-
ционный механизм эпохи уже приспособился к партийной структуре простран-
ства публичности, допуская в лучшем случае частичное механическое полити-
ческое сглаживание основных противоречий, а не их органический синтез, воз-
можность которого усматривалась на вершинах культуры. Вот некоторые фак-
ты истории. Сочинение Лейбница, в котором он как протестант Аугсбургского
вероисповедания представил христианское вероучение с позиций католика под
заглавием «Systema Theologicum», было опубликовано только в XIX в., проле-
жав сотню лет в полной неизвестности. Аналогичным образом рукопись глав-
Проект модерна: возникновение и кризис
211
ного труда Коменского была найдена только в 30-х годах XX в. (в архиве дет-
ского приюта г. Галле) и опубликована на языке оригинала (латынь) только в
1966 г. (в Праге). И то и другое сочинения были известны близким друзьям их
авторов и влиятельным людям, но не получили их поддержки. И причину этого
непонимания мы видим в том, что в конце XVII в. европейское сознание
испытывает очередной кризис: на этот раз зашаталось классицистское куль-
турное сознание и классическое мышление (Лейбниц, да и, пожалуй, до него
Декарт его представляли наилучшим образом в философии), и Европа, не осо-
бенно задумываясь о последствиях, устремилась к радикальной секуляриза-
ции своей культуры. Именно в эти кризисные десятилетия, отделяющие клас-
сическую эпоху от Просвещения, метафизика с ее универсальными проекта-
ми, по крайней мере частично, стала внедряться в салоны и в более широкие
слои образованных людей, утрачивая, однако, при этом и глубину и высоту.
Вместо высокого и благородного рационализма Лейбница возникает поверх-
ностный и усредненный, но зато догматический и даже фанатический рацио-
нализм предпросветителей и деятелей Просвещения. Вместо подлинного уни-
версализма культурно-интеллектуального синтеза возникает односторонний
рационализм и материализм, давшие, прежде всего, на французской почве со-
циализм. И только в Германии, причем не без влияния Лейбница и Коменского,
происходит во второй половине XVIII в. возрождение великой универсалист-
ской культуры.
Заключая этот анализ, мы можем сказать, что Европа — это вечный спор ее
начал, хотя короткие передышки изредка примиряют их. И поэтому, когда она
присягает на верность одному из них, то другого при этом стремится букваль-
но уничтожить... Фанатизм инквизиции, ожесточенные религиозные войны
XVI—XVII веков отталкивали европейцев от христианства вообще. Реформа-
ция, разразившаяся в начале XVI в., не излечила болезни исторического быто-
вания западного христианства. Она только усугубила конфликты, дав толчок к
безудержной секуляризации, выводящей европейское сознание вообще из хри-
стианского культурного смыслового поля. А это привело уже в XX в. к еще
более чудовищным, чем в XVI—XVII вв., войнам, на сей раз не религиозным,
а атеистическим. Проблема гармонии между основными компонентами насле-
дия Европы приобрела тем самым еще больший размах и накал. И сегодня, в
начале III тысячелетия, когда глобализационные процессы развертываются с
небывалой скоростью и силой, как никогда актуальной становится мысль та-
ких универсалистов, как Коменский и Лейбниц.
14*
212
Глава III. Новое время и его проект
Соотношение интеграции и дифференциации
религии, эзотерики и науки
Рассмотрим теперь более пристально соотношение интеграции и диффе-
ренциации указанных культурных феноменов в начале модерна. Несомненно,
магико-герметическая традиция Ренессанса, еще очень активная в первой чет-
верти XVII в., предоставляла возможность соединения многих явлений куль-
туры, вплоть до политики, но, разумеется, на своем специфическом, оккульт-
ном и эзотерическом, основании. По самому типу культуры мысли эзотеризм
естественным образом тяготеет к подобной культурной «синтетике». Правда, в
действительности производимые на его базе попытки синтеза оказывались,
строго говоря, парасинтезами, не могущими удовлетворить ни научно ориен-
тированный разум, ни опирающееся на традицию религиозное сознание. По-
добный парасинтез, предлагаемый, в частности, Р. Флуддом, не устраивал ни
ученых нового типа, ни представителей традиционной религии (и тех и других
сразу представлял, например, М. Мерсенн). То, что предлагал в начале модер-
на эзотеризм, было, скорее, алхимической «смесью» религиозности, науки и
философии, чем их настоящим синтезом.
В конце концов спиритуалистически и герметически ориентированная тен-
денция к синтезу «работала» не на интеграцию различных подразделений куль-
туры, а, напротив, на их дифференциацию. Можно говорить о своего рода «обо-
рачивании» первоначальной интенции в ее результатах. Механизмы такого
оборачивания можно показать, анализируя воздействие «герметического импуль-
са» на Ф. Бэкона или Р. Декарта. В итоге в выдвинутых ими вариантах проекта
модерна религия отслаивается от науки и философии. Более того, у Бэкона даже
философия в какой-то мере вытесняется из сферы научного дискурса или, ско-
рее, подчиняется ему, почему энциклопедисты XVIII в. и считали его, а не
Декарта основателем новой науки.
В это переходное время (первая четверть XVII в.) основу динамики куль-
турных процессов образует напряженная конкурентная борьба за лидерство в
обновляющемся культурном ансамбле48, развернувшаяся прежде всего между
магико-герметической традицией Ренессанса и набирающей силы новой нау-
кой с соответствующим типом сознания. От Ф. Бэкона и до Лейбница универ-
салистские проекты модерна создавались под воздействием герметической
традиции. В связи с этим обратим внимание на два момента. Коменский стро-
ит свою пансофию на принципе аналогии, понимаемой им как онтологическое
48 К. Хюбнер вводит понятие «исторического системного ансамбля» (Хюбнер К. Крити-
ка научного разума. М., 1994. С. 159). Мы предпочитаем говорить о культурном ансамбле,
имеющем свое историческое измерение.
Проект модерна: возникновение и кризис
213
и эпистемологическое начало. Но именно аналогия как форма подобия лежала
в основе эпистемы Ренессанса49. Подобным же образом Бэкон строит свой
проект Великого Восстановления наук (Instauratio Magna Scientiarum), исходя
из понятия формы, принадлежащего также веку уходящему — традиции сред-
невекового аристотелизма.
Итак, наиболее представительные, влиятельные и универсальные проекты
модерна, строго говоря, в его эпистему не входят, демонстрируя типичный стиль
переходной эпохи. Мы приходим к выводу, что самый мощный пафос универ-
сализма в канун модерна исходил не от самих «модернистов», а от «архаистов»,
точнее, «архомодернистов». Напротив, мыслители, наиболее полно воплощав-
шие новый научный дух, особым универсализмом не отличались. Таков, на-
пример, Декарт, универсализм проекта которого ограничен рамками науки 50.
Он устремлен к созданию универсального научного метода, к реформе наук на
его основе, к достижению ими практической эффективности. И в этом смысле
его проект безусловно лежит в русле реформаторской мысли времени наряду с
проектами более универсальными и, одновременно, более утопическими, как
у Ф. Бэкона и тем более Коменского.
Итак, самые радикальные варианты проекта модерна выдвигались теми
мыслителями, которых мы не можем отнести к «модернистам» из-за преобла-
дания в их «наукоучении» «архаической» парадигмы. Радикальность проекта
здесь понимается как всеохватность прокламируемых в нем задач и, соответ-
ственно, как признание неограниченности возможностей человека. Этот ради-
кализм имеет свои корни в магико-герметической традиции уходящего Ренес-
санса. Как мы уже подчеркивали, проект Коменского во многом зависит от ее
позднейшей, розенкрейцеровской, разновидности. Что же касается Ф. Бэкона,
то радикализм его проекта выражается в признании достижимости исчерпыва-
юще полного познания сущности всех природных процессов, овладение ими с
помощью знания, полное восстановление которого, а тем самым и самого че-
ловека, должны привести к возвращению его господства над всем тварным
миром, которое он утратил в результате грехопадения.
Действительно, Ф. Бэкон считал, что за освобождением, исправлением и
очищением разума «неизбежно последует улучшение положения человека и
расширение его власти над природой. Ибо человек, пав, лишился невинности
и владычества над созданиями природы. Но и то и другое может быть отчасти
49 Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977. С. 66—68.
50 «Я не выйду за пределы философии, следовательно, у меня будет лишь часть того,
что у тебя будет целиком», — сказал Декарт Коменскому во время их встречи, о которой мы
уже говорили выше (Коменский Я. А. Избр. педагогические сочинения. Т. 1. С. 36). Фило-
софия здесь не отличается от науки.
214
Глава III. Новое время и его проект
исправлено и в этой жизни, первое — посредством религии и веры, второе —
посредством искусств и наук. Ведь проклятие не сделало творение совершенно
и окончательно непокорным» 51. Хотя радикализм проекта здесь слегка смяг-
чен («отчасти исправлено», говорит Бэкон), но он безусловно включен в рели-
гиозный контекст, на который последователи Бэкона и особенно его ревност-
ные почитатели среди энциклопедистов станут обращать все меньше и мень-
ше внимания.
Эсхатологический пафос в проекте универсального «исправления дел чело-
веческих» у Коменского звучит еще сильнее, чем у Ф. Бэкона. Важным момен-
том у него выступает, как мы уже говорили, идея «соработничества» человека
и Бога в его осуществлении. «Соработничество» — синергийное измерение
активности человека, вступающей в резонанс с божественной энергией. Про-
ект Коменского продуманно строится максимально полным, всеохватывающим
образом. Начинается он с «панегерсии», или всеобщего пробуждения, и закан-
чивается «панортосией», или всеобщим исправлением. У Бэкона же, хотя у него
и есть незавершенная попытка целостного представления проекта «нового че-
ловека» («Новая Атлантида», 1627 г.), мысль сосредоточена по преимуществу
на его научно-эпистемологическом измерении. У Декарта же религиозное и
политическое наполнение проекта вообще отсутствует, что явно расходится с
тем, как проект универсальной реформы мыслился в эзотерической традиции.
Импульс к всеобъемлющей новой Реформе (старая, лютеровская, казалась во
многом неудавшейся) исходил прежде всего из мистически настроенных, гер-
метически и оккультно ориентированных протестантских кругов, к которым
принадлежал, в частности, И. В. Андреэ. Коменский признавал его огромное
воздействие на его пансофию 52.
Мы можем констатировать, что интенция на синтез религии и науки исхо-
дит скорее из мистико-эзотерических кругов, чем от новонаучных, выполняю-
щих программу Бэкона или Декарта. Правда, здесь надо подчеркнуть, что от-
сутствие противоречия между новой наукой и религией усиленно подчеркива-
лось такими деятелями, как Мерсенн. Но осознание ими их взаимной связи
было направлено на реабилитацию механистического естествознания как за-
конного спутника религии, оказывающего ей поддержку в борьбе с общим вра-
гом — герметической традицией. Главной же целью того же Мерсенна или
Ф. Бэкона был не столько синтез религии и наук, сколько развитие наук, орга-
низация планомерного производства научных открытий, распространения ин-
51 Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 213. (Курсив мой. — В. В.)
52 От него, пишет он Гезенталеру в письме от 1 сентября 1656 г., «я почерпнул почти все
первоначала моих пансофических размышлений» (Коменский Я. А. Избр. педагогические
сочинения. Т. 2. С. 516).
Проект модерна: возникновение и кризис
215
формации о них и т. п. Было ясно осознано, что синтез науки и религии на базе
оккультизма опасен и для настоящей науки и для полноценной религии. И это
вело, скажем так, к «прохладному» союзу религии и науки, уводя от «горяче-
го» их парасинтеза в «герметической реторте». Для судеб Европы, для сохра-
нения ее культурной идентичности такой союз был спасительным. В это время
стала выясняться неэффективность решения затянувшегося религиозного кон-
фликта средствами самого же религиозного поля культуры. И даже теолого-
метафизические средства обнаружили свою практическую стерильность, как
это показал опыт Лейбница. Осознание этого вело к «мягкой» постановке в
центр всего культурного ансамбля науки с ее обязательным для всех, объектив-
ным способом определения истины. Это означает, что рамочное оправдание
новой науки средствами традиционной религии (как реформированной, так и
нет) сохраняется, но при этом набирает силу внерелигиозное или, точнее, пре-
ображенно герметическое, чисто гуманистическое и утилитарное ее оправда-
ние 53. У Ф. Бэкона, да и у Декарта, хотя и по-разному и в разной степени,
присутствует и то, и другое. В частности, у Бэкона наука — путь раскрытия
всемогущества Творца в природе через реализацию рационально-практического
всемогущества человека. У Коменского ситуация подобная, но у него образом
Творца наделен только человек, а не природа. И именно отсюда проистекает
потребность не останавливаться на одной науке и натурализме, а, сделав опре-
деленную ставку на науку, сохранить христианскую культуру, которая учит че-
ловека духовно-нравственному смыслу и хранит его.
Освобождающаяся от религиозной санкции система аргументации в пользу
науки постепенно набирает обороты. В ее основе — простые и понятные чело-
веческие цели земного благоденствия, победы над болезнями, установления,
как говорил Бэкон, «царства человека» на основе реформы познания и его прак-
тического применения. Эти цели и этот гуманистический пафос сочетаются со
ставшей уже привычной конфессиональной религиозностью. Отсюда объяс-
ним столь значимый факт эпохи — неприятие и непонимание «Всеобщего Сове-
та...» Коменского в середине XVII в.54. Он говорит нам о том, что начинается
53 Оправдание науки тем, что она ведет к безграничному могуществу человека, мы на-
ходим и у Ф. Бэкона («расширение власти человека над природою, покуда все на станет для
него возможным» — Бэкон Ф. Соч. Т. 2. С. 509). Истоки этой легитимации науки скорее
гсрметико-гностические, чем христианские. О герметическо-каббалистических корнях ан-
тропологии Пико делла Мирандолы, речь которого «О достоинстве человека» является в
связи с этим образцом для этой тенденции, см.: Yates F. A. Giordano Bruno... P. 102—111.
54 «Самый тяжелый удар по "Всеобщему совету..." и перспективам его полного издания
нанес один бывший друг Коменского гронингенский богослов Самуил Маресий (1593—
1673)... В 1669 г. С. Маресий, знакомый со всем сочинением в рукописи, публично высту-
пил с жестокими нападками на "Всеобщий совет", обнаружив там, с одной стороны, хили-
216
Глава III. Новое время и его проект
новая эпоха. Это время устраивает как раз дифференциация культурных явле-
ний, в частности религии и науки, равно как и сосуществование различных
христианских конфессий. А что касается их синтеза, то он принимается, но в
механистической и, так сказать, политизированной форме как неизбежность
ограничения индивидуалистических эгоизмов в своего рода «общественном
договоре». У Коменского же универсалистская синтетика, напротив, была не
механистической, а духовно-органической и даже религиозной, близкой по типу
к последующему пиетизму 55. Но эта линия была маргинализирована окреп-
шими механицизмом и классицизмом. Однако ее жизнь продолжилась затем в
романтическом движении, у Гёте и Шеллинга.
Тенденция к объединению религии и науки (она еще не отделена от фило-
софии) типична для магико-герметической эзотерической традиции, которую
в 10—20 гг. XVII в. представляет движение розенкрейцеров. Эту тенденцию
условно можно также обозначить как имплозивную и холистскую в противо-
вес возобладавшей эксплозивной и механистической тенденции к дифферен-
циации культурных форм. Тенденция к «разбеганию» культурных миров наби-
рает силу и становится доминирующей (порой при сохранении универсалист-
ской лексики). В конце XVII в. еще удерживается единство науки и философии
как метафизики, но скоро и оно распадется под напором нарастающего пози-
тивистского духа, склонность к которому можно обнаружить уже у Мерсен-
на 56. Успехи науки только облегчают этот процесс. Этому же способствовала и
азм, т. е. учение о надвигающемся царстве Христовом на земле, а с другой — "вредонос-
ные политические тенденции", способствующие революции! Помимо этих пороков Маре-
сий находил во "Всеобщем совете" и некоторое сходство с Кампанеллой, а следовательно,
близость к католикам, и "атеизм", выражающийся в сосуществовании христиан всех кон-
фессий, и язычество (в приставке "Панегерсия..." ему послышалось имя языческого бога
Пана), и фанатизм, и визионерство, и одержимость» (Коменский Я. А. Избр. педагогичес-
кие сочинения. Т. 2. С. 510. Комментарии В. В. Бибихина).
55 «Настоящая теология», по Коменскому, должна быть не столько умным, сколько «тро-
гательным» делом, во всяком случае «более трогательным, чем принято думать» (Комен-
ский Я. А. Избр. педагогические сочинения. Т. 1. С. 189). Истинное благочестие, считает
Коменский, захватывает всего человека, а не только ум. Этот акцент у Коменского разо-
вьется затем в швабском пиетизме. Отметим перекличку такого настроения с русской фи-
лософской традицией. Кстати, и отзыв Коменского об Андреэ ставит на первое место не
достоинства его ума, а качество души: «Человек пылкой души и выдающегося ума», —
говорит о нем Коменский (Там же. С. 517).
56 «Можно сказать, — говорит Мерсенн в "Теологических вопросах", — что мы видим
только кору вещей, поверхность природы, не будучи в состоянии проникнуть внутрь» (Цит.
по: Lenoble R. Op. cit. P. 353). Мерсенну чужды мысли его друга, Декарта, о врожденных
идеях и его радикальный рационализм. Он склоняется к номинализму и сенсуализму, под-
черкивая, что наука исследует лишь связи явлений, а не их сущности, остающиеся для нас
недоступной «тайной Бога» (Ibid. Р. 311).
Проект модерна: возникновение и кризис
217
победа ньютонианства над картезианством с его метафизикой. Казалось, что
само время устремилось к наукоцентристскому обоснованию всех культурных
подразделений и цивилизационных противоречий. Поэтому всеохватывающий,
исходящий во многом из христианских интуиции проект Коменского уже в се-
редине века казался странным и неприемлемым. Ему предпочитали обужен-
ный наукоцентристский его вариант, дополняемый привычным со времен Ре-
формации конфессиональным партикуляризмом, который думали ввести в бе-
рега с помощью социальной и политической «механики» равновесия.
Заключая наш анализ ситуации начала модерна, сделаем выводы. Научно-
религиозный, тяготеющий к глобальному реформизму проект модерна (Ф. Бэ-
кон, Коменский, Лейбниц, Андреэ) претерпевает метаморфозу. Из него, утили-
зуя его главные научные достижения и прагматическую направленность, по-
степенно «вымывается» религиозная и спиритуально-холистская компонента.
В результате универсалистская научно-религиозная утопия фактически стано-
вится арелигиозной сциентистской утопией. Окончательно это оформляется в
эпоху Просвещения. Век утвердившегося модерна устраивала такая формула:
дифференциация во всем, компенсируемая механической интеграцией секто-
ров культурного поля с наукой в его центре.
Кризис проекта модерна
Мы рассмотрели в общих чертах возникновение проекта модерна в XVII в.,
которому Просвещение и XIX век придали законченную сциентоцентристскую
форму. В XX в., особенно после Первой мировой войны, многие известные
философы, ученые, писатели высказывались о кризисе проекта модерна как о
кризисе европейской культуры нового времени, объясняли свое понимание его
сущности и причин, давали свое видение перспектив выхода из него. Остано-
вимся только на одном примере подобного анализа, отдавая себе отчет в том,
что эта тема требует специального рассмотрения. Голландский историк и тео-
ретик культуры Йохан Хейзинга (1872—1945) писал: «Поступательное движе-
ние науки и техники, каким бы необходимым и вдохновляющим оно ни было,
не принесет спасения культуре. Науки и техники недостаточно для заложения
фундамента культурной жизни» 57. Кризис модерна, по Хейзинге, характеризу-
ется прежде всего упадком стиля культуры и завышенными притязаниями на-
уки «на мировое господство», включая и господство в мире ценностей, опреде-
ляющих жизнь современного человека 58. Вот как он его описывает: «Ныне
уже стало достаточно привычным ощущение, что мы приближаемся к развяз-
57 Хейзинга Й. Homo ludens: В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 358.
58 Там же. С. 281,347.
218
Глава HI. Новое время и его проект
ке. Мы уже говорили, что не только невозможно себе представить дальнейшее
развертывание этой культуры, но и трудно вообразить, что оно способно при-
нести людям счастье или улучшение жизни» 59. Небывалая волна открытий в
науке и технике, захлестнувшая Европу в XVI—XVII вв., вызвала непомерные
надежды, возложенные тогда на них. «На фундаменте науки, — справедливо
говорит историк, — строилось больше планов и надежд, чем этот фундамент
вообще способен выдержать» 60. Наука, по Хейзинге, — это сложное социаль-
но-культурное целое, в которое входят три основные компоненты: воспитание
человека как разумного существа, приращение нового знания и использование
знаний в технике. По оценке историка, в XVIII столетии соотношение этих
компонент можно представить приблизительно как 8:4:1, т. е. воспитательная
функция науки в количественной оценке превосходила все другие, в том числе
в восемь раз ее техническое применение. Но уже к 30-м годам XX в. это соот-
ношение, по оценке историка, выглядит совсем по-другому (2:16:16), т. е. за
два столетия произошла инверсия соотношения компонент науки как целост-
ной системы, причем техническая составляющая на порядок в своем статисти-
ческом «весе» опередила нравственно-воспитательную компоненту. Интерес-
но отметить, что в нашем анализе соотношения науки, эзотерики и религии в
начале нового времени и в современную эпоху мы, не давая ему количествен-
ной оценки, на качественном уровне отмечаем тоже его инверсию.
После выяснения симптомов и постановки диагноза «болезни» культуры
нового времени Хейзинга ставит самый важный вопрос о том, как же выжить
европейской культуре и преодолеть этот кризис. И дает такую итоговую фор-
мулу ответа на него: нужна «новая аскеза», чтобы очищение духа, идущее от
нее, победило «хюбрис», т. е. высокомерие и заносчивость человека нового
времени, его дерзостный вызов Творцу. Высшей ценностью этой «новой аске-
зы», считает голландский историк, будет уже не индивидуальное «Я», не ка-
кой-то народ, государство или социальный класс. Эта аскеза, подчеркивает
Хейзинга, «будет проявляться... в правильном определении меры могущества
и наслаждения» 61. Человек Запада, считает Хейзинга, отошел от базовых смыс-
ловых начал своей культуры. И особенно ярко это проявилось в увлечении куль-
том витальной силы, что сопровождалось созданием различных вариантов
философии жизни, ставящей непосредственность жизни как спонтанного им-
пульса выше ее смысла, дающего ей разумное оправдание. Однако, как спра-
ведливо, на наш взгляд, пишет историк, «только на испытанной и незыблемой
основе живого метафизического познания абсолютное понятие истины со сво-
59 Там же. С. 355.
60 Там же. С. 280.
61 Там же. С. 363—364.
Проект модерна: возникновение и кризис
219
ими последствиями в виде совершенно непреложных норм нравственности и
справедливости может противостоять нарастающему потоку инстинктивной
жажды жизни» 62. Когда сам прогресс, вырвавшийся из-под духовно-нравствен-
ного контроля, становится причиной варваризации культуры, тогда, подчерки-
вает Хейзинга, «движение культуры должно содержать возможность и обра-
щения и возвращения, а именно в том случае, когда это касается признания
или нового обретения вечных ценностей, неподвластных процессу развития
или изменения. Ныне на очередь дня встают именно такие ценности» 63. В этих
словах, на наш взгляд, указан верный путь корректировки опасных тенденций,
присущих научно-техническому и экономическому развитию цивилизации и
ведущих к отрыву человека и его жизненного мира от ее смысловых основ и
духовных начал. Одним из путей обретения подобных ценностей Хейзинга
считает возвращение к христианским истокам европейской культуры. Сам он
происходил из старинного рода меннонитских проповедников, но, как подчер-
кивает Аверинцев, «это унаследованное христианство подверглось сильной
секуляризации, утеряв всякие конфессиональные черты и превратясь в допол-
нение (и в корректив) к традиции классического гуманизма» м. Здесь особенно
значимыми нам представляются слова, заключенные Аверинцевым в скобки.
Действительно, важно подчеркнуть, что сильно секуляризованное христиан-
ство Хейзинги тем не менее было не только дополнением, но и коррективом
гуманизма, который сам во многом был продуктом его секуляризации, с одной
стороны, а с другой — результатом отхода от него в нехристианское смысло-
вое поле, что обозначилось прежде всего в эпоху Ренессанса. Отсюда и следует
необходимость в «коррективе» его со стороны пусть не конфессионального и
секуляризованного, но все же христианства.
В результате проделанного исследования мы высказываем тезис об инвер-
сии соотношения религии, науки и эзотерики в постмодерне по отношению к
модерну. В частности, это должно означать какое-то сближение религии и на-
уки. Во всяком случае большую степень их взаимного понимания, чем это было
раньше. Отметим, что на своих подлинных вершинах точные науки XX в. в
лице своих выдающихся представителей действительно демонстрируют имен-
но такой вектор перемен, говорящий о росте взаимопонимания. Я бы привел в
качестве примера позицию В. Гейзенберга (1901—1976), комментируя ее свои-
ми соображениями. Прежде всего нужно обратить внимание на то, что сам
конфликт между новым естествознанием и традиционным христианством За-
62 Там же. С. 296.
63 Там же. С. 365.
64 Аверинцев С. С. Культурология Йохана Хейзинги // Вопр. философии. 1969. №6.
С.170.
220
Глава III. Новое время и его проект
пада, столь ярко проявившийся в процессах римской инквизиции над Галиле-
ем (особенно, конечно, в случае второго процесса), во многом обусловлен, на
наш взгляд, тем, что в нем с новой наукой столкнулась не столько вера, сколько
рационализированное до наукообразия ее представление в схоластическом бо-
гословии. Именно рассудочность западной теологии, идущая с давних времен,
рассудочность всепроникающая и претендующая тем самым и на область истин
о физическом мире тоже, и послужила основанием для небывалой остроты и
значимости конфликта. Ибо претендующая на весь объем истин схоластиче-
ская теологическая доктрина почувствовала себя в опасности, увидев в новой
механике и астрономии своего конкурента. Целое бытия или, как любит гово-
рить Гейзенберг, целостная всеохватывающая связь (Zusammenhang) слишком
долго и слишком рассудочно обсуждалась на теолого-метафизическом языке,
от которого западный европеец к концу XVII в. уже смертельно устал. «Теоди-
цея» Лейбница, полностью напечатанная в 1710 г., несмотря на убедительность
содержащихся в ней положений, энтузиазма и продолжения жанра не вызвала:
Европа жаждала другого — полной автономии научного языка и превращения
его в единственный центральный язык своей судьбы. Однако усталость не есть
свидетельство не-истины того, от чего устали. Причиной усталости была не
сама вера, не христианство как таковое, а именно слишком мелочное его рассу-
дочное и наукообразное еще задолго до науки обсуждение.
Другой важный момент в связи с этой темой, поднятой в статьях и выступ-
лениях Гейзенберга, касается вопроса о том, насколько в результате выбора
науки в качестве цивилизационного приоритета произошло искривление само-
го европейского духа в его основаниях. «Наверное, уже у судей римской инк-
визиции, — пишет Гейзенберг, — шевельнулось подозрение, что галилеевское
естествознание может вызвать опасное изменение духовной ориентации» 65.
«Опасное изменение» духовной сферы и есть ее искривление. Белый луч евро-
пейского духа как бы прошел сквозь призму Ренессанса и Реформации, новой
науки и нового гуманизма и в результате и разложился и отклонился от перво-
начального направления. Это, конечно, только метафора. Но она нам кажется
уместной и точной, тем более что в это время свои опыты по преломлению
света и раскрытию тем самым его природы осуществил Ньютон, создав основу
научной оптики. Их культурно значимым результатом был в конце концов от-
каз от духовного измерения света как метафоры и отождествление его с его
материальной структурой, описываемой числом. Не было ли тем самым пла-
той за научную истину о свете его затмение в области духа? Гейзенберг это
признает, но без слишком неоспоримой уверенности: «Естествознание, —кон-
статирует он, — сделало за последние 100 лет очень большие успехи. Более
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987. С. 338.
Проект модерна: возникновение и кризис
221
широкие жизненные сферы, о которых мы говорим на языке нашей религии,
были при этом, возможно, оставлены в пренебрежении» 66. Возможно, что в
пренебрежении сферой духа, религией прежде всего, повинна и наука, во вся-
ком случае, мы уточняем, толкуя Гейзенберга, мировоззрение, стремящееся
выступать от ее имени и претендующее называться научным, даже порой един-
ственно научным. Наука, что уж греха таить, во многом действительно спо-
собствовала тому, что в подвижном балансе двух истин (научной и религиоз-
ной) фактически была сделана попытка обойтись лишь одной из них.
Во что человечеству может обойтись эта попытка, Гейзенберг дал понять в
разговоре с В. Паули летом 1952 г., когда они встретились в Копенгагене в свя-
зи с планами строительства в Европе крупного ускорителя. Для понимания им
сказанного надо обратиться к двум ключевым понятиям-метафорам, которыми
пользуется здесь Гейзенберг. Это идея «центрального порядка» и идея «компа-
са». По Гейзенбергу, субъективный мир, основу которого образуют представ-
ления людей о ценностях, не менее реален, чем объективный мир, раскрывае-
мый наукой. Главный вопрос, в мире ценностей встающий, это вопрос о «ком-
пасе», которым мы должны руководствоваться, отыскивая свой путь в жизни.
Этот «компас в разных религиях и мировоззрениях, — говорит Гейзенберг, —
получал разные названия: счастье, воля Божия, смысл и еще многое другое...
Однако у меня складывается впечатление, — продолжает он, — что во всех
формулировках речь идет об отношении людей к центральному порядку»67.
«Центральный порядок» — это Unum Bonum Verum, или Благое и Истинное
Единое, в отношение с которым человек вступает, используя прежде всего ре-
лигиозный язык. Адекватной моделью центрального порядка выступает, по Гей-
зенбергу, душа. Поэтому и человек может вступать в глубокую связь с цент-
ральным порядком всего, всех вещей и событий, как душа с душой. И элемен-
тарное требование сообразовывать свое поведение с миром ценностей и его
строением мы реализуем, действуя в «духе этого центрального порядка», кото-
рый в конечном счете «всегда побеждает», гармонизируя «частные порядки» и
упорядочивая тем самым хаос.
Этика основывается всегда, считает Гейзенберг, на связи норм и мотивов с
«центральным порядком», если это действительно полноценная и живая этика.
Когда Паули спросил Гейзенберга о том, какой же «компас» стоит, в частности,
за этикой прагматизма и позитивизма, характерной для Америки и Англии пос-
ледних столетий, то Гейзенберг ответил ссылкой на М. Вебера: такая этика в
конечном счете вытекает из духа кальвинизма, следовательно, из христианства
и поэтому, несмотря на давний разрыв с его символами и образами, хранит
Там же. С. 342.
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989. С. 326.
222
Глава III. Новое время и его проект
связь с ним. При этом он делает важный вывод: «Если когда-нибудь совершен-
но исчезнет магнитная сила, направлявшая до сих пор этот компас, — а сила
может происходить только от центрального порядка, — то боюсь, что могут
случиться ужасные вещи, еще более страшные, чем концентрационные лагеря
и атомные бомбы» 68. Разрыв с христианскими ценностями «центрального по-
рядка» возможен, считает Гейзенберг, ибо динамика, действующая в этом на-
правлении, давно уже обозначилась в истории Европы. И если это произойдет,
то нас ждут неслыханные испытания. И все это рассуждение, где религиозное
измерение связывается с физикой, метафизикой и с вопросом о прагматизме и
позитивизме, кончается утверждением, что запрет на метафизику и более ши-
рокое рассмотрение всеобщей связи вещей, чем это принимается позитивиз-
мом и прагматизмом, непременно должен быть нарушен, чтобы не утратить
«компас, по которому мы можем ориентироваться» 69. Иными словами, считает
Гейзенберг, если мы и дальше пойдем путем позитивизма и прагматизма, то
связь с «центральным порядком» рискуем порвать. Поэтому мир, построенный
исключительно на принципах прагматизма и позитивизма, ждут беды постраш-
нее атомных бомб и лагерей. Мы можем назвать все это рассуждение физика-
теоретика европейским коррективом одностороннего американизма, достиг-
шего своего могущества как раз в те послевоенные годы.
Теперь скажем о том, насколько с нашим тезисом об инверсии соотношения
религии и науки в указанном нами смысле согласуется позиция Гейзенберга.
Он признает, что научная революция и последующее развитие западной циви-
лизации привели к значительному дисбалансу между этими фундаментальны-
ми истинами, религиозной и научной. Это проявляется в том, что в результате
невиданных успехов науки и техники и идущих вместе с ними социокультур-
ных перемен «происходит неблагоприятное смещение ценностных крите-
риев» 70. Действительно, мы так можем проинтерпретировать эти рассуждения
Гейзенберга, культура как искусство целей во многом уступает место науке
как искусству средств. Неслучайно, что это смещение совпадает и с «восста-
нием масс» (термин Ортеги), если иметь в виду возникновение вслед за новой
наукой и нового, буржуазного, общества. Устав, причем смертельно, от уни-
версальности религиозно-метафизического языка (а по сути дела от рассудоч-
ной теологии и схоластики), западный европеец впервые в XVII в. смог посвя-
тить себя частностям опыта, имея в виду в качестве стимула для этого ясные и
понятные ему практические выгоды от специализированного научного иссле-
дования. В таким образом формулируемом проекте «восстановления наук»,
Там же. С. 328—329.
Там же.
Там же. С. 332.
Проект модерна: возникновение и кризис
223
особенно в его бэконианском варианте, действительно могли участвовать, как
говорит Гейзенберг, массы «людей средних дарований», влекомых к науке не
универсалистскими интуициями с их глубокими культурными импульсами, как
у Лейбница или Кеплера до него, а партикуляристскими и прагматическими.
Более того, в эту эпоху наука становится социально признанной ценностью:
научные академии и общества патронируются и создаются государством (при-
мерно с середины XVII в.). На вершинах науки всегда духовный «климат» был
несколько иной, чем в ее «массовидных» предгориях. Проницательные, чест-
ные и глубокие размышления Гейзенберга говорят именно об этом.
Постмодерн как период кризиса культуры модерна — это канун того, что
нам неизвестно. Известно только то, что это время, по-видимому, действитель-
ного выхода из модерна. Мы сопоставляем два периода — начало модерна и
выход из него. Сравнение двух эпох позволяет выявить много общего в том,
как они воспринимались современниками. Так, например, для Коменского пер-
вая половина XVII в. —это книжная, бумажная эпоха, время невероятной избы-
точности печатного слова. Книги нередко покупают только ради указателей —
библиографических и др. Их уже не читают и не продумывают. И Коменский
не без сожаления и не без упрека в адрес своей эпохи говорит: «Если древние
хранили мудрость в сердцах, то мы — на бумаге» 7I. Нам кажется, что это ска-
зано о нас. Правда, сейчас бумагу во многом заменили компьютеры.
Сама оппозиция «модерн/постмодерн» асимметрична. Действительно, мо-
дерн — это прожитое время европейской культуры, а поэтому эпоха с проявив-
шими себя, сложившимися характеристиками. Постмодерном же называют еще
не сложившийся в строго очерченную культурную форму наметившийся выход
из модерна, или, мягче, потерю им своей идентичности, по крайней мере час-
тично. Поэтому сравнение этих двух эпох содержит ощутимый момент услов-
ности, который необходимо иметь в виду.
Мы говорили об участии в проекте модерна религии, науки, эзотерической
традиции. Мотивы и импульсы, приведшие к его созданию, в наше время утра-
чивают свою силу и свежесть. Такой религиозно накаленный познавательный
оптимизм, какой был у пионеров новой науки, сейчас трудно встретить, он ка-
жется уже невозможным. Даже если человек постмодерна и не хочет расста-
ваться с проектом модерна, так как любой проект лучше, чем его отсутствие,
то все равно тень утомления от него, неверия в него легла на дух культуры.
Человек сегодня, пусть и неявно, предъявляет счет содержащимся в этом про-
екте обещаниям и не может при этом не испытывать некоторого разочарова-
ния. О каких обещаниях конкретно идет речь? Проект модерна в ходе европей-
ской истории XVII—XVIII вв. оформился как сциентоцентристский проект,
Коменский Я. А. Избр. педагогические сочинения. Т. 2. С. 302.
224
Глава III. Новое время и его проект
включающий в себя четыре основных обещания: а) обеспечить полное искоре-
нение невежества через всеобщее восстановление наук и всеобщее и абсолют-
ное (в смысле Я. А. Коменского) обучение новым наукам; б) благодаря такому
восстановлению обеспечить полное господство человека над природным ми-
ром, позволяющее достичь всеобщего процветания и благоденствия; в) благо-
даря перечисленному в пунктах а) и б) достичь полного искоренения болезней
и приблизить человека к достижению им необыкновенного долголетия, а в
пределе, возможно, и самого бессмертия; г) создать совершенного человека,
совершенное общество и привести человечество к окончательному вечному
миру. Прошло примерно 350 лет. И ни одно из этих обещаний не реализовано.
Этот факт выступает основой исторического изживания проекта модерна. Уже
в XX веке это явно, а скорее неявно осознается. Поэтому, если у человека нача-
ла нового времени основной его пафос, несмотря на сохранявшуюся религиоз-
ность, был направлен на науку и на базирующийся на ней проект универсаль-
ной Реформы, то теперь, несмотря на относительную эффективность научно-
технической цивилизации модерна, он направляется не на науку или, точнее,
не только на нее. Поэтому постмодерн как время утраты самоуверенности
модерна несет в себе потенцию обратной динамики соотношения рассматри-
ваемых нами культурных феноменов.
После «расколдовывания мира» 72, о котором как о сущностной характери-
стике нового времени писал М. Вебер, происходит «расколдовывание» самого
проекта модерна 73. Чары его теряют былую силу. Во всяком случае, религиоз-
ная миссия, да и во многом мировоззренческая, возлагаться на науку теперь
уже не могут. Место науки в складывающемся в наше время культурном ланд-
шафте более скромное, чем во времена Декарта и Ньютона и особенно после
них, несмотря на потрясающие успехи науки и техники и, казалось бы, сплош-
ную сциентификацию всей нашей жизни.
Глубина экологических проблем, нарастание признаков системного кризи-
са наукогенной цивилизации в целом показали, что религиозная функция на-
уки, составляющая основу проекта нового времени, должна быть пересмотре-
на. Неудача науки как заместителя религии, претендующего не только на осмыс-
ление всей полноты бытия, но и на возвышение человека и преобразование
природы, не означает неудачу науки как объективного знания. Попытавшись
заместить собой религию и метафизику, наука превысила свои возможности.
Пусть сциентистские иллюзии все еще широко распространены, но «науко-
верие» с его претензией на монополию в сфере мировоззрения теряет кредит.
72 Вебер M\ Избр. произведения. М, 1990. С. 342.
73 О противоречиях «расколдовывания» проекта модерна в культуре постмодерна см.:
Визгин В. П. Границы новоевропейской науки // Границы науки. М, 2000. С. 220—225.
Проект модерна: возникновение и кризис
225
Наука по-прежнему, правда, считается последним арбитром в делах истины,
в том числе религиозной. Как пишет Рормозер, «у нас же и поныне полагают,
что нужно отвергнуть реальность воскресения, поскольку естественные на-
уки не могут дать тому подтверждения» 74. Здесь науке явно передоверяют те
роли и функции, которые она по природе своей выполнять не в состоянии:
сферу религиозного опыта и истин откровения она не может «курировать»,
как это понимали Ф. Бэкон и Декарт (сделавшие, однако, серьезные шаги к
тому, чтобы передоверить функции религии именно науке). Но вместе с тем
сегодня крепнет и сознание того, что научное знание само рискует впасть в
заблуждение, если оно не оставляет в бытии тайны, не принимает ее и не
хранит.
Существенный исторический факт, который нужно в нашем анализе при-
нять во внимание, состоит в том, что пик секуляризационной динамики, по-
видимому, пройден. После головокружительных кульбитов философского бого-
борчества такого «каскадера» культуры, как Ницше, радикальный атеизм в
XX в., например в духе Сартра, воспринимается уже как эпигонство. Эпоха
воинствующего атеизма, похоже, завершается, сменяясь временем индиффе-
рентизма, усталого скепсиса, вялотекущего агностицизма и психологического
нигилизма. Но не того героического нигилизма силы, о котором мечтал певец
«Заратустры», а, скорее, презираемого им нигилизма и пессимизма слабости,
находимого им в выцветшей учености Д. Ф. Штрауса или в квазибуддистском
эскейпизме Шопенгауэра. Эпоху теоретического и практического «теоцида»
Европа, похоже, уже пережила. Прежде всего в лице России, пережившей мак-
сималистскую попытку реализации проекта модерна в форме построения бес-
классового общества. Испытание предельными нагрузками богоборческой дина-
мики, накопленной с эпохи Ренессанса, Россия выдержала, а в ее лице и весь
культурный мир, некогда называвшийся христианским. В результате намечает-
ся и уже происходит как бы вторичное узнавание человеком этого мира своих
культурных корней. История тем самым снова дает Европе шанс на сохране-
ние и развитие ее культурной идентичности, которая, как и в начале модерна,
подвергается серьезному испытанию в эпоху постмодерна.
Сравнивая начало модерна и постмодерн, мы можем сказать, что наука и
религия как бы обмениваются ролями в культурном ансамбле. Действительно,
в начале модерна делают ставку на науку, возлагая прежде всего на нее надеж-
ду дать достойный ответ на вызов времени. Но при этом и не порывают с рели-
гией, вступая с ней в «прохладный» союз, все больше оправдываемый со вре-
менем ее позитивно-социальными и моральными функциями. Таков во многом
уже Ф. Бэкон. Вспомним его знаменитую формулу: малознание (a little
74 Рормозер Г. Кризис либерализма. М., 1996. С. 226.
15-3357
226
Глава III. Новое время и его проект
philosophy) уводит от религии, а глубокое знание, напротив, приводит 75. Он
еще колеблется между оправданием физики библейским откровением и пол-
ным разведением сфер компетенции науки и теологии, склоняясь больше ко
второму решению. Первая позиция была характерна для парацельсистов, про-
должателей традиций алхимии и герметизма. Вторую разделяли такие ученые,
как Декарт. Однако акцент уже тогда был сделан именно на науке, что и будет
обнаружено впоследствии. Иными словами, в паре «наука—религия» ведущая
роль в культурном ансамбле de facto закрепляется за наукой.
Обмен ролями между наукой и религией намечен, но не закреплен в пост-
модерне, так как всякой централизованной системе ценностей эта эпоха про-
тивится, предпочитая ситуацию их квазиэгалитарного «смешения».
В эпоху постмодерна изменение отношения к религии не означает, что че-
ловек этой эпохи стремится совсем отказаться от науки. Нет, он ее сохраняет и
оправдывает, как Ф. Бэкон и Вольтер религию, прибегая к привычной утилита-
ристской аргументации. Но непомерных надежд на нее он уже не возлагает.
Будут побеждены одни болезни — придут другие. Неустойчивость прогресса
уже давно и ясно осознана: он легко может смениться и действительно сменя-
ется регрессом. Привести человека к нравственному совершенству (а об этом
мечтал и Декарт) наука явно не может, и в эту ее способность совершенство-
вать души уже мало кто верит.
Таким образом, соотношение религии и науки за протекшее время мо-
дерна инвертируется, по крайней мере на уровне тенденции. Модернистс-
кая легитимация религии принимается в постмодерне, но направляется уже
на науку. Подобная инверсия характеризует и связи эзотерической тради-
ции с наукой. Если в канун модерна она давала импульс к практической
направленности знания, к превращению его в «сильную науку» (о чем меч-
тал еще Агриппа), то теперь эзотерика, напротив, скорее выполняет обрат-
ную функцию — добавляет элемент созерцательности в чрезмерный прак-
тицизм исследований, в их околонаучное сопровождение. Если раньше гер-
метизм, парацельсизм и т. п. течения питали науку того времени своего рода
спиритуализированным натурализмом, способствуя формированию новой,
практически, эмпирически и экспериментально ориентированной деятель-
ности в области науки, то теперь, напротив, эзотерика, восточные духовные
течения вносят вклад в созерцательное углубление современного знания,
стремясь придать ему холистскую направленность. Функция эзотеризма как
проводника новых синтезов и перемен, который затем, как катализатор,
выходит из запущенной им культурной «реакции», сохраняется и в ситуа-
ции постмодерна. Но направленность работы такого «катализатора» инверти-
Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. М., 1971. Т. 1. С. 93.
Проект модерна: возникновение и кризис
227
руется, становится противоположной тому, как это было в канун и в начале
модерна.
Из «троянского коня» реформаторского синтетического или интегративно-
го универсализма с его религиозно-мистическим ядром в начале модерна выш-
ла тенденция к дифференциации основных культурных подразделений (наука —
религия — эзотерика). На излете модерна происходит инверсия подобной
констелляции указанных культурных феноменов. В его высоко дифферен-
цированной культуре начинают проявляться, а со временем, возможно, станут
усиливаться синтетические тенденции. Инверсия дифференциальной динами-
ки соотношения рассматриваемых культурных феноменов связана с износом
и, возможно, крахом всего проекта модерна: она и отражает его, как следствие
отражает свою причину.
В связи с этим отметим и некоторую инверсию эпистемологических мод в
науке. В начале модерна даже такой рационалист, как Декарт, мечтал об обшир-
ных опытных исследованиях и говорил, что его жизни и имеющихся у него
помощников мало, чтобы проделать все нужные эксперименты. Что уж гово-
рить о Ф. Бэконе, который и умер в результате простуды, полученной при экс-
перименте по заморозке продуктов. Тогда без эксперимента науку не мыслили.
И пафос экспериментального испытания вещей был передовым лозунгом вре-
мени. Сейчас же нередко слышишь о том, что теория переходит в состояние
«эмпирической невесомости», что физика (особенно на стыке с космологией)
постепенно растворяется в метафизике. Здесь опять мы отмечаем инверсию
тем и мотивов уже внутри науки.
В результате всех этих процессов ситуация постмодерна напоминает ситуа-
цию эпохи рождения новой науки, но осуществляющуюся в инверсионно ори-
ентированной констелляции динамики выделенных нами для анализа культур-
ных факторов. Раскрываются границы науки по отношению к оккультным
течениям, как это было в XVI и начале XVII в. Но теперь герметический эзоте-
ризм передает науке не импульс к практической направленности, провоцирует
не активизм и прагматизм «сильного» знания, а скорее, напротив, созерцатель-
ность и самоуглубленность, заботу о самосовершенствовании, о духовном един-
стве с природой и космосом, который снова, как у герметиков и платоников,
начинают мыслить как целостный живой организм, включающий человека. В
отношениях с религией также происходят процессы, ориентированные проти-
воположным образом, чем это имело место в конце Ренессанса и в начале но-
вого времени. Если тогда религия выталкивалась из науки, то теперь она, ско-
рее, приближается к ней, даже если принципиальное различие между их язы-
ками ясно осознается как непреодолимое для них (но не для человека, ими
владеющего). Если тогда сама наука брала на себя функции религии, то теперь
они снова начинают возвращаться ей. Если в XVII в. речь шла о том, как за счет
15*
228
Глава III. Новое время и его проект
традиционной религии дать место науке как новому лидеру в целостном куль-
турном ансамбле, то теперь речь идет о том, как, не потеряв ценности науки
как познания, вернуть роль культурообразующего начала традиционной рели-
гии, возможно, с ее трансформацией, с поворотом к нуждам и проблемам вре-
мени. Сама неудача науки как заместителя религии требует такого возврата.
Конечно, человек постмодерна должен при этом сохранить и науку, пусть и без
ее прежних оказавшихся непомерными амбиций. На заре возникновения но-
вой науки ей и европейской культуре в целом помог ее союз с христианством.
Возможно, новый союз такого же типа будет продуктивным и в период миро-
вой смуты постмодерна.
Однако изжит ли на самом деле проект модерна? Задавая такой вопрос, надо
обязательно уточнить, о каком именно варианте этого проекта идет речь. Если
о сциентоцентристскои технократической утопии, то она действительно кажется
изжитой, по крайней мере в тех ее моментах, о которых мы сказали выше. Но
если иметь в виду религиозно-метафизические универсалистские варианты
проекта модерна у Лейбница или Коменского, то ситуация здесь иная. Их запас
исторической прочности еще далеко не исчерпан и более того, видимо, и не
может быть исчерпан только земными и человеческими средствами. «Что меша-
ет нам, — писал Коменский во "Всеобщем совете...", — надеяться, что в конце
концов все мы станем единым благоустроенным сообществом, скрепленным
узами одних и тех же наук, законов и истинной религией?» 76
Образ проекта модерна в наши дни двоится — он и исчерпан, не исполнив
обещанное, и не исчерпан, так как не осуществлено то вечное, что было в нем
заложено... И то и то верно.
Коменский Я. А. Избр. педагогические сочинения. Т. 2. С. 305.
Глава IV
XIX СТОЛЕТИЕ: ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
ЭСТЕТИЗМ ПРОТИВ ИСТОРИЗМА:
СЛУЧАЙ ШОПЕНГАУЭРА
В философских и эстетических работах, выходящих на Западе, все чаще
мелькает имя Артура Шопенгауэра не без связи, впрочем, с именем его самого
«ревностного последователя» ' Фридриха Ницше. Характерно, что до сих пор
Шопенгауэром больше интересовались писатели и литераторы (Андре Жид,
Морис Бланшо, Томас Манн), чем крупные философы XX века. Даже те из
философов, у которых немало внутренних «пересечений» с Шопенгауэром, едва
упоминают его. Так, Бергсон говорит о нем скороговоркой, а Хайдеггер очень
не любил, когда по поводу его теории ничто (Nichts) вспоминали о Шопенгауэре.
Затем ситуация изменилась. За давно вышедшим из моды шопенгауэровским
пессимизмом со всеми его непоследовательностями обнаружилась не лишен-
ная интереса для современности фигура «философа абсурда» (Клеман Россе) 2
или философа «трагедии Воли» (Мишель Пиклен)3. Кажется, что с каждой
очередной волной в культуре как экзистенциалистского, так и прямо ей проти-
воположного, структуралистского толка Шопенгауэр лишь вырастает в его оцен-
ке философско-литературной критикой. Действительно, размышления Камю
(особенно в «Мифе о Сизифе»), экзистенциалистский роман и театр абсурда
по вполне понятным причинам способствовали росту интереса к наследию
немецкого мыслителя. Но причем здесь, казалось бы, структурализм? Все дело
в том, что некоторые ведущие идеи и темы структуралистской философии ока-
зались, однако, созвучными шопенгауэровским мотивам. Речь идет здесь в пер-
вую очередь о «генеалогическом» подходе к анализу культурных феноменов 4.
1 Фишер К. Артур Шопенгауэр. М., 1896. С. 508.
2 Rossei CL Schopenhauer, philosophe de l'absurde. P., 1967.
3 Piclin H. Schopenhauer ou le tragédien de la volonté. P., 1969.
4 В структуралистско-постструктуралистской философии интересный вариант генеало-
гии знания дал М. Фуко. См.: Визгин В. П. Генеалогия знания Мишеля Фуко // Исследова-
тельские программы в современной науке. Новосибирск, 1987. С. 267—284. См. также ниже
в гл. VI—VII С. 544—556, 604—633.
230
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
В современной философской терминологии генеалогия означает раскрытие
скрытых от сознания механизмов, определяющих сознание и поведение людей
в обществе. Принято считать, что классиками «генеалогии» являются Маркс
(анализ идеологии через понятие превращенной формы), Ницше (анализ мора-
ли как выражения воли к власти и борьбы «рабов» против «господ») и Фрейд
(анализ психики как проявлений бессознательного сексуального влечения). В
частности, предвосхищение фрейдовской теории вытеснения, анализ злопамят-
ства и забывчивости и некоторых других психических явлений, проделанный
немецким философом, ставят Шопенгауэра на почетное место основополож-
ника «генеалогического» метода.
Однако «генеалогические» прозрения Шопенгауэра, по справедливому вы-
ражению Россе, представляют собой «неудавшуюся революцию» 5. Действи-
тельно, метафизика воли, ее надвременной и всегда тождественный себе ха-
рактер приводят к тому, что в области истории шопенгауэровская «генеалогия»
оказывается достаточно стерильной. Однако, видимо, именно это обстоятель-
ство способствовало росту интереса к Шопенгауэру во время подъема структу-
ралистской волны.
Мы бы хотели рассмотреть конфликт в философии Шопенгауэра эстетизма
и тенденции к историзму, показать его «парадигмальный» характер для пони-
мания некоторых теперь ставших классическими произведений экзистенциа-
листской литературы, как, например, романов Камю.
Историзм становится предметом размышлений, духовной озабоченности
эпохи прежде всего тогда, когда стремление понять движение истории вступа-
ет в конфликт с ограниченностью рассудка, претендующего на роль истори-
ческого разума. Контуры этой проблемы возникают еще в XVIII, но четко про-
рисовываются только в XIX в., в его первой четверти 6.
Невозможность продуктивно использовать имеющийся в наличии рассу-
дочный инструментарий приводит к определенному отказу философии от реф-
лективно-понятийных форм мышления. Сопоставляя возникшую на почве ро-
мантизма философию жизни (Шопенгауэр и Ницше стоят у ее истоков) с
классической философской традицией, мы обнаруживаем, что в ней место ра-
циональной гносеологии занимает интуитивизм, а место рациональной онто-
логии — биологизм того или иного толка 7.
5 Rosset С/. Op. cit. P. 42.
6 У Руссо, молодого Гёте и штюрмеров этот конфликт выступает как несовместимость
естественного и искусственного, природного и механического.
7 Эту особенность философии жизни отмечает Риккерт. См.: Риккерт Г. Философия
жизни. Пг., 1922. С. 37. Сам термин «философия жизни», близкий по смыслу к его понима-
нию в начале XX в., принадлежит Фр. Шлегелю: Schlegel Fr. Philosophie des Lebens. В., 1827.
Эстетизм против историзма: случай Шопенгауэра 231
Жизненным центром такого неклассического философствования становится
эстетический принцип, пронизывающий собой все это мышление и связываю-
щий интуитивизм и биологизм в одно, хотя и очень пестрое целое. Глубокие
сдвиги в структуре исторического субъекта, возникающие в ходе историческо-
го движения, недоступные для классических форм рациональности, открыва-
ются для художественных средств изображения, активно пронизывающих и
философию. Философия жизни решительно нарушает как бы монопольное
право искусства на эти средства, применяя их для постановки и решения фило-
софских проблем.
Центром этой проблематики становится проблема истории, развертывание
которой по основным категориальным осям оформляется как связка проблем
бытия, субъекта и его целостности (культура). «Заболевание» философского
духа историей как проблемой характеризует кризисные, переломные моменты
исторического развития. Крах социально-исторических идеалов «вечного ра-
зума», оформившихся в эпоху Просвещения, наряду с внутренней самокрити-
кой философского рационализма рождает или, точнее, возобновляет эстетико-
натуралистическое мышление, воспринимающее этот крах как абсолютное
поражение разума вообще. Исследование конфликтного соударения эстетико-
натуралистического мышления и тенденции к развитию историзма и задает
основное направление нашему анализу философии Шопенгауэра.
Иррационализм философии жизни рассматривает себя подключенным к
классической философской традиции через свое отношение к Канту. Анализ
этого отношения показывает основные напряжения, направляющие радикаль-
ное переосмысление кантовской философии и всей традиции новоевропейского
мышления. Шопенгауэр не устает повторять, что между Кантом и Шопенгауэ-
ром в философии не произошло ничего достойного упоминания. Но этот двой-
ной панегирик, Канту и себе, вовсе не означает, что Шопенгауэр разделяет про-
блемы и сам стиль кантовского мышления. Напротив, он делает самый реши-
тельный шаг от кантовского гносеологизма и критицизма к метафизике в ее
докритическим статусе. Таково, например, его толкование кантовского учения
о причинности в духе окказионализма. Как справедливо отмечает в своем ана-
лизе философии Шопенгауэра В. В. Преображенский, «Кант забыт, и перед нами
стоит уже Мальбранш. ...Шопенгауэр не отступает перед этим: он признает
"полную истину и глубокий смысл" в учении Мальбранша об окказиональных
причинах» 8.
Но Шопенгауэр идет не только назад от Канта к Мальбраншу. Он идет
также и к Локку, препарируя кантовский гносеологизм в психологизм, тяго-
8 Преображенский В. П. Очерк теории знания Шопенгауэра // Труды Моск. психол. об-
ва. М., 1988. Вып. 1.С. 165.
232
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
теющий к физиологизму и в конце концов превращающийся в него. Кантов-
ский критический теоретико-познавательный дуализм превращается Шопен-
гауэром в метафизическое монистическое учение о мире как воле и представ-
лении.
Но Шопенгауэр кардинально меняет не только проблематику и содержание
кантовской философии, но и органически с нею связанный стиль мышления.
На первое место выдвигается эстетический принцип, с позиций которого
Шопенгауэр относится и к Канту, и к классическому философскому мышле-
нию вообще. Эстетическое отношение к Канту, синхронизированное с физио-
логистским его перетолкованием, ведет к вульгаризации критической филосо-
фии 9. Для эстетико-физиологического мышления Шопенгауэра характерны
интроспекция, психологизм, использование метода аналогии, что контрасти-
рует с логическим развитием мысли в философии Канта и Гегеля, сближая
Шопенгауэра с Шеллингом, хотя он и критикует его за то, что у него «гоньба за
аналогиями в природе переходит в игру слов» 10. Скрываемая Шопенгауэром
его близость к Шеллингу и романтикам обнаруживает культурно-философский
контекст генезиса его эстетизма п. Эстетико-романтический стиль мышления,
свободно переплетаясь с физиологическим редукционизмом, создает специ-
фический климат шопенгауэровской философии 12.
Этот климат оказался не слишком благоприятным для развития тенденции
мышления к историзму, поставленному как проблема культурно-историческим
развитием на рубеже XVIII—XIX вв. Поэтому неудивительно, что «Шопенгауэр
совсем не обратил внимания ни на историческое развитие самого кантовского
учения, ни на те кантовские произведения, которые имеют своею темою исто-
рический прогресс человечества» 13.
Но Шопенгауэр при этом не прошел мимо кантовского примата практиче-
ского разума над теоретическим, истолковав его в духе иррационалистическо-
го волюнтаризма как абсолютную зависимость познания от воли. Поэтому про-
блема истории не выпала из философии Шопенгауэра, но была поставлена в
9 «Шопенгауэр смотрел на критику Канта, как древний грек со своим пластическим
чувством посмотрел бы на громоздкую и вычурную готику, — и вот под влиянием этих
мотивов Шопенгауэр предпринимает упрощение критики Канта» (Преображенский В. П.
Указ. соч. С. 153—154).
10 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. А. Фета. М., 1892. Т. 1. С. 174.
11 «...Закон мотивации завел Шопенгауэра в дебри современной ему романтической
натурфилософии и магии: из критики Канта мы, очевидно, переселились в сказки Гофма-
на» (Преображенский В. П. Указ. соч. С. 167).
12 Характерным примером служит шопенгауэровская теория гения. См.: Шопенгауэр А.
Указ. соч. М., 1901. Т. 2. Гл. XXXI.
13 Фишер К. Указ. соч. С. 469.
Эстетизм против историзма: случай Шопенгауэра 233
специфические условия эстетико-натуралистического мышления с его волюн-
таристской метафизикой.
Действительно, в главном двухтомном произведении Шопенгауэра соб-
ственно истории уделено немного места: два параграфа в первом томе и одна
глава во втором 14. Прежде всего Шопенгауэр стремится определить место
истории в духовной жизни человечества, сопоставляя историю с наукой, ис-
кусством и философией. История, как и наука, имеет дело с явлениями, на
область которых распространяется действие закона основания. Поэтому, как
и наука, история «прагматична» 15. Представление, подчиненное закону осно-
вания, составляет объект опыта и науки. Однако в истории, следящей за ни-
тью явлений-событий, есть только некоторое сходство с наукой, но сама по
себе история, считает Шопенгауэр, есть не наука, а лишь знание, так как ис-
тория в отличие от науки не обладает системной организацией знания 16.
История, подобно науке, руководствуется законом основания, но в отличие
от нее не систематична: она способна только координировать, но не суборди-
нировать факты 17. Неспособность истории к научности обусловлена ее ин-
дивидуализирующим характером, отсутствием в ней представлений о всеоб-
щих, родовых началах 18. Поэтому, имея своим предметом только индивиду-
альное, история неспособна к образованию научных понятий, подчиняющих
частное всеобщему, что обусловливает невозможность исторического пред-
видения будущего 19.
Невозможность для истории выработать научное понятие приводит к невоз-
можности формулировать какие-либо исторические законы. Поскольку элемен-
ты истории могут быть связаны только координационной связью, постольку
одно событие относится к эпохе как часть к целому, но «не как отдельный слу-
чай — к закону» 20. Однако целое в истории не есть какая-либо достоверно
фиксируемая универсалия. Общие исторические субъекты, как, например, че-
ловечество, нации, народы, считает Шопенгауэр, только фикции: «...реальны
14 Шопенгауэр А. Указ. соч. Т. 1. § 35, 51; Т. 2. Гл. XXXVIII.
15 Там же. T. 1.С.221.
16 Основным признаком научного знания, отличающим его от обыденного, Шопенгауэр
считает системность первого (см.: Там же. С. 213). Наука есть «...систематическое позна-
ние под руководством закона основания» (Там же. С. 35).
17 В истории «отсутствует основной признак науки — субординация познанных фак-
тов; вместо этого она предлагает их простую координацию. Поэтому не существует ника-
кой системы истории, хотя и есть системы всех других наук. Она представляет собой зна-
ние, а не науку» (Там же. Т. 2. С. 452).
18 Там же. С. 453.
19 Там же.
20 Там же.
234
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
только индивиды и отмеренный им век» 21. В истории нельзя также сконструи-
ровать никакой достоверной иерархии значений, относимых к ее событиям,
поскольку значимо лишь то, что выражает вечную идею человечества, а это
никак не связано с собственно историей и доступно только искусству, филосо-
фии и религии 22.
Еще резче оттеняется ничтожность истории, когда Шопенгауэр сопоставля-
ет ее с искусством. Если искусство в акте гениального созерцания художника
прорывает завесу явлений и достигает области вечных идей, то история обре-
чена долу, оставаясь всецело среди преходящих явлений 23. Шопенгауэр срав-
нивает историю с произвольной игрой природных сил, раскрывая этим сопо-
ставлением эстетико-натуралистический масштаб своего мышления 24. Однако
Шопенгауэр не эстетизирует историю «в лоб», поскольку история и искусство,
по его мнению, представляют собой независимые способности человека и не
проникают друг в друга, хотя и «могут проявляться вместе» 25.
Сравнение искусства и истории Шопенгауэр конкретизирует сопоставлени-
ем ее с поэзией, заручаясь при этом поддержкой Аристотеля 26. Поэт во всем
противоположен историку: он правдивее, глубже и теоретичнее его 27. Даже
биографический жанр, по Шопенгауэру, предпочтительнее истории, так как
позволяет правдивее и отчетливее изобразить идею человека 28.
Проигрывает история и при сравнении ее с философией. Это сравнение при-
бавляет мало нового, поскольку философия и искусство у Шопенгауэра разли-
чаются только формой постижения идей: к конкретности и непосредственности
созерцания сущности мира в искусстве философия добавляет только форму
абстрактного понятия. Размещаясь по форме между наукой и искусством, по
содержанию и предмету философия совпадает с ним. Историзирующее фило-
софствование философски несостоятельно уже только потому, что игнорирует
принципиальную идеальность времени: «.. .всякая... историческая философия
21 Там же. С. 456.
22 В согласии с этим Шопенгауэр отрицает всякое различие между исторической и жан-
ровой живописью, так как для выражения идеи человечества безразлично, «играют ли в
шахматы золотыми или деревянными фигурами» (Там же. Т. 1. С. 279). История определя-
ет предмет лишь формально и номинально, а не содержательно и реально.
23 История человечества, перемена времен, многообразные формы человеческой жизни
в разных странах и веках — все это только случайная форма проявления идеи, «эфемер-
ная» и «сноподобная» (Там же. С. 218—219).
24 Там же. С. 219.
25 Там же. С. 278.
26 Там же. Т. 2. С. 452.
27 Там же. Т. 1.С. 295—298.
28 Там же. С. 299—300.
Эстетизм против историзма: случай Шопенгауэра 235
принимает, словно Кант никогда не существовал, время за определение вещей
самих в себе и останавливается на том, что Кант называет явлением» 29. Фило-
софия и история во всем противоположны: философия ищет неизменное и об-
щее, история — изменяющееся и индивидуальное, философия «постигает»
сущность мира, история только «сосчитывает» явления, философия серьезна и
полна значения для человечества, история — легковесна и мало чего стоит.
Таким образом, основной принцип философского мышления — «всякое про-
исхождение и возникновение иллюзорно» 30 — делает историю философски
несостоятельным знанием.
Но не допущенный в сущность вещей принцип историзма принимается
Шопенгауэром в его концепции иерархии объективации воли: без принципа
становления философская интерпретация мира оказывается невозможной. Исто-
ризм, с позором вытолканный «в дверь», возвращается украдкой в «окно» сис-
темы. Поэтому запрещение введения становления в метафизическое ядро мира
оказывается двусмысленным. Понимаемая как «слепая воля», метафизическая
сущность мира определяется как стремление, порыв, необузданное вожделе-
ние, как говорит философ, «голодная воля» 31, что возвращает становлению его
онтологический статус. С одной стороны, Шопенгауэр неоднократно отмечает,
что принцип становления не может относиться к самой воле, так как «воля
неподвижно пребывает во всем этом изменении» 32, а с другой — он повсюду
подчеркивает стремящийся характер воли, «первобытную» изначальность ее
динамизма, напряжения универсальной борьбы 33.
Концепция неподвижного трансфеноменального всеединства легко совме-
щается с концепцией метафизического стремления и борьбы 34. Поднимаясь
по ступеням объективации воли, борьба меняет свои формы 35. Однако на выс-
шей ступени объективации в виде эстетического исключения делает возмож-
ным «попустительство» воли по отношению к познанию, ведущее к ее самоот-
рицанию. Здесь Шопенгауэр опять устанавливает эволюционно-иерархический
путь самосовершенствования воли как самоосвобождение ее от себя самой.
29 Там же. С. 332.
30 Там же. Т. 2. С. 456.
31 Там же. Т. 1.С. 187.
32 Там же. С. 186.
33 Там же. С. 181,376.
j4 Некоторый аналог своей системы в этом отношении Шопенгауэр усматривал у Эмпе-
докла. См.: Там же. Т. 2. С. 495.
35 Если «воля на нижайшей ступени выказывается как слепое влечение, темный глухой
позыв, вне всякой непосредственной познаваемости», то на высшей ступени объективации
человек «проявляет в себе самом эту борьбу, это раздвоение воли с ужасающей очевидно-
стью и становится homo homini lupus» (Там же. Т. 1. С. 178—181).
236
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
Главный недостаток истории Шопенгауэр усматривает в недоступности для
нее целостного отношения к своему предмету в смысле как научной системно-
сти понятий, так и эстетического созерцания идей. По признанию Шопенгауэра,
любая попытка рассматривать историю «как нечто цельное, имеющее начало,
середину и конец, исполненное внутреннего смысла и строя... бесплодна и
вытекает из недоразумения» 36. Фокусом всех инвектив Шопенгауэра в адрес
истории выступает ее антиэстетизм, выражающийся в ее обреченности на
незавершенность, отрывочность и поверхностность.
Однако полностью лишить историю всякого значения Шопенгауэр тем не
менее не может. Поэтому, противореча себе и тем самым следуя логике (точнее,
эстетике) парадокса, т. е. оставаясь в этом отношении верным себе, он говорит
о высоком значении и достоинстве истории как самопознании человечества. В
результате Шопенгауэр демонстрирует свою неспособность к радикальному
разрыву с традицией, с которой он по существу уже порвал в своем мышлении.
И по принципу эстетического исключения из принципа Шопенгауэр, по суще-
ству, повторяет положения «бездарного и неуклюжего шарлатана», «духовного
Калибана» 37 (так он называет Гегеля), и униженная им история объявляется
«разумным самосознанием человеческого рода» 38. Шопенгауэр, таким обра-
зом, восстанавливает все отвергнутые им положения. Истории возвращается
даже целостность: «...только благодаря ей человеческий род действительно
становится чем-то цельным — становится человечеством» 39. А универсаль-
ные и обобщенные субъекты оказываются признанными в качестве реально
действующих сил истории. Поэтому теперь, расставшись с жалким познава-
тельным нищенством, история преисполняется чуть ли не царственного вели-
чия «истинного значения» 40. Шопенгауэр с проникновенностью и с присущим
ему красноречием говорит об исторической памяти человечества, о стремле-
нии истории правдиво «говорить с потомством» 41, об историческом общении
сквозь время и эпохи, возвращая человечество к его живому единству.
Начиная свою единственную главу, посвященную истории, заупокойным
молебном, Шопенгауэр кончает здравицей в ее честь только затем, «чтобы не
подумали, будто мы отрицаем за ней всякое значение» 42. Но формальный ха-
рактер этого расшаркивания перед историей совершенно очевиден. Однако то,
36 Там же. С. 458.
37 Там же. С. XXII—XXVI.
38 Там же. Т. 2. С. 459.
39 Там же.
40 Там же.
41 Там же. С. 460.
42 Там же. С. 458.
Эстетизм против историзма: случай Шопенгауэра 237
что не укладывается в жесткие рамки систематического научного мышления, с
легкостью укладывается в каноны эстетизма. Его формулы, санкционируя фак-
тическое разрушение научно-философского разума, позволяют и даже требу-
ют соблюдения формализма приличий по отношению к своей жертве. Так возни-
кают свойственные Шопенгауэру эклектизм и непоследовательность, позволя-
ющие говорить о своего рода стыдливом иррационализме философа43.
Многочисленные противоречия философии Шопенгауэра не остались не
замеченными им самим. Однако он не придавал этому значения, будучи озабо-
чен не столько логической непротиворечивостью мышления, сколько его эсте-
тической цельностью. В письме к Беккеру он высказывает свой взгляд на про-
тиворечия: «.. .указывать на противоречия — это вообще самый пошлый и пре-
зренный способ опровергать автора» 44.
В определениях воли как бесцельной игры постоянного перехода от желания
к удовлетворению 45 несомненно проступает ее эстетизм. Однако этот потенци-
альный метафизико-онтологический эстетизм оборачивается (опять парадокс!)
этицизмом. Поэтому собственно эстетизм разворачивается у Шопенгауэра в гно-
сеологии идей, рассматриваемых им как непосредственные объективации воли.
Здесь наглядно обнаруживается натуралистический характер эстетизма Шопен-
гауэра: коррелятом чистого безвольного субъекта (гений) оказывается «вечная
природа» как объект эстетического созерцания46. Эстетическое представление,
занимающее промежуточное место между волей и ее явлением, это исключитель-
ное представление, или представление об исключении, так как, оставаясь пред-
ставлением, оно не подчиняется закону основания. Но эта исключительность эс-
тетического представления может быть объяснена только исключительностью
самой воли, поскольку только воля представляет собой метафизический принцип
всякого объяснения. Но такое исключение в то же время и необъяснимо из прин-
ципа воли, образуя произвольное «попустительство» воли, ее самопротиворечие.
Это противоречие пронизывает всю философию Шопенгауэра. Оформляясь в эс-
тетической гносеологии, оно достигает своего полного развития в этике 47. В
43 «В шопенгауэровском иррационализме с особой силой и отчетливостью проявилось
характерное для иррационализма сочетание иррационалистических посылок с деревянным
формализмом рассудочного мышления» (Давыдов Ю. Н. Иррационализм // Философская
энциклопедия. М., 1968. Т. 2. С. 322). Эта особенность представляется нам, однако, не
столько общей характеристикой иррационализма, сколько специфической чертой филосо-
фии Шопенгауэра, отличающей ее, например, от философии Ницше.
44 Цит. по: Фишер К. Указ. соч. С. 485.
45 Шопенгауэр А. Указ. соч. Т. 1. С. 200.
46 Там же. С. 222.
47 «Как же мыслить, что этой неразумной воле пришла блажь появиться в образе разум-
ного сознания?» (Винделъбанд В. История новой философии. М., 1905. Т. 2. С. 290).
238
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
результате онтология не совмещается с гносеологией, объективность познания
оказывается вообще невозможной и превращается в чистую форму видимости,
а тем самым становится логически несостоятельной и ведущая мысль Шопен-
гауэра о самопознании воли. Бессильное безволие истины и красоты подкаши-
вает их достоверность, становящуюся синонимом чистоты фантома или сно-
видения. Волюнтаристский принцип оказывается несовместимым с истиной и
красотой. Поэтому, стремясь сохранить классический декорум, Шопенгауэр
нагромождает одно исключение на другое: в мире представления таким ис-
ключением является искусство, в мире искусства— музыка... Но проблема,
однако, не решается, а только отодвигается в последнее, самое исключитель-
ное исключение.
В условиях метафизического волюнтаризма гармония красоты, истины и
добра становится пустым формализмом, чистой иллюзией. Однако у Шопенга-
уэра мы наблюдаем только зарождение дисгармонического и в конце концов
трагического эстетизма. Но уже обессиливающий «высшие ценности» иллюзио-
низм Шопенгауэра весьма существенно отличает его, например, от эстетизма
Шеллинга48. Этот иллюзионизм, питающий эстетическую утопию Шопенгау-
эра, имеет, однако, формально-метафизическое обоснование в его волюнтари-
стском принципе. Расслоение воли на всеединый, самодостаточный, завершен-
ный принцип и на собственно волю как стремление, недостаточность, неза-
вершенность и борьбу можно проинтерпретировать как двузначность самого
волюнтаристского начала. Таким образом, мы констатируем реальное, «рабо-
тающее» внутри философского мышления Шопенгауэра расслоение волюнта-
ристского принципа на его формальный и содержательный аспекты. Формаль-
ный аспект принципа воли обосновывает все «высшие ценности» — эстетику,
этику, философию и религию, а содержательный аспект — все остальное.
Этот формалистский иллюзионизм, тщательно скрываемый от самокрити-
ческой рефлексии, составляет характернейшую особенность стиля мышления
Шопенгауэра и делает его начиная с 50-х годов «философом века» 49. Филосо-
фия Шопенгауэра с ее формальным принятием «высших ценностей» вполне
соответствовала духу этого времени 50. Популярность Шопенгауэра возникает
и растет одновременно с популярностью среди научно-образованных кругов
Европы завезенного из Америки спиритизма 51.
Шеллинг В. Философия искусства. М., 1966. С. 84 и др.
49 Фишер К. Указ. соч. С. 7.
50 Это непоследовательное мировоззрение, популярное во второй половине XIX в.,
В. Зеньковский метко назвал «этическим полупозитивизмом». См.: Зеньковский В. Исто-
рия русской философии. М., 1956. Т. 1. С. 316.
51 Фишер К. Указ. соч. С. 101.
Эстетизм против историзма: случай Шопенгауэра
239
Иллюзионизм захватывает и внешнюю форму философии Шопенгауэра,
представляющую собой стройную четырехчастную систему. Хотя философия,
согласно Шопенгауэру, есть скорее искусство, чем наука, но и здесь он не мо-
жет быть последовательным, как и во всем остальном. Поэтому и в этом отно-
шении мы имеем дело только с формализмом. Системность оказывается не
инструментом содержательного понимающего мышления, а только эстетиче-
ской иллюзией, чистой формальностью, дающей видимость гармонического
идеала, сочетающего философию и науку, философию и эстетику, философию
и мораль, философию и религию. Это отсутствие последовательного понима-
ющего мышления само принадлежит к мышлению и к духу его времени.
Значение эстетической утопии Шопенгауэра пережило его век. Дело, види-
мо, в том, что именно Шопенгауэру впервые удалось зафиксировать самую суть
эстетико-натуралистического утопического мышления. Кратко эта утопия сво-
дится к следующей схеме. Обоснованное формальным аспектом воли как «веч-
ной природы», искусство «задерживает колесо времени» 52. По отношению к
буре исторической жизни искусство подобно «покойному солнечному лучу,
который перерезывает путь этой буре и которую она ничуть не колеблет» 53.
Эстетическая утопия несет у Шопенгауэра этическую нагрузку. Эстетиче-
ское общение с природой создает должное спокойствие, а «без спокойствия
никакое истинное благополучие невозможно» 54. Поэтому не случайно, что, жи-
вописуя праздник «субботы каторжной работы желания», Шопенгауэр вспо-
минает Эпикура, в «интермундиях» которого останавливается злополучное
«колесо Иксиона» 55. Эстетическое созерцание несет также нагрузку и соци-
ально-политического утопизма, устраняющего социальную иерархию и нера-
венство, уравнивающего нищего и короля, преступника и престолонаследни-
ка, так как «ни счастье, ни горе не переносятся с собою за эту границу» 56.
Когда человек в акте эстетического созерцания возвышается до чистого без-
вольного субъекта, а предмет созерцания становится «вечной природой», то он
сполна выпадает из власти времени, становления, истории, из всех «земных»
отношений социальной жизни, и «тогда уже действительно все равно, смот-
реть ли из темницы или из дворца на заходящее солнце» 57. Эстетическая уто-
пия дает образ трансцендирования исторических противоречий человека, ме-
тафизически представленных в саморазорванной воле, примиряя их. Это уте-
5" Шопенгауэр А. Указ. соч. Т. 1. С. 222.
53 Там же. С. 222—223.
54 Там же. С. 236.
55 Там же. С. 237.
56 Там же. С. 237—238.
57 Там же. С. 237.
240
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
шающее и примиряющее трансцендирование достигается прорывом из исто-
рии в «вечную природу».
Здесь вспоминается главный персонаж повести А. Камю «Посторонний»,
скромный клерк Мерсо, которому «эмиграция в ощущения» помогла стоиче-
ски, но не без доли эпикурейства вынести «историю» 58. «Колесо Иксиона» нео-
бязательно должно быть внешне круглым, оно может быть и просто галерой,
провонявшей селедкой, с капитаном, взявшим явно неверный курс 59, но внут-
ренне, в принципе оно непременно круглое, как кругло или округло вечное
одно и то же или судьба — «колесо Фортуны». У Шопенгауэра мы читаем:
«...главы человеческой истории в сущности отличаются между собою только
именами и хронологией: действительное содержание их всюду — одно и то
же» 60. У Мерсо же этот философский взгляд становится жизненной позицией:
«...в жизни ничего не переменишь, все одно и то же» 6l. Эстетико-натурали-
стическая утопия, рассматривающая в качестве модели человека Homo naturae
(термин Ницше 62), обретает у Камю полновесную художественную реальность
в образе Мерсо, «из которого вычли члена общества, семьи, церкви, клана» 63.
Вспомним, о чем сожалел Мерсо, когда он ездил хоронить мать. Он жалел утро,
пропавшее для прогулки по берегу моря: «.. .мученик страстей, нужды или за-
бот уже одним свободным взглядом на природу так мгновенно освежается,
развеселяется и укрепляется: буря страстей, напор желаний и опасений и вся
мука хотения чудным образом успокаивается мгновенно» м. Заметим, это го-
ворит не Камю, а Шопенгауэр!
Здесь мы должны сделать одно забегающее вперед замечание. Камю насле-
дует традицию эстетико-натуралистического мышления, прошедшего после
Шопенгауэра прежде всего через Ницше. Поэтому, сопоставляя Мерсо с ано-
нимным героем эстетической утопии Шопенгауэра, с «шопенгауэровским че-
ловеком», по выражению Ницше, необходимо отметить специфически ницшев-
ский корректив, внесенный Камю в образ героя этой утопии: «страстное вож-
58 «И дома и в тюрьме он часами, не ведая скуки и утомления, упоенно следит за игрой
солнечных лучей, переливами красок в небе, смутными шумами, запахами, колебаниями
воздуха... В преддверии казни, при стычке со священником, до конца постигнув обращен-
ный к нему призыв судьбы... приговоренный к смерти обретает покой, "раскрываясь на-
встречу тихому равнодушию мира"» {Великовский С. После «смерти бога» // Новый мир.
1969. №9. С. 227).
59 Там же. С. 217.
60 Шопенгауэр А. Указ. соч. Т. 2. С. 455.
61 Камю А. Посторонний // Иностр. лит. 1968. № 9. С. 132.
62 Ницше Фр. Поли. собр. соч. СПб., 1910. Т. 9. С. 162.
63 Великовский С. Указ. соч. С. 227.
64 Шопенгауэр А. Указ. соч. Т. 1. С. 238.
Эстетизм против историзма: случай Шопенгауэра 241
деление правды» 65. Мерсо действительно «правдив до пренебрежения собствен-
ной выгодой» 66. Внутри эстетизма и его образных воплощений скрывается
мощная морально-этическая пружина — гипертрофированно острое чувство
правдивости. Эстетизм с его эффективной антиморальной внешностью оказы-
вается обусловленным изнутри пароксизмом правдивости. При этом обнару-
живается, что фигура эстетика (вспомним классическое противопоставление
эстетика и этика у Кьеркегора) формируется жестким резцом нравственной
честности. Эстетико-натуралистическое равнодушие к бедствиям человеческим
оказывается (еще парадокс) оборотом нравственной нетерпимости к обще-
ственному лицемерию и фальши, коррелятом нравственной пристрастности.
Органическую связь эстетизма с этицизмом легко не заметить, доверившись
расхожим представлениям о воинствующем аморализме философии Ницше. И
действительно, эта связь осталась скрытой для многих академических пред-
ставителей гуманистической традиции в XIX в., но не для ее проницательных
и чутких выразителей в XX в.67
Подведем итоги нашему анализу. Историзм в эстетическом мировоззрении
оборачивается фактическим антиисторизмом эстетической утопии. Тенденция
к историзму в философии Шопенгауэра, выразившаяся прежде всего в прима-
те воли как практического начала над началом познавательным, в примате он-
тологического измерения над гносеологическим, бытия над разумом, обнару-
жилась не столько отрицанием рационально-гносеологической метафизики,
сколько ее переформулированием в иррационально-онтологических терминах.
Историческое измерение человека и мира, понятийное вхождение в которое
выступает как сверхзадача этой тенденции, оказалось инактивированным во-
люнтаристским принципом, так как Шопенгауэр сохранил за ним чисто фор-
мальный статус метафизического начала, исключающего время и историю из
сущности вещей. Однако само содержание волюнтаристского принципа (воля
как абсолютное стремление) означало по существу, но только в потенции воз-
можность онтологического обоснования времени и истории. Это коренное про-
тиворечие шопенгауэровской философии развивалось и отразилось в ней це-
лой системой противоречий и «эстетических» исключений. Противоречие меж-
ду эволюционизмом объективной воли и требованием понять многообразие
мира исходя из вневременных идей, противоречие между содержательностью
65 Ницше Фр. Поли. собр. соч. СПб., 1909. Т. 2. С. 197.
66 Великовский С. Указ. соч. С. 220.
67 Так, например, глубокий нравственно-гуманистический подтекст философии Ницше
остался скрытым для К. Фишера. См.: Фишер К. Указ. соч. С. 508—509. Напротив, он не
был тайной для Томаса Манна. См.: Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта//
Собр. соч. М., 1961. Т. 10.
16-3357
242
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
и формализмом принципа воли оказались тесно связанными с физиологист-
ским переосмыслением кантовского трансцендентализма. Физиологистская на-
турализация трансцендентализма у Шопенгауэра сыграла двусмысленную роль:
она только увеличила раскол внутри мышления, затруднив тенденцию к исто-
ризму Натурализм обнаружил свою неспособность стать действительно эф-
фективной философией истории.
КОНФЛИКТ ЭСТЕТИЗМА И ИСТОРИЗМА
В ФИЛОСОФИИ НИЦШЕ '
Философская мысль XIX в. искала способы овладения историческим изме-
рением человека, структуры мысли, способной раскрыть смысл истории или
ее логику, постичь конкретную личность и дать ей ориентиры в ее движении в
будущее. Философия вовсе не стоит поодаль от усилий человеческой мысли в
искусствах, науках, религиозных учениях. Время как категория и как реаль-
ность, как видимость и как проклятие — вот что стало объектом и целью науч-
ных построений, художественной активности и философских рассуждений. Век
систематик кончился, начался век Кювье и Дарвина. Эпоха искала философию
конкретного, предельно открытую к истории, обществу и личности, к челове-
ческой повседневности в их динамике, ведущей в будущее. Откликом на это
требование были по сути дела все великие философии XIX, да во многом и
XX веков, — прежде всего философия жизни в целом и философия Ницше в
частности, а также марксизм, фрейдизм, экзистенциализм... Существенная в
этой связи историко-философская фактичность состоит в том, что гегелевская
философия была воспринята как идеально воплощенная абсолютная дискур-
сивная мудрость (значит, как настоящий конец философии, а в принципе — и
истории как таковой). Но так она была воспринята — и с этим ничего не поде-
лаешь — только гегельянцами. Для них и сегодня ничего логически осмыслен-
ного философски сказать о мире нельзя, кроме того, что уже сказал Гегель,
этот «богочеловек» от философии, воплотивший вполне весь ее имманентный
логос, т. е. всю мысль Бога о мире в целом. Однако эмпирическое наличие не-
гегельянцев породило, можно сказать, ситуацию кризиса в философии.
Кризис, обозначенный философией Гегеля, если наметить самые крайние
точки амплитуды его возможных преодолений, мог вести или к историцизму
материалистического толка, или, напротив, к христианской историософии.
1 Данная работа примыкает к анализу в указанном аспекте философии Шопенгауэра
(см. выше: С. 229—242).
16*
244
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
Общим же знаменателем всех этих постгегелевских поисков была именно цель-
ная философская истина, путеводительно открытая человеку, погруженному в
стремительные воды истории. Иными словами, постгегелевские философии
претендовали не только на водительство умов (что вполне естественно для
философии), но и на водительство душ (что, скорее, естественно для религии),
и эта претензия вовсе не устранялась с принятием радикального атеистическо-
го тезиса. Постфактум мы можем сказать, что искали тогда именно целостно-
го, так сказать, «гегелеподобного» синтеза, стремясь обрести его или на путях
«подозрения» (в высшем низшего или за высшим — низшего), т. е. на путях
решительной редукции европейских идеалов к земным реалиям (обществен-
ного хозяйства, или сексуального влечения, или всевластной воли к власти),
или же, напротив, этот искомый целостный синтез строился не на путях «подо-
зрения», а, наоборот, в свете «надозрения», или, иными словами, в свете дове-
рия к высшим мгновениям человеческой жизни — к совести, мистическому
чувству Бога, к красоте и любви. Поэтому неудивительно, что возникшие на
первом пути «школы подозрения», в число основателей которых вместе с
Марксом и Фрейдом попал и Ницше, сразу же вступили в конфронтацию с
философиями доверия, берущими за универсальную основу историчности че-
ловека фактичность не человеческих «низин» (секс, труд, власть), которые,
однако, при этом вовсе не отрицаются, а фактичность вершин человека (со-
весть, бескорыстие, любовь).
Шопенгауэровское наследие
В духовной эволюции Ницше центральное место занимает его встреча с
творчеством А. Шопенгауэра (1865 г.). Шопенгауэровское учение воспринима-
ется молодым Ницше не как система отвлеченной философии, методически
ставящей и решающей традиционные вопросы, а как «трагическое жизнепо-
нимание», дающее целостный образ мира и человека. «Его величие в том, —
говорит Ницше о Шопенгауэре, — что он стоит перед картиной мира как перед
целым и толкует ее как нечто целое...» 2. В Шопенгауэре Ницше видит прежде
всего идеал целостной личности трагической культуры, буквально чудом уце-
левшей среди современной измельчавшей цеховой учености.
Ницше отвергает историческую науку, чрезмерно погруженную в специа-
лизацию, и противопоставляет частичному «человеку науки» трагического
«шопенгауэровского человека» 3. Однако, если Шопенгауэр еще сохраняет деко-
2 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 198.
3 «Шопенгауэровский человек берет на себя добровольное страдание правдивости, и
это страдание помогает ему убить личную волю и подготовить тот современный переворот
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 245
рум традиционного рационализма4, то Ницше решительно порывает именно с
ним, развертывая содержательное и формально-стилевое оформление ново-
образуемого типа иррационалистического философствования 5. В «Несвоевре-
менных размышлениях» (1873—1876 гг.) раскрывается основной мотив эсте-
тической утопии Ницше, подхваченной им от Шопенгауэра: исцеления человека
можно ждать только от великих носителей трагической культуры, в качестве
которых для Ницше выступают прежде всего сам Шопенгауэр и Вагнер. Ниц-
ше развивает шопенгауэровскую (идущую от романтиков) концепцию гения и
стремится обновить ее, указывая достойные подражания образцы в современ-
ной ему действительности. Отвлеченно-литературное преклонение перед ге-
нием он заменяет конкретно-личностным отношением, живой любовью к воп-
лощенному идеалу. Поэтому он гораздо острее и напряженнее, чем Шопен-
гауэр, ставит проблему воспитания человека истинно трагической культуры.
Сам Шопенгауэр для него выступает прежде всего именно как такой воспита-
тель. Уже в этой перестановке ударений в фонетике идеала обнаруживается
несомненный шаг в сторону конкретной философии (или философии конкрет-
ного), который мы фиксируем как тенденцию к историзации философского
мышления, так как исторический субъект конкретен. При этом заметно повы-
шается общая температура мыслительного «кровообращения», динамизирует-
ся все мышление. В «философском театре» на авансцену выходит трагедий-
ный жанр: трагедия осознается как философия, а философия как трагедия.
Квиетизм Шопенгауэра оказывается в конце концов непозволительной роско-
шью, провозглашенный им «пессимизм слабости» обнаруживает свою успоко-
в его сущности, достижение которого и образует собственно смысл жизни» {Ницше Ф.
Поли. собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 212). В образе «шопенгауэровского человека» Ницше
оформляет свой идеал мученика правдивости, жертвующего собой во имя высшей правды
бытия. Здесь, еще на почве шопенгауэровской этики, начинает Ницше разворачивать тему
самоотречения, но не в духе квиетизма и «пессимизма слабости» своего учителя, а в духе
героического «пессимизма силы». Теоретические идеализации Шопенгауэра Ницше вос-
принял как практический императив, осуществив в своей жизни и судьбе философию са-
моотречения. «Шопенгауэровский человек», по Ницше, «уничтожает свое земное счастье
своею храбростью, он должен быть враждебен даже людям, которых любит, и учреждени-
ям, из лона которых он произошел, он не должен щадить ни людей, ни вещей, хотя сам
страдает от наносимых им ударов» (Там же. С. 213).
4 «Он (речь идет о Шопенгауэре. — В. В.) не полностью академичен, как Кант или Ге-
гель, но и не полностью отрешился от академических традиций» (Рассел Б. История запад-
ной философии. М., 1959. С. 770).
5 «Это была подлинная "эмансипация" иррационализма: он получил свой собственный
язык — язык страстей и эмоций, язык пророчеств и образов, язык иносказаний, символов и
аллегорий» (Давыдов Ю. Н. Иррационализм // Философская энциклопедия. М., 1961. Т. 2.
С. 325).
246
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
енно-оптимистическую изнанку. Ницше решительно ставит точки над «i», де-
лая радикализм мысли своей differentia specifica. Он доводит пессимизм, ирра-
ционализм и атеизм до высшей их степени, отбрасывая их стыдливый, завуа-
лированный характер, непоследовательность и компромиссы, присущие фило-
софии Шопенгауэра.
Формально-метафизическое обоснование Шопенгауэром мира высших цен-
ностей Ницше не устраивает. «Пессимизм слабости» у него становится герои-
ческим пессимизмом силы: между человеком и слепой алчной Волей не оста-
ется в качестве барьера никакой метафизической иллюзии. Трагизм из факта
литературно-созерцательного превращается в факт духовно-жизненный, про-
ходя через жизнь и мышление Ницше и оформляясь в нем. Мышление Ницше
с сейсмографической точностью фиксирует радикализацию кризиса европей-
ской культуры.
Культурософия Ницше: эстетизм и натурализм
Получив импульс от Шопенгауэра, творчество Ницше развивается как фи-
лософия культуры по преимуществу. В своей предельно упрощенной схеме
культурфилософское мышление Ницше представляет собой органическое со-
членение историко-культурной концепции и собственно философских предпо-
сылок анализа культуры. Онтолого-гносеологические схемы служат при этом
фундаментом для историко-культурной концепции, формируясь и функциони-
руя только в связи с ней. Если рассмотреть ницшевский подход к самому поня-
тию культуры и к вырастающей на его почве типологии культур, то характер
философии культуры Ницше следует определить как культурософию. Действи-
тельно, Ницше не столько философствует о культуре, сколько стремится обре-
сти культурозначимую мудрость (софию). Поэтому инструментом проникно-
вения в культуру у него выступают не столько отвлеченные понятия, сколько
символы. Парадигму мышления Ницше о культуре задает конкретный образ 6,
образующий инвариант определенного типа культуры. Именно поэтому, обра-
щаясь к современному обществу и его культуре, Ницше находит в них прежде
всего символические персонификации в лице конкретных деятелей эпохи не
только для олицетворенного воплощения идеала, но и для столь же живого
воплощения антиидеала 7.
Камю, влияние на которого со стороны Ницше несомненно, говорит, что «мы мыслим
посредством образа, поэтому, если хочешь философствовать, ниши романы» (Camus А.
Carnets I. Р., 1962. Р. 23). См. ниже в гл. VI: «Идеологии уходят, любовь остается» С. 452 и ел.
7 В такой роли в раннем творчестве Ницше выступает Д. Ф. Штраус, историк гегелев-
ской школы, олицетворявший для Ницше всю безжизненность современной образованно-
сти (Bildungsphilister).
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 247
В стремлении преодолеть отвлеченно-рациональные нормативы мышления
и жизни, дать наглядные примеры высоко жизненной великой культуры нахо-
дит свое проявление тенденция к исторически действенной, конкретной, прак-
тически значимой современной философии, характеризующая все творчество
Ницше. По справедливому замечанию Метнера, «практическая тенденция, не
перейдя в действие, сказалась в том, что, не довольствуясь художественными
образами ее типовых носителей, Ницше стремился к полной конкретности, а
именно: в реальных личностях настоящего или прошлого увидеть самому и
заставить увидеть других живые воплощения его идеи» 8.
В самом способе построения концепции истории культуры, в выборе средств
идеализации и в возникающей на этой основе критике современного ему евро-
пейского общества проявляется исходная позиция Ницше — его принципиаль-
ный эстетизм. Свой культурный идеал Ницше пытается отыскать прежде всего
на почве досократической Греции. Он подчеркивает, что именно художествен-
ное начало есть настоящая стихия всей жизни греков, что не нуждой, порожда-
ющей науку, а художественным инстинктом создана вся культура древней Эл-
лады. Само понятие культуры как таковой несет у Ницше отсвет античной ху-
дожественности. В качестве основных компонентов античной культуры он от-
мечает пластику и гимнастику, подчеркивая их музыкальность как ее общую
основу. Греки смогли «основать государство на музыке», — говорит Ницше 9.
И поэтому они «единственный гениальный народ в мировой истории» 10.
Эстетическая позиция Ницше соединяется у него в одно целое с натурализ-
мом. Культура понимается при этом как род природного инстинкта. Ее общест-
венная функция — создание возбуждающих жизненную активность иллюзий:
«Из всех возбудительных средств состоит все то, что мы называем культурой;
смотря по пропорции, в которой они смешаны, мы имеем или преимуществен-
но сократовскую, или художественную, или трагическую культуру; или, если
взять исторические примеры, то можно сказать, что бывают либо александ-
рийские, либо эллинские, либо индийские (браманические) культуры» п.
Позиция эстетизма выражена молодым Ницше предельно четко: «Только
как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности» 12. Полемиче-
ское заострение эстетоцентризма направлено у Ницше против этического ра-
ционализма (знание добра — основа добродетели), характерного для сократи-
ческой культуры. Метафизический эстетизм выступает у раннего Ницше в ка-
8 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 419-420.
9 Там же. С. 356.
10 Там же. С. 305.
11 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1912. Т. 1. С. 124.
12 Там же. С. 60.
248
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
честве теоретического обоснования прежде всего дионисийской культуры. И
если в плане типовых культурных образцов Дионис противопоставляется им
Аполлону (и Сократу), то в понятийном плане этому соответствует противопо-
ставление иррационалистического эстетизма рационалистической этике.
Эстетизм выступает у Ницше как действительно универсальный принцип.
Наука, мораль, политика и другие формы культуры объясняются на его основе.
Так, например, дедукция морали сводится у него к выведению страдания из
определений эстетического начала: «Даже безобразное и дисгармоническое есть
художественная игра, в которую воля, в вечной полноте своей радости, играет
сама с собой» 13. Безобразное и дисгармоническое же в своем преломлении
через человека выступают как страдание. Если Шопенгауэр в основу своей этики
положил сострадание, то и Ницше, выводя этику из метафизики воли, прежде
всего обнаруживает в качестве ее эстетического свойства страдание, являюще-
еся, очевидно, основой для сострадания. Этическое начало оказывается прояв-
лением эстетической игры, как и все остальное в мире природы и культуры.
Этот эстетический редукционизм основан на метафизическом волюнтаризме:
сущее немыслимо вне монистической воли. Весь мир оказывается, таким об-
разом, лишь разверткой эстетического отношения (игра) воли к себе самой, все
сущее — имманентно воле и есть, по сути, она сама, ее самоопределение.
Прообраз своего эстетического монизма воли Ницше находит в известном
афоризме Гераклита: «Вечность — ребенок, забавляющийся игрою в шахма-
ты: царство ребенка». Мир оказывается царством эстетической игры воли, твор-
чеством «совершенно беззаботного и неморального бога-художника» 14. Вне-
моральная характеристика бытия обнаруживает при этом натуралистическую
предпосылку всего ницшевского мышления 15.
Эстетизм используется Ницше и для критики рационалистической теории
познания, в ходе которой он набрасывает контуры своей эстетико-натурали-
стической гносеологии. Уже в своей первой опубликованной работе «Рожде-
ние трагедии из духа музыки» (1872) Ницше противопоставляет научно-теоре-
тическому познанию трагическую мудрость. В «Опыте самокритики» (1886)
он говорит, что его задачей в «Рождении трагедии» было «взглянуть на науку
13 Там же. С. 159.
14 Там же. С 29.
15 Внеморальный характер мира всегда подчеркивается Ницше. Так, например, в 1886 г.
он пишет «Опыт самокритики», в котором рассматривает свою раннюю эстетическую ме-
тафизику под углом зрения новой проблемы «переоценки всех ценностей», прежде всего
ценностей религиозно-моральных. И если для позднего Ницше наиболее чуждым оказыва-
ется его учение об эстетическо-метафизическом утешении, в котором он усматривает дань
романтическому пессимизму слабости с его невытравленным морализмом, то наиболее
близкой оказывается именно антиморалистическая тенденция его эстетической метафизики.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 249
под углом зрения художника, на искусство же под углом зрения жизни» 16.
Ницше подчеркивает, что наука впервые в истории мысли рассматривается
им «как проблема, как поставленная под вопрос» 17. Правда, он отмечает, что
самый первый шаг в этом направлении был сделан Кантом, указавшим гра-
ницы научного познания и тем самым поставившим пределы сократовско-
александрийской рационалистической культуре, но оставшимся, однако, в ее
рамках. Ницше воспринимает Канта как первого «трагического философа» в
истории нового времени. Заявив о примате практического разума над теоре-
тическим, Кант, а вслед за ним и Шопенгауэр повернули, по мнению Ницше,
европейскую культуру от отвлеченной истины к конкретной мудрости, от ра-
ционалистического оптимизма к пессимизму, от сократизма к дионисизму:
«Огромному мужеству и мудрости Канта и Шопенгауэра, — говорит Ниц-
ше, — удалось одержать труднейшую победу — победу над скрыто лежа-
щим в существе логики оптимизмом, который, в свою очередь, представляет
подпочву нашей культуры» 18.
Так как в качестве метафизической деятельности человека Ницше при-
знает именно «искусство, а не мораль» 19, то наука, которую он сближает с
моралью, оказывается лишь эпифеноменом искусства. Эстетическая редук-
ция науки осуществляется Ницше аналогично редукции морали. Научное
понятие, согласно Ницше, есть нечто «сухое и восьмиугольное, как играль-
ная кость, являющееся лишь остатком метафоры...» 20. Истина в таком слу-
чае сводится к игре по правилам с костями — понятиями. Быть правдивым,
т. е. «лгать согласно принятой условности», образует канон стадной морали
общества и проявляется как в обыденной жизни, так и в науке. Эта ложь,
именуемая «истиной», как и вся культура, несет функцию охранительной
иллюзии жизни. Разум, с его схематизмом понятий, огрубляет необузданную
красочность мира и приводит к иерархизированному, абстрактному, искусст-
венному миру социального бытия, который своей сухостью, строгостью и
холодом напоминает римский колумбарий.
Научное понятие, таким образом, определяется Ницше через деградацию
эстетического инстинкта. Понятийное самосознание — темница забвения
субъектом своей эстетической сущности. Отношение субъекта к объекту во-
обще является изначально эстетическим: «Между двумя абсолютно различ-
ными сферами, каковы субъект и объект, — говорит Ницше, — не существует
16 Там же. С 26.
17 Там же. С. 25.
18 Там же. С. 136.
19 Там же.
20 Там же. С. 399.
250
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
ни причинности, ни правильности, ни выражения, самое большее — эстети-
ческое отношение, т. е. своего рода передача намеками» 21.
В эстетической гносеологии Ницше отметим только два момента: это, во-пер-
вых, дуалистическое разграничение субъекта и объекта, являющееся антите-
зой рационалистическим концепциям тождества мышления и бытия, а во-вто-
рых, символизм как способ проявления возможного познавательного отноше-
ния. Именно в символизме, как мы уже сказали, проявляется культурософски
ориентированное мышление Ницше. В первом периоде его творчества (до
1876 г.) мы обнаруживаем символику Диониса и Аполлона, трагического «шо-
пенгауэровского человека» и «несвоевременных людей». Во втором (до 1881 г.)
мы находим символы «выздоравливающего» и «свободного духом» (Freigeist),
а в третьем (до 1888 г.) — «сверхчеловека», «вечное возвращение» и Заратуст-
ру. Таким образом, сущность мира, считает Ницше, скрыта от ученого, потому
что он не способен к символизму, в отличие, например, от дифирамбического
драматурга, персонифицирующего, по мнению Ницше, высшее проявление
творческого эстетического инстинкта 22.
Уже у раннего Ницше натуралистический подтекст его эстетизма окраши-
вается в тона биологизма, хотя сам биологистический принцип не прорабаты-
вается еще систематически, а скорее только подразумевается. При этом разум,
логика, наука истолковываются молодым Ницше неопределенно биологистски
в отличие от определенного принципа воли к власти впоследствии. Разум —
основа надежности, устойчивости, жизненной сохранности человека. Его за-
дача — разместить «эмпирический, т. е. антропоморфный мир», в «колумба-
рии» понятий 23. Наука — служанка нужды, поэтому, переходя от науки к ис-
кусству, человек «может смело стереть выражение нужды со своего лица». Рас-
сматривая взаимосвязь искусства и науки, Ницше вводит понятие интуиции:
«Из царства этих интуиции нет проторенной дороги в страну призрачных схем,
абстракций: для них не создано слово...» 24. Являясь сверхрациональной спо-
собностью, интуиция проявляется негативно и двояким образом: во-первых,
она «постоянно перепутывает рубрики и ячейки понятий», создавая новые ув-
лекательные иллюзии, а во-вторых, служит для «вышучивания» понятий, выс-
тупая своего рода гносеологической иронией.
Таким образом, уже у молодого Ницше эстетико-натуралистическое мыш-
ление приводит к резкому распадению познания на науку и мудрость. Наука —
21 Там же. С. 398.
" Образцом дифирамбического драматурга в прошлом молодой Ницше считает Эсхи-
ла, а в современности — Вагнера (Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 369).
23 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М, 1912. ТА. С. 403.
24 Там же. С. 124.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 251
утилитарна, плоско-оптимистична. Мудрость же рождается из жизненного пре-
избытка сил, она по сути своей эстетична, героически-пессимистична. Муд-
рость проявляется в художественно проникновенном сплочении людей ввиду
неизбежной смерти. Она есть трагическое творчество перед ее лицом 25. И ни-
чего общего с отвлеченным рациональным познанием, питающим оптимизм и
успокоенность, она не имеет.
Однако это противопоставление эстетического начала (мудрость) утилитар-
ному (наука) оказывается двусмысленным, так как сама эстетическая сфера
есть только охраняющая жизнь индивидуумов иллюзия: «Всегда алчная воля
находит средство, окутав вещи дымкой иллюзии, удержать в жизни свои созда-
ния и понудить их жить и дальше» 26. Как и у Шопенгауэра, у Ницше в силу
общего для них метафизического волюнтаризма нет никакой вневолевой, а сле-
довательно, и внеутилитарной основы для эстетического начала. Поэтому ан-
тиутилитаризм эстетического начала оказывается иллюзорным. Если в сво-
ем раннем творчестве Ницше еще находится под властью шопенгауэровского
«иллюзионизма», то впоследствии он решительно отказывается от него. Одна-
ко уже и у молодого Ницше сдвиг Красоты в сторону Воли, устраняющий ил-
люзорное единство Красоты и Истины, означает преодоление рационально-
гуманистических непоследовательностей шопенгауэровского волюнтаризма. Но
возникающая на этом пути концепция своеобразного эстетического пантеизма
сама оказывается противоречивой: она несет еще изрядный заряд утешитель-
ства, а вместе с ним и отголосок изначального морального принципа, который
Ницше атакует с позиций «интеллектуальной честности».
Преобразование шопенгауэровского эстетизма в ранних работах Ницше со-
стоит в том, что он, во-первых, его «рафинирует», а во-вторых, действительно
обосновывает, оставаясь при этом в общих рамках метафизического волюнта-
ризма. «Рафинирование» шопенгауэровского эстетизма проявляется в отмечен-
ном выше разрыве чисто формального союза Истины и Красоты. Красота, «очи-
щаясь» от Истины, тем самым препоручает себя всецело власти воли как, в
конце концов, воли к власти, а тем самым получает свое «естественное» обо-
снование. На этом пути шопенгауэровский эстетизм с его квазирационалисти-
ческим декорумом, с его (псевдо)кантианством и (псевдо)платонизмом превра-
щается в своеобразный эстетический пантеизм: мир в своей метафизической
глубине мыслится как бог-художник, творческая потенция которого пронизы-
вает собой весь космос и человека в особенности.
В концепции эстетического пантеизма эстетизм и натурализм сливаются
воедино. Правда, этот натурализм еще не слишком отличается от шопенгауэ-
25 Там же. Т. 2. С. 352.
26 Там же. Т. 1.С. 124.
252
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
ровского. Ницше пока еще не преобразует его в специфический антимехани-
стический биологизм воли к власти. Весь мир, природа и культура, оказывает-
ся у молодого Ницше просто эстетическим определением воли к жизни без
всякого дополнительного определения самой этой воли. Только впоследствии
Ницше, будучи неудовлетворен шопенгауэровским формализмом, внесет в прин-
цип воли содержательное ядро — понятие власти, или мощи (Macht).
«Естественное» единство эстетизма и натурализма проявляется уже в основ-
ной символике историко-культурной концепции молодого Ницше. Дионис и
Аполлон представляют у него именно эстетизированные персонификации сил
природы. Не представляет труда эксплицировать категориальное содержание этих,
ставших впоследствии расхожими, символов: за трагико-музыкальной сущнос-
тью бога вина скрывается схематизм категории всеобщего, а за прекрасными
формами бога «света и духовных озарений» 27 — категория индивидуальности.
Издержки метафизико-рационалистической логизации искусства и природы (на-
пример, в панлогизме Гегеля) щедро оплачиваются теперь эстетико-натуралис-
тической символизацией логических категорий в философии жизни Ницше.
Рассмотренные выше направления преобразования шопенгауэровского эс-
тетизма оформляются как тенденция к историзму и конкретности. Если у ран-
него Ницше это выступает еще в переходных формах и не осознается им впол-
не отчетливо, то поздний Ницше совершенно ясно осознает, в чем же причина
его разрыва с Шопенгауэром. Поздний Ницше критикует Шопенгауэра именно
за его антиисторизм, в частности за антиисторизм его этического учения, в
котором он всю сложность моральных явлений сводит исключительно к чув-
ству сострадания. «Шопенгауэру, — отмечает Ницше, — удалось ускользнуть
от могучего воспитания к историзму, через которое немцы прошли от Гердера
до Гегеля» 28.
Историзирующая тенденция у Ницше, казалось бы, органически вписыва-
ется в эстетизм, находя в нем свое выражение. Уже в своих ранних работах
Ницше фактически отбрасывает квазиплатоновскую гносеологию идей, обо-
сновывающую эстетическое созерцание у Шопенгауэра, и рассматривает худо-
жественное творчество человека как сопричастие к космическим потенциям
бога-художника. Тем самым, правда не без противоречия, он пытается спрое-
цировать вечные и отвлеченные метафизико-эстетические категории на реаль-
ную, земную, «естественную» историю 29. Это преобразование шопенгауэров-
11 Лосев А. Ф. Античная мифология. М, 1957. С. 267.
28 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1910. Т. 9. С. 148.
29 Как справедливо отмечает Ю. Н. Давыдов, у Ницше происходит «низведение» искус-
ства, имевшего у Шопенгауэра «вневременные» характеристики, до уровня исторического
феномена (Давыдов Ю. Н. Искусство и элита. М., 1966. С. 197).
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 253
ского учения молодым Ницше было тесно связано с его попыткой дать теоре-
тическое обоснование художественной практике Вагнера, тоже по-своему пре-
одолевавшего в то время шопенгауэровский пессимизм. Речь шла, таким обра-
зом, о наполнении абстрактных схем «вечного», незаинтересованного, нирвано-
подобного искусства и культуры исторически значимыми интенцией и
содержанием.
Историзм Ницше
Исторический человек Ницше — это, прежде всего, целостный, земной,
чувственно-раскрепощенный человек. И если рационализм с присущим ему
морализмом упускает живую целостность человека, то это, как полагает Ниц-
ше, может быть компенсировано только в эстетико-натурализирующем мыш-
лении. У раннего Ницше тенденция к историзму обнаруживается как радикаль-
ная эстетизация учения Шопенгауэра, превращающая его в своеобразный эсте-
тический пантеизм. Но, обосновывая эстетизм волюнтаристским принципом,
Ницше стремится развить именно историзирующую тенденцию, переформу-
лируя, реконструируя сам этот принцип.
Неопределенно натуралистические выражения молодого Ницше приобре-
тают в конце концов вполне четкие контуры биологицистской метафизики 30.
В соответствии с этим у позднего Ницше эволюционный морфологизм с био-
логицистским релятивизмом в рамках метафизики воли к власти образует ос-
нову его эстетического историзма. Этот историзм ярко раскрывается уже в са-
мом стиле Ницше: живой историзм очерка, наброска, штриха или целой карти-
ны, пейзажа эпохи, портрета ее духовного облика, костюма, типической черты.
Эскизность исторического чувства, мгновенность его реакции позволяют вос-
создать эпоху в ее характеристических чертах и манерах, индивидуализиро-
вать текучую историческую реальность. Набросковый характер ницшевского
историзма тяготеет к своего рода портретной живописи истории. Таковы по
существу все многочисленные афоризмы и заметки Ницше об эпохах мировой
истории, ее героях и событиях. Это своего рода импрессионистическая мозаи-
ка смелых мыслей, неожиданных сопоставлений, сутолока пестрых, но точ-
ных чувственных впечатлений, выразительно рисующих историческое бытие,
30 Биологизму волюнтаристского принципа способствовал духовный климат 70—80-х
годов XIX столетия. «В конце прошлого века, — свидетельствует Ч. Сноу, — в биологии
царило все возрастающее оживление. Смысл эволюционной теории был растолкован, и
казалось, что вскоре последуют другие важные исследования... словом, в биологии ожида-
лось нечто вроде второго пришествия. А физика считалась в те годы скучным предметом.
Многие думали, что она уже действительно завершена и остается лишь увязать между со-
бой отдельные разделы» {Сноу Ч. Многообразие людей // Нева. 1969. № 1. С. 126).
254
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
хотя и далеких при этом от какой-либо систематичности 3I. Создание целост-
ной картины истории Ницше задумывает только в конце своего творчества,
стремясь систематически развить и изложить свою философию.
Историческую интуицию, трезвость историка Ницше проявил прежде все-
го в качестве исследователя античной культуры, решительно отказавшегося от
сентиментально-фальсифицирующей идеализации греко-римской древности
идеологами гуманизма и Просвещения. Отбросив типично просветительскую
модернизацию античной истории, Ницше обнаружил тем самым историзм сво-
его мышления. Однако свои трезвые, исторически выверенные суждения он
по сути дела превращает в новую идеологию, догматизируя, т. е. деисторизи-
руя, собственный историзм. Так, факт неразрывной связи всей античной куль-
туры с рабовладением превращается им в метафизическую основу для универ-
сального социокультурного идеала. Таким образом, Ницше, можно сказать,
лишь «модернизирует» модернизацию истории у просветителей, выворачивая
ее буквально наизнанку, идеализируя историю точно так же, но прямо проти-
воположным образом, чем просветители и гуманисты: «Гуманизм плохо знал и
фальсифицировал древность: если посмотреть тщательнее, она является дока-
зательством против гуманизма, против доброй в своей основе человеческой
природы... Греческая культура покоится на господском отношении одного ма-
лочисленного класса к классу несвободному, в 4—5 раз большему... Противо-
положность гения и человека, работающего для добывания хлеба, наполовину
вьючного животного. Греки верили в различие расы» 32. Характерно, что исто-
рическая правда об античности, сочетаясь с шопенгауэровским учением о ге-
нии, приводит Ницше к метафизико-биологистскому тезису о различии рас как
принципе культуры. Таким образом, его критика гуманистической идеологии
за ее модернизацию прошлого грозит зайти в тупик эстетически и стилисти-
чески новой антигуманистической идеологии.
Во второй период творчества Ницше, «позитивистический», или «крити-
ческий период» 33, открывающийся двухтомным «Человеческое, слишком
31 Эту черту ницшевского историзма отмечает Я. Буркхардт в своем письме Ницше пос-
ле присылки ему «Веселой науки» (1882 г.): «Но что меня постоянно занимает — это воп-
рос, что бы могло получиться, если бы вы преподавали историю? В сущности, вы ведь
всегда учите истории, и в этой книге вы открыли несколько удивительных исторических
перспектив. Но я думаю, что если бы вы попробовали ex professo осветить мировую исто-
рию вашими огнями и при свойственных вам углах освещения? Как великолепно тогда
многое — в противоположность теперешнему consensus populorum — было бы поставле-
но вверх ногами!».
32 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 286.
33 По Метнеру, развитие мышления Ницше проходит три стадии: докритическую, кри-
тическую и критико-созидательную (см.: Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 421).
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 255
человеческое» (1878 г., начато в 1876 г.), Ницше полностью отождествляет ис-
торический подход с биологическим 34. В этой работе он ставит такую принци-
пиальную дилемму: или метафизическая философия, или историческая фило-
софия 35. Но как при этом понимается им историческая философия? Во-пер-
вых, историческую философию, подчеркивает он, ни в коем случае нельзя
мыслить «отдельно от естествознания». Поэтому исторический метод означа-
ет для Ницше своего рода «химию моральных, религиозных, эстетических
представлений». В конце концов исторический метод оказывается сциентист-
ско-биологицистской редукцией всей культуры по образу и подобию ненавист-
ного для Ницше механицизма. Исторический метод означает сведение исто-
рии и культуры к «естественным основам», доступным естественнонаучному
анализу.
Во втором периоде своего творчества Ницше буквально выворачивает наи-
знанку всю свою романтическую метафизику и вместо признания изначально-
го, невыводимого характера высших ценностей провозглашает приоритет низ-
шего, вместо эстетико-пантеистического эманирования мира в бесцельной игре
бога-художника у него возникает концепция сублимирования земного телесно-
го мира в мир ставших фантомальными высших ценностей. Поэтому в методе
анализа культурных явлений теперь у него господствует самая жесткая редук-
ция, своего рода профанирование высших ценностей, разоблачающее их якобы
подлинную (низменную) сущность. Поскольку мышление Ницше развивается
при этом на тех же самых путях эстетического натурализма, постольку история
для него всецело поглощается природой, поэтому историзм как метод мышле-
ния обнаруживает себя как редукционизм, «под леопардовой шкурой» метафи-
зики и высших ценностей раскрывающий простые физиологические реально-
сти. Именно с этих позиций Ницше оценивает теперь религию, мораль, право,
искусство, философию, в том числе и философию Шопенгауэра 36. Вся эта си-
стема высших ценностей оказывается в его глазах зараженной метафизикой, в
основе которой лежит антиисторизм. Ницше критикует философов как мета-
физиков именно за отсутствие у них историзма: «Отсутствие исторического
чувства есть наследственный недостаток всех философов» 37.
К. А. Свасьян предлагает их особое, так сказать, «социальное» прочтение (см.: Ницше Ф.
Соч.: В 2 т. М, 1990. Т. 1. С. 803—804).
34 Характерно, что Ницше фактически не делал различия между понятиями физиологии
и биологии, употребляя их как синонимы (см.: Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1910. Т. 9.
С. 168). Такое отождествление неудивительно в его время, когда физиология была по суще-
ству единственной «строго научной» областью биологии.
35 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1911. Т. 3. С. 15.
36 Ницше Ф. Собр. соч. М.: М. В. Клюкин, [1901]. Т. 5. С. 14—15.
37 Ницше Ф. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 3. С. 16.
256
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
Однако Ницше не останавливается на непосредственном отождествлении
исторического и естественнонаучного. Он сближает исторический метод мыш-
ления с дарвиновским эволюционизмом, подчеркивая, что философы «не хо-
тят усвоить, что... познавательная способность есть продукт развития». Ницше
набрасывает возможную историю происхождения мышления с точки зрения
эволюционной теории 38. Попутно, как биологический релятивист, он критику-
ет категории разума (понятия числа, цели и т. п.) как не применимые «к миру,
который не есть наше представление».
Таким образом, историзм Ницше критического, или позитивистского, пери-
ода в значительной мере зависит от его восприятия дарвинизма и опреде-
ляется по существу как биологический эволюционизм, перенесенный в
общество и сферу культуры. Ницше конструирует понятие «исторического
философствования», антитетического по отношению к метафизическому фи-
лософствованию 39. В это понятие он включает прежде всего принцип ста-
новления, полагающий основание для релятивизации всех метафизических
абсолютов.
Кроме того, как важную добродетель исторического философствования
Ницше отмечает научную скромность, тщательность анализа фактов. Во имя
историзма Ницше становится романтическим поклонником научного эмпириз-
ма. Как справедливо отметил Файхингер, «в этих произведениях идеализация
трезвой научной мысли доходит до крайних пределов» 40. Таким образом, ис-
торическое философствование у Ницше оказывается скроенным по меркам
позитивистской научности 70—80-х годов XIX в., принятым философом, од-
нако, не столько «холодным разумом», сколько «горячим сердцем».
Исторический метод как аналитика «человеческого, слишком человеческо-
го» есть, по Ницше, прежде всего психофизиологическое рассмотрение любого
предмета41. Задача такого историзма состоит в тщательном выяснении есте-
ственного генезиса основных культурных форм на основе определенных фи-
зиологических предпосылок, играющих роль дискредитированных метафизи-
ческих начал. Однако в рассматриваемый период творчества мыслителя эти
предпосылки все еще в значительной степени остаются в тени и не становятся
предметом специального рассмотрения в отличие от последнего, третьего, пе-
риода творчества Ницше.
В последний период его творчества историзм Ницше, сформулированный
как «химия» культурных представлений, превращается в генеалогию кулъ-
38 Там же. С. 28.
39 Там же.
40 Файхингер Г. Ницше как философ. СПб., 1911. С. 37.
41 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1911. Т. 3. С. 45.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 257
туры 42. Типичной в этом отношении является работа «генеалогии морали»
(1887 г.). Ницше требует исследования генезиса не только логических поня-
тий, подчеркивая, что пользование готовыми понятиями предполагает их кон-
струирование, создание и развитие 43, он стремится понять все ценности, все
идеалы, всю культуру in statu nascendi, раскрыть их формирование. Это обра-
щение к динамике культурного творчества отвечает изначальным устремлени-
ям Ницше переоценить все ценности. Но генетический (или генеалогический)
подход оказывается зажатым в узкие тиски биологизма, который в это время
привлекает как раз особое внимание Ницше, так как именно он служит ему
теперь не только для критики, но и для созидания новых позитивных ценно-
стей. И если критическую функцию способен выполнять даже весьма неопре-
деленный натурализм, то для выполнения культуросозидательной функции
требуется содержательный биологический принцип. Однако то, что может
быть основанием для профанирования {прежних) высших ценностей, вряд ли
способно к сублимации в новые ценности новой культуры.
Выбор биологического принципа поздним Ницше обусловлен, как нам пред-
ставляется, рядом тесно взаимодействующих факторов. Прежде всего характе-
ром ницшевского культурно-исторического идеала, несовместимого с механи-
цистско-позитивистским социал-дарвинизмом. Механицизм для Ницше есть
«логика и ее применение к пространству и времени» 44. Поэтому критика логи-
ки и всех ее категорий совпадает для него с критикой механистического миро-
истолкования. А это приводит к тому, что биологизм Ницше принимает ярко
выраженный антимеханистический характер, совпадая с иррационалистиче-
ской метафизикой воли к власти с ее алогическим становлением и радикаль-
ным гносеологическим релятивизмом, подчиняющим понятие истины поня-
тию жизненной ценности.
Антимеханицизм приводит Ницше к антидарвиновскому биологическому
принципу, ориентированному не на сохранение жизни, а на непрерывное по-
вышение ее интенсивности, на возрастание ее мощи. Ницше не приемлет дар-
виновского принципа выживания приспособленных через отбор жизненно-ус-
тойчивых форм. Для него истинный прогресс жизни измеряется не полезным
приспособлением, а «чувством подъема, определением возрастания силы» 45.
Поэтому ницшевский биологизм формируется в критическом противостоянии
спенсеровскому механицистскому эволюционизму, который расценивается
Генеалогия Ницше явилась отправной точкой для «генеалогии власти-знания» М. Фуко.
См. ниже в гл. VI: «Генеологический проект Мишеля Фуко...». С. 544.
43 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1910. Т. 9. С. 174.
44 Там же. С. 261.
45 Там же. М., 1911. Т. 3. С. 311.
17-3357
258
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
Ницше как типичный симптом культурного декаданса. Механистический, опти-
мистический, социально-демократический биологизм выступает для Ницше при-
знаком жизненного упадка. Только антимеханистический, только трагический,
индивидуально-аристократический биологизм преодолевает, считает философ,
декаданс эпохи. Такой биологизм соотносится с никогда не умирающим у Ниц-
ше дионисизмом, применявшим масштаб самой щедрой траты жизненных сил
на гребне их бурного подъема как критерий жизненной высоты культуры.
Антимеханистический биологизм оказывается предпочтительным и с точ-
ки зрения его историзирующих мышление возможностей. Только на основе
такого биологизма можно было попытаться сконструировать метафизику твор-
ческого становления, полного трагической борьбы стремлений, мощного дви-
жения без всякого покоя в перспективе. Только такой биологизм, прорывая го-
ризонт утешительной гармонизации и равновесия, открывал возможность нео-
граниченного самопреодоления человека. Поэтому в последующем развитии
философии жизни (и интуитивизма) именно этот биологизм оказывается до-
минирующим (Бергсон, Зиммель) 46.
Наконец, еще одним важным обстоятельством, раскрывающим характер
историко-культурного идеала Ницше, является то, что только биологизм жиз-
ненной мощи как воли к власти удовлетворяет его эстетическому принципу.
Ницше мог эстетически сублимировать (а это значит реализовать созидатель-
ную функцию биологического принципа) только биологизм воли к власти.
Образцом такой персонифицирующей сублимации является Заратустра, «все-
гда пародировавший прежние ценности, опираясь на избыток своих сил» 47.
«Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей», незавершенный труд фи-
лософа, есть по существу развернутый теоретический комментарий к симво-
лике «Так говорил Заратустра». Эстетический аргумент, или фактор, позволя-
ющий выбрать биологизм, способный к сублимации в новые высшие ценнос-
ти, совместимые с ницшевским историко-культурным идеалом, выступает при
этом как самый сильный.
Историзм Ницше в его концептуальной схематике оказывается с логической
точки зрения весьма далеким от непротиворечивости. Основная для Ницше
Как мы отмечали, Ницше не избежал влияния дарвинизма, и поэтому у него, конечно,
встречаются и чисто дарвинистские выражения (Ницше Ф. Поли. собр. соч. М, 1910. Т. 9.
С. 278). Это неудивительно еще и потому, что для критики метафизики «чистого познания»
вполне пригоден любой биологизм. Но как только Ницше переносит акцент на позитивное
содержание жизненного процесса, у него обязательно появляется антидарвиновский вари-
ант биологизма. Таким образом, дарвиновский вариант биологизма у Ницше надо рассмат-
ривать как вспомогательный, промежуточный, преимущественно критический, а антидар-
виновский как основной, окончательный и позитивный.
47 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1910. Т. 9. С. 296.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 259
дилемма «Бог или физиология» не вполне корректна, так как более правиль-
ной альтернативой религиозному мировоззрению (и это показывает, как мы
увидим далее, и сам Ницше) выступает не физиология или биология и даже не
наука вообще, а расслабляющий нигилизм, выгорание всех ценностей, позво-
ляющих осмыслить бытие, мир, историю и самого человека. Радикализм этой
не вполне корректной дилеммы как бы воскрешает в самой фигуре антитетич-
ное™ особенности средневековой ментальное™, правда, как бы вывернутой
при этом наизнанку (не бог, так как он умер, а Физиология в качестве высшей
ценности). Физиологистски истолкованный практицизм воли к могуществу
приводит к тому, что единственной подлинной историей оказывается история
инстинктов, их развития и формообразования, история борьбы центров сил за
преобладание и господство. Познание при этом истолковывается как реализа-
ция стремления к овладению, захвату, контролю, господству, что проявляется в
«генеалогическом» подходе к явлениям культуры. То самое имманентное ста-
новление, вне которого нет никакой реальности, и есть, по Ницше, этот дале-
кий от умиротворенности «пейзаж» борьбы за власть центров сил 48. Любые
надежды на преодоление алогичности этого становления, на его перерожде-
ние, образумление или рационализацию пресекаются в самом начале концеп-
цией «вечного возвращения того же самого». «Вечное возвращение» смыкает
становление в круг вечности и становится тем самым абсолютным арбитром
мира. «Вечное возвращение» — символ полного преодоления времени и исто-
рии, возврат судьбы и трагедии в чистом виде. В этой мифологеме вся истори-
зирующая тенденция в мышлении Ницше приходит к своему решительному
самоотрицанию.
Логическим основанием для тенденции к историзму оказывается отвергае-
мый философом рассудок. Мышление по существу работает на логически хо-
лостом ходу — меняется только наполнение принципа, только содержание пос-
леднего метафизического основания, но не сама логика мысли, стремящейся к
преодолению метафизики. Эту особенность можно обнаружить, рассматривая
отношение Ницше к прогрессу. Прежде всего, идею прогресса он как будто
решительно отвергает: «Человечество не движется вперед, его самого-то не
существует» 49. Прогресс рассматривается им как рационалистическая види-
мость, как моральная аберрация исторического зрения. Но идея прогресса, столь
категорически отвергнутая, тем не менее, или, скорее, благодаря этому остает-
ся в основании исторических оценок Ницше. Отвергнув моральную интерпре-
тацию прогресса, Ницше, сохраняя по существу саму идею прогресса, перено-
сит ее на внеморальный — биологический — базис. Здесь действует отмечен-
Там же. С. 35.
Там же. С. 56.
17*
260
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
ная выше фундаментальная для Ницше дилемма: бог (мораль) или физиоло-
гия. Человек в истории рассматривается им с помощью этого биологистски-
прогрессистского зрения: он находится или на линии подъема типа человека
или на линии его упадка. Таким образом, прямолинейная логика рассудочного
прогрессизма сохраняется практически в неизменном виде. В этой жесткой
негативной зависимости от критикуемой позиции обнаруживается упомяну-
тый выше холостой ход логики в философии жизни Ницше.
Стремясь сделать все самые крайние выводы из «смерти бога», Ницше при-
ходит к разрыву исторического континуума, к атомизации истории. История,
если ее подвергнуть радикальной, а не половинчатой секуляризации, которую
осуществили, как считает Ницше, гуманизм и Просвещение, распадается как
единое целое, как разумная гуманомерная связность. Возникающее при этом
натуралистическое распыление истории оказывается, по Ницше, необходимой
данью интеллектуальной добросовестности и честности. Действительно, у
позднего Ницше история превращается в хаотический агломерат центров сил
воли к власти. И если «вечное возвращение того же самого» обесценивает ис-
торическое становление на «выходе», то его натуралистическое распыление в
качестве теоретической предпосылки истории обесценивает его уже на самом
«входе»: становление как целостный процесс, как полагание чего-то единого,
оказывается невозможным с самого начала. Если у Шопенгауэра моральное
истолкование мира проявляется в его морально освященном единстве мира, то
у Ницше прежде всего исчезает само единство как таковое. Это связано с тем,
что единство мира для него обусловливалось единством рационально-транс-
цендентного начала, метафизическим единством, прототипом которого в куль-
туре выступает христианство.
Христианство осознавалось Ницше как столь фундаментальный факт евро-
пейской истории, что сквозь него он видел все современное состояние духа,
включая позитивизм и социалистические идеалы 50. Ницше рассматривал хри-
стианство как самую общую форму трансцендентного идеала вообще. Все
имевшие место в истории попытки имманентного «прочтения» этого идеала на
путях рационалистического мышления Ницше отвергает как неудавшиеся.
Имманентность, разум и всеобщее, вопреки Гегелю, несоединимы, по мысли
Ницше, а поэтому, считает он, необходимо «раздробить всеобщность» 51, раз-
бить иллюзию разумной целостности и сохранить себя только для ближайше-
го, для посюстороннего — для инстинкта.
Ницшевский историзм онтологически опирается на эволюционную морфо-
логию, а гносеологически — на биологический релятивизм, полагающий жиз-
50 Там же. С. 133.
51 Там же. С. 128.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 261
ненную функцию основой для фикции логической истины 52. Сам метафизи-
ческий принцип воли к власти изъят из становления и истории. Поэтому про-
тиворечивый характер борьбы Ницше с метафизикой, проанализированный
Хайдеггером 53, означает и противоречивый характер историзирующей тенден-
ции в его философии: метафизика остается непреодоленной. В результате ис-
тория как реальность (становления) оказывается у Ницше просто эстетическим
феноменом. Для ее описания он не жалеет тонких пейзажных красок. В таком
видении история есть не более чем «вечно изменяющееся царство весны и осе-
ни, лета и зимы» 54.
У эстетико-натурализирующего историка, говорит Ницше, «при изучении
истории обновляется не только дух, но и сердце», и, в «противоположность
метафизикам, он счастлив тем, что в нем живет не одна бессмертная душа, но
множество смертных душ». Эти образы истории соединяют чувство радости
земного бытия с грустью по поводу его мимолетности и бренности. В них ис-
тория раскрывается человеку под знаком amor fati, под знаком судьбы.
Эстетический натурализм приговаривает историю к року. В образе судьбы —
«тайна и исток» этого историзма, его предел, его волнующий радикальный
антиисторизм.
Концепция нигилизма
Историзм Ницше в последний период его творчества оформляется в исто-
рико-культурной концепции нигилизма, объединяющей разрозненные исто-
рические эскизы в связное смысловое целое. Понятие нигилизма является
при этом очень емким и многозначным. Ницше рассматривает нигилизм и
как итог, суммирующий всю европейскую историю, и как постоянно действу-
ющую внутреннюю основу ее движения (аналог коммунизма у Маркса). «Ни-
гилизм, — говорит он, — есть до конца продуманная логика великих ценно-
стей». В концепции нигилизма фокусируются все составляющие ^истори-
ческого мышления Ницше: эстетизм, биологизм, критика наличной культуры.
Рассматривая основания нигилизма, философ, прежде всего, ставит под воп-
рос разум. Рассмотрение причин феномена нигилизма Ницше начинает с ана-
лиза морально-христианской традиции в европейской культуре, которой он
противопоставляет свой эстетизм: «Мы констатируем теперь в себе потреб-
ности, насажденные долгой моральной интерпретацией, потребности, пред-
ставляющиеся нам теперь потребностями в неправде; с другой стороны, это
52 Там же. С. 339.
53 Heidegger M. Nietzsche. Bd. 1—2. Pfùllingen, 1961.
54 Ницше Ф. Собр. соч. M.: M. В. Клюкин, [1901]. Т. 5. С. 19.
262
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
не те самые потребности, с которыми, по-видимому, связана ценность, ради
которой мы выносим жизнь» 55. Мораль, полагающая принцип долженство-
вания, считает философ, есть главный противник жизни, «клеветник бытия»:
«Поскольку мы верим в мораль, мы осуждаем бытие». Поэтому антиморали-
стическая позиция, занятая во имя жизни и правды, резюмируется в эстетиз-
ме, освобождающем бытие от гнета морали. Это свободное от морали бытие
есть природа, а субъект, свободный от морали, выступает как эстетический
субъект.
Метафизику и идеализм Ницше рассматривает как «философские попытки
преодолеть морального бога» 56. Именно христиански-моральное содержание
европейской культуры, подчеркивает Ницше, ответственно в первую очередь
за нигилизм, так как смерть христианского бога рождает всепроникающий раз-
рушительный скепсис, ведущий к духовному измельчению человека. Прежние
философы не преодолевают нигилизм, считает Ницше, а только дают ему но-
вую форму, замещая морального бога философскими конструкциями абсолю-
та, сверхчувственного мира. Поэтому Ницше намеренно сближает Гегеля и
Шопенгауэра, которые оба, хотя и различными средствами, «штопают» ниги-
лизм, оставаясь, по существу, в его пределах. Любая философски-метафизи-
ческая попытка «починки» нигилизма отвергается Ницше как самообман, кон-
струирующий мир ценностей по мерке мертвого, как он считает, христианско-
го бога57. В частности, вся немецкая философия, как считает Ницше, сохраняет
моральный принцип мироистолкования. Различие между пантеистическим
логицизмом Гегеля и атеистическим волюнтаризмом Шопенгауэра поэтому не
существенно: если Гегель строит философскую систему морального оправдания
существующего мира, «в котором зло, заблуждение и страдание не были бы
ощущаемы как аргументы против божественного» 58, то Шопенгауэр «ради
оправдания своих моральных оценок становится мироотрицателем» 59. В обоих
случаях моральный принцип мироистолкования оказывается доминантой
мышления.
В противовес немецкой философии Ницше выдвигает эстетический прин-
цип, в котором оправдание ищется не для зла или заблуждения, а для безобра-
55 Ницше Ф. Полн. собр. соч. М., 1910. Т. 9. С. 10.
56 Там же. С. 8.
57 В этой критике гегелевского идеализма как спекулятивной теологии без Бога Ницше
может быть сопоставлен с Фейербахом.
58 Ницше Ф. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 177.
59 «...Что мир имеет только физическое, а не моральное значение, — это самое боль-
шое, самое пагубное и фундаментальное заблуждение» (Шопенгауэр А. Полн. собр. соч.
М., 1904. Т. 3,ч. 2. С. 612).
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 263
зия мира. Если отвлеченная мораль, как считает Ницше, несет только пустоту
долженствования, то искусство, напротив, всегда бытийственно наполнено.
Ницше остается верен своему исходному эстетизму, хотя высказывает порой
его с некоторой осторожностью (характерное «по-видимому»), что объясняет-
ся его антиромантическим периодом критического скепсиса, направляемого и
в свой собственный адрес.
Рассмотрев морально-христианские корни нигилизма, Ницше разбирает его
психологическое обоснование. Здесь он анализирует три категории (цель, це-
лостность, истина), служащие основой для полагания ценностей. Смерть бога
влечет прежде всего психологические следствия. Утрата цели обессмысливает
мир. Телеологический взгляд на мировой процесс терпит крах, что неизбежно
порождает разочарование и пессимизм, ведущие к нигилизму. В критике телео-
логии Ницше продолжает свою критику христианской историософии и геге-
левской философии истории, представляющей собой, считает он, лишь секу-
ляризованный моральный вариант первой.
Утрата целостности мировосприятия также неизбежно ведет к нигилизму.
Вместе с христианством прежняя философия, полагает Ницше, верила в цело-
стность сущего: «Во всем совершающемся и надо всем совершающимся предпо-
лагается некая целостность, система, даже организация» 60. Мимоходом Ницше
отмечает, что такой предпосылкой обязательно наделена душа философа-ло-
гика. В свете этой рационально-монистической предпосылки человек рассмат-
ривается как модус божества или его субститута: «Человек теряет веру в свою
ценность, если через него не действует бесконечно ценное целое» 6|. Нигилизм
оказывается неизбежным следствием обезбоженного состояния мира. «Смерть
бога» есть смерть цели, целостности, истины. Для религиозного сознания ха-
рактерно понимание человеком себя как опосредованной ценности (аксиома
зависимости). «Смерть бога» разрывает эту зависимость, что и ведет к ниги-
лизму. Нигилизм, ставя под вопрос цель, ценность, истину, тем самым обесце-
нивает саму оценку, основанную на этих категориях, обесценивает разум. Ниц-
ше пытается «спасти» мир, отвести от него обвинения в бесцельности, пере-
оценивая сам способ оценки, создав новый — иррациональный — вариант
оценивания. Разум оказывается, по Ницше, основным виновником нигилизма,
так как именно он продолжает осуществлять морально-христианское истолко-
вание мира, оказавшееся, считает философ, неудачным. Поэтому задача пре-
одоления нигилизма немыслима для Ницше без преодоления рационалисти-
ческого, т. е. морально-христианского в своей основе, как он считает, мироис-
толкования.
Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 9. С. 11.
Там же. С. 13.
264
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
Антиномия морали и бытия порождает пессимизм, который Ницше теперь
рассматривает как феномен нигилизма. Он связывает пессимизм с духовно-
психологическими характеристиками современной ему эпохи, отмечая ее из-
неженность, утонченность, космополитизм и «историзм». Здесь под «исто-
ризмом» он понимает излишнюю перегруженность историческими знаниями,
историческую неразборчивость, эрудитскую «всеядность», приводящие к утом-
лению от истории с ее обращенностью к прошлому в ущерб настоящему, в
ущерб жизненной активности, способности к самостоятельному действию здесь
и сейчас. Ницше видит опасность в развитии и распространении исторической
науки и образованности, усматривая в них признак упадка европейского духа,
в полном согласии со своей ранней работой «О пользе и вреде истории для
жизни» (1873—1874 гг.).
Пессимизм Ницше прямо связывает с разочарованием в историческом
философствовании, в самой идее мирового становления: «Общее всем этим
родам представлений предположение состоит в том, что нечто должно быть
достигнуто самим процессом; и вот наступает сознание, что становлением ни-
чего не достигается, ничего не обретается» 62. В результате краха веры в ста-
новление рождается метафизический антиисторический пессимизм, согласно
которому, по слову Шопенгауэра, «всякое происхождение и возникновение толь-
ко иллюзорно» 63. Но поскольку крах испытывает идея именно разумного, пла-
номерно-целесообразного исторического процесса, постольку остается еще воз-
можность спасти сам принцип становления, если рассматривать только нера-
зумное, бессмысленное, алогическое становление.
Историзация шопенгауэровской метафизики у Ницше состоит прежде все-
го в том, что шопенгауэровская воля с ее формально-метафизическим статусом
вечного неподвижного бытия превращается в чистое становление. В своей он-
тологии становления он пытается понятию времени дать высшую мировоззрен-
ческую санкцию. Однако, как и Шопенгауэр, но еще острее и драматичнее он
впадает при этом в целый ряд инвариантных для него противоречий, форма
которых меняется в ходе развития его мышления. Конечно, уже в ранних рабо-
тах Ницше, можно сказать, вводит гипотезу становления, пытаясь обосновать
свою эстетическую гносеологию: «Можно только удивляться, — говорит он, —
зодческому гению человека, которому на подвижных фундаментах, точно на
поверхности текучей воды, удается воздвигнуть бесконечно сложное здание
понятий» м. Однако он не придает еще этой гипотезе значения. Ницше вводит
Там же. С. 12.
63 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. Ю. И. Айхенвальда. М., 1901.
Т. 2. С. 456.
"Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 215.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 265
ее пока только в образной форме и вполне ad hoc. Вслед за Шопенгауэром он
еще верит в «сноподобный» облик становления, уверенно «голосуя» за бытие:
«В становлении все пусто, обманчиво, плоско и достойно нашего презрения;
загадку, которую человек должен разрешить, он может разрешить лишь в бы-
тии... лишь в непреходящем. Это вечное становление есть лживая кукольная
комедия, из-за которой забывают себя самого, развлечение, которое рассеивает
трагичность во все стороны, нескончаемая игра тупоумия, которою большое
дитя-время забавляется перед нами и с нами» 65.
От шопенгауэровского отрицания становления Ницше переходит к концеп-
ции алогического становления как метафизической сущности мира. Наследуя
волюнтаризм Шопенгауэра, он переносит иррационалистические характери-
стики воли на становление, по существу отождествляя их 66. При этом он от-
вергает разумно-гуманистическую цель мировой истории как метафизическое
понятие, так как «человек — не сотрудник и менее всего сосредоточие всякого
становления» 67. Ницше не приемлет любой вариант исторической телеологии
как ненаучный антропоморфизм, рудимент морального истолкования мира. Он
подчеркивает, что XIX в. исполнил пророчество Паскаля: «Без христианской
веры... природа и история будут un monstre et un chaos» 68. Поэтому история в
его глазах «напоминает огромную экспериментальную лабораторию, где кое-
что удается, рассыпанное на протяжении всех времен и эпох, и несказанно много
не удается, где нет никакого порядка, логики, связи и обстоятельности» 69.
В концепции нигилизма историческое мышление Ницше разворачивается
как в своем итоге во всей своей полноте и силе. Мысль Ницше здесь предель-
но напряжена, диалогично остра, художественно точна. От него не ускольза-
ет противоречивый характер современной ему эпохи. Именно здесь проявля-
ются самые сильные стороны историзма Ницше, но одновременно и слабые.
К его сильным сторонам относятся, на наш взгляд, рассмотрение предмета
как пересечения возможностей, признание его амбивалентности, спорности,
антиномичности. Сам высший смысл человеческого бытия, смысл культуры
осознается им при этом как проблема, как открытый вопрос. Ницше ставит
под вопрос разум как таковой, саму способность человека придавать смысл
вещам и усматривать цели. Он считает, что никто уже теперь не может отве-
Там же.
66 Шопенгауэровский волюнтаризм «застревает» между двумя этими возможностями,
причем сохраняющийся формально-метафизический статус воли как вечного бытия проти-
воречит самому волюнтаристскому принципу как жажды бытия.
67 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 9. С. 12.
68 Там же. С. 53—54.
69 Там же. С. 56.
266
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
тить на вопрос «зачем?» и что проблематичность бытия стала его основным
определением.
Эта безответная вопросительность современной жизни понимается Ницше
как проявление нигилизма. От него не ускользает и связь нигилизма с машин-
ным способом производства, но его подлинными корнями он считает физиоло-
гический упадок, от которого нет спасения в социальной терапии. Проблемой
оказывается при этом все самое значительное в современной культуре: вагне-
ровская музыка и философия Шопенгауэра. Сам XIX в. проблематичен в раз-
нообразии и противоречивости своих идеалов. Эта «страшная напряженность
противоречий» 70 ставит проблему нового величия и достоинства человека:
«Самый общий признак современной эпохи: невероятная убыль достоинства
человека в его собственных глазах» 71.
Противоречивость эпохи, считает Ницше, проявляется в амбивалентно-
сти нигилизма, в двуликости его намеков и знамений. Прежде всего, нигили-
стическая эпоха представляет собой жалкое время, когда «газета заменила
ежедневные молитвы» 72. Эта эпоха жалка и ничтожна потому, что челове-
ческое творчество, активная самодеятельность личности сведена в ней на
нет: «Происходит, — констатирует Ницше, — известного рода приспособле-
ние к перегружению впечатлениями: человек отучивается от активности...
глубокое ослабление самопроизвольности, реактивные таланты» 73. В этом
жалком, суетном характере эпохи проявляется «нигилизм слабости», или «не-
полный нигилизм». Но в этой же самой эпохе присутствуют возможности
преодоления нигилизма слабости. В ней обнаруживается и другой род ниги-
лизма — нигилизм силы, «полный нигилизм», нигилизм, способный к твор-
ческому полаганию новых ценностей, преобразующих мир. Поэтому Ницше
подчеркивает, что «страдание, симптомы упадка характерны для времен ог-
ромных движений вперед» 74. В качестве такого обнадеживающего знамения
он отмечает раскрепощение чувств, «гётевское отношение к чувственности» 75.
Все антибуржуазные устремления эпохи, считает мыслитель, несут в себе
возможности новой культуры 76. «Мы все ищем таких состояний, к которым
бы не примешивалась более буржуазная мораль, а еще, того менее, пасторс-
70 Там же. С. 70.
71 Там же. С. 16—17.
72 Там же. С. 47.
73 Там же. С. 49.
74 Там же. С. 70.
75 Там же. С. 73.
76 Исключая социализм, который Ницше рассматривался как самое яркое проявление
буржуазности, «стадной морали рабов».
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 267
кая мораль» 77. Основное противоречие своей эпохи Ницше видит в несовме-
стимости современной цивилизации и человеческого достоинства, цивили-
зации и культуры 78.
Критицизм Ницше удивительно постоянен, меняются лишь его обоснова-
ния. Натурализм при этом превращается в определенную биологистическую
метафизику. Но критика культуры современного общества, самого духа эпохи
остается у него по существу той же самой, что и в более ранних работах. Дей-
ствительно, в своих ранних работах Ницше отмечает убожество «эпохи труда»,
в которой всепроникающим началом выступают лицемерие и лживость. «Яв-
ление современного человека, — говорит он, — свелось к одной видимости» 79.
Чтобы раскрыть внутреннюю фальшь современного человека, Ницше цитиру-
ет Тассо: «Только рабы на галерах знают друг друга, мы же учтиво обманыва-
емся в других, чтобы они в свою очередь обманывались в нас» 80. Поэтому для
Ницше задача оздоровления современного человека состоит в том, чтобы сде-
лать его прежде всего искренним и честным: «Быть может, грядущее поколе-
ние покажется в общем даже более злым, чем наше, ибо оно будет откровеннее
как в дурном, так и в хорошем... быть честным, даже во зле, лучше, чем утра-
тить себя, подчиняясь традиционной морали» 81. Сделать человека более чест-
ным, более откровенным, считает Ницше, может лишь грядущая трагическая
культура, центром которой будет новое трагическое искусство.
Ницше критикует свою современность как эпоху тотального расщепления
человека: «До настоящего времени мы не заложили даже фундамента культу-
ры, ибо сами не убеждены в том, что живем настоящей жизнью. Мы распались
на мелкие куски, мы в нашем целом разделены полумеханически на внутрен-
нее и внешнее, мы засыпаны понятиями, как драконовыми зубами, из которых
вырастают понятия-драконы; в качестве такой мертвой и в то же время жутко
шевелящейся фабрики понятий и слов я, может быть, еще имею право сказать
о себе: cogito ergo sum, но не vivo ergo cogito» 82. Концепция целостности куль-
туры и человека прорабатывается у Ницше с помощью категории мифа: «Лишь
обставленный мифами горизонт, — подчеркивает он, — замыкает культурное
движение в некоторое законченное целое» 83. Вся проблематика целостности,
гармонии человека и общества, гения и народа решается им с помощью катего-
77
78
79
80
81
82
83
Ницше
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Ф.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
Поли.
76.
355.
356.
400.
173.
153.
268
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
рии мифа. Миф — это «.. .порождение и язык народной нужды» м, раскрываю-
щий мир «в смене событий, действий и страданий» 85. Но в «век труда» «миф
глубоко пал и исказился, превратившись в сказку», занимательную игру, ра-
дость детей и женщин «выродившегося народа» 86.
Сократовско-рационалистическая культура, «направленная на уничтожение
мифа», которую Ницше рассматривает как модель современной культуры, есть
культура абстрактного, частичного человека, основанная на противоестествен-
ном уравнивании людей в демократии и логике, «всеобщая культура знания»,
рождающая социализм с его железной необходимостью отрицания, т. е. приво-
дящая себя к своей собственной гибели 87.
В эту немифическую «эпоху труда» сама наука превратилась в род фабрич-
ного производства, а ученый стал его работником. Ницше в памфлете против
Штрауса, апостола оптимистической научности, отмечает такую спешку в по-
знании, будто «наука — фабрика» 88. Наука стала изолированной от культуры
отраслью деятельности, теряющей в этой изоляции свой смысл: «Зачем же во-
обще наука, если у нас нет времени для культуры?» 89 — спрашивает Ницше.
Поэтому катастрофически падает культура в среде именно научных работни-
ков. Ницше отмечает повсеместное распространение «мимолетного, полувни-
мательного, еле прислушивающегося отношения к философии и культуре» 90.
Досуг ученого тоже отчужден, как и его необходимое «фабричное время» 91.
Это падение культуры Ницше связывает с развитием «больших городов» 92.
Враждебность науки культуре есть оборотная сторона ее враждебности са-
мой жизни. Эту тему Ницше разрабатывает в своем «несвоевременном раз-
мышлении» «О пользе и вреде истории для жизни». Наука руководствуется
«весьма смелым, но опасным девизом: fiat Veritas, pereat vita» 93. Однако вели-
кая культура вырастает только из полной, развитой жизни: «Подарите мне сна-
чала жизнь, а я уже создам вам из нее культуру!» 94 — восклицает Ницше. Ос-
новной факт современной эпохи, подчеркивает философ, состоит в серьезном
84 Там
85 Там
86 Там
87 Там
88 Там
89 Там
90 Там
91 Там
92 Там
93 Там
94 Там
же.
же.
же.
же.
же.
же.
же.
же.
же.
же.
же.
С.
С.
С.
С.
371.
381.
373.
126.
Т. 2. С. 46.
С.
С.
с.
с.
47.
48.
115.
173.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 269
расхождении жизни и научного познания. Поэтому Ницше предельно остро
ставит вопрос о ценности жизни и науки: «Какая из двух сил есть высшая и
решающая? Никто не усомнится: жизнь есть высшая, господствующая сила,
ибо познание, которое уничтожало бы жизнь, уничтожило бы вместе с тем само
себя» 95. Поэтому, считает мыслитель, возникает необходимость контроля на-
уки со стороны высшего учения о гигиене живой жизни, санкционирующего в
качестве противоядия надысторические и тем самым наднаучные сущности —
религию и искусство. Однако Ницше дальновидно замечает, что «по всей веро-
ятности мы, больные историей, будем страдать также и от противоядий. Но
это — не аргумент против правильности избранного метода лечения» 96. Стра-
дание, по Ницше, всегда аргумент «за», а не «против». Наука бесчеловечно
оптимистична, отвлеченно холодна, она равнодушно проходит «мимо велико-
го страдающего человека» 97 и поэтому не может быть фундаментом подлин-
ной культуры, метафизически серьезно относящейся к страданию как сердце-
вине бытия.
Ницше и кризис гуманизма
Достоинство, величие и творческая мощь человека находятся в центре ду-
ховной чувствительности Ницше, и это, несомненно, роднит его с традицией
классического гуманизма. «Ницше должен смириться с тем, что мы называем
его гуманистом, — отмечает Т. Манн, — должен стерпеть, что его критика
морали рассматривается нами как последняя трансформация Просвещения» 98.
Внутренний подсвет традиционных гуманистических идеалов обнаруживает-
ся в глубине всего творчества Ницше, наполненного стремлением отстоять ве-
личие человека, высоту его культуры. Поэтому феномен Ницше останется не-
понятным, если абстрагироваться от его связи с европейским гуманизмом и
Просвещением.
Мышление Ницше направлено на поиск позитивного начала, всеобъемлю-
щего смысла. «Всего более, — говорит он, — хотел бы я поставить всякого
печального опять на ноги, на твердую почву». Однако вакуум смысла оказыва-
ется в конце концов неустранимым и для этого мышления. В результате ради-
кальный атеизм звучит как религиозная проповедь, а антидекадентский пафос
вписывается в декадентские же фигуры «вымученного, ненатурального тона» ".
Там же. С. 178.
Там же. С. 175.
Там же. С. 233.
Манн Т. Собр. соч. М., 1961. Т. 10. С. 390.
Там же. С. 356.
270
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
При этом антиморализм обнаруживает свой вполне очевидный моральный па-
фос, антирационализм — «железную логику», антипессимизм оказывается
«пессимизмом силы», т. е. просто усиленным до крайности пессимизмом, а
удивительно постоянный критицизм романтического отрицания современной
действительности парадоксально совпадает с ее позитивистской апологетикой.
Наконец, отчаянная крайность антигуманизма обнаруживает живую сохран-
ность традиционного гуманизма.
Мышление Ницше — мышление без полутонов (хотя в чуткости к ним ему
никак не откажешь), демонстрирующее совпадение противоположностей без
опосредования, исключительную серьезность духа под маской игры, фейер-
верк энергии в обличениях и критике, невольно ассоциируется при этом с по-
чти раннехристианской суровостью дуализма, точнее, с лютеровским активиз-
мом веры. Но у (бывшего) протестанта Ницше при этом не оказывается... Бога!
И что только он не испробовал в качестве его заместителя! Что только не ра-
зоблачил как такую замену! Однако ни метафизический эстетизм, ни романти-
ческий позитивизм, ни биологизм воли к власти с ее символикой сверхчеловека
и вечного возвращения не могли заполнить пробоину на месте закатившегося
солнца христианской веры. Демон интеллектуальной честности бросал Ниц-
ше в очередное самопреодоление и гнал его буквально «сквозь строй» его соб-
ственных построений. Это трагически-диалектическое мышление, моделиру-
ющее с классической четкостью феномен тотально разорванного «несчастного
сознания» (Гегель), принимает поэтому откровенно профетическую форму
мифотворческого мессианизма как эстетическую иллюзию своей самосогла-
сованности. Эта невыносимая саморазорванность, сфокусированная в одном
мышлении, в одной личности, делается предметом собственной эстетической
саморефлексии Ницше. Ницше сознавал, что его критика декадентства лежит
еще в пределах декадентства, критика нигилизма — в пределах нигилизма: «За
вычетом того именно, что я декадент, — говорит он, — я так же противопо-
ложность его» 10°, Ницше также сознавал, что его критика есть самокритика,
ирония есть самоиронизирование: «Самопародирование оказывается едва ли
не основным методом, с помощью которого Ницше осуществляет переход от
одного этапа своей духовной эволюции к другому» 101.
Эстетизация антиномизма бытия и собственной личности оказалась для
Ницше единственным способом его вынести. Изначальное кредо эстетизма
становится основанием саморефлексии и окутывает «дымкой иллюзии» неес-
тественную напряженность антиномий. Эстетизм оказывается рефлексом их
рациональной неразрешимости. Но сам эстетизм, приобретающий аффектив-
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 699.
Давыдов Ю. И. Искусство и элита. М, 1966. С. 233.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 271
но сгущаемую антиморалистическую окраску, обнаруживает в своем подтек-
сте этические пружины. Этот «подпольный», подтекстовый морализм не был
скрыт и от самого Ницше. Мораль, по Ницше, утратила свою историческую
необходимость для развития человеческого рода, а поэтому, предписывая
правдивость, она «принуждает нас к отрицанию морали» 102. Этот парадокс ан-
тиморального морализма и антихристианского христианства справедливо от-
мечает Т. Манн: «Яростная борьба Ницше, этого поклонника Паскаля, с хрис-
тианством была противоестественной причудой... самопреодоление христиан-
ской морали во имя морали, во имя сурового стремления к правде... и было
тем шагом вперед (а быть может и назад), который сделал Ницше, — все это
идет от Лютера» 103. Эта правдивость оказывается страданием, «добровольным
страданием правдивости», которое берет на себя трагический «шопенгауэров-
ский человек». Аскетическое восприятие истины обнаруживает скрытую хри-
стианскую подоснову ницшевских филиппик против христианства («Анти-
христ», 1886 г.).
Трагический человек с открытыми глазами идет навстречу сущности мира
как страдания. Его гипертрофированный активизм есть лишь необходимое вос-
полнение страдательной природы мира. Amor fati означает у Ницше активное
возлюбление, деятельное принятие страдания: «Страдание — это наша судь-
ба, и, в то же время, и наша жизнь... Проникнемся же этим страданием, обру-
чимся с ним, полюбим его деятельной любовью, будем, как оно, пылки и без-
жалостны, будем суровы к другим, так же как и к самим себе, примем его,
несмотря на всю его жестокость» ,04. Это — «активный фатализм» 105, подчер-
кнуто западный буддизм («западный буддизм» — характеристика учения
Шопенгауэра К. Фишером). Недаром молодой Ницше цитирует известное
высказывание Майстера Экхарта о страдании как пути к совершенству. Рели-
гия страждущего бога (Дионис как прообраз Христа), очевидно, не может не
быть религией страдания. Эти христиански-моральные мотивы отчетливо про-
ступают уже в раннем творчестве Ницше, например в его работе, посвященной
Вагнеру («Рихард Вагнер в Байерейте», 1875—1876 гг.). Трагическое искус-
ство, современным образцом которого, по Ницше, является творчество Вагне-
ра, причащает человека к высшим ценностям добра и любви.
Связывая искусство Вагнера с надеждой на грядущее преобразование всей
культуры, Ницше отмечает как основную черту будущего человека этой куль-
102 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 9. С. 172.
103 Манн Т. Собр. соч. Т. 10. С. 212, 311.
104 ГалевиД. Жизнь Ницше. СПб., 1911. С. 212.
105 Выражение «активный фатализм» принадлежит аббату Панлю, персонажу романа
А. Камю «Чума» {Камю А. Избранное. М, 1969. С. 312).
272
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
туры христианскую добродетель честности, искренности и прямоты. Таким
образом, эстетический утопизм Ницше оказывается окрашенным в христиан-
ские тона. Искусство своей творческой силой обновляет не только культуру:
сама «природа... жаждет преображения силой любви», — говорит Ницше, так
как искусство есть «природа, преображенная в любви» 106. «В музыке, — под-
черкивает Ницше, — действует не просто мощь, но и добро» 107.
Разбирая произведения Вагнера, Ницше отмечает их христианскую направ-
ленность. Так, например, лейтмотивом «Моряка-скитальца» выступает само-
отречение, достижение святости и спасение души возлюбленного «путем не-
бесного преображения amor в caritas» ,08. «Тристан и Изольда», подлинный opus
metaphysicum, раскрывает христианскую тайну смерти и дуализма 109. Мотивы
всех основных произведений Вагнера выражают чистые формы западно-хрис-
тианской трагики: трагедию дуализма и трагедию самоотречения. Резкое не-
приятие поздним Ницше позднего Вагнера («Парсифаля») означает только ра-
дикализацию его христианско-морального духа честности. Как справедливо
отмечает Лихтенберже, Ницше «стал жить своим атеизмом точно так же, как
раньше жил христианством» по.
Ощущение своей внутренней подспудной верности христианской (протес-
тантской) традиции никогда не оставляло Ницше: «Что бы мне ни приходи-
лось говорить о христианстве, — свидетельствует он, — я не могу забыть, что
я обязан ему лучшими опытами моей духовной жизни; и я надеюсь, что в глу-
бине своего сердца никогда не буду неблагодарным по отношению к нему».
Так, например, именно христианская по своему происхождению честность не
позволила Ницше сентиментально-просветительски фальсифицировать антич-
ность на гуманистический лад.
Однако, как мы уже сказали, вместо гуманистического идеализирования
античности он превращает факт этой связи в надысторическое, абсолютное
определение культуры как таковой. Поэтому, идеализируя античную культуру,
рассматривая ее как образец культуры вообще, как ее норму, он становится в
своей культурной утопии идеологом рабства, трагическим апологетом рабо-
владения во имя высшей культуры и достоинства человека. Эта идеологизация
рабовладения оказывается неизбежной именно для латентного, христиански
окрашенного гуманизма Ницше: вслед за классическим гуманизмом Ницше
рассматривает античную культуру как идеал культуры вообще, а воспитанная
106 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 355—400.
107 Там же. С. 367.
108 Там же. С. 400.
109 Там же. С. 376.
110 Лихтенберже А. Философия Ницше. СПб., 1906. С. 23.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 273
христианством научная честность историка не позволяет ему при этом отвлечься
от фундаментального факта рабства как основы этой культуры. Поэтому в
мышлении Ницше принятый им полисно-греческий первообраз культурного
социума способствовал тому, чтобы навечно, абсолютно зафиксировать связь
культуры и рабства: «Закон природы состоит в том, что культура в своем три-
умфальном шествии одаряет только ничтожнейшее, привилегированное мень-
шинство, и для того, чтобы искусство достигло своего полного расцвета, необ-
ходимо, чтобы массы оставались рабами» ш. Искусство же есть единственно
возможный способ оправдания и искупления жизни. Этот оборот мысли тут
же фиксируется в натуралистической формуле «закона природы». Эстетизм
находит для своего обоснования совершенно естественнейшим образом нату-
ралистическую метафизику. Культура оказывается «пожизненно» аристокра-
тической функцией, социальное неравенство рассматривается как природный
закон ее существования. В рамках биологического принципа аристократизм
становится абсолютным определением культуры.
В качестве своего предшественника в таком антиисторическом понимании
культуры Ницше упоминает Ф. А. Вольфа: «Ф. А. Вольф уже показал, что раб-
ство необходимо для развития культуры. Это одна из самых крупных мыслей
моего предшественника» 112. Поэтому торжество протестантско-христианской
честности оказывается по существу торжеством антигуманистического идеа-
ла, скроенного по идеализированной античной мерке.
Метафизика (так и не преодоленная) и пессимизм оказались опасными спут-
никами гуманизма. Поэтому, преобразуя философию Шопенгауэра, Ницше
платит дегуманизацией за эстетическую историзацию и биологическую конк-
ретизацию мышления, стремясь придать ему значение нового гуманизма, отве-
чающего современным требованиям. Но эстетизм, эмансипируя человека как
animal rationale от разума, в конце концов приводит к расчеловечиванию чело-
века, к его опустошению, оголению до чистого animal, до пресловутой «бело-
курой бестии» (blonde bestia). Критика же определенной, сократовско-алексан-
дрийской культуры оборачивается критикой культуры вообще, культурным
нигилизмом как таковым: последовательное проведение биологического прин-
ципа не оставляет от культуры ничего — она начисто поглощается натурали-
стической волей к могуществу. Однако этот переход от критики особенной куль-
туры к критике культуры вообще вовсе не означает, что Ницше утрачивает вся-
кий идеал культуры. Он просто считает возможной, так сказать, естественную
культуру (оксюморон!), причем именно естественное начало (природа) высту-
пает как ядро культуры вообще, как гарантия ее высоты и богатства. Именно в
111 ГалевиД. Жизнь Ницше. Новосибирск, 1992. С. 64.
112 Там же.
18 - 3357
274
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
этой концепции естественной культуры и естественного человека Ницше на-
следует слабости руссоизма и Просвещения в целом. Правда, само представле-
ние о содержании этой естественной сущности человека и культуры оказыва-
ется у него противоположным просветительскому: вместо доброй, разумной
природы Ницше провозглашает изначально злую, точнее, стоящую по ту сто-
рону добра и зла, иррациональную, слепую природу человека и его культуры.
Эта естественная культура является, говоря словами Т. Манна, «естественным
трагизмом» пз.
В этом противоречии, заводящем попытку эстетического гуманизма в
логический тупик, обнаруживается, на наш взгляд, трагизм всей гуманистиче-
ской культуры нового времени, наследующей культуру античности и христи-
анство 1И. Ницше вскрыл возможность несовместимости этих «предков» евро-
пейского гуманизма. Классический рационалистический гуманизм зафиксиро-
вал их равновесие, если и не гармонию. Ницше, напротив, обнаружил вполне
реальную возможность их трагического конфликта. Действительно, привер-
женность гуманистической традиции, верность античному идеалу культуры,
раскрытому христиански (честность), означала на путях эстетизма саморазло-
жение гуманизма, его самоубийство, самопародирование, инверсию и безумие.
Эта аннигиляция гуманизма происходит при соударении в эстетико-натурали-
стическом поле мышления его культурогенных «наследственных» компонент.
«Виновником» является эстетизм, отличающий мышление Шопенгауэра и Ниц-
ше от классического гуманизма. Но именно Ницше, а не Шопенгауэр с есте-
ственно-научной, клинической, можно сказать, точностью установил этот «ре-
зус-фактор» гуманизма, раскрыв трагическое измерение антично-христианской
двойственности европейского гуманизма, вставшего на путь эстетизма в жесте
самоозабоченности.
Творчество Ницше показало, что европейская нововременная цивилизация
вырастает из такого бикультурного основания {античное наследие плюс хри-
стианство), компоненты которого не получили раз и навсегда значимого син-
теза. Соотношение этих корневых культурных традиций должно поэтому все-
гда переоформляться, их синтез не столько данность, сколько задание. Если
удачность такого синтеза обозначить как равновесие начал европейской циви-
лизации, то феномен Ницше показал, что пределы этого равновесия наруше-
ны, что пракультурное основание Европы пришло в состояние нестабильно-
сти, бросающее вызов европейцу, приглашая его к новому синтезу его культур-
113 Манн Т. Собр. соч. Т. 10. С 361.
114 «Что бы ни говорили — христианство... является одним из двух устоев, на котором
зиждется западная цивилизация; второй — античное Средиземноморье» {Манн Т. Собр. соч.
Т. 10. С 211).
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 275
ных начал. Здесь существенны два момента. Во-первых, как мы уже сказали,
Ницше зафиксировал неравновесную конфигурацию начал европейской циви-
лизации, характерную для его времени. Во-вторых, возникает предположение,
что феноменологически фиксируемый динамизм европейской цивилизации
обусловлен метастабильным синтезом его культурных истоков. В конце кон-
цов все имевшие место в истории синтезы античности (греко-римской культу-
ры) и христианства были по сути дела только парасинтезами. Неустойчивость
основания цивилизации Европы должна пониматься в свете такого предполо-
жения как основная причина ее набирающего силу динамизма. Таков основ-
ной, на наш взгляд, культурологический урок, который мы извлекаем, изучая
жизнь и творчество Фридриха Ницше.
Ахиллесовой пятой старого гуманизма являются, по мнению Ницше, его
моральные идеалы, его метафизика. Поэтому Ницше в своем стремлении об-
рести историческое философствование, радикально обновляющее философию
и культуру, пытается преодолеть именно антиисторизм рационалистической
метафизики, преодолеть моральные идеалы, трансцендентный характер мира
высших ценностей. В своем разоблачении «фабрики идеалов» Ницше ставит
под вопрос саму метафизику как способ мышления. Однако он не смог ее пре-
одолеть, и поэтому его борьба с ней приводит к воскрешению (с инверсией) ее
базовых структур, что проявляется в подаваемом им в качестве идеала анти-
идеале, функционально замещающем моральный идеал традиционного гума-
низма.
Но как заставить человека вдохновиться антиидеалом? Ницше испробовал
для этого все средства: от эстетически значимой передачи антиидеала волную-
щими трагическими красками до призыва к мужеству и долгу его вынести.
Так, мерой жизненного величия человека перед лицом этого сурового антииде-
ала, говорит Ницше, является способность его выдержать. Правда, где-то за
спиной антиидеала маячит старый, добрый, привычный моральный христиан-
ско-гуманистический идеал: «Мы вновь обретем лиризм, доброту, самые выс-
шие добродетели и самые смиренные, каждая из них явится нам в своей славе
и в своем величии. Но сначала надо согласиться на приход ночи и отказаться от
всего и неустанно искать» 115. Однако путь к этому старому идеалу лежит, счи-
тает мыслитель, через решительный разрыв с его основой — разумом.
Разум, согласно Ницше, лишь «раздробляет» человека. Поэтому гуманизм,
ставящий себе целью воспитание цельного человека, может строиться, по его
мнению, только как иррационалистический гуманизм. Разум в глазах Ницше
перестал быть скрепляющим центром человеческого мира, многообразия спо-
собностей человека. Основу целостной связности облика человека Ницше ус-
115 ГалевиД. Жизнь Ницше. Новосибирск, 1992. С. 169.
18*
276 Глава IV. XIX столетие: философия жизни
матривает, как мы уже говорили, в эстетическом начале. Классическая гу-
манистическая традиция в лице Ницше столкнулась с бездуховностью,
фальшивостью буржуазного общества. Уже в ранних произведениях в каче-
стве ведущей черты современности Ницше отмечает власть денег П6 и «средств
массовой коммуникации», языковой фетишизм ,17, всепроникающую механи-
зацию жизни. В этом критическом анализе современности Ницше обнаружи-
вает ее враждебность культуре вообще, высшим ценностям, идеалам. Однако
этот поразительный упадок культуры происходит, по Ницше, из-за безжиз-
ненности старых ценностей. Поэтому он устремляется к новому, действенно-
му гуманизму, который, разрушив старые ценности, преодолел бы современ-
ный упадок. «Кто, — вопрошает Ницше, — водрузит образ человека в то вре-
мя, когда все чувствуют в себе лишь себялюбивые вожделения и собачью
трусость и, следовательно, отпали от этого образа, возвратясь назад в живот-
ную или даже мертво-механическую стихию?» 118 Старый рационалистиче-
ский гуманизм неспособен быть живым и действенным. Он выдохся и сам
привел к этому механическому царству распавшегося человека. Поэтому, от-
вергая его, Ницше заключает, что он является великой неудачей, так как вме-
сто своей цели он привел к ее полному искажению: вместо гармонически
совершенного целостного человека теперь «изготовляются» частичные ра-
ботники, новые рабы «эпохи труда». Но цельность на путях эстетико-натура-
лизирующего мышления означает прежде всего примат мифа над логикой,
чувства — над рассудком, гения-художника — над ученым. Эстетизм оказы-
вается у Ницше центром его антиидеального идеала, нервом всего его крити-
цизма. Эволюция духовного развития Ницше, его разрыв с Вагнером повер-
нули его к борьбе со всяким романтическим идеализмом, в том числе и преж-
де всего с собственной эстетической метафизикой, что им ясно сознавалось:
«Все, что относится к миру метафизическому, то невидимо. Отказавшись от
метафизики, человек должен отчаянно защищаться: как ужасна задача ху-
дожника в этой борьбе. Вот ужасные последствия дарвинизма, с которыми я,
между прочим, согласен. Долг человека состоит не в том, чтобы укрыться
под покровом метафизики, а в том, чтобы активно пожертвовать собою для
нарождающейся культуры. Логическим следствием этого взгляда является мое
суровое отношение к туманному идеализму» 119. Это было, прежде всего, бес-
пощадно суровым отношением к самому себе.
116 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 360.
1,7 Там же. С. 354—355.
118 Там же. С. 210.
119 ГалевиД. Жизнь Ницше. Новосибирск, 1992. С. 85—86.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 277
Сегодня, в отличие от эпохи Ницше, мы размышляем скорее не о кризисе
книжно-гуманистической культуры с ее культом истории, а о духовном кризи-
се техногенной цивилизации. В полном соответствии с ее нормами мы при-
выкли ценить прежде всего научный результат. Для нас человек, получивший
такой результат, — состоявшийся человек, с надежным оправданием своей
жизни. На какой же «крючок» нас подцепила наука, этот, из поколения в поко-
ление, труд методически поставленной кумуляции результатов, растущей ла-
винообразно? Если судить по Ницше, то таким «крюком» стала наша вера в то,
что в науке воплощена сама интеллектуальная честность, объективность, спра-
ведливость... Для Ницше наука — самая «подозрительно косящаяся» из всех
«философий подозрения», потому что воплощает честность в мире обмана. Ведь
не-наука, обозначенная Ницше как «моральная интерпретация мира», суть, по
его слову, клевета на жизнь. Правда, Ницше безжалостно высмеивает обыва-
тельскую науку прогрессистского благодушия, но преклоняется перед наукой
как перед трагической правдивостью жизни, саркастически едкой по отноше-
нию ко всему морально-христианскому миру гуманистической Европы. К «мо-
ральной интерпретации мира» он отнес не только христианство, мораль, но и
метафизику, все рационализмы и идеализмы и даже, пожалуй, позитивизмы и
материализмы тоже, если только они хоть немножко «полупозитивизмы» (вы-
ражение В. Зеньковского) и «полуматериализмы», т. е. с капелькой «морали-
на» (саркастический выпад Ницше в адрес морали). Если феномен человека до
прихода в мир певца Заратустры худо-бедно держался на «гвозде» веры, сози-
дая себя в горизонте трансцендентной надежды, то отшельник из Сильс-Марии
стремился к тому, чтобы вырвать этот «гвоздь» (считая, что он «ржавый», т. е.
«изолгавшийся»), но при этом не только уцелеть, но даже и возрасти в градусе
жизненной силы. Абсолютно духовно мертвый, но в то же время абсолютно
живой «природный человек» (homo naturae) — вот фундаментальный парадокс
Ницше, названный им «сверхчеловеком».
Ницше не может вынести самодовольной мелочности прогресса и в пику
ему сам живет только миром целей и ценностей, последними мерилами (как
они ему представляются) всех возможных и невозможных смыслов. Поэтому
вопреки своему базельскому профессорству он совсем не профессор, вовсе не
университетский ученый, дающий результаты (кстати, они у него были), а тон-
кий аналитик «низин» европейского духа, из которых растут его «вершины»
(как он считал, следуя своей «генеалогии»). Для него европейская культура —
не столько предмет методически поставленных ученых изысканий, сколько
жизнь, страсть, личная жизненная драма. Ницше — парадоксальный предста-
витель и защитник цельности европейского духа и культуры.
278
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
Вызов, прозвучавший в опыте, духовно прожитом Ницше, требует адек-
ватного отзыва — жизненно-цельного, свободного, творческого ,:о. Имея в
своем поле зрения Ницше, мы не перестаем общаться с персонифицирован-
ным духом европейской культуры. Поэтому только другая столь же цельная и
яркая личность, столь же полно воплощающая культурный дух Европы, мо-
жет быть адекватным ответом на явление Ницше как вызов. И действитель-
но, цельность европейского духа может быть явлена совсем иным образом —
не в муках бесплодно пытающегося себя преодолеть нигилизма, а на путях
свободного утверждения базовых ценностей Европы. Мы имеем прежде все-
го в виду, пусть и в порядке гипотезы, Владимира Соловьева, развившего
философию «цельного знания», в основе которой лежит христианский опыт.
Действуя в одно время с Ницше, Соловьев показал, что так называемая «мо-
ральная интерпретация мира» — не «ржавый гвоздь», источенный рутиной
прогресса с его секуляризацией, а живая духовная реальность. Подобно двум
магнитным полюсам, Ницше и Соловьев создали то напряженное, конструк-
тивное поле, в котором развивался русский Серебряный век — в том числе и
философский.
Сопоставление Ницше и Соловьева помогает нам осознать, что смыслооб-
разующая цельность нашей цивилизации действительно вытесняется как бы
на культурную периферию, что мы в привычном научно-прогрессивном дви-
жении, покоряясь звучащей в технике «судьбе», послушно «разматываем» свои
жизни, оставив в заброшенности наш пракультурный опыт и традицию его
духовного выражения.
Поезд прогресса летит по стальной магистрали вперед. К этому мы привык-
ли как к природной данности, сначала готовясь к полезной деятельности, а
потом тратя остаток жизни на желанный «результат». Но представим себе, что
по мчащемуся вагону поезда бродит задумавшийся студент. Подойдя к вагон-
ному окну, он видит впереди солнце выгоревших ценностей, «черное солнце»
нигилизма, пытающегося себя преодолеть, не преодолевая на самом деле (фе-
номен Ницше). Но, шагнув к другой стороне вагона и посмотрев в окно, он,
возможно, увидит то сияющее «неподвижное солнце любви», о котором писал
Соловьев.
Так в пропасть Ничто летит наш поезд, или же он мчится прямо на «Непод-
вижное солнце любви»? Как и более ста лет назад, в эпоху Ницше и Соловьева,
120 Те, условно говоря, «проблемы», которые нам приоткрыло явление Ницше, действи-
тельно нельзя решать, осуществляя только (отвлеченно) теоретические акты познания.
Ницше мыслит не столько отвлеченными понятиями, сколько стилем, или, лучше, стиля-
ми. Интересный анализ философствования стилями у Ницше дает Ж. Деррида, пытаясь
обнаружить при этом пределы его герменевтико-фундаментально-онтологической (хайдег-
геровской) интерпретации (см.: Derrida J. Eperons: styles de Nietzsche. P., 1977).
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше 279
ответы упрямо двоятся, и кажется, что к этой неопределенности мы все давно
привыкли.
Начальный импульс движения растрачивается в разнообразных и порой не-
узнаваемых воплощениях. Дух, как сказал бы Н. Бердяев, не достигает само-
выражения в своих объективациях, творчество в этом мире оказывается траге-
дией. Религиозно-мистический опыт при этом затеняется или даже искажается
именно в силу его культурообразующей роли. Так происходило, например, в
позднем средневековье. Сакральное незаметным образом профанируется, но
без этого, однако, нет его полноценной исторической жизни ш, впрочем, ее
нет и при условии такой профанации... Но боги на то и боги, чтобы упрямо
возвращаться, даже вращаться — недаром вместе с образом поезда мы выбра-
ли и образ солнца (черного и светлого). В конце концов, наш поезд едет на
солнце нашего сердца. С каким солнцем оно? Главный вопрос именно в этом.
121 Профанирующая сакральное измерение рационалистическая прямолинейность, не
терпящая символического и пневматологического смысла, роднит обыденный рассудок и
самую рафинированную профессиональную науку: «За три года до революции маленький
Юра (потом Георгий, а затем Джордж) Гамов, внук митрополита Арсения Лебединцева и
будущий автор идеи генетического кода и горячей модели Большого Взрыва как начала
Вселенной, получил от отца в подарок микроскоп. Направив его на Святые Дары, он не
нашел в них ни малейшего следа Тела и Крови Христовых. В конце жизни Гамов писал об
этом так: "Думаю, что это был эксперимент, который сделал меня ученым"» (см.: Пар-
шин А. Н. Еще раз о «научной картине мира» // Вестник русского христианского движения.
1990. № 159. С. 137).
нигилизм
Нигилизм (от лат. nihil — ничто) — понятие, обозначающее тенденции к
отрицанию высших ценностей, традиционно придающих цивилизации смысл
и оправданность, и поэтому используемое для критики современного обще-
ства и его культуры. В Западной философии выражение «нигилизм» видимо
впервые употребил Ф. Г. Якоби (1799). В России термин «нигилизм» прочно
вошел в общественное сознание благодаря И. С. Тургеневу («Отцы и дети»,
1862). Характеристику русскому нигилизму дал Н. А. Бердяев, различивший
его узкий («эмансипационное умственное движение 60-х годов») и широкий
(течения мысли, отрицающие «Бога, дух, душу, нормы и высшие ценности» ')
смыслы. Считая русский нигилизм религиозным в основе своей феноменом,
Бердяев, однако, определяет его истоки противоречивым образом, считая их то
христианско-православными, то гностическими. Нигилистическая менталь-
ность, заявленная в образах Базарова, Рахметова и др., трансформируясь в ходе
исторического развития, продолжается в русском коммунизме, в котором она
приобретает некоторые черты богоборчества в духе вульгаризированного Ниц-
ше (например, у М. Горького).
В философии Ницше представление о нигилизме вырастает во всеобъем-
лющую концепцию, подытоживающую все европейское историческое и куль-
турное развитие, начиная с Сократа, выдвинувшего представление о ценно-
стях разума, что и явилось, по мнению философа, первой причиной возникно-
вения нигилизма, развивавшегося затем на основе «морально-христианского
истолкования мира». «Опаснейшим покушением на жизнь» Ницше считает все
основные принципы разума, сформулированные в европейской философской
традиции — единство, цель, истину и др. Под «клевету на жизнь» он подводит
и христианство и всю его историю, ведущую к его самоотрицанию через раз-
витие ориентированной на науку интеллектуальной честности. Таким образом,
устойчивая нигилистическая ситуация в культуре Европы формируется благо-
1 Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990 (1937). С. 37.
Нигилизм
281
даря тому, учит Ницше, что «истинный мир» традиционных религии, филосо-
фии и морали утрачивает свою жизненную силу, однако при этом сама жизнь,
земной мир вообще не находят собственных ценностей, своего настоящего
оправдания. Нигилизм, выражающий эту глобальную ситуацию, не есть, по
Ницше, эмпирическое явление культуры и цивилизации, пусть даже и очень
устойчивое. Нигилизм — это глубинная логика всей истории Европы, своего
рода роковая «антижизнь», ставшая парадоксальным образом жизнью ее культу-
ры, начиная с ее рационально-эллинских и иудео-христианских корней. Неверо-
ятная убыль достоинства и творческой силы индивида в современную механи-
зированную эпоху только радикализирует действие этой логики и заставляет
поставить кардинальный вопрос о преодолении нигилизма. Ницше подчерки-
вает, что «смертью христианского Бога» нигилизм не ограничивается, ибо все
попытки его замены с помощью категории совести, рациональности, культа
общественного блага и счастья большинства или культа истории как абсолют-
ной самоцели и т. п. только усиливают тревожную симптоматику нигилизма,
«этого самого жуткого из всех гостей». Попытку спастись от «обвала» высших
ценностей, восстанавливая их секуляризованные имитации, Ницше решитель-
но разоблачает, указывая на «физиологические» и жизненно-антропологиче-
ские корни нигилизма. В связи с этим социализм, по Ницше, есть только апо-
гей указанного измельчания и падения типа человека, доводящий нигилисти-
ческую тенденцию до ее крайних форм.
В понятии нигилизма у Ницше можно увидеть формальное сходство его с
идеей коммунизма у Маркса (совпадают даже метафоры «призрака», бродяще-
го по Европе), а также с темой «забвения бытия» у Хайдеггера, давшего свое
прочтение концепции нигилизма у Ницше. Действительно, как «забвение бы-
тия» (Хайдеггер), так и декаданс жизненной силы (Ницше) одинаковым обра-
зом начинаются с Сократа и развиваются параллельно в платонизме и в тради-
ции европейской метафизики в целом. В обоих случаях общим знаком преодо-
ления этой «судьба Европы» выступает профетически проповедуемый возврат
к мистико-дионисийской и досократической Греции. Оригинальность Хайдег-
гера в трактовке нигилизма, этой пугающей «судьбы западных народов», в том,
что он его рассматривает в свете проблемы ничто как «завесы истины бытия
сущего». По Хайдеггеру, недостаточность истолкования нигилизма у Ницше
состоит в том, что он «не в состоянии думать о существе Ничто» 2. И поэтому
рационализм и секуляризация вместе с неверием не причины нигилизма, счи-
тает Хайдеггер, а его следствия. В этом тезисе состоит оригинальный вклад
Хайдеггера в концепцию нигилизма, стремящегося дать углубленную, фунда-
ментально-онтологическую, его трактовку.
2 Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Время и бытие. М., 1993. С. 74.
282
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
Ницше не может понять нигилизма, считает Хайдеггер, независимо от ме-
тафизики, им критикуемой, потому что сам исходит в его анализе из идеи цен-
ности, мыслящей «существо бытия... в его срыве» 3. В результате он остается
в пределах нигилизма и метафизики, будучи, впрочем, «последним метафизи-
ком». В отличие от Ницше Хайдеггер связывает нигилизм с проектом нового
времени с его идеей автономного самозаконодательствующего субъекта, веду-
щей к декартовскому механицизму, необходимому для утверждения господ-
ства нигилистического человека над Землей.
По Камю, история современного нигилизма начинается со слов Ивана Кара-
мазова «все позволено», раз Бога нет. Понятие нигилизма анализируется им в
связи с темой «метафизического бунта» (la révolte), причем вехами его истории
выступают романтики, Штирнер, Ницше, Достоевский. «Нигилизм, — подчер-
кивает Камю, — не есть лишь отчаяние и отрицание, но прежде всего воля к
ним» 4. В наши дни понятие нигилизма используется критиками современной
цивилизации, например австрийским философом и публицистом В. Краусом,
различающим социально-политический, психолого-невротический и философ-
ский типы нигилизма, причем все его виды взаимно поддерживают друг друга,
усиливая свои негативные последствия и создавая тем самым что-то вроде по-
рочного круга нигилистического синдрома. Различные формы нигилизма, по
Краусу, связаны с упадком чувства вины и личной ответственности в век гос-
подства научно-технической картины мира, а также с тем, что в структуре внут-
реннего мира современного человека недостаточно выражено влияние сверх-
«Я» как противовеса для безудержных вожделений индивида. Современный
нигилизм, считает Краус, это традиционный нигилизм, описанный в философии
и литературе XIX в., плюс невротические его проявления, во многом характер-
ные именно для сегодняшнего дня. Новая идололатрия, например, рынка, счи-
тает он, также ведет к усилению разнообразных нигилистических тенденций,
представляющих угрозу для свободы, достоинства и выживания человека 5.
3 Там же. С. 75.
4 L'homme révolté // Essais. P., 1965. P. 467.
5 Kraus W. Nihilismus heute oder die Geduld der Weltgeschichte. Wien, 1983.
ЖИЗНЬ КАК ЦЕННОСТЬ: ОПЫТ НИЦШЕ
Превращение жизни и ценности в тематизированные источники философ-
ской мысли знаменует собой мутацию классической традиции мысли нового
времени в неклассическое философствование, самым значительным предста-
вителем которого был Ф. Ницше (1844—1900). Пространство классической
мысли определялось в первую очередь как пространство разума, озадаченного
поиском достоверного знания. Именно под знаком разума (естественного и
божественного) и доступной ему достоверности классическое мышление ве-
дет свой дискурс, организует стройный и всеохватывающий интеллектуаль-
ный мир. И это в равной мере характеризует все направления классической
философии и прежде всего такие относительные ее антиподы, как рациона-
лизм и эмпиризм. Это первый момент, который мы хотели бы подчеркнуть.
Второй состоит в том, что герои классической мысли, стоявшие у истоков ее
традиции, персонифицированно воплощали эти ведущие «знаки» классики —
разум и достоверность. Таков прежде всего Декарт, в поисках оснований раци-
ональной достоверности экзистенциально (а не только логически) открываю-
щий трансцендентальную структуру мысли и сознания (принцип cogito).
Если теперь мы посмотрим на героев неклассической философии, обратив-
шись к упомянутой фигуре Ницше, то сразу же будем вынуждены признать,
что открываемое им пространство мысли развертывается не под «небесными»
знаками разума и достоверности, а под «земным» знаком жизни и ценности.
«Вопрос о ценности, — пишет Ницше, — фундаментальнее вопроса о досто-
верности» '. Но и при таком преобразовании исходных диспозиций мышления
основоначала новоевропейской философии остаются незадетыми: «Только
субъект доказуем, — говорит Ницше, как бы вторя своему историческому ан-
типоду, родоначальнику классического рационализма Декарту с его когиталь-
ным принципом достоверности, —"объект" есть лишь известный вид действия
1 Ницше Ф. Собр. соч. Т. 2. По ту сторону добра и зла. М., 1903. С. 281. № 588. Цитиро-
вание «Воли к власти» в дальнейшем ведется только с указанием номера фрагмента. Кур-
сив в цитатах принадлежит Ницше.
284
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
субъекта на субъект... есть modus субъекта» [№ 569]. Можно даже сказать, что
присущий классической метафизике субъективизм еще более радикализирует-
ся 2 в философии Ницше, что обнаруживается в характерном для нее ценност-
ном подходе. Связь идеи ценности с метафизикой субъекта была подмечена
Хайдеггером: «Как только, — говорит он, — возникает идея ценности, так сра-
зу надо признать, что ценности "есть" лишь там, где идет расчет, равно как
"объекты" имеют место только для "субъекта"» 3. Но этот субъективизм, что
характерно для Ницше, разыгрывается в стихии языка жизни, от собственного
имени которой ведется философствование как витальная экзистенциальная
миссия. Вхождение жизни в фокус философского вопрошания происходит у
Ницше одновременно с обесцениванием мира в результате утраты им цели, един-
ства и самого бытия: «Категории "цели", "единства", "бытия", посредством
которых мы сообщили миру ценность, снова изьемлются нами — и мир кажет-
ся обесцененным» [№ 12А]. И проект Ницше в связи с этим обесцениванием
мира состоит в том, чтобы, отказав в доверии к основным категориям разума,
вернуть миру ценность, но уже в качестве неразумной жизни. Итак, с утратой
миром смысла (ценность, с одной стороны, на первый взгляд, его обусловли-
вает, а с другой — выступает как его деградированный синоним, чего не за-
мечает Ницше и о чем мы скажем в своем месте) в центр мысли попадает
жизнь, а место разума и достоверности занимают, соответственно, воля и цен-
ностъ.
Проблема ценности жизни: исторический контекст
Реакция на рационализм и оптимистический идеал цивилизационной стра-
тегии прогресса возникает уже в XVIII в. (Руссо, а затем и немецкие романти-
ки). Особое значение для философии жизни Ницше имел пессимизм Шопенга-
уэра, истолковывавший мир как проявление слепой воли к жизни. Не случай-
но, что популярным Шопенгауэр становится в 50—60-е годы, когда возникает
и распространяется эволюционное учение Дарвина, породившее уверенность
в научной обоснованности рассмотрения мира как жизни, а бытия как станов-
ления или эволюции. В целом это эпоха мутации общественных идеалов от
идеализма и романтизма к позитивизму, материализму и сциентизму. Ввиду
Существование в универсуме классической культуры теологического сверхсубъекта
ограничивало присущий ей субъективизм, вводило его в пределы гармонии человека и мира,
разума и действительности под знаком надежной перспективы прогресса научного позна-
ния и основанного на нем рационального обустройства жизни человека. Поэтому не слу-
чайно, что именно «смерть Бога», провозглашенная Ницше, стала символом конца этой
культуры.
3 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 98.
Жизнь как ценность: опыт Ницше
285
распространения пессимизма Шопенгауэра, а затем и Э. фон Гартмана в обще-
ственном сознании эпохи остро встает вопрос именно о ценности жизни. Дей-
ствительно, вместе с Кювье, Бэром, Дарвином и др. понятие жизни преодолело
рамки классической парадигмы в духе систематики Линнея и вышло в новые —
физиологические и эволюционные — измерения. Это переоткрытие жизни
драматически напряженно переживалось в искусстве и литературе эпохи (ху-
дожественные исследования социальной «физиологии» и «генетики») и не могло
миновать философию.
В качестве типичной фигуры, репрезентирующей умонастроения этого вре-
мени, выступает Е. Дюринг с его знаменитой книгой «Ценность жизни» (1865,
1-е изд.)4. Для того чтобы разобраться в гении, порой бывает нужно найти его,
пусть упрощенное и грубое, но подобие. Действительно, как и Ницше, Дюринг
озабочен тем, чтобы дать героико-оптимистический ответ на ставший интел-
лектуальной модой пессимизм по отношению к жизни, а значит, и к ее ценности.
Необходимо, говорит Дюринг, «выступить против оклеветания жизни... проло-
жить пути к героическому пониманию жизни и к героическому отношению к
ней, а где нездоровье уже укоренилось, — там устранить вред, производящий
болезнь, слабость и малодушие» 5. Акцентирование героики жизни в рамках ее
физиологистского истолкования характерно и для Ницше. Горизонт дюринго-
вой мысли, опровергающей пессимизм, задан такими оппозициями, как вред/
польза, болезнь/здоровье, упадок/подъем, слабость/сила, вялость/бодрость,
жизнеотрицание/жизнеутверждение. Подобный физиологический редукцио-
низм характерен не только для средней руки моралистов и публицистов эпохи,
таких, как Дюринг или Нордау 6, но и для самого Ницше, этого своевременно-
несвоевременного мыслителя, во многом определившего мысль будущего, XX,
века. Мы лучше представим себе масштаб явления Ницше, если отдадим себе
отчет в том, что его адекватное понимание как раз становится невозможным на
основе подобной установки. Действительно, мы видим, что, например, Нордау
совершенно не улавливает значимости Ницше, сводя все творчество мыслите-
ля к литературно-философской иллюстрации врожденной душевной болезни.
Этот парадокс неузнавания своего своими служит верным индикатором того,
насколько, несмотря на указанную близость Ницше к своим типичным для духа
эпохи популярным современникам, он превосходит их. Только приход нового
поколения — символистов и «декадентов» — знаменует собой серьезное и даже,
возможно, чрезмерно серьезное восприятие автора «Заратустры».
4 Мы использовали русский перевод Ю. М. Антоновского: Дюринг Е. Ценность жизни.
СПб., 1894.
5 Дюринг Е. Ценность жизни. СПб., 1894. С. 1. Курсив наш. —В. В.
6 Нордау. Вырождение. М., 1995.
286
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
Имея все это в виду, присмотримся к Дюрингу поближе. Он выступает
против припозднившегося романтизма, нападает на мистицизм, борется с
чрезмерным, как он считает, увлечением поэзией, древними языками.
Философский пессимизм для него — проявление жизненной вялости и пре-
сыщенности, пасование перед трудностями современной жизни с ее высо-
кими требованиями. Шопенгауэровская философия для него не более чем
«буддистское суеверие» 7. Фейербаховские мотивы Вагнера устраивают
Дюринга, но отталкивают срыв композитора в романтизм и эстетизм с его
«обоготворением искусства», выступающим для него симптомом упадка
жизненных сил. Метафизике или идеализму он противопоставляет веру в
позитивное знание, ценное для него своей жизненно значимой пользой 8.
Позитивизм у него сливается с материализмом и научностью. Конт и Фейер-
бах — «величайшие умы XIX века». Все это, конечно, напоминает Ницше
позитивистского периода, последовавшего за его романтико-шопенгауэров-
скими увлечениями. Но если Дюринг успокоенно и самодовольно популяри-
зирует «истину» века, то Ницше, воспринявший ту же самую школу, рвется
за ее горизонт.
В рамках натурализма законы природы — абсолюты, всецело определяю-
щие жизнь человека. Принимая такой "законнический" натурализм, Дюринг
определяет жизнь как «результат деятельности сил природы», постепенно рас-
ширяющийся и охватывающий «все большую и большую область» 9. «Весь
внешний мир, — пишет он, — представляет собой лишь средство для дости-
жения цели, какой является жизнь, как мы ее ближайшим образом понимаем,
т. е. жизнь в смысле чисто внутреннего мира» 10. Философия жизни Дюринга
не отличается глубиной и последовательностью. Действительно, Дюринг, как
мы видели, понимает жизнь как развивающийся органический мир и в этом
смысле вполне «внешний» феномен. Но в то же время он определяет жизнь как
«внутреннее» начало, фиксируемое в явлении ощущения и сознания, обознача-
ющих ту «область, где может идти речь о ценности существования» п. С точки
зрения научного материализма, на верность которому Дюринг приносит клят-
вы, он непоследователен. Эта непоследовательность в конечном счете прояв-
ляется в том, что под пером В. Зеньковского получило меткое название «полу-
позитивизма», т. е. неорганического соединения позитивизма с моральными
идеалами, с остатками автономной этики.
1 Дюринг Е. Ценность жизни. С. 2.
8 Там же. С. 29.
9 Там же. С. 39.
10 Там же.
1 ! Там же.
Жизнь как ценность: опыт Ницше
287
Действительно, именно моральный пафос заставляет Дюринга видеть в дар-
винизме врага оптимистического жизнеутверждения столь же, сколь и в песси-
мизме Шопенгауэра и Гартмана, которых он клеймит хлестким словцом «фи-
лософастики» ,2. Протест у Дюринга вызывает «деморализующий» эффект,
которым сопровождалось распространение идей Дарвина. «Общественная ис-
порченность, — говорит он, — убившая всякое взаимное доверие между людь-
ми, нашла в учении о борьбе за существование необходимое для себя теорети-
ческое дополнение» 13. Поэтому дарвинизм, равно как и мальтузианство, это —
«позорные страницы развития человеческой мысли». Но как увязан подобный
моральный пафос с материализмом — об этом Дюринг ничего не говорит.
Кстати, именно этот этический пафос Дюринга, направленный против став-
шей расхожей установки на подозрение, адресованное миру высших ценно-
стей (чему в немалой степени способствовал и Ницше вместе с Марксом и
затем Фрейдом), на наш взгляд, ничуть не устарел и сегодня, когда к старым
редукционизмам, элиминирующим этическое измерение, прибавились различ-
ные новые или только кажущиеся таковыми. С Ницше его сближает, напротив,
пафос «интеллектуальной честности», определяющий своего рода этический
кодекс «честного исследователя» 14, призывающий к бескомпромиссной борь-
бе с предрассудками и призраками, замыкающими витальную мощь человека в
«метафизическом заколдованном круге» 15.
Что же именно, спрашивает Дюринг, повышает и что понижает ценность
жизни? Для понимания концептуализации проблемы ценности жизни важно,
что в поле такого вопрошания сама жизнь становится качеством, или предика-
том, доступным градуированию, степени, измерению. Жизнь выступает, иными
словами, как «жизненность», что позволяет говорить о «степени жизненности
существования» 16. Такой поворот мысли характерен и для Ницше, который
также поставит жизнь в перспективу оценки степени ее жизненности, стре-
мясь найти для этого соответствующий критерий, долженствующий послужить
ему основой для формулирования новой шкалы ценностей. Однако на этом
сходство с Ницше кончается. Действительно, жизненность жизни человека для
Дюринга определяется нормами трудовой морали, упорядоченностью рацио-
нализированного быта, феминистскими установками, умеренностью в стиле
жизни, верностью республиканским и просвещенческим идеалам при устра-
нении в качестве ментальных установок романтизма, эстетизма и метафизики.
12 Там же. С. 21.
13 Там же. С. 17.
14 Там же. С. 26.
15 Там же.
16 Там же. С. 42.
288
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
Соответствующий же комплекс признаков жизненности жизни у Ницше силь-
но отличается, несмотря на наличие отдельных общих черт, от подобных об-
щедемократических идеалов с сильным подмесом обыкновенного здравого
смысла бодрящегося бюргера эпохи «позднего капитализма».
Как же воспринимал сам Ницше Дюринга? Социалистические замашки по-
следнего обусловили его характеристику как «анархиста» 17 с признаками ти-
пичной «однодневки» (в чем Ницше был, в общем, прав). Но у него имеется и
более уничижительный отзыв о своем идеологическом конкуренте, с которым
он некоторым образом связан на манер амбивалентной пары братья/враги (frères-
ennemies) 18. Дюринг сам, пишет Ницше, как «кусачий пес на привязи» отпуги-
вает читателя от своей столь ревностно охраняемой им философии 19. Оставим
эти выпады на совести Ницше. Уважения к Дюрингу как к человеку они вряд
ли могут поколебать. Ведь мы знаем, что в своей жизни Дюринг показал себя
удивительно мужественным человеком. Потеряв полностью зрение, он смог
стать активным лектором и влиятельным писателем-публицистом. Нотки огра-
ниченности, самодовольства и пошлости, конечно, звучали у него, на что так
чуток был Ницше, как, впрочем, и Энгельс. Но отрицать личное мужество и
трудолюбие этого человека, оставившего свой след в истории немецкой куль-
туры второй половины XIX в., мы не можем.
Жизнь и ценность
Ставя вопрос о том, как связаны понятия жизни и ценности в философии
Ницше, мы должны прежде всего заметить, что Ницше философствует как бы
изнутри жизни, целиком и полностью отождествляя себя с ней — как бы жизнь
при этом ни понималась. Непротиворечивой концептуализации жизни у Ниц-
ше, вообще говоря, и не было, и не только потому, что он не успел до наступле-
ния безумия окончить свой главный теоретический труд. Напротив, есть осно-
вания предполагать, что сама невозможность непротиворечиво концептуали-
17 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 325.
18 «Вообще он придает большое значение действию воздуха, — пишет о Дюринге его
биограф, — на себя и на свое семейство, поэтому он ищет для своего летнего местопребы-
вания наиболее высокие из обитаемых горных местностей, здесь нередко остается он по
нескольку месяцев» (Дюринг Е. Ценность жизни. С. XXXV). Эта черта Дюринга на первый
взгляд удивительно корреспондирует с соответствующей маниакальной страстью Ницше к
уединенным горным тропам. Однако если у Ницше горы вызывали приступы вдохновенно-
го лиризма, чем они его в конце концов и привлекали, то у Дюринга они прописывались
ему его обнаученным здравым смыслом, напоминая о несокрушимом педантизме немецко-
го профессора.
19 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 733.
Жизнь как ценность: опыт Ницше
289
зировать свои видения и идеи могла ускорить этот срыв в безумие. Мы должны
отдавать себе отчет в том, что противоречия в логике построения философии
жизни у Ницше неизбежны в силу исходных несовместимостей в структуре
его ментальных диспозиций и мотивов. Эту ситуацию мы проясним в дальней-
шем. Теперь же отметим, что важнее, чем непротиворечивая теория, сам факт
экзистенциального отождествления себя со своей идеей — идеей жизни как
воли к власти. В качестве живого индивида Ницше разыгрывал роль персони-
фицированного воплощения своей недоконцептуализированной «жизни» с ее
«ценностями».
Столь же внутренне напряженно и органично переживает Ницше и свое са-
моотождествление с европейской культурой в ее творческих истоках (как он их
понимает). И суть всего феномена Ницше мы видим в том, что в нем экзистен-
циально и интеллектуально отождествились если и не тождество, то гармония
жизни и культуры с их даже не просто различием, а полным несовпадением и
враждой. Ницше должен был в самом себе соединить несоединимое: тожде-
ство жизни и культуры и их же расщепление и конфликт. Трещина мира про-
шла буквально по сердцу мыслителя-лирика. И по его мозгу тоже — буквально
и фигурально.
Раскроем эту ситуацию парадокса в комплексе «жизнь — культура». Куль-
тур-исторический идеал Ницше всегда характеризовался отождествлением
жизни и культуры 20. Исторически это отождествление определяла дионисий-
ская традиция греческой культуры. Победа аполлоновского начала в постсок-
ратическую эпоху обнаружила как раз трагический разрыв жизни и самой куль-
туры, ставшей культурой истины, морали, добра вместо прежней культуры
жизненной жизни. Христианство только усугубило этот разрыв, вознесло его
на ступень крайней обостренности, реализовав культ антижизненного бога.
Жизненным же богом был и всегда оставался для Ницше Дионис. Но для боль-
шинства людей этот разрыв жизни и культуры никакой трагедией не был. На-
против, он переживался скорее, считает Ницше, как моральный прогресс. Точ-
нее, он даже и не воспринимался как разрыв, а наоборот, в морали добра и
разума, в рационалистической этике, в идеалах платонизма и христианства (хри-
стианство, по Ницше, это «платонизм для народа») жизнь переживалась как
стихия, долженствующая подчиняться нормам высших ценностей, конечным
источником которых в христианстве считался трансцендентный Бог. Иными
словами, то, что для Ницше выступило кричащим разрывом, направленным
Культурность культуры для Ницше, впрочем, меряется максимумом ее антикультур-
ности или природности (еще один парадокс). Культуру как результат дрессировки жизнен-
ных инстинктов разумом и моралью он заключает в кавычки (как «приручение»). Этот ход
мысли сближает Ницше с Руссо [№ 684].
19-3357
290
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
против ценностей жизни, для большинства людей обнаружилось как законо-
мерное подчинение высшему низшего (жизни —разуму, земли — небу, воли —
рассудку, твари — Творцу). По Ницше, ситуация такого как бы двойного раз-
рыва (Христос довершает дело Сократа) и служит истоком как опасного упад-
ка самой жизни (причина декаданса), так и упадка культуры (сам декаданс).
Особенно остро все это раскрылось, говорит философ, в XIX столетии, в
век демократической цивилизации прогресса. Он отмечает в связи с этим рост
противожизненной эрудиции («филистер образования» как социальный фено-
мен, его примером, по Ницше, служит крупный ученый Штраус), всеобщую
механизацию жизни, превращение людей в «винтики» социальных и произ-
водственных машин, делающих их частичными людьми (здесь сходство с Мар-
ксом бросается в глаза), падение силы творчества и, напротив, восхождение
реактивных талантов, умаление достоинства индивида, наконец, та самодоволь-
ная пошлость и стадность, в язвительных выпадах против которых Ницше со-
лидаризируется с другими критиками буржуазной цивилизации (например, с
К. Леонтьевым).
Свою миссию как спасителя культуры и, главное, целителя жизни Ницше
видит в том, чтобы восстановить живое тождество жизни и культуры пример-
но так, как оно наличествовало, по его мнению, в досократической Греции, в
культуре, развертывающейся вокруг дионисийских мистерий. Следуя зову та-
кой миссии, Ницше выдвигает свои ключевые идеи-символы, идеи-мифы (сверх-
человек и вечное возвращение). По отношению к ним идея воли к власти вы-
ступает как более доступная для последовательной наукообразной концептуа-
лизации. Правда, подобному замыслу в полной мере сбыться не удалось. Мифы
и философемы Ницше, crescendo рвущиеся к предельно ясному воплощению,
в том числе миф о бесцельной жизни как о хаосе борьбы центров воли к влас-
ти, не способствовали его душевному равновесию и здоровью. Исповедуя «все-
мирную дробность» враждующих сил, ставя под сомнение всякий единящий
смысл, высмеивая логику и пародируя традицию, дезавуируя истину в пользу
заблуждения, превознося иллюзию и силу в ущерб разуму и праву, Ницше не
мог не надорваться в этой претенциозной активности, нацеленной на то, чтобы
в условиях такой онтологии дать человеку новые ценности, способные вооду-
шевить его на твердое «да!» абсурду бытия.
Сделав эти необходимые, рамочного типа замечания, обратимся теперь к
раскрытию тех концептуальных ходов, явно сделанных Ницше, в которых об-
наруживается его понимание жизни, ценности и, главное, их связи. Уже при
первом существенном вопрошании о соотношении принципа жизни с принци-
пом воли к власти мы сталкиваемся со своего рода кругом и противоречием.
Действительно, Ницше явно истолковывает все сущее (бытие) как жизнь. Имен-
но жизнь и только она для него единственно приемлемый образец и масштаб
Жизнь как ценность: опыт Ницше
291
для понимания и оценки того, что значит существовать. «Бытие — мы не име-
ем никакого иного представления о нем как: "жить". Как же может "быть"
что-нибудь мертвое?» — вопрошает он [№ 582]. Само бытие мертвого пред-
ставимо только через бытие живого, через жизнь. Мертвое постигается как
безжизненность — как оцепенение жизни, над которым еще витает ее отблеск,
доносящий до нас саму идею мертвого. Это тезис виталистической онтологии
и метафизики. Действительно, жизнь выступает как центр мысли философа.
Она не подводится безоговорочно и под понятие воли. Ницше восстает против
шопенгауэровской метафизики воли, выступая адвокатом жизни («Сумерки идо-
лов», 1888). Казалось бы, примат жизни установлен безоговорочно и оконча-
тельно. Но Ницше верен себе и здесь — верен своей антисистемности. Он хо-
чет быть не только философом жизни, но и метафизиком воли к власти. И в
соответствии с этим жизнь оказывается лишь одной из форм воли к власти.
«Жизнь, — говорит он, — есть частный случай, нужно оправдывать всякое су-
ществование, а не только жизнь, оправдывающий принцип это такой, из кото-
рого объясняется жизнь» [№ 706]. И что же это за высший принцип? Это, оче-
видно, принцип воли к власти, действительно явно получающий у Ницше все
признаки метафизического, т. е. последнего основания и принципа. Так, на-
пример, говорит он, «воля к власти не может возникать» [№ 690]. «Жизнь, —
подчеркивает мыслитель, — только средство к чему-то: она есть выражение
форм роста власти» [№ 706]. Сведение жизни к одному из частных проявлений
роста воли к власти явно противоречит тому, что утверждалось как виталисти-
ческая онтология, когда бытие не-живого отрицалось однозначным образом.
Нет, говорит теперь Ницше, есть и неживое, подводимое под более общий прин-
цип, чем жизнь — под принцип воли к власти. Такова вся неживая природа, в
которой тоже действует этот принцип.
Итог этим противоречивым высказываниям философа мы могли бы подвес-
ти таким образом: в основании философии жизни Ницше лежит метафизика
воли к власти. Философствование и метафизика здесь не совпадают в бескон-
фликтном тождестве, как это обычно предполагается для классической тради-
ции. Эмоционально, экзистенциально Ницше — с «жизнью», он сам себя мыс-
лит и воображает сосредоточием жизни, ее искупителем и целителем. Но
как интеллектуальная категория жизнь у него подчинена концепту воли к вла-
сти, играющему роль последнего основания метафизической системы. Здесь, в
текстуре самой мысли Ницше, мы видим, как расходятся у него экзистенци-
ально-личностная самоидентификация, с одной стороны, и интеллектуально-
понятийная — с другой. Но опять-таки это не означает, что жизнь у Ницше
не концептуализируется. Ницше сознательно выбирает определенную форму
биологистического принципа для наполнения своего витализма. И здесь опять
ведущим мотивом выступает выбор культур-исторического идеала, осознание
19*
292
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
Ницше своей миссии как воскрешения изначальной «культурожизни» или «ви-
токультуры», о чем мы уже сказали выше.
«Школа Дарвина», безусловно, не могла не повлиять на Ницше, особенно в
его позитивистский период. Но в 80-е годы он приходит к другому пониманию
жизни, не без влияния такого биолога, как В. Рольф, подчеркнувшего ограни-
ченность мальтузианской схемы для понимания жизни и неизбывность борь-
бы «за умножение жизни», а не за выживание, которая должна была бы пре-
кратиться там, где жизни живого существа уже ничего не грозит 21. Но главным
фактором выбора недарвиновского биологистского принципа была не критика
дарвинизма философствующими биологами вроде Рольфа, а, как мы сказали,
витокультурная миссия, носителем которой осознавал себя Ницше. Биологи-
ческий принцип должен говорить не о сохранении жизни благодаря пассивной
адаптации к среде как нормы поведения, а наоборот, о ее рискованном расши-
рении, стремлении к усилению, подъему, росту власти и творческому господ-
ству над средой. Только такого рода биологизм может быть сублимирован, счита-
ет Ницше, в новые высшие ценности. Литературной иллюстрацией подобного
биологизма выступает Заратустра, «всегда пародировавший прежние ценнос-
ти, опираясь на избыток своих сил» 22. В связи с такими ориентациями Ницше
резко критикует механицистскую23 подоплеку дарвинизма: «Влияние "внешних
обстоятельств", — пишет он, — переоценено у Дарвина до нелепости: суще-
ственным в процессе жизни представляется именно та огромная созидающая
изнутри формы сила, которая обращает себе на пользу, эксплуатирует "вне-
шние обстоятельства"» [№ 647]. Направление эволюции должно определять-
ся, по Ницше, не экономией и приспособлением, не триумфом посредственно-
сти и стадности, а ростом способности к самой щедрой творческой трате жиз-
ненных сил. Такой тип биологизма свидетельствует о никогда не умиравшем у
Ницше дионисизме его общего культур-исторического идеала, в соответствии
с которым именно такая трата сил на гребне их бурного творческого подъема
выступает как критерий жизненной ценности культуры и индивида. Главное в
жизни, как ее понимает Ницше, не в том, чтобы приспособиться, механически
перегруппироваться, «смимикрировать» умно и ловко, чтобы удержаться на
поверхности, а в том, чтобы сотворить новое, более высокое, более полное
могущество. Это биологизм эстетизированной мощи, безудержности творче-
ской силы. Если даже подобного рода научной биологии и не существовало, то
21 Риккерт Г. Философия жизни. Пг., 1922. С. 74—88.
22 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1910. Т. 9. С. 296.
23 Однако механицизм, и притом самый чудовищный, возвращается у него вместе с иде-
ей вечного возвращения: саморазорванность разума или самопротиворечивость, по исти-
не, рок этого мыслителя.
Жизнь как ценность: опыт Ницше
293
для Ницше тем не менее важно, чтобы биология как знание о жизни воспри-
нималась как мораль, а ее законы как каноны сознательной установки живу-
щего, который должен персонифицировать себя с самой сущностью живого.
Здесь опять мы отмечаем некоторую аналогию с Марксом, который хотел из
объективных законов политической экономии сделать своего рода моральный
кодекс революционера. Подобно ему Ницше стремился перевести научные не-
обходимости биологии в план сознания и свободы человека, сделать их миро-
воззренчески-мотивационным его ядром. При этом они, конечно, модифици-
ровались, что и проявилось в его критике дарвинизма. Ницшевский витализм
изначально активистичен и аксиологичен, что отличает его от витализмов пре-
жних эпох, в которых жизнь понималась как космическое явление, например,
от витокосмизма Платона или Бруно.
С понятием жизни, как было сказано, связано понятие ценности, одно из
основных у Ницше. В основе операции оценивания лежит своего рода аксио-
логический круг: придавать ценность чему бы то ни было может то, что само-
ценно. Иными словами, ценность должна быть предположена, что, вообще го-
воря, уже противоречит идее ценности как именно тому, что полагается лишь в
отношении к чему-то (перспективизм). Самоценна же, по Ницше, говоря мета-
физически, воля к власти, а говоря социологически, аристократия. Оценка —
прерогатива господ. Знатные люди как бы в силу своей знатности (их знают
потому, что они знают суть жизни) знают вещи в их сути (суть их в некотором
смысле, по Ницше, в том, что «сути» нет, по крайней мере в смысле классичес-
кой метафизики) и поэтому могут их оценивать, причем их жизненная мощь
способна принудить к принятию их оценок других людей и тем самым устано-
вить в обществе витально оправданный и эстетически значимый порядок. Вкус
знати выступает у Ницше легитимным законодателем культурных предпочте-
ний общества. Сама жизненность жизни, персонифицированная в фигуре ари-
стократа, благородного представителя касты господ — над собой и над други-
ми, — и есть источник ценностей, их полагания и созидания.
Если на уровне последнего метафизического основания употребление Ниц-
ше понятий жизни и воли к власти и создает видимость некоторого дуализма,
то при переходе на уровень анализа понятия ценности мы убеждаемся, что эта
двойственность иллюзорна. Действительно, ценность есть в равной мере ха-
рактеристика и жизни, и воли к власти. Категория ценности следует из таких
онтологических предпосылок Ницше, как замена вещей или субстанций дина-
мическими центрами сил, вступающими друг с другом в отношения борьбы,
соперничества, использования, подчинения и т. п. Ценность — характеристи-
ческий сущностный атрибут воли к власти как метафизического принципа. «Все
оценки, — говорит Ницше, — только следствия и более узкие перспективы на
службе у этой единой воли. Само оценивание есть только эта воля к власти»
294
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
[№ 675]. Кстати, «единство» воли следует как раз поставить под сомнение. О
единстве воли можно говорить, пожалуй, применительно к учителю молодого
Ницше — к Шопенгауэру. Но не к позднему Ницше. Воля к власти у него, на-
против, множественна, дробна: «Каждый центр сил, — говорит он, — имеет
по отношению ко всему остальному свою перспективу, то есть свою вполне
определенную оценку, свой способ действия, способ сопротивления» [№ 567].
Если в живописи прием перспективы состоит в упорядочивании предметов по
придаваемым им линейным размерам ради показа их дистанции от наблюдате-
ля, то в метафизике воли к власти каждый центр такого рода выстраивает вок-
руг себя целый мир ради роста своей власти к борьбе с другими подобными
центрами. Перспектива у Ницше — своего рода табличный результат расчета
полезности вещей для некоторого витального центра сил. Когда Ницше гово-
рит, что «применение морального различия имеет лишь значение перспекти-
вы» [№ 272], то он хочет этим сказать, что моральных «вещей» не существует,
что мораль существует только как оценка, как эффект перспективы для опре-
деленного центра воли к власти. Иными словами, перспективистская природа
морали лишает ее какой бы то ни было онтологической значимости. Бытие, по
Ницше, имморально, «по ту сторону добра и зла». Итак, перспективизм цент-
ров сил, ведущих себя если и не как настоящие живые существа, то явно жиз-
неподобным образом, и полагает условия для того, чтобы в мире возникали и
действовали оценки.
В самом общем виде можно сказать, что ценность есть характеристика из-
бирательности действия принципа жизни как воли к власти. Уже сам мир ка-
честв есть поставленная под перспективизм реальность воли к власти. В этом
смысле аксиологизм ницшевской картины мира вытекает изреляционизма: каж-
дое сущее видит другое сущее глазами своего витального интереса. И истин
столько, сколько глаз. Следовательно, заключает Ницше, истины не существу-
ет. Но подобный релятивистский тезис противоречив: как тезис он имплицит-
но признает истину, которую эксплицитно отрицает. Противоречие гносеоло-
гии Ницше можно выразить еще и так: он стремится элиминировать понятие
истины, сохранив, однако, при этом его противопонятие — заблуждение. Фак-
тически он заменяет эти основные классические гносеологические категории
идеей ценности и перспективизма, выступающей для него своего рода тараном
против классической философии в целом. Если оценки являются решающим
фактором в вопросе об истине, то это значит, что ими же определяется и то, что
зовется реальностью. «В какой мере отдельные теоретико-познавательные
учения (материализм, сенсуализм, идеализм) являются следствиями оценок:
источник высших чувств удовольствия («чувств ценности») является решаю-
щей инстанцией также и для проблемы реальности!» [№ 580]. Не разум с его
объективной истиной, а именно «чувства ценности» или жизненной пользы,
Жизнь как ценность: опыт Ницше
295
витальным смыслом нагруженные аффекты суть своего рода «окна» в реаль-
ность. Критерий истины, а значит, и реальности, говорит Ницше, — исключи-
тельно «биологическая полезность» [№ 584].
Однако биологицистская подоснова оценивания должна быть проинтерпре-
тирована. И Ницше это делает в рамках своего недарвинистского принципа
направленности эволюции, определяющего в то же время жизненность жизни.
В соответствии с ним ценностно организованный мир, «урегулированный и
подобранный по ценностям», это мир, рассматриваемый с точки зрения «по-
лезности в смысле сохранения и возвышения власти определенного зоологи-
ческого вида» [№ 576]. Биологический масштаб для конкретного построения
метафизики воли к власти здесь очевиден. С одной стороны, частно-научное
биологическое знание превращается тем самым в метафизическое философ-
ское учение, а с другой — оно явно деформируется Ницше благодаря учету его
транснаучных императивов и требований, прежде всего требований его куль-
тур-исторического идеала, эстетизма его мировоззрения, против которого по-
зитивистски-сциентистские увлечения автора «Заратустры» оказались в конце
концов бессильными. Еще более ясно мысль о критерии оценивания выражена
в таком фрагменте: «В оценках находят свое выражение условия сохранения и
роста» [№ 507]. Точкой отсчета в создании ценностных картин мира (суще-
ственно, что их много) является отнесение всего сущего к условиям сохране-
ния и роста данного сущего («центра сил»). И другого мира, кроме того, что
видится в зеркале индивидуального оценивания, не существует. Так называе-
мый «истинный мир» (например, мир платоновских идей, равно как и мир клас-
сического материализма) это именно вымышленный мир, но вымышленный
ради каких-то целей и полезностей, т. е. мир, преломленный оценивающим.
«Мы спроецировали, — говорит Ницше, — условия нашего сохранения как
предикаты сущего вообще. Из того, что мы должны обладать устойчивостью в
нашей вере, чтобы преуспевать, мы вывели, что "истинный мир не может быть
изменчивым и становящимся, а только сущим"» [№ 507]. Этот аксиологиче-
ский редукционизм по отношению к истине вписан в метафизику воли к власти,
действующую в философии жизни Ницше. Я снова подчеркиваю тождество
воли к власти и жизни на уровне аксиологического подхода. Действительно,
«ценность для жизни, — замечает Ницше, — является последним основани-
ем» [№ 493]. А высказывания о том, что «само оценивание есть воля к власти»
[№ 657], мы уже приводили.
Не следует думать, однако, что Ницше ограничивается этим узким кругом
избирательного и деформирующего переноса элементов биологического зна-
ния в свою философию, пролагая путь прагматизму и постмодернизму XX в.
Нет, он широко применяет свои метафизические положения в критическом
анализе современной ему европейской культуры. Прежде всего он типологизи-
296
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
рует ее ценности соответственно основным биологицистски и даже физиоло-
гицистски определяемым различениям. Так, например, Ницше различает цен-
ности сильных и ценности слабых, ценности жизни восходящей и жизни, кло-
нящейся к упадку. Более того, он не ограничивается статикой подобных типо-
логий систем ценностей, а применяет их для описания динамики культуры в
истории. И именно в этом он видит свои важнейшие открытия: «Я открыл, —
пишет Ницше, — что все высшие ценности, господствовавшие над человече-
ством, по крайней мере, над укрощенным человечеством, могут быть сведены
к оценкам истощенных» [№ 54]. Свое открытие он подробно развивает в рабо-
те «К генеалогии морали» (1887), разбирая механизм «восстания рабов в мора-
ли», когда ценности плебейские вытеснили ценности аристократические, по-
лучив при этом ореол универсальности, нимб «общечеловеческих» ценностей
(Ницше прежде всего имеет в виду ценности христианской культуры). «Суж-
дения истощенных, — говорит он, — проникли в мир общих ценностей» [№ 54].
В такого рода суждениях и проявляется то экзистенциально наполненное ак-
тивное отождествление себя с жизнью и культурой в их предполагаемом тож-
дестве, о котором мы уже сказали выше.
Какие же конкретно сдвиги в проблематике ценности жизни характеризуют
позицию Ницше по отношению к позиции его предшественников, обсуждав-
ших ее, в частности Дюринга? Отметим здесь два момента. Во-первых, вся
тематика жизнеотрицания, обычно подвёрстывающаяся под философский пес-
симизм, уходит у Ницше, подвергается критике, заменяясь проблемой нигилиз-
ма. Для Ницше речь идет уже не о том, что пессимизм угрожает жизни, ее
полноте, здоровью, творческим силам человека. Нет, «самым жутким из всех
гостей», когда-либо посещавших человечество, является нигилизм, а песси-
мизм, упадничество —только его частные симптомы. О нигилизме после Ницше
написаны целые библиотеки. Мы кратко определили бы суть этого фундамен-
тального явления так: нигилизм — «зависание» человека между двумя пози-
циями, между, с одной стороны, утратой веры в «истинный мир» (это кавычки
Ницше, не наши) традиционной религии и философии, а с другой — еще не
наделенной оправданием, но уже проснувшейся верой исключительно в посю-
стороннюю жизнь, в «действительный, настоящий мир» (это наши кавычки).
Итак, между выдохшимся антижизненным смыслом (так считает Ницше) и
бессмысленной, но полной сил жизнью — вот позиция нигилизма, позиция
перехода, отплытия от старой гавани без, однако, приплытия к новым надеж-
ным берегам. И цель Ницше как спасителя культуры и целителя жизни в том,
чтобы достичь этих берегов, водрузив «новое небо» над новой землей, к кото-
рой человек современности явно прибивается всем потоком истории с ее цент-
ральным событием — с богоубийственным закатом религий и метафизик.
Жизнь как ценность: опыт Ницше
297
Во-вторых, и это связано с первым моментом, Ницше переоценивает са-
мое соотношение сферы смысла и сферы жизни в пользу последней. Сферой
смысла мы называем мир идеалов, высших моментов сознания, духа, религи-
озных и нравственных ценностей. Сфера жизни, по Ницше, определяется
рамками метафизики воли к власти 24. И вот Ницше радикально и безогово-
рочно провозглашает примат жизни над смыслом. Он применяет для обозначе-
ния этого превосходства такие слова: жизнь есть цель, а сознание — только
средство для нее. Сам этот ход мысли нам хорошо знаком — по «Немецкой
идеологии» Маркса и Энгельса. Радикальный материализм или натурализм
(мера его историзации здесь не важна) выступает против всей метафизики и
идеалистической традиции, куда присоединяет и религию: вот смысл этого
поворота. Отшельник из Сильс-Марии опять протягивает руку автору «Капи-
тала». Если соответствующие цитаты из классиков марксизма более-менее
широко известны, то аналогичные ницшевские высказывания известны все
же меньше. Поэтому процитируем ключевые из них: «Сознательный мир, —
говорит Ницше, — не может считаться исходным пунктом ценности... Мы
не имеем никакого права считать этот клочок сознательности целью целого
феномена жизни, его "почему". Совершенно очевидно, что сознательность
есть только лишь средство для развития жизни и расширения ее власти. По-
этому наивно было бы возводить удовольствие, или духовность, или нрав-
ственность, или какую-нибудь другую частность 25 из сферы сознания на сте-
пень верховной ценности и, может быть, даже с помощью их оправдывать
"мир"... Это мое основное возражение против всех философско-моральных
космодицей, против всяких "почему", против высших ценностей прежней
философии и философии религии. Известный вид средств был неправильно
взят как цель, жизнь и повышение власти были, наоборот, низведены до уров-
ня средств» [№ 707]. По отношению к Дюрингу, символизирующему непос-
ледовательность позитивизма и материалистического редукционизма, это
означает, что Ницше отбрасывает всякий «моралин» в такого рода позитивиз-
ме и доводит тем самым его до конца, благодаря чему уже не нужно быть
«заподозревателями жизни» [№ 116], правда, ценой постановки под самое
радикальное подозрение всей сферы смысла. Подозрение (это слово выража-
ет суть ментальной мироустановки), таким образом, лишь меняет свой век-
тор (на 180 градусов).
2 «Известное количество сил, связанных общим процессом питания, мы называем "жиз-
нью"». Этот процесс предполагает 1) противодействие другим силам, 2) приспособление,
3) их оценку [№ 641]. Все это и означает, что жизнь есть «воля к власти» [№ 254].
25 Пафос всеобщности соединяет Ницше со всей традицией немецкой философии, но
видит он ее не в разуме и логике, а в алогичной жизни.
298
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
У Ницше жизнь никогда не подозревается и не ставится под вопрос: она у
него всегда права и за ней ничего другого не предполагается. Напротив, все
остальное должно получить у жизни, через свою связь с нею, через свое соуча-
стие в ее работе, свое оправдание. Жизнь у Ницше — своего рода имманент-
ный бог, сама реальность как таковая в ее самоактивном сосредоточии, в ее
непостижимости, в ее безусловном превосходстве над всякой своей концепту-
ализацией и осмыслением 26. Жизнь борется, распространяется, растет, риску-
ет, цветет, гибнет. Она всегда стремится к своему расширению и самоутверж-
дению, к усилению, умножению мощи или власти... Невольно вспоминается
при этом тот саморастущий «коралл», который под именем капитала изобра-
зил в своей теоретической эпопее Маркс. Сходство Марксова капитала с ниц-
шевской жизнью очевидно. Но существенно и, по крайней мере, одно отличие
(помимо других, тоже важных): Марксов капитал движется к самоупраздне-
нию, а ницшевская жизнь, напротив, к самоутверждению в сверхчеловеке и
вечном возвращении того же самого. Но обе «живые» субстанции одинаковым
или сходным образом ответственны за все фантомы сознания — за фантом со-
знания как такового. Бездна бытия или бытие как бездна (как «глубокое» жиз-
ни и труда), раскрывшееся перед европейцем в конце классической эпохи (ко-
нец XVIII — начало XIX в.) обнаружилось в этих саморастущих «чудовищах»,
наукообразная форма подачи которых не смогла затенить их (анти)утопиче-
ское мифологическое значение в судьбе цивилизации Запада. Ницше, правда,
только страстно стремился к научному обоснованию своих поздних мифоло-
гем. Маркс же далеко продвинулся по пути сциентификации своих видений
«глубины» мира.
По Ницше, наиболее близкими к самой жизни способами ее схватывания
выступают в конечном счете интуиция и инстинкт — полномочные представи-
тели жизни в мире познания. Разум и рассудок он стремится «прочитать» тоже
сквозь виталистические концепты — через инстинкты жизни, стремление к
самосохранению, выживанию и, главное, росту силы. В этих моментах фило-
софия жизни Ницше пролагает путь для прагматизма и подобных ему истолко-
ваний познания.
Два понятия, как минимум, нужно иметь в виду, когда мы пытаемся пред-
ставить себе, что же понимал Ницше под жизнью. Это, во-первых, становле-
ние и, во-вторых, величие. Алогическое становление прежде всего величествен-
но — «цинично и непорочно», наделено мощью, самостоянием и поэтому до-
стоинством и независимостью. Кроме того, с жизнью как волей к власти у
Ницше связывается тема априорной трагедии в основании мира, неизбежно
Ницше, однако, ее жестко концептуализировал, как мы видели. Еще одно противоре-
чие его философии жизни.
Жизнь как ценность: опыт Ницше
299
открываемая при постижении его правдивым взглядом. Различие между вели-
чием и трагизмом примерно таково: трагедия — это план онтологии (онтоло-
гия рока или судьбы), а величие — деонтологический план, т. е. то, к чему над-
лежит стремиться, чем должно быть, чего следует добиваться. Если величие —
мера для оценивания живущих, то трагедия — характеристика жизни под вла-
стью рока. Величие означает высоту жизненного и, значит, культурного ранга,
самодостаточность, красоту и мощь. Величие, в конце концов, в том, чтобы
вынести трагедию бытия, даже абсурд, сказав ему звонко «Да!» (принцип amor
fati).
Над жизнью и творчеством Ницше витает презумпция, что результат позна-
ния непременно должен быть трагическим, что истина чудовищна и не несет с
собой ни утешения, ни красоты, ни тем более блаженства. Правда жизни —
страшна и сурова. Априорные условия возможного опыта по познанию мира
можно определить только в терминах ужаса и трагедии. Опыт тождествен «гру-
стному опыту» 27. Итак, познание у Ницше изначально поставлено в перспек-
тиву трагедии. Почему? При попытке ответить на этот вопрос нужно иметь в
виду и наследие шопенгауэровского пессимизма, и собственный личный опыт
философа богатый разного рода разочарованиями, опыт романтика в эпоху по-
стромантизма. Это, наконец, и результат раннего и по-ницшевски надрывного
разрыва с христианством. Last but not least.
Величие жизни в том, что она существует (должна существовать), по Ниц-
ше, без Бога, без какой бы то ни было поддержки со стороны трансцендентных
высших энергий. В том, считает Ницше, ее достоинство. Правда, он не отрица-
ет за религией, за культурой монастырей в частности, важной роли в воспита-
нии человека с аристократическим комплексом качеств — этому служат дис-
циплина, строгий этикет, тренаж души и тела, суровость к себе, закалка и т. п.
Все эти качества он оценивает позитивно, противопоставляя человека, про-
шедшего такую школу, современному секуляризованному человеку с чрезмер-
ной изнеженностью, переутонченностью, большой нервной возбудимостью, с
пониженной энергией жизни и творчества, т. е., одним словом, «декаденту».
Но, с другой стороны, мы знаем, что именно христианская религия есть, по
Ницше, один из главных источников декаданса. В этом обнаруживается еще
одно из многочисленных нами отмечаемых противоречий немецкого филосо-
фа, усвоившего себе внутренне несовместимые ценностные позиции (критика
современности с ее научным атеизмом и одновременно критика религиозного
сознания). Ницше, может быть, устроила бы религия без религии, точнее, без
Кстати, не есть ли это то самое «оклеветание жизни», с которым так страстно борется
сам Ницше? Еще одно противоречие его философии. (См.: Ницше Ф. Собр. соч. Т. 2. Поту
сторону добра и зла. С. 136.)
300
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
трансценденции — религия земли, благочестие чистой посюсторонности. Он
и попытался выработать именно такое «благочестие», создав его символичес-
кий каркас — вечное возвращение и «сверхчеловека».
Интеллектуальная ошибка Ницше при концептуализации жизни в том, что
он обеднил многомерное (и разномерное) понятие жизни, превратив его в ка-
тафатическое биологицистское понятие, отбросив его апофатическую глубину
и антиномическую структуру. Суть антиномизма понятия жизни предельно
кратко можно обозначить как совмещение (и удержание) в нем формально-
логически, как это кажется, взаимоотрицающих друг друга тезиса и антитези-
са. Шаг Ницше состоял в том, что он принял только тезис, отказавшись от анти-
тезиса. О каком тезисе идет речь? Вот как его формулирует сам Ницше:
«Жизнь, — говорит он, — кончается там, где начинается "Царствие Божие"» 28.
Антитезис, соответственно, должен звучать так: жизнь начинается в Царствии
Божием («Я есмь путь, истина и жизнь» — Ин 14: 6). Иными словами, Ницше
отказался от трансцендентного измерения жизни, сведя ее всецело к рассудоч-
ной имманентности (вопреки своему собственному романтизму). От вечности
жизни у него осталась только ее ходульная выморочная тень в виде вечного
возвращения того же самого, являющегося на самом деле триумфом не жизни,
а плоского механицизма, поглотившего мир. Жизнь как мистерия, тайна, как
объемлющее и пронизывающее мир начало всеобщей одухотворенности, что
знали, кстати, досократики, которым он симпатизировал (например, Фалес или
пифагорейцы), все это он полностью исключил из состава своего понятия о
жизни в пользу одномерного динамического механицизма воли к власти. По-
ложив в основу своей философии искусственную и не-жизненную пару сужде-
ний (жизнь — антибожественна, бог — антижизнен), он создал явно искажаю-
щую суть дела конструкцию, облегчающую работу мысли и производство
соответствующего морального пафоса, подчеркнуто имморалистического и ан-
тиморального. Почему он так поступил? Потому что не любил божественное
как таковое, а любил только «человеческое, слишком человеческое», не дога-
дываясь о нерасторжимой связи одного с другим? Или это был просто ресен-
тимент в адрес христианской морали, для которого в его жизни, вероятно, были
основания? Так как его антихристианство действительно было злым и неисто-
вым, то можно сказать, что не исключена и такая версия. Однако мы не можем
здесь решать этот вопрос. Нам важно только подчеркнуть логическую несо-
стоятельность понятия Ницше о жизни.
Отметим еще одно противоречие философии жизни Ницше. Преклоняясь
перед дионисийством греков, он истолковал жизнь как хаос сил, или динами-
ческий «хаосмос» (как бы осмос хаотизирующих мир сил вместо космоса как
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 575.
Жизнь как ценность: опыт Ницше
301
гармонии). Но даже его любимые досократические мыслители (к Гераклиту он
был особенно неравнодушен) понимали мир именно как космос, т. е. как пре-
красный порядок и слаженность всего со всем, поддерживаемый логосом, ну-
сом или разумом. Все они были космоцентристами, в то время как сам Ницше
явно — «хаоцентрист». Его индивидуалистический витализм воли к власти
тяготеет к онтологической анархии и акосмизму. У греков же, напротив, инди-
видуальное как частное, частичное и отколовшееся от целого было подчинено
суровому суду логоса и номоса (знаменитый фрагмент Анаксимандра красно-
речиво говорит о том).
Одним из источников противоречивости философии жизни Ницше высту-
пает несогласованность его подходов к оценке явлений. В частности, его био-
логизм, витализм и эволюционизм не всегда согласуются с его эстетизмом (мир
оправдан как эстетическое явление). Вот один только тому пример. Для Ницше
как эволюционистского биологициста атеистическое общество будущего пред-
ставляется высшим по отношению к обществу, в котором господствует рели-
гия. «Богоубийство», о котором кричит безумец из «Веселой науки» [№ 125], —
величайшее событие, после которого должна наступить «высшая» история (по-
добно тому как у Маркса после победы пролетарской революции). Но рассмат-
ривая историю с эстетической точки зрения и обращая внимание на то, что
древнее человечество умело освящать повседневную жизнь светом божествен-
ного, Ницше признает, напротив, большую высоту древних обществ по сравне-
нию с современным: «Все переживания светились, — говорит он, — иначе,
ибо некое Божество просвечивало из них. Мы наново окрасили вещи, мы не-
престанно малюем их — но куда нам все еще до красочного великолепия того
старого мастера! —я разумею древнее человечество» 29.
Итак, мы видим, что исходные позиции для производства оценок и сужде-
ний не всегда у Ницше согласуются между собой. Его эстетизм заставляет его
более чутко и взвешенно относиться и к христианской культуре, что вполне
вписывается в образ Ницше-романтика. Однако ницшевский биологизм с его
жестким редукционизмом по отношению к христианской морали, его волюн-
таризм и преклонение на этой основе перед язычеством древних определяют
прямо противоположные оценки.
Что же произошло в результате всех этих коллизий жизни и ценности у
Ницше? Ценности здесь выступают как то, что дает смыслу возникнуть: жизнь,
реализующая ценности, является осмысленной. «Красивое» устранение «ис-
тинного мира» (а то, что эстетические аргументы или соблазны были здесь не
последней сиреной, доказывать не приходится), включая «богоубийство», Ниц-
ше разрисовывает пусть и трагическими, но по-своему привлекательными крас-
Тамже. Т. 1.С. 604.
302
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
ками спасения жизни. И иначе и быть не может, раз «истинный мир», как он
говорит, был «опаснейшим покушением» на жизнь [№ 583в]. Получается, что
для спасения жизни нужно убить ее смысл! Оправдание этого парадоксально-
го хода мысли ясно: смысл, мол, пришел в негодность, в упадок, вера в него
утратилась, он стал антижизненным (по Ницше, он с самого начала, генеало-
гически был таковым). Ницше остается в плену ложной и трагической дилем-
мы: или опасное покушение на саму жизнь (со стороны смысла), или не менее
опасное покушение на смысл (со стороны защищающейся жизни). Из такой
дилеммы не было выхода, кроме попытки создания нового смысла — начерта-
ния скрижалей новых высших ценностей. В этом и состоял его рискованный
эксперимент с переоценкой всех ценностей. Подчеркнем: ценность как пози-
ция, как идея и функция не была при этом преодолена. Переоценке была под-
вергнута не сама идея ценности как таковая, а только ее конкретное наполне-
ние. В результате метафизика субъекта как метафизика ценностности осталась
не преодоленной.
Эксперимент с высшими ценностями: урок Ницше
Задача, которую ставил перед собой Ницше, была по сути дела неисполни-
мой. Действительно, он хотел идти до конца в разоблачении всех высших цен-
ностей, прежде всего религиозных и нравственных. Но «освободив» человека
от нравственно-религиозных идеалов, он хотел возникавшим на их месте трак-
товкам человека как «больного зверя» придать все тот же идеальный пафос
или ореол. Кажется, что нет философа равного ему в способности разоблачать
мифы сознания. Но равным образом нет философа, столь же озабоченного и
созиданием новых мифов. Идеал был для Ницше подобен голове легендарной
гидры — сколько ни отсекает ее Геракл, она все равно тут же вырастает.
Подчеркнем еще раз: задача Ницше — сокрушить все прежние ценности с
водружением на их место новых — была в себе самой противоречивой. Ведь
предполагаемая смена ценностей сохраняла саму функцию ценности. Разобла-
чение идеалов оставляло нетронутой потребность в идеале. Остаться при од-
ной витальной жизни оказалось невозможным. «Больной зверь» нуждается в
излечении и для этого ему все равно нужны ценности, идеалы, идеи... В конце
концов и ценой собственного разума Ницше все же провел свой грандиозный
эксперимент с высшими ценностями. И этот опыт, надо признаться, провалил-
ся. Человечество не усвоило себе ницшеанских идеалов. Вечное возвращение
того же самого, сверхчеловек, воля к власти и «смерть Бога», открывшая путь к
этим идеям-мифам и освободившая для них место, стали не более чем симпто-
матикой глубокого кризиса культуры и человека, символами анонимно-машин-
ного прогресса секуляризованной цивилизации как техники покорения приро-
Жизнь как ценность: опыт Ницше
303
ды и обустройства «пристегнутого» к ней мира человека. Воля к власти как
метафизическое средоточие этого процесса стала, по слову Хайдеггера, «волей
к воле», так как какое-то особое содержание воли, отличное от нее самой, как
выяснилось, отсутствует. Но описав в общем-то горькую для человеческого
достоинства и жизни ситуацию, мифологемы Ницше, повторяю, не стали осоз-
нанными живыми идеалами людей, не стали содержанием их свободы.
Ницше претендовал, конечно, на всемирно-исторический поворот, в его во-
ображении (все больше погружающемся в гордыню) сопоставимый по своим
масштабам с событием боговоплощения. Но воплощением его «сверхчелове-
ка» оказался лишь европейский «технократ» и «империалист». Ницше не без
оснований был признан пророком ближайшего будущего Европы, ее очередно-
го исторического этапа — но не более того.
Ницше хотел, чтобы человечество окончательно рассталось с христиански-
ми началами цивилизации и перешло к началам языческим, к дионисийству, к
кастовому строю с воинствующей аристократией, исповедующей псевдорели-
гию земного могущества. Но и это сорвалось, даже в своем гротескном и кари-
катурном варианте, благодаря краху фашизма и коммунизма, говоря полити-
чески и исторически. В результате отрицательного итога этого эксперимента
(«событие Ницше») Европа подтвердила свое христианское основание как пер-
вое по рангу и значимости. Языческое греко-римское наследие было поставле-
но на свое место. И при этом скорее в своей, так сказать, аполлоновской, а не в
дионисийской версии.
На языке семиотических аналогий Ницше своей философией жизни хотел
как бы «кастрировать» символ, устранив из его структуры сферу значения,
оставив один только «знак» — одинокий человек на одинокой («без неба»)
земле. Его философская страсть к разрушению категориального мира за счет
устранения таких понятий, как «вещь», «субстанция», «бытие», привела его
к одностороннему аффекционизму по ту сторону даже и самой метафизики
воли к власти как чего-то цельного и единого. Но в результате всей этой се-
миотической «диверсии» познание и сознательная жизнь делаются невозмож-
ными — «висеть» на самих себе ощущения, переживания и атрибуты не мо-
гут. Аффектам нужен субъект. Становлению нужен становящийся, сохраняю-
щий свою идентичность. Мышление подобно магниту: пытаясь устранить
один из его полюсов, мы сталкиваемся с самовосстановлением его двупо-
люсности. Такова и природа символа и всей системы познавательных катего-
рий вообще.
Ницше попытался «небо» безо всякого остатка растворить в «земле», но при
этом саму землю сделать «небом» — идеалом, в котором не было бы и тени
трансценденции. Но земля была для него как «правда» и как «истина» трагеди-
ей: обезбоженность, пустота нигилизма, насилие, безысходность алчности и
304
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
смерти, войны и роскоши. И всему этому по логике ницшевского (анти)идеала
надо было говорить громкое «Да!», причем чем громче, тем лучше, ибо тем
мужественнее принятие жизни, тем благороднее позиция.
Но «небо» и «земля» — взаимосвязанные подсимволы целого символа: не-
возможно устранить один конец их связки, оставаясь при этом наедине с не-
тронутым другим. Связка при подобной операции самовосстанавливается. И,
действительно, после «крутых» ницшевских опытов «небо» только проясняет-
ся: «небесные» коннотации «земли» обретают новые силы и земная цивилиза-
ция с ее искренними или лицемерными заботами о правах человека, о научно-
техническом прогрессе, обо всем благоустроении человека на земле видится
«размокшей баранкой», плавающей в «молоке» небесной премудрости.
И мысль теперь понимает ясно: сама ее ясность в том, чтобы непостижимое
называть непостижимым и хранить тайну в качестве таковой. Мысль теперь
сама становится на свой пост, но уже не по разоблачению потустороннего, став-
шего якобы известным в его антижизненности и в его происхождении из посю-
стороннего, а по обретению неизвестного, недоступного для нее самой, но сим-
волически ценного для самого бытия человека человеком. Мысль простирает
теперь свою заботу если и не на полную действительность трансцендентного
(что превышает ее возможности), то, по крайней мере, на саму возможность
символической связи с ней. Иными словами, интеллектуальная честность мысли
(ницшевский, кстати, point d'honneur) теперь не в том, чтобы разоблачать свя-
тое и третировать священное как фикцию или иллюзию, а в том, чтобы ска-
зать: «Стоп! Здесь святое! Назад!»
Еще одна интеллектуальная ошибка Ницше, на наш взгляд, в том, что он
отождествил смысл с ценностью. Однако сфера смысла в отличие от ценнос-
ти неотделима от онтологического измерения. Вторжение самой идеи ценно-
сти в мир человека означает, что то, что выступало до того бытием, т. е. само-
сущим истоком себя и своего другого, превращено в нечто зависимое от но-
вого начала или того, что выступает таковым или принимается за таковое.
Мы говорим о ценности жизни, здоровья, религии, нравственности и т. п.,
имея в виду, что все это служит чему-то другому, входит в состав его обуслов-
ливания, в его «расчет». Что же это такое, если не человек как субъект сегод-
няшней цивилизации? Здоровье и сама жизнь человека ценны постольку, по-
скольку они необходимы для эффективного производства и поддержки циви-
лизации. Религия и нравственность нужны для поддержания социального мира
и опять-таки для правильного течения материальной цивилизации. Быть цен-
ностью — значит быть средством. Бытие же, напротив, есть идея (по край-
ней мере, бытие как идея) абсолютной цели (а не средства). Поэтому само
аксиологическое зрение, ценностное мышление —симптом чрезмерного «раз-
дувания» человека как субъекта, свидетельство опасного «злоупотребления
Жизнь как ценность: опыт Ницше
305
ипостасностью» (С. Булгаков). По отношению к смыслу ценность поэтому
выступает как его деградированный в силу чрезмерной субъективизации сино-
ним. Но Ницше отождествляет смысл и ценность [№ 1, 12, 113 и т. д.], прирав-
нивает его к ней. В результате возникает усеченный и доступный для произво-
ла субъекта ценностный знак или знак ценности, который может силовым ме-
тодом инвестироваться в вещи или изыматься из них. Поэтому герменевтика
Ницше оказывается по сути своей агрессивно-насильственной. Истолкование
как агрессия, насилие как результат и средство борьбы ничем не сдерживае-
мых сил стало постулатом его постструктуралистских последователей. Итак,
сила (произвола) субъекта властна, в конечном счете, над ценностью, но не над
смыслом.
Подведем итоги нашего анализа связи жизни и ценности в философии Ниц-
ше. Принимая к сведению уроки эксперимента Ницше с высшими ценностя-
ми, мы уже не можем считать жизнь как таковую всегда правой, не чувствуя
при этом высшей оправданности разумом и верой наставлять ее, выправлять ее
стихийные импульсы, оформлять ее хаотическое кипение. Иными словами,
эксперимент Ницше своим результатом способствует возвращению логосу тех
прав, в которых европейский человек усомнился. Опыт Ницше продемонстри-
ровал нам границы всех возможных философий жизни — они в себе не полны,
если не дополнены философиями логоса и разума. Жизнь, исходя из самой себя
в своей земной имманентности, бессильна дать себе действительно прочный
смысл. Сфера смысла превосходит сферу непосредственной изменчивой жиз-
ненности и тем более никак не может быть к ней сведена. Так мы можем сфор-
мулировать один из главных уроков, извлекаемых нами из опыта Ницше с пе-
реоценкой ценностей.
В качестве критического оружия против фальши и лицемерия, наслаиваю-
щихся на земных воплощениях сферы смысла, натурализм и витализм в духе
Ницше сохраняют свою относительную и условную значимость и сегодня. Но
надо ясно отдать себе отчет в том, что, проделав опасную работу каскадера
культуры, пытавшегося водрузить новые высшие ценности на месте старых, и
сорвавшись при этом, Ницше освобождает нас от необходимости повторять
его рискованные трюки на канате богоборчества.
Провал эксперимента Ницше с высшими ценностями, эксперимента, про-
водившегося им как бы от лица самой жизни, свидетельствует об устойчиво-
сти смысла как тоже своего рода жизни, устраняясь от которой, чисто биопо-
добная жизнь оказывается несостоятельной в своих претензиях на полагание
нового смысла, исходя только из самой себя.
Если социолатрия Маркса в результате эмпирически осуществленного кра-
ха основанной на ней и (на время) реализовавшейся утопии способствует осво-
бождению человека от прельщения социальностью, то сорвавшийся экспери-
20 - 3357
306
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
мент с высшими ценностями, проделанный Ницше, освобождает нас от без-
думного обожествления жизни как витального хаоса, от безоговорочного по-
клонения жизненным стихиям, от безоглядной витомании и биолатрии.
ФИЛОСОФИЯ НИЦШЕ
В СУМЕРКАХ НАШЕГО СЕГОДНЯ
Посвящается памяти Ал. В. Михайлова
Ал. В. Михайлов (1938—1995), знаток и переводчик Ницше, в связи со 150-
летним юбилеем немецкого философа предложил мне выступить с докладом в
Институте мировой литературы. Готовясь к этому выступлению, я заново пере-
читал Ницше, переизданному впервые с дореволюционных времен К. А. Сва-
сьяном. Результатом такого чтения и стали публикуемые ниже заметки, сгруп-
пированные в основном вокруг трех основных тем: проблема актуальности
Ницше в условиях русской культурной традиции, Ницше и христианство, Ниц-
ше и марксизм. Завершает эти заметки попытка извлечь культурологический
урок из творчества Ницше.
Лирический динамит
Свое отношение к Ницше при первом с ним знакомстве в 60-х годах я могу
передать словами Льва Шестова, изучавшего немецкого философа в конце про-
шлого века: «Провел последние недели в скучном обществе теоретических
философов, — пишет Шестов в мае 1900 г., — ...и опять в гостях у Нитше и
Достоевского. Это свои люди. С ними поссоришься, разбранишься — но уж не
проскучаешь» 1. Событие «нескучного Ницше», как и опыт В. В. Розанова, слу-
жило для меня оправданием в собственных глазах своего «маргинального»
писательства на стыке философии, поэзии и дневника, поддерживая веру в эссе,
в афоризм, в «застукивание» мысли in statu nascendi. Поэтому неслучайно, что
атмосфера ницшевских текстов сопутствует этим попыткам. Так, например,
Медитатор, «концептуальный персонаж» 2 одного из таких эссе, «хочет созна-
Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям совре-
менников. Париж, 1983. Т. 1. С. 47.
2 Выражение Делёза, характеризующее, например, метод философствования Ницше,
20*
308
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
тельно и бесповоротно... обмороков практического разума, светлых утренних
бдений, восторгов пера, радостей медленного чтения. Он любит... Ницше на-
перекор всем рационально-этическим "трезвым" его оценкам... Любит непред-
виденность слова, неожиданность поворотов мысли, любит создавать теорети-
ческие модели человека, сорить идеями, захлебываться и опьяняться ими» 3.
Игра с упругим словом, отскакивающим мыслью, упоение ее пестротой и гиб-
костью, склонность не столько к кабинетному ее развитию, сколько к созерца-
тельному и лирическому ее переживанию, пафос бездомных скитаний в дали
от стиснутой штампом и перешнурованной пользой официальной культуры —
все это несет на себе явный след Ницше. Вклад в эту лирическую утопию жиз-
ни как творчества внес вместе с Ницше, надо это отметить, и Гёте. Образ Ниц-
ше непроизвольно навязывается стихотворной иронической фантазии:
Посажу на телегу ли, в сани,
Поселю у себя, в Теплом Стане,
Хоть Эйнштейна, хоть Ницше, хоть Гёте —
Если им, конечно, охота.
Тридцать метров отменно квадратных —
Пусть решают. А то и обратно
По волнам Ахеронта катят
И за это еще приплатят.
Им, я знаю, придется туго,
Но зато обрету я друга...
Что же привлекло меня в Ницше при первом его прочтении? Я его воспри-
нял прежде всего как лирический динамит под казарменно-серой идеологизи-
рованной философией. Ницше прочитывался сквозь Маяковского: «Ненавижу
всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь!» Дело, в конце концов, было
не в том, что жанр трактата казался воплощением смерти, а эссе и афоризм —
самой жизнью. Нет, речь шла о внутренней омертвелости, равно поразившей и
трактат и эссе. Вульгаризированный до охранительного занудства отечествен-
ный марксизм, равно как и лишенный духовного экзистенциального опыта
профессорский (про)западный сциентизм, — все это в ярком средиземномор-
ском свете «веселой науки» выступило как упадок культуры, измельчание ума
использующего литературного героя в качестве персонификации захватившей его филосо-
фемы. См. об этом: Визгин В. П. Ницше глазами Делёза// Вопр. философии. 1993. № 4.
С. 47—48.
3 Визгин В. П. Человек и орудие. М., 1989. С. 43. См. также ниже с. 586. Цитируемые
далее стихи принадлежат автору данной работы.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
309
и духа в жерновах массового общества и тоталитарного государства, этого, по
слову Ницше, «холодного монстра».
Трагедия жизни и мысли, осуществившаяся в опыте Ницше, была поначалу
заслонена ощущением праздника летучей мысли, обретшей у него естественный
тон, вездесущий, всюду проникающий язык. Напряжение духа, устремленного
к разрешению самых глубоких проблем жизни, тонкие самонаблюдения и «ге-
неалогические» анализы культурных событий 4, насмешки над самодовольной
цеховой ученостью, рождение мысли на ходу жизни вместе с эмоциональным
его переживанием — все это импонировало в Ницше. Некоторые принципы
немецкого философа, например его эстетизм (оправдание мира как эстетиче-
ского явления), тоже привлекали внимание и как бы примеривались с чувством
их возможной приемлемости. Привлекало и то ударение на непременном тра-
гизме существования, которое характерно для творчества Ницше: последняя
правда о мире не может не быть беспощадно жестокой к человеку. Конечно,
полного принятия ницшевского эстетического миросозерцания не произошло —
сомнению в его адрес путь я не перекрывал, этическое вопрошание, поддер-
жанное чтением Кьеркегора и Достоевского, сохраняло свою силу и какую-то
сжатую в себе, еще не раскрытую значимость, а критика традиционной морали
со стороны Ницше, пожалуй, только усиливали его размах.
Ницшевский аристократизм как метафизика жизни тоже не был принят. Да,
думал я, есть люди, острее других чувствующие мысли и краски мира, наде-
ленные неодолимым импульсом творчества, но счесть социальную знать (ари-
стократию) абсолютным арбитром в мире знания я не мог. На пути ницшеан-
ского языческого аристократизма встал прежде всего Достоевский с христиан-
ской правдой о достоинстве самого «маленького» человека. На его стороне была
и вся традиция русской литературы, и никакой самый блестящий дифирамб в
адрес аристократических творцов ценностей, пропетый Ницше, не мог меня
убедить в том, что надо презирать «маленького» человека и преклоняться пе-
ред дионисическим властелином в духе Борджиа. Против такого аристократиз-
ма выступала вместе с литературой и русская религиозная философия. Кроме
того, против ницшеанства работала и та скрытая и явная с ним полемика, кото-
рую вел в своем творчестве Т. Манн, сам испытавший глубокое влияние Ниц-
ше. Я понимал, пусть тогда и не с полной ясностью, что никакой творческий
дар, якобы возносящий художника над «толпой», не может оправдать соверша-
емых им пакостей по отношению к «маленькому» человеку с улицы.
Что же выходило в результате? Выходило понимание оправданности «лири-
ческого динамита», минирующего обескровленную догматизмом идеологизи-
рованную философию, выходило стремление мыслить вне скованности гото-
4 О «генеалогии» Ницше см.: гл.VII, с. 604.
310
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
выми формулами школьной квазиконцептуальности, выходило, что новая ин-
тересная мысль может пробиваться порой не столько в обычном для нее трак-
тате, сколько в эссеистическом наброске, в стихотворной миниатюре, в непри-
хотливой дневниковой фиксации житейских мелочей и фактов сознания. Вы-
ходило, одним словом, что без художественного вкуса, без захватывающего
всего человека творческого импульса нет и философии. Ее нет без соединения
в наделенных художественной размерностью языковых формулах самой зем-
ной земли, с одной стороны, и самого небесного неба — с другой. И философ-
ский дар обнаруживается именно в способности к сквозному, т. е. пронизыва-
ющему все целое, преодолению этой дистанции. И поэтому поэт Пастернак
казался — и думаю, и был — большим философом, чем его друг Асмус, про-
фессиональный философ.
Сейчас я могу более ясно выразить мои тогдашние настроения и догадки.
Они состояли в уверенности в том, что искусство вообще и литература в час-
тности богаче, чем это обычно представляется, средствами для воссоздания
того контекста порождения мысли, в котором собственно философская рабо-
та становится и понятной, и хранящей свои подлинные пропорции — про-
порции своей подлинности. Я знал, что философ-систематик, философ-трак-
татчик — в силу условий самого жанра — непременно скрывает личные, опы-
том жизни формируемые порождающие центры своей мысли. Я понимал, что
для создания стройного аппарата понятий такое отвлечение от самых глубо-
ких глубин и самых высоких вершин жизни необходимо. Но я упрямо верил в
мысль, не боящуюся «засветиться» — предельно открыть свои корни, а не
только кроны. И образцовую персонификацию такой мысли я нашел именно
в Ницше. Благодаря ему стали понятными условность и призрачность разли-
чения основных культурных рядов — ряд литературы, ряд философии... За-
падная философская традиция, пусть и после долгих колебаний, поставила
Ницше в ряд своих корифеев — Платон, Аристотель, Декарт, Спиноза, Кант,
Гегель, Шопенгауэр, Ницше... Но то, что Достоевский или Толстой стояли в
другом ряду, вовсе не означало их непричастности к истории мировой мыс-
ли. И Ницше в ряду философских систематиков был своего рода лирическим
аутсайдером, доказавшим философскую силу художественной мысли как та-
ковой. Перегородки, воздвигаемые «каптёрщиками» от культуры, мною со-
знательно не принимались во внимание. И Ницше поддерживал меня в этой
установке.
Нужен ли нам в России Ницше?
Ницше известен как сознательный антисистематик в философии. А мы, рус-
ские, и так не страдаем от избытка системности. То ли наш национальный ха-
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
311
рактер не слишком жалует дух последовательной, методически и технически
оснащенной мысли, то ли, скорее, он просто не успел у нас сложиться и раз-
виться. И в таком случае спрашивается: так зачем же нам нужен Ницше? Не
придаст ли он нашей философической «безалаберности» дополнительный им-
пульс? И разве не наше первостепенное дело научиться как раз философии
строгой, систематической, профессиональной?
Действительно, Ницше считал дух системности в философии свидетель-
ством низкого уровня интеллектуальной честности мыслителя. «Я не доверяю
всем систематикам и сторонюсь их, — говорит он, — воля к системе есть не-
достаток честности» 5. Система имеет свою логику, наделена своей собствен-
ной силой — как бы помимо личного опыта самого мыслящего, независимо от
него. А безличную мысль Ницше действительно не признавал, не считал ее
настоящей, подлинной мыслью. Отсюда и следует его недоверие к системам,
когда мыслитель далеко уходит от самого себя, вынуждаемый к этому отвле-
ченной, или, как сказали бы Гегель и Маркс, отчужденной логикой системы.
Систематик стремится во что бы то ни стало придать своей мысли статус ми-
ровой необходимости, всеобщей принудительности, логической обязательно-
сти, в то время как на самом деле, считает Ницше, он черпает свою мысль в
личном опыте.
Отдадим должное систематизму — в нем кроется известное испытайие силы
мысли, нужное для ее развития и совершенствования ее техники, а значит, и
для выявления ее содержания и смысла. Но и велики искушения уйти при этом
от порождающих центров мысли, от цельности самой жизни и впасть в отвле-
ченный догматизм схемы. Моралисты XVII—XVIII вв. —Ларошфуко, Лабрюй-
ер, Вовенарг — не были систематиками, как их современники метафизики. И
что же? Да то, что их проникновенные афоризмы мы и сейчас читаем как нечто
значимое для нас, наделенное свежестью взгляда. А вот некоторые философ-
ские системы стоят, как брошенные пирамиды мертвых цивилизаций. Хотя к
огню мысли, горевшему при их создании, мы и сейчас стремимся приобщить-
ся и разгадать его тайну.
Ницше чувствовал свою близость к французским моралистам, даже к фран-
цузскому стилю творчества вообще — более личному и эссеистскому, чем стиль
немецкий. Эта близость, конечно, не исчерпывалась сходством вкуса, привер-
женностью к афоризму, а была в известной степени и содержательной, миро-
воззренческой близостью. Характерно, что и себя, и моралистов такого типа
Ницше называл «психологами» (под «психологией» при этом нужно понимать
не академическую дисциплину, а художественную способность интуитивного
проникновения в основание человеческих поступков и мыслей).
5 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М, 1990. Т. 2. С. 560.
312
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
Догматический сциентизм и вульгаризованный марксизм слишком долго
господствовали в нашей интеллектуальной жизни, а привычки к ним сохраня-
ются и сейчас. И именно Ницше способен поддержать веру мыслящего в соб-
ственные силы, в свой опыт преодоления парализующей неуверенности при
попытке мыслить самостоятельно, пусть сначала и «доморощенно» и, может
быть, не так «технично», как это вроде бы делается в «развитых странах». Но
именно такое мышление подлинно, и оно нам сейчас настоятельно нужно, что-
бы выбраться из-под обломков рухнувших систем разрешенной мысли.
Итак, опыт Ницше значим как своего рода гигиена личности и творчества,
как диета аутентичности. Личность же как неповторимое самостояние или сто-
яние в неповторимости есть самая верная предпосылка мысли, в том числе и
философской. Критика Ницше реактивности психики, вторичности произво-
дительных импульсов, перегруженности европейской культуры эрудицией и
историческими сведениями остается актуальной и сегодня. Опыт Ницше под-
держивает веру человека в себя, его способность к инициативе, к тому, чтобы
от реактивности перейти к активности. Ницше ошибся не в самом призыве
(«будь самим собой!», «будь верен себе!»), а в том, что он не разгадал значимо-
сти религий Трансценденции в поддержке самостояния личности. Он увидел
только неразрешимый конфликт между личностью и моралью, между свобо-
дой и Богом. Но это сюжет специального анализа. А пока мы должны только
сказать, что сохранению и развитию уникального творческого начала лично-
сти в ее культурно значимой спонтанности изучение Ницше не может не спо-
собствовать.
Однако изучать Ницше нужно непременно целиком, весь корпус его сочи-
нений, равно как и его биографию. Это во-первых. И во-вторых, нельзя пользо-
ваться Ницше как индульгенцией, якобы освобождающей от систематической
работы, от серьезного изучения концептуального аппарата философии. Ницше
по своим предельным заданиям не досистемен, а сверхсистемен. Но сверхсис-
темность — трудно достижимое состояние. Кто совсем не знаком с классиче-
скими философскими системами, тому чтение Ницше может даже нанести
вред — до изучения философской традиции привить к ней высокомерное
отношение.
Ницше при всей его критике Канта, Гегеля, Платона хорошо их знал и пони-
мал их значение. Но ему было действительно тесно в пределах классической
мысли. Он искал новой мысли, такой, которая была бы не отвлеченной, а при-
влеченной мыслью, привлеченной самой жизнью, ее современными проблема-
ми. Он, иными словами, вместе со своим временем искал мысли конкретной,
целью которой был бы рост могущества и величия самого человека, совершен-
ствование, как любил говорить Ницше, «человеческого типа». Ему нужна была
такая мысль, чтобы вместе с нею рос и креп в испытаниях истории сам чело-
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
313
век. Он ясно осознавал, что познание — не самоцель. И надо сказать, что в
этом он не слишком расходился с классиками философской мысли, например с
Платоном. Но они по-разному видели пути достижения своих целей и по-раз-
ному строили универсум мысли, способный ответить на это требование.
Ницше действительно не выносил равнодушной к жизни философии, когда
философ говорит одно, а делает совсем другое. Например, он находит возмож-
ным усомниться в искренности пессимизма, проповедуемого шопенгауэров-
ской философией, уже потому, что сам ее создатель любил после вкусного обе-
да поиграть что-нибудь приятное на флейте. Как это возможно без фальши и
лжи? Кроме того, замечает Ницше, Шопенгауэр отрицает весь мир и Бога, а
сам принимает догмы расхожей морали 6. Ницше требует полного соответствия
между мыслью мыслящего и его жизнью. Только в этом случае, считает он,
мысль заслуживает к себе серьезного отношения. Критерием серьезности мыс-
ли, по Ницше, выступает полнота ее личной воплощенности в жизни мысля-
щего. Надо заметить, что эта черта духовного склада Ницше сближает его с
русской культурной традицией. Недаром он стал одним из главных авторите-
тов русского Серебряного века.
Основные темы и понятия философии Ницше
Ницше истолковал сущее как жизнь, связал все сущее с жизнью — только
так, согласно философу жизни, можно говорить осмысленно о сущем. Жизнь —
центральное понятие всей его мысли. Жизнь, в конце концов, не подводится
безоговорочно и под понятие воли: в «Сумерках идолов» он восстает против
идущей от Шопенгауэра метафизики воли. Не «жизнь» есть «смутное» наиме-
нование воли, а, напротив, скорее воля сама списана с «жизни». Ницше не ги-
лозоист, не панпсихист и не панвиталист в обычном смысле слова. Но жизнь
помимо того, что она сама по себе есть высшая ценность, есть еще и един-
ственно способное оценивать все сущее. Жизнь, по Ницше, безусловное нача-
ло полагания ценностей и целей. И патетическое «Да!» существованию гово-
рится им постольку, поскольку сущее есть жизнь. Жизнь сама себя приветству-
ет этим абсолютным утверждением существующего. Итак, можно сказать, что
жизнь устами Ницше самой себе говорит «Да!», но при этом она не знает, что
же она есть такое... Жизнь выше знания, познания, сознания. Она превосходит
все теории жизни, в том числе биологические и эволюционные, включая и дар-
виновскую теорию.
У Ницше жизнь никогда не ставится под вопрос: она всегда права. Напро-
тив, все остальное должно получить свое оправдание у жизни, через свою связь
6 Там же. С. 307.
314
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
с нею, соучастие в ее работе. Жизнь у Ницше — имманентный бог, сама реаль-
ность как таковая в ее высшем самоактивном центре, в ее не- и сверх-разумно-
сти, непостижимости, в ее превосходстве над всякой своей концептуализацией.
Жизнь распространяется, растет, цветет, рискует, стремится к саморасшире-
нию и самоутверждению, к своему сохранению и еще более к воспроизвод-
ству, причем расширенному, к усилению, умножению...
Два понятия нужно прежде всего иметь в виду, когда мы пытаемся раскрыть,
что же понимал Ницше под жизнью. Это, во-первых, становление, и, во-вто-
рых, величие. Первое понятие задает своего рода метафизику жизни, а второе —
его эстетику. Алогическое становление прежде всего величественно — наде-
лено мощью, силой, самостоянием и поэтому достоинством и независимостью.
У жизни как потока (во) времени повадки «аристократа» — все выше перечис-
ленные определения это такие качества или доблести (virtu), которые в челове-
ке выше всего ценило Возрождение, а еще раньше — античная Греция. Поэто-
му понятно, почему моральным образцом для человека у Ницше выступает по
сути дела именно поток жизни — бурный, неукротимый, все сметающий на
своем пути, самодостаточный и рвущийся вперед, к новому. В нем есть избы-
ток жизни, а творчество, которым он наделен, это творчество именно из пере-
избытка сил, переполнения мощью. Так как сам поток становления наделен
добродетелями аристократическими, то можно сказать, что у Ницше аристок-
ратизму придан онтологический характер. У него аристократизм — не столько
эстетическая и тем более социальная и историческая категория, сколько кате-
гория самого бытия, истолкованного как жизнь.
Величие жизни как потока в том, что он существует, по Ницше, без Бога —
без какой бы то ни было поддержки со стороны трансцендентных энергий. В
том, считает Ницше, ее достоинство, чтобы стоять и не падать без трансцен-
дентных «костылей» религии. Правда, Ницше не отрицает за религией, за куль-
турой монастырей в частности, важной роли в воспитании человека с аристок-
ратическим комплексом качеств — этому служит суровая дисциплина и эти-
кет, тренаж души, развивающий умение управлять собою, выдержку и т. д.
После темы величия другая господствующая у него тема — априорная тра-
гедия в основании мира, неизбежная при постижении его честным умом, прав-
дивым взглядом. Итак, жизнь, становление, величие и трагедия — вот главные
темы и понятия ницшевской философии. Остальные же концепты, тезисы,
высказывания и рассуждения Ницше — это сопровождающие их «звуки» имп-
рессионистической мысли, меняющиеся в зависимости от исполняемой пье-
сы, от контекста игры, от настроения философа-музыканта... Но что бы ни
играл этот виртуоз лирической философии, всегда мы слышим эти заглавные
темы — трагедия бытия как жизни и немолкнущий призыв к величию, нередко
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
315
оборачивающийся сарказмом в адрес того, что он считает препятствием на пути
к нему и называет рабским, стадным, низменным и пошлым.
С понятием жизни связано понятие ценности, одно из основных у Ницше.
Но что значит оценивать? Ценность, прежде всего, сочетает в себе два значе-
ния. Во-первых, это значение меры вещей. Хранители ценностей выступают
оценщиками мира, ибо они владеют эталонами и мерилами всех вещей. Во-
вторых, ценность имеет значение живого духа как источника творчества самих
ценностей. Иными словами, ценность предстает как объект и как субъект. В
последнем смысле ценности персонифицированы и одухотворены, суть жи-
вые творческие духи (музы, гении, демоны и т. п.). И, конечно, ценность имеет
смысл только в связи с жизнью, по отношению к ней. Сама жизненность жиз-
ни, персонифицированная в фигуре аристократа, благородного мужа, предста-
вителя касты господ, господствующих над собой и над другими, и есть источ-
ник ценностей, их полагания и их творчества.
Дух, если он не редуцируется Ницше к витальности, к физиологии, понима-
ется им как эликсир жизни, как ее, так сказать, огненная «часть». Дух — это
сама витальность витального, жизнь в ее для-себя-бытии, говоря по-гегелев-
ски. Характерно при этом, что дух понимается Ницше совсем не по привыч-
ным европейско-христианским меркам. Ну, действительно, разве культурный
европеец, прошедший школу христианства и остающийся в его пределах, мог
бы сказать, что «злоба одухотворяет»? Дух и дух отрицания отождествляются.
Здесь имеются в виду прежде всего негативные эмоции, такие как зависть, зло-
памятная обиженность, или ресентимент, которые, по Ницше, придают утон-
ченность суждениям и осуждениям, остроту и силу сарказмам. Подобный ап-
риорный «демонизм» в понимании духа и духовности у Ницше отсылает к ста-
рой немецкой традиции, влияние которой можно найти, например, и у Гегеля.
Но у него дух-злоба, дух-разрушитель, дух-отрицание подчинены в конечном
счете высшему разумному имманентному началу У Ницше нет подобного ди-
алектического оптимистического хода мысли. Универсальным интегратором у
него выступают его мифологемы (вечное возвращение и сверхчеловек), а не
диалектический разум, абсолютная идея.
Политический идеал Ницше — авторитарное аристократическое, но совер-
шенно лишенное христианского начала грубо-языческое государство вроде того
итальянского герцогства, во главе которого стоял Ч. Борджиа. Это — кастовое
государство. Здесь Ницше сходится с Платоном, от которого его отличает, од-
нако, главный пункт — выбор принципа жизни как вышестоящего по отноше-
316
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
нию к принципу разума (смысла). Идеология такого государства — «религия»
земли, власти, силы.
Ницше считает, что высшая культура должна выращиваться наподобие вы-
ведения оптимальных пород животных. Начинать нужно с главного: с культу-
ры тела, диеты, закалки, этикета, короче, с формирования внешних манер и
привычек. И это все должно усвоиться и перейти внутрь — стать духовным
качеством человека. Именно в силу этого он считает первым народом настоя-
щей культуры греков. Подчеркнем: культ тела — основа культуры как систе-
матического выращивания благородной, сильной расы, в пределе — «сверх-
человека». Христианство же, говорит Ницше, презирало живое тело и поэтому
произошел упадок человеческого типа. Этот издалека идущий декаданс типа
человека раскрывается Ницше в его незабываемом перечне («лавочники, хрис-
тиане, коровы, женщины, англичане и другие демократы» 7), заставляющем
вспомнить Борхеса, цитирующего одну китайскую энциклопедию.
И последнее. Противоречивость в суждениях — не исключение у Ницше.
Сознательно антисистемный характер его мысли дает этому известное оправ-
дание. Если бы вопрос стоял так: интеллектуальная честность или непроти-
воречивость, достигаемая ценой некой умственной нечистоплотности, то, не-
сомненно, Ницше предпочел бы первую часть альтернативы.
Одним из источников такой противоречивости выступает несогласованность
подходов к оценке явлений. В частности, биологицистский редукционизм не
всегда согласуется с эстетизмом (мир оправдан только как эстетическое явле-
ние). Вот один пример. Для Ницше как биологициста и эволюциониста атеис-
тическое общество представляется высшим по отношению к обществу, где гос-
подствует религия. Но эстетическая позиция, заставляющая признать позитив-
ную культурную ценность религии, дает совсем другую шкалу социальных
оценок8. Если вспомнить, что он говорит об эстетической несостоятельности
христианства («теперь против христианства решает наш вкус, уже не наши
доводы» 9), то указанное противоречие в оценке высоты общества можно смяг-
чить, уточнив, что христианское общество не относится им к числу древних и
что подлинным вкусом и эстетической ценностью он наделяет лишь языче-
скую древность. Однако это не снимает полностью противоречивости в ука-
занном отношении, потому что Ницше признает культурно-воспитательную и
эстетическую функцию и самого христианства. Действительно, религия, гово-
рит он, имея в виду христианство, «велела рассматривать греховность каждого
отдельного человека через увеличительное стекло и превращала грешника в
7 Там же. С. 615.
8 Там же. Т. 1.С. 604.
9 Там же. С. 596.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
317
великого бессмертного преступника: расписывая человеку вечные перспекти-
вы, она учила его видеть себя издали и как нечто минувшее и целое» 10. Можно
найти и другие похвальные слова в адрес христианства как воспитателя чело-
вечества, его вкуса, культурной чувствительности и зрелости. В частности,
Ницше позитивно оценивает длительное почитание Библии в Европе, явивше-
еся «наилучшим фактором культивирования и воспитания нравственной утон-
ченности» п.
В ЧЕМ ПРОСЧИТАЛСЯ СЛУЖИТЕЛЬ ДИОНИСА?
Ницше «промахнулся» вот в чем: «гигиену» творческой личности он пре-
вратил в метафизику, претендующую на всеобщее значение. Если мы возьмем
такого поэта, столь же увлеченного своим творческим импульсом, как Цветае-
ва, то найдем немало совпадений в ее декларациях с тезисами немецкого фило-
софа. Например, у Цветаевой читаем: «Главное не успех, а успеть!» У Ницше:
«Успех всегда был самым большим лгуном — само "творение" есть успех!» 12
По текстам Ницше можно изучать, что же надобно творческой личности с тон-
кими капризными нервами для того, чтобы продуктивно работать. Этот аспект
ницшеанства хорошо передает Т. Манн (вспомним Ашенбаха из новеллы
«Смерть в Венеции» 13). Многие афоризмы Ницше (например, «читать с утра —
это преступление») представляют собой не что иное, как своеобразный мо-
ральный кодекс созидающего — художника, поэта, мыслителя. Кстати, и рус-
ские писатели усваивают себе эти ницшеанские гигиенические правила (влия-
ние Ницше на них безусловно, но в данном отношении они и сами могут опре-
делять то, что им надобно как творцам): от душевного стресса Белый лечится
безумными плясками, реализуя метафоры Ницше, Шестов по десятку часов
проводит в опасных порой горных походах.
Ницше здесь не оригинален. Многое из подобной аскетики, с некоторыми
вариациями, практиковал еще Гёте: самопреодоление, тренировка тела, дли-
тельный контакт со стихиями и т. п. Но ни один из названных выше писателей
в отличие от Ницше не возводит гигиенистику творческой личности в метафи-
зику. Чувства дистанции и обыкновенного здравого смысла ему не хватило,
чтобы оставить гигиену на ее месте — хранить продуктивность творческих
усилий. Вот на чем «прокололся» дионисический философ.
10 Там же. С. 559.
11 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Собр. соч. М., 1903. Т. 2. С. 233.
12 Там же. С. 240.
13 Этот образ в связи с фигурой Ницше проанализирован в эссе: Визгин В. П. Испыта-
ние Разума // Красная книга культуры. М., 1989. С. 131—147.
318
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
Ницше многое разгадал или, точнее, «приугадал» в идеалах, в философии, в
высших ценностях. С этим нельзя не согласиться. За априоризмом философов
он не без основания увидел апостериоризм их жизненных миров. Кстати, ап-
риоризм как норма, значимая для обоснования чего-либо, суть специфическое
требование философской мысли. Философия специализируется на априорной
проекции «реальных» связей — всеобщий теоретический разум философов
выступает как особая «тень» действующего разума практиков бытия. Несосто-
ятельность претензии на априорность оснований для выбора (поведения, уста-
новки и т. п.) ставит под вопрос возможность самой философии. Это осознава-
лось Ницше. Он пытался мыслить множественность философий в соответ-
ствии с многоплановостью перспектив и ситуаций, в том числе телесных и
физиологических, в которых находится мыслящий. Утверждение исторично-
сти и уникальности разума как силы получило у Ницше не просто форму кри-
тики философии как метафизики, но и привело его к попытке создать новую
метафизику — на этот раз «силовую», или динамическую. Априорное стало
видеться грубой застывшей маской, прикрывающей всегда подвижное апосте-
риорное. Возвышенное и идеальное как таковое были разоблачены как наряд-
ный покров, набрасываемый на низменное и материальное, которое и было
отождествлено с бытием, истолковано как единственная реальность и тем
самым уже возвышено. Отсюда и типичный снижающий метафорический ниц-
шевский язык для обозначения понятий «вершин» (например, «моралин», хо-
чется сказать «идеалин», что я и сказал однажды 14). Неудивительно, что глав-
ным средством в этой работе «развинчивания» систем ценностей стала иро-
ния. Характерно, что эпиграфом для «Веселой науки» Ницше выбрал слова:
«Мне все еще смешон каждый Мастер, который сам себя не осмеял».
Заносчивость разума, смеющегося надо всем высоким, гордого силой сво-
его подозрения, тщеславно принимаемого им за прозрение, таинственно и не
так прямо, но тем не менее несомненно, связана с нехваткой обыкновенного
жизненного опыта с его мудростью, приходящей с годами. Мы знаем, что
творческая старость велика своей мыслью — вспомним Гёте или Толстого.
Но мы даже вообразить себе не можем, кем бы стал Ницше в их годы! Ушел
бы, как К. Леонтьев, в монастырь? Сгинул бы, как А. Добролюбов, в безвест-
ности веры или просто безвестности? Гадать можно как угодно. Но мы зна-
ем, мысля в духе самого Ницше, что, например, атеистическая фронда как-то
связана с возрастом, пусть и не прямо, без жесткости лапласовского детерми-
низма. Преклонные годы имеют свои испытания и откровения, философемы
и мифы. И Ницше, философ жизни и экспериментатор мысли, их не узнал и
не изведал.
14 Визгин В. П. Божьекоровские рассказы. М, 1993. С. 261.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня 319
Ницше подвели его с юности принятые априоризмы — презумпция страш-
ной и безбожной истины прежде всего. Он просчитался, посчитав веру делом
легким и неглубоким в то время, когда толпа тартюфов и скептиков, а затем и
нигилистов-атеистов шумела по всей Европе, что ясно осознавали его старшие
современники, например К. Леонтьев. Неприятие буржуазного мира вело к
развилке: или идти по пути Чаадаева, де Местра и Леонтьева, или по пути Штир-
нера, Фейербаха и Маркса. В качестве ответа на исторические «зигзаги» идеа-
лов Просвещения и гуманизма, либерализма и демократии Ницше выбрал не
обновление христианских ценностей, а возврат к ценностям дохристианским.
Его очаровала показавшаяся ему близкой к интеллектуальной честности совре-
менной науки языческая по своим корням «религия» мира сего, его соблазнили
сирены хтонических культов, земные, слишком земные, выступившие для него
как «правда» по отношению к религии неба и потустороннего мира.
Вклад христианства в формирование образа истины
у молодого Ницше
Есть веские основания считать, что самые ранние представления Ницше об
истине, сам ее образ, сохранившие свою значимость и в зрелые годы, сложи-
лись у него под влиянием христианства. «Маленький пастор» (прозвище Ниц-
ше в школе) глубоко воспринял евангельские слова («Я есмь путь, истина и
жизнь» — Иоан. 14, 6). Уже в ранние школьные годы он поражал своей недет-
ской серьезностью. Спаситель был распят, значит, рассуждал «маленький пас-
тор», была распята Истина. Истина стала им восприниматься как личность,
как жизнь, как добровольно принимаемое страдание, как трагедия. Таков круг
самых ранних представлений Ницше об истине, дающих ее живой образ. При-
знаки этого образа — его личностный характер, жизненность, трагичность и
жертвенность. И так как этот образ, заложенный в детские еще годы глубоко и
прочно, остался неизменным и в дальнейшем, то мы можем понять, почему
благодушие, отсутствие чувства трагичности существования, сильного харак-
тера и жизненной силы воспринимались уже зрелым человеком по имени Фрид-
рих Ницше как симптомы душевной фальши. Понятно также, почему он не
мог считать истиной любую абстрактную доктрину, отвлеченную теорию, обез-
личенное рассуждение. Его эстетизм, который тоже все это объясняет, сам был
увязан с его идущим от христианского воспитания образом истины. Но эсте-
тизма как объяснительного принципа здесь недостаточно, так как он подчи-
няет истину красоте в иерархии высших понятий. Однако при всем своем
эстетизме Ницше был буквально заворожен образом именно истины, идеей
истины, истиной как долгом и как событием. Под знаменем «интеллектуаль-
320
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
ной честности» (alter ego его образа истины) он ведет свою атаку и на хрис-
тианство.
Другой момент в образе истины у молодого Ницше связан с особенностями
протестантизма, в атмосфере которого он воспитывался. Лихтенберже пишет:
«Как добрый протестант он верил в истину и в традиционного Бога 15, в своем
поклонении не отделяя одно от другого. Но в действительности его религиоз-
ный пыл относился к "богу истины", и когда ему стало казаться, что следовало
бы избрать что-нибудь одно, либо "Бога", либо "истину", он на самом деле
остался верен своему религиозному чувству, пожертвовав историческим и тра-
диционным верованием ради глубокого внутреннего убеждения» 16. Мысль Лих-
тенберже состоит в том, что Ницше, отделив истину от религиозной веры и
избрав первую в качестве путеводительной звезды своей, перенес на нее свой
религиозный пыл, освободив его от всех традиционных исторических его
воплощений.
Подчеркнем, Ницше выбрал истину вопреки Богу. Более того, со временем
это «вопреки» стало у него даже признаком истины: нечто истинно уже пото-
му, что оно обращено против Бога. Но к избранной истине-вопреки-Богу Ниц-
ше действительно отнесся традиционно, т. е. как к своего рода религиозному
культу, принятому им в самой глубине души. Иными словами, истина, отделив-
шись от Бога, будучи даже противопоставлена Ему, осталась тем не менее глу-
боким внутренним убеждением, заместившим для него традиционную религи-
озную веру. Вся эта операция по разобщению Бога и истины (что противоречит
первому отмеченному нами моменту, определяя амбивалентность образа исти-
ны у молодого Ницше) легче могла быть проделана именно в рамках протес-
тантской конфессии, чем, скажем, в лоне католицизма. В протестантизме хри-
стианская вера и так уже в значительной степени «освобождена» от многих
существенных исторических и традиционных характеристик. При этом оста-
ется только довершить эволюцию в данном направлении, чтобы это «освобож-
дение» пришло к своему финалу — к тому, чтобы место Бога заняла просто
истина, истина как «объективное знание». Христианско-протестантская совесть
действительно обернулась совестью научной, верность христианина стала ин-
теллектуальной честностью ученого.
Как же христианско-протестантское происхождение ницшевского образа
истины определило творчество и жизнь мыслителя? Что же в результате полу-
чилось? Как их христианский исток определил саму форму и содержание ниц-
15 У Ясперса другая точка зрения, согласно которой даже в детстве Ницше верил только
в правдивость и истину, решительно отвергая их христианское содержание. См.: Ясперс К.
Ницше и христианство. М., 1994. С. 9—10.
16 Лихтенберже А. Философия Ницше. СПб., 1906. С. 23.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
321
шевского мышления, всего события Ницше? По форме получилась драма идей,
интеллектуальный роман, трагедия ценностей и установок, напоминающая в
чем-то поэтику Достоевского, когда самые высшие, самые важные идеи на-
смерть бьются друг с другом, как живые личности — персоны и персонажи.
Это следствие из первого отмеченного выше момента в образе истины у моло-
дого Ницше. Ницше не мог не жить своими идеями, у него не могло быть от-
влеченной, лично не пережитой мысли, он не мог не «смешать» познание, по-
требность в вере и жизнь, раз он воспринял истину как живую личность и как
трагедию.
А что получилось при этом по содержанию мысли и жизни? По содержа-
нию же получился «святой» атеизма, мученик безбожия («распятый Дионис»).
Строго говоря, мы уже не можем говорить о философии Ницше, как будто, с
одной стороны, есть человек с таким именем, а с другой — его философия.
Нет, ничего подобного нет и не существует, а есть житие «святого мученика»
атеизма по имени Фр. Ницше. Философские «костюмы» им нередко брались
напрокат у Шопенгауэра, Гераклита, даже у Канта — или смело «кроились»
им самим из материалов, взятых в «гардеробе» традиции. Но его мощным и
долговременным воздействием на культуру, на саму личность человека XX в.
мы обязаны не столько абстрактным философемам, связанным с именем Ниц-
ше (волюнтаризм, онтология алогического становления, перспективизм, эс-
тетизм и т. п.), сколько целостной личности писателя-мыслителя (феномену
Ницше).
Ошибка против вкуса
Соревнование — кто кого «переантихристианит» — докатилось до середи-
ны XX в., до Камю... А началось когда? В век Вольтера? Ницше находится где-
то в середине этой эстафеты. Он сурово обличал великих людей своего века
(Вагнера, Делакруа, Бальзака) за то, что они не выдержали такой гонки и, в
конце концов, склонились перед крестом. Согласно Ницше, в этом проявилась
их слабость, причиной которой он считал неглубокость натуры и недостаточную
верность Природе. «Кто же из них, — вопрошает он, — достаточно глубок и
близок к природе для анти-христианской философии?» 17 Гарантом радикаль-
ной антихристианской мысли, по Ницше, выступает верность земле, безднам
Тартара, хтоническим силам и хаосу. Эта верность земле совпадает с позици-
ей, заявленной последними словами последнего сочинения Ницше: «Дионис
против Распятого...». Филолог Ницше открыл это древнее земледельческое боже-
ство, и оно стало для философа Ницше главным орудием против христианства.
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Собр. соч. М., 1903. Т. 2. С. 216.
21 - 3357
322
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
Ницше зовет пожертвовать Богом ради правдивости, правдивости до умо-
помрачения. Такая правдивость есть «жестокость к себе», потому что, «убивая
Бога», человек лишается величайшего блаженства и утешения, какое только
для него возможно. Отметим в связи с этим два момента. Во-первых, правда
(истина) и Бог противопоставлены: там, где правда, там нет Бога, и наоборот,
где Бог, там нет правды, там иллюзия, утешительная ложь. Так считает Ницше.
И, во-вторых, еще один парадоксальный момент. Дело в том, что Ницше при-
ходит к перспективистской теории истины. Он, фанатик правдивости (а что
такое правда, как не образ истины?), отрицает само основание правдивости —
истину. Ведь в его (анти)метафизике воли истиной считается то, что воля при-
знает в качестве таковой, будучи силой, способной давать оценки, возвышать,
быть ориентиром и т. п. Ницше явно рубит сук, на котором сидит. И не от этого
ли он сам себя хочет загипнотизировать, сам себе хочет внушить уверенность в
своих же словах, в то, что он в них верит и считает правдой? Шаржированный
пафос и экзальтированность писаний — не проявление ли это глубокой неуве-
ренности Ницше в себе?
Антихристианство Ницше (с христианством он хотел бороться не столько
доводами логики, сколько с помощью вкуса) само есть ошибка против вкуса и
духовной честности, в рамках которой существует, как ее частичное воплоще-
ние, честность интеллектуальная. Ницше стремился истолковать духовную
честность как исключительно научную, или интеллектуальную. И он вел ее
происхождение от христианской совести, высказывая тем самым глубокую
мысль о саморазрушении христианской культуры в современном ему подъеме
атеизма и сциентизма 18. Но духовная честность объемлет честность интеллек-
та точно так же, как духовная истина объемлет истину как объективное знание.
И невозможно устранить истину как дух, растворив ее без остатка в объектив-
ном знании. Ницше, однако, именно это хотел сделать. Отсюда его вызывающе
радикальный сциентистский редукционизм: сведение идеальных смыслов к
«кислотам и ферментам», к явлениям физиологическим. Истина как дух охва-
тывает, в частности, предпосылки и условия возможности истины как объек-
тивного знания, определяя диспозицию целостного субъекта и тем самым по-
лагая возможность познания. Ницше боролся с гносеоцентризмом, считая его
продолжением христианства, метафизики и идеализма, отрицающего жизнь с
помощью научного гнозиса (физиология, химия и т. п.). Его культурный кри-
тицизм здесь оборачивается крайним сциентистским догматизмом: специаль-
ная наука определяет неоспоримую и безвопросную форму мира самого по
себе. Если Ницше прибегает к понятию центра сил, воли и мощи или власти,
то это — все та же метафизика, против которой он сам борется. Если же он
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 681.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
323
решается устранить и эту метафизику — убрать из своей картины мира, напри-
мер, волю, — то впадает в онтологизацию специально научной понятийной
системы. В любом случае его ждет ошибка и перед истиной, и перед вкусом,
который, по сути дела, является ее инструментом.
Ницше предпочитает судить культуру и людей, исходя из оценок вкуса.
«Вкусные» культуры — хороши. Очень «вкусные» — еще лучше. Таков, к при-
меру, итальянский Ренессанс. А «невкусные» никуда не годятся. И на них Ниц-
ше не жалеет сарказма. Конечно, прежде всего для него «невкусна» современ-
ность с ее злободневными вопросами демократических масс (социализм, уни-
верситеты, пресса, вагнеризм и т. п.).
На наш взгляд, Ницше изменяет вкус — его эстетический конек, — когда он
пишет о христианстве. О Христе он говорит немного. Иногда голос его делает-
ся неуверенным, что так странно для Ницше. Но как только он оставляет этот
явно трудный для него сюжет и обращается к апостолам, особенно к Павлу, его
негодованье переходит допустимые нормы приличия.
Высочайший вкус в том, чтобы сам вкус поставить на свое место. И место
это, увы, не первое. И хороший вкус знает о том сам. И Ницше, им безусловно
обладавший, знал или догадывался об этом. Отсюда вымученность его анти-
христианской патетики, шаржированная грубость в эскападах.
Ницше не мог не сознавать, проявляя в том свой вкус, не только особое
величие и высшее благородство Христа, но и его божественность. Он сам все-
гда искал Бога (по крайней мере, как истину и правду) и, не находя в современ-
ности, «злился» на нее. А по существу это была злость на себя самого, не уме-
ющего найти Бога... Итак, он догадывался о божественности Иисуса Христа.
Вот что он говорит по этому поводу в «Антихристе»: «Даже лучшие умы (ис-
ключая одного, который, может быть, единственный — не человек) позволяли
себя обмануть» 19. Но неужели трудно было догадаться, что дело Христа, дела-
емое людьми, не может быть свободным от человеческого, слишком челове-
ческого, от мирского и несовершенного?
Ницше всегда искал бога в лице человека. Остатками своей юношеской веры,
глубинами своего существа он твердо знал, что один такой уже был и другому
не бывать... Но ему все равно хотелось именно другого бога, воплощенного в
человеке, чем Иисус Христос. Он искал второй антропоморфной инкарнации.
Одно время ему казалось, что он ее нашел в Шопенгауэре, затем в Вагнере... А
иногда даже в Наполеоне, Борджиа или в Бизе. Он беспамятно влюблялся в
людей, боготворил их, а потом разочаровывался. Ему как бы хотелось открыть
самому, лично, нового богочеловека. Может быть, это гордость не позволяла
ему говорить о богочеловечестве Христа, так как о том давно все говорят? Да и
Там же. Т. 2. С. 668.
21*
324
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
кто? Да те, в первую очередь, кого Ницше не считал ровней себе, гению немец-
кой литературы!
Еще более сильная гипотеза: Ницше не столько хотел сам открыть факт вто-
рого боговоплощения в ком-то другом, сколько сам надеялся стать второй ин-
карнацией бога — богочеловеком новой «религии». Отсюда и подпись «Распя-
тый», отметившая его первые, после срыва в безумие, письма. Это подспудное
соревнование с богочеловеком было замечено некоторыми его чуткими и даже
конгениальными ему читателями начала века, например А. Белым, поставив-
шим Ницше в один ряд с Иисусом Христом и Р. Штейнером 20. Основанием для
этого служил не только специфический комплекс духовных и интеллектуаль-
ных стремлений начала века в России, но и сам феномен Ницше.
Мое недоумение в связи с Ницше можно приблизительно сформулировать
так: как мог этот живший напряженной внутренней жизнью человек, вобрав-
ший в себя, казалось бы, культуру всей Европы, а не только Германии, человек
серьезный и, быть может, даже слишком (все его «легкомыслия» — лишь сим-
птомы его серьезности), как мог, одним словом, этот чуткий к вещам духовным
человек не отбросить своей явно безвкусной претензии на аналог боговопло-
щения? «Если бы Бог существовал, то как бы я мог вынести, что это — не
я?» — цитирует Шестов Ницше 21. При этом порой кажется, что Ницше был бы
не прочь сам занять место богочеловека и не во втором, а в первом издании.
Правда, Христа упрекнуть ему удается в немногом, ну разве что в некоторых
логически ошибках, повлекших «заблуждения» в морали 22. Ни слова упрека
лично в адрес Христа нет, по крайней мере, в «Антихристе». Но зато какая
ругань в адрес церкви, первых апостолов, какая желчь изливается им на всю
христианскую культуру, вплоть до социализма и демократии и частично даже
на науки, которые он все выводил из христианства. Ясно, что он не верит в
существование Бога, в трансцендентное бытие, в загробную жизнь. Ну, это —
ладно. Но почему ему, повторяю, тонкому и глубоко несчастному человеку, было
мало одного — настоящего — богочеловека? Неужели он так и не раскусил
фальши и безвкусицы в самой претензии на второго богочеловека? Или, быть
может, надвигающееся безумие было тому причиной?
Ницше был моралистом — в самом своем имморализме. Он был «психоло-
гом» и «эстетом», наделенным критическим отношением к самому себе, счи-
тавшим своим сильным качеством способность к самопреодолению. И вдруг
такие безвкусные пассажи: «Почему я так мудр?», «Почему я так умен?», «По-
Белый А. Символизм как миропонимание. М, 1994. С. 263.
21 Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше: Философия и проповедь. СПб.,
1907. С. 132.
22 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 598.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
325
чему я пишу такие хорошие книги?» Кстати, на эти вопросы он и не отвечает, а
просто безумно хвалится: лучше меня никто не писал, это — шедевр немецкой
прозы и т. п. Вдыхая эти самовосхваления, мы начинаем подозревать, что в них
уже обнаруживается яд настоящего безумия, которое не за горами. А что каса-
ется лучших образцов прозы, то здесь мы верим Т. Манну, хранящему здравый
смысл культурного бюргерства, который сказал, что лучшая проза у Ницше —
это вовсе не «Заратустра» и тем более не последние книги, а «Веселая наука»,
«По ту сторону добра и зла», «К генеалогии морали».
Неужели на том экзамене, которым для каждого человека является его жизнь,
Ницше срезался как нерадивый или зазнавшийся школьник? И на чем? Да, ско-
рее всего на своей гордыне, грехе вовсе не редком. Мне, честно говоря, обидно
за него, если это действительно так и безобразные пассажи в его последнем
сочинении суть не симптомы безумия, а несдерживаемый порыв банальной
гордыни.
О ЛЕГКОМ И ТРУДНОМ В СФЕРЕ ДУХА
Вера, мысль, познание у Ницше оцениваются не столько по их объекту, сколь-
ко по характеристикам имеющего с ними дело субъекта. Христианство каза-
лось ему открывающим доступ к душевному комфорту, к духовной успокоен-
ности верующего, а поэтому воспринималось как легкое решение проблемы
жизни. Однако он всегда искал и хотел наитруднейшего. Это ведь Ницше ска-
зал, что желать следует невозможного. В апреле 1862 г. он пишет статью «Хри-
стианство», стремясь выяснить свое отношение к нему, а в его письме к сестре
через два года мы видим, что именно решение вопроса о том, что легко и что
трудно, служит ему основанием для решительного разрыва с христианством:
«Вера, покорявшая нас мало-помалу, пускает глубокие корни в нашей душе, и
мы все, да и огромное большинство самых лучших людей, принимаем ее за
истинную, и все равно — истинная она или нет — во всяком случае она утеша-
ет и наставляет человечество. Думаешь ли ты, что принятие такой веры более
трудно, чем борьба с нашей душой, с угрызеньями совести, с постоянным со-
мнением и бегством от людей?.. Вот как расходятся пути человеческие: если
ты хочешь спокойствия души и счастья — верь, если поклоняешься истине —
ищи» 23. И, удивительное дело, сестра Ницше воспринимает вещи столь же
«субъектным» образом, но ее суждение кажется нам теперь более глубоким,
чем горделивая заносчивость стремящегося к новым берегам ее брата. Вот что
она пишет ему: «Правду надо искать там, где она дается труднее, в тайны
христианства верится с трудом, а это значит, что они действительно суще-
Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. Новосибирск, 1992. С. 30.
326
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
ствуют» 24. Подходы у нее и ее брата — одни и те же, но оценки христианства
при этом — прямо противоположные: там, где Ницше видит облегчение жиз-
ненной задачи, она, напротив, видит нечто очень трудное. И сейчас, в конце
XX века, оценивая этот спор мыслителя с его не блещущей талантами сестрой,
видишь, что в конечном счете права она, а не ее гениальный брат-богоборец.
Конечно, ситуация за это время изменилась почти на прямо противополож-
ную: если в годы молодости Ницше (вспомним, что его называли «маленьким
пастором») христианская вера была основой воспитания, то у нас, живущих в
России в конце XX века, исходной базой воспитания, как правило, был ради-
кальный атеизм. Поэтому нам трудна не столько борьба с Богом (как для Ниц-
ше, согласно его представлению о легком и трудном), а, наоборот, борьба за
веру. Куда менее искушенная в науках сестра Ницше смотрела как бы вперед и
(про)видела грядущую легкость атеизма и, напротив, трудность выбора веры
на фоне ставшего привычкой и нормой атеизма.
Итак, молодой Ницше сделал свой выбор — он будет стремиться к истине
во что бы то ни стало: «Нет, — говорит он в том же письме, — мы стремимся к
истине, как бы ужасна и отвратительна она ни была» 25. Истина, по Ницше,
труднее, чем религия, еще и потому, что она «ужасна и отвратительна». И, ко-
нечно, это и будет самым трудным: преодолевать стремление к счастью, по-
беждать свой ужас и страх. Вера ему представляется тихой гаванью, отдохно-
вением души и покоем сердца. Ницше отвергает евангельские слова «Я есмь
путь, истина, и жизнь». Для него истина, жизнь и путь прочно определились
вне веры — как призвание «свободного духа» (Freigeist), ищущего безусловно
«ужасной», даже «отвратительной» истины. Молодой Ницше еще ее не нашел,
но он уже заранее знает, что она будет неимоверно тяжела и сурова (априорный
трагизм истины).
«Религиозность, если только она не поддерживается ясной мыслью, — го-
ворит он, — вызывает у меня отвращение» 26. Похоже, что «ясная мысль» ред-
ко поддерживала христианство в глазах Ницше. Однако теперь ясность мысли,
действующей в тени нашего опыта, связывается ею же самой не с разоблачени-
ем веры как антижизненного предрассудка, а, напротив, с признанием жизнен-
ности ее смысла и тайны, которые она чувствует себя призванной хранить. Я
имею в виду не расплывчато общий опыт всех, а единичный опыт каждого.
Если бы нам век или Бог посылал только отменное здоровье, легкость, эйфо-
рию удачного познания, все прозревающего, если бы мы знали только звеня-
щую бесконечность и неописуемую мощь наших сил, если бы мы только пля-
24 Там же.
25 Там же.
26 Там же. С. 115.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
327
сали и пели дифирамбы жизни, как того хотел Заратустра у Ницше, если бы мы
захлебывались ощущением своей все возрастающей способности все раскри-
тиковать, все преодолеть и победоносно навязать нашу волю всему миру, если
бы, если бы, если бы... Если бы не умерла моя мама, если бы под трамвай не
попал мой друг, если бы... Каждый рано или поздно найдет свои стены, свои
пределы, свои «проколы», свой крах, свой кризис, свою депрессию, свое «не
могу»... И были неописуемые кровопускания, и было истощение человека и
земель, и была растерянность, которой не знал мир. И что же нам теперь де-
лать? Продолжать крестовый поход против религии за новые патенты и кон-
серванты? От науки мы не отказываемся — она с нами остается. Но и от хрис-
тианства не хотим отказываться тоже. О какой интеллектуальной совести гово-
рил Ницше, когда противопоставлял науку и христианство, отождествляя дух
правдивости только с индифферентной или даже, скорее, атеистической нау-
кой, — нам теперь уже не понятно. Не в том ли теперь правдивость и чест-
ность мысли, чтобы признать нашу фактическую конечность в качестве тела,
мысли, воли, духа, личности, общества — как хотите?
И что нам теперь может предложить богоборческий атеизм в духе Ницше?
Продолжать «наматывать» распускающуюся в бесчисленных значениях «ми-
ровую нить» событий на одно и то же «веретено» бренного, неуверенного в
себе субъекта? В самой машинальности этого жеста не улавливаете ли вы ску-
ки и безысходности? Делать вид, что, освободившись от Бога, мы обрели са-
мые светлые и надежные идеалы, самые радужные и наконец-то лишенные
иллюзий перспективы — как это, в конце концов, фальшиво! Вот какая пере-
мена произошла или, по крайней мере, наметилась в нашей чувствительности
по отношению к миру высших ценностей после Ницше. То, что проницатель-
ным умам в прошлом веке казалось правдой, теперь выглядит как интеллекту-
альная нечистоплотность, даже лживость. Чувствуете, стрелы этих слов ниц-
шевские, но острия их наконечников заточены уже не против религии и мора-
ли, а, напротив, против того кисло-молочного гуманизма без берегов веры, того
расплывчатого персонализма без Персоны, которым мы в глубине души уже не
можем доверять быть основой всех наших усилий и познаний.
Мы поняли за эти сто лет, отделяющие нас от Ницше, что в своем научном и
философском богоборчестве безбожно и бесчеловечно зарвались и заврались.
И что теперь долг чести ума и совести разума зовет нас к тому, чтобы вернуть
вещам их имена — не по Ницше, не по Марксу, Фрейду и Фейербаху, не по
теоретикам «школы подозрения» (слова П. Рикёра), а по слову и делу скром-
ных практиков той школы, которая учит нас видеть не только земную «подно-
готную» вещей, но и их «наднебесную» сущность. При таком повороте взгляда
на мир имена в конце концов приближаются к самим вещам, что не может не
радовать разум. И такая школа есть не «школа подозрения» (от нее мы уже
328
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
бесповоротно отошли) и даже не «школа надозрения» (для грешного человека
слишком высока), а школа прозрения. К ней мы и стремимся.
Чем же увлечен Ницше, когда он рвет со «старой верой»? Исканием новых
путей, таков его ответ, «которые приведут нас к истинному, прекрасному, доб-
рому» 27. Существенным здесь выступает слово «новые» — для Ницше вера
была, а еще более казалась, привычным наследием или наследием привычки.
Гордая, честолюбивая и талантливая молодежь всегда стремится создать нечто
новое и достойное поклонения. Этот элементарный закон жизни действует и в
случае Ницше.
Слова об истинном, прекрасном и добром — жест в сторону идеала — по-
кажутся затем Ницше старыми словами, и он станет их разоблачать, рисуя в
карикатурных тонах «фабрику идеалов». Истина, красота и тем более добро
как таковые будут поставлены под вопрос, им будет дано «физиологическое»,
снижающее их прочтение. Нам здесь существенно зафиксировать сам разрыв
сферы неопределенного идеала, делящий ее на то, к чему устремлен порыв,
ориентирующийся на «новые ценности», и на то, что выглядит как «устарев-
шие ценности». Итак, мы констатируем, что Ницше с молодости был ориенти-
рован на поиск идеалов по ту сторону христианства.
Ницше всегда хотел наитруднейшего, а христианская вера казалась ему слиш-
ком легким видом идеала. И в силу этого, считал он, ее следует решительно
оставить, пустившись в опасное плавание к новым идеалам. Бездна нового —
радикального — атеизма казалась молодому философу более заманчивым по-
прищем, чем старое христианство, «зарегулированное» церковью и обычаем,
во всяком случае, более трудным делом, которое следовало бы выбрать тому,
кто стремится к величию человека.
Однако выбор молодого Ницше, определивший его философию, есть выбор
лишь относительно трудного. Резонно спросить: а не просчитался ли Ницше в
своем выборе, приняв на самом деле более легкое за самое трудное? В середи-
не XIX века стремящуюся к знанию молодежь действительно больше привле-
кали «трудные» атеистические бездны, откровенно богоборческие тезисы ни-
гилизма, анархизма и материализма, чем казавшиеся ей устаревшими идеалы
христианства. Поэтому в своем выборе Ницше не был оригинален. Оригиналь-
ность его была в другом — в том, с какой страстью, проницательностью и твор-
ческой силой он последовал по этому «новому пути».
Христианскую мораль буржуазного общества Ницше третирует как «стадо-
образную». Для него она сродни инфекции лицемерия и тартюфства. Но в ис-
тории ситуации меняются. Пройдет столетие, отгремят тоталитарные антире-
лигиозные погромы, наберет силу кажущаяся неизбежной секуляризация ин-
27 Там же. С. 30.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
329
дустриальных обществ — и атеистическое решение станет куда менее труд-
ным, чем противоположный ему выбор.
Ницше как-то не предусмотрел, что возможно «стадо» не только верующих28,
но и атеистов, исповедующих при этом тот же самый радикальный материа-
лизм, что и сам его вдохновенный пропагандист, давший образец подобной
проповеди, например, в предисловии ко второму изданию «Веселой науки».
«Лучшие», т. е. «аристократы», никогда не толпятся — это убеждение Ницше
внесло свой вклад в его разрыв с христианством в начале 60-х годов. Но толпа
«сверхчеловеков» стала мрачной реальностью XX века, в результате чего «ари-
стократическими» ценностями снова стали изрядно «обстрелянные» ценности
христианства.
Итак, проявлением избытка жизненной силы и глубины духа, свидетель-
ством интеллектуальной честности — все это типично ницшевские резоны —
может быть не только выбор атеистического тезиса (как считал Ницше), но и
прямо ему противоположный выбор. На самом деле абсолютной свободы вы-
бора не существует: сознания с его логикой не хватает для его реализации.
Нужно еще нечто вне-субъективное, например некая музыка сирен (новое, ге-
роическое, творческое, благородное...), при выборе радикального атеизма, иду-
щего до конца своей логики. Или дуновение благодати при выборе «скачка в
веру». Характерно, что вот этого понятия (благодати) у Ницше мы нигде не
находим: он его как бы и не знает или не хочет знать вовсе. Все, что хоть как-то
связано с трансценденциеи, у него принимается только в качестве иллюзии
или же совсем отсутствует.
Ницше и Маркс: сходство и различие
Параллель Ницше — Маркс не случайна. Оба мыслителя на равных пред-
ставляют одну и ту же некогда бывшую элитарной «школу» XIX в. — «школу
подозрения». «Подозревающее» познание ориентировано на то, чтобы в цен-
ностно значимом явлении видеть его происхождение из «низин» человеческо-
го существования. Герменевтика «подозрения» настроена снижающим обра-
зом по отношению к объекту истолкования. Ницше ясно осознавал свой метод
как метод именно подозрения. «Беспощадное, основательное, из самых низов
идущее подозрение относительно нас самих», — говорит он, — так ставит свой
важнейший вопрос или страшную дилемму: или отбросить то, что почитается
человеком (т. е. Бога, моральные ценности), или отбросить самого себя 29. Но
отбрасывание человеком себя есть явный нигилизм — самоотрицание, само-
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 312.
Там же. Т. 1. С. 667.
330
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
унижение и самоумаление. Остается вопрос относительно первой половины
дилеммы: означает ли ситуация «смерти Бога» и устранения морали ситуаци-
ей, которую тоже следует считать нигилизмом? Или же человек может выдер-
жать ее и преодолеть содержащийся в ней нигилизм, сотворив новые ценно-
сти? Ницше стремится именно к этому.
Метафизика подозрения как познавательного метода резюмируется Ницше
в таком суждении: «Мир, в котором мы живем, небожествен, неморален, "бес-
человечен"» 30. Под этой фразой мог бы подписаться и Маркс, правда, при од-
ном непременном условии. Маркс считал бесчеловечность мира историческим
его состоянием, которое может и должно быть преодолено благодаря снятию
«отчуждения» человека в ходе становления нового общественного строя —
коммунистического. У Ницше же сам человек был признан «мостом» к суще-
ству более совершенному, сильному и могучему, чем он сам (идея сверхчелове-
ка). Поэтому если Маркса можно причислить к особого рода гуманистам (со-
циальным или родовым, используя терминологию раннего Маркса, идущую от
Фейербаха), то Ницше — сверхгуманист, поскольку основной мифологемой
относительно человека и его судьбы у него выступает тезис о сверхчеловеке.
Что же касается подозрения как метода, то аналогия Маркса и Ницше здесь
очевидна, с тем лишь уточнением, что если Маркс озабочен выявлением эко-
номических и социальных оснований сознания (классовая борьба, способ про-
изводства как базис общества), то Ницше интересуется его витальными корня-
ми — ролью инстинктов, страстей, привычек тела и его болезней в объясне-
нии той сферы, которую привыкли называть высшей (идеалы, философия,
метафизика, мораль, религия...).
Как следует из сказанного, параллель коммунизма у Маркса и нигилизма у
Ницше заслуживает анализа. Не делая ее фокусом наших заметок, нельзя при
этом не отметить, что и у Маркса, и у Ницше в данном случае речь идет не
столько об отдаленном будущем человечества для Европы, сколько о происхо-
дящем в самой современности движении. И коммунизм, по Марксу, и ниги-
лизм, по Ницше, — это не столько статические данности, сколько актуальные
движения в будущее, ставящие вопрос (или предлагающие решение) по пово-
ду судьбы человека. При этом сходстве существенно, однако, и различие: у
Маркса коммунизм — и движение, уничтожающее современное состояние, и,
одновременно, оптимистически оцениваемый строй будущего человечества,
преодолевшего отчуждение. У Ницше нигилизм не только преодолевает совре-
менное состояние господства морали и вялой религиозности, но и сам должен
быть преодолен. В этом его принципиальное отличие от коммунизма, о пре-
одолении которого у Маркса ничего не говорится.
Там же.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
331
Ведущие понятия в истолковании мировой истории у обоих мыслителей
предстают в одной и той же символике. Это символика замогилья, мира приви-
дений и призраков. У Ницше: «Нигилизм стоит за дверями... этот самый жут-
кий из всех гостей» 31. У Маркса: «Призрак бродит по Европе — призрак ком-
мунизма» 32.
Но явно и отличие. У Ницше Европа долго впадала в нигилизм, пока, нако-
нец, он не «разгорелся» вовсю. Нигилизм — это своего рода выгорание всех
ценностей и вместе с ними самой высшей из них в глазах Ницше — ценности
жизненной силы, творческой мощи, независимости и свободы индивида, для
которого нет никаких обязательств, кроме стремления к самосозиданию, к ро-
сту своего могущества, к избытку витальности. Но для движения по этому пути
требуется преодоление нигилизма в творчестве новых ценностей, которые бы
освободили жизнь как эту волю к самой себе, к росту своей мощи. Идеал сво-
бодной независимой личности как цели истории, сознательно волимой людь-
ми, практически,совпадает у Маркса и Ницше. Но если у Маркса коммунизм
как актуальное движение только нацелен на такую индивидуальность (царство
свободы по ту сторону царства необходимости, ничем не ограниченный рост
сил общественного человека как самоцель), то у Ницше свободный человек
как индивид, выступающий созидателем новых ценностей, предпослан про-
цессу преодоления нигилизма. Маркс кончает тем, чем Ницше начинает (сво-
бодный индивид). Другое важное отличие состоит в том, что если Маркс стре-
мится установить объективную систему исторических координат для всего этого
движения и тем самым для истории в целом, то Ницше этим совсем не озабо-
чен: он верит в самоначинающую свободу индивида, а не в объективные зако-
ны истории и поэтому не намерен подыскивать для нее какие-то исторические
пути, вплетая индивида в историю, в ее систему.
Маркс — историцист. Для него история — единственная высшая наука, найти
законы которой значит постичь истину самого бытия, раскрыть сущность мира.
Ницше — антиисторицист, сводящий само историческое измерение в своей
поздней мифологеме (вечное возвращение того же самого) к нулю. Правда, в
этом отношении он далек от последовательности и, например, критикует Шо-
пенгауэра за его нечувствительность к истории.
«Оседлать» исторический процесс, «очеловечить» его, подчинив его чело-
веку как целеполагающему существу, — в этом Маркс сходится с Ницше. Как
и родоначальник научного коммунизма, Ницше обдумывает возможность но-
вой истории — истории по ту сторону «чудовищного господства бессмыслицы
31 Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей (1884—1888) //Ницше Ф.
Поли. собр. соч. М., 1910. Т. 9. С. 7.
32 Маркс К., Энгечьс Ф. Соч. М., 1955. Т. 4. С. 423.
332
Глава IV. XIXстолетие: философия жизни
и случая» 33. Но этой хаотически, случайно развивающейся истории он, в отли-
чие от Маркса, противопоставляет не созидание новых более разумных обще-
ственных отношений, а новую волю, глубинное и упрямое стремление челове-
ка как индивида к своей самореализации как реализации жизни. Воля к могу-
ществу человека (к власти) присутствует и у Маркса, но она неотделима у него
от разума, от рациональности, от их прогресса. Маркс строит наукообразную
утопию будущего, в которой на передний план, как и у утопических коммуни-
стов, выходят наука и техника, находящие адекватные условия для своего раз-
вития в новом общественном строе, на котором и делается ударение. В отличие
от Маркса Ницше больше интересует сам индивид, его порыв к самореализа-
ции. Ницше мучают не столько несовершенства социального строя современ-
ной ему Европы, сколько тоска по утраченному величию индивида, по сильно-
му и благородному типу человека. Если Маркс явно социоцентрист, то Ницше,
если угодно, лирический теоретик индивидуализма: социоцентристский редук-
ционизм классика марксизма у Ницше сменяется биоцентристским редукцио-
низмом особого, не-дарвиновского типа.
Итак, «оседлать» исторический процесс стремятся оба мыслителя, но раз-
личие их в том, какие пути ими при этом предлагаются. Овладеть историей с
помощью воли, жизненного инстинкта, властной витальности с ее могучим
«так я хочу!» или же овладеть ею средствами разума с его наукой и техникой —
вот в чем различие. Однако и там и здесь бьется та же самая и, по сути дела, ни
с чем не считающаяся воля к могуществу, в какие бы тона ни рядился иниции-
руемый ею редукционизм.
Отметим еще некоторые сходные мотивы у Ницше и Маркса, подчеркнув и
связанные с ними различия. Общим у обоих мыслителей является тот пункт,
исходя из которого они критикуют современное им общество и который мож-
но обозначить как принцип целостности человека. Мы уже упомянули об от-
чуждении человека у Маркса. Отчуждение, по Марксу, снимается на коммуни-
стической стадии общественного развития, при этом утраченная в результате
разделения труда целостность человеческой личности восстанавливается. Про-
тест против раздробленности человека буржуазного общества, его фактиче-
ского превращения в нового раба, в «винтик» машинного производства и мас-
сового общества, сопровождаемого отрывом от культуры, — все это у Ницше
мы находим, пожалуй, выраженным в еще более остро критической форме,
чем у Маркса. Но рецепты обретения целостности человека у них диаметраль-
но противоположны или, во всяком случае, различны.
Действительно, Маркс связывает снятие отчуждения с утверждением раци-
ональной «прозрачности» общественных отношений, с достижением полной
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. С. 133.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
333
рационализации социальной машины в целом в целях беспрепятственного и
ничем наперед не ограниченного роста могущества человека. Ницше в прин-
ципе этой же конечной цели стремится достичь иными средствами, призывая
не к социальной революции и преобразованию базиса общества на рациональ-
ной основе, а к новому мифу как последней трагической истине жизни. Иначе
говоря, мы имеем здесь дело с двумя различными версиями выхода из «раз-
дробленного» состояния человека и из всей эпохи буржуазности как судьбы
человека нового времени. У Маркса это — рационалистическая наукообразная
утопия, выдающая себя за неопровержимо строгую объективную науку (так
называемый научный коммунизм), у Ницше — иррационалистическая
(анти)утопия, согласно которой свободная воля человека чертит новые скри-
жали и утверждает нового, целостного, человека будущего, обозначенного у
него как «сверхчеловек».
По Ницше, именно разум и отвечает за нынешнюю раздробленность чело-
века, за его ущербность и частичность. Начало этого «физиологического» упадка
он связывает с явлением Сократа, победившего старую жизненно-полноцен-
ную культуру греков, примером которой были софисты. С Сократом на арену
истории выступает сократовско-александрийский тип культуры, ответственный
за декаданс и нигилизм. Если Ницше ведет критику современности с помощью
философии жизни как теоретик культуры, то Маркс, как известно, выступает в
той же функции критика в качестве социального теоретика и экономиста.
Но при всех этих различиях, подчеркнем еще раз: общей у обоих мыслите-
лей является сама цель — человеческая сила как самоцель. И у Маркса, и у
Ницше целью человека выступает свободное и ничем не ограниченное само-
развитие человеческой мощи — способностей овладевать миром и диктовать
ему свою волю. В частности, у Маркса мы читаем, что в коммунистическом
обществе по ту сторону материального производства «начинается развитие
человеческой силы, которое является самоцелью» 34.
Едва ли Ницше читал Маркса. Но марксизм и идеи социализма ему были
хорошо известны — их он включал в обойму «современных идей» и подвергал
самой резкой критике как проявление нигилизма, как атеистическое продол-
жение того «восстания рабов в морали», которое он отождествил с истоком
христианства. В социализме для Ницше прежде всего была неприемлема его
плебейская суть, обнаруживаемая в инстинкте злобной мстительности по от-
ношению к господствующим классам (ressentiment). Социализм для Ницше,
как впоследствии и для Бердяева, есть лишь шаржированное продолжение ста-
рого буржуазного мира, им решительно отвергаемого. В радикализме критики
буржуазного общества и его культуры Ницше протягивает руку Марксу. Слова
34 Маркс К. Капитал. М., 1954. Т. 3. С. 833.
334
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
«критика», «революция», «радикализм» и т. п. являются общими и для Маркса,
и для Ницше, хотя конкретное их наполнение у каждого из них свое.
С возникновением ленинизма и, соответственно, неленинской версии марк-
сизма (в России это прежде всего меньшевизм) ницшевскую тональность в
критике буржуазного общества заимствует именно марксизм-ленинизм или
большевизм. Вехой в осознании сближения постленинского большевизма с
идеями Ницше стала книга Г. Манна, смешавшего пафос пророка Заратустры с
программными лозунгами сталинской компартии 35.
Черты, сближающие ницшеанство с большевистской версией марксизма,
были проанализированы видным марксистским теоретиком Д. Лукачем 36. Он
расценил Ницше как иррационалиста, пророчествовавшего о наступлении но-
вой эры — эры империализма — в эпоху позднего капитализма. Для него Ниц-
ше — «философский гид» в мир современного империализма, и поэтому ниц-
шеанство, говорит Лукач, — это «протофашизм». В подобной рационалисти-
ческой отповеди Ницше прочитывается скрытая полемика ревизиониста Лукача
с догматической сталинско-ждановской версией марксизма. Для Лукача стали-
низм — это течение в марксизме по своим принципам близкое к ницшеанству
(близкое по своей беспринципности прежде всего, если не считать за принцип
«волю к власти» в ее протопрагматистском прочтении). Действительно, Ниц-
ше героизирует фигуру Борджиа, итальянского властителя, прототипа госуда-
ря у Н. Макиавелли, умного, трезвого, но жестокого и циничного политика,
мэтра в искусстве завоевания и удержания власти. Антиницшеанство Лукача
связано, таким образом, с его антисталинизмом.
Разочарование в реальном социализме и интерес в связи с этим к марксиз-
му, основанному на иррационалистическом материализме, предтечей которого
в Италии считают Дж. Леопарди (идеями и настроениями в чем-то предвосхи-
щавшего Ницше), приводят к тому, что часть коммунистов увлекается Ницше
до такой степени, что итальянский марксист М. Монтинари предпринимает
героический труд — издание полного собрания всех текстов Ницше, работа
над которым велась в ГДР, где находился архив немецкого философа.
Иррационалистическо-материалистическая версия марксизма отрицает ра-
дикально всякую буржуазность, включая сюда и государство реального социа-
лизма, принимая из классического марксизма только сам коммунистический
идеал как далекую перспективу и эталон для критики любой формы подавле-
ния свободы личности. Для этой версии марксизма характерно принятие за
абсолютную ценность человеческую личность, ее свободу и права, причем глав-
ной угрозой для нее выступает государство во всех его разновидностях, вклю-
чали H. Les pages immorteles de Nietzsche. Paris, 1948.
Lukacs G. Zerstôrung der Vemunft. Berlin, 1952.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
335
чая либеральную демократию и государство стран реального социализма. Эта
анархоиндивидуалисти^еская и иррационалистическая версия марксизма близка
к ницшеанству, в котором акцент ставится также на грядущем освобождении
индивида, на его примате по отношению ко всем (псевдо)коллективистическим
тотальностям (государство, церковь, партия и т. п.). Вторая общая черта такой
версии марксизма с учением Ницше состоит в том, что в центр внимания в
этом анархолиберальном иррациональном его варианте попадает именно жизнь,
власть и господство как содержание воли. Поэтому в таком марксизме (к нему
близок, в частности, М. Фуко, хотя у него и нет, как он выражается, «коммуни-
стологической» веры) воля к власти рассматривается вместе с волей к истине.
Само понятие воли к истине взято Фуко у Ницше, который подверг его плодо-
творному вопрошанию, связывая и с фактами культуры (прежде всего с хрис-
тианством), и с факторами природы (жизни). Влияние Ницше на всю пробле-
матику концепции «власти-знания» у Фуко огромно, и ницшевская генеалогия
морали стала прообразом его генеалогии «власти-знания» 37.
Ницше, этот индивидуалист из индивидуалистов, чаще всех коллективи-
стов вместе взятых употребляет местоимение «мы». «Мы, филологи», «мы,
философы», «мы, свободные духом», «мы, бесстрашные», «мы, смеющиеся»,
«мы, выздоравливающие», «мы, имморалисты», «мы, сорвиголовы духа», «мы,
свободнорожденные птицы», «мы, спутники света», «мы, безбожники», «мы,
антиметафизики»... — несть числа этим «мы» у этого очень одинокого чело-
века, всю жизнь мечтавшего об общине друзей и единомышленников. Вот
один только пример: «Мы, художники! Мы, утайщики естественности! Мы,
сомнамбулы и богоманы! Мы, смертельно спокойные...» 38. Этим л*ы-ча(я)-
ниям Ницше действительно нет конца — варьировать их он может и, глав-
ное, хочет до бесконечности. Ницше всегда чаял общения как общности в
«мы». И чем более одинок он был в своей жизни, тем призывнее звучали эти
чаяния «мы» в его произведениях. И наоборот: чем сильнее он настаивает в
своих текстах на уникальности человека, на его единственности, тем силь-
нее он сам как человек стремится к соединению с другими. Призывы к созда-
нию общины, к совместной жизни слышатся в его письмах постоянно, но
только, кажется, в последние месяцы 1876 г. ему удается собрать нескольких
друзей (Бреннера и Поля Ре) в искомую компанию, в которой, как он пишет,
«сосредоточиваются размышление, дружба, изобретательность, надежда, ко-
роче говоря, частица счастья» 39.
37 Foucault M. Nietzsche, généologie, l'histoire // Hommage à Jean Hyppolite. Paris, 1971.
P. 145—172.
38 Ницше Ф. Собр. соч.: В 2 т. T. 1. С. 552.
39 Письмо к Луизе Отт от 16 декабря 1876. Цит. по: Gandillac M. de. La société des
336
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
А вот еще более грандиозный и поэтому не осуществленный проект в том
же духе: Ницше строит планы создания «колонии Идеала» (Idealkolonie), свое-
го рода «современного монастыря», рассчитанного примерно на сорок чело-
век. Это был бы и «свободный университет» 40. Но это все — теория. На прак-
тике же преобладали все те же долгие одинокие прогулки посреди великолеп-
ной альпийской природы. И Ницше понимает, что главное — уметь «дружить с
самим собой», уметь ждать самого себя 41.
«Мы» действовало на Ницше магически — оно отвечало его глубоко укоре-
ненным стремлениям к общению, к лидерству, к основанию учения и к жизни
в соответствии с ним, к своего рода религиозной общине, будь то «религия»
вечного возвращения того же самого или сверхчеловека. Маркс, физиогноми-
чески чем-то даже похожий на него, ну, например, фигурой мощного лба, имел,
пусть и крохотную вначале, свою коммунистическую партию. У Ницше же не
было никакой. А ведь темперамент и амбиции их были сходных масштабов и
равновеликих энергий. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать письмо
молодого Маркса к отцу (1837 г.) и сравнить его с письмами молодого Ницше.
Конечно, Ницше артистичнее Маркса. Зато Маркс, пожалуй, сильнее привязан
к науке, ему ничего не стоило бы пересидеть Ницше в библиотеке. Попрыгун-
чик-аристократ, с одной стороны, и демократический труженик письменного
стола — с другой. Лирик-импровизатор, который под конец своей сознатель-
ной жизни мог спокойно жить только в прекрасной Венеции, — и теоретик-
систематик, не слезавший с рабочего стула своего лондонского кабинета. Вот
огромное различие их как «физиологических типов». Но оба — Прометеи,
оба — отчаянные богоборцы, титаны с непомерными амбициями то человеко-
водства (Ницше), то толповодителъства (Маркс).
Опыт Ницше: культурологический урок
Культурологический смысл события Ницше в том, что благодаря ему рас-
крылись условия несовместимости христианских, с одной стороны, и антич-
ных — с другой, начал европейской культуры. Анализ творчества Ницше по-
зволяет понять механизм такого конфликта, грозящего взорвать европейскую
культуру, нарушив ее равновесие. В первом приближении он включает в себя
две основные стадии. На первой из них происходит высвобождение из-под на-
слоений гуманистическо-классицистской трактовки греческой культуры, ее
дионисически-языческих начал. Этот процесс делается возможным благодаря
surhommes // Magazine littéraire. 1992. № 298. Avr. P. 54.
40 Письмо к сестре от 20 июня 1877. См.: Там же.
41 Так говорил Заратустра, III; О духе тяжести.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
337
воспитанной самим христианством правдивости, перешедшей в интеллекту-
альную и научную честность. Христианская правдивость выступает при этом
как «перебежчик» из стана христианства в лагерь язычества, так как именно
она открывает доступ в современную Европу дионисийству, натурализму и
имморализму греков, готовя настоящую «бомбу» для христианской культуры.
Эту работу Ницше начал как филолог-антиковед в своей первой книге «Рожде-
ние трагедии из духа музыки». Но с уточнением своей миссии в культуре он
оттачивает выявленные им дионисийско-языческие начала в качестве орудий,
призванных сокрушить христианские начала. При этом поле конфликта ука-
занных начал все время расширяется. Так, например, Ницше подчеркивает
диаметрально противоположные установки христиан и язычников по отноше-
нию к страстям 42, показывает, что подобный разрыв существует и в отноше-
нии к понятию греха: «Греческая древность, — подчеркивает Ницше, — мир,
лишенный чувства греха» 43. В результате несовместимость духа древней Гре-
ции с духом христианства приобретает глубину и размах, ставя под вопрос всю
европейскую культурную традицию и ее современное воплощение. Речь идет,
таким образом, по сути дела о восстании дионисийства в недрах европейской
культуры, приобретшей формы, в которых доминирует христианство.
Вторая стадия процесса вытеснения христианства язычеством протекает в
форме прямого бунта греко-языческого духа против христианства, его морали
и всей культуры, на нем основанной. Атака на христианство ведется теперь с
позиций метафизики жизни и воли к власти. Христианские ценности рассмат-
риваются как ценности «слабых», как симптом физиологического упадка. «Вос-
стание рабов в морали», определяющее, по Ницше, генеалогическую сущность
христианства, вызывает ответное восстание греческого духа против морали,
защищающее ценности полнокровной жизни.
Механизм конфликта сводится, таким образом, во-первых, к самоотрица-
нию христианских устоев культуры Европы и, во-вторых, к отрицанию их со
стороны греко-языческих начал, таившихся, так сказать, до поры до времени в
тени. Приглядимся к этому механизму, опираясь на тексты философа. «Что, —
вопрошает Ницше, — если спрашивать со всей строгостью, одержало победу
над христианским богом?» И тут же отвечает: «Сама христианская мораль, все
с большей строгостью принимаемое понятие правдивости, утонченность ис-
поведников христианской совести, переведенная и сублимированная в науч-
ную совесть, в интеллектуальную чистоплотность любой ценой. Рассматри-
вать природу, как если бы она была доказательством Божьего блага и попече-
ния, интерпретировать историю к чести божественного разума... — со всем
42 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 599.
43 Там же. С. 597.
22 - 3357
338
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
этим отныне покончено, против этого восстала совесть, это кажется всякой
более утонченной совести неприличием, бесчестным, ложью, феминизмом,
слабостью, трусостью...» И затем с присущей натуралистическому миропони-
манию меланхолией Ницше констатирует: «Все великие вещи гибнут сами по
себе, через некий акт самоупразднения: так требует этого закон жизни, закон
необходимого "самопреодоления", присущий самой сущности жизни» и. Ниц-
ше не сомневается в том, что наука продемонстрировала свою способность
быть настоящим могильщиком христианства. Наука «доказала, — говорит он, —
что она может отнимать и уничтожать» цели, имея в виду ценности христиан-
ства и морали, на нем основанной 45. При этом он подчеркивает значимость
самого христианства в генезисе науки нового времени. Так, например, в этом
процессе важную роль играла вера в возможность постижения божественной
благости через развитие научного познания мира 46. Но сам он считает эту веру
чистым заблуждением. Для Ницше важно показать, что в основе продуцирова-
ния научных знаний лежат заблуждения, что само господство «воли к истине»
установилось на базе ошибок, что в основании истины как социально-интел-
лектуального режима лежит ложь.
Самоотрицание христианства через науку и ее этос — первый такт обнару-
жения несовместимости начал европейской культуры. В результате в качестве
основания культуры Европы обнажается дохристианское греко-римское насле-
дие. Следующий шаг в этом процессе — отказ от обнаружившейся в открыв-
шемся слое всей александрийско-сократовской культуры, в результате чего
обнажаются глубинные дионисические основания античной Греции. Сократ,
Платон и их продолжатели для Ницше — слишком «христиане», слишком «де-
каденты», слишком рационалисты и отрицатели жизни, чтобы быть родона-
чальниками той жизненной культуры, к которой он устремлен. Все они поэто-
му ставятся им в ряд жизнеотрицателей наряду с другими идеалистами, мета-
физиками, учителями морали и проповедниками добра.
Нельзя не обратить внимания на амбивалентность всех этих построений
Ницше. Самоотрицание культурной традиции Европы прочитывается как от-
рицание через «другое», поскольку интеллектуальная совесть и научная чест-
ность, выпестованные христианством, выступают на стороне дионисова воин-
ства («перебежчики»), как послушный инструмент этого языческого божества,
борющегося как с Аполлоном, так и с Христом. Восстание жизни против гос-
подства разума осуществляется с использованием его этических начал — на-
учной совести. Основные события этой драмы удивительным образом двоят-
44 Там же. Т 2. С. 523.
45 Там же. Т. 1.С. 521.
46 Там же. С. 540.
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
339
ся. Ницше дает основание прочитывать его миссию как мистерию «распятого
Диониса». Прежде всего «распятие Диониса» надо понимать как износ жиз-
ненной силы европейского человечества, как физиологический упадок челове-
ка-творца. Но Ницше воскрешает Диониса, дионисическое начало обретает в
нем свой голос. И это «восстание Диониса» есть одновременно и его второе
«распятие» — искупительная жертва, спасающая от ночи нигилизма Европу.
«Воскресение» и «распятие» Диониса в лице его пророка, самого Ницше, па-
радоксально совмещаются, даже совпадают друг с другом. Парадоксальный
«брак» христианской научности и дионисической силы жизни необходим, что-
бы возникло «потомство», могущее преодолеть состояние хронической утраты
высшими ценностями их значимости (нигилизм). «Нигилистическая» наука,
хранящая свое христианское происхождение, и антихристианское и антинауч-
ное дионисийство должны соединиться, чтобы стал возможен «сверхчело-
век» — «антихрист» и «антинигилист». Неудивительно, что, набравшись такого
«динамита», Ницше осознавал свою взрывоопасность. «Я из числа тех ма-
шин, — пишет он П. Гасту, — которые могут ВЗРЫВАТЬСЯ!» 47 Один из пред-
сказанных «взрывов» в форме срыва в безумие и произошел в январе 1889 г. в
Турине.
Итак, самоотрицание христианства через науку и всю техногенную цивили-
зацию совершает лишь первый шаг в этом конфликте ценностей, обнажая про-
пасть нигилизма. Второй шаг — это уже прямая миссия Диониса — творче-
ство и вхождение в культуру новых антинигилистических ценностей, утверж-
дающих жизнь, долженствующих дать смысл земному существованию, вне
которого другого уже не мыслится. Преодоление нигилизма Ницше связывает
с грядущим восхождением сверхчеловека, освещенным светом экстатически
раскрывшегося вечного возвращения того же самого, в котором живет неиз-
менное «Да!» этой жизни, ее чистому присутствию. Вечное возвращение —
символ земли и бытия вообще как самоволящей воли, открывшейся самой себе
и приветствующей себя навеки как всегда желанное. В грядущем восхождении
сверхчеловека (над землей) дионисическое начало борется с последствиями и
остатками нигилизма — с вялым христианством современности, с полупози-
тивизмом, с моралью ханжей и безбожников, не могущих расстаться с «мора-
лином». Эта борьба развертывается по формуле: «Дионис против Распято-
го...» 48.
Непомерность задачи, которую Ницше взял на себя, допускает множество
интерпретаций. Одна из них: Ницше — философ цельного духа европейской
культуры. Но сама эта культура в ее корнях не цельна, не завершена, не являет-
Klossowski P. Nietzsche et le cercle vicieux. Paris, 1969. P. 91.
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. T. 2. С. 769.
22*
340
Глава IV. XIX столетие: философия жизни
ся стабильной замкнутой системой. Этот же самый смысл может быть прочи-
тан и таким образом: ни один из исторически осуществленных синтезов начал
этой культуры (античное наследие плюс христианство) не является окончатель-
ным. Ницше хотел завершенной формы (цельности и целостности) для родной
ему европейской культуры, но она сама ею не обладала. Вот как может истол-
ковываться непомерность миссии Ницше. Отсутствие завершенной формы есть
основная причина удивительного внутреннего динамизма этой культуры, част-
ным проявлением которого является ее активная экспансия (модернизация,
вестернизация).
В указании на причины характерного для Европы динамизма ее культуры, в
раскрытии внутреннего конфликта ее оснований мы видим главный культуро-
логический урок творчества Ницше.
Доведя атеизм до его крайних пределов и сорвавшись в этом рискованном
эксперименте, не освободил ли Ницше тем самым человека от искуса фило-
софского атеизма вообще, или, по крайней мере, не заставил ли он усомниться
нас в его безусловной плодотворности? Однако такой предостерегающий урок
не был в полной мере, как нам это кажется, усвоен, так как движение к полно-
му и все более и более радикальному атеизму продолжалось и после Ницше
(А. Камю, Ж.-П. Сартр и др.). Но не было ли оно в духовном смысле по сути
дела вращением на одном и том же месте, уже ясно обозначенном Ницше?
Надо ясно отдать себе о*чет в том, что, проделав опасную работу каскадера
культуры, разыгрывающего драму высших ценностей и сорвавшегося при этом,
Ницше освобождает нас от необходимости повторять его рискованные трюки
и снова идти до конца в принятии атеистического тезиса. Тем самым — пусть
это и парадокс — Ницше приоткрыл дополнительную возможность для того,
чтобы к нам, в мир декларированной им богооставленности, вернулся Бог. От-
крытость и готовность бытия к этому возврату как бы обновились и укрепи-
лись в результате неудавшегося эксперимента Ницше. В свете его опыта буду-
щее безумие на почве атеистического массового психоза обессмыслилось. И
благодаря этому путь к вере стал просторнее, освободившись от завалов, на-
громожденных в результате ее работы в мире, той работы, в ходе которой ста-
рятся и сами бессмертные...
Но если соблазн радикального атеизма внутренне, духовно-экзистенциаль-
но и изжит европейским человечеством, то это еще вовсе не означает, что он
изжит де факто, эмпирически. Сегодня современный интеллектуальный мир
встречает веру не столько пламенным богоборчеством в духе Ницше, сколько
теплохладным скепсисом (пост)структуралистской культурологии, с равным
равнодушием ассимилирующей в научном дискурсе и атеизм, и веру как фено-
мены культуры. В результате мы, видимо, еще сильнее отдалились от наших
истоков, чем Европа в эпоху Ницше. Правда, как мы уже сказали, путь к ним
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня
341
расчистился, и внутренних соблазнов поубавилось. Но и анонимно-машинооб-
разная секуляризация вряд ли сбавляет обороты. И поэтому выбор этико-рели-
гиозной позиции в духе Кьеркегора и Достоевского отвечает теперь (парадокс)
эстетическому критерию Ницше: он стал труднее, чем противоположный ему
выбор. И взыскующий трудного не может поэтому не присматриваться к тра-
дициям христианской Европы.
Не ясно ли нам сегодня, по крайней мере, одно: соревнование с Богом, в
частности в деле «идеалостроительства», кончается крахом, кто бы ни брал его
тяжесть на свои плечи — государство или индивид? Не в том ли и урок марк-
сизма, и урок Ницше?
Глава V
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
ОПЫТ В ТВОРЧЕСТВЕ ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО ■
На фоне современной западной, да и не только западной, а всей академи-
ческой, ориентированной на научную рациональность философии, русская
философская традиция от Чаадаева до мыслителей Серебряного века уже на
уровне простого читательского восприятия отличается каким-то повышенным
градусом экзистенциальности, безоговорочной вовлеченностью в мысль лич-
ного опыта мыслителя. Попытаемся же прояснить это впечатление, анализи-
руя функции личного опыта в творчестве Павла Флоренского.
Его «Столп и утверждение истины» — явление уникальное в истории рус-
ской и мировой культуры. Форма «Столпа» — письма к другу. И в соответ-
ствии с его жанром в произведение вплетены отчеты автора о личном опыте, о
его мистических переживаниях. Здесь, в лирических интродукциях, всегда
присутствует природа в ее символическом восприятии. Кроме того, в тексте
этого произведения мы находим своего рода вставные новеллы, например вы-
держки из дневника, приписываемого другу автора 2, иконографический мате-
риал, стихи и т. п. Микрожанровая структура «Столпа» поражает своим богат-
ством, в основе которого лежит личный мистический опыт автора.
Острое ощущение тайной жизни природы и человека, бьющейся под «ко-
рою вещества», за поверхностью рассудочно представленного мира, всегда в
высшей степени было присуще Павлу Флоренскому, о чем с таким блеском
словесного художества он рассказал в своих «Воспоминаниях», которые по
фактуре письма и силе мысли сопоставимы, скажем, с таким замечательным
памятником русской культуры XX века, как «Охранная грамота» Пастернака.
Девизом ко всей мысли отца Павла мы бы избрали его слова из «Столпа»:
«Отвлеченностями люди не живут» 3. Это ключевая фраза. Действительно, в
центре умозрения отца Павла стоит живая жизнь — Жизнь вечная и жизнь во
1 Данная статья представляет собой расширенный текст доклада, прочитанного на IV
Чтениях памяти о. Павла Флоренского.
2 Флоренский П. А. Т. 1: Столп и утверждение истины. Ч. I. М., 1990. С. 452—456.
3 Там же. С. 384.
Опыт в творчестве Павла Флоренского
343
времени. Жизнь — это непрерывное творчество: «Бог — Жизнь и Виновник
жизни, т. е. творчества» 4. «Жизнь бесконечно полнее рассудочных определе-
ний, — подчеркивает отец Павел, — и потому ни одна формула не может вме-
стить всей полноты жизни. Ни одна формула, значит, не может заменить са-
мой жизни в ее творчестве, в ее еже-моментном и повсюдном созидании но-
вого» 5.
Сверхрациональность жизни фиксируется Павлом Флоренским как ее анти-
номизм (антиномия лежит за пределами рассудочного мышления). И верши-
ной антиномизма выступает для отца Павла христианская церковная жизнь,
опыт которой «как единственный законный способ познания догматов» 6 он и
рассматривает в «Столпе». В нем представлены в своем пересечении два пото-
ка опыта — исторический опыт православного христианства и личный опыт
отца Павла. Весь этот слой опыта можно обозначить как переживание всем
сердцем таинственного исчезновения противоположностей в жизни — в жиз-
ни Церкви и в жизни личности. Вот один только пример: «Эсотеризм и эксоте-
ризм, — говорит отец Павел, — не совместимы рассудочно и примиряются лишь
в самой таинственной жизни христианской, а не в рассудочных формулах и
рациональных схемах» 7.
Здесь мы бы хотели отметить, что в рамках «Столпа» у отца Павла противо-
поставление «жизнь — рассудок» оформляется в плане традиционной теоре-
тико-познавательной проблемы соотношения субъекта и объекта познания.
Жизнь — это бытие, субъект-объектный предмет познания. Рассудок — позна-
вательная способность, определение познающего субъекта. В таком теорети-
ко-познавательном контексте говорится в «Столпе» о рассудке, о его ограни-
ченности и неспособности постичь жизнь в ее творчестве, о том, что этот предел
рассудка задан антиномизмом и т. п. Идущий от влияния Канта и неокантиан-
ства начала века теоретико-познавательный план движения мысли остается,
таким образом, не до конца преодоленным несмотря на подчеркнутое стремле-
ние к онтологизму 8. Но по сути дела за теоретико-познавательным планом с
его дуализмом скрывается двоящийся жизненный, или бытийственный, план:
1) жизнь в атомизированной социальности, в современной механизированной
культуре и 2) жизнь в соборной общности, в органической культуре, центром
которой служит культ. В рамках такого онтологически значимого различения
4 Там же. С. 168.
5 Там же. С. 146.
6 Там же. С. 3.
7 Там же. С. 419.
8 По оценке отца Павла, Кант и Лпатон — «величайшие представители философии»
^Флоренский/7. А. 77 I : Столп и утверждение истины. Ч. / С. 201).
344
Глава V. Серебряный век русской философии
рассудок выступает как теоретико-познавательный или гносеологический ин-
дикатор этой первой жизни, ставимой под вопрос целостно-личностно, а не
отвлеченно.
Личный опыт выступает у Павла Флоренского как способность души к под-
линному постижению истины, которая неотличима от самой жизни: «Самая
жизнь есть истина в своей глубине, и глубина эта уже не я и не во мне, хотя я
могу к ней прикасаться» 9. Как он свидетельствует о себе самом в своих «Вос-
поминаниях», «опыт, бесспорно подлинный и о подлинном, был сам по себе, а
научная мысль, которой в каком-то душевном слое я просто не верил 10 — сама
по себе. Это была характерная болезнь всей новой мысли, всего Возрождения:
я могу определить ее как разобщение человечности и научности. Бесчеловеч-
ная наука, с одной стороны, бессмысленная человечность — с другой» п. Если
«сердцем Европы» 12 для отца Павла выступает бесчеловечная наука, то для
отца Сергия Булгакова — безбожная человечность 13. Безбожная человечность
парадоксальным образом бесчеловечна, потому что именно безбожна, буду-
чи научной. Действительно, опыт, включенный в состав новой науки, остал-
ся опытом безличным и в этом смысле «бесчеловечным». Он, кроме того, в
основе своей специален, частичен: человек соприкасается с природой в нем
очень узко, выборочно, условно и именно безличным образом, потому что
этот опыт только в том случае будет удовлетворять требованиям научности,
если будет всеобщим и необходимым в своем представлении. «Абстрактный»
человек соприкасается в научном опыте с «абстрактной» же природой. Здесь
не может быть личного отношения — любви, привязанности и т. п., — выте-
сненного вместе с научной революцией XVII века в область поэзии, мистики,
мифа...
Это «вытесненное» отношение к природе и миру вообще, прорывающееся у
мистиков, у романтиков, у Гёте, и подхватывает Павел Флоренский, разраба-
тывая его прежде всего на основе опыта православной церковности. В своей
высокой оценке личного опыта Флоренский присоединяется к традиции рус-
ской философии. Так, например, В. Соловьев в своем письме гр. С. А. Толстой,
рассуждая о софиологии в истории мысли, говорит, что три наилучшие специ-
Флоренский П., свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых лет. Генеалогические ис-
следования. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 244.
10 Ибо «только антиномии и можно верить» (Флоренский П. А. Т. 1 : Столп и утвержде-
ние истины. Ч. I. С. 147).
11 Флоренский П., свящ. Детям моим... С. 196.
12 Там же. С. 196.
13 Булгаков Сергий, прот. Автобиографические заметки. 2-е изд., Париж, 1991. С. 111 —
112.
Опыт в творчестве Павла Флоренского
345
алиста в этой области (Гихтель, Арнольд и Пордейдж) хороши именно тем, что
«все трое имели личный опыт» ,4. Философствование без адекватного личного
опыта представляется русскому мыслителю просто немыслимым. Мистическое
созерцание самого предмета мысли является необходимым для того, чтобы
философствование о нем было в какой-то степени интересным и значимым.
Философское познание, согласно традиции русской философии, есть действи-
тельно нечто бытийное, представляя собой как бы онтологическую жизнь, со-
бытие самого бытия. Поэтому истинной философия быть не может, если она
остается чисто отвлеченной. Философское мышление в своей сути — не раци-
ональная дискурсия, не отвлеченная логика, а теургийное переживание в сим-
волах реального «касания» предмета мысли, слияния с ним де факто в личном
опыте. Дискурсивные конструкции не лишены смысла, но только на базе сим-
волически оформленных созерцательно-опытных центров мысли как мысли,
тем самым, конкретной. Тема конкретности в русской философской традиции,
таким образом, фиксирует тот же самый опытно-личностный ее характер, но
только в другом понятийном ракурсе 15.
Дискурсия в рациональных ходах мысли не может сама по себе достичь
истины. Так Павел Флоренский пишет: «Бытие истины не выводимо, а лишь
показуемо в опыте: в опыте жизни познаем мы и свое бого-подобие и свою
немощь, лишь опыт жизни открывает нам нашу личность и нашу духовную
свободу» 16. Если у Флоренского речь идет об опытной «показуемости» 17, то у
Булгакова — об опытной «оказуемости» 18. Истина в этой традиции вообще не
мыслится как предикат в системе отвлеченной дискурсивной мысли. Когда
спрашивается об истине, то речь идет не о правильности суждения, не о согла-
сованности его с чувственными данными и т. п., а о качестве бытия или даже
о самом бытии повышенного качества, бытии по преимуществу. Истина в рус-
ской философской традиции мыслится онтологически, т. е. как «естина», как
говорит Павел Флоренский в «Столпе» 19.
Опыт доставляет содержание мышлению, без которого оно превращается в
бесплотный формализм. В этом и состоит его основная функция — предофор-
млять мысль, определять ее конкретное содержательное движение. В силу са-
морефлексивности, самоотчетности мысли эта ключевая функция опыта осоз-
14 Флоренский П. А. Т. 1: Столп и утверждение истины. Ч. I. С. 331.
15 Лосский И. О. Идея конкретности в русской философии // Вопр. философии. 1991.
№2. С. 125—135.
16 Флоренский П. А. Т. 1: Столп и утверждение истины. Ч. I. С. 144.
17 «Православие показуется, но не доказуется» (Там же. С. 8).
18 Булгаков Сергий, прот. Автобиографические заметки. С. 118.
19 Флоренский П. А. Т. 1: Столп и утверждение истины. Ч. 1. С. 15.
346
Глава V. Серебряный век русской философии
нается и получает свое выражение в соответствующих представлениях теоре-
тико-познавательного и метафизического плана. Соответственно этому основ-
ному членению жизни опыта в мысли различаются и формы его представлен-
ности в текстах Павла Флоренского. С одной стороны, опыт с весомостью не-
посредственного события входит в текст, прорываясь в него прямым рассказом
о пережитом (степень непосредственности представления опыта здесь, конеч-
но, зависит от жанра произведения, но в принципе он присутствует везде). С
другой стороны, опыт выступает опосредованно, в частности, как инструмент
построения «конкретной метафизики». В философском познании «грубое»
бытие опыта как бы истончается, раскрывая свою тонкую, но доступную для
аналитической рефлексии, структуру.
В духовно-интеллектуальной эволюции отца Павла склонность к натура-
листическому и мистическому эмпиризму проявилась у него достаточно рано,
в детские еще годы. Будучи подростком, Павел Флоренский ведет системати-
ческие наблюдения за природными явлениями, фиксируя их в своего рода днев-
нике натуралиста, которые он сам, вслед за им «обожаемым Фарадеем», назы-
вает «экспериментальными исследованиями» 20. Если использовать дюгемов-
скую классификацию национальных стилей физического мышления, то можно
сказать, что Флоренский осознает себя гораздо ближе стоящим к английской
школе естествознания, чем к французской или немецкой.
К «осознанию онтологичности духовного мира» 21 Флоренский также при-
ходит опытным путем: путем реального переживания, которое он достаточно
точно описывает. Также и само строение духовного мира открывается ему в
опыте — как в непосредственно личном, так и в мистическом церковном опыте,
который сам постигается изоморфным ему личным опытом. В своих коммен-
тариях к «Столпу» отец Павел подчеркивает, что издатель творений Дионисия
Ареопагита, Кордерий, называл мистику Sapientia experimentalis — опытной
мудростью 22. Но не только мистика— опытная наука. Таково же и богосло-
вие. С особой силой отец Павел подчеркивает опытный характер богословия,
разбирая проблему теологии Духа Святого. «Если сейчас, — говорит он, — нет
полных восприятий Духа Святого как Ипостаси, если нет личных пневматофа-
ний... то нельзя выработать и формул, потому что формулы вырастают на по-
чве общей, повседневной церковной жизни» 23. Никакие дискуссии, никакие
дискурсии и дедукции, никакие теоретизирования in abstracto не могут помочь,
если нет личного опыта и тем более опыта церковного.
Флоренский П., свящ. Детям моим... С. 192.
21 Там же. С. 215—216.
22 Флоренский П. А. Т. 1 : Столп и утверждение истины. Ч. II. М., 1990. С. 682.
23 Флоренский П. А. ТА: Столп... Ч. I. С. 122.
Опыт в творчестве Павла Флоренского
347
Мы видим, что как в естествознании, так и в богословии отец Павел стоит
на позициях мистического духовного эмпиризма, оформляя их, однако, не ме-
тафизически-систематически (как это делал, например, Н. О. Лосский, созда-
вая систему конкретного идеал-реализма), а конкретно-символистски и конк-
ретно-метафизически, исследуя выраженные в символах и представленные в
иконописи, в культе, в личном имени и т. д. опыты. Жизнь опыта, фактура сим-
вола, сам живой феномен, его краски и формы были ближе к духовному и
интеллектуальному складу личности отца Павла, чем академическое системо-
созидание по поводу актуальных тем и злободневных вопросов. Он был ху-
дожником метафизики, а не ее систематиком. И гётевское наследие 24 в нем
перевешивало шеллингианское: он стремился не философствовать об искус-
стве вообще или о религии вообще, а вникать в единичные конкретные симво-
лы, показывая, как в них, во всей их телесности, горит энергия иного мира. Не
претендуя на абсолютную точность попадания, это направление мысли мы
можем назвать натуральной историей духа или даже натуральной философи-
ей духа, вспомнив при этом, что англичане «натуральной философией» назы-
вали просто естествознание.
Сталкиваясь с разными высказываниями Павла Флоренского об испытан-
ных им переживаниях, мы можем сквозь идущее от разных жанров различие в
их представлении увидеть их общий биографический источник. Сам пережи-
тый опыт оказывается при этом инвариантом, варьирует же лишь модус его
подачи в зависимости от избранного литературного жанра. Для изучения жиз-
ни опыта в творчестве отца Павла большой интерес представляет VIII письмо
его «Столпа» 25.
Начало этого письма, как и других писем «Столпа», представляет собой, по
выражению его автора, «лирическое место» 26. Павел Флоренский считал «ли-
рические места» «методологическими прологами» 27, соединяющими читате-
ля и автора на общедоступной почве — переживания природы, сновидений,
опыта дружбы и т. п.28 Эти места выступают своего рода экзистенциальными
24 «Ставя памятник Гёте, человечество тем самым скидывает с пьедестала отвлеченное
мировоззрение нового времени» (Флоренский П., свящ. Из богословского наследия // Бого-
словские труды. 1977. № 17. С. 199).
25 Опущенное в его диссертационном представлении, что указывает, в частности, на
далеко не безоблачные отношения между практикой личного мистического опыта и офи-
циальной церковностью.
26 Флоренский П. А. ТА: Столп... Ч. И. С. 836.
27 Там же. С. 837.
28 Лирика «Столпа» как «нечто хрупкое и интимно-личное, уединенное» (см.: Перепис-
ка П. А. Флоренского и В. А. Кожевникова // Вопр. философии. 1991. № 6. С. 108) может
быть воспринята как особое теолого-метафизическое преломление розановского духа.
348
Глава V. Серебряный век русской философии
введениями в философский и богословский анализ, следующий за ними и уже
сравнительно редко прерываемый «лирикой» и вставными сюжетами (хотя связь
текста писем с этими введениями не прерывается и обычно в конце письма
автор напоминает о них, что придает им еще более весомую структурообразу-
ющую функцию в составе всей работы). В начале письма автор рассказывает
об одном сне, из описания которого мы узнаем, что это был тот же самый сон,
что и описанный более подробно, хотя и несколько иначе, в «Воспоминани-
ях» 29. В том, что в основе обоих сообщений о сне лежит одно и то же событие,
пережитое Павлом Флоренским весной 1899 г., нет сомнений. Это обстоятель-
ство, конечно, было замечено исследователями его творчества. Так, игумен
Андроник пишет: «В "Столп" вошли переживания тьмы кромешной, мук со-
мнения, которые Флоренский испытал еще в 1899 г.» 30.
Если мы обратимся теперь к самим текстам этих рассказов, то найдем в них
прямо совпадающие выражения в описании этого сна. «У меня не было обра-
зов», — говорит Флоренский в «Столпе». И это же наблюдение он высказывает
и в «Воспоминаниях»: «Не находится слов рассказать, в чем было дело, потому
что нет никаких образов. Нет, и не было тогда, несмотря на потрясшую меня
силу самого переживания» 3I. В обоих описаниях совпадает главное: пережи-
вание или ощущение «тьмы» («Столп») или «мрака» («Воспоминания»). Ощу-
щение безобразности и безобразности переживаемого присутствует и тут и там.
Различаются только сообщения о способе преодоления этого «мрака», «тьмы
египетской». Рассказ в «Воспоминаниях» дает, пожалуй, более полную и точ-
ную картину. Здесь «мрак» преодолевается светом, несущим имя — Бог. На-
против, в описании сна в «Столпе» динамика смены тьмы светом отсутствует.
В нем рассказывается о прямом спасении от тьмы, о мощных «руках», унося-
щих спасаемого прочь от бездны. Так как Флоренский недвусмысленно гово-
рит об отсутствии зрительных образов, то мы бы скорее приняли рассказ о сне
в «Воспоминаниях» как более точный. Ведь «руки», уносящие от края бездны, —
это скорее символическая передача именно глубинных внутренних ощущений
или переживаний, на несомненном присутствии которых настаивает Флоренс-
кий в обеих версиях 32.
29 Флоренский П., свящ. Детям моим... С. 210—212. Сон датирован в «Воспоминани-
ях» концом весны 1899 г. Отталкиваясь от этой даты и сообразуясь с указанием в «Столпе»,
что этот сон был увиден «почти четыре года назад» {Флоренский П. А.ТА: Столп... Ч. I.
С. 206), мы можем предположить, что текст письма о геенне был начат в 1903 г., что под-
тверждается и другим источником (Там же. Ч. II. С. 828).
30 Флоренский П. А.ТА: Столп... Ч. II. С. 829.
31 Флоренский П., священник. Детям моим... С. 210.
32 Если в «Столпе» говорится об «одних чисто-внутренних переживаниях» (см.: Фло-
ренский П. А.ТА: Столп... Ч. I. С. 205), то в «Воспоминаниях»— о последствиях этих
Опыт в творчестве Павла Флоренского
349
Письмо заканчивается показательными словами: «Письмо мое, — говорит
отец Павел, — начинается признанием, что я видел смерть вторую (т. е. духов-
ную смерть. —В. В.), а кончается исповедью насчет геенского огня. Вот образ-
цы тех опытных данных, на которых построено изложенное тут учение об
Аде» 33. Таким образом, все письмо — и, обобщая, весь «Столп», — как в раму,
вставлено в живые свидетельства о личном опыте.
Опытный характер «конкретной метафизики» Флоренского просматривает-
ся повсюду. Так, например, в X письме (о Софии) мы читаем: «Милый, прости
мне эти грубые и ненавистные мне пинцеты и скальпели, которыми приходится
препарировать тончайшие волокна души. Не думай только, что холодные сло-
ва мои — метафизическая спекуляция, "гностика". Та монада, о которой я го-
ворю, есть не метафизическая сущность, данная логическим определением,
но переживается в живом опыте» 34. Здесь и далее Флоренский высказывает
свое понимание опытного характера своей метафизики. Во-первых, ее опреде-
ления даются не в плане отвлеченно-логических дефиниций (вроде, скажем,
аксиом абстрактной алгебры), а выступают символическими оформлениями
«живого опыта». Метафизические термины в речи своей Флоренский просит
понимать символически, а не отвлеченно-технически. Они имеют, подчерки-
вает он, именно символический смысл, «значение как бы красок, которыми
описывается внутренне-переживаемое» 35.
Сравнение с живописью здесь не случайно. Павел Флоренский с детства
любил яркие краски, неплохо рисовал и его отец. Художественные впечатле-
ния детства были стойкими и глубокими. Именно они формировали его мыш-
ление, скорее геометрическое, чем алгебраическое 36, а еще лучше сказать, ху-
дожественно-мистическое. Философия при этом выступает как бы терминоло-
гическим раскрашиванием внутренних опытов, нацеленным на открытие в них
тайно присутствующего метафизического содержания.
В отличие от «Столпа» в работе «У водоразделов мысли» мы не находим
прямых личных отчетов о решающих испытаниях-переживаниях. Зато здесь, в
переживаний «для внутренней жизни», о том, что образы должны пониматься в модусе
«как если бы», так как смысл их — в обозначении внутренне данного переживания или
чувства.
33 Флоренский П. АЛ. 1: Столп... Ч. I. С. 259.
34 Там же. С. 324. Жирный шрифт Флоренского. Курсив мой. — В. В.
35 Там же.
36 В частности, это проявляется в рисунках и схемах, которые есть и в «Столпе». Для
следующей же большой работы («У водоразделов мысли») Флоренский задумывал нечто
большее. В составленном им плане этого труда мы читаем: «Должно быть довольно много
схем, чертежей... рисунков» (см.: Флоренский П. А. Т. 2: У водоразделов мысли. М., 1990.
С. 357).
350
Глава V. Серебряный век русской философии
плоскости уже не теодицеи, а антроподицеи, ведущая роль опыта в мышлении
не просто ясно осознается, но четко, философски проработанно формулирует-
ся. Характерно, что опыт выступает неизменно в паре с символизмом. Только
через взаимоопределение опыта и символа получают они и свою определен-
ность, позволяющую понять, что же такое философское мышление, которое в
согласии с платоновской традицией Флоренский отождествляет здесь с диа-
лектикой. «Диалектика, — говорит он, — есть касание действительности. Не о
символах действительности, им созданных, повествует философ, но самые сим-
волы, в их рождении от действительности, показывает. Он не научает, а перед
нами испытует действительность» 37. Мысль Павла Флоренского настолько
плотно сконцентрирована, что трудно остановить цитирование. Каждое слово
идет «в строку». Учение об опыте, мы видим, действительно переплетается с
учением о символе. Символ, по Флоренскому, не есть чисто субъективное изоб-
ретение. Он рождается «от действительности», в нем соучаствуют энергии са-
мых глубоких слоев реальности, выступающие как инореальность по отноше-
нию к нашему миру — и слишком человеческому и слишком земному. Эта мысль
настолько важна для Павла Флоренского, что он ее варьирует: «Прорываясь
сквозь оболочку нашей субъективности, — продолжает он, — сквозь омерт-
вевшие отложения нашего духа, мысль философа есть присно-опытная мысль,
ибо она неизменно работает не над символами как таковыми, а лишь символа-
ми над самой действительностью» 38.
Чуткость к скрытому, таинственному, мистическому, а значит, и символи-
ческому присутствию инобытия в самих явлениях и привела Павла Флорен-
ского к его обращению в православие. В Церкви Христовой он нашел сложив-
шуюся, развитую жизнь символов, будучи сам всю жизнь символистом. «Всю
свою жизнь, — говорит он, — я думал в сущности об одном: об отношении
явления к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о
его воплощении. Это — вопрос о символе. И всю свою жизнь я думал только
об одной проблеме, о проблеме СИМВОЛА» 39.
Опытный характер философии заложен в том, что философия, по определе-
нию отца Павла, «есть неувядаемый цвет удивленности» 40. Греческое же бойца
(удивление), подчеркивает Флоренский, «означает высокую степень душевно-
го потрясения» 4|. Таким образом, в самом фундаменте философии лежат по-
трясающие душу опыты, сопровождающиеся мистическими переживаниями,
Флоренский П. А. Т. 2: У водоразделов... С. 131.
38 Там же.
39 Флоренский П., свящ. Детям моим... С. 153.
40 Флоренский 77. А. Т. 2: У водоразделов... С. 133.
41 Там же. С. 135.
Опыт в творчестве Павла Флоренского 351
восторгом, восхищением, трепетом. «Трепет есть лучшая часть человека» 42, —
говорит Флоренский и, процитировав Гёте, добавляет: «В трепете рождается
всякая великая мысль» 43. Удивление как состояние — это аффект целостно
переживаемого опыта, выводящего субъективность вовне, что и служит при-
чиной волнения или трепета, динамизирующего саму субъективность («потря-
сает душу», мы говорим). Творчество, при этом возникающее, синергийно и
символично. Так претворяется в мысль тот «присно-неувядаемый опыт» **, ко-
торого и ищет философия. Отталкиваясь от него, кружась вокруг него, она со-
здает свои терминологически проработанные конструкции.
Учение об опыте и символе в работе «У водоразделов мысли» перерастает в
учение об энергиях и сущностях, в философскую синергетику. Синергия (син-
энергия), по отцу Павлу, — это «со-деятельность бытии» 45. Заслуживает вни-
мания то обстоятельство, что термины, используемые здесь Павлом Флорен-
ским, явно органического характера, несмотря на то, что при этом широко ис-
пользуются физические, в частности электромагнитные, аналогии. Синергия
определяется им как «взаимопрорастание энергий» 46, так что в синергийном
событии уже нет отдельных энергий. В нем представлено качественно новое
бытийное формирование. И сам символ в таком синергетическом подходе выс-
тупает как «такая сущность, энергия которой, сращенная, или, точнее, сраство-
ренная с энергией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущ-
ности, несет, таким образом, в себе эту последнюю» 47. Символ, иначе говоря,
ино-ургиен, те(о)-ургиен. И поэтому символы рождаются самой действитель-
ностью, «от действительности» 48, а именно той действительностью, которая
едина как синергийная действительность. О такой действительности в фило-
софии принято говорить, что противоречие субъекта и объекта в ней снято.
Горизонт гносеологического дуализма здесь преодолевается и создается фило-
софия конкретной метафизики и конкретной антропологии.
Опытная конкретная метафизика, как она мыслилась Павлом Флоренским,
имеет своим условием «верующее любомудрие» 49. Но вряд ли можно, я пола-
гаю, поняв умом антиномизм мира веры, отречься в силу этого от неспособно-
го к нему рассудка. Ведь на самом деле рассудок — не столько чисто логиче-
42 Там же.
43 Там же. С. 135-136.
44 Там же. С. 131.
45 Там же. С. 286.
46 Там же. С. 285.
47 Там же. С. 287.
48 Там же. С. 131.
49 Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 333.
352
Глава V. Серебряный век русской философии
ское или гносеологическое формирование, не просто «пред-рассудок» в глазах
«верующего любомудра», сколько когнитивное имя для определенного спосо-
ба жизни, для выражения некоторой экзистенциальной сущности — для обо-
значения существования в бессердечном холоде механической цивилизации с
ее изоляцией человека от человека, от природы и от Бога.
Детство Павла Флоренского, им самим так чудесно рассказанное, показы-
вает, что он не был изолирован ни от природы, столь щедрой и могучей на
Кавказе, что превосходит все европейские мерки, ни от людей, так что можно
говорить о своего рода земном Эдеме в горах Кавказа... 50 И поэтому неудиви-
тельно, что пришел час, когда он ясно почувствовал, что не изолирован он и от
Бога. Случилось это в одном потрясшем его переживании, в личном опыте,
скажем мы, когда однажды некий «духовный толчок» пробудил его ото сна и
вывел на освещеный южными звездами двор его тбилисского дома, где он ус-
лышал громкий возглас, дважды назвавший его имя: «Павел!» 51 Порвите связи
ребенка с природой и людьми, бросьте его в мир без Софии, в людской толпя-
щийся поток без «собора», и взрослому человеку с таким детством труднее
будет услышать зовущий его голос Оттуда. Вряд ли он просто сможет поду-
мать об иномире как о реальности, с которой у него могут быть какие-то лич-
ные отношения.
Таким образом, мы делаем вывод: духовный поворот в Павле Флоренском
(«обвал») произошел не в силу отвлеченно-логического осознания ограничен-
ности рассудка как познавательного средства, с помощью, так сказать, гносео-
логического выбора полного, цельного разума, разума «верующего любомуд-
рия» вместо рассудка с его законом тождества, а как жизненная органическая
метаморфоза, подготовленная всем его детством и юностью. Цельность, конк-
ретность, нераздробленность, художественно-духовная полнота самой экзис-
тенциальной ткани, связующей «Я» и «не-Я», были для Павла Флоренского
воздухом его жизни, его повседневного бытия, что и не замедлило сказаться,
когда для того пробил час.
Условия вхождения в веру может познать и отвлеченная мысль, но заста-
вить тем самым обратиться, поверив «отвлеченно», она бессильна. Иными сло-
вами, здесь мы имеем нечто вроде аналога герменевтического круга: чтобы
уверовать, надо уже иметь веру — пусть только в зародыше. Имплицитная вера,
пред-верие предшествует вере. Такого рода опыт является общим и для бл. Ав-
50 Например, Н. О. Лосский так оценивает Кавказ и Альпы, которые он имел возмож-
ность неплохо изучить: в швейцарских Альпах «кроме величественной природы, турист
находит произведения старой и современной культуры, но мощь природы и дикое велико-
лепие ее несравненно более значительны на Кавказе» (Лосский Н. О. Воспоминания // Вопр.
философии. 1991. № 11. С. 160).
51 Флоренский П., свящ. Детям моим... С. 214—215.
Опыт в творчестве Павла Флоренского
353
густина, и для отца Павла 52. Это пред-верие может быть каким-то подсозна-
тельным чувством, что у жизни есть Хозяин и что Он заботится о нас. Если
софийно-соборное начало, пусть еще и не осознаваемое, образует ткань самой
жизни человека, то тогда вере легче прийти и развернуться во весь свой рост
(случай с бл. Августином и с отцом Павлом). Заметим при этом, что в семье
Павла Флоренского не было атмосферы церковности: отец его был привержен-
цем «гуманности» в духе Гёте или Шекспира. Обращение Павла Флоренского
не было поэтому возвратом в дом детской веры 53, что произошло с Сергеем
Булгаковым. Это была метаморфоза стихийного софийно-соборного мировос-
приятия в осознанное православно-церковное.
Анализ жизни и творчества Павла Флоренского позволяет заключить, что
борьба с рассудочностью в русской культурной традиции определялась не
столько отвлеченным познавательным решением, сколько экзистенциальным
сопротивлением образа жизни, сохранившим органическую целостность, об-
разу жизни рассеченной, механически раздробленной. В инстанции рассудка
преодолевался неприемлемый способ жизни, так что теоретическая критика
рассудка была лишь гносеологическим выражением экзистенциального спора.
Особенности русской философской мысли вырастали именно из этой конкрет-
ной жизненной ситуации. Цельность русской жизни, ее как бы естественный
софийно-соборный характер (эмпирически, конечно, далеко не всегда данный)
в традиции русской философии обнаружился в центральном значении для мысли
личного опыта мыслителя, захватывающего его целиком переживания. Реша-
ющие акты русской философии —это не столько отвлеченные суждения, сколь-
ко цельные поступки, конкретные жесты, всегда личностно артикулированные,
это воплощенные в саму личность, в ее биографию философемы. Красный ре-
волюционный бант Сергея Булгакова, брошенный им в день обнародования
царского манифеста 17 октября 1905 г., — типичный тому пример 54. Филосо-
фия пишется сердцем, поступком — поступком сердца, самой личностью, са-
мой жизнью. Технически проработанные понятийные конструкции только по-
стфактуально оформляют эти корневые философемы. Эти цельные акты сим-
Бл. Августин говорит: «Всегда я верил в то, что Ты есть, что следует думать о суб-
станции Твоей, и не знал, какой путь ведет или приводит к Тебе» (Исповедь, VI, 5, пер.
Сергеенко M. Е.).
53 Правда, его дед был священником, что им впоследствии оценивалось как возвраще-
ние «к предкам» (см.: Флоренский П. А. Т. 1: Столп... Ч. I. С. 295).
54 «На площади я почувствовал совершенно явственно веяние антихристова духа: речи
ораторов, революционная наглость, которая бросилась прежде всего срывать гербы и фла-
ги, словом, что-то чужое, холодное и смертоносное так оледенило мое сердце, что, придя
домой, я бросил свою красную розетку в ватер-клозет» (Булгаков Сергий, прот. Автоби-
ографические заметки. С. 76).
23 ~ 3357
354
Глава V. Серебряный век русской философии
воличны по своему составу. Вокруг таких опытов-символов (символо-опытов)
и вяжется вся ткань философствования, завязываются и развязываются про-
блемы мысли, вокруг них, в поле их притяжения, движется челнок размышле-
ний 55.
Связь опыта с символизмом, прослеживаемая у Флоренского, заслуживает
своего анализа. Здесь мы можем только кратко отметить ее некоторые момен-
ты. Опыт как символ означает, что в его составе нерасчлененно присутствуют
все слои личности, жизни, бытия и истины. В энергии поступка проступает
эстетическое измерение, красота и музыкальность, в нем горит форма и цвет...
Опыт, поднятый до символа, выступает своего рода прафеноменом, о котором
у Гёте сказано, что дальше в своем познании человек идти уже не может. Как
бы ни истолковывался символ, но он всегда — «отверстие, пробитое в нашей
субъективности» 56. Символы, данные в опыте, сорожденные самой действи-
тельностью, «не укладываются на плоскости рассудка, структура их насквозь
антиномична». Онтологическая энергия, поступающая через горловины сим-
воло-опытов, регулирует и направляет энергию познавательную. Подобно пла-
нетам солнечной системы познавательные энергии вращаются в поле притя-
жения полюсов опыта. Присутствие этих полюсов, их формирующая мысль
активность сохраняется во всех актах философствования. В результате мысль
приобретает цельность и стереоскопичность личного жизненного свершения.
Лично-опытный художественный характер мысли Павла Флоренского об-
наруживается в том, что и богословие, и религиозно-философское умозре-
ние, и научные проблемы — все, чего бы он ни касался, — все у него живет,
все движется, все творится. Для творческой личности Павла Флоренского
нет неживого. Под его прикосновением все пело, все цвело и благоухало
жизнью. Такой мощи творческий потенциал не часто встречается в истории
мировой культуры. Невольно думаешь при этом о Леонардо... В нашем се-
годняшнем мире, кажется, таких людей мы уже не встречаем. У нас если
идет разговор о «религии и науке», то вряд ли кто-то может одухотворить,
оживить огнем личного опыта и творчества в равной мере и то и другое. Для
одних жизнь современного духа — в науке. Для других — в мире веры. Но
для кого она в равной мере охватывает науку и веру, искусство и культ, теоре-
мы и богослужение? Другая фигура, приходящая на ум для сравнения, —
Гёте. И здесь параллель выходит за рамки простого сопоставления мощи твор-
ческого потенциала и его универсальности. Нет, в обоих мыслителях-худож-
никах бьется общее чувство жизни, согласно которому «все преходящее —
«Мысль снует, — говорит Флоренский, — от себя к жизни и от жизни вновь к себе»
{Флоренский П. А. Т. 2: У водоразделов... С. 131).
56 Флоренский П. А. Т. 2: У водоразделов... С. 344.
Опыт в творчестве Павла Флоренского
355
только символ» 57. Эти слова великого немецкого поэта могли бы быть сказа-
ны и Павлом Флоренским.
Проделанный анализ творчества о. Павла Флоренского позволяет сделать
некоторые выводы о характере своеобразия русской философской традиции.
То обстоятельство, что истоки философской мысли усматриваются в биогра-
фии мыслителя, которая, как правило, им же самим и пишется в той или иной
форме (письма, дневники, воспоминания, автобиография и т. п.), не дают еще
основания для психологистского редукционизма по отношению к философии,
так как сама жизнь при этом переживается и мыслится метафизически, «иде-
ал-реально» (Лосский). Экзистенциальность, конкретность, онтологизм рус-
ской философской мысли, как и другие аналогичные определения, нацелены
на передачу той основной ее особенности, которую можно обозначить как лич-
ный символо-опыт.
Несомненно, символо-опытный характер русской философской традиции
сближает ее с литературной традицией. Но, конечно же, не до такой степени,
чтобы можно было бы сказать, что чуть ли не единственной аутентичной фор-
мой русской философии является, скажем, роман (например, Достоевского) или
лирическое стихотворение (например, Тютчева). Нет. Но еще с меньшей уве-
ренностью мы могли бы сказать, что таковой служит специальный академи-
ческий трактат. А. Панченко выводит «нетрактатность» русской философии из
«духовно-эстетического смиренномудрия» как основной черты славянской мен-
тальное™ 58. Он говорит даже о «национальном нежелании формулировать,
мыслить силлогизмами», что объясняет, как считает ученый, почему у нас ди-
алектические и метафизические трактаты и доныне получаются «из рук вон
плохо». Все дело в том, считает он, что наши мыслители — художники. Конеч-
но, смиренно философствовать с сохранением целостности духовного ядра
личности позволяет целый ряд традиций и особенностей русской истории и
культуры, но главной здесь является, как справедливо подчеркивает Панченко,
православная традиция.
На наш взгляд, с некоторой долей правдоподобия мы можем сказать, что
одним из самых представительных жанров русского философствования стало
57 Ailes Vergàngliche
1st nur ein Gleichnis.
(Фауст, II часть, финал)
В пер. Б. Пастернака:
Все быстротечное —
Символ, сравненье.
58 Панченко А. О специфике славянской цивилизации // Знамя. 1992. № 9. С. 203.
23*
356
Глава V. Серебряный век русской философии
эссе (в широком смысле), т. е. опыты жизни и мысли. Эпистолярность, испо-
ведальность русской философской прозы и лирики очевидны (от Чаадаева и
Герцена до Леонтьева и Розанова). Этот «эссеизм» охватывает все виды ис-
пытаний мысли и духа, о которых рассказывает сам испытатель на языке,
допускающем свободное пересечение мысли собственно философской, тер-
минологически специально оформленной, и мысли художественной, питаю-
щейся стихией языка независимо от его концептуального препарирования.
Жанры, находящиеся в зоне такого пересечения, и составляют «царский путь»
русской философии. Сюда относится не только эссеистика в узком смысле сло-
ва, но и письма, воспоминания, биография и т. п. вплоть до «чисто» литератур-
ных жанров — повести, романа, стихотворения...
Конечно, сказанное нельзя понимать в том смысле, что на Западе совсем
не существует подобной традиции. Нет, конечно. Выше мы уже сравнивали
опыты обращения бл. Августина и отца Павла и нашли в них общую фигуру,
несомненное сходство. На противоположном бл. Августину временном кон-
це европейской традиции личный опыт в его конструктивной функции мы
обнаруживаем, например, у Кьеркегора и Ницше. Можно даже сказать, что
вся экзистенциальная традиция в философии Запада в этом отношении в прин-
ципе мало чем отличается от аналогичной русской традиции (хотя, конечно
же, такие отличия есть). Но в России экзистенциальный опытно-личный ха-
рактер философствования явно доминирует над мыслью отвлеченной, гносео-
логической, философией цеховой и профессорской, чего уже не скажешь о За-
паде.
Дух свободы, страстной искренности, независимости от мнений и моды,
отсутствие боязни упреков в непрофессионализме, в незаконности захода на
территорию соседа (будь то литература, искусствоведение или политика), прав-
дивость и душевность, откровенные поиски истины как правды — все это и
создает особый колорит и притягательность русской философской традиции.
В России не сложился автономный и стабильный философский цех. Филосо-
фия здесь не слишком институциализировалась. Это, конечно, не столько ус-
ловие некоторого культурного «плюса», сколько вполне определенный «минус».
Конечно, и процесс ее профессионализации и институциализации уверенно
набирал обороты, особенно в начале XX века. Но развиться до западной кон-
диции он не успел. Поэтому узко профессиональная среда не стала доминиру-
ющей инстанцией, в поле которой в своих основах и истоках формировался
философский дискурс. Русская философия упорно продолжала в своем специ-
фическом регистре традиции великой русской литературы, соотносясь при этом
с особенностями русской культурной истории. Западные философские влия-
ния, безусловно, значили много, они способствовали тонкости и ясности ана-
лиза, обогащая технический инструментарий мысли и подчас задавая основ-
Опыт в творчестве Павла Флоренского
357
ные философемы. Но не они при этом в конечном счете вдохновляли философа
и направляли главные интенции его мысли.
Памятуя о том, что и на Западе есть и мистика, и метафизика, и религиозная
философия и что и в России были Лесевич и другие позитивисты и социологи-
ческие редукционисты, мы тем не менее могли бы в виде итога нашего анализа
сказать, что мысль Запада в целом сфокусирована на рациональной науке о
цивилизации, в то время как в России искалась прежде всего мистическая фи-
лософия культа (даже в форме крайнего атеизма). Вот антитеза: рациональная
наука о цивилизации, с одной стороны, и мистическая философия культа — с
другой 59. Опасность такой фокусировки мысли в том, что в России философия
как бы растворяется или, вернее, может раствориться в мистике и богословии,
а на Западе — в науке. И действительно, на Западе ученые нередко становятся
в оппозицию к философии. Вспомним, например, резкие слова американского
физика Фейнмана о том, что философы «все время стояли в стороне, делая
глупые замечания» 60, видя в науке, очевидно, и не без некоторых на то основа-
ний, конкурента, вторгающегося на их территорию. В России же, скорее, на-
блюдается обратная ситуация. Здесь ученые, математики и теоретики прежде
всего, наоборот, нередко находят общий язык с философией, поддерживают
ее, способствуют росту философской культуры. Вспомним при этом москов-
скую математическую школу (Н. В. Бугаев, H. Н. Лузин, Д. Ф. Егоров и др.) и
ее связи с русской философией вообще и с философскими идеями Павла Фло-
ренского в частности 6|. Русская философия во многом выступает для русских
ученых как своеобразный мост к духовной культуре и к религиозной тради-
ции, значимый в их глазах, кстати, и для собственно научных разработок. «Епар-
хии» науки и философии, однако, выступают при этом столь далеко друг от
друга отстоящими, что никакой конкурентной борьбы между ними, как прави-
ло, и не возникает.
Горизонт западной мысли — цивилизационные проблемы или проблемы
земного устроения человека, опирающегося на автономию своего разума — на
науку и техническую рациональность. Горизонт русской мысли — проблема
смысла жизни, понимание земного существования как символа, попытка соот-
нестись с культом и мистерией бытия как с фокусами всей личной и обще-
5 Культ понимается Павлом Флоренским как основа не только культуры, но и собствен-
но философии («литургическое происхождение культуры» и «литургические основы фило-
софской терминологии» (Флоренский П. А. Т. 2: У водоразделов... С. 358)). См. также: Фло-
ренский П., свящ. Из богословского наследия // Богословские труды. № 17. 1977.
60 Фейнман Р. Характер физических законов. М., 1968. С. 191.
61 Демидов С. С. Из ранней истории московской школы теории функций // Историко-
математические исследования. М., 1986. Вып. 30. С. 124—130.
358
Глава V. Серебряный век русской философии
ственной жизни. Земли и рациональной науки как средства ее обживания рус-
ской философской мысли мало: она была и хочет быть «верующим любомуд-
рием». Утрата этого горизонта грозит утратой и своеобразия русской филосо-
фии. Ведь отличие русского позитивизма от западного не столь уж важно, хотя
для истории культуры и оно не лишено интереса. И если философская мысль в
России меняет свой традиционный горизонт и одновременно рвет свою корне-
вую связь с русской литературой, то, видимо, этих двух разрывов достаточно,
чтобы говорить о реальной угрозе своеобразию русской философии.
Действительно, русская философия — естественное ответвление великой
русской литературы. Ее законная отрасль. И как сама русская литература она
вырастает из личного опыта. Имеем ли мы в виду «арзамасский ужас» Л. Тол-
стого, ссылку Ф. Достоевского, мистические видения В. Соловьева или слезы
Сергея Булгакова перед «Сикстинской мадонной» в Дрезденской галерее —
всюду творчество растет из лично пережитого, из глубокого потрясения души,
сопровождаемого духовным озарением, целостным личностным инсайтом.
Жизнь проживалась и осмыслялась русскими философами так же цельно-ду-
шевно, как и русскими писателями. Их основные проблемы не были школьны-
ми, специальными, техническими заданиями. Задачей была, в конце концов,
праведная преображенная жизнь, правда на земле, правда на небе. Хорошо или
плохо это для культуры? Это трудно, прежде всего. Ведь требуется отзываться
на эти вызовы целостно и личностно, решать задачи предельные, «последне-
вопросные», и решать их не только теоретически, но и цельнопрактически
(вспомним, например, уход Толстого из Ясной Поляны, потрясший всю Рос-
сию). Впрочем, при этом нельзя чураться и вопросов специальных, задач тех-
нических, как чисто литературных, так и концептуальных. Своеобразие и сила
литературы и философии в России питаются, в конце концов, своеобразием и
силой народной жизни и истории. И если иссякнет это своеобразие и прервет-
ся несущая его традиция, то иссякнет и своеобразие словесности, в том числе
философской. Россия сможет при посредстве хороших учеников западной фи-
лософии усвоить ее проблемы и технические навыки и средства для их реше-
ния и при наличии высокого уровня образования решать их до известной сте-
пени самостоятельно, став «нормальной» европейской страной, так сказать,
второго эшелона. Но великая культура тогда останется позади...
Нектар русской культуры был положен в соты русской словесности. Элик-
сир жизни и воскресения русской философии хранится в этих сотах: свобод-
ное слово, раскрепощенное для закрепления опыта личности.
РАЗУМ НА ВЕСАХ ОТКРОВЕНИЯ:
ЛЕВ ШЕСТОВ И СОВРЕМЕННАЯ МЫСЛЬ 1
Когда поздним вечером добравшись авионом до подножья Монблана или
Эльбруса, встанешь утром на следующий день и оглянешься вокруг, то душа
поражена будет не «страданием человечества», а мощью и «грандиозом»
Альпокавказского Щита. Вершины этой стены-исполина еще в тумане, и теря-
ешься в ориентировке: «Неужели это так и будет тянуться вверх прямо "до
неба"? Да чтобы вобрать в себя это, нужно забыть о привычных масштабах!»
Такого рода переживание я испытываю, когда пытаюсь охватить разумом
то, что по определению строилось как Антиразум. Мы, кем бы себя ни осозна-
вали в современной цивилизации, не слишком верим тому, кто отвергает не ее
отдельные «недочеты», а всю ее считает ошибкой, навязчивым заблуждением,
каким-то упрямым квипрокво. В Шестове поражает радикализм его отверже-
ния цивилизации с ее верховным началом — разумом. В европейской фило-
софской традиции спор с разумом, конечно, не новость. В новое время его на-
чали Паскаль и Руссо. Затем продолжили романтики, Шопенгауэр, наконец
Ницше и вся традиция философии жизни... В чем-то близок к Шестову и Берг-
сон — его современник. Многие моменты критики разума у него и у Шестова
совпадают. К тому же оба — классического стиля писатели. Сходство немалое.
Более того, Бергсон настаивает на динамизме творческой эволюции и «жиз-
ненного порыва» как метафизической сущности бытия. Ну а Шестов делает
подобное (примат становления над бытием у него явно просматривается), не
озадачиваясь, однако, привычными для философа концептуальными определе-
ниями, стараясь прорваться за пределы философской понятийной «кухни» пря-
мо на просторы ветхозаветных пустынь, где мы видим настоящих его геро-
ев — Иова или Авраама. Несомненно, что для него двузаветный библейский
мир (Шестов равно апеллирует к Ветхому и Новому Заветам) явно превосхо-
1 Рецензия на книгу: Léon Chestov. Un philosophe pas comme les autres? / Sous la dir. de
Nikita Struve. Paris: Institut d'études slaves, 1996. (=Cahiers de l'émigration russe. 3).
360
Глава V. Серебряный век русской философии
дит в своей значимости инструментарий европейской философии и весь ее ра-
ционально-научный горизонт, включая и философию жизни в духе Шопенгау-
эра или Бергсона. Превосходит точно так, как превосходит своей огромностью
стена великого горного хребта привычные размеры нашей долинной обыден-
ности. В мире Шестова трудно дышать — точно так, как и на горных высотах.
Ну что делать с этим, с этой библейской высотой-глубиной, позитивному (не
позитивных ученых цивилизация наша не держит) ученому, специалисту, как
говорят? Специалист, читая Шестова, может поразиться, восхититься и пере-
жить другие подобные эстетические впечатления, но как он может превзойти
свой разум, свою веру в науку, в ее «вечные истины»? Ведь в противном случае
надо поверить в чудо! А наука и цивилизация, на ней построенная, сделали
все, чтобы дискредитировать веру в чудо, а заодно и в Бога, именно в того,
библейского живого Бога, в свете веры в которого (пусть и приглушенного «под-
польем», о котором пойдет речь ниже) и строит свой удивительно целенаправ-
ленный, не уклоняющийся никуда дискурс Лев Шестов.
Что же такое Шестов, «кто»? — как спрашивал Ницше в своем «полемиче-
ском сочинении» «К генеалогии морали», более других работ немецкого мыс-
лителя потрясшем Шестова (он прочел его залпом и был потрясен, после чего
последовала его книга о Ницше и Толстом, а затем и о Ницше и Достоевс-
ком). Неужели это все только мистификация в духе Серебряного века, в стиле
Бореньки Бугаева и всей той не без эстетства и игры атмосферы, которой,
конечно же, дышал и Шестов? В это как-то не очень верится. Пусть его твор-
чество не есть опыт теолога, пусть это действительно светская мысль, но
ведь она же камня на камне не оставляет от своей светскости, от своей раци-
ональности и логичности (Шестов только и делает, что рассуждает, на что
ему не раз указывал Н. Бердяев, приходя порой просто в ярость от реакции
друга), которые и нам кажутся основаниями мысли как мысли! Если это
апофеоз (причем скорее не «беспочвенности», а безумия), то ведь апологию
безумия мы можем стерпеть в Библии, в устах Иисуса Христа или апостола
Павла, но как ее принять всерьез у ученого философа, писавшего диссерта-
цию о положении рабочих в России, изучавшего в университете право? Нор-
дау — мыслитель той же примерно поры — объяснил феномен Ницше его
медицински диагностируемым (или якобы диагностируемым до поры до вре-
мени) безумием 2. Это, конечно, физиологический редукционизм, бывший в
моде во второй половине XIX в. (вспомним фон Корена у Чехова, о котором
вспоминает и Шестов в своем «Апофеозе беспочвенности» 3). Но зато как
понятно, как рационально!
2 См.: Нордау М. Вырождение: Современные французы. М., 1996. С. 279.
3 См.: Шестов Л. Сочинения. М, 1995. С. 241.
Разум на весах откровения
361
О Шестове ничего подобного не скажешь. Пусть он так же, как и его люби-
мец Ницше, лазает без отдыха по горам (и удивительно — по тем же самым, по
швейцарским Альпам), но он, слава Богу, здоров психически! А скитанье по
горам надо брать и в фигуральном смысле, который, пожалуй, для нас важнее
прямого. Символ гор (библейских), равно как и символ «подземелья» (термин
Ницше) или «подполья» (Достоевский) — ключевые для понимания этого труд-
ного автора, каким, несмотря на всю свою «легкочитабельность», является
Шестов. Структура кода к нему выстраивается парадоксальным сближением
этих внешне противоположных символов. Шестов — и не только ранний —
заканчивает свои «горние» восхождения в ницшеанском «подземелье» (оно же
достосвское «подполье», более известное и любимое критикой). Суммарно его
опыт можно описать так: когда «почва уходит из-под наших ног» 4, мы оказы-
ваемся в подполье/подземелье, показывая кукиш мировым гармониям и идеа-
лам, считая, что выпить чаю важнее, чем спасти человечество, ибо оно, как и
весь мир, оправдано быть не может, если только для его спасения должен по-
гибнуть один, пусть «безобразнейший», человек! Бездна «чудовищного циниз-
ма» 5, «скептицизма и пессимизма» 6 и есть «ночь» подполья, «безобразнейшая
и отвратительная» истина (другой она, по Шестову, следующему здесь за Ниц-
ше, и быть не может). Так выстраивается система оппозиций, где под рубрикой
«дня» («обыденности») размещаются свет, логика, необходимость, разум, на-
ука, долг... Под рубрикой же «подполья» («трагедии») соответственно —тьма,
хаос, инстинкт, воля и своеволие, желание, свобода... В чем же «изюм» второ-
го ряда, почему Шестов так носится с ним, считая попадание в его отталкива-
ющие объятия более благородным, чем пребывание в первом ряду? Да потому,
что он безоговорочно принимает ницшеанскую догму: лишь во мраке и хаосе
подполья правда жизни, а там, где «свет» и «идеалы», — только ложь! Ницше-
анская догма («впервые открывающаяся истина всегда отвратительна и безоб-
разна, как новорожденный ребенок» 7) так и остается непреодоленной, хотя
попытка выйти из «подполья» займет у Шестова много лет борьбы и размыш-
лений. А пока правит бал Ницше с его «психологией» как заменой разоблачен-
ного идеализма (читай: любых идеалов).
С помощью Ницше Шестов «карнает» Достоевского, оставляя его с одним
лишь «подпольем» как итогом «перерождения убеждений» писателя, а с помо-
щью Достоевского «психологически» редуцирует Ницше, не будучи в силах
прорваться сквозь опыт Ницше-человека (известный, к сожалению, Шестову
4 Там же. С. 197.
5 Там же. С. 47.
6 Там же. С. 69.
7 Там же. С. 38.
362
Глава V. Серебряный век русской философии
по его тенденциозной идеализации, вышедшей из-под пера сестры немецкого
философа; см. рецензируемое издание, с. 93) к ясному осознанию кризиса са-
мих оснований европейской культуры, в феномене Ницше обозначенного. Здесь
Шестову еще далеко до «постмодернизма», о чем мы будем говорить ниже.
Одним словом, оборачивание подпольного мрака горним светом займет нема-
лое время в творческих поисках мыслителя и, как показывают его поздние тек-
сты, так и не станет окончательным. Шестов отметил, что выход Ницше из
«подполья» ознаменован явлением «Заратустры» с его мифом вечного возвра-
щения 8. У него же перед войной, мы знаем, был период, когда он писал «Sola
fide» — вот его попытка выхода из своего подполья. Ее метадискурсивная фи-
гура удивительным образом совпала со схемой опыта Кьеркегора, что Шестов
и представил в своей книге о нем. Однако уже в «Апофеозе беспочвенности»
мы находим первые, еще робкие признаки этого оборачивания — ведь импли-
цитно Шестов всегда знал, чем «чревато» подполье, о каком мраке тут речь —
для него этот мрак всегда был ярче тысячи солнц! «Если есть Бог, — говорит
он тут, — если все люди — дети Бога, то значит, можно ничего не бояться и
ничего не жалеть» 9.
Ранний Шестов выступает адептом литературы как искусства трагедии,
перед которым наука и философия, стремящаяся ей прислуживать, оказывают-
ся жизненно несостоятельными. «Сам Гегель, — пишет он, — спасовал бы пе-
ред подпольным философом Достоевского» 10. Но впоследствии Шестов цели-
ком уходит в чтение философской, экзегетической, религиозной литературы и
уже здесь находит своих немногих героев и многочисленных антигероев.
Философия — с Парменида, ведь с него, по Шестову, начинается искаже-
ние мысли в разуме с его принципом «принуждающей истины» п — строит
себя как архитектонику разума, как царство непротиворечивых общеобязатель-
ных и необходимых суждений. Этот идеал — эллинский, афинский по своему
генезису — друг и оппонент Шестова Эдмунд Гуссерль обозначил заглавием
своей знаменитой статьи «Философия как строгая наука» 12. Для философа —
любого —трудно расстаться с эллинским замыслом философии как рациональ-
ного царства идей, связно и непротиворечиво и тем самым принудительно ис-
толковывающего мир. Простить философу антифилософию как дело всей его
8 Там же. С. 148.
9 Там же. С. 210.
10 Там же. С. 154.
11 Шестов Л. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 339—410. Это издание, подготовленное
А. В. Ахутиным и Э. Паткош, имеет научный характер, в отличие от иного по составу двух-
томника, выпущенного в Томске в 1996 г.
12 Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос. М., 1911. Кн. 1.
Разум на весах откровения
363
жизни философы не смогли, и поэтому, как пишет о Шестове в рецензируемом
сборнике Жан Брен, вокруг «одного из самых великих философов XX в. был
организован настоящий заговор молчания со стороны историков и универси-
тетских профессоров, поскольку, будучи христианином, Шестов отверг марк-
сизм и... осмелился потребовать отчета у самого разума, этого неприкасаемого
Бога, который с Декарта и Просвещения в формах позитивизма безраздельно
царил во Франции и Европе в сфере идей» (С. 19). Скажите инженеру, что ма-
шина — ошибка, заблуждение, помрачение свободы («обморок свободы», как
говорит Кьеркегор, alter ego Шестова), что тем самым само его дело — печаль-
ное «не то», разве он согласится с вами? Разве не устроит «заговора молчания»
вокруг осмелившегося на такой вызов? У цивилизации разума есть зловещая
инерция — и именно она правит бал в современном мире. А Кьеркегоры, Ниц-
ше, Достоевские, Шестовы, подрывающие ее самоуверенность и тем более са-
модовольство, должны быть или замолчаны, или осмеяны и окарикатурены,
или... запрещены! Слишком уж велики ставки, чересчур серьезны разногла-
сия, чтоб можно было такое дело пустить на самотек. И уже только поэтому
нельзя не приветствовать появление этого интересного сборника работ о Льве
Шестове, философе-эмигранте, положившем в основу своей философской ан-
тифилософии опыт как русской литературы с Достоевским во главе, так и биб-
лейского мира («Иерусалима»), на котором, как и на контрастирующем с ним
мире разума («Афины»), воздвигнута вся европейская цивилизация (Иеруса-
лим — Афины — Рим — Константинополь — Москва... далее везде — весь
мир?).
Но весь творческий опыт Шестова (как до него опыт Ницше) показывает
нам со всей очевидностью, что дом этой уверенно идущей ко всемирности ев-
ропейской цивилизации построен... на песке, и при том зыбучем! Ибо между
Иерусалимом и Афинами примирения быть не может (С. 181)... Остановить
бушующие стихии бытия, заклясть бездны хтонические, равно как и занебес-
ные, разум может лишь в своем воображении, лишь под наркозом самоопьяне-
ния своей мощью, своей самозаконностью (verum index sui et falsi, по слову
Спинозы), своей претензией быть господином над человеком, над всем быти-
ем... Афины принесли в мир Европы обожествление разума, которому никогда
не сойтись мирно с библейской верой, как бы ни старались классики теологии
и философии... Для Шестова весь европейский разул* (исключения есть, но
они не многочисленны) есть прогрессирующая («прогрессирующий паралич»
здесь не пустая аллюзия, ибо для него разум — омертвитель Жизни и личнос-
ти в Боге, человеке и в любой твари природной) эллинизация библейского на-
следия. Неутомимо, неуклонно, напоминая чем-то библейских героев (Авраам
пошел, не зная куда, и упорство его «безрассудства» привело его к цели), Шес-
тов во всех своих текстах проводит одну дискурсивную и герменевтическую
364
Глава V. Серебряный век русской философии
стратегию: с тончайшим нюхом однодума, обогащенного культурой философ-
ской и экзегетической, он всюду выявляет изменчивые формы одного про-
цесса — эллинизации библейской традиции — и непримиримо, без обиняков,
безжалостно отвергает все его результаты, изобличая их в бесплодии в деле
Жизни и Спасения, в том, что составляет самый нерв напряженного экзистен-
циального вопрошания целостной живой личности. И делает он это с откры-
тым забралом, как истовый паладин Истины, не взирая ни на какие авторитеты
(Гегель, Кант, Соловьев, Бердяев, Платон и др.). Какие обольстительные чары
напустили великие философы, особенно Германии, на европейскую и, в част-
ности, русскую мысль! Шеллинг, Гегель, Кант, а до них Спиноза, Декарт, Лей-
бниц. .. Кто перед ними не преклонялся? Все — кроме Кьеркегора, Ницше, До-
стоевского и особенно Шестова! Можно вспомнить еще и Паскаля, также вос-
стававшего против «бога философов» за Бога библейской веры. В чем тут дело?
А в том, как пишет Шестов, что «из Бога (именно библейского, живого и лич-
ного. — В. В.) ничего не выведешь — Бог, как и созданная им "самость" (имя
немецкое — Selbstheit, переданное здесь по-русски, означает для Шестова че-
ловека живого, "эмпирического субъекта", которого так сильно "затуркала"
классическая немецкая философия, да и не только она. — В. В.), своеволен, но
из понятия божества уже можно беспрепятственно выводить» 13. Вот, оказыва-
ется, в чем суть дела: библейского Бога философы Европы подменяют рацио-
нально оформленным, доступным для разума божеством (абсолютом). Из биб-
лейского Бога силлогизма не «сошьешь». А из в разум вмещаемого божества-
абсолюта «сошьешь» любые силлогизмы, которые нужны, чтобы оправдать мир
с его необходимостью, с его злом, прогрессом и наукой, с его цивилизацией,
идущей по детским трупикам (со слов Ивана Карамазова и начинается завет-
ная тема или «вопрос» Шестова). И именно поэтому движимый неискуплен-
ными слезами ребенка, ополчается русский мыслитель рыцарем «безумного»
Иерусалима против умных Афин — равновесие сил в мире должно быть вос-
становлено: Иерусалим — более глубинная основа европейской цивилизации,
чем Афины...
Разум выявляет постоянство в мире и рассчитывает на него. Но у мира ха-
рактер живой особи — своенравной, своевольной, совсем не считающейся с
нужным разуму постоянством. Поэтому складывается впечатление, что даже
мир обыкновенных неодушевленных вещей, окружающих человека, и тот есть
только внешняя скорлупа, за которой живут упрямые, своенравные личности.
Мысль человека не равна его разуму. Для мысли разум может предстать и
даже наверняка предстанет как некое очарование мертвым, мертвящее очаро-
вание постоянства, усыпление мышления разумом. Это напоминает нам Хай-
13 Шестов Л. Сочинения. М., 1995. С. 364—365.
Разум на весах откровения
365
деггера, для которого развертка разума в техническом устроении человека на
Земле есть именно не-мышление: это растущее самостроительство разума ис-
ходит из одного, собственно, материала — из забвения бытия, из забвения
мысли.
В библейско-экзистенциальной драматургии, которой следует мысль Шес-
това, мир — это мир не просто одушевленных вещей, но, я бы сказал, вооду-
шевленных вещей, такой мир, в котором и камни вопиют, страждут и бросают
вызов, вопрошая самого Творца. В этом мире голосов-личностей (здесь от-
крывается возможность для бахтинского — через Достоевского — чтения
Шестова, реализованная в сборнике М. Ван Губергеном) разум с его навязчи-
вой идеей постоянства, им открытой и лелеемой, кажется комической фигу-
рой, обреченной лишь на постоянное попадание впросак. Ведь это он, разум,
Бога как высшее Лицо, сотворившее мир и человека, принимает то за сгусток
сексуальной сублимации (Фрейд), то за фантастический образ сущностных сил
человека (Фейербах), то за фантом отчужденных социоэкономических систем
(Маркс), а то и просто за витальную уловку слабых в их мятеже против могу-
чих людей-господ (Ницше).
Прекрасно и божественно только Начало — заря невинного мира, всегда
теплого от руки Творца. Начальная пора творения — никогда не проходит, она
всегда здесь, но жить в ней, чувствовать ее, удивляться и радоваться ей разум
не способен, равно как и впавший в «разумоверие» (позволим себе этот неоло-
гизм, парафразирующий «природоверие» К. Льюиса) человек, сотворивший
себе — вопреки Св. Писанию — кумира из разума. Поет-ликует Исайя, поет-
звенит первозданная степь у Чехова (С. 26), своим пением приглашая воспеть
ее певучесть в слове. Первозданно бытие — голосовое, личное, певучее, где
все его разнообразие держится живой верой в живого Бога всех живых. Когда
философ-искатель Лев Шестов открыл для себя это бытие, то мир разумоверия
современной культуры и философии сразу потерял для него всю свою притяга-
тельность, раз только он закрывает для себя доступ к библейской первозданно-
сти веры. Наваждение разума с его проектами что-то улучшить, усовершен-
ствовать, создать более правильный, более «нормальный» общественный строй,
с помощью научного познания подчинить мир своему постоянству, поставив
его под контроль ради пользы и блага, ради удобств и кайфа, все это наважде-
ние сразу пропало, уступив место пусть не вполне традиционной, пусть свое-
образной, но несомненной вере. По крайней мере, вере в веру... Можно по-
разному истолковывать эту веру, захватившую философа. Толкователи мысли
Шестова, объединенные в рецензируемом сборнике, придерживаются разных
точек зрения. Одни, как, например, канадский философ Андре Дезиле, полага-
ют, что при всем своем библеизме Шестов не был верующим человеком, счи-
тая, что Библию надо изучать так, как изучаются творения Платона (С. 11). Мы
366
Глава V. Серебряный век русской философии
с этим не можем, однако, согласиться: Платон, несмотря на его гениальные
мысли в «Федоне», для Шестова — объект критики как родоначальник класси-
ческого рационализма, в кредо которого входит примат разума над волей и чув-
ствами. Чего только стоит требование Платона изгнать из своего государства
поэтов! Шестов вникает в глубокие мысли великого афинянина (философство-
вание есть приготовление человека к смерти — «Федон», 64 а), но он не без
сарказма подчеркивает, что экзистенциальные прозрения Платона быстро мель-
чают в его рациональных утопиях, в его диалектике, в мире его идей, которые
диктуют условия космогенеза даже творцу-демиургу («Тимей»). Платон под-
чиняет волю разуму, и эту его установку продолжат и св. Фома, и не святой, но
великий рационалист нового времени Декарт, включивший воление в мышле-
ние, и современный «сюррационалист» Башляр, не говоря уже о Лейбнице, у
которого Бог послушно следует предписаниям «вечных истин» разума. Стоит
ли продолжать список великих (и не очень) мыслителей, которых можно на-
звать философами разума? Среди них мы найдем и Спинозу, и Вл. Соловьева
via Кант, Шеллинг, Фихте, Гегель, Маркс...
Итак, Шестов читает Библию все же не так, как Платона или Гегеля. Ведь
по-разному мы читаем то, что очаровывает нас и служит источником вдохнове-
ния, выступая как подтверждение и продолжение нашего личного опыта, и то,
с чем знакомимся «скрепя сердце», отдавая должное умозрительной силе мыс-
лителя, его искусству умозаключений, но безусловно расходясь с ним в пафосе
мысли, в самой экзистенциальной воле, ее ведущей. Одно дело читать сердцем
и верой — пламенеющим верой сердцем, — и совсем другое — «холодным»
разумом, чувствуя при этом, что ты «горишь» совсем от других книг (от Книги
par excellence). Поэтому суждение А. Дезиле, хотя в нем и есть некоторый ре-
зон, не кажется нам точным. Резон же этот был сформулирован собеседником
и учеником Шестова, Фонданом, которого цитирует Дезиле: «Вера в истори-
ческие откровения живого Бога, несомненно, определяет эту Книгу, но ее фи-
лософия и метафизика могут при этом рассматриваться в самих себе и входить
в историю философии без того, чтобы за этим с необходимостью последовало
религиозное обращение... Начиная с того момента, как в мире появилась экзи-
стенциальная мысль... считающая себя светской, она только и делает, что на-
подобие ночного мотылька вращается вокруг этой философии» (С. 11). С этим
утверждение нельзя не согласиться — экзистенциальная философия, уже са-
мим фактом, что это — философия, есть явление светское, сколь бы радикаль-
ной критикой разума она ни характеризовалась. Однако было бы неверно счи-
тать, что Шестов, как Максим Горький, ценит Св. Писание за его эстетические
красоты или, как Лев Толстой, за его моральное глубокомыслие. Нет, вера про-
роков, живой, личный Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Паскаля, которого он
задолго до русского мыслителя противопоставил «богу философов», т. е. обо-
Разум на весах откровения
367
жествленному разуму с его «вечными истинами», не есть предмет эстетского и
даже декадентского любования для Льва Шестова — он сам горит этой верой,
пусть и не чужд как писатель рубежа веков ни декадентству, ни эстетизму, ни
модернизму, ни даже рационализму...
Участники сборника по-разному обо всем этом говорят. Ив Бонфуа, напри-
мер, отказывает Шестову и в звании философа, и в звании теолога, полагая,
что Бог христианской теологии считается с разумными истинами (С. 14). На-
пример, воскрешая Лазаря, Иисус воспроизводит рационально допустимую
последовательность временных событий — сначала смерть как состояние, по-
том воскресение, не отменяющее прежнего состояния, на что, собственно, и
претендует Шестов в своем толковании библейской мысли-веры: для Бога нет
невозможного. Но раз Шестов не философ (ну как можно до такой степени
отказываться от разума и быть одновременно философом?) и не теолог (не зна-
ет, что и Бог теологов ограничен условиями разумно-возможного), то кто же
он? — вопрошает писатель. И предлагает два варианта ответа. Первый: Шес-
тов в своем центральном суждении о возможности для Бога сделать однажды
бывшее небывшим ориентировался на образец... писателя! Ведь писателю
ничего не стоит уничтожить тот текст, который ему не нравится (С. 15). Но это
предположение не вполне удачно, полагает Бонфуа, и переходит ко второму.
Более подходящим ему кажется образ не писателя, а ребенка, которому расска-
зывают волшебные сказки. Порой в рассказах слишком много ужасов и не-
справедливости, а ребенку жалко царевну, Аленушку или Иванушку-дурачка,
и он просит рассказчика: «Пап, а пап, оживи царевну!»
Эта версия действительно достаточно глубока — вспомним евангельскую
мысль: пока не станете как дети, не войдете в Царствие небесное. Ребенок,
безумец, странник, пророк, поэт милостью Божьей — вот возможные герои
библейской философии Шестова; именно потому и герои, что посрамляют ее
антигероя — самодовольный разум, провозгласивший свою автономию и окол-
довавший поверившего в него человека. С этой «детской» герменевтикой
нельзя не считаться. Но принять рациональный вариант христианской теоло-
гии за единственно возможный, как это делает Бонфуа, мы не можем. На
Западе была и другая традиция — волюнтаристской теологии, представите-
лями которой были в какой-то степени Тертуллиан (для Шестова и он недо-
статочно волюнтаристичен) и Петр Дамиани (образец для Шестова) и — ее
присутствие мы находим у номиналистов и у таких теологов, как епископ
14 «Кто властвует над сотворенными вещами, тот не подчинен законам творца, и кто
создал природу, управляет естественным порядком по собственному творческому усмотре-
нию», — говорил П. Дамиани (см.: Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия.
М, 1992. С. 289—290).
368
Глава V. Серебряный век русской философии
Парижа Э. Танпье, который в 1277 г. постановил считать тезис перипатети-
ков о том, что Бог не может сотворить бесчисленное множество миров, пося-
гательством на всемогущество Творца 15... Знал волюнтаристский импульс в
теологии и Лютер, восставший против рациональной теологии и ее истори-
ческого церковного воплощения.
Разум с его очевидностями предстает в образной мысли Шестова как своего
рода неодолимая стена. В греческом слове «эпистема» (знание), на наш слух,
слышится слово «стена», а вместе с ним звучит пароль всех рационалистов от
Аристотеля до Гуссерля, фиксирующий самое главное в рациональном мыш-
лении — необходимость остановиться, почти «остеновиться», стать своего рода
стеной или, по крайней мере, изобразить стенообразную неприступность. По-
гречески ocvàyKTi axfjvai означает «должно остановиться». Да, ты должен оста-
новиться, говорит разум, чтобы твое знание получило свидетельство прочно-
сти, уверенности в нем. Пафос битвы со стеной, правда, рождает аллюзию на
молодого В. Ульянова с его знаменитыми словами в ответ на реплику, что пе-
ред его революционной волей стена: «Стена, — сказал Ульянов-младший, —
да гнилая, ткни, да развалится». Эта набежавшая нам на перо параллель Шес-
тов — Ленин поэтому не совсем лишена правдоподобия, хотя так ее прово-
дить, как это делает в своем эссе И. Балаховский, отмечая сходство библей-
ской притчи о жертвоприношении Авраама с историей Павлика Морозова
(С. 68), нам представляется некорректным. Этот библейский эпизод задолго до
Шестова использовал в целях выявления той же самой структуры экзистенци-
альной мысли Кьеркегор, заподозрить которого в московско-советской менталь-
ное™, как это делает автор по отношению к русскому мыслителю, право же,
трудно.
Да, перекличка с «духовным революционаризмом» у Шестова как радикаль-
ного мыслителя есть, но это, скорее, примета времени: от Ницше до Бердяева.
В радикализме мысли ему не откажешь. Но его радикализм не политический,
даже не моральный, а экзистенциальный, антропологический, если угодно,
уходящий в самые последние «корни» человека и мира.
Здесь следует процитировать самого Шестова, чтобы точно обозначить то,
о чем собственно идет речь. Излагая азбуку экзистенциальной философии как
своего рода «второго измерения мышления», открытого им самим, равно как и
до него Сёреном Кьеркегором, Шестов пишет: «Вера есть источник экзистен-
циальной философии и именно постольку, поскольку она дерзает восставать
против знания, ставить самое знание иод вопрос». Такая философия «не воп-
15 См.: Визгин В. П. Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор генезиса
науки нового времени // Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 3. С. 4—6.
См. гл. II, с. 62.
Разум на весах откровения
369
рошает, не допрашивает, а взывает» 16. И именно слово-логос в качестве зова,
призыва, даже стона или плача и означает, что здесь речь идет о непостижимом
для рационализма измерении мысли. Адекватный ответ на экзистенциальную
эмоцию личности может дать не разум, а только Бог. Речь идет о том, чтобы не
придумать, а восстановить в рамках современной мысли и культуры тот прафе-
номен библейского духа, который явил себя в псалмах и других текстах Св. Пи-
сания. Восстановить не ради того, чтобы ретроградно скатиться назад, к неве-
жественным пастухам с их суевериями, а чтобы, двигаясь вперед по пути про-
гресса, не погибнуть от догматизма нарциссического разума. Действительно,
как не без основания подчеркивает Ж. Брен, философия XX в. есть по преиму-
ществу замкнутый в собственное самосозерцание разум, ищущий в разных
направлениях научной философии, особенно в ее англосаксонском варианте,
дефиницию дефиниции, умозаключающий об умозаключении и т. п. В столь
же ирреальное самолюбование погружен и континентальный, по преимуще-
ству французский, философский ум, любуясь сконструированными им фанто-
мами, производство и реклама которых монополизированы «неприкасаемыми
гуру» (С. 26).
Философы любят высокую техническую оснащенность своей дисциплины
и по наличию у философа специального аппарата часто судят о значимости
мысли. В сочинениях Шестова действительно вроде бы нет такой, как он сам
любил говорить, «умышленной» речи, искусственного словаря, отпугивающе-
го непосвященных и очень нужного самим философам для поддержания их
высокого социального престижа. Однако было бы ошибочным считать мысль
Шестова наивной литературной риторикой. Как показывают некоторые рабо-
ты рецензируемого сборника, Шестов прекрасно владел самым изощренным
концептуальным аппаратом современной философии, включая и философскую
логику. Ведь он был одним из первых, кто открыл для Франции Э. Гуссерля,
особенно богатого спецжаргоном основоположника феноменологии. И, как
демонстрирует исследование Рамоны Фотиаде, мысль Шестова вполне излага-
ема на языке феноменологии, расходясь с ней, однако, кардинальным образом.
По учению феноменологов, «бытие и значение неотторжимо соединяются друг
с другом» (С. 115—116), так что само понятие бытия без отношения к созна-
нию с его интенциональной структурой «становится абсурдным и самопроти-
воречивым» (Л. Колаковский, цитируемый Р. Фотиаде, с. 116). «Но, по Шесто-
ву, — подчеркивает исследовательница, — существование не сводимо к акту
сигнификации, точнее говоря, оно превосходит значение и интенциональную
структуру, наличную в трансцендентальном сознании и полученную благода-
ря процедуре редукции» (Там же). Порукой тому для Шестова выступает внут-
16 Шестов Л. Сочинения. М., 1995. С. 402.
24 - 3357
370
Глава V. Серебряный век русской философии
ренний целостный опыт личности. В качестве экзистенциального философа
жизни и радикального персоналиста Шестов, проделывая все положенные фе-
номенологией ходы мысли, убеждается опытным путем в их недостаточности
для контакта с подлинным бытием. Значит, отвержение Шестовым основных
направлений современной мысли есть не следствие (как иногда полагают) не-
понимания им ее научности, а результат глубинного экзистенциального опыта,
вполне выразимого, пусть и с помощью некоторых существенных отрицаний,
на самом высокотехническом философском языке (стремление Шестова мыс-
лить и писать по нормам именно философского жанра хорошо показано в ста-
тье М. Карассу, издавшего книгу ученика мыслителя Б. Фондана «Встречи со
Львом Шестовым»).
Спор Шестова с Гуссерлем, тонко анализируемый Р. Фотиаде, как раз де-
монстрирует нам философичность русского мыслителя. «Стенообразный» для
феноменологов характер тезиса об интенциональной структуре сознания (оче-
видность всех очевидностей) «протыкается» контртезисом Шестова о creatio
ex nihilo. Понятию самоочевидной истины тем самым «противопоставляется
парадоксальное понятие "истины сотворенной"». Гуссерль не оценил декар-
товской гипотезы о «злом гении» как демиурге, видимо, показавшейся ему про-
извольной фантазией великого рационалиста, за которым, однако, он следует в
своих «Картезианских размышлениях». Но Шестов как раз заметил это обсто-
ятельство, использованное современными критиками Гуссерля — Л. Колаков-
ским и К. Лауэром (С. 117). Кратко говоря, Гуссерль как рационалист стоит на
той же позиции принципиального тождества мышления и бытия, что и Парме-
нид и вся основанная им традиция «принуждающей истины». Шестов же как
раз выбирает другой путь, «второе измерение мышления», внутри которого
бытие не совпадает с мыслью, что, однако, не означает, что истины нет или она
вообще невозможна. Просто она радикально переосмысливается. Статьи А. Аху-
тина, Ж. Брена, Р. Фотиаде, Б. Вержели и др., составляющие теоретико-фило-
софское ядро сборника, в основном и посвящены анализу «второго измерения
мышления» по Шестову. В частности, Вержели развивает мысль о том, что
надо рискнуть быть захваченным Другим, а не исповедовать установку разума
на захват собой Другого (С. 84). В нашей философии сходные тезисы отстаи-
вает В. Бибихин, отталкивающийся, на наш взгляд, в основном от опыта Хай-
деггера 17.
Если философы рассматривают мысль Шестова как «вещь-в-себе», соотно-
ся ее, пожалуй, лишь с философской традицией и особенно с борцами против
нее (как, например, Ницше), делая исключение для таких фигур, как Достоев-
17 См.: Бибихин В. В. Язык философии. М., 1993. С. 84 и след.; Он лее. Мир. Томск,
1995. С. 58 и след.
Разум на весах откровения
371
ский и Толстой, то представленные в сборнике историки культуры и литерату-
роведы стремятся реконструировать атмосферу личных и литературных кон-
тактов Шестова с его современниками, Бердяевым и Цветаевой прежде всего.
В обоих случаях речь идет о дружбе, эмоционально окрашенной, эпистолярно
и творчески подтвержденной, но с неровностями, даже, возможно, с полным
разрывом (маловероятным, однако), как в случае с Цветаевой (С. 156).
Отношениям Шестова и Бердяева следует, на наш взгляд, посвятить специ-
альную книгу — настолько они богато документированы и философски важ-
ны, не говоря уже о моментах личного плана. Интересное исследование
А. Аржаковского «Л. Шестов и Н. Бердяев: бурная дружба» приводит к таким
выводам: антиномизм в истолковании истины был присущ обоим мыслителям,
но каждый из них развивал лишь одну половину антиномии. Например, Бердя-
ев «настаивал на первой части антиномии, а именно на том, что мир совершен-
но свободен по отношению к Богу, в то время как Шестов всю свою жизнь
повторял антитезис этой антиномии, а именно то, что Бог совершенно свобо-
ден по отношению к миру» (С. 152). Другой важный пункт их размежевания
определяется вопросом: откуда происходит сам разум с его познанием? Воп-
рос действительно ключевой и не только для Шестова. В одном из писем друга
мыслителя М. О. Гершензона мы находим такое возражение ему: мол, ты все
время нападаешь на разум, а ведь он тоже от Бога! На это Шестов, разумеется,
должен был бы ответить несогласием: разум и познание внушены первочело-
веку не Богом, а змеем 18. Вместо традиционной легенды о божественной сути
разума Шестов выдвигает другую: разум не божественной, а «змеиной» приро-
ды. Бердяев, однако, не настолько иррационалист-радикал, чтобы последовать
здесь за своим старшим другом. Как пишет А. Аржаковский, «можно сказать,
что Бердяев не вписывает грехопадение в сферу познания, как это делает Шес-
тов, но располагает его в более глубоком измерении: в сфере бытия как таково-
го». И поэтому вопреки Шестову познание для Бердяева не только смирение и
послушание перед лицом необходимости, как у его друга, но и «источник осво-
бождения и творчества» (С. 149).
Другая дружба, дружба философа и поэта, напротив, длилась недолго и мало
документирована, но полна зато внутренними отголосками и параллелями, если
только вообще можно сопоставлять лирическую поэзию и философскую мысль.
Но именно экстремальный характер «вопрошаний» и сближает двух замеча-
тельных людей Серебряного века, в целом так мало похожих. Ирма Кудрова
показывает, что оба они предпочитают, говоря метафорически, журавля в небе
Насколько нам известно, Шестов не дал прямого ответа на меткое замечание Гершен-
зона. См.: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям
современников. Т. 1. Париж, 1983. С. 274—275.
24*
372
Глава V. Серебряный век русской философии
синице в руке (С. 170—171). Общей для поэта и мыслителя структурой высту-
пает «способность к воодушевлению как первая отличительная черта духовно-
сти и жизни» (С. 171), — говорит исследовательница. Вектор «эмоцио versus
рацио», как бы мы обозначили этот сюжет, действительно сближает Цветаеву
и Шестова, пусть даже на самом деле философ вроде бы и мог обходиться без
поэзии, а когда писал о Пушкине или Овидии, то излагал их прозой (С. 167).
Как изящно выразила эту параллель И. Кудрова, «оба современника были при-
верженцами одних и тех же идей, играя одну партитуру на разных инструмен-
тах» (С. 171). Тут многое, на наш взгляд, схвачено верно. Но в ходе анализа
лирики Цветаевой и при сопоставлении ее с текстами Шестова нельзя, однако,
не заметить, что те «небеса», к которым, вроде бы, устремлены оба героя ис-
следования И. Кудровой, весьма различны. Если Цветаева «держит крыло» к
Олимпу и Геликону, святилищам муз и богов, исповедуя, так сказать, опоэти-
зированный политеизм романтического толка, то Шестов прокламирует моно-
теизм библейского Бога.
Здесь естественным образом возникает вопрос о романтизме. А. Аржаков-
ский решительно не согласен с приписыванием Шестову такой характеристи-
ки: «Никакого следа романтизма и эстетизма мы не найдем у них», — говорит
он о Шестове и Бердяеве, используя, правда, несколько суженное представле-
ние о романтизме как лишь «ретроутопии» (С. 146—147). Но если понимать
романтизм шире, имея в виду, скажем, и романтические корни Ницше, то с
этим суждением трудно безоговорочно согласиться. Примерно то же самое сле-
дует сказать и об эстетизме. В некотором смысле романтизм и эстетизм (в виде
ницшеанства, символизма или каким-то иным образом) были присущи всему
Серебряному веку, во многом наследующему западные неоромантические и
символистские традиции. Не случайно, что именно Серебряный век открыл
древнерусскую живопись. Однако слова «романтизм» скорее все же следует
избегать при исследовании культуры этой эпохи, и показательно, что никто из
авторов сборника не использует его как позитивное понятие. Другое дело «по-
стмодернизм». Пройти мимо него исследователи не могли. И свидетельством
тому служит статья А. Валевичиуса, посвященная Шестову как предтече «пост-
модернизма» в связи с прочтением русским философом творчества Л. Толсто-
го. На наш взгляд, любая эпоха радикального культурного кризиса, представ-
ленная в своих общих характеристиках, будет удивительно похожа на мир «под-
полья» и «трагедии», который встает перед нами со страниц книг Шестова. И
это неудивительно, ибо сам феномен Шестова, как и феномен Ницше, был од-
новременно и свидетельством такого кризиса и мучительной рискованной по-
пыткой его преодоления. Друг Шестова, Э. Гуссерль, одну из своих книг по-
святил «кризису европейских наук». О кризисе писали все или почти все люди
той эпохи. Постмодерн — затянувшийся, ставший хроническим тот же самый
Разум на весах откровения
373
кризис. Он поэтому как бы утратил всю остроту и свежесть, еще живо ощуща-
емые Ницше, Белым, Шестовым и Гуссерлем. А. Валевичиус находит точные
слова для передачи атмосферы сегодняшнего кризиса, имя которому «постмо-
дернизм». Эмблемой его он выбирает слова подпольного человека Достоевс-
кого: пусть гибнет мир, мне лишь бы чай был! Именно эти слова и весь духов-
ный склад, за ними стоящий, поместил в фокус своего внимания Шестов.
Не случайно, что тема «подполья» привлекла особое внимание. В исследо-
вании Ж. Форментелли анализируются два противоположных прочтения «За-
писок из подполья»: Шестовым, с одной стороны, и французским антрополо-
гом, или, как у нас принято говорить, культурологом, Рене Жираром — с дру-
гой. Из «диптиха» Достоевского русский мыслитель берет по преимуществу
первую, спекулятивную часть (внутренний монолог героя, его размышления,
бросающие вызов очевидностям), а французский культуролог, напротив, со-
средоточивает свое внимание на социальной ткани рассказа, на самом обыден-
ном — на эмоциях и их превращениях. Жирар, как это и подобает ученому,
«спасает» разум от «очернения» его Шестовым: зло связано не с вкушением от
древа познания как таковым, а с гордыней и с желанием «стать как боги». Зна-
чение интерпретации Достоевского Жираром состоит в том, что она позволяет
увидеть некоторые «слабые места» шестовской концепции в целом, в частно-
сти ее монологизм, нечувствительность к диалогу с другим. Я бы назвал эти
моменты непреодоленным ницшеанством философа. К его проявлениям сле-
дует отнести, в частности, и подчеркнутое отталкивание Шестова от образов
Зосимы и Алеши Карамазова, в которых нет никакого «подполья» с его «бун-
том» и «свободой», столь дорогими Шестову, о чем — в отношении Алеши —
справедливо упоминает Ж. Форментелли (С. 129). Здесь обнаруживается свое-
го рода ницшеанский снобизм философа («настоящий святой — это вечно мя-
тущийся человек из подполья, и старец Зосима — только обыкновенный лу-
бок») 19. Если самоуверенным жестом ницшеанского «идолопоклонника-от-
трагедии» Шестов отделывается от Зосимы, то Алеша, «лепечущий что-то в
возражение Ивану», не выглядит у него даже ровней своему старшему брату.
Но именно с этим принижением Алеши и не согласен как Жирар, так и сам
автор этого небольшого, но интересного исследования, показывающего, что не
стоит делать кумира из Шестова, так и не вышедшего из «тени» Ницше.
Подытожим же наши размышления по поводу этого издания, подготовлен-
ного на высоком научном и философском уровне. Для Шестова вся европей-
ская философия — за исключением открытой им (а до него — Кьеркегором)
экзистенциальной философии, представляющей собой «второе измерение мыш-
ления», — есть своего рода криптоидеология, маскирующая себя интеллекту-
19 Шестов Л. Сочинения. М., 1995. С. 360.
374
Глава V. Серебряный век русской философии
альным аппаратом, принуждающим к ее принятию, который сам в свою оче-
редь маскирует себя покрывалом истины, незаинтересованного познания,
неумолимой и общезначимой логики или последних самоочевидностей, не при-
нять которые якобы невозможно. Для Шестова поэтому его собственная фило-
софия выступает как антифилософская борьба (Kampf), а не осмысление или
размышление (Besinnung), как для Гуссерля (С. 123). Однако до конца преодо-
леть идеологию в форме философии Шестову не удается. Поэтому искомая
божественная свобода, к которой устремлен мыслящий человек в лице Шесто-
ва, остается все еще заданием, борьбой за освобождение, а не свободой-ре-
зультатом.
БЕРДЯЕВ И ШЕСТОВ:
СПОР ОБ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ
ФИЛОСОФИИ■
Что такое слово экзистенциальной философии? Какова его природа, гене-
зис, цели, типы и т. д.? Речь у нас при такой постановке вопроса не идет о
традиционном историко-философском исследовании и описании. Мы ставим
эти вопросы в горизонте культурно-исторического контекста. Нам представля-
ется удобным и продуктивным начать подобное исследование с анализа диало-
га Н. Бердяева и Л. Шестова, длившегося 35 лет и отложившегося как в их пе-
реписке (в архиве Шестова находятся девять писем его к Бердяеву и семь пи-
сем последнего к Шестову), так и в цикле статей и рецензий одного мыслителя
на книги и статьи другого, не говоря уже об обширном творческом наследии
этих замечательных философов.
I
Бердяев и Шестов познакомились при встрече нового, 1903, года в Киеве,
родном для них обоих городе. И с тех пор, вплоть до самой кончины Л. Шесто-
ва (1938 г.), их связывала философская дружба и активные споры и беседы,
которые в эмиграции, пожалуй, только интенсифицировались, о чем красноре-
чиво пишет в своей философской автобиографии Бердяев.
Полемика мыслителей рассматривалась С. Левицким (Экзистенциальный диалог:
Н. Бердяев и Л. Шестов // Нов. журнал. Нью-Йорк, 1964. Кн. 75. С. 218—227) и А. Аржа-
ковским (см.: Léon Chestov: un philosophe pas comme les autres? Paris, 1996), a также и в его
книге «Журнал "Путь"(1925—1940): Поколение русских религиозных мыслителей в эмиг-
рации» (Киев: «Феникс», 2000. С. 481—484, 495—507), где он к их спору подключает и
С. Булгакова. См. также выше в этой главе: «Разум на весах откровения: Лев Шестов и
современная мысль». Однако некоторые важные моменты этого спора остались непроана-
лизированными. В основу данной статьи положен доклад, прочитанный на Чтениях памя-
ти Ал. В. Михайлова (ИМЛИ, декабрь 1998 г.).
376
Глава V. Серебряный век русской философии
Диалог не может быть продуктивным без определенной близости хотя бы
некоторых исходных позиций, разделяемых мыслителями, в него вступающи-
ми. Общее у Бердяева и Шестова — это горизонт религиозно ориентированно-
го экзистенциализма, развивавшегося на общей почве русской и европейской
культуры начала века. Перечислим отдельные моменты, сближающие их пози-
ции: религиозно окрашенный духовный опыт «прорыва» за рамки обыденности
жизни, где царствуют Польза и Рассудок, понимание трагизма человеческого
существования, творчества, культуры, признание фундаментальности и мета-
физико-религиозной глубины проблемы свободы, неприятие логики абстракт-
ной всеобщности, «всемства», законничества, стремление преодолеть се рам-
ки, достичь духовной свободы, переживание творчества Ф. М. Достоевского и
Ф. Ницше как величайшего откровения, как глубокого опыта освобождения
человека от всех необходимостей, в которые он закован. Мы перечислили не-
которые основные пункты, общие для Бердяева и Шестова как мыслителей, не
претендуя на полноту. Конечно, и свобода, и трагедия, и Достоевский, и Ниц-
ше понимались ими по-разному, но все названные моменты тем не менее в
равной мере были значимыми для них обоих, определяя опыт и его обработку
каждым мыслителем. Кроме того, их связывала долгая личная дружба, оба не
принимали рационализм и позитивизм своей эпохи, и каждый из них по-своему
был «революционером духа» или «декадентом» в глазах публики начала века.
Оба не принимали научной ориентации философии и видели ей альтернативу в
разработке экзистенциальной философии, которую, однако, понимали по-раз-
ному. Можно даже сказать, что суть их спора сводилась к тому, как нужно по-
нимать экзистенциальную философию в качестве философии свободы человека.
В мае 1900 г. Шестов работает над своей, по оценке Бердяева, лучшей кни-
гой («Достоевский и Нитше: Философия трагедии». СПб., 1903) и пишет в пись-
ме к Софье Балаховской, своей родственнице: «Провел последние недели в
скучном обществе теоретических философов. Насилу дотягиваю последние
страницы. Даже, если признаться, не выдержал всей программы — и опять в
гостях у Нитше и Достоевского. Это свои люди. С ними поссоришься, разбра-
нишься — но уж не проскучаешь» 2. Бердяев, видимо, меньше скучал в обще-
стве теоретиков. Общество, включающее его самого и его друга Льва Шестова,
скучным тоже никак не назовешь: оно продолжало традиции «веселого» обще-
ства Ницше и Достоевского, к изучению которых Шестов обратился как ли-
тературный критик и шекспировед. Знаменитая фраза Гамлета о том, что «по-
рвалась связь времен», была им пережита как формула трагедии человека:
человек всегда по сути дела живет в «порванном» времени, непрерывность про-
2 Баранова-Шестова И. Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям совре-
менников. Т. 1. Париж, 1983. С. 47.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии Ъ11
грссса — миф, а таинственное присутствие библейского Бога — подлинная
реальность не только для ветхозаветных пророков, но и для нас, современных
людей. Но путь к этой реальности закрывает разум. Отбросить его значит выб-
рать позицию «абсурда», достичь полноты отчаяния, из глубины которого воз-
можен прорыв к вере. Таково экзистенциальное мышление по Кьеркегору, дат-
скому философу, конгениальному Шестову, с творчеством которого он позна-
комился лишь в конце 20-х годов по рекомендациям М. Бубера и Э. Гуссерля.
Эту схему экзистенциальной философии Шестов создал сам, а Кьеркегор толь-
ко укрепил его уверенность в ней.
Переписка Бердяева и Шестова в 1923—1924 гг. накануне переезда Бердяе-
ва в Париж позволяет выявить существенные моменты различия в позициях
обоих философов, общение которых отличалось внутренней напряженностью,
«экзистенциальным характером», по характеристике Бердяева. Оба стремятся
к ключевой формуле, подводящей итог их долгим спорам и разногласиям при
известной близости их стремлений и интересов.
Шестов стремится представить Бердяева как философа-«идеалиста»: «Ты
обоготворяешь идеи, — говорит он, — а я не выношу обоготворения идеи».
Он считает, что Бердяев отождествляет бога философов и Бога Библии. А Бер-
дяев с этим не соглашается. Шестов все время сопоставляет Бердяева с немец-
кими философами (Фихте и Гегелем), против чего Бердяев тоже решительно
протестует, подчеркивая, что они вряд ли вообще верили в Бога и «молиться не
могли» 3.
Один из главных пунктов спора — это отказ Бердяева признать, что вера, в
его случае христианская, есть как бы лицензия на успокоенность и выход из
трагедии существования. Здесь он направляет свою критику на ученика и пе-
реводчика Шестова Б. Шлецера, но то, что он говорит о нем, он относит и к
самому Шестову. Однако если духовный опыт и искания Шестова, считает Бер-
дяев, «благородны», то о благородстве Шлецера и других говорить уже трудно.
Ибо они («те, на кого ты влияешь») не «имеют благородства первичного опы-
та. Им нравится, что ты оправдываешь двойную бухгалтерию: сочетание не-
просветленной и неодухотворенной обыденности в жизни и ни к чему не обя-
зывающей трагичности в литературе, в мыслях, в творчестве, в оторванных от
жизни переживаниях» 4.
«Напрасно вы думаете, — говорит в письме к Шестову Бердяев, имея в виду
и Шлецера и самого Шестова, — что состояние верующего не трагично, а тра-
гично лишь состояние неверующего. Как раз наоборот. Верующий большим
рискует. Верующий рискует проиграть вечную жизнь, а неверующий только
3 Там же. С. 289.
4 Там же. С. 291.
378
Глава V. Серебряный век русской философии
несколько десятилетий, что не так уже трагично и страшно». Аргумент Шле-
цера (вера— успокоение в статике) решительно отвергается Бердяевым: «Я
думаю, — говорит он в этом же письме, — что статично и бездвижно неверие
и скептицизм. Я вижу "выход" (против чего ты больше всего восстаешь), пото-
му что я верующий христианин и до конца всерьез беру свою веру. "Выход" и
есть движение, безвыходность же есть кружение... В конце концов есть только
одна вещь, которой стоит заниматься в жизни — искать "выхода", и движение
есть лишь в том, кто его находит. И ты, и Шлецер, и все люди вашего духа
восстаете против всякого, кто признает положительный смысл жизни» 5 (кур-
сив наш. — В. В.).
Существенным моментом спора выступает отношение одного мыслителя к
духовному опыту другого. Для экзистенциального философствования опыт —
инстанция первичной ценности. В своей непосредственности опыт не может
быть сообщен. Для этого он должен принять какие-то общезначимые формы.
Но он должен сквозь них восстанавливаться в своей самобытности, его симво-
лически условное и непрямое представление при передаче должно правильно
«читаться», чтобы человек и его мысль были действительно поняты. Реакция
человека на важные события его жизни индивидуальна и «прямое» описание
переживаний не может так передать его опыт, чтобы другой его понял, как бы
сам подобным же образом пережил. Существуют скромность и застенчивость,
препятствующие прямому описанию опыта. Бердяев более открыт, чем Шес-
тов, хотя считает, что он по характеру замкнут («очень замкнут») и, «вероятно,
слишком горд». А потому ему трудно прямо раскрывать свои самые значимые
переживания. «Я никогда не обнаруживал прямо драмы моей души и противо-
речий моего духовного опыта», — говорит он. Но Шестов еще более замкнут и
скрытен. У него нет книги, подобной, например, «Самопознанию» Бердяева.
Бердяев достаточно обнажает противоречия своего духовного опыта. Шес-
тов же, будучи более скрытным, более собран рационально и отмечает у своего
друга обилие логических противоречий и потому советует своим адресатам
читать его книги и статьи по несколько раз, чтобы, столкнувшись с ними, не
бросить всю работу, а пробиться к глубине опыта. Какие же конкретно проти-
воречия своего опыта раскрывает Бердяев в письмах к Шестову? Прежде всего
он говорит о том, что у него фактический опыт и христианское сознание не
всегда согласуются друг с другом: «В опыте моем, — пишет он Шестову, —
мне очень ведомо и близко то, что я отвергаю в своем христианском сознании».
Речь, в частности, здесь идет о том, что в сознании своем Бердяев — «ориге-
нист», он не может представить себе вечных адских мук. Но в опыте он пости-
гает реальность адских вечных мук для себя. Но это —только пример. Бердяев
5 Там же. С. 286.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии 379
резюмирует всю эту проблему так: «Есть много проблематического внутри
христианства для тех, которые верны ему и не сомневаются в нем» 6.
Шестов принимает опыт друга, принимает в тех описаниях его, которые
дает своим переживаниям сам Бердяев. Но он отделяет «благодушие» обработ-
ки этого опыта с помощью рационалистической философии от его изначаль-
ной трагичности. «Опыта твоего я не отрицаю, — пишет он Бердяеву, — и от-
рицать не хочу. Я спорю с тобой, когда ты опыт, при посредстве предпосылок
разума, превращаешь в "истину"» 7.
Другой момент спора в связи с отношением к опыту — это его христиан-
ский характер. Бердяев подчеркивает, что у Шестова нет именно христианского
опыта и поэтому, например, его анализ Паскаля ограничен внешней позицией
психологически тонкого разбирательства. Вне христианского характера опыта
судить о христианском мыслителе невозможно, подчеркивает Бердяев. Шес-
тов не принимает этого тезиса и говорит об «этическом идеализме», об исклю-
чительности претензии Бердяева на «истину». Он считает, что в этом случае у
него говорит «погоня за привилегией правоты». Причем эта «погоня» пропита-
ла собой вообще «не только философию, но и религиозную догматику». Даль-
ше в письме Шестова следует ключевая фраза, которая в тексте Барановой-
Шестовой воспроизведена, к сожалению, без сказуемого. Это место позволяет
приоткрыть вход пусть только в «переднюю» того, что надо считать глубин-
ным опытом Шестова. Это слова об опыте смерти и равнозначущем ей опыте
«трагического переживания, который открывает человеку глаза на суетность
всяких земных привилегий, не исключая и моральных» 8. «Тебе это кажется
"тьмой", — пишет Шестов, — но мне кажется наоборот ужасом та "правота",
которой люди поклоняются, как поклонялись идолам». И далее он говорит, что
одним из самых страшных идолов является идол «единства» истины: «Кажет-
ся, и говорят так все, что "единство" положит конец "вражде" и начнет эру
"любви", на самом деле наоборот: ничто не приносит миру столько вражды, и
самой ожесточенной, сколько идея единства» 9.
Опыт Шестова кажется близким по своему типу к переживанию «арзамас-
ского» ужаса неизбежной смерти, который испытал Л. Толстой. В нем действи-
тельно трудно найти что-то специфически христианское. В нем нет Христа. Но
есть предельный ужас смерти и как ответ на него — Бог и вера. И именно Бог
как всемогущий Творец, властный и над ходом времени. Характерно, что когда
Бердяев говорит об отсутствии у Шестова собственно христианского пережи-
6 Там же. С. 290.
7 Там же. С. 287.
8 Там же. С. 288.
9 Там же.
380
Глава V. Серебряный век русской философии
вания, то Шестов, отвечая ему, толкует в данном случае христианское как «мо-
ральное» или «этическое». Кстати, этически-моральное чтение христианства
типично и для Толстого. Философия жизни, к которой был близок Шестов,
роднит его опыт с опытом великого писателя, смерть которого он глубоко пере-
живал. Мы можем сказать, резюмируя этот сюжет, что у Шестова, вероятно,
был опыт библейской веры во всемогущего Бога.
«Второе измерение мышления», составляющее сущность экзистенциально-
го философствования по Шестову, можно описать его формулой: философия
есть «борьба» (Kampf), а не «оглядка» (Besinnung). Ни Ж. Валь, опубликовав-
ший книгу о Кьеркегоре, ни Э. Брейе, рецензировавший книгу Шестова о Кьер-
кегоре, не смогли этого понять 10. Что означает эта формула? На наш взгляд,
она означает примерно то же самое, что и эсхатологический характер экзис-
тенциальной философии по Бердяеву. «Оглядка» или рефлексия нацелены на
понимание прошлого. «Борьба» же, безусловно, есть борьба за будущее. Выше
философа, по Шестову, стоит фигура пророка. Вот характерное в этом отноше-
нии его высказывание (запись Фондана от 10.07.1938): «[Блаж. Августин] не
хочет признать, что наш Бог... нам не помогает. Нитше это знал и, видя жесто-
кость природы, не ограничился признанием этого, но начал эту жестокость
воспевать. Зачем ее воспевать? Иеремия тоже знал, что Бог нам не помогает...
Иеремия даже сказал: "Будь проклят день, когда я родился!" И, несмотря на
очевидность, он жалуется Богу, просит у него помощи. Он думает, что Бог мо-
жет... Я тоже не мог одолеть этой трудности: я мог только бороться...» п
Знание о том, что Бог не помогает, не должно сдерживать обращенные к
Нему жалобы и мольбы. Это и есть борьба. Бог Иеремии и Бог Шестова —
один и тот же всемогущий Бог, для Него нет невозможного. А потому даже
несмотря на знание (не помогает) надежда не умирает. В будущем остается
просвет, какой бы жестокой жизнь или природа ни были. Обращение к апосто-
лам и пророкам (пророки у Шестова, правда, идут впереди апостолов) проис-
ходило всегда. Но во времена ужасов и бед неслыханных, как, например, с лета
1914 г., душа к ним особенно устремлена. Почему? Да потому, цитируем, что
«загадочным образом и пророки и апостолы сквозь ужасы бытия прозревали
что-то иное. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 12
«Ад, где твоя победа?» — вот возглас «борьбы» у Шестова. Это борьба че-
ловека за жизнь вечную, за свободу... Это напряженное упование на «землю
обетованную». Оно устремлено вперед времен и даже, быть может, не просто в
будущее, а в ту точку, где кончается само время. Мы уже говорили, что экзис-
Баранова-Шестова Н. Указ. соч. Т. 2. С. 186.
11 Там же. С. 183—184.
12 Там же. С. 188. См. также: Ос. 13: 14.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии 381
тенциальное философствование Шестова началось с фразы Шекспира — «по-
рвалась связь времен»... Он вдруг понял — и пусть будет порвана! Так роди-
лось у него представление о величии и правоте трагедии жизни и мысли. Во
фразе о «порванной связи времен» проглядывает мысль о том, что разум не
может «залатать» дыр мироздания, не может скрыть дисгармонии бытия, как
бы он ни старался это сделать. По Шестову, разум и на разуме основанные
философии бестрагичны. Они закабаляют человека, присутствующее в них
знание есть принуждение и оправдание ужасов жизни.
Истина, по Шестову, экзистенциальна. Она реализуется не тогда, когда че-
ловек видит то, что «все всегда и повсюду видели или могут увидеть» ,3, а тог-
да, когда вдруг случаются «редкие мгновения душевного подъема, в моменты
"выхождения", "экстазиса"» и. Здесь противопоставлены научная ориентация
духа (истины за ней Шестов не признает) и экзистенциальная. Эта дихотомия
воспроизводится примерно так же и Бердяевым. Но где же тогда различие между
ними? Процитируем Шестова дальше: «Настоящая свобода с ее мгновенностя-
ми, мимолетностями и капризами только там может жить, где ее ничто не свя-
зывает: в плодах древа познания смерть и яд. Удастся ли когда-нибудь нам отыс-
кать истинную свободу? Или после грехопадения она уже не живет на зем-
ле?» 15 Это из наброска «Итоги и комментарии», написанного в конце жизни,
когда философу исполнилось 70 лет.
Бердяев здесь не соглашается с Шестовым. Он не признает абсолютной цен-
ности как раз за «капризами» — почему надо, вопрошает он, чтоб Кьеркегор
непременно получил свою оставленную им самим невесту? Может быть, луч-
ше, чтобы он ее лишился, без чего ведь он не стал бы самим собой? Почему
надо считать капризы ценностью, ради которой надо останавливать время и
возвращать его вспять? Затем, почему ничем не связанная свобода выше, чем
свобода, связанная свободной же верой? Не отвлеченным знанием, а именно
верой? Шестов же говорит только или о связанной знанием свободе (она в этом
случае будет испорчена принуждением), или о свободе-капризе, свободе-ми-
молетности, свободе-прихоти. Но он ничего не говорит о свободе, свободно
себя связывающей во имя Божье. Если «дух дышит, где хочет», то почему он не
дышит в познании? Так мог бы возразить Шестову Бердяев. Он считает в отли-
чие от своего друга, что последствия грехопадения задевают не столько позна-
ние, сколько саму плоть бытия, его качество. И уже потом и вследствие этого и
познание. «Яд и смерть», посеянные грехопадением, по Бердяеву, таятся не
только в познании, как у Шестова, но и в самом бытии, в природе, обществе и
13 Баранова-Шестова Н. Указ. соч. Т. 2. С. 160.
14 Там же.
15 Там же.
382
Глава V. Серебряный век русской философии
человеке. Отсюда следует необходимость в творческом их преображении, ког-
да Бог и человек действуют «соработнически», совместно — синергийно. В
апологии свободы как каприза у Шестова сохраняется культ «подпольного»
человека. Но к нему Достоевский никак не сводится и «критика чистого разу-
ма» у него этим не ограничивается.
Шестов весьма строго следует за Кьеркегором, будучи независим от него. А
когда он узнал его философию, то восхитился ею и стал ее сознательно испове-
довать. В соответствии с этим главными понятиями Шестова (как и Кьеркего-
ра) выступают отчаяние и абсурд. «Абсурд» он даже пишет с заглавной бук-
вы — настолько он для него важен: «Экзистенциальная философия, — гово-
рит он, — опирается на Абсурд и не только не скрывает, но при всяком случае
подчеркивает это» 16. И здесь же он обращает внимание на то, что именно «в
этом пункте экзистенциальная философия становится для Бердяева совершен-
но невыносимой» 17.
Шестов признает, что резоны, выдвигаемые Бердяевым против него и Кьер-
кегора, безупречны. Он только указывает на то, что их знал и сам Кьеркегор. Но
сами эти резоны (например, не получить невесту не так уж плохо, ибо без этого
не было бы гениальных произведений Кьеркегора), обращает внимание Шестов,
исходят, во-первых, из презумпции «всемства» (всем кажется, что невеста писа-
теля заурядная мещанка и счастье с нею было бы банальным семейным уютом,
который не дал бы нам гения), а во-вторых, эти резоны вещаются нам как бы с
божественной высоты, Бердяев, мол, «говорит от имени самого Бога» 18.
Почему же так важен Абсурд для Шестова? Да потому, что под его «сенью»
невозможное становится возможным. Противоположностью греха и знания,
по Шестову, является не добро, а свобода. Но это не свобода выбора, в частно-
сти, между добром и злом, а сама возможность. Мы бы сказали, что в свободе,
по Шестову, светится невозможная возможность, т. е. она как вера открывает
само поле возможностей, и невозможное становится возможным. Вспомним
стихи Блока:
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!.. 19
16 Шестов Л. Сочинения. М, 1995. С. 405.
17 Там же. С. 404.
18 Там же. С. 405.
19 Блок А. Собр. соч. Т. 3: Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1960. С. 255.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии 383
Кстати, в процитированных строках Блока мы находим аналог кьеркегоро-
шестовского отчаяния. Действительно, звучащая в «глухой песне ямщика» «тос-
ка острожная» — это почти мольба Иова. Здесь ведь также мольба и жалоба из
глубины сердца летят к Богу — к кому еще на бескрайних равнинах России
может лететь «глухая песня ямщика»? И вот сама эта песня, полная беспрос-
ветной тоски, и есть условие того, что невозможное становится возможным.
Вся эта фигура невозможного, казалось бы, превращения невозможного в воз-
можное под сенью Абсурда представлена у русского поэта. Но ее, действи-
тельно, мы не находим у философа Бердяева.
Под сенью Абсурда и греческий симпозион, и вся европейская философия
уступают место библейскому Иову. Так — по Кьеркегору — Шестову. Но Бер-
дяев не идет за ними в своем понимании экзистенциальной философии, кото-
рую он действительно не может освободить, скажем так, от отдельных элемен-
тов мистического «гнозиса». Итак, в чем же различие представленных ими ва-
риантов экзистенциальной философии? Кратко, оно в том, как понимается Бог.
Он может пониматься как Всемогущий, для Которого нет ничего невозможно-
го (Шестов и Кьеркегор). Или, скажем пока неопределенно, может пониматься
как-то иначе. В первом случае мы будем иметь экзистенциальную философию
по Шестову, во втором — по Бердяеву. В частности, Бердяев подчеркивает в
своем понимании Бога то, что Бог-Отец открывается, в конце концов, только
через Сына (в недооценке христологии он всегда упрекал своего друга), и да-
лее он указывает, что такое откровение есть прежде всего откровение любви и
свободы, в свете которых человек становится сотрудником творческого бого-
человеческого процесса. Кроме того, корни свободы, по Бердяеву, не сотворе-
ны. По Шестову же, свобода сотворена.
Никаких категорий философии, кроме тех, что берутся из самой жизни,
Шестов не принимает или не хочет принимать. Мы имеем в виду, что если
экзистенциальная философия Бердяева сознательно строится как философия
персоналистическая, как философия духа, свободы и смысла, то экзистен-
циальная философия Шестова есть антифилософия, опирающаяся на Биб-
лию и на ту установку в философии и мировоззрении, которую Бердяев
правильно обозначает как философию жизни (линия Lebensphilosophie). Ни
субъективизма, ни персонализма бердяевской экзистенциальной философии
Шестов не приемлет. «Для тех, кто "разомкнулся", — пишет он, — для кого
ближний не объект и не субъект, и даже не "личность" (кавычки здесь при-
мечательны. — В. В.), а такое же живое существо, как и он сам, — любовь
и милосердие приносят не разрешающие ответы, а тревожные и мучитель-
ные, неизбывные вопросы. В этом и смысл размышлений, вкладываемых
Достоевским в уста Ивана Карамазова о слезинках ребенка и о последней
384
Глава V. Серебряный век русской философии
гармонии» 20. В этих словах Шестова мы видим не только его отвержение
субъективизма и персонализма экзистенциального философствования в духе
Бердяева, но и его собственное «отстранение этического», т. е. преодоление
истолкования веры в катафатической форме положительной этики, отказ от
этического рационализма. Никакой моральной арифметикой нельзя оправдать
невинное единичное страдание. Если на место убитого Бога ставится бессиль-
ная помочь человеку мораль (мораль любви, сострадания и т. п.), то восстание
Ницше и его прославление силы и жестокости становятся в глазах Шестова до
известной меры оправданными. Только Кьеркегор в подобной ситуации подво-
дит к вере, а Ницше — нет.
О Христе Шестов говорит действительно риторически и вяло. К тому же
сам себе и противоречит. Так, например, он пишет: «Бердяев выдвигает на пер-
вый план великую нравственную красоту жертвенного подвига Христа. И он,
конечно, по-своему прав: этот момент нельзя и не нужно затушевывать». Но
сам в своем дальнейшем рассуждении именно эту вольную и свободную жерт-
ву и затушевывает: «Человек осужден на страдания, Бог осужден на страда-
ния — тут нет нарушения естественного порядка вещей, нет чуда, нет "наси-
лия над духом". Иначе говоря, мы освобождаемся от богочеловечества и при-
ходим к человекобожеству, в котором наш разум и наша мораль узнают дела
своих собственных рук» 21. Конечно, ддесь Шестов изменяет своим же собствен-
ным словам о «жертвенном подвиге», превращая его в естественное бесчудес-
ное событие, не вольное и не свободное, а вынужденное. А в вынужденном нет
и не может быть нравственной красоты. За этими пассажами, видимо, может
стоять и недопонимание христианства, хотя сам Шестов не раз говорил, что
для него Ветхий Завет совершенно сливается с Новым в единый комплекс биб-
лейской веры. Но, в любом случае, понимания Нового Завета у него и у Бердя-
ева существенно разные (разные заповеди они выделяют в нем как главные).
Действительно, Бердяев не согласен с Шестовым, утверждающим, что для того,
чтобы «обрести Бога, надо потерять разум» 22. Но это — самое главное для
Шестова. И разбирая ситуацию искупления, он цитирует Лютера, следующего
за пророками и ставящего Искупителя на место библейских грешников: «Бог
позвал своего Сына — и сказал ему: не Петр отрекся, не Давид прелюбодей-
ствовал, не Адам сорвал яблоко с запретного дерева — все это сделал ты» 23.
Ему важно одно: Бог, безгрешность — там, где нет ничего невозможного. Лю-
бое событие Священной истории он сводит к своему главному тезису.
Шестов Л. Сочинения. С. 408.
21 Там же. С. 409.
22 Там же. С. 410.
23 Там же. С. 409.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии 385
При чтении Шестова создается впечатление, что по складу ума он является
строгим рационалистом. Так, он подчеркивает, что все знания человека идут и
шли всегда от его разума (любого), выступающего в его глазах «единственным
источником истины для человека» 24. К сфере разума он, конечно, присоединяет
и опытное познание, не различая рационализм и эмпиризм. Но вот парадокс —
он страстно отрицает рационалистическое наследие и рационалистическую веру
ради веры в библейского Бога, в его свободу как всевозможность. Образно эту
ситуацию можно представить так: в абсолютно замкнутой и твердой сфере ра-
зума (вроде Парменидова бытия) таинственным образом образовалась
«щель» — ив эту щель Абсурда светит надежда, что для Бога все возможно и
сам ход времени для Него не преграда. И пробивают эту щель не разум, не
Церковь, а только вопль, мольба и плач наподобие тех, что летели к Богу в
ветхозаветной пустыне. Фанатическая ненависть к знанию у Шестова нам пред-
ставляется оборотной стороной его собственного весьма догматического раци-
онализма. Здесь с ним действительно трудно соглашаться. Трудно понять, по-
чему «вера» «обнаруживает ничтожность и ненужность» знания 25. Вера транс-
цендирует сферу знания — да, это так, но зачем же «пережимать педаль» и
чернить знание, которое и нужно, и полезно, но в своих пределах и на своем
месте? В этой позиции Шестова очень чувствуется Лютер с его афоризмами
вроде того, что разум или знание это — сам сатана и т. п. Но эти и подобные
пассажи лютеровской риторики были на своем месте в определенном социо-
культурном историческом контексте. Вряд ли их можно брать как абсолютные,
вечно истинные формулы. Но именно так поступает Шестов и тем самым сам
же впадает в «катафатизм» и «гнозис», в чем упрекает Бердяева, якобы знаю-
щего мысли самого Бога.
И экзистенциальная философия Шестова, и так же называющая себя фило-
софия Бердяева хотят быть и считают себя философиями свободы. Но понима-
ния свободы обоими мыслителями совершенно разные. У Шестова свобода
сотворена вместе с человеком и заключается в том, что свободный человек «не
имел нужды ни в знании, ни в различении между добром и злом». Вот его клю-
чевая фраза: «Вера и есть та свобода, которую Творец вдохнул в человека вме-
сте с жизнью» 26. Жизнь и свобода, как Божьи создания, идентичны, по Шесто-
ву. И свободный человек лишен напрочь страха, влекущего его к знанию. Он
живет без всякой «оглядки», в борьбе преодолевая свою связанность знанием.
Знание — кощеевы чары: как только человек ставит знание как таковое под
вопрос и перестает им интересоваться, так, по Шестову, он сразу же получает
24 Там же. С. 410.
25 Там же. С. 411.
26 Там же.
25 - 3357
386
Глава V. Серебряный век русской философии
дыхание свободы — нечто вроде Божьего духа и жизни. Причем у него «райс-
кий» человек не различает свободу и произвол: «произвол совпадает со свобо-
дой», потому что от Бога 27.
Шестов, на наш взгляд, не прав, утверждая «вечную, непримиримую проти-
воположность между умозрительной и экзистенциальной философией» 28. Мы
считаем, что экзистенциальный духовный опыт (а в нем ядро и соответствую-
щего философствования) таинственным, но тем не менее доступным изуче-
нию образом соединяется с разумной, рациональной научной мыслью. Иду-
щие от экзистенциального опыта импульсы духа дают жизнь и новациям разу-
ма и науки. Истины Откровения служат базисными точками для новой науки.
Об этом писали многие исследователи, в частности А. Кожев. Импульсы нау-
когенной воли могут приходить и из иного рода духовных переживаний и прак-
тик, связанных с оккультизмом, мистикой, герметизмом и т. п. Об этом много и
убедительно, хотя и не без односторонностей, писала, например, Ф. А. Ейтс. И
вообще говоря, с нашей точки зрения, именно «пересечения» этих двух проти-
воположных, по всей видимости, типов мышления {и философии) и составля-
ют главные узлы творческой истории человека.
Какая же из рассмотренных нами версий экзистенциальной философии бли-
же к ее идеалу на самом деле? Мы сомневаемся, что можно вообще сформу-
лировать такой приемлемый для всех идеал и его критерий, в соответствии с
которым можно было бы ответить на такой вопрос. Дело здесь в том, что струк-
тура экзистенциальной мысли зависит от культуры и прежде всего от религи-
озной конфессии, лежащей в ее основании даже в случае ее секуляризации.
Ведь сама секуляризация всегда носит «родимые пятна» той религиозной кон-
фессии, которая ей подвергается. В соответствии с этим следует различать три
основных вида экзистенциальной философии. Во-первых, экзистенциальную
философию, условно, библейского типа, отвечающую главным образом проте-
стантизму и иудаизму. Во-вторых, экзистенциальную философию, развившу-
юся внутри католической культуры. В-третьих, экзистенциальную философию,
вырастающую на почве православного христианства. К первому типу принад-
лежат философии Шестова, Кьеркегора и Ясперса. Ко второму — Марселя. К
третьему — Бердяева. Атеистический экзистенциализм следует упомянуть осо-
бо — в нем смешиваются прошедшие секуляризацию разные культуры, но глав-
ным образом католические и протестантские (Камю, Сартр, Хайдеггер). Не-
удивительно, что сам термин «экзистенциальная философия» не всеми назван-
ными мыслителями принимался. И кроме того, некоторые из них отказывали
другим в праве так называть свои философские взгляды. Например, Бердяев не
Там же. С. 414.
Там же. С. 413—414.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии 387
считал философию Хайдеггера вариантом экзистенциальной философии из-за
того, что она хотела быть онтологией, а Камю отрицал за собой принадлеж-
ность к экзистенциализму, потому что расходился с Сартром с характерным
для него историцизмом.
II
Есть три стадии философствования. Первая стадия: мы научились «фило-
софским» словам (наподобие того, как начинающий писать стихи спешит уз-
нать слова «поэтические») и, набравшись их, рады, если они вставляются нами
в предложения с некоторой долей смысла. Вторая стадия возникает тогда, ког-
да с помощью изучения истории философии мы доходим до построения в уме
своего рода «машинки» по производству мыслей, глядя на которые легко уга-
дывается их сериальное, «машинное» производство. Мир, история, культура
«пожираются» такой «машинкой» подобно тому, как разнообразие органиче-
ских тканей выходит из мясорубки на вид однородным фаршем. Философство-
вание на этой стадии поставлено на поток схематизирующего метода, подго-
тавливающего материал для такой его переработки, после которой он предста-
ет как демонстрация и оправдание фиксированной схемы. Многие и неплохие
философы остаются на этой весьма почтенной стадии, приобретая при этом
удивительные навыки в своем деле и даже мастерство. Но есть и третья стадия
философствования. Ее главной особенностью является то, что, достигая ее,
мысль философствующего движется не как машинный механизм или схема-
тизм, а как тонкость вкуса, безошибочность чутья, меткость взгляда. И поэто-
му мысль не «пожирает» мира, оставляя от него серый пепел своих продуктов,
а возвращается в него как самобытная реальность, которая, если и преходяща,
как все в этом мире, то тем не менее вечна как символ. Это — благородное
философствование. И самые яркие образцы его надо искать не столько в про-
фессорской философии, сколько в мире художественной мысли, оформляю-
щей личный опыт. Можно сказать, что на этой стадии цель мыслящего не в
том, чтобы произвести мысль о чем-то, а в том, чтобы с помощью мысли
самому быть чем-то, чем-то самобытным и поэтому значимым среди людей,
в культуре, истории и даже в космосе. Именно к такому философствованию
стремился Н. А. Бердяев: «Я всегда хотел, — говорит он, — чтобы филосо-
фия была не о чем-то, а чем-то, обнаружением первореальности самого
субъекта» 29.
Если слова расставлены правильно, но без оживляющего их огня индивиду-
альности, без какой-то что ли красоты в их не совсем обычном строении, то у
~9 Бердяев И. Самопознание. М, 1990. С. 88.
25*
388
Глава V. Серебряный век русской философии
нас невольно закрадывается в душу сомнение — а верны ли, в конце концов,
сами мысли, коли они так серо-скучно изложены? Слог, тон, живое дыхание
лица в целом периоде или в отдельной фразе, вся эта «музыка» — не просто
ничего не значащие для правильности самой мысли украшения, а настоящие
признаки, как бы даже органы истины. Истины всеобще значимой лишь за счет
своей стертости и безличности быть не может. Есть два полюса истинного —
истина научно-объективная и истина художественно-личная. Наверное, каж-
дый сам для себя должен решить, ближе к какому из этих полюсов он будет
работать, оформляя свой опыт и слог, к истине устремленный. Но есть таин-
ственная связь этих главных модусов истины. На языке основных философ-
ских традиций мы обозначили бы их как научное и экзистенциальное фило-
софствования. Величайшими событиями мировой мысли являются как раз те
фигуры, в которых они соединяются, пусть даже для того, чтобы потом разой-
тись: Платон, Декарт...
«Музыка для Шестова выше всего, он хочет, чтобы философия преврати-
лась в музыку» 30, — пишет Бердяев, выражая свой протест против подобной
эстетизации философии. Однако уже в эти годы (1905, год публикации его пер-
вой статьи о творчестве Шестова) Бердяев сам далек от того, чтобы своим иде-
алом философской мысли считать тот образ научной философии, который на-
рисовал сциентистски настроенный его критик Б. В. Яковенко, определив ее
как «систему законченных и общеобязательных знаний о сущем» 3l. Свой тип
философствования Бердяев определял как экзистенциальный. И он сознатель-
но стремился к максимуму его экзистенциальное™, следуя максимализму сво-
его духовного темперамента. А так как из всех существований «наиболее экзи-
стенциально собственное существование» 32, то экзистенциальная философия,
по Бердяеву, есть «философия экспрессионистская» 33, т. е. выражающая лич-
ный опыт человека в тех его максимально напряженных точках, где он раскры-
вается навстречу трансцендентному. Экспрессионизм экзистенциальной мыс-
ли означает, что она не есть отражение «объективных реальностей», будучи
творческим «изменением внутри человеческого существа», обнаруживающим
смысл существования 34.
30 Бердяев Н. А. Трагедия и обыденность// Sub speciae aeternitatis: Опыты философ-
ские, социальные и литературные (1900—1906). СПб., 1907. С. 252.
31 Яковенко Б. В. Философское донкихотство // Н. А. Бердяев: pro et contra: Антология.
Кн. 1.СП6., 1994. С. 237.
32 Бердяев Н. Самопознание. С. 7.
33 Бердяев Н. А. Истина и откровение: Пролегомены к критике Откровения. СПб., 1996.
С. 9.
34 Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Бер-
дяев Н. А. О назначении человека. М., 1993. С. 254.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии 389
Определяя в своих зрелых работах экзистенциальность истины как ее
«субъектность», «качественность» и «аристократичность», Бердяев по сути дела
возвращает ей ту «музыкальность», которая в ранние годы его творчества еще
казалась ему чем-то недопустимым для мысли, желающей быть философской.
В конце концов, экзистенциальный тип философствования существовал, под-
черкивает Бердяев, всегда, а не возник, скажем, вместе с Кьеркегором, ибо «все-
гда существовали философы, которые вкладывали в свою философию себя, то
есть познающего как существующего» 35. А вложить себя в мысль вряд ли мож-
но, пренебрегая «музыкой» волн духа, встающих в глубине существования и
захватывающих его целиком. Отсюда и признаваемый поздним Бердяевым обя-
зательный «экспрессионизм» экзистенциальной философии, тот личный почерк,
стиль, манера, по которым мы можем узнать, что перед нами не столько обще-
обязательное суждение, сколько само лицо, сам человек. Шестов, предложив-
ший свой вариант экзистенциального философствования, оценивая его книгу
«Sub specie aeternitatis» (1907), метко заметил: «По прочтении книги нужно
забыть не только все слова, но и все мысли автора и помнить только его лицо» 36.
И коли так, то «музыку» никак уж не обойти вниманием, так как именно в ней
«звучит» потрясенное существование и ее звуки и мелодии рисуют нам сто-
ящее за ней «лицо». Бердяев присоединяется к мысли Шестова, согласно кото-
рой не интеллектуальное изумление есть источник настоящей философии, а
потрясенность всего существования человека37.
«Книга — оспорима, а вот лицо — неоспоримо», — утверждает В. В. Роза-
нов, как бы перекликаясь с вышеприведенным высказыванием Шестова 38.
Именно эта формула, высказанная писателем в размышлении по поводу мало-
писания русских святых, приходит на ум, когда думаешь о Бердяеве, авторе
весьма плодовитом. С его книгами спорили, спорят и о них будут говорить
разное и в будущем. Но несомненно, что Бердяев был искренен во всех своих
многописаниях, в том числе и в своих заблуждениях или ошибках, которые он
нередко разделял с Серебряным веком в целом. Пробуждение сознания от по-
зитивистско-утилитаристского сна не могло быть простым и легким. «Завих-
рения», соблазны и иллюзии на этом пути были, вероятно, неизбежны. И Бер-
Бердяев Н. Самопознание. С. 95.
36 Шестов Л. Похвала глупости: По поводу книги Николая Бердяева «Sub specie aeter-
nitatis» // H. A. Бердяев: pro et conra. С. 180.
37 Бердяев H. A. Опыт эсхатологической метафизики: Творчество и объективация // Бер-
дяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 220. На этику солидарности «по-
трясенных» (А. Глюксман), возможно, повлиял Л. Шестов. См.: Новая этика: солидарность
«потрясенных» // Вопр. философии. 1991. № 3. С. 84—90.
38 Розанов В. В. Новая религиозно-философская концепция. Николай Бердяев. «Смысл
творчества. Опыт оправдания человека» // Н. А. Бердяев: pro et conra. С. 269.
390
Глава V. Серебряный век русской философии
дяев как оригинально мыслящий человек своей эпохи, чуткий к ее устремлен-
ности в будущее, сполна и по-своему выразил эту зыбкую атмосферу возвра-
щения духа из «египетского пленения» позитивизмом со всеми ее туманами,
темнотами и просветами. Духовное освобождение человека от необходимос-
тей природы, рода, истории и даже «неба» стало его главной задачей как фило-
софского писателя. Отсюда подчеркнутые персонализм, пневматизм и эсхато-
логизм его метафизики и вся его мистическая философия свободы как несот-
воренной внебожественной сверхреальности, стоящей вне бытия, которое от
нее в конечном счете зависит.
Для экзистенциального философствования, предлагаемого Бердяевым, ха-
рактерно то, что в основание его положены некоторые фундаментальные со-
ставляющие соловьевской традиции. Речь идет о христианских темах, таких
прежде всего, как идея богочеловечества, к которым присоединяются темы
немецкой мистики, гностицизма и герметизма, нашедшие отзвук и в класси-
ческом немецком идеализме (например, миф о божественном первочеловеке,
постулат беспредельной творческой мощи человека, то, что Бердяев называет
«христологией человека»). В атмосфере русского Серебряного века в качестве
одной из доминантных мелодий звучала мелодия европейского Ренессанса с
его не столько христианским, сколько гностико-герметическим обоснованием
типичного для него антропоцентризма и гуманизма, что было выявлено впос-
ледствии работами историков (Э. Гарэн, Ф. А. Ейтс и др.). В этом плане харак-
терна и зависимость Бердяева от Мережковского с его тезисом о «третьем За-
вете», об зоне Духа, о третьем Откровении. Подобные конструкции «нового
религиозного сознания» не без основания покажутся И. А. Ильину «религиоз-
но соблазнительными» 39. «Соблазны» байронические, романтические, тита-
нические, даже манихейские, возможные или действительно присущие аполо-
гии творческой миссии человека у Бердяева, были проницательно отмечены
В. В. Розановым и В. В. Зеньковским, подчеркнувшими неосновательность
априорного «очернения» исторического христианства. Все эти мотивы состав-
ляют тот квазирационализм бердяевского экзистенциального философствова-
ния, который и вызовет критику его Л. Шестовым, предложившим свой под-
черкнуто антирационалистический вариант экзистенциального мышления.
Читая философскую эссеистику Бердяева, невозможно отделаться от мыс-
ли, что, быть может, лучшее в профетически звучащих писаниях «сребровеч-
ного барабана» русской религиозной философии (сравнение стиля Бердяева с
«барабаном» принадлежит Б. К. Зайцеву) ^ состоит в том, что их естественно
уподобить второму, как бы с «декадентинкой», изданию визионерских шедев-
Ильин И. А. Кошмар Н. А. Бердяева // Н. А. Бердяев: pro et contra. С. 339.
Зайцев Б. К. Бердяев // Н. А. Бердяев: pro et contra. С. 77.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии 391
ров Достоевского, которые он так любил (например, из «Сна смешного челове-
ка»). Некоторые его пророчества поражают нас, живущих в начале XXI века.
«Мы вступаем в эпоху тьмы и великих разрушений» 4I, — говорит он в 1947 г.,
когда, казалось бы, наступает период, напротив, великого восстановления после
окончания самой разрушительной войны в истории человечества. Не пример
ли это несвоевременности настоящего пророка, о которой он столько говорил?
Надо сказать, что услышавшие призыв Бердяева к свободе и творчеству в
60-е годы (многие интересующиеся философией именно тогда прочитали его
книги и, прежде всего, «Смысл творчества») были потрясены не столько со-
держанием самого призыва, не столько прозвучавшей в нем религиозной ве-
рой в творческие силы человека, сколько богатством культурной атмосферы, в
которой этот призыв был проартикулирован русским философом. Действитель-
но, к рационалистической философской экзальтации творчества мы тогда уже
привыкли благодаря воскресшему именно в те «оттепельные» годы либераль-
но-гуманистическому марксизму. Но одно дело наукообразный гуманизм и со-
всем другое — апелляция в его обосновании к Адаму Кадмону и к Третьему
Завету... Бердяев, оказавшись в самиздате вместе с другими деятелями русской
культуры начала XX в., помогал преодолеть тот дефицит культуры, который
был неотделим от типового интеллигентского сознания тех лет. А дальше? А
дальше каждый должен был пройти свой собственный путь как лицо, а не как
представитель поколения. Но общее тем не менее было во всех этих исканиях.
И сейчас, post factum, его можно условно обозначить как признание серьезно-
сти и глубины именно за экзистенциальным типом философствования. Для
прояснения его возможных вариантов полезно рассмотреть стратегии обосно-
вания экзистенциальной философии, с одной стороны, Бердяевым, а с другой —
Шестовым.
Центральное понятие Бердяева как экзистенциального философа — это
смысл. Категория смысла собирает разрозненные представления о значимом и
ценном в единое устойчивое и антропомерное целое. В ранних работах Бердя-
ева смысл — это позиция вечности, понятой экзистенциально. «Смысл творче-
ства», «Истоки и смысл русского коммунизма» — все эти названия известных
книг философа, конечно же, не случайны. Философия, исходящая из требова-
ния схватывания смысла, обозначает себя прежде всего как персоналистиче-
ская философия духа. Действительно, смысл открывается духовно-опытно и
интуитивно-целостно. Он переживается всей личностью, а не достигается от-
влеченным и потому нецельным познанием. Справедливо в подобной установ-
ке видеть продолжение соловьевской традиции «цельного знания», но при этом
дополняемой экзистенциально-персоналистической компонентой в его трак-
41 Бердяев Н. Истина и откровение. С. 153.
392
Глава V. Серебряный век русской философии
товке. В своих ранних работах рационализму и гносеологизму неокантианцев
Бердяев противопоставляет метафизику и онтологию сверхрационализма, в
основе которого лежит мистический духовный опыт. Впоследствии этот ак-
цент на онтологии в противовес гносеологии уступит место критике онтоло-
гии вообще как вида рационализма и, значит, проводника объективации, пре-
пятствующего развертыванию аутентичной экзистенциальной мысли. Именно
поэтому Хайдеггеру как создателю «фундаментальной онтологии» Бердяев
предпочтет Ясперса, впрочем, порой отказывая им обоим в праве называться
экзистенциальными философами.
В поздних работах Бердяев широко использует метафору света для характе-
ристики истины и смысла: «Истина, — говорит он, — есть не соотношение с
тем, что называют бытием, а возгорание в бытии света» 42. Истина-смысл ду-
ховна и целостна, она «аристократична» и «качественна». Можно сказать, что
она и экзистенциальна и субъективна, но, говорит Бердяев, «вернее было бы
сказать, что она по ту сторону противоположения субъективного и объектив-
ного», составляющего характерную черту объективации 43. Объективация —
«ослабление света и охлаждение огня» истины как смысла. Итак, мы можем
сказать, что вариант экзистенциальной философии, развиваемый Бердяевым, —
это прежде всего философия эксплицируемого смысла, а не абсурда (Кьерке-
гор, Шестов, Камю).
Бердяев часто пользуется и виталистическими метафорами смысла, особенно
в ранних работах. Ценностью он считает «живое мышление», «живую волю» и
«живое чувство», противопоставляя их объективированным категориям раци-
онализма, в частности неокантианским нормам и ценностям. Однако его нельзя
считать философом жизни. Никакой биологицистской или виталистической
метафизики за этими выражениями у него не предполагается. Более того, сфе-
ра смысла иерархически выше «жизни»: смысл для Бердяева сверхвитален и
не может, как у Ницше, быть послушным инструментом посюсторонней жиз-
ни, всецело зависеть от нее, быть ее эпифеноменом. Можно сказать, что прин-
ципиальная несводимость «смысла» к «жизни» означает, что Бердяев, испытав
влияние Ницше, остался верен в этом отношении традиции платонизма. Здесь
для него авторитетом оставался Вл. Соловьев, которого также можно назвать
философом смысла.
Оппозиция «смысл — жизнь» является основополагающей при размежева-
нии двух вариантов экзистенциального философствования, даваемых, с одной
стороны, Н. Бердяевым, а с другой — Л. Шестовым. Главное, в чем, на наш
взгляд, Бердяев прав, анализируя мысль Шестова, так это в утверждении, что
42 Бердяев Н. Истина и откровение. С. 24.
43 Там же. С. 22.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии 393
«все у него основано на идеализации и апофеозе жизни, в этом отношении он в
линии Lebensphilosophie» 4Л. Шестов действительно боготворит «древо жизни»
и столь же безапелляционно «чернит» и даже «сатанизирует» «древо познания
добра и зла» («все ужасы жизни не так страшны, — пишет он, — как выдуман-
ные совестью и разумом идеи» 45). Использование подобной черно-белой гаммы
кажется в данном случае оправданным авторитетом Св. Писания, в котором
оба древа видимым образом различены. Однако прямолинейно упрощенное
рационализирующее чтение Писания неизбежно приводит к односторонности
в его оценке. Ведь, как резонно заметил в письме к Шестову Гершензон, разум
тоже от Бога 46. Бердяев в споре с Шестовым стоит в этом отношении ближе к
позиции, высказанной Гершензоном, метафизически проецируя библейское
грехопадение на плоскость существования как такового, не замыкая его в гно-
сеологическом плане. Само бытие, став падшим, производит явления, объек-
ты, иными словами, объективизирует себя, будучи в основе своей свободой и
духом. «Если мир находится в состоянии падшести, — пишет Бердяев, — то
вина лежит не в познании этого мира, как хотел, например, Л. Шестов, вина
лежит в глубине существования мира» 47. И хотя сам Бердяев признает, что для
обозначения метафизической сущности мира «жизнь — лучшее слово, чем
бытие» 48, однако еще лучше «свобода» — внебытийная и внебожественная.
«Жизнь», персонификацией которой для Шестова стал «подпольный» чело-
век Достоевского (предпочитающий, чтобы «миру не быть», но «мне чаю по-
пить»), в глазах Бердяева, однако, «совсем не такая прекрасная вещь» 49. Ведь
ее красота, и в этом мы согласны с Бердяевым, немыслима без логоса, без ее
гармонического устроения, иными словами, без смысла. Там, где Шестов дер-
жится буквы Писания, Бердяев философствует, создавая свою теорию объек-
тивации. «Не от знания, — говорит он, возражая своему другу, — произошло
несчастье человека и мира, совсем неправдоподобно, что оно произошло от
знания. Знание познает необходимость, но не создает ее. Необходимость есть
порождение объективации» 50. Оба мыслителя согласны в том, что земная жизнь
человека трагична, что в самом существе своем человек — это как бы вопль
Бердяев И. А. Лев Шестов и Киркегор // Н. Бердяев. Собр. соч. Т. 3: Типы религиоз-
ной мысли в России. Париж, 1989. С. 405.
45 Шестов Л. Достоевский и Нитше (Философия трагедии) // Н. Бердяев. Собр. соч.
Т. 3. С. 378.
46 Баранова-Шестова Н. Указ. соч. Т. 1. С. 274—275.
47 Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. С. 198.
48 Там же. С. 212.
49 Бердяев Н. А. Лев Шестов и Киркегор. С. 404.
50 Там же. С. 406.
394
Глава V. Серебряный век русской философии
отчаяния, летящий в Небо. Но за пределами этого согласия они расходятся.
Шестов считает, что экзистенциальный философ не должен вуалировать или
подслащивать стон существования его философскими объяснениями с их «не-
обходимостями», «смыслами» и «разумностями», оставаясь при голом факте
трагедии, но будучи открытым для веры в библейского Бога, для Которого нет
ничего невозможного. Бердяев же считает, что «сама пережитая трагедия не
есть еще философия. Философское познание есть акт осмысливания, совер-
шенный мыслителем в отношении к пережитой трагедии» 51. Иными словами,
если экзистенциальная философия для Шестова это — трагедия плюс вера как
«безумная борьба за возможность» 52, то для Бердяева она есть трагедия плюс
осмысление ее, а значит, освобождение, шаг к финальному преображению че-
ловека. «Моя философская мысль, — говорит он, — была борьбой за освобож-
дение и я всегда верил в освобождающий характер философского познания. В
этом я не сходился с моим другом Л. Шестовым» 53.
Выявленный на экзистенциальном уровне спор мыслителей будет продол-
жаться. На наш взгляд, многие несчастья современного человека коренятся в
свободных выборах, сделанных европейским человеком в его стремлении к
счастью, достигнуть которого он решил с помощью рационального познания в
период научной революции XVII в. Парадоксально, но именно стремление к
земному счастью как самоцели приводит человека к бедам неслыханного мас-
штаба. Вряд ли на гедонистическом и эвдемонистическом идеале вообще может
строиться прочная цивилизация... Бердяев и Шестов не слишком озабочены
историческими анализами, предпочитая оставаться на вулканических верши-
нах метафизики, обогреваемых экзистенциальным огнем, идущим из глубин
существования, от их обнажения в литературе (главным образом Шестов) или
в мистике (главным образом Бердяев).
Читая документацию этого спора, трудно отделаться от мысли, что не в пос-
леднюю очередь он структурировался своего рода конкуренцией вокруг одной
важной ставки, а именно, кто же из вступивших в турнир мыслителей останет-
ся в большей степени верен заветам Ницше? Например, в своей итоговой рабо-
те о Бердяеве Шестов хвалит его именно за близость к Ницше («аристократизм
мысли» 54), подчеркивая, однако, что экзистенциальной высоты этого гения он
тем не менее не достигает, потому что изменяет ему. Да, Бердяев действитель-
но изменяет заветам певца «Заратустры», да, вопреки Шестову, он не считает
51 Там же. С. 399.
52 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. М., 1992. С. 233.
53 Бердяев Н. Самопознание. С. 84.
54 Шестов Л. Николай Бердяев: Гнозис и экзистенциальная философия II Лев Шестов.
Сочинения. М., 1995. С. 405.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии 395
настоящим святым «подпольного» человека, но он это делает вполне созна-
тельно, по глубокому своему убеждению, вытекающему из всего пережитого
им личного опыта. И формулирует он эту «измену» в тезисе, утверждающем,
что смысл выше жизни, столь любящей каприз и произвол («хочу так, хоть
тресни!»). Смысл от этого (и здесь с Бердяевым можно согласиться) вовсе не
делается фатально безжизненным, в чем его обвиняют философы жизни, буду-
чи в своей неизреченной глубине «истиной, путем и жизнью». Конечно, Шес-
тов не эпигон биологистической философии жизни в духе Ницше. Свое непре-
одоленное ницшеанство он подкрепляет верой в библейскую веру. Поэтому
его «философия жизни» строится не на витализме биологицистского типа, а на
витализме библейском. Отметим, что именно производный или вторичный ха-
рактер веры Шестова (вера в веру) и делает его экзистенциальную философию
в глазах Бердяева действительно трагической. Признавая у своего друга силь-
нейшую тоску по вере, Бердяев сомневается в наличии у него самой веры. От-
сюда и вся серьезность его трагедии уже не столько как мыслителя, сколько
просто как человека. Ведь, говорит Бердяев, «Бог, для которого все возможно,
который выше всякой необходимости и всех общеобязательных суждений, ос-
тается условной гипотезой» 55.
Нельзя не обратить внимания на то, что спорящие мыслители адресуют друг
другу идентичные упреки. Бердяев не без основания видит в Шестове рацио-
налиста, поскольку тот не приемлет вочеловечивания Бога. А Шестов в свою
очередь упрекает Бердяева в рациональной теологии на свой вкус, потому что
«он говорит от имени самого Бога, представляет свои суждения как прорыв из
области духа» 56. В позитивные определения Бога каждый на свой лад вносит
свою лепту, хотя оба философа равным образом признают примат апофатики
над катафатикой в философском богословствовании и в экзистенциальном
мышлении. Бердяев «знает» мысли Бога о человеке, о Его нужде в творчестве
человека и его свободе, в чем он прямо признается на страницах «Самопозна-
ния» 57. Шестов же «знает», что для Бога нет ничего невозможного и что в разу-
ме нет ни грана божественности. Личный духовный опыт одного не совпадает
с опытом другого. В результате такого несовпадения (а оно характеризует, ко-
нечно, взаимоотношения не только Бердяева и Шестова) открывается простран-
ство для научной философии, дополняющей, на наш взгляд, философию экзи-
стенциальную. Кстати, оба подчеркнуто «антинаучных» мыслителя равным
образом используют стиль и приемы научной философии с ее рациональным
дискурсом.
Бердяев Н. А. Лев Шестов и Киркегор. С. 400.
Шестов Л. Николай Бердяев: Гнозис и экзистенциальная философия. С. 405.
Бердяев H. Самопознание. С. 165.
396
Глава'К Серебряный век русской философии
Изучение истории, в том числе и самого научного рационализма, опровер-
гает, на наш взгляд, тезис об абсолютной несовместимости экзистенциального
и научного мышления, разделяемый Шестовым и в меньшей степени Бердяе-
вым. Антропологические потрясения на экзистенциальном уровне, выразив-
шиеся не в последнюю очередь в жестких конфессиональных конфликтах в
Европе накануне научной революции XVII в., привели, в частности, к форму-
лировке проекта модерна с его опорой на естественнонаучный разум, в кото-
ром экзистенциально-персоналистическое измерение отсутствует. Гуманитар-
ный разум в его персоналистическом диалогическом варианте сложился толь-
ко в XX в. под прямым воздействием экзистенциальной мысли Достоевского,
Бахтина, Бубера и др. Правомерен вопрос: почему подобный гуманитарный
разум не оформился ранее, скажем, в XIX в. и «разумоверие» Европы ограни-
чилось культом естествознания, в том числе и в области наук о человеке или о
духе, как их нередко называли? Не случайно, что резонный ответ на этот воп-
рос дал именно экзистенциальный философ, Ортега-и-Гассет, обративший вни-
мание на то, что тогдашние представители наук о духе были «скрытыми нату-
ралистами». Под «натурализмом» здесь следует понимать идущий от греков
рационализм с центральным для него понятием естественной необходимости
как разумом постигаемого закона, являющимся по сути дела рационализацией
мифорелигиозного представления о судьбе. В результате такой эллинизации
новоевропейского мировоззрения автономное гуманитарное мышление оказа-
лось заблокированным. «Мы в рабстве у эллинской судьбы», — констатирует
Ортега 58. Мысль о прогрессирующей эллинизации иудео-христианского куль-
турного наследия развивал и другой экзистенциальный мыслитель — Л. Шес-
тов. Сама экзистенциальная философия, начиная с Кьеркегора, и стала ответом
человека на этот натуралистический вызов, угрожающий ему его метафизи-
ческим закабалением. Если Ортега и Шестов в своем варианте освобождения
человека опирались так или иначе на традицию философии жизни, то Бердяев
шел от философии смысла и ценностей, парадоксально сочетая Канта с Бёме, а
эту «гремучую смесь» — с традицией В. Соловьева. Но всех этих экзистенци-
альных философов объединяла концепция человека как духа, как трагической
свободы и драматического события, как, наконец, личности, устремленной к
трансцендентному.
Ортега-и-Гассет X. История как система // Вопр. философии. 1996. № 6. С. 88.
ИЩУЩИЕ ГРАДА
О ФИЛОСОФСКОМ ДИЛЕТАНТИЗМЕ
Философы-западники, философы-либералы (и кадеты, и эсдеки), все, как
сговорившись, обвиняли русскую религиозную философию в философском
дилетантизме. Даже Е. Трубецкой, сам к религиозной философии причастный,
отзываясь о книге Н. Бердяева «Философия свободы», выдвигает такие обви-
нения. Подобным образом высказывался в своей рецензии на книгу В. Эрна
«Борьба за логос» и С. Гессен, с религиозной философией не связанный. Фи-
лософы-западники хотели, чтобы только их принимали за настоящих специа-
листов, знающих премудрости философской техники, а их оппонентов — за
дилетантов, публицистов и идеологов. Надо сказать, что такие корреляции,
лестные для самомнения западников, усвоили и их продолжатели в наши дни.
Итак, для типичного философа-западника, поклонника Канта или неокан-
тианцев, Гуссерля или Поппера, русский философ с религиозным мировоззре-
нием предстает философствующим дилетантом. Вдумаемся в этот расхожий
культурный миф, подразумевающий, будто сам факт религиозной веры фатально
обрекает философа на дилетантизм. Без всякой критики принимается по край-
ней мере сомнительная презумпция: философия по определению религиозной
быть не может. Согласно такому мифу, в бочке философского «меда» «ложка»
веры всегда будет нежеланным «дегтем». Если Шопенгауэр под угрозой поте-
ри философом своей профессиональной идентичности отказывал ему в праве
на брак, утверждая, что женатый философ смешон, то русский западник ана-
логичным образом отказывает ему в праве на свободу совести.
Превознося самоценность философской техники, философ-западник рис-
кует забыть о простом и действительно философском вопросе: ради чего со-
здается вся эта техника? Спору нет, сцепление коленчатого вала с коробкой
передач — вещь почтенная и нужная. Но при условии, что цель автомобиля, в
состав которого они входят, ясна, что он сам как целое нужен и его существова-
ние оправданно. Не будет ли философствующим дилетантом, напротив, как
398
Глава V. Серебряный век русской философии
раз тот «технарь», который не ставит и не в состоянии даже поставить вопроса
об оправдании самой философии? Вопрос риторический, потому что неспо-
собность к радикальным вопрошаниям и есть самый верный признак фило-
софского дилетантизма.
Вера и жизненный опыт
Говоря словами С. Булгакова, Бог для русских религиозных философов не
«мораль и не гомилетика, а хоть немного, но жизненный опыт» х. Однако низ-
копосаженные, «подозрительно косящиеся» (выражение Ницше) и прочие мел-
кие умы именно этого и не могут понять.
Жизненные испытания (опыт), пережитые потрясения души, углубляют и
очищают ее. Бога же человек может «вместить» только в меру чистоты сердца
(«чистые сердцем Бога узрят»). И чем больше «пятен» и смуты на сердце, тем
труднее для него раскрыться навстречу Богу, «вместить» Его. Но ни одно из
сердец не закрыто совершенно для этой возможности. Бог не бездействует. Его
благодать всегда кружит над сердцем человека.
Спор об имяславии
Спор об имяславии и имяславцах вызвал раскол среди русских религиоз-
ных философов. Защищая свободу совести в случае с имяславцами, поддержи-
ваемый чувством справедливости такой позиции, Бердяев в порыве либераль-
ного милитантизма «перегнул палку», сказав, что «врата адовы одолели РПЦ».
Умнее, тоньше и тактичнее в своем письме к Эрну отреагировал на этот спор
Аскольдов (Алексеев): «Я давно пришел к убеждению, — пишет он, — что
публичное обличение Царей и Первосвященников есть исключительная пре-
рогатива пророков. Не нам касаться священных мест, хотя бы на них сидели
ничтожные люди» 2. Основание для такой позиции понятно: разрушение то-
полого-иерархической структуры духовного мира ведет к деградации жизни
человека. Пафос «освобождения человека» поэтому должен быть ограничен
требованием ее сохранения.
Поддерживая имяславцев духовно, ни Флоренский, ни Новоселов 3, как и
упомянутый Аскольдов, руку на Церковь не стали поднимать. Бердяев же, по-
1 Взыскующие града: Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах
и дневниках / Сост., подгот. текста, вступ. статья В. И. Кейдана. М., 1997. С. 422.
2 Указ. соч. С. 549. Курсив мой. — В. В.
3 «Авва (М. М. Новоселов. — В. В.) воинствует против синода не меньше, а я думаю,
больше, чем я», — пишет С. Булгаков Волжскому (Глинке). Защищал имяславцев и о. Па-
вел, оказавшийся из-за этого «в немилости у еп. Феодора» (Указ. соч. С. 554).
Ищущие Града
399
анархистски распоясавшись, словно снова ожил в нем пламенный революцио-
нер-эсдек, стал их свысока учить: «Они должны были, — пишет он Эрну, —
принять на себя ответственность и пойти на все, вплоть до мученичества» 4.
Свою интеллигентскую «упертость» «борца за свободу» Бердяев, далекий от
священства, проецирует и на своих коллег, принявших духовный сан.
Случай Бердяева
История с имяславцами заставляет присмотреться к стилю философствова-
ния Бердяева. Такие словечки, как «окончательно осмыслил» (о Штейнере и
оккультизме), могут толковаться по-разному. Несомненно, что ими в опреде-
ленных случаях Бердяев мог выражать свое духовное расхождение с некото-
рыми явлениями мысли и культуры (например, с тем же штейнерианством). Но
можно толковать их и как привычный язык идейного борца и активного идео-
лога, перед которым всегда стоит задача нечто «преодолеть», «снять», «оконча-
тельно осмыслить».
Отдадим должное Бердяеву — в мире идей, являющемся его стихией, он не
только великолепно ориентируется, но достигает удивительных высот прозре-
ний. Но личный опыт, художественное переживание жизни в тишине духа у
него, хотя, конечно, и не отсутствуют, но как-то притуплены, отходят на задний
план. У профессора С. Н. Булгакова, которому Е. Трубецкой отказывал в эсте-
тическом вкусе и стиле, ощутимо присутствует личный духовный опыт, сооб-
щающий его творчеству художественный момент. А у Бердяева, свободного
мыслителя, далекого от профессорства, напротив, дело обстоит так, словно весь
его опыт свелся к переживаниям одних лишь идей — марксистских, Мереж-
ковских, декадентских, ницшеанских, достоевских, хомяковских, леонтьевских,
соловьевских, бёмовских и т. п. И, как мне кажется, именно на такой антипер-
сонализм идеолога (условно скажем так, ибо в теоретическом плане антипер-
соналистом Бердяев ни в коем случае не был) остро реагирует Розанов, когда
на вопрос о его отношении к Бердяеву (что он о нем думает?), лаконично отве-
чает: «Ничего. И думать не хочу».
Женский голос
Дуализм, ангелизм, сатанизм и прочие подобные прелести духа суть преле-
сти, связанные с одним полом — мужским... Это понимаешь особенно ясно,
читая переписку кн. Е. Трубецкого с М. К. Морозовой. В женском сердце нет
дуализма, нет раздвоения. «Земное» и «небесное» не противостоят в нем друг
4 Указ. соч. С. 550.
400
Глава V. Серебряный век русской философии
другу и тем более не борются, а «растворяются» в океане любви. Князь гово-
рит ей об ауре, о великом деле «Пути», имея в виду «духовную дружбу», а она
на все это бросает ему, что «Пути» (такого пути) она ничуть не ценит и готова
пренебречь милыми москвичами-путейцами ради холодных позитивистов и
либералов с брегов Невы... Хотя раньше она клялась и божилась, что ни за что
этого не сделает, ибо любит примкнувшие к «Пути» московские таланты... А
дело-то все в том, что она обижена на князя, который в своем письме опять
гнет свое, где ей, с ее небесно-земной, т. е. попросту женской любовью к нему,
нет места! Для мужчины «темный огонек» в половой любви всегда будет от-
свечивать. Но для любящей женщины его не существует: все — свет и свет
несомненный. Половая любовь для мужчины даже оправданна по-настоящему
быть не может. Жизнь по законам «половой любви» (для князя это — адюльтер
с его непременной мукой) есть только «обманчивый призрак жизни», а не сама
жизнь. Ибо сама жизнь есть в сути своей — Свет и Жизнь вечная. А на таких
высотах пол побежден, преодолен, отменен — как хотите. Поэтому половая
любовь должна быть побеждена «светлой аурой». Мечта князя в его отноше-
ниях с Маргаритой Кирилловной — войти в ауру, остаться в духовной любви-
дружбе, но без адюльтера, без отношений любовников. С «Путем», но без
постели...
Мужчина — раздвоен, женщина — цельна. Вот и выходит в качестве схемы
идеала тождество тождества и нетождества... Что, по Бердяеву и его мисти-
ческим учителям (Бёме, Баадеру), осуществляет андрогин. И в ее высших про-
явлениях не ближе ли к этому идеалу именно женщина? И если так, то Розанов
прав, снимая шапку перед каждой встреченной на улице женщиной.
Отвлеченности логические — не то, к чему особенно способны женщины.
Это —так. Но вот, читая письма М. К. Морозовой, видишь, насколько она про-
ницательна и умна. И ум этот характеризуется прежде всего чувствительно-
стью к личному, человеческому началу, пониманием его первостепенной важ-
ности. Женщина ближе к персонализму, чем мужчина-схематик, рассудочник-
рационалист. За драматическими событиями русской революции М. К. Моро-
зова сразу верно уловила конфликт человеческих типов: «Я боюсь, — пишет
она князю, — чтобы добродушные и беспечные дворянчики... мягкие и широ-
кие не упустили всего из рук! У них вырвут все из рук эти жестокие, холодные
и бездушные интеллигенты! Я в таком случае становлюсь на сторону дворян-
чиков и всецело за дух старой России!» 5 Она готова признать неизбежность
«новой силы», олицетворяемой этими жестокими интеллигентами, но понима-
ет, что без пропитки ее прошлым, культурой исторической России эта сила
будет «разрушительной, а не плодотворной».
5 Там же. С. 568.
Ищущие Града
401
Ум умом, но главное — сердце. «Мне не нужно бессмертие, — говорит
Маргарита Кирилловна, — лишь бы был Женичка». Добавлю — рядом. Ком-
ментировать этот крик души бессмысленно. А вот у князя при этом — «неве-
роятная сложность чувства» 6.
С Н. Булгаков о «сексуализме» Розанова
«Сексуализм» Розанова (выражение Булгакова) проистекает из-за логиче-
ской путаницы: да, в этом (падшем) мире жизнь не рождается без «похоти»,
что, однако, не означает, что она ею порождается. Даже в нашем мире, мире с
печатью первородного греха, «похоть» — не абсолютное начало жизни, а лишь
ее условие. Подлинный исток, начало жизни — не в «сексуализме», как считал
Розанов. Поэтому прокламируемый им фаллический культ — ошибка, приня-
тие условного и вторичного за безусловное и первичное. Поэтому верный при-
знак Завета — «обрезание сердца», а не крайней плоти.
О ФИЛОСОФИИ «ФАБРИЧНОЙ» и «кустарной»
Противопоставляя в качестве высшей ее формы «машинную» философию
«кустарной», князь Е. Трубецкой впадает в прогрессистский трафарет сужде-
ния. Философия по сути своей не может не быть «кустарной», т. е. личной,
выращиваемой из опыта мыслящего «кустаря», из его встреч с миром и други-
ми лицами. Это — штучное, «кустарное» и личное «производство». А «фаб-
ричной» может быть только имитация философии. Это противопоставление
тем более непонятно, что Трубецкой высоко оценил «Столп» Павла Флорен-
ского — вот уж явно «кустарная» работа, художество индивидуальной мысли,
свободно вошедшей в Церковь!
Полемика по поводу мессианизма
М. К. Морозова подчеркивает односторонность Е. Трубецкого в его борьбе
с ненавистным ему «национальным мессианизмом» С. Булгакова, замечая, что
«русские чувствуют близость Евангелия, интимность к Христу. "Он наш"...
этим отличаются от других народов... по-моему, важно, что народ чувствует
себя в этом как дома, душой близким» 7. Маргарита Кирилловна продолжает:
«Пусть каждый народ сознает себя народом-Мессией. Важно в ком сильнее и
ярче это проявится и тот во всяком случае двинет мир к цели» 8. По-христиан-
6 Там же. С. 569.
7 Там же. С. 431—432.
8 Там же. С. 432.
26-3357
402
Глава V. Серебряный век русской философии
ски рассуждая, соревнования в степени мессианизма нечего бояться. Пусть все
народы подобным образом осознают себя! «Твое подозрение и недоверие, —
замечает она князю, — напоминает неверующих, которые даже мучеников по-
дозревали» 9. Помимо правоты отвлеченно-логической есть и правда души:
«Оставь логическую правоту, — заклинает Маргарита Кирилловна князя, — и
вглядись в корень!» ,0 Она находит исполнение им его замыслов слишком от-
влеченным и схематичным. И призывает к «темному корню» земли с тем, что-
бы не иссякла сила творчества.
Когда кн. Е. Трубецкой пишет о своем неприятии формулы «народ-богоно-
сец», ссылаясь на то, что завет Бога с народом был всего лишь один, данный в
книгах Ветхого Завета, то он совершенно прав, но упускает при этом одно об-
стоятельство. Да, Новый Завет — завет с новыми людьми, совершенно незави-
симо от их национальности. Но «новые люди», или христиане, по-разному уко-
ренились в различных исторически сложившихся народах. И именно эту сто-
рону дела имели в виду классики славянофильства, Тютчев и Достоевский.
8 том же письме к М. К. Морозовой Е. Трубецкой говорит и об органиче-
ской, по его мнению, неспособности русских к «срединным добродетелям», а
значит, и к «приличному государству». В этих рассуждениях у него немало ка-
детско-либеральных штампов. Но присутствует и нечто более существенное.
Такова, в частности, его мысль о том, что дехристианизация на Руси подзадер-
жалась по сравнению с Западной Европой. И эта задержка остается в силе,
несмотря на триумф богоборческой революции.
Вот формула, многое здесь проясняющая: «Сыны века догадливее сынов
света» (Лк. 16, 8). Дехристианизированные народы полюбили больше всего
прелести мира сего (века временного), потому и «догадливее», рациональнее,
у них больше «здравого смысла», расчета, т. е. именно умения срединно устра-
иваться в этой жизни. «Сынам света» зато дано преимущество в крайностях,
наверху открытых в жизнь вечную.
Е. Трубецкой резко противопоставляет в русском мире государственное на-
чало культурному, назойливо подчеркивая, что совершенно не верит в первое,
веря лишь во второе. Однако без независимой и пусть даже не вполне «средин-
ной» государственности невозможна и оригинальная русская культура.
Август 1914 г.: испытания, надежды, параллели
Первого августа 1914 г. В. Эрн пишет жене: «Наш народ проявляет чудеса
гуманности. С пленными обращаются поистине по-христиански...» А мест-
9 Там же.
10 Там же. С. 441.
Ищущие Града
403
ные немцы, добавляет он, «смотрят на русских с презрением». И подводит итог
своим впечатлениям: «Вот она русская ширь и духовность...» п Не оказалась
ли «ширь» слишком широкой, раз вместила в себя самоуничтожение самих
«широких»? Ради оскорбленных и униженных, ради «передовой» Европы и
«отсталых» Азии и Африки... Или без этого нет и настоящей «шири»?
Философский «имманентизм» германцев — теоретический ярлык для их
практического непризнания Другого. Но в августе 1914 г. теоретический шо-
винизм, философский расизм рухнул, саморазоблачившись. И открылось про-
странство для возведения настоящей «религиозной русской культуры» ,2.
«Так важно и радостно, — пишет М. К. Морозова Е. Трубецкому, — что ав-
торитет современного германизма рухнул!» ,3 Это крушение началось с агрес-
сии против Сербии. В марте 1999 г. подобным образом рухнул авторитет со-
временного атлантизма.
Безутешный трепет
От осинового трепещущего листа — не опавшего, а под ветром — произво-
жу я особенность мысли-слова В. В. Розанова. Читая его «Апокалипсис наше-
го времени», читатель не может не заметить, что формулы-дефиниции предме-
та мысли (например, нигилизма) сыпятся как из рога изобилия. На какой из
них надо остановиться как на правильной? Ни на какой — надо всеми ими
безостановочно трепетать, понимая при этом, что главная дрожь — еще впере-
ди, но и ей конца не будет. Если, начиная с греков, идея знания состоит в оста-
новке мысли на верном как неизменном, то идея познания у Розанова — в безо-
становочности жизни-слова, мысли-слова. Мысль (верная) понимается Роза-
новым не как остановка, а как, напротив, непрекращающийся трепет.
Говорящая взволнованность
Откуда говорит Розанов? Суть дела в том, что мы это «откуда» определить
не можем. Писатель-идеолог, философ, исходящий из «принципа» или «нача-
ла», «прозрачны» в своих основаниях — в том, откуда исходят их слова. Не так
с Розановым. Он говорит, казалось бы, от банальности быта, боли, усталости,
от какой-то почти животной — на самом деле человеческой —тоски, от озабо-
ченности, от растроганности пережитым, от раздраженной наблюдательности,
внутри обыденной жизни размещенной... Может быть, говорит он просто от
11 Там же. С. 591.
12 Там же. С. 592.
13 Там же.
26*
404
Глава V. Серебряный век русской философии
души. И это более точные слова: не из души, а от души. Говорит охотно, лю-
бовно, пуская в ход выдающие его с головой характерные регистры языка, его
обертонами и фиоритурами питая мысль — «боклишко», «спенсеришко»... Это
значит, что говорит он волнами и волночками души, приливчиками тона-тону-
са, говорит наплывами душевной энергии, но никак не логикой идей, что адек-
ватной быть хочет логике вещей. Никаких мертвых вещей, вне души, «объек-
тивно» для Розанова нет. И солнышко у него живое, хотя он, конечно, знает, что
жизнь, если ее поместить на него, должна испариться, распавшись до после-
днего атома. Но так по логике мертвых вещей должно быть, а не по волне ду-
шевного чувства.
Ошибка Розанова
В основе христианства — не антижизнь, как считали Ницше и Розанов, а
сверхжизнь, земную и всяческую жизнь включающая и их превосходящая.
За эту ошибку Розанов был наказан — и как! Он, певец витальной плодоро-
дящей силы, был чадолюбив и имел немалое потомство. Но при этом ни одно-
го внука или внучки! Тем самым ему было сказано: не жизнь правит миром и
собой, а Логос, Бог живой! Жизнью правит жизнь дарующий Смысл, который
есть сверхжизнь.
Наслаждением, игрой, ерничаньем заглушить серьез жизни, таинственным
и непостижимым образом переходящей в сверхжизнь, — стратегия не только
неверующих гедонистов и «эпикурейцев». В расхожем объяснении нелюбви к
Богу христиан я вижу ту же ошибку, аберрацию, что и у Розанова: прекрасны
мгновения земного бытия, прекрасны женщины и детки, веточки и клейкие
весенние почечки, а вот, мол, церковь Божия — сера, скучна, нудна и антижиз-
ненна, раз зовет прочь от красоты мира к монашеству, к истязаниям сладость
жизни дарующей плоти... Не скажу, что в таком восприятии христианства нет
ничего на него похожего, ни грана, ни намека правды. Основания для такого
взгляда есть. Глядя на скиты подвижников, пещерные кельи монастырей, пред-
ставляя себе аскетическую жизнь монашества, невольно думаешь, что в хрис-
тианстве действительно есть жест, ставящий прелести мира сего, вкупе с их
«центром» — плодородящей силой, — на свое место. А настоящее место этой
силы, как верно заметил С. Булгаков, не согласный с «сексуализмом» Розано-
ва, вовсе не в центре жизни и мира, что могло бы оправдать ее культ. Она —
лишь ее низшее условие: ведь порождение жизнью жизни без «визы» сверх-
жизни невозможно.
Ищущие Града
405
Философия современной истории
Философия современной истории начинается у Розанова с метафизической
картины мира. Мы как часть мира чувствуем себя частью мысли Бога, которая
и есть бытие. Таким образом, мы ощущаем себя частью божьей мысли-бытия,
причастниками и участниками божьего промысла и тайны. Но не в том смыс-
ле, как считали гностики: кусочек нетленной нетварной божественной субстан-
ции заронен в нас как наш ум, наше бестелесное духовное начало. Просто мы
ощущаем само существование, и наше и не наше, как одну и не разгаданную
никем мысль Бога, равную всему сущему и даже превосходящую его. Таким
образом, мы чувствуем себя пребывающими в мысли Божией. Само «веще-
ство» существования в его повседневности суть живой замысел Бога о мире, о
бытии, о человеке, о нас самих. И ощущая это совсем-совсем непосредствен-
но, куда непосредственнее, чем вот эту стену или дерево, мы говорим: вот что
делает нашу жизнь и жизнь всех («общую», как говорил Лев Толстой) серьез-
ной.
Бог и серьез жизни, идущий от Него и пронизывающий мир и нас, так не-
сомненны, так ясны и очевидны и так близки (но и так далеки и неясны одно-
временно), что мы не можем не смеяться над самоуверенными атеистами, по-
зитивистами и материалистами, готовыми всю жизнь свести к прайс-листу и к
деньгам в кошельке. Мир и жизнь, сведенные к магазину, расчету, производ-
ству вещей и торговле ими, а на уровне человека — к желанию иметь их больше
и больше, эта программа «рая» по-либеральному, по «спенсеришкам» и «бок-
лишкам», в принципе ничем не отличается от «рая» на Земле по-коммунисти-
чески. И во времена Розанова, и сейчас она подается как само собой разумею-
щаяся картина «светлого» будущего всего человечества.
Священные книги христиан, мусульман и иудеев вместе с сочинениями
Достоевского, Соловьева и самого Розанова бросят в мусорное ведро, а на ос-
вободившемся месте учредят культ Герберта Спенсера и Карла Поппера... Про-
гресс будет состоять в конце концов в том, что тугие кошельки будут еще более
тугими, конечно, прежде всего у тех, кто крепче других уверует в Боклей и
Спенсеров. Дверь в либеральный «рай» была открыта с давних времен — с
Возрождения, по крайней мере, хотя и не сразу так широко, как сейчас. В со-
бытии этого открытия мощно звучит грубый голос верующего христианина и
революционера-антицерковника Лютера, в нем узнаются мелодии языческого
неоплатонизма и восточного герметизма, слышатся в нем и протестующие от-
клики на эксцессы веронетерпимости и многие другие ноты, сливающиеся в
резонанс одной волны. Но вскоре дух биржи и банка, фабрики и «прав челове-
ка» как их идеологического обеспечения заглушит всю эту полифонию звуков.
406
Глава V. Серебряный век русской философии
Экстраполируя набирающий силу поток секуляризации, Розанов видит в
будущем лишь немногие уцелевшие ветхие церкви со столь же ветхими и не-
многочисленными старушками и стариками. Но сохраненные ими красота и
смысл веры Христовой, считает Розанов, окажутся столь привлекательными
для ищущих душ, что, в конце концов, они остановят этот кажущийся неудер-
жимым поток.
Розанов и XXI век
Розанов, как и Достоевский, —художник-экспериментатор. Его эксперимен-
ты — такие же предельные, «круциальные» 14, как и у Достоевского, которого
он чувствовал особенно тонко, можно сказать, интимно. В таком эксперимен-
тировании, однако, у Розанова отсутствует крупномасштабная драматургия,
характерная для поэтики Достоевского. Но зато жанром миниатюры как живо-
писи души, исполняемой тонкой кисточкой сердца и ума, не замороченных
никакими схемами и идеями (кроме некоторых idées-fixes вроде упомянутого
«сексуализма»), он владеет бесподобно.
Европейская философия долго шла к формулировке «экзистенциалов», к
понятию «жизненного мира» как основания наших мыслей в их укорененно-
сти в повседневном бытии. А Розанов, не формулируя эти идеи логико-фило-
софски, жил «жизненным миром» души, настроенной и на культуру, и на исто-
рию, и на быт, и на все то, что называют «маленьким человеком». Иными сло-
вами, Розанов переживал в трепетном и «мимолетном» слове то, что Запад в
его лучших умах философски оформлял как «концепции». То, откуда пишет
Розанов, — это «историчность» трепетных мгновений, то, что не хочет быть
литературой, печатной философией, ибо гутенберговский станок свинцово хо-
лоден, а душа — всегда тепла, если не горяча. Но в своем «мимолетном» Роза-
нов настроен религиозно: божественное не уходит у него в занебесную даль,
оно должно быть домашним, всечасным, теплым и самым близким. И поэтому
людям, христианами себя считающими, Розанов кажется, и не без оснований,
антихристианином, почти таким же, как и Ницше. Однако и в язычники у языч-
ников он вряд ли будет принят. В любой религии и конфессии он сверхконфес-
сионален. Любуется и живет он православной Россией (порой резко ее осуж-
дая). Но при этом он так интимно и тонко, изнутри и экзистенциально, чув-
ствует и религию древних египтян, и иудаизм, что для XXI века, озадаченного
«синтезом мировых религий», он будет еще актуальнее, чем для XX. Культур-
ный ресурс Розанова далек от исчерпания.
От experimentum cruris — «решающий эксперимент».
Глава VI
XX ВЕК: ОТ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
К ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМУ
ВЕРНЕР ГЕЙЗЕНБЕРГ И ГАБРИЭЛЬ МАРСЕЛЬ:
РЕЗОНАНС ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ ■
Посвящаю брату
Ясность — в широте таится,
В безднах истина гнездится.
Ф. Шиллер
Параллельное изучение философских работ В. Гейзенберга (1901—1976) и
Г. Марселя (1889—1973) приводит к предположению о существовании своего
рода резонанса в их творческих биографиях. Действительно, сходство движе-
ний их мысли, по крайней мере в четырех важных пунктах, поразительно. Во-
первых, отметим параллелизм концептуальных основ квантовой механики,
включая соотношение неопределенностей Гейзенберга, и экзистенциальной
философии Марселя. В один и тот же год (1927) выходят пионерские работы и
немецкого физика, и французского философа. Во-вторых, концепция «цент-
рального порядка» Гейзенберга по ряду позиций оказывается близкой к экзис-
тенциальной метафизике Марселя. В-третьих, нельзя не отметить и опреде-
ленное сходство в их взглядах на историю и общество. И, наконец, как бы под-
тверждением подобного резонанса служат такие синхронные события, как за-
вершение Гейзенбергом работы над рукописью по философии, содержащей
призыв к духовному сопротивлению нацистскому режиму как акт метафизи-
ческой надежды, и чтение Марселем лекции по феноменологии и метафизике
надежды в оккупированной Франции (1942). Все это и позволяет нам говорить
о резонансе в творческих биографиях Гейзенберга и Марселя, понимая под
ним сходные и синхронные движения их мысли.
Расширенный вариант доклада на Международной конференции, посвященной 100-й
годовщине со дня рождения В. Гейзенберга (ИИЕТ РАН, 13—14 ноября 2001 г.).
408 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
Характеристика рукописи Гейзенберга 1942 г.
В архиве Гейзенберга сохранилась рукопись, написанная его рукой, и две ее
машинописные копии, не имеющие ни названия, ни даты. Вероятно, замысел
этой работы относится к маю 1941 г., а его завершение — к концу 1942 г. Дей-
ствительно, в мае 1941 г. Гейзенберг читал лекцию о Гёте и Ньютоне, в кото-
рой сообщается о замысле этого труда. Кто именно его читал, когда он был
завершен, сказать трудно. В письме к Ф. Краусу (1947) Гейзенберг говорит об
этом следующее: «Рукопись, о которой мой тесть вам говорил, является очень
личным выражением моих взглядов на философские вопросы общего порядка,
не предназначенным для публикации. Все это было набросано на бумагу для
того, чтобы прояснить для меня самого связи, соединяющие мою науку и воп-
росы общего характера, и вплоть до настоящего времени я эту рукопись не
давал читать никому, кроме нескольких друзей... Конечно, я ничего не имею
против, если вы в нее заглянете, но я не хотел бы ее публиковать именно пото-
му, что она носит чересчур уж личный характер» 2. По указанным в этом пись-
ме причинам издание рукописи состоялось лишь после смерти автора, в 1984 г.,
без указания даты и названия. Во втором издании 1989 г. Г. Рехенберг, ее изда-
тель, дал ей название «Ordnung der Wirklichkeit» и оценил ее значение, сказав,
что это — ключевой текст для понимания теории познания Гейзенберга. По
верной, на наш взгляд, оценке Шевалле, издавшей ее французский перевод
вместе с подробным ее анализом, Гейзенберг «развивает здесь свою особую
позицию, не являющуюся копией никакого течения в истории идей и никакой
философской системы, представляемой каким-то "измом", но соприкасающу-
юся со многими фундаментальными проблемами философии 30-х годов, давая
им специфическую трактовку, отмеченную опытом создания квантовой теории» 3.
Основной замысел рукописи — включение нового физического знания в
такую целостную картину мира, которая бы в силу этого была бы духовно зна-
чимой для человека как цельного существа. Забегая вперед, мы можем предпо-
ложить, что сама острота критики объективации у Марселя объясняется час-
тично тем, что работа по такому включению не была в то время проделана
творцами нового физического знания, а если частично и была, то не была дове-
дена до сведения гуманитарного сообщества.
Гейзенберг смещает основные теоретико-познавательные акценты с харак-
терной для классического рационализма проблематики соотношения субъекта
и объекта, заданного картезианским принципом cogito, к анализу языка во всей
2 Heisenberg W. Philosophie: Le manuscript de 1942 / Introduction et traduction de Catherine
Chevalley. P.: Éd. du Seuil, 1998. P. 10.
3 Ibid. P. 245.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
409
сложной исторической динамике его развития, к оценке его возможностей для
описания различных уровней реальности. Он указывает на два предельных типа
эволюции языка — статический и динамический. Первый тип представлен в
однозначно определенном по словарным значениям языке терминированных
формализованных систем. Язык точных наук, несомненно, тяготеет к этому
типу. Основная дилемма здесь такова: или мы стремимся к максимуму точно-
сти и однозначности языка описания, но тогда зона реальности, для которой
такое описание возможно, будет сужаться; или мы стремимся охватить пре-
дельно широкий диапазон взаимосвязей многоуровневой реальности, но тогда
надо распроститься с однозначным точно терминированным языком описания.
Это — ситуация дополнительности, разобранная на многих примерах в кван-
товой теории и осознанная как универсальный принцип прежде всего Бором.
Но это не означает, что широкие области взаимосвязей, целостные многоуров-
невые реальности будут вообще недоступны познанию. Нет, но для их позна-
ния необходимо изменить язык и перейти от статического его типа к динами-
ческому, к языку иносказания и притчи (Gleichnis). Главное в динамическом
типе языка — устремление к целому через продуктивное движение пусть и
неоднозначных, но плодотворных средств выражения. Образец такого языка,
помимо поэзии, Гейзенберг находит, например, в философии Гегеля. Динами-
ческий язык не дает точного образа реальности, но зато дает «живой» ее образ,
более богатый и разносторонний. Географическое пространство, например,
можно исследовать картографически точно, применяя, скажем, аэрофотосъем-
ку, а можно изучать, путешествуя по местности пешком и непосредственно
общаясь с ее ландшафтами, флорой, фауной, людьми и т. д. Мы могли бы ска-
зать, что существует два типа знания: знание, ориентированное на протокол, и
знание, ориентированное на живое общение и личную связь с его объектом.
Существенно, что поэзия демонстрирует нам не только работу динамического
типа языка, но и синтез его с элементами языка статического (метр, ритм,
рифма).
Другая основная идея рукописи, идущая от Гёте, — идея упорядочивания
реальности, которая предстает как многоуровневая, причем уровни эти ценно-
стно различаются, а их образы формируются в истории творческими актами
самих людей, ведомых их верованиями, сила которых в последнем счете исхо-
дит от «центрального порядка». «Научное упорядочивание, — говорит Гейзен-
берг, — исходит из повторения, из номологической регулярности» 4. Наиболее
чистой формой научного упорядочивания выступает математика, свободная от
любого предметного содержания. Гейзенберг порывает с постулатами класси-
ческого рационализма, который мыслил познание исходящим из абсолютно
4 Ibid. Р. 310.
410 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
достоверного. Он вносит в свой образ его явно позитивистско-прагматический
колорит, подчеркивая важность не абсолютно достоверного (что недостижи-
мо), а практически успешного. Если какая-то математическая форма действи-
тельно компактно связывает многие явления опыта, то она уже в силу этого
принимается. Кроме того, Гейзенберг подчеркивает «привязанность» всех те-
оретических естественных наук к практике, например биологии к медицине
и т. п.
Идеал научного представления взаимосвязей (Гейзенберг в том же позити-
вистском духе уклоняется от термина «вещь», предпочитая ему термин «взаи-
мосвязь») — объективное номологическое их выражение. Но объект конститу-
ируется исключением из него субъекта. Однако Гейзенберг отдает себе отчет в
том, что в жизни, искусстве, религии это невозможно. Невозможно в полной
мере даже в таких областях науки, как квантовая механика. «Существуют, —
говорит он, — обширные области реальности, где подобная объективация не-
возможна» 5.
Мы бы продолжили эти размышления Гейзенберга об объективирующем
упорядочивании реальности в науке таким образом. Абсолютно устойчивая
повторяемость в явлениях реальности может быть идеализирована как число.
Физический аналог математического понятия числа — атом. Его метафизи-
ческий аналог — эйдос Платона, усия Аристотеля, конкретный дух. Стратегия
Гейзенберга в его рукописи — включить и число, и все его аналоги в единое
связное целое.
Между различными уровнями упорядоченности — скачки, разрывы. Спе-
цифические свойства высших уровней невыводимы из свойств и закономерно-
стей низших уровней, например, централизация координации функций живого
организма способствует его выживанию, но сам факт сознания отсюда еще никак
не следует. Даже само понятие закона кажется Гейзенбергу сомнительным при
его применении к живому: ведь закон природы предполагает точную повторя-
емость явлений, а возникновение и развитие жизни — уникальный процесс.
На все уровни упорядочивания закономерности квантовой механики броса-
ют несколько «странноватый» для классически воспитанного ума свет. Прин-
цип дополнительности, принцип «выбор — жертва» действуют во всем есте-
ствознании. «Квантовая теория, — пишет Гейзенберг, — есть такая идеализа-
ция, в которой реальность в каждое мгновение выступает как определенный
избыток возможностей, нацеленных на объективную актуализацию» 6. При
повышении уровня упорядочивания масштаб зоны, где возможно отстранен-
ное наблюдение, сокращается.
5 Ibid. Р. 267.
6 Ibid. R 310.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
411
Сознание, мы должны отдать себе в том ясный отчет, ненаблюдаемо в прин-
ципе: читая рукопись, приходишь к таким констатациям. Смысл жизни также
нельзя задать объективно: он неотрывен от свободных актов самого лица, его
устанавливающего. С повышением уровня упорядочивания солидарность жи-
вого с живым, одного духовного существа с другим возрастает. Уточнять поня-
тия по образу механики здесь непродуктивно, но, напротив, продуктивен язык
притч и образов, накопленных в поэзии, мифе, религии, искусстве. Эти сферы
духа служат, по Гейзенбергу, хранителями творческих сил души. Такое их на-
значение, говорит он, может называться «стремлением к счастью» или «при-
уготовлением к достижению благодати Божией», но суть здесь одна — не дать
заглохнуть творческим потенциям, меняющим и нас и мир. К этим сюжетам
участия «субъективного» в «объективном» мы еще вернемся, сравнивая тек-
сты Гейзенберга и Марселя.
Если в науке мы имеем дело с той областью реальности, в оформление кото-
рой решающий вклад вносит она сама как объект познания, то в религии мы
имеем дело с областью творческих потенций души, «где мы сами даем форму
реальности как таковой» 7. В пространственно-временном смысле у науки, от-
мечает Гейзенберг, больше универсальности, чем у религии определенного типа.
Действительно, законы рычага, установленные Архимедом, значимы и сегод-
ня, а языческая религия греков ушла в прошлое, начиная с тех пор, когда пре-
кратили приносить жертвы ее богам. Но в то же время Гейзенберг отмечает,
напротив, поразительную долгоживучесть других религиозных представлений,
связывая ее с характером языка, на котором они формулируются. Благодаря
отказу от строгого, в смысле науки, определения смысла употребляемых в та-
ком языке слов содержащие их священные книги могут выживать в течение
тысячелетий. Толкования их в ответ на вызовы времени могут меняться при
сохранении основных сакральных формул.
Религия — один из способов упорядочивания реальности, в котором речь
идет о последних вещах. А так как о них нельзя говорить прямо и однозначно,
то здесь действует язык притчи. Религиозный язык — язык глубокого уровня
взаимопонимания людей. С помощью его устанавливается понимание на уров-
не самых высоких ценностей. Гейзенберг не сводит религию к чисто субъек-
тивному моменту, не считает ее иллюзией воображения: «Тот, кто участвовал в
дионисийских мистериях, — говорит он, — мог реально встретить бога» 8.
Верования определяют действительный образ реальности. От трансценденталь-
ного идеализма классической философской традиции Гейзенберг идет к исто-
рически изменчивой антропологии верований, сохраняя, однако, платонистские
7 Ibid. Р. 268.
8 Ibid. Р. 269.
412 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
мотивы в метафизике, когда, например, говорит о единстве «центрального по-
рядка», обнаруживаемого равным образом в религии, искусстве, чистой науке
и философии.
Гейзенберг удивительно свободен в своих философских ориентациях. Из-
бегая любого доктринерства, он сохраняет своеобразие и цельность своего
мировоззрения. Но описание отношения науки к «центральной области», или
«порядку», у него характеризуется амбивалентностью. «Центральная об-
ласть, — говорит он, — исходя из которой мы оформляем самое реальное, со-
ставляет для языка науки бесконечно удаленную сингулярность, которая, в ко-
нечном счете, имеет решающее значение для упорядочивания, но не может быть
им схвачена. И, напротив, язык верований не может судить об области реаль-
ности, являющейся объективируемой и отделенной от нас самих» 9. Гейзен-
берг говорит о дополнительности языков науки и религии: один из них не может
схватить ту область, к которой приспособлен другой. Поэтому полное описа-
ние реальности требует применения обоих языков, причем уровни реальности,
где они применимы, четко разграничены. В частности, «центральная область»
недоступна для языка науки.
Но в то же время Гейзенберг допускает, что чистая наука безусловно имеет
доступ в сферу «центрального порядка». В финале рукописи, в противовес ска-
занному в ней о границах применимости научного языка, говорится о том, что
чистая наука безусловно достигает «центральной области» реальности, что ее
язык способен раскрывать ее скрытые гармонии и что в этом он следует не
нашим прихотям, а решениям свыше 10. Именно в этом мы видим амбивалент-
ность понимания Гейзенбергом связи науки с «центральным порядком». Мож-
но подумать, что, принимая тезис о неспособности науки в целом достичь «цен-
тральной области», он делает исключение в этом отношении для чистой науки.
Он обращает внимание на то, что роль науки еще больше возрастет в буду-
щем не потому, что она принадлежит к условиям политического могущества, а
скорее потому, что она есть то «место» в мире, где люди нашей эпохи встреча-
ются с истиной. Особенно это относится к «чистой науке», в которой истина не
9 Ibid. Р. 268.
10 В этой области «совершенно чистой истины», говорит Гейзенберг, «невозможно быть
обманутым и именно здесь решаем не мы, а любовь Бога» (Ibid. Р. 392). Так могли бы ска-
зать Кеплер, Ньютон или Лейбниц — великие рационалисты и ученые эпохи научной рево-
люции и становления Нового времени, кризис которого будет, особенно в послевоенные
годы, занимать и мысль Гейзенберга. Неслучайно, что доклад о соотношении естественно-
научной и религиозной истин он прочитал при получении им премии имени Р. Гвардини,
автора известной книги «Конец Нового времени», с которым у него много общего в крити-
ческой оценке современной ситуации. См.: Гейзенберг В. Шаги за горизонт/ Пер. с нем.,
общ. ред. и вступ. ст. Н. Ф. Овчинникова. М., 1987. С. 328—342.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
413
замутнена ни политическими идеологиями, ни желаниями людей, стремящих-
ся к практически значимым благам. «Самыми важными, — говорит он, — яв-
ляются области чистой науки, где нет больше вопроса о практических прило-
жениях, но где чистая мысль улавливает в мире те гармонии, которые в нем
скрыты. И эта наиболее важная внутренняя область, где наука и искусство не
могут больше отличаться друг от друга» п. Гейзенберг сравнивает чистую на-
уку как «центральную часть» всего знания с алтарной частью храма, куда нет
доступа простым мирянам. В это святилище, говорит он, тем более нет досту-
па сегодняшним массам. Но сила, исходящая из этой области, подобно силе
древних магов, будет направлена ко благу, если ученый станет еще и «священ-
ником» и будет действовать «во имя бога или судьбы» 12. Знакомясь с подоб-
ным апофеозом чистой науки в финале рукописи, мы как бы достигаем верши-
ны научной утопии Нового времени, идущей от Ф. Бэкона, Я. А. Коменского и
других реформаторов той эпохи. В позднейших философских работах Гейзен-
берг к ней не возвращается. Он скорее делает акцент на другой точке зрения,
тоже содержащейся в рукописи, согласно которой существует дополнительность
между научной и религиозной истинами.
В самые мрачные годы Второй мировой войны Гейзенберг стремится при-
подняться над ужасами происходящего, отдавая себе отчет в том, что из этих
немыслимых бед, возможно, в будущем возникнет что-то очень нужное и зна-
чительное. «И поэтому, — говорит он, — мы должны и мы всегда можем ве-
рить в смысл жизни,., смысл этого слова («смысл») дает нам наше доверие,
которое его легитимизирует. И доверие, возможно, есть нечто последнее, са-
мое предельное» ,3. Смысл самому слову «смысл» придает доверие к высшим
центральным силам, явленным в самой жизни, в даре нам нашего бытия. Мы
или отвергаем его в себе и других или, напротив, признаем и храним ему вер-
ность, невзирая на самые ужасные беды и испытания.
«Вопрос о бытии бога, — говорит Гейзенберг, — давно уже не есть науч-
ный вопрос, а вопрос о том, что же мы должны делать. И это — ясный вопрос:
мы должны быть хорошими людьми и помогать другим людям. И в мире чело-
веческой солидарности, которая и есть "мир Бога", мы чувствуем себя у себя
дома» ,4. В антисхоластической настроенности и в ориентации на мир соли-
дарности (у Марселя — «интерсубъективности») Гейзенберг сходится с фран-
цузским философом. Можно подумать, что он отбрасывает идею о трансцен-
дентном основании этики. Но это не так. Трансцендентное, как мы видели, им
11 Heisenberg W. Philosophie: Le manuscript de 1942. P. 392.
12 Ibid. P. 393.
13 Ibid. P. 387. Курсив мой. — В. В.
14 Ibid.
414 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
не отвергается, хотя многие представления традиционной теологии действи-
тельно им как бы «подвешиваются», заключаются в кавычки.
В финальных пассажах своей рукописи Гейзенберг возвращается к теме ут-
раты благодати в массовом обществе современной эпохи. Утрата духовного
центра, подчеркивает он, не может быть скомпенсирована тем, что массы дос-
тигают достаточно высокого уровня материального благосостояния. Здесь он
действительно близок к Марселю (резонанс во взглядах на общество и историю).
Подлинным религиям, в основе которых лежит вера в трансцендентное нача-
ло, Гейзенберг противопоставляет религии «посюстороннего» (Diesseits-
Religionen) 15. Пространство современной истории он делит на две области,
формируемые указанными типами религий. В одной из них сосредоточены
«дурманящие сознание религии посюстороннего», в которые он включает ком-
мунизм и национал-социализм, в другой — англо-саксонская квазирелигия
науки и техники. Англо-саксонское «науковерие» возникает при замене Бога
наукой в начале Нового времени. «Для большей части человечества, — гово-
рит Гейзенберг, — реальность просто отождествляется с уровнем объективи-
руемой реальности, служащей основанием для любого критерия ценности.
Принятие такого критерия бессознательно, как и в любой другой религии» 16.
Если Бог заменен «вечными законами природы», то общество, живущее таки-
ми верованиями, сакрализует технические супердостижения, в которых они
воплощаются. Характерной чертой этого мира, по Гейзенбергу, является отсут-
ствие в нем символического измерения, выражающего и питающего творче-
ские силы души. Гейзенберг как представитель культуры континентальной Ев-
ропы считает это основным недостатком англо-саксонского мира, который тем
значительнее, чем больше ускользает от осознания. Вывод Гейзенберга таков:
подобное верование вряд ли переживет христианство, составляющее его скры-
тую силу, несмотря на его явный разрыв с ним. Мы видим, что Гейзенберг по
сути дела, хотя и неявно, признает тезис о христианских истоках науки Нового
времени, связывая ее генезис и последующее развитие с англо-саксонским мен-
талитетом и соответствующим типом общества. Возможно, не без влияния сво-
его друга В. Паули Гейзенберг допускает, что «слова христианского мира мо-
гут стать совершенно непонятными», но тогда, говорит он, и англо-саксонское
мировоззрение не удержится. Он предполагает, что в этом случае будет создан
новый язык для обозначения той высшей сферы, где творческие силы человека
находят себе поддержку. Взгляды на возможные судьбы христианства у него
несколько менялись. В поздние годы он считал, что полный разрыв с христиан-
ством будет иметь ужасающие последствия. В чем он, однако, никогда не со-
15 Ibid. Р. 379.
16 Ibid. Р. 380.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
415
мневался, так это в крахе религий «посюстороннего» и в основанных на них
тоталитарных обществах.
Завершим наше рассмотрение некоторых основных философско-мировоз-
зренческих мотивов, содержащихся в рукописи 1942 г., такими соображения-
ми. Выбор мировоззренческой ориентации зависит, на наш взгляд, во многом
от того, что мы помещаем в фокус нашей онтологической интуиции — нас са-
мих или «окружающие» нас вещи (объекты). Если мы выбираем в качестве
онтологического приоритета нас самих, наши интерсубъективные связи, ми-
ровоззрение по своему типу будет экзистенциально-религиозным. Если же мы
выбираем в таком качестве мир объектов, независимых от нас, то мировоззре-
ние будет эссенциально-научным или научно-натуралистическим. Обозначить
эту основную типологическую мировоззренческо-онтологическую дилемму нам
важно для анализа соотношения позиций Гейзенберга и Марселя. Гейзенберг,
как мы уже могли в том убедиться, будучи ученым, не был сциентистом, а бу-
дучи физиком, не был физикалистом. Но и экзистенциально-религиозным на-
звать его мировоззрение мы не можем, хотя бы уже потому, что влияния на
него метафизики Платона и современной науки с сопутствующими ей, пусть
только до некоторой степени, мировоззрениями в духе позитивизма и прагма-
тизма были значительными.
Последний момент требует уточнения. Критическое отношение к позити-
визму у Гейзенберга, видимо, усиливалось, о чем свидетельствует его книга
«Часть и целое» (1969). Он решительно не принимал позитивистского отноше-
ния к метафизике. Квантовая микрофизика, заметим, есть по отношению к клас-
сической физике своего рода метафизика. А вот философские рассуждения,
проясняющие саму эту физическую метафизику, есть уже настоящая, метафи-
зическая, метафизика. Эти, казалось бы, банальные слова задают такое направ-
ление мысли, где философская рефлексия самого тонкого свойства и изощрен-
ная физика идут навстречу друг другу. Вот еще одно условие резонанса, о кото-
ром мы говорим. Позитивизм не хочет идти по этому пути и сам ставит себе
такой предел: достаточно вычислять и предсказывать, корректно описывать
эксперименты и создавать технику на основе выявляемых при этом закономер-
ностей. Даже принцип дополнительности ему не нужен. Позитивизм хочет не
понимать мир, а господствовать над ним. Тем самым он протягивает руку праг-
матизму. Гейзенберга подобный отказ от установки на целостность понимания
не устраивает, хотя частичное методологическое значение позитивизма он при-
знает. Не устраивает он его потому, что, запретив себе думать о «широких вза-
имосвязях» явлений, мы рискуем вообще утратить «компас», указывающий нам
«местонахождение» центрального порядка 17. Духовная самоутрата, слепота к
17 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М: Наука, 1989. С. 329.
416 Глава VI XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
целому — слишком большая цена за частный конструктивный вклад в науч-
ную методологию.
Внимание к языку, к символическому измерению духовной жизни, понима-
ние активной функции человека в формировании образа реальности сближает
Гейзенберга с неокантианством Кассирера. Но опять: платоновское метафизи-
ческое наследие уводит его от любой формы неокантианства. Читая рукопись,
отдаешь себе отчет в том, что основное, быть может, понятие философского
мировоззрения, понятие смысла, понимается Гейзенбергом как внутри челове-
ческой активности свершаемое согласие мира с самим собой. Смысл жизни и
мира свершается через наше участие в творчестве, санкции и силы для которо-
го в конечном счете исходят от «центрального порядка». Иными словами, для
понятия смысла характерна неустранимость его антропологического измере-
ния, которое не оторвано от онтологического «центра». Смысл не может быть
поэтому обоснован чисто натуралистически. В этом мы видим основание для
сближения Марселя и Гейзенберга, объясняющее, пусть частично, возможность
резонанса их мысли, о чем подробнее речь пойдет ниже.
Гейзенберг и Марсель: базовые консонансы
Квантовая физика и экзистенциальная философия, каждая по-своему, от-
вергают основное для мировоззрения конца XIX в. представление о том, что
объективность в смысле классического рационализма может служить фунда-
ментом для понимания реальности, познания, человека. Характеризуя это ми-
ровоззрение, Гейзенберг говорит, что «номологическая физическая регулярность
материального мира казалась устойчивой основой, на которой держится все
здание мира» 18. Основу такой регулярности составляли законы классической
механики вместе с представлением о траектории тела как его причинно обус-
ловленной эволюции в пространстве и времени.
Подобное объективистское механицистское кредо не устраивало и экзис-
тенциально мыслящих философов, потому что не позволяло осознать челове-
ческое существование и его свободу и тем самым пробиться к человекомер-
ным смыслам, к пониманию свободного участия в них самого человека. Отказ
от абсолютизированной объективности классического типа выступал как про-
тест против всепоглощающих натурализма и сциентизма, неотделимых от тог-
дашнего рационализма.
Теперь мы можем задать тональность нашей теме, продолжая выявлять ос-
новные созвучия в мировоззрении и мышлении Гейзенберга и Марселя. Нач-
нем с философии Марселя, которую можно представить как экзистенциалъ-
Heisenberg W. Philosophie: Le manuscript de 1942. P. 254.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
417
ную метафизику духа. Если самые важные характеристики реальности опре-
деляются ее духовным ядром, то они не могут не зависеть от нас самих как
существ духовных. Действительно, мы вольны утверждать первенство небы-
тия или, напротив, бытия как дара, несмотря на то, что он у нас может быть в
той или иной форме отнят. И поэтому можно проклинать жизнь как тюрьму и
муку, а можно благословлять, принимая ее как дар в смирении и благодарности
за тот свет, который в ней просиял, пусть и ненадолго. «Утверждая первенство
небытия, — говорит Марсель, — я сосредоточиваюсь на своем отчаянии, за-
мыкаюсь в самом себе... и других заключаю в подобие тюрьмы» 19. Но такой
экзистенциальной установке есть альтернатива, выбираемая мною, «если я го-
ворю, что главное — это причастность к лучшему, которая была мне дарована,
пусть и на краткий срок» 20. Если я таким образом ориентирую свою душу и
сознание, то рефлексия мне скажет, что о причастности к лучшему нельзя од-
нозначно говорить как об исключительно прошлом. В данном случае Марсель
имеет в виду экзистенциально важное несчастие — измену друга, предатель-
ство со стороны близкого человека и т. п. Так вот, если в этой ситуации я сосре-
доточиваюсь не на том, что дар дружбы или любви был у меня отнят, а на том,
что он все-таки был мне дан, то я, воспринимая это лучшее, казалось бы, толь-
ко как прошлое, не могу не осознавать в то же время, что в какой-то мере, пусть
самой зачаточной, я им продолжаю жить. Свет нам может приоткрыться, если
мы ищем его и в самых удручающих обстоятельствах. «Если мне удается за-
нять внутреннюю позицию, утверждающую первенство бытия, — говорит
Марсель, — то я как бы открываю доступ благодати...» и тем самым оказыва-
юсь способным к ее восприятию. Иными словами, речь идет о том, чтобы хра-
нить в себе открытость к лучшему в самых тяжелых условиях. Именно об этом,
о духовной сущности надежды говорил Марсель, когда он в 1942 г. в оккупи-
рованной Франции читал лекцию о феноменологии и метафизике надежды.
Теперь послушаем заключительные аккорды рукописи Гейзенберга: «Что
нам остается сделать перед лицом катастрофических сдвигов в истории и по-
литике? — вопрошает он и отвечает. — Прежде всего нам надлежит вернуться
к простому — мы должны скрупулезно выполнять свои обязательства и зада-
чи, которые сама жизнь поставила перед нами, не слишком вопрошая при этом
об их истоках и назначении, мы должны передать грядущему поколению то,
что нам представляется прекрасным, восстановить то, что было разрушено, и
одарить людей подарком доверия вдалеке от перебранки страстей» 21. Разве мы
19 Марсель Г. Трагическая мудрость философии. Избр. работы / Пер. с франц. Г. Таври-
зян. М, 1995. С. 129.
20 Там же.
21 Heisenberg W. Philosophie: Le manuscript de 1942. P. 390.
27 - 3357
418 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
не слышим в этих словах той же самой мелодии надежды вопреки очевидно-
стям сегодняшнего дня, который звучит и у Марселя в то же самое время? В
словах Гейзенберга, зовущих к духовному единению немногих, можно расслы-
шать и политический контекст, указывающий на его солидарность с антинаци-
стским сопротивлением, представляемым группой «Белая роза», которая в уни-
верситете Мюнхена летом 1942 г. распространяла свою первую листовку. Мюн-
хенские студенты хорошо знали поэзию Готфрида Келлера, у которого белая
роза ассоциируется с чистотой души и с надеждой. Ее позывными или спутни-
ком выступает у швейцарского поэта «серебряная струна» (Silbersaite), упоми-
наемая и Гейзенбергом: «Часто говорят, — пишет Гейзенберг в финале рукопи-
си, — что слабый проглатывается и исчезает и лишь сильный победоносно ут-
верждается как победитель в борьбе за жизнь. Это так. Но кто сильный? В
музыке редко бывают таковыми самые громкие места, когда оркестр звучит во
всю мощь. Скорее это те пассажи, в которых еле слышно поет одинокая скрип-
ка. И поэтому те, кому знакома еще белая роза, или те, кто может расслышать
звук серебряной струны, теперь соединяются вместе» 22. Возможно, это дей-
ствительно некий знак, имеющий политический смысл, но, возможно, и про-
стое совпадение. Ведь использует же Гейзенберг в той же рукописи и Гёте —
почему бы не использовать и стихи Келлера, которого он хорошо знал? Но как
бы то ни было с ответом на этот вопрос, призыв к духовному сопротивлению
нацизму, к надежде здесь несомненен. Нам представляется, что в силу того,
что политика как таковая получает у Гейзенберга суровый приговор (он ее
рассматривает как такую деятельность, где ложное борется с ложным, проти-
вопоставляя ее чистой науке, где с заблуждением борется истина), наличие в
рукописи сознательно конструируемого политически значимого подтекста ма-
ловероятно. Впрочем, призыв к надежде и творчеству, к осознанию своей при-
частности к лучшему тоже есть в некотором роде политика. Действительно,
Гейзенберг подчеркивает силу духовного начала в противовес грубому матери-
альному принуждению. В конце концов, значимым, говорит он, является не
тот, кто может упрятать другого человека в тюрьму, а тот, «кто украдкой даст ее
узнику хлеба» 23. Акт солидарности и любви важнее даже, подчеркивает он,
выполнения своих профессиональных и патриотических обязанностей.
Жест духовного сопротивления нацистскому нигилизму был и у Марселя.
Правда, есть здесь и различие. Гейзенберг подчеркивал в этом сопротивлении,
как и вообще в области духа, роль чистой науки, которая у него осознает свою
общность с музыкой и религией. Марсель же говорил о роли в духовной борь-
бе тех же начал, но у него место чистой науки занимает философская рефлексия.
22 Ibid. Р. 391.
23 Ibid.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
419
Общая для Гейзенберга и Марселя тональность причастности к лучшему,
дающей смысл жизни, настроиться на которую всегда в нашей власти, звучит и
в заключительных словах книги «Часть и целое»: «Фон Хольст достал свой
альт... и начал играть... ту написанную молодым Бетховеном серенаду в ре-
миноре, которая бурлит жизненной силой и радостью и в которой доверие к
центральному порядку повсюду берет верх над малодушием и усталостью. И
когда я слушал ее, то она воплощала для меня уверенность, что пока существу-
ет человек, всегда будет продолжаться это — жизнь, музыка, наука, пусть даже
мы сами лишь краткое время можем участвовать в общей работе — по словам
Нильса, всегда одновременно и зрители, и действующие лица в великой драме
жизни» 24. Музыка, наука, философия, религия способны освобождать твор-
ческие силы духа, преодолевая отчаяние. Здесь у Гейзенберга даже больше
микроточек резонанса с Марселем, чем мы имели в виду, вспомнив этот финал
творческой автобиографии немецкого физика. Главной темой, в которой выра-
жается их общность, конечно же, является тема причастности к лучшему. При
этом предполагается, что решения, затрагивающие метафизически значимый
духовный слой нашего существа, оказываются и реально значимыми, ибо они,
в конце концов, ведут к преобразованию мира, к изменению образа реально-
сти. Ведь в сфере духа нет мертвой объективности, как и в сфере микромира,
фундаментальные закономерности которого были открыты Гейзенбергом. Кван-
товая реальность, по Гейзенбергу, и экзистенциальная реальность, по Марсе-
лю, действительно во многом подобны. И поэтому квантово-механическое
мышление в физике и экзистенциальная мысль в философии не могут не резо-
нировать между собой.
Кстати, сама причастность к лучшему носит квантовый характер. В пьесе
Марселя «Эмиссар» один из ее персонажей говорит: «Да и нет — вот един-
ственный ответ, когда мы сами поставлены под вопрос; мы верим и мы не ве-
рим, мы любим и мы не любим, мы есть и нас нет, но если так обстоит дело, то
это потому, что мы — на пути к цели, которую мы видим и вместе с тем не
видим» 25. Мы — всегда в движении к цели, которая и видна и не видна сразу.
Поэтому и свет, излучаемый ею, прерывист (intermittante), он как бы мигает
или мерцает. Как здесь не вспомнить о микрочастицах квантовой механики,
точная и длящаяся визуализация которых в траектории невозможна? «Что» та-
ких частиц (импульс) и их «где» (координаты) находятся в отношении допол-
нительности, количественно представленном в соотношении неопределенно-
стей. Ситуация затрудненной визуализации имеется в обоих случаях. Иными
словами, цель человека в ее описании Марселем и движение микрочастицы в
24 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 355.
25 Entretiens Paul Ricœur — Gabriel Marcel. P., 1968. P. 119.
27*
420 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
описании ее в квантовой механике Бора и Гейзенберга совпадают в главных
своих чертах.
Почему так происходит? Потому что и то и другое не есть классический
объект. И цель человека и микрочастица — трансобъекты: мы не можем их
совершенно отделить от нас самих. В случае экзистенциальной истины или
цели характер ее свечения зависит от «настройки» нас самих, его воспринима-
ющих. Подобным образом и характеристики движения микрочастицы зависят
от того, в какие экспериментальные ситуации мы их ставим с помощью наших
приборов. Такая ситуация была невозможна ни в прежней философии, ни в
прежней науке, в которых реальность мыслилась доступной для полной объек-
тивации, и человек как абсолютный зритель мог такую реальность, как счита-
лось, постичь. Но теперь оказалось, что совершенно исключенный из самой
реальности (и из истины, и из цели) созерцатель есть только абстракция. Абсо-
лютного созерцателя объективированной абсолютной истины в реальности не
существует. И поэтому истина или цель, к которой мы стремимся, как бы «мель-
кает», а мы обречены двигаться к ней, ориентируясь на эту прерывистость ее
свечения. Можно таким образом сказать, что свет физический и свет метафи-
зический сблизились. Кстати, будучи последовательным антиредукционистом,
Гейзенберг не сводил различные значения слова «свет» к одному лишь физи-
ческому его смыслу 26.
Мы живем в мире повседневности с соответствующим опытом, для описа-
ния которого достаточно трехмерного евклидова пространства, обычного
естественного языка и классической физики (правда, она предполагает опре-
деленные идеализации, не встречающиеся в подобном опыте, но мы тесно сбли-
зили их с ним). Можно выделить два основных направления преодоления это-
го мира. Первое — направление, задающее движение «вниз». Это — вектор
физической метафизики, если мир обыденного опыта считать миром «физи-
ки». Первый ее уровень, максимально приближенный к непосредственности
чувственного восприятия, — аристотелевская качественная физика. Второй —
физика Галилея и астрономия Коперника. Третий — квантовый уровень, на
котором преодолевается горизонт мира повседневности и его кодификации в
обыденном сознании, естественном языке, а также и в классической физике.
Второе из указанных направлений, дающее другой тип метафизики, это
подъем от мира обыденного опыта «вверх», к «высшему эмпиризму» (Мар-
сель), к метафизическому свету. Такую метафизику, экзистенциальную, а не
В споре с одним позитивистом, говорит Гейзенберг, «я противился тому, чтобы счи-
тать физическое значение слова "светлый" единственным собственным значением, а все
остальные объявлять переносными» (Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое.
С. 255).
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
421
физическую, развивали Августин, Паскаль, Кьеркегор, Шестов, Марсель... Для
нас самое важное в этом сопоставлении то, что оба указанные пути имеют между
собой структурное сходство, что и лежит в основе возможности резонанса меж-
ду физической мыслью Гейзенберга и философской мыслью Марселя. Дей-
ствительно, в обоих случаях речь идет о таких мирах (мир квантовой механи-
ки, с одной стороны, и мир экзистенциальной онтологии — с другой), которые
мы непосредственно видеть не можем, но которые тем не менее действуют,
определяя, в конце концов, то, что мы видим. В обоих случаях речь идет о
действии структур невидимого, проявляемом в мире видимого. И незримый
микромир, локализованный нами с помощью вектора, направленного «вниз»
от мира повседневности, наделен силами, исходящими от «центрального по-
рядка», в котором сосредоточены высшие ценности единой благой Истины 27.
Значит, путь вниз и путь вверх, как и в герметической доктрине, оказывается
по сути единым, а физическая метафизика, взятая в ее философско-мировоз-
зренческом контексте, данном ей Гейзенбергом, сходится с экзистенциальной
метафизикой.
В связи с этим важнейшим моментом мы хотели бы обратить внимание на
аналогию между «бытием» в философии Марселя и «микромиром» в физике
квантов. Марсель для задания онтологического статуса таких невидимых ре-
альностей, которые тем не менее действуют в видимом, использует термин
«присутствие» (présence): умерший близкий человек «присутствует» для лю-
бящего его, изнутри него действуя в нем и на него, определяя его порой силь-
нее, чем другие существующие, но не обладающие подобной силой люди и
вещи. Аналогичным образом, «присутствие» электрона мы фиксируем, напри-
мер, камерой Вильсона, но его как вещи среди других вещей обычного мира
нет.
Кстати, как и Марсель, Гейзенберг в своей рукописи анализирует опыт, ког-
да говорят о воздействии умершего на близко связанного с ним человека, слу-
чайно попадающего, например, в его дом 28. Обсуждая вопрос об объяснении
подобного воздействия, Гейзенберг, во-первых, решительно сомневается в про-
дуктивности редукционистского хода мысли и, во-вторых, указывает на неиз-
бежность в данном случае обращения к языку символов и иносказаний. В этом
он также сходится с Марселем. Но в отличие от него Гейзенберг не превращает
анализ подобного опыта в основу для экзистенциальной философии бессмер-
тия, для обнаружения les Prémices Existentielles de l'Immortalité (экзистенци-
альных начатков, «проблесков» бессмертия)29.
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 326.
Heisenberg W. Philosophie: Le manuscript de 1942. P. 346—347.
Marcel G. Présence et immortalité. P., 1959. P. 10.
422 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
Выше мы сказали о совпадении пути «вверх» и пути «вниз». Но это скорее
гипотеза, требующая дополнительного анализа. Ведь основная онтологическая
интуиция квантовой физики — возможность, бытие как возможное бытие. В
основе физической метафизики — структуры возможностного типа, описыва-
емые математическим языком, использующим понятие вероятности. Но в ос-
нове метафизической метафизики и онтологии лежит, напротив, абсолютная
действительность (actus punis — чистая наивысшая действительность в ари-
стотелевской философии). И поэтому естественным образом возникает воп-
рос: не отделена ли высшая актуально данная действительность трансценден-
тного бытия от нас и от нашего обыденного мира бездной мира возможностей
как колеблемых потенциальностей (ср. Тимей, 52 е), вход в который нам при-
открыла именно квантовая механика? Здесь у нас нет возможности исследо-
вать этот важный вопрос и саму эту тему. Скажем только одно: существует
такой вариант экзистенциальной философии, в котором мир потенций, по-ви-
димому, вознесен выше мира бытия. Это — философия Н. Бердяева, который
подчеркивал, что свобода выше бытия. Его свобода, как не трудно видеть, пред-
ставляет аналог мистической «бездны» (Abgrund) Я. Бёме. Но Гейзенберг воз-
держивается от такого философского пути и остается верен метафизическим
интуициям Платона, у которого, как и у Аристотеля, абсолютным началом вы-
ступает высшая действительность или актуальность идеи единого блага как
истины.
Мы рискуем даже предположить, что Гейзенберг был большим платоником,
чем Марсель, который сдержанно относился к платонизму в той мере, в какой
тот, особенно в позднейших его толкованиях начала XX в., давал санкцию на
пафос и дух абстрактности, на примат отвлеченных идеальных сущностей над
конкретным индивидом. В конце книги «Часть и целое» Гейзенберг, подобно
Платону, говорит о том, что мир в конечном счете определяется некоторыми
неизменными образами или образцами. И в философии, и в науке он «холист»
и «гештальтист», что трудно не связать с его ранним и сильным, на всю жизнь,
увлечением Платоном. Конечно, его чувство языка, как научного, так и худо-
жественного, также вело его к признанию первенства за целым в его споре с частью.
Некоторые существенно важные образы или метафоры Гейзенберга нахо-
дят свои аналоги у Марселя. Остановимся на одном наиболее значимом. В ру-
кописи 1942 г. Гейзенберг такими словами изображает ситуацию научного по-
знания: «Наша мысль, — говорит он, — как бы подвешена над пропастью без
дна: ведь мы не можем последовательно, шаг за шагом, продвигаться по твер-
дой почве от известного к неизвестному. Но она кончает тем, что осваивает
новое. А нужный для этого язык развивается» 30. Новая реальность и новое
Heisenberg W. Philosophie: Le manuscript de 1942. P. 262.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
423
знание о ней отделены недоступной для непрерывного последовательного дви-
жения познания бездной, не позволяющей плавно выводить новое из уже изве-
стных постулатов. Поэтому новый язык должен быть «угадан» в акте, предпо-
лагающем спонтанность, скачок творческой мысли как целого. И тогда благо-
даря новому языку открывается возможность «спасения» большого круга новых
явлений 3I, не находивших ранее своего понимания.
У Марселя мы находим подобный образ. В своем существовании мы «под-
вешены» над пропастью небытия. «Одежда», за которую мы зацепились и по-
висли над ней, трещит, как и сам «крюк», готовый вот-вот обломиться. Эти
метафоры указывают не столько на наше «тело», сколько описывают наш «дух».
Действительно, ведь мы висим над пропастью отчаяния, к которому, как и к
надежде, способен именно дух. Поэтому преодоление пропасти небытия и здесь
есть «скачок» духа, раскрывающий существование человека для восприятия
прерывистого света (квантов) надежды. По сути дела Марсель философскими
средствами передает опыт христианской традиции, в которой в отличие от на-
учной физики речь идет не о «спасении явлений», а о нашем собственном спа-
сении в вечности. Но оба пути спасения между собой связаны: человек суть
воплощенный, а значит, являющийся в видимом мире дух. И поэтому и наука
имеет отношение к нашему спасению в указанном смысле. Мы можем подыто-
жить сравнение этих образов, сказав, что в обоих случаях действует единый
оператор спасения, но в дополнительно разных своих проекциях. И увидеть
общий корень указанных путей спасения, пожалуй, не менее трудно, чем пере-
бросить мост от хаоса спектроскопических данных к матричной форме кван-
товой механики... Трудно, но не невозможно, если следовать «путем зерна»,
путем вызревания духа и языка, способных преодолевать подобные пропасти
и сводить расходящееся воедино. И тогда наука в целом как своего рода со-
териология явлений природы, с одной стороны, и философия и религия как
сотериология человеческого духа — с другой, смыкаются в незримое, но тем
не менее доступное для художественно-мыслительной символизации кольцо
Истины.
Заключая наше введение в тему, скажем, что указанная «подвешенность» и
бытия, и познающей мысли человека ведет к тому, чтобы он понимался, как
говорит Марсель, как Homo viator, человек-в-пути (l'homme itinérant). Этот же
мотив и в той же ситуации звучит и у Гейзенберга: «Великие философы, —
пишет он в своей рукописи, — всегда сознавали, что всякое познание есть сво-
его рода "подвешенность" (des "schwebenden" Charakters aller Erkenntnis), co-
31 «Спасение явлений» — выражение Симпликия в его комментариях к книгам «О небе»
Аристотеля. См.: Duhem P. Le Système du Monde. Histoire des doctrines cosmologiques de
Platon à Copernic. T. 1. P., 1954. P. 103.
424 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
стояние движения, неокончательности. Они поняли или почувствовали, что
любая формулировка в языке всегда есть не только схватывание реальности,
но также и манера ее оформлять и идеализировать, что идеализация снова от-
деляется от реальности в той мере, в какой понятия уточняются. И отсюда сле-
дует, что именно в иносказании или притче развертываются, в конце концов,
последние и самые глубокие познания» 32. Если бы Гейзенберг был знаком с
творчеством Марселя (следов этого мы не нашли), то он, вероятно, причислил
бы его к великим философам. Ведь ни у какого, пожалуй, другого философа
того времени не выражено с такой силой понимание философской мысли как
непрекращающегося поиска истины.
В 1929 г. Марсель принял католичество. Но после его обращения его поиск
философа не прекратился. Человек, по Марселю, на онтологическом уровне
есть ищущее существо, и религиозное обращение ничуть не меняет этой его
природы, лишь открывая ему новые сферы духовного опыта и тем самым до-
полнительно стимулируя и углубляя его поиск. Ведь о самом последнем, о пре-
дельном он может иметь только символы, которые в философской рефлексии
принципиальным образом не могут быть полностью раскрыты, рационально
познаны, объяснены. Эту ситуацию ясно понимал и Гейзенберг, которому его
платонизм и художественное чутье помогли вписать физику в духовный мир
ценностей, где рядом с наукой стоят искусство и религия. Ему удалось создать
свой квазиконцептуальный метафорический мир («центральный порядок»,
«компас» и т. д.), позволивший, не потерявшись в частностях и частях, вклю-
чить их в осмысленное единое целое.
Признание символического характера нашей связи с метафизической ре-
альностью характеризует, таким образом, и Марселя, и Гейзенберга. Гейзен-
берг не принимал ни позитивистского понимания метафизики как псевдофи-
лософии, ни хайдеггерианского — как причины «забвения бытия» в европей-
ской философии. Апофатическая символология ему была бы, видимо, ближе,
чем катафатическая рациональная онтология (и теология). Он стремился най-
ти иносказательные, символические ресурсы языка и воображения, когда речь
шла о последних вещах, о метафизическом измерении, целостности опыта и о
«широких взаимосвязях» явлений. Функцию метафизика у него выполняет,
скорее, художник, чем философ-рационалист, философ-систематик. Пожалуй,
и Платон ему остается близок еще и потому, что хранит опыт значимости худо-
жественного начала в области высшей философии.
Ibid. Р. 364.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
425
Экзистенция и состояние
Параллелизм между понятием экзистенции у Марселя и понятием состоя-
ния в квантовой теории трудно оставить незамеченным. Покажем это, обратив-
шись сначала к понятию состояния. В истории создания квантовой механики
Гейзенберг выделяет два понятия состояния. Первое — «понятие дискретного
стационарного состояния... фундаментальное понятие квантовой теории», быв-
шее в силе до создания волновой и квантовой механик. Второе — «понятие
состояния не обязательно дискретное или стационарное, его удалось осмыс-
лить лишь после разработки квантовой и волновой механики» 33. Первое из
них было введено Н. Бором в 1913 г. Его мы касаться не будем. В связи с нашей
темой нас будет интересовать второе понятие.
Состояние электрона в квантовой механике математически описывается
«вектором в Гильбертовом пространстве и этот вектор показывает вероятность
результатов всех экспериментов, какие можно провести над электроном в дан-
ном состоянии» 34. В чем отличие такого понятия состояния от понятия состо-
яния в классической механике, задаваемого фиксированными значениями
импульса и координат материальной точки, законосообразное изменение кото-
рых определяет ее траекторию? В том, что представление о траектории движе-
ния микрочастицы здесь отбрасывается и вместе с ним преодолевается «весь
наш язык, связанный с таким пониманием объективации» 35. В драме такого
разрыва понятие состояния играет существенную роль. «Понятие состояния, —
говорит Гейзенберг, — могло бы стать первой дефиницией в системе квантово-
теоретической онтологии» 36. Добавим — и логики, и теории познания тоже.
Ограничения классической объективации количественно задаются соотноше-
нием неопределенностей Гейзенберга. Поэтому Гейзенберг говорит не о пол-
ной отмене объективации в квантовой механике, а о частичной: «Квантовотео-
ретическая "вероятность", — подчеркивает он, — обладает хотя бы частичной
объективностью» 37. Правда, иногда он высказывается более радикально, заме-
чая, например, что микрочастицы «ускользают от какой бы то ни было объек-
тивной фиксации в пространстве и времени и что предметом научного анализа
может быть только наше знание об этих частицах» 38. Но какой бы ни была
точная оценка степени сохраняющейся внутри квантовой механики объектива-
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 91.
34 Там же. С. 100.
35 Там же. С. 101.
36 Там же. С. 222.
37 Там же. С. 223
38 Там же. С. 300.
426 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
ции, главный вывод, который делает Гейзенберг из этой ситуации, состоит в
отказе от картезианского рационализма с его дуализмом субъекта и объекта и
всей основанной на нем традиции. «В наше время, — заключает он, — можно
говорить... не о картине природы, а о картине наших отношений к природе.
Старое разделение мира на объективный ход событий в пространстве и време-
ни, с одной стороны, и душу, в которой отражаются эти события, — с другой,
иначе говоря, картезианское различение res cogitans и res extensa уже не может
служить отправной точкой в понимании современной науки» 39.
Итак, создание квантовой механики обнаружило ограниченность, неунивер-
сальность классической формы объективации, которую можно обозначить как
каузальную эволюцию тел в пространстве и времени. Было показано, что такая
форма вторична по отношению к более глубокой и тонкой форме объектива-
ции, которую мы находим в квантовой механике. Но преодоление презумпции
универсальности картезианского истолкования объекта еще не означает, что
тем самым преодолевается оппозиция субъекта/объекта как таковая, потому
что, мол, субъект целиком входит в объект. Можно лишь сказать, что некото-
рый шаг к этому сделан, но не более того. Спектр взглядов в связи с этой ситу-
ацией можно свести к трем основным позициям: первая — в квантовой меха-
нике полностью преодолевается оппозиция субъекта/объекта, вторая — она
преодолевается только частично, третья — эта оппозиция совсем в ней не пре-
одолевается. Последнюю точку зрения выражал, например, Ю. А. Шрейдер. В
микромире, подчеркивал он, «нет места ни свободе воли, ни творческому акту.
Квантовая физика предлагает нам не менее натуралистическую картину мира
физических процессов, чем неклассическая» 40. С таким суждением мы согла-
ситься не можем. Гейзенберг прав, на наш взгляд, когда говорит о реальном
сближении между гуманитарным и естественно-научным познанием, произо-
шедшим в результате создания квантовой механики. Мы бы сказали, что нату-
ралистическая картина мира, в основе которой лежат законы природы как
независимые от человека, от его воли, желаний, верований и действий, сохра-
няется и в квантовой механике. Но меняется само понятие закона природы.
Кроме того, сама необъективируемость в классическом смысле, как подчерки-
вает Гейзенберг, может быть объективирована, что по сути дела и происходит в
квантовой механике 4|.
Гейзенберг в своих суждениях колебался между двумя первыми позициями.
Отождествляя объективацию с точной локализацией частицы в пространстве и
времени вместе с точным заданием ее динамической характеристики, он ста-
39 Там же. С. 303—304.
40 Шрейдер Ю. А. Неправомерная альтернатива // Новый мир. 1990. № 7. С. 264.
41 Heisenberg W. Philosophie: Le manuscript de 1942. P. 268.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
All
новился на первую отмеченную нами позицию и вызывал в связи с этим, на
наш взгляд, справедливое возражение со стороны, например, М. Хайдеггера.
Для философов, особенно экзистенциалистского направления, такая позиция,
конечно, неприемлема: ведь если бы это было действительно так и оппозиция
субъекта/объекта полностью преодолевалась бы в самой квантовой физике, то
тем самым само право на существование экзистенциальной философии было
бы существенным образом подорвано. На наш взгляд, если бы по этому вопро-
су между Гейзенбергом и Хайдеггером разгорелась дискуссия, то Марсель,
несмотря на свое весьма критическое отношение к немецкому философу, ско-
рее всего встал бы на его сторону.
Для экзистенциальной философии Марселя мир объектов имеет свой пре-
дел, который она стремится преодолеть и «проникнуть по ту сторону объек-
тивности (да простят нам эту плохую пространственную метафору) в область,
где классическое отношение между субъектом и объектом перестает быть при-
менимым со всей строгостью» 42. Хотя Марсель здесь вроде бы тоже имеет в
виду классическую объективность в духе картезианского механицизма, однако
на самом деле он обращает внимание вообще на принципиальную невозмож-
ность без устраты самого существенного в ней вывести экзистенцию, или су-
ществование, на экран сознания как его объект. Речь у Марселя идет, как и у
Хайдеггера, не только лишь о преодолении классического рационализма кар-
тезианского толка и классической науки, на нем основанной, но рационализма
и науки как мироотношения как таковых.
Словом «экзистенция» обозначается существование в его изначальности
и невыводимости ни из чего другого как молчаливо признаваемый «фон» вся-
кого рационального мышления, оставляющего его незамеченным. Иными сло-
вами, объективировать, «положить» экзистенцию как объект, невозможно.
Ведь в объекте главное, что его конституирует, это вынесенность его вовне
по отношению к субъекту, стабилизирующая его признаки и предикаты. Но
экзистенция предикатом быть не может, будучи скрытым условием и объек-
тивации, и предикации. И поэтому экзистенциальная мысль, нацеленная на
постижение экзистенции, ищет свой особый язык, не похожий на язык науки,
рационализма вообще и идеалистической философии в частности. Нетрудно
видеть, что понимаемая таким образом экзистенция не может не напоминать
нам о том уровне физической реальности, который достигнут в квантовой
физике микромира: невидимое, выступающее условием возможности види-
мого, необъективируемое и непредицируемое в обыденном и классическом
языке, но позволяющее объективировать и предицировать явления в обыч-
ном мире.
" Марсель Г. Трагическая мудрость философии. С. 55—56.
428 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
Существует ряд феноменов, которые могут считаться своего рода модусами
экзистенции. Это прежде всего ощущение (le sentir) и воплощение. Пытаясь
определить ощущение, мы сталкиваемся с его необъективируемостью, неуло-
вимостью для спецификации по ту сторону чисто количественной интенсив-
ности. Оно подобно аромату цветка — есть и всё тут. Ничего другого сказать о
нем мы не можем. Мы отдаем себе отчет в том, что один аромат отличен от
другого. Но описать его, предицировать его качественную специфику мы не в
состоянии. Такова и экзистенция — неповторимая, уникальная, но неописуе-
мая. Она тоже может специфицироваться только по интенсивности — чувством
полноты, подлинности или, напротив, чувством самоутраты и самонереализо-
ванности, неполноты и неподлинности.
Необъективируемость экзистенции не означает, что она есть нечто расплыв-
чатое, в себе размытое. Но это означает, что «разум не может, не впадая в про-
тиворечие, занять по отношению к ней позицию, которая требуется для того,
чтобы охарактеризовать нечто» 43. Такова экзистенция, но таков и электрон,
если мы хотим описать его естественным или классическим языком.
Теперь посмотрим, оправданна ли аналогия между структурами, описыва-
ющими понятие состояния квантовомеханической системы, с одной стороны,
и структурами, описывающими ситуацию воплощения, как ее понимает Мар-
сель, — с другой. «Воплощение (l'Incarnation), — записывает он в метафизи-
ческом дневнике 1928 г.,— центральная данность метафизики. Воплощение
(l'incarnation) или ситуация существа, обнаруживающегося в связи с телом.
Данность непрозрачная для себя самой: противоположность cogito. Об этом
теле я не могу сказать ни то, что оно есть я, ни то, что оно мною не является, ни
то, что оно есть для меня (то есть — объект). Тем самым противоположность
субъекта и объекта с ходу преодолевается. И обратно, если я исхожу из этой
противоположности, понимаемой как фундаментальная, то никакой логической
уловкой я не смогу воспользоваться, чтобы достичь этого опыта: в этом случае
он будет неизбежно ускользать или отвергаться, что есть то же самое» 4Л. Воп-
лощение не есть факт, но такая данность, которая делает факты возможными.
Можно сказать, что воплощение — фундаментальная ситуация, недоступная
нашему контролю, над ней невозможно господствовать, она не подлежит ана-
лизу. В воплощении дано «бытие-в-мире» (Хайдеггер) как перводанность, оди-
наково важная и для онтологии и для антропологии.
Об электроне тоже мы не можем сказать, что он есть волна или не есть вол-
на, ни даже то, что он есть просто объект. Тем самым он выступает как своего
рода мккрофизический аналог воплощенного существа. Но этим я вовсе не
43 Там же. С. 61.
44 Marcel G. Être et Avoir. P., 1935. P. 11—12.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
429
хочу сказать, что электрон наделен свободой воли или является духовным об-
разованием и т. п. Нет, но аналогия между понятием экзистенции, задаваемой
в опыте воплощения, и понятием состояния микрочастицы прослеживается
весьма отчетливым образом. В ситуации воплощения я не могу себя абсолют-
ным образом идентифицировать ни с моим телом, ни с моей душой как в нем
воплотившейся. Здесь действует ситуация антиномизма: я есть мое тело, я не
есть мое тело. Это как раз та самая ситуация, о которой Н. Бор говорил, имея в
виду именно квантовую механику, что здесь отрицание верного суждения яв-
ляется не менее верным, чем оно само. Неаристотелевская квантовомехани-
ческая логика оказывается в то же время и логикой экзистенциальной
философии.
В воплощении как фундаментальной экзистенциальной ситуации элемен-
тарной данностью является не тело и не бестелесный дух, а их единство или
«связь», выступающая первичным началом по отношению к самой противопо-
ложности духа и тела. Если мы мыслим воплощение как изначальное или пер-
вое, как prius, то можем постичь возникновение этой противоположности. Но
обратный путь нам пройти нельзя: невозможно, если мы исходим из этой про-
тивоположности, постичь цельность воплощения. Обращаясь к квантовой ме-
ханике, мы видим, что вектор в гильбертовом пространстве, задающий мате-
матическую структуру состояния электрона, тоже таков: исходя из него, мы
можем постичь противоположность волны и частицы, но обратного пути
нет.
И в экзистенциальной философии, исходящей из таких первоначал, как
феномен воплощения, и в квантовой физике равным образом преодолевается
классический рационализм Аристотеля и Декарта. Действительно, кванто-
вая логика — неаристотелевская логика, а квантовая эпистемология —
некартезианская эпистемология. Все эти отрицания классики ярко и верно
описал Г. Башляр, давший значимое и по сей день философское осмысление
научной революции XX в. Но он считал, что идущий на смену классике новый
рационализм — это сюррационализм, еще большее развитие духа абстрактно-
го мышления 45. Такие взгляды, пусть только отчасти, не были чужды и созда-
телям новой физики, в том числе и Гейзенбергу. Но экзистенциальная филосо-
фия их решительно не приемлет и не рассматривает себя как новый рациона-
лизм или рационализм повышенной сложности, хотя при этом и не считает
себя ни иррационализмом, ни мистицизмом. Экзистенциальная мысль XX в.
возникла как реакция на замалчивание трагедии человеческого существования
прежним рационализмом, как идеалистическим, так и материалистическим.
Ее не устраивал натурализм как мировоззрение, который действительно может
45 Визгин В. П. Эпистемология Гастона Башляра и история науки. М, 1996. С. 222.
430 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
сохраниться в случае сюррационализма и сциентизма усложненного современ-
ного типа.
Здесь необходимо одно замечание. Неклассическая физика, использующая
более абстрактные математические структуры, в то же время выступает более
конкретным познавательным образованием, чем классика. И именно это и фик-
сируется в принципе соответствия, согласно которому классический уровень
понимается как частный случай квантовомеханического. Пространство и вре-
мя классики, понятия волны и частицы и т. п. мы можем понять, исходя из
физической реальности квантовомеханического типа. Но обратная процедура
невозможна. Как ни «склеивать» волновые и корпускулярные представления,
мы никогда не получим соотношения неопределенностей. А исходя из него,
мы можем получить эти представления. Поэтому, строго говоря, надо и более
высокоорганизованные математические структуры неклассической физики счи-
тать не более абстрактными, чем структуры матаппарата классики, а, напро-
тив, более конкретными. Марсель говорил о «непоправимой амбивалентности
конкретного» и называл свою философию конкретной. «Непоправимый» дуа-
лизм волны и частицы есть квантовомеханический вариант амбивалентности в
физике, поэтому микрочастица выступает как более конкретный псевдообъект,
чем, скажем, материальная точка в классике.
Итак, как показывает квантовая механика, физическая реальность в своей
глубине «духоподобна», но не более того. И поэтому понятно, что различие в
проведении границы объективации в квантовой механике, с одной стороны, и
в экзистенциальной философии Марселя — с другой, значительно. Оно выяс-
няется, когда мы обращаемся к понятию проблемы как противоположности
тайне и таинству (le mystère). Гейзенберг в отличие от Марселя такими кон-
цептами не пользуется. В его мировоззрении они заменены противопоставле-
нием двух типов языка, при этом аналогом тайны выступает то содержание в
реальном, которое требует обращения к языку притчи. Наука вообще, видимо,
не может отказаться от проблем и проблематизации. И если в квантовой меха-
нике, как мы видели, понятие классической объективности не действует, то
понятие проблемы в ней, конечно, «работает». Однако в философии Марселя
преодолеваются и объективируемое и проблематизируемое измерения, кото-
рые, по сути дела, у него совпадают. Проблема — это задача с фиксированны-
ми, вынесенными во вне по отношению к мыслящему сознанию объективиро-
ванными данными. Ставящий проблему и озадаченный ее решением человек,
вникая в ее данные, пытается ее решить, установив скрытый в них порядок
(закономерность, правило и т. п.). Но, говорит Марсель, такие реальности, как,
например, зло, не допускают подобной проблематизации. Действительно, я не
могу однозначно утверждать, что зло находится вне меня и имеет такие-то ха-
рактеристики, будучи объектом, так как, пытаясь к этому свести зло, я рискую
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
431
упустить самое важное в нем. Ведь существенный признак проблемы в том,
что в ней признается деление на «вне меня» и «внутри меня», а для зла оно
недействительно. Поэтому, строго говоря, зло — не проблема и не может про-
блематизироваться в своей сути, это — тайна. Воплощение, о котором мы го-
ворили, тоже есть тайна.
Наука, видимо, вообще не может иметь дела с такими уровнями реально-
сти, в основании которых задействованы мы сами как носители свободы. Если
проблемы решаются с помощью познания или познаются, то тайны признают-
ся, причем для этого как минимум требуется то, что Марсель называет сосре-
доточением (recueillement). Решение проблем доступно верификации, сфера
тайны — область неверифицируемого, где достоверность не доказывается, а
свидетельствуется. Наука ориентирована на проблематизируемое, поэтому —
на доступное решению, на Solubilia. Экзистенциальная философия, как и искус-
ство трагедии, напротив, ориентирована на Insolubilia, на непроблематизируе-
мое в принципе и уже поэтому на недоступное решению, на тайну. Где Гейзен-
берг размещает уровни реальности, требующие языка притчи или иносказания
(искусство, религия), там Марсель находит пространство для экзистенциаль-
ной философии, использующей язык двойной рефлексии. И сходятся наука о
квантовых явлениях и экзистенциальная философия уже постольку, поскольку
квантовая теория сближается с искусством, о чем Гейзенберг не раз говорит.
Общее у Марселя и Гейзенберга — это опора на принцип дополнительности,
«комплементароморфизм» их мысли. Но формулировки основных оппозиций
у обоих мыслителей различаются. Марсель: мы движемся в мире проблемати-
зируемом или в мире тайн. Гейзенберг: мы стремимся к точности и однознач-
ности языка (наука) или живем в языке притчи (искусство, религия).
В соответствии с такими разными акцентами по-разному понимается и связь
науки с «центральным порядком» или его аналогами. Марсель, особенно в его
довоенных работах, подчеркивает деформирующую целостность и экраниру-
ющую свет бытия функцию науки и особенно техники (в этом он близок к
Хайдеггеру). По Гейзенбергу, напротив, с помощью объективации реальности
в науке происходит приобщение тех ее уровней, где она возможна, к осмыс-
ленному целому, к единству «центрального порядка». Суть вопроса такова: как
«спасение явлений» связано со спасением человека, его души? Светит ли свет
бытия в тех математических структурах, с помощью которых «спасает явле-
ния» наука? Положительный ответ на этот вопрос дается рационализмом, преж-
де всего платоновским, хотя у Платона познание природы как мира становле-
ния сведено на уровень лишь «правдоподобного мифа» (Тимей, 29 d) в отли-
чие от истинного знания, имеющего своим предметом вечное бытие. Итак, если
у Гейзенберга нота рационализма звучит со всей силой (хотя и без рационали-
стического редукционизма), то у Марселя она приглушена, хотя и сохраняется
432 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
в его философии, например в учении о двух формах рефлексии. Поэтому, не-
смотря на рецепцию некоторых платонистских мотивов (особенно в том, что
касается онтологического статуса искусства), Марсель все же действительно
менее платоник, чем Гейзенберг.
Эволюцию физики от классики к квантовой механике можно сравнить с эво-
люцией греческого атомизма от Демокрита к Эпикуру, введшему спонтанное
отклонение атомов (clinamen) с тем, чтобы не только объяснить образование
атомных агрегатов, но и избежать необъяснимости феномена свободы воли на
прежнем, строго детерминистическом базисе. Что-то подобное, видимо, допу-
стимо сказать и относительно сдвига от классической механики к квантовой.
Проникновение на более глубокий уровень физической реальности, где отсут-
ствует привычная для обыденного сознания и классической физики объекти-
вация в пространстве и времени, возможно, приоткрывает доступ к еще более
скрытым и глубоким уровням, проникновение в которые для объективирую-
щей науки, видимо, вообще вряд ли возможно. Именно на них действуют фи-
лософия, искусство и еще глубже — религия.
Символы религии выражают, говорит Гейзенберг, «решающую часть нашей
действительности»46. А не решающая, хотя и важная, часть — это та часть
реальности, которую можно объективировать и научно описать. Гейзенберг
подчеркивает, что «объективируемая сфера составляет лишь малую часть на-
шей действительности» 47. Области, которые можно объективировать лишь в
определенных пределах, шире ее. К первому, условно, слою этой только отчас-
ти объективируемой области следует отнести и микромир с квантовой теорией
как ее объяснением. Можно предположить, что от него путь идет к еще более
«странным» областям, где уровень объективации еще ниже. Имея в виду та-
кую экстраполяцию понижения уровня объективации, мы можем говорить о
тенденции к сближению физики и философии, физики и метафизики. Впро-
чем, пропасть между ними, обозначаемая словом «проблема» в смысле Марсе-
ля, остается. И тогда встает главный вопрос: как символизм числа (искусствен-
ного) можно соединить или сблизить с символизмом слова (естественного)?
Какие связующие их языки возможны? Как они нам могут указать на связь
символизма познаваемого (наука) с символизмом непознаваемого, но призна-
ваемого и свидетельствуемого (религия, но отчасти философия и искусство
тоже)? Или же эта связь всегда будет мыслиться в духе принципа дополнитель-
ности Бора? Оставим эти важные вопросы для будущих исследований.
Подводя итоги сопоставлению понятий состояния и экзистенции, мы мо-
жем назвать, например, электрон параэкзистенциальным по способу его суще-
46 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 324.
47 Там же. С. 326.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
433
ствования (я не говорю «объектом» или «существом», субстанциальное его
определение сознательно оставляя в «подвешенном» состоянии). Что имеется
в виду? Экзистенциальная мысль начинается с того, что не понимает постав-
ленный Шеллингом и Хайдеггером вопрос: Почему существует нечто, когда
должно быть ничто? Дело в том, утверждает Марсель, что реально занять по-
зицию вне существования мы не можем. Поэтому мы не можем видеть экзис-
тенцию. Но электрон тоже нельзя видеть. Именно поэтому я и назвал его су-
щим параэкзистенциально.
В квантовой физике используются разные математические представления,
которые можно назвать объективациями. Главное и собственно квантовое —
представление, задающее пси-функцию в гильбертовом пространстве. Состоя-
ние квантовомеханической системы описывается как вектор в нем. Другое пред-
ставление — пространственно-временное, классическое, евклидово, например
треки в камере Вильсона и т. п. Но суть дела состоит в открытии языка перехо-
да между этими двумя представлениями: квадрат модуля амплитуды пси-фун-
кции равен плотности вероятности иметь в обычном евклидовом пространстве
и опыте соответствующее значение величины, являющейся аргументом пси-
функции. Общая и главная проблема и для физики, и для философии — акко-
модация языков, описывающих разные уровни реальности. Как от языка, пред-
назначенного для более высокого уровня (он более иносказателен), перейти к
языку, приспособленному для более низкого уровня (он более однозначен, в
нем слово ближе к термину, чем в первом)?
Не только квантовая механика, но и неклассическая физика в целом ис-
пользует математические структуры, которые прямо несоотносимы с базо-
выми данными обычного опыта, например с пространством Евклида. Так, в
релятивистской космологии можно говорить как об одной из возможных мо-
делей о четырехмерной гиперсфере, но для придания ей ясного физического
смысла требуется переход от нее к опыту в обычном пространстве трех изме-
рений. Где на уровне опыта мы констатируем разрыв (например, между мик-
ромиром и макромиром повседневности), там на уровне математических
структур мы отмечаем гомогенизацию различных языков и представлений
реальности. Граница видимое/невидимое оказывается прозрачной для языка
математики: числа, например, ее свободно пересекают. Эффективность пи-
фагорейско-платоновской программы обусловлена именно этим, что и пока-
зал опыт Гейзенберга.
Как обстоит дело в этом плане с экзистенциальной философией, как она
осуществляет связь видимого с невидимым? Она также вынуждена изобретать
своего рода переходники-посредники, чтобы перейти, например, от онтологи-
ческой интуиции к социальной философии или философии истории. Отказав-
шись от ориентации на науку и число, такая философия находит ресурсы для
28 - 3357
434 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
построения переходников указанного рода в искусстве слова и образа. Так,
например, экзистенциальная метафизика Марселя связывается с пробле-
мами современной истории через развернутую метафору «человека из ба-
рака» 48.
Структура экзистенциального мира квантовоподобна в силу его антиномиз-
ма, но в отличие от физического микромира ее невозможно задать математи-
чески. В случае электрона удалось построить такие математические структу-
ры, которые вбирают в себя его «непоправимую амбивалентность» (корпуску-
лярно-волновой дуализм), позволяя рассчитывать его поведение в условиях
макроскопического опыта, что так важно человеку, привыкшему к его техни-
ческому освоению. Посмотрим теперь, как обстоит дело с языком, задающим
амбивалентность экзистенции как некую структуру.
«Структура мира, в котором мы живем, — говорит Марсель, — допускает
и, по всей видимости, стимулирует абсолютное отчаяние: однако именно в по-
добном мире может родиться неистребимая надежда»49. Речь здесь идет о струк-
туре именно экзистенциального мира: как ее можно задать, в каком языке? Та-
кой язык приходится изобретать. Один из них был создан, например, Кьеркего-
ром, другой, похожий, но отличный от него, независимо от датского философа
был создан Марселем. Но создание таких языков-философий не означает, что,
исходя из них, можно предсказывать поведение отдельных лиц или целых го-
сударств... Однако, спускаясь вниз, этот проартикулированный в его верхних
этажах язык может способствовать нашей ориентации в мире, придавая ей
экзистенциально-философский смысл. Не только физика и техника суть
практики, но и «искусство экзистенции», или существования, тоже. Если
бы функцию гида в таком искусстве могла выполнять математика, то филосо-
фия попросту не выдержала бы с ней конкуренции. Но раз такую возможность
приходится исключить, то это, как минимум, дает экзистенциальной филосо-
фии практическое оправдание. Экзистенциальная философия тяготеет к «рас-
полагающемуся» за противопоставлением субъекта и объекта сверхобъектно-
му, особым языком передавая атмосферу его присутствия. Математика же не
преодолевает этого противопоставления: она остается в пределах объектива-
ции. Конечно, в математике объективация понимается в более широком смыс-
ле, чем проецирование предметности в пространство и время обычного типа,
составляющее основу объективации в классической физике и обыденном опы-
те. Но, повторим, оппозиция субъект/объект здесь не преодолевается: матема-
тика имеет дело с проблемами, а не с таинствами (хотя абсолютно отделять
одно от другого, видимо, нельзя).
Марсель Г. Трагическая мудрость философии. С. 108.
Там же. С. 90.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель 435
В физике мы тоже можем замкнуть трудную ситуацию в круг ограниченных
данных, сформулировать проблему и уже поэтому иметь возможность ее ре-
шить. В философии — иная ситуация. Ее задачи не могут быть замкнуты в
проблемы без того, чтобы не снижался ее уровень и не утрачивался смысл фи-
лософского дела. Говоря словами Марселя, в основе философских задач лежат
не проблемы, а тайны, не допускающие своего завершения и конечного объек-
тивирования как данностей. Поэтому ни система, ни теория, в строгом смысле
слова, невозможны в философии. Философия есть интеллектуальное искус-
ство восходящего пути, где сама рефлексия как ее основное профессиональ-
ное средство носит характер иносказания, потому что ее язык нельзя термини-
ровать, сделать системно-однозначным, операционально-техническим и без-
личным. Философия — интеллектуализированная духовная практика как целое,
взятая в ее целостности. Физика же есть только один ее слой, а именно тот, где
дух осваивает низшие уровни реальности, выявляя их «духоподобие» (параэк-
зистенциальность электрона в квантовой механике тому пример). Тем самым в
результате развития физики перебрасывается мост между высшими уровнями
реальности и низшими. Можно даже сказать о естествознании в целом как о
частном виде духовной практики, ибо развиваемая ученым деятельность есть,
в конце концов, возвышение объективируемой реальности, возведение ее, пусть
векторно, намеком, к ее необъективируемым вершинам. В объективируемом
мире представлены возможностные уровни реальности. О вершинах необъек-
тивируемого мира мы говорим как о мире чистой трансцендентной действи-
тельности, как о наиреальнейшем. Но мир чистых потенций имеет то общее с
миром чистой действительности, что подобно ему плохо схватывается в при-
вычном объектном языке. И поэтому тот или иной символизм неизбежен как в
углубленной физике, так и в философии экзистенциального типа.
Предпосылки и условия резонанса
Обсуждая причины того явления, которое мы назвали резонансом в твор-
ческих биографиях Марселя и Гейзенберга, нужно заметить, что речь, строго
говоря, не идет о том, что у немецкого физика и французского философа были
общие идеи. При этом нас не устраивает не термин «общие» (общее у них как
раз было, что мы и стремились показать), а термин «идея». Дело в том, что
между физикой и философией, что бы при этом ни говорилось, и не без осно-
ваний, об их взаимосвязях, неизбежен разрыв. Идеи не могут его преодоле-
вать, сохраняя свою самотождественность: они должны существенно изменить-
ся, чтобы сохранить свою значимость в каждой из указанных областей. Поэтому
правильнее было бы говорить не об общих идеях, а о параллелизме некоторых
интенций, об определенном сходстве менталитета. Существуют не общие для
28*
436 Глава VI XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
данных областей идеи, а специфические в каждом случае принципы и диспо-
зиции мысли, некоторые из которых в одной из них и резонируют с некоторы-
ми другими в другой. Подчеркнем: резонируют разнородные образы мысли и,
разумеется, частично, хотя и в существенных зонах.
Обратить внимание на невозможность для физики и философии иметь об-
щие идеи нам показалось важным, потому что об этом легко забывают и физи-
ки и философы. Но именно последние, своей профессией обязанные хранить
тонкую структуру интеллектуального мира, которой подобный идеократиче-
ский подход явно угрожает, должны предупредить о его неправомочности.
Возможно, что физики более склонны совершать эту ошибку, подверстывая
философию под мир общих с наукой идей. Ведь философия, а особенно экзи-
стенциальная, не так высоко ценит идею как таковую, как это принято в со-
обществе ученых. Дело здесь в том, что в философии существенно искусство
понятий, значима разрешающая способность интеллектуального зрения, под-
держиваемая глубиной духовного опыта и художественным вкусом скорее,
чем какими бы то ни было идеями, в том числе «передовыми» и «правильны-
ми». Философ, вопреки, казалось бы, историческому опыту, не идеолог: его
превращают в идеолога другие, стремясь к массовидной утилизации его твор-
чества. Настоящий философ, как и настоящий художник, — одинокий творец
того, что мы интуитивно называем высокой философией, philosophia perennis.
Творческий вкус, созидательная пассивность, глубина духовного опыта фи-
лософа имеют приоритет над тем, что мы обычно понимаем под идеей, имея
в виду некую схему определенного мыслительного содержания. Такое опре-
деление идеи ее несомненно объективирует. Ученый в отличие от философа
имеет дело с теми уровнями реальности, которые выступают как более при-
годные для объективации, чем те, на которые направлена мысль философа.
Опыт обращения с доступной объективации реальностью делает ученого
склонным видеть ее возможности и там, где их нет или они практически от-
сутствуют или даже вообще незначимы для сути дела, и, напротив, с боль-
шим трудом осознавать ее пределы. Философ же в мире интеллектуальной
культуры выступает как по преимуществу критик завышенных притязаний
на объективацию реальности. А экзистенциальный философ, как мы видели
на примере Марселя, это критик объективации par exellence. Только нивели-
руя уникальность особых интеллектуальных миров, какими являются физи-
ка и философия, мы можем свести резонанс между ними к общему для них
идейному каркасу.
Рассмотрим в связи с этим взгляды Гейзенберга и Марселя на соотношения
опыта и познания. Может показаться, что оба мыслителя придерживались здесь
одной и той же идеи об основополагающем значении опыта для познания. «Вся-
кое познание, — говорит Гейзенберг, — в последнем счете основывается на
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
437
опыте» 50. С таким суждением вполне мог бы согласиться и Марсель. Но если
представить себе, что при этом понимается и под опытом, и под знанием, если
взять контекст полной мысли в обоих случаях, то разница незамедлительно
будет обнаружена. Действительно, посмотрим в самом общем виде на опыт
физика как физика. Физик смотрит на отпечатки на фотобумаге, на стрелки
приборов и т. п. таким образом, что его восприятие детерминировано объек-
тивной ситуацией. Это — деперсонализированный опыт, имеющий именно
поэтому общечеловеческое значение. Положение стрелки прибора все воспри-
нимают более-менее одинаково: число для всех есть одно и то же число. А
личный опыт физика, его опыт как человека находится по ту сторону его опыта
как физика, вне стен лаборатории.
Мы различаем опыт специальный (например, сейчас мы говорили об опыте
физика) и опыт неспециальный, личный и человеческий. Существует явление
иррадиации специального опыта, его форм и приемов на сферу опыта челове-
ческого, личного. Пример тому — фигура Эйнштейна, задумавшегося в гости-
ной над картиной крутимых его ложечкой чаинок в стакане чая. Физик может
оставаться физиком и в обыденной жизни, вне лаборатории и университетско-
го семинара. Сегодня в эпоху массовой науки и сциентификации жизни обы-
денный человеческий опыт сильно обнаучен, «прошит» влиянием опыта спе-
циального. Тем не менее эти два основных рода опыта не совпадают и сегодня.
В случае философа — картина несколько иная. Опыт философа как специа-
листа тоже другой, чем опыт того же философа как человека. Особенно это
характерно для наших дней, когда фигура философа как оригинального мыс-
лителя, делающего свой личный опыт базой для своей мысли, соединяющего в
одно целое свою жизнь и свою мысль, практически исчезла. Но именно такой
сплав отвечает сути философии как образа жизни, как искусства мудрого и
подлинного существования. К такому единству особенно стремилась экзистен-
циальная философия. Ведь экзистенциальный философ — это мыслитель, ре-
шивший уничтожить пропасть между своим личным жизненным опытом и сво-
им специально-мыслительным опытом. В целом с уверенностью можно ска-
зать, что дистанция между этими двумя родами опыта в случае философа в
принципе меньше, чем в случае физика. А в случае экзистенциального фило-
софа она вообще должна стремиться к нулю. Конечно, наложение специально-
го опыта на опыт человеческий, личный существует и для философии. Но в
случае экзистенциального философа надо говорить скорее не об иррадиации
специального опыта, а о том, что такой философ, действуя как философ, экспе-
риментирует со своей собственной жизнью, личными решениями выявляя свою
мысль, чего не скажешь о философе-специалисте (например, в области логики
Heisenberg W. Philosophie: Le manuscript de 1942. P. 393.
438 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
или истории философии). Поэтому тезис об опытном происхождении позна-
ния выглядит совершенно по-разному в зависимости от того, что мы имеем в
виду — физику или экзистенциальную философию. Ведь в отличие от физика,
работающего в зоне, так сказать, несомненной объективируемое™, философ
экзистенциальной ориентации движется в необъективируемой реальности.
Суждения физика могут быть поэтому верифицированы стандартными мето-
дами. А в случае экзистенциальной философии речь идет о достижении дос-
товерности в сфере заведомо неверифицируемой. Марсель, например, говорит
об «экзистенциальном несомненном» (l'indubitable existentiel) как о достовер-
ном в мире неверифицируемого 51. Характерной чертой экзистенциальной дос-
товерности, отличающей ее от научной и обыденной, является то, что мы ею
не владеем, и достигается она не изгнанием субъективного, а его преображе-
нием. В экзистенциальной философии, как и в искусстве, важны качества че-
ловека как целостной личности. Можно, видимо, сказать и так: физическая
реальность равнодушна к добру и злу. А та реальность, к которой стремится
экзистенциальная философия, именно к этому различению и неравнодушна. И
поэтому оказывается, что нравственные качества души физика не так важны
для продвижения его физики, как в случае экзистенциального мыслителя для
успеха его дела. Но есть основания считать, что вершины теоретического ис-
кусства, чистая наука, как говорил Гейзенберг, также небезразличны к каче-
ствам познающего духа за пределами его профессиональной сноровки.
Итак, понятия опыта в физике и философии различаются. Физический опыт
квантифицируем и лишен признаков личности того, кто с ним имеет дело. В
философии и то и другое отсутствует, особенно в философии экзистенциаль-
ной. Поэтому опыт в философии ближе к художественному опыту, чем к опыту
в точных науках.
Работая в сфере неверифицируемого, экзистенциальный философ тем не
менее не может не выявлять условий его значимости. Для Марселя таким усло-
вием было «братское понимание» людей, да и всего живого (la compréhension
fraternelle)52. Это не абстрактная «идея». Нет, в основе такого понимания ле-
жит тезис о совпадении личных опытов разных людей, если они переживают-
ся на достаточной глубине. «Странным и чудесным открытием» Марсель на-
зывал обнаружение им такого соотношения: «Чем дальше, — говорит он, — я
пойду в действительно конкретном восприятии своего собственного опыта, тем
более буду способен достичь действительного понимания другого, его опы-
та» 53. Разные экзистенции как бы соединяются одна с другой, если они испы-
51 Marcel G. Présence et immortalité. P. 160.
52 Marcel G. Pour une sagesse tragique et son au-delà. P, 1968. P. 266.
53 Marcel G. Foi et réalité. P, 1967. P 17.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
439
тываются на достаточной глубине. «Глубина» здесь не означает что-то экстра-
ординарное, необычное. Нет, это повседневность, обычные вещи, но воспри-
нимаемые цельно и глубоко и в свете чувства братской причастности ко всем
людям и даже ко всему живому. Именно благодаря выполнению таких условий
опыт в неверифицируемом становится значимым, дорастает до «объективно-
сти», которая, правда, все равно мало похожа на объективность в науке. Если
назвать эти обычные, но глубоко переживаемые ситуации «экзистенциальны-
ми колодцами», то можно сказать, что на дне их при таких условиях возможна
вспышка света истины, которая ведь не может быть только моей, а значима для
всех. Более того, свет только тогда и светит, когда он передается от одного су-
ществования к другому.
Этот образ истины как передаваемого огня был центральным образом и у
Гейзенберга. Он его выражал словами Ст. Георге: «Тот, кто передает огонь, хра-
нит его...» 54. Теряя связь с «центральным порядком», человек остается только
со своим собственным отражением, которое обманывает его, обрекая на бес-
плодные блуждания. Замыкаясь на себе, человек не находит себя, а, напротив,
теряет и так, отсеченный от себя самого, говорит поэт, цитируемый Гейзенбер-
гом, он плывет по Вселенной.
В понимании религиозного опыта Гейзенберг близок к Марселю. Экзистен-
циальная философия естественным образом включает в себя этот опыт, в то
время как между ним и опытом физика остается значительная дистанция. Важ-
ное различие между Марселем и Гейзенбергом в этом отношении состоит в
том, что Гейзенберг подключал к ауре просветления, с этим опытом связанной,
не только высшие переживания в искусстве, особенно музыкальном, но и в
чистой науке. Прикосновение к высшему миру, пробуждающее в человеке чув-
ство своей причастности к нему, как говорит Гейзенберг, «сохраняет свое зна-
чение, особенно в наше время, для многих людей, которые, не принадлежа ни
к какому определенному религиозному сообществу, встречают другой мир впер-
вые, например, в звуках фуги Баха или в просветлении, исходящем от научного
познания» 55.
Эти слова Гейзенберга мы кратко прокомментируем. Во-первых, лишь в этом
месте его рукописи мы находим оправдание того, почему ее автор назвал ее
«чересчур личным» текстом. Нам эта характеристика не была понятна, когда
мы знакомились с ним вплоть до его последних параграфов. Но здесь Гейзен-
берг так описывает религиозный опыт, что становится ясно: он сам его лично
пережил. Он не говорит о нем понаслышке или как ученый-религиовед, оста-
ваясь по отношению к нему во внешней позиции. Нет, этот опыт ему знаком
54 Heisenberg W. Philosophie: Le manuscript de 1942. P. 376, 392.
55 Ibid. P. 377.
440 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
изнутри: «Я мог бы подумать в этой связи, — сообщает он, весьма, впрочем,
сдержанно, — об одной ночи, проведенной летом 1920 года в развалинах Пап-
пенхейма» 56. К сожалению, в данной рукописи ничего конкретного об этом не
говорится. Молчат и биографы физика. Единственное, что мы можем сказать
об этом событии, так это то, что, судя по позднейшему признанию ученого, его
религиозный опыт не был похож на то, что пережил Паскаль поздним вечером
23 ноября 1654 г., описав пережитое им в своем «Мемориале». Гейзенберг рас-
сматривал пережитое тогда Паскалем как пример веры в личностного Бога.
«Этот текст, — говорит о паскалевском "Мемориале" Гейзенберг, — не был бы
справедлив в отношении меня» 57. Но значит ли это, что представление о боже-
ственном у него ничего общего с тем, что называют личностным Богом, не
имело? Видимо, нет. Если, по свидетельству Гейзенберга, Бор не верит в «лич-
ностного Бога», если ему, как и атеисту Дираку, эта идея была чужда, то сам он
смотрит на эту проблему иначе 58. Действительно, когда Паули его прямо спро-
сил о том, верит ли он в личностного Бога, то Гейзенберг дал ему иносказа-
тельный, но ясный ответ. Он сопоставил понятие веры в такого Бога с понятием
такого отношения к «центральному порядку», когда оно может достичь такой
же глубины и интимности, как при общении одной человеческой души с другой.
Допустив такую интерпретацию веры в личностного Бога, он по сути дела отве-
тил утвердительно на поставленный Паули вопрос, хотя и внес в свой ответ
некоторую дистанцию по отношению к традиционной религиозной вере христи-
анского мира. Эта дистанция и прозвучала в его словах о том, что паскалевское
религиозное переживание, наполненное сердечной верой в личностного Бога,
не совпадает с тем опытом касания высшего мира, который знал он сам 59.
Во-вторых, представление о религиозном опыте, даваемом Гейзенбергом,
окрашено в тона платонистской духовности. Характеризуя вдруг открывшийся
высший мир как мир нам изначально знакомый, но забытый, Гейзенберг вос-
производит платоновскую тему затерянного в глубине души воспоминания о
ее небесной родине, которое внезапно пробуждается (Менон 81 b—86 b, Федон
72 е—76 е, Федр 250 b—d). И это пробуждение он рисует на манер Пруста,
когда запах или вкус (у Пруста вкус пирожного «мадлен») уносит нас в мир
56 Ibid. Р. 376.
57 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 327.
58 Там же. С. 213.
59 Дистанцию по отношению к христианству сам Гейзенберг незадолго до своей смерти
выразил в таких словах, адресованных его близкому другу К. Ф. фон Вейцзеккеру: «Если
бы кто-то намеревался сказать, что я не был христианином, то он бы ошибся. Но если бы
он хотел сказать, что я был им, то он бы преувеличил» (Cassidy D. С. Uncertainty: The Life
and Science of Werner Heisenberg. N. Y., 1992. P. 13).
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
441
давно позабытого, которое вдруг оживает. В-третьих, другой, отличный от на-
шего обычного мира, мир открывается сходным образом как в религиозном
опыте, так и в опыте встречи с искусством, прежде всего с музыкальным, а
также на вершинах научного творчества. Все эти переживания-встречи, по Гей-
зенбергу, указывают на один и тот же мир высших ценностей, причастность к
которому, внезапно открываемая, рождает чувство признательности и порыв
служения ему, дающие смысл всей жизни человека. Конечно, следует пола-
гать, что в этих просветляющих душу человека встречах открывающийся выс-
ший мир обнаруживается своими различными сторонами в случае собственно
религиозного опыта, вдохновения, связанного с искусством, и в случае научно-
го творчества.
В отличие от Гейзенберга, как мы уже говорили, Марсель не сближал про-
светление при открытии истин в науке с художественным вдохновением и с
религиозным опытом встречи с другим миром. Но как бы ни был далек фран-
цузский философ от естествознания и точных наук своего времени, он пони-
мал ценность настоящей науки. Настоящая наука, говорил он, хранит всю свою
ценность и достоинство, если не выдвигает непомерных претензий, как это
делает, например, психоанализ, претендуя на единоличное обладание ключом
к тайнам духовной реальности. В такого рода претензиях Марсель видел опас-
ное искушение для философа 60. Но в чистой науке в духе Бора или Гейзенберга
никакого искушения подобного рода нет, ибо здесь нет непомерных и неоправ-
данных претензий. Если Марсель не делал физику предметом своей философ-
ской рефлексии, то подобного нельзя сказать о Гейзенберге в его отношении к
философии. Эмоционально окрашенная атмосфера его занятий Платоном
создала у Гейзенберга устойчивый менталитет теоретика-платоника, понимая
под этим не эпигонское следование за философом античного мира, а позицию
разносторонне одаренного современного физика, осмысляющего не только фи-
зическую часть реальности, но и всю ее целиком, а значит, выступающего в
качестве философа. По Гейзенбергу, поток научного познания, набирающий со
временем и силу и масштаб, исходит в своих истоках, с одной стороны, из гре-
ческой математики и из греческой философии — с другой. И уже поэтому он
всегда осознавал нерасторжимую связь естествознания и гуманитарного по-
знания.
«Пересечения» Гейзенберга и Марселя в области, условно, «культурного
гумуса» весьма существенны и явно идентифицируются прежде всего в облас-
ти искусства вообще, и в особенности музыки. Музыка сопровождала всю жизнь
и Гейзенберга, и Марселя. Гейзенберг участвовал в школьном оркестре61, препо-
Marcel G. Les Hommes contre l'humain. P., 1951. P. 98.
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 43.
442 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к по cm структурализму
давал классическую музыку рабочим Мюнхена 62. Участие в молодежном
движении также не обходилось без музыки. «Гайдн и Моцарт, — говорит Гей-
зенберг, — вошли в нашу жизнь» 63. О значении музыки в духовной жизни и
философском творчестве Марселя можно говорить долго. Он и сам был ком-
позитором, импровизации которого записывались любителями музыки. Выс-
шие смыслы человеческой культуры, указывающие на ее трансцендентное
основание, оживали для него, как и для Гейзенберга, в первую очередь имен-
но в музыке.
Характеризуя общий «культурный гумус» двух мыслителей, нельзя не упо-
мянуть и о том, что Марселю была близка немецкая культура — Гёте, Рильке,
не говоря уже о музыке и философии Германии. Он свободно говорил по-не-
мецки, Германия была той европейской страной, с которой он находился в по-
стоянном творческом контакте. Мы не можем того же самого сказать о Фран-
ции и Гейзенберге, но такой несимметричности важнее то, что оба мыслителя
представляли высший слой европейской культуры, расцвет которой приходит-
ся как раз на время между двумя мировыми войнами. Достаточно прочитать
соответствующие страницы об этом времени и у Марселя, и у Гейзенберга,
чтобы убедиться в справедливости подобной его оценки. Оба мыслителя дос-
тигли пика своей творческой активности в эти годы. Открывающий эпоху экзи-
стенциальной мысли во Франции «Метафизический дневник» Марселя выхо-
дит в один и тот же год (1927) вместе с другим шедевром экзистенциальной
мысли в философии — мы имеем в виду «Бытие и время» Хайдеггера, — ив
этом же году Гейзенберг публикует свою знаменитую работу, в которой форму-
лирует соотношение неопределенностей м. Учитывая все сказанное, понима-
ешь, что синхронное возникновение квантовой механики в физике и экзистен-
циального направления в философии вряд ли простая случайность. Фундамен-
тальные диспозиции мышления не зависят от традиционных дисциплинарных
членений, как это верно подчеркивал, например, Фуко. Поэтому можно пред-
положить, что общие ментальные сдвиги, обнаружившиеся в таких разных и
прямо между собой не связанных областях духа, как физика микромира и фило-
софия человека, являются существенными факторами упомянутого резонанса65.
62 Там же. С. 350.
63 Там же. С. 43.
64 Heisenberg W. Uber den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und
Mechanik//Zeitschrift fur Physik. 1927. 43. S. 172—198.
65 Явление подобного резонанса можно прокомментировать такими словами Хлебнико-
ва: «Ведь это случается, что на расстоянии начинают звенеть струны, хотя никакой игрок
не касался их, но их вызвал таинственный звук, общий им» (Велимир Хлебников. Письмо
двум японцам // В. Хлебников. Творения. М., 1986. С. 604).
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
443
Сам Гейзенберг, говоря о возможном объяснении параллелизма между со-
временной физикой и современным искусством, подчеркивал, что скорее, чем
прямое влияние революционных перемен в науке, «можно допустить, что из-
менения, затронувшие основы современного естествознания, суть симптомы
глубинных изменений в самих основах нашего существования, а эти измене-
ния, конечно же, сказываются и во всех других сферах жизни» 66. Если здесь
заменить «искусство» на «философию», что вполне в данном случае оправдан-
но, то мы придем к тому же, о чем уже сказали: глубинные сдвиги в общих
условиях человеческого действия и мысли обнаруживаются в разных областях
духовной жизни, и уже поэтому явление, подобное отмеченному резонансу,
может иметь место.
Синхронное возникновение квантовой теории и экзистенциальной филосо-
фии также получает тогда свое объяснение. «Смещения в коренных условиях
нашего существования, — говорит Гейзенберг, — проявляются одновременно
во многих сферах» 67. Здесь только не надо мыслить в духе догматического
исторического материализма, сводя базис этих сдвигов к «производительным
силам», изменения в которых меняют «надстройку». Способ мыслить и видеть
вещи также входит в состав «коренных условий нашего существования». Бро-
сается в глаза, кстати, что Гейзенберг здесь употребляет слово «существова-
ние» — основное слово философии экзистенциализма или, как ее называли,
философии существования.
Обдумывая причины резонанса творческой мысли Марселя и Гейзенберга,
нельзя не отметить одной общей черты в их биографиях. Марсель лишился
матери, когда ему еще не было четырех лет. Отец женился на сестре умершей,
целиком посвятившей себя воспитанию мальчика. В результате возникла ситу-
ация «тайной полярности между невидимым и видимым» мирами, определив-
шая духовно-интеллектуальный поиск Марселя. Умершая мать «таинственным
образом — говорит он, — всегда была со мной» 68. И это не было простым вос-
поминанием, ибо маленький мальчик не мог помнить свою мать, так как был
слишком мал, когда она умерла. Но ее воздействие на него изнутри его души,
средствами его собственного духа, было и сильным и неотступным. И такое
действие, как знак присутствия (présence), было ничуть не слабее воздействия
воспитывавшей его тети. Глубокая пронзенность этой полярностью и стала,
пожалуй, главным истоком экзистенциальной мысли Марселя, включая его
театр, который даже опережал ее философское развитие.
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 290.
67 Там же. С. 299. Курсив мой. — В. В.
68 Marcel G. Regard en arrière // Existentialisme chrétien: Gabriel Marcel. Présentation de
Etienne Gilson. P., 1947. P. 302. Подробнее об этом см. ниже: С. 767—769.
444 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
Если мы вспомним, что Гейзенберг чуть ли не с детства был заворожен ми-
ром атомов, то найдем в принципе ту же фигуру полярности между видимым и
невидимым мирами. Парадигматическим образом ее разрешения выступали
для него платоновские структуры, знаменитые треугольники, из которых со-
ставляются правильные тела (тетраэдр, икосаэдр и т. д.), отождествляемые с
видимыми физическими стихиями. Здесь невидимое однозначно задано как
математическая структура, лежащая в основании видимого. И вся задача опре-
делена как переход от невидимых структур к видимым явлениям. Удивитель-
ное сходство в базовой ориентации поиска у обоих мыслителей и делает воз-
можным резонанс их мысли на уровне развитых построений в физике у одно-
го, в философии — у другого.
Напряжение этой полярности определяло творческий поиск обоих мысли-
телей. В минуту творческого порыва, сразу после создания матричного вариан-
та квантовой механики, Гейзенберг увидел бесконечной красоты картину не-
видимого мира, отобразив его на языке математики. Марсель говорит, что зрение
невидимого есть «слепая интуиция» и она, конечно, светила ему тогда, когда
он создавал свои пьесы и философские сочинения. Только средства, которые
использовались здесь, были не математические, а философско-рефлексивные.
Можно предположить, что основной причиной резонанса экзистенциаль-
ной философии и квантовой физики выступает «всплеск» иудео-христианско-
го, библейского компонента в составе фундаментальных начал культуры Евро-
пы. При этом эллинское наследие как другое ее начало как бы отступает на
второй план. Преодоление классического рационализма, равно как и класси-
ческой физики, обнаруживает как раз действие упомянутого культурного
«всплеска». Он, видимо, был общим основанием для синхронных мутаций в
философии и физике в 20-е годы XX в. Эллинская и библейская традиции «ра-
ботают» в интеллектуальной истории духа асимметрично. Никогда их полной
гармонии не было достигнуто. Никогда их окончательный синтез не удавался.
Всегда преобладало то одно, то другое начало. Поэтому нельзя считать доста-
точным философским основанием для возникновения квантовой механики одно
лишь обращение к Платону (случай Гейзенберга), каким бы важным оно ни
было 69. Это обращение происходило на фоне роста значимости экзистенци-
альной мысли сначала для Н. Бора, а через него и для Гейзенберга. Но еще
В методологию научного поиска у творцов новой физики XX в. внес значительный
вклад и позитивистский мотив (принцип наблюдаемости), который в силу его подчеркнуто
эмпиристской ориентации, пожалуй, даже легче связать с волюнтаристской теологией, а
тем самым и с библейской традицией, чем платонизм с его рационализмом. Толчком для
понимания Гейзенбергом недостаточности позитивизма в качестве основания для методо-
логии физики послужила, видимо, его беседа с Эйнштейном весной 1926 г.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель
445
важнее то, что сама атмосфера 20-х годов была пропитана этими новыми
веяниями.
Анализ отмеченного нами резонанса в творческих биографиях Марселя и
Гейзенберга подводит к такому выводу. Одним из его условий является то, что
в это время (20—30-е годы XX в.) и физика подошла к своим границам, и фи-
лософия — к своим, выйдя за свои традиционные рамки. Частично эти грани-
цы совпали, если вспомнить, что и Гейзенберг, и Марсель одинаково отказыва-
ются от постулатов классического рационализма нового времени, сформули-
рованных Декартом. В творчестве Марселя философия сильно потеснила свой
несколько окостеневший «специализм», породнившись с искусством драмы и
со свободной рефлексией внутри целостного личного духовного опыта. В слу-
чае Гейзенберга физика изнутри впустила в себя метафизическое, то, что недо-
ступно для объективации в классике и вынуждает ставить вопрос о границах
физики и даже науки, поскольку возникает законное теперь вопрошание о вхож-
дении субъекта в объект познания и встает вопрос о том, как связать свободу
самого исследователя с тем, что он научным образом описывает. Таким обра-
зом, возникла ситуация включения физика в физику. Горизонт традиционной
объективной науки оказался преодолен, пусть и до некоторой лишь степени. И
вот когда эти независимые потоки изменений в физике и философии, условно,
выходят из своих вековых берегов, то в зонах подобного «разлива» и обнару-
живаются «всплески» резонанса.
МЕТАМОРФОЗЫ АБСТРАКТНОЙ СВОБОДЫ
Гёц в пьесе Ж.-П. Сартра «Дьявол и Господь Бог»
Художественным это произведение не назовешь. Антиэстетизм — неизбеж-
ная плата за крайности этицизма. Оголенно интеллектуальное этизирование
или морализирование в театральном костюме, лишенное всякой непосредствен-
ности чувства и жизни. По сцене ходят обнаженные до костяка категорий пер-
сонажи-смыслы. Разумеется, все они страдают избытком мысли (исключая тем-
ный народ). От нее они шипят, как цинк в кислоте. И бурно исчезают. Все пер-
сонажи — абстрактные этические экспериментаторы. Деятельные, бездонные
саморефлектики — «сартрики» — порождения цепкого и бесстрашного мыш-
ления философа Сартра. Действие пьесы начинено диспутами современного
духа с самим собой, хотя официально оно разыгрывается в смутное время сред-
невековой Германии. Трещат копья тезисов и антитезисов. Стучат стрелы аргу-
ментов о щиты последних ценностей: Бог, Человек, Любовь. Кажется, что во-
юют не люди, а ценности. Слышен треск ломаемых смыслов.
Из всех персонажей наиболее богат сартровской критической диалектикой
духа Гёц. Три действия драмы — три ипостаси Гёца. Они сливаются в един-
ство. И рождают четвертую. Но и она умерщвляется. Круг замыкается, и центр
обнажается: одиночество на земле с людьми, одиночество на земле с ненавис-
тью и любовью.
Но не будем опережать время. Хотя вся пьеса — попытка оценить настоя-
щее и прозреть будущее. Видно, что это не по силам рефлектирующему без
меры и предела сознанию. Оно и само это сознает.
Действие первое. О Гёце слышатся только отголоски: ублюдок возлюбил
зло. Вот сталкиваются вождь бедноты булочник Насти и мятущийся священ-
ник Генрих.
Настй консервативен в своей революционности. Прост: Зло — от людей,
Царствие Божие — будет на Земле. Надо только уничтожить злых. Нужна кровь
Метаморфозы абстрактной свободы
447
и ложь, чтобы через семь лет воцарились правда и добро. «Право на любовь
мы завоюем кровью». Нельзя стать добрым, ускользнув от зла.
Генрих: все от Бога. Царство Божие — на небе. Все — к лучшему. Зло —
видимость. Все творят зло, но под руками Господа все оказывается добром.
Генрих ищет настоящую веру — веру в трансцендентное спасение. Впрочем,
его убеждения все время колеблются.
Настй и Генрих — антиподы.
Постоянству убеждений Настй отвечает постоянство сомнений у Генриха.
Голос говорит одно, рука делает другое. Все ситуации Генриха — безнадежно
решающие. Они рвут его на части. Тень Гёца, он умирает от его руки. Генрих
обнажает то, что Гёц скрывает. Гордость не позволяет ему быть сомневающим-
ся. И вот бедный Генрих осужден на свободу. Он сознает ее и мучается ею. То
ему мерещится, что он — избранник божий, то, что всегда сам выбирает себя.
Но вот и сам Гёц. Цветущий преступник и злодей. Злодей из бескорыстной
любви ко Злу. Зло ради Зла. Сознательное Зло до конца. Гёц — Злая Сила. И
Сила, и Зло. Любит убивать любовь и обнимать ненависть. Маленькое зло
ненавистно большому Злодею Гёцу, чуткому ко Злу. Всякое человеческое же-
лание, опасение есть сигнал к расправе и преступлению. Гёцу нужны стоны,
чтобы душить, слезы, чтобы терзать, просьбы, чтобы жечь, молитвы, чтобы
убивать. Указывающим перстом Зля для него — вздох угнетенной твари
человеческой. Он сладострастно смеется, услышав мольбы и вздохи: они
освещают дорогу Зла, настоящего Зла. А не того, за которое можно получить
хорошенький куш.
Гёц часто объясняет сам себе: «Добро уже сделано богом... А я люблю вы-
думку». Удачей он считает всякое нетривиальное мучение. Заставляет кале-
ным железом исповедаться и принять исповедь, столкнув Настй и Генриха.
Иногда роняет замечание о природе зла: «Во Зло веришь всегда потом, когда
совершишь». Да, он искушен в психологии зла.
Гёц демонстрирует свою богоборческую гордость. Только бы был достой-
ный противник. Только конкуренция с Господом его забавляет. Сладостно рас-
пинать Бога и искушать Его. Правда, сладость подпорчена безверием. Поддель-
ная. Но сатанизм Гёца — лишь вывороченная наизнанку религиозная мораль-
ная догматика. И поэтому абстрактный атеизм Гёца, не верующего ни в имма-
нентного, земного бога Настй, ни в трансцендентного Бога Генриха, находится
еще в сфере религиозного духа, зависит от него. И когда он бросает кости,
чтобы прижать Бога к стенке и взять его в соответственники, он попросту мо-
шенничает.
Ничем не ограниченный произвол гордой субъективности сжигает Гёца.
Сначала — произвол Зла. Прихоть делать Зло ради Зла. А затем — разочарова-
ние во Зле. Оно недостаточно свободно. Он устал от Зла, привык к нему. Рож-
448 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
дается искушение послужить Добру. Ради Добра. И Гёц фальшивит, чтобы по-
пробовать новую забаву и не скучать в крови.
Сартр знает разгадку смерти — человек стал олицетворением. Голой ро-
лью. Ничто. Ничтожна его прихоть, меняющая роли.
Роль — вот реальность человеческого ничто. И вся пьеса Сартра — роле-
вая, масочная, интеллектуально-игровая. Каждый персонаж задуман — и осу-
ществлен. Поэтому он — ничто и сознает это.
Рафинированный Злодей, Гёц ограничен в своей свободе неполнотой свое-
го атеизма. Снятие абстрактности его сатанинского атеизма есть саморефлек-
сия его отвлеченной свободы. Она тянется как единосущая основа Гёца на про-
тяжении всех трех действий. Атеизм Гёца восходит к конкретности. Дополня-
ется самосознанием. Только в конце он ему поразится, изумленно воскликнув:
«Бог мертв!» Но сначала он преодолевает эту абстрактность тоже абстракт-
но — в абстрактном Добре. Отрицание Бога наращивает свою конкретность,
следуя по ступеням действия пьесы.
В это время Генрих стенает в муках сомнения. Трансцендентный Бог оказы-
вается только сумасбродом, раздающим прощение по своей прихоти. Чем-то
вроде небесного варианта Гёца — земного дьяволо-бога.
Абстрактная свобода сдирает рукой Гёца маску Зла. Свобода ради Свободы.
Сначала она выбрала Зло ради Зла. Не удовлетворилась им. И вот новая мас-
ка — Добро ради Добра. Так движется сосредоточенная в Гёце театрализован-
ная диалектика абстрактной свободы.
Действие второе. Абсолютная мощь всеотрицательной Субъективности в
лице Гёца нарядилась в маску Добра. В Гёца плюют. Бьют. Он — терпит. Зовет
всех слуг «братьями». Моет им ноги. И получает удесятеренное презрение. До
брезгливости. Злорадное презрение, недоверие и равнодушие окружают но-
вую маску.
Добро ради Добра оказывается подчиненным той же схематике, которую
мы уже видели раньше. Это — схематика абстрактного абсолютизма Идеи (Зла
или Добра, все равно): негативизм, человеческий негативизм. Отрицание чело-
века, другого и себя. Сначала другого. Потом себя. И наоборот. Раньше Гёцу
нужно было противодействие людей, и теперь тоже. Ведь Добро делается на-
перекор Злу и маленькому добру корыстолюбцев.
Гёц по-прежнему спорит с Настй. Протестует против извращения идеи Добра.
Утверждает его сиюминутность. Нельзя ждать Добра: ожидание Добра после
крови за него — до добра не доведет.
Гёц избирает Любовь. Она ему нужна здесь и сейчас. Не после войны за
Любовь. Так Гёц начинает светиться лучами города Солнца. В нем реализова-
лось абсолютное Добро как абсолютная Любовь.
Метаморфозы абстрактной свободы
449
Сартр так ясно ведет нить пьесы, что мы сразу видим, не дочитывая до кон-
ца второе действие, что чистое абстрактное Добро так же мертво, как и чистое
абстрактное Зло. От чистого Добра слезы текут не рекой, а океаном. Вот она,
конкретизация атеизма на первых порах. Если от Зла — зло, то от Добра зло
еще злее. В чем же дело? — Да, дело все в «большой букве». В «большой бук-
ве» Зла и Добра: они бесчеловечны. Нечеловечны. Потому, что абстрактны.
Они равно мертвы. Вот и все. Деятельный и бесконечно свободный рассудок
Гёца сознает это. Но он раскрывает эту природу абстракции только в после-
днем действии. В ясности себя рефлектирующего духа мы не сможем отказать
Гёцу, когда он говорит: «Главное —я не хотел быть человеком». Абстракция —
вот исток бесчеловечности. И не важно, Злом или Добром разукрашена ее мер-
твая личина.
Сартр проникает до корней человеческой судьбы в современном мире именно
здесь. Эти корни — бесцветны и бледны. Но они не перестают от этого быть
корнями. Запуская свою фантасмагорию чистых масок, Сартр оправдывает и
развертывает структуры недоверия к оголенному, обнаженному этицизму. Чис-
тый абстрактный этицизм — опасен. Сартр приближается своей отрицатель-
ной этической диалектикой к какой-то простоте правды. Правда, все его персо-
нажно воплощенные правды оказываются только попытками правды, омертв-
лены абстракцией.
Быть может, это только крик самого творчества, роковым образом не совпа-
дающего сейчас с жизнью. Культура в этом крике обнаруживает себя своего
рода отрицательной теологией относительно жизни человека как бога. Этот
чистый романтизм Сартра настоен на чистоте рефлектирующей мысли.
Вернемся к Гёцу. Гёц терпит поражение за поражением. Индульгенция по-
беждает поцелуй прокаженного в губы. Гёц видит, что оптовый спаситель так
же ужасен для людей, как и оптовый злодей. Но Гёц еще не исчерпал прихоти
любить. Надо завоевать покорность и любовь. Намазав распятие своей кро-
вью, обливаясь ею, он кричит: «Кровь Христа!»— Народ сникает перед чу-
дом. Покорен. Еще одно мошенничество ради свободы. Путь к Любви — Горо-
ду Солнца — открыт.
Действие третье. Оно начинается сразу с Ипостаси Любви в ее осуществле-
нии. Правда, скоро приходит смута: счастье в городе Солнца довело всех ос-
тальных до отчаяния. Счастье — простенькое, послушное.
Городу грозит смерть, если он останется верным Любви и не вступит в вой-
ну. Эта Любовь не может победить мира вражды. Она сама — его пресная из-
нанка. Любовь с большой буквы, как и Зло, и Добро, — человечески смертель-
на. Толпа восставших просто уничтожает город Любви.
Гёц пытается остановить мятеж. Бесполезно. Ненависть прочнее господ-
ских басен о Любви.
29 - 3357
450 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
Гёц в раздумье. Оценивает пути своих масок. Признается в неискоренимой
любви к волчьей стае. Взывает к поражениям. «Хочу разлуки, хочу позора, оди-
ночества, презрения. Человек создан, чтоб уничтожить в самом себе человека
и отдаться черному телу ночи». Одиночество Добра, одиночество Зла, одино-
чество Любви —три ипостаси Гёца. Всюду — Одиночество. Может быть, толь-
ко оно и не есть маска? Только оно — реальное тело, на которое Гёц по очере-
ди надевает маски Зла, Добра, Любви?
Поражение Любви приводит Гёца к четвертой маске — аскезе. Человек —
ничто. И его надо уничтожить прежде всего в себе самом. «Уничтожу человека
в себе, ведь человека ты создал ради уничтожения», — говорит он, обращаясь
к Богу. Не будем допытываться, к кому именно. Бог — ночь. Ночь бед, ночь
незнания, ночь одиночества.
Аскеза. Здесь выступает инвариантом все тот же негативизм Гёца. Сначала
он был негативизмом Добра, затем — Зла, сейчас — самого себя, своих жела-
ний. Последняя забава. Последняя масочка уставшего уже от всех масок Гёца.
Абстрактная свобода, осуществляя себя, исчерпывает себя. Близится, бли-
зится ее наполнение и конец, конец этой бездонной данаидовской бочки.
Аскеза обострила саморефлективные прозрения Гёца. «Я не человек, я нич-
то. Есть только Бог». Но не это тайна Гёца. Это только ипостасное, масочное
заверение. Тройной негативизм Гёца целиком умещается в его свободе. Нега-
тивизм сливается с абстрактной свободой. Абсолютная отрицательность, абст-
рактная свобода как чистая негативность сливается с чистой Субъективностью.
Ничто. Человек как ничто, как нет-миру-и-человеку. Вот четвертая ипостась
Гёца. Но не устал ли он душить человека?
Прозрения Гёца достигают предела. Дно. Его Ролевая природа становится
для него очевидной. «Я только играл роль». Абсолютную роль. Маски сброше-
ны: Зло, Добро, Любовь, Отрицание (Аскеза). Тотальное зло (настоящее!) —
от Роли. Превращение человека в Роль — вот бледный корень человеческой
смерти. Любая Роль — смертельна, бесчеловечна. Роль хитра. Роль — зарази-
тельна: «бедняги, как обезьяны, подражали мне во всем, а я, как обезьяна, пе-
ренимал ужимки добродетели».
Гёц осознает себя «онтологическим» предателем ради абстрактной свобо-
ды, «онтологическим» преступником во имя ее. Ему ясно: абстрактная свобо-
да — его центр — обнажена благодаря своей собственной диалектике грима-
сой все омертвляющей Роли. Роль — Абстракция. Вот корень бесчеловечно-
сти, выхваченной диалектическим духом Гёца из темной земли его души. Гёц
прошел сквозь бесчеловечность во всех ее масках. И вот «исхода нет», — гово-
рит Гёц. Добро — синяя птица. Любовь — тоже. Бога нет, человек — ничто.
Гёц формирует дилемму: «Если есть бог, то человек ничто; если существует
человек...» Сказать «то бог — ничто» ему мешает бегство Генриха. Эту дилем-
Метаморфозы абстрактной свободы
451
му ставил и Бакунин. Это круг, из которого никто не выйдет, если сам не сдела-
ет выбора.
Гёц вместе с Бакуниным выбирает человека. Но этот выбор — выбор лишь
абстрактной свободы. Гёц ее выбрал с самого начала. Человек — этическая и
всяческая свобода. Но как ее исчерпать в качестве абстрактной и негативной?
Кажется, Гёц приближается к этому.
Итак, бог мертв. Бог, небо — только «дырка», только «отсутствие», только
«одиночество людское». «Нет ничего, кроме людей» — вот как реализовалась
абстрактная свобода Гёца. Гёц хочет жить. С самого начала.
Комедию Добра и Любви он завершает убийством Генриха. Кажется, что
Гёц от Зла, Добра и Любви приходит просто к злу, добру и любви. Кажется, что
происходит их деабсолютизация. Крах метафизики. Гёц жаждет человеческой
обыденности. Ему надоели Большие Буквы. Он хочет быть с людьми — с их
маленькими злом, добром и любовью. Ему больше не хочется своего Одиноче-
ства. Кажется, что в Гёце рушится гордость. Все пожирающая гордость субъек-
тивного духа. Гёц хочет быть как все. В конце концов он соглашается на то,
чтобы стать полководцем. Снова виселицы. Что ж, «люди нынче рождаются
преступниками. Я должен взять на себя часть их преступлений, если хочу заво-
евать хоть часть их любви и добродетели».
Гёц конкретизирует свой атеизм. Доводит его до конца. Сознает его и заос-
тряет, обращаясь к своей земной свободе и земной зависимости. Он принимает
мир как он есть. С его жизнью, с его смертью. Гёц-богоборец смиряет свою
богоравную гордость. Гёц как будто преодолел всю религиозность. Перешел
от Больших Букв к маленьким. Его религиозность исчезает со снятием абст-
рактности его свободы.
Правда, невеселое это принятие мира и человека. Не Зло, а зло. Не Добро, а
добро. Смерть не страшна, раз «там» ничего нет. А ведь именно сомнение на-
счет «там» внушало страх смерти Гамлету. Вот он — завершенный, доведен-
ный до конца атеизм, к чему всегда стремился Сартр.
Увы, смерть бога не спасает Гёца от одиночества. Царствие человека от-
крывается смертью человека. Пусть так — Гёц это принимает! Одиночество —
непобедимо. Пусть так, Гёц это принимает!
У свободы нет конца. Поэтому его нет и в пьесе Сартра.
29*
ИДЕОЛОГИИ УХОДЯТ, ЛЮБОВЬ ОСТАЕТСЯ «
Не важно, что одни идеологии уходят и приходят другие. Важно, что если
внимание ума невозможно отвлечь от них (ведь в них представлен набор идей,
близких данному обществу в конкретной исторической ситуации), то не дать
прилепиться к ним всем сердцем трудно, но все-таки возможно. Жизнь и твор-
чество Альбера Камю подтверждает это.
А. Камю — не неизвестная фигура в нашей критике, литературоведческой и
философской. О нем писали С. И. Великовский, Е. П. Кушкин, С. Г. Семенова,
Н. Ржевская, А. М. Руткевич, В. В. Шервашидзе и др. Книга С. Фокина не по-
вторяет уже сказанное о нем, хотя и использует предшествующие исследова-
ния его творчества. На наш взгляд, ее характерной особенностью является рас-
смотрение жизненного и творческого пути Камю в контексте французской и
отчасти мировой культуры и литературы. Фокин справедливо выделяет три
основные фазы эволюции взглядов французского мыслителя: абсурд, бунт,
любовь (С. 11). Верно подмечены и некоторые базисные проблемы, направляю-
щие поиск Камю. Это прежде всего столкновение нигилизма с онтологически
насыщенным переживанием темы любви, которая венчает собой его творчес-
кий и духовный путь, хотя скрыто присутствует с самого начала (С. 309—310).
Достоинством рецензируемой книги является то, что ее автору удается, пусть
и не без некоторого порой неравновесия, сочетать в своем исследовании как
философско-концептуальный, мыслительно-духовный план, так и план эсте-
тико-литературный. В творчестве Камю оба они органично соединены: «Дума-
ют только образами. Если хочешь быть философом — пиши романы» (С. 26—
27). Это фраза из «Записных книжек» 1936 г., которую Камю повторит, напри-
мер, в рецензии на «Тошноту» Сартра. Формула Стендаля («если я не ясен,
весь мой мир уничтожен», с. 197) есть также сознательное кредо и самого Камю.
Как бы ни открещивался он от характеристики его как экзистенциалиста (а он
1 Рецензия на книгу: Фокин С. Альбер Камю: Роман. Философия. Жизнь. СПб.: Але-
тейя, 1999. Ссылки на нее даются после цитат в круглых скобках.
Идеологии уходят, любовь остается
453
не мог этого не делать, ибо для него экзистенциализм, по сути дела, сводился к
Сартру), однако тем не менее он принадлежит к истории экзистенциальной
мысли. Кстати, Фокин рассказывает историю включения Камю в «обойму»
экзистенциалистов: он был одним из авторов послевоенного сборника «Экзис-
тенция» (1945), напечатав там «Заметки о бунте» (С. 232). Интересно и убеди-
тельно анализирует он и более известные сюжеты, в частности спор с Сартром
в связи с его историцизмом. Фокин верно отмечает, что преодоление Камю
ницшеанства и нигилизма совершается как раз через сознательное усвоение
классицистских ценностей — ценностей разума, рационализма, но не как рас-
судочности, а как именно «высокого разума». Кстати, отметим, что термин «рас-
судочность» в контексте описания основных характеристик французской тра-
диции классицизма в связи с Камю не слишком удачен. На наш взгляд, лучше
было бы здесь говорить о «разуме» или даже «рациональности»: ведь термин
«рассудок», по крайней мере после Гегеля, получил весомые негативные кон-
нотации, которые в данном случае автор не стремится обнаружить и тем более
подчеркнуть. Возможно, что незначительные неточности в философской тер-
минологии обусловлены тем, что автор книги о Камю не является представите-
лем цеха философов, будучи профессиональным исследователем литературы
на ее стыке с философией. Это обнаруживается также и в том, что он порой
слишком большое, на наш взгляд, значение придает, условно говоря, «лингви-
стическому» аспекту в ущерб концептуально-мыслительному. У Камю, как у
классициста, они, как правило, находились в гармонии. Конечно, подобный
«лингвоцентризм» сам имеет целую традицию своего обоснования как во фран-
цузской мысли, так и, например, у позднего Хайдеггера. Но к Камю это не
относится — у него человек не растворяется в структурах языка. Презумпция
гуманистического персонализма у него перевешивает автономию «языка» или
«жизни». Для обоснования самой «эстетики любви» онтологии языка или даже
жизни недостаточно — здесь участвуют и другие «трансценденталии».
Фокин удачно раскрывает двуединую структуру творческой активности
Камю — мыслительно-философскую и эстетическую. Так, например, он пока-
зывает, что для Камю пределы «абсудрной мысли» суть столь же и пределы
«абсурдной эстетики» (С. 158). С каждой новой фазой своей духовной эволю-
ции Камю меняет и свою эстетику. Преодоление нигилизма, как верно, на наш
взгляд, подчеркивает Фокин, начинается с преодоления мировоззрения абсур-
да, свидетельство чему мы находим в «Письмах к немецкому другу» (1943—
1944) (С. 171). Хотя Камю по-прежнему считает, что высшего трансцендентно-
го смысла в этом мире нет, но он теперь верит, что есть все-таки то, «что имеет
смысл». Это — сам ищущий смысла человек. Весь этот поворот Камю условно
может быть обозначен не только как философия «бунта», но и как эстетика
«нового классицизма» (С. 172).
454 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
Основной конфликт, определяющий внутренний динамизм творчества
Камю, — это столкновение художника-мыслителя с идеологией как систе-
мой готового нормирующего мировоззрения. Идеология — это не просто си-
стема идей, маскирующих волю к власти и интересы определенной социаль-
ной группы, это еще и образ жизни, структура повседневности общества, в
котором она распространяется. Любое общество не обходится без лицеме-
рия, это одна из его опор. «Я вот знал одного писателя-атеиста, — рассказы-
вает Жан-Батист Кламанс, герой "Падения", — который каждый вечер мо-
лился богу»2. Тут же он дает и банальное объяснение парадокса: «Надо из-
брать себе господина, так как бог теперь не в моде». Моды на идеи и богов
меняются, а вот лицемерие как один из пилонов общественного здания стоит
себе и стоит. И будет стоять. Лицемерие интеллектуала, властителя дум, к
слову которого прислушивается нередко вся страна, а то и мир, еще неприг-
ляднее, чем лицемерие простого обывателя. Для Камю оно особенно мерзко.
Герой «Падения» обвиняет в нем не столько других, сколько самого себя: «Я
все твердил: "Свобода, свобода!" Я намазывал ее на тартинки за завтраком,
жевал целый день... Этим великолепным словом я мог сразить любого, кто
мне противоречил, я поставил это слово на службу своих желаний и своей
силы» 3. Это и есть свобода, превращенная в идеологию, в послушное орудие
для расправы со своими оппонентами. Диалог заменен в этом случае, как
говорит Камю, «полемикой»4, когда все предрешено и нужно только техно-
логически провести решение в пользу сильного, инструментально более обе-
спеченного. Когда Камю писал свое «Падение» (1956) (звучит двусмыслен-
но, но оставим этот дефект речи), то, видимо, живо помнил, как Ж.-П. Сартр,
идеолог левого гуманизма во Франции («экзистенциализм — это гуманизм»),
пером своего ученика, как мальчишку, распекал его за то, что он осмелился
восстать в «Бунтующем человеке» (1951) против идеологического культа ис-
тории ради ее «винтика», бренного человека с его трудно ему дающимся до-
стоинством. Падение Камю в глазах вождя экзистенциалистов состояло в том,
что он осмелился поставить наивное человеческое сердце с его верностью
элементарной морали выше якобы безупречной логики ума, вещающего от
имени самой Истории. Но Камю по натуре, по типу личности был персонали-
стом, это раз, и художником — два и поэтому не мог не отстаивать прав как
конкретного индивида, так и природы с ее нечеловеческой красотой на не-
2 Камю А. Избранное. М., 1969. С. 452.
3 Там же.
4 «Без диалога нет жизни. Но в самой большой части мира диалог сегодня заменен
полемикой» (Camus A. Le témoin de la liberté // Camus A. Essais. Paris, 1965. P. 401). Для
экономии места в дальнейшем мы не будем указывать, откуда взяты отдельные слова Камю,
которые как цитаты везде даны в кавычках.
Идеологии уходят, любовь остается
455
совпадение с любой самой разумной «тотальностью», проектируемой той или
другой идеологией.
Без гармонии жизни и мысли, творчества и поступка, для восприятия кото-
рой и нужен такт художника, Камю жить и мыслить не мог. Камю, как справед-
ливо говорит С. Фокин, «ищет меру», в конечном итоге «закон», который мог
бы умерить бунтарские порывы человека» (С. 274). «Между дисциплинами,
которые создаются человеком для понимания и любви, нет границ. Они прони-
кают друг в друга, сливаясь в одной тревоге» 5. Эти слова кажутся нам глубоко
проникающими в личность Камю, твердо и с молодых лет не расположенного
к религиозной вере, но зато полного метафизического беспокойства. Тревож-
ная взволнованность сердца и ума в этой ситуации, получившей стандартное
обозначение у Ницше («смерть Бога»), приобретает у Камю, его страстного
поклонника, свои характерные только для него тона и оттенки. Певец «Зарату-
стры» прежде всего и больше всего озабочен падением величия человека в
современной ему цивилизации Запада, его предельным измельчением, стира-
нием лица и творческой оригинальности. В целом Камю принимает эту озабо-
ченность, но вносит в нее свои коррективы. Для него, причем с годами все
сильнее, важно не столько величие человека, сколько стремление разделить с
ним боль, помочь ему в его борьбе за свое достоинство. Камю отчеканивает
свою формулу высших ценностей — справедливость и красота. Это уже не то,
что Ницше выдвигал в качестве якобы преодолевающих нигилизм современ-
ной цивилизации ценностей («сверхчеловек» и «вечное возвращение»).
«Смерть Бога», вызвавшая попытки его замены с помощью разума, морали,
культа общественного блага и счастья большинства, обожествления самой ис-
тории как самоцели, только усилила тревожные симптомы нигилизма. Как го-
ворит Камю, подводя итог своему анализу проблемы нигилизма у Ницше, за-
ботой бунтующего человека, «после того как он ускользнет из тюрьмы Бога,
будет построить тюрьмы разума и истории, завершая таким образом камуфляж
и освящение того нигилизма, который Ницше надеялся победить» 6.
Преодолел ли сам Камю нигилизм в своей концепции «бунта»? Ясно, что в
мировоззрении человека «абсурда», с раскрытия которого Камю начал свою
эволюцию художника-мыслителя, нигилизм не преодолевается. Камю взял у
Кьеркегора и Шестова понятие абсурда, но отнял у него его прямую связь с
верой: «Для Шестова, — пишет Камю, — разум — тщета, но есть и нечто сверх
разума. Для абсурдного же ума разум тоже тщетен, но нет ничего сверх разу-
ма» 7. Свою закрытость по отношению к возможности веры, априорное неве-
Камю Ф. Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство. М., 1990. С. 77.
6 Там же. С. 179.
7 Там же. С. 42.
456 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
рие в веру Камю оправдывает набором типичных нигилистических клише.
Например, нежелание допустить сверхразумный мир оправдывается им тем,
что это было бы изменой беспокойству и неудовлетворенности, выбранным им
в качестве безусловных ценностей человека. «Вечность» для него не только
«непостижима», но и полна насыщающего «удовлетворения», даже «покоя» —
в переводе А. М. Руткевича (в оригинале: éternité satisfaisante)8. Камю понял
мысли и рассуждения Кьеркегора и Шестова, сделав их предельно близкими
своим, но, по нашему мнению, в глубину опыта этих людей он все же не про-
ник, быть может, даже не мог проникнуть, будучи с самого начала «закомплек-
сованным» по отношению к самой возможности для себя веры 9. Как метко
заметил Р. Кийо, знавший Камю не понаслышке, «в его молодые годы религия
была для него или занятием старушек, своего рода развлечением перед лицом
смерти, или же неопределенным выражением порывов юности к чему-то более
высокому, чем она сама» ,0. И хотя с годами и опытом жесткость неприятия
религиозной веры у него несколько смягчалась, однако в целом эту позицию
он сохранял всегда. С точки зрения нигилистической логики, с позиций после-
довательного ницшеанства он, конечно, совершал ошибку, оставляя островок
традиционной морали в обезбоженном мире. Но тем не менее, по крайней мере
начиная с фазы «бунта», он отстаивал метафизическую ценность справедливо-
сти как опоры морального сознания.
Ввиду сказанного, мы можем говорить о попытке преодоления Камю ниц-
шеанства именно в постабсурдный период. Призывая нас быть «адвокатами
Ницше», он приходит в конце концов к тому, чтобы прямо сказать, что «повод
для своих действий» нацисты могли найти в его учении. «Невольная ответ-
Там же. В связи с этим вспоминается спор Бердяева с Шестовым. «Напрасно вы дума-
ете, — пишет он Шестову, — что состояние верующего не трагично, а трагично лишь со-
стояние неверующего. Как раз наоборот. Верующий большим рискует. Верующий рискует
проиграть вечную жизнь, а неверующий только несколько десятилетий, что не так уж тра-
гично и страшно... Я думаю, что статично и бездвижно неверие и скептицизм... В конце
концов есть только одна вещь, которой стоит заниматься в жизни, — искать "выхода", и
движение есть лишь в том, что его находит. "Выход" и есть движение, безвыходность же
есть кружение... И ты, и Шлецер, и все люди вашего духа (с некоторой осторожностью к
ним следует отнести и Камю. — В. В.) восстаете против всякого, кто признает положитель-
ный смысл жизни» {Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоми-
наниям современников. Париж, 1983. Т. 1. С. 286).
9 Близость (при полном контрасте в ключевых пунктах) между Шестовым и Камю уди-
вительна. Так, например, для Шестова истинная философия есть не созерцание (Besinnung),
а борьба (Kampj) (см. выше гл. V. С. 374). Камю же упрекает Шестова как раз в том, что он
«избегает борьбы» (la lutte est éludée), совершая в своем «опьянении иррациональным»
скачок в сверхразумную «успокаивающую» вечность.
™ Camus A. Essais. Р. 1220.
Идеологии уходят, любовь остается
457
ственность Ницше» представляется ему несомненной. Так из адвоката немец-
кого мыслителя (защищать Ницше от его «приватизации» нацистами все же
следует) Камю незаметно превращается в его судью: «Ницше замыслил систе-
му, в которой преступление уже не могло больше служить аргументом ни про-
тив чего бы то ни было и где единственной ценностью была бы божествен-
ность человека» и. Человекобожества в духе Ницше, позволяющего отбросить
любую мораль как «клевету на жизнь», Камю не приемлет. Но по-прежнему не
приемлет он и богочеловечества христианской традиции. Остается, быть мо-
жет, непоследовательность чистой мысли, зато побеждает художественный и
нравственный такт. Утверждение моральных ценностей, реально преодолева-
ющих нигилизм, по Камю, невозможно без сознательного акта самопожертво-
вания, готовности отдать жизнь в борьбе за утверждение своей цели и ценно-
сти. Эта борьба, по Камю, и есть мир истории, в котором нет абсолютных цен-
ностей. Оправдание им Каляева и его сподвижников, на наш взгляд, весьма
сомнительно: ведь и нацисты-ницшеанцы, по крайней мере некоторые из них,
сознательно шли на самопожертвование. Но Камю здесь опять соскальзывает
на путь адвоката нигилизма — по вполне понятной причине: он лично всегда
высоко ставил мужество, в том числе физическое. В этом он был близок Ниц-
ше. Оба мыслителя несли в себе серьезную болезнь (туберкулез в случае Камю)
и не хотели быть пессимистами на этом основании. Моральная позиция Камю
прежде всего противостоит историцистскому нигилизму, идущему от Гегеля к
Марксу: «Когда добро и зло внедрены во время и смешаны с событиями, ничто
уже не может считаться добрым или злым, но лишь преждевременным или
устаревшим» ,2. Но это отбрасывание морали как внеисторической ценности
неприемлемо для Камю. Логически это — парадокс, ибо никакой трансцен-
денции Камю по-прежнему не приемлет. Но вот сверхисторичность морали он
принимает, не пытаясь ее как-то обосновать в сверхисторическом измерении.
Здесь диктует скорее воля сердца, похожая на Лютерово «hier stehe ich», чем
воля разума, не желающая Бога. На этом «пределе истории», который налагает
на нее бунтующий человек, и «зарождается предвестие новой ценности» 13, зна-
менующее преодоление нигилизма. Революция мыслится Камю как разруши-
тельная проекция бунта, который в основе своей для него созидателен.
Моральный план проблемы преодоления нигилизма дополняется у Камю ее
эстетическим, в широком смысле, планом: «Всякое творчество — говорит он, —
самим своим существованием отрицает мир господина и раба» 14, т. е. мир со-
11 Ibid. Р. 488.
12 Камю А. Бунтующий человек. С. 281.
13 Там же. С. 313.
14 Там же. С. 333.
458 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
временного нигилизма, в котором «рабство становится всеобщим, а небесные
врата остаются закрытыми. Таков экономический закон мира, живущего куль-
том производства» ,5. Эта концепция бунта как созидательного и искупитель-
ного творчества весьма близка к философии творчества Н. Бердяева, если, ко-
нечно, вычесть из последней ее явные христианские коннотации. Правда, как
и у самого Ницше, эти коннотации живут неафишируемой, потаенной жизнью
и у Камю, что и объясняет те логические парадоксы, о которых мы сказали
выше.
В какую бы категорию ни помещали творчество Камю критики, он настоль-
ко оригинален, что ни в одну не вмещается целиком. Будучи уже с молодых лет
убежден в мощном философском потенциале литературы вообще и романа в
частности, он и писал романы. Но они, будучи тем, что в те годы во Франции
называли «романами идей», резко отличались от «романов идей», например,
Сартра. Сартр «Тошноты» и сборника рассказов «Стена» (на наш взгляд, вер-
шина Сартра-прозаика) попадает у Камю в категорию «писателей тезы», тво-
рящих литературу идей. Идеи же для него «являются противоположностью
мысли» (С. 108). Критический анализ опыта Сартра, проделанный Камю, ре-
зюмируется Фокиным в удачно найденных словах: «парадоксальным образом
проблема "введения" философии в роман оборачивается задачей ее "выведе-
ния" из романа, точнее, исключением из романной формы повествования фи-
лософских рассуждений» (С. 115). Философствовать в литературе надо кос-
венно, средствами художественного образа, самим письмом. Следуя по этому
пути, Камю и создает свои классические произведения, начиная со знаменито-
го «Постороннего». Вот еще один пример «неуловимости» Камю: никакие кри-
тические замечания самого писателя в адрес экзистенциализма не могут отме-
нить общепринятого рассмотрения его самого как представителя этого тече-
ния мысли. Действительно, Камю принимает «вечные предпосылки» (prémisses)
экзистенциализма, находя их у Паскаля, Кьеркегора, Ницше, Достоевского, Ше-
стова. Однако он не приемлет «схоластики экзистенциализма», ту его с
историцистским уклоном систематизацию, которую этим предпосылкам при-
дал Сартр. Иными словами, даже в самой близкой для себя классификацион-
ной нише Камю занимает свое, ни на какое другое не похожее место.
Последнее интервью Камю (20 декабря 1959 г.) приоткрывает нам его мане-
ру: сдержанность, но весьма прозрачные намеки. Говоря о творчестве Фолкне-
ра, он не случайно упоминает мало оцененную роль, которую играет в нем
атмосфера американского Юга. Камю имеет в виду здесь не только великого
американского писателя, но и себя самого, уроженца средиземноморского Юга.
Алжирский франко-испанец не мог не чувствовать себя «посторонним» в па-
15 Там же. С. 289.
Идеологии уходят, любовь остается
459
рижских салонах, хотя и признавал, что никакая другая литература не была
ему так по-настоящему близка, как классическая французская литература. Ис-
пытав сильное воздействие русской литературы XIX в., литератур испанской и
американской, он, однако, по сути дела, оставался французским классицистом,
ищущим ясную, краткую, энергичную форму, как бы разом решающую сто-
ящую проблему. Экспериментирующим эпигоном классической традиции был,
например, Ж. Ренар, доводивший эту ориентацию до предела. Но Камю, и здесь
верный чувству меры, на отвлеченные самоценные эксперименты в области
техники письма не шел, относя себя к «реалистам», т. е. к тем писателям, для
которых важнее всего реальность, а значит, цель, мысль, истина. Он умел ви-
деть свое слово глазами читателя, что не могло не означать признания опреде-
ляющей роли в творчестве рационального начала, разума с его ясностью и точ-
ностью (la lucidité). Ориентация на истину в литературе связывалась у Камю с
его мировоззрением, с социальными и политическими убеждениями. Он не
развивал теорию «ангажированности» в духе Сартра, но всегда признавал, что
стоит на стороне «униженных и оскорбленных». Не столько писательский эго-
изм, сколько душевный такт и чувство меры сковывали его уста, когда журна-
листы спрашивали его о героях Сопротивления. Он предпочитал быть с ними
наедине, вспоминая об этой героической эпохе лишь тогда, когда творил. А
этот опыт был значим для него не только в «Чуме» (1947) или «Письмах немец-
кому другу» (1943—1945), но и в «Падении», в котором неуловимый Ж. Б. Кла-
манс все же во многом «улавливается» именно как контраст по отношению к
мученикам Сопротивления.
Спорить, не соглашаться с Камю можно, и для этого, как показывает Фо-
кин, есть веские основания. Кстати, сам Камю не считал себя философом, хотя
всерьез интересовался философией и даже одно время мечтал о получении
профессорского места, написав дипломное сочинение по истории философии
(«Христианская метафизика и неоплатонизм»). Тем более он не был теологом,
хотя по-своему любил и высоко ценил и Августина, и Паскаля. Метафизиче-
ская тревога, неотделимая от его морального пафоса, конечно же, питалась
традициями христианской культуры Европы. Да, он не верил в трансцендент-
ного Бога, не верил даже в вечный разум платоников. Зато остро переживал
сакральность здешнего мира, для него единственного. В менталитете Камю
что-то действительно напоминает катара, в свойственном ему морализме как
будто слышны отголоски манихейства альбигойцев с их учением о непримири-
мой вражде Света и Тьмы. Иногда кажется, что он сохранил и историческую
память еретика-катара, познавшего католицизм (а им для Камю, по сути дела,
и исчерпывалось христианство) через инквизиционные походы. Иначе трудно
объяснить, почему для него Бог любви и милосердия выступает как своего рода
Джек-потрошитель из английских сказок. Он и Кьеркегора считал запуганным
460 Глава VI XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
религией. Склонность к подобному дуализму и максимализму в творчестве
писателя особенно характерна для периода «абсурда». «Я требую, — говорит
Камю, — все или ничего» 16. Конечно, в таком максимализме можно уловить
влияние Ницше и Достоевского ,7. Но влияния становятся действенными, ког-
да они вступают в резонанс с натурой их испытывающего человека. А как клас-
сицист и уроженец Средиземноморья Камю как раз был склонен к такого рода
четким бинарным противоположностям. В них как бы продолжалась жизнь
близкого ему Юга с его контрастами, так замечательно прочувствованными в
его прозе, действие которой нередко происходит именно в этих местах. Но ин-
тересен здесь не сам максимализм (им Европу не удивишь), а то, что Камю
удается найти в конце концов полутон, оттенок, как бы тем самым противореча
себе самому. Но в коррекции своего максимализма, равно как и вообще любой
отвлеченной универсальности, он был, напротив, в высшей степени верен са-
мому себе, человеку не безмерности (безмерен любой отвлеченный схематизм),
а именно меры. Неверующий писатель иронизирует над теми «христианами»,
которые в угоду научному материализму своего времени готовы были напере-
гонки бежать поджигать свои церкви. Он всегда был левым по убеждениям, но
«комиссаром» он никогда не был и не мог бы им стать. Руля влево, он всегда
слегка притабанивал вправо, чтобы держать нужный курс — на живое челове-
ческое лицо, нуждающееся в поддержке и красоте.
Художественные правила, устанавливаемые для себя Камю, значимы и для
философии, например в романе, ибо слишком далекое от искусства ее развер-
тывание в литературном тексте угрожает утопить ценный личный опыт в «бу-
мажной мишуре объяснений». Если же философия сознательно, целиком и пол-
ностью, отказывается от родства с искусством, то ей ничего другого не остает-
ся, как играть по правилам науки, что несет с собой угрозу потеряться в мелоч-
ном ее обслуживании, порвав связь с собственно философскими проблемами.
«Я не философ, — говорит Камю и объясняет почему. — Я не верю в разум в
такой мере, чтобы в силу этого верить в систему. И то, что меня интересует, это
знание того, как нужно вести себя. И более точно, как можно вести себя, когда
не верят ни в Бога, ни в разум» 18. Не веря в разум как в абсолют на манер
философов-рационалистов, Камю тем не менее высоко ценит ясность разума,
способного высветить то, как нужно вести себя в условиях человеческого уде-
ла, чтобы он обрел смысл для человека. Вехами такого осмысления выступают
в духовной эволюции Камю, как мы уже сказали, его основные художественно
16 Там же. С. 71.
17 «В романах Достоевского, — говорит Камю, — вопросы ставятся с такой силой, что
допустимыми оказываются только крайние решения» (Бунтующий человек. С. 81).
18 Camus A. Essais. Р. 1427.
Идеологии уходят, любовь остается
461
насыщенные философемы — абсурд, бунт, любовь. Связь между ними дикту-
ется не столько отвлеченной логикой соответствующих понятий, сколько рос-
том личности в результате накапливаемого ею опыта, прежде всего опыта Со-
противления. Камю резюмирует этот опыт парафразой Декартова принципа:
«Я бунтую, следовательно, мы существуем» 19. Эстетизм и индивидуализм аб-
сурдного сознания здесь решительно преодолеваются. При этом дистанция
между Камю и Ницше значительно возрастает, хотя впечатление, произведен-
ное философом «Заратустры», останется у Камю на всю жизнь (он вспоминает
биографию немецкого мыслителя в своей стокгольмской речи, а книга Ницше
«Веселая наука» была с ним и в день его трагической гибели — с. 64).
Философским документом этой «мыслеперемены» служит статья Камю о
философии языка Бриса Паррена, отмеченная С. Великовским, а теперь про-
анализированная С. Фокиным. Особенно показательна в этой работе (1944)
оценка тенденции в умонастроениях после сюрреалистов с их «революцией»:
«Из отчаяния не извлекают больше анархию, но самообладание. Тенденция
теперь не в отрицании разумности языка, не в том, чтобы, ослабив поводья,
отдаться его хаотичности. Тенденция теперь в том, чтобы признать за языком
относительную силу вернуться, будь то через абсурд или через чудо, к его тра-
диции... Это — новый классицизм, свидетельствующий в пользу двух наибо-
лее угрожаемых сегодня ценностей — разума (l'intelligence) и Франции» 20. В
программной речи Камю о художнике как «свидетеле свободы» (1948) эти цен-
ности получат несколько иное выражение.
Это ценности свободы и «единства» людей (l'unité), угрожаемые со сторо-
ны «тотальности» (la totalité), насаждаемой тоталитарными идеологиями, рву-
щимися к господству над миром. Камю говорит и о такой ценности, как чело-
веческое «тело» (la chair), требующее постоянной защиты, независимо от того,
страдает оно или наслаждается. «Бунт» человека понимается здесь как восста-
ние человеческой свободы и самой телесности мира, в том числе природного,
против тоталитарного «раздавливания различий». Давление тоталитарных иде-
ологий облегчается, по Камю, тем, что человек современного Запада входит в
историю без посредников, тем самым он целиком отдан на ее милость. Поэтому
такое посредничество крайне необходимо, считает писатель, и его должны
выполнять природа, сакрализованная и художественно переживаемая, а также
прямые дружеские связи между людьми. Упоминая о важной роли дружбы,
личной привязанности людей, Камю намечает внутри фазы «бунта» его пре-
одоление «любовью» как итогом своих метафизических и художественных
поисков. Суть драмы человека Запада, по Камю, в том, что он встал не на путь
Камю А. Бунтующий человек. С. 134.
Camus Л. Essais. Р. 1681.
462 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
братства людей и единения с природой, а на путь воли к власти. «Люди сегод-
ня, — говорит Камю, — могут, быть может, все подчинить себе в самих себе, и
в этом их величие. Но есть по меньшей мере одна вещь, для большинства из
них недоступная, — способность любить, которая была у них похищена» 21.
Тоталитарные идеологии, считает Камю, пришли в мир в результате краха «бур-
жуазного христианства», разразившегося летом 1914 г. С тех пор Европа разде-
лилась на «художников» и «властителей» — первые своим искусством хотят
вернуть людям способность любить, восхищаться природой и другими людь-
ми, а вторые с помощью педантично наращиваемой техники стремятся подчи-
нить себе всю Землю, установив тотальность единообразного порядка. Хрис-
тианского Бога они заменили идолом Истории, которому служат с еще более
щедрыми человеческими жертвоприношениями. Камю от прокламируемого
«абсурдным сознанием» отказа от Бога и метафизики, от всякой иерархии цен-
ностей как нормативных принципов в результате прожитого и продуманного
опыта приходит к тому, чтобы в фазе «бунта» ввести в свою философию «мета-
физику человеческой солидарности», подготавливая тем самым третью фазу
своей эволюции.
Эволюция Камю указывает на то, что интерес к христианству с годами у
него только рос, хотя от веры он был по-прежнему далек. Действительно, «Па-
дение» (1956) уже по своему стилю и жанру (исповедь-монолог «судьи-на-по-
каянии») куда ближе к поэтике любимого Камю Достоевского, чем «Посторон-
ний» (1942), эта классическая фреска, в мировоззренческом ключе ницшеан-
ства сделанная. Мы можем даже предположить, что пристрастие к русской
литературе XIX в., особенно к Достоевскому, было у Камю, уроженца среди-
земноморского юга, своего рода антивектором по отношению к эллинско-ро-
манским устремлениям немецкого гения, например, Гёте или Ницше. И не слу-
чайно, что действие его самого «Достоевского» романа происходит в голланд-
ском аналоге Петербурга — среди каналов сырого Амстердама.
За год до своей смерти в эссе, посвященном «Островам» своего учителя
Ж. Гренье, Камю говорит следущее (к сожалению, эта цитата переведена Фо-
киным с пропуском одной фразы — с. 34): «Лично я не был лишен богов:
солнце, ночь, море... Но это — боги наслаждения, они переполняют, а затем
опустошают. В компании только их одних я их как бы забывал ради самого
наслаждения. И нужно было напомнить мне о мистерии и о священном, о
конечности человека и о невозможной любви для того, чтобы я смог однаж-
ды возвратиться к моим природным богам, но уже с меньшим высокомери-
ем» 22. Камю за наслаждением прямого общения со стихиями забывал о самом
21 Ibid. Р. 403.
22 Ibid. Р. 1158—1159. Пропущенная фраза выделена курсивом. Курсив везде наш. — В. В.
Идеологии уходят, любовь остается
463
чувстве сакральности бытия, которое он привык связывать с миром средизем-
номорской природы в духе античного грека. Гренье с его экзистенциально-хри-
стианской ориентацией помог возвратить Камю переживание сакральности
здешнего мира и одновременно освободить от заносчивости неоязычника. Ины-
ми словами, Камю мог чувствовать полноту своей духовной жизни именно в
условиях дополнения пантеона эллинских космических и имманентных богов
божественностью сверхприродной и трансцендентной, идущей от иудео-хрис-
тианской традиции, которую он не в последнюю очередь впитал благодаря вли-
янию на него Ж. Гренье.
О «невозможной любви» напомнил Камю не только его учитель, но и опыт
страшных лет поражения и Сопротивления. В рамках эстетики абсурда он
еще оставался пленником нигилизма. Но с пришедшей с годами этикой любви
он уже стал свободен от него. Она означала для него преодоление самозамкну-
тости одиночки (solitaire) в совместном братском союзе, делающем человека
солидарным с другими людьми (solidaire). Эти слова у Камю таинственным
образом сливаются в одно слово, в котором нет указания ни на растворение «я»
в «мы» до его абсолютной утраты, ни на обратную редукцию. Испытавший
духовный и творческий кризис художник по имени Иона (сборник рассказов
«Изгнание и царство», 1957) пишет на чистом холсте одно-единственное сло-
во: «Иона крохотными буквами написал одно слово — не то "отъединение", не
то "объединение" — трудно было разобрать» 23. В оригинале в игре слов уча-
ствуют выше приведенные слова (solitaire-solidaire).
Хотя Камю не уставал подчеркивать посюсторонний, имманентный харак-
тер своего нового идеала, но свет «невозможности» на нем все же оставался,
ибо это была любовь, о наличии которой свидетельствовал акт самопожертво-
вания, полный для Камю-атеиста24 искупительной силы (вспомним, что он го-
ворит о Каляеве в «Бунтующем человеке»). Переполненность собой и только
собой, придающая монологу Кламанса в «Падении» надрывный характер, в
конце концов перестает его наполнять, рождая только скуку и пресыщение,
избыть которые могла бы только настоящая любовь к другому, узнаваемая по
акту самопожертвования ради него. Но Кламанс пропускает этот уникальный
23 Камю. А. Избранное. С. 521.
24 Свое отношение к вере Камю предпочитал характеризовать не как «атеизм», а как
«страстное неверие» (l'incroyance passionnée). Вот как Ж. Гренье оценивал религиозность
Камю: «Невозможно отрицать, что он был убежденно неверующим человеком. И когда он
говорил: "Я не верую в Бога, но тем не менее не являюсь атеистом и вместе с Б. Констаном
нахожу в безбожии (irréligion) нечто вульгарное и пошлое (usé)", то он имел в виду анти-
клерикализм. Действительно, он не был атеистом, скорее он был антитеистом» (Grenier J.
Préface // Camus A. Théâtre. Récits. Nouvelles / Éd. établi et annotée par R. Quillot. Paris, 1962.
P. XI—XII).
464 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
шанс, и весь пафос его (самообличений «судьи-на-покаянии» может быть по-
нят только при том условии, что он сам тайно знает о священном характере
такой любви. Иначе ему незачем было бы посыпать голову пеплом. Неумоли-
мое слово «поздно» (здесь нельзя не вспомнить Кьеркегора и Шестова), каким
его исповедь заканчивается, означает непоправимость лишь на эмпирическом,
посюстороннем уровне. Но не на уровне вечного и священного измерения (срав-
нить со «вторым измерением мышления» у Шестова), которое, пусть чуть-чуть,
приоткрылось Кламансу, и значит, и создавшему его образ Камю.
Идеологии приходят и уходят. А любовь остается. Любовь к Камю в том
числе.
В ЗЕРКАЛЕ ФАЛАРИИСКОГО БЫКА
Однажды прихватила меня «простуда» — вспоминать и думать о Мерабе
Мамардашвили. Да, есть тому и элементарное «медицинское» объяснение: пе-
ред сном раскрыл последний номер «Вопросов философии» и стал читать ин-
тервью Мераба его французской собеседнице ]. Вот вам и «вирус». Но пусть
объяснение есть, но «вляпываться» в него по уши не надо. Дело в том, что по
поводу и в связи с Мерабом существует как бы НЛО, некое оставленное им
облако, аура, что-то даже вроде тарковского соляриса — мыслящего чувствами
и чувствующего мыслью существа, которое вьется во мне и вокруг и может
запросто вызвать «простуду» и без видимого «вируса». Явление это вполне
объективно, нам с ним ничего поделать нельзя, хотя и многое, казалось бы,
можно: например, напитавшись им, написать мемуар, попробовать потеорети-
зировать, пустив ростки в гуманитарный гумус или в чистую философию... Но
что бы мы ни проделывали с этим как бы пришельческим облаком, с этим упорно
держащимся на ветру бытия или становления метеоявлением мысли, оно так и
останется пребывать в себе, храня свою тайну. И тайна его самодержания, ка-
жется, в том, что лицо, в нем поселившееся, действительно оттуда, где формы
не стареют, где присутствует не та или иная традиция, а просто ТРАДИЦИЯ
как таковая, или, как говорил Мераб в упомянутом интервью, традиция БЕС-
СМЕРТИЯ.
Вижу я картинку, края которой, если позволить глазу лениться, будут очень
лохмато порванными выглядеть, загромождая вид, так сказать, дальнейший.
Но если стараться, если охотиться за мыслью с достаточным упорством, с «пер-
северацией», как мог бы сказать Мераб, большой знаток и любитель словарей
и языков, если держать начатую мыслеохоту или охоту к мысли, которая и есть
охота-на-мысль как на диковинного зверя (только она его не убивает, а спаса-
ет), так вот, если упорно преследовать этого диковинного зверя, обитающего
1 Мамардашвили М. К. Мысль под запретом (беседы с А. Э. Эпельбуэн) // Вопр. фило-
софии. 1992. №5.
30-3357
466 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
на «лесных тропах» той самой ТРАДИЦИИ, если держать непойманное и дер-
зать тем самым в усилиях хотения-охоты, то можно будет расширить горизонт
видимости у этой картинки, проявить сокрытое, мгновенно зафиксировав уви-
денное фиксажем слова, всегда спешащего не упустить эволюции развертыва-
ющегося вида. И последнее замечание перед рассказом о самой картинке, ко-
торую я созерцаю. Со-зерцаю. Смотрю в оба, ибо смотрю не одним глазом, а
двумя? Или смотрю с кем-то еще и поэтому со-зерцаю? Во всяком случае в
слове этом звучит соглядение, совместное узревание. Кого с кем? Может быть,
зрящего с самим зримым? Глаза (образно, не физиологически выражаясь) с
предметом зрения? А может быть, человека с человеком? Или даже человека с
Богом? Да, видимо, надо предположить, что все эти «двойники» соучаствуют в
акте созерцания, сопрягаются в его единство. Во всяком случае оно никогда
одиноким не бывает.
Картинка же такова: в воздухе имманенции идут фигурки, а их тени, лежа,
по-пластунски, ползут в соответствии с их движением. Картинку движущихся
фигурок можно вывести на экран теней, а можно и на стоящее рядом зеркало.
В этом случае их изображения будут своего рода их зеркальными «тенями».
Кстати, зеркало было одним из любимых, интеллектуально насыщенных, об-
разов или «предметов» у Мераба. Отражения, тени, обмен левого и правого,
сами эти явления, область Зазеркалья и прочее — все это было источником са-
мых различных продуктивных метафор для приключений мысли. В конце кон-
цов, в зеркале можно увидеть само зеркало, но тогда мы перестаем восприни-
мать в нем саму его зеркальность. Зеркало ведь есть зеркало лишь постольку,
поскольку оно представляет не себя, а другое. Когда зеркало работает как зер-
кало (тогда оно им и является), мы его не видим, а когда видим, то оно уже не
зеркало, а обычная физическая вещь. Получается, что зеркало — вещь-с-само-
устранением, которое и происходит, когда она погружается в безотноситель-
ность к другому, т. е. возвращается к себе. Иными словами, зеркало — вещь
чисто функциональная и поэтому может служить образцом культурного пред-
мета как такового.
Посмотрим теперь на картинку в зеркале. Зеркальные фигурки движутся в
зеркальном воздухе. Это уже не фигурки, а видики их. Странники и их тени.
Обратим внимание на одно характерное обстоятельство: слева направо по ходу
движения фигурок растет, скажем так, статистический вес теней по отноше-
нию к тому, что их отбрасывает. Перебросим эту характеристику театра теней
на театр зеркал. Тогда мы имеем право говорить о своего рода прогрессирую-
щей «пигмалионизации» изображений. В пределе можно «втюриться» в свое
или чужое изображение. И где-то в критической точке происходит инверсия.
Qui pro quo: изображение (тень) оживает, причем само живое существо, его
В зеркале фаларийского быка
467
отбрасывающее, становится изображением (тенью). Переворачивание, инвер-
сия, обмен — без этого нет не только сказок, но и философской мысли.
В той точке, в которой жизнь становится тенью, приходится говорить о зоне
смерти. Она возникает вместе с трансценденцией. Зона имманенции — одно-
местна: в ней возможно только здесь-присутствие. He-здешнего нет даже не-
здесь, ибо в зоне имманенции все «там» помещено «здесь». В этом смысле
имманенция «одноместна», есть местность одного только «здесь» без «там».
Это — одноместность непрерывная, без срывов. Так сказать, гладкая. Поэтому
зона имманенции «прозрачна»: инобытия, отличного от бытия, нет. Трансцен-
зуса, перехода в иное нет, так как для Другого просто нет места. Оно не-у-
местно в мире имманенции. У-топично. Ницшевский полдень посюсторонно-
сти. Святящаяся односторонность самопронзающего света. На языке науки это
означает как бы постулирование в сильной форме законов сохранения мате-
рии, массы, массы-энергии и т. п., т. е. того, что составляет субстанцию или
«тело» имманентности как здесь-мира.
Прозрачность означает, что допускаться в ее зоне, т. е. в мире имманенции,
может только то, что уже допущено, что уже есть: сокрытое тело имманентно-
го мира раскрывается. В таком раскрытии действует механизм прозрачного для
себя акта — мысли, действия в этой зоне. Глядя на нашу исходную картинку,
мы скажем, что речь идет о верхней части картинки, той, в которой движутся
сами фигурки, странники, а не их тени (изображения).
В мире имманенции возможен только переход, только трансформация, под-
чиняющаяся закону ex nihilo nihil fit. Досократическая философия, к которой
повернулись Ницше и Хайдеггер, есть философия имманенции. Атомизм реа-
лизовал почти научный, механистический вариант мира имманентности. В мире
олимпийской мифологии трансценденции тоже не было, надо было только этот
мир предельно рационализировать, заменив богов на законы механики атомов.
И— никаких «проколов», никаких «прорывов», никаких несохранений:
ex nihilo nihil fit. Единое бытие имманенции как бы само в себе «колышется» и
при этом ни единого эрга его энергии не теряется: все превращения суть авто-
морфизмы со стопроцентным КПД.
Тайна трансценденции в том, что нагружается значением тень. Это делает
сам странник, ее виновник. В мире атомов, в царстве геологии и астрофизики
все иначе. Здесь действуют законы сохранения; принципы симметрии кажутся
достаточными для того, чтобы интеллектуально продуцировать явления, «спа-
сать» их. Животное отбрасывает тень, но она для него лишена значения и сим-
волом не является: хороводов вокруг тени оно не водит, мистерий не создает.
Это делает только человек. О трансцензусе природы в человеке благодаря сим-
волу Мераб много и по-своему говорил: тема эта не новая в философии XX века.
30*
468 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
В философии полную инверсию ситуации с зеркалом и тенью совершил
Платон. В его диалоге «Государство» в знаменитом «мифе о пещере» фигурки,
шествующие в мире имманенции, были осознаны, помыслены как тени, а
тени — как настоящие, т. е. БЕССМЕРТНЫЕ фигуры. Солнце Платона поэто-
му — «черное солнце». Соответственно ницшевский полдень по-платоновс-
ки — полночь. Солнце здесь-стоящего дня — тень «черного солнца», там-
солнца.
Вместе с рождением трансцендентного мира был дан и способ его истолко-
вания — не через имманентные законы сохранения, а через причастность ве-
щей, освещаемых здешним солнцем, вещам в открывшемся трансцендентном
мире. Тем самым принцип ex nihilo nihil fit инвертировался в принцип ex nihilo
omnia fit. Человек как бы залез в полость своей собственной тени и, находясь
там, сам стал себя извне поджаривать на огне. Этот образ казни в фаларийском
медном быке, о котором сообщают нам греческие доксографы, Мераб не раз
вспоминал и по-своему использовал. «Вы сгораете, — говорит он, продолжая
рисовать картину этой казни, придуманной одним из греческих тиранов, —
будучи закованы в Ваш собственный образ» 2. Мы можем сказать, перефрази-
руя известное высказывание Ж.-П. Сартра (Мераб здесь повторяет виановскую
шутку, называя французского философа Жаном-Солем Партром, сейчас эта
шутка уже лишена соли) о том, что «ад — это другие», ад — это костер, разло-
женный под нашей «медной» интерпретацией другими, костер нашей истолко-
ванное™ другими в «медном» образе, раскаленном от его окончательности и
безапелляционности. Кстати, Камю, шедший одно время в одной, левой, уп-
ряжке с Сартром, в «Падении» описал эту ситуацию, когда аргументом в споре
интеллектуалов выступает в конце концов полицейский: прав тот, кто сможет
его привести к своему оппоненту. Так вот, мы пляшем от боли, обугливаемые
нашей истолкованностью другими в своем и не-своем медном образе. Кстати,
нас «поджаривает» в равной мере как чрезмерно решительная и окончательная
истолкованность нас другими, так и столь же решительный их отказ вообще
нас понимать и, значит, истолковывать. Полное отсутствие интереса к нам ни-
чуть не менее болезненно для нашего самолюбия, чем завершившийся неколе-
бимо прочным результатом интерес.
Искусство естественным образом избегать этих разрушительных крайно-
стей, оставаясь в зоне теплого дружеского расположения, уважения, даже
доверия и непринужденной заинтересованности, на вас обращенных, вот что
прежде всего характеризовало Мераба в его отношениях к людям. Интерес к
человеку, лично к вам, у него удерживался постоянно, не погашаясь ни в ре-
зультирующей прочной истолкованности, ни в равнодушии его отсутствия. Эту
2 Указ. соч. С. 101.
В зеркале фаларийского быка
469
черту Мераба можно обозначить как художественно артикулированный пер-
сонализм, аристократизм вкуса, светскость в лучшем светлом смысле этого
слова. Мераб уже одним своим присутствием с вами рядом приглашал вас к
вашему же, естественному для вас росту, росту в совместности, соучастии,
беседе...
ДЕРЖАНИЕ:
МЕТАФОРИКА И СМЫСЛ
Картезианская интродукция
Сравнивая XVII век, представленный Декартом и его другом и корреспон-
дентом Мерсенном, самыми радикальными авангардистами своего времени,
маргиналами или почти, давшими этому веку имя «века гениев»1, и наш
XX век, особенно на его излете, понимаешь со всей ясностью и отчетливос-
тью, что мы и они антисимметричны, как начало и конец, совершающие дви-
жение в прямо противоположных направлениях. Действительно, даже если
они теологи (как Мерсенн) или философы и метафизики (как Декарт), тем не
менее нет для них более задушевного, милого, отдохновительного занятия,
чем наука — анализ природы света, звука, падения тел, доказательство тео-
рем, подробности физиологии... Приведу только один поразивший меня факт:
во всем знаменитом «Рассуждении о методе» Декарта нет ни одной ссылки
на литературу, кроме ссылки на книгу Гарвея «О движении сердца» (De motu
cordis). Удивительно, но почти то же самое и в «Страстях души» — и здесь
мелькнуло имя Гарвея 2 (наряду с еще одним — Вивесом). Это предпочтение,
оказываемое науке в философских трактатах, указывает на то, что сама наука
(в ее механистической версии) явилась ответом на основное метафизическое
и философское вопрошание о том, как достичь достоверности в наших суж-
дениях о мире. И Гарвея Декарт упоминает чаще других, может быть, именно
потому, что его открытие позволило ему самому создать механическую тео-
1 Марен Мерсенн, пожалуй, как Энгельс при Марксе, только «талант», но, может быть,
и гений, а именно, гений держания уникальной сети научной переписки. Его называли по-
слом (résident) Декарта в Париже (Descartes R. Œuvres et lettres / Textes présentés par
A. Bridoux. P., 1953, p. 911). О нем см. книгу: Lenoble R. Mersenne ou la naissance du
mécanisme. P., 1943.
2 Подробно свое отношение к открытию Гарвея Декарт изложил в трактате «Описание
человеческого тела. Об образовании животного» (Ч. I, § 17—18).
Держание: метафорика и смысл
471
рию кровообращения, которой он, возможно, гордился не меньше, чем свои-
ми метафизическими новациями.
А что такое метафизика Декарта? Это ведь не что иное, как обоснование
науки. Цель у Декарта одна — достоверность знания. Найти основания, источ-
ники, начала этой достоверности. Построить метод, достоверность обеспечи-
вающий. Сориентировать сознание человека так, чтобы оно было нацелено на
истину в суждениях, чтобы знание, в них содержащееся, было действительно
знанием, а не заблуждением.
Декарт ищет не философского утешения в тяготах существования (а похо-
же, он их знал), не «возвышающего обмана», что «тьмы низких истин нам до-
роже». Он ищет даже не какого-то просветления жизни, мечты (пусть у него
кое-что по этой части и имеется, но завязано это у него опять-таки на его на-
уке). Нет, Декарт ищет такого расположения сознания, такой изготовки субъек-
та, чтобы в науках суждения были достоверными. Он ищет принципы и начала
наук, позволяющие сделать выводы из них непоколебимыми (fermes et
constantes). Его метафизика — научная, сциентистская, или, лучше сказать, эпи-
стемоцентрическая.
Наконец, сама теология Декарта — это эпистемологическая теология. Бог
нужен Декарту не столько для спасения, сколько для того, чтобы с абсолютной
надежностью гарантировать достоверность суждений в науке. Паролем боже-
ственного присутствия для Декарта служит интуиция ясности и отчетливости,
выступающие как примета (и безошибочная, ибо в них проступает сам Бог)
достоверности восприятий, в которых они обнаруживаются. Итак, теология
Декарта не сотериологическая, не эсхатологическая, а исключительно эписте-
мологическая, или гносеологическая.
Гносеологизм этой теологии сочетается с идеализмом в том смысле, что для
Декарта идея Бога достовернее, чем сам Бог, чем Его существование. Он еще
может представить, что его идее Бога не отвечает наличие такого существа,
которое мыслится в этой идее. Но он не может себе представить, чтобы у него
не было бы самой идеи Совершенного существа, всеблагого и всемогущего.
Сама идея понуждает его признать и существование соответствующего ей объекта.
Познание Бога нужно для того, говорит Декарт, чтобы стали возможны по-
знания других существ, например человека3.
«Надежность (la certitude) истинности любого знания (la science) зависит, —
говорит он, — единственно от познания истинного Бога»4. Оснований этой
надежности и ищет Декарт в своей теологии и метафизике (они у него пере-
3 Descartes R. Méditationes métaphysiques // Œuvres de Descartes. Nouvelle éd. collationnée
sur les meilleurs textes par M. Jules Simon. P., 1842. P. 100.
4 Ibid. P. 101.
472 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
крываются). Декарт философствует изнутри наук — он уже ученый, уже ис-
следователь и только затем — философ-метафизик. Декарт философствует из
контекста науки как своей собственной стихии, выбранной им до всякой мета-
физики. Сделал так (т. е. полюбил науку, вошел в науку, занялся наукой и т. п.)
и затем пришел к метафизике и теологии, чтобы, находясь внутри науки, науку
подкрепить, обосновать, усовершенствовать. Если в средние века философию
называли служанкой теологии (ancilla theologiae), то у Декарта философия и
сама теология — служанки науки.
В ясных и отчетливых восприятиях, говорит Декарт, присутствует «сила»
(force), которая и убеждает, что такие восприятия истинны, а следовательно,
их объекты действительно существуют. Истина в суждениях и бытие объектов
этих суждений — жестко связаны: «Истина одно и то же с бытием», — говорит
Декарт (la vérité étant la même chose avec l'être)5. Эта заставляющая сила кроет-
ся в разуме, или в разумных основаниях (raisons), и если мы ошибаемся, рас-
суждает Декарт, то лишь потому, что не дали себе труда найти такое основание
(разум вещей). Он, таким образом, разделяет тезис радикального рационализ-
ма в этике: и заблуждение, и грех — равным образом свидетельства того, что
разумные основания не найдены. Читая Декарта, можно предположить, что
принуждающая к истине и бытию сила разума есть синергийное дело Бога и
человека. Эпистемология Декарта, таким образом, динамична, а физика у него,
напротив, лишена всякого представления о силах и даже, более того, исключа-
ет саму возможность динамики.
Ясные и отчетливые восприятия предметов указывают на то, что они произ-
ведены самим Богом. И именно это знание и составляет основу всей эпистемо-
логии Декарта. Так, например, если одна какая-то вещь ясно и отчетливо в
моем сознании отделена от некоторой другой, то это так и есть на самом деле,
так как произведено самим Богом.
Декартовский Бог не столько даже творец «Я», или «мыслящей вещи», «вещи,
которая мыслит» (la chose qui pense), сколько «продлеватель» ее существова-
ния, «перебрасыватель» ее через поток времени, через разрыв между двумя его
моментами. Вообще, время — одна из главных тем Декарта. Бог длит меня,
обеспечивает мою самотождественность, он меня продлевает, или держит: дер-
жание и есть продление, преодоление времени в инварианте. И это невозмож-
но без Бога, считает Декарт.
Другой аспект мыслей Декарта о времени — это принцип метафизической
необратимости. Декарт часто говорит о такой истине: «То, что однажды было
произведено, не может не делаться еще раз», или: «То, что раз было сделано,
не может больше не быть сделанным» (ce qui a une fois été fait ne peut plus
5 Ibid. P. 99.
Держание: метафорика и смысл
473
n'avoir point été fait)6. В этой истине содержится тот смысл, который мы при-
выкли фиксировать поговорками: «что написано пером, не вырубишь топором»,
или «сделанного не воротишь», или «что сделано, то сделано» и т. п. Это и есть
принцип метафизической необратимости — вернуть сделанное невозможно, с
ним нельзя не считаться и даже больше: оно не может не повторяться, или,
точнее, не может не держаться. Делание (продуцирование) необратимо. Собы-
тие нельзя стереть, как если бы в однажды сотворенном была инерция само-
поддержания или воспроизводства. Эту истину, говорит Декарт, он знает бла-
годаря «естественному свету» и без всякого содействия со стороны тела. Таким
образом, она является «врожденной идеей», или, как потом будут говорить,
имеет трансцендентальный характер.
Остается один важный вопрос: а может ли Бог у Декарта отменить эту исти-
ну и сделать сделанное Им несделанным? И судя по разным местам декартов-
ских текстов, даже Бог этого не может. Теперь Он не может сделать так, чтобы
существовали ненавидящие Его, а раньше (до сотворения людей, любящих Его)
мог. Эту мысль Декарта с особым нажимом подчеркивает Мераб Мамардашвили
в «Картезианских размышлениях»7. И главный вывод из ее обсуждения можно
свести к краткой формуле: Бог у Декарта — не обманщик, он держит сотво-
ренное Им. Таким образом, мы видим, что в самый центр размышлений M. М.
о Декарте попадает характерное выражение «держание», за которым стоит це-
лая концепция. «Держание» — это слово-ключ, слово-символ, на котором дер-
жится сложная и тонкая мыслительная конструкция и реконструкция (Декар-
та) Мамардашвили.
В начале 1981 года, когда M. М. читал лекции о Декарте, которые я посещал
вместе со многими, это слово врезалось в мое сознание и осело там прочно и с
удобствами, свидетельством чему могут служить «Божьекоровские рассказы»,
которые тогда писались 8. Врезавшись, это слово, однако, не прошло тогда че-
рез аналитическую работу рефлексии — оно просто привлекло внимание сво-
им своеобразием, важностью, которая с ним связывалась. Это слово, правда,
было воспринято, и все его понимание, которое я бы хотел здесь развить, уже
содержалось в этом первовосприятии (о такой возможности говорит в своей
книге и M. М., подчеркивая, что знание проникает с подобным восприятием в
сознание и латентно живет там до первой его «раскупорки», или, как он гово-
рит, «раскрутки»). Сейчас пробил час таковой — лекции M. М. опубликованы,
и можно развернуть и текстуально поддержать это свернутое понимание дер-
жания.
6 Ibid. Р. ПО.
7 См.: Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993.
8 См.: Визгин В. Божьекоровские рассказы. М., 1993.
474 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
Феноменология держания
Я начну с феноменологии держания — именно этот слой значений, их бога-
тая и вряд ли могущая до конца быть развернутой игра и была воспринята
мною тогда, когда читались лекции о Декарте. «Держание» выступило прежде
всего как «надводная» часть грандиозной цирковой, или спортивно-гимнасти-
ческой, метафоры мысли. Мераб чаще всего употреблял это выражение (вме-
сте с «кустом» производных от него) для обозначения усильного дления мыс-
ли, силового исполнения ее акта. «Держать мысль» означало держать фигуру
мысли так, как держит трюк циркач, или выполняет упражнение на кольцах
гимнаст. В «держании» сразу же выступила эстетика усилия по обеспечению
формы. Поэтому я, думаю, с такой симпатией и воспринял это слово: мне нра-
вился и в самом Мерабе его явно спортивный и эстетически нагруженный об-
лик. Он был похож на умного и опытного боксера.
Кстати, Декарт, его любимый герой, был опытным кавалеристом (cavalier),
что означает, что он был одновременно и кавалером, т. е. дворянином, челове-
ком чести, и в то же время просто всадником, уверенно держащимся на лоша-
ди и сразу дающим коню верный ход и, обратите внимание, умеющим этот, с
первого шага заданный, ход строго выдерживать или держать — вне зависимо-
сти от каких бы то ни было обстоятельств. В слово «держать» вошло, как мы
это видим, и удерживается, таким образом, значение сопротивления всему тому,
что грозит нарушить верность первому шагу, верность уже сделанному, нару-
шить долг перед однажды сотворенной формой.
«Декарт, — отмечает M. М., — это французский cavalier, двинувшийся с
места хорошим шагом»9. В этой «лошадиной» формуле — самая верная раз-
гадка Декарта, предложенная M. М. Декарт действительно неукоснительно
держит шаг. Смотрите, говорит M. М., Лейбниц виляет, а Декарт идет прямо:
как положил за точку отсчета различие души и тела, так и выдерживает его —
держит мысль до конца и не приспосабливается к интеллектуальной моде, не
«ловит» влияний со стороны. У Декарта была удивительная верность начато-
му ходу мысли. Так, он строго следил, чтобы не допускать в понятие материи
никаких «сил», что, напротив, делал, как говорит M. М., «бастардно», Лейб-
ниц. «А Декарт утверждал, что если я мыслю о физическом мире, то не могу
допустить никаких внутренних монадологических или чувствующих состоя-
ний в вещах» 10. Физика XX века показала, что в умозрительном плане был
прав Декарт, Но, подчеркивает M. М., он был прав и тогда, в XVII веке, ибо он
9 См.: Мамардашвши М. Картезианские размышления.
10 Там же. С. 273.
Держание: метафорика и смысл
475
держал свою мысль, держал ее ход, «а ход нужно держать, чтобы мыслить не-
наглядно» п.
Обратим внимание на словечко «ненаглядно». Держания особенно требует
именно такая мысль, которая борется с искушениями наглядности, с несдер-
жанностью чувственных реакций, с провокациями внешних влияний, со всеми
теми идолами, о которых писал Ф. Бэкон. Держание мысли, по M. М., есть в
качестве силы сопротивления сопротивление соблазнам «наглядности». Лю-
бой рационализм настаивает именно на этом прежде всего. Можно цитировать
Демокрита, можно Декарта, можно Башляра, можно Мамардашвили. Декарт, в
частности, говорит, что чувства обманывают — как бы норовят поймать мысль
в силки наглядности. Например, солнце нам кажется маленьким, а надо дер-
жать мысль, что оно огромно. Квадратная башня, говорит Декарт, кажется из-
далека круглой, а на самом деле она квадратна. Философ-рационалист — дер-
жатель мысли par exellence. А Декарт — самый отменный, самый, быть может,
радикальный из рационалистов. И уже поэтому — чемпион по держанию мыс-
ли. Подстать ему и M. М. Читая Мамардашвили, представляешь себе работу
гимнаста на брусьях или кольцах. Он легко взлетел в воздух и стабильным
формообразующим напряжением держит фигуру, выполняет упражнение —
спиритуальную экзерцицию или духовную медитацию.
«Держание мысли», о котором с любовью и, я бы сказал, с надеждой гово-
рил M. М., было внедрено в самое «яблочко» его мысли. Мышление было
для M. М. трудным, но нужным «номером» в культуре, который, как гимна-
стическое упражнение, надо выполнять, продлевая через время как состоя-
ние и акт. Мысль, по M. М., и акт, и состояние. Он использовал оба этих сло-
ва. Но главное, что при этом подразумевалось, так это именно держание мыс-
ли. И поэтому M. М. говорил, давая понять прямо и косвенно, что мысль трудна
для исполнения, что надо держать ее, а это нелегко и удается далеко не всем
из тех, кто использует слова, даже те же самые слова, что и действительно
держащий мысль. Мысль, говорил он, держится не словом, не его механи-
ческим произнесением, не артикуляцией, а держанием самих усилий ее гене-
зиса — усилием, преодолевающим и время и те силы хаоса — а они много-
численны и необозримы, — которые ей всегда угрожают. И поэтому мысль —
чудо. Это было глубоким переживанием, пафосом, атмосферу мысли Мераба
создающим.
Держание происходит в стихии сознания и стихией сознания. M. М. всегда
спорил с натурализмом. Но не принимал и социоцентризма и историцизма. Не
был он и богословом и религиозным философом, как это отметил Ж.-П. Вер-
ная. А поэтому он работал в том зазоре между всеми этими членениями, кото-
1 ' Там же.
476 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
рый называется феноменологией, где главными словами выступают «сознание»
и «феномен».
Сознание у него было реальностью физического мира, условием его упо-
рядоченности и законосообразия, а поэтому познаваемости. Сознание было
живой активностью бытия, волей и разумом сразу. В нем был источник того
сверхнатурализма, который давал человеку его бытие в качестве человека. Из
природы человек не возникает, подчеркивал M. М. Он возникает «вторым рож-
дением», рождением, как раньше говорили, «в духе».
Молитва — «способ собирания сознания»12, а духовность — «сосредото-
ченное и координированное держание условий своего собственного воспроиз-
водства и пребывания в качестве актуального состояния»,3. Бог же — синоним
тех человеческих, или неприродных сил, без которых человек не становится
человеком: «Людьми мы становимся... лишь после того, как совершилось ка-
кое-то движение и наше взаимоотношение с вещами, которые не имеют, повто-
ряю, оснований в природном мире: природа человека не рождает. Но посколь-
ку в нашей жизни есть такие силы, они и называют себя "Богом" Или иначе:
"Бог" есть самоназвание их действия» 14.
Этот пассаж говорит о том, что M. М. действительно не богослов и не обна-
руживает себя верующим христианином. Но зато он обнаруживает себя веря-
щим (в философию) философом, философствующим мудрецом, неутомимо
стоящим на своей медитативной вахте. Есть силы антропогенеза — и они на-
зывают себя «Богом». Так думает и говорит M. М. Как философский мистик
(пусть и рационалист), как свободный мудрец, он должен вывести «Бога» из
каких-то им наблюдаемых или переживаемых, а точнее, мыслимых реально-
стей. И так как «Бог» (здесь кавычки) не вещь, то он — символ этих человеко-
созидающих сил, символ некоторой сущей неприродной динамики.
М. М. не оборачивает этой формулы («Бог» — самоназвание для некоторых
антропогенных сил), превращая ее во фразу: «человек» — самоназвание для
некоторых обожествляющих сил, или сил теофикации. А ведь, вообще говоря,
обе фразы равно должны звучать, если нам не нужен даже след антропологи-
ческого редукционизма фейербахианского типа. Строго говоря, феноменоло-
гия должна, как нам это представляется, наделить равными правами и проти-
воположный редукционизм — теологический, которому и отвечает эта форму-
ла человека как самоназвания обожествляющих, а значит и божественных сил.
Так что создается впечатление, что от корешков фейербахианства M. М. не
12 M. М. эти слова (Бог, духи др.) использовал, но в его «держательной» феноменологии
мысли они становились метафорами сознания.
13 См.: Мамардашвили М. Картезианские размышления. С. 141.
14 Там же. С. 143—144.
Держание: метафорика и смысл
477
вполне свободен, что некий автоматизм «гуманизма» остается. Человека M. М.
не кавычит, а вот с Богом это случается. Вот и вся разница на уровне пунктуа-
ции.
Феноменологию M. М. можно рассматривать как своего рода постмарксист-
ский вариант той символологии, которую развивала религиозная философия
в России, особенно П. А. Флоренский и А. Ф. Лосев. В ней еще звучит ушед-
шая с марксизмом диалектика 15: «Феномен, — говорит М. М., — конечное
явление бесконечного»16. Но если диалектика сорвалась в догматическое за-
коноучение, то феноменология обещает живой контакт с живым сознанием, с
его психо-сверхпсихо-экзерцициями, с медитативной практикой и необозри-
мым опытом, щедрым на чувство если и не возможной удачи в «теофикации»,
то, по крайней мере, удачи в деле «онтофикации» — достижения в феномене
сознания условия совпадения его (при непременном условии его держания) с
бытием.
Держание мысли — это у М. М. верность ее ходу, ее упорство и несбивае-
мость. Такое значение держания он рассматривает, сравнивая Декарта и Лейб-
ница. Декарт для него — образец держания, этакий супергимнаст мысли. Он
держит мысль максимально четко и строго. А Лейбниц ви/х/ляет, и если он
выигрывает при этом, то лишь временно: держание мысли всегда ценнее, чем
ви/х/ляние, называемое (или: вызываемое) приспособлением.
Держание — верность выбору. Выбранной позиции. Это ясность и отчетли-
вость. Чистота мыслительной фигуры достигается именно держанием. Мыс-
ли — темпоральные транстемпоральности. И это свое качество, или даже сущ-
ность, они выполняют благодаря держанию их мыслящим, или их самодержа-
нию (почти: самодержавию).
Вот как рисует M. М. декартово обоснование держания: «Он говорил: если
я уступлю фактам, то перестану мыслить. Разрушится весь ход моей мысли, а
ход нужно держать, чтобы мыслить ненаглядно» 17.
Речь здесь идет о чистоте физики как теории, лишенной концепции внут-
ренних сил, монад и т. п., на что пошел Лейбниц и не пошел Декарт, оставший-
ся в трактовке материи при своей протяженности.
Держание мысли позволяет ей сбыться. «Понятие, — говорит М. М, — дер-
жится только на движении, на напряженном усилии». Изначальность движе-
ния, своего рода «принцип инерции движения» в «философии мысли» (так
Отголоски марксизма, точнее даже, общей марксоидной атмосферы, слегка, то там то
здесь, прожилками проходят по тексту M. М. Например, говоря о феномене, он напомина-
ет, что это нечто такое, о чем говорилось как о «конкретно всеобщем».
16 Мамардашвили М. Картезианские размышления. С. 99.
17 Там же. С. 156.
478 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
именовал M. М. философию Декарта ,8) характеризует и феноменологию Ма-
мардашвили. Философия как искусство понятий выступает, по M. М., в нашей
попытке его «спортивного» прочтения как своего рода концептуального мно-
гоборья, как некоего интеллектуального биатлона. Надо держать множество
самых разных полей игры, пространств состязания — и только при условии
держания их всех можно оказаться настоящим философом.
Держание мысли — сопротивление. Это очевидно уже из аналитики самой
метафоры, которую мы предложили как шифр для чтения мысли M. М.: гим-
наст держит свой вес, одолевая силу тяжести. Какую тяжесть одолевает мыс-
литель — такой, как Декарт или сам Мамардашвили? Это тяжесть, или сила,
«наглядности» прежде всего. Воспроизведение, или возрождение, мысли во-
преки силе наглядности «нужно, — говорит М. М., — потому, что понимаем
мы только нашим безобъектным, а не предметным сознанием». Держание, та-
ким образом, это способ войти в пространство беспредметного (или безобъек-
тного — здесь M. М. различия не проводит) сознания, которое есть главное
условие понимания вообще ,9. А мыслитель для него — «пониматель». Он ни-
куда не уходит от этой классики и ищет, как и философия встарь, условий (транс-
цендентальных) возможности понимания. Держать мысль — значит держать
пространство понимания, держать сознание, иными словами, в чистоте (ибо
беспредметно только чистое сознание). Но чистое сознание — не негативная
пустота, не ничто голого отрицания. Не нечто безвидное и пустое. Нет. Чистое
сознание имеет свою структуру, свои формы. И поэтому держание (и поддер-
жание) чистоты сознания есть в то же время и поддержание этих форм, этой
структуры. В частности, у Декарта принцип когито (cogito ergo sum; je pense
donc je suis) и задает структуру чистого сознания.
Держание и время
Феномен держания обрисован. Эстетика его понятна: это эстетика усилия,
динамики мысли. Заметим, что здесь, в сфере духа (у M. М. эта сфера называ-
ется обычно сознанием), царстве динамизма, идет схватка сил, в то время как
на противоположном полюсе — в мире телесности — нет (по Декарту) ника-
кой динамики: понятие силы сюда нельзя допустить, раз мы держим мысль,
придерживаясь различения двух субстанций — мыслящей и протяженной.
Приведем свидетельство такого динамического устроения мира «вещи, ко-
торая мыслит», у Декарта. У него разум, или разумное основание, наделен при-
18 Там же. С. 154.
19 Там же. С. 155. «Когда безобъектное сознание работает вместе с предметным
сознанием, тогда мы что-то понимаем» (Там же).
Держание: метафорика и смысл
479
нуждающей, обязывающей силой: «Только те вещи, которые я воспринимаю
ясно и отчетливо, наделены силой, чтобы меня полностью убедить»20. Эта при-
нуждающая сила рассматривается Декартом прежде всего на примерах гео-
метрических — таковы вообще вещи математические, все те предметы, если
говорить о более широком классе, которые раскрываются «естественным све-
том» и совершенно не зависят от тела. Это и есть сфера «врожденных» или,
как уточняет M. М., «сорожденных» идей, сфера трансценденталий, выступа-
ющих условиями самой возможности познания вообще и вещей телесных в
том числе.
Теперь пришла пора ввести в аналитику держания новое измерение — вре-
мя. Без него оно непонятно. Ведь очевидно, что держание мысли есть схватка
со временем, а не только с наглядностью, с ее миром, где оно, конечно, присут-
ствует как на своем «естественном месте». Этот пласт содержания держания
(это не просто /пр/оговорка, а целая тема впереди) подробно проработан вслед
за Декартом M. М. У Декарта нам важно отметить два связанных между собой
момента. Во-первых, — принцип метафизической необратимости событий, дей-
ствий, деланий, или деяний. Идея этого принципа проста — свершившегося не
сотрешь, событийная структура необратима 21. И второй момент: непрерывное
творение. По сути дела, это одно и то же: раз что-то сотворено, то оно «держит-
ся» Богом как его творцом. У Декарта Бог не столько «одноразовый» творец
(как в деизме), сколько поддержатель существований, Им уже (однажды) со-
зданных. Обе эти истины, говорит Декарт, есть такие истины, которые мы зна-
ем (даже если и не отдаем себе отчета в том, что мы их знаем) благодаря «есте-
ственному свету» разума и без всякой помощи со стороны тела. И конечно же,
эти истины — важнейшие условия нашего познания, самой его возможности.
Мы уже заранее знаем, что все, что мы можем в мире открыть, будет подчи-
няться принципу метафизической необратимости, который основательнее са-
мого принципа причинности (его связь с ним интуитивно очевидна).
Что-то переносит нас через пропасть времени. И что это может быть? Бог!
Вот образец держателя — и мыслей, и существований сразу. Это Он делает
так, что мы, Им созданные, вечером заснув, утром просыпаемся теми же самы-
ми. Он нас держит, как держит все свое творение. Вот как об том пишет M. М.:
«Мысль Декарта все время движется в таком режиме: если я буду удостоен
чести существовать в следующий момент времени... Образ смерти есть напо-
минание, указание на то, что если что-то случается и держится во времени, то
для этого должны быть какие-то другие основания, чем сам временной поток»22.
20 Descartes R. Méditations métaphysiques. P. 99—100.
21 Ibid. P. 110.
22 Мамардашвили M. Картезианские размышления. С. 174.
480 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
Не надо думать, что Мамардашвили не осознавал этого ключевого слова
своей концепции. Нет, он отдавал себе ясный отчет в его значении и рефлекти-
ровал именно как ключевое. Вот как он сам определяет смысл держания: «Ты
должен тянуть за собой сделанное, то, как сделал. Это значит, что мысль (дух)
есть концентрация и координированное держание вместе условий своего соб-
ственного воспроизводства и повторения... интуиция возможности "еще одно-
го раза". Того, что могло быть только впервые и только однажды». И тут же
далее: «Раз так сделалось, то это нужно держать»23.
И именно это и делает прежде всего и прежде всех сам Бог! Первоакт Его
творчества абсолютно свободен — он не подчиняется никаким законам, в нем
нет никакой необходимости. Мераб много об этом говорит, хотя и не называет
этот теологический принцип принятым выражением «волюнтаристская теоло-
гия», как это делается историками мысли XVII века, например Клаареном 24.
Излагая Декарта, M. М. пишет: «В Боге, говорил он, нет никакого понятия не-
обходимости. На уровне творения нет законов»25. Эта мысль так поразила Ме-
раба (к рабству законов природы нас приучил не только марксизм в его «диа-
лектико-природной» версии, но и долгая традиция натурализма и весь процесс
новоевропейского развития, верстаемый то под нигилизм, как это сделал Ниц-
ше, то под дехристианизацию и секуляризацию, как это делается многими),
что он не устает ее варьировать на разные лады и рассматривает ответ Декарта
на вопрос «а мог бы Бог сотворить ненавидящих Его?» (нет, отвечает Декарт,
«теперь не мог бы») как совершенно гениальный. Бог просто держит сделан-
ное Им же! И это и только это имеет в виду в своем ответе Декарт. И в этом
усматривает поступь гения M. М. Первым актом Бог творит то, что Он творит,
не сообразуясь при этом (в противовес платоновскому демиургу) ни с какими
разумными основаниями, с идеями «блага», «красоты» и т. п. Но потом, во вто-
ром шаге (так говорит Мераб, держа или выдерживая эту кавалерийскую мета-
фору), Он уже связан тем, что и как Он сделал в первом шаге. Он уже сделал
так, чтобы Его любили. Поезд ушел. И поэтому «теперь» Он не может сделать
по-другому. Это удивительно на самом деле, потому что вроде бы для Бога нет
времени как внешнего условия: Он и его создал. Но раз создал, то надо подчи-
няться своему созданию! И для Бога (подумайте только, для кого!), оказывает-
ся, существует «теперь»...
Итак, Бог держит само время. И во времени держит временные существа.
Так воспроизводится порядок мира, его регулярность (основное условие его
23 Там же. С. 234.
24 Klaaren Е. М. Religious Origines of Modern Science: Belief in Creation in XVIIth century
Thought. Grand Rapids (Mich.), 1977.
25 Мамардашвили M. Картезианские размышления. С. 48.
Держание: метафорика и смысл
481
познаваемости), иными словами, сам мир. Бог выступает Все-держителем,
даже — Все-держателем. Здесь, на этом витке анализа держания, мы вплыли в
самую сердцевину этого понятия-потока. В поле нашего анализа попала во-
люнтаристская теология, давшая богословские основания для новой науки —
для ее эмпирического и экспериментального ядра26. Этот сюжет Мераб прямо
не обсуждает, хотя косвенные намеки позволяют нам эту связь подтвердить и
его мыслью.
Выше мы уже сказали, что у Декарта разум как основание наделен силой —
заставляющей и принуждающей. Держание, это очевидно, не может осуществ-
ляться без соответствующей силы или усилия. В «Картезианских размышле-
ниях» M. М. эти два слова (держание и сила) замещают друг друга, выступая
почти как синонимы. Так, он говорит, что акт мысли — это ее усильное возоб-
новление: «Декарт был одним из тех редких мыслителей (а они, слава Богу,
были), которые имели силу мыслить ненаглядно. Силу — держать мысль. А
держать мысль значит постоянно, снова и снова возрождать ее. А возрождать
нужно, потому что понимаем мы только нашим безобъектным, а не предмет-
ным сознанием»27.
Здесь помимо уже отмеченного момента держания как сопротивления на-
глядности и ее искушениям выступает и второй важный момент: то, что у Де-
карта называется разумом, умом, душой, у М. М. называется — и он держится
за это слово — сознанием. То, что держит мысль (и мысль основополагаю-
щую, мысль мыслей, саму ее возможность, или условие), есть сознание. Имен-
но сознание наделено у M. М. силой держать мысль. Та динамика, которую мы
отметили у Декарта, у M. М. есть динамика сознания. У самого Декарта, во
всяком случае в его «Метафизических размышлениях», нет даже упоминания
«сознания». Там есть «разум», есть «понимание» (l'entendement), «мысль» и
«душа», но «сознания» нет. M. М. об этом не говорит. Но, на наш взгляд, этот
терминологический сдвиг достоин внимания и не лишен интереса. Декарт в
качестве сводного генерализирующего понятия для всех ментальных актов
выбирает термин «мышление», или «мысль». У него и воображение, и ощуще-
ние, и воление выступают разновидностями мысли. Вот как он определяет «мыс-
лящую вещь»: «Это вещь, которая понимает, схватывает или постигает (conçoit),
утверждает, отрицает, хочет, не хочет, а также воображает и чувствует». К мыш-
лению Декарт относит вообще всю эмотивную и волевую сферы, не говоря
уже о когнитивной. Все эти сферы и их модусы — «различные способы мыс-
26 См.: Визгин В. П. Религиозно-теологический фактор генезиса науки нового времени:
эксперимент и чудо // Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 4. См. выше
гл. II. С. 85—99.
27 Мамардашвили М. Картезианские размышления. С. 155.
31-3357
482 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
лить»28. Делает он это по простой причине: к мышлению следует относить все,
что не есть «протяжение». Декарт действительно крепко держит мысль, твердо
сидит в «седле» выбранного им основного различения.
Помимо держания Декартом его различения души и тела как мысли и про-
тяжения это для нас странное, на первый взгляд, отождествление эмотивной
и когитальной сфер оправдано, видимо, еще и таким обстоятельством. Дей-
ствительно, не только эмоции, например любовь, нельзя вызвать произволь-
ным актом волевого начинания (хочу любить — и полюбил), но и мысли нельзя
вызвать произвольно (хочу помыслить — и помыслил). Как и эмоции, как и
ощущения, мысли случаются (или не случаются), возникают (или же нет). И
в этом смысле между эстезисом и ноэзисом, между рацио и эмоцио разницы
нет.
Декарт, безусловно, философ сознания, у него истины и мысли проходят
через рефлексию и тем самым удостоверены в качестве таковых стихией со-
знания.
Подведем итог анализу держания в связи со временем у M. М. в его проду-
мывании декартовской мысли. Держание, по M. М., можно определить как
усильное дление (очевидно, через время или во времени) сознанием и в созна-
нии мыслей, что обеспечивает целостность бытия, включающего в себя созна-
ние бытия, и позволяет объективно описывать мир и познавать его (образцом
здесь для M. М. выступает физика). Подчеркнем, что при этом имеется в виду
дление прежде всего мыслей ненаглядных, даже противонаглядных, порой
контрфактуальных — «трансцендентальных», тех, о которых Декарт говорит,
что они даны ему исключительно «естественным светом» разума без всякого
содействия тела.
Держание и содержание
Связи времени и мысли настолько важны, что стоит на них подзадержаться.
Декарт подчеркнул эту связь (темпоральность мысли как таковой) в своем от-
вете Бурману 29. Вот как его комментирует M. М.: Мысль «может совершаться
только во времени. В том смысле, что ведь нужно пребыть в мысли достаточ-
ное время, удержаться в ней, имея в виду ту длительность, о которой я уже
говорил, что это основное онтологическое переживание Декарта. Что в этой
длительности могут пребывать только такие вещи, пребывание которых во вре-
мени является дополнительной посылкой по отношению к их содержанию. То
есть их содержание не содержит признака дления или воспроизводства. И что
Descartes R. Méditations métaphysiques. P. 68, 107.
Descartes R. Œuvres et lettres. P., 1953. P. 1355 и след.
Держание: метафорика и смысл
483
живое декартовское ощущение, что мысли именно пребывают, держатся в
мире, проходит через все, о чем Декарт думал и говорил»30.
Я хочу попробовать возразить или даже только усомниться в том, что содер-
жание мыслей никак не связано с их способностью держаться.
Прежде всего — аналогия. Декарт упорно называет мысль «вещью». Вещи
мира, физические объекты держатся в мире именно своим содержанием. И
выявлением механики и физики этой связи занята наука. Одни тела таковы по
своему содержанию, что преодолевают барьер времени одной высоты, другие —
другой. Но всегда их содержание и есть то, что определяет уровень их держа-
ния («время жизни», иными словами). Тема /само/держания природных ве-
щей — главная в натурфилософии и естествознании. В частности, это — ос-
новная тема атомизма. Сам атомизм был придуман для того, чтобы объяснить
эмпирический факт /само/держания вещей, их родовое самосохранение, их вос-
производство. И эту устойчивость /макро/вещей мысль атомиста воспроизво-
дит или конструирует и тем самым объясняет на атомном уровне, который для
этого и вводится. Атомы — это устои устойчивости, «держалки» держания,
если позволить себе игру слов. Конечно, атомизм не решил («окончательно»)
проблему времени и формы, времени и вещи: он ее перенес в атом, определив
его как самодержащуюся и держащуюся абсолютно вещь.
В мире мысли тоже ведь есть свои атомы-«держалки». И только об этом,
только о них и идет речь и у Декарта, и у Мамардашвили. Он и сам вводит
своего рода атомистическую гипотезу в анализ сознания 31. И то, что в уме дер-
жится, обнаруживает связь своей держательной силы со своим содержанием.
Здесь сами слова указывают на связь их значений или содержаний — держа-
ние и содержание.
Я приведу в пользу тезиса о наличии такой связи один психологический
аргумент, почерпнутый из элементарного житейского случая. Я забыл мысль,
которая мне интересна. И поэтому я запомнил, что я ее забыл. Но ничего, увы,
кроме факта забвения, я не сумел запомнить. Ситуация — для меня во всяком
случае — заурядная. Но я себя утешаю: «Если мысль действительно интерес-
ная, если она содержательная, то она сама собой вспомнится!» Видите, я почти
машинально уповаю на связь содержания забытой мысли с ее способностью к
/само/держанию, с ее устойчивостью во времени, с ее воспроизводимостью.
Если она содержательна, то удержится, всплывет, сама (сама по себе) воспро-
Мамардашвили M Картезианские размышления. С. 201.
31 Там же. С. 254. Для Мамардашвили характерен контрнатуралистический мотив: мысль
об атомах продумывается им обязательно вместе с мыслью о том, как возможен такой
субъект, как атомист? Это — когиталъный вопрос, и такой подход спасает от натурализма
(Там же. С. 243).
31*
484 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
изведет себя. Ведь, думаю дальше, если мысль значительна и содержательна,
то сами условия жизни и мира, законы связи меня как микрокосма и большого
существования таковы, что они снова эту, именно эту же самую, мысль воспро-
изведут. И я не ошибался в своей надежде на возврат содержательной мысли и
поэтому, забыв ее, оставался спокоен, что, кстати, тоже (я имею в виду спокой-
ствие) одно из условий держания и воспроизводства мыслей, особенно содер-
жательных и интересных.
Отсюда можно заключить, что мысли и вещи — схожи. И те и другие тако-
вы, что их содержания связаны с мерой их /само/держания, или устойчивости.
И где-то устойчивость вещей и устойчивость мыслей — мыслей о них — сов-
падают. В силу этого самой устойчивой мыслью является мысль о самой ус-
тойчивой «вещи». А это, несомненно, и самая содержательная «вещь». Устой-
чив атом. Но столь же устойчив и атомизм как мысль об атомах. Предел этой
связи — Бог: предел самодержания и вседержания. Атомы — природные «боги»,
или боги натурализма. И неудивительно, что проработка темы держания за
пределами натурализма как философской позиции приводит к Богу (как это и
имеет место у Декарта).
Интенция на содержание — противовременная интенция. Содержание по
определению ортогонально плоскости временного потока. И основания дер-
жания мыслей лежат вне этого потока. Об этом ясно говорится и у M. М.32 Это
кажется банальным (или тавтологичным, в том смысле, как это выражение ис-
пользует М. М.): во времени держится то, что имеет вневременные корни. А
они-то и дают нам содержание того, что ими держится. Поэтому, если мы хра-
ним, держим саму эту способность к вневременной интенции сознания, то нам
нечего особенно бояться забывания интересных и содержательных мыслей —
они действительно вернутся.
Язык нам явно указывает на эту связь содержания с держанием как с устой-
чивостью во времени. Так, например, мы говорим, что если дом хорошо содер-
жится, то он и долго будет держаться. Содержание здесь понимается как уход,
забота, как обставление и обновление условий сохранения или самодержания
вещи. Другой пример: у M. М. часто говорится о «собранном субъекте»: «Со-
бранный субъект, — говорит он, — поставил себя там, где производятся собы-
тия» 33. «Собранность» означает, что субъект хорошо содержит себя — и хоро-
шо держит, держа себя там, где держатся сами события — всплески нового,
матрицы новых держаний. «Собранный» вообще означает «хорошо держащий-
ся» человек, который держит свою форму — как внешнюю (опрятность костю-
ма, прически и т. п.), так и внутреннюю — он устойчив в мыслях, решителен в
Мамардашвили М. Картезианские размышления. С. 174.
33 Там же. С. 215.
Держание: метафорика и смысл
485
суждениях, дающих основания (резоны, полные силы) для оформления всего
его поведения, всей линии его жизни. Чувствуется, что Декарт был именно
таким — и Мераб Мамардашвили тоже.
Надо держаться держания, чтобы одолеть поток времени. Держание — пер-
вый по рангу императив «мыслящей вещи»: «Обратите внимание, — говорит
М. М., — на эту тонкую нить (имеется в виду мысль трудная, редкая, каприз-
ная, но существенная, или содержательная. —В. В.), которая рвется на каждом
шагу, а ее надо держать»34. Иными словами, есть мысли важные, у которых нет
собственного запаса прочности, хотя они и содержательны. Это как раз обрат-
ный пример тому, о чем мы говорили выше. И вот такие мысли надо поддер-
жать, подхватить, воспроизвести, закрепить. Виртуоз в этом отношении —
Марсель Пруст, держатель самых трудноуловимых качаний сознания.
Имея в виду этот случай, фиксируемый в языке, мы должны спросить: так
зависит все-таки или же нет способность мысли держаться от ее содержания?
Аргумент в пользу наличия такой связи нами уже высказан: это наше убежде-
ние, что забытая, но содержательная мысль вспоминается — «случается» еще
раз. Аргумент против: «тонкие» мысли легко «рвутся». «Тонкие» здесь означа-
ет, конечно, интересные и содержательные. Но не только это и не в первую
очередь. «Тонкость» (легкость упускания мысли) указывает на редкость мысли
и трудности с «машиной» по ее производству. «Место генерации мысли» (не-
кая, скажем так, ситуативная горловина для возникновения именно этой тон-
кой мысли) само еще едва «проклюнулось», и мысль только-только показалась,
как бы мигнув ростками своей возможности быть и держаться. Но так как она
«мигнула» на вираже еще не сложившейся или еще не поставленной машины
мыслегенеза, то тут же забылась, исчезла, скрылась в «подсознании». Иными
словами: эта ситуация с констатируемым долгом спасения, т. е. держания и под-
держания слабых, тонких, паутинно капризных мыслей, имеет своей основой
неотлаженность машины мыслегенеза. Вообще говоря, у каждой мысли име-
ется своя индивидуальная, так сказать, по особому заказу изготовляемая ма-
шина ее порождения.
Принимая это во внимание, можно сказать теперь, как же обстоит дело с
различием двух разбираемых здесь случаев, столкновение которых создало
трудность с определением наличия связи держания и содержания мысли. Эта
трудность порождена разными ситуациями. В первом случае (данная связь не-
сомненно существует, забытая мысль, если она содержательна, вспомнится или
вернется сама собой) мы имеем налаженную мыслепорождающую машину —
и уверенность в ней, в ее надежности мы и ощущаем как наше предчувствие
содержательности ускользнувшей мысли. Во втором случае (тонкие мысли тре-
34 Там же. С. 228.
486 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к пост структурализму
буют поддержки и особой концентрации для их «улавливания», забытая тон-
кая мысль может и не вернуться сама собой, несмотря на свою ценность или
содержательность) мы имеем обратную ситуацию: машина генезиса мысли,
той, что ускользнула, еще не отлажена. Она сама еще только создается. В том
числе и самими мыслями. И вот на основе такой ее многоусловности и на том,
что сами условия — условны, от этого и зависит, что эти машины произве-
дут, — вот в такой ситуации нелинейного мыслегенеза мы и декларируем этот
императив мыслящего: «Внимание: мысль архитонка! Лови ее! Держи ее!»
Подчеркнем такой момент, порождающий эту апорию связи держания и со-
держания мысли: мышление само участвует в формировании своего горизон-
та, задающего условия и основные формы его содержания. Если мы понимаем
горизонт, или, лучше сказать, знаем его, то мысль, в нем возникающая, содер-
жательно нам /при/открывается — пусть как бы крупномасштабно, в своем
полногабаритном облике, без деталей.
Держание, эта, казалось бы, чисто формальная процедура, извне налагае-
мая на содержание мысли, оказывается, таким образом, связанной с ее содер-
жательностью. Более того, такие как бы формальные лишь процедуры в их
целостном ансамбле и образуют в конце концов содержание мысли. В школь-
ной эстетике это фиксируется штампом: форма содержательна. Но помыслить
эту содержательность мыслительных форм не столь просто, как прокатиться
автоматически по словам, по механике сцепляемых привычкой или штампом
артикуляций. По отношению к этой механике оригинальная аутентичная мысль
всегда «топорщится», идет против «ворса» или течения. И это-то и ощущается
как ее трудность, тонкость и содержательность.
Анализируя феномен держания мысли, мы различаем прежде всего два ос-
новных вида держания — негативное, или косвенное, и позитивное, или пря-
мое. Действительно, держание мысли может быть отрицательным: мы держим
в порядке машину мыслегенеза, мы держим горизонт возникновения мысли,
мы держим двери для мысли открытой. Мы, видите ли, держим. Но не саму
мысль, выполняя ее непосредственно прямым актом. Мы держим мысль кос-
венно, т. е. только то пространство, в которое она может заскочить (а может,
конечно, не заскочить), в котором она может появиться или же не появиться.
Это — приглашающее держание: гость может и не прийти, но мы честно про-
шли свою часть пути навстречу ему.
Второй вид держания мысли: держание прямое, когда вы выполняете конк-
ретную мысль, мыслите ее, попросту говоря. Так, например, мы мыслим тео-
рему в напряженных поисках ее доказательства. Или совершаем какое-то дру-
гое фактуальное держание мысли, равное ее исполнению, совершению акта
мысли позитивно. Если первый вид держания — апофатическое мыследержа-
ние, то второй, соответственно, катафатическое.
Держание: метафорика и смысл
487
Философема держания под прямым воздействием лекций M. М. пронизы-
вает собой некоторые из божьекоровских рассказов. Например, в рассказе
«Гипноман Пеноп ластов» мы читаем: «В Бога Леопольд не то что не верил, а
не держал его. Бог был волен заскочить к Леопольду или не заскочить —
Леопольд его не держал. Он только не закрывал для Бога дверей — пусть
будет дверь открыта!» Подобное незакрывание двери можно рассматривать
как первый вид держания — косвенный. Здесь держится дверь открытой,
держатся условия возможности присутствия того, что прямо, непосредствен-
но, действительно не держится. В этом рассказе используется богатая семан-
тика держания и, кроме выше данной нами типологии основных видов дер-
жания, выявляется персоногенерирующая функция держания, которую мож-
но выразить такой парафразой: скажи мне, что ты держишь, и я скажу, кто
ты. Герой нашего рассказа, о котором здесь идет речь, держит всем своим
существом сны: «Но что же все-таки держало это Недержало? — спросит
рассерженный читатель. Прикрываясь ладошкой от чужого сглазу, придер-
живал Леопольд сны»35. Сущность лица или личности в том, что она всеми
силами держит — и эта сущность самым непосредственным образом дана в
имени (анализ связи имени с ядром личности, с основой ее духовной суб-
станции, дает, например, П. Флоренский)36. Поэтому «Гипноман» это не вне-
шняя характеристика Пенопластова, а его подлинное имя, хотя мелькнуло
оно в отношении Пенопластова только в названии рассказа. В другом расска-
зе Гермес Пупырышкин, хотя и зовут его Джоном, на самом деле Гермес, так
как держит и держится он исключительно своей провиденциальной и герме-
тической миссией 37.
Сила держания, гнездящаяся (по M. М.) в сознании, есть одновременно
сила мысли и сила бытия. Прежде всего — сила бытия мысли. А потом — и
не только мысли. И здесь развивается им, вслед за Декартом, тема ошибки,
срыва, греха — не-бытия. По Декарту, наша воля имеет больший диапазон
возможностей для своих актов, чем разум. И это входит в само понятие воли:
«Кажется, — говорит Декарт об этом понятии, — что ее (т. е. воли — В. В.)
природа такова, что у нее ничего нельзя отнять без того, чтобы ее не разру-
шить» 38. И Бог даже соучаствует в актах этой «широкой» воли — но не в тех,
которыми она может вводить в заблуждение: здесь повинны только мы сами,
имеющие конечный разум и не успевающие и просто не могущие предвидеть
все. Такова, вкратце, теория заблуждений Декарта.
Визгин В. Божьекоровские рассказы. М., 1993. С. 377.
См. Павел Флоренский. Имена: Малое собрание сочинений. М., 1993. Вып. 1. С. 57—62.
Визгин В. Божьекоровские рассказы. С. 377.
Descartes R. Méditations métaphysiques. P. 91.
488 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
М. М. развивает эту же теорию, приводя пример с болезнью пляски св. Вит-
та: здесь воля поставлена в жесткий режим автомата, а разум молчит. Это —
предельный случай ошибки, или срыва. В идеале разум должен, так думает
Декарт, опережать волю, обладая в своем составе способностью подталкивать
ее — об этой силе разума мы уже говорили. «Где эти механические сцепле-
ния, — спрашивает M. М., приведя свой пример с наблюдаемым им в аэропор-
ту Тбилиси приступом болезни св. Витта, — могут что-то производить? Там,
где нет позитивного действия Бога, говорит Декарт. Или позитивного усилия,
как сказали бы мы»39. Усилия сознания. Аналогом декартова Бога выступает
у M. М. держание мысли сознанием. От механической, т. е. неразумной, необ-
ходимости воли с ее неминуемыми ошибками спасает или Бог (Декарт), или
усилие сознания, его «держательная» сила (M. М.). Сознание должно доста-
вить себя туда, где его до того не было (здесь следует у M. М. цитата из Фрей-
да). Как и Декарт, как и Фрейд, Мамардашвили рационалист — рационалист
сознания. Рационалист рационального сознания, сознательно поставивший
своей целью доставить сознание туда, где его раньше не было.
Мысли держатся там и тогда, где и когда содержится сама машина по их
производству и воспроизводству. Так можно было бы подытожить эти раз-
мышления о связи содержания и держания мыслей, навеянные союзом M. М.
и Декарта. И напоследок этой темы еще одна догадка: со-держание мыслей
указывает на со-вместность их держания. Если мысль держится (сама собой,
так сказать, хотя для этого и выполняется соответствующее усилие), то это
означает, что в ее содержании участвует что-то иное, чем я сам, ее мысля-
щий. Это другое — бытие, вещи вне меня, другие сознания, сам Бог, наконец
(в последнем случае можно говорить о синергетике человеческого и боже-
ственного актов).
Держание как жизнь, как интуиция и долг
На анализе держания стоит задержаться, так как уже сейчас ясно, насколько
здесь мы попадаем в эпицентр мысли — и Декарта, и M. М. Рассмотрим один
частный смысл этого выражения как типичного для философской мысли Ме-
раба Мамардашвили. Речь идет о держании (вместе) противоположностей —
coincidentia oppositorum.
M. M. говорит о держании как об удержании обоих концов «Гераклитова
лука»40. Этот образ и эта тема проходят по всем его «Размышлениям». В дру-
гом месте он говорит о держании мысли в подвесе или зависе между двумя
Мамардашвили М. Картезианские размышления. С. 215.
Там же. С. 228.
Держание: метафорика и смысл
489
пропастями или безднами. Кстати, сам этот образ частично идет прямо от Де-
карта, у которого человек определен как «середина» (milieu) между Богом и
ничто: «Я, — говорит Декарт, — наподобие середины между Богом и небыти-
ем»41. В этом смысле держание, о котором говорит M. М., есть прежде всего
удерживание Целого, есть образ предельного напряжения — и натяжения, свя-
зывающего разошедшиеся полюса Единого. Такое удерживание вместе, в од-
ной «связке» противоположностей обеспечивает разность потенциалов, созда-
ющую динамическое поле жизни и сознания (кстати, о поле сознания все время
говорит M. М., подчеркивая физический смысл его, его онтологический ста-
тус). Поэтому фигура «держания» есть метафора жизни, а затем уже сознания
и с ним условий мышления и познания. Метафора «лука» у самого Гераклита
была метафорой целостной жизни как жизни-смерти. И поэтому спортивно-
силовая фигура «держания» есть прежде всего метафора одолевающей вре-
менной поток жизни (здесь вспоминается Марсель Пруст, имя которого мель-
кает на страницах «Картезианских размышлений», как бы указывая на после-
дующие, прустовские, медитации).
Элементарным примером такого витального смысла «держания» выступает
растение. Растение — мост, связывающий два несоединимых без его посред-
ничества «берега» — звонкую чистоту блистательного эфира, с одной сторо-
ны, а с другой, хтонические мраки и мороки матери-сыра-земли. Кроны и кор-
ни, иными словами. И если нарушено это витальное равновесие космического
«лука», если повреждена одна из его «частей», то гибнет все растение как це-
лое. В «норме» же оно стягивает вместе разошедшиеся полюса целого, небо и
землю, и как живое целое само входит в жизнь большую, его, единичное расте-
ние, объемлющую.
Связь этой метафоры удерживания вместе противоположностей с жизнью и
духом открыл для философии вслед за Гераклитом Гегель (дух «достигает сво-
ей истины, только обретая себя самого в абсолютной разорванности»42). Дух
есть «стихия», выдерживающая свою собственную смерть, ибо дух есть живая
истина, а истина есть целое. Эта гегелевская философема идет от мистики
(духа), чего, вообще говоря, нет у Декарта и что чуждо и Мамардашвили с его
неорационалистическими и феноменологическими пристрастиями. Но тем не
менее этот смысл, скрывающийся в слове «жизнь», нужен M. М., и он выпол-
няет свою функцию в его «Размышлениях», чего не скажешь о Декарте, у кото-
рого жизнь — объект познания, подлежащий строго выдержанной геометриза-
ции, о чем говорит M. М. в трех последних своих «Размышлениях», в которых
анализируется Декартов трактат «Страсти души».
41 Descartes R. Méditations métaphysiques. P. 89.
42 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. М., 1959. Т. 4. С. 17.
490 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
«Собранный субъект» у М. М. — это субъект, держащий полюса отноше-
ния, которые связывает ум, определяемый как середина между невыразимос-
тью и выразимым 43. «Собранный субъект» тоже, таким образом, причастен к
этой метафоре лука, будучи хорошим лучником, сильным лукодержателем.
Отметим еще один частный аспект семантики держания у M. М. Это связь
держания и интуиции. «Все время должна работать интуиция, — говорит
М. М., — потому что только она держит понимание»44. Интуиция выступает
как главная «держалка», или опора, понимания.
Здесь я позволю себе отвлечься от текста «Картезианских размышлений» и
вспомнить то непосредственное впечатление, которое производил Мамардаш-
вили-лектор на слушавших его лекции, в частности лично на меня. Мераб об-
ладал удивительной способностью держать высокий уровень мысли, ее эфир,
или пространство, где она в полную силу может выполняться и которое она
может наполнять. Это как раз связано с понятием интуиции как чего-то проти-
воположного дискурсии, логико-понятийной связи рассуждений. То, что
открывалось слушателям M. М. в этом впечатлении, можно сопоставить с
феноменологической редукцией. Такой термин здесь уместен. Даже если слу-
шающие не были посвящены в терминологический аппарат современной фи-
лософии, они все равно как бы физически ощущали эту на их слуху производи-
мую расчистку сознания, ассоциируемую именно со специфическим усили-
ем — с феноменом держания, а значит, и с феноменом подъема и усилия этот
достигнутый подъем сохранить — продержать. И когда исходившие на лекции
M. М. спрашивали: «А какие идеи высказывал M. М.?», то ответить было не-
легко. И не потому, что идей в них не высказывалось. Нет, с этим все было в
порядке. Порой даже — преизбыток идей (как о том можно судить, имея те-
перь перед собой текст «Картезианских размышлений»). Но главное все же
было не в них, а в самой атмосфере, где могут возникать и держаться мысли и
именно философские мысли. Попросту говоря, поражала эта самодельная, тво-
римая на слуху, в поле вашего внимания, воздушная стихия настоящей филосо-
фии — вот она, лети сам! Возникало что-то вроде того «накаченного состоя-
ния», о котором говорит M. М., рассказывая о декартовой теории зрительного
восприятия.
После этого отступления мы бы завершили наш далеко не полный анализ
метафорики держания в «Картезианских размышлениях» M. М. указанием на
его деонтологический смысл. Держание мысли — это наш человеческий долг.
Перед миром. Перед нами самими. Перед другими людьми. Перед Богом, нако-
нец. Этос держания мысли и поступка, держания как долга, держания как им-
43 Мамардашвили М. Картезианские размышления. С. 156—157.
44 Там же. С. 234.
Держание: метафорика и смысл
491
ператива слышен повсюду, где М. М. говорит о нем. Держание — верность.
Верность выбору, сделанному уже. Верность мысли. «Раз так сделалось, то это
нужно держать», — говорит M. М.45 Сам Бог, по Декарту, держится того, что
Он сделал по чистому желанию, но после этого и для Него — время долга. И
поэтому Он «теперь» (это слово Мераб подчеркивает) не может сделать того,
что Он мог до первого шага (тогда). Так и возникают законы: потому что Бог —
не обманщик и держится Им же сделанного, Им же пожеланного. Держание —
добродетель и жизни, и мысли. Добродетель сознания. Если мысль (сознание)
держит себя, то она — не сбиваема, но сбываема. И Мераб часто — в разгово-
рах особенно, да и в лекциях тоже — говорил о том, что назначение челове-
ка — сбыться, стать, а для этого прежде всего надо держать сознание — по-
ступки, дела, мысли.
Держание — элементарный долг мыслящего по отношению к мысли. «На-
звался груздем — полезай в кузов!» Держание мысли — профессиональное
требование к философам. Ко всем, кто мыслит и делает мышление главным
занятием своей жизни. Эту тему в семантике держания можно сформулиро-
вать императивом: «Держи мысль, о, мыслящий!»
«Все нужно делать заново и сначала!» — восклицает M. М.46 И в этом со-
знании-императиве — главный пафос книги, та цель, в которую целится луч-
ник, натягивающий лук Гераклита в руках Сознания.
Гении вообще большие держатели. Они и собиратели, собирающие со-
бранно с самого начала то, что сделано до них поколениями мыслителей и
ученых. Они при этом, возможно, и не так много читают. Таков и Декарт
(M. М. говорит о нем, что он вряд ли читал, например, Платона). Но они
заново возобновляют мысли, на которых держится само мышление. Таким
был Декарт, таким был и другой любимец Мераба — Витгенштейн. И таким
хотел быть и сам Мераб. И, думаю, это у него получилось. И потому, что он
умел держать мысль, держать сознание, умел держать себя и поддерживать
других. Щедрости сердца, как и силы мысли, ему было не занимать. А это
верный признак больших держателей.
О ПОСТМОДЕРНЕ В ФИЛОСОФИИ (В КАЧЕСТВЕ ЭПИЛОГА)
Анализ метафорики держания в «Картезианских размышлениях» естествен-
ным образом подводит к повсеместно обсуждаемой теме соотношения фило-
софской классики и «постмодернизма». Классическая философия (имеется в
виду прежде всего традиция европейского рационализма Нового времени), по-
Там же. С. 234.
Там же. С. 244.
492 Глава VI XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
скольку она ориентировалась на знание (или науку) и ставила свою проблему
как проблему оснований знания, обоснования самой их возможности, сформи-
ровала содержательно-конструктивный концептуальный горизонт, унифициру-
ющий ее независимо от того, что Мишель Фуко называл «бытием языка», имея
в виду его, языка, самостоятельную активность и имплицированную в нем спо-
собность мыслить. Язык как самоактивный органон мысли (это измерение языка
фиксируется, например, гипотезой Сепира-Уорфа), скрыто кодирующий миро-
воззренческий каркас мышления, выносился этой традицией за скобки. Язык
как язык не был собственной проблемой классической философии, т. е. язык
именно как независимое «тело», как сопротивляющаяся рациональности «те-
лесность», как некая враждебная стихия по отношению к рациональной мыс-
ли. Лингвистическая телесность мысли поглощалась концептуальным аппара-
том, ее конструкционным инструментарием. Да и писалась эта философия равно
как на национальных языках, так и на латыни, что демонстрировало «безъязы-
кость» классической мысли, ее индифферентность по отношению к конкрет-
ной языковой плоти. Язык в смысле Фуко, Малларме или Хлебникова был в
ней вытеснен или вынесен за скобки. Кризис классической философии обо-
значился вместе с кризисом науки (вспомним соответствующую книгу Гуссер-
ля), с появлением на базе философий жизни экзистенциализма, Хайдеггера,
затем структурализма и, наконец, постструктурализма и деконструкционизма,
впитавших в себя формализм, современную лингвистику, культурологию и все
эти филологические (или как бы филологические) техники анализа языка. В
результате от науки философия, видимо, отошла. Но к чему приблизилась? К
мифу, поэзии — к языку (теперь уже в смысле Фуко и Хайдеггера).
И так возник спор двух традиций — старой (классическая традиция рацио-
нализма) и новой — постмодернизма, о чем много размышлял M. М.47 Если
постмодернизм в философии можно (в принципе) свести к тезису: «Сегодня
инновация в философии неминуемо проходит через инновацию в языке, в сред-
ствах выражения», то я сам, пожалуй, счел бы себя постмодернистом. Филосо-
фия, как бы расставшись (это не разрыв, конечно, а некоторое «охлаждение») с
наукой, «подружилась» с литературой, поэзией, искусством, фольклором, с при-
емами лингвистики. Там, где научно-познавательная фокусировка философии
смещается, там обнаруживается «грубое тело» языка и проблема самой «мате-
рии» высказывания, встает вопрос не только о постигающих, но и о вырази-
тельных, коммуникационных и иных возможностях языка.
47 Продумывание эпистемологии этого поворота см. в его работах: Мамардашвили М. К.,
Соловьев Э. Ю., Швырев В. С. Классическая и современная буржуазная философия: Опыт
эпистемологического сопоставления // Вопр. философии. 1970. № 12. С. 23—38; 1971. № 4.
С. 58—73; Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности.
Тбилиси, 1984.
Держание: метафорика и смысл
493
При разговоре о постмодерне, однако, не надо преувеличивать разрыва
сегодняшнего дня с новым временем. И в науке, и в философии традиции клас-
сики живы и по сей день. Воспроизводится (на другом уровне) отменяемая
революцией в физике наглядность (евклидово пространство для ее выражения
заменяется гильбертовым). Воспроизводится и классический формализм (на-
пример, в квантовой механике детерминизм восстанавливается, но уже на уровне
волновой функции). Воспроизводится и абсолютная система отсчета (в теории
относительности). Об этих инвариантных аспектах классики у нас уже давно
писали и А. Д. Александров и Б. С. Грязное 48. И не поспешил ли Башляр, заяв-
ляя как о свершившимся факте о не-картезианской эпистемологии? 49 И не прав
ли Мамардашвили, говоря, вопреки этому революционаризму, о возвращении
современной физики к Декарту? Так что де факто в современной культуре на
глубоком уровне постмодерна как новой культурной целостности, как консо-
лидированной эпохи нет. Это — самоназвание для течения (постмодернизм),
которое почему-то хотело бы быть новым новым временем. Но, повторяю, это-
го нет: как и любовь, историческую эпоху нельзя привести на двор человече-
ства актом произвольной воли: «хочу так». Эпохи случаются или не случают-
ся — подобно эмоциям или мыслям. Постмодерн как целостная культурная
эпоха пока не случился. Это — эмпирическая констатация. Что бы ни писал
У. Эко — его писания на сей счет, на наш взгляд, журналистски легковесны и
ничуть не убедительны 50. Нового средневековья на дворе истории не видно. А
симптомы — их каждый читает по-своему и сколько угодно, какие угодно и где
угодно.
48 См.: Александров А. Д. Философское содержание и значение теории относительно-
сти // Современные проблемы современного естествознания. М., 1959. С. 93—134;
Грязное Б. С. Логика. Рациональность. Творчество. М., 1982.
49 См.: Башляр Г. Философия «не» // Новый рационализм. М, 1987.
50 Эко У. Средние века уже начались // Иностранная литература. 1994. № 4. С. 259—
268.
СЕРИАЛЬНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ БЫТИЯ
Не есть ли личность разрешение конфликта между сериальностью бытия и
его индивидуализирующими и уникализируюшими силами? Вчитываясь в «Лек-
ции о Прусте» (М., 1995) Мераба Мамардашвили, я пришел к такой гипотезе
относительно соотношения этих фундаментальных онтологических категорий.
Фокусом их пересечения предстала личность. Личность живет не столько в
сфере овеществленной самоидентичности, что вписывается в серию (мой дом,
моя собака входят в серию домов и собак), сколько в области предсериальной,
еще неотсериаленной. Поэтому для личности не столь дороги уже кодифици-
рованные права и свободы, сколько само право и, главное, способность к мета-
морфозе, к самоизменению. Иными словами, личность живет в подвижной
пленке творимости бытия, никогда не «оседая» целиком в слое его готовой сотво-
ренное™.
ЛИЧНОСТЬ, ИМЯ, СЕРИЯ
Рассмотрим сначала некоторые основные ситуации, в рамках которых про-
исходит столкновение уникальности и сериальное™ бытия у Пруста. Начнем
со знаменитой сцены чаепития. Анализ описания порожденного ею состояния
главного героя (будем вслед за M. М. называть его Марселем) показывает, что
Марсель ощущает внезапно всплытие образа, рождение которого в его душе и
есть то, симптоматика чего описана писателем как вдохновение ': «То, что тре-
пещет внутри меня, — это, конечно, образ, зрительное впечатление: неразрыв-
но связанное со вкусом чая, оно старается, следом за ним, всплыть на поверх-
ность» 2.
1 «Внезапно нахлынул беспричинный восторг», «я перестал ощущать себя человеком
посредственным, незаметным, смертным» — типичные симптомы вдохновения (ср. Бод-
лер, Цветаева и др. ) — Пруст М. В поисках утраченною времени... Т. 1 : По направлению к
Свану. М, 1992. С. 47.
2 Пруст M В поисках... С. 48.
Сериальностъ и уникальность бытия
495
Как же в этом «приступе» вдохновения располагаются сериальные силы
бытия и каковы здесь силы индивидуации? Во-первых, фон для вторжения вдох-
новения, в котором локализуется уникальность личности, выступает как рути-
на однообразных дней: «Удрученный мрачным сегодняшним днем и ожидани-
ем безотрадного завтрашнего, я машинально поднес ко рту ложечку чая с ку-
сочком бисквита»3.
Вот она, сериальность как серость — однообразие дней, сумеречное суще-
ствование в их безрадостной веренице. И еще один момент сериальности —
машинальность действий. Машина — продуцирующий орган сериальности.
Итак, событие прилива вдохновения (в нем локализуется уникализирующая
способность бытия) происходит на фоне серийных будней машиноподобного
существования. Второй момент фиксирует образ сериальности: опираясь на
рациональную гипотезу о генезисе вдохновения, Марсель стремится его вос-
кресить и для этого пьет вторую, третью, четвертую ложку чая — но никакого
искомого эффекта! Вдохновение — в нас самих, а не в предметах как таковых.
Повторами рационально просчитанных условий его генезиса его не вызовешь.
Оно есть, или его нет. Вдохновение (заметим — и бытие уникального в целом)
спонтанно, хотя некоторые сокровенные связи с вещами «внешнего» мира у
него, конечно, есть, но для отвлеченного разума они непостижимы. На серий-
ную основу поставить «производство» вдохновения (и творчества) нельзя. Го-
воря топологически, в сериальности представлена плоская структура бытия,
служащая фоном в данном примере для воскресившего Комбре вдохновения-
воспоминания. Напротив, в уникальности представлена «вспучивающая» од-
нородность структура. Сериальности как повседневности, как «размазанному»
по всем дням существованию, как будням противостоит вдохновение, как со-
бытие уникальных сил, имеющее структуру праздника, смыслом которого яв-
ляется прорыв профанного времени, с тем чтобы подпитать приуставший мир
человека силами мира сакрального и трансцендентного. Вся ситуация поэтому
не случайно напоминает описание порыва души к божественному благу у
Платона.
Несмотря на отчасти справедливые упреки в злоупотреблении критикой
анализом этой сцены (Ж. Делёз), сюжет с «чаепеченным» порывом вдохнове-
ния, поднимающего затонувшее время на поверхность творчески активного
сознания, является ключевым, на наш взгляд, для раскрытия герменевтики души
и времени у Пруста. «Поднятое» время — результат производящего произведе-
ния как изведения (извода) «про», то есть «за» что-то безусловно ценное и пол-
ное смысла. Это извод как бы спрятанного времени на свет присутствия. Таков
смысл производящего произведения (opera operans, как говорит Мамардашви-
3 Там же. С. 47.
496 Глава VI XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
ли). Итак, поднятое или проведенное время (сквозь лабиринт помех, конститу-
ирующих забвение) — результат действия сил уникальных и персоногенных,
причем эти характеристики гарантированы божеством, проявляющимся в этом
событии извода (производящего произведения), будь то Мнемозина, Клио или
Эрот4. В таком прочтении этой ситуации сериальность выступает как расплю-
щенность времени в повторе, рутине, машинальности, экранирующих его це-
лостность и уникальность. Такое плоское время — неизбежно сериально. На-
против, время со «вздутиями», или «вспученностями», как говорит М. М., это —
время уникальное, личное, время жизни и творчества, полноты и объема бы-
тия. Существенный момент: невозможно построить рациональную схему, га-
рантирующую успех поисков утраченного времени. Поэтому речь должна идти
не столько о рационально-методических поисках времени, сколько о его твор-
честве, созидании, внутри которого есть место и рациональному началу. В со-
ответствии с этим название романа Пруста следовало бы читать «В творчестве
утраченного времени». Кажущееся противоречие между творчеством как сози-
данием и изводом как открытием наличного, но скрытого, снимается в богатой
фигуре вдохновения.
Что уникализирует предмет, событие? Не только вдохновение, но и верова-
ние, душа, полная чувств и неравнодушия. Именно вложенное в предмет чув-
ство «заставляет нас не смотреть на предмет как на зрелище, а верить в него
как в существо, не имеющее себе подобных»5. Предмет зрелища — предмет
сериальный: дерево в Комбре, Тбилиси или Париже, в таком ракурсе воспри-
нимаемое, берется как безликий представитель класса растений, относимых к
деревьям. Это — «общедерево» со смазанной индивидуальностью.
Но вот перед нами боярышник прогулок Марселя в Комбре, увиденный вме-
сте с Жильбертой, первой его любовью, имя которой прозвучало в его зарослях
и как бы в них сконцентрировалось, «упаковалось». Таким образом, существу-
ют подобного рода спонтанные инвестиции души в вещи видимого мира, бла-
годаря которым создается объемный рельеф пространства-времени (взятого
вместе с сознанием), а его расплющенность в сериальное™ дней и мест пре-
одолевается. Существенным моментом в этом процессе выступает действие
имени. И хотя боярышник, растущий в стороне Свана, и не получил особого
имени, но «упаковав» имя Жильберты, он фактически стал существом именно-
го, личного типа. Получив такой статус, боярышник стал последним основани-
ем для спонтанных вспышек желаний Марселя: «Я часто мечтал увидеться с
кем-нибудь (из живших в Комбре. — В. В.), не отдавая себе отчета, что моя
мечта вызвана только тем, что этот человек напомнил мне боярышник, и я уве-
4 Les divinités у Пруста или «богини» в вольной трактовке Мамардашвили.
5 Пруст М. В поисках... С. 64.
Сериальностъ и уникальность бытия
497
рял себя и других, что во мне заговорила былая привязанность, тогда как мне
просто хотелось туда съездить»6.
Зов желания повторить прогулки и снова увидеть боярышник (рождение
серии, «завязанное» на «упаковке») принимал, таким образом, форму оживше-
го влечения к человеку. Возникшую поведенческую доминанту можно сопо-
ставить с импринтингом, явлением, известным из психологии. Способность к
импринтингам и их аналогам служит базой для формирования структур инди-
видуации и уникализации бытия-сознания, так как у каждого существа свои
импринтинги и «первовпечатления». Связи такого рода складываются в про-
еме разверзающихся событий, самые сильные из которых — рождение, смерть,
болезнь, любовь... Благодаря таким связям текущие впечатления наделяются
«очарованием, значением, доступным лишь мне»7.
Конфликт сериальности и сингулярности бытия на уровне философской
рефлексии предстает как натяжение между натурализмом и феноменологией,
обусловленное прежде всего противоположностью натуралистического редук-
ционизма и феноменологического его преодоления, когда явление невозможно
ничем заменить и его следует оставить наедине с самим собой. Как говорит
Пруст, описывая воздействие сонаты Вентейля на Свана, она жила в «его под-
сознании, подобно другим понятиям, которые ничем нельзя заменить, как, на-
пример, понятия света, звука, объема, чувственного наслаждения, — подобно
всем сокровищам, что разнообразят и украшают наш внутренний мир»8.
Ключевая фраза этой сонаты имеет определенную числоподобную структу-
ру (сочетание пяти определенных нот с краткими интервалами и с повторени-
ями двух из них), но подменить ею ее таинственную суть нельзя. Поэтому на-
туралистический редукционизм уступает место другой стратегии «чтения» этой
фразы. Сван, пишет Пруст, верил, что «фраза действительно существует», при-
чем разряд ее бытия, пусть она и очеловечена, это разряд бытия «существ
сверхъестественных»9.
Иными словами, статус онтологии этой фразы — статус платоновских эй-
досов. Существенно, что помимо редукционистской натуралистической гер-
меневтики существует и герменевтика самопознающей души, не конфликтую-
щая, в отличие от первой, с феноменологией, а, напротив, идущая с ней рука об
руку. Действительно, благодаря этой сонате Сван вдруг понял, что «чувство
Одетты к нему никогда уже не возродится»10. Объяснить это невозможно. Про-
бам же. С. 164.
7 Там же. С. 164.
8 Там же. С. 301.
9 Там же.
10 Там же. С. 303.
32-3357
498 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
сто «тело понимания», или герменевтическое «тело», всплыло наверх, в свет-
лый круг сознания под звуки этой сонаты. Так сработала музыка. И механизм
ее работы остается в тайне, хотя рационально понять это как-то и можно, ука-
зав, например, на связь музыки с оживлением воображения, без которого по-
добной герменевтики нельзя себе представить. Тем не менее механизм самой
связи in concreto остается в тайне.
Как мы уже видели, уникализирующие силы бытия сосредоточиваются, в
частности, в именах собственных, отличных от имен нарицательных и тех слов,
которые сопоставляются с предметами лично не выделенными и не названными.
«Слова, — говорит Пруст, — это доступные для понимания привычные кар-
тинки, что висят в классах, чтобы дать детям наглядное представление о вер-
стаке, птице, муравейнике, — предметы, воспринимающиеся в общем как од-
нородные. Имена же, создавая неясный образ не только людей, но и городов,
приучают нас видеть в каждом городе, как и в каждом человеке, личность» и.
Если обычные слова имеют своими денотатами плоскую реальность, одно-
родное бытие, то денотаты имен собственных суть как раз отмеченные выше
«вспученности», неоднородности, создающие фигурный, объемный и лично
значимый рельеф мира. В именах сознание, разглядывающее мир, как бы на-
цепляет себе на нос стереоскопические очки. Именация вещей и событий мо-
жет быть самой разной, в том числе приводящей и к созданию особого личного
языка или языка-на-двоих, как это было у Свана и Одетты (пример такого язы-
ка — глагол «орхидеиться»). Между именами и словами существуют взаимо-
связи. Имена могут «стираться» и терять свои персонифицирующие энергии.
Напротив, слова могут превращаться в своего рода имена, так как по сути дела
имя есть не особый, отличный от слова квазинатуральный объект, а функция,
прописанная именно на словах или словами. Психологический опыт героя пру-
стовской наррации говорит о разных особенностях имен, в частности об огра-
ниченности их емкости. Так, например, в имя «Бальбек» ничего почти не вхо-
дило, кроме волн «вокруг церкви персидского стиля». И герой-рассказчик пред-
полагает: «Быть может, эти образы действовали на меня так сильно именно
своей упрощенностью»,2.
Имена — своего рода опоры, на которых держатся мечты души. Поэтому
они выступают как своеобразные фокусы ее стремлений и желаний. Вообще
говоря, желания и создают имя, нагружая его глубиной и содержанием, и сами
живут в зависимости от этих нагрузок. Можно сказать, что имена вообще су-
ществуют в пространстве желаний, т. е. там, где они самоподдерживают себя
оформлениями и переоформлениями, воплощениями и перевоплощениями.
11 Там же. С. 332.
12 Там же. С. 333.
Сериальность и уникальность бытия
499
Есть еще одна стадия возвышения именной функции в более высокую сте-
пень, стадия потенцирования имени. Это — любимое имя или имя любимого.
Действительно, все люди имеют имена, но имена тех, к кому мы равнодушны,
это скорее «слова» — в них мало персонифицирующей энергии уникализации.
Напротив, любимые имена, имена наших любовей максимально нагружены этой
персонифицирующей мощью, заряжаясь ею в высоконапряженном простран-
стве желаний.
Одно не лишенное интереса наблюдение: имена Бер-гот, Жияъ-бер-та, Бер-
ма, Аль-бе/7-тина называют основные любови Марселя и во всех них звучит
один и тот же «корень» — «бер». Характерно, что все эти имена вымышлены
Прустом, и их пересечение в одном корнеслоге вряд ли случайно. Мы имеем
как бы именную вариацию на тему «бер», со всеми признаками серии. Объяс-
нение здесь напрашивается чисто прустовское: первовпечатление или перво-
любовь Марселя (это — Жильберта) по закону серии — о нем дальше — про-
должает себя в последующих впечатлениях подобного рода так, что оставляет
след или метку в виде инвариантного протоимени «бер». Слог «бер» оказался
изначально выделенным, «вспученным», «вздутым», причем в силу сохране-
ния фигуры «вздутия» (трансляция) мы наблюдаем его во всей серии имен
любви Марселя. Этотряд имен-для-любви (или имен любви) обнаружил перед
нами, может быть, один из самых интересных в теоретическом отношении «то-
посов» всей проблемы сериальное/уникальное. Действительно, мы пришли к
тому, что возможно существование такого явления, как серия уникумов, что
сам корень сериализации лежит в уникальном (здесь помеченном корнеслогом
«бер»). Поэтому в слоге «бер» можно не без резонов видеть и попытку имена-
ции неведомого божества, к которому как к последнему аттрактору устремлен
Марсель (в случае с Альбертиной это — «богиня» времени). Мы можем пред-
положить, что «бер» следует читать как дериват библейского «Берешит» (Бы-
тие, I, 1 : «В начале»). И тогда мы прочитаем весь текст Пруста монотеистиче-
ски-ветхозаветным образом, что, впрочем, является трудно доказуемой вер-
сией.
Строго говоря, сознание, для которого существует серия уникумов, пред-
ставляется сознанием божественным. Действительно, наше человеческое со-
знание хотя и может помнить о презумпции уникальности каждого человече-
ского лица, однако с неизбежностью сериализирует личность. Так, например,
самого Пруста мы по шаблону ставим в серию классиков модернизма (наряду
с Джойсом и Кафкой). Здесь мы сталкиваемся с работой ума как сериализатора
бытия. Это — особенность ума человеческого в противовес божественному.
Но человек любящий в этом отношении действительно уподобляется Богу. Ведь
для того, кто действительно любит Пруста, он не вмещается ни в какую се-
рию — он просто Пруст. Сейчас и на все времена. Сериализация такого рода —
32*
500 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
получение маски, скрывающей лицо. В данном случае маски «классика модер-
низма». И в качестве такой маски Пруст заменим Кафкой или Джойсом (или
еще, возможно, кем-то, если серия эта будет расширена в силу прогресса тео-
рии и истории литературы).
Имена выступают экранами желаний, причем слово «экран» надо брать в
амбивалентности его семантики, в парадоксальной двузначности открытия/
сокрытия. Пруст говорит о том, что, будучи малоемкими по отношению к тому
содержанию, которое они могут аккумулировать, имена скрывают от нас то, к
чему стремится наше воображение. Но на имена одновременно проецируются
как на экран образы желаний, служа для их фиксации и демонстрации. Для
постороннего глаза, выражающего внешнюю позицию, таких «кристаллиза-
ции» ,3, какие совершает мечтательная душа по отношению к именам, не суще-
ствует. Так, например, Бергот, когда он говорит о Бальбеке, подчеркивает, что
готика вообще выше романского стиля (а в Бальбеке его знаменитая церковь
относится именно к романскому периоду). Но для очарованного именем Баль-
бека Марселя подобного рода отвлеченные суждения бессильны расколдовать
кристаллизации его мечтательного воображения.
Существуют разные уровни кристаллизации, связанные с именами. Так,
Пруст сообщает о том, что Марсель исписывал чистые страницы именем Жиль-
берты и ее адресом, но эта процедура была, так сказать, письмом чистого жела-
ния, его простым знаком и не обнаруживала никакой силы прорвать скорлупу
именации и выйти к настоящей Жильберте. Имя действительно может быть
чистым знаком желания без скрепленного с ним практико-мотивационного ядра
кристаллизации. Любовь, иными словами, может застрять на воображении, на
намерениях, запутавшись в имени. Эта тема проходит и у Мамардашвили, про-
тивопоставляющего образ «намерения летать» образу действительно летаю-
щего устройства (сопоставление это взято им из текста Пруста)14. Такое пись-
мо, как пишет Пруст как бы пером своего рассказчика, «говорит только о моем
желании, которое они (эти каракули, рисующие имя Жильберты. —В. В.), ка-
залось, являли моему взору как нечто чисто личное, вымышленное, скучное и
немощное»15.
13 Ключевая и разноплановая для Пруста и Мамардашвили метафора, идущая от Стен-
даля, определившего ее смысл как «умственную операцию, из всего извлекающую все но-
вые и новые совершенства любимого объекта» (Stendhal. De l'amour. P., 1965. P. 35). Мета-
фора Стендаля такова: «В соляные копи Зальцбурга бросают голую ветку и 2—3 месяца
спустя ее вынимают сверкающую, как бриллиантами, кристаллами... после чего исходную
грубую ветку невозможно узнать. Вот что я называю кристаллизацией» (Там же, перевод
наш. — В. В.).
14 Пруст М. В поисках... Т. 2. Под сенью девушек в цвету. М., 1992. С. 106.
15 Там же. С. 342.
Сериальность и уникальность бытия
501
Здесь слово «личность» звучит в аксиологически отрицательном регистре,
как нечто внутренне бессильное, однообразное, становясь синонимом сери-
ального как своей, казалось бы, антитезы. Значит, дело вовсе не в том, что лич-
ность — всегда сила, жизнь и уникальность. Нет, «личное» может быть и при-
метой слабости, несостоятельности, даже однообразия и скуки, так сказать,
дурной сериальности зациклившегося на имени полого желания. Имя в таком
режиме его функционирования прочитывается не как онтологическая реаль-
ность, а как почти невесомая номиналистическая конструкция, провоцирую-
щая только воображение и рефлексию.
Мы уже видели, как многообразны лики и личины сериальности, вовсе не
сводящейся к чему-то аксиологически, «с порога», второсортному по сравне-
нию с уникальным. Чтобы раскрыть эти вполне нейтральные значения сери-
альности, обратимся к тому, как Мамардашвили разбирает это понятие, рабо-
тающее у Пруста. Впервые слово «серия» в книге M. М. о Прусте звучит в ее
конце, когда он анализирует «сцепления» порожденного (события) с условия-
ми его порождения (случай аналога автокатализа, когда сам продукт реакции
ускоряет ее течение). Мамардашвили выделяет следующую фразу Пруста: «Лю-
бовь, родившаяся из потребности помешать Альбертине делать зло, продолжа-
ет сохранять в последующем следы своего происхождения», которая подтал-
кивает его к попытке ухватить природу повтора, серии. «След» дает «лицо»
событиям как серии, сериализуя сознательную жизнь, ее акты. M. М. так ком-
ментирует этот текст: «...вещи имеют тенденцию повторяться в той форме, в
какой они случились в первый раз, и тяготеют к тому, чтобы воспроизводить
условия и причины своего случания в качестве последствий» («Лекции», с. 483).
Это — ключевая фраза для анализа сериальности в указанном смысле, кото-
рый мы уже проиллюстрировали выше, говоря о серии имен-для-любви с об-
щим корнем «бер».
Обратим внимание на одну странную вещь. Кстати, слово «странный» —
наиболее употребительное характеристическое слово M. М. на страницах его
книги о Прусте, указывающее на то, что мы живем в ситуации двоемирия, ког-
да сопоставление миров проявляется в восприятии одного из них на фоне дру-
гого как «странность» Обычный мир доступен преображению и остранению,
поэтическая формула которого дана Блоком: «Случайно на ноже карманном //
Найди пылинку дальних стран — //И мир опять предстанет странным // Заку-
танным в цветной туман!» Итак, странность эта вот в чем: переобучившаяся
вещь исчезает, раз речь идет о ее повторяемости. Но, как пишет M. М., она
тем не менее действует, и именно так, чтобы снова себя породить, спровоциро-
вав условия и причины своего первопорождения. Иными словами, вещь, слу-
чившись, не исчезает совсем, а как бы «притапливается», очищая горизонт и
круг видимого от своего присутствия, прячется в «цветном тумане» (Блок), из-
502 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
за затененности, из-за укрытия своего присутствия-отсутствия пытаясь дей-
ствовать так, чтобы, вызвав комплекс своих условий и причин, снова явиться
во всей очевидности. Это действительно странная вещь — неуходчивость ве-
щей, их своего рода игра в прятки, когда, прячась, они как бы только и «дума-
ют» о том, чтобы снова войти в светлый круг чистого присутствия, разблоки-
ровав свою загороженность или заторможенность.
Итак, в гомогенном пространстве состояний (в физике это прежде всего
пространство импульсов и координат, на котором определяются величины,
диктующие поведение физических систем) идет как бы сериальная волна, тол-
чки которой отдаются на поверхности внешнего мира случаемости. Эти «стран-
ные» вещи, которые так существуют — появились и исчезли, но на самом деле
только «притаились», — есть вещи типа «любовь», типа «страх», типа «вера».
Это — духовные, чувственно-сверхчувственные «вещи», для своего бытия тре-
бующие еще и своего понимания: понимание для них — конститутивный фак-
тор их существования. «Всплывание» тела понимания в свет сознания (бытия-
сознания) происходит, как это показывает M. М., по своим особым законам, со
своими скоростями, вовсе не совпадающими с теми, которые привычны для
рассудочной рефлексии. Сознание еще должно угадать, какие именно знаки
являются решающими, скрывая за собой или в себе целое тело понимания.
Оно может угадать и попасть в точку, а может и промахнуться. И это — реаль-
ные, квазифизические процессы нашей сознательной жизни, идущие, повто-
рю, с особым ритмом скоростей, который отвлеченно просчитать рассудком
невозможно, но значение которого для исполнения нашей жизни огромно. И
если при этом о каких-то гарантиях понимания и может идти речь, то это, ско-
рее, такого рода гарантии, как наша рискованная ангажированность, чем наши
чисто логические способности.
Итак, сериальные волны амплифицированы понимательными актами, раз-
вертывающими бытийность исполнения личности, ее призвания и смысла. Мы
видим, что собрать целое вне серий нельзя. Всегда должна быть серия движе-
ний определенного типа для того, чтобы смысл мог реализоваться как бытие.
«Событие», — говорит Мамардашвили, — не завершается в точке, а заверша-
ется через серию, скажем, черта характера так завершается» (С. 488).
В точке ничего нельзя развернуть, так как точка — конструкция свертки, а
не развертки. Но жизнь это прежде всего развертывание (себя, своего смысла).
И все представление о сериальности, которое вслед за Прустом эксплицитно
вводится M. М, вставлено как в свою объемлющую раму в представление о
мире «живых форм». И обращаясь к этому миру, мы видим, что и сериаль-
ность, и уникальность суть свойства времени личности как живого органиче-
ского «тела», причем «тело» понимается как особый фигурный «объем» в про-
странстве состояний.
Сериальпостъ и уникальность бытия
503
Для характеристики полюса уникальности, как она описывается Прустом и
Мамардашвили, обратимся снова к метафоре кристаллизации, но придав ей
несколько отличный от стендалевского смысл. Этот смысл вполне органичен
для Пруста, читавшего научные трактаты, что видно по многим местам его
текста. Для Мамардашвили же, пожалуй, использование научного мышления и
языка еще более органично. Пруст говорит о том, что нашу психическую жизнь
можно представить как своего рода способный к насыщению раствор, кото-
рый наконец становится насыщенным (в каком-то определенном отношении),
и когда случается такое событие, как попадание в него «затравки», то происхо-
дит кристаллизация, фазы системы четко разграничиваются, а, говоря психо-
логически, ситуация личности проясняется. Происходят какие-то «сцепления»
(любимое выражение M. М.), кладущие предел метастабильному колебанию
на грани, на бифуркационной полосе пространства состояний. И такая крис-
таллизация, чтобы развернуться «живым телом» нашей сознательной жизни,
неминуемо требует сериальное™. Так уникальность, проявляемая в кристал-
лизации (стендалевский смысл при этом не следует забывать), связывается с
сериальностью, необходимость которой обусловлена уже тем, что мы суще-
ствуем не только в пространстве, но и во времени. Итак, пространственно-вре-
менное многообразие, под знаком которого стоит жизнь, плюс уникальные сцеп-
ления души и мира, или кристаллизации, проявляющиеся как апостериорные
априори или метафизические апостериори (парадоксальность языка не долж-
на нас смущать — такова природа самих обсуждаемых «материй»), — вот ос-
новные условия сериальное™. Личность может сбыться, исполниться или свер-
шиться только в таком континууме многих измерений, в котором присутствует
время. А это значит, что она будет строиться сериально. Ведь иначе не смогут
«раскрутиться» уникальные структуры кристаллизации, дающие личности ха-
рактер, форму, фигуру.
Здесь уместно вспомнить о таком важном понятии философии Мамардаш-
вили, как «держание». Тема держания, введенная в «Картезианских размыш-
лениях», в «Лекциях о Прусте» получает дальнейшее развитие. Действитель-
но, личное бытие должно обладать силой для самодержания, выступающего
прежде всего как держание его кристаллизации, проведение их, иными слова-
ми, сквозь пространственно-временной континуум. Для этого требуется свое-
го рода подвижность в самом держании. Так, чтобы удерживать образ внешне-
го мира, требуется поразительная подвижность органа зрения. Более того, вещи
видятся не столько нашими физическими глазами, сколько культурными глаза-
ми миллионов людей, видевших их в самых разных ракурсах и передавших
нам свой опыт. Значит, при восприятии мы должны удерживать и этот интер-
субъективный опыт. Держание связано с интенцированностью наших воспри-
ятий. Возвращаясь к кристаллизациям, мы видим, что они как уникализирую-
504 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
щие личность структуры пространства состояний, связывающие психические
моменты с внешним миром, должны удерживаться — иначе они и не кристал-
лизация вовсе. Держание и кристаллизация взаимно держат друг друга потому,
что они пересекаются в «странном» мире глубины и неоднородности — в мире
духовного измерения бытия. Видимый мир держится невидимым. Находясь в
потоке изменчивых связей, человек, чтобы исполниться как личность, держит
свои кристаллизации или, иными словами, оберегает приоритет духовного и
символического над материальным и рассудочно-утилитарным слоем целост-
ного бытия. Стать личностью зависит от самого человека, так как в кристалли-
зациях первой волны (у Стендаля предусмотрены кристаллизации разных пе-
риодов развития любви) личность дана как бы в наброске, которому можно
остаться верным, а можно, напротив, изменить, не удержав его. Кристалл все-
гда дает серию — так происходит и в природе и в жизни личности.
Сериальность имеет некоторые законы. Первый — закон взаимности. Вне-
дряясь в прустовский пассаж о серии психологических фактов, Мамардашви-
ли комментирует: «...если мы разворачиваемся в серии, то по отношению к нам
другое существо — такое же, как и мы, и мы выступаем в мире этого существа
тоже в качестве элемента серии... И закон серии приводит к тому, что мужчи-
ны, которые в своей жизни были покинуты несколькими женщинами, были
покинуты всегда одним и тем же образом, в силу их характера (повторения,
воспроизводства причин), в силу всегда тождественных реакций, которые лег-
ко просчитать: у каждого своя манера, в какой его предают, так же, как своя
манера простужаться» (С. 484).
Взаимность сериальности означает, что в той мере, в какой мы сериализи-
руем других, в такой же мере они делают то же самое и с нами. Личность не
только субъект сериальности, но и ее объект. В обоих случаях момент специ-
фичности составляет содержание уникальности личности, данной сериально.
События, в которых мы участвуем пассивно, тоже суть явления нашей уни-
кальности. Устойчивость манер в активном и пассивном плане выступает, та-
ким образом, как основной содержательный массив понятия сериальности (в
связи с уникальностью) у Пруста. «Манера» здесь — несколько облегченное,
но уместное имя для обозначения динамически устойчивых способов действо-
вать и испытывать действия со стороны других, что предполагает наличие не-
которых блоков кристаллизации, образующих остов нашей личности и харак-
тера как уникальных индивидов.
Еще один существенный момент в связи с вышеприведенной цитатой из
Пруста. Сериальность нашего поведения позволяет нам быть просчитанным
другими. Если индивидуальные проявления сведутся целиком на сериальные,
то мы потеряем личность, став своего рода конечным автоматом. Поэтому се-
риальность все же больше дань необходимостям, чем опора свободы. В связи с
Сериальность и уникальность бытия
505
этим подчеркнем еще раз, что самым существенным правом личности высту-
пает как раз право нарушать серию, право на самоизменение, на перемену мысли
и бытия. Кристаллы фиксаций должны быть «открыты» для перекристаллиза-
ции, и это потенцированное движение, возможность самой возможности точ-
нее и глубже выражает личностность индивидуального бытия, чем его просчи-
тываемость в определенного рода сериях. Уникальное трансцендирует поле
рассудочного анализа. Личность, будучи таковой, прячет свои последние тай-
ны. Об этом Мамардашвили не забывает сказать на последних страницах сво-
его текста. «Никто не желает, — цитирует он Пруста, — открыть свою душу до
конца» (С. 531). Конец души тождествен ее началу: эти существительные дей-
ствительно имеют общий корень, прочитываемый, например, в слове «иско-
ни». И это начало — невыразимая тайна, которую оставляют на пороге фраз,
предназначенных для других. Поэтому центр уникальности личности всегда
затенен от глаз другого (да и от своих, пожалуй, тоже). Но есть свет, который
может быть брошен на этот исток личности. Это, прежде всего, свет искусства.
Именно об этом согласно говорят и Пруст, и Мамардашвили.
Два образа жизни и мира
Мы рассмотрели некоторые связи сериальности и уникальности как сил
бытия, смысловым центром которых выступает личность. «Сериальность» при
этом не выступала прямым антонимом «личности», хотя персонификация и
уникализация, вообще говоря, совпадали или почти совпадали в своих значе-
ниях. Мы могли бы, например, раскрыть персонифицирующие или уникализи-
руюшие возможности, скрывающие в стиле, в шарме и в других явлениях мира
человека. Но для этого у нас нет места. И поэтому мы переходим к выявлению
контрастирующих образов этого мира, в которых как бы резюмируется все на-
личное в текстах Пруста и Мамардашвили тематизирование проблемы сери-
альное/уникальное.
Сначала одно замечание. Специфика модуса мысли Мамардашвили, размыш-
ляющего в связи с прустовским текстом и стоящими за ним смыслами, харак-
теризуется тем, что в ней представлена теоретизация практико-нравственных
проблем, причем таких, которые сами по себе явно превосходят статус теории
как таковой, будучи относимы, и с полным на то основанием, к религии, к мо-
рали, к тому, что можно назвать мудростью и искусством жизни. Это приводит
к эпистемологической «мягкости» теоретизирования, сближая или даже час-
тично совмещая его с указанными не-теоретическими областями смыслопред-
ставленности. Эта особенность и будет проиллюстрирована ниже.
Живя в мире привычки, без сильных эмоций и волнений, без риска серьез-
ного ангажемента и ответственности, без вдохновения и мистического экстаза,
506 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
мы живем механически, плоско, можно сказать, сериально, растворяясь в се-
рии дней, часов, состояний, шаблонных актов. Этому модусу жизни отвечает
некое общее «Я», видящее то, что видят и другие: ресторан, дерево, те «пред-
меты, которые взаимозаменимы» (С. 367). Такие предметы мечены в языке не
именами, а общими словами, выступающими лингвистическим эквивалентом
их заменимости другими. Напротив, уникально-личностно мы будем жить тог-
да, когда вложим силой чувств, риском, порывом воображения в этот видимый
мир привычки, в это сериальное существование беспокойный, напряженный
мир наших стремлений, желаний, верований, которые мы свободно держим (и
которые держат нас самих). Этот способ жить — жизнь на пути или в пути к
себе самому, к своему призванию. Первый же род жизни — это «холодная»
жизнь в самоутрате, в самопотерянности и самоотказе.
Оба мира связаны определенными условиями перехода. Некоторые из них
нами уже были рассмотрены. Теперь раскроем шире зону имеющихся здесь
возможностей. Одним из таких условий выступает «собранность жизни». Если
уникальный статус бытия определяется практико-этически стандартной фор-
мулой («вместо тебя никто этого не сделает» — С. 384), то, следуя этому при-
зыву к уникальности, нужно собраться. И уже само это собирание есть уни-
кальное дело, так как никто другой за тебя не может выполнить эту задачу.
Твоя жизнь или ты сам в глубине своего существа хочешь, чтобы жизнь была
твоя. На натуральную данность твоей жизни накладывается духовная задан-
ность (задание) овладеть ею в самоисполнении. Несобранность же жизни рав-
носильна тому, что не ты сам живешь, а «тебя живут». Поэтому личность в
стремлении к себе (стать, сбыться) стремится собрать свою жизнь. Пруст это
делает прежде всего и в конце концов писанием как трудом собирания своей
жизни как «утраченного времени». И поэтому не случайно, что сама «богиня»
времени, представленная для Марселя в Альбертине, называется M. М. «боги-
ней собирания» (С. 384).
Продумывая горизонт возможностей уникализации, мы видим, что, с одной
стороны, он упирается в «небо» (фактор «богинности»), а с другой — охваты-
вает хтоническое кипение земли (событие желания). «Предмет в нашем поле, —
пишет Мамардашвили, — сингуляризировался, распух, вспучился совершен-
но неадекватно своему предметному содержанию и значению, в силу структу-
ры нашего бега к богине. На нем свет ее. Он выделен» (С. 391).
Это — уникализирующая работа «неба». Но в том же самом луче, «вспучи-
вающем» предметы и тем самым превращающем их в уникальные существа,
живет и вектор желания, определяющего направление наших душевных инве-
стиций в видимый мир. «Именно желание, — говорит М. М., — вспучивает
фигуры, и мы видим их, а не факты» (С. 392). Нетрудно увидеть в этой работе
желания эффект кристаллизации именно в смысле Стендаля: благодаря ему
Сериальностъ и уникальность бытия
507
мы видим не жалкую ветку, а своего рода гирлянду бриллиантов — совершенств
существа, которое мы полюбили. Теперь мы можем сделать следующий шаг.
Констатируя связь небесно-богинной обусловленности выделенное™ предме-
та с «желанной», мы можем предположить, что желание в своей основе есть
именно желание бега к «богине», есть стремление к божеству, действующее в
глубинах хтонических недр «земли». Реминисценция платоновской эротоло-
гии, в частности трактовки Эроса Диотимой (Пир, 203), здесь вполне уместна.
Итак, выделение предмета или лица происходит через кристаллизацию же-
лания (и желанием), адресованного в конце концов и в самом начале к некой
«богине» и направленного на соответствующий предмет или лицо. И Пруст,
и — особенно — Мамардашвили подчеркивают, что здесь преодолевается на-
туралистический детерминизм, когда вследствие каких-то натуральных свойств
выбирается (в качестве объекта любви) данный предмет. Здесь происходит,
цитирует M. М. Пруста, «упаковка случайных, но нерасторжимых элементов»
(С. 400), т. е. имеет место механизм «метафизического апостериори», опреде-
ляющий режим выделенное™ предмета или лица. Сама структура желания за-
вязывается силой сцепления «случайных, но нерасторжимых» элементов меж-
ду собой и с его субъектом так, что выделенный предмет начинает светиться
отраженным лучом, исходящим от «богини» и проходящим сквозь желание.
Так устроенный луч желания в какой-то момент упирается, например, в щеки
Альбертины. В самой конкретной упаковке есть случайность. Но раз она про-
изошла, то личность (чтобы быть личностью) ее держит, так как существует
механизм необратимости сознательной жизни, не позволяющий произвольным
усилием выравнивать точки пространства и времени, раз они в первовыборе
или первовпечатлении уже утратили свою однородность (факт кристаллиза-
ции, событие упаковки). И поэтому в дальнейшем работает уже механизм дер-
жания как внутренней верности раз сделанным шагам.
Итак, Марсель идет по лучу желания, но вот Альбертина исчезла, и он пада-
ет в объятия других женщин как «в зияющую пустоту отсутствующего тела
Альбертины» (С. 400). Иными словами, утратив Альбертину как выделенное
лицо, он попадает в серию попыток ее замещения, заведомо обреченных на
неудачу, так как она для него — уникальное существо, в отношении к которому
светится его любовь к «богине». И эта ситуация — ситуация «утраченного вре-
мени» в буквальном смысле слова, так как Альбертина символизирует время
(или «богиню» времени). Боги всегда присутствуют и в этом смысле неутрачи-
ваемы, но утратить их земных репрезентантов можно. И именно такого рода
утрата порождает специфическую сериальность бытия.
Резюмируем эти анализы M. М. такой альтернативой. Первая возможность:
я живу как вещь-со-свойствами (натуральными) в мире вещей со свойствами
такого же натурального плана. И тогда я подвержен играм этого вещного мира
508 Глава VI XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
и сам таков, как и он. В этом случае у меня нет «длящихся актов сознательной
жизни», нет держания духовного измерения. Вторая возможность: я верю «в
мир как в уникальное индивидуальное существо» (С. 410), и тогда я сам могу
быть уникальным индивидуальным существом, способным к когитальным ак-
там и к их удержанию так, чтобы выполнять свое уникальное предназначение
в этом уникальном и не-готовом мире.
Существен здесь момент самой веры в мир как в уникальное живое суще-
ство, не имеющее эквивалента, незаменимое. В поле такой веры нет множе-
ственности (равноправных) миров, а есть единственный мир, за который я сам
в ответе, ибо я, рискуя, вложил в него свою собственную жизнь, полноту своих
чувств. В этом случае я держу свои кристаллизации и, соответственно, и на
весь мир ложится свет уникальности. Нет серии миров, нет навязчивой сери-
альное™ равнодушия и страха. Уникальность мира смыкается с моей собствен-
ной, равно как и с уникальностью лиц, структурирующих значимый мир моей
жизни. Какова же эта вера? Эта вера в тертуллиановском смысле (для нату-
рального мира вера в невозможное), и именно она выступает условием под-
линности мира как мира личностей и призваний. Вера, говорит M. М., «есть
условие порождения мира», причем других оснований «для рождения мира нет»
(С. 411). Без потока веры и верований (croyances), обращенных на мир, аванси-
рующих ему его уникальность, мир не длится как единственный, осмыслен-
ный и живой. Будучи верой-вопреки, она выдерживает натиск фактуального
знания: «Я верю, что Альбертина добра, хотя знаю, что она мне изменяет. Верю,
что она благородна, хотя знаю, что она порочна» (С. 411).
Уровень фактуального знания, где над его оформлением работает рассудок,
преодолевается феноменом веры. M. М. указывает на этот момент как на пере-
сечение религии и философии, подчеркивая его локальность. Здесь нам пред-
ставляется важным подчеркнуть, что предпочтение, обнаруживаемое прежде в
«Лекциях» у M. М. при сравнении религии и мистики в пользу последней, в
этих местах текста преодолевается.
Заметим в этой связи, что от языческих «богинь», от этого эстетического
политеизма конца XIX века к финалу своих «Лекций» Мамардашвили выходит
на тему искупления и спасения, говоря о Христе и символе креста. Эта эволю-
ция мистических содержаний книги вряд ли случайна: обретение времени как
«живой вечности» вряд ли возможно на уровне языческо-эстетических «бо-
гинь», для этого нужен подвиг искупления, спасительная жертва, а ее нет вне
Христа. Так христология оказывается внутренне значимым смыслом философ-
ского анализа пути личности, той феноменолого-герменевтической персоно-
логии, которую, используя текст Пруста, развивает Мамардашвили. Правда,
соотношение эстетического язычески-платонического и христианского симво-
лизмов не тематизировано в «Лекциях», и, пожалуй, обоснованно предполо-
Сериалъность и уникальность бытия
509
жить, что второй подчинен первому. Основание для этого мы видим в устойчи-
вости образа «богинь», в том, что всей конструкции топологии пути требуется
общесимволический трансцендентный базис для возможности фундирования
эротологии, эстетики и персонологии, преодолевающих эмпиризм натуралис-
тической картины мира. И собственно христианский символизм выступает ско-
рее одним из вариантов этого общего символизма. Фундаментальная оппозиция
природы и света, соответственно, «сынов природы» и «сынов света»16 указы-
вает скорее на неоплатонические и неоренессансные, даже герметико-гности-
ческие истоки той духовной атмосферы, которую мы находим прежде всего,
конечно же, у самого Пруста и, в меньшей мере, у читающего его текст Мамар-
дашвили. Переведя этот тон или атмосферу на код русской культурной тради-
ции, мы могли бы сказать о той «сребровечной» (от Серебряного века) дымке
Пруста, в которой у него истаивает символ креста.
Тем не менее показательно, что именно обращение к символу Христа вен-
чает собой лабиринт размышлений Мамардашвили о смысле человеческой
жизни и, в частности, о том, как он может достигаться не только в жизни чело-
века, но и за ее пределами. И в этой связи характерно, что свою книгу о Прусте
Мамардашвили заканчивает рассказом об искуплении святотатства, совершен-
ного подругой мадмуазель Вентейль по отношению к ее умершему отцу —
великому композитору. Эти два символа-понятия (спасение и искупление) близ-
ки друг к другу, аккумулируя в себе конечный смысл времени, а значит, и сери-
альное™ бытия-во-времени вообще. Ведь время и пространство как общие
рамочные условия сериальности/уникальности даны, в конце концов, для того,
чтобы спастись, достигнув искупления грехов. Спасение-искупление — сим-
вол завершенного, обретенного времени, если угодно, пройденного и изжито-
го как таковое, а также и преодоленного пространства. Иными словами, это
символ полноты избывания мира (избывания самого избывания), как переход
из «бывания» в «бытие», из времени — в вечность. И не в «сребровечную», а
«златовечную». Первую и последнюю. Дробление лиц, мультипликация «Я»
внутри одного героя происходит у Пруста потому, что искупления не
достигается.
Смерть индивида может по-разному соотноситься с этим метафизико-рели-
гиозным завершением времени. Так, композитор Вентейль, умирая, оставляет
свои труды неразобранными, не завершив дело своей жизни. Но его за него
довершает, искупая тем самым свою вину перед ним, подруга его дочери. Тем
самым Пруст показывает, что личные смыслы жизни протягиваются за грани-
цы времени индивидуальных жизней. Это указывает на сверхличностный ха-
Природа — сериальна, свет (дух) — уникален. «Сыны природы»—люди серий, «сыны
света» — творцы жизни и искусства, углубляющиеся в свои впечатления.
510 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
рактер смысла самой личности. Но если жив, завершаясь и вершась, смысл
жизни того, кто уже умер, то это означает, что он умер только натурально, а в
духе он живет. Но это и есть ситуация преодоленного времени как «царства
смерти всего сущего».
Грубо, но точно: мы — сериальны, расплываясь в попытках, в подобиях и
рядах того же самого потому, что не искуплены и не спасены. Потому, что не
реализовали сам смысл времени. Не избыли бывание (мир) в нас самих. Если
свершение искупления и не отменяет времени совсем, то тем не менее делает
его недоступным попыточной, или «проявительной», сериальности, когда тре-
буется череда моментов времени ради того, чтобы «всплыла» личность, возник
смысл ее бытия. Сериальность в конечном счете — свойство профанного вре-
мени. Для времени сакрального сериальности не существует. Каждый миг сак-
рального времени уникален. Космические статические религии — религии с
вечным возвращением того же самого. Они сизифоподобны. Время в них неза-
вершимо по определению. В их рамках нет универсальной личности. Само
профанное время существует потому, что есть время священное, когда «все
началось» или когда все получило конечный смысл.
Итак, преодоление мира вещей-со-свойствами (натуральными) совершает-
ся благодаря акту веры или акту воплощения смысла (здесь: любви, так как все
эти перипетии сериальности и уникальности проигрываются на истории люб-
ви Марселя, прежде всего, к Альбертине). Смысл нашел свое «тело» — в дан-
ном случае это тело Альбертины, это сама Альбертина как личность. Метафи-
зическое содержание мира (и сверхмира) опытно «осело» на Альбертине, что
означает, что мир отныне сложился как духовный организм, преодолев гори-
зонт своей натуральной данности. Ведь теперь «Стермарья или любая другая
женщина не даст нам того, что дает Альбертина. Почему? Потому что именно
на Альбертине произошел процесс локализации смысла и тем самым локали-
зации априорной структуры нашей возможности чувствовать, когда все другое
нас просто не будет волновать, хотя это «другое» может обладать формально
теми же качествами, которые должны были бы вызвать определенное состоя-
ние души или чувства» (С. 413).
Именно здесь априорная возможность чувств равнозначна их априорной же
невозможности, что эквивалентно основному смыслу живой личности: я живу,
длюсь живым! И это состояние жизнесмысла достигнуто благодаря вере (у
Пруста экспериментальной, имеющей опытное происхождение).
В «Лекциях» привычная для прежних работ Мамардашвили теоретико-по-
знавательная и историко-философская оппозиция классического и некласси-
ческого мышлений по сути дела замещена другой универсальной оппозицией,
являющейся одновременно и онтологической, и познавательной, и антрополо-
гической, и практико-этической. Речь идет о тех двух альтернативных образах
Сериалъность и уникальность бытия
511
мира и жизни, которые мы сейчас реконструируем как резюмирующие всю
тематику соотношения сериального и уникального, как она развивается Прус-
том и Мамардашвили. Существенным моментом здесь выступает имплицитно
(а порой и эксплицитно) присутствующий аналог платоновского мифа о пеще-
ре, служащий моделью для отношений между двумя контрастирующими ми-
рами. Действительно, M. М. говорит, с одной стороны, о «планиметрической»
психологии, о плоскостном видении мира, а с другой, имея в виду альтернатив-
ный мир, он противопоставляет ему мир стереоскопический, мир объемных
живых «фигур». Итак, с одной стороны, плоские «тени», с другой — объемные
пластические фигуры, наполненные к тому же жизнью. Подобно Платону,
Мамардашвили описывает ситуацию возможного перехода из мира теней-плос-
костей в мир живых тел как объемных реальностей. Возможность перехода
резервируется «нулевой» точкой, в которой нейтрализуется весь натуралисти-
ческий тип мира, натуралистическая его картина, предполагающая наличие
готовых вещей-со-свойствами, действующих детерминистически. В такой точ-
ке потенциальная значимость, скажем, рекламы мыла не уступает значимости
«Мыслей» Паскаля. Эта нейтрализация мира готовых вещей (аналог феноме-
нологической редукции Гуссерля) отбрасывает индивида к себе самому и ста-
вит перед ним задачу создания своего собственного мира, т. е. мира с «искрив-
лениями» его плоскостей потенциалами своих чувств, желаний и риска. И только
при условии такой активности, вносящей неоднородность личности в безли-
кий мир готовностей, плоский мир однородного пространства переходит в мир
живых органических форм и индивидуальных объемов. Примерно так можно
описать аналог платоновской «метанойи»17, представленный в тексте «Лекций».
Надо только добавить, что такая радикальная «мыслеперемена» вызывается,
как правило, пережитым страданием, мучением находиться в «подвешеннос-
ти», болью от соударения со случайностью судьбы, участью смертного бытия,
каковым является человек. Этот момент страданий, боли, глубоких пережива-
ний, опыт потрясений всего существа как неизбежного события на пути чело-
века в личность добавляет новый, можно сказать, христианский тон в плато-
новскую настроенность автора «Лекций», о чем мы уже сказали выше.
Итак, реконструируя мир Пруста и проводя сквозь его темы и образы свою
философию личного достоинства человека, Мамардашвили рисует картину двух
миров и, соответственно, двух возможных образов жизни, ценностные и онто-
логические статусы которых соотносятся так же, как соотносятся два мира в
мифе Платона о пещере (Resp. VII, 517—518). Первый из этих миров — это
мир общих впечатлений, общих в том смысле, что все воспринимают то же
17 Так у Платона в «Государстве» названо «искусство обращения» (Resp. VII, 518 d, пер.
А. Н. Егунова).
512 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
самое (дерево, стол). Это — мир однородных восприятий, когда одно дерево
воспринимается так, как и другое, а именно в качестве дерева вообще. Это —
мир обратимых явлений и заменимых вещей, мир однородного пространства,
аналогичный миру классической механики, мир, стоящий под знаком не разли-
чия, а тождества. Описание такого мира и в таком мире нигде не может остано-
виться — для этого нет оснований, нет прерывающих его непрерывность син-
гулярностей. Этот мир поэтому характеризуется бесконечностью признаков
предмета описания, ему, как говорит M. М, присуща «дурная повторяемость»
(С. 415). Акты сознания в таком мире — «гомогенные операции» (С. 296), «об-
щие», «единообразные акты» (С. 293), а память — униформная память. С та-
ким миром коррелирует логика отвлеченного ума как средства по производ-
ству общих представлений, дающих «каркас» общезначимого и объективного.
Страсти здесь как бы убраны из мироустроительной активности, а с миром
соотносится бесстрастное восприятие, внутри которого развивается абстракт-
но-рассудочное отношение к сущности. Это — «иллюзорный мир свойств, ат-
рибутов, количественных различий» (С. 431), иллюзорный в том смысле, как
иллюзорен мир платоновских теней для узника пещеры, узнавшего о подлин-
ном мире. M. М. особенно настаивает на том, что это мир детерминизма, опре-
деляемого логикой натуральных свойств вещей (если есть такие-то свойства у
вещи, то будет, например, как считают, мысля по логике этого мира, любовь к
этой вещи).
Это мир «серий», «коллекций» или однотипных рядов. Мир повторений,
механической привычки, в котором инерция вещей и событий во времени об-
наруживается как сериальность. Это — готовый мир вещей и свойств, причем
этой готовности или завершенности отвечает вещеподобная законченность в
конечной истолкованности и самого человека. Человек таков, каков его мир.
Это мир исчислимости и готовности продлить сказанное в несказанное, выра-
женное в невыразимое, заместив первым последнее. Мир сплошной истолко-
ванности бытия рассудком, сопровождающейся профанирующим растаптыва-
нием тайны, мир презумпции полной доступности бытия расчету и плану, мир
бесчувственный и «холодный». Это — мир потребления искусства без ответ-
ного творчества. Поэтому если в эстетическом плане это — мир «холостяков
искусства», то в антропологическом — мир «сынов природы», т. е. мир нату-
ральной картины мира, создаваемой людьми, не могущими углубиться в свои
собственные первовпечатления и внести неоднородность личности и творче-
ского прорыва в плоский мир застывших форм, не умеющих врасти в духов-
ную структуру символа и погрузиться в иной мир — в мир невидимых произ-
водящих духовных форм.
Таков мир как своего рода машина по продуцированию и поддержанию се-
риального (квази)бытия. Не следует его представлять как мир чистой натура-
Сериалъность и уникальность бытия
513
листической объективности в себе, так как он связан с субъектом, настроен-
ным именно таким образом, что ему отвечает такой мир. Поэтому и возможно
преодоление этого мира. И «Лекции» по сути дела и дают нам описание топо-
логии перехода из этого мира в иной — в мир подлинного бытия и настоящего
человеческого смысла.
Каков же этот иной мир, мир подлинности и смысла, уникальный мир не
теряемого времени, а обретаемой вечности? Опишем его в антисловах по отно-
шению к тем, какими мы только что описали мир сериальных теней бытия. В
противовес ему это — мир уникальных свечений, мир сингулярных живых ин-
дивидуальных форм, мир личностей, мир не заданных вещей, а духовных зада-
ний. Уникальное определяется M. М. как то, что «ни для чего и не против чего-
то, но само по себе» (С. 536), что, очевидно, раскрывает его незаменимость как
самосущность, как полноценность самобытия, как самоцельность. Уникаль-
ное бытие — само-стоятельное, само-держащее, само-цельное, и поэтому оно
незаменимо другим — в отличие от сериального бытия, в котором один член
ряда заменим другими при сохранении единого инвариантного смысла. В уни-
кальном бытии смысл неотслаиваем от явления, функция неотделима от струк-
туры. Это мир не общих, а когитальных или личностных впечатлений и вос-
приятий, «вспучивающих» пространство состояний и вносящих тем самым в
него нередуцируемую негомогенность, что приводит к тому, что сериальность
блокируется и возникает уникализирующая поведение и мышление структу-
ра — метафизическое апостериори, сцепляющая воедино «случайные, но не-
расторжимые» моменты. Пространство состояний такого мира неоднородно,
причем структуры неоднородности держатся. Соответственно у личности есть
духовная основа, на которой она держится — верна себе и своему призванию.
Такой мир стоит не под знаком пространства, а под знаком времени, в котором
обретается вечность. Это мир не сериальных тождеств, а уникальных разли-
чий. «Дурно-бесконечной» невозможности остановиться в описании здесь про-
тивостоит способность к лаконичной «упаковке» бесконечности в единичный
предмет, в живую конечную форму. Такова, например, улитка, обрывающая
бесконечную спираль и завершающая ее безостановочное развертывание в
своей конечной форме. Это мир не плоского рассудка, а широкого велико-
душного сердца. Побеждает всегда, говорит Мамардашвили, «сильное серд-
це» (С. 431).
Это мир не равнодушных к личности свойств или качеств, а мир «качеств-
интенсивностей», на которых строит свою неповторимость личность. Это мир
не причинности как натурального детерминирования свойствами состояний
личности, а мир самоопределения и свободы, мир спонтанности, живой и уни-
кальный и именно поэтому ждущий от нас нашей собственной уникальности.
Мир не готовый и застывший, а подвижный и открытый для всех уникальных
33 - 3357
514 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
вкладов. Такой мир определяется как нечто «непостижимое, невидимое и при-
том чувственное» (С. 437).
Это мир творчества, вдохновения, глубокого, всепоглощающего волнения
души. «Существо дела, — говорит Мамардашвили, — у Пруста выскакивает
на очень сильной волне вдохновения» (С. 378).
Вокруг каждой личности в этом мире описан круг тайны, непостижимости.
Ядро личности как бы прикрыто не могущей быть пронизанной взглядом тем-
нотой. Но по сути дела эта темнота — свет, который невидим, но зато всему
дает вид и смысл. Это мир трудного созидания, ибо труд — это «остановка
повторения» (С. 416). Это мир «сынов духа», которым завещано, пока свет све-
тит, трудиться и созидать.
Два мира, сравнительный анализ которых, опираясь на тексты Пруста и
Мамардашвили, мы дали, соотносятся между собой как подлинный мир и мир-
симулякр, искажающей калькой наложенный на первый мир и сбивающий че-
ловека с пути в его движении к самому себе, к истине и самореализации. Вся
эта драма протекает в сознании как «свете и препятствии» и, одновременно, в
мире, который с ним коррелирует. По Прусту, сознание есть «тонкая духовная
оболочка, не дающая прикоснуться» к веществу мира 18. На эту обволакиваю-
щую пленку «Я» натыкается при попытках своего прямого контакта с вещами
мира. Эта «пленка» их как бы деформирует, так как является «полупрозрачной»
по своим «свойствам». Если классическая европейская философия считала со-
знание абсолютно прозрачным (по отношению к вещам и к истине), то неклас-
сическое мышление обнаружило его непрозрачность, установив, соответствен-
но, его вещеподобный квазифизический статус. В частности, сознание высту-
пило не только как (естественный) свет (разума), но именно как «препятствие»
познанию, в результате чего оно стало нуждаться в своего рода психоанализе ,9.
Эти два мира различаются не столько формальными признаками сериаль-
ное™ в одном и уникальности в другом, сколько подлинностью осуществле-
ния личного бытия в одном и симуляцией и имитацией его в другом. Постав-
ленные на конвейер удовольствия от потребления «холостяками искусства» его
произведений демонстрируют срыв возможного роста личности, ее движения
к самореализации, отказ от углубления и проработки личного «корня нашего
впечатления» 20. Современное шаблонное «кайфоловительство» — пожалуй,
18Пруст М. В поисках... Т. 1. По направлению к Свану. М., 1992. С. 79.
19 См.: Bachelard G. La formation de l'esprit scientifique. Contribution à la psychanalyse de
la connaissance objective. P., 1936. A также: Визгин В. И Эпистемология Башляра и история
науки. М., 1996.
20Пруст М. В поисках... — Цит. по: Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте. М., 1995.
С. 298.
Сериалъностъ и уникальность бытия
515
еще более очевидный сериальный срыв такого же рода. Здесь симулякризации
подвергнута сама сфера желаний. Функцию же «натурального мира» как де-
терминатора мышления и поведения выполняет вписанный в глобальный рынок
техномир, продуцирующий его имитационный дубль. В таком мире личности
суживаются до сериальных точек в стратегиях и тактиках их использования. В
результате оказываются подрезанными крылья продуктивного воображения,
которое, по Мамардашвили, есть не представление того, чего нет, но, напро-
тив, обнаружение того, что есть, но скрыто. Отделаться от невыразимого во
впечатлении значит отказаться от его личных глубин. Без трудного опыта ис-
кусства, творчества и воображения такое углубление в персональный корень
импрессии невозможно.
33*
МИШЕЛЬ ФУКО —
ТЕОРЕТИК ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗНАНИЯ
Концепция «археологии знания», развернутая Фуко в его книге «Слова и
вещи», погружена в объемлющий ее контекст «генеалогии знания» ', прости-
рающийся от его ранних работ, таких, как «История безумия в классическую
эпоху» (1961) и «Рождение клиники» (1963), до первого тома «Истории сексу-
альности» (Воля к знанию, 1976). Поэтому мы рассмотрим именно этот кон-
текст, дающий ключ к пониманию той семиотико-культурологической трак-
товки знания, которая с таким блеском представлена в «Словах и вещах».
Какой урок, какое поучение, или, скромнее, сообщение, кроется в таком яв-
лении, как творчество Мишеля Фуко (1926—1984), для нас, его переживших?
Какими бы ни были возможные ответы на это вопрошание, одно несомненно:
после Фуко мы уже не можем мыслить так, как это делали до своего знаком-
ства с ним. Мы познали дополнительные степени открывшихся нам принуж-
дений и необходимостей, исходящих из нашего бытия, нашей историчности,
нашей тварности, говоря теологическим языком. Дополнительные степени сво-
боды возникли у нас уже потому, что наш образ истории, наши интеллектуаль-
ные привычки иметь с ней дело существенно изменились благодаря работе,
проделанной над историей европейской цивилизации Фуко. Кстати, он сам все-
гда подчеркивал именно «рабочий», «примерочный», поисковый характер сво-
его творчества, характеризуя предлагаемые им конструкции как только «вехи»,
«следы», «ориентировочные маршруты» (les pistes) для исследовательской
мысли. Для него самым важным было отыскать и сделать явными те «аттрак-
торные» точки-цели в интеллектуальном «карьере», которые могли бы стать
1 Название это вполне сознательно заимствовано у Фр. Ницше («К генеалогии морали»,
1887). Ницше стремился показать, что моральные категории указывают не на независимый
мир самостоятельно существующих ценностей, а выражают в своей сути отношения гос-
подства, характерные для общества, в котором они функционируют, так что за всей сферой
морали стоит «воля к власти». Одним из результатов разработанного им «генеалогическо-
го» подхода стало истолкование христианства и его учения как «восстания рабов в морали».
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания
517
фокусами таких исследований и разработок, способных объяснить современ-
ному европейцу переживаемое им настоящее. Фуко-историк был «привязан» к
загадке современности, к ее беспокойному пульсу. Так, ради ее понимания он
спускается на дно исторических колодцев, становясь «археологом» культуры и
«генеалогом» цивилизации. Своей интеллектуальной чувствительностью он
напоминал безумца-лоцмана, ищущего не безопасного, надежного, логически
выверенного «канала», а, напротив, зоны наибольшей концептуальной неус-
тойчивости, динамичности, турбулентности.
Итак, Фуко обновил историческую мысль, указал на новые черты в образе
истории. Если в привычной нам историографии основное внимание историков
уделялось раскрытию роли и значения ее великих деятелей, властителей дум,
мэтров в философии, науке, искусстве, то благодаря работам Фуко мы научи-
лись ценить неприметные «шестеренки» исторического процесса, остававши-
еся не замеченными прежней, «высокой», историографической установкой.
Правда, работу в этом направлении вели и до Фуко многие историки, прежде
всего, представители школы «Анналов», значение которой признавал Фуко. Но
в отличие от них Фуко всегда был и оставался философом, философствуя как
бы вне философии — в истории, в анализе текстов, документов, причем неред-
ко маргинальных и забытых. Выходя за привычные рамки философии, Фуко,
повторим, оставался философом — ив этом его своеобразие и его значение.
Мы уже сказали, что с новооткрытыми благодаря Фуко степенями интел-
лектуальной свободы высветились и новые принуждения для европейского
человека. Какие же именно? Кратко их можно обобщить в понятии «полити-
ческого материализма», напоминающего нам о том, что доктрина привычного
нам исторического — в основе своей экономического — материализма не пол-
на по части выявления исторических необходимостей, в которых живет и дей-
ствует индивид. Это учение не только не полно, но и искажает саму иерархию
исторических факторов. Согласно Фуко, «политика» или «язык» ничуть не ме-
нее «базисные» категории, чем экономика. Конечно, и «язык», и «политика»
при этом существенно переосмысляются французским философом. Фуко пре-
одолевает горизонт «юридической матрицы» для определения политики. Для
него политика не часть идеологии, не феномен общественного сознания и т. п.,
но вездесущая всепроникающая социореляционная бестелесная квазиматерия,
анонимная и всеобщая. Как в основе классического естествознания лежит кон-
цепт материи — неизменного «эфира» как проводника механических взаимо-
действий, — так и в основе неклассической теории Фуко лежит «материализм
бестелесного» (le matérialisme d'incorporel). Конечно, сам этот феномен «по-
литической материи» раскрывается в истории, обнажаясь со всей силой, пожа-
луй, только в Новое время, являющееся преимущественной зоной «археологи-
ческих» и «генеалогических» изысканий Фуко. По Фуко, слова, вещи и инди-
518 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
виды включены в разнообразные системы отношений господства, обслужива-
емого очагами их генерации в разнообразных социальных «локусах». Это —
«микрофизика» властных отношений, которые наподобие физического «эфи-
ра» пронизывают большое «тело» тел — растущую и дифференцирующуюся
цивилизацию Запада. Некие матричные структуры (в «Словах и вещах» это —
«эпистемы», в «Археологии знания» — регулярности речевых и неречевых
практик, а в «генеалогии» это — элементарные очаги «власти-знания», некото-
рые социополитические структуры, или цивилизационные «ядра») определя-
ют взаимопроникновение (если не полное отождествление) «политической
материи» с «материей» эпистемической, властных отношений с отношениями
когнитивными.
Итак, для Фуко не существует «власти» отдельно от «знания» и наоборот.
Знание не есть особый «внеполитический» продукт, который может властью
лишь внешним образом использоваться, замедляясь или ускоряясь в своем раз-
витии в результате влияния на него «политики». Знание само по себе есть
«власть», оно насквозь пропитано отношениями господства, построено с са-
мого начала так, чтобы быть способным к своей политической утилизации. И
наоборот, власть всегда есть, по сути дела, знание, т. е. существует в реально-
сти, говорит Фуко, только единое нераздельное целое — «власть-знание»
{pouvoir-savoir).
Если обособление «власти» от «знания» всегда условно и относительно, то
их единство и даже тождество — это их общая единая сущность. Властные
отношения как микрофизические поля пронизывают всю толщу цивилизации,
на всех ее уровнях. И именно на базе таким образом понимаемой политики
возможно относительное обособление политики как специального института,
возникновение государства, его эволюция и т. п. Но суть политики, подчерки-
вает Фуко, задает не государственно-юридическая модель, а модель физики
микрополя, модель в высшей степени динамическая, реляционная и всепрони-
кающая.
К теории генеалогии власти-знания Фуко «вышел» как философ-историк, в
результате проделанных им исторических анализов. С самого начала своего
творчества он исследовал те социальные институты, в которых генерируются,
транслируются, используются знания и одновременно проводится определен-
ная политическая стратегия, выполняется конкретная задача по управлению
цивилизационными процессами. Эти институты и есть «ядра» и «модели» ци-
вилизации — приют для психически больных, клинический госпиталь, тюрь-
ма, казарма, школа... Их рождению, функционированию, возникновению и раз-
витию на их базе когнитивных и дисциплинарных структур знания, цикла гу-
манитарных наук, или наук о человеке, и посвящены его основные работы. Да,
конецепт «власти-знания» появляется только в 1972 г., но фактически Фуко
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания
519
уже применяет эту генеалогическую теорию, начиная с работ «История безу-
мия» (1961) и «Рождение клиники» (1963). Клиника рассматривается им как
такая динамическая поликомпонентная система, в которой происходит тесное
переплетение и взаимодействие различных социокультурных вызовов и потреб-
ностей, эпистемологических связей и традиций, политических заданий и иде-
ологий, благодаря чему возникает и формируется совершенно новый тип ме-
дицинского знания — клиническая медицина, идущая на смену традиционной
«классификаторской» медицине классической эпохи.
Впервые в теоретически ясной форме мысль об объяснении генезиса и раз-
вития знания, исходя из социополитических матриц, была высказана Фуко в
его лекциях в Коллеж де Франс в рамках курса «Пенальные теории и институ-
ты» (1971—1972): «Рабочая гипотеза у нас, — говорит философ, — такова:
отношения власти (вместе с битвами, которые их пронизывают, или с институ-
тами, которые их подерживают) не играют по отношению к знанию только
лишь роль благоприятствующих факторов или препятствий, они не ограничи-
ваются тем, чтобы способствовать знанию или стимулировать его, чтобы иска-
жать его или же ограничивать. Власть и знание не связаны между собой ис-
ключительно игрой интересов или идеологией, и поэтому проблема состоит не
только в том, чтобы установить, каким образом власть подчиняет себе знание и
заставляет служить своим целям или же как она отпечатывается на нем и нала-
гает на него идеологические ограничения и содержания. Никакое знание не
формируется без системы коммуникации, регистрации, накопления, трансля-
ции, которая уже сама по себе есть форма власти и в своем существовании и
функционировании связана с другими ее формами. В свою очередь, никакая
власть не существует без извлечения, усвоения и присвоения знания, без его
распределения или удержания. На таком уровне анализа не существует отдель-
но, с одной стороны, познания или науки, а с другой, общества и государства,
но существуют лишь фундаментальные формы "власти-знания"»2.
Итак, «слияние» власти и знания представляется Фуко оправданным и зна-
чимым на уровне глубинных социальных механизмов функционирования сис-
тем получения, распределения и использования знаний. Знания «добывают-
ся», хранятся и используются всегда в определенных коммуникативных систе-
мах с установленным внутри них порядком вопрошания, обращенного к объекту
познания, с правилами категоризации возможных вопросов и ответов, спосо-
бов их фиксации, сообщения, утилизации и т. п. Фуко стремится показать, что
все эти социальные механизмы не являются внешними по отношению к само-
му знанию, что они не только оставляют малозначащие «следы» в «теле» зна-
ния, на его «поверхности», но оформляют само содержание знаний. Иными
2Цит. по: Kremer-Marietti A. Foucault et l'archéologie du savoir. P., 1974. P. 202.
520 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
словами, познающий субъект видит природу в рамках того «горизонта», кото-
рый ему обеспечивает поддерживающая его социальная «конструкция». Та-
ким образом, социокультурные каналы познавательного диалога человека с
природой не являются безразличными для самой структуры получаемых бла-
годаря им знаний. Так мы бы истолковали эту ведущую гипотезу «генеалоги-
ческого» подхода Фуко, ставящую его в традицию современной социологии
знания (Мангейм, Малкей, Блур и др.).
Исходя из этой рабочей гипотезы, Фуко набрасывает контуры генеалогиче-
ской истории знаний. Он выделяет три основные матрицы генерации знаний:
«мера», или «измерение» (античность), «опрос», или «дознание» (средние века),
«осмотр», или «обследование» (новое время). «Мера» это — всеобщий регуля-
тор социальных отношений, основание эстетических канонов античной Гре-
ции и представлений о стихиях-элементах как в эмпедокловой, так и в плато-
новской форме, уходящее своими корнями в пифагорейское стремление сво-
дить сущность природы и общества к пропорциям, к правильным числовым
соотношениям, к «числу и образу», причем сам образ определен числом.
«Мера, — говорит Фуко, — это средство установления или восстановления по-
рядка, причем порядка справедливого, в столкновениях и людей, и физических
элементов, а также матрица математического и физического знания» 3.
Историки античной культуры провели целый ряд исследований, показыва-
ющих, что для Греции было характерно перенесение социополитических об-
разцов на природу и космос. Укажем в этой связи на принцип «изономии»
(iaovopAa). Этот термин взят из политического лексикона греков, однако его
функционирование охватывает практически все виды знаний: медицину (на-
чиная с Алкмеона), учение об элементах, космологию, учение о пропорциях
и т. п. Действительно, весь комплекс социофизического аналогизирования у
греков можно сфокусировать на понятии «меры», если брать его достаточно
широко, подключая к нему и «изономию», и «симметрию», и «гармонию» и т. д.
О такой матрице знаний, как «опрос», Фуко пишет более развернуто, чем о
«мере». «Опрос-дознание» — это процедура установления знаний о действиях
людей прежде всего в ходе юридического разбирательства: «Опрос — сред-
ство констатации или реконструкции фактов, событий, действий, атрибуций,
прав, но также и матрица эмпирических знаний и наук о природе» 4. Фуко счи-
тает, что «опрос-дознание» как систематическая кодифицированная процедура
извлечения знаний в судах и в других подобных им институтах сложился в
XII—XIII вв. вместе с подъемом и ростом княжеств и реорганизацией церкви.
В качестве такой процедуры опрос стал матрицей для образования эмпириче-
3 Kremer-Marietti A. Op. cit. Р. 202.
4 Ibid.
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания
521
ских наук о природе и обществе. «Опрос был, — пишет Фуко, — юридическо-
политической матрицей для того экспериментального знания, о котором хорошо
известно, что оно было быстро деблокировано в конце средневековья. Может
быть, верно то, что как математика в Греции родилась из процедуры измерения
и установления меры, так и науки о природе, во всяком случае частично, роди-
лись из техники опроса-дознания в конце средних веков. Великое эмпириче-
ское познание, охватившее вещи мира и включившее их в порядок неопреде-
ленного дискурса, который констатирует, описывает, устанавливает "факты"
(и это как раз в тот момент, когда Запад начал экономическое и политическое
завоевание этого мира), имеет, без сомнения, свою операциональную модель в
Инквизиции — этом необъятном изобретении, которое наша стыдливость уп-
рятала в самые тайные тайники нашей памяти» 5.
В «Истории сексуальности» (Т. 1. Воля к знанию, 1976) Фуко говорит о всей
западной цивилизации как об «инквизиторской» цивилизации. Науки, описы-
вающие живые существа, минералы, другие объекты, считает он, сложились
на основе «опроса-дознания», подобного тем, которые вела инквизиция. Мето-
ды извлечения знаний из сознания людей были перенесены на способы извле-
чения знаний о природе из природы. Недаром законодатель и государственный
деятель Френсис Бэкон стал одновременно и основоположником учения об
эмпирическом методе в естествознании, родоначальником новых эмпирических
наук о природе: «На пороге классической эпохи Бэкон, юрист и государствен-
ный деятель, попытался применить к эмпирическим наукам методологию оп-
роса-дознания» 6.
Здесь, конечно, возникает вопрос: не идет ли речь лишь о некоторой отда-
ленной аналогии между методами извлечения знаний о событиях в мире людей
средствами юридическо-политической техники, с одной стороны, и методами
эмпирического и — что более существенно — экспериментального исследова-
ния природы, как оно было организовано, скажем, в галилеевской механике, с
другой стороны? Однако для Фуко это не просто отдаленная аналогия или ни к
чему не обязывающее сравнение. Он считает, что сами процедуры извлечения
знания о природных телах возникли на основе матриц для извлечения знаний о
человеческих «телах» и «душах», разработанных в средневековых институтах,
в частности таких, как суд с его инквизиционным дознанием. Такая юридичес-
кая матрица расставляет людей в определенную диспозицию, предписывая
одним играть роль истца, другим — ответчика, определяя функции судьи, сви-
детеля и т. д. Все эти роли или функции связываются определенными правила-
ми взаимодействия, цель которых — установление истины о поведении или
Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. P., 1975. P. 227.
6 Ibid. P. 228.
522 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
событии (сделал ли такой-то то-то тогда-то или же нет). Но при исследовании
природы роли исполняют не столько люди, сколько приборы и механические
устройства — наклонные плоскости, коромысла весов, грузы, жидкости, изме-
рительные устройства и т. п. Приборы, измерительные установки и т. п. мож-
но, и не без оснований, уподобить юридическим свидетелям, ибо они подтвер-
ждают или опровергают предполагаемое о вещах, подлежащих эксперимен-
тальному исследованию, судьей же в конечном счете выступает сам экспери-
ментатор: он выносит вердикт, долженствующий раскрыть истину о вещах,
вовлеченных в процесс эксперимента.
На наш взгляд, социальная матрица описанного вида может выступать про-
тотипом для расстановки элементов системы опытно-экспериментального изу-
чения природы. Действительно, природа в отличие от людей не говорит на ес-
тественном языке, будучи, по Галилею, книгой, написанной на языке матема-
тики. И потому эту книгу, если знать ее язык, можно вопрошать на манер того,
как ведется допрос в суде. Горизонт возможных знаний о природе задан преде-
лами самой социоисторической матрицы. Это обстоятельство позволяет объяс-
нить «эпистемы», которые в «археологии знания» периода написания работы
«Слова и вещи» (1966) практически не объяснялись, что неизбежно приводило
к истолкованию их как априорных ментальных структур различных эпох.
В «генеалогическом» же аспекте эпистемология Фуко раскрывается как со-
циоисторическая, в отличие от семиотико-культурологическсй, «археология
знания». Грань между знанием и обществом не просто провозглашается отме-
ненной, но конкретно показывается, как общественное измерение и измерение
познавательное представляют собой одно и то же. Это «одно и то же» есть
прежде всегс собрание технических средств образования и функционирования
«власти-знания»: «Какова власть, таково и знание» 7. Юридические механизмы
опроса-дознания не просто нацелены на отвлеченную истину о человеческих
поступках, но ориентированы на управление обществом, опирающееся на зна-
ние о поведении людей. «Эта юридическая модель опроса основывается на
целой системе власти, и именно эта система определяет то, что должно быть
конституировано как знание» 8. Б этих социокультурно заданных рамках скла-
дывается и существует знание и одновременно протекает и осуществляется
деятельность управления, реализуются определенные политические отноше-
ния, проводятся в жизнь специфические стратегии цивилизации и общества,
ее представляющего.
Вернемся к анализу понятия «опрос» с тем, чтобы более конкретно посмот-
реть, как Фуко понимает свое центральное понятие «власть-знание» и как оно
7 Ibid. Р. 227.
8 Kremer-Marietti A. Op. cit. Р. 203.
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания
523
функционирует у него при анализе «генеалогии» знания. Само слово «опрос»
(enquête) происходит от латинского inquiro, что означает «разыскиваю», и «ин-
квизиция» буквально означает «розыск». «Опрос» конституируется прежде всего
как судебная процедура, нацеленная на извлечение знания строго определен-
ным путем. Знание может существовать только благодаря наложению «решет-
ки» вопросов, ограничений и т. п. на «сырой» материал действительности. «Оп-
рос», в частности в сфере юриспруденции, в средние века строился по схеме:
(1) кто что сделал? (2) имеет ли содеянное общественное значение? (3) како-
вы доказательства и примеры содеянного? (4) имело ли место признание? Оп-
рос развился в адвокатуре, позволяя адвокату посредством строго организо-
ванного, методически поставленного выслушивания ответов свидетелей и всех
вовлеченных в «дело» лиц устанавливать точность фактов с целью смягчить
вину. По сути дела, эта процедура означает новую, претендующую на боль-
шую достоверность картину «объективных» событий, чем та, которая дана
обвинением. Поэтому процедура «опроса» имеет прямое познавательное зна-
чение. Эта процедура, говоря словами Фуко, — стержень определенного «ре-
жима истины». Опрос апеллирует к истине, выступает от ее имени. Уже с XIV в.
этот метод формирования знания находится в оппозиции к знанию, опирающе-
муся исключительно на авторитет традиции, на рассуждения вербально-сим-
волического порядка.
«Опрос» есть организация общения, нацеленная на знание, на «истину» о
«фактах». «Опрос» в качестве отработанной схемы административно-фискаль-
ной деятельности и политико-юридической матрицы становится основой для
сбора естественнонаучной, этнографической и т. п. информации в эпоху вели-
ких географических открытий и при дальнейшем развитии экономической,
политической и познавательной экспансии западной цивилизации. «Я счи-
таю, — говорит Фуко, — что естественные науки действительно самоутверж-
даются в этой всеобщей форме опроса, точно так же, как науки о человеке
рождаются тогда, когда устанавливаются процедуры надзора и сбора сведений
об индивидах, хотя это и было только их началом» 9.
У Фуко мы находим различные теории происхождения наук о человеке.
Вообще проблема возникновения гуманитарного научного знания — одна из
центральных проблем всего его творчества. Как возможны науки о человеке,
почему они возникли в том виде, как они существуют сейчас? — эти вопросы
беспокоили Фуко с самого начала его научной деятельности. И первой теоре-
тической схемой ответа на этот вопрос явилась идея, изложенная Фуко в рабо-
те «Рождение клиники» (1963). «Сознание, — пишет Фуко, — живет постоль-
9 Foucault M. Power-Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972—1977.
Brighton, 1980. P. 74.
524 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
ку, поскольку оно может быть изменено, испорчено, ампутировано, отклонено
от своего хода, парализовано; общества живут постольку, поскольку они со-
держат больных людей, которые чахнут, и других, которые здоровы, находятся
в полном расцвете сил; раса выступает как живое существо, которое видят вы-
рождающимся, а о цивилизациях говорят, что они обречены на умирание. И
если науки о человеке возникли как естественное продолжение наук о жизни,
то это потому, что они имели медицинскую, а не биологическую подоснову,
что в самой структуре их генезиса обнаруживается рефлексия больного челове-
ка... (курсив наш. — В. В.) |0.
Сама специфика наук о человеке, рассуждает Фуко, определена тем, что они
не могут быть отделены от его сущностной негативности — болезни, безумия,
социальной аномальности и т. п. Позитивное знание о человеке построено на
фундаменте негативности, благодаря которой человек получает доступ к своей
объективности. «Патология» человека во всех видах дала базу для объективи-
зации человека, для наук о «нормальном» человеческом существе. Объектива-
ция больного привела к медицинским наукам, объективация «безумцев» — к
возникновению психиатрии и частично к генезису психологии вообще, объек-
тивация правонарушителя породила криминологию, пенологию, внесла вклад
в психологию и педагогику и т. п. Этот же опыт объективации гуманитарно-
негативного привел к возникновению социологии, социальной статистики, к
объективации мира индивидуального, человеческого и социального вообще.
Гуманитарная негативность в болезни, безумии, преступлении и т. п. и, нако-
нец, в смерти представляет собой как бы «естественную» самообъективацию
человека, подобно тому как для греков небо с его правильным движением звезд
было своего рода «естественным» научным объектом—устойчивым, неизменно
воспроизводящимся, отличающимся постоянством и точностью своего
движения.
«Здоровье» в его «норме» неуловимо для объективного описания, чего нельзя
сказать о болезни. Словом, считает Фуко в этот период своего творчества, гу-
манитарные науки построены на том фундаментальном факте, что человек ко-
нечен, смертен, доступен негативности во всех ее формах. Конкретные «ана-
литики» этой негативности и образуют спектр наук о человеке.
В работе «Надзор и наказание: Рождение тюрьмы» (1975) Фуко формулиру-
ет другую теорию генезиса наук о человеке. Набросок этой теории был им дан
еще раньше, в упомянутых нами лекциях 1971—1972 гг. Социоисторической
матрицей возникновения наук о человеке выступает здесь процедура «осмот-
ра-обследования». Осмотр — это «средство фиксировать или восстанавливать
норму, правило, разделение, качественную характеристику или квалификацию,
Foucault M. Naissance de la clinique: Une archéologie du regard médical. P., 1963. P. 36.
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания
525
исключение, но он же одновременно и матрица всех психологии, социологии,
психиатрии, психоанализов, короче говоря, всего того, что называют науками
о человеке» п.
«Осмотр» поставлен здесь Фуко в один ряд с двумя другими матрицами —
«мерой» и «опросом», которые мы разобрали выше. Каждая из этих матриц,
считает Фуко, до ее прямого эпистемологического функционирования входила
в структуру политической регуляции общества: мера выступала как средство
поддержания справедливого порядка, выполняла функцию упорядочивания
социума античности, опрос служил механизмом укрепления централизован-
ной власти при переходе от средневековья к новому времени, а осмотр был
средством осуществления функций селекции индивидов и групп и исключе-
ния некоторых из них из состава нормального «социального тела» ,2. Все три
матрицы фиксируют основные типы «власти-знания», складывающиеся исто-
рически в спонтанном развитии цивилизации Запада. Так, осмотр возникает
вместе с возникновением и развитием массовой практики интернирования,
начатой с середины XVII в., с возникновением и развитием полицейского ап-
парата, средств надзора и контроля над населением в массовых масштабах ,3.
История и эпистемологическая функция осмотра была исследована Фуко
уже в ранней работе «Рождение клиники». Развитие практики осмотра, пре-
вращение спорадического визита врача к больному в практически каждоднев-
ный контроль приводит к тому, что госпиталь из места медицинской помощи
становится важнейшим очагом накопления знаний, их активного производства
и упорядочивания. Именно хорошо «дисциплинированный» с помощью ин-
тенсивно и систематически ведущегося осмотра госпиталь становится генера-
тором самой медицины как «дисциплины», которая благодаря ему «черпает
свои знания не столько в традиции признанных авторитетными авторов, сколь-
ко в сфере объектов, непрерывно доступных для осмотра и обследования» и.
Лишь достижение определенных институциональных рубежей приводит к эпи-
стемологической «деблокировке» развития знаний. Таким рубежом в истории
медицины и была организация клинического госпиталя, во многом построен-
ного на систематическом использовании процедур осмотра-обследования.
Но процедура осмотра-обследования получила свое развитие не только в
госпитале. На ее базе сложилась и система педагогического контроля в, школе.
Осмотр здесь выступает как экзамен. Если в средние века практиковался лишь
один экзамен для всего процесса обучения (шедевр ученика должен был да-
11 Kremer-Marietti A. Op. cit. Р. 202.
12 Ibid. Р. 202—203.
13 Ibid. Р. 204.
14 Foucault M. Surveiller et punir. P. 127.
526 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
монстрировать аутентичность переданных ему мастером-учителем знаний), то
начиная с XVII—XVIII вв. он становится постоянным механизмом всей педа-
гогической машины. «Экзаменация» школы есть «сциентификация» обучения.
Экзамен превращает процесс приобретения знаний в строго контролируемую,
научно обоснованную процедуру. Он поощряет приобретение нужных знаний
и препятствует приобретению ненужных, предназначенных не для ученика, а
только для учителя, он осуществляет контроль за трансляцией знаний, ранжи-
ровку учащихся по уровню знаний, служит инструментом подхлестывания и
контроля за всем процессом приобретения знаний. Экзамен объективирует уче-
ника и процесс обучения, позволяет управлять обученим как своего рода ма-
шиной.
В военном деле экзамен — это парад, смотр, показательные учения. Пер-
вый грандиозный военный парад в истории Западной Европы был устроен
15 марта 1666 г. Людовиком XIV. В нем участвовало 18 тысяч человек. Смотр
или парад открывает возможность контроля больших групп людей, определе-
ния эффективности их обучения, он вообще — а не только в армии — служит
для введения сравнительного метода в описание групп, позволяет характери-
зовать не только индивида, но и целые коллективы.
Конечно, осмотр-обследование прежде всего примечателен тем, что позво-
лил ввести индивидуальность в сферу объективного. Индивидуальное всегда —
с Аристотеля — исключалось из сферы объективного знания. Но вместе с
развитием процедур осмотра индивидуальное — в педагогике, в натуральной
истории, в медицине и т. п. — включается в эпистемологическую практику, в
процесс накопления, производства, утилизации знаний. Развитие процедур ос-
мотра, учета, регистрации индивидуального приводит к документализации и
«формализации» индивида внутри специфических социальных и политичес-
ких отношений в рамках определенных стратегий.
Фуко не ограничивается анализом развития этих процедур как таковых. Для
него характерен поиск тех подходов к истории науки, которые не были раньше
испробованы и были обойдены традиционной историей: «Пишут историю опы-
тов или экспериментов со слепорожденными, с детьми-волками или с гипно-
тическими явлениями, но кто будет изучать историю более общую, более под-
вижную и более определяющую, историю осмотра-обследования, историю его
ритуалов, методов, персонажей, их роль, игру вопросов и ответов, систему от-
меток, классификаций? А ведь именно в этой тонкой технике скрывается целая
сфера знания, целый тип власти. Часто говорят об идеологии, которую несут с
собой, скромно или громогласно, гуманитарные науки. А сама их технология,
эта детализированная операциональная схема, имеющая столь широкое рас-
пространение — от психиатрии до педагогики, от диагностики больных до
найма рабочей силы, — этот всем знакомый прием — осмотр — разве он не
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания
527
пускает в ход внутри одного и того же механизма отношения власти, позволя-
ющие извлекать и конституировать знания? Политика внедряется не просто на
уровне сознания, представлений и того, что считают знанием, но прежде всего
на уровне, делающем возможным само знание» 15.
Если в книге «Слова и вещи» историческое априори было семиологическим
типизирующим культуру образованием — «эпистемой», — то здесь Фуко ана-
лизирует политическое и социальное априори. Сама социополитическая «ус-
тановка» эпистемогенеза определяет природу образующегося знания. «Поли-
тизация» знания в идеологии, в «научной политике», в сфере его использования,
в социальных дискуссиях и т. п. вторична по отношению к первичной «апри-
орной» его политизации в самой технологии объективации его предмета —
мира индивидуальностей. Фуко решительно порывает с традиционными пред-
ставлениями о соотношении власти и знания, политики и науки, согласно кото-
рым сначала независимо вырабатывается «чистое», «объективное» знание, а
потом, при его внедрении в общество, возникает политический аспект его фун-
кционирования и использования. На эту расхожую точку зрения Фуко отвечает
теорией «власти-знания», согласно которой вообще нет никакого независимо-
го «чистого» знания. Существует лишь сложный комплекс «власти-знания»,
при преломлении которого в реальном историческом обществе могут возни-
кать — и целенаправленно извлекаться — как политические, так и эпистемо-
логические эффекты. Отдельно «власть» и отдельно «знание» — это только
абстракции, эффекты этого целостного комплекса.
Науки, основывающиеся на введении индивидуального в документалисти-
ку письменной регистрации, в формализм записи, Фуко называет «клиниче-
скими». Это и клиническая медицина, и «клиническая химия», а также статис-
тика, социология, психиатрия и т. п. Одна из основных проблем образования
этих наук — вхождение индивидуальных данных (досье, анкета, анамнез и т. п.)
в общее функционирование научных построений — в теории, гипотезы, про-
блемы и т. п., которые относятся уже не к индивиду, а к массе — к роду, груп-
пам, классам. Эти средства фиксации и, шире, объективации индивидуального
были в истории Запада одновременно и средствами управления индивидами —
управления их поведением, их телами, — и средствами их познания, выявле-
ния их «природы», сущности, т. е. того, как они существуют сами по себе.
«Мера», или «измерение», «опрос», или «дознание», «осмотр», или «обсле-
дование» представляют собой, как мы уже сказали, основные социоисториче-
ские политико-юридические матрицы для формирования знаний соответственно
в эпоху античности, в конце средних веков и в начале нового времени и, нако-
нец, в XVIII—XIX вв. Фуко, однако, не ограничивается ими. Он допускает воз-
15 Foucault M. Surveiller et punir. P. 187.
528 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
можность не только нахождения новых матриц, но и их совместного действия,
их наложения друг на друга, смешения в различных пропорциях при «матри-
цировании» различных конкретно-исторических форм знания. Какие же новые
матрицы и модели он предлагает помимо нами уже рассмотренных? Такой
моделью объявляется прежде всего «дисциплинарное общество», сама «дис-
циплина». Анализу «дисциплины» и «дисциплинарного общества» Фуко по-
свящает свою работу «Надзор и наказание» (1975). «Методы, позволяющие
осуществлять мелочный, детальный контроль операций тела, обеспечивающие
постоянное подчинение его сил, ставящие его в отношение "послушание —
полезность", вот что такое "дисциплина"», — говорит Фуко 16.
Процедуры дисциплины известны человечеству с незапамятных времен. Они
в той или иной форме существовали, видимо, всегда. В Древнем Риме была
развита военная дисциплина, послужившая образцом для Европы эпохи Воз-
рождения 17. Другие развитые формы дисциплинарных процедур существова-
ли в монастырях, в средневековых мастерских, в армиях, в школах и судах.
Однако только начиная с XVII—XVIII вв. дисциплинарные процедуры стали
всеобщими формами господства 18. Это связано, несомненно, с развитием но-
вой экономической структуры и с возникновением абсолютизма. Переломным
моментом, как считает Фуко, в истории дисциплинарных методов и процедур
явилось их слияние с полезностью и эффективностью. Именно в этом отличие
становящегося (с XVII в.) дисциплинарного общества от рабовладения антич-
ности, от средневекового крепостничества.
В эпоху капитализма экономическое принуждение дополняется, согласно
Фуко, «дисциплинарным принуждением». В дисциплине повышенная полез-
ная способность тела поставлена в связь с его тщательным и детализованным
послушанием.
Фуко всесторонне исследует феномен дисциплины, показывает его развер-
тывание во времени и пространстве, вводит термины «дисциплинарное про-
странство» и «дисциплинарное время», наконец, рассматривает историческое
становление «дисциплинарного общества». Генезис такого общества, по его
мнению* связан с историей Европы XVI—XVIII вв., с изобретением огнестрель-
ного оружия, с массовым использованием ружей, с образованием регулярных
армий, с победами Пруссии, с одной стороны, а с другой — с распространени-
ем эпидемий и с развертыванием борьбы против них, со становлением всеоб-
щего обучения и организацией массовой школы. Не забывает он отметить и
важность дисциплинарных методов для функционирования мануфактуры при
16 Ibid Р. 139.
17 Ibid. Р. 148.
18 Ibid. Р. 139.
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания
529
переходе к машинному производству. Все эти процессы — а среди них он
выделяет именно возникновение и развитие регулярной, обученной армии —
ведут к возникновению исторического феномена «дисциплинарного обще-
ства».
Какие же последствия этого феномена важны для истории науки? В рамках
«дисциплинарного общества» прежде всего складывается дисциплинарная
матрица, действующая по отношению к генезису знаний наподобие выше рас-
смотренных матриц «меры», «осмотра» и «опроса». Исчисление бесконечно
малых, развитие систематики и натуральной истории Фуко считает «отголос-
ками» действия дисциплинарных механизмов в обществе классической эпо-
хи 19. В науке о живом образование «живых таблиц» было первым из значи-
тельных вкладов «дисциплинарной матрицы» в развитие наук. Причем сама
таблица выступает (XVIII в.) одновременно и как форма знания, и как форма
власти. «Образование таблиц, — говорит Фуко, — было одной из основных
проблем научной, политической и экономической технологии XVIII в.» 20. И
если в «Словах и вещах» таблица рассматривалась как воплощение эпистемы
соответствующей культуры, как «априори» семиологического плана, то теперь
Фуко преодолевает ее априористические и абстрактно-семиологические харак-
теристики, рассматривая таблицу как выражение «власти-знания». Так совер-
шается обоснование «археологии знания» «генеалогией власти-знания», а «ар-
хеологический» подход переходит в «генеалогический», благодаря чему анализ
знания находит у Фуко свой особым образом понимаемый социоисторический
базис.
Если дисциплинарная матрица и вносит свой вклад в формирование наук о
природе, то все же ее основное значение в истории науки состоит в том, что
она, по мысли Фуко, послужила основой для генезиса наук о человеке. Рожде-
ние наук о человеке, подчеркивает французский философ, «нужно, вероятно,
искать в тех неприметных, лишенных ореола славы архивах, где вырабатыва-
лась современная система средств принуждения по отношению к телам, жес-
там, поведениям» 21. Дисциплинарные процедуры объективируют индивида и
тем самым вводят его в сферу знания. Индивид в дисциплинарном простран-
стве-времени одновременно и объект отношений власти, и объект знания. Если
посмотреть на историю индивидуализации документалистики, то мы увидим,
что в традиционных обществах — например, в средневековом — вхождение
индивида в индивидуальную хронику считалось величайшей привилегией.
Индивидуальная историография была символом могущества. Но начиная с эпо-
19 Ibid. Р. 141.
20 Ibid. Р. 150.
21 Ibid. Р. 193.
34 - 3357
530 Глава VI. XXвек: от экзистенциализма к постструктурализму
хи Просвещения ситуация радикально меняется. Порог историографической
фиксации индивидуального резко понижается, превращаясь из средства про-
славления князей и владетельных особ в средство контроля за массой населе-
ния, за ее экономическим и политическим использованием и, одновременно, в
необходимый иструмент развития знаний и оформления гуманитарных наук.
Можно сказать, что в традиционных обществах индивидуальная историогра-
фия выступала как инструмент прославления суверенов для будущих поколе-
ний. А теперь — с XVII—XVIII вв. — индивидуальная историография стано-
вится рабочим документом, основой для формирования знаний и средством
для управления массами населения. В «дисциплинарную матрицу» вплетены
механизмы «осмотра — обследования — экзамена». «Осмотр, — подчеркива-
ет Фуко, — стоит в центре круга процедур, конституирующих индивида в ка-
честве эффекта и объекта власти, эффекта и объекта знания» 22.
Индивидуализация в традиционных обществах (в том числе феодальном)
является «восходящей»: она охватывает лишь верхушку социальной иерархии.
А индивидуализация в европейском обществе, начиная с XVII в. и особенно с
XVIII в., приобретает характер «нисходящей». И это — радикальный поворот,
ибо «все науки, анализы и практики с корнем "психо..." размещаются в этом
историческом развороте процедур индвидуализации» 23. По сути дела, это пе-
реход от ритуальных механизмов образования индивидуализации к механиз-
мам научно-дисциплинарным, переход к тому состоянию, где норма замещает
предание, измерение — статус, и именно в этот момент времени и благодаря
этим преобразованиям открывается возможность возникновения наук о чело-
веке.
Отметим одно важное для истории науки обстоятельство в связи с концеп-
цией «власти-знания». Отношение естественных и гуманитарных наук к фор-
мирующим их матрицам различно. Так, мы уже говорили, что генезис наук о
природе, согласно Фуко, по крайней мере частично, зависел от таких проце-
дур, как процедуры «опроса-дознания». Но в дальнейшем своем развитии ес-
тественные науки весьма далеко отошли от своей «генетической марицы».
Положение с гуманитарными науками в этом плане иное: они продолжают опи-
раться на механизмы своей генетической матрицы — на механизмы прежде
всего «осмотра-обследования» и на все механизмы индивидуализации и объек-
тивации индивида в «дисциплинарном обществе». Другими словами, науки о
природе получают как бы гораздо больше самостоятельности по отношению к
своим «матрицам», хотя в принципе и продолжают нести в себе все следствия
такой зависимости.
12 Foucault M. Surveiller et punir. P. 194.
23 Ibid.
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания
531
Основной парадокс, бросающийся в глаза при изучении творчества и дея-
тельноси Фуко, такой: чтобы общественная практика стала гуманнее, надо пол-
ностью изгнать гуманизм из теории. И, конечно, этот парадокс не надуман:
гуманизм как официальная идеология давно уже служит инструментом сохра-
нения статус-кво, и освобождение от него в теории позволяет пристальнее при-
смотреться к стратегиям и тактикам власти и использовать их слабые места
для проведения в жизнь конкретных гуманистических проектов. Каких? На-
пример, занять свободное жилье, которое спекулянты недвижимостью держат
незанятым в ожидании крупной поживы. Социальная теория Фуко теоретизи-
рует именно такого рода локальные тактики сопротивления: в каждом волокне
общественного тела проходят натяжения отношений власти, и всюду можно
вести борьбу за элементарные гуманистические ценности, но вести ее совер-
шенно конкретно, без всякой универсалистской гуманистической риторики, без
глобальных социальных утопий. Захват бездомными пустующего жилья, са-
моуправление рабочих на закрываемом из-за нерентабельности предприятии и
организация на нем труда и быта, вклад в планирование образования со сторо-
ны тех, кто в нем задействован в качестве обучающихся, политика экспертов и
оценка проекта жилищного, дорожного и т. п. строительства, активное учас-
тие в политике здоровья, в решении экологических проблем и т. п. — все это
локальные и сугубо конкретные гуманистические цели. Они у Фуко сознатель-
но не сливаются ни в какой всеобъемлющий проект универсального обществен-
ного переустройства. Такой проект, как он считает, неминуемо сопровождался
бы созданием системы власти с идеологией, с бюрократизацией и со всеми
теми проблемами, которые уже встали на уровне существующей структуры
общества. Кажется, что отсутствие яркой цели, глобального и привлекательно-
го идеала — слабость концепции Фуко. Он, собственно, никуда не зовет. У
него нет своего варианта «Царства Божьего на земле». Его «дегуманизирован-
ная» социальная теория позволяет только лучше разглядеть механику реальной
власти, микроприборы нормализации и кровеносные сосуды дисциплинарных
систем. Разглядеть их в сугубо технологическом «неглиже», без идеологиче-
ских нимбов, без идеалистических туманов — просто как вещную систему, как
социальную машинерию, как своего рода топологию и структуру, проникаю-
щую на любой уровень вплоть до индивидуального тела.
Теоретическая проблема, встающая в связи с этим, такова: кто же субъект
сопротивления? Если все в обществе создается самим обществом как суперси-
стемой, то кто же, собственно, сопротивляется и ради чего? Как возможно
«иное» или «другое» там, где запланировано и создано в порядке расширенно-
го воспроизвоства «одно и то же»? Сексуальность, безумие — все это продук-
ты в игре власти-знания, в ее собственной развертке в условиях демографиче-
ского роста, технологической революции и т. п. Индивид в его конкретике —
34*
532 Глава VI. XXвек: от экзистенциализма к постструктурализму
продукт той же системы в ее саморазвитии. Так кто же, повторяю, сопротивля-
ется и не является ли такое сопротивление реакционным ретроградством и не-
желанием идти в ногу со временем? 24 Ведь власть, по Фуко, прежде всего по-
зитивна и продуктивна. Она не столько что-то создаваемое вне ее изымает, сколь-
ко сама инициирует создание школ, университетов, психиатрических приютов,
институтов по исследованию природы и общества, она создает экономичес-
кую инфраструктуру, проводит демографическую политику, организует систе-
му здравоохранения, охраняет граждан от преступных элементов, питает уто-
пический проект их перевоспитания или хотя бы всемерной утилизации. Коро-
че, власть рационализирует и создает, приспособляя всех и каждого к нуждам
и потребностям системы в целом. Не является ли в таком случае власть фату-
мом новых индустриальных или, лучше сказать, технологических обществ? И
какой смысл тогда имеет борьба, о которой столько говорит Фуко?
Но Фуко не фаталист, и он, вместе с альтернативным движением 25, с кото-
рым у него так много точек соприкосновения, считает, что история — это тра-
ектория, выписываемая реализующимся в борьбе суммированием всех сил,
которыми обладают все те, кто жив и поэтому борется или терпит. История
Европы, видимо, могла пойти и иначе, если бы расклад сил в тот или иной
критический момент был несколько иным. Фатализма в истории нет, считает
Фуко.
Итак, не есть ли история, по Фуко, своего рода война всех против всех, со-
здающая системы контроля, надзора, наказания, утилизации всего и вся, а силы,
играющие какую-то роль в ней, не есть ли это силы только эгоистические?
Возможно, так и есть. Как и знаменитый «дискурс» Фуко, стоящий по ту сто-
рону истины и заблуждения, так и история, события, действия находятся по ту
сторону добра и зла в его теории. Эффекты добра и эффекты зла можно извле-
кать из истории, но она сама не зла и не добра. Она такова, какова она есть. И
поэтому для действия в истории нужна трезвая теория, а не идеологизирован-
ная восторженная установка, пропитанная моральными понятиями и привыч-
ными мифами обыденного сознания. Одно и то же событие можно постфактум
рассматривать в разных моральных перспективах и извлекать из него без кон-
ца и «добрые», и «злые» моменты. И в этом — онтологичность истории в науч-
ном смысле слова. Природа тоже ведь стоит по ту сторону моральных дихото-
24 Проблематике индивида в его самости («Я»), субъекта вообще посвящены последние
работы Фуко, в частности 2-й и 3-й тома «Истории сексуальности» (Т. 2: Использование
наслаждений. Париж, 1984; т. 3: Забота о себе. Париж, 1984), в которых исследуется исто-
рия человека западной цивилизации как субъекта желаний (Т. 2: Истории сексуальности.
С. 12), история различных «техник самости» (techniques de soi) (Там же. С. 17).
25 См. о нем в сб.: Кризис буржуазной цивилизации и поиски «нового стиля жизни». М,
1985.
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания
533
мий, и объект науки вообще таков. Что же такое история? В реконструируемом
нами ответе Фуко на этот вопрос мы невольно ощущаем близкую тень Ницше,
у которого суровая научность — в стремлении, по крайней мере — пересек-
лась с трагическим искусством 26.
Кто же самый эффективный оппонент и противник Фуко? Христианская
историософия, конечно же. Фуко удивительно мало говорит о христианстве.
Как будто говорить о нем чуть ли не неприлично в кругах западной интеллек-
туальной левой элиты. И если говорит, например, о малоизученной христиани-
зации европейских рабочих во второй половине XIX в., то исключительно как
о морали, вводимой в политическую стратегию власти. Христианская мораль,
видимо, как он считает, лишь одно из многих средств в технологии власти. Он
даже употребляет такой термин, как «пасторская власть». А феномен исповеди
и признания рассматривает как элементарную генеративную ячейку власти-
знания, включенную в историческую жизнь Европы после Ренессанса.
Общество — бездушная машина, которую надо знать холодным неэкзальти-
рованным знанием, знать с тем, чтобы не быть игрушкой «слепых» стратегий
развития и власти, чтобы вписать в Историю свое маленькое конкретное узко-
локальное сопротивление машинериям массового общества. Такова позиция
Фуко. Вдумчивый читатель французского философа не может не преклониться
перед этой неукротимой волей к познанию самого обыденного круга челове-
ческого существования — жизни людей в семье, школе, казарме, в больнице,
университете, лаборатории, министерстве или институте, на фабрике или в суде.
Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Т. 9. М., 1912.
ЖИЗНЕДИСКУРС «В ТЕНИ» НИЦШЕ ■
Появление на книжном прилавке русскоязычных текстов Мишеля Фуко се-
годня уже никого не удивляет. Интерес к творчеству замечательного француз-
ского философа-историка (его в нашей стране в начале 70-х гг. знали лишь
единицы), «параболой гневно пробив потолок» идеологической косности, вы-
шел в «пространство публичности» ровно 20 лет назад, когда в 1977 г. в изда-
тельстве «Прогресс» с грифом «Для научных библиотек» небольшим по тог-
дашней мерке тиражом вышла книга «Слова и вещи. Археология гуманитар-
ных наук» (перевод В. П. Визгина и Н. С. Автономовой). В условиях жесткой
издательской конкуренции инициативу переиздания этой книги перехватило
петербургское издательство «Acad», стереотипно повторив в 1994 г. первое из-
дание, хотя были, конечно же, возможности его улучшить. Приходится при-
знать, как всегда, «где розы, там и шипы». И сейчас выходят у нас книги Фуко,
где, например, имена важнейших лиц, с ним тесно связанных, подвергаются
мутации непостоянства: представьте себе, что Гарсиа Маркеса назвали бы вдруг
Карлом Марксом. В результате в «пространстве публичности» возникает до-
полнительный «шум», а и без того уже «ошалелый» от перемен читатель, тяну-
щийся к знанию, тонет в потоке, мягко говоря, малодостоверной информации.
К счастью, рецензируемая книга не принадлежит к такого рода изданиям. Ког-
да однажды Ницше сказали (это был знаменитый Бруно Бауэр, сподвижник
молодого Маркса), что его в Германии ценят, как немецкого Монтеня, Паскаля
и Дидро сразу, то он ответил: «Это не точно, а значит, вовсе и не комплимент».
Я думаю, что в данном случае мое суждение есть действительно «комплимент»,
ибо оно, я верю в это и могу доказывать, точно. Точно, что книга текстов Фуко
«Воля к истине по ту сторону знания, власти и сексуальности» принадлежит к
числу серьезных работ, прочтя которую читатель будет действительно введен в
1 Отклик на книгу: Фуко M Воля к истине по ту сторону знания, власти и сексуальности /
Сост., пер., комм, и послесл. С. Табачниковой. Общ. ред. А. Пузырея. М., 1996.
Жизнедискурс «в тени» Ницше
535
курс дела — в трудную, ускользающую от однозначных интерпретаций мысль
Мишеля Фуко.
Фуко замечателен не только поразительной волей ускользать от любого
дефиниционного «лейбла», который стремятся наклеить на него и его творче-
ство, но и умением или даром воплотить эту волю к инаковости (и самоинако-
вости) в прекрасные тексты — убедительные, проницательные, всегда остро-
критические, своего рода лабильные, способные к адаптации интеллектуаль-
ные «кислоты», мгновенно реагирующие на любую «тотализацию» мысли, а
значит, и личности. Когда друга Фуко, Жоржа Дюмезиля, попросили охаракте-
ризовать его, то этот человек, давно и хорошо знавший философа (а дружить с
ним было нелегко, хотя именно дружбу Фуко так высоко ценил в жизни) сказал
главное: «Он неуловим». Таков Фуко и в жизни, и в мысли. Откроем самую
теоретически нагруженную, чисто методологическую его работу «Археология
знания» (1969) и увидим, что основное понятие, здесь Фуко конструируемое,
определяется через серию отрицаний, прямо по формуле omnis determinatio est
negatio. Это — «высказывание» (l'énoncé), понятие, на котором Фуко строит
свою «археологию» знания как «сказанных вещей» (choses dites). Напомним,
что недавно по-русски под названием «Начала» (М., 1994) была выпущена книга
П. Бурдье, называющаяся в оригинале именно «Choses dites», причем присут-
ствие Фуко в ней ощущается не только в названии. Программа построения зна-
ния о цивилизации Запада через анализ дискурсов как «сказанных вещей» за-
нимает в рецензируемой книге значительное место. Мы имеем в виду и выс-
тупление Фуко во Французском философском обществе («Что такое автор?») и
инаугурационную речь при вступлении в должность профессора по кафедре
истории систем мысли в Коллеж де Франс (декабрь 1970 г.). Оба текста —
программные, важные для понимания того сознательно волимого Фуко «сдви-
га» в гуманитаристике вообще и особенно в исторических науках, который он
реализовал своим творчеством.
Да, Фуко — неповторим, оригинален. Более того, он совершает со своей
мыслью такие «эксперименты», цель которых — самоизменение. Эксперимент
мысли соединяется у него с экспериментом жизни. Фуко для нашего времени
выступает тем самым своего рода alter ego великого отшельника из Сильс-
Марии, пророка «вечного возвращения» и «сверхчеловека», Ф. Ницше. Изо-
морфизм этих фигур так притягателен, что буквально гипнотизирует пишу-
щую мысль (даже само название рецензируемой книги — парафраз из Ницше:
«По ту сторону добра и зла»). Вот я хотел, начав этот абзац, сказать, что, как ни
оригинален Фуко, тем не менее он удивительно вписан в парижскую среду, в
атмосферу если не «структурализма», то некой интеллектуальной ауры, где
перекличек и совпадений без прямых влияний и заимствований больше, чем
можно предложить, имея в виду абсолютную оригинальность и неповторимость
536 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
нашего героя. Да, хотел я сказать, 22 февраля 1969 г. во Французском философ-
ском обществе делает доклад Фуко. Приглашение получает и Жак Лакан. Про-
слушав текст выступления Фуко, Лакан полностью удовлетворен его вывода-
ми — он сам к этому пришел в своей работе: в ситуациях психоаналитического
сеанса говорит «язык», говорят «структуры», о которых с некоторого времени
прямо Фуко старается не говорить, но, конечно, он связан с этим понятием,
хотя предпочитает другие термины, а именно: «системы», «машины» — маши-
ны лечения, управления, дисциплинаризации, нормализации, машины наказа-
ния, признания и поэтому и знания, машины воли к истине. Нет дыма без огня,
и не совсем уж зря Фуко вместе с Лаканом, Леви-Стросом, Альтюсером и Бар-
том критики окрестили «мушкетерами структурализма». Кстати о Р. Барте: в
1968 г. он публикует текст, название и пафос которого «ложится» в это же са-
мое русло («Смерть автора»)2. «Эротические машины» у маркиза де Сада, «гул
языка», «письмо» как стихия дионисийская, в неопределенности, уклончиво-
сти, неоднородности которой «теряются следы нашей субъективности», — мож-
но долго цитировать Барта, имея в виду Фуко (как и наоборот), причем попра-
вочные коэффициенты явно на много не потянут — ну, бартовское «письмо»
надо заменить «дискурсом» и/или «языком» у Фуко и т. п., хотя в данном тек-
сте Фуко использует и термин «письмо» (С. 13 и др.).
Но не об этой ауре я хотел сказать, начав только что законченный абзац. Я
хотел сказать, что интеллектуалы такого ранга, как Барт или Фуко, получают
не только жизнь и творчество по норме своего духовного и интеллектуального
выбора, но и смерть. Полагая в основание рождения наших мыслей и действий
«отвратительную машинку» (С. 84), т. е. род «демона», действующего по отно-
шению к «демону Максвелла» противоположным образом, не упорядочиваю-
щего мир, как у английского физика, а, напротив, стохастизирующего его, т. е.
совершая, как говорит уже Барт, «контртеологическую революцию», разрушая
диктат устойчивого смысла и порядка (С. 390), покидая «человека» и обраща-
ясь к всевозможным «машинам» (в той «машинке», о которой говорит Фуко,
нельзя не видеть онтологему всех машин, нами выше перечисленных), эти ав-
торы, восставшие против Автора («Абсолютного субъекта не существует», с. 45),
получают смерть от... случая, от машины (гибель в автокатастрофе Барта, ги-
бель от СПИДа Фуко, искавшего «трансгрессии» на пути к себе и еще более от
себя к «счастливому миру желания» 3в садомазохистских барах Калифорнии...).
Голубая мечта Фуко — примем во внимание весь семантический объем выра-
жения — состояла в том, чтобы создавать удовольствия по прихотливой логике
тела: «Практики садомазохизма, — говорит философ, — это создание удоволь-
2 См.: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М, 1994. С. 384—391.
3 Foucault M. Folie et Déraison. Histoire de la folie a l'âge classique. P., 1961. P. V.
Жизнедискурс «в тени» Ницше
537
ствия, являющееся поистине субкультурой. Это процесс изобретения, исполь-
зующий стратегические отношения как источник физического удовольствия» 4.
Когда-то в литературе мелькали хрустальные дворцы Веры Павловны, чуть
раньше — фурьеристские «фаланстеры» вслед за Амауротом Томаса Мора и
Домом Соломона у Ф. Бэкона. А теперь вот мелькают садомазохистские сау-
ны... Но — не только это, конечно. К другому оттенку «голубизны» позитивной
мечты у Фуко относится стремление обрести, выстроить из самого субъекта
мораль и этику. Здесь Фуко неожиданно для образованной публики, его читав-
шей (с некоторых пор большинство этой публики обозначилось за океаном), от
хорошо знакомых ему, как историку, нового времени и современности ушел в
трудное для него время — позднюю античность, трудное потому, что Фуко не
был по образованию эллинистом. В этой сфере научные задания мыслителя
тесно переплелись с его личными стимулами. Можно сказать, что если до двух
последних томов «Истории сексуальности» (1984) Фуко был неоницшеанцем
(у него мы не найдем полемики с немецким мыслителем, что, конечно, не озна-
чает, что Фуко «копирует» его и ничего нового в причудливый мир Ницше не
вносит), то теперь его можно обозначить как «неостоика». И это очень уж боль-
шой натяжкой не будет. «Письма к Луцилию», обильно цитируемые Фуко, —
блестящий литературный текст и высокой пробы жизненная мудрость. Сто-
ицизм не случайно появляется там, где замаячила чума конца нашего тысяче-
летия — СПИД... За Бога держаться было невозможно. Фуко был атеистом, как
и Барт, как и Ницше (хотя антихристианство последнего порой носило харак-
тер деформированной христианской цитаты).
Но иногда у Фуко возникали продуктивные контакты с католическими свя-
щенниками. Вот, например, он встречается с одним из них у помещенного в
«психушку» Альтюсера, и обоим интересно беседовать. Сцены эти, изложен-
ные в письмах Альтюсера, вообще очень трогательны — пусть они больше
характеризуют «мушкетера» структурализма-от-марксизма, а не нашего героя.
Но и его тоже. Когда я был в Париже, лет десять тому назад, и посетил библио-
теку Центра Фуко, то был удивлен, что ее содержат доминиканцы. Как это прак-
тикующие католики, монахи могут давать приют новому «антихристу» (если
старым считать его главного интеллектуального патрона, Ницше)? Но такова
уж французская культура и ее традиции. У нас вряд ли возможно даже предста-
вить себе, чтобы архив Бакунина размещался, скажем, в Троице-Сергиевой
Лавре...
Фуко — философ, парадоксальным образом сплавивший в оригинальное,
подвижное целое противоположные интеллектуальные направления — ирра-
ционалистический волюнтаризм Ницше, с одной стороны, и подчеркнутый
4 Eribon D. Michel Foucault. P., 1989. P. 337.
538 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
(вплоть до «сюра») рационализм эпистемологической традиции Башляра и
Кангилема — с другой. Специфическое «поле» творческой мысли Фуко обра-
зуется там, где проблематизируется сам субъект современной цивилизации
Запада, а это значит, что проблематизируется его историчность. Этот план «поля
Фуко» можно обозначить как особые отношения мыслителя с историей. До
сих пор исследователи спорят, кто он, Мишель Фуко, — философ или исто-
рик? На наш взгляд, конечно, философ, являющийся оригинальным «истори-
ком настоящего», как справедливо квалифицирует его С. Табачникова в своем
послесловии. Второй параметр «поля Фуко» — его ориентация на язык и дис-
курс как на реальность событий, для которых характерны «случайность, диск-
ретность, материальность» (С. 84). Еще одна (помимо связки «язык — исто-
рия») важная для Фуко оппозиция, положенная в основу интерпретации его
творчества Жилем Делёзом, это оппозиция речи и взгляда, сказанного и уви-
денного 5. Важно, что оба эти ряда выступают как независимые друг от друга,
между ними зияет разрыв, что и проблематизирует их взаимосвязь, в поле ко-
торой размещается знание с его историческими типами. Причем знание Фуко
понимает как сферу гораздо более широкую, чем, скажем, наука. Знание может
дать место науке (правилам научности, предполагающим достижение система-
ми знания как определенного рода дискурсивностями порога эпистемологиза-
ции), а может и не дать. Важно, что Фуко исследует не просто сами историче-
ские «позитивности» знания, структуры артикуляций видимого и говоримого,
но условия их возможности, которые в «Словах и вещах» обозначены как исто-
рические a priori, фиксированные в соответствующих эпистемах, уступающих
место затем, в последующих работах, практикам, их регулярностям и прави-
лам.
Еще один важный момент. Фуко — философ, который не пользуется исто-
рией для иллюстрации своей философии, а создает новую историю. Как сказал
о нем историк античности, его близкий друг в его последние годы, Поль Вейн,
Фуко «революционизирует историю». Таких философов, которые бы не про-
сто «философствовали», а искали и создавали новые исторические подходы,
открывали новые возможности для исторического самопознания, немного. Если
еще в 1967 г. самому Фуко казалось, что его работа может быть представлена
как опыт распространения структуралистских методов на историю мысли, наук,
рациональности (в этнологии, лингвистике, литературоведении структураль-
ные методы уже продемонстрировали свою эффективность), то к концу 60-х
годов Фуко резко отмежевывается от структуралистской парадигмы, причем
на самом деле «чистым» структуралистом он никогда и не был. Действитель-
но, с «Истории безумия» (1961) он занят скорее «археологией» и даже «генеа-
5 См.: Deleuze G. Foucault. P., 1986. P. 117 et passim.
Жизнедискурс «в тепы» Ницше
539
логией» современного человека Запада, обращаясь прежде всего к маргиналь-
ным зонам его опыта — безумию, болели, правонарушению, к сексуальным
девиациям, где сплетаются вместе власть — знание — тело... Этот выбор — не
случаен, и по многим причинам. Изучение опыта «негативности» и маргиналь-
ное™ позволяет проникнуть в порождающие структуры нормативных дискур-
сов, в том числе научных. Об этом ясно говорит Фуко в своей «генеалогии»
гуманитарного знания. Генеалогия же в духе Ницше, логике которой следует
Фуко, предполагает герменевтику ключевых слов и имен в свете онтологии
множественных центров волений, стремящихся распространиться и утвердиться
в бытии и при этом борющихся между собой, соединяющихся и разъединяю-
щихся в фигурах стратегий, будучи при этом подверженными случайностям
схваток. Размышляя о функции имени собственного, Фуко говорит, что оно
«больше, чем просто указание, жест... До известной степени оно есть эквива-
лент дескрипции» (С. 19). Какую же «дескрипцию» мы читаем в самом имени
Foucault? Ну конечно же, «дескрипцию» безумца, «fou», главного героя теоре-
тической эпопеи философа! Все творчество Фуко, как это верно почувствовал
его лучший на сегодняшний день биограф, Дидье Эрибон, питается императи-
вом, содержащимся в требовании дельфийского оракула «познай самого себя».
Недаром в молодые годы его считают «чуть ли не сумасшедшим» (С. 403), а
затем он с трудом удерживает себя от психиатрической госпитализации, но
поступает впоследствии, в 1952 г., психологом в клинику Св. Анны, занимая и
здесь маргинальную позицию между врачом и пациентом. Историзирующая
(под знаком Ницше) теоретизация собственной судьбы и собственного опыта?
Да, конечно. И именно в этом сила Фуко — мыслителя и писателя: это не каби-
нетный профессор, у которого личная жизнь — это одно, а теоретическая ра-
бота — совсем другое. Фуко, как и Ницше, являет нам образ творческой лично-
сти, «жизнемыслие» которой есть единый самосознающий себя процесс. Се-
рьезность мысли, по Фуко, измеряется ее способностью к самоизменению. Этот
исток его вопрошаний, проблематизаций опыта, как он станет говорить в пос-
ледних работах, в полную меру приоткроется им самим.
Работа С. Табачниковой позволяет нашему читателю войти в контекст мыс-
ли Фуко, причем каждый переводимый текст поясняется, кроме того, дается
сводный очерк жизни и творчества Фуко, не говоря уже о комментариях к тек-
сту. В результате возникает весьма эффективный «диапозитив» введения в изу-
чение наследия французского философа. Такого введения до сих пор у нас не
было. Конечно, современное исследование творчества Фуко может опираться
на прекрасные издания биографического плана (например, работы Д. Эрибо-
на, среди которых, к сожалению, не учтена его последняя книга 6), собрание
6 См.: Eribon D. Michel Foucault et ses contemporains. P., 1994.
540 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
практически всех выступлений, статей, бесед и т. п. текстов Фуко, выпущен-
ное в четырех томах Ф. Эвальдом и Д. Дефером (1994). Давно уже прошло то
время, когда работы Фуко были вызовом, требующим искусной дешифровки в
условиях информационной недостаточности. Сейчас в философском мире
Фуко — один из самых известных и относительно хорошо изученных совре-
менных мыслителей. Конечно, литературная борьба вокруг него не утихает. В
ней прослеживаются различные сталкивающиеся между собой тенденции и
направления современной жизни — от сексменьшинского милитантизма (кни-
га Дэвида Гальперина «Святой Фуко») до консервативно окрашенного стрем-
ления ограничить влияние Фуко в США (книга Миллера о Фуко 7). Изучение
всех этих полемик и споров — за пределами комментариев составителя и пере-
водчика. Но ко всему этому проблемному «полю» доступ теперь открыт, благо-
даря тому, что русский «дайджест» высокого уровня по Фуко, своего рода «бе-
декер», создан.
К современной борьбе за/против Фуко я хотел бы сделать комментарий:
приватизировать Фуко до конца и целиком вряд ли кому-то удастся. Гарантией
тому я считаю всегда подчеркнуто индивидуальное восприятие философа, не-
повторимость его рецепции. В частности, это проявляется в его воздействии на
литературу, ведущем к своего рода фукоистскому письму и герою. Это указы-
вает на статус текстов Фуко: событие в мире языка и литературы скорее, чем
новая доктрина. Вот кусочек текста, написанного «в тени» Фуко: «По стеклу
бежала вода. Она бежала по законам гидродинамики. Но ее узоры казались
свободным творчеством ее мокрой, слезливой души» 8. Не человека надо ста-
вить на место умершего Бога, говорит Фуко, втягиваясь в орбиту ницшеанской
звезды, «но анонимную мысль, знание без субъекта» (С. 356), ну, например,
как в данном случае, гидродинамическую «машину» поведения воды. Смерть
Бога коррелирует со смертью человека, это раз, и, во-вторых, ей вторит восход
«сверхчеловека». Весь опыт Фуко можно представить вариантом воплощения
тезиса Ницше о «сверхчеловеке» как вершине человека в качестве Homo naturae.
Своего рода параквантомеханический натурализм лежит в основе и новой ис-
тории Фуко. Это натурализм самодействующих безличных практик с их стра-
тегиями, письма и дискурса с их правилами, в частности и с правилами игр
истины/лжи, а, онтологически говоря, это как бы самоткущаяся ткань импуль-
сивных сил/волений. Исчезновение у Фуко человека как теоретического конст-
рукта, культурной функции и эпистемологической диспозиции оказывается, как
7Ор. cit. Ch. 1.
8 Визгин В. /7. Божьекоровские рассказы. М., 1993. Вся книга стоит «под знаком» Фуко,
а в цитируемом рассказе его идеи о дисциплинарном обществе трансформированы в образ
антиутопического «лабиринта».
Жизнедискурс «в тени» Ницше
541
мы видим, спровоцированным его онтологическим исчезновением, проклами-
рованным Ницше в его «сверхчеловеке»... Игра гидродинамических правил дей-
ствительно объясняет генезис прекрасных фигур бегущего по окну дождя. Но
его борьбой анонимных, напряженных сил созданные фигуры нам все равно
кажутся откровением водной души — печалью наяды, томлением ундины, гре-
зой русалки...
После Фуко мыслить стало еще труднее, чем до него. Философия не «стро-
гая наука» (вопреки Гуссерлю). И события в философии не сменяют друг друга
по научному принципу «соответствия». Нет, история их сочетает по парадок-
сальному принципу «дополнения». А это значит, что создание на интеллекту-
альном небосводе особого поля Фуко не означает, что поля Гуссерля больше не
существует. Философии субъекта не сброшены с корабля современности, как
флогистон — кислородной теорией Лавуазье. И поэтому нам теперь мыслить
нужно так, чтобы в нашу мысль вошли и Платон, и полуплатоник Гуссерль, и
антиплатоник Фуко. Hic Phodus...
Итак, благодаря квалифицированной работе С. Табачниковой и А. Пузырея
мы имеем «Избранное» Фуко, тщательно подобранный однотомник его ключе-
вых работ небольшого объема (некоторые не менее существенные тексты сюда
не вошли, мы лично больше всего сожалеем о статье «Ницше, генеалогия, ис-
тория», раскрывающей основные онтологические предпосылки мысли не только
Ницше, но и самого Фуко). Понятно, что текст послесловия и комментария
ставит своей целью разобраться в тонкой, сложной мысли философа. Задача
обсуждения ее пределов, спорных узлов, самой ее «генеалогии» — это другая
задача, к которой нечего и думать приступать, если предварительно не разоб-
раться в том, что же говорил и что хотел сказать Фуко в своих интригующих
текстах, всегда напряженных и увлекательных.
Жанр рецензии обязывает нас сказать и о замеченных недостатках, о том,
что, на наш взгляд, спорно или ошибочно. Это, скажем сразу, все же только
«блохи», и все замечания критического свойства не колеблют нашей уверенно-
сти в высокой научной ценности проделанной составителем книги и перевод-
чиком работы.
Скажем сначала об уровне перевода. В целом перевод, несомненно, доста-
точно высокого качества. Но есть и отдельные неточности, ошибки, стилисти-
ческие небрежности. Например, «неразборчивые рукописи» (С. 64), видимо,
надо читать как «неразобранные рукописи» или рукописи, «написанные нераз-
борчивым почерком». Нередко вместо нужного «чтобы» переводчик ограничи-
вается одним только «что» (например, с. 64 и др.). Переводчик, вообще говоря,
достаточно смел и изобретателен, что, конечно, неплохо. Вот пример: вместо
«une familiarité tolérante» он дает выражение, переворачивающее соотношение
существительного и прилагательного, данное в оригинале (С. 99). Текст в ре-
542 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
зультате неплохо читается. Но можно было бы пойти и по традиционному пути
и оставить субстантив оригинала, но зато при этом пришлось бы «попотеть»
над изобретением нужного для целого смысла прилагательного, рискующего
сорваться в развернутое определение. Приведенный пример смелости и изоб-
ретательности скорее позитивный. Но вот, на наш взгляд, и негативный при-
мер той же манеры. Первый параграф «Воли к знанию» у Фуко озаглавлен «Nous
autres, victoriens». Переводчик, явно трансгрессируя правила французского язы-
ка, передает это выражение как «мы, другие викторианцы». Видимо, на эту
смелость его подвигнуло упоминаемое здесь же, в тексте параграфа, сочине-
ние Стивена Маркуса под названием «The Other Victoriens. A Study of Sexuality
and Pornography in Mid-Nineteenth Century England» (1956). Прекрасно, что пе-
реводчик дает комментарий к тексту Фуко, упоминающего Маркуса, указывая
источник приводимой цитаты (в оригинале нет ссылки). Но, на наш взгляд,
если бы Фуко хотел назвать этот параграф «Мы, другие викторианцы», то он
так бы и сказал «Nous autres, autres victoriens». Но он сказал иначе. Потому мы
считаем, что следовало бы перевести название как «Мы, викторианцы». Если
вникнуть в смысл раздела, так озаглавленного, то мы увидим, что Фуко хочет
сказать здесь, что «объявление (l'énoncé — высказывание. — В. В.) об угнете-
нии (секса. — В. В.)и форма проповеди (что типично для викторианской эпо-
хи. — В. В) отсылают друг к другу и друг друга усиливают» (С. 105). По Фуко,
иными словами, и современный дискурс о «подавлении» секса, и историчес-
кий викторианский дискурс проповеди в пуританском стиле жесткой этики суть
дискурсивные «близнецы», указывающие на единый дискурсивный режим. И
именно поэтому современный человек Запада, привычно говорящий о подав-
лении секса, представляет ту же дискурсивную формацию, что и викторианец
прошлого. И поэтому — «мы, викторианцы». Выражение Маркуса говорит о
теневой стороне викторианской сексуальной морали — о ее «ночной» изнанке,
т. е. о проститутках, сутенерах, истеричках, о тайных сеансах у психиатра и т. п.
(С. 101).
Два слова о переводе «L'Ordre du discours». Перевод «Порядок дискурса» в
целом правилен. Но иногда надо, на наш взгляд, слово «l'ordre» переводить как
«мир». Раньше переводчики Фуко (автор рецензии в том числе) переводили это
выражение еще и как «Мир дискурса» и как «Мир речи» («Царство речи» у
Н. С. Автономовой). Но язык доказал свою независимую силу, и теперь уже
немыслимо передавать «le discours» как «речь» (кроме отдельных случаев).
Однако в тексте Фуко есть места, где надо «l'ordre» читать как «мир». Действи-
тельно, слово «ordre» имеет два основных смысла: 1) порядок, упорядочен-
ность по правилам и т. п., 2) мир бытия таким образом упорядоченного. На-
пример, есть «боевые порядки», а есть «тыловые», «запасные» и т. д. И там,
где французское слово переходит от одного семантического плана к другому,
Жизнедискурс «в тени» Ницше
543
там и русский эквивалент должен трансформироваться. Поэтому, например, на
с. 30 и 69, на наш взгляд, надо переводить «ordre» как «мир». Иначе текст не
читается («легко увидеть, что в порядке дискурса можно быть автором», с. 30:
речь здесь идет о мире дискурса, который, конечно, имеет свой порядок, и в
нем есть «место» для автора, в том числе и не только книг).
Последнее. Мы не можем безоговорочно принять суждение автора коммен-
тариев о том, что «в отечественной литературе о Фуко» преобладает точка зре-
ния, согласно которой он рассматривается как структуралист (С. 351). Во-пер-
вых, автор комментариев не указал в библиографии этих работ отечественных
исследователей Фуко (кроме статьи М. Рыклина). Если бы он их назвал, то чи-
татель сам смог бы разобраться, что они говорили о Фуко в этой связи. Автор
этой рецензии, в частности, не считал и не считает Фуко структуралистом, хотя
его связи со структурализмом никогда не отрицал. Но это далеко не одно и то
же. Верно, что Н. С. Автономова в своей книге включила Фуко в «обойму»
французских структуралистов 9. Но вряд ли верно, что точка зрения, согласно
которой Фуко может рассматриваться как структуралист, крайне редко встре-
чается во французской философской критике. По крайней мере, 15—20 лет
назад таких суждений было немало 10. Правда, что со временем оценки несколь-
ко изменились, и этому способствовали, конечно, прежде всего тексты самого
Фуко. Вообще за время после его смерти (с 1984) ситуация с пониманием мыс-
лителя заметно продвинулась вперед. Свидетельством чего может служить и
рецензируемая работа.
9 Автономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных нау-
ках. М., 1977. С. 48—53.
10 Визгин В. П. Археология знания Мишеля Фуко // Природа философского знания. Ч. 3:
Аналитическая философия и структурализм. М., 1978. С. 196—208. При условии «доста-
точно широкого» понимания структурализма такое суждение некоторые авторы считают
корректным и в наше время. См., например: Косиков Г. К. Ролан Барт — семиолог, литера-
туровед // Барт Р. Указ. соч. С. 3. «Постструктуралистский» (генеалогический) проект Фуко
рассмотрен нами в работах «Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания»; «Генеалогия
культуры: Ницше — Вебер — Фуко» (см. выше, с. 516 и гл. VII, с. 604).
«ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ» ПРОЕКТ
МИШЕЛЯ ФУКО:
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ■
Творчество Мишеля Фуко обычно делят на три периода, если не считать его
деятельности в 50-е годы, когда он только еще искал свой собственный путь.
Условно эти периоды можно обозначить как «археология знания», «генеалогия
власти-знания» и период «эстетик существования». Соответственно, исследо-
ватели обычно говорят об «археологическом», «генеалогическом» периодах и
о периоде анализа «эстетик существования» или «техник самости» 2. Однако,
на наш взгляд, несмотря на действительно глубокие сдвиги в стиле исследова-
ния, в его языке и т. п. (конец 60-х — начало 70-х и конец 70-х — начало 80-х
годов) все творчество философа-историка тем не менее можно представить и
как осуществление единого «генеалогического» проекта. В пользу такого спо-
соба его представления говорит и присутствие характерных для «генеалогии»
приемов анализа уже в «Истории безумия» и других работах «археологическо-
го» периода, и решающее значение, которое имела для Фуко его встреча с твор-
чеством Ницше (особенно его «генеалогия морали»), и стремление в 80-е годы
заместить «генеалогическим» языком «археологическую» терминологию или
хотя бы подчинить первому вторую, даже если это и не было последовательно
проведено.
Какие онтологические интуиции лежали в основании указанных трех ос-
новных периодов творчества Фуко? Вот главный вопрос, лежащий в основе
нашего исследования. Мы считаем, что в онтологическом обеспечении «генеа-
логического» проекта участвовали две основные интуиции, задающие виде-
ние бытия (реальности). Первый и второй из указанных периодов характеризу-
1 Выступление на Международной конференции «Мишель Фуко и Россия» (24—25 июня
2000 г., Санкт-Петербург).
2 Например: МихельД. Мишель Фуко в стратегиях субъективации: От «Истории безу-
мия» до «Заботы о себе». Саратов, 1999. С. 6.
«Генеалогический» проект Мишеля Фуко
545
ются преобладанием квазинатуралистической онтологии, а третий — истори-
ческой. Однако характерно, что их жесткого разведения у Фуко не было, не-
смотря на их существенное различие.
«Генеалогический» проект Фуко, явно сформулированный им в инаугура-
ционной лекции в Коллеж де Франс, прочитанной в декабре 1970 г., связывает
в единое целое все творчество философа, начиная с книги «История безумия в
классическую эпоху» (1961). Правда, здесь вместо термина «генеалогия» мы
находим выражение «археология» («археология немоты» или «отчуждения»),
предназначенное для обозначения той исторической работы, которая должна
обнаружить, как европейская цивилизация жестом «великого заточения» (le
grand Renfermement) отделила от своего рационального способа существова-
ния опыт безумия, объективировав его в соответствующих системах дискурса.
В 60-е годы Фуко обозначал свою исследовательскую работу как работу имен-
но «археолога», что нашло свое теоретико-методологическое обоснование в
книге «Археология знания» (1969). Однако типичное для «генеалогического
проекта» обращение к анализу взаимодействия дискурсивных и недискурсив-
ных практик с системами властных отношений и телесностью индивидов при-
сутствует у Фуко и в его «археологических» историях безумия и клинического
госпиталя (1963). Но лишь после того, как в фокус мысли Фуко попало поли-
тическое измерение истории, «археология» и терминологически трансформи-
ровалась в «генеалогию» современной западной цивилизации, что и нашло свое
выражение в работах 70-х годов. Если термин «археология», возможно, упот-
ребляется Фуко не без воздействия использовавшего его ранее Ж. Дюмезиля,
влияние которого признавал и сам философ, то термин «генеалогия» явно за-
имствуется им у Ницше («К генеалогии морали», 1887), с воодушевлением
прочитанного Фуко в 1953 г.
Для первого этапа развертывания «генеалогического» проекта Фуко, кото-
рый условно можно обозначить как «археологическая генеалогия», характерно
использование ранней работы Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»
(1872). «Ницше показал, — говорит Фуко, — что той трагической структурой,
исходя из которой вершится история западного мира, является не что иное, как
отказ от трагедии, ее забвение и замалчивание»3. Трагическое измерение как
бытийное основание западной цивилизации, обозначенное у Ницше как «дио-
нисийское начало», в ходе ее истории вытесняется за пределы ее рационалис-
тической христианско-моральной культуры. У Фуко это измерение обозначено
как «вертикаль», в которой размещается Другое «горизонтально» расположен-
ного западного Разума. Оно выступает в трех основных воплощениях или фи-
гурах — Востока — Безумия — Сновидения (сюда Фуко присоединяет еще и
3 Foucault M. Folie et Déraison. Histoire de la folie à Fâge classique. P., 1961. P. IV.
35 - 3357
546 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
«счастливый мир желания»). Нетрудно узнать в этих фигурах ницшеанское
«дионисийское начало». Размежевываясь с воплощенным в них своим Другим,
Запад конституирует свою собственную идентичность, причем «жесты» тако-
го размежевания суть основополагающие акты его истории. Благодаря им дио-
нисийское трагическое «начало» западной истории уходит в ночь забвения,
осветить которую и призвана «археологическая генеалогия», как она задумана
и осуществлена в данной работе. Часто упоминаемое в работах этого периода
выражение «археология» выступает, по сути дела, псевдонимом «генеалогии»
и одновременно ее частью.
Действительно, уже в первом варианте «генеалогического» проекта («Исто-
рия безумия» и «Рождение клиники») Фуко проводил «генеалогические» ра-
зыскания, долженствующие высветить структуры современного субъекта с
помощью аналитики комплекса власти-знания-тела. Второй этап развертки «ге-
неалогического» проекта характеризуется тем, что его ядро выходит из, услов-
но, «археолого-структуралистской тени», начиная с программной работы «По-
рядок дискурса» (1971). Непосредственно вслед за ней следует работа «Ницше,
генеалогия, история» (1971), в которой Фуко, отталкиваясь опять от Ницше и
присоединяясь к нему, подвергает критике представление о едином истоке или
начале происхождения вещей (Ursprung), раскрывая основания и стиль «генеа-
логической» истории. «Началу» как общему унифицирующему вещи истоку
их происхождения Фуко, излагая «генеалогию» Ницше, противопоставляет
«историческое начало». «Генеалогист, — говорит он, — нуждается в истории,
чтобы заклясть химеру начала» 4. «То, что находится в историческом начале
вещей (commencement historique), — продолжает он, — это не все еще храни-
мое тождество их происхождения (de leur origine), это — расхождение между
другими вещами, их несовместимость и несоответствие» 5. Характерно, что в
противовес метаисторическому началу (Ursprung), которое всегда «там, где
боги», «историческое начало» «низко» и «неприглядно». Поэтому ницшевская
«генеалогия», а именно ей следует Фуко, это снижающая генеалогия. В осно-
ве ее лежит установка на «подозрение», которое своим «косящимся взглядом»
схватывает вещи снизу, «из-под полы», с «черного хода». Поэтому, выражаясь
предельно кратко, можно сказать, что «археология» без «архе» — это и есть
«генеалогия», как она формулируется Фуко во втором периоде ее эволюции.
В работах 70-х годов в центре внимания Фуко оказались властные отноше-
ния в их подвижном взаимодействии с миром знания и дискурса, разнообраз-
ных практик и телесности индивидов. Трагически-дионисийское измерение,
4 Foucault M. Nietzsche, la généalogie, l'histoire// Hommage à Jean Hyppolite. P., 1971.
P. 150.
5 Ibid. P. 148.
«Генеалогический» проект Мишеля Фуко
547
однако, не уходит из развиваемой в них онтологии. Действительно, в работе
«Порядок дискурса» Фуко определяет мир дискурса как «неудержимое, пре-
рывистое, воинственное... беспорядочное и гибельное, грандиозное, несконча-
емое и необузданное бурление» 6. Эти эпитеты возвращают нас к задающему
онтологическую интуицию представлению о дионисийском трагическом «на-
чале», указанием на которое начинается «История безумия».
Определяющее для формирования «генеалогического» проекта влияние
Ницше было поддержано и дополнено с совсем другой стороны — со стороны
рационалистической традиции французской эпистемологии и истории науки
от Г. Башляра до Ж. Кангилема. Башляр показал, как историку нужно работать
с «эпистемологическими разрывами», а Кангилем — как надо строить проблем-
ную историю научных понятий, структурированное развертывание которой
лишь «озвучивается» индивидами, бывшими точками отсчета традиционной
истории идей. Кроме того, для указанной эпистемологической традиции ха-
рактерно отталкивание от субстанциализма в онтологии, сопровождаемое выд-
вижением на передний план понятий отношения, структуры, контекста связей.
Именно французская история науки прежде всего дала образец той новой ис-
тории, которую Фуко хотел развить дальше, связав ее с философским «полем»
и выбрав для этого новые сюжеты (безумие, сексуальность и т. п.). Сочетание,
казалось бы, несочетаемого — эпистемологического рационализма с иррацио-
налистическим волюнтаризмом — и сделало возможным формирование «ге-
неалогического» проекта Фуко. Общим знаменателем, соединяющим эти раз-
нородные влияния и их продукт, является характерный для них всех антипла-
тонизм как антиидеализм, антиметафизика, антитеология и антителеология.
Все эти определения, пусть и в негативном модусе, характеризуют те онтоло-
гические предпосылки, которые были усвоены Фуко и сделали возможным его
«генеалогический» проект.
С антитеологией связан и антиантропологизм «генеалогического» проекта
Фуко. Не человека надо ставить на место «умершего Бога» (Ницше), говорит
Фуко, «но анонимную мысль, знание без субъекта» 7. «Смерть Бога» коррели-
рует со «смертью человека», знаменующей восход «сверхчеловека». Опыт Фуко
можно представить как своеобразное воплощение тезиса Ницше о «сверхчело-
веке» как трансгрессии человека в подлинном Homo naturae. Соответственно,
своего рода специфический натурализм лежит в основе и «генеалогического»
проекта Фуко, по крайней мере до его третьего периода. Это — квазинатура-
лизм спонтанно действующего мира анонимных практик с их стратегиями, дис-
курса с его правилами, в частности с правилами игр истины/лжи. Говоря на
6 Фуко М. Воля к истине. М, 1996. С. 78.
7 Там же. С. 356.
35*
548 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
языке онтологии, это как бы самоткущаяся ткань сталкивающихся друг с дру-
гом импульсивных сил/волений, формирующих изменчивую поверхность раз-
дела фаз бытие/небытие. Исчезновение у Фуко (до последних томов «Истории
сексуальности») человека как суверенной опоры теоретического конструиро-
вания оказывается связанным с его онтологическим исчезновением в «сверх-
человеке» у Ницше...
Поясним эту ситуацию таким образом. Игра гидродинамических законов
действительно объясняет генезис прекрасных фигур бегущего по окну дож-
дя 8. Но его борьбой напряженных анонимных сил созданные фигуры нам все
равно кажутся откровением водной души — печалью наяды, грезой русалки...
Конечно, мы сами приняли научный закон или правило за абсолютный при-
знак реальности, даже за признак абсолютной реальности, но на самом деле в
языке такой необходимости нет. А ведь именно язык, как говорит М. Бланшо,
резюмируя мысль Хайдеггера, есть «не то, что нужно обосновывать, а то, что
само является источником обоснования» 9. Кстати, то, что Фуко называет исти-
ной, есть научная истина. За достижение научной истины о себе самом чело-
век платит своей дисциплинаризацией и объективацией, формирование меха-
низмов которых было проанализировано Фуко (клиника, психиатрический при-
ют, тюрьма).
Почему Фуко так резко негативно настроен по отношению к философиям
субъекта, к феноменологии, к трансцендентализму вообще? Да потому, что он
видит в них угрозу для «реальности дискурса». «Одним из способов стереть
реальность дискурса, — говорит он, — является тема основополагающего
субъекта» ,0. Это означает, что у Фуко есть априорная интуиция того, что же
такое реальность на самом деле. Такая предзаданная интуиция и есть изна-
чальная онтологическая установка (онтологема), характеристики которой
несовместимы с онтологией классического рационализма, феноменологии и
трансцендентальной философии. Традиционные философии субъекта, рацио-
нализмы и идеализмы (как, впрочем, и догматические материализмы, напри-
мер марксистский) уводят от реальности жизни, поскольку не замечают ее тре-
петной, трагической, импульсивно-волевой, дисконтинуальной природы. Фуко
кажется, что современным ему историческим исследованиям соответствует не
классическая философия субъекта, а философия жизни в духе Ницше, хотя он
и избегает такого выражения. Как и Ницше, он связывает свою философию с
«По стеклу бежала вода. Она бежала по законам гидродинамики. Но ее узоры казались
свободным творчеством ее мокрой, слезливой души» (Визгин В. П. Божьекоровские рас-
сказы. М., 1993. С. 284).
9 Blanchot M. Michel Foucault tel que je l'imagine. P., 1986. P. 23.
10 Фуко M. Воля к истине. С. 76.
«Генеалогический» проект Мишеля Фуко
549
современной ему наукой. Поэтому к общим для него и Ницше онтологическим
характеристикам добавляются новые (регулярность, трансформация, серия).
«Фундаментальные понятия, которые сейчас настоятельно необходимы, —
говорит Фуко, — это уже не понятия сознания и непрерывности (с соответ-
ствующими проблемами свободы и причинности), равно как и не понятия зна-
ка и структуры п. Это — понятия события и серии с игрой сопряженных с ними
понятий: регулярность, непредвиденная случайность, прерывность, зависи-
мость, трансформация» 12. Остановимся на понятии события. Его анализ по-
зволяет увидеть, как ницшеанство в онтологии состыковывается с научным
языком и стилем анализа.
«Эффективная история», противопоставляемая традиционной «истории ис-
ториков», имеет дело с событием. Событие — ее онтологическая характерис-
тика. Под ним «надо понимать, — говорит Фуко, — не решение, договор, ка-
кое-то царствование или битву, но баланс сил (который вдруг меняет свою на-
правленность), захваченную власть, словарь, которым овладели и обратили
против тех, кто его первоначально использовал, падающее господство, отрав-
ляющее само себя, и внезапно врывающееся новое господство, выступающее в
маске» 13. Само знание, подчеркивает Фуко, реконструируя Ницше, существует
не для примиряющего и гармонизирующего сущее его понимания, а, напро-
тив, для проведения в нем резкого размежевания, линии раздела между дей-
ствующими силами. Одним словом, знание существует как эффективный ин-
струмент всеобщей борьбы и поэтому само должно описываться в военных
категориях (стратегия, битва, баланс сил и т. д.). Именно таким образом пони-
маемое знание корреспондирует с настоящим бытием, с подлинной реально-
стью — динамической, дискретной, изменчивой, подверженной случайности.
Главная цель исторического становления как такой борьбы состоит в установ-
лении игроком своих правил игры, в том, чтобы вменить их всем ее участни-
кам, сделав всеобщим принципом: «Великая игра истории, — говорит Фуко,
интерпретируя Ницше, — состоит в том, чтобы завладеть ее правилами, занять
позицию тех, кто их использует для себя» ,4.
Ницшеанство Фуко — глубокое и последовательное, но как бы несколько
прикровенное, если иметь в виду его главные работы, а не интервью после-
дних лет, в которых он прямо называет себя «ницшеанцем» ,5. В основополага-
11 Здесь Фуко полемизирует как с экзистенциализмом Сартра, так и со структурализ-
мом, обозначая свой, постструктуралистский и ницшеанский, выбор.
12 Фуко М. Воля к истине. С. 82.
13 Foucault M. Nietzsche, la généalogie, l'histoire. P. 161.
14 Ibid. P. 158.
15 Ницшеанские мотивы в третьем варианте «генеалогического» проекта мы видим преж-
550 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
ющей для понимания онтологических установок его собственной «генеалогии»
работе («Ницше, генеалогия, история», 1971) он опускает прямое признание,
что предпринятая в ней реконструкция ницшевской «генеалогии морали» от-
вечает и его собственной позиции, видимо, полагая, что это и так ясно. Эту
ситуацию можно описать таким орбразом: Фуко хочет быть оригинальным со-
временным философом-историком мира дискурса, в результате чего ницшеан-
ская философия жизни как бы отходит в тень, отбрасываемую его артикулиру-
емой на полном свету философией дискурса. Однако описание мира дискурса
как дионисийской стихии недвусмысленно указывает на то, что в основании
«генеалогического» проекта Фуко лежит как раз ницшеанская философия жизни
с соответствующими онтологическими предпосылками. На первой же страни-
це указанной работы он подчеркивает, что друг Ницше, Пауль Рэ, ошибся, пред-
ставив в своей книге о происхождении моральных чувств их линейный гене-
зис, упорядоченный лишь заботой о полезности морали. Такая унификация
неверна, говорит он, потому, что слова меняют свои смыслы, идеи — логику,
желания — направление и т. п., а П. Рэ считал, что весь этот мир высказывае-
мых и желаемых «вещей» якобы не испытывал внезапных вторжений, разры-
вов связности, схваток, укрывательств, подлогов и ловушек. В этом перечне
прикрываемых установкой традиционной истории диспергирующих ее харак-
теристик звучит вся предлагаемая вместо нее «генеалогическая» программа, с
помощью которой Фуко и реализует тот искомый «сдвиг» в истории, к которо-
му он был устремлен с самого начала своего творческого пути.
Кульминацией «жизни» (здесь мы реконструируем слегка прикровенную
ницшевскую онтологию «генеалогического» проекта Фуко) выступает «язык»,
«мир дискурса». В речи жизнь максимально самореализуется, раскрываясь как
бурлящая, непредсказуемая, подверженная случайностям стихия. Стихия —
прерывная, движущаяся импульсами своих актов, в том числе и актов желания
говорить, без чего нет и самого мира дискурса с его спонтанно и анонимно
возникающими регулярностями. Итак, жизнь — трепетная и опасная стихия.
Подчеркивание угроз и опасностей, таящихся в мире дискурса и за ним, напо-
минает о трагически-дионисийском измерении бытия, замолчанного или заго-
воренного (а точнее сказать, замолчанного именно рационалистическим транс-
историческим модусом говорения о нем) в европейской традиции после Со-
крата. Действительно, жизнь конечна, трагична, полна угроз, и поэтому живое
трепещет. Жизнь непредсказуема, случайна и поэтому напряженно всматрива-
ется в свое свершение, в прерывистый ритм событий. Все воздействует на все,
и предугадать последствия всех этих воздействий, часто ведущих к скачкооб-
де всего в том, что основу «искусства существования» образует эстетическое мироотноше-
ние (мир оправдан как эстетический феномен).
«Генеалогический» проект Мишеля Фуко
551
разной смене жизненной «траектории», невозможно. И поэтому жизнь не толь-
ко случайна, прерывиста, но и «материальна». При этом ее «материальность»
понимается Фуко в событийно-динамическом, а не субстанциалистском смыс-
ле. Итак, «трепещет» сама жизнь, но мы, читая Фуко, видим, что у него «трепе-
щет» и «бьется» дискурс, мир дискурса в целом, причем вместе с прилегающи-
ми к нему и взаимодействующими с ним недискурсивными практиками.
Антиплатоновский импульс направлен у Фуко на то, чтобы сделать возмож-
ным тот сдвиг в поле истории, к которому он был устремлен с начала своей
творческой деятельности. Замысел такого сдвига подразумевает оттеснение с
переднего плана в интеллектуальном мире философий субъекта, лежащих в
основании традиционной истории идей с характерными для нее «идеальными
необходимостями», «целями» и устойчивыми, вносящими непрерывность
«смыслами». Для того чтобы подобный сдвиг стал возможным, необходимо,
говорит Фуко, в само основание наших мыслей и действий ввести, как он вы-
ражается, «отвратительную машинку», вносящую в мир дискурса и практик в
целом «случай, прерывность, материальность» 16. Можно сказать, что речь идет
о введении в онтологию своего рода «стохастизатора», по своей функции дей-
ствующего зеркально противоположно известному из истории физики «демо-
ну Максвелла», так как он в отличие от последнего вносит в мир не порядок, а,
напротив, случай и, значит, хаос. Аналогию с физикой нужно продолжить, для
того чтобы прояснить суть той онтологии, которая обосновывает «генеалоги-
ческий» проект Фуко. Действительно, предлагаемая Фуко «генеалогическая»
история мысли базируется, как мы видим, на тех же самых онтологических
постулатах, что и квантовая механика (нередуцируемая случайность и диск-
ретность). Речь идет о том, чтобы в основание нашего понимания истории вве-
сти принцип автономного хаоса (аналог античного понятия «беспредельного»),
выступающий иерархически более весомой онтологической категорией, чем
соответствующий ему противопринцип (аналог платоновского эйдоса и пифа-
горейского «предела»). Принимая это во внимание, можно сказать, что совер-
шаемый Фуко «сдвиг» в методологии истории в историко-философской проек-
ции выглядит как движение «назад» от Платона к софистам и от Парменида к
Гераклиту.
Несмотря на антиплатоновский характер онтологии истории у Фуко мы все
же можем воспользоваться для ее характеристики понятийными ресурсами
платоновской космогонии «необходимости» (отличной у Платона от космого-
нии «ума»). Действительно, эта онтология выглядит онтологией становления
как игры сил, свободной от всякого участия в ней идеальных образцов и само-
го демиурга (Тимей, 48 а). В таком случае от целостного мира платоновской
16 Фуко М. Воля к истине. С. 84.
552 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
космогонии остается лишь образ космического «сита» (Тимей, 53 а), представ-
ленный у Фуко упомянутой выше «отвратительной машинкой», образ действий
которой напоминает нам «трясение» атомов у атомистов (лосХцос). Как и «сито»
Платона, эта «машинка» вносит, однако, в конце концов не только хаос, но и
определенный порядок (регулярность) в мир практик, в том числе и дискур-
сивных. История в своем онтологическом измерении «работает» в «генеало-
гии» Фуко как такое упорядочивающее «сито» из «гетерогенного ансамбля
высказываний», например, о богатстве и бедности, производстве и торговле,
создавая те формы дискурсивной регулярности, которые сначала выступят как
«анали * богатства», а затем как «политическая экономия». Поэтому, продол-
жая сопоставление на онтологическом уровне «генеалогического» проекта Фуко
с физикой, нельзя не отметить определенного сходства лежащей в его основе
онтологии с идеями о рождении порядка из хаоса через его спонтанную само-
организацию, развиваемыми И. Пригожиным и его школой.
Последняя, третья, стадия «генеалогического» проекта развивается Фуко в
двух последних томах его «Истории сексуальности» (1984). В центре внима-
ния философа-историка здесь оказывается «генеалогия желающего человека»
(вспомним, что о «мире желания» как об одной из важных археолого-генеало-
гических тем Фуко говорил еще в «Истории безумия»). Политико-институци-
ональный анализ истории мысли сменяется здесь анализом «практик» или
«техник самости» (techniques de soi), регулируемых правилами «искусства су-
ществования». В исследуемой Фуко античной традиции «заботы о себе» фор-
мируется сам субъект морали, проходящий с неизбежными трансформациями
через всю историю Запада. Таким образом, «генеалогия» морального субъекта
отвечает общему замыслу «генеалогического» проекта дать «историческую
онтологию нас самих», «онтологию настоящего». На уровне терминологиче-
ского оформления этого последнего варианта проекта сталкиваются две про-
тивоположные тенденции. Действительно, Фуко отказывается от выражения
«археология», как он о том заявляет в своем интервью весной 1983 г. Однако в
противовес этому, как и в начале своего творчества, он продолжает его исполь-
зовать, различая и сочетая «археологическое» и «генеалогическое» измерения
своего исторического анализа: «археология» исследует формы проблематиза-
ций, возникающих в сфере опыта субъекта, а «генеалогия» — само их форми-
рование, исходя из анализа практик в их динамике.
Обращение к анализу субъекта морали не было, однако, как это может — и
не без оснований — показаться, разрывом с исходной установкой Фуко на от-
каз от философий субъекта как основополагающей, смыслом наделяющей ин-
станции. Во всяком случае именно так интерпретирует эту ситуацию сам Фуко.
Выход на передний план проблемы «генеалогии» морального субъекта был
обусловлен, как о том говорит сам философ, нерешенностью естественным
«Генеалогический» проект Мишеля Фуко
553
образом возникшего в ходе проделанных исследований вопроса: «Почему сексу-
альное поведение делают важной моральной проблемой?» ,7 Исследуя необхо-
димый для ответа на этот вопрос материал, Фуко углубился далеко в прошлое,
вплоть до классической Греции. Переориентация исследования на процесс ста-
новления субъекта морали, который сам себя строит, развивая в качестве «за-
боты о себе» «практики самости», не означала, повторим еще раз, что Фуко
совершенно отвернулся от своих исходных философских, онтологических в
том числе, установок, повернув в сторону философий субъекта. Нет, у него
субъект по-прежнему не определяет возможный опыт, а сам, скорее, зависит от
него, по крайней мере, так в своих самоистолкованиях объясняет он эту ситуа-
цию.
Образ онтологии, релевантной «генеалогическому» проекту в целом, как
нам это представляется, двоится. Прежде всего этот проект, как мы показали,
основан на квазинатуралистической параквантовомеханической онтологии.
Однако начиная с «Воли к знанию» (1976), как свидетельствует сам Фуко, у
него намечается определенный разрыв с натурализмом. Фуко постепенно ос-
вобождался от той натуралистической онтологии (например, в трактовке безу-
мия как дионисийской стихии), которая явственно прозвучала в предисловии к
первому изданию «Истории безумия» (1961). Речь, однако, не идет о таких он-
тологических характеристиках, как прерывность, случайность, материальность,
сближающих априорное видение бытия с образом физической реальности в
квантовой механике. Фуко освобождался от того «диффузного натурализма»,
который за «властью с ее насилиями и ухищрениями» обнаруживает «сами вещи
в их первозданной жизни: за стенами лечебницы — спонтанность безумия, по-
зади системы уголовного права — благородный жар правонарушения, под сек-
суальным запретом — свежесть желания» 18.
Другая задающая онтологию установка связана с истолкованием истори-
ческого времени как бытия. Это, напротив, антинатуралистическая по своей
интенции онтология. Фуко ее определяет как «онтологию настоящего», «нас
самих», как «историческую» и «критическую». По сути дела речь здесь идет о
своеобразной исторической антропологической онтологии человека как субъек-
та и объекта своего собственного самоизменения. Критицизм этой онтологии
направлен на поиск «пространства конкретной свободы», т. е. зоны возможно-
го самоизменения человека, которое Фуко мыслит не глобальным, а локаль-
ным и специфическим. Основное понятие такой онтологии — понятие опыта.
В частности, особенно важной оказывается категория «предельного опыта»
(expérience-limite), функция которого состоит в том, чтобы выводить человека
Foucault M. Dits et écrits. 1954—1988. T. 4. 1980—1988. P., 1994. P. 610.
Ibid. T. 3. 1976—1979. P., 1994. P. 264—265.
554 Глава VI. XX век: от экзистенциалиша к постструктурализму
за его собственные пределы, открывая возможность его самотрансгрессии.
Кстати, именно отсутствие подобной концепции опыта в феноменологии за-
ставило Фуко отказаться от нее в пользу Ницше 19. Характерно, что вместе с
подобным понятием опыта в поле исторической онтологии попадает и «авто-
номный субъект». Наконец, третья основная категория этой онтологии — это
свобода, оказывающаяся фактически «лишенной предела работой свободы».
Свобода как цель в критической онтологии настоящего отбрасывается далеко
вперед, открывая пространство для подобной работы. Тем самым «генеалоги-
ческий» проект Фуко приобретает черты критического обслуживания практик
самосозидания и самоизменения человека. Историческая онтология нас самих
и есть такое обслуживание. В фокусе такой онтологии оказывается человек
как автономный субъект и как субъект свободы, реализующий ее через крити-
ку в теории и практике.
Дионисийской стихийной жизни натуралистической онтологии в этой он-
тологии соответствует «философская жизнь» или «этос», т. е. сам концепт
жизни оказывается существенным образом смещенным. Несмотря на разли-
чие между двумя типами онтологического сознания между ними, что важно
подчеркнуть, сохраняется и определенная преемственность. Критическая ис-
торическая онтология точно так же, как натуралистическая (через посредство
соответствующей генеалогии), использует представления о случайности, ма-
териальности, дискретности. Так, например, Фуко говорит, что критическое
вопрошание современности состоит в выявлении особенного, случайного и про-
извольного в том, что признается универсальным, необходимым, обязатель-
ным. Это — типичная генеалогическая процедура, и основанием для нее мо-
жет выступать разобранная нами квазинатуралистическая онтология. Однако
несмотря на сохранение некоторых общих моментов, пафос этой историчес-
кой онтологии существенно иной, чем в онтологии натуралистического типа.
В первом и втором варианте «генеалогического» проекта доминирует квазина-
туралистическая онтология, а в третьем — историческая. Стремясь продемон-
стрировать единство всего своего творческого пути в последних интервью и
выступлениях, Фуко, на наш взгляд, сглаживает его дисконтинуальность, обус-
ловленную сменой онтологических интуиции.
Подведем итоги. «Генеалогический» проект Фуко имеет несомненное науч-
ное значение. Для истории гуманитарных наук это очевидно. В частности, он
если и не «революционизировал историю» 20, как считает П. Вейн, то во вся-
ком случае способствовал ее обновлению. Менее очевидно, но тем не менее
19 Чтение Бланшо и Батая действовало в том же самом направлении.
20 Veyne P. Foucault révolutionne l'histoire // Veyne P. Comment on écrit l'histoire. P., 1978.
P. 383—430.
«Генеалогический» проект Мишеля Фуко
555
это справедливо и для истории естественных наук. Но, пожалуй, его еще боль-
шее значение обнаруживается в его возможностях критицизма, обращенного в
адрес современной цивилизации, сделавшей его возможным. «Генеалогия» Фуко
вписывается в традицию цивилизационного критицизма от Ницше до Франк-
фуртской школы, с которой он имеет множество точек соприкосновения.
Пределы этого проекта определяются его предпосылками, онтологически-
ми и мировоззренческими. Это, во-первых, упомянутый нами антиплатонизм
ницшеанского типа, а во-вторых, принадлежность его к традиции «школы по-
дозрения» (выражение П. Рикёра, рассматривавшего Маркса, Фрейда и Ницше
как одну интеллектуальную формацию). При обсуждении возникающих здесь
вопросов важно отдавать себе отчет в том, что философия — не наука и, соот-
ветственно, ее феномены связаны между собой не по принципу вытеснения
«истинным» дискурсом дискурса «ложного», а по принципу взаимодополнения
различных форм дискурса. В данном случае это означает, что философский
дискурс «доверия» по отношению к автономным смыслам, в том числе плато-
новского типа, имеет в философии не меньшие права гражданства, чем анти-
платоновский дискурс традиции «подозрения» в духе Ницше или Фуко. Кста-
ти, у Фуко, в отличие от Ницше, категория «подозрения» в ее прямом эписте-
мологическом значении едва ли тематизирована вообще, чего, однако, нельзя
сказать об антиплатонизме. Хотя в своих работах Фуко и не тематизирует «по-
дозрение» в качестве эксплицитной эпистемологической установки, тем не
менее он о нем говорит как о существенной характеристике «эффективной ис-
тории», принципы которой разделяются не только интерпретируемым им в дан-
ном контексте Ницше, но и им самим. В противовес традиционной истории
идей, говорит Фуко, «эффективная история направляет свой взгляд на ближай-
шее — на тело, нервную систему, питание и пищеварение, на энергетику; она
ищет различного рода упадки жизненной силы и если рассматривает и высо-
кие эпохи истории, то с обращенным на них подозрением — не злопамятным,
но веселым — в варварском, но скрываемом ими копошении (grouillement). Она
не боится смотреть на вещи снизу» 21.
Глубокая рецепция Фуко философии Ницше практически свободна от поле-
мики с певцом «Заратустры». Мы нашли всего одно исключение из этого пра-
вила 22. Поэтому, как мы и показали выше, вряд ли было бы преувеличением
обозначить генерирующее мысль Фуко онтологическое «поле» как в основе
своей неоницшеанское. Сказанное, однако, никак не означает, что у Фуко все
сводится к подавляющему влиянию Ницше. Как мы сказали, воздействие на
Фуко традиции французской эпистемологии и истории науки было весьма зна-
21 Foucault M. Nietzsche, la généalogie, l'histoire. P. 162.
22 Foucault M. Dits et écrits. T. 4. P. 626.
556 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
чительным, тем более что оно оказалось во многом созвучным тому воздей-
ствию, которое на него оказывал сам Ницше. Историческая онтология «нас
самих» заставляет вспомнить и Хайдеггера, и Маркса. В действительности для
Фуко характерна способность к усвоению разнородных и даже в чем-то и про-
тивоположных направлений мысли. Но в этом достаточно пестром «букете»
влияний и воздействий роль Ницше все же нам представляется самой значи-
тельной, что подтверждают и поздние автобиографические высказывания фран-
цузского философа в его интервью последних лет жизни. Действительно,
онтология истории, представляющая ее бытийное основание в виде множе-
ственных центров сил, свободных от какого бы то ни было их включения в
приоритетную по отношению к ним и независимую от них сферу «смысла» (а
значит, и цели или единой необходимости), равным образом характеризует обоих
мыслителей, напоминая нам, как о своей отдаленной «археологии», о соответ-
ствующих мотивах у Гераклита, правда, за вычетом темы «логоса» в том его
смысле, в котором он присутствует у греческого мыслителя. Ни на чем не ос-
новывающее себя упорство воли, отстаивающей себя в борющемся человеке, —
вот, по Фуко, ultima ratio, последнее слово философии, после которого сказать
еще что-либо значащее невозможно. «Этим сказано все», — говорит он, ком-
ментируя упирающийся в такое упрямство воли дискурс борьбы 23. Поэтому
несмотря на отсутствие у него прямой и не отсылающей к Ницше тематизации
«подозрения» как эпистемологического принципа, мы сочли возможным отне-
сти Фуко вместе с Ницше, Марксом и Фрейдом к традиции «школы подозре-
ния». Это обстоятельство служит и для определения границ его «генеалоги-
ческого» проекта 24.
23 Veyne P. Le dernier Foucault et sa morale // Critique, août-sept. 1986. № 471—472. P. 935.
24 Об этом подробнее см. ниже: «Постструктуралистская методология истории: дости-
жения и пределы». См. также: «Генеалогия культуры» в гл. VII.
ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
ИСТОРИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ
Настоящая статья развивает идеи, высказанные в докладе «Постструктура-
листская методология истории: философский подход и личный опыт» ]. Раз-
мышления философа и опыт историка науки здесь соединяются, чтобы дать
сжатую и поневоле неполную картину тех достижений в обновлении истори-
ческой методологической мысли, которые принесла с собой так называемая
«структуралистская революция» (термин Ж.-М. Бенуа2) вместе с последовав-
шим затем постструктурализмом, внесшим в ее «золотой фонд» новые идеи и
темы (прежде всего тему власти, «власти-знания»). Наконец, мы бы хотели
показать пределы постструктуралистского направления, выявляемые на уров-
не философских и эпистемологических ориентации.
Говоря предельно лаконично, истина объекта, взятая в определениях позна-
ющего его субъекта, есть метод. Оставляя в стороне чисто философские сооб-
ражения о методе в истории, скажем только, что мы имеем в виду прежде всего
тот концептуальный инструментарий, который «работает» (может «работать»)
в историческом исследовании. Речь идет о той широкой промежуточной зоне,
которая граничит, с одной стороны, с философией истории, а с другой — с тем,
что можно назвать методами конкретных исторических исследований.
Второе предварительное замечание состоит в том, что «структуралистс-
кая революция» в истории неотделима от общенаучной революции XX в., в
частности, от революции в точных науках, прежде всего в физике. Нетрудно
показать, что философско-методологическое осмысление революции в естество-
знании, начатое практически след в след с радикальными открытиями, пере-
вернувшими его в первой трети XX века, позволило еще задолго до полномас-
штабной «структуралистской волны» 50—60-х годов выявить направление ос-
1 Доклад на круглом столе «Историческая наука сегодня: поиски метода» в Институте
всеобщей истории РАН (март 1995 г.).
2 BenoistJ. M. La révolution structurale. P., 1975.
558 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
новных методологических сдвигов в мышлении, значимых и для историческо-
го познания. Некоторые крупные методологи науки тех лет были в то же время
и историками науки. Таков, например, Г. Башляр, основоположник новой эпи-
стемологии во Франции 3. Поэтому удобно начать анализ некоторых плодотвор-
ных, на наш взгляд, сдвигов в концептуальном аппарате истории, отталкиваясь
от его работ. Позднее башляровская традиция в методологии истории науки
внесла свой вклад и в методологию всеобщей истории. Мы имеем в виду рабо-
ты Ж. Кангилема 4и, главным образом, М. Фуко, в творчестве которого струк-
турализм трансформировался в постструктурализм, следуя общему ритму пре-
образований гуманитарного знания во Франции конца 60-х и особенно начала
70-х годов.
Бесспорные завоевания структуралистской революции
Образ исторического мышления благодаря понимаемой в широком смысле
структуралистской революции (включая и постструктурализм) обновился глав-
ным образом, на наш взгляд, в трех основных направлениях. Во-первых, это
относится к выдвижению на передний план категории дискретности (в рамках
оппозиции «прерывность — непрерывность», «дискретное — континуальное»).
Вторая особенность трансформаций в концептуальном багаже истории касает-
ся изменений ее онтологии в свете переоценки таких оппозиций, как «действи-
тельное — возможное», «субстанция — функция», «вещь — отношение». Тре-
тье направление преобразования исторической мысли связано с теоретической
легитимацией воздействия познающего историю субъекта на нее саму как
объект познания. Среди множества сдвигов, значимых для обновления образа
истории, мы выделили только эти три направления как в силу их универсаль-
ности и важности для исторического мышления вообще, так и особенно пото-
му, что их плодотворность, на наш взгляд, прошла проверку временем, ибо
конкретные исторические исследования подтвердили необходимость включе-
ния формируемых ими новых черт образа истории в рабочий инструментарий
историка.
Все эти три момента связаны между собой. Действительно, уже «предструк-
туралистское» направление в методологии науки выдвигало требование пере-
оценки субстанциалистской онтологии (примата «вещи» над «отношением»).
Сама структура мыслима лишь как устойчивая форма отношений: без реляци-
Визгин В. П. Эпистемология Башляра и история науки. М., 1996.
4 Canguilhem G. Études d'histoire et de philosophie des sciences. P., 1968. О нем см.: Виз-
гин В. П. Образ истории науки в трудах Жоржа Кангилема // Современные историко-науч-
ные исследования (Франция). М., 1987. С. 104—140.
Постструктуралистская методология истории
559
онной модели объекта вообще, исторической реальности в том числе, невоз-
можен и поиск структур как цель познания.
То, что в методологии науки получило название замкнутых концептуаль-
ных систем (В. Гейзенберг 5), предполагало новую, некумулятивную, концеп-
цию построения и развития научного знания. Кумулятивизм, представлявший
наследие XIX в., подразумевал континуальность процесса познания и, следо-
вательно, фактически бесструктурность знания. При таком подходе рост зна-
ния мыслится экстенсивно, по принципу непрерывности. Но если мы отдаем
себе отчет в том, что знание организуется как связное целое, что оно облада-
ет определенной единой структурой, тогда мы должны иначе понимать и его
историю. В этом случае мы просто не можем избежать дисконтинуальных
представлений и, в частности, того, что при известных условиях (например,
в случае невозможности объяснить новое эмпирическое наблюдение суще-
ствующей теорией) может рухнуть вся система знания как единое целое («эпи-
стемологический разрыв» в терминологии Башляра). Мышление истории в
разрывах, таким образом, соединяется в одно целое с основным принципом
структурализма как такового (принцип системного целого). В результате про-
исходит обогащение понятийного языка истории. Перенося указанную мето-
дологическую ситуацию из истории науки во всеобщую историю, мы можем
сказать, что существуют «разрывающие» исторический континуум события,
наподобие того, как в науке существуют открытия, «бьющие» по концепту-
альным целостностям знания, «разрывосозидающие» по своей исторической
функции.
Историческая эпистемология Башляра, которую мы считаем образцом ран-
ней структуралистской мысли в методологии науки, это, прежде всего, эпис-
темология разрывов. Разрыв мыслится Башляром как «переворачивание
перспективы»: в научном знании действует системно-структурный принцип,
означающий, что знание организуется как целое и в этом смысле характеризу-
ется определенной замкнутостью, а поэтому его изменения неизбежно проис-
ходят взрывообразно, когда когнитивная система оказывается поставленной под
вопрос и нуждается поэтому в замене ее новой; это и отмечается как разрыв
или дисконтинуальность в развитии науки. Ярким примером разрыва в исто-
рии техники, считает Башляр, служит создание ламп накаливания. В лампе
Эдисона «переворачивается» все техническое мышление, связывавшее горе-
ние как источник световой эмиссии с необходимостью его поддерживания.
«Старая технология ламп, — говорит Башляр, — технология горения. Новая —
техника предотвращения горения» 6.
5Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963.
6Bachelard G. Le rationalisme appliqué. P., 1949. P. 107.
560 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
Действительно, прежняя осветительная техника исходила из принципа
горения: при сгорании топлива происходит световое излучение. В лампе нака-
ливания перспектива перевернута: чтобы такая лампа функционировала, она
нуждается не в горении, а, напротив, в исключении самой его возможности.
Система интуиции, задававших основу прежней техонологии осветительных
устройств, должна была быть полностью отброшена, поскольку это была це-
лостная замкнутая система, в рамках которой техника просто не может совер-
шенствоваться.
Это пример, демонстрирующий неизбежность дискретных представлений
в силу смены самой перспективы интеллектуального развития, кажется нам
корректным. Историк, в частности историк техники, должен научиться рабо-
тать с историческими разрывами, включив в свой методологический багаж идею
дискретности. При наличии такой смены сама установка на обязательный, ка-
залось бы, для историка поиск предшественников (что характерно для конти-
нуалистской методологической ориентации) оказывается если и не совсем бес-
плодной, то, во всяком случае, сомнительной, маскирующей дисконтинуаль-
ные моменты в развитии науки.
Понятие эпистемологического разрыва вырабатывалось Башляром в спо-
ре с «континуалистами культуры» (Э. Мейерсон, П. Дюгем и другие). «Кон-
тинуалисты культуры» (выражение Башляра) ссылались на непрерывность
истории как процесса развития практики и теории, перенося на объективную
историю непрерывность субъективного рассказа о ее событиях. «Так как в
истории строится непрерывный рассказ о событиях, — говорит Башляр, —
то легко верят в их существование в непрерывности времени, незаметным
образом приписывая тем самым всей истории единство и непрерывность кни-
ги» 7. Непрерывность исторического рассказа переносится, таким образом,
на саму историческую реальность. Этому способствует и распространение
такого жанра историко-научной литературы, в котором изложение идей, от-
крытий и других когнитивных сторон науки перемежается элементами био-
графий ученых и внешней историей. Такая манера написания истории уже
сама по себе способствует возникновению иллюзии ее непрерывности, так
как представляется, что любой рассказ, любая деталь может быть как бы до-
полнительно «увеличена» и в нее можно при этом вставить новый рассказ с
новыми деталями — и так далее до бесконечности. Кажется, что только не-
хватка места и времени не дали историку еще полнее (и, значит, еще непре-
рывнее) рассказать о событиях, реальность которых представляется осуще-
ствленной непрерывностью культуры. Башляр, однако, стремится совсем к
другой истории науки, самое важное в которой, напротив — разрывоподоб-
1 Bachelard G. Le matérialisme rationnel. P., 1953. P. 209.
Постструктуралистская методология истории
561
ные движения рационального мышления, смены научных программ, инвер-
сии в подходах и методах, возникновение теорий, разрывающих квазинепре-
рывность научного знания.
Другой аргумент «континуалистов культуры» в защиту их концепции состо-
ит в отсылке ко множеству безымянных тружеников науки, к научной атмо-
сфере, к влияниям и т. п. Башляр резко критикует расхожее и, как правило,
некритически употребляемое представление о влиянии: «Чем дальше от фак-
тов, — говорит он, — тем легче говорить о "влияниях"». И добавляет: «Это
представление о влиянии, столь дорогое для философского ума, не имеет ника-
кого смысла для понимания передачи истин и открытий в современной науке».
Башляр истолковывает влияние как некоторое недоосознанное воздействие. Но,
согласно его концепции, научный прогресс как раз приводит научное мышле-
ние к тому, что новые знания максимальным образом осознаются учеными.
«Мало-помалу, — говорит Башляр, — все, что имеется в знании бессознатель-
ного и пассивного, оказывается подчиненным». Нерелевантность представле-
ния о влиянии в истории современной науки, по Башляру, объясняется и тем,
что рационально организованная дискуссия составляет в ней саму «ткань» на-
учного развития, и аргументы, которые в этой дискуссии сталкиваются, это —
подчеркивает философ — «поводы для разрывов» 8.
Концепция разрывного характера истории знаний у Башляра опирается на
представление о прерывности времени, которая, в свою очередь, зависит от
прерывности микромира, вскрытой квантовой физикой. Прерывность энерге-
тических процессов в микромире указывает на вероятную прерывность време-
ни, в том числе и исторического. Устойчивость же континуалистской концеп-
ции истории объясняется, по Башляру, прежде всего психологическими факто-
рами — традиционными установками, педагогическими привычками и т. п.
Континуализация истории происходит потому, рассуждает философ, что суще-
ствует психологическая потребность, состоящая в стремлении свести новое
знание к старым элементам, перевести неизвестное на язык знакомых нам по-
нятий, редуцировать новизну с помощью экспансии привычного, известного и
знакомого, данного в прошлом и прочно усвоенного. И здесь в конфликт с та-
кой редукционистской ассимиляторской установкой вступает вера Башляра в
то, что высшие цели познания достигаются через движение разума и его твор-
ческие акты. А движение и творчество немыслимы без разрывов. Действитель-
но, согласно Башляру, ум — начало прерывности, душа — стихия непрерывно-
сти. «Музыкальное действие, — говорит философ,—дисконтинуально, и только
наш сентиментальный резонанс придает ему непрерывность» 9. А в другом
8 Ibid. Р. 212.
9 Bachelard G. La dialectique de la durée. P., 1936. P. 116.
36-3357
562 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
месте он обращает внимание на то, что «душа своими чувствованиями рас-
плавляет прерывные определения ума» ,0.
Мы показали, насколько глубоко привержен Башляр принципу прерывно-
сти в истории знания, подчеркнув методологическую плодотворность этого
принципа, особенно при анализе истории современной науки. «Истинная ме-
тодологическая осторожность, — говорит Башляр, — состоит в том, чтобы по-
стулировать дисконтинуальность, как только убеждаются в том, что изменение
произошло. Однако в этом случае привычно стремятся к тому, чтобы утверж-
дать подразумеваемую непрерывность» и.
Характерный для историко-научного структурализма Башляра дисконтину-
ализм не отрицает значимости категории непрерывности для анализа истории.
Связь разрывов и непрерывности нельзя отрицать. Действительно, в начале
исторического исследования знание предстает как смешанная, «спутанная»
непрерывность — как бы аналог первородного «хаоса». Анализ историка, ста-
вящего эпистемологические вопросы, обрабатывает этот «хаос» таким обра-
зом, что при этом фиксируются четкие линии разрывов. Но сами разрывы — не
равноценны. На этой стадии исследования они выступают еще как бы хаотичес-
ки. Аналитику-историку, стремящемуся к глубокому постижению динамики
познания, нельзя ограничиться констатацией разрывов без их упорядочивания.
Если первая стадия этого процесса была нами обозначена как «спутанная»
непрерывность, то вторая — это неорганизованная совокупность разрывов. На-
конец, на третьей стадии исследования возникает упорядочивание самих раз-
рывов, их иерархизация, выстраивание в ряды и последовательности. Благода-
ря этому возникает результирующая связность, т. е. непрерывность, построен-
ная на базе самих разрывов. Порядок в разрывах говорит нам о магистральных
линиях движения знания, о сквозных проблемах и т. п., т. е. происходит синтез
непрерывности и прерывности, пусть при этом в конечном счете, как это имеет
место у Башляра, ведущая роль и принадлежит разрывам.
Структурализм и следом за ним постструктурализм подхватят идеи эписте-
мологии разрывов Башляра и разовьют их дальше применительно к ситуации
глубокой лингвистической мутации гуманитарного знания и прогресса в эмпи-
рических исторических исследованиях. В качестве примера можно указать на
образец новой структуралистской методологии истории, данной в «Археологии
знания» М. Фуко 12. Мой собственный опыт историка науки позволяет сделать
10 Цит. по: Backès J.-L. Le mot «contiunuité» // L'Arc (Bachelard). 1970. № 42. P. 69—71,75.
11 Bachelard G. La dialectique de la durée. P. 49.
12 Foucault M. L'archéologie du savoir. P., 1969. Концепция археологии знания Фуко и ее
восприятие историками и философами рассмотрены в ст.: Визгин В. П. Археология знания
Мишеля Фуко // Природа философского знания. М., 1978. Ч. 3: Аналитическая философия
Постструктуралистская методология истории
563
такой вывод: обогащение арсенала историка дискретными представлениями,
разработка аналитически выверенных приемов работы как с «разрывами», так и
с «непрерывностями» — безусловные достижения «структуралистской револю-
ции». Они оказались плодотворными и для современной исторической мысли,
которая тем самым расширила свой методологический горизонт.
Экспорт методологических сдвигов (происшедших в первой трети XX в. в
точном знании) в гуманитаристику не ограничился усвоением дискретного
подхода. Известно, что современная физика развила идеи корпускулярно-вол-
нового дуализма. О «корпускулярности» и ее аналогах мы уже сказали, отме-
тив плодотворность дисконтинуалистских представлений для истории науки и
техники (и не только для них). Теперь же надо указать и на прямо противопо-
ложный, по-видимому, ход мысли, пробужденной структуралистским обнов-
лением исторического знания. Речь идет об устойчивом и многообразном обыг-
рывании идеи «поля» (т. е. как раз идеи континуума, непрерывности, «волно-
вой динамики») в структуралистской гуманитаристике.
Аналоги «полевых» представлений в истории имеют долгую предысторию
в философском и методологическом освоении революции в естествознании
(упомянем в этой связи, например, работы Э. Кассирера ,3и Г. Башляра 14). Речь
идет о новой онтологии, задающей образ исторической реальности. Вместо
субстанциалистской, «вещевистской» метафизики на передний план выдвига-
ется онтология реляционизма, функционализма и соответственно, в конце кон-
цов, структурализма, поскольку базой для понятия структуры выступают именно
отношение и «поле». Метафорика динамического поля призвана заместить клас-
сическую онтологию вещеподобных агентов и событий истории. Пафос «смерти
субъекта», «автора», «человека» в структурализме и постструктурализме (Фуко,
Барт и другие) ,5 означает как раз обращение к приемам безличного, деперсо-
нализированного подхода, когда историческое полотно можно анализировать
анонимно и «позиционно», не прибегая ни к индивидуальной психологии, ни
вообще к личностям и именам как самоактивным центрам истории. В целом,
на наш взгляд, этот поворот методологии и онтологии (они идут рука об руку)
в концептуальном инструментарии истории следует оценивать дифференциро-
и структурализм (критический анализ). С. 180—213.
13 Кассирер Э. Познание и действительность. СПб., 1912.
14 Баиияр Г. Новый рационализм. М., 1987.
15 См.: Фуко М. Слова и вещи. М., 1977 (переиздание: СПб., 1994). С. 483—487;
Foucault M. Qu'est-ce qu'un auteur? // Bull, de la Soc. franc, de philosophie. P., 1969. A. 63.
№ 3. P. 73—104; Барт P. Смерть автора II Барт P. Избранные работы. M., 1994. С. 384—391.
36*
564 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
ванно. В нем мы отмечаем несомненные плодотворные моменты, обогатившие
историю. Однако сам замысел полностью избавиться от субъекта потерпел
фиаско: окончательно устранить его из истории вряд ли вообще возможно.
История, как бы мы ее ни понимали, какие бы средства познания ни применя-
ли для ее описания и объяснения, не может уйти от гипотезы, что ее агентами
являются люди, действующие и взаимодействующие со всем объемом своих
сознаний и бессознательностей и тем самым формирующие саму ткань истории
как таковой. «Смерть субъекта» осталась пафосом общего методологического
задания по обновлению исторической мысли, имевшим не столько прямое кон-
структивное значение для истории, сколько опосредованное и критическое, ибо
этот тезис направлялся прежде всего против различных, как считали его адеп-
ты, скороспелых и ставших шаблонными генерализаций исторических собы-
тий, главным образом при помощи таких классических философских катего-
рий, как трансцендентальный субъект, сознание, «Я» и т. п. (включая, как у
Фуко, и ментальность 16).
Однако, с другой стороны, этот сорвавшийся трюк с тотальной «смертью
человека» оказался плодотворным для разработки того слоя исторической ре-
альности, который ранее оставался скрытым, недоступным анализу. Аналогия
с физикой здесь по-прежнему уместна. Уравнения квантовой физики таковы,
что они в качестве своих решений дают набор дискретных позиций, которые
могут заниматься индивидами — атомами, элементарными частицами и дру-
гими дискретными физическими образованиями. Точно так же и в историче-
ской науке: вместо того чтобы описывать какую-то конкретную историю (а их
стало поразительно много, и на эту «мультипликацию» историй как на эмпири-
ческую базу опирался структурализм, предлагая свой вариант обновления ис-
торической мысли) на языке людей (кто что сделал, кто на кого и как повлиял,
кто для кого был предшественником и т. п.), можно описывать ее на языке без-
личных, бессубъектных позиций, занимаемых и реализуемых, конечно, людь-
ми, которые как психологические индивиды при этом, однако, вовсе не творят
из себя сами эти позиции, а, напротив, вынуждены считаться с ними и даже
сами ими определяются. Можно сказать, что при этом описывается структура
определенного социоисторического «поля», его потенциалы, уровни и другие
характеристики. Функция исторического деятеля тем самым как бы переходит
от человека (мыслимого в категориях психологии прежде всего) к самоактив-
ному полю, к анонимному безличному механизму, к социальной системе, в дис-
кретную и динамическую структуру которой человек входит независимо от
своей воли и сознания, хотя и не без их участия.
16 Визгин В. П. Ментальность (менталитет) // Современная западная философия (сло-
варь). М., 1991. С. 176—178.
Постструктуралистская методология истории
565
«Полевое», целостно-динамическое и безличностное описание истории чрез-
вычайно многообразно. Его применение обогатило возможности науки, рас-
ширило ее горизонт. Теперь стало реальным писать истории «позиций» и «струк-
тур», а не истории «людей» в прежнем смысле традиционной историографии.
Рамки биографизма, нарратива, идущего от персоны, были преодолены. В ис-
тории гуманитарного знания этот подход был развит, например, М. Фуко и его
учениками, один из которых, Франсуа Делапорт, применил его к анализу исто-
рии ботаники в XVIII в. 17Сам Фуко, как известно, блестяще его продемонст-
рировал в ряде работ, в частности и в широко известной книге «Слова и вещи»
(1966), в которой «полевой» аспект истории культуры оформился в концепцию
«эпистем». Результатом применения указанного подхода стало переопределе-
ние интеллектуальной истории нового времени, подорвавшее доверие к исклю-
чительной значимости анализа ее коронованных героев и суперзвезд, а также и
к устоявшимся в культурном сознании и практике дисциплинарным членени-
ям знания.
Многие историки, особенно историки науки, правда, встретили работы Фуко
с немалой долей скептицизма, что вряд ли можно объяснить простым консер-
ватизмом. Мы уже сказали, что в качестве радикального замысла «новой исто-
рии» пафос полного и окончательного устранения человека из истории прова-
лился. И здесь «консерваторы от истории» показали, быть может, не столько
свою инертность, сколько точность интуиции. Но в целом все эти методологи-
ческие баталии конца 60-х и начала 70-х годов пошли на пользу истории, и со
временем претензии на радикальное новаторство поубавились, а наработан-
ные приемы и фактически проведенные исследования способствовали действи-
тельному продвижению исторической мысли, обогатили и расширили ее
горизонт.
Если писать историю трансформации «полевых» конструктов в методоло-
гии истории, то следовало бы проследить, как «эпистемологическое поле» Баш-
ляра превратилось в «эпистему» Фуко, а та, в свою очередь, уступила место
постструктуралистской «дискурсивной практике» с ее «правилами», а затем и
со «стратегиями» власти-знания. Мы могли бы также показать, как эти конст-
рукты преломляются у других теоретиков постструктурализма, например у
П. Бурдье, широко применяющего представление о «поле» и «габитусе» для
описания динамики общества и истории ,8. Само соединение в постструктура-
лизме в единое целое концептов власти и знания можно рассматривать как про-
явление или эффект (тоже типично физический термин) «профессорского поля»,
17 Delaporte F. Le second Règne de la Nature. Essai sur les questions de la végétalité au
XVIIIe siècle. P., 1979.
18 Бурдье П. Начала. M., 1994.
566 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
типичного для западной культуры и, в частности, для сложившейся в ней сис-
темы образования. Эта тема была сначала пережита «уличным сознанием» в
мае 1968 г., а уже затем перешла в теоретический дискурс сначала у Фуко (на-
чиная с работы «Мир дискурса» — 1971 г.) 19, а затем у Бурдье, Барта и других.
«Полевой» сдвиг в манифесте методологии новой истории (Фуко в «Архео-
логи знания» — 1969 г.) обозначен как переход от традиционной концептуаль-
ной оси «сознание — познание — наука» к новой — «дискурсивная практи-
ка — знание — наука». Деперсонализация, дегуманизация, депсихологизация,
составляющие главную направленность этого сдвига, нацелены прежде всего
именно против первого члена традиционной триады — сознания. Не без влия-
ния феноменологии Гуссерля и его последователей психологический субъект
стал рассматриваться не иначе, как «ловушка». Так, например, уже упомяну-
тый нами Ф. Делапорт говорит: «...чтобы избежать ловушки психологизма, до-
статочно было описать различные позиции, которые могут занимать субъек-
ты» 20. Это действительно напоминает нам квантовую механику, рассчитываю-
щую энергетические уровни, которые могут занимать отдельные частицы как
индивиды. Классическая же механика, напротив, исходила из самой частицы и
динамических законов, которым должно подчиняться ее движение. Аналогия с
классической или традиционной историей идей здесь очевидна. Историк те-
перь может не погружаться в исследование биографий единичных субъектов
(иногда для этого просто не хватает материала). Ему достаточно описать кон-
цептуальные позиции, которые эти субъекты могут занимать и действительно
занимают при определенных условиях. Чем же тогда становится сама исто-
рия? Из истории индивидуализирующей, психологизирующей она превраща-
ется в историю позиций и оппозиций, в историю структур и их трансформаций
(в структурализме это слово явно предпочитается слову «развитие»). Отход от
традиционного для истории XIX в. психологизма с его биографическим подхо-
дом и классическим нарративом приводит методологию истории к осознанию
значимости понятий «структура», «диспозиция», «габитус», «эпистема» и т. п.
Иными словами, историк теперь интересуется не столько прослеживанием ин-
дивидуального пути конкретной личности, сколько составлением целостных
диспозиционных карт и определением их динамики в историческом и культур-
ном пространстве.
Атакой на второй член указанной традиционной триады классической исто-
рии идей под вопрос были поставлены такие понятия, как «гносеологический
субъект», «трансцендентальный субъект», «познавательный акт» и т. п. «По-
знание» действительно больше нагружено «субъективизмом» и «психологиз-
19 Foucault M. L'ordre du discours. P., 1971.
20Delaporte F. Op. cit. P. 201.
Постструктуралистская методология истории
567
мом», чем достаточно безличное само по себе «знание». Именно поэтому тео-
рия познания трансформируется у Фуко в «описание знания», в дескрипцию
«дискурсивных позитивностей». Такой подход не столько «снимает», сколько
обходит гносеологическую проблему, замещая ее развитие историей знаний
как чисто дискурсивных образований (практик). Выдвинутые Фуко на этом пути
конструкты (представление о порогах в эволюции дискурсивной формации, в
частности о порогах эпистсмологизации, научности, формализации) внесли
новые моменты в методологические представления истории науки, пусть при
этом сами историки поначалу достаточно прохладно встретили эти теорети-
ческие новации.
Если у Фуко со «смертью субъекта» начинается история дискурсивных прак-
тик (и недискурсивных тоже, но это уже — постструктурализм), то у Барта со
«смертью автора» начинается царство «письма». Слова о «смерти человека»
(субъекта, автора) — парафраз знаменитых слов Ницше о «смерти Бога»21. И
это не поверхностная реминисценция и аналогия, а знак сути дела: ведь сам
пафос этого теоретического «антропоцида» есть в действительности продол-
жение ницшевской революции с ее контрметафизической направленностью.
Нам важно подчеркнуть, что весь этот философский и отчасти риторический
«антропоцид» с его призывами к борьбе с антропологическим сном, с психоло-
гизмом, идеализмом, персонализмом, экзистенциализмом и т. п. дал свои науч-
но значимые для истории результаты. Например, было показано, что «автор» —
не столько психофизическая персона, индивидуальная субстанция, сколько
культурная и историческая функция, определенная социокультурная диспози-
ция, возникшая и развившаяся в конкретном историческом контексте. Социо-
логический редукционизм вновь ожил в этих не лишенных научной значимости
положениях, обогатившись при этом своего рода культурологическим редук-
ционизмом. Уже у Фуко («Слова и вещи») индивид с его сознанием уступает
место культуре с ее эпистемами (сама эпистема понимается при этом как опре-
деленным образом структурированное культурное поле). В дальнейшем, правда,
этот культуроцентризм опять стушевывается в пользу своеобразного истори-
ческого социологизма: в центр внимания историка-теоретика попадают обще-
ство и цивилизация с ее анонимными стратегиями самоподдержки и развития,
с ее волей к истине и волей к власти в их диалектическом переплетении. Фигу-
ра постструктуралистского мыслителя, как ее в особенности выявил Фуко, ха-
рактеризуется фундаментальным парадоксом: такой мыслитель, радикально
отрицая гуманизм и личность в теории, на практике в высшей степени озабо-
чен именно освобождением конкретного человека, правами личности, борь-
бой людей за свои микрогуманистические проекты и интересы. Видимо, здесь
21 Фуко М. Слова и вещи. С. 485.
568 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
мы сталкиваемся с фундаментальной дополнительностью на уровне целост-
ной личности теоретика.
Третье направление преобразования исторической мысли, связанное с пост-
структурализмом, состоит во включении познающего историю субъекта в ее
теоретическую картину. Речь идет об учете самой исторической концепции
(шире: вообще любой относящейся к обществознанию конструкции) как фак-
тора, формирующего историческую, соответственно, общественную реаль-
ность. В неклассической физике, в частности в квантовой механике, подоб-
ное проникновение субъекта в объект познания произошло и было осмысле-
но методологически раньше, чем это случилось в гуманитаристике, хотя, надо
сказать, прорыв к неклассической парадигме, к преодолению жесткой дихо-
томии мира (субъект и объект) просматривается уже в таких симптоматичес-
ких событиях европейской культурной истории, как философия Ницше, под
знаком которой во многом и произошел переход от структурализма с его нео-
классическим рационализмом к постструктуралистскому неоиррационализ-
му власти, воли, желания. Структурализм критикуется постструктуралиста-
ми за его приверженность к логоцентризму (термин Ж. Деррида). Ритуал,
жест, власть, тело замещают собой логос, рациональность, разум в их пред-
ставленности в самоценных смысловых структурах. «Только под взглядом
наблюдателя, — говорит Бурдье, — ритуал из танца становится алгеброй,
символической гимнастикой, логическим расчетом» 22. Здесь мы снова не
можем не вспомнить Ницше, поющего дионисический дифирамб жизни как
танцу. Философия певца Заратустры истолковывает бытие как жизнь, а жизнь
как танец, жест, телесный импульс, как, в конечном счете, борьбу за власть и
могущество.
Итак, «практики» искажаются наблюдателем, оформляющим их теорети-
ческое представление. Чтобы истина мира как «практики» и «воли», «тела» и
«жеста» полнее перешла в спектакль представления, нужно включить в него
эффект теории, учесть вносимую ею в историю деформацию, идущую от про-
никнутого соответствующим теоретическим сознанием субъекта. Если клас-
сическое мышление нового времени видело спектакль мира как его истину,
причем сценическая машинерия представления не загораживала и не искажа-
ла, а, напротив, раскрывала суть мира так, как он существует сам по себе, неза-
висимо от зрителя (блестящий образец такого мышления дает Фонтенель 23),
12 Бурдье П. Начала. С. 174.
23 Фонтенель Б. Рассуждения о множестве миров // Фонтенель Б. Рассуждения о рели-
гии, природе и разуме. М., 1979. Анализ классического мышления на примере этой работы
Постструктуралистская методология истории
569
то теперь зритель осознает себя как помеху истине мира, которую он рассказы-
вает на языке представления. «Основополагающая операция, — говорит Бур-
дье, ясно выразивший эту особенность методологии постструктурализма, —
оформляющая практику (например, ритуал) в спектакль, в представление...
производит важнейшее искажение, теорию которого нужно создать, чтобы ре-
гистрировать в теории эффекты этой регистрации и этой теории» 24.
Теоретик-гуманитарий должен теперь не просто теоретически оформлять
свой объект как от него в принципе независимый, а вводить в свою теорию
теорию расхождения между этой теорией и самой практикой как ее объектом.
Это означает, что современный гуманитарий — в отличие от классического —
должен подвергать рефлексии свою собственную позицию и вводить в свою
теорию поправки, учитывающие те искажения реальности, которые несет с
собой «частичность», особенная ситуативность его позиции. Иными словами,
если классическая познавательная модель предполагала возможность абсолют-
ного наблюдателя (и теоретика вообще), абсолютную систему отсчета (как было,
скажем, в ньютоновской механике), то теперь, вслед за эпистемологической
мутацией в физике, в гуманитарном знании произошла подобная же мутация,
полагающая такую модель принципиально невозможной.
Операция объективации, иными словами, сама должна объективироваться,
поскольку позиция абсолютной объективации признана невозможной и недо-
стижимой для социального теоретика, так как теперь отдают себе отчет в его
включенности в конкретный диспозиционный контекст социоисторического
пространства. Это сознание конструктивного вмешательства в объект со сто-
роны теоретика как субъекта разворачивается в постструктурализме на почве,
прокультивированной структурализмом с его гиперлингвистическим подходом.
«Слова, — говорит Бурдье, — конструируют социальную реальность в той же
степени, в какой они ее выражают» 25. Власть и слово, власть и дискурс, власть
и символ здесь предстают во взаимопереплетении, так что одной из задач в
свете по-прежнему актуального просвещенческого проекта выступает освобож-
дение потребителей дискурсов от проникших в них властных отношений, спо-
собных как стимулировать волю к истине, так и закрывать доступ к ее резуль-
татам. Но в ницшеанской, по сути своей, постструктуралистской парадигме
истина вряд ли вообще может быть освобождена от воли к власти. И Барт, и
Фуко в своей постструктуралистской деятельности ставят себе целью разобла-
чение мифов (якобы) объективного научного дискурса, вошедших в состав за-
падной цивилизации и ее истории. Основы этой методологии сформированы
Фонтенеля дан в кн.: Визгин В. П. Идея множественности миров. М., 1988. С. 196—248.
24 Бурдье П. Начала. С. 176—177.
25 Там же. С. 198.
570 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
традицией «школы подозрения» (Ницше, Маркс, Фрейд)26, о чем мы подроб-
нее скажем ниже. Пока же нам важно только подчеркнуть научно значимое
ядро в этом повороте методологической мысли, которое кратко можно обозна-
чить как требование учета воздействия социальной и исторической теории на
ее предмет.
Действительно, было замечено, что общественно-исторические теории сами
способствуют реальному формированию таких структур, какие сконструиро-
ваны в них идеально. Причем этот эффект теории тем сильнее, чем она мощ-
нее, чем адекватнее своему объекту. Например, марксистская теория классов,
замечает Бурдье, способствовала тому, что в истории возникали именно такого
рода общественные структуры. Подобно тому как «слова социолога способ-
ствуют производству социального» 27, так и слова историка способствуют «про-
изводству» исторической реальности.
На этот эффект теории по отношению к ее предмету может быть сделана
глобальная политическая ставка. Тогда история, становясь задачей сознатель-
ного, целенаправленного конструирования и производства, овеществляется, пре-
вращаясь как бы в целиком доступную рациональному планированию и сози-
данию. Привыкают говорить от ее имени, призывая к «деланию истории». Сама
история выстраивается таким образом, чтобы такое «делание» можно было
эффективно осуществлять. Для этого не только вырабатываются соответству-
ющие концепции, но и создаются специальные социальные институты. Харак-
терно, что подобные проекты тотального «оседлания» истории рождаются не
только на почве откровенно тоталитарных доктрин, но они могут быть основа-
ны и на либеральных идеях и на экологических убеждениях. Кстати, либераль-
ный фундамент, пусть частично, подпирал и марксистский проект «поворота»
истории. В этом повороте мы видим лишь предельный случай научно оправ-
данного учета теоретиком своей собственной позиционности, эффекта своей
теории. Здесь «эффект теории истории» вместо уточняющей теорию поправки
превращается в «локомотив истории», уверенно движущей ее якобы к ее кон-
цу. О конце истории говорили Гегель, Маркс, Кожев, Фукуяма... «Сверхчело-
век» и «вечное возвращение» Ницше — это, впрочем, тоже «конец истории».
Удивительно, но историцистский XIX век, век бума истории и историзма, стре-
мится уравновесить свою страсть к истории теоретическими обоснованиями
неизбежности ее конца. Общим корнем всех этих вариантов конца истории вы-
ступает проникшая в сознание и пробравшаяся в науку вера в конечность чело-
века как последнего и единственного — абсолютного — основания истории.
26 Ricoeur P. Histoire et Vérité. P., 1995. Idem. De l'interprétation. P., 1965. См. также:
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 230.
27 Бурдье П. Начала. С. 87.
Постструктуралистская методология истории
571
Но при этом, надо заметить, конечность человека здесь подпитана пафосом его
бесконечности — почти божественной, во всяком случае титанической.
Лишь «авторитетный», т. е. излучающий власть, дискурс историка может вно-
сить свой вклад в созидание исторического измерения, оформлять его de facto.
Поэтому в постструктуралистском политоцентризме (панполитизация общества и
истории) тезисы об эффекте теории особенно значимы. Способностью созидать и
разрушать наделены в подобной мировоззренческой «оптике» только власть и воля,
слепое желание и абсурдное «хочу так», мечущееся по голой земле под пустым
небом, порождающее борьбу, соперничество, войны и конфликты, ставкой кото-
рых выступают сами эти самоактивные центры воли и власти — воли к власти.
Говоря об этих основаниях постструктуралистской мысли, мы уже факти-
чески перешли к характеристике философских рамок, а значит, и пределов на-
меченного ею обновления исторического сознания. Акцентируемые нами ниц-
шеанские мотивы этого обновления не скрывают и сами представители пост-
структурализма 28. Конечно, в самой теории власти, например, у Фуко, имеется
существенный научный потенциал. Действительно, отход от прежней юриди-
ческой матрицы в понимании власти, идеи биовласти и микровласти и многое
другое в «политологии» постструктурализма приблизили нашу политическую
и историческую философию к реальности сегодняшнего мира. Безусловно, все
это обогатило историческую мысль и конкретные историко-теоретические ис-
следования, проведенные в этом ключе. Мы имеем в виду, например, генеало-
гию власти-знания Фуко 29, концепцию символической власти Бурдье 30.
Фуко ясно раскрывает связь основ постструктуралистской методологии и онтологии
истории с философией Ницше. Ницше близок к разделяемой Фуко и, по сути дела, всем
постструктурализмом панполитизации культуры, общества, цивилизации. «Именно Ниц-
ше, — говорит Фуко, — определил отношения власти как общий фокус, мы сказали бы,
философского дискурса... Ницше — философ власти, ухитряющийся мыслить ее, не огра-
ничивая себя рамками какой-либо политической теории для того, чтобы такое мышление
стало возможным» {Foucault M. Prison talk // Foucault M. Power-Knowledge: Selected
Interviews and Other Writings. 1972—1977. Brighton, 1980. P. 53). Кроме того, отмеченные
нами методологические достижения структурализма и постструктурализма в обновлении
истории, в частности дисконтинуальное видение, Фуко также связывает с именем Ницше.
«История будет "эффективной", — пишет он, излагая Ницше, — в той мере, в какой она
вводит дисконтинуальность в само наше бытие» {Foucault M. Nietzsche, la genealogia, la
historia // Foucault M. Micro fisica del poder. Madrid, 1979. P. 7, 20, 29).
29 Foucault M. Surveiller et punir. P., 1975; Foucault M. Volonté de savoir. P., 1976. Анализ
генеалогии Фуко см. в ст.: Визгия В. П. Генеалогия знания Мишеля Фуко как программа
анализа научного знания // Исследовательские программы в современной науке. Новоси-
бирск, 1978. С. 267—284. Кроме того, концепция власти Фуко рассматривается в работах
В. Подороги и М. Рыклина (см.: Логос, 1994. № 5).
30 Бурдье П. Начала. С. 181—207.
572 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
За неимением места кратко отметив это, перейдем теперь к более подробно-
му анализу пределов постструктуралистского направления, выявляя при этом
прежде всего его ясно просматриваемые ницшевско-марксовы основания. Дей-
ствительно, именно фигура Ницше с его концепцией «генеалогии морали» и
«воли к власти» является здесь центральной, стоящей у истоков постструкту-
ралистской темы власти-знания, воплотившейся не только в новых прочтениях
истории западной цивилизации, начиная с нового времени, но и, по сути дела,
трансформировавшейся в своего рода ментальный шаблон.
Пределы постструктурализма: традиция «подозрения»
Выше мы рассмотрели основные научные достижения структурализма и
постструктурализма, значимые для обновления и обогащения методологиче-
ского инструментария и потенциала исторической науки. Наш анализ во мно-
гом опирался на прослеживание соответствующих концептуальных сдвигов в
области истории и методологии точного знания, которую мы сопоставляли с
историческим знанием и, шире, с гуманитаристикой в целом. Теперь же от ис-
тории точного знания и научной методологии мы обращаемся к философскому
анализу, опираясь на тексты, главным образом, Ницше, М. Вебера, Маркса.
Гипотетический характер выдвигаемых при этом конструкций, равно как и эс-
сеистская манера, в которой проводится такой анализ, оправдываются, на наш
взгляд, как сложностью и новизной самого предмета, так и потребностью из-
бежать слишком уж специальных философских детализаций, требующих для
своего развертывания исследований, выходящих за рамки данной работы. Пе-
реключение регистра всего нашего дискурса с научного pro в философское
contra (по отношению только к постструктурализму) не означает, однако, ме-
ханического соположения несовместимого, а представляет собой лишь осо-
бую иллюстрацию когнитивной диалектики, характерной для интеллектуаль-
ной истории вообще. Не бросая тени на научные достижения, связанные с пост-
структурализмом, философские сомнения, на наш взгляд, лишь стимулируют
поиск новых научных подходов и установок.
В философском смысле постструктурализм сильно зависит от Ницше и осо-
бенно от его «генеалогии морали». Генеалогия Ницше — метод критики выс-
ших ценностей «подозрительно косящимся смыслом» 31, постановка их под
вопрос благодаря «знанию условий и обстоятельств» их исторического проис-
хождения. Ницше считал, что бьющий из «низин» бытия источник высших
ценностей сознательно скрывается в их функционировании в настоящее вре-
31 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 418. О генеологии Ницше см. ниже: гл. VII
«Генеалогия культуры», «Подозрение под подозрением».
Постструктуралистская методология истории
573
мя — аналогично тому, как, говоря привычным нам языком, прячет «компро-
мат» власть имущий чиновник. И поэтому генеалогический метод должен быть
направлен как на настоящее, маскирующее исток анализируемого явления, так
и на прошлое, в котором он должен быть установлен, выявлен, назван своими
словами. Филологизирующая герменевтика слов здесь соединяется с опреде-
ленного рода философскими интуициями, задающими направление поиска. В
частности, философской подосновой этого метода служит динамическое ис-
толкование бытия и истории, понимание их как непримиримой борьбы сил,
где ставкой выступает господство, представляемое тоже динамически — как
стремление к саморасширению и самовозрастанию. Этот силовой аспект онто-
логии истории характеризует, впрочем, не только Ницше, но mutatis mutandis и
Маркса, и, наконец, Фуко и других постструктуралистов. Устойчивость уста-
новки на подозрение характерна для всех этих мыслителей, хотя особенно ярко
и откровенно обнаруживается она именно у Ницше.
Исследования М. Вебера, на которые своей генеалогией морали повлиял
Ницше, показали, что конкретные генеалогические анализы последнего толь-
ко частично могут быть оправданы. Так, например, подчеркивает Вебер, по
отношению к буддизму Ницше попал впросак, так как «буддизм совершенно
неподходящий объект для распространения на него генеалогической схемы,
предложенной им» 32. Дело в том, что буддизм — «религия спасения интеллек-
туалов, последователи которой почти без исключения принадлежат к привиле-
гированным кастам», и поэтому ничего общего с моралью, основанной на мсти-
тельных чувствах низших групп, она не имеет. Но иначе обстоит дело с иудаиз-
мом, в отношении которого, как признает Вебер, Ницше оказался прав, пусть
только частично. «Религиозное чувство, — пишет Вебер, — выраженное в псал-
мах, преисполнено жаждой мести». И вывод Вебера таков: «Несмотря на то,
что считать чувство мести собственно решающим элементом исторически силь-
но меняющейся иудейской религии было бы сильнейшим искажением, нельзя
все-таки недооценивать его влияние на своеобразие этой религии» 33.
Значение реакции Вебера на ницшевскую генеалогию состоит в том, что
ему удалось убедительно показать многообразие импульсов и мотивов деятель-
ности людей в истории. Благодаря этому ограниченность генеалогического
подхода в духе Ницше была преодолена, а тем самым было поставлено под
вопрос и само отождествление научности с редукционизмом в гуманитарном
знании. В основе фундаментальной редукционистской предпосылки «школы
подозрения» (выражение Рикёра) лежит исключение из антропологического и
онтологического горизонтов категории доверия. Действительно, дискурс по-
ВеберМ. Избранное: Образ общества. М., 1994. С. 165.
Там же. С. 161—163.
574 Глава VI. XX век: от экзистенциализма к постструктурализму
дозрения по меньшей мере не принимает во внимание и тем самым ограничи-
вает возможности человека как существа, способного к доверию. И в этом смыс-
ле освобождение, на которое он претендует, скрывает в себе угрозу нового зак-
репощения. Сама способность к спонтанному доверию может стимулировать-
ся в культуре, а может и подавляться. И, конечно, любой дискурс направлен на
самоподдержку, тиражируя ту позицию, с которой он ведется и организуется.
Речи «подозревателей» не могут не усугублять общей атмосферы подозрения.
И наоборот: речи доверия укрепляют установку на него, в том числе и в эпис-
темологических диспозициях, распространяя климат доверия, без которого че-
ловек как субъект истории лишен полноты и подлинности.
Надо спросить у постструктуралистских освободителей-радикалов: а то, куда
меня выбрасывает моя критика стратегии власти, проведенной в дискурсе, что
это такое? Что остается после отбрасывания того, что я рассматриваю как по-
кушение на мою свободу? Моя непредсказуемая эксцентричность? Нелепое и
неизвестно чем мотивированное желание? Что такое, в конце концов, эта оста-
ющаяся в осадке после всех разоблачений, растворяющих властный проект,
свобода? Да и есть ли этот остаток действительная свобода? И тогда надо спро-
сить себя, а хочу ли я, по большому счету, такой свободы? Предположим, что
мы заключили в скобки все то доминационное содержание, которое имеется в
языке, культуре, во всех дискурсах, в том числе и в моих собственных. Тогда на
дне, в осадке может оказаться (опять-таки!) не что иное, как самый устойчи-
вый, но вполне партикулярный миф западного человека — все та же власть и
могущество, воля к нему, представленная в индивиде и его рациональности в
ее земной, слишком земной генеалогии. Далеко ли мы уйдем в этом случае от
Ницше? От волевых и силовых утверждений сущего, лишенного и тени бытия
(здесь мы принимаем хайдеггеровское различение бытия и сущего)?
Школа подозрения есть прежде всего школа редукционизма по отношению
к смыслу, к автономии его сферы, к духовной реальности как таковой. Струк-
туру мысли в общем виде можно представить как сочетание ее внешних усло-
вий (условий ее генезиса и воспроизводства) и ее внутреннего смысла или со-
держания. Существуют социально-материальные «ячейки», очаги мыслегене-
за — наподобие колб Дьюара, в которых химик хранит жидкий азот. Но эти
внешние условия позволяют светиться в их глубинах смыслу, предметному
значению мысли, представляющему другой полюс ее структуры. Зазор между
этими двумя сторонами открывает поле возможных толкований мысли и саму
возможность процесса и диалога в понимании мышления и интеллектуальной
истории. Вопрос, который здесь существен, состоит в определении связи этих
сторон. Например, сводится ли смысл к этим внешним готовностям или диспо-
зициям (прежде всего социально-материального или психофизиологического
плана) или же нет? Установка на подозрение состоит в том, чтобы такое сведе-
Постструктуралистская методология истории 575
ние провести, легитимизировав его в философском дискурсе. Эту тенденцию
школы подозрения можно обозначить как релятивизм, психологизм, истори-
цизм, биологизм, экономический материализм... Установка эта имеет много
вариантов. Ей противостоит установка, заявленная Гуссерлем, восстановившим
в правах платонистское доверие к автономным смыслам, к сфере содержания
мысли, независимого от материальных условий ее осуществления.
Итак, если читать мир сознания и мысли, культуры и истории снижающим
или подозревающим зрением Маркса или Ницше, то вместо религий, филосо-
фий, метафизик, мира идей и смыслов мы получаем характеристики физиоло-
гии, климата, условий труда, общественных структур и способа производства.
Однако «несущие» мысль комплексы ее условий — условия возможности мыс-
легенеза, его очаги или ячейки, диспозиционные ниши — отличны от самой
мысли как смысла (от предмета мысли, интенционально в ней заданного, от ее
содержания, независимого от того, реализована мысль в материальных усло-
виях своего существования или же нет). Редукционизм же школы подозрения
сводит эту бинарную структуру мысли до одних лишь ее условий, «стирая»
смыслы в условиях их эмпирического, практико-материального существова-
ния. От ницшеанско-марксистского «нооцида» до «антропоцида» в духе пост-
структурализма только один шаг... Поэтому культура доверия в наше время
выступает как некий итог блужданий человека на путях радикального подозре-
ния. В качестве подтверждающего примера для этого можно указать на жизнь
и творчество выдающегося социолога XX в. П. Сорокина, видного эсера. Он
прошел ужасы гражданской войны в Росси, а на склоне лет обратился к серьез-
ному научному изучению альтруистической любви и духовного роста чело-
века 34.
См.: Сорокин П. Дальняя дорога (автобиография). М., 1992.
Глава VII
ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
АНТРОПОЛОГИЯ ОРУДИЙНОСТИ и
ФЕНОМЕН ИСКУССТВА
Мы живем среди существ более древних, чем мы, существ далеких, причуд-
ливых, разнообразных, сильных и ловких. У быка и коня, коршуна, белки, ля-
гушки — своя жизнь, в которую мы с такой самоуверенностью вмешались.
Как? Посредством орудия. Быка погнали на пастбище хворостиной. Коня впряг-
ли в телегу с помощью оглоблей, дышла, ремней. Коршуна и белку достали
дробью. В нашу, человеческую работу вовлекли мириады существ — речных
наяд, горных гномов, лесных троллей... Человек изготовился весь мир приро-
ды превратить в свое орудие, в мир изобретаемых и создаваемых им на основе
той же природы орудий. Кажущийся необозримым ряд орудий начинается с
хворостины, а заканчивается философским трактатом, метафизической систе-
мой. И кнут, и идеология — орудия по утилизации природного бытия.
В мире существ и стихий природы человек с помощью орудия создает про-
странство своего обитания — ойкумену. Орудие охраняет ойкумену, поддержи-
вая «капсюлу» человеческого мира. В ней обитает человек, всегда по поводу,
вблизи, из-за, ради, в связи с орудием. Изобретение, поддержание, развертыва-
ние, модификация и т. д. такой «капсюлы» составляют предмет рациональной
деятельности человека, сферу его заботы как Homo rationalis. Измерять, конт-
ролировать путь орудийной деятельности, быть начеку, следить за бесперебой-
ным эффектом, обеспечиваемым орудием, — все это возникающее на почве
орудийной активности и есть рациональная активность, которая определяет
феномен человека. В иерархии детерминант и измерений человека она пред-
ставляется нам ведущей. И поэтому можно говорить о человеке как об орудий-
ном существе (Homo instrumentalis).
Природа обходится без посредничества орудий: коршун выслеживает до-
бычу глазом-радаром, а приканчивает ударом клюва. Природа молчит, ибо в
ней нет места для среднего термина орудия, для его функции опосредования и
отражения последней в логике — для силлогизма. Человек говорит, ибо он
орудиен по сути своей. Человек говорит человеку, дабы вместе действовать с
Антропология орудийности и феномен искусства
577
орудием так, чтобы в результате был желаемый эффект: сохранение человека,
продолжение человеческого рода. Вместе с орудийной деятельностью обнару-
живается социальная, а с нею и лингвистическая природа человека. В этой
плоскости возникает возможность переноса орудийного отношения человек —
орудие — природа на самого человека, угрожающая превращением его в ору-
дие. Говорят прежде всего те, кто контролирует общественное целое. Говорят
человеческим «частям», чтобы они поддерживали равновесие орудийных сис-
тем. Говорить — первый признак господина, мэтра. Господин речью «бере-
жет» раба и, разумеется, себя вместе с ним. Речь как орудие передает нечто
орудийное. Информация, содержащаяся в речи, — орудие в лингвистической
форме. Поэзия в устах Homo rationalis в функции мэтра — это только метафо-
ра информации. «Вы пятитесь как рак», — говорит капитан, что означает: надо
дать полный вперед. «Вы идете крабом» — надо повернуть влево и т. д. По-
эзия — не более чем завуалированный приказ, если она звучит в устах капита-
на индустрии или просто баржи. Рациональность (ratio) — набор схем, при-
емов, предназначенных утилизировать мир с помощью орудийной деятель-
ности.
Голос человека заботится о человеке. О его сохранности. Первые речи чело-
века — крики матери, разыскивающей своего младенца, — «иди на голос».
Голос — средство, орудие ориентировки в мире. Вроде костра, флага, обыгран-
ной приметы местности. Речью обуянна мать. Отец молчалив. Он твердо дер-
жит весло, плуг, кирку, лук. Мать — голосит, зовет, причитает. Не отсюда ли
болтливость деревенских баб, а с ними и женщин вообще? Они заговорили
первыми. Им было кому говорить. Что их речей — просто, нехитро, даже бед-
но. Главное в них — несомненный адресат, кто. Речью они берегли детей сво-
их, а вместе с ними — «имущество», т. е. скопления средств, депо орудий —
домы свои. Язык в своей простой изначальности ratio — язык предупрежде-
ний. Это информация от впереди ищущего — проводника, вождя, от впереди
живущего — старца. Поэтому первыми говорили старики и матери. Порядок
речей следует за порядком продвижения по жизни, по ее пространству-време-
ни. Лингвистическая мораль привилегию речи дает опытному старцу, старей-
шему племени, ибо он живет впереди других и поэтому ему есть что сказать
им, есть о чем предупредить молодых. Он знает рифы жизни. Он должен ска-
зать им об опасностях жизненного путешествия через Эрос к Танатосу. Мать и
старец — вот основные очаги генерации речей человека.
Homo rationalis — распорядитель по преимуществу. В горизонте своей
цели — выкармливание быка, перевозка грузов и т. д. — рациональный чело-
век видит мир, обрабатывает его в поле тускло светящегося конуса цели. Цель —
со-стояние человека с миром, которое устраивает человека: сохраняет, размно-
жает, дает желаемый эффект восстановления сил, обеспеченного честолюбия,
37 - 3357
578
Глава VII. Философия и культура
удовлетворенной привычки, реализованного предрассудка, искомого благопо-
лучия и т. п.
Судьба человека неотделима от процесса саморазрастания орудий. Мир че-
ловека — это прежде всего мир орудий, невероятно разнообразных (и где-то
утомительно однообразных), сплетенных в систему. Опасность, идущая от ору-
дий, от их угрожающей избыточности, служит возбудителем антицивилизатор-
ских, контртехнологических настроений, звучащих голосами тревоги и предо-
стережений. Перенасыщенность жизни орудиями, их недоброкачественность
вызывают эскейпистские тенденции, симплификаторские течения. Взяв в руки
хворостину, дабы овладеть первозданной мощью быка, человек отдал свою
судьбу «в руки» плохо или вообще не контролируемой им самоэволюции попу-
ляции орудий: одежды, обуви, крыши над головой, телеги, рельс, парохода,
карандаша и пр., накопление, сохранение и усовершенствование которых по-
глощает почти все его силы.
Любопытство разума человека начинается с разгадывания загадки орудия:
его назначения, принципа действия, сферы использования. Сквозь орудие че-
ловек как рациональное существо видит и весь не-орудийный мир. Любое ору-
дие — посредник между человеком и природным бытием, «скафандр» для «пе-
ремещения» по пластам стихийного бытия. Орудие живет: движется, издает
звуки, разносит запахи, отражает свет, воздействует формой, давит весомостью.
От орудия исходит призыв работать с ним, разгадать назначение, овладеть его
телом. Орудие озадачивает и озабочивает, провоцирует мышление (усилия по
композиции частей в разумное целое), инспирирует мысль о Труде, Цели,
Пользе. Из ангаров, труб, всяческих депо орудий несется зов человеческой судь-
бы. Сиреной тревоги несется он из городского смога. Биологическая природа
человека несовместима с грубой, мощной, неорганической «физиологией» ору-
дий — с их ритмическим шумом, «экскрементами», капризным характером,
неотложной требовательностью. Зернодробилка может отнять пальцы рук.
Шахты взрываются. Отбойные молотки разрушают слух...
Эпистемологический шум
В степи, холмистых предгорьях, тайге человек имеет дело с орудием в бы-
тийной насыщенности воздуха, воды, гор, трав. Здесь очевидно, что бытие само
по себе доорудийно, неорудийно, а орудие онтологически вторичное, слабое,
малочисленное «существо», редкий, почти экзотический «зверь», сподручный
человеку, спорадический, «узкий» и хрупкий. Изначальный массив бытия до-
сверх-орудиен. Уже по дороге в город теряется эта правильная перспектива,
трезвая оценка, взвешенная пропорция. Беспрестанно проносятся груженные
орудиями орудия: вагоны, начиненные орудиями и только ими. Разнообразны
Антропология орудийности и феномен искусства 579
их вид, шум, запахи, причудливые формы. Толчея орудий. Гипноз орудий. Ору-
дийная озабоченность людских толп. Все это невольно приводит к подсозна-
тельному привыканию к феномену орудия: орудие решительно заслоняет не-
орудийное бытие. Этот эффект и есть эпистемологический шум, создаваемый
технической, или орудийной, цивилизацией.
На ярмарках орудий — в современных городах и поселках — поражает хо-
лодность контактов с орудием, дефицит красоты, ледяное дыхание пользы —
эпистемологический шум. Рельсы, паровозы, вагоны, семафоры, пакгаузы, во-
докачки, элеваторы, трубы, мосты, цистерны, машины всех родов, здания...
Какой иной флюид, кроме флюида пользы и труда, исходит от них? Только,
пожалуй, у Анрея Платонова находим не лишенное достоверности одухотво-
рение машины. Нежно-лирическое отношение машиниста к паровому котлу.
Может быть, это возможно. Наверное, даже необходимо, дабы по-человечески
жить с этим стальным зверьем. Дабы холить, улучшать его строение и состав.
Проще — и чаще встречается — бесовская анимация машины. Она идет от тех
самых антицивилизаторских настроений, о которых сказано выше и которые
лежат вне нашего анализа-с-медитацией. Видимо, человек не может отречься
от своего орудийного зверинца. Несомненно, люди находят красоту и душу в
близких им орудиях. Математик любит красоту теоремы, плотник нежно лас-
кает рубанок, любуясь сделанной вещью, машинисту по нраву котел или кри-
вошип. А человек гуманитарной культуры? Или просто маленький служащий,
живущий на обочине больших орудийных депо? Тот, кто не созидает такого
рода орудий, не обогащает их предметного богатства? Не является ли всякий
труд — гуманитария тоже — трудом в этом большом ангаре орудий? Наладка,
шлифовка и приручение языка и общества — тоже рядовое дело в орудийном
депо. Грамматика, социология или логика тоже озабочены своими специфи-
ческими орудиями. Остается неясность только по отношению к неряшливой
фигуре рассеянного поэта, живущего в люфте и люфтом, т. е. в полости, лока-
лизующей красоту, поэзию и творческое воображение в монолите орудийно-
сти. Его, узника люфта, «держат» опять-таки ради заботы о культуре люфта с
его утилитарной функцией — люфт нужен для креативной активности в том
же самом депо.
Бездомный поэт
Эпистемологический шум приводит прежде всего к тому, что человек без-
надежно привыкает к орудийности. Она перестает быть для него загадкой,
предметом острого удивления, остранения, медитативного изумления. Нужны
башкирские степи, путешествие на Памир, какая-то перестройка психики, про-
37*
580
Глава VIL Философия и культура
сто, наконец, случай, дабы феномен орудия вдруг первобытно наивно озадачил
человека.
Орудийный мир — это преображенное неорудийное бытие. Поэт доставля-
ет сущностные силы доорудийного, неорудийного бытия в мир человека, дабы
обогатить его изобретательность, творческие функции в этом депо орудий.
Поэт — «щель», сквозь которую родник изначального неорудийного бытия про-
сачивается в депо, где чумазые машинисты, усталые инженеры-конструкторы,
включая гуманитариев, пьют воду живую, дабы снять шок изнуряющего кон-
такта с физиологически утомительным орудием — паровозом или теорией в
физике или философии, все равно. Этот бьющий ключ есть живой язык, его
формообразующие способности, его творческие потенции. Язык — особое
орудие, в котором неорудийное бытие в какой-то мере воспроизводит себя. Бла-
годаря поэту мы обретаем дождь, грозу, лес, море... «Пока есть еще куницы, —
говорит Герман Гессе, — пока есть еще аромат первозданного мира, есть еще
инстинкт и природа, до тех пор мир будет еще приемлем для поэта, еще пре-
красен и обольстителен». Поэт, передавая в эфир человечества импульс красо-
ты и тайны, делает мир приемлемым для всех людей.
Орудие — каждое (!) — может и должно стать предметом спокойного вдум-
чивого медитирования. Орудие особого рода — дом. Он привилегированный
ангар для других орудий, средство защиты и сохранения всех орудийных средств
и потенций. Это «точка» притяжения всяческих орудий — пил, топоров, кос,
вил, молотков, утвари, ножей, книг, рукописей, одежды, мебели и т. п., микро-
депо, микрогород, микроцивилизация, т. е. микробытие человека как орудий-
ного существа. Та самая орудийная «капсюла», которой обволакивает себя че-
ловек, дабы жить в бытии стихийном, и есть в своем образце, в миниатюре
дом. Вакуум или полость, отбитое в непосредственности бытия стихийной си-
лой во-оруженного ' человека пространство — дом как орудие орудий. Зыбка
или колыбель новорожденного, коляска младенца, кибитка или юрта кочевни-
ка, шалаш косаря, палатка геолога, изба земледельца, панельный корпус горо-
жанина — все это разные виды домов. Шкатулка, коробка, силовая крепость
стен, ограда, сейф — вот что приходит прежде всего на ум при виде дома.
Дом — «прибор» или приспособление, иногда доступное для перемещения,
измеряемое кубическим метром защищенное пространство. Орудийная циви-
лизация есть домашняя цивилизация. Весь мир она стремится сделать домом
человека. Дом противостоит распылению орудий, будучи местом их система-
тического накопления и учета, упорядоченной охраны. Здесь пастух оставляет
свою хворостину, когда скотина заперта в хлеву, а он восстанавливает силы для
Оружие есть первое и, быть может, последнее орудие человека, судьбоносное для ору-
дийного существа — человека.
Антропология орудийности и феномен искусства
581
будущих выгонов. В доме человек не столько на время освобождается от ору-
дий (сон), сколько занимается их ремонтом, обновлением, хранением. Весь сфо-
кусированный человеком мир имеет дом: недалеко от пастуха на скотном дво-
ре (крытый дом для скотины) ночуют бык и овцы. Все человеческое покоится
здесь, в доме. Дом — самая устойчивая «капсюла» человеческого бытия. Даже
умирая, человек не лишается дома: из одного переходит в другой.
Феноменология дома начинается там, где его нет, но где он непременно дол-
жен быть: в степи, открытой всем ветрам, всем суховеям, всем метелям. Дом —
самая решительная антитеза природному стихийному доорудийному миру.
Имитирование природного космоса, но с обратным знаком. Крыша — вывер-
нутое наизнанку небо. Если небо абсолютно бездонно, проницаемо для поле-
тов и проникновений, то дом, напротив, непроницаем для «внешнего», недо-
машнего бытия. Если с неба падают стихии — льет дождь, сыплется снег, не-
сется град, ударяют молнии, — то с потолка дома падает и льется только тихая
музыка прирученных стихий: отклоненного дождя, задержанной бури, оста-
новленной метели. По всем параметрам дом антисимметричен космосу. В сте-
пи в полдень — зной, а в доме относительная прохлада. Вечером в степи —
темень, а в доме светло от свечи или от лампы. Когда в степи бушует ветер, в
доме тихо и т. д. Вся негативная по отношению к природному бытию мощь
орудийной деятельности обнаруживается, как в фокусе, в феномене дома.
Дом и поэт: «щелевая», медиаторская и, хочется добавить, медитаторская
природа поэта лучше всего обнаруживается в его без-домности. Без дождей,
снега, листопада и звездопада поэт не мыслим. Бездомность стихийного бытия
делает мир приемлемым для поэта. Поэт должен «вываляться» в стихиях. Ве-
тер должен продуть его насквозь. Поэт должен безорудийно (беззащитно) сра-
стись со стихиями: посредством воображения, идущего от телесности мира, от
физиологии горячего камня, ледяного ключа, сыпучего морского песка. Поэт
не накапливает орудий, не размещает горшков и кастрюль на полках. Ему в
отличие от ученого не нужны книжные стеллажи. Холщовая сумка с Вергили-
ем или Данте, клок бумаги с обгрызанным карандашом — этого достаточно. А
ночевать он будет в горах, в случайных хижинах, на сене. Ему даст приют ме-
ценат, друг, издатель, случайная гостиница или просто палатка. А еще лучше —
ночевка под открытым небом. Ведь открытие неба — единственная задача
поэта. Поэтому поэзия любит средиземноморское тепло, страны Леванта, ав-
густовские звездопады, небо южных степей и морей...
Медитатор и рационалист
Развертку орудийной природы человека можно обозначить как культуру.
Культура — навыки реализации разума, совокупность способов дать ему жизнь,
582
Глава VIL Философия и культура
сделать его действенным. Аргументы разума, идущие от схватывания «реалий»
(принцип реальности) в практических рациональных схемах, на время гипно-
тизируют своеволие неразумной воли, которая, однако, только ждет своего часа,
часа реванша.
Языком разума может говорить и неразумная воля. Конечно, разум отпари-
рует все ее аргументы, но это еще вовсе не означает, что победа будет за ним:
возможность выходки, фортеля, каприза и безрассудства остается, и нет ника-
кой уверенности, что разум осуществится. Гарантии последнего надо искать в
культуре как в дрессировке своеволия в цирке разума. Стыдом, оглядкой на
других людей, аргументами, логикой т. п., а лучше всего просто привычкой,
навыком как твердостью в следовании разуму культура воздействует на нера-
зумную волю, склоняя ее к подчинению.
Конфликт воли и разума раздражает медитативную активность: в ней их
роковая необходимость получает компенсаторное квазиединство. Медитация —
разумная воля с ее принципом удовольствия и волевой разум с его принципом
реальности. В медитации сходятся все расходящиеся пучки человеческой лич-
ности, скажем проще, человека. Медитативный тип человека вырастает с осо-
бой легкостью на этих расслоенных почвах души: его питают антагонизмы
воли и разума, желания и рассудка, консервативной осторожности и авантю-
ризма. Склонность к самораздиранию, садизм по отношению к самому себе
также входят в комплекс медитативной личности. Без самонадрыва, без заде-
вания ран внутренних несходимостей нет в медитации ее «бешенства», ее
увлеченности, нет эйфории глубин, пароксизма открытий.
Охарактеризуем подробнее медитативный тип личности. Неуравновешен-
ность психики, ее самопровокаторский характер, проявляющийся в иницииро-
вании резких перепадов настроения, в смене эйфории депрессией (и наобо-
рот), неуправляемость, детская неспособность к уверенной практической жиз-
ни, болезненная алогичность, чрезвычайно легкая возбудимость, склонность
ко всяческому «опьянению» — трансу, увлечению, экстазу... Личность эта жи-
вет подсознательными токами. Их накопление приводит к вспышкам: эмоцио-
нальным коллапсам, моторным разрядкам, носящим порой характер истерии,
быстро сменяющимся чуть ли не слезами раскаяния. Личность эпилептиче-
ская, нервозность которой легко уживается с апатией, быстро утомляемая,
малоспособная к последовательности, доведению дел и мыслей до конца. Край-
няя замкнутость, отчужденность от людей сочетаются в ней с чрезмерной ком-
муникабельностью, «расхристанностью» души, легкостью завязывания контак-
тов с людьми совершенно незнакомыми. Личность, полная грез, неминуемых
срывов, самоиронии, преувеличенной осторожности и безрассудства одно-
временно.
Антропология орудийности и феномен искусства
583
Любовь-привычка к медитации, к свободному трансу воображения состав-
ляет костяк такой личности. Восхитительное начало «Племянника Рамо» дает
классическое описание этой страсти к легкокрылым мыслям 2. Медитативная
личность конституируется верой в медитацию, причем эту веру трудно про-
анализировать до конца. Видимо, она подкреплена компенсаторной функцией
медитации как активного состояния: отсутствие цельности состава души вос-
полняется цельностью самого медитативного акта. Действительно, в медита-
ции разум и воля, «наслаждение и долг» (Кьеркегор) совершенно сливаются в
одном состоянии. Я называю здесь медитацией то, что другие называют, быть
может, мышлением, словесным творчеством и т. д. Если угодно, это всего лишь
литературный стиль, даже, скажем, перезаостряя мысль, прием письма... Ме-
дитация — то, откуда мыслит-пишет медитатор, и то, что он при этом пишет.
Нечто на перепутье человека и мира, склонное обрастать словами-мыслями.
Некое со-стояние человека с миром, чреватое словом и стремящееся к нему.
Однако всеми этими сопоставлениями мы еще не поставили точку, исчерпав ее
содержание.
Медитативный тип личности можно понять только на фоне дополнительно-
го — рационального — типа. Последний анализируется нами не в качестве
абстракта, одной из возможных координат философской антропологии (Homo
rationalis), а как экзистенциальный тип, некий реально живущий человек с осо-
бенным складом действия, навыками мышления и т. п. Конечно, оба типа — в
известном смысле идеальные конструкции... «Железная» разумная воля рацио-
налиста и «кисельное» безволие (в смыспе разумной воли) медитатора. С рацио-
налистом куда проще: он знает, чего хочет. Знает, что разумно, что возможно,
что нужно — ив какой последовательности все это должно располагаться. Это
некий чемпион практической жизни, расчет у него совершенно сходится с дей-
ствием. Он знает, что отпуск надо предельно использовать, на сон вредно плот-
но ужинать, совокупляться надо в меру, зарядка поддерживает фигуру, в мясе
есть трупные субстанции, летом надо больше находиться на воздухе, хотя бы
один иностранный язык надо твердо знать, лучше жить активно, спортивно,
чем пассивно, ленясь и празднословя с приятелями, все наработанное надо
непременно использовать и т. д. Рационалист налету схватывает мир в форму-
лах полезной, нацеленной на быструю реализацию информации: где чего ку-
пить, продать, как избежать очередей, найти портниху, куда обратиться с жало-
бой, как подать объявление и обменять жилплощадь... Это человек, твердо
умеющий жить. Его желания сразу же выходят на свет в броне практического
разума, и поэтому он их без затруднений осуществляет. Среди этой породы не
найти гениев, но зато рационалист всегда не слишком глуп и может положить-
2 Дидро Д. Избранные философские произведения. М, 1941. С. 207.
584
Глава VII. Философия и культура
ся на себя самого: себе он подножек не поставит, это уж точно. Другое дело
медитатор: чемпион по самораздиранию, дабы промедитировать противоре-
чия бытия. Боль и ощущение абсурдности существования нужны медитатору
для раздражения медитативной активности. Впрочем, не надо это понимать
так, что медитатор сознательно вставляет себе палки в колеса. Как человек он
не может не желать себе добра, спокойной жизни. Но такова уж его природа,
что не ratio определяет его существование, а потребность в медитации.
Культура как опыт человека по приживлению разума — матрица для раз-
множения человеческих экземпляров рационального типа. Одним из перлов,
теоретизирующих этот тип, является теория разумного эгоизма. Эти — «но-
вые» — люди хорошо знакомы с расхожей практической этикой, дабы иметь
возможность быть эгоистами, конечно же разумными. Хуже у них с красотой...
Что-то вроде зависти гложет их ладно устроенные, адаптированные, упорядо-
ченные, хорошо вентилируемые души — вроде стеклянных дворцов Веры
Павловны, — когда они встречают «гуляку праздного». Живописные лохмо-
тья наркотизированного художника (вспомним толстовского Альберта), пря-
ная красота его разгульной взбаламученной души вызывают у комильфотного
рационалиста одновременно брезгливость, чувство собственного превосход-
ства — и каплю едкой зависти.
Ампутация воображения ножом гипертрофированной рациональной уста-
новки — привычка, насаждаемая современным массовым воспитанием начи-
ная с детсада. Конечно, детей нужно учить рациональности, пониманию на-
значения вещей, что, впрочем, делается само собой в играх, в практике обще-
ния со взрослыми и т. д. Ампутация воображения начинается тогда, когда
полезная функция вещи объявляется ее единственным смыслом, когда ребен-
ку внушается, что ничего другого данная вещь не несет. Стул — средство для
сидения — и больше ничего. Стаканом — не играют. «Если тронешь кошку, —
кричит своему напуганному ребенку рационалист-гигиенист, — убью!» Ребен-
ку всеми средствами вдалбливают однозначность назначения вещей, их плос-
кий, одномерный характер. Возникает рациональная ложь, оболгание жизни и
мира, кастрирование бытия в угоду его грубой орудийной зафиксированности.
Результат такого воспитания — бестворческий антихудожественный рациомор-
финист. Кто же научит ребенка полителеологии, поли- и сверхфункционально-
сти вещей, их полисемии, многомерности и странности мира? Где этот Мин-
ковский от педагогики? Кто научит его воображению, искусству люфта, спо-
собности изобретать и создавать — источнику всей орудийной цивилизации?
Изнанка орудийности, внутренняя коррозия феномена человека — не это ли
Фортуна, режущая ему крылья? В таком диагнозе — потенциальный конец
феномена человека, внутренняя угроза его упадка и гибели.
Антропология орудийности и феномен искусства
585
Свет в окошке
Теперь о другой наследственной болезни человека как орудийного суще-
ства. Первая описанная болезнь или, скажем мягче, симптом болезни — мани-
акальная зафиксированность узкоорудийной установкой, экзема плоского
рационализма. Второй симптом — потерянность в орудийности, в орудиях, пре-
вращение орудий-средств в самоцели. Какие признаки характеризуют эту бо-
лезнь? Прежде всего, усыхание креативной активности. Человек перестает со-
зидать вещи, изобретать орудия, останавливает свой эпистемологический та-
нец на границе с неизвестным. Бегает по черным и белым рынкам. Меняет,
продает, покупает. Масс-медиа, соседи, референтные группы на работе или
среди знакомых инспирируют его цели. Он — потребитель, коллекционер, со-
биратель, комильфотный неотехнократ, идущий в ногу со временем. На каком-
то витке этой гонки психофизиологическая организация человека дает срыв.
Изоляция от неорудийного, стихийного бытия плюс перевозбуждение по пус-
тякам из-за фантомов культурного (чаще паракультурного) потребительства при
стабильном гипокинезе и нулевом уровне медитации неизбежно приводит к
засорению сознания, его потерянности, утрате им перспективы и правдопо-
добных пропорций бытия. В результате — стертый неврастеник большого города.
Другой верный признак болезни феномена человека — атрофия радости
бытия. За гиперактивностью скрывается апатия, унылая бесхудожественность
существования, застойное — и часто застольное — переутомление, испитой,
хмурый вид, фобии и раздражительность, глухота к стихиям, игре и творче-
ству. Сумеречное, безрадостное состояние плодит и множит только эрзацы ору-
дий, имитации творчества — недоделки и переделки, монстры и выкидыши,
ляпсусы, туфту и черную халтуру вместо простых экономных средств, ясных
четких решений. Возникает порочный круг: больной — потерянный в орудий-
ности человек — множит неполноценную квазиорудийность, а последняя, в
свою очередь, матрицирует больного человека. Так возникает роковой цикл
псевдо: псевдокультура ^ псевдочеловек.
Рецепт лечения нехитр и прост: накапливайте только самих себя, только то,
что питает и просветляет душу, возносит дух и совершенствует тело. Орудия
создаются в работе с бытием. Откройте себя для бытия. Бытие — вот воздух
феномена человека.
Смех животворящ. Смешно, но культуру создают из глубины ее недостатка:
культура цветет там, где ее... почти нет, где ее явно недостает. Посмотрите на
этот тандем, на этот катабаран (пардон, катамаран!): рационалист в паре с ме-
дитатором! Вот хохма-то! Они прекрасно дополняют друг друга: разумная воля
прирожденного руководителя сочетается с энергией и одновременно расхля-
банностью этого строптивого раба — медитатора. Медитатор вроде гейши или
586
Глава VIL Философия и культура
узорчатого бухарского ковра украшает тяжкий труд Разума, Ответственности,
Строгости, Блюдения Цели, который взвалил на свои плечи рационалист. Ме-
дитатора, конечно, держат на привязи, он тоже исполняет тяжелую работу осу-
ществления Совместной Цели, но любят его за его вольности, красноречие и
всяческие люфты в сознании, крепко перешнурованном Пользой и Эффектом.
Медиатор, намаявшись сам с собой, готов сдать себя внаем первому попав-
шемуся распорядителю-рационалисту: лишь бы не вязнуть в болоте практи-
ческой жизни, где он только расшибает себе лоб и ничему при этом не может
научиться. Светлая, честная мысль медитатора о себе — мысль о своем пол-
ном практическом ничтожестве. Он поступает практично, признаваясь в этом
и учитывая это признание. Правда, беда в том, что он ничего не может довести
до конца, органически не умеет принимать в учет, в расчет — свои светлые
мысли в особенности. Мечта горделивого медитатора — овладеть стихией прак-
сиса, наполнить свою жизнь содержанием и смыслом, реализовать свой меди-
таторский разум. Но медитатор тонет в самоанализе и редко обольщается на
свой счет: он знает свою природу и сам этот проект рассматривает с необходи-
мой долей иронии.
Медитатор, не умеющий в житейских делах опираться на себя самого, бес-
сознательно, а точнее, всегда полусознательно (будучи человеком, «съевшим
слона» на самоанализе, вносящим сознание во все, даже туда, где оно не нуж-
но) ищет советчиков, консультантов — архимедовских точек опоры, конечно
же, среди рационалистов — корифеев и рекордсменов в искусстве делать цель
зримой. Медитаторские цели так непрочны, потому что медитатор непрерывно
подвергает их мысленному рассмотрению, разложению в своем медитирова-
нии: ему, честно говоря, ничего, кроме медитации, и не нужно. Если же она
налицо, если есть пища для медитации и силы для сосредоточения, то медита-
тор похоронит любой самый светлоразумный, полезный и даже приятный про-
ект! И все же оставить мысль об овладении жизнью, практической жизнью,
медитатор как человек не может. Он говорит себе: «Да, я — медитатор. Будем
из этого исходить». Он хочет сознательно и бесповоротно загнать себя в дупло
грез, обмороков практического разума, светлых утренних бдений, восторгов
пера, радостей медленного чтения. Он любит изнеможение от медитации.
Любит Ницше — наперекор всем рационально-этическим «трезвым» его оцен-
кам. Любит непредвиденность слова, неожиданность поворотов мысли. Лю-
бит создавать теоретические модели человека, сорить идеями, захлебываться и
опьяняться ими. Мысль о практической пользе его «безумств» — ему поперек
дыхания. Но так жить он не может. Он должен идти на выучку к рационалисту:
пусть все его тандемы с ним чреваты вспышками: медитатор строптив и капри-
зен.
Антропология орудийности и феномен искусства 587
Человека (феномен человека) мы определили как орудийное существо {Homo
instrumentalis). Но выявленная орудийность предстала раздвоенной на утили-
тарно-рациональную и люфтово-художественную. В связи с этим встает воп-
рос об оправдании не-утилитарной орудийной деятельности, только что обри-
сованной в медитативном типе личности. Действительно, от каких грозных
стихий экранирует нас язык поэзии? Какие выгоды сулит неторопливая пасть-
ба философического размышления? Какие доорудийные пласты бытия осваи-
ваем мы в живописи? «Нехудожественное» (условно) орудие, соединяя челове-
ка с бытием, созидает изолирующую от бытия «капсюлу»: одежда, дом, любая,
наконец, деятельность с любым полезным орудием. Человек в орудийной дея-
тельности замкнут в «капсюлу» орудия. Работа зрения, мышление, конструк-
тивные способности и т. п. подлежат строгой селекции, идущей от необходи-
мости эффективного функционирования с орудием. Искусство же, созидая свои
«орудия», нацелено противоположным образом: на расплавление орудийных
«капсюл». Орудийная деятельность так относится к искусству, как дом к
оконному проему. Картина, висящая на стене, функционально противоположна
ей. Стена ограждает, создает заслон от неорудийного нечеловеческого мира.
Картина же, напротив, служит гидом-проводником, выводящим человека из
плохо освещенной — утилитарно освещенной — комнаты как лабиринта ору-
дийной деятельности на свет бытия. Без искусства «челнок» человеческого мира
(человек ^ бытие) был бы невозможен. Искусство (как сверх-ratio) — штопор,
орудие (как осуществление ratio) — пробка. «Штопорно-пробочный челнок» —
вот вся жизнь человека в ее парадигме. Если на одном конце цивилизации на-
капливается избыток «пробок», то на другом возникает работа по созданию
«штопоров». Социальная функция художника (и медитатора) получает тогда
простое объяснение. Формы люфтов и есть контуры «штопоров»: стихотворе-
ние, картина, философическое размышление... «Гуляка праздный» вдруг ока-
зывается позарез нужным специалистом.
ТРАНСЦЕНДИРУЯ ОРУДИЙНОСТЬ •
В теории деятельности, развивавшейся в советской философии с конца
50-х гг., были вполне очевидные предпосылки для тематизирования орудийно-
го характера способа бытия человека и его углубленного анализа. Работы
М. Б. Туровского тех лет, особенно его книга «Труд и мышление» (1963), слу-
жат тому характерным примером. Предметная деятельность человека, опосре-
дуемая орудиями труда, рассматривалась в них как базовое определение чело-
века в целом, необходимое для понимания форм мышления и их метаморфоз в
истории. Отметим только два характерных для этого направления момента. Во-
первых, «вмонтированность» соответствующего дискурса в марксистско-геге-
левскую традицию, а во-вторых, презумпцию «строгой научности» философии,
позволяющую плавно включать специально-научное знание о человеке в фи-
лософское поле. Наш тезис состоит в том, что указанные предпосылки анализа
орудийности не являются единственно возможными, что и было продемонст-
рировано в поздних работах Туровского. При этом сам концепт орудия уходит
из фокальной зоны мысли о человеке, хотя и не покидает ее сферы.
Укажем на три важнейшие характеристики орудийности. Первую можно
обозначить как ее базовую устойчивость, позволяющую говорить о том, что ей
присущ характер (пра)феномена. Действительно, орудийность нельзя вывести
из неорудийного отношения. Иными словами, способу ее бытия присущ харак-
тер самовыявления. В этом отношении орудийность подобна таким явлениям,
как язык, жизнь, культура, мысль. Ведь в попытке выведения орудийного отно-
шения из неорудийного мы действуем с помощью некоторого орудия, специ-
ально для этой цели нами конструируемого.
Орудийность — сущностная характеристика человека: sapiens = faber =
instrumentalis. Поэтому вторую характеристику можно обозначить как антро-
Выступление на V Чтениях, посвященных памяти М. Б. Туровского и выходу в свет
его книги «Предыстория интеллекта» (М, 2000), в Российском институте культурологии
МК и РАН.
Трансцендируя орудийность
589
пологическую фокусированность феномена орудия. Действительно, всю циви-
лизацию человека можно рассматривать как саморастущее, ветвящееся «дре-
во» орудий, в котором на уровне его «корней» репрезентирован actus punis,
первоакт человека как Homofaber, как вседеятельного первоадама. Мы можем
сопоставить это с «древом» языков и их речевых проявлений, бывших, настоя-
щих и будущих, имея в виду укорененность этого трудно обозримого царства
слов в «первослове» как «сперматическом логосе». Антропологическая фоку-
сировка орудийности не противоречит тому, что само по себе орудие маркиру-
ет человеческое начало через отсылку к логике вещей. Действительно, орудие
несет на себе прежде всего следы вещь-вещных, объективированных связей,
выступающих предметом науки как объективного познания. Но сами эти вещ-
ные «маркеры» скомпонованы человеческой нуждой или свободным вымыс-
лом, целями и ожиданиями человека. Можно сказать, что орудие пытается обо-
значить, «нарисовать» лицо человека на влажном «песке мира», используя для
этого исключительно нечеловеческие, безличные структуры своего материала.
Третьей характеристикой орудийности выступает иерархическая структура
орудийного мира в целом. Орудия занимают в нем ценностно различные мес-
та, образуя связный орудийный космос. В ценностно высшей позиции нахо-
дится орудие орудий — слово, функционально сравнимое в этом отношении с
формой форм Аристотеля. Важно подчеркнуть, что если мыслить слово в его
собственной ценностной перспективе, то можно сказать, что в нем преодоле-
вается сфера орудийности как таковая, ибо при этом средство оказывается
целью, а материальное — идеальным. Тем самым из зоны орудийности, фун-
дируемой тем или иным видом антиплатонизма, мы переходим в ту зону, где
значимым оказывается, напротив, платонизм. Мир орудийной предметной деяг
тельности и социума в целом дает средства для разнообразных редукционист-
ских программ по отношению к сфере смысла и духа, например, в «школе ш>
дозрения» (Маркс — Ницше — Фрейд). Однако, углубляясь в феномен языка*
мы постигаем, что все эти средства — только имманентные материальные ус-
ловия трансцендентно укорененных слов как духовных энергий-форм (энтеле-
хий). Иными словами, на уровне аналитики слова смысл обнаруживает себя
как нередуцируемая реальность, в смысле как цели трансцендируется орудие
как средство.
На наш взгляд, М. Б. Туровский в своих последних работах проделывает
подобный путь, преодолевая горизонт средства, задаваемый как предел, лока-
лизующий анализ проблемы целеполагания. При этом он движется к собствен-
ному горизонту целей как универсальных смыслов, не выводимых из социаль-
но оформленной орудийной деятельности. Тем самым утверждается принци-
пиальная невыводимость высших смысловых начал (истины, красоты, добра).
Так, например, если его ученик В. В. Сильвестров такое выведение допускал,
590
Глава VIL Философия и культура
то Туровский с ним не соглашался2. Указанные высшие смыслы у Туровского
выступают как начала «программирования» орудийной деятельности челове-
ка, как своего рода ментальные «предрассудки» (в гадамеровском смысле).
Абстрагироваться от них при анализе любой деятельности невозможно — они
обладают не только устойчивостью настоящих оснований, но и свойственной
им универсальной способностью проникновения во все, с чем человек может
иметь дело. Красота, истина, добро, говорит М. Б. Туровский, не могут быть
выведены из безобразия, лжи и зла. Инструменталистско-орудийная концеп-
ция культуры уступает место символической: «Символизм, — констатирует
Туровский, — и есть природа культуры»3.
Отмечу только один момент этой концепции, как я ее понимаю. Менталь-
ное пространство имеет свою структуру (символы, «предрассудки»), погру-
женную как клеточное ядро в цитоплазму жизни людей в ее историческом
измерении. Ментальные структуры не штампуют механически установки
людей и не предопределяют совершенно однозначно все их поведение во все
времена и на всех широтах. В соотношении «ядра» и «цитоплазмы» реализу-
ется, условно, герменевтический круг. Это механизм, скорее, органической и
исторической их взаимосвязи, чем «механической». Люди «читают» симво-
лы не только в буквальном смысле, толкуя их вполне сознательно, но и в
переносном, поступая по их логике, разуниверсализируя их в своем поведе-
нии, в действиях. Иными словами, система «ядро — цитоплазма» допускает
двусторонний осмос на своей внутренней границе. Тем самым, во-первых,
реализация символов как их понимание включена в бытийную и событий-
ную ткань истории и культуры. А во-вторых, в силу обратного процесса сам
мир ментальных структур передается последующим поколениям не только
из сохраненных «книг», но и прямой памятью о людях прошлого, эти «кни-
ги» читавших в обоих указанных смыслах. Иными словами, символическое
наследие транслируется и персональным образом, от отцов к детям, что безус-
ловно важно и для того, чтобы каналы объективированной его трансляции
оставались в рабочем состоянии. Однако, несмотря на двусторонний харак-
тер культурно-исторического процесса, абсолютной симметрии между «яд-
ром» и «цитоплазмой» нет. «Ядро» как высшее символическое единство име-
ет ценностно-онтологический приоритет. Красота, добро, истина и разум не
созданы человеком как его орудия, а, напротив, сам человек не может быть
создан без них. Тема антропогенеза, которую Туровский начал разрабатывать
с позиций исторического материализма и имманентизма, в его поздних рабо-
Философское обоснование истории культурологии: Материалы семинара. М, 1993.
С. 131.
3Указ. соч. С. 132.
Трансцендируя орудийность
591
тах продолжена, но уже с позиций идеализма платоновского, отчасти гуссер-
лианского типа.
Как считает теперь М. Б. Туровский, рубеж, отделяющий человека от нече-
ловеческого, — это культ, предание, а не технические средства или орудия обес-
печения жизнедеятельности человека. В книге «Труд и мышление» он считал,
что характерным специфическим моментом, аккумулирующим в себе человеч-
ность человека, является орудийно опосредованное изготовление орудий. Те-
перь горизонт орудийности как овеществленной активности преодолен и чело-
веческое мыслится укорененным в логосе, связующем и образующем людей в
качестве людей. Человек выступает и как субъект, и как объект предания — он
включен в зону смысла, смысл ему передается от прежних поколений и он сам
призван в свою очередь передать его поколениям будущим. Поэтому не чело-
век «творит богов» по своему образу и подобию, а, напротив, высшие живые
смыслы воплощаются в людях, составляя основу их человеческой жизни, вклю-
чаемой благодаря их присутствию во всежизнь. Если заострить этот поворот
мысли, то можно будет сказать, что не люди изготовляют слова как произволь-
ные удобные значки для утилитарного их использования в коммуникациях по
поводу орудийной деятельности, ведущейся совместно, а сами слова, конечно,
глубокие и изначальные, как бы «используют» отдельных людей и весь род
человеческий, чтобы в мире просияла их высшая действительность. Такая кон-
цепция культуры и есть символизм.
КУЛЬТУРА И ОПЫТ >
В первом приближении мы определили бы культуру как пересечение опы-
тов, например, читательских и писательских, если речь идет о культуре слова.
Причем существенно, что они суть действительно опыты, будучи взяты в гори-
зонте конечности бытия своих субъектов — в горизонте смертности смертных.
«Смертельность» горизонта опыта конституирует его значимость (это требует
специального разговора). И вот из пересечений таких опытов и плетется рабо-
чая ткань культуры, сама ее «основа»...
Речь идет вот о чем. Разговор о культуре и способах ее понимания, на мой
взгляд, требует введения понятия опыта. Стоит представить себе на первых
порах хотя бы чисто образно некий подвижной «рельеф» таких опытов — их
пересечений, взаимодополнений и порой взаимоисключений. Представим себе
некую «географию» опыта, фиксирующую, пусть на время, распределение «эко-
логических ниш» возможных дискурсов по поводу культуры. «Опыт» — то
измерение, которое, на мой взгляд, служит базой для понимания всех дискур-
сов, в первую очередь тех, которые мнят себя чистыми — чисто логическими,
чисто концептуальными, чисто философскими и т. п. «Опыт» — это то, где
зарождается само желание мыслить, говорить, возражать, решать проблему,
создавать. Поразительна «без-опытность» современной культуры — коммен-
тирующей, толкующей, критической, реферирующей и информирующей, дис-
кутирующей, академической, гордой своим профессионализмом. Но ушел опыт,
уплыла личность, исчезло то начало генерации культуры, которое способно
заинтересовать, передать импульс для переживания, для сотворчества. Интел-
лектуальная культура сегодняшнего дня во многом кажется мне каким-то хо-
лодным левиафаном, о котором как о мифологической характеристике карти-
ны мира нового времени писал в своей «Диалектике мифа» А. Ф. Лосев 2,
архичувствительный, кстати, к личной «опытности» мысли. Какие-то «зубчи-
1 Выступление на Круглом столе «Внерефлексивные и рефлексивные способы понима-
ния культуры» в Институте культурологии МК РФ и РАН 11 июня 1993 года.
1 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М, 1990. С. 405.
Культура и опыт
593
ки» этого чудища вроде бы слегка движутся: спорят интеллектуалы, плетутся
слова... Но личность, ее экзистенциальный опыт, увы, пригашен, притушен до
тьмы египетской. И нужен новый исход — в эмпиреи и в эмпирию — в лич-
ность и в новую наивность и простоту испытаний.
Есть такая пара «опыт — техника». Опыт можно для начала представить
просто как потрясающие захватывающие встречи, которые испытывает лич-
ность, и переживанием, памятью о которых она живет. Это, например, встреча
Сергея Булгакова с «Сикстинской мадонной» в Дрезденской галерее, это зна-
менательный эпизод с Павлом Флоренским во дворе тифлисского дома, когда
он услышал голос, окликнувший его по имени, это арзамасский ужас, пережи-
тый Львом Толстым, это «мертвый дом» Достоевского...
Высокий градус личного опыта неотделим от традиции русской мысли. За-
пад же, особенно сегодняшний, да и вся современная цивилизация, от него
идущая, напротив, развивают прежде всего технику мысли, но без живого лич-
ного опыта или при его явном притушении... Однако техника мышления, пусть
даже самая изощренная, без личности и души и есть тот мертво-холодный ле-
виафан, о котором так живо писал А. Ф. Лосев.
Речь идет, условно, об «эмпиризме личности» как существенном факторе
тематизированного, технически вооруженного философского дискурса. Мы не
утверждаем, что существует прямая однонаправленная детерминация философ-
ствования экзистенциальным опытом. Связи здесь многосторонние и не толь-
ко прямые. Но философская речь в основных определениях своего формирова-
ния, несомненно, зависит от конфигурации опыта, с ним соотнесенного. Сфор-
мированные в опыте мотивы мысли возбуждают усилия речи. Отталкиваясь от
опыта, от его самоуглубления, самовоспоминания, саморазбирательства и са-
мопонимания, человек осмысляет все сущее, т. е. философствует.
Представьте себе теперь, что существует некоторое множество опытов —
индивидуальных, социальных, кооперативных и т. д. — и при этом происходит
их суммация, интерференция, в результате чего получается определенная ин-
тегральная картина, характеризуемая двумя основными центрами, или полю-
сами. Один полюс, вокруг которого интегрируются опыты и соответствующие
дискурсы и рефлексии (культуры в том числе и прежде всего), можно обозна-
чить так: это переживание культуры как в основе своей религиозного культа,
организующего в ходе культуросозидающего процесса все здание культуры,
включая и ее философскую рефлексию. Такое понимание культуры дал, на-
пример, Павел Флоренский, у которого даже философская терминология объяс-
няется литургической компонентой культа. Основание культуры при таком ее
понимании образует откровение, мистическая данность трансцендентных ре-
альностей, приоткрывающихся в особом опыте, консолидируемом и поддер-
живаемом церковью. Философия в такой перспективе только проясняет эти
38 - 3357
594
Глава VIL Философия и культура
изначальные откровенные реальности, определяясь как «служанка теологии»
(ancilla theologiae). И вся культура такова: весь ее смысл — в культе, в его мис-
териях. Этимология слова «культура» (от лат. colo — «возделываю», «почи-
таю», «чту») подтверждает такое понимание, развертывая одновременно и «воз-
делывательский», условно, «агрикультурный» аспект культуры. В поле притя-
жения этого центра философствование (и о культуре в том числе) можно счи-
тать мистически укорененным осмыслением культа.
Другой центр интеграции опытов можно обозначить как цивилизационный
реализм: ядро всех философских дискурсов, возможных на его основе, со-
ставляет то, что можно назвать рациональной наукой (о) цивилизации. Субъект
такого дискурса помещен внутрь этой позиции, и его языком говорит сама
«цивилизация» как последняя реальность, несмотря на все «отчуждения» им-
манентная своему субъекту в отличие от трансцендентной сверхреальности
первого центра. В какой-то степени этой биполярной структуре отвечает ди-
хотомия Востока — Запада, но не этот план нас здесь занимает, хотя, конеч-
но, рациональной наукой о цивилизации мы считаем как раз то, к чему при-
шла традиция западного рационализма и новоевропейской науки в качестве
основы для мировоззрения. Многие характерные черты этой традиции, соот-
ветствующей ей ментальности нам представил в своем выступлении Ф. Т. Ми-
хайлов, хотя и не без типичных «восточных» обертонов, идущих от россий-
ских традиций. Действительно, на Западе этот же самый подход еще более
нагружен наукой, мера его «наукоемкости» выше, в результате чего мы имеем
инженерию цивилизации, инженерию философскую в том числе, потому что
она использует все богатство философских традиций, весь арсенал их терми-
нологий с тем, чтобы дать корректирующие и даже «спасительные» рекомен-
дации для капитанов современной цивилизации (и для всех в нее вовлечен-
ных). И философия, и вся культура выступают в этом плане как служанка
цивилизационных императивов, проводник и разработчик стратегий поддер-
жания цивилизации на плаву истории. Философия в такой «оптике» — свое-
го рода глобальная и прецизионная инженерия или техника, имеющая свое
место в системе цивилизационного баланса. Философ — междисциплинар-
ный межкоммуникативный профессионал, дирижирующий тем оркестром сил,
который воздействует на целеполагающие центры разработки частных стра-
тегий балансирования и развития. Образцом такой философии можно счи-
тать работы В. Хёсле, в частности его книгу об экологии и философии. Там
он начинает с Платона и Аристотеля, переходит к европейским метафизикам
нового времени, а кончает философской экспертизой глобального кризиса
(прежде всего экологического)3.
Хёсле В. Философия и экология. М., 1993.
Культура и опыт
595
В рамках такого подхода культура поглощается цивилизацией. Культура
политики и пола, культура принятия пищи и ее производства, культура чтения
и средств коммуникации и т. п. — все это просто некие цивилизационные на-
выки. Вся культура в такой ориентации оказывается предназначенной для ра-
ционального, научного в основах своих манипулирования ею в цивилизацион-
ных целях. Философия тоже — часть этого аппарата, род особой (пусть даже и
«всеобщей») концептуальной «обслуги» цивилизации.
Эти два центра-полюса — крайности, так как типичный философский дис-
курс явно стремится отстоять свое место между этими полюсами, утвердиться
на некоторой промежуточной почве. В частности, он пытается быть филосо-
фией культуры как чистой самодетерминируемой реальности или философией
философии (центром и базисной реальностью при этом выступает сама фило-
софия). Но все эти почвы, как о том свидетельствует, на наш взгляд, уже эмпи-
рическое наблюдение, весьма шатки, почему и можно обозначить это межпо-
люсное пространство желаемого самополагания философии (философии куль-
туры в том числе) как некое «болото», как нечто неустойчивое, размываемое и
вымываемое фактически идущей поляризацией опытов, так что места, генери-
рующие дискурсы, стремятся переместиться к выше обозначенным полюсным
зонам. Подобные попытки «суверенизации» философии, культуры, логики,
субъекта можно представить как попытку философствования от имени некое-
го универсального Разума, пытающегося стоять на самом себе как на незыбле-
мом основании. На мой взгляд, эмпирически фиксируемая «болотистость» этой
попытки кроется в том, что у ее представителей нет своего оригинального лич-
ного опыта, могущего послужить ей действительным «якорем». На самом деле
в рамках первого центра мысль опирается на мистический опыт встречи лич-
ности с трансцендентным, который подкреплен и даже закреплен мощной тра-
дицией. В рамках второго центра мы имеем текущий опыт цивилизационного
реализма, в основе которого лежит здравый смысл, наука, привычки рацио-
нального отношения к миру, подкрепляемые каждодневным опытом современ-
ной цивилизации в простом обиходе жизни ее рядового представителя. Это —
не мистический опыт встреч с трансцендентным, это — рациональный имма-
нентный опыт, опыт удач и временных, как склонны считать оптимисты, не-
удач рационального управления наличным «жизненным миром» человека. При
этом мы просто хотим сохранить нашу цивилизацию, в самом ее существова-
нии полагая наличие высшего смысла. Для этого мы пытаемся спрогнозиро-
вать ее развитие, чтобы избавить ее от возможных бед и угроз, гармонизиро-
вать ее неупорядоченное многообразие. Цивилизованное существование мыс-
лится при этом в принципе открытым для человеческого разума, вооруженного
средствами меняющейся наукой. В плане этого подхода ничего нет, кроме ци-
вилизационного существования человека, которое «прозрачно» для его разума
38*
596
Глава VII. Философия и культура
и действия. Естественно, «природа» входит в него как условие, как среда оби-
тания, освоенная часть которой уже теперь «прозрачна» для человека как homo
rationalis, а неосвоенная — в принципе «прозрачна».
В случае первого из упомянутых полюсов кумуляции опытов мы имеем дело
с теистическим реализмом', человек—творение Божье, как и весь мир. И смысл
культуры — в совете с Богом, в следовании Его завету как договору с Ним, в
проведении этого завета через современность в будущее. И, условно говоря,
между Богом и земной цивилизацией людей и пытается отстоять себе место обыч-
ный философский дискурс, стремящийся к автономии, не желающий быть ни
религиозной философией, с одной стороны, ни цивилизационной инженерией
сциентистского толка — с другой. И поэтому выбор позиции «между» и произ-
водит тезис об автономии и самодостаточности человека, культуры, разума, ло-
гики 4, философии, нужный ему для самооправдания.
Но сегодня при такой поляризующейся топологии (и типологии) опытов на
этой межполюсной позиции трудно удержаться. Действительно, без предель-
ных «заземлений» или «занебесиваний» своего дискурса трудно парить без
срывов в чистом эфире гуманизма, либерализма, культа культуры или филосо-
фии. Продолжать «наматывать» все поднимаемое современной жизнью и все-
ми науками наружу содержание на «самостоятельного субъекта» в лице совре-
менного человека со стертым личным опытом — это уже не вызывает прилива
энтузиазма, как еще недавно вызывало, когда квазирелигия человекобожества
была еще жива и процветала. Структурализм, а затем и постструктурализм вос-
стали против этого гуманизма (с левосциентистской, так сказать, стороны),
уловив в нем, и не без оснований, идеологию современного постиндустриаль-
ного общества. Однако то, куда они привели нас, также не может насытить
жажду духа: ведь это почти античный миф о слепой безжалостной судьбе (слу-
чайность, непредвиденность, континжентность бытия), которой пытается про-
тивостоять человек-тело, человек-желание, человек-каприз... Открытое еще
маркизом де Садом распадение человека Запада на капризное своевольное же-
лание, с одной стороны, и на холодный научный рассудок — с другой, было
развернуто во всей технической, терминологической полноте в постструктура-
листских направлениях современной мысли.
За этими попытками отстоять суверенитет философии и культуры встает
силуэт возрожденского мага, живущего насквозь ментализованным миром,
который он «знает» своим тайным знанием и, зная, может, как он считает, уп-
равлять им (идеал, кстати, в принципе ничем не отличающийся и от науки).
4 Эта интенция прочитывается, например, в словах А. В. Ахутина: «Если логика хочет
быть логикой, она не может брать свои основания из опыта традиции, откровения» (Новый
круг. 1992. №2. С. 219).
Культура и опыт
597
Культурософский или, точнее, философософский дискурс уверяет, что он мо-
жет достигать «начал» и воздействовать на «корни» всех мыслей и вещей, что
ему доступен сам «руль» Всего и он поэтому может вести корабль Истории
(тем более — Природы). Тем самым этот дискурс фактически присоединяется
к позиции цивилизационного реализма, хотя и не принимает ее явной сциенти-
стской ориентации. Провозглашающая свой абсолютный суверенитет филосо-
фия здесь сливается с наукой, потому что обе они питаются «интересом к жиз-
ни». Но, как справедливо сказано в уже упоминавшейся книге А. Ф. Лосева,
«боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни. Вот отчего религия
всегда будет одолевать философию» 5. Сегодняшняя наука в этом плане ближе
к религии, чем философия: когда встает проблема боли и болезни, в отличие от
философии, в нее, в науку, верят. Именно поэтому и происходит расслоение
поля философского дискурса, его поляризация, о которой мы уже говорили.
Этот пассаж о «руле» Истории указывает на историцистский миф, стоящий
за спиной мифа о самостоянии философии на философии (разума — на разуме,
логики — на логике, человека — на человеке). И это неудивительно, потому
что за этой «философософией», или «филофилософией» стоит «полуснятый»
Гегель. И здесь мы опять сталкиваемся с восполнением односторонности по-
зиции — на этот раз историцизму возражает эмпиризм и реализм в духе, на-
пример, Поппера. И мы снова возвращаемся к Судьбе и человеку-желанию, но
уже не в континентальной суровой модальности, а в туманно-островной, эво-
люционно-альбионной... Это называется «критическим реализмом», а можно
назвать и «критическим натурализмом» в силу присущего этому воззрению
эволюционного мифа. Ситуация не на шутку напоминает ситуацию поздней
античности, когда существовало множество спорящих друг с другом и допол-
няющих друг друга школ, общим знаменателем которых было, попросту гово-
ря, язычество, языческий религиозный миф и мир.
Возвращаясь из этих описаний «рельефа» опытов и соответствующих ему
возможных философских дискурсов к понятию культуры, можно сказать, что
тонкая живая «прослойка» между нами и трансценденцией, или «объемлю-
щим» (термин Ясперса), и есть культуpa-in-nuce, в своем ядре (культура пер-
вого порядка). Именно этот «слой» формирует относительно подвижный «ре-
льеф» опыта, дающий культуру как бы второго порядка, что, в свою очередь,
видимо, не остается без воздействия и на ту предкультуру, культуру-in-nuce,
связывающую нас с трансцендентным. Творимое в таких циклах самораск-
рытие и самоуглубление бытия, носящее уже в силу обменов с трансценден-
тным телеономный характер, и можно назвать (полной) культурой. Возмож-
ность потенцирования (смена порядков, или степеней) культуры как такого
5Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 473.
598
Глава VII. Философия и культура
динамического процесса означает, что здесь действует рефлексия (или само-
рефлексия).
Теперь особо о рефлексивности культуры. Что такое рефлексивность куль-
туры? Я это понимаю прежде всего как внутреннюю коммуникативность куль-
туры, ее коммуникативное измерение. Это как бы alter ego коммуникативнос-
ти. Вся культура поэтому рефлексивна. Но характер и степень этой рефлексив-
ности могут быть различными. Рефлексивность кроется в субъекте культуры, в
том обстоятельстве, что субъект культуры полисубъективен, многоголосен,
полифоничен. Так, например, автор оглядывается на читателя. Ради коммуни-
кативной удачи своего произведения он просто вынужден перевоплощаться в
потребителя культуры — в читателя, зрителя и т. п. Он по крайней мере до-
оформляет свой продукт воспринимающим его со стороны взглядом. Логика,
обыденный, «правильный» язык — все это общедоступные средства комму-
никативности, резерв некой расхожей самопрозрачности культуры. И самый
бешеный сюрреалист или экспрессионист-экстатик (а сегодня это «концеп-
туалист» и сердитый постмодернист) вынужден поумерить свои импульсы и
творческие прихоти в виду Другого, ради Другого — и, в конце концов, ради
себя, так как в саму цель культурного творчества входит прорыв одиночества и
новая, обогащенная коммуникация. «Гвоздь» проблемы таков: банальность
«прозрачности» и «коммуникативности» («пошлая» логика, «занудность» грам-
матики, где-то просто привычки расхожей культуры, ее массовой формы) не
должна закрывать возможности инновации, инсайта, личного открытия, ори-
гинальности и своеобразия первосоздателя, экспериментатора... Если созда-
тель произведений (автор) органично слит с Другим, то это — как дар Божий,
это то, что называется гением: ему не надо «править» свои восторги, извне
внося субстанцию коммуникативности, как это делает, например, обычный
«внешний» редактор. Такой поэт — певец народа, чистое явление его языка.
Но обычный современный автор просто вынужден наращивать градус рефлек-
сивности, становясь в позицию Другого: он должен алгеброй поверять свои
гармонические опыты, раз он не Моцарт, не Пушкин и тем более не Гомер.
Пара «Моцарт — Сальери» дает нам два полюса рефлексивности культуры:
жаркий градус ее (что типично для холодного Сальери) и холодный градус
(характерный для жаркого Моцарта, этого «гуляки праздного»6). На одной
рефлексивности в искусстве далеко не уедешь. А без нее рискуешь стать «за-
умником» претенциозным, лишенным и друга в поколеньи, и читателя в по-
томстве.
6 См. о нем как антропологическом типе выше в эссе «Антропология орудийности и
феномен искусства» (С. 576—587).
ЖИЗНЬ И КУЛЬТУРА
Толчком для моих размышлений послужило написанное М. Фуко преди-
словие к англоязычному изданию работ известного историка биологии и фило-
софа Ж. Кангилема, в котором он говорит о нем буквально следующее: «Этот
рационалист и историк рациональностей является философом ошибки, я хочу
этим сказать, что, исходя из ошибки, он ставит философские вопросы... про-
блему истины и жизни. И здесь мы касаемся, несомненно, одного из самых
фундаментальных событий в истории современной философии» '. Важным кри-
тическим вопросом в философских спорах в связи с таким вопрошанием о вза-
имосвязи жизни и познания, жизни и понятийной сферы является вопрос о
том, «следует ли познание жизни рассматривать только как одну из частных
областей внутри общего вопроса об истине, о субъекте и о познании, или же,
напротив, познание жизни заставляет иначе ставить и самый этот общий воп-
рос?» 2 Упомянутое понятие ошибки (взятое из сферы жизни) здесь служит ана-
логом познания с присущим ему «блужданием», а значит, и заблуждением
(ошибка). Оппозиция норма!ошибка, центральная для живого, на уровне по-
знания (живого) воспроизводится как оппозиция истина!заблуждение.
Размышляя обо всем этом, можно сказать, что в данной точке (спор жизни и
понятия) происходит бифуркация типологий философской мысли. Первый тип
философствования исходит из примата понятия по отношению к жизни, кото-
рая в таком случае понимается как некоторая его спецификация. Иными слова-
ми, в рамках этого типа логика понятия как автономной сферы определяет все
содержание жизни как оно раскрывается набором специальных биологических
наук и прочих дисциплин, с жизнью имеющих дело. Мышление, мыслящее
само себя, по своим собственным законам приходит как к одной из своих внут-
ренних форм к жизни, полагая ее полный смысл как свое особенное (образова-
1 Цит. по: Визгин В. П. Образ истории науки в трудах Жоржа Кангилема // Современные
историко-научные исследования (Франция). М., 1987. С. 136.
2 Фуко М. Жизнь: опыт и наука // Вопр. философии. 1993. № 5. С. 52.
600
Глава VIL Философия и культура
ние). Здесь, конечно, вспоминается «Логика» Гегеля с его триадами в разделе
учения о понятии (механизм — химизм — телеология, или организм и жизнь —
познание — абсолютная идея). Можно сказать, что в рамках этого типа фило-
софий в жизни нет ничего, чего бы не было в понятии (в чистом познании
идеи).
Другая типологическая возможность решения вопроса о соотношении жиз-
ни и понятийной сферы, кстати, реализованная Кангилемом, состоит в том,
что мы на само познание с его понятийным универсализмом смотрим как на
реализацию некоторых потенций жизни, прежде всего тех, которые связаны с
потребностью ответить на вызов ошибки, неотъемлемо присущей жизни. Как
говорит Фуко, «не должна ли тогда вся теория субъекта быть переформулиро-
вана заново, коль скоро оказывается, что познание, скорее, укоренено в ошиб-
ках жизни, нежели открыто навстречу истине мира?»3
Водораздел, разделяющий эти две фундаментальные типологии возможных
философий, лежит именно здесь: предполагаем ли мы автономное и суверен-
ное существование понятия (или «истины мира»), а затем уже указываем в струк-
туре истины место для (понятия) жизни, или же мы, напротив, исходим из ав-
тономии и первореальности жизни, до всякого понятия сущей и наделенной
своими структурами. Во всяком случае, полагая жизнь невозможной без оши-
бок, мы само понимание, всю сферу понятия понимаем как способ ответить на
вызовы жизни с ее рисками и ошибками. Кратко говоря, это — расхождение
между платонизмами и философиями жизни. Платон, Гегель, Гуссерль стоят
по одну сторону указанного рубежа, а Ницше, Фуко, Кангилем — по другую.
Важный момент: превосходство жизни над понятием у Кангилема и Фуко
не означает грубого биологистического редукционизма. Эти философы, стре-
мящиеся постичь познание как некоторое устройство в рамках жизни, были не
столько философами жизни (в смысле какого-то виталистического редукцио-
низма), сколько философами культуры. Сам этот выход философий жизни к
философии культуры заслуживает внимания. Напротив, в известном смысле
первый тип философий не дорастает до настоящей философии культуры. Дей-
ствительно, философия культуры возникает в прошлом веке во многом как ре-
акция на Гегеля. Жизнь, иными словами, с которой так или иначе идентифици-
рует себя мыслитель этого типа, влечет не столько плоский биологицизм или
витализм, сколько философию культуры... Видимо, сам ход основополагаю-
щей мысли, диктующий необходимость оставаться внутри понятийной сферы
как самодостаточной, неорганичен для основных заданий философии культу-
ры как таковой. Философия культуры как вновь открывшееся поле мысли ока-
зывается в известной степени чуждой гегельянству и родственным ему фило-
3 Фуко М. Цит. соч. С. 52 (курсив мой. — В. В.).
Жизнь и культура
601
софиям. И Кьеркегор, и Шопенгауэр, и Ницше, и Брентано, давший толчок
Гуссерлю, все они были в той или иной степени антигегельянцами.
Таков первый момент связи жизни и культуры. Второй связан с Ницше. Как
Ницше тематизировал соотношение жизни и познания (понятия)? Опыт, про-
демонстрированный жизнью и мыслью Ницше, показал, что человек может
себя идентифицировать не только как представителя определенной культуры
(отталкиваясь, например, от религиозно-конфессиональных определений: я —
буддист, христианин и т. п.), но и как представителя жизни, как делегата Биоса
в мире Социума и Культуры. Таким образом, жизнь при полном свете своего
рефлексивного самосознания может обрести свой голос, «прорезаться» в са-
мом ядре самотождественности и самосознания человека, отстаивающего пра-
ва жизни даже по отношению к культуре вообще, а не только по отношению к
какой-то определенной, ставшей, как он считает, антижизненной культуре.
Иными словами, человек может взять на себя функцию представительства
жизни как трансценденции по отношению к культуре (и обществу), может стать
«ходоком» за ее права перед лицом «ответчика» — культуры. И именно эту
позицию выбирает для себя Ницше. Исходя из нее, он осуществляет свою жиз-
ненную витальную миссию, проводя радикальную критику культуры Европы,
начиная с Сократа. Подчеркнем еще раз: культурный критицизм Ницше был
задан тем, что он резко разграничил жизнь и культуру, приняв целиком сторону
первой, считая себя верным апологетом жизни в тяжбе с культурой, застарелая
антижизненность которой в его глазах и была предметом его сарказмов.
Но вся эта ситуация интересна прежде всего тем, что внутри подобной про-
тивокультурной позиции Ницше был философом культуры и, более того, его
критика культуры от лица жизни и во имя ее велась им тем не менее в рамках
культурных координат. Сам голос жизни, который в нем звучал, кодировался
на языке культуры, при этом самой рафинированной романтической культуры
Европы XIX века. Абсолютно выйти из культурного «поля» невозможно, даже
при самой радикальной ангажированности в «дело жизни» против «антижиз-
ненности» культуры. Оставаясь в поле культуры, тем не менее Ницше озвучил
голос жизни, пусть «жизнь» здесь и оказалась псевдонимом другой культуры —
более «варварской», более сильной, более «жизненной». Важен сам этот выход
к Другому через посредничество Жизни.
Этот опыт Ницше показал нам, что у жизни существуют как бы два гори-
зонта. Первый — собственно культурный, и его стремится преодолеть Ницше
в своей критике культуры, а второй — глубинный жизненный горизонт, где
ставки ставит сама жизни, причем они превышают ставки культуры. Культур-
ное поле при этом остается тем полем, в котором мы все равно пребываем. Это,
конечно, так. Но важно, что при этом культурное поле испытывает немалые
деформации и входит в диспозицию своего преобразования. Самодействие
602
Глава VIL Философия и культура
культуры повышает свои возможности, если оно выступает в паре с куль-
турным инобытием — с жизнью. Мы в нашей активности (которая не только
сохраняет культуру, но и обогащает ее) всегда балансируем на границе культу-
ра I некультура. Если не принять во внимание эту ситуацию, то вся критика
Ницше европейской культуры будет непонятна. У Ницше жизнь во многом это
маска иной культуры, чем критикуемая им, за маской homo naturae скрывается
аристократ, своевольный и властолюбивый тиран в духе Борджиа. Но маской
все же «жизнь» у Ницше не исчерпывается. Ведь демократическая философия
жизни (скажем, в стиле Уитмена) тоже возможна. Интенция на некоторую жизнь
как трансценденцию культуры вообще, которая здесь просвечивает, открывает
возможности иных, чем у Ницше, культурных критик. Важно еще и само ис-
толкование жизни (у Ницше — антидарвинистское). Но об этом надо говорить
специально. Мышление и культура инкорпорированы в мировую жизнь, и наши
оценки их имеют некоторую космическую референцию.
Следующее мое замечание связано с импликациями такого «кентавриче-
ского» способа выражения, когда по отношению к категориальным системам
ставится вопрос об их порождении. «Концептогония» смешивает мифологию
(в духе «Теогонии» Гесиода) с понятийностью, которой присуща рефлексия и
критицизм. В таком «кснтавричсском» плане категории и понятия выступают
как квазисубъекты, которым присуща самостоятельность начинаний и действий.
Понятно, что такой режим их функционирования угрожает человеку, сознаю-
щему себя преимущественным субъектом активности. Отсюда следуют разот-
чуждающие стратегии по отношению к таким образованиям. Это могут быть
разные «генеалогии» (в духе Ницше или Фуко) или герменевтические проце-
дуры и даже редукционизмы (как у Маркса). Демифологизация мышления как
тенденция такой стратегии может вести к новой, еще более сильной мифоло-
гии. Так случилось и с Марксом, и с Ницше.
Еще один момент, последний. Он призван поставить вопрос о возможности
глубокой и длительной ошибки в культуре, в развитии самого сознания, как
теологического, так и интеллектуального, философского. Я это покажу на од-
ном примере из истории ведийского пантеона, используя работу русского фи-
лолога и теоретика культуры Н. С. Трубецкого 4.
Среди богов ведийского пантеона выделяются две сначала примерно равно-
правные фигуры — Варуна и Индра. Варуна — всемогущий, благой творец и
промыслитель, законодатель не только всей физической, но и всей нравствен-
ной жизни. Если судить о нем сегодняшним расхожим языком, то на «рынке
богов» это очень приличный бог по нашим европейско-христианским меркам.
4 Трубецкой Н. С. Религии Индии и христианство // Трубецкой Н. С. История. Культура.
Язык. М., 1995. С. 267—294.
Жизнь и культура
603
Совершенно иной облик у Индры. Это бог, наделенный необузданной, матёрой
силой. В нем отразились черты восточных деспотов, когда они еще не стали
утонченными в своей жажде наслаждений. «Боги жаждут» — эта фраза, при-
думанная А. Франсом для выражения сути происшедшего во времена Фран-
цузской революции, относится именно к Индре — вечно жаждущему жертвоп-
риношений и совершенно свободному от моральных требований. В результате
длительной эволюции в соревновании богов победил Индра. Для человека это
означало смену основных ориентиров — вместо послушания законам нрав-
ственности человек сделал ставку на магию силы и силу магии. Он сам захотел
стать таким же могучим, как Индра. На языке европейско-христианских пред-
ставлений победила человекобожеская ересь. Все это развитие можно сопос-
тавить — в порядке гипотезы — с победой Гегеля и Маркса в сознании Европы
(и не только Европы) и с теми жертвоприношениями, которыми увенчалось их
господство.
ГЕНЕАЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
Генеалогия культуры — направление в анализе культурных ценностей, рас-
сматриваемых под углом зрения их происхождения из социально-психологи-
ческих и даже физиологических факторов мира повседневности, над которы-
ми эти ценности кажутся для применяющего подобный подход неоправданно
возвышающимися и к которым он их стремится свести. Термин введен в обо-
рот Ф. Ницше в его работе «К генеалогии морали» (1887). «Нам необходима, —
говорит Ницше, — критика моральных ценностей, сама ценность этих ценно-
стей должна быть однажды поставлена под вопрос, а для этого необходимо
знание условий и обстоятельств, из которых они произросли, среди которых
они развивались и изменялись» К Таким образом, генеалогия понимается Ниц-
ше как знание условий и обстоятельств происхождения моральных ценностей,
используемое для их подрыва с помощью сведения их духовного смысла к ма-
териальным условиям его исторического бытования и с целью освобождения
от них якобы «оклеветанной» ими жизни.
«К генеалогии морали» (1887), сочинение Ф. Ницше, предназначенное для
пояснения в качестве «пролегомен» его книги «По ту сторону добра и зла»
(1886), положило начало целой «генеалогической» традиции в толковании яв-
лений культуры как исторических феноменов. Долгое время сам термин («ге-
неалогия») не пользовался успехом, хотя подходы и приемы мысли, за ним сто-
ящие и впервые выявленные Ницше, продолжали развиваться и применяться
(например, у М. Вебера). И, пожалуй, только после впечатляющих «генеало-
гий» западной культуры, написанных М. Фуко в 70-х гг. (среди них прежде
всего «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы» — 1975 г. и «Воля к зна-
нию», составившая 1-й том «Истории сексуальности» — 1976 г.), сам термин
«генеалогия» становится популярным, появляются монографии, посвященные
генеалогическому методу, он сопоставляется с такими давно известными на-
правлениями в философии, как герменевтика или феноменология2. Но это все —
1 Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 412.
2 См. работы: Natoli S. Ermeneutica е genealogia: filosofîa e metodo in Nietzsche, Heidegger,
Генеалогия культуры
605
на Западе, а у нас о генеалогии Ницше можно прочесть всего лишь несколько
как всегда блестящих, тонких, но противоречивых суждений К. А. Свасьяна
в комментариях к его переводу этой работы Ницше. Статус генеалогии как
«новой дисциплины»3 или «новой науки» тут же дезавуируется двумя сужде-
ниями: во-первых, о «принципиальной нерасторжимости» генеалогии и лично-
сти генеалогиста, что приводит, как пишет исследователь, к невозможности
именно научного оформления генеалогии, и, во-вторых, тезисом о сверх-дис-
курсивности генеалогии, которая, по замыслу Ницше, якобы «не излагается,
а осуществляется» 4. Сами эти противоречия не случайны: предмет дей-
ствительно труден для научного оформления и ему трудно дать однозначную
дефиницию, что приводит к множеству его определений — даже в кратких
заметках о нем, сделанных, безусловно, со знанием дела (на трех страницах
текста Свасьяна мы насчитали пять различных дефиниций генеалогии). Про-
тиворечия в определении генеалогии обусловлены уже тем фактом, что сама
подача генеалогии морали (и религии) Ницше двусмысленна: он ее развивает
как научное, значит, опирающееся на презумпцию автономной истины деза-
вуирование вечных ценностей, но одновременно он сам, здесь же, до конца,
как ему кажется, дезавуирует самую вечную из всех вечных ценностей —
истину 5. В результате генеалогический дискурс в качестве научного подры-
вает сам себя. И тогда действительно остается только «личность» (вместо
метода), только «красота фразы» (вместо истины) и только «действие» (вмес-
то слова). Ввиду таких вулканических парадоксов, генеалогии присущих ab
initio, приходится поневоле искать глубинные культурогенные «генеалогемы»
для ее объяснения как феномена западной культуры, обозначившегося с кон-
ца прошлого века и не изжитого и по сей день. Ясно, что простодушной нау-
кой, чисто академическим дискурсом тут действительно трудно ограничить-
ся, если хочешь как раз истины — вот еще один парадокс при столкновении с
генеалогией.
И все же мы не можем удержаться, чтобы не процитировать итоговое опре-
деление генеалогии, данное Свасьяном: «Дескриптивно-деструктивная фено-
менология, заключающая в скобки весь псевдоидеалитет европейского двух с
половиной тысячелетия и сводящая культуру к нулевому градусу восприятия» 6.
Уж чего никак не найдешь у Ницше, так это структуралистского «нулевого
Foucault. Milano, 1981; Minson J. Genealogies of Morals: Nietzsche, Foucault, Donzelot and
the Eccentricity of Ethics. N. Y., 1985.
3 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. T. 2. M., 1990. С. 783.
4 Там же.
5 Там же. Т. 2. С. 514—520.
6 Там же. Т. 2. С. 784.
606
Глава VIL Философия и культура
градуса»7 — у него только перегретый «волей к власти» градус культуры,
только таким «термометром» он измеряет и оценивает все явления культуры,
считая, что последнюю надо мерить только первой. А играть в кастальско-
структуралистско-формалистские «бирюльки», охваченный этой предельной
ангажированностью жизнью как волей к могуществу (Wille zur Macht), он не
мог, хотя, конечно, трудно найти более изощренного и рафинированного «ка-
стальца», чем этот расстрига-филолог, отшельник из Сильс-Марии. Если он
и был пророком и провидцем наших современных увлечений, то не столько
структуралистско-формалистических, сколько «материально-постструктура-
листских», захваченных феноменом именно власти, воли и желания. Поэто-
му вовсе не случайно, что его генеалогия сделалась своего рода модой только
на волне, поднятой Фуко, который действительно сумел показать, как воля к
истине и воля к власти переплелись или даже отождествились в истории За-
пада, что и составляет узел его судьбы 8. Ницше, пожалуй, тем и велик, что
он знал, что «нулевой градус», или «беспредпосылочность», или «объектив-
ность», или «свобода от суждения оценки» недостижимы в той культуре, в
которой он сам живет, — в культуре Запада, где вся историческая драма раз-
вертывается не на этом нигилистическо-буддистском «нуле» интереса и анга-
жированности, а, напротив, на максимуме причастности, ангажемента, вы-
бора и пристрастия, диктуемого именно волей — к жизни, к власти, к мощи,
к самоутверждению. Он и саму истину — а она ему была действительно доро-
га, и это мы можем показать, опираясь на биографию философа, — поставил
под это «Вилле-цур-махтное» дезавуирование, ибо чувствовал себя «солда-
том жизни», увидевшим, что жизнь попирается культурой, высшими ценнос-
тями, прежде всего моралью и религией. Принимать Ницше «теплохладно»,
в игровой манере чисто словесных кунстштюков мы не можем — он сам бы
не хотел этого, так как это было бы, следуя его логике, лишь нигилизмом,
волей к ничто. И ответить всерьез на вызов Ницше — а это прежде всего
личный вызов каждому, кто живет и мыслит после него, — мы можем, только
идя до конца, идя вглубь, где жизнь и смысл остаются наедине и мы сами
выбираем себе «господина», беря на свою ответственность сам первообраз
их соотношения...
7 Аллюзия на выражение Ролана Барта (le degré zéro de l'écriture), послужившее назва-
нием его знаменитой работы 1953 г. {Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М.,
1983. С. 306—349).
8 К «генеалогии» Фуко мне уже не раз приходилось обращаться (см. выше гл. VI, с. 544—
556). О ней в нашей стране в разных контекстах писали Н. Автономова, В. Подорога, М. Рык-
лин, П. Тищенко.
Генеалогия культуры
607
Ницше: генеалогический проект
Генеалогию Ницше В. Подорога рассматривает как «симптомологию» забо-
левшей культуры, нацеленную на ее излечение. «Так как всякий знак, — гово-
рит он, — указывает на некоторое проявление болезненного состояния запад-
ной культуры, то, раскрывая смысл того или иного симптома, мы открываем
источник болезни культуры» 9.
Генеалогия, развитая Ницше, говорит Эрик Блондель, возвращает культуру
в природу, ибо рассматриваемый генеалогически мир идеальных культурных
ценностей понимается как зашифрованная речь (больного) тела 10. Э. Блондель
строит свою схему генеалогии, отталкиваясь от Ницше и Фрейда, замещая «ли-
бидо» «телом» с его «языком», который его скрывает и послание которого ге-
неалогист должен расшифровать. Генеалогия культуры, говорит французский
философ, это невозможный гибрид филологии и физиологии п. Генеалогия
Ницше служит образцом неклассического философского мышления. Действи-
тельно, если классическая мысль, начиная с греков, предполагала гомогенность
между мыслимым и мыслящим, между предметом мысли и ею самой, то гене-
алогия в духе Ницше, подчеркивает Блондель, действует всегда гетерологи-
чески по отношению к своему объекту ,2.
Генеалогия Ницше — метод (пусть и не в строго научном смысле слова)
критики высших ценностей «подозрительно косящимся смыслом» 13, мыслью,
склонной к перетолкованию того, на что она устремлена. Это — всегда, по
меньшей мере, постановка ценностей под вопрос благодаря «знанию условий
и обстоятельств»14 их исторического происхождения 15. Это — первый момент
относительно генеалогии Ницше. Второй состоит в том, что сама генеалоги-
ческая подоплека события, поставленного под вопрос, часто хорошо скрыва-
ется его «организаторами» — именно потому, что оно им как трюк удается.
9 Подорога В. А. Ницше // Новая философская энциклопедия. М., 2001. С. 94.
10 Blondel Е. Nietzsche, le corps et la culture: La philosophie comme généalogie philologique.
P., 1986. P. 104.
11 Ibid. P. 122.
12 Ibid. P. 118.
13 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. T. 2. С. 418.
14 Там же. Т. 2. С. 412.
15 «Происхождение» — ключевое понятие генеалогии, обозначаемое у Ницше прежде
всего как Entstehung, или Herkunft, или Ursprung. Анализ Фуко показал, что с годами у
Ницше вырабатывается негативное отношение к термину Ursprung, которому он предпочи-
тает первые два в силу онтологической ориентации не на тождество, а на борьбу и разли-
чие (Foucault M. Nietzsche, généalogie, l'histoire // Hommage à Jean Hyppolite. P., 1971. P. 146—
148).
608
Глава VIL Философия и культура
В какой-то степени это напоминает нам ситуацию с укрытием чиновником, бе-
рущим взятки, «компромата» в его адрес. Этот момент сокрытия, утайки, под-
тасовки, искажения, намеренного замалчивания и т. п. очень важен во всем
генеалогическом замысле Ницше. Поэтому генеалогист не просто историк-ан-
тикварист, нет, он скорее озабочен современностью — ее искалеченной, обо-
лганной, искаженной (как он считает) судьбой, представить которую в ее под-
линном виде ему и позволяют генеалогические раскопки прошлого. Они все-
гда непросты, полны неожиданностей и не идут прямыми путями традицион-
ных историографии. Во-первых, надо установить наличие «родовых» связей —
связей происхождения. Например, используя лингвистику, Ницше устанавли-
вает «родовую» связь schlecht (плохой) и schlicht (простой)16. Во-вторых, тре-
буется идентифицировать «предков» и «потомков»: schlicht — «предок»,
schlecht — «потомок». В-третьих, предполагается возможной процедура объяс-
нения (не причинного, строго говоря) «потомков» через «предков» (schlecht
через schlicht). Генеалогия — в замысле, в проекте — как родословие культуры
имеет дело с природой культуры, с ее порождающими ее же саму возможностя-
ми. Если мы при этом вспомним, что в рамках исторической лингвистики тер-
мин «бытие» и термин «порождение» сходятся в одном индоевропейском корне,
то поймем, что в глубине «вещей», в их творческом ядре, онтология культуры и
генеалогия культуры не могут не пересекаться. Относительно несомненности
связи глагола «порождать» и глагола «быть» процитируем И. Д. Рожанского,
специально занимавшегося анализом термина ц qrôoiç: «Лингвисты возводят
глагол сргко к общеиндоевропейскому корню bheu, семантическая эволюция ко-
торого может быть охарактеризована следующей цепочкой глаголов: расти (про-
израстать) —> рождаться —» возникать —> становиться —» быть. Исходное значе-
ние bheu и теперь еще ощущается в ряде слов, ведущих генеалогию от этого
корня, в качестве примера укажем на армянское существительное bujs (расте-
ние) или на русскую былинку... В большинстве европейских языков корень bheu
обнаруживается главным образом в тех или иных формах глагола "быть"»17.
Сказанное, в частности, означает, что органоморфные онтологии не слишком
ошибаются, если верить основному постулату генеалогии и исторической лин-
гвистики вместе с ней. Не так уж сильно, видимо, ошибаются и привычные
«мальчики для битья» в философских нотациях феноменологов, спиритуалис-
тов, etc., считающие, что «природа» и есть «бытие», т. е. то, что существует
само по себе, per se. Однако все же не будем спешить с выводами и уточним:
речь идет только о том, что «бытие» имеет «природное» происхождение. Но
это вовсе не означает, однако, что оно и есть «природа», исчерпывается ею.
16 Там же. Т. 2. С. 418.
17 Рожанский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979. С. 65—66.
Генеалогия культуры
609
Вот Ницше в своей генеалогии (по-русски «родословии») морали склонен был
сводить «выросшее» к тому, из чего оно «выросло», но это ведь требует более
серьезных доказательств, чем игра в сомнительные этимологии вроде bonus
(«потомок») и duonus («предок»),8. Кстати, проблема соотношения «предка» и
«потомка» — одна из главных в генеалогии. Признание однозначной жесткой
связи между ними ведет к той самой «телеологии», которой генеалогия стре-
мится избежать 19.
В данной работе мы выбрали исторический подход (Ницше — Вебер) для
прояснения того, что же такое «генеалогия культуры». Поэтому мы не можем
развивать здесь умозрительно-интеллектуальные ходы в связи с наметившим-
ся «пересечением» онтологии и генеалогии культуры. Отметим только, что в
историческом развитии философской мысли единый ствол, эти понятия несу-
щий, раздваивается, возникает специализированный метафизический словарь,
латинская транскрипция которого тем более развела то, что исходно, по проис-
хождению было слито, создав вместо греческой фгклс перипатетическую суб-
станцию со всем связанным с нею концептуальным аппаратом, а затем и ново-
временную natura. В итоге вместо метафоры роста, произрастания мы получили
образ своего рода безвидной «держалки», на которой могут висеть атрибуты
как акцидентальные — без последствий при их замене для самой «держалки»,
так и эссенциальные — с серьезными последствиями транссубстантивирова-
ния в случае их замены. Вскрытая связь генеалогии и онтологии культуры от-
мечает как бы точку роста первой, открывает новые возможности для ее анали-
за, что представляет собой интересную тему, однако выходящую за пределы
выбранного нами подхода. Можем только заметить, что такие возможности (в
одном определенном ракурсе) были реализованы (намечены) в философии куль-
туры В. фон Гумбольдта: «Человеческий род, — пишет Гумбольдт, — являет-
ся таким же созданием природы, как род львов или слонов... лишь с тем отли-
чием, что здесь уже в самом зародыше к зримым для нас силам их формирова-
ния присоединяется идея языка и свободы»20. И далее Гумбольдт развивает
концепцию, в которой финальные причины телеологии замещаются действую-
щими причинами, сходными с теми, что ищет Ницше в своей генеалогии. Эти
причины, — указывает Гумбольдт, — «часто носят физический и животный
характер»21. Сходство с Ницше (и с Бергсоном) идет и дальше, проявляясь, в
частности, в критике чрезмерного интеллектуализма при рассмотрении дви-
18 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 420.
19 Minson I. Genealogies of Morals: Nietzsche, Foucault, Donzelot and the Eccentricity of
Ethics. P. 72.
20 Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 280 (Курсив мой. —В.В.).
21 Там же. С. 282.
39 - 3357
610
Глава VIL Философия и культура
жущих сил истории 22. В целом взгляд Гумбольдта на историю выступает как
бы приглашением к ее генеалогическому анализу: «Всемирная история, — пи-
шет он, — ...клубок подчас оборванных, но зачастую длительно сохраняющих-
ся нитей, распутать который надлежит с помощью знаний и проницательнос-
ти» 23. Этот ход мысли можно найти не только у Гумбольдта.
Ницше как генеалогист называет себя неоднократно «психологом»24. Это
не случайно: автор «Заратустры» был убежден в том, что именно в душе чело-
века скрывается последний «код», открывающий нам «дверь» в объяснение
истории и культуры, замолчанной, утаенной или «оболганной» истории куль-
туры прежде всего. «Психология» у него, конечно, как на буксире тянет за со-
бой (или — с собой) все медико-физиолого-диетические и климатологические
коннотации, что, надо сразу отметить, не могло не привлечь Фуко — сына вра-
ча, психиатра по образованию (помимо философии), всю жизнь работавшего в
области, если ее узко обозначить, истории медицины и психиатрии. Фуко (он
был, конечно, философом) в этой сфере искал путей обновления философии.
Ему, левому интеллектуалу, в начале 50-х гг. предоставлялся небольшой выбор
философий: экзистенциализм, марксизм, феноменология. Но все заглавные арии
в этих направлениях были уже пропеты, а их протагонисты и кордебалет уже
поистрепались в академических диспутах и дискурсах. А история медицины и
психиатрии казались ему, не без стимулирующего влияния такого крупного
историка медицины и биологии, как Жорж Кангилем, подходящими для того,
чтобы на их почве разыграть вполне новую и оригинальную философскую
партию. Это Фуко и сделал. И в этом ему помог и Ницше, генеалогии которого
он посвятил специальную работу [19, с. 154—172]25.
В анализе ressentiment26 Ницше идет до медико-физиологического «упора»,
перечисляя в ряду возможных генеалогических оснований аскетического иде-
ала в лице священника «низкий процент сернокислого и фосфорнокислого ка-
22 Там же. С. 283.
23 Там же. С. 286.
24 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 505, 506 и др.
25 Foucault M. Nietzsche, généalogie, l'histoire (1971). Анализ этой работы позволяет
представить общие для генеалогий Ницше и Фуко онтологические предпосылки (см. выше
гл. VI, с. 544—556).
26 Богатое значениями и оттенками труднопереводимое слово. Его смысл удачно пе-
редают переводчики М. Вебера — затаенная обида (Вебер М. Избранное: Образ обще-
ства. М., 1994. С. 46]. Ресентимент — устойчивая враждебность чувств, вызванная мен-
тальным «пережевыванием» негативных эмоций, спровоцированных оскорблениями,
ущемлениями достоинства, невниманием окружающих, собственными комплексами, недо-
статками, травмами и т. п. Ресентимент — вторичная и отравленная эмоция. См. ниже:
С. 614 и ел.
Генеалогия культуры
611
лия в крови»27. Мир психофизиологической патологии нужен ему во всей его
объективистской точности ради того, чтобы указать «истинные причины» са-
мых «возвышеннейших» культурных форм — морали и религии. Его антропо-
логия проста: «человек — больное животное». Значит, человеческое в человеке,
а это его разум и его «предрассудки», в том числе и моральные, надо объяс-
нять, исходя из клинического анамнеза. Госпиталь — ключ к западной культу-
ре; ну как тут не вспомнить Фуко, одна из самых лучших книг которого как раз
посвящена рождению клинического госпиталя?
В такой перспективе генеалогия культуры Ницше выглядит как сильный
редукционизм: сведение явлений культуры, прежде всего морали и религии, к
определенным медико-психологическим обстоятельствам, имеющим, впрочем,
четкую социальную проекцию. Генеалогия Ницше, таким образом, оказывает-
ся вариантом социальной психологии.
Физиология и психология индивида значимы в мире ницшевской генеало-
гии постольку, поскольку они ведут к определенному типу человека — к челове-
ку «восходящему» или, напротив, к человеку упадка, к декаденту. Методологи-
чески значимо здесь само понятие типа, сквозь призму которого Ницше смотрит
на человека. Задолго до М. Вебера он своей основной категорией генеалоги-
ческого анализа избирает именно понятие типа — антропологического типа,
опирающегося на определенную биологицистскую интерпретацию человека.
Это, как и у Вебера, «идеальный тип». В отличие от Вебера, однако, он меньше
социологизирован и больше биологизирован. Тип человека выступает у Ниц-
ше той основной формой, в которой осуществляется вся игра мирового исто-
рического процесса, его основная ставка, поскольку в него вовлечен человек
со своими волей, сознанием, страстями и разумом, с душой и телом 28. Понятие
типа выбрано в качестве универсальной категории культур-исторической кон-
цепции именно потому, что оно «возвышается» над индивидом, но, однако, не
так абстрактно и плоско, как понятие «рода» или «человечества». Тип благо-
родного человека, плебейского, тип сильного человека, тип слабого, тип здо-
рового, тип больного, наконец, сверхчеловек как тип, противолежащий всем
типам человека до него — все эти и им подобные типологии активно использу-
ет Ницше. Они — его основной операциональный язык. Феномен человека и
истории увиден сквозь призму «типа». Науку в этом отношении, видимо, обо-
гнал реалистический роман XIX в., повлиявший на социологию этого столетия
и его культурологию (у Маркса и у Ницше эти воздействия просматриваются)29.
27 Ницше Ф. Сочинение в 2-х томах. Т. 2. С. 497.
28 Уже сам Ницше подчеркнул особую роль в этом «ангажементе» тела, наметив связку
власти, тела и истины, что разовьет в дальнейшем постструктурализм вообще и Фуко в
частности.
29 Изоморфизм между ницшевским «типом» (иногда «расой») и марксовым «классом»
39*
612
Глава VIL Философия и культура
Поскольку первопринципом философии Ницше выступает «жизнь», прочи-
тываемая им как воля к могуществу, то неудивительно, что в качестве генеало-
гиста культуры Ницше ищет именно физиолого-психологических, биологически
значимых моментов в происхождении моральных и религиозных представле-
ний. Однако генеалогия Ницше — не просто редукционизм, предполагающий
для своего функционирования или применения жесткую, однозначную теорию,
к основанию которой надлежит сводить исследуемое явление. Биологицист-
ская волюнтаристская метафизика в рамках философии жизни не столь жестко
и однозначно предопределяет поле и результаты конкретных генеалогических
анализов и «диагнозов», как строгая естественнонаучная теория, выступаю-
щая базой для редукции. Но в то же время ницшевская генеалогия как метод и
не столь аморфна, как это можно было бы предполжить, приняв безоговорочно
тезис Свасьяна о «принципиальной нерасторжимости» в ней метода и личнос-
ти самого генеалогиста30, что, впрочем, нельзя и нацело отрицать. Все зависит
от режима функционирования генеалогии и ее истолкования. В смысле кон-
цептуальной строгости Маркс как социальный теоретик превосходит Ницше.
Однако и у последнего есть своя прототеория — пусть и не столь детально
развитая. Поэтому личность генеалогиста, конечно, кое-что значит для самой
генеалогической процедуры, для ее конкретного развертывания, например для
выбора объекта для нее, но все же существует и определенный концептуаль-
ный горизонт, объективирующий до известной степени генеалогию как метод
анализа культурных явлений и дискурса о них. Различие здесь, грубо, опреде-
ляется различием социологии и психологии в соответствующую эпоху. Пожа-
луй, социология опередила психологию в своем марше к научности. И поэтому
теория идеологий у Маркса предстает более концептуально слаженным целым,
чем психолого-типологические экскурсы Ницше.
Поскольку именно психология составляет собственное поле генеалогии, по-
стольку, по сути, Ницше разрабатывает в ней то, что затем получит название
психоанализа. Ницше и здесь во многом первооткрыватель. Он, конечно, далек
от Фрейда, гениального ученого, развившего психоанализ во всей широте и
аналитичности концептуального его представления как действительно науку
(какие бы мнения об этом ни были у психологов). Однако некоторые принци-
пы психоаналитического подхода он сформулировал до работ Фрейда. Герме-
невтика или аналитика ressentiment — один из примеров этому. Служитель ре-
лигиозного культа, по Ницше, изменяет направление энергии ресентимента.3I
вполне прозрачен — различие только в «начинке» (у одного — биологицистская, у друго-
го — социологицистская), в то время как интегральные роли обоих понятий вполне анало-
гичны: служить элементом каркаса мирских, посюсторонних эсхатологии.
30 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 784.
31 Там же. С. 497.
Генеалогия культуры
613
Эта переориентация есть своего рода то, что у Фрейда станет сублимацией 32.
Знает Ницше и механизм «вытеснения», «замещения» и другие приключения
импульса воли к власти (у Фрейда — либидо), филигранную механику кото-
рых затем разовьет Фрейд. Ницшевская генеалогия есть метод проникновения
в мир бесознательного, откуда исходят импульсы к практическому действию.
Она потому и зовется «генеалогией», что вскрываемые ею связи не без умысла
забыты, «вытеснены» в подсознание и поэтому требуют своего «подъема».
Итак, с одной стороны, социально-классовый анализ (конечно, сильно био-
логизированный) независимо от Маркса и почти одновременно с его развити-
ем у классика марксизма и, с другой, — психоанализ до его выдвижения и
развития Фрейдом, особенно в его применении к анализу культуры, чем сам
Фрейд занялся только на склоне лет, — вот как можно предварительно локали-
зовать генеалогию Ницше, отталкиваясь от нам более знакомых координат. Ге-
неалогия, таким образом, размещается в зазоре между Марксом и Фрейдом,
между классовым подходом исторического материализма и психоаналитиче-
ским методом. Воплощенная в произведениях художественно одаренной нату-
ры своего создателя, она несет характер эстетически оформленного личного
восприятия кризиса европейской культуры, оформляя попытки выхода из него,
прошедшие под знаком метафизико-антиметафизических увлечений века дар-
винизмом, философским пессимизмом, позитивизмом — вплоть до физиоло-
гического редукционизма.
Поразительна способность генеалогического подхода к самоотнесению, к
автореференции. Ницше пишет: «Всем страдающим без исключения свойствен-
на ужасающая охочесть и изобретательность в отыскании предлогов к мучи-
тельным аффектам... они роются в потрохах своего прошлого и настоящего в
поисках темных, сомнительных историй... "Я страдаю: должен же кто-нибудь
быть в этом виновным", — так думает каждая хворая овца»33. И так думает сам
генеалогист, в данном случае мы имеем в виду мученика по имени Фридрих
Ницше, страдания которого были действительно трудно представимыми. А это
упоминание «поисков темных историй» — разве это не генеалогия самой генеа-
логии? 34 Разве фигура самого генеалогиста не служит здесь уместной иллюс-
трацией ресентиментного рефлекса больного, страждущего человека? Подко-
паться под мораль, под Бога, под заветные идеалы — разве это не есть само по
себе проявление настоящего ressentiment?
Ницше и сам применяет это понятие.
33 Там же. С. 497.
34 Она так и светится в генеалогических текстах Ницше, хотя Свасьян почему-то и гово-
рит, что «будучи разоблачением дискурсии, сама она не может стать предметом дискур-
сии». (Там же. С. 783).
614
Глава VII. Философия и культура
Ресентимент (от франц. ressentiment) — окрашенное недоброжелательством
переживание прошлых обид, унижений или оскорблений, мстительная злопа-
мятность, «затаенная обида» (М. Вебер), вторичная и отравленная эмоция, ис-
точающая яд. Понятие, обозначаемое этим французским словом (ему нет точ-
ного аналога в других языках), было введено в философию культуры Ф. Ниц-
ше, использовавшим его в своей генеалогии морали. «Священник, — говорит
Ницше, — есть переориентировщик ressentiment» 35. Ницшевская переориен-
тация ресентимента, как мы уже сказали, аналогична фрейдовской сублима-
ции либидо. Концепция ресентимента, лежащая в основе генеалогии морали,
выступает своего рода путеводителем по подсознанию, средством проникно-
вения в его мир. Представляя собой устойчивую негативную эмоцию, которую
в обществе надо скрывать, ресентимент выступает подходящей основой для
вытеснений, проекций и других подобных превращений его динамики, опи-
санных в психоанализе для либидо. «Восстание рабов в морали — говорит
Ницше, имея в виду генеалогические корни христианской морали, — начина-
ется с того, что ressentiment сам становится творческим и порождает ценности:
ressentiment таких существ, которые не способны к действительной реакции,
реакции, выразившейся бы в поступке, вознаграждают себя воображаемой
местью» 36. Здесь подчеркнута психоаналитическая амбивалентность ресенти-
мента: переживающий это чувство сам не способен к его прямому обнаруже-
нию. Ресентимент — сжатая «пружина» негативных эмоций, имеющих своего
адресата в лице тех, кто ее изначально спровоцировал, или тех, на кого они
направились в порядке вымещения. И если эта «пружина» не может распрям-
ляться сразу прямо и естественно, то тем сильнее она бьет украдкой, в транс-
формированном виде, отравляя своими «токсинами» и своего носителя.
«Вытесненная ненависть, месть бессильного», утверждает Ницше, создает
поворот оценивающего взгляда, заменяя аристократические ценности ценнос-
тями «упадочническими», декадентскими — христианско-моральными. Сме-
шивая филологию с физиологией, Ницше рисует тип «человека ресентимен-
та», выступающий противоположностью аристократическому типу с его силой,
прямотой, откровенностью, естественностью тона. «Человек ressentiment, —
говорит Ницше, — лишен всякой откровенности, наивности, честности и пря-
моты к самому себе. Его душа косит, ум его любит укрытия, лазейки и задние
двери, все скрытое привлекает его как его мир, его безопасность, его услада,
он знает толк в молчании, злопамятстве, в сиюминутном самоумалении и са-
моуничижении» 37.
Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 497.
Там же. С. 424.
Там же. С. 426.
Генеалогия культуры
615
В своей теории ресентимента Ницше наделяет это явление огромной исто-
рической и культурогенной силой, усматривая в истории не только отдельных
людей, принадлежащих к ресентиментному типу, но и целые народы и культу-
ры. И Реформацию (XVII в.), и Революцию (конец XVIII в.) он рассматривает
как события, вызванные волнами «народных инстинктов ressentiment».
«Среди сделанных в новейшее время немногочисленных открытий в облас-
ти происхождения моральных оценок открытие Фридрихом Ницше ресенти-
мента как их источника — самое глубокое, несмотря на всю ошибочность его
специального тезиса о том, что христианская мораль, а в особенности христи-
анская любовь, — утонченнейший цветок ресентимента» 38. В этих словах
М. Шел ер, внесший существенный вклад в разработку понятия ресентимента,
указывает одновременно на силу и слабость концепции ресентимента Ницше.
По Шелеру, ресентимент — это глубоко залегающий эмоционально-волевой
комплекс, проявляющийся в самых разных исторических социокультурных
ситуациях. Шелер стремится придать ресентименту метафизическую значи-
мость, рассматривая его как пронизывающую весь мир антилюбовь, гнездя-
щуюся в сумерках сознания, скрывающуся в подсознательном слое психики.
Но прежде всего он дает феноменологическое и культурно-социологическое
исследование ресентимента, который может проявляться в отношениях полов
в браке, людей различных классов, возрастов, национальностей и т. п. Терро-
ризм, приводящий к гибели случайно попадающих под его удар людей, это, по
Шелеру, тоже проявление ресентимента39. В период социальных революций
стихия ресентимента буквально затопляет общественную сцену. В частности,
в эпоху Французской революции, считает Шелер, «страшный взрыв ресенти-
мента» 40 был во многом обусловлен тем, что особую остроту мстительным
чувствам низов придавало то обстоятельство, что на 4/5 состав тогдашней фран-
цузской аристократии был рекрутирован из обогатившихся представителей
третьего сословия. И поэтому мещане или буржуа, оставшиеся в своем сосло-
вии, особенно гневно ненавидели «мещан во дворянстве» — тем удалось воз-
выситься, а им, таким же, как и они, не удалось. Кроме того, ресентимент под-
хлестывало и остро переживаемое чувство равенства, возбужденное револю-
ционной пропагандой. Антиномия здесь была такова: равенство по праву и
неравенство по факту. И вызванное ею напряжение на бессознательном уровне
не могло не усиливать ресентимента.
Отдавая должное оригинальности, проницательности и новизне подхода
Ницше к проблеме ресентимента, Шелер не соглашается с ним в существен-
Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999. СИ.
Там же. С. 44.
Там же. С. 20.
616
Глава VII. Философия и культура
ном пункте: «Несмотря на то, что христианские ценности крайне легко подда-
ются перетолкованию в ресентиментные и слишком часто именно как таковые
их и понимают, — говорит он, — семя христианской этики взросло отнюдь не
на почве ресентимента. В то же время мы полагаем, что буржуазная мораль,
которая начиная с XIII века все больше вытесняет христианскую и достигает
своего апофеоза во французской революции, уходит своими корнями в ресен-
тимент. Именно ресентимент стал одной из самых влиятельных сил в совре-
менном социальном движении и в значительной мере преобразовал действую-
щую мораль»4I [Курсив автора. — В. В.]. Человек ресентимента, по Шелеру,
это зависимый, духовно слабый человек, уклоняющейся от творчества, веду-
щего к контакту с самими вещами, и выбирающий более безопасный и облег-
ченный путь учета и критики чужих мнений о вещах. Такой человек, подчер-
кивает Шелер, «отказывается от собственного познания того, что есть добро, и
начинает искать опору в вопросах "А что думаете Вы?", "А что думают все?"»42.
Человек ресентимента — конформист и оппортунист, а поэтому и релятивист.
Можно сказать, что кантианство в морали есть эффект ресентиментного созна-
ния просвещенской буржуазии, подменяющей предметность добра идеей о нем,
«общезначимым законом человеческой воли». Шелер не отрицает общезначи-
мость как объективность добра, но он отвергает как несостоятельную попытку
свести добро к формальной максиме, пригодной для того, «чтобы стать обще-
значимым принципом» 43. Он усматривает в таком формализме «общезначимо-
го» ресентимент по отношению в позитивным культурным формам, выводя-
щим человека на контакт с самим бытием. Шелер выстраивает вертикально
ориентированную шкалу ценностей, в плане которой ценности «общезначимо-
го» оказываются далеко не на ее высоте. Читая эти страницы Шелера, понима-
ешь, почему в последние годы своей жизни он дружил с С. Л. Франком, рус-
ским философом, стремящимся к соединению платоновского онтологизма с
экзистенциально-библейской традицией мысли.
Каково же в главных чертах отношение Шелера к концепции ресентимента,
выдвинутой Ницше? Шелер заимствует ее содержательное ядро, но смещает
основную «работу» ресентимента в истории с эпохи Сократа и первоначально-
го христианства к эпохе эмансипации третьего сословия и роста городов (XIII—
XIV вв.), получившей свое оформление в новое время. Если Ницше отожде-
ствлял христианскую мораль и современную ему буржуазную мораль, то Ше-
лер, напротив, их четко разделяет, принимая тезис об основополагающем вкла-
де ресентимента в происхождение лишь последней. Ресентимент у Шелера —
41 Там же. С. 68—69.
42 Там же. С. 163.
43 Там же. С 164.
Генеалогия культуры
617
это антропосоциокультурный аналог хайдеггеровской «метафизики» как при-
чины «забвения бытия», равно как и марселевской «техномании», ведущей к
деградации духовно-высокого, к сведению онтологического измерения к усре-
денному — общезначимому и формальному — субъективизму, к отрицанию
основополагающей культурной функции за откровением и трансцендентным,
сопровождающимся выдвижением на передний план того разума, или даже
рассудка (bon sens — здравого смысла), которым, по Декарту, в равной мере
наделены все люди. Все эти замены и искажения Шелер видит как проявление
действия ресентимента «частично мертвого по отношению к живому» 44, оста-
ваясь в своей антропологии витальных ценностей в значительной степени в
рамках традиции философии жизни, самыми яркими и самыми близкими к
Шел еру представителями которой были Ницше и А. Бергсон. В то же время
нельзя не сказать, что подход Шелера к проблеме ресентимента по отношению
к его концепции у Ницше обогащен феноменологией и начавшимся как раз в
годы создания труда о ресентименте его эволюцией к своеобразной персона-
листической метафизике, которая и сближала его как с С. Л. Франком, так и с
Г. Марселем.
Внутри открытого генеалогией Ницше герменевтического поля проблема
ресентимента выделяется в самостоятельную тему. Мы ее рассмотрели в неко-
торых существенных моментах. А теперь продолжим наше рассмотрение ге-
неалогии Ницше.
Генеалогия как метод анализа культуры предполагает смешение рядности.
Рассмотрим это явление. Жизненный и культурный мир человека стратифици-
рован: он «уложен» в ряды. Есть ряд религиозности, ряд метафизики и фило-
софии, ряд моральных представлений, ряд политики, искусства, медицины,
физиологии, психологии и т. п. Статический разрез «жизненного мира» дает
картину такой многорядности. Обычная практика дискурса состоит в учете этого
феномена рядности, скажем так. И говоря о религии, мы прежде всего стре-
мимся представить себе более-менее автономную сферу, по крайней мере на
уровне фигурируемых в ней смыслов, условия проявления, обнаружения и
функционирования которых, однако, конечно же не могут не связываться с
другими рядами — социальными, психологическими и т. п. Генеалогия на пер-
вый взгляд выступает именно как резкая скачкообразная процедура фиксации
«пересечения» рядов. Так, например, религия «пересекается» физиологией.
Ницше, объясняя «генеалогию» религии, говорит прежде всего о симптомах
физиологического торможения, депрессии, об усталости и тяжести, которые
как аффекты эпидемически распространяются в некотором обществе, что, по
мнению генеалогиста, купируется до известной степени именно возникающей
44 Там же. С. 199.
618
Глава VIL Философия и культура
в ответ на такой массовый негативный аффект религией 45. Надо сказать, что
слова Ницше в этих пассажах «К генеалогии морали» напоминают нам выска-
зывания другого историка и культуролога, также выходящего на принципиально
внешний относительно истории и культуры ряд, как Льва Николаевича
Гумилева. «Можно заведомо счесть вероятным, — говорит Ницше, — что вре-
мя от времени в определенных очагах земного шара широкими массами долж-
но почти непременно овладевать чувство физиологической заторможенности
(кстати — это явление по смыслу прямо противоположно гумилевской пасси-
онарности, но по своему контуру очень напоминает его. —В. В.), которое,
однако, по недостатку знаний в этой области не осознается таковым, так что
его "причина" и устранение могут оказаться в ведении лишь психологически-
морального поиска и испытаний (— такова именно моя предельно общая
формула для того, что по обыкновению называется "религией"*6)».
Экстерналистски-космический подход русского историка напоминает эк-
стерналистски-физиологический подход немецкого философа жизни. Там —
космические тайны в их активации земных импульсов, формирующих рит-
мы истории, здесь — тайны физиологии, медицины, эпидемиологии психи-
ческих состояний, которые отвечают за совершенно другой ряд, ряд куль-
турной истории. Сама эта «заторможенность», по Ницше, может иметь са-
мые разные причины, но все они — биологицистские и физиологические
(смешение рас или сословий, ошибки в миграционных решениях, усталость
рас и т. п.). Генеалогический (выявляемый генеалогией) «дрейф явления», по-
ставленного под призму анализа, может носить самый причудливый харак-
тер блуждания по «низинам» физиологии, социальной медицины, климато-
логии, диететики, генетики и т. п. Медицинский язык здесь симптоматичен —
он указывает реальный горизонт ницшевской генеалогии. Аскетика, по Ниц-
ше, и есть терапия этого жизненного недуга с помощью духовной анесте-
зии (мистический экстаз, нирвана буддистов, состояние высшей просвет-
ленности и т. п. — вот некоторые названия этих ментальных наркотиков и пи-
люль).
Надо прямо признать — за этими научно сомнительными и морально про-
вокационными страницами стоят и действительные прозрения, приоткрываю-
щие те области, которые долгое время были скрыты от науки и дневного созна-
ния. Но одно дело изучать все эти физиолого-медицинские корреляции аскети-
ки, а совсем другое — нацело сводить религиозные смыслы к болезням души и
тела. Здесь мы присутствуем при развилке возможностей генеалогии: научные
возможности и плодотворные импульсы соседствуют с идеологически нагру-
45 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 500.
46 Там же.
Генеалогия культуры
619
женным редукционизмом как следствием определенной метафизической веры
и, «генеалогически» говоря, воли.
Еще одним своего рода соседом генеалогии Ницше (кроме психоанализа и
критики идеологии) является герменевтика. «Не то, что натворил этот идеал, —
пишет Ницше об аскетическом идеале, который он подвергает генеалогиче-
ской иерешифровке, — приходится мне освещать здесь; напротив, только то,
что он означает, чему дает быть разгаданным, что таит за собой, в себе, для
чего является предварительным, смутным, отягощенным вопросительными
знаками и недоразумениями выражением» 47. Иными словами, Ницше осозна-
ет себя, генеалогиста, герменсвтом. Речь идет о схватке истолкований (у Рикё-
ра есть книга о конфликте интерпретаций)48, одно из которых он называет «мо-
ральным», а другое, не получая однозначного имени, может принимать разные
названия — «физиологического», «психологического», «антиметафизическо-
го» и т. п. Главным моментом в герменевтике самого Ницше выступает априор-
но доминантный (пра)смысл — борьба воль к власти (или жизни). Интерпре-
тация, можем мы сказать в духе Ницше, — это концептуально оформленная
борьба воль (а воля всегда — воля к могуществу).
Что такое интерпретация у Ницше? Послушаем его. Это — «насилие, под-
тасовки, сокращения, пропуски, набивание чучел, измышления, подделки». Все
это и описывает нам «сущность всяческого интерпретирования»49. Речь идет
не о том, чтобы найти «правильную», «истинную» интерпретацию, покоющу-
юся на дне исторического «колодца». Таковых не существует: дело в том, что-
бы настроить саму силу интерпретировать на волну утвердительного инстинк-
та жизни, превозмочь волю к ничто. Герменевтика у Ницше лишается всякого
ореола истины, истины как цели. «Наша вера в науку, — говорит он, — покоит-
ся все еще на метафизичекой вере — и даже мы, познающие нынче, мы, без-
божники и антиметафизики, берем наш огонь все еще из пожара, который ра-
зожгла тысячелетняя вера, та христианская вера, которая была также верою
Платона — вера в то, что Бог есть истина, что истина божественна...» Наука —
последний оплот аскетического идеала, и поэтому нужна новая «герменевти-
ка», ищущая не «истины», а силы жизни, ее полноты, ее мощи и самоутвержде-
ния. Герменевтика ли это вообще? Значение должно работать на волю к жизни,
на волю к могуществу. Именно о такой герменевтике идет речь в генеалогии
47 Там же. С. 512.
48 Рассмотрение Маркса, Ницше, Фрейда под общим знаменателем «подозрения» ка-
жется мне плодотворным. Но я не могу согласиться с другой мыслью Рикёра — о том, что
разрушение религии «является позитивной задачей» (Рикёр П. Конфликт интерпретаций:
Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 230—231).
49 Там же. С. 516.
620
Глава VIL Философия и культура
морали Ницше. Другие слова для такой герменевтики это — «переоценка всех
ценностей».
Но не есть ли замысел такой генеалогической герменевтики попытка куль-
туроцида? Ведь альфой и омегой культуры как системы дееспособных зна-
чений является различение, положенное «перворазрезом», представленным
в оппозиции «священное — профанное», «божественное — мирское», «мож-
но — нельзя». А у Ницше его генеалогию и герменевтику ведет импульс к
аннигиляции одной из позиций этой оппозиции — к редукционистскому
уничтожению «священного», «божественного», «небесного» с претензией
при этом сохранить в целости противоположную позицию — даже укре-
пить ее тем самым. Послушаем на этот счет самого философа: «А что... если
ничто уже не оказывается божественным, разве что заблуждением, слепо-
той, ложью...?»50. Это, правда, звучит еще вопросом, но этот вопрос — ри-
торический. Ницше именно этого и хочет, именно этот радикальный тезис
его только и может устроить. Но тогда «летит» вся система культуры, куль-
тура как система. Это уже не «переоценка всех ценностей», а их отмена:
царство «белокурой бестии», чей девиз он нашел в ордене ассасинов: «Ни-
чего истинного, все позволено»51. «Слепота», «ложь», «заблуждение» мо-
гут существовать лишь тогда и постольку, когда и поскольку существуют
свет, истина, правда.
Но на этом рискованном пути Ницше достигает и интересных прозрений.
Воля к истине, — пишет он, — сама нуждается в критике. Так он определяет
задачу генеалогии. И еще: «Ценность истины должна быть однажды экспери-
ментально поставлена под вопрос»52. Может быть, это уже и случилось в усло-
виях экологического кризиса и всех срывов техногенной цивилизации, «экспе-
риментально» уже испробованных к концу XX века? И ценность объективного
научного познания уже не может приниматься за абсолютную ценность?
Сделаем попытку вывода относительно генеалогического проекта, как он
был представлен Ницше. Этот проект оказался неотделим от нового абсолют-
ного мифа, на который претендовал Ницше. В состав этого мифа вошли, по
крайней мере, такие характеристики, как воля к власти, сверхчеловек, вечное
возвращение, возведенный в метафизику аристократизм, биологицистская с
герметическо-ренессансным подмесом антропология... Генеалогия с ее науч-
ным потенциалом оказалась инкрустированной в рискованный эксперимент с
новым восстанием «титанов», с окончательной «переоценкой всех ценностей»,
с попыткой человекобожеского сознания с его предельной гордыней и занос-
Там же.
51 Там же. С. 515.
52 Там же. С. 517.
Генеалогия культуры
621
чивой решимостью перевернуть ход всей истории... Опора на Диониса (явно)
и Гермеса Трисмегиста (неявно) вряд ли могла быть принята культурным со-
знанием европейца, в основе которого лежит, пусть временами и не слишком
устойчивый, но синтез или симбиоз христианства и античного рационализма.
Поэтому эксперимент с высшими ценностями и новым абсолютным мифом не
мог не провалиться: Европа нашла в себе силы сохранить свою культурную
идентичность, хотя это было и не просто... В результате судьба генеалогиче-
ского проекта оказалась связанной если и не с возвратом к христианским осно-
ваниям западной культуры, то по крайней мере с ее традиционным рациона-
лизмом. Мыслителем, который увидел судьбу Запада в непрерывной, трудной,
но неуклонной рационализации всей жизни, всей ее повседневной практики,
был Макс Вебер, подхвативший некоторые основные ходы и приемы ницшев-
ской генеалогии при самом строгом их критическом анализе. Дионисически
трагическая, где-то переходящая в жуткий фарс ницшевская сцена «смерти
бога»53 стала у Вебера научно-скромной, социологически правдоподобной схе-
мой «расколдовывания», «разволшебствления» мира в ходе этой упорной, ме-
тодически поставленной рационализации. Снова в предельную игру были вве-
дены правила истины, униженной Ницше, хотя и с жутким парадоксом ее якобы
страстной защиты. С Вебером мы из ренессансной сомнительности приоткры-
того хаоса снова вступили в ясность Просвещения... Пусть и с некоторой грус-
тью и неопределенной тревогой за будущее.
Отношение Вебера к генеалогии морали Ницше
Несмотря на то, что критическое отношение Вебера к генеалогии морали
Ницше со временем только усиливалось, тем не менее он всегда признавал, что
Ницше удалось схватить определенные психологические связи, значимые для
истории культуры в целом и в особенности для объяснения происхождения
религиозной этики. Вебер подчеркивал, что подход Ницше заинтересовал
серьезных психологов, но значение его, как он сам это показал, весьма ограни-
чено. Кратко эволюцию веберовского отношения к ницшевской генеалогии мо-
рали можно описать как переход от позиции «скорее принимает, чем отверга-
ет» («Социология религии», 1910 г.) к позиции «скорее отвергает, чем прини-
мает» (начиная с 1915 г., когда стала выходить в свет работа «Хозяйственная
этика мировых религий»).
Там, где генеалогия морали Ницше выступала как редукционизм (а во мно-
гом она именно так и выступала), там Вебер ее и не принимал. И это неприятие
53 См.: Веселая наука 111, 125 {Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С 592—593); см. также: Так
говорил Заратустра. Ч. IV: О высшем человеке (Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 206—214).
622
Глава VII. Философия и культура
редукционизма относится не только к Ницше. Вебер вообще был мыслителем
в принципе чуждым какому-либо редукционизму по отношению к сфере куль-
туры и истории. Вебер обладал в высшей степени тонким тактом по отноше-
нию к историческому миру — презумпция его уникальности, неповторимости,
схожая с аналогичной установкой Риккерта, ему в высшей степени была при-
суща. Его подход к истории культуры (только отчасти) напоминает методоло-
гию case study в историографии науки 54. Вебер в соответствии со своей основ-
ной методологической установкой исследует отдельный феномен в самом ши-
роком контексте условий его генезиса, привлекая и сравнительное изучение
разных культур. В такой широкомасштабной «оптике» по отношению пусть и к
узко взятому явлению нет места для редукционизмов.
У Вебера не было явной метафизики или какого-то онтологического мо-
низма. Он не сводил мировое целое, историю, культуру к одному принци-
пу — будь то экономика, воля к могуществу (власти) или сексуальность. Для
него и экономические интересы, и стремление к господству и социальному
престижу, и, наконец, сексуальные импульсы — все эти факторы характеризо-
вали мир человеческих отношений в его динамике. И это не было и эклекти-
кой, потому что Вебер как социальный теоретик был историком, а не отвлечен-
ным схематиком. Его аргументация всегда носила конкретный исторический
характер. Как историк-эмпирик он говорил, например, что если по отношению
к иудаизму идея Ницше о ресентименте частично и верна, то совсем ложна,
если ее применить к буддизму 55. Для него исторический аргумент всегда хра-
нил свою силу и был способен привести его к отказу от любой абстрактной
схемы, от любой претендующей на всеобщность и аподиктичность филосо-
фии истории.
Если Ницше, несмотря на весь свой романтический позитивизм и критику
метафизики, все же так и остался в ее пределах, выдвинув свою концепцию
воли к власти именно как метафизическую конструкцию, то Вебер и здесь кри-
тикует Ницше как социальный историк. Открытое стремление к господству
Вебер приписывает по преимуществу только бюргерским социальным слоям,
в частности, подъем рационализации жизни, связанный с этим классом, он свя-
зывает с тем, что именно на почве бюргерских социальных слоев расцвел рас-
чет — средство установления, поддержания и расширения господства этого
54 Этот мотив мы находим уже в генеалогии Ницше, правда, только in писе. У Вебера же
доминирует подлинно научный дух, и его социология по праву зовется «эмпирической».
55 «Буддизм, — говорит Вебер, — совершенно неподходящий объект для распростране-
ния на него генеалогической схемы Ницше», так как это — «религия спасения интеллекту-
алов, последователи которой почти без исключения принадлежат к привилегированным
кастам», и поэтому ничего общего с моралью, основанной на мстительных чувствах низ-
ших групп, она не имеет {Вебер М. Избранное. С. 165).
Генеалогия культуры
623
класса. Конечно, стремление к господству и престижу не ограничивается бюр-
герством, и даже аскетизм Вебер частично связывает с тем, что его внедрение в
общество способствует влиянию на него священнических классов 56.
Генеалогия Ницше, по Веберу, отчасти как бы примыкает к марксизму: «Об-
щую, в известном смысле абстрактную, классовую обусловленность религиоз-
ной этики, — пишет Вебер, — можно было бы как будто вывести после появ-
ления блестящего эссе Ф. Ницше из его теории затаенной обиды (ressentiment),
подхваченной и серьезными психологами»57. Но этот редукционизм для Вебе-
ра неприемлем. В частности, неприемлем экономический редукционизм 58: «Как
ни глубоко в отдельных случаях экономически и политически обусловленное
социальное воздействие на религиозную этику, — говорит Вебер, — ее основ-
ные черты восходят прежде всего к религиозным источникам»59. По Веберу,
религиозная жизнь обладает своей автономией. И в частности, «содержание
благовествования и обетования» скорее определяет религиозную этику, чем эко-
номические или чисто социальные факторы. Но и собственно религиозная де-
терминация имеет свой предел и выступает тоже одной из многих 60.
Для антиредукционистского вкуса Вебера теория морали Ницше уж слиш-
ком сильно упрощает проблему, которая его интересует, проблему историчес-
кой типологии религиозных этик. Мотивы, которые выявляет Вебер в качестве
детерминант для различных типов этической рационализации жизненного по-
ведения, «большей частью..., — говорит он, — не имеют никакого отношения
к чувству обиды»61. Хотя он и не отрицает психологического значения фактора
затаенной обиды, впервые выдвинутого Ницше.
Примерно такого же типа вердикт выносит Вебер и по поводу тезиса о «пле-
бейских инстинктах», лежащих, по Ницше, в основе религии спасения. Он ча-
стично признает его, разбирая вопрос о религиозной легитимации страдания.
Но в то же время, например, в иудаизме, подчеркивает Вебер, идея спасения
56 Вебер М. Избранное. С. 50.
57 Там же. С. 46.
58 Контекст цитируемой ниже фразы содержит упоминание об историческом материа-
лизме, который вместе с другими истолкованиями истории, Вебер это подчеркивает, связы-
вает религиозную этику и интересы различных социальных слоев «напрямую», считая пер-
вую функцией последних. Ницше, казалось бы, мог подтвердить эту установку «с психоло-
гической точки зрения», однако, по Веберу, «тогда важнейшие проблемы типологии рели-
гиозной этики получили бы очень простое решение» (Там же). «Сколь ни удачно, — заклю-
чает Вебер, — и плодотворно само по себе открытие психологического значения затаенной
обиды, оценивать ее социальный смысл следует с большой осторожностью» (Там же).
59 Там же. С. 45.
60 Там же. С. 44.
61 Там же. С. 46.
624
Глава VII. Философия и культура
связана не со страданием беднейших социальных слоев, а со страданием всего
народа 62. По Веберу, понятие харизмы гораздо адекватнее служит для описа-
ния истории религиозного сознания, чем понятие «инстинкт», которым, можно
сказать, злоупотребляет Ницше. Вебер специально подчеркивает, что «не мни-
мые пролетарские инстинкты» давали Иисусу Христу специфическую уверен-
ность в том, «что Он и Отец — одно, что Он и только Он есть путь к Богу»63.
Главное в происхождении этой уверенности кроется в несомненной харизме,
которой был наделен Иисус Христос. Иисус, говорит он, «не имея книжной
образованности, обладает харизмой, благодаря которой господствует над де-
монами и покоряет людей своей проповедью, в степени, недоступной никому
из книжников и фарисеев» м.
Что же касается «плебейства» Иисуса, то единственный признак его сослов-
ной ангажированности, подчеркивает Вебер, это как раз его нелюбовь к сто-
личным книжникам с их высокомерным отношением к простым людям. Но его
проповедь вовсе не становится от этого благовествованием исключительно для
бедных и слабых, как это считал Ницше. Явно полемизируя с генеалогией
Ницше, Вебер подчеркивает важность мотива избранничества в евангельской
проповеди, говоря даже об «аристократичности» Христа и несомой им религи-
озности 65. Причем в этом аристократизме нет какой-то односторонней классо-
вой позиции 66. Это — исключительно духовный аристократизм, определяе-
мый изнутри мира христианской веры.
Итак, социальное «прочтение» Иисуса Ницше неудачно, по Веберу. Он не
«плебей» или «пролетарий», а простой труженик, его социальный тип — тип
мелкого провинциального горожанина и сельского ремесленника, далекого от
столичной высокомерной учености книжников и фарисеев, которые могли бы
воскликнуть: «Из Назарета может ли быть, что доброе»67.
У Вебера немало скрытых или полуприкрытых полемик с Ницше, когда ад-
ресат их прочитывается по краткой формуле «восстания рабов» в морали. Так,
например, в истории иудаизма «кооптация» некоторых типично женских ка-
честв и добродетелей в кодекс религиозно значимых характеристик была выз-
вана также и невоинственностью касты священнослужителей и особой вос-
приимчивостью именно женщин к усвоению религиозной пропаганды, а от-
нюдь не только организованным священством моральным «восстанием рабов»,
62 Там же. С. 48.
63 Там же. С. 278.
64 Там же.
65 Там же. С. 278.
66 Там же. С. 279.
67 Там же. С. 265.
Генеалогия культуры
625
подчеркивает Вебер, явно полемизируя с генеалогией морали Ницше 68. В этом
же направлении, продолжает ученый, действовали и «индивидуальные, поры-
вающие с традицией, поиски спасения аскетического и особенно мистического
характера»69. Таким образом, фактор, указанный Ницше, может быть принят,
но только как сугубо локальный, как один из многих и не всегда и не везде...
Ницше, считает Вебер, не учел целого ряда других факторов, которые ведут «в
сторону антиполитического неприятия мира». «Предки» христианской мора-
ли, подчеркивает Вебер, никак не могут быть ограничены названными Ницше.
Вот еще один суровый вердикт в адрес ницшевской генеалогии морали: «Но-
сителями антиполитических религий, — пишет Вебер, — были не только и
даже не преимущественно угнетенные слои, а прежде всего слои образован-
ных людей, не заинтересованных в политике, покольку они не имели реально-
го влияния или утратили вкус к нему»70. Фактор отсутствия политической за-
интересованности, характеризующей как раз скорее образованные классы, чем
обделенные и бедствующие, является, считает Вебер, более весомым в генеа-
логии религии и этики милосердия и любви, чем плебейские инстинкты и низ-
менные мстительные чувства по отношению к социально господствующим
классам. Все это свидетельствует об очень серьезной критике генеалогии Ниц-
ше. В основе этой критики или, быть может, строгой коррекции (так как час-
тично Вебер признает ее значение) лежит, во-первых, принципиальный исто-
ризм Вебера (его, несмотря на все к нему стремление, не было у Ницше) и, во-
вторых, последовательный отказ ученого от метафизического истолкования
истории и культуры. Как мы уже отметили, Вебер не приемлет воли к власти
как метафизического монопринципа, в чем можно видеть его верность заветам
кантовской критики.
Но удивительное у Вебера в том, что он и в своей антиметафизике не пре-
вращается в позитивистского «фаната». Так Вебер признает наличие автоном-
ных «метафизических потребностей духа», «в силу которых размышлять над
религиозными проблемами заставляет не материальная нужда, а внутренняя
потребность постичь мир как осмысленное целое и занять по отношению к
нему определенную позицию»71. Именно такого рода потребности двигали теми
интеллектуалами, которые служили социальной базой для генезиса религий
спасения помимо угнетенных и низших классов, что односторонне предпола-
гал Ницше. Тем самым мы видим, что Вебер расширяет горизонт, сам кон-
текст генеалогии, как она была сформирована и сформулирована Ницше. Его,
68 Там же. С. 243—244.
69 Там же.
70 Там же. С. 244.
71 Там же. С. 166.
40 - 3357
626
Глава VII. Философия и культура
Вебера, генеалогия уже не может уложиться в рамки метаэпистемологической
ориентации на подозрение. Поэтому мы стоим перед выбором: или жестко свя-
зать понятие о генеалогии как метода анализа культуры с установкой на подо-
зрение (в духе Ницше и других классиков «школы подозрения»), или же пойти
на расширение горизонта этого подхода и считать возможным говорить и о
«возвышающей», а не только о «снижающей» генеалогии. Мы считаем про-
дуктивным именно второй вариант уже потому, что чисто исторически генеа-
логия оформлялась в мифах о происхождении скорее именно «возвышающе-
го» типа (происхождение людей, искусств, культуры традиционно велось от
богов и героев — от священного полюса первичной оппозиции, лежащей в
основании культурного «поля»).
Перворазрез, полагающий культурное «поле» как таковое, — это различе-
ние «священного» и «профанного» (или «мирского»). В культурологии Вебера
«священному» противополагается «повседневное». Именно с помощью поня-
тия «повседневности» Вебер определяет свои самые характеристические по-
нятия, прежде всего понятие харизмы. Харизма — это «выходящие за пределы
повседневности силы»72. Генеалогию культуры в ее основном исторически ус-
тоявшемся значении можно определить (следуя прежде всего логике мысли
Ницше, может быть, впервые применившего этот метод для анализа проис-
хождения культурных феноменов) как сведение священного к профанному, или,
в терминологии Вебера, к миру повседневности. В этом предельно широком
смысле «нисходящей» генеалогии Вебер — сам генеалогист. «Священное» у
него всегда определяется не как самосущее, не как сверхреальность, дающая
жизнь всему остальному, в том числе и миру повседневности, а напротив, само
священное мыслится как не-повседневное, как уход, бегство от него, как его
посильное «исключение»73. Отказ от повседневности в созерцательно-экста-
тической религиозности и выступает как наличность мира священного. По-
добный же мотив звучит у Вебера в его «Социологии религии»: «Религиозные
и магически мотивированные действия, — говорит он, — на ранней ступени
своего развития ориентированы на посюсторонний мир. Для того, чтобы хоро-
шо было тебе... и чтобы ты много времени пробыл на земле, должны быть
совершены требуемые религиозные и магические действия»74.
Вебер такой последовательный историцист, что он сам символический спо-
соб существования культуры подводит под категорию исторического возник-
новения 75. Нам это представляется сомнительным — трудно представить себе
72 Там же. С. 79.
73 Там же. С. 63.
74 Там же. С. 78.
75 Там же. С. 82.
Генеалогия культуры
627
самую «примитивную» жизнь человека без символического измерения. Сим-
волизм означает, что помимо физических воздействий и сил существуют еще
воздействия, обусловленные тем, что их агенты не просто существуют как при-
родные объекты, а нечто означают и действуют именно в силу этого (в силу
того, что они выступают носителями значений). Символическое действие или
действие в силу самого значения вещи, отслаивающееся от ее прямого физи-
ческого или натурального воздействия, предполагает некие условия, причем
даже целый мир таких взаимосвязанных условий, который и можно назвать
культурой. На стадии примитивной религиозности это прежде всего сама «вера
в духов», какой бы посюсторонней, натуралистической она ни была. Интерио-
ризованный мир таких условий может получать разные названия — «прими-
тивная ментальность», «коллективное бессознательное» и т. п. Иными слова-
ми, это такое «поле», присущее человеческой общности, которое делает воз-
можным символическое воздействие как таковое. Это «поле» действительно
открыто историческому измерению, оно происходит, оно возникает, оно имеет
свою генеалогию, которую и можно, собственно говоря, считать основой гене-
алогии культуры. Но эта генеалогия, кстати, практически не отличается от он-
тологии культуры, поскольку и то и другое суть вариации на тему «археоло-
гии» культуры — т. е. на тему ее источника, ее происхождения, ее начала. На
примере космогонических и антропогонических мифов видно, насколько «бы-
тие» и «родовое начало» совпадают, насколько интуиция источника (вещи) тож-
дественна интуиции внутреннего присутствия сущности как существования,
которое длит свою самотождественность.
Для Вебера, пожалуй, вместо редукционизма характерна установка на «сим-
биоз» прямых и обратных связей и опосредовании в комплексе мотивов и им-
пульсов, определяющих динамику культуры. «Интересы (материальные и ду-
ховные), — говорит Вебер, — а не идеи непоредственно господствуют над де-
ятельностью людей, но и "образы мира", создаваемые "идеями", очень часто
служили вехами, указывавшими путь, по которому следовала динамика инте-
ресов» 76.
«Образы мира», о которых упоминает социолог-философ, и есть символы,
символические образования, оказывающие воздействие не своей материаль-
ной фактурой как таковой, а именно своей «значимостью». И мы видим, что
символы действуют как факторы культурогенезиса в паре с интересами. Мож-
но это соотношение символов и интересов представить как преломленное че-
рез призму символов поле интересов. Это и есть культурогенная составляю-
щая человеческой активности в истории. Кстати, Вебер не сводит мир симво-
лов к миру одних только интересов, хотя, как мы уже сказали, он пытается
Там же. С. 55.
40*
628
Глава VIL Философия и культура
вывести символическое измерение из натурализма доанимистического уровня
религиозности 77, что нам представляется сомнительным ходом мысли, посколь-
ку уже само понятие харизмы требует для своего бытия поля коллективной
веры, о чем, кстати, говорит и сам Вебер 78. На наш взгляд, Вебер протягивает
это культурное поле символов до «начала» самой человечности человека, гово-
ря, например, что невозможно «показать, что предпосылкой для возникнове-
ния веры в духов служат определенные экономические условия»79. Иными сло-
вами, эта вера и, следовательно, само символическое измерение как таковое
предполагается всегда существующим, поскольку существует человек — вы-
вести его из чего-то иного, чем оно само, невозможно. Это означает, что куль-
тура «конгениальна» самому человеку и фактически «антропогенетический»
нарратив есть и рассказ о генеалогии культуры.
Значение реакции Вебера на ницшевскую генеалогию в том прежде всего,
что ему удалось убедительно показать многообразие взаимно нередуцируемых
импульсов и мотивов, определяющих деятельность людей в истории. Вебер
преодолевает исключительно «снижающий» статус функционирования генеа-
логии культуры, характерный для Ницше, и выходит тем самым за рамки подо-
зрения как метаустановки 80. Его «генеалогия» предполагает принципиальную
эмпирическую «сложность» (псевдоним теоретико-познавательного свойства
для характеристики индивидуальности объекта познания) предмета историко-
культурного анализа. Сравнительный метод и метод идеальных типов — то,
что у Ницше только намечено и методологически не разработано, — у Вебера
достигают полной зрелости. При этом предполагается изначально многофак-
торный характер исторического развития культуры, причем дать общую фор-
мулу относительно «силы» отдельных факторов нельзя. Энтузиазма антимета-
физического «восстания» (как у Ницше) у Вебера уже не чувствуется. Суще-
ственно, что им допускаются не только «нисходящие», но и «восходящие»
генеалогии культуры. Так, например, его анализ религиозно-поведенческих «ко-
дов» как основы для понимания генезиса экономического поведения людей
лежит скорее в русле именно «восходящей» «родословной» культуры, хотя сами
религиозные символы и импульсы и имеют у него свои земные, социальные
корреляты и условия. Но и сами эти символы не всесильны, хотя их автономия
и признается. Существует, по Веберу, автономия духовных импульсов к дея-
тельности — пусть, как он это подчеркивает, это и редко встречается в практи-
ке повседневности. Проводя свои генеалогии, Ницше подчеркивает их «суще-
Там же. С. 84.
Там же. С. 79.
Там же.
Об этом мы уже говорили (см. выше С. 573).
Генеалогия культуры
629
ственность», претендуя на открытие истинного смысла, настоящей сущности
подвергаемых «генеалогизированию» явлений 81. Вебер же скромно говорит о
вероятной «связи», например, когда он догмат creatio ex nihilo связывает с на-
личием ирригационных систем в тех регионах, где этот догмат входит в состав
религиозного вероучения 82. «Наведение на смысл» или «перетолкование смыс-
ла» — в этом различении кроется не только различие в интеллектуальном так-
те, но и различие в ведущей сам интеллект «интуиции целого», характерной
для этих мыслителей.
Генеалогия культуры: предпосылки и вопросы
Подводя итоги проделанному анализу, укажем на некоторые предпосылки
генеалогического проекта. «Скажи мне, откуда ты происходишь, кто твои пред-
ки, и я скажу, кто ты» — вот основное допущение историцистского толка, ле-
жащее в основании любой генеалогии. Происхождение вещи — существенное
знание (= знанию сущности вещи)83. Неудивительно, что XIX век, век восходя-
щего историцизма, кончился его апофеозом — генеалогией. На «предков» че-
ловека и его культуры в этом веке авторитетно указывали дарвинизм и матери-
ализм. Поэтому генеалогия, которая завершает его, была откровенно «снижа-
ющей», отсюда и благоговейное отношение к научно-физиологической детали
в конкретных генеалогических построениях. Обратный ход генеалогической
мысли будет развиваться в исследованиях мифов и религий мира. Такие иссле-
дования покажут, что, напротив, сегодняшняя повседневность имеет своих сак-
ральных предков: ситуация зеркально противоположная открытию революци-
онерами в космологии и астрономии, что «божественные» звезды — своего
рода «земли». Обратную сторону медали этого открытия справедливо подчер-
кнул Николай Кузанский, сказавший, что «Земля — звезда благородная»84. Уз-
навание в небесах земного не может идти без противоположного процесса —
без ответного узнавания в Земле небесной сущности и ее небесного происхож-
дения. Поэтому по большому счету генеалогии всегда двоятся, подразделяясь
на «нисходящие» и «восходящие». Ницше как дитя своего дарвинистско-ма-
81 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 418, 472 и др.
82 Вебер М. Избранное. С. 122.
83 Генеалогия Ницше и постструктурализма в особенности подвергают критике само
понятие «сущности» — уже у Ницше реальность рассыпается в динамических точках, или
«квантах силы», при этом «сущность» истолковывается как выражение временного равно-
весия сил — и не более того. Такая онтология ведет к «неустойчивости» самого генеалоги-
ческого проекта.
84 Об ученом незнании, II, 12, 166.
630
Глава VII. Философия и культура
териалистического века обратил внимание только на один тип генеалогий —
«снижающих». Однако реальная работа символа — чем серьезно занялся уже
XX век — обнаруживает, что оба типа генеалогий действуют в паре: телесное
в символе одухотворяется, а дух в нем же «отелеснивается», приобретает ха-
рактер земной воплощенности.
Фуко описывает генеалогию как метод анализа истории, исходящий из той
онтологической модели, которую кратко можно описать в трех словах — «слу-
чайность, прерывность, материальность» 85. Это — антиплатонистская онто-
логия. В ее основе — отрицание любой смысловой устойчивости. Она говорит
«нет» даже представлению о движении, если только оно предполагает какое-то
постоянство. Внезапность, случайность, вмешательство заинтересованной воли,
подтасовка, сокрытие фактов и т. п. — все это генеалогист, считает Фуко, прежде
всего должен иметь в виду. В мире человека и его культуры «все плывет», ибо
слова меняют смыслы, желания — направления, а идеи — свою логику 86. Ге-
неалогия ставит своей задачей изгнать метаисторический и метафизический
дух из истории с присущим ему миром устойчивых идеальных значений, пре-
ломляемым в телеологических установках исторического сознания. Можно ска-
зать, что в основе генеалогии как ментальной установки лежат релятивизм и
историцизм, но особого рода, а именно: не вера в неизменные законы истории,
в направленность ее хода, а напротив, вера в то, что история вершится в бес-
прерывно меняющемся балансе сил и условий их действия.
Важной характеристикой генеалогии, особенно в ее толковании Фуко, выс-
тупает требование находить во всем прерывность действия исторических фак-
торов. Категории прерывности, дискретности придается приоритетное онто-
логическое значение. История, действующая генеалогически, говорит Фуко,
будет эффективной в той мере, «в какой она введет разрывность в само наше
бытие» 87. Разрывность в бытии не только ставит его единство под вопрос, но
оно прямо отрицает его, замещая множественностью сил и факторов. Катего-
риальные смыслы второго эшелона в онтологии платоновского типа (множе-
ственность, изменение, случайность, борьба, материальность) в генеалогичес-
кой установке ставятся в позицию ценностно первичных категорий (на место
единства, неизменности, необходимости, гармонии, идеальности). В том, что
мы знаем, и в том, что мы суть, говорит Фуко, излагая ницшеанскую генеало-
гию, с которой он солидаризируется, нет никакой истины и никакого бытия, но
лишь внешность случайного 88.
Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 84.
Foucault M. Nietzsche, la généalogie, l'histoire // Hommage à Jean Hyppolite. P., 1971. P. 145.
Фуко M. Воля к истине. M., 1996. С. 160.
Там же. С. 152.
Генеалогия культуры
631
Предпосылкой генеалогической установки в духе Ницше и Фуко выступает
пересмотр соотношения смысла и его отсутствия, переоценка их «баланса»
(баланса их сил). Для генеалогической онтологии «смысл» — это, как прави-
ло, «телеология», «идеализм», «платонизм» (по преимуществу), это «метафи-
зика» и «религия». Выражаясь языком такой онтологии, смысл — это своего
рода оборванный, укороченный в угоду нетерпеливому инстинкту господство-
вать, т. е. самоутверждаться, расти и расширять поле своего влияния, вариант
или результат силовой, динамической «проходки» человеком бытия, бессмыс-
ленного в самом себе или даже абсурдного. Действительно, в безостановочной
борьбе сил, когда решение о конфликте выносит не какая-то идея, закон, цель,
правило и т. п., а исключительно случайность схваток, трудно увидеть смысл.
В такой «оптике» отсутствие смысла это — случайности, неискоренимые нео-
жиданности и непредсказуемости, колеблющиеся возможности, угрозы утрат
и ошибок, заблуждения, забвения, т. е. тяжелая материальность мира в про-
тивовес смыслу как его, мира, легкой идеальности. На вкус генеалогической
онтологии, обращение к смыслам указывает на эту вполне понятную в услови-
ях борьбы сил страсть к облегченности в трактовке мира. Генеалогический
проект (в) истории и выражает учет этого нового баланса сил смысла и бес-
смыслицы.
Кроме этой серьезной трудности для смысла «быть в истории» генеалоги-
ческий проект предполагает динамическую природу самого «смысла» и «сим-
вола». Значения-в-себе не существует — хочет сказать Ницше и, быть может,
еще последовательнее Фуко. Осмысление — не более чем свидетельство о вре-
менном равновесии сил. Генеалогическая герменевтика отрицает традицион-
ную герменевтику с ее презумпцией «спрятанного» неизменного смысла —
единственно «верного», который надо восстановить, открыть, реконструиро-
вать. Осмыслять, понимать, толковать или интерпретировать в генеалогиче-
ском смысле — значит «силой или хитростью захватить систему правил, не
имеющую в себе сущностного значения, и навязать ей такое направление, ко-
торое служило бы новой воле, заставить ее войти в новую игру и переподчи-
нить ее другим правилам — и если так мыслить интерпретацию, то становле-
ние человечества это — ряд интерпретаций» — говорит Фуко, излагая и Ниц-
ше (в первую очередь), и свою собственную позицию 89.
Завершая эти поневоле краткие выводы, мы бы хотели подчеркнуть, что наша
задача в том, чтобы способствовать именно постановке проблемы генеалогии
культуры. Пожалуй, основу этой проблемы мы видим во взаимоотношениях
двух рядов: во-первых, ряда смыслов, значений, символов, с одной стороны, и
ряда импульсов бытия, воли, желания и власти — с другой. Задача философ-
Foucault М. Nietzsche, généalogie, l'histoire. P. 158.
632
Глава VII. Философия и культура
ского анализа самого генеалогического проекта по отношению к культуре нам
представляется в том, чтобы показать, как, с одной стороны, динамическая ком-
понента бытия означивает себя, а с другой — как, будучи означенной, она «про-
читывается» так, что сама теперь в свою очередь оказывает воздействие, про-
являет эффект доминации, возбуждает желание, провоцирует реакцию действо-
вать. Вот этот своего рода генеалогический круг и лежит, на наш взгляд, в основе
философской проблематики генеалогии как исторического метода. Несколько
банализируя сказанное, можно это выразить так: нужно «подглядеть», как «де-
лается» и как «работает» символ и как эти динамические «хлопоты» оказыва-
ются историей человека, его самораскрытием. Если именно эта проблема или
даже проблематика так или иначе уже пронизывает многие направления совре-
менной философии (постструктурализм, философскую герменевтику Рикера,
социальное теоретизирование П. Бурдье и т. д.), то, я полагаю, вклад в это ге-
неалогия уже внесла, по крайней мере, через Ницше и Фуко. Однако специаль-
ная сосредоточенность именно на генеалогии может, думается, добавить сюда
новые интересные ноты.
В заключение два методологических момента. Во-первых, генеалогия, как
она понималась и Ницше, и Фуко, не есть обычное причинное объяснение,
род детерминизма. Связи происхождения, анализом которых она занимается,
отличны от причинных связей и, более того, могли служить матрицей для
формирования самого понятия причинной связи. Действительно, в случае нор-
мальной причинной связи ликвидация причины означает и устранение след-
ствия: исправить протечку в водопроводе значит устранить повышенную влаж-
ность как ее прямое следствие. Но в случае «генеалогических» связей дело
обстоит иначе: ведь наши предки «устранены», а мы, их «следствие», пока
нет. Поэтому нет оснований (или пока нет, но этого «пока» нам вполне доста-
точно, чтобы отвергнуть истолкование генеалогии как причинно-объясняю-
щего метода) противопоставлять генеалогию методологиям, связанным с ана-
лизом корреляций и разного рода других связей непричинного типа. Напро-
тив, между нею и этими подходами, развившимися в русле структурализма и
его предыстории (использование понятий системы, поля и т. п.), существует
самая тесная связь (например, у Фуко и других постструктуралистов). Невер-
но, на наш взгляд, и полностью списывать генеалогию с «корабля» современ-
ной научной рациональности, аргументируя это тем, что якобы бум «проис-
хожденческой» тематики в историцистском XIX веке был вытеснен новой
научной парадигмой структуралистского типа. Лобовое суждение типа «про-
исхождение — миф, структура — реальность» здесь может только ввести в
заблуждение. Отметим мимоходом, что быть «мифом» и формой классиче-
ского научного детерминизма одновременно невозможно. Но именно и в том
и в другом иногда упрекают генеалогию ее критики. Генеалогия не заменяет
Генеалогия культуры
633
собой других подходов и методов историко-культурологического знания, а
входит в их состав, дополняя их.
И последнее. Помимо своей научной роли, которая все же вторична, она
значима прежде всего и как выражение активной культурной позиции. Ее функ-
ции не могут ограничиваться исключительно познавательными целями, так как
она дает средства для самоидентификации личностей, социальных групп и
целых культур. Генеалогия — вовсе не универсальная суперметодология, на
что претендовал, скажем, официальный марксизм. Нет. Но это одно из много-
численных интеллектуальных орудий человека в борьбе за его цели, в том чис-
ле и научные. При этом не надо забывать о том, что характерный для «снижаю-
щей» генеалогии редукционизм по отношению к высшим смыслам культуры
выводит ее за рамки науки, чего не подозревали ее творцы и их продолжатели.
ПОДОЗРЕНИЕ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ 1
В своих последних работах М. Б. Туровский обращается к понятию мен-
тальности с тем, чтобы показать, как культура во всем ее многообразии опо-
средует ту функцию человека как личности, которую мы привыкли называть
историей. Как известно, это понятие ввели в гуманитаристику историки шко-
лы «Анналов»2. Однако, как подчеркивал М. Б. Туровский, у «анналистов» цен-
ностная иерархизация генерирующих историю факторов отсутствовала. Им
важно было снять редукционизмы в трактовке истории и показать бесконеч-
ную многомерность человека как homo historicus, раскрыть историю как бес-
предельный универсум бытия в движении. В то же время это, видимо, невоз-
можно сделать на путях выделения абсолютно доминирующих детерминант
его активности — будь то в экономике или в витальной (физиологической)
сфере. В случае такой редукционистской программы возникает искушение
«оседлать» историю (и общество), придать ей «монологический» и «номотети-
ческий» характер. Возможным гарантом против этого и выступает понятие
ментальности, позволяющее без редукции соединять самые разные средства
описания человека, культуры и истории (сознание и бессознательное, индиви-
дуальное и коллективное, рациональное и эмоциональное и т. п.). Менталь-
ность и определяет поведение человека и сама определяется его творчеством.
В ней сконденсированы не только условия действий людей, но и их возможные
смыслы, к ним не сводимые, хотя с ними и связанные. Но в XIX в., когда проис-
ходит дисциплинарное оформление основных отраслей гуманитарного знания,
господствуют, напротив, редукционистские программы.
Действительно, XIX век гордится своими находками в самой «преиспод-
ней» бытия — кто ниже всех спустится туда в походе за объяснениями, тот и
1 Расширенный текст выступления на Первых чтениях, посвященных М. Б. Туровскому
(1922—1994) в Институте культурологии 27 января 1995 г.
2 См.: Визгин В. П. Ментальность, менталитет//Современная западная философия: Сло-
варь. М., 1991. С. 176—178.
Подозрение под подозрением
635
герой познания! Идет как бы соревнование: кто кого превзойдет смелостью
сведения высокого к низкому, доброго ко злому, божественного к сатанинско-
му. Разум сводят к инстинкту, духовное — к плотскому, человеческое — к жи-
вотному. Освещаемый слабеющим мерцанием христианских идеалов, XIX век
считает своим point d'honneur3 исследование самых скрытых глубин и низин
бытия. Действительно, этот век начался с открытия таких «объемных» реаль-
ностей, как жизнь (физиология вместо систематики, Кювье вместо Линнея),
язык (В. Гумбольдт) и труд, лежащий за поверхностью товарных обменов
(Маркс). Самые сильные мыслители века известны именно благодаря своим
выдающимся «глубинолазным» способностям — Маркс, Достоевский, Ниц-
ше, Фрейд (как ученый он сложился в XIX в.).
Эту особенность устремлений века можно обозначить как развитие техник
подозрения 4: зрения из-под полы, украдкой, чтобы застигнуть объект врасплох,
зрения снижающего, схватывающего исключительно низы и низины вещей и
выдающего их за их основания. Вырабатывается и совершенствуется методо-
логия снижающего взгляда. Так, например, у Ницше складывается генеалоги-
ческий метод, лучом подозрения выхватывающий ранее не замеченный исток
явления, сводя его к жизни и ее проявлениям — к инстинкту, физиологии, к
борьбе сил за власть и выживание. Установки с противоположным образом
направленной «оптикой» (не «снижающее», а «возвышающее» зрение) резко
критикуются и отвергаются как устаревшие, донаучные, иллюзорные. Прави-
ла интеллектуальной честности отождествляются при этом с кодексом разви-
вающегося подозрения. Маркс за идеологией подозревает порождающие ее
материальные экономические отношения, за словами и поведением людей
Фрейд подозревает силы либидо, наконец Ницше за разумом и моралью подо-
зревает игру воли к власти, жизненные инстинкты, в том числе их упадок. Ницше
считал, что из «низин» бытия бьющий источник того, что выступает в качестве
высших ценностей, скрывается в их функционировании в настоящее время —
точно так, как прячется компромат власть имущим чиновником. И поэтому ге-
неалогический метод должен быть направлен как на настоящее, маскирующее
исток анализируемого явления, так и на прошлое, в котором он должен быть
установлен, выявлен, назван своими словами. Физиологизирующая герменев-
тика слов здесь соединяется с определенного рода философскими интуиция-
ми, задающими направление поиска. Метафизической подосновой этого мето-
да выступает динамическое истолкование бытия и истории, понимание их как
3 Вопросом чести (фр.).
4 В этом рассуждении мы отталкиваемся от выражения П. Рикёра «школа подозрения»,
употребленного по отношению к трем великим мыслителям (Ницше, Маркс, Фрейд), опре-
делившим во многом философию (и практику) XX века.
636
Глава VIL Философия и культура
неумолимой борьбы сил, где ставкой выступает господство, представляемое
тоже динамически — как стремление к саморасширению, самовозрастанию,
росту. Этот силовой аспект онтологии истории характеризует, впрочем, не только
Ницше, но mutatis mutandis и Маркса, и, наконец, Фуко и других постструкту-
ралистов. Навязчивость установки на подозрение характерна для всех этих
мыслителей, хотя особенно ярко и откровенно обнаруживается она именно у
Ницше.
Установка на подозрение сама легко может оказаться под генеалогическим
подозрением: а не есть ли она сама результат ressentimentl Не является ли эпи-
стемологическая нацеленность на снижающее зрение обнаружением вытеснен-
ного унижения того, кто ее разделяет и применяет? Ведь подобного рода апри-
орное снижение Другого автоматически повышает (как бы повышает) в ранге
того, кто это делает. В результате создается обширное поле подозрительности,
превращающее смыслы и ценности в блики, иллюзии, оптические миражи.
Итак, мстящее снижение, адресованное сильным мира сего... Ну разве это
не похоже на те мотивы, которые могли толкать молодого Маркса к его «Ком-
мунистическому манифесту»? И еще один момент. Бедствующий теоретик,
живущий помощью своего состоятельного друга, Маркс унизил как только это
возможно сознание как таковое, сам не обладая при этом ничем другим, кроме
сознания. Сведя с пьедестала мысль как таковую, он сделал ставкой своей жиз-
ни именно мысль... Защищенный броней наукообразного дискурса, он не сде-
лал эти противоречия предметом свободной рефлексии, похоронив их под гран-
диозным в своей амбивалентности предприятием — в отличие от Ницше, кото-
рый с щедростью эстета раскрывал, не без игры в сокрытие, свои антиномии.
Генеалогический ключ к высшим ценностям, к сознанию и мышлению отшель-
ник из Сильс-Марии нашел прежде всего в ресентименте, в этом скрытом мо-
тиве деятельности, как он считал, униженных социальных групп, отстранен-
ных от господства, но стремящихся его вернуть. В этой связи вспоминается
характеристика великих мыслителей XIX века, данная Ясперсом: «Все трое
(Маркс, Ницше, Кьеркегор. —В. В.), каждый по-своему, были аутсайдерами,
отщепенцами в этом мире. Маркс — как эмигрант, безработный мыслитель-
любитель, живущий на содержании у приятеля, оторванный от всякой почвы
мелкий буржуа. А Кьеркегор и Ницше оба всем своим существом осознавали
себя как "исключение", стоящее особняком, оба ощущали как роковое несчас-
тие свое абсолютное одиночество».5
Структуру мысли в общем виде можно представить как сочетание ее вне-
шних условий (условий ее генезиса и воспроизводства) и ее внутреннего смысла
или содержания. Существуют социально-материальные очаги порождения
5 Ясперс К. Ницше и христианство. М., 1994. С. 108—109.
Подозрение под подозрением
637
мысли — подобие колб Дьюара, в которых химик хранит жидкий азот. Но эти
внешние условия позволяют светиться в их глубинах внутреннему смыслу,
предметному значению мысли. Зазор между этими двумя сторонами открыва-
ет поле возможных толкований мысли и саму возможность процесса в понима-
нии мышления (возможность философии). Вопрос, который здесь существен,
состоит в определении связи этих сторон. Например, сводится ли смысл к его
внешним условиям, или диспозициям, (прежде всего социально-материально-
го плана или психо-физиологического) или же нет? Подозревающая установка
состоит в том, чтобы такое сведение произвести. Эту тенденцию «школы подо-
зрения» можно обозначить как релятивизм, психологизм, историцизм, эконо-
мический материализм... Подозревающая установка имеет много своих вари-
антов. Ей противостоит установка, заявленная Гуссерлем, восстановившим в
своих правах в начале XX века, в эпоху «разгула» подозрения, платонистское
доверие к автономным смыслам, к сфере независимых от материальных усло-
вий и осуществлений мысли ее содержаний.
Метафизика подозрения как познавательной ориентации резюмируется
Ницше в таком суждении: «Мир, в котором мы живем, небожествен, немора-
лен, "бесчеловечен"»6. Из такой метафизики вытекает и соответствующая сни-
жающая объект рассмотрения герменевтика, ярким примером которой являет-
ся такая фраза: «Немецкое недовольство жизнью, — говорит философ, имея в
виду прежде всего шопенгауэровский пессимизм, — есть, в сущности, зимняя
хворь, с учетом спертого подвального воздуха и печного угара в немецких квар-
тирах» 7. Что это значит? А то, что никаких метафизических предметов, выдви-
гаемых философским пессимизмом в качестве бытийных, самосущих не суще-
ствует, что вся онтологема мировой воли и незаинтересованного представле-
ния как способа ее избежать в искусстве является только философской маской,
скрывающей плохой немецкий климат с его зимней сыростью, а также с невоз-
можностью его побороть на путях техники отопления, принятой в тогдашнем
немецком обществе. Философские смыслы оказываются при этом не просто
зависимыми от материально-социальных условий жизнедеятельности индиви-
дов, а попросту несуществующими, чистыми фантомами сознания, голыми
знаками природно-социального бытия, которое и принимается за единственно
сущее.
Что нам это напоминает? Ну конечно, знаменитые тексты Маркса и Энгель-
са. В «Немецкой идеологии» читаем: «Не сознание определяет жизнь, а жизнь
определяет сознание... при втором, соответствующем действительной жизни
(способе рассмотрения. —В. В.) исходят из самих действительных живых ин-
6 Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 667.
7 Там же. С. 596.
638
Глава VIL Философия и культура
дивидов и рассматривают сознание только как их сознание» 8. Этот закурсив-
ленный местоименный генетив означает, во-первых, что сознание принадле-
жит живым индивидам и само не есть самостоятельный индивид. И во-вторых,
то, что осознается сознанием, есть жизнедеятельность этих живых индивидов,
и другого содержания у сознания нет, что подтверждается фразой выше о со-
знании как осознании «реального процесса жизни» индивидов. Живые инди-
виды как условия и носители сознания выступают и как его содержание (смысл).
Здесь у Маркса, как и у Ницше, содержание мысли {или сознания) нацело све-
дено к ее {его) материальным условиям. Это сведение и означает, что у Маркса
подозрение выступает как основная познавательная установка.
Итак, если читать мир культуры, сознания и мысли снижающим или подо-
зревающим зрением Маркса или Ницше, то вместо религий, философий, мета-
физик, мира идей и смыслов мы получим характеристики физиологии, клима-
та, условий труда и жизни, общественных структур и способа производства.
Однако «несущие» мысль комплексы ее условий — условия возможности мыс-
легенеза, его очаги или ячейки, диспозиционные ниши и т. п. — отличны от
самой мысли как смысла (от предмета мысли, интенционально в ней заданно-
го, от ее содержания, независимого от того, реализована мысль в определен-
ных материальных условиях своего существования или же нет). Редукционизм
же «школы подозрения» редуцирует эту бинарную структуру мысли до одних
только ее условий, «стирая» ее смыслы и замещая их условиями их эмпириче-
ского существования.
Но XIX век знал и другую, уходящую в глубь истории традицию — тради-
цию надозрения, за низшим видящего высшее. Установка на подозрение как на
единственно верную познавательную ориентацию возникла, конечно, как ре-
акция на господство надозрительной диспозиции сознания, представленной в
религиозном мироистолковании, в провиденциализме. Ницше прямо говорит
об этой негативной зависимости подозрения от «морального истолкования»
мира: «Рассматривать природу, — говорит он, — как если бы она была доказа-
тельством Божьего блага и попечения, интерпретировать историю к чести бо-
жественного разума как вечное свидетельство нравственного миропорядка и
нравственных конечных целей... — со всем этим отныне покончено» 9. Надоз-
рительная установка сохраняется и в идеализме, который за точку отсчета бе-
рет не единичного «живого индивида», а дух, всеобщее, мировой разум, в свете
которого оценивается и постигается и сам индивид, получая от него санкции
на свое бытие и действие. Поэтому и Ницше, и Маркс, в равной мере реши-
тельно отказываясь от традиции надозрения, отвергают не только религиозное
8 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. М., 1955. С. 25.
9 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 523.
Подозрение под подозрением
639
сознание, но и идеализм. Все традиционные практики и техники надозрения
ими резко критикуются и отвергаются как донаучные, иллюзорные, препят-
ствующие свободе индивида, росту его земной мощи. Правила интеллектуаль-
ной честности отождествляются при этом с кодексом подозрения: за всеми фор-
мами сознания Маркс подозревает материальные экономические отношения, а
Ницше за разумом и моралью подозревает волю к власти, борьбу жизненных
инстинктов, в том числе их упадок.
Классической формулой логики надозрения являются слова Гете из финала
«Фауста»: «Все преходящее — символ, сравнение». Ницше в свойственной ему
манере радикальной иронии «переоценки всех ценностей» «переворачивает»
эту формулу: «Все преходящее, — говорит он, — только символ» («Так гово-
рил Заратустра». Ч. И. На блажен, островах) 10. В результате зазор, необходи-
мый для символа, исчезает и остается один лишь знак — телесность природно-
го человека. Этот знак означает лишь самого себя — пульсацию волевых толч-
ков, дрожь желания, выступающие как последняя реальность, глубже которой
ничего нет.
Но, на наш взгляд, мыслима и третья позиция или установка, которую мож-
но обозначить как прозрение в отличие от подозрения и надозрения. Итак, есть
подозреватели, есть надозрители, и есть прозрители. По слову А. Жида, самым
выдающимся проспектором (по-русски прозрителем) был Достоевский. Важ-
но подчеркнуть, что прозрение мы можем задать только через суперпозицию
двух его конституирующих векторов — подозрения и надозрения. Прозрение в
таком случае выступает как результирующая этих двух противоположным
образом ориентированных истолкований мира. Условием прозрительной спо-
собности является держание вместе этих установок, что открывает саму ее воз-
можность. Достоевский потому и является эталонным прозрителем, что соче-
тал обе эти установки. Действительно, как социалист-фурьерист и ниспровер-
гатель буржуазного мира он был явно настроен на волну подозрения — как
Маркс, как Ницше. Но как христианский мыслитель он сумел удержать уста-
новку на надозрение — за всем и во всем усматривать промысел Божий и ве-
рить в спасительную истину христианства — в качестве иерархически выс-
шей. Удерживая этот установочно-познавательный контраст в единстве своего
опыта личности и мысли, он и сумел подняться до высот прозрения.
Надо сказать, что Ницше знал все три основные эпистемологические пози-
ции. Будучи в юные годы прилежным протестантом и идеалистом-романти-
ком, он был воспитан в логике «надозрения». Ланге, Дарвин, Шопенгауэр на-
учили его ценить «подозрение». В этом же направлении действовали француз-
10 У Ницше есть и стихотворная пародия на финал «Фауста». См.: Микушевич В. Иро-
ния Фридриха Ницше // Логос. 1993. № 4. С. 202.
640
Глава VIL Философия и культура
ские моралисты и реалистический роман (Бальзак, Стендаль), а также позити-
визм XIX века. Но поздний Ницше рвался за пределы научного редукционизма
в поисках нового мифа. И такую мифологему, как вечное возвращение того же
самого, мы могли бы, казалось, рассматривать именно как «прозревающую»
по ее эпистемологическому статусу. Действительно, суть ее в том, что преходя-
щее и непреходящее отождествляются и тем самым как бы преодолевается сама
иерархия высокого и низкого, вечности и времени. Каждый миг обычного, зем-
ного, преходящего существования, переживаемый с предельной интенсивно-
стью и желанием быть пережитым снова и снова, становится как бы вечным.
Разрыв между временем и вечностью как вечным возвратом исчезает. За таким
мигом, в трансцендентном, нет никакой особой вечности как неизменного бы-
тия, в принцие отличного от земного существования. Однако на самом деле в
этой мифологеме торжествует полная редукция вечного ко временному. Дей-
ствительно, ведь вечность в ней истолкована лишь как повторение преходяще-
го мига.
Прозревающая готовность, или установка, равносильна способности к не-
потаенности, к открытости, к тому, чтобы резервировать место для полагания
осмысляющего основания. Акты прозрения выступают как аутентичные акты
познания, и поэтому можно говорить о подозревающих прозрениях (они были и
у Маркса, и у Ницше), о надозревающих прозрениях (в них не откажешь Кьер-
кегору или Достоевскому). Именно здесь мы подходим к самой важной, на наш
взгляд, проблеме — проблеме открытости разума, способного впустить в гори-
зонт допускаемого им свое другое. Откуда бы ни шли импульсы, определяю-
щие действия людей (от «пустого желудка», обусловленного базисом обще-
ства, или от пламенеющего верой духа), они в любом случае проходят через
подвижную призму культуры. «Наиболее существенным в человеческих взаи-
моотношениях, — справедливо, на наш взгляд, говорит А. Тойнби, — является
не Раса или Язык, а секулярная и религиозная культура» п. Удерживать целос-
тность мысли значит удерживать вместе противоположности, в том числе про-
тивоположности подозрения и надозрения или доверия, сохраняя при этом их
ценностную иерархию. Но как же это нелегко соединять в одно целое простую
доверительность и недоверчивое подозрение! Но без этого нет шансов на не-
потаенность, на прозрение, на спасительный инсайт в период мировой смуты.
Только удерживание в опыте мысли таких противоположностей распахивает
пространство возможных (и нужных) смыслов. Культура, собирающая и хра-
нящая эти смыслы, в наше время выступает как некий итог блужданий челове-
ка на путях радикального подозрения. В результате краха как марксовой соци-
олатрии, так и ницшевской витомании мы понимаем, что сфера действительно
11 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. 636.
Подозрение под подозрением
641
устойчивого смысла превосходит как социальность, так и витальность, как
общество, так и жизнь. Тем самым высвобождается автономное поле культу-
ры, разума, смысла.
Какой же эпистемологический урок мы могли бы извлечь из «подозреваю-
щей генеалогии» Ницше? Не тот ли, что мысль следует рассматривать как це-
лое, т. е. брать ее не только с «верхним» этажом ее смысла, но и со всей истори-
ей ее материальных условий, с ее культурным, социальным, психологическим
и физиологическим контекстом («нижний этаж»)? Пытаться мыслить нужно
все целое, но отдавая отчет в ценностной иерархии «этажей». Только в этом
случае можно надеяться, что и отвлеченная, тематически односторонняя мысль
(мысль в узком смысле слова) может быть понята. Урок Ницше для эпистемо-
логии оказывается не в том, что редукционизм (сведение высшего к низшему)
безупречен и ему нечего противопоставить, а в том, что верен целостный взгляд
на мышление и что мысль следует не только «сводить», но и «возводить» ради
того, чтобы понимать. Целое же неизреченно присутствует в самом мыслящем
и отблеском ложится на его мысль, придавая ей напряженность символа.
41-3357
КУЛЬТУРА СЕГОДНЯ: СИТУАЦИЯ РАСПУТЬЯ
М. Б. Туровский, особенно в последних своих работах, много размышлял
над связью культуры и истории. В частности, он писал о том, что интенция
развития порядка непроизвольна, что исторические акты содержат избыточ-
ность в смысле их выхода за пределы «ожидаемых результатов преемственно-
сти» 1. И эти моменты он прояснял с помощью понятия нелинейности, извест-
ного в точных науках. Вот на один аспект подобной нелинейности мы бы хоте-
ли обратить внимание.
Наш язык описания (и понимания) культурных процессов нередко отстает
от самого предмета, который действительно нелинеен, т. е. обладает самоак-
тивностью, избыточностью, даже «саморефлексией», о чем М. Б. Туровский
много писал. Культура есть нелинейная функция, производная от которой тоже
есть нелинейная функция... В математике, как известно, производная экспо-
ненты есть экспонента. И это — образцовая нелинейная функция. Например,
мы говорим привычно о традиции, а надо иметь в виду, что эта функция уже
продифференцирована, может быть, неоднократно, продолжая оставаться, од-
нако, функцией, т. е. некоторым изменчивым действием, а не константой. Ко-
нечно, это только аналогия, и прав был Тойнби, когда при всей заманчивости
естественнонаучных и математических метафор в истории переходил после их
блестящего развития к тому, что он называл человеческим языком о делах че-
ловека 2, что, собственно, и есть и история, и культура в их связи.
Если с XIII—XIV вв. по конец XVIII в. (от номиналистов до романтиков)
речь шла о традиции и попытках выхода из нее (осознаваемых или нет), при-
чем в мире словесно представленной культуры сама традиция функционирова-
ла как сложившаяся еще в античности (и достроенная с приходом в мир хрис-
тианства) мифориторическая структура 3, с заданным устойчивым референт-
1 Туровский M. Б. Философские основания культурологии. М., 1997. С. 421.
2 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1996. С. 48.
3 Это понятие было разработано применительно к истории словесности и искусства
Культура сегодня: ситуация распутья
643
ным языком, то в XIX и тем более в XX в. речь идет уже об игре их производ-
ных или о производных традициях, а именно о соударении традиции возврата
к традиции, с одной стороны, и традиции выхода из традиции — с другой.
Иными словами, растущая культура как бы наслаивается на свои оппозиции и
культурогенные жесты. Рассмотрим эту ситуацию чуть подробнее. Начнем со
второй указанной выше производной традиции.
На наш взгляд, к концу XX в. традиция выхода из традиции исчерпывает
свой культурогенный ресурс. Остаток этого ресурса, дающий смысл традиции
выхода из традиции, обнаруживается лишь как формальный мондиализирую-
щий фактор, значимый, в конце концов, потому, что сама эта мондиализация
выстраивается как подчеркнуто поверхностное, технокоммерческое интегри-
рование наличного мира культур в единую цивилизационную сеть. Однако куль-
турные смыслы этого процесса, взятого с его скрывающейся в тени глубиной,
лежат вне традиции выхода из традиции. Именно поэтому мы и говорим об
исчерпанности ее культурогенного ресурса. Свободная циркуляция капитала,
людей и товаров, ослабление госпротекционизма в мировой торговле, дивер-
сификация продуктов потребления одновременно с их унификацией вряд ли
могут рассматриваться как цели-в-себе, как самоценности культуры. Начиная
с Возрождения цели и смыслы были проброшены дальше традиции, по край-
ней мере, так это казалось самим пробросчикам и тем, кто воспринял их при-
зыв. И так примерно и шло вплоть до наших дней, когда вдруг, говоря словами
Ал. В. Михайлова, обнаружилось, что «никакого передового искусства уже быть
не может, потому что нельзя быть передовее пустоты, которая вдруг обнаружи-
лась. Как цель» 4. Сменился как бы метакультурный режим, определяющий
поведение в культуре в пределах всемирной истории. Еще в XX веке существо-
вал старый режим, задающий направление на «передовое» в искусстве и куль-
туре в целом. Уход от традиции концептуализировался и легитимизировался в
свете проброшенных «вперед» традиции целей и смыслов, направление «же-
лательного» культурного движения тем самым задавалось (здесь уместно вспом-
нить французское слово sens, означающее сразу и направление, и смысл), пусть
школы и течения разнились в его представлении. Культурная критика и сред-
ства массовой информации, пусть неизбежно огрубляя работу интеллектуаль-
ного авангарда, но доносили эти перспективы до потребителей культурного
производства. Согласно таким перспективам (а они приобретали силу «пред-
рассудка»), Шнитке был безусловно «передовее» Хренникова, а Фуко — «пе-
Ал. В. Михайловым в его книге «Языки культуры» (М., 1997). Концепция риторики как
универсалии культуры была развита С. С. Аверинцевым в книге «Риторика и истоки евро-
пейской литературной традиции» (М., 1996).
4 Михайлов Ал. В. Указ. соч. С. 864.
41*
644
Глава VII. Философия и культура
редовее» Башляра. Но в последние десятилетия века ситуация стала меняться,
иерархия спутываться, стало ощущаться дыхание постмодерна и, наконец, все
эти перспективы, задающие «передовизм», как бы смазались, в результате чего
резко, как будто бы скачком изменилась сама топология пространства культу-
ры так, что центр аттракции стал обнаруживаться в каждой его точке, а не в
квазилинейной перспективе, заданной еще первопробросчиками «новых» иде-
алов (проектировщиками проекта модерна — так их можно назвать) и наце-
ленной на желанное будущее, достигаемое или приближаемое именно уходом
от традиции.
Возникшую ситуацию можно по праву обозначить как кризис традиции ухода
от традиции. Действительно, на давно проторенном пути «передовизма» до-
стигнута пустота столь густой «махровости», что дальше ее сгущать, идя по
пути авангардизма—модернизма—футуризма, уже не имеет смысла: ведь ночь
«ночнее» не будет оттого, что мы гасим уже и так потушенные огни. Нули в
сложении с нулями могут дать все равно только тот же самый, уже достигну-
тый нуль. На уровне складывающегося нового метакультурного режима ситуа-
ция такова, что вся всемирная история и вся всемирная культура подтянулись
«под бок» к человеку сегодня: все может идти и идет в ход осмысления и твор-
чества, и никаких предзаданных критериев выбора уже нет (X передовее Y).
Этот кризис традиции ухода от традиции, хотя и ясен теоретически, однако,
эмпирически он далеко еще не всеми осознан, чему способствуют и специаль-
но изготовляемые и широко тиражируемые «экраны», затеняющие само собы-
тие кризиса.
Теперь посмотрим на другого «игрока» на современном культурном поле —
на традицию возврата к традиции. Эта традиция прослеживается с тех пор, как
появляется сам жест разрыва с традицией и ухода от нее. Один только пример.
Ренессанс и Реформация были кричащим разрывом с традицией. Ответом на
этот разрыв было движение возврата к традиции, воплощенное в Контррефор-
мации. Созданная в Риме св. Филиппом Нери конгрегация ораторианцев (1564)
была переброшена на французскую почву усилиями кардинала Берюлля (1611).
Ораторианцы хотели спасти католицизм и традицию, модернизируя в извест-
ных границах его доктрину и стратегию, условно говоря, адаптируясь к науч-
ному движению, принявшему в это время характер необратимой научной рево-
люции. И неслучайно, что, услышав выступление Декарта после лекции Шанду
в резиденции папского нунция в Париже ( 1627), кардинал Берюлль настоятельно
попросил его привести в систему его взгляды на новую философию и научный
метод и непременно издать такой труд. И именно этот импульс сочетать в яс-
ном синтезе традицию и новую науку привел к тому, что в 1637 г. появилось
знаменитое «Рассуждение о методе» с научными приложениями, в которых были
продемонстрированы возможности нового метода для прогресса в науках.
Культура сегодня: ситуация распутья
645
В XVII в. во Франции возврат к традиции был не столько возвратом (так как
возврат предполагает полный и окончательный разрыв, чего тогда все-таки не
было), сколько попыткой творческого неухода от традиции. Но вот уже по
поводу романтиков в конце XVIII и в начале XIX в., выступивших на истори-
ческую сцену после Просвещения, явно можно с полным на то правом гово-
рить именно о возврате к традиции. Как пишет Ал. В. Михайлов, «легче на-
звать художников, которые во время своего пребывания в Риме не пожелали
или не успели перейти в католицизм» 5, чем назвать тех, кто это сделал. Рели-
гия романтиков немыслима без просвещенского атеизма, который они хоронят
внутри себя и тем самым действительно возвращаются к традиции. Это — внут-
ренняя духовная драма именно возврата к традиции, который уже сам служит
началом традиции возврата к традиции. Существенно то, что здесь реализуется
не «механическое» присоединение к готовой традиции, а происходит именно
новый культурный синтез, в котором, однако, пусть и нарушенная, порванная
традиция играет свою роль. Можно сказать, что в творческих судьбах романти-
ков мы сталкиваемся с новой жизнью традиции в условиях просветительского
разрыва с нею. И примерно именно так можно себе представить грядущую
эпоху, следующую за постмодерном. Но лишь в том случае, если распутье бу-
дет пройдено и традиция возврата к традиции, в конце концов, не размоется
традицией разрыва с ней, т. е. если все-таки «мертвый» не схватит и не остано-
вит живого. Действительно, в рамках традиции возврата к традиции в наше
время речь идет не столько об «охране» традиции, сколько о творческом и сво-
бодном ее восстановлении, ибо разрыв с нею с эпохи Просвещения только уг-
лублялся (долгосрочное «стирание» традиции в памяти).
Перелом традиции, выступающей в формах мифориторической структуры
как «культуры готового слова» 6, на рубеже XVIII—XIX вв. был переходом от
мира классического порядка, натуралистического и спокойно рационалисти-
ческого, к радикальной историзации культуры и человека. История и единич-
ный субъект (вспомним «Единственного» М. Штирнера) — вот фокус, вокруг
которого группируется культурное производство. Мифориторическая структу-
ра культурного сознания отслаивается от индивида, будучи еще совсем недав-
но безусловным референтным языком его мысли. На смену ей приходит исто-
рия настоящего, а мифология греко-латинско-христианская уступает место
мифологии труда и «человеческой комедии» (Маркс, Бальзак и не только они).
Это был переход к человеку-в-истории, к истории человека и даже не столько к
его культурному, сколько социальному антропогенезу. Но это «всплытие» че-
ловека в центр культурных и познавательных интенций быстро сменяется у
5 Там же. С. 661.
6 Там же. С. 512.
646
Глава VIL Философия и культура
Ницше новой эпистемологической и культурной ситуацией, когда человек как
бы размывается песком событий, среди которых важнейшим осознается «убий-
ство Бога» и ренессансным, и вольтеровским, и фейербаховским человеком.
Со смертью Бога умирает и человек — как смысл и цель всех практик и позна-
ний. А с ним умирают и ценности сциентистско-антропологического мифа,
подпиравшего проект модерна (в отличие от времени Декарта в этот проект
примерно с середины XIX в. активно включились гуманитарные и социальные
науки).
Последний момент. Если на рубеже XVIII—XIX вв. речь шла о разрыве с
традицией и об уходе из культурного пространства мифориторической струк-
туры, то в наше время жест традиции возврата к традиции ни в коем случае не
означает реактивации такой структуры (на поверхностном уровне в эклектике
постмодерна это, конечно, происходит). Восстановить эту структуру в том виде,
в каком она работала, вряд ли возможно, да и вряд ли нужно. Поэтому, скорее,
будут создаваться новые структуры, причем эксплицитного универсального
языка, возможно, и не будет. Но имплицитное единство апофатически живу-
щих смыслов будет, и именно на его уровне, вероятно, произойдет восстано-
вление традиции в актах творчества.
Процесс, идущий от номиналистов через смуту Возрождения и трагедию
Реформации, был, в конце концов, консолидирован, и смута прекращена тогда,
когда был найден работающий общий проект — проект научно-технического
покорения природы ради счастья на Земле всего человечества. Именно эти сти-
мулы и определения воли, развившиеся, быть может, не столько на почве тра-
диционного христианства, сколько за его рамками (в традициях неоплатониз-
ма и герметизма), удалось все-таки совместить с христианской традицией и
создать проект нового времени (Р. Декарт и др.). Этот проект, у которого его
христианский стержень был весьма быстро удален, и есть столь активно об-
суждаемый сегодня проект модерна. Технически и гуманитарно он не исчер-
пан, но духовно уже потерял свою притягательность и безусловность. В прин-
ципе, как нам представляется, сейчас нужны культурные стратегии того же
типа, что были у ораторианцев, но с обращенной пропорцией компонентов син-
теза, которые бы ответили на один вопрос: как вернуть традиционные иерар-
хии ценностей при условии сохранения ценности науки?
«ИНВАРИАНТЫ» КУЛЬТУРЫ
Кавычки поставлены потому, что «инвариант» — это понятие математики и
математической физики. В этой области оно имеет четкое значение. Например,
в классической механике инвариантен интервал, задающий расстояние между
точками евклидова пространства (он не зависит от выбора координатной сис-
темы). Не будем говорить о теории инвариантов в математике и физике. Ясно,
что по отношению к культуре это выражение не более чем метафора. Отсюда
и кавычки. Отсюда и эссеистское раскрытие этой темы. Тем не менее визуаль-
но-геометрических и даже отчасти физико-математических элементов модели
инвариантов культуры нам не избежать. Вот какую модель мы хотим предло-
жить в связи с этим.
Культура — это, как говорят философы определенной школы, субъектный
аспект истории, или, попросту говоря, человек. И вот культура-человек есть
еще и культура-зеркало. Человек смотрится в зеркало идеалов, норм, ценно-
стей и поправляет себя. Выправляет те изменения, те модусы и акциденции,
которые этим нормам и ценностям не соответствуют. Ориентируясь на зеркало
культуры, человек движется в истории и в самой культуре. Ценности, идеалы
человека должны быть устойчивыми, как устойчиво, неизменно зеркало, если
оно выполняет эту функцию — быть средством отражения того, кто и что на-
ходится перед ним. Переменчив тот, кто глядит в зеркало, которое по определе-
нию должно быть совершенно исключенным из изменения, т. е. быть инвари-
антом. Зеркало в нашей начавшей разворачиваться метафоре, или модели —
это как раз и есть трансцендентальные всеобщие ценности истины, добра и
красоты, дающие возможность развернуться миру особенных норм и форм-
образцов. Но за этой неподвижностью трансценденталей —так можно назвать
эти ценности, отождествляемые нами с самой субстанцией зеркала, — стоит
еще источник ее — трансцендентный абсолютный центр, некий, по оптиче-
ской метафоре, зазеркальный фокус или даже свет, в пространстве которого и
свойствами которого делается возможной вся эта модель-метафора.
648
Глава VIL Философия и культура
Если ценностные трансценденталии — инварианты культуры, то инвариан-
том самих инвариантов, последней гарантией самой их инвариантности сами
они быть не могут. Ею и является трансцендентный центр. Дело можно пред-
ставить так. Эта модель — с «автоморфизмом», она сама себя повторяет, транс-
лирует себя на новый свой уровень. Сами ценности — или трансценденталии
идеалов — не только «зеркало», но и как бы «человек», в него смотрящийся:
ведь они сами должны выстраиваться по какому-то «идеальному образцу», т. е.
иметь свое сверхзеркало.
Система «культура — человек» не может быть замкнутой. Парадоксально,
но самополагание требует инополагания, трансценденталия требует трансцен-
дентного, культура немыслима в последнем анализе без сверхкультуры, а чело-
век — без «сверхчеловека» (не в ницшевском смысле, но и не совсем без него).
Конечно, трансцендентное может по-разному пониматься — натуралистиче-
ски или сверхнатуралистически. И внутри этой дихотомии есть множество стра-
тегий его прочтения. Но важно, что выход за пределы указанной системы необ-
ходим для того, чтобы можно было говорить о ее полноте и о самодвижении
внутри нее.
Поэтому, говоря кратко, в последнем счете действительно полным и даже
абсолютным инвариантом культуры является указанный трансцендентный
центр. Человек, смотрясь в зеркало культуры, может стремиться к нему, в свое
«Зазеркалье», может, напротив, отталкиваться и «разоблачать» саму его транс-
цендентность, считать его не более чем своим собственным «блуждающим»
изображением, он может бесчисленными способами и связями соотноситься с
ним. И вся эта многообразная ткань отношений, собственно, и есть культу-
ра — и как «зеркало»-инвариант, и как вариативные элементы, которые поправ-
ляются, корректируются перед лицом зеркала.
Один важный момент в связи со всем уже сказанным. Культура, как это мы
видим из нашего рассуждения, есть сама свой инвариант, она инвариантна от-
носительно себя как движения в самой себе. Иными словами, культура — фе-
номен, ей присущ характер невыводимости из чего-то другого. Она сама себя
объясняет, как, скажем, это делает язык. Поэтому культура и язык предельно
близки. Можно даже сказать, что природа языка и природа культуры одна и та
же. Феномены же — сами себе инварианты. Варьируясь, они одновременно
инварьируют, т. е. сохраняются, т. е. выявляют себя как инварианты относи-
тельно самих себя как вариабельностей.
И здесь я опять повторю уже сказанное. Быть феноменом, быть способным
к самополаганию и самодвижению через себя можно лишь при условии неко-
торой трансгарантии. Непостижимость трансгарантии не означает, что она не
может входить в зону рациональных, разумных объяснений. Здесь я восполь-
зуюсь различением Лейбница между пониманием и объяснением. Он говорил,
«Инварианты» культуры
649
что абсолют и его тайны и таинства непонятны и непостижимы (в том смысле,
что для нас понятно то, что мы можем представить как механизм и поставить
тем самым под свой контроль). Но абсолют, лейбницевский в данном случае,
вполне рационально может обговариваться, он вполне рационально объясним.
Например, можно, по Лейбницу, логически доказывать его существование и
его основные свойства. Но тайны его понять нельзя все равно. Это ситуация,
скажем так, полу прозрачности для разума, которым мы владеем. Лучами «ес-
тественного света» разума мы можем освещать инвариант инвариантов культу-
ры, но овладеть им, поставив его бесконечное могущество нам на службу, мы
не можем. Тайна его высвечивается не лучами естественного света, а лучами
света откровения. Так считал Лейбниц. И его позиция нам кажется в данном
контексте релевантной нашей цели — обозначить саму топологию инвариан-
тов культуры.
ДВУЕДИНЫЙ ОБРАЗ ФИЛОСОФИИ !
Образ философии раздваивается. Прежде всего я бы выделил философию
как философскую жизнь — и так она и понималась в античности. Затем —
теоретический срез этой жизни, или категориальную структуру, продолжаю-
щуюся и в науке. Эти две стороны философии не всегда живут мирно. Если мы
абстрагируемся от целостного образа философии, мы превращаем ее в квази-
науку и ее лишаемся. Философия движется между предметным миром мысля-
щего и идентификацией живущего. Идентификация субъекта возникает тогда,
когда возникает идентификация предмета. Предмет должен удерживаться, и на
фоне этого удерживающегося предмета мысли возникает основание для всеоб-
щности мыслящего субъекта. Сам феномен всеобщности в ее объективной про-
екции подобен науке по определению. Мы сообщаемся, например, по поводу
законов Ньютона. Но если мы абстрагируемся от другой стороны философии,
от философии как искусства существования, мы убиваем философию, и ды-
шать уже нечем — мы делаемся пленниками объективированного мира. В этом
и состоит причина восстания экзистенциальной философии против научной
философии, которое произошло, например, в философии жизни. Интересно,
что феномен культуры возникает, видимо, одновременно с феноменом науки.
Когда происходит отчленение метафизико-объективистских теоретических
представлений философии, связанных с возникновением новой европейской
науки, жизненный мир вытесняется за горизонт мысли. И чтобы эти объекты
научного мира сформировать, представить, нужно было удалить жизненные
связи из их представления. Но эти связи в их рациональном порядке и есть
культура. Тогда и возникает отношение к культуре как к объекту. По крайней
мере, такое отношение делается возможным. A de facto науки о культуре воз-
никают позднее.
Выступление на круглом столе «Структура исследований культуры» 26 января 1999 г.
в Институте человека РАН.
Двуединый образ философии
651
У Платона философия как образ жизни, как существование, с одной сторо-
ны, и философия как оформление этого образа в категориальных представле-
ниях — с другой, гармонично сочетались. А у Аристотеля уже делается акцент
на категориальную сторону философии, и философия как образ жизни у него
отходит на задний план. То, что в эпоху Платона было в единстве, в эллинисти-
ческую эпоху распадается на эти две составляющие — на теоретический фи-
лософский дискурс (все больше погружающийся в комментаторство, в школь-
ную, т. е. схоластическую, рационализацию традиции) и на практическое фи-
лософствование (философия как искусство существования, как правильная
жизнь). С возникновением христианской культуры вторая составляющая пере-
ходит в анабиоз: функцию «духовных упражнений» берут на себя религиозные
практики. Напротив, первая составляющая философии (теоретический дискурс
о сущем) получает гипертрофированное развитие, что приводит к тому, что эта
составляющая начинает восприниматься как вся философия, как философия
par exellence. И только отдельные мощные вспышки экзистенциально-персо-
налистичсского духа указывают на изначальный образ целостной философии
(Паскаль, Кьеркегор, Ницше...). Хайдеггер обозначил эту традицию объекти-
вистского теоретизма как «метафизику» и как «судьбу Запада». Ее основу об-
разует рациональная катафатическая онтотеология.
Личность не укладывается в это объективистское представление. Это важ-
но, поскольку в прослушанном нами докладе культура была определена как
«личностный аспект истории». Мне кажется, что сама эта формулировка не
вполне корректна, поскольку личность, как и первая сущность Аристотеля, не
может, в моем понимании, быть предикатом (личность не равна личностно-
сти). Личность есть то, что не объективируемо в предикате. Это же не атрибут,
не абстрактное свойство, которое объективистски на сущность «ложится» и из
нее же может извлекаться и описываться. Она остается за кадром представля-
ющего сознания... Ее нельзя вывести на его экран. Она «размещается» как бы
в затылочной области, за «фонарем» ratio и недоступна рациональному про-
ецированию.
Личность и субъект — вещи совершенно разные, разных рядов. Субъект
связан с научным рациональным познанием (объекта), а личность — трансна-
учная «сущность», для которой научное познание — дальний родственник,
«седьмая вода на киселе».
Одно замечание по другой теме в связи с прозвучавшим высказыванием о
том, что я придерживаюсь, мол, герметического «ключа» к секрету рождения
новоевропейской науки, а П. П. Гайденко — христианского. На самом деле
противоречия между мной и П. П. Гайденко в понимании соотношения герме-
тических и христианских истоков науки нового времени в принципе нет. Хри-
652
Глава VIL Философия и культура
стианский импульс также сыграл огромную роль в генезисе науки XVII в. Я
писал об этом в той же работе, где писал о герметизме. Между ними существу-
ет своеобразное «разделение труда», и исторически одно связано с другим. Но
я никогда не говорил, что новоевропейская наука родилась только от Гермеса.
Благодаря культу Гермеса и неоплатонизму были раскачаны основы схоласти-
ки. Максимум увлечения Гермесом приходится на вторую половину XV в. Но
ведь из этого герметического бума наука прямо не возникла и возникнуть не
могла. Возникает брожение умов и душ — гностическое, неоплатоническое,
мистическое, эзотерическое. Все это — в рамках постсредневековой ренессанс-
ной ментальности. А вот когда хлынула волна Контрреформации, то пролился
своего рода «холодный душ» на герметические фантазии. Главными героями
этой новой эпохи были уже другие люди — типа М. Мерсенна или Р. Бойля.
Они показали, что к новому научному менталитету больше подходит традици-
онное (Мерсенн) христианство, или христианство реформированное (Бойль),
чем герметическая магия и неоплатоновский мистицизм. Интересы новой рож-
дающейся науки тогда во многом совпали с интересами религии и теологии.
Последовал ряд характерных публичных полемик (Кеплера с Флуддом, Мер-
сенна с Флуддом и со всей ренессансной герметической и натурфилософской
традицией). После них демаркация наука/ненаука становится уже институцио-
нальным фактом. И побежденный герметизм, теряя научную легитимность,
уходит в «андерграунд» как особый феномен культуры.
Как в точности родилась наука, никто не знает, и я думаю, может быть ни-
когда и не узнает. Секрет, так сказать, утоплен. Но односторонней трактовки ее
генезиса я не придерживаюсь. Иногда говорят, что N. N. нападает на науку, и
это надо воспринимать как его безусловное порицание («обскурант»). Но мо-
жет быть ему не совсем по душе ее жесткая сциентистская интерпретация или
перенос науки в мировоззренческую плоскость. Это ведь разные вещи: делать
из науки «научное мировоззрение» — это одно, а уважать и культивировать
науку — совершенно другое. Это две разные установки. Наука — почтенная и
нужная вещь. Она является признанным интерсубъективным центром для на-
ших разговоров. Но делать ее единственной легитимной системой отсчета для
мировоззрения — это другое дело.
ПРОБЛЕМА ДРУГОГО
И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
Первая мировая война и потрясения, ею вызванные, создали духовную си-
туацию кризиса, когда европейское сознание просто вынуждено было пере-
смотреть трансцендентальную установку и связанный с нею классический ра-
ционализм и неокантианство, в частности, как философскую базу культуры.
Это и вызвало возникновение различных вариантов философии жизни и экзи-
стенциального философствования, в рамках которого и развивалась по пре-
имуществу диалогическая установка и идея коммуникации (М. Бубер, Г. Мар-
сель, М. Бахтин, К. Ясперс и др.). Единство европейского культурного мира
теперь невозможно было помыслить вне обращения к идее изначальной связи
«Я» и «Ты» как метафоры его нередуцируемого внутреннего разнообразия (ус-
ловно: Франция — «Ты», Германия — «Я» и т. п.). Абстракции, задающие
единство классического разума, должны были потесниться, с тем чтобы дать
место реальному плюрализму жизненных и культурных форм Европы.
Проблема Другого, или Иного, ставится в двух плоскостях. Во-первых, Иное
мыслится как иная культура или иной разум по отношению к данному разуму и
данной культуре (например, европейской). Во-вторых, Иное осознается как иное
самого разума — как чувственность или жизнь. У Л. Клагеса, например, была
разработана оппозиция духа (рациональное начало) и души (эквивалент «жиз-
ни»). Если в рамках трансцендентальной установки вводится всепроникаю-
щее гомогенное рациональное пространство самосознания, то здесь мы имеем
выход за ее пределы — между разумом и чувствами нет однородности. Эта
проблематика развивалась у романтиков, а также у Гердера и Гёте. А. П. Огур-
цов в конце своего выступления поставил проблему обретения современным
человеком такой самоидентификации, которая бы установила его связь со все-
ми людьми независимо от этносоциальной принадлежности 2. И надо сказать,
Выступление на круглом столе в Институте культурологии РАН (2000 г.).
2 Огурцов А. П. Критика культурного трансцендентализма // Постижение культуры: Еже-
годник. Вып. 11. М., 2002. С. 126—131.
654
Глава VIL Философия и культура
что основы такой самоидентификации разрабатывались в традиции немецкого
неогуманизма, которую в философии в XX в. воспроизвел Э. Кассирер.
Теперь мне хотелось бы сказать о другом. Я не вижу плодотворного «пере-
сечения» тематики М. Фуко с тем, что делает Н. Т. Попова 3, поскольку ее ра-
бота ставит проблему личности, самодеятельности, самоопределения, т. е. куль-
туры и человека как личностного ее субъекта. У Фуко же (за исключением его
поздних работ) речь идет не столько о культуре (хотя иногда его так интерпре-
тируют), сколько о становлении и развитии современной западной цивилиза-
ции. Он — «археолог» или «генеалогист» западной цивилизации начиная с
XVI— XVII вв. Его интересуют механизмы объективации субъекта, развивае-
мые в ответ на социальные вызовы (рост народонаселения, экономические про-
блемы и т. п.). Если условно допустить наличие у него «метафизики», то надо
будет сказать, что Фуко негативно относится к европейской рациональности,
развивающейся вместе с европейской цивилизацией, которая «приручает» же-
лающего индивида. Культурное измерение у него оттеснено в глубины «язы-
ка», в бессознательное, в сферу «желания». А механизмы власти-знания функ-
ционируют как формы подчинения индивида, и поэтому они осознаны как его
«негативное», как то, что он должен преодолевать, чтобы достичь своей под-
линности. Но если у К. Маркса была разработана стратегия снятия отчужде-
ния человека в пределах однородного, «прозрачного» для разума гомогенного
пространства мысли и действия, то у Фуко ее нет. Фуко выступает парадок-
сальным образом кгк рационалист-ницшеанец. Поэтому у него по отношению
к «микровласти» возможны лишь «микросопротивления» безо всякой рацио-
нальной универсальной стратегии борьбы.
Мир (девиантного) желания — видимо, единственный мир, по Фуко, в ко-
тором человек может что-то свое сказать, достичь своей «самости». Понятно,
что в такой ситуации еще острее встает проблема общего мира, «прозрачного»
для различных умов и культур. Поэтому оправданна тенденция к неогуманиз-
му. В противном случае ситуация грозит утратой общечеловеческого «культур-
ного неба», в которое могут всматриваться все. Конечно, в неогуманизме это
«небо» во многом остается европоцентристским. Тем не менее важна интен-
ция на рациональность и общезначимость культурных смыслов. Кстати, мерой
культурной формы у Э. Кассирера оказывается общение. Правда, ни одна из
культурных форм, ни одна из культурных функций не способна выразить чело-
века в его целостности, в его человечности. Это может осуществить лишь вся
архитектоника культурных форм.
3 Руководитель регионального социально-творческого центра реабилитации «Круг». См.:
Попова И. Т. Культурологические аспекты развивающей педагогики // Постижение культу-
ры. Вып. U.C. 96—108.
Проблема Другого и философия культуры
655
Другая тема, связанная с проблемой Иного, в частности с вопросом о том,
имеем ли мы в виду конструирование Другого или его открытие, на мой взгляд,
есть тема не столько открытия/конструирования Другого, сколько открытия/
конструирования себя самого как саморазмыкания, нацеленного на Другое, для
того, чтобы Другое стало возможным в событии встречи. Без открытия (и его
держания) себя для Другого никакое подлинное общение «Я» и «Ты» невоз-
можно. В определенном смысле это двуединый процесс (открытие Другого и
открытие себя для Другого). Другое может интерпретироваться как граница
для «самости». Декарт за радикальным сомнением находил Другое как Бога,
выступавшего последним гарантом достоверности знания. Кстати, несмотря
на то, что он был одним из «отцов-основателей» проекта модерна, он хранил
верность и своему королю, и своей, католической, церкви. Он не позволял сво-
ему «модернизму» обрывать нити культурной традиции. Но после Декарта раз-
рыв с традицией пойдет со все большим ускорением, что достигнет кульмина-
ции в эпоху Просвещения. Интересен и Лейбниц в связи с этим. С одной сторо-
ны, он вводит множество монад в онтологию, а с другой — разрабатывает
идеи о единстве языка реальности и ее законов (идея «универсальной характе-
ристики»).
В этом смысле Лейбниц более «эластичная» фигура в новоевропейской тра-
диции, чем, скажем, Декарт, который все свел в конечном итоге к протяженно-
сти и к перемещению, следствием чего оказалась полная рационалистическая
механистическая гомогенизация бытия, достигнутая, впрочем, ценой его дуа-
листического раздвоения. В результате после Декарта возникает другая про-
блема — как вернуть права чувственности, чувственному образу. Это началось
у романтиков и Гёте, и подход Кассирера во многом связан с восстановлением
гётеанства. У Гёте в идее прафеномена всеобщее дается как продуцирующее
особенное, причем сам механизм продуцирования задан, т. е. здесь прослежи-
вается аналогия между математической функцией и органическим процессом
формообразования. Это как бы обогащенный функционализм, приблизивший-
ся к культуре, к изобразительному и художественному миру.
Важно, что метаморфоза у Гёте оказывается неким воплощенным органи-
ческим аналогом закона. Поэтому, на мой взгляд, эпоха немецкого неогуманиз-
ма (Гердер, Гёте, Шиллер, Гумбольдт) ценна для культурной проблематики
прежде всего как вариант преодоления интеллектуалистского редукционизма.
Относительно связи культурологической теории и практики в том, что дела-
ет Н. Т. Попова. С одной стороны, необходимость теоретизирования предпола-
гает риск связать свою работу с какой-то не слишком продуктивной схемой, а с
другой — недостаточность наличного теоретического «портфеля» не позволя-
ет ухватить саму проблему. Выход, видимо, в развитии творческого диалога
теоретиков и практиков культуры и педагогики. Еще один момент. Возникает
656
Глава VIL Философия и культура
впечатление, что культурные формы выступают здесь средством, целью же яв-
ляется нормальное психическое здоровье ребенка. Таким образом, для описа-
ния цели используются категории психологии, психиатрии и т. д. Но ведь с
точки зрения философии культуры самоцелью выступает сама способность
человека творить культурные формы. Поэтому цель — не какая-то абстракт-
ная психическая нормативность, которая сама по себе проблематична, а обре-
тение человеческой способности общения и творчества благодаря овладению
культурными формами. Но если цель задается таким образом, то она выходит
из сферы медицины и психологии в культурологическую сферу. И тогда куль-
турная форма оказывается не только средством, но и целью, с которой соотно-
сится и на которую направлена деятельность педагога-практика.
Культура — это искусство целей, именно искусство, как об этом было ска-
зано в одном из выступлений А. Ю. Шеманова («искусство участия»)4. Про
целевую функцию забывать нельзя.
Еще один момент. Когда на уровне «большой (массовой) культуры» возни-
кает «блокировка» творческой способности человека, тогда компенсация ее
«задержки» в виде развития субкультур оказывается просто необходимой.
Последняя ремарка. Проблема, затронутая в выступлении П. Д. Тищенко в
тезисе о репрессивности доминирующей культуры 5, состоит в том, что неудоб-
ные элементы культурного мира исключаются из него. Сформировавшийся в
результате «мембранной» стратегии «золотой миллиард» начинает диктовать
условия жизни всем остальным, т. е. наряду с процессом расширения зоны куль-
турации идет одновременно и процесс ее сужения. В этом — противоречи-
вость процессов глобализации.
4 Шеманов А. Ю. Культура — не искусственный мир, а искусство участия в происходя-
щем // Постижение культуры: Ежегодник. Вып. 10. М, 2000. С. 101—114.
5 Тищенко П. Д. О предпосылочности понятия человека для концепций культуры // По-
стижение культуры. Вып. И. С. 124—126.
ДРУГАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Интеграционные процессы идут в истории давно. Уже с древности извест-
ны факты создания (правда, и распада) колоссальных объединений народов.
Но особенную скорость, глубину, необратимость процессы интеграции при-
обрели в наше время. Многообразие интеграционных процессов, на наш взгляд,
можно свести к двум основным моделям интеграции. Их следует рассмотреть
сначала теоретически, отвлекаясь от исторической конкретики стран и наро-
дов, для которых они особенно характерны.
Интеграция человечества означает историческое формирование его как еди-
ного связного целого, реализующего значимые для всех людей ценности, кото-
рые сами, в свою очередь, испытывают воздействие процессов интеграции и
яснее осознаются в ходе их развития. В сложной развивающейся системе ин-
теграционных процессов обнаруживаются две дополняющие друг друга сто-
роны или два измерения — цивилизационно-технологическое и культурно-ис-
торическое. Их глубокое различие при всей их реальной взаимопереплетенно-
сти отсылает нас к двум основным моделям интеграции, которые, используя
естественнонаучную метафорику, можно условно назвать атомистической и
молекулярной.
Атомистическая модель уподобляет действующих по ее правилам людей
свободным атомам, движение которых регулируется юридическими нормами
как своего рода аналогом механических законов. Метафора атома противосто-
ит метафоре молекулы, в которой атомы взаимосвязаны, взаимоизменены и
ограничены целым, в которое они входят.
Главное свойство атомистической модели интеграции — отрыв индивида-
атома от культурно-исторического целого. Это означает, что выраженное в атоми-
стической модели антропологическое содержание нацелено на формирование
индивидуалистически ориентированного и космополитически действующего
человека-атома, который одинаково комфортно чувствовал бы себя в любой
точке земного шара, а в пределе — всего космоса, если, конечно, он обнаружит
там необходимые, с его точки зрения, условия жизнедеятельности, направляе-
42 - 3357
658
Глава VIL Философия и культура
мой им, главным образом, на рост собственного материального благополучия.
Механичность, или формальность, законов, в рамках которых действует ато-
мизированный индивид, обнаруживается в их независимости от национально
окрашенных исторических и культурных органических реальностей, которые
«молекулярно» связывают индивида. В современных условиях формирующей-
ся тотальной модели рыночных отношений это оказываются прежде всего за-
коны, охраняющие права частных собственников, инкорпорированных в сис-
тему демократии с рыночным хозяйством как ее экономической базой. Нацио-
нальные, исторические, культурные и прочие «молекулярные» своеобразия и
связи здесь присутствуют в качестве безусловно второстепенного фона для той
атомарной экономической и политической активности, цель которой в конеч-
ном счете состоит в материальном процветании индивида, опирающемся на
технологический прогресс в рамках «рынкодемократической» структуры.
«Атом» может помнить об оставленной им «молекуле», но в любом случае по-
добная память в такой системе будет только факультативно допускаемым ак-
сессуаром, ничего существенного в нее не вносящим.
Итак, в мире атомизированных индивидов молекулярные целостности не
значимы. Распад «молекул», переход всего человечества в фазу атомарного
«газа» — вот перспектива его интеграции в соответствии с атомистической
моделью. Структура формируемого в такой «газовой» системе индивида зада-
ется однородной системой фундаментальных для нее мотиваций, в основе ко-
торых лежит экономический успех (он может быть подкреплен социальным
престижем, политическими достижениями, технологическими и научными но-
вациями).
В рамках атомистической модели индивид выступает как действующая с
космополитическим размахом законопослушная, научно-технологически ос-
нащенная единица, стремящаяся к своему земному благополучию под сенью
юридических норм. При этом национальное, историческое, географическое,
культурное и иного рода своеобразие и разнообразие мира выступает как ме-
шающая интеграции «молекулярность», становящаяся синонимом реакцион-
ности и ретроградности. Для функционирования такой модели атомам-инди-
видам вовсе не обязательно физически порывать с их исходной «молекулой» —
достаточно просто ее игнорировать, превращая тем самым в малозначащий
след, в туристический фон или пассеистский колорит, тоже имеющие, кста-
ти, рыночную стоимость и поэтому рекуперированные в систему «атомарно-
го газа».
Основу идеологического обеспечения такой модели интеграции составля-
ют формальный юридизм (принцип равенства прав), сциентизм, прагматизм,
культ успеха, активистский индивидуалистический эвдемонизм, средства для
своего осуществления видящий в безостановочном технологическом прогрес-
Другая интеграция
659
се в сочетании с экспансией рынкодемократии по всему свету. Всемирное гос-
подство либеральных и сциентистских ценностей в рамках подобной модели
представляется в высшей степени желательным для всех, становясь необходи-
мой базой для искомой интеграции человечества.
Основу другой, «молекулярной», модели интеграции составляют связанные
условиями и законами сверхиндивидуальной целостности образования («мо-
лекулы»). В рамках такой модели сама интеграция выступает не как расшире-
ние формальной общности за счет включения в нее новых атомизированных
индивидов, а как формирование органической общности, объемлющей орга-
нические же подсистемы. Иными словами, в ходе развития интеграционных
процессов по такой модели индивиды сливаются в единое человечество по-
средством объединения их разнородных, исторически сложившихся общно-
стей. В рамках этой модели процесс интеграции, следуя принятой нами хими-
ческой метафорике, можно представить как своего рода «полимеризацию»
молекул, причем мономера в строгом смысле здесь нет, однако в качестве заме-
щающей его единицы имеются разнообразные «микромолекулы», и уже на осно-
ве этой «полимеризации» и осуществляется интеграция индивидов («атомов»).
Главная особенность такой модели интеграции заключается в том, что в еди-
ное и целостное человечество объединяются не атомизированные индивиды,
разорвавшие исторические, национальные, культурные связи с теми общно-
стями, к которым они принадлежали или могли бы принадлежать, а сами эти
общности вместе с их землями, на которых они исторически возникли. Такими
общностями могут быть целые страны с их государственностью, народы с ха-
рактерными для них формами организации жизни, культурные целостности,
исторически сформировавшиеся социальные группы, например сословия.
Смысл обрисованных выше моделей заключается в том, что они могут дать
самые общие координаты для ориентировки в многообразных процессах ин-
теграции человечества, для постижения их сложной динамики. Главное разли-
чие между этими моделями четко обнаруживается благодаря следующей аль-
тернативе: сохраняются ли в процессе интеграции населения Земли в связное
целое традиционные общности народов, наций, своеобразие их культур и свя-
занных с ними ландшафтов (молекулярная модель), или же, напротив, интег-
рация происходит через распыление таких общностей на атомизированные ин-
дивиды, деятельность которых регулируется формальным законодательством.
Сопоставление этой атомистической индивидуалистической модели с механи-
ческой системой оправдано постольку, поскольку в классической механике
поведение частицы не обуславливается ее историей: важны только ее коорди-
наты и импульсы в данный момент и динамический закон, которому подчиня-
ется ее движение. В молекулярной же модели, напротив, история и культурные
традиции народа, вступающего в интеграционное движение, важны для опре-
42*
660
Глава VIL Философия и культура
деления результирующего целого. Поэтому такая модель, в отличие от первой,
может быть названа органической.
За описанными выше моделями интеграции стоят реальные духовно-исто-
рические силы, вступающие между собой в спор и борьбу уже со времен Со-
крата и Платона. Сегодня этот спор обрел планетарный характер и необыкно-
венную остроту. Если при рассмотрении данных моделей искушение впасть в
панегирик одной из них равномощно обратному искушению впасть в ее осуж-
дение, то это хороший признак, с нашей точки зрения, поскольку он говорит о
том, что обе модели принимаются как в равной степени значимые для понима-
ния сложных интеграционных процессов, а значит, для понимания и современ-
ного, и, в особенности, будущего человека.
Действительно, трудно себе представить всю полноту жизненного и мен-
тального мира человека без учета тех тенденций, которые стоят за описанными
моделями. Как эти, казалось бы, исключающие друг друга модели в их лично-
стно-мотивационном преломлении реально уживаются в биографии отдельной
личности или в конкретной истории того или иного народа — это уже другой
вопрос. Но можно сказать, что, по-видимому, уже современный человек и тем
более человек близкого нам будущего так или иначе сочетает в себе космопо-
литический либерализм с «любовью к отеческим гробам», к родной нацио-
нальной культуре, к своей стране и народу. Как именно это ему удается — это
особый и важный вопрос, который мы здесь рассматривать не можем. Однако
отметим, что само содержание современной жизни в ее повседневности позво-
ляет (если не требует) это делать, так что своего рода интернационал нацио-
нально чувствующих индивидов — это не утопия, а реальная и существенная
возможность современности в ее ключевых тенденциях развития. Равно как и
наоборот: как показала история, либеральное космополитически ориентиро-
ванное направление, отстаивающее, например, принцип свободы торговли,
может выступать и выступает как форма обычного национального или даже
частного интереса, что было характерно, к примеру, для Англии и Голландии в
истории нового времени х.
Выявление основных моделей интеграционных процессов, на наш взгляд,
не только полезно, но и необходимо для того, чтобы определить место России
1 Точную и красочную картину раннекапиталистического «свободолюбия» рисует
Л. Февр: «Мы — в начале XVI столетия... Бешеная жажда денег, первейшая и непреодоли-
мая движущая сила капиталистического индивидуализма, не ведающего ни узды, ни сове-
сти, овладевает тысячами людей... По набережным Антверпена проходят авантюристы со
всего света, обуреваемые безудержным стремлением к наживе... Им нужно золото, подвиж-
ное, компактное, и дающее всю полноту власти. Завладеть им, накопить его в сундуках, на-
сладиться им: чтобы не произносить эти слова, несколько режущие слух, они в последнем
приступе стыдливости восклицают: "Свобода!"» (Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 205).
Другая интеграция
661
в этих процессах и тем самым способствовать прояснению вопроса о содержа-
нии российской идеи в современных условиях. Существенной особенностью
российской идеи выступает представление о всемирном братстве людей не
столько в форме «общечеловеческого», сколько «всечеловеческого» единения.
Это означает, что в интегрированное человечество (всечеловечество) братски
принимаются все люди вместе со всеми особенностями их исторических и куль-
турных традиций, вместе с самими землями, обустроенными их народами.
«Назначение русского человека, — говорит Ф. М. Достоевский, — есть бес-
спорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским... может быть,
и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей,
всечеловеком, если хотите»2. В другом месте он подчеркивает, что даже от-
крытая враждебность людей, стран, народов по отношению к России не пре-
града для самого искреннего стремления к братству с ними 3. В подобном по-
нимании братство людей предстает как способность христиански принять и
оправдать даже самое чуждое, как стремление понять, помочь и проявить со-
чувствие к другому человеку.
Секуляризированное «прочтение» христианских идеалов в их западной вер-
сии, выработанное в европейском Просвещении, на первое место среди них
ставит свободу, за ней следует равенство, и только на последнем месте оказы-
вается братство (liberté — égalité — fraternité). В российской же культурной
традиции, напротив, приоритетное место в этой триаде самых высоких идеа-
лов человечества (свобода — равенство — братство) занимает именно брат-
ство людей, будучи самым близким для русских людей идеалом. Действительно,
при сопоставлении его с двумя первыми бросается в глаза следующее обстоя-
тельство. Если под знаменем свободы можно легко устроить бойню, развязать
террор, то трудно себе представить лавину кровавого насилия, осуществляе-
мого ради братства. Действительно, Великий Террор в годы Французской ре-
волюции был развязан от имени Свободы; мы помним также кошмар «освобо-
дительной» войны против «красного тоталитаризма», которую вел во Вьетна-
ме лидер «свободного мира». Равенство тоже способно оправдывать террор и
насилие. Революции, в том числе и русские, дают тому пример. Но опять-таки
в этом идеалы свободы и равенства отличаются от идеала братства.
В чем тут дело? В том, что возможности позитивного и даже догматическо-
го выражения или представления этих идеалов и ценностей различны. Дей-
ствительно, идеал свободы весьма просто превращается в догму в рамках оп-
ределенного его представления. Например, когда дается такое определение
свободы: свобода — это демократия американского типа или свобода — это то,
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1984. Т. 26. С. 147.
3 Там же. С. 131.
662
Глава VII. Философия и культура
что несет с собой Кодекс Наполеона или Декларация о правах человека и граж-
данина и т. п. И если какой-то народ живет и хочет жить не по законам штата
Массачусетс или не по указам революционного Конвента в Париже, то он уже
тем самым становится «реакционным», записывается в «ретрограды» и назы-
вается у твердолобых разносчиков свободы «варваром», «рабом», с которым
можно обращаться как угодно жестоко. Довольно похожая ситуация возникает
и в связи с идеалом справедливости: догматически истолкованная, справедли-
вость может становиться причиной неправовых действий и даже преступле-
ний.
С братством ситуация иная, и дело здесь в том, что сфера конкретного пози-
тивного раскрытия этого идеала — непосредственно религиозная, прежде все-
го христианская. Братство совершенно немыслимо, невозможно без Отечества
как Града Божьего. Люди — братья в Боге как их Отце Небесном. Это отноше-
ние к Богу — прямое и непосредственное в случае идеала братства. А в случае
идеалов свободы и равенства оно опосредованное и несравненно более отда-
ленное. Эти два идеала могут строиться и вне религиозного фундамента, по
крайней мере вдалеке от него. Горизонт же опыта братства лежит очевидным
образом «наверху», в религиозном начале.
Утрата чувства братства связана с утратой религиозной веры, когда ее за-
меняет культ материального земного благополучия, весьма хорошо согласу-
ющийся со свободой и равенством, которые как мотивации получили с утра-
той веры только дополнительный мощный импульс. Вспомним, что «брат» —
это обычное обращение «божьих» людей, скажем, в монастырях. А монасты-
ри и все «мрачное» средневековье были надолго и, как казалось, навсегда
осмеяны и Рабле, и Вольтером с Гольбахом, и нашими большевиками и ниги-
листами от Писарева до Ярославского и Ленина. Для того чтобы один чело-
век относился к другому как к своему брату, его не надо освобождать от «пут»
феодализма и сословности, не надо уравнивать с другими с помощью эгали-
тарной демократии. Русское понимание братства людей, в отличие от западной
традиции, обусловлено как раз тем, что сама секуляризация христианства в
России специфична. Братское общение и взаимопомощь не предполагают от-
рыва людей от их собственных национальных исторических традиций, как того
требует радикальный постулат свободы и равенства атомизированных инди-
видов.
Если теперь мы обратимся к истории России, то увидим, что, несмотря на
присутствие в ней и «меча» (вспомним Достоевского: «наш удел... всемирность,
не мечом приобретенная»), основной процесс сплочения народов и людей вок-
руг российской государственно-культурной целостности был по преимуществу
опытом именно братского объединения народов, порой очень далеких друг от
друга, при сохранении и развитии их собственных своеобразных культур, язы-
Другая интеграция
663
ков, верований, а также самих земель их обитания. Конечно, проявления тако-
го способа интеграции (в нем мы узнаем описанную нами выше «молекуляр-
ную» модель) можно обнаружить и в других регионах Земли. Но в России этот
опыт был более глубоким, обусловленным стечением большого круга самых
разных факторов, среди которых важное место занимает и религиозно-куль-
турная традиция, что позволяет говорить о том, что в его развитии и осознании
и состоит основной стержень российской идеи, а вместе с тем и вклада России
в будущие судьбы всего человечества.
Имевший место в истории Западной Европы, внешне схожий, но по сути
глубоко отличный от российского опыт по интеграции народов — вместе с их
географией, историей и культурами — в рамках империализма колониального
типа потерпел полное фиаско, уступив во второй половине XX в. место совре-
менному либерал-империализму рынкодемократии. Принципиальное отличие
этого опыта от российского, кратко говоря, в том, что здесь идея братства лю-
дей и народов почти совершенно отсутствовала. Политические империи Запа-
да держались преимущественно на военной силе и потому в большинстве слу-
чаев силой были и разрушены в результате порой длительных и тяжелых коло-
ниальных войн. Ставшее ныне расхожим сравнение в этом плане России в лице
СССР с Западом ошибочно, так как распад СССР, в отличие от распада запад-
ных империй, не был результатом длительной и нередко вооруженной борьбы
покоренных народов. Конечно, этим обстоятельством не исчерпывается отли-
чие России (и СССР) от западных империй, и это говорит о том, что в случае
России мы имеем дело с иным историческим явлением, чем европейский коло-
ниализм, который, однако, также внес свой весомый вклад в интеграцию чело-
вечества, пусть и дорогой ценой.
Сказанное свидетельствует о том, что западная интеграция идет в основном
путем описанной выше атомистической модели, которая наиболее ярко реали-
зуется в феномене «американизации» планеты. Видное место в нем принадле-
жит, конечно, опыту США, но им он не исчерпывается, являясь выражением
определенного мирового процесса, а не только национальной политики Белого
дома. В Америке накоплен колоссальный опыт объединения людей, сопровож-
дающегося реальным их отрывом от соответствующих национально-государ-
ственных и культурно-исторических общностей. Вот как известный исследо-
ватель мирового капитализма В. Зомбарт описывает палубу парохода, на кото-
ром эмигранты плывут в Америку: «Кто наблюдал то пестрое разнообразие,
которое приходится еще встречать на палубе большого американского парохо-
да, чье сердце радовалось тем разнообразным одеяниям, наречиям, привычкам
и песням, которые еще господствуют тут, кто заметил, что тот же самый много-
цветный мир растворился за одно или два поколения в сером, скучном, моно-
тонном American man (американце), того охватит ужас перед будущностью че-
664
Глава VIL Философия и культура
ловеческого рода»4. Очевидно, что будущность человечества — именно объе-
диненного человечества — будет защищена только в том случае, если подоб-
ный путь его интеграции, представленный Зомбартом, не станет единствен-
ным, если, иными словами, историческая и духовная миссия России будет жить
и развиваться в современном мире, реализуя накопленный опыт иного пути
интеграции.
Будущий человек интегрированного человечества, свободный от кошмара
той нивелировки, о которой с таким пафосом писали романтические критики
буржуазной цивилизации, возможен только как синтез «общечеловека», ими
так страстно отвергаемого, и «всечеловека», к которому призывал Достоевский,
говоря о всемирном призвании России и особой способности русского челове-
ка видеть в другом брата.
Как, однако, такой синтез возможен? Дело в том, что атомистическая мо-
дель интеграции (условно: европеизация — американизация — вестерниза-
ция — модернизация) в своем функционировании затрагивает не только тон-
кие слои образованных элит тех стран, которые она охватывает, но и всю толщу
народных масс, проникая в глубины объединяющих их национально-истори-
ческих «молекулярных» целостностей, как бы «испаряя» их и переводя в со-
стояние атомарно-индивидуалистического «газа». В этих условиях каждый
индивид берет на самого себя ответственность за свою жизнь и связи с други-
ми лицами независимо от государственных, национальных и культурных гра-
ниц. Благодаря функционированию данной модели, области, в которых «мы
хотим слышать только о людях, а не о народах» (Зомбарт), непрерывно расши-
ряются. Сфера личных связей, дружб, деловых контактов и т. п. не хочет знать
подобных пределов. В результате народы, нации, государства и даже целые
культуры как бы «зависают» в своей значимости. Но из этого вовсе не следует,
что они абсолютно исчезают, и не прав поэт, сказавший, что мы будем жить
«без России, без Латвии»5. Но если мы не хотим оказаться в однообразном
«муравейнике» «общечеловеческой» цивилизации, лишенной разноцветных
красок, то требуется всерьез принимать не только идеалы свободы и равен-
ства, но и идеал братства людей.
На высоком уровне «атомизации» человечества национальные государства
и культуры могут поддерживаться сознательной целеустремленной работой по
их воссозданию и возрождению. Исторические общности, возникшие на из-
4 Зомбарт В. Буржуа. М., 1994. С. 327.
5 Создается впечатление, что современный ультрарадикальный либерал-империализм,
корректируя проект поэта, предлагает жить в мире без России, но с Латвией. Поэтому за-
щита роли России является сейчас делом всемирного значения, требующим, в частности,
поддержки и со стороны культурных элит Запада.
Другая интеграция
665
древле осваиваемых тем или иным этносом землях, ранее выступавшие как
некие естественные данности, теперь являются для атомизированных инди-
видов заданием, неким императивом для их нравственной воли. Примеры
успешного воссоздания такого рода целостностей в XX веке уже известны. И
они будут множиться во всем разнообразии (и противоречиях) этого процесса.
Стратегия охранения, находящая свое оправдание в условиях обвальной и не-
управляемой модернизации, типичная для романтических критиков буржуаз-
ной цивилизации (таких, как, например, К. Леонтьев) сменилась стратегией
возрождения национальных культур и государственных целостностей, реали-
зуемой непосредственно самими атомизированными и космополитизирован-
ными индивидами. Благодаря такой динамике процессов интеграции за бес-
цветным контуром «общечеловека» встает полнокрасочная жизнь «всечелове-
чества».
Процесс атомизации в развитых странах Запада приближается к своему пре-
делу. Действительно, большинство активного населения западных стран уже
стало своего рода самостоятельными «атомами», способными развивать само-
го разного рода отношения интернационального характера. Ресурс принципа
свободы (как свободы-от) на этой стадии интеграционных процессов в значи-
тельной мере уже исчерпан. Поэтому возникает потребность в «сверхсвобод-
ных» системах идеалов, корректирующих устоявшееся и почти монопольное
господство идеалов свободы (как свободы-от-чего-то) и равенства (как равен-
ства-с-кем-то). Но такого рода идеалы, может быть, особенно плодотворно раз-
виваются в русле российской культурной традиции, что вызывает к ней повы-
шенное внимание наиболее чутких представителей культурных элит Запада,
проявившееся, в частности, в последнее время в известной энциклике Папы
Римского, посвященной роли православия в мировом христианстве.
Анализируя сложные взаимопереплетения соперничества и партнерства двух
основных моделей интеграции, можно подумать, что в их споре обнаруживает-
ся конфликт идеи вида и его сохранения с идеей индивида и его сохранения.
Под «видом» понимается сверхиндивидуальная общность или целостность (на-
рода, нации, этноса, государства, традиционного уклада и т. п.). Но на самом
деле это не так, хотя и соблазнительно свести к этому суть конфликта основ-
ных моделей интеграции и тех духовно-исторических сил, которые стоят за
ними.
Действительно, чтобы убедиться в этом, рассмотрим один пример из новой
истории Европы. История Британии XVIII столетия говорит нам о том, что ког-
да после военной победы над горными шотландцами, придерживавшимися
кланово-племенного строя (1746 г.), были под страхом смерти запрещены их
национально-культурные символы, то спустя несколько десятилетий оригиналь-
ная культура Шотландии, не говоря уже о ее политической независимости, была
666
Глава VIL Философия и культура
фактически уничтожена6. Подобного случая в истории России не припомина-
ется. И хотя жестокостей в ней было немало, но культурное своеобразие наро-
дов подобным образом не искоренялось. Военные победы, как правило, не при-
водили к уничтожению самобытной культуры побежденных. На отвоеванных
землях воздвигался православный храм, вводился русский язык в местных ад-
министративных органах и в школах, но русская крестьянская изба не вытес-
няла кибитки кочевника, а зипун не вводился под страхом смерти вместо хала-
та. Значит, можно сделать вывод, что речь идет не о борьбе идеи вида с идеей
индивида и не о том, какая из них обладает большим достоинством и поэтому
большими правами на существование. Речь в истории идет о борьбе одних ви-
дов с другими видами же, одних культур и идей с другими. И на Западе пре-
имущественно побеждал тот вид и тот тип культуры и цивилизации, который
на первое место ставил, как мы сказали, свободу изолированного индивида, а
не братство людей, объединяющее их вместе с их культурами и землями
обитания.
Риск и опасности связаны с каждой из описанных нами моделей интегра-
ции. Всемирный либеральный «муравейник» из «свободных» атомизирован-
ных индивидов, свободных именно от ценностей национальных культур, исто-
рии, традиций и верований, не менее кошмарен, чем подавляющее свободу
индивида обюрократившееся сверхгосударство с его утратившими жизненность
квазитрадиционалистскими ценностями 7. И то и другое — это реальные угро-
зы развитию человечества и конкретных обществ. Для предотвращения этих
мрачных деградационных сценариев нужно, чтобы свобода индивида была со-
единена с братством личностей и народов. А это невозможно осуществить, если
идея братства исчезнет из мира, а Россия как своеобразная культура и уникаль-
ный исторический опыт ее воплощения, базирующиеся на самой ее государ-
ственности, перестанет существовать. Но если даже Россия как реальная госу-
дарственная историческая единица и рухнет (недостатка в тревожных сигна-
лах на этот счет нет)8, то саму ее миссию, ее призвание-идею должны, следуя
логике глобальных процессов, подхватить другие народы — может быть, Ки-
тая или Индостана. Действительно, сама функция братского собирания людей
и народов вместе с освоенными ими землями и традиционными культурами
вряд ли может совсем исчезнуть из интегральной работы человечества по его
6McDowallD. An Illustrated History of Britain. Longman, 1995. P. 113, 116.
7 В. Степин и В. Толстых справедливо предупреждают, что установление «атомисти-
ческого» мирового порядка «ценой нивелировки культурных традиций и вырождения мно-
гообразия социально-исторических общностей... обернется вырождением самой демокра-
тии» (Вопр. философии. 1997. № 6. С. 171).
8 Статья была написана в 1994 г. Сейчас ситуация изменилась (ноябрь 2002 г.).
Другая интеграция
667
преобразованию в будущее глобальное сообщество. Думать, что человечество
успокоится в массовом всемирном технологическом либерально-рыночном
«рае», было бы не менее наивно, чем полагать, что оно будет блаженствовать в
лишь на поверхности антилиберальном мировом коммунизме, истоки которо-
го лежат в тех же атеизме, сциентизме и гуманизме, составляющих основу и
для его идеологического соперника.
Подведем итог. Человек нуждается в человекомерном гармоническом про-
екте интеграции. На поверхности явлений может показаться, что борются про-
гресс и реакция, что атомистическая модель является единственной моделью,
обладающей будущим, что за ней стоят неодолимые силы истории. Но если из
процессов интеграции исключается молекулярная, в нашей терминологии, тен-
денция, то интеграция оборачивается глобализирующим «катком», агрессивно
нивелирующим всемирно значимые национальные, исторические культуры. В
ответ на такой поворот сценария интеграционных процессов возникает опас-
ная реакция воинствующего, крайне агрессивного антиглобализма, фундамен-
талистского партикуляризма. Ситуация оказывается предельно опасной и ту-
пиковой. И вот здесь резонно вспомнить известные факты истории мировой
культуры. Эта история, ее опыт показывает, что самые яркие и глубокие образ-
цы национальных культур в то же время выступают как фундаментальные яв-
ления всемирной культуры, например Гёте, Достоевский. Антропологический
проект, рисуемый на фоне интеграционных процессов, следует обозначить не
как «общечеловек», т. е. человек абстрактный, продукт крайней атомизации
исторических и национальных целостностей, а как всемирный человек, или
«всечеловек», — всемирно отзывчивый к лучшему во всех национальных куль-
турах, но сознательно продолжающий и развивающий в качестве свободного,
можно даже сказать атомизированного, индивида-личности именно ту культу-
ру, в которой он вырос. Такой «всечеловек» будет поддерживать другие культу-
ры в развитии их всемирно ценного своеобразия, но будет прежде всего разви-
вать и собственную культурную традицию. Иными словами, странный, даже,
можно сказать, «причудливый» синтез атомистической и молекулярной моде-
лей интеграции — вот желательное и возможное направление интеграции, вот
образ другой интеграции, другой, чем та, которая (быть может, больше по ви-
димости?) преобладает сейчас.
«Очередная утопия!» — слышу я в ответ. Да, верно, «звезда», «центральный
порядок» как метафоры систем отсчета для выбора пути обозначают недости-
жимое для ориентирующегося по ним человека, но в глубокой ночи современ-
ного хаоса звезды «утопии» должны гореть. И — особенно ярко.
КУЛЬТУРА КАК ИСКУССТВО ЦЕЛЕЙ '
Как связаны искусство и цель? Под целями будем понимать не любые, а
только высшие цели, действительно наполняющие существование человека
смыслом и светом. Вот существенное признание поэта:
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
Цель наполняет прежде всего сердце и дает затем импульс и для ума. Отсут-
ствие же цели порождает тоску. Она рассеивается, когда в душе поэта раздает-
ся лирный звук, лирический голос, звучащий от прикосновения «божественно-
го глагола» к «слуху чуткому» («Поэт», 1827). Итак, цель возникает от энергии
«божественного глагола». В этом стихотворении чудесным образом объедине-
ны бог Аполлон и «божественный глагол», читаемый как христианский сим-
вол — Логос, второе Лицо Св. Троицы, то Слово, которое было в начале, у Бога
и было Богом (Иоанн I, 1). Оставив вопрос о соотношении и относительных
«весах» греко-языческой и христианской символик в поэзии Пушкина в сторо-
не, укажем на основание их объединения в единой органической ткани поэти-
ческого слова. Это — само противопоставление мира горнего и мира дольнего,
посредниками между которыми сверху выступают ангелы, а снизу — пророки
и поэты. Осуществляя это посредничество, они вносят свет целей в суету и
ничтожность мира дольнего. Поэтому поэты сродни священникам: в «Арионе»
поэт сушит «влажную ризу», а в «Поэте» он ожидает зова Аполлона к сверше-
нию «священной жертвы».
Итак, цель наполняет душу поэта, звучащую при этом «звуками сладкими»
и «молитвами». И когда «толпа» спрашивает о цели, имея в виду поэта («К
какой он цели нас ведет?» — «Поэт и толпа», 1828), то ничего другого, кроме
Дополненное предисловие к книге «От философии жизни к философии культуры».
СПб., 2001.
Культура как искусство целей
669
упомянутых «звуков сладких», «вдохновенья» и «молитв» поэт не называет в
качестве ответа на ее вопрос. В дольнем мире цели не живут иначе, чем во
вдохновенных «звуках» и «молитвах». Никакой прямой пользы — ни матери-
альной, ни даже нравственной — ждать от поэта нельзя: он весь отдается сво-
ему служению с его алтарем и жертвоприношением. Кто-то другой должен
продолжить эту эстафету, идущую из мира горнего в мир дольний (критик,
писатель-публицист, мыслитель-идеолог, ученый, педагог и т. п.). Иными сло-
вами, культура оказывается системой трансмиссии целей с формообразующи-
ми энергиями.
Эти соображения позволяют нам говорить о культуре как живом организме
целей или искусстве целей, поскольку именно искусство и религиозный культ
начинают эту эстафету в дольнем мире. Итак, ядро того, что мы называем куль-
турой, можно определить как искусство целей. Можно считать это искусство
высшим слоем культуры, в котором человек находит смыслы своего бытия,
откуда он черпает уверенность в своих действиях, позволяющую ему более-
менее смело смотреть в будущее. Конечно, искусство целей носит всегда конк-
ретный, исторически определенный характер, что и диктует структурирование
культур по эпохам, народам и т. п. Но цель, спустившись в мир дольний и транс-
формировавшись в нем, неизбежно влечет за собой представление о средствах
ее достижения. Поэтому целостное содержание понятия культуры включает в
себя не только искусство целей, но и знание о средствах и умение их обеспе-
чить и использовать. Дихотомия культуры как целей и как средств представле-
на в теме соотношения культуры и цивилизации. Мимоходом заметим, что пред-
почтение, оказанное Гегелем средству по отношению к цели, было тем внут-
ренним материализмом его объективно-идеалистической системы, который
облегчил известное «переворачивание» его философии у некоторых леворади-
кальных его учеников. Вся эта проблематика может быть обозначена темой
«телеология культуры».
Культура как на уровне целей, так и на уровне средств «работает» как сим-
волическая система, в которой символические формы сопряжены с их сило-
вым или энергетическим обеспечением. Современная постструктуралистская
философия с особой ясностью выявила эту проблематику, представив ее преж-
де всего как связь власти (или принуждения) с языком и телесностью. В мире
культуры знаки читаются, что означает, что они включают энергетику канали-
зованной в соответствии с тем или иным их прочтением человеческой актив-
ности. Культура как некий архив «знаков» представляет собой поле борьбы за
определение того, в соответствии с какими стратегиями они будут считывать-
ся, переходя из модальности «знаков» в модус «значений». Социально и куль-
турно (актуально) значим не сам по себе «знак», а именно его «значение», т. е.
победивший способ его прочтения. Вся эта тема была нами приоткрыта в пре-
670
Глава VIL Философия и культура
дыдущем выпуске ежегодника (см. статью «Генеалогия культуры: Ницше —
Вебер — Фуко» 2), что не осталось без отклика и в некоторых работах данной
книги.
Материально-динамический план культуры как целостной системы свя-
зывает ее с природой (тема связи культуры и натуры). Культура как бы над-
страивает уровень «значения» («ценности») над материалом природы. Но оба
указанных уровня взаимно проникают друг в друга. Ведь сами значения реали-
зуются как прочитанные знаки, причем прочитанные активностью людей, со-
вершаемой в пространстве-времени, что невозможно, повторим, без соответ-
ствующей силовой базы, уходящей как в толщу природной организации кос-
моса и человека как космического существа, так и восходящей к миру горнему,
о чем мы уже сказали выше. Поэтому культуру можно представить в виде гар-
монизированной (относительно) антропотелеологическим образом природы как
динамического хаоса в своей основе (тема космического измерения культуры
и тема культуры в качестве «второй природы»). Именно поскольку телеология
культуры антропоцентрична, постольку фундаментальным образующим куль-
туру отношением выступает отношение человеческого измерения к нечелове-
ческому — к божественному и природному началам. Как справедливо говорил
Н. А. Бердяев, «не может быть сам человек целью человека» (Новое средневеко-
вье. М., 1991. С. 14). Если же пытаются ограничить цели человека человеком,
дурнобесконечным прогрессом его сил, то, как об этом опытно свидетельству-
ет с особой силой XX век, человек реально опустошается, впадает в систем-
ный кризис, и вся культура ставится под вопрос «быть или не быть». Поэтому
имманентная телеология культуры должна быть дополнена «теологией» и «кос-
мологией» культуры как особыми измерениями ее философской рефлексии.
Зазор между божественным и природным и есть тот «просвет» (die Lichtung,
по Хайдеггеру), в свете которого возможна и свобода человека, и сама культу-
ра как исторически подвижное искусство целей (и средств). Но само наличие
указанного зазора никак не означает элиминации его крайних полюсов.
Философия культуры в отличие от наук о культуре интересуется культурой
не как своего рода квазиестественной системой объектов, а как проблемой жизни
личности в универсуме духа, или, иными словами, проблемой свободы челове-
ка как лица определяться и определять своим творчеством и выбором не толь-
ко себя и свою судьбу, но и судьбу других людей, и в пределе — всего мира.
Это означает, что встает проблема самоидентификации свободной личности,
причем не только в теоретическом, но и в практическом плане. Человек как
свободная личность — ив таком качестве субъект культуры — не предопреде-
ляется своим «природным паспортом» (национальностью, географией место-
2 Постижение культуры: Ежегодник. Вып. 7. М., 1998. С. 5—39. См. выше. С. 604.
Культура как искусство целей
671
жительства и т. п.). Он волен в выборе в качестве своих практически любых
культурных традиций (тема культурной идентичности и самоидентификации
человека). Существует как бы зона отложенных выборов в самом ментальном
пространстве индивидов, и философия культуры, как мы ее понимаем, призва-
на прояснить именно это поле нерешенностей. Эту зону можно обозначить и
как будущее-в-настоящем, или «кромку актуальности», в которой готовятся
новые диспозиции, долженствующие определить новые связи символов с энер-
гетическим их обеспечением (зона творческой реактивации традиций или зона
культурных новаций, продолжающих жизнь культуры через ее обновление). В
этом активном слое «материка» культуры прокладываются пути в будущее.
Конкретизируем некоторые напряжения внутри этой зоны. Прежде всего,
это растущее натяжение между набирающей обороты «мондиализацией» (гло-
бализацией), с одной стороны, и упорной приверженностью людей к культур-
ным (этническим, национальным и т. п.) «регионализмам» — с другой. Дело
тут в том, что происходящее в результате такой «мондиализации» обесценива-
ние национальных культурных пластов вовсе не всем людям представляется
оправданным. Потенциалы исторически сложившихся культур, как многие счи-
тают, вовсе не утратили своей продуктивной силы. В соответствии с этим воз-
никает задача увидеть (или создать, сконструировать) образ такого мирового
единства человечества, в котором его глобальные инварианты (нормы и т. п.)
были бы, скажем так, оптимально уравновешены регионально вариативными
культурами. При этом предполагается, что реактивация культурных традиций
достигается свободным решением личности, осознающей себя вместе с тем и
субъектом глобальных коммуникаций. Понятно, что подобный искомый син-
тез есть, конечно, «антропосинтез», так как, говоря о культурных процессах,
всегда имеют в виду образ человека в соответствии с тезисом о культуре как
субъектном измерении истории людей, разделяемом авторами данного издания.
Все перечисленные моменты сжато описывают содержание работ, представ-
ленных в настоящей книге. Единство ее разделов состоит в том, что ставшая
уже традицией проблематика анализа культуры в философии (но и не только в
ней) актуализирована вопрошанием, идущим от потребности разобраться в со-
временной культурной и глобальной антропологической ситуации. Это ясно
обнаруживается уже при чтении работ самого теоретического раздела книги
(«Основания культурологии»). Антропоцентричность философской рефлексии
культуры (на культуру или о культуре) определяет необходимость экзистенци-
ального модуса ее представления. Иными словами, личный опыт индивида,
особенно на гранях и краях бытия, жизни, опыт столкновения культур и эпох
составляет явно или неявно основу таких размышлений. Он неминуемо вносит
и личный, и художественный моменты в ткань философского дискурса, обре-
тающего тем самым форму эссе, свертываясь порой в афоризм, в «наблюде-
672
Глава VIL Философия и культура
ние». Этот момент с особой силой представлен в III разделе книги. Условно
говоря, в нем намечена попытка перейти от привычного для философа анализа
категорий культуры (отстраненно интеллектуалистская позиция) к выявлению
ее «экзистенциалов» (включенная позиция лично-опытного переживания пре-
дельных граней бытия и культуры). Тот экзистенциал, на котором фокусирует-
ся представленный здесь материал, обозначен как событие встречи (разных
культур или разных культурных пластов, разных личностей и сознаний; нако-
нец, здесь представлен опыт встречи культурной личности с внекультурным и
сверхкультурным «материком» бытия, обозначенным «судьбой», «стихией», нео-
братимостью времени, божественным началом). В отличие от привычного
объективистского по манере философского описания «категорий культуры»
представленные в данном разделе тексты, аккумулируя живой личный опыт
экзистенциальных встреч как событий, неминуемо получают художественно
значимую и тем самым безусловно «субъектную» артикуляцию.
Отрадно, что никакие разномыслия, даже мировоззренческие, никакие по-
литические и социально-экономические потрясения последних лет не смогли
изменить того благодатного для философско-культурологических поисков духа
доброжелательства и взаимного интереса к работе «соседа» по цеху, который
щедро дарили нам «отцы-основатели» культурологических и философских се-
минаров, начиная с семинара Ф. Т. Михайлова, а затем М. Б. Туровского и
Н. С. Злобина, светлой памяти которого посвящено это издание. Не забудем
при этом и имена Э. В. Ильенкова, Г. С. Батищева и В. С. Библера. Ярко и живо
об этих далеких временах рассказал нам сам Ф. Т. Михайлов («Нечто носталь-
гическое»). Читая эти воспоминания и вслед за ними работы участников семи-
наров и споров 60—70-х годов, ясно осознаешь фундаментальный характер
«кружковых» начал культуры, философской в том числе, а может быть, и в
особенности.
ПОЭЗИЯ — ФИЛОСОФИЯ — ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
Три текста, которые здесь соединены вместе, — пунктирная, через 15-20
лет взятая проба указанной темы. Первый текст примечателен тем, что он вы-
ражает не только его автора и даже, быть может, не столько его самого, сколько
тот круг общения и диалога, в котором он стал возможен. Это типично внутри-
кружковый текст. А кружок, о котором я говорю, был, скажем так, не без доли
условности, кружком друзей поэтического просвещения, в образ которого фи-
лософия входила как равноправная собеседница, а повседневность была его
воздухом и живым самотворящимся материалом. Некоторые основные лица-
участники этого кружка прямо названы в тексте, хронологические рамки кото-
рого — от середины 60-х годов, когда и был написан данный текст, до пример-
но середины 70-х.
Второй текст примечателен тем, что автор его «плавает» уже вне всяких
кружков, сам по себе, в аквариуме поэзии, философии, литературы. Если пер-
вый текст подчеркнуто диалогичен, то второй — не менее экспрессивно моно-
логичен. Распад упомянутого кружка выразился у его автора в том, что ему
пришлось самому создавать своих собеседников в эссеистике (Медитатор, Зна-
комый Медитатора и др.) и в собственно прозе (персонажи «Божьекоровских
рассказов», которые рассказывались именно в это время, в начале 80-х годов).
Наконец, третий текст, совсем свежий, возник снова изнутри кружка, но уже
существенно другого. Он представляет собой выступление на круглом столе,
посвященном связи поэзии, философии и повседневности. Это вполне адрес-
ная речь, произнесенная среди своих — людей, философствующих по поводу
культуры и ее постижения.
Мы смотрим на эти сюжеты и участвуем в них в течение нашей жизни
по-разному. Различным образом не только думаем о них, но и живем ими.
По-разному в разное время они захватывают нас. И для одной только сте-
реоскопичности взгляда на проблему их взаимосвязи уже нужен подобный
«триплет».
43 - 3357
674
Глава VII. Философия и культура
Востряковско-Переделкинские прогулки
Прогулка первая
После бессонной ночи шел я осенним лесом к могиле Пастернака. Листья
мешались с землей, из оврагов шел густой аромат тлена. Солнце падало на
стволы сосен, и они светились, как луковичные перья. Горизонт давился тихим
сиренево-серым туманом. Трава желтела пятнами, как шкура леопарда. Подар-
ком и залогом весны казались зеленые проталины в ржавчине обесцвеченной
травы. Воздух слезился, мокрый, мягкий и свежий.
Вот и Переделкино. На опушке — дети. Смотрят на мою бороду и улыбают-
ся самым детским образом. Отворачиваюсь в сторону, чтобы не видели рас-
ползающуюся по щекам улыбку в ответ.
На поваленной сосне сидит девушка с книжкой. Хочется подойти и посмот-
реть. Сладость воспоминаний: запах леса и старых книг — любимое сочетание.
Сетунь. Здесь купался Пастернак. Вода как фосфоресцирующий индика-
тор. Никак не могу совместить поэта и этот ручей. Перехожу. Иду по шоссе.
Справа — дача поэта. Впереди слева — могила. У дороги — лошадь. Седая, с
пьяной челкой на черных больших глазах.
Кладбище. Машины, дети, женщины, болонки. Но всего — в меру. За зеле-
ной оградой — могилы старых большевиков. Узкий проход. Открылась спина
обелиска. Не хочется, чтобы кто-нибудь там был.
Жанна 1. Поднимается и смотрит. Жанна. Чудо встречи. Удовлетворение свер-
шением высшего порядка. Жанна и Толя 2. Толя сидит. Жанна стоит. Сажусь с
краю.
Могила выступает осенним полигоном клумбы. Анютины глазки. Темно-
фиолетовые. Белые астры. Полевые цветы. Матовое золото осенних трав. Изу-
чаем запах цветов. Смотрим на сирень. На богоборческую сосну, на изобилье
неба. Береза. Плакучая, как ива, береза. А ведь бывают совсем не плакучие —
прямые, с неловко растопыренными пальцами веток. Смотрим на обелиск.
Желтые разводы от дождей. Лицо поэта — сведенное в точку надбровных дуг
усилие духа. 10.11.1890 — 30.V.1960. Все цифры круглые. Это бросается в гла-
за: неспроста!
Толя читает свое стихотворение. Жанна пытается разыгрывать меня, выда-
вая его за раннее пастернаковское. Я видимо поддаюсь игре и не показываю,
что знаю настоящего автора. Начинаю объяснять, почему оно не пастернаков-
ское:
1 Ж. А. Дозорец (1938—1996), филолог, доцент МГПУ.
2 А. В. Ахутин (р. 1940), философ.
Поэзия — философия — повседневность
675
— Во-первых, книжная романтическая лексика: «incipit vita nuova», «взыс-
куя», «дух»; во-вторых, нет композиционной слаженности, сплетенной с обна-
женной точностью необходимых изломов языка почти просторечного...
— Разговорного, — поправляет Жанна.
— Это ты написал, — выстреливаю я.
— Точно.
Сидим. Чуть-чуть качается небо. Плачет только левый глаз, а хочется —
целиком, «от гребенок до ног».
Душа — Богу
Все кровью, кровью... О когда ж,
Когда же кончится морока,
Когда мне день бескровный дашь?
Тогда ты будешь одинокой.
Душа — себе
И безнадежностью дыша,
Во мрак глядит моя душа.
Не наглядеться ей никак —
Все впереди метель и мрак.
Теперь я читаю, будто пью водку. Закусываю конфеткой.
Толя ходит. Жанна сидит. На щеке Толи — красная полоса.
— От стихов твоих.
— Чем это он? — спрашивает Жанна.
— Сургучом или цветком. Может быть и кровью — прокусил губу и намазал.
У одного индийского философа выступила кровь, когда он увидел, как бьют
женщину.
Толя стирает рукавом свои стигматы.
Приходят две девушки. Фотографируют могилу. Толя дает совет, откуда сни-
мать. Мы уходим.
Новое положение — был один с рифмой скользкой, а теперь нас трое. Я не
верю в созерцательных одиночек. Верю в созерцающие души, для которых ре-
альность мира явственно дополнена реальностью другого человека. Восприя-
тие природы углублено и очищено, когда рядом — другой человек, другая душа.
Реально не двойное сочетание: «Я — мир», а тройное: «я — другой — мир».
Под ногами неубранное поле. Не то свекла, не то петрушка.
— Пастернак!
Вязнем в дороге. Входим в лес. Идем без дороги. Дубы, сосны в ольшанике.
Останавливаемся перед грибами.
— Горелые грибы.
43*
676
Глава VIL Философия и культура
— Если уж грибы горят, — думается мне, — то нам сам бог дал сгореть...
Жанна отламывает сгнившую кору и находит под ней семейство грибов-
альбиносов, обесцвеченных бессолнечностью.
Я иду впереди. За мной Жанна. Слышу смех — значит Жанна опять спотк-
нулась о корень или увязла в грязи. Продираемся сквозь кусты.
— Витя, тебе надо заниматься гимнастикой: ты гибок.
Нарочно делаю по видимости кошачьи движения и говорю:
— Да, гибок — как девушка в пруду.
Делаем привал. Садимся на пни. Толя читает стихи Сельвинского из «Лите-
ратурной газеты». Кратко комментируем. Мне импонирует идея вечного воз-
вращения с апелляцией к Электрону. Но в устах Сельвинского она вызывает у
меня внутреннюю улыбку. Соглашаемся втроем: «Бетховен» и о поэте-дура-
ке — лучшие. Жанна горестно замечает, что Сельвинский разучился писать.
Смотрю на пень: зелень густая и яркая — «Завтрак на траве» Эдуарда
Мане, — только еще и пахнет, и растирается, сыплясь прахом.
Стучит дятел. Долго ищем его по осинам. Толя находит первым. Потом я.
Совсем рядом. Белый с черными плечами. Прыгает по стволу. Показываю Жан-
не. Мускулистая стальная шея, тяжелый затылок, крепчайший клюв и цепкие
когти — вот что такое дятел.
Жанна мне представляется греческой грацией, сошедшей прямо с афинско-
го акрополя в подмосковный лес. Предлагает изучать классический танец и
светский этикет.
Толя, с чуть приподнятым воротником пальто, видится современным ху-
дожником-интеллектуалом. Размеренное уходом буйство волос, откинутая на-
зад мощная поступь лба — и закатных тонов лицо, свежее, как мокрая рако-
вина.
Все мы немного играем. Но один Толя неутомим в игре. Обвязавшись шар-
фом, он обличает в себе то монахиню, то деревенскую бабу, то какого-то турка.
Вот он спит. Залез в пальто, облокотившись о ствол. Я, соиграя, накрываю его
одеялом — курткой:
— Спи, моя радость, усни...
Преодолеваем конфетно-бутербродное «отчуждение» с помощью клыков и
тупого кухонного ножа. Этот нож уже гулял около моей шеи — в качестве рек-
визита Толиного театра.
Лимитированы яблоки:
— Яблоки — природа. А пестрь «распредмечиваемых» конфет — цивили-
зация. Мы начинаем и кончаем природой.
Агитация убедительна: три четверти яблока оставлены до чая на даче, куда
мы некрепко держим свой путь.
Говорим только о поэзии и читаем только стихи:
Поэзия — философия — повседневность
677
— Почему читать стихи без книги называется «читать»? Это что-то совсем
другое.
Плывут ассоциации. В такт им всплывают стихи — строчками, строфами и
целиком.
Заговорили о мотиве «ног» в поэзии. Мне вспомнилось мое старое стихо-
творение:
Мне приснился сон красивый,
Как твоя нога.
Я лежал на дне могилы,
Вспоминал тебя.
Был я мудр, красив, прохладен,
Как ручей в горах.
Ты стояла в белом платье
С розою в руках.
Было так тепло и ясно,
Что казалось мне,
Что давно одно прекрасное
Бродит по земле.
«Литературное хулиганство» — прозвучало комплиментом в устах Жанны.
Идем по просеке. Выходим к ручью. Знакомый тленный запах:
— Люблю его. Тлена дух мне открывает тайну мира. Тайну полноты и сво-
боды природы. Упоительного богатства, разнообразия, связанного в узел кра-
соты. Не только розы, но и шипы, не только ландыши, но и гниющие листья.
Принимаю полный мир, не профильтрованный нормой мещанского благопо-
лучия. Только полный мир реален и жив. Только увидев в самой природе тлен,
начинаешь понимать тлен и смерть душевную. Так сглаживается боль, нашед-
шая себе прототип в подлиннике — в реальности природы — как изначально
близкую душу. Реально то, что реально для души. Для души реальна природа и
разлитая в ней, общающаяся с ней душа наша. Дух тлена — дух плена отдель-
ностей всех существ у времени, у самого бытия как течения. Дух тлена — дух
свободы, ибо сквозь него вечное воскресение празднует природа и человек.
Перед любовью обмер — и погас.
А перед смертью — ожил.
И жизни пробил час.
И смерти — тоже.
Стихи — для одинокой души, раздаривающей себя космическому ветру.
Он — рядом, рождаясь из соприкосновения душ. Плавится все косное, рождая
ветер огня.
678
Глава VIL Философия и культура
Мировая душа догорала на западе. Нехотя остывая, осаждалась дымными
сумерками осеннего леса. Жанна теперь непрерывно читала Цветаеву. До меня
долетали обрывки. Они кружились, падали, покрывая землю души золой по-
этических жаровень. Достаточно будет ветерка, чтобы раздуть голубоватое
пламя.
Уходящий свет застревал медью берез, в стройных линиях кустов, в шапках
дубов.
Вот и Востряково. Широкая улица с туманом и редкими дубами по краям.
Жанна вспоминает Елабугу. Последний земной путь Цветаевой. Ее везли по
такой же широкой русской дороге, быть может, даже без гроба — и никого не
было.
Жанна читает «Рельсы»: «И обезголосившая Сафо...» Все мудрствования о
трагизме жизни и судьбы вдруг блекнут, вянут, ненужные, и открывается смысл
его, весь, до последней ниточки, в двух словах: «обезголосившая Сафо...».
И раньше эти слова запоминались. Но лишь сейчас, когда они произнесены
вслух и существуют не только для глаз, но и для ушей, я понял, почему.
Читаем вместе: «Моим стихам, написанным так рано...»
Дача. Сумрак веранды. Купол дуба. Ставим чай. Толя продолжает спектакль.
Ложится на диван. Изображает мертвеца. Это — один из его любимых номе-
ров. Исполняется не только в жанре пантомимы.
Жанна и я готовим бутерброды. Разрываем хлеб на лоскутки. Оснащаем их
маслом и прочими предметами, столь соблазнительными после прогулки.
Толя меняет кадр. Он опять использует шарф. Теперь он — ходячий боль-
ной, солдат с перевязанной головой, слоняющийся по лазарету.
Начинается божественный чай. Его тепло выталкивает всяческий холод,
душевный в особенности. Самое время для беседы милой и стихов. И само
собой появляется и то и другое.
Толя рассказывает о картине, которую он хотел бы написать. Изгнание Ада-
ма и Евы из рая. Вспоминается Микеланджело. Но у Толи другой замысел.
Левая часть картины — огромное заходящее солнце. Справа — черный лес.
Густой и страшный. На опушке — Адам и Ева. Адам лежит, голова — на коле-
нях Евы. Ева сидит. И тревожно, и печально, и еще каким-то высшим образом
смотрит прямо в глаза зрителю.
Мне эта картина представляется почему-то в духе Рокуэлла Кента.
Сахар явно «белогвардейский» — растворяясь, он не дает сладости. Сме-
хом сушим мокрые рты — и говорим, говорим, говорим.
Толя читает свои стихи. Одно очень большое о Елене. Мне нравится: вечная
Елена, нестираемость красоты под жерновами веков.
Однажды в вечности Евы меня убедил осенний ветер, обнявший девушку.
Она шла мимо афиши фильма «Конец нашего света»: две известковые фигуры
Поэзия — философия — повседневность
679
в больничных халатах за колючей проволокой. В кончающемся, убивающемся
мире Ева — повсеместна, сказал мне ветер. И я ему поверил.
Толя читает еще. Я улавливаю дух стихов, но пока не могу ясно высказаться
по их поводу. Не надо.
Говорим о восприятии стихов Сережи 3. Толя читает:
Осенний лист, последний стих
В тетрадку-заводь падает.
Зачем-то говорю «прости» —
И надобно — не надобно...
Такие строчки не требуют комментирующей скороговорки ученого всезнай-
ки — завтра, с утра ты будешь их бормотать.
Читаю я. Все, все, что вспоминается. Будто стоишь в половодье в лесу у
реки: торчат деревья, каждое выступает по-своему. И вот увидел ищущего суши
зайца — это стихотворение, которое целиком всплывает. Его и читаю. Прочи-
тано все, что помню. Читаю написанное сегодня, когда я блуждал, спотыкаясь
о корни переделкинского леса:
Образ тоски и плена
Снова в моих глазах.
На черной щеке вселенной
Вздрагивает слеза.
Все просто. Вот грех. Вот боль.
Вот строчек утешенье.
Так движется по сцене роль
Судьбы свершеньем.
Реакция Жанны: «хорошо» и молчание. Толя больше молчит. На Блока ока-
залось похожим такое:
Я живу в полусне по весне,
Очарован бездумностью этой.
Я смотрю на чернеющий снег,
Продырявленный пулями света.
По аллеям, по теням брожу.
Беззаботность светится в лужах,
Но осадком теплится жуть,
Как под снегом зимняя стужа.
О Блоке мы только что говорили. Об отношении к нему. О том, как оно
менялось.
Сергей Иванов (1941— 1999), детский писатель, прозаик и поэт.
680
Глава VIL Философия и культура
Хорошим оказалось:
Если я в одну строку поверил,
Значит, осужден писать всегда.
Я не алгеброй гармонию поверил,
А преодолением стыда.
Жанна делает технические замечания. Первый профессиональный стихо-
ведческий анализ вызывает у меня дрожь.
Съеживаюсь под объективом наставленного на меня микроскопа. Хочется
боком, боком убежать с предметного стеклышка. Но куда там! И странно узна-
вать, что у тебя есть такие-то ассонансы, рифмы... Так, должно быть, странно
было узнать человеку, что у него есть межчелюстная кость. О первый холодок
научного ланцета!
Вспоминаю Толино стихотворение с рифмами:
стужи
лужи.
Сохранился автограф. На обороте вместо лошади в яблоках нарисован кен-
тавр в грушах и в ермолке. Пьет водку из горлышка.
Толя рассказывает, как он читал стихотворение Маяковского «А вы могли
бы?». Южный вечер. Фешенебельный санаторий. После сытного и многосто-
роннего ужина публика медленно собирается перед эстрадой. На ней стран-
ный юноша, почти мальчик. В широченных полотняных белых брюках, тапоч-
ках и тенниске. Круглые очки и копна густейших волос. И что же? Размахивая
руками, топая ногами, он начинает кричать, куда выше 100 децибелов, дозво-
ленных медициной:
Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши краску из стакана;
Я показал на блюде студня
Косые скулы океана...
От «косых скул» разомлевшая публика обалдела и сникла. Молчание гроба
Господня. И только некий отрок, стоявший ближе всех к этому чуду, позволил
себе судорожно, не по-детски, хихикнуть.
Сцена достойная Достоевского и, добавим, Гоголя.
Чайник опустошен. Но у нас еще есть запас стихов и историй. Юмор и сти-
хи перебиваются философическими отступлениями. Толя говорит о радости
вещей, когда они гибнут в человеческой работе. О радости березы под топо-
ром. Я знаю эту «радость»... Ольха не только плачет слезами, как и все деревья,
но и голосом, когда ее рубят. И не только слезами и голосом, но и кровью.
Поэзия — философия — повседневность
681
Пусть это только окисление древесных соков. Но это — кровь. Живые суще-
ства — не вещи.
Свобода вещей — в использовании, а свобода и радость природы — в не-
тронутости и бескорыстии любви. Только искусством человек в малой степени
возвращает природе то, что отбирает топором. Только искусством человек воз-
вращает ей ее рухнувшую веру в него. Творчество — восстановление любов-
ного доверия между природой и человеком.
Смешение вещей и природы приводит к тому, что вся чувственная предмет-
ность мира оказывается заключенной в концлагерь отчуждения. Неразличение
природного и вещественного порождает иллюзию о внеисторическом его про-
исхождении.
И снова стихи и истории. Юмором окрашен для меня Толин замысел —
написать в стиле Достоевского формой Гомера о современности.
Легче встретить кентавра в востряковском лесу!
Прогулка вторая
Последнее время, сегодня особенно, Толя в кафкианском духе. Нет, не толь-
ко потому, что он Кафку читает. Сейчас он читает и Зиммеля о Гёте. «История
подтверждает кафкианский взгляд на мир, а не гётеанский». Мне хочется по-
править: история в обозрении Толи, данная как близкий ему опыт. И здесь он
как бы соглашается со мной, когда вспоминает о широте мысли и просто о
мысли как единственной надежде. Но мысль неточно и неполно выражает на-
дежду. Тогда Толя говорит о сознании полноты безнадежности как более точ-
ном выражении для основы надежды. Вспоминает образ человека со смерт-
ным приговором на руках. Это — большое облегчение. Милость судьбы — в
твердости определения, нам ею уготованного.
Толя любит рассказывать такие истории. В заброшенное местечко приезжа-
ет бродячий цирк. Двум мальчишкам не терпится его увидеть. Они бросаются
помогать циркачам. Расставляют стулья, таскают декорации... Вот и вечер. За-
жигаются огни рампы. Но мальчишки смертельно устали и спят. А на арене
гремит представление.
Нравится ему и такой кафкианский рассказ. Поселянин, стремящийся про-
никнуть в Царство Закона, почти всю жизнь провел около врат его, беседуя со
стражником. Но вот стражник уходит и говорит, что только он один и мог пройти
в Царство. Но поздно.
Кафкианская тенденция, как ее выявляет Толя, — в ясном сознании страда-
ния без надежды узнать его смысл. Трагедия человека в том, что он не может
следовать своей единственно возможной прихоти — выбрать род своей смер-
ти. Палач-судьба и здесь диктует свой образ. Бессмысленно спорить в этом
682
Глава VIL Философия и культура
отношении с судьбой. Но такова трагедия: в том, в чем нет различия для разу-
ма, есть абсолютное различие для человека.
Толя говорит о распаде духовной жизни, о невозможности верить себе. Я
наскакиваю, вхожу в раж. Толя протестует против моего наскока. Я, видимо,
неудачно пытаюсь показать, что содержащееся в нем возражение неизбежно
для его собственной точки зрения.
Вскользь говорю о своей позиции. Надо найти в нравственной ночи опору,
чтобы действовать уверенно и эстетично. Разбросанное, самосомневающееся
действие — не эстетично, а следовательно, в конце концов, не этично. Так ру-
бится сук, на котором желает сидеть мой собеседник. Говорю о своего рода
«хорошей мине при плохой игре», к которой добавляю широту мысли. Ее упо-
добляю питательному крему, оживляющему маску мины.
Ассоциации наши натыкаются на затуманенные сосны. Ходим по лесу, вды-
хая влажный, подкисленный изморозью воздух.
«Гёте на Олимпе, а Олимп — безоблачен. Невиданная широта мысли. Он
знал в себе самом тенденцию, ему противоположную, хотя бы и в зародыше.
Мировоззрение Гёте — богато и совершенно». Это мои мысли о Гёте. Но Толя
покрывает Олимп дымами: «Олимп задымлен человеческим дыханием долин.
Поэтому боги не видят людей. А если и видят, то так, как мы видим эти трубы
и дома — сквозь вечерний мокрый воздух».
Когда Толя говорит о Кафке, я четко-пречетко — так вычерчиваются ветки
деревьев на медном диске морозного заката — вижу полную противополож-
ность Гёте и Кафки. Но молчу. Молчу потому, что слова и сравнения сейчас не
нужны. Гёте знал эту опасность «кафкагенного» субъективизма. Он видел ее в
молодой немецкой литературе своего времени, у романтиков.
Хочу рассказать Толе о теории Бергсона относительно небытия, отрицатель-
ности и ничто. Но уже первое предложение он отталкивает: ему видится в нем
только внешнее к нему отношение. Я настроен саркастически, но вижу, насколь-
ко кафкианское умонастроение адекватно Толе, что и выражаю сначала словес-
но, а затем молчанием. Не пытаюсь убедить, что это — не всё, что это можно
понять, но нельзя принять как свое самое последнее. Но боже упаси говорить
сейчас об этом! Опыт, его реальность — вот перед чем склонился Толя и, скло-
нившись, увидел в нем кафкианский мир точного, детализированного абсурда.
Склоненность перед фактом. А таковым признан только один — смерть.
Отсюда — морщины лба. И застывшие губы.
Мне и самому начинает казаться, что жизнь — только повод для страдания.
Разнообразие жизней — разнообразие поводов.
Потом начинаю думать о другом. Не о трансцендентной сущности страда-
ния, не о его сверхземной природе, скрытой от нас. Начинаю думать о себе, о
Толе и о других людях.
Поэзия — философия — повседневность
683
Я вижу, что обреченность на культурную недостаточность, общая для всех
нас, требует повышенного внимания к культуре общения. Мысль простая: не-
полнота нашей культуры, узость горла нашего страдания, сквозь которое мы,
каждый по-своему, хрипим «осанну», требует от нас особой чуткости ко всяко-
му соседнему опыту. Наша неуверенность в себе положительным оборотом
своим имеет обостренность доверия к другому. Только так мы можем преодо-
левать наши индивидуальные пороги и пороки. Общность судеб в современ-
ной жизни выросла рука об руку с ростом их различия. Но сохранить широту и
ясность мысли — неплохое походное снаряжение для всех нас.
Вспоминаю о доверии к себе. Конечно, снова и снова вижу удивительную
инвариантность этого принципа. Крайне задиристо говорю об этом Толе. До-
верие к себе и одновременно уважение человеческого творчества и культуры.
О доверии к себе говорил и Гегель, когда открывал чтения лекций в Берлине.
Если Гёте не по душе, то Гегелю не по разуму было суетное самомнение тще-
славия, поспешность и горячка субъективной фантазии. Оба исповедовали до-
ступность объективного духа для человеческой активности.
Укореняться в нечто или в ничто — разница по форме, а не по содержа-
нию... Пою веселые песенки о том, как форма тянет за собой содержание. По-
этому «хорошая мина» никогда не кончается только миной, а улучшает обяза-
тельно и «плохую игру».
Толя высказывает свои мысли об оптимизме и пессимизме. Сразу соглаша-
юсь. Конечно, так: судорожное — отчаянное (этим все сказано) — стремление
к оптимизму скрывает пессимизм. Вот и станция Суково стала Солнцево. Оно
где-то слева. Трубы и дома. Справа — лес, темнеющий над снегом. За ультра-
оптимистическим названием угадывается внутренний пессимизм. Ну, конеч-
но, надежды нет, если не пройден пессимизм до конца.
Так идет беседа. С молчаниями. С мыслями по поводу, а чаще — вперебой,
с сердечной тоской и жалостью, что все как-то не так...
Мальчишки гоняют шайбу на небольшом пруду. Едут лыжники. Мы им топ-
чем лыжню.
Толя читает:
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
Почему-то вспоминаю о рыцаре. Без страха и упрека. Я всегда не очень от-
четливо представлял, что значит «без упрека». Я знал, что это — хорошо. Так
же хорошо, как и «без страха». Но кто кого упрекает? Это для меня было не-
684
Глава VII. Философия и культура
сколько смутно. Но сейчас все прояснилось. И как же это действительно труд-
но быть «без упрека»!
1966
Слово как танец: опыт лирической медитации
I
Трепещет, бьется какой-то живчик — и это литература! Спиритозоид, ги-
перболоид, параболоид — потолков и стен пробилоид. Улыбка, расправляю-
щая морщины ссохшейся жизни. Будто распахнули дверь на волю...
Пантократический трепет любви и заботы, внимания глаз и чуткости слуха,
литература поражает своей всесильностью. Начиная думать о ней, мы вспоми-
наем полубогов, полулюдей — Данте, Рабле, Гюго, Бальзака, Толстого... Во
всех что-то от неистовости Лютера. Одержимые словом пантократоры, вседер-
жители феномена человека.
У каждого писателя — своя идиосинкразия. «Три луча проткнули вокзаль-
ную площадь» — читаем у писателя-лучесчитателя. А у Набокова есть такая
материализация отвратительного — грязный рваный носок фиолетовых ко-
леров.
Воздух феномена человека, самое живое и самое беззащитное — вот что
такое литература. Как воздух вхож повсюду и присутствие его на Земле не зна-
ет границ — кроме тех мест, откуда он насильственно, до вакуума, вытянут
насосом, — так и литература живет и дышит, как дух, где хочет. С нейтринной
легкостью проникает она в старинные замаркизенные палаццо и в новые де-
мократические билдинги, в лесные избушки и в переуплотненные коммунал-
ки. И всюду в воздушной стихии воображения рождается рассказ, летает топо-
линый пух стихотворения, зреет размышление. Связывается в близком дале-
кое, создаются новые небеса и земли, загораются новые солнца, озаряющие
новые воды, в зеркало которых глядит на себя самого замордованный проект
себя самого — феномен человека.
II
Солнце живого — Радость. Танец лозы в прозрачной струе. Пузыри от ко-
пошения карпа в прибрежном ивняке. Нежный ветер, от которого кожа делает-
ся легкой и счастливой. Нежный вечер. Жаворонок. Тихое солнце сквозь лег-
кую дымку. Сон-трава. Чересполосица зеленого и голубого — жизнь вам, пла-
вающим, бегающим, ползающим, летающим, ласкающимся, ластоногим! Бей,
соловей! Скользи в танце, бабочка! Я — с вами!
Поэзия — философия — повседневность
685
Посмотрите на воробьев: набьют себе придорожной пылью растопыренные
бока и стряхивают ее дрожью тела и копошеньем перьев. Так и мы — набьем
себе уши и души нашей городской пылью, а потом здесь, на лугу, отряхиваем-
ся, жмурясь на солнце. Порастрясем всё — до драгоценных камушков «про-
клятых вопросов». Стряхнем усталость и резоны. Кому они нужны? Сердце
бьется о жизнь, которая больше нас и больше себя самой.
На колени, Фидии и Праксители, Эуригены и Фомы, когда Жизнь-Бог сме-
ется-плачет! Ей молится молодой Толстой и старый Гёте, цветочница с Мон-
парнаса и ткачиха с фабрики «Трехгорная мануфактура». Жизнь живет бод-
рым, значит, добрым началом. Ее голос — всегда Логос. Его не отличишь от
прекрасного. Смейтесь-плачьте, иенские романтики, жизнь — с вами!
Несется хоровод живого под дудочку-свирель, неслышимую только для за-
полненных вакуумом ушей рациоморфинистов. Но и они в этот вечер кажутся
тропическими рыбами, тихо плавающими в аквариуме его присутствия. Стоят
на остановке автобуса. Променад вершат по платформам электродорожных
станций — и мечтают, мечтают, строят планы на лето... В такой вечер, кажется,
лопнули все вакуумные бутылки и вместо непроницаемых пустот в мире про-
снулись нежность и чуткость.
III
На колени, червеобразные мутанты больших городов! Вы сегодня — люди!
Вы созданы для радости! На колени! Размордуйся, проект! Омой в лазури гла-
за! Посмотри вокруг и восславь жизнь! Пусть от воспоминания о детстве до
беспамятства сладко кружится голова! Закружитесь в танце! Танцуйте свой
последний танец — завтра, как налоговый инспектор, придет холодный дождь,
который не заклясть ничем! А пока — танцуйте! Огибайте логовины лугов,
седлайте седловины холмов, в садах блаженства и легкой истомы славьте Гос-
пода! Бог-Жизнь на стороне танца! Это ваш последний танец! Смотрите, танцует
вечерняя заря, погружаясь в море и разливая по холмам нежность несказан-
ную. Вы поражены присутствием несказанного. Вы замерли, на ваших глазах
рождается мир, и вы в беспамятстве от его красоты. Беззвучно танцует бабоч-
ка. Танцуют лепестки цветка, сжимающиеся к ночи.
Душа! У тебя есть еще тело — побудь с ним немного. Хотя бы только этот
вечер. Подари ему танец, легкий, как прозрачность струи, плавный, как линии
прибрежных холмов. Танец жизни, трепет жаворонка. И трепет мысли, любо-
пытства дрожь — когда-нибудь ты к этому придешь, мой друг далекий — и
одинокий. Одинокий, как обморок от найденного слова.
Трепещет рыба, пойманная в сети, — так человек трепещет в танце жизни...
686
Глава VII. Философия и культура
Под звездами чихирь Оленин пьет с Брошкой —
От повести от той хмелеем мы немножко, —
В духанах душного Тифлиса он струится...
Душа ручьем в ущелий стремится,
И к морю, к морю бег ее означен —
Так пусть бежит и дай ей Бог удачи!
И винограда кровь густая льется —
Сквозь заросли Брошка проберется...
Как хорошо мне, жизнь, с тобою —
Не молкнешь ты в садах, нависших над Курою...
Мы танец жизни начали сегодня, чтоб никогда его не кончить. Умирая, мы
танец наш оставим нашим детям и всем, кто радостью трепещет, полон жизни.
Ложатся спать, нахохлившись, растенья,
И гаснет небо над кроватью трав.
Темнеет кровь. Роняет сад терпенье —
Вечерних лепестков белеющий анклав.
В стручках небесного гороха
Уходят солнца коротать ночлег в иные гемисферы.
Сжимается пучок столетий.
И длится миг.
И замер соловей.
Его молчанье завтра объяснится,
Когда ему другая песнь приснится.
6 июня 1981 г.
Повседневность как философская проблема 4
Я попытаюсь, хотя бы слегка, приподнять «подводную часть» того протее-
образного, почти недоступного упорядочивающей рационализации явления,
которое называется повседневностью. Приподнять ради того, чтобы показать,
как оно возможно в качестве тематизируемого философской рефлексией. Мало
сказать об амбивалентности этого явления в глазах философа, об исходящих от
него импульсах притяжения и отталкивания философского разума. Все это,
безусловно, присутствует, но «вязкость» повседневности столь густа, что вряд
ли поддается какой-то однозначной и устойчивой ее оценке.
Я начну с ключевого для меня образа повседневности, который нахожу в
известных стихах А. Ахматовой:
4 Выступление на круглом столе «Повседневность: между бытом и бытием» (Россий-
ский институт культурологии, 23 ноября 2001 г.).
Поэзия — философия — повседневность
687
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Если мы возьмем этот образ со всеми его смыслами и структурами, то полу-
чим дающее нам опору интегральное представление о предмете нашего разго-
вора. Ось этого образа ясна: творчество, пойэзис, частным, но центральным
видом которого выступает поэзия, есть претворение менее ценного в более
ценное. Поскольку все это происходит в повседневности, то она оказывается
не только щедрым поставщиком менее ценного, но и одним из условий поэти-
ческого вдохновения, выступая ареной его творческого преображения в более
ценное. Связь между высоким и ценным, с одной стороны, и низким и мало-
ценным — с другой, недоступна исчерпывающей объективирующей рациона-
лизации. Творческое преображение есть тайна, таинство. И иллюзией нашей
философии 60—70-х годов было намерение раскрыть логику творчества. Если
у творчества и есть логика, то это — не диалектическая логика марксообразно-
го или гегелеподобного сорта (случай той философии, о которой я только что
сказал), а сверхлогика, имеющая своим источником последние основания ев-
ропейской культуры — иудео-христианскую традицию и эллинское наследие,
в котором в этой связи прежде всего нужно выделить платонизм.
Итак, смысл и ценность повседневности придает то, что она может стать
ареной творческого преображения, таинственного рождения из менее ценного
более ценного. Категория ценности, оказавшаяся в центре нашего внимания,
заслуживает той философской критики, которой ее подверг, например, Хайдег-
гер. Однако все дело не в оправданности такой критики, впрочем, что здесь
существенно, относительной, а в абсолютной значимости в мире философско-
го осмысления самой идеи ценности. Куда менее искушенный в философии В.
Гейзенберг был, однако, прав по существу дела, не согласившись с Хайдегге-
ром в том, что «идеи» и «ценности» суть лишь суррогаты «забытого бытия» и
за ними нет будущего, если предположить, что оно будет за «возвратом к бы-
тию». Пусть как физик он и не понял тонкостей философской аргументации
Хайдеггера и поэтому не осознал ее относительной легитимности. Но в своей
философской наивности он оказался в конце концов прав по отношению к сво-
ему архиискушенному оппоненту, заметив, что в современной культуре, преж-
де всего в науке, «истолкование действительности в свете идей и ценностей
происходит с величайшей интенсивностью, только в каком-то более глубоком
слое» 5. Вот в последних словах — вся суть этого спора о ценностях. Ценность
5 Гейзенберг В. К восьмидесятилетию М. Хайдеггера H Гейзенберг В. Шаги за горизонт.
М., 1987. С. 348 (курсив мой. — В. В.).
688
Глава VIL Философия и культура
как категория абсолютна в том смысле, что ее поверхностные объективирован-
ные представления не могут противостоять критике временем и мыслью, но
это не касается ее трансобъектного ядра. Иными словами, ценности присуща
динамическая устойчивость абсолютного принципа, и поэтому она — инвари-
ант и мысли, и бытия, и всего, что мы зовем творчеством.
Повседневность может быть философски оправдана постольку, поскольку
она оказывается своего рода предкультурным или паракультурным «гумусом»
для процесса повышения ценности. Именно эта работа повседневности прида-
ет ей самой ценность, сообщает ей духовную и интеллектуальную значимость.
Но здесь нужно обратить внимание на другой момент разворачиваемого нами
интегрального образа повседневности. Повседневность как «гумус» сама по
себе порождать более ценное не может — нужен еще «семенной фонд» из за-
пасников мира ценностей в себе, из мира абсолютных ценностей. Образ по-
эзии как произрастания, заданный процитированными выше стихами Ахмато-
вой, немыслим без метафоры семян, которых нет в «соре» повседневности.
Мы вынуждены допустить трансповседневное, если угодно, существование
семян высокого и ценного. Только попадая в «гумус» повседневности, усваи-
вая его как материю, перерабатывая его, доращивая тем самым себя самих до
зрелости и красоты цветения, они создают то более ценное, в чем повседнев-
ность находит свой смысл, ее оправдывающий. Но все это — не есть внешний
органический процесс, некая объективированная органика. Нет, прорастание
семян ценностно маркированных есть рождение мастера в человеке повсед-
невности, в человеке улицы. Тот, кто научается претворять случайности мель-
кающего бывания в долговечность искусства, есть уже мастер. Мы стоим пе-
ред этой аморфнообразной массой разнонаправленных потенций, называемой
повседневностью, как перед тем загадочным лоном, в котором рождается мас-
тер. Но чтобы родился мастер, должен уже существовать Мастер. Мы его пи-
шем с прописной, потому что сразу переходим к пределу всей цепи мастер-
ства — один мастер рождается в «гумусе» повседневности от другого, тот —
от третьего, и вся эта цепь указывает на свой абсолютный источник. Для обо-
значения его мы и выбрали прописную букву. В этой пронизывающей мир эс-
тафете созидания и мастерства, проходящей сквозь толщу повседневности,
которая без нее ничем по сути дела не отличалась бы от хаоса, тьмы и мрака
диссипации и смерти, и состоит ее оправдание. Выяснив это на уровне образа
и его первичного анализа, законно спросить, какое же отношение все это имеет
к собственно философии?
Философская форма вопрошания здесь такова: а как возможно повышение
ценности? В постановку и в разнообразные способы подхода к решению этого
вопроса вовлечена вся философская традиция, так или иначе. Можно сказать и
более определенно: в истории философской мысли всегда присутствовала ин-
Поэзия — философия — повседневность
689
тенция на повседневность, на ее позитивное участие в осмыслении того, что
есть и может быть. У Рафаэля в «Афинской школе» направленность мысли двух
великих философов античного мира запечатлена жестами их рук. Если Арис-
тотель широко раскрытой ладонью примиряет небо и землю, как бы опираясь
на опосредствующую их связь стихию воздуха6, то Платон указывает четко на
небо, на ту область, откуда в земную повседневность «залетают» хранимые
душой крылатые семена «идей» или «эйдосов». Без отрыва от земного мира
повседневности, говорит Платон, рождение чего-либо ценного в нашем мире
невозможно. Но вот его ученик по Академии в своем жесте не забывает земли
повседневности, ему дорог ее разнообразный «гумус». Именно Аристотель стал
критиком платонизма, противопоставив отвлеченной мысли, которой недоста-
ет опыта, мысль опытных людей, рассуждающих физически ((ргхпкюс), а не
чисто логически (Хоугкшс) (О возн. и уничт. I, 2, 316 а 5—15). Ученый адвокат
повседневности, он ее реабилитирует перед лицом платонистской аксиологии.
Логики-платоники отвлеченно, умозрительно рассуждают о началах, в то вре-
мя как физики-повседневники живут в гуще обширной цепи самих явлений
природы. Именно эта жизнь эмпирически обогащенного разума и есть аналог
ценной повседневности. «Семенной фонд» мастерства мыслится при этом ей
имманентным. Живущие среди самих явлений имеют тем самым возможность
вырастить нечто значимое в этом мире и показать силу или саму высоту высо-
кого. Ведь она именно тогда действительно высота, когда включает в свое ос-
нование широкий диапазон низкого, обнаруживая в нем высокий порядок. «Вы-
сокость» высокого измеряется его способностью преображения, просветления
низкого: «О, если б знали, из какого сора...» «Сор», если к нему присматривает-
ся поэт или философ, оказывается уже не вполне «сором»: свет самоценного
тем самым уже проглядывает сквозь него.
Аристотель — рационалист-эл*им/?мк. Введение повседневности в филосо-
фию будет оправданно, если мы покажем, что она вносит нового в привычное
понятие опыта. Как вместе с тематизацией повседневности обогащается по-
нятие опыта, краеугольный камень мысли вообще и философской в частно-
сти? Традиция, идущая от Декарта и Канта, приводит к различению субъекта
трансцендентального и субъекта эмпирического. Но они ведь тесно связаны
друг с другом. Каким образом осуществляется эта связь — вот вопрос, решить
который вряд ли можно, не обратившись к истории, к деятельности — к по-
вседневности в конце концов. В трансцендентальном субъекте мы видим как
бы след платоновского жеста, указывающего на небо. И поэтому так естественно
стремление как-то заземлить трансцендентальное, перевести его в какой-то
6 Эта версия жеста Аристотеля кажется нам предпочтительней зубовской: Аристотель
«простирает к земле... руку» (Зубов В. П. Аристотель. М., 1963. С. 75).
44-3357
690
Глава VII. Философия и культура
более «повседневный» план — антропологизировать его, психологизировать,
историзировать и т. д. Мы невольно стремимся если не свести, то «подпереть»
трансцендентальное эмпирическим. И в этих «качелях» между Платоном и
Аристотелем, между верхом и низом, между идеальным логосом и материаль-
ным гумусом обнаруживается ритм философской традиции. Спор идет соб-
ственно о том, на чем нужно строить философию. С Декарта идет традиция
трансцендентализма. Платоновская нота, исполненная им в субъектной оркес-
тровке, дополняется низкими басами эмпирии... Но во все возникающие струк-
туры философской мысли повседневность вносит смущающее их возмущение,
но часто, к счастью, продуктивное в итоге. На наших глазах рождается нескон-
чаемая философская поэма.
И только в XX в. философы уже прямо стали числить себя адептами и адво-
катами повседневности, сначала выступившей под прозрачным псевдонимом
конкретности, конкретного. С 20-х годов обозначилось это движение к конк-
ретной философии. В 1932 г. Жан Валь публикует работу «Vers le concret». В
1940 г. Марсель издает «Du Refus à l'Invocation», переизданную им в 1967 г. как
«Опыт конкретной философии». Во многом это движение пересекалось с фи-
лософией существования. Развивалась она на разных теоретических базах, в
том числе и на марксистской (например, К. Косик). Но важнейшей из них была
гуссерлевская феноменология. Ж.-П. Сартр ликовал, узнав, что в Германии су-
ществует феноменологическая школа. Ему как писателю по призванию боль-
ше ничего от философии и не требовалось: теперь, мол, я могу писать о чашке
дымящегося чая так, что это будет не литература, но самая передовая филосо-
фия. Здесь мы прослеживаем философски препарированный импульс к пре-
вращению менее ценного, повседневного и обыденного, в интеллектуально
значимое. Быт как бы ощутимо дал себя почувствовать как, по крайней мере,
потенциальное бытие. И надо сказать, что, в частности, у Сартра эта феноме-
нологическая прививка обогатила литературу.
И так мы дошли до Б. Вальденфельса 7 и других «кооптаторов» повседнев-
ности в философский, как сейчас попугайно говорят, дискурс. Но существуют
крайности и риски в этом увлечении темой повседневности для философа. Ясно,
что здесь много работы для литературоведа, культуролога, я уж не говорю об
историке, социологе и т. п. Но что здесь делать чистому философу? И вот здесь
я хотел бы указать на некоторые опасности, о которых не следует забывать,
когда мы намереваемся заняться этой темой.
Два замечания в связи с работой Вальденфельса. Первое: он рассматривает
повседневность как часть оппозиции повседневное/неповседневное. Эта оп-
7 Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социо-Логос.
Вып 1: Общество и сферы смысла. М., 1991. С. 39—50.
Поэзия — философия — повседневность
691
позиция, на мой взгляд, есть сниженный и размытый вариант старых, давно
исследуемых оппозиций, таких, как сакральное/профанное, праздничное/буд-
ничное и т. д. И поэтому для оправдания философской тематизации повсе-
дневности нужно показать, что же существенно новое вносится этой оппози-
цией по сравнению с указанными. Второе замечание: читая Вальденфельса,
замечаешь, насколько понимание повседневности как «плавильного тигля» ра-
циональности несет на себе отпечаток именно западноевропейской культур-
ной традиции, в которой, начиная с Рима и схоластики, характерный для нее
дух иссушающего «жизнь» рационализма всегда вызывал стихийный протест.
Вспомним в связи с этим знаменитую формулу парижской весны 1968 г.: mét-
ro — boulot — dodo, т. е. метро — работа — бай-бай — и всё! Где же достойная
человека жизнь в этом беличьем колесе рациональности?
Увлечение повседневностью, доводящее ее до своего рода абсолюта, может
грозить духовным потаканием хаосу, росту культурной энтропии, когда при-
ветствуется смешение всех ценностных рангов в броуновскоподобном движе-
нии вроде атомистического «палмоса» — трясения, или содрогания, атомов.
Все это, конечно же, вариант современного материализма, не желающего и слы-
шать ни о чем трансцендентном, ни о чем самоценном и «самовысоком». Мол,
достаточно протобульона, случайности и «автоматом», из самого кипящего ха-
оса, как ячейки Бенара в синергетике, возникнут стройные структуры вплоть
до сакральных текстов. Но ни жизнь, ни творчество и сознание, ни, в конце
концов, даже природу нельзя понять, исходя из одного натурализма, даже если
это натурализм суперсовременный, опирающийся на авторитет относительно
новых научных знаний. Если мы оборвем цепь традиции мастерства, замкнем-
ся в колбе чистого «гумуса» повседневности, то ничего кроме деградации нас
не ждет. Принцип Реди, запрещающий самопроизвольное зарождение живого,
справедлив не только для исследований биопоэза, но и для культуры и филосо-
фии: самозарождение организованного из одного лишь неорганизованного
имеет, по крайней мере, четкие пределы, чтобы не сказать больше. В гниющем
гумусе не возникнут «автоматом» даже дождевые черви, не говоря уже о чем-
то более высокоорганизованном. Без Платона невозможен и Аристотель.
Итак, рассуждая о повседневности, мы должны избежать, скажем условно
так, монодиссипативной ориентации сознания, обращая внимание, напротив,
на кристаллографические метафоры: как возможно из «бульона» атомов выра-
щивать чистые кристаллы? Да, выращивать на гумусе повседневности, но оп-
лодотворенном культурной традицией. И не иначе. Есть вполне научный уро-
вень рефлексии, где ценное действительно не будет замечено и отличено от
менее ценного. Но ничего странного и нового здесь нет. Известно, что человек
может из-за случайного столкновения, например с камнем погибнуть. Но это
не значит, что человек и есть «камень» (читайте: «тело», «материя», «плоть»,
44*
692
Глава VIL Философия и культура
«атомы» и т. п.). Можно анализировать шедевр искусства и рекламу мыла од-
ним методом, но мы тогда все-таки, боюсь, не поймем, почему это — шедевр...
«Детская» болезнь «школы подозрения» опасна, если вовремя не проходит.
Невозможно застревать на переоценке массовой культуры с соответствующей
недооценкой культуры элитарной, официальной и т. п., не рискуя вообще утра-
тить базовые ориентиры в осмыслении человека и его культуры.
Высокое и ценное действительно очень хрупко. И поэтому «рассыпать» его
легче, чем творить из низкого и малоценного, имея, конечно же, высокое как
идеал, «в зародыше» и т. п. Нельзя сводить Бахтина к бахтинизму, карнавализ-
му, апеллируя сверх меры к износу высокого, к его омертвлению. В споре прин-
ципа жизни с принципом культурного смысла прав не партизан бессмыслен-
ной жизни. Да, Ницше ошибся, выбрав заведомо обуженный концепт жизни и
повседневности тоже. Вопреки его ученику, М. Фуко, смысл не есть пустой
блик на гребне пенящегося дионисического хаоса сил. Силен в конце концов
не тот, кто может упрятать человека в тюрьму или обречь на голод, а тот, кто
даст ему хлеба. Сам Фуко в конце своей жизни вышел из «тени» Ницше. Не
будем же и мы себя в ней слишком долго держать, следуя моде. В духовном
споре радикального антиплатоника Ницше с полуплатоником Гуссерлем прав
последний, пусть в истории культуры роль певца «Заратустры», возможно, и
более значительна. Высокие культуры и умирают, и не умирают. Вопреки Шпен-
глеру. И именно в силу своего бессмертия они действительно высоки. «Карна-
валом» без меры можно не столько оживить увядающее высокое, сколько по-
дорвать сам «путь зерна», которым оно произрастает.
Откуда это стойкое увлечение темой повседневности? Видимо, оттого, что
мы надеемся найти в ней какие-то магические ключи от всех тайн, от всех
таинств, в том числе и от тайны творчества, превращающего менее ценное в
более ценное. Вспоминается встреча умудренного Зоммерфельда с молодым
Гейзенбергом. Мэтр сказал своему ученику: когда короли строят, ломовым из-
возчикам работы хватит. Он думал, что перед ним стоит будущий хороший из-
возчик. А это был юный принц... Вот проблема для теоретиков повседневно-
сти: как возникают принцы духа там, где их, вообще говоря, быть не должно?
Увы, но из «извозчиков» они саморостом не рождаются. Как и «маленький
принц», они к нам залетают с других планет. И здесь некоторые из них стано-
вятся «королями». Демократическая критика аристократического начала спра-
ведлива постольку, поскольку обращена против сословного, социального арис-
тократизма. Но она не права, если, как бы по инерции, направляется против
аристократизма духовного.
Если в этом процессе творческого роста и созидания есть вклад повседнев-
ности, то тем она прежде всего и дорога для теоретика культуры и для филосо-
фа, заслуживая анализа. Поэтому повседневность повседневности рознь. Су-
Поэзия — философия — повседневность
693
ществуют совершенно разные по качеству плодотворности повседневности.
Есть, прежде всего, та повседневность, которая из неузнанных принцев делает
королей культуры. Эта повседневность очень сложно, тонко и высоко органи-
зована, и в ней обязательно живет культурная традиция. А есть другая повсед-
невность, не дающая такой возможности. Вот она устроена гораздо проще, даже
примитивнее. И это различение фундаментально для возможной философии
повседневности.
«Ясность — в широте таится...» (Шиллер). Когда мы берем повседневность
во всей ее широте, то она проясняется перед нами, и мы начинаем различать в
ней уровни, ранги, ценностно различные типы в зависимости от ее креативно-
го потенциала. Мы видели, что, в ее философском осмыслении, тема повсе-
дневности вращается вокруг понятия опыта. Но ведь в самом опыте уже клас-
сическая философия (Шеллинг) различала градации его высоты и ценности.
Можно говорить о «среднем эмпиризме», о «высшем эмпиризме» и т. д. После-
днее понятие сделал своей «точкой отсчета» Г. Марсель, открыв с помощью
его путь к онтологии экзистенциального типа. Это, конечно, опять же плато-
новский ход: через узкие двери «высшего эмпиризма» открывается ход к иско-
мой онтологии. Но все это, и сам «высший эмпиризм» существуют в растворе,
в магме человеческой повседневности. Иными словами, для философа важно
то, какой опыт он сделал базовым для себя. У Канта был богатый опыт ученого
профессора, читавшего почти все научные дисциплины XVIII в. Гегель с моло-
дости тоже был профессиональным учителем. Отсюда развился не подвергае-
мый сомнению систематизм немецкой классической философии. Но к этому
профессорскому опыту опыт искусства и религиозного культа добавил именно
Шеллинг. И как следствие возникла его «позитивная философия» — интерес-
ная смесь традиционного высокого сциентоцентризма и художественно-куль-
тового начала в сфере человеческого опыта, взятого под луч философской реф-
лексии. Ограниченность опыта, попадающего под него, выступает причиной
смены философских парадигм. Кантовский трансцендентализм, построенный
вне художественного опыта, не мог не вызвать своего дополнения, ударившего
по всей традиции такого идеализма. В частности, это вело к разработке темы
эмпирического, исторического, экзистенциального субъекта, происходившей,
как мы можем сказать сегодня, под незримой звездой «повседневности».
ИЗ ЗАПИСЕЙ
Я не могу согласиться с тезисом Тойнби о фанатической нетерпимости хри-
стианства, тем более с его утверждением, что эта нетерпимость проявилась в
«постхристианских формах» фанатизма коммунистического, прогрессистско-
го, националистического '. Однако, если он имеет в виду прежде всего запад-
ное христианство, то его тезис становится более правдоподобным. В сравне-
нии с Западной Европой Восточная Европа такого фанатизма не знала (что,
разумеется, не означает его отсутствия на Востоке христианского мира). Имен-
но поэтому здесь не было ни Возрождения, ни Гуманизма, ни Реформации.
К ИСТОРИИ КРИЗИСА
Лицензию на научно-техническую эксплуатацию природы человек получил
«при условии почитания Бога и признания Его прав владельца» 2. Но именно
эти условия он нарушил, что, как минимум, ставит под вопрос легитимность
техногенной цивилизации как таковой. Именно в этом причина кризиса проек-
та модерна, а не в развитии науки и техники как таковых.
Поэтому не требуется возврата к дохристианским натуралистическим и пан-
теистическим культам ради восстановления равновесия в отношениях челове-
ка с природой. В этом, думаю, Тойнби не прав. Надо вернуться к христианству,
но не столько к историческому западному христианству с его пафосом соб-
ственной исключительности, сколько к обновленному — на базе той универ-
сальной его модели, где будет учтен опыт восточного христианства, прошед-
шего мимо проекта модерна с его техносциентоцентризмом.
Инструментализация религии —любой — нонсенс. Человек не может «вве-
сти» религию, понимая ее «спасительность» в определенном прагматическом
1 Тойнби А., ИкедаД. Диалог Тойнби — Икеда: Человек должен выбрать сам. М., 1998.
С. 381.
2 Там же. С. 385.
Из записей
695
смысле. Приходом и закатом религий управляют сами боги, в конце концов.
Возврат к религиозной жизни возможен лишь как абсолютно свободный вы-
бор человека, что означает соучастие в нем Бога (concursus Dei).
Не проявил ли себя Тойнби оппортунистом, назвав в разговоре с представи-
телем дальневосточной культуры христианство «неверной религией» 3? Рели-
гии односторонни для неверующих, для стоящего вне их ума. Но они «всесто-
ронни», цельны и полны жизни для верующих — как бы они ни назывались. И
именно поэтому их нельзя практиковать как вакцинацию против болезней тела.
(По поводу призыва Тойнби к пантеизму и синтоизму ради спасения от эко-
логического кризиса.)
На мой взгляд, серьезно верить в «постхристианство», в то, что христиан-
ство — навсегда преодоленный этап истории человечества, значит терять и
почву под ногами, и небо над головой.
«Постхристианство» — такой же нонсенс, как и «сверхбог».
Почему такой умный, проницательный человек, как Тойнби, не понял хрис-
тианство? Не потому ли, что в детстве ему догматически навязывали его опре-
деленные и узкие формы?
Ум как Нарцисс: случай гностика
Гностик-рационалист нечувствителен к человеку единичному: он говорит о
Человеке! О новой антропологии! И как он проходит мимо человека-лица, так
он уносится мыслью мимо Бога как живой сверхличности-личности к Абсо-
люту философов и гностиков. Но в Абсолюте нет душевного тепла, нет лица. И
поэтому гностик не видит человека, будучи упоен своим Знанием о нем.
Суждение как насилие
Сказать об А, что оно не А, а Б, не значит ли совершить по отношению к
нему акт насилия?
Интеллектуальная схема как эрзац веры
Представленные соотношениями понятий и категорий концепции и схемы
для неверующего философа заменяют религиозную веру. Стоит только указать
3 Там же. С. 386.
696
Глава VIL Философия и культура
ему на то, что они не схватывают жизни своего предмета и тем самым просто
неверны, как тут же получаешь суровый отпор эмоционального свойства: тако-
му философу страшно остаться без крепостной стены схемы, отделяющей его
от темной бездны непостижимого. Остаться без привычной схемы, без несо-
мого ею готового «решения», без создаваемой ею иерархии в интеллектуаль-
ном мире наедине с суровым опытом непонятной жизни — значит потерять
ментальный уют и самооправдание.
Как для музыки нужен зал с хорошей акустикой, так для слов нужна тишина.
Дело и слово
«Дела» судят «слова» — и мы обычно, не задумываясь, соглашаемся с та-
ким порядком. «Дела», объединившись с «вещами», присоединив к себе и смысл
«сути», «сущности» (немецкое Sache), судят «слова» — поэзию, грезы души.
«Практика» судит «теорию». Но не забывают ли подобные судьи, что на самом
деле именно поэзия есть «суть вещей и суд над ними» 4?
Душа Запада
«Мечом мы пробьем себе брешь во времени!» 5 Не в этой ли красивой фра-
зе — самая задушевная мысль Запада, раскрывающая его сердце и тайный
импульс веры в себя? В ней Зигфрид обнимает Платона.
Слово: общение в ТИШИНЕ
«Искра Божия» в творчестве, в его результатах может распознаваться лишь
человеком с большим опытом по части «искрения». «Я отличаю, — говорит
Бенуа, — где светится подлинная искра, а где только ее отблеск или даже про-
сто подделка под нее» 6. Объективную, машинно-тестовую систему оценки со-
здать нельзя — нужен человек-оценщик, опытно знающий, что такое «искре-
ние», озаряющее художника.
Может ли быть истина безвкусной? Вкус — достояние личное или лично-
сти. А истина? На низшем и вторичном своем уровне может: например, сегод-
ня вторник и нет дождя. Но на высшем и первичном — нет, не может. Как и
4 Выражение Г. фон Гофмансталя.
5 Г. фон Гофмансталь. «Башня».
6 Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Кн. 1—3. М, 1993. С. 180.
Из записей
697
вкус, истина в основе своей — лична, персональна, если и доступна обезличи-
ванию в суждении «всемства», то с утратой и высоты, и глубины — качества
своего. Глубокая истина, тонкий вкус живут личной жизнью: сами есть лишь
обостренная, приподнятая личная жизнь. И общеупорядочивающему уму их
не выразить без утраты самого ценного в них. Тем самым они сближаются, и
имеет смысл говорить о «вкусе истины» и об «истине вкуса». Ведь если верно,
что о «вкусах не спорят», то столь же верно, что не спорят и о настоящих исти-
нах — их признают, их свидетельствуют. А ведь именно это же самое и делает
вкус относительно ценного и значительного в жизни и творчестве.
Сфера вкуса
Научной объективности у суждений вкуса нет. Но есть ценность. И она тем
выше, чем значительнее личность, их производящая. На таких суждениях стро-
ится культура — прежде всего художественная, но и философская, пусть с ого-
ворками...
Увы, но штамп делает штампом именно художественная его неотразимость.
Но эта артистическая точность имела место в единственной и давно забытой
ситуации. Затем меткое слово стало применяться наподобие контрамарки, обес-
печивающей «легкую жизнь» и приятную позицию знатока, избавляя при этом
от труда изучения и радости подлинного открытия.
(По поводу выражения «скрипка Энгра».)
Искусственная жизнь в высшей степени естественная для человека — вот
что такое культура. Эту жизнь можно определить как искусство целей: «знать,
что тебе следует делать, и знать, что тебе следует знать» (Гофмансталь). Но
свет этих целей светит через посредство подвижных, изменчивых, нитеобраз-
но тянущихся из эпохи в эпоху «приемов», «форм», «навыков», «умений» и т. п.
Приведу один пример. Культурой или культурной формой можно считать,
скажем, масленичный балаган, существовавший в старом Петербурге. Эта куль-
тура возникла, развилась, пережила расцвет и затем умерла. Культура — орга-
низм, где лишь условно можно отделить цель от средства. Культура как орга-
низм есть цель-средство, цель-со-средством: живая цель. Когда петербургский
балаган умер, осталось слово «балаган», несущее значение грубого кривляния,
поддельного, искусственного, вымученного наигрыша. Например, блоковский
«Балаганчик» — подобный отголосок уже мертвой во времена Блока культуры
балагана.
Ритм культуры: причастность/отстранение, естественность/искусственность
самой культуры как искусственной жизни.
698
Глава VIL Философия и культура
Культура как искусственность жизни достигает своих высот тогда, когда ее
искусственности не замечаешь.
Главное оправдание физики Сенека видел в возвышении души. Стоики по-
нимали, что теоретические науки — не более чем интеллектуальные виды ду-
ховных упражнений, смысл которых — в обретении духовного блага, в конце
концов, в преображении самого духовного бытия —ядра личности. Спиритуа-
листами и персоналистами они не были, но к подобному мировоззрению под-
водили.
Даже в новое время Декарт считал, что теоретическая наука должна совер-
шенствовать душу. В высокой рационалистической традиции, включая Г. Баш-
ляра, эта функция теории всегда имелась в виду: сциентоцентрический пафос
был собственным пафосом души, можно даже добавить, души благородной. Я
тем самым хочу сказать, что в основе рационализма и его такой крайней фор-
мы, как сциентоцентризм, лежит определенная экзистенциальная антрополо-
гия («высший психизм» Башляра, рациональность и научность как сущност-
ное «ядро» души человека).
Любовь к мудрости = философия. Любовь к философии = филофилософия.
Ситуация, когда филофилософия вытесняет философию, есть господство «схо-
ластики», текстолатрии. «Отныне, — пишет Адо, — спорят не о самих пробле-
мах, толкуют не о самих вещах, а о том, что говорят относительно проблем и
вещей Платон, Аристотель или Хрисипп» 7. Такое философствование и есть
схоластика — школьно-учебное резонерствование над квазисакральным тек-
стом. Мудрец вытесняется философом, а философ — филофилософом. Не за-
будем, однако, что действию противостоит провоцируемое им противодействие.
Примером чего выступает экзистенциальная традиция в философии и, напри-
мер, сам П. Адо, профессиональный «схоласт» — толкователь текстов.
Античный мудрец: чемпион самотождественности, владеющий техникой
оставаться самим собой при любых обстоятельствах. Основанием для такого
искусства выступает «мироверие»: мир как целое (космос) безусловно ближе
такому мудрецу, чем трансцендентный миру Бог. Неудивительно, что стоики
прямо обожествляли космос. Эпикурейцы же помещали своих богов в между-
мирия, где бессмертные наслаждались самодостаточностью, служа для них об-
разцом невозмутимости.
7 Адо П. Что такое античная философия. М., 1999. С. 167.
Из записей
699
Главное отличие иудео-христианской установки от эллинской: греки верят
в неизменную разумную сущность вещей, в их природу, в то время как библей-
ская установка выше вещей и их неизменных сущностей и законов ставит веч-
но живую и беспредельную, непостижимую волю Бога. Эллинский философ
учит: отбрось свои мнения о вещах, поднимись над чувственными образами
вещей к их умопостигаемой сути, к тому, как они существуют сами в себе, и
тогда будешь безмятежен, невозмутим, счастлив. Библейский же человек ска-
жет: во всемогущем Боге нет никаких вещей-в-себе, нет неподвижных неиз-
менных сущностей. Для Божественной воли все возможно, все подвижно, ибо
Богом все сотворено из ничто, весь мир и само время мира. Иными словами,
эллинская мысль есть онтология мирового разума. Отсюда и этика: нужно по-
знать мировой разум, во всем следуя ему — и только на этом пути возможна
правильная и блаженная жизнь, достижимо возможное для смертного совер-
шенство. Библейская же мысль мыслит началом всего не онтологию универ-
сального разума, а свободу Божьей воли. Сосредоточием человека, антрополо-
гическим центром считается поэтому не разум, а воля, сердце, вера.
Поздно
«Всегда суровому и важному» Ксенократу Платон советовал «принести жер-
тву харитам» 8. Я бы Платонов совет переадресовал многим известным фило-
софам наших дней. Но боюсь, что поздно.
Разрыв между «дискурсом» и «жизнью» внутри философии, существовав-
ший и в античной философии, прежде всего в ее учено-комментаторской, школь-
ной традиции, был существенно обострен и усилен тогда, когда распростра-
нившееся христианство взяло на себя функции философии как «жизни» —
как образа правильной, ведущей к спасению, жизни. Тогда самой философии
осталась только теория, теоретический дискурс, который стал обслуживать
духовную практику христианского типа, ее богословское формулирование и
обоснование. В новое время философия как дискурс стала обслуживать на-
уку, в сфере которой сосредоточились главные упования европейцев. Поэто-
му философия как образ, стиль жизни — правильной, счастливой, мудрой —
оставалась маргинальной. Правда, это экзистенциальное, духовно-практиче-
ское ее ядро давало жизнь и самым ярким ее теоретическим достижениям.
Но эта связь оставалась едва осознаваемой. В наши дни о ней своевременно
и в ясных выражениях напомнил П. Адо, а более косвенным образом —
М. Фуко.
Там же. С. 230.
700
Глава VII. Философия и культура
Не есть ли воля бытие в его подчеркнуто динамическом, направленном ха-
рактере? И тогда расположенность воли человека захватывает его онтологи-
ческий уровень. На этом уровне оформляется диспозиция быть — чувство-
вать — мыслить (порядок здесь отвечает онтологическим приоритетам). Именно
с нею имеет дело цельный личный опыт человека (Комментарий к фразе Пло-
тина: «желание... порождает мышление» — Энн. V 6, 5).
Философия не есть объективное знание (скажем, вроде геометрии). Фило-
софия есть личная, совершаемая в диалоге миникоммюнотарного общения
попытка оформить опыт личности в связное и полноохватное мировоззрение.
Если такая попытка достигает определенного уровня своей выразительности в
глубоких слоях бытия, в тех, где «пересекаются» внутренний и внешний миры,
то философ обретает силу воздействовать на других людей, побуждая их если
и не прямо разделить выбранную и сформированную им самим жизненную
позицию, то во всяком случае внести свой вклад в аналогичные труды других
людей. Функции духовного руководителя, учителя жизни в философе значимы
больше, чем функция объективного познавателя, каковая определяет назначе-
ние ученого. Формирование образа жизни трудно отделить у философа от тео-
ретического рационального обоснования этого образа: философия как «жизнь»
и философия как «дискурс» взаимозависимы, хотя приоритет остается за «жиз-
нью», за началом цельно-личностным и бытийным. Если работа мысли-жизни
достигает такой глубины, то ее развертка, ее результаты обретают так или ина-
че универсальное значение (надо его отличать от объективной значимости на-
уки и ее результатов). Поскольку жизнь не может не осознавать себя, постоль-
ку каждый человек потенциально, в зародыше — философ. Но далеко не каж-
дый актуализирует эту возможность. В отличие от «каждого» философ тот, кто
достигает высокого мастерства в претворении своего личного опыта в действи-
тельно всеобще значимые формы.
Экзистенциально-личный опыт столь емок и глубок, что в принципе не
поддается полной и однозначной теоретической рационализации, объектив-
но-понятийному осмыслению. Отсюда — символический характер его выра-
жений.
Философ как муха
Опасность для философа: зачарованность концептуальной паутиной, кото-
рую наплела история философии и которую он сам хочет напаутинить еще и
еще, млея от предвкушения «новизны» добавляемых им узоров.
Из записей
701
Идеал новоевропейского разума — ясность и отчетливость. Первый прин-
цип метода Декарта: de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se
présenterai si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune
occasion de le mettre en doute 9. Итак — ясность и отчетливость. Но в каком
свете! В свете «света веры» (la lumière de la foi) или в свете «естественного
света» (la lumière naturelle) самого разума? Декарт не ставит этого, на мой взгляд,
кардинального вопроса, видимо, потому, что для него существует как бы есте-
ственная гармония между этими двумя видами света. Поскольку вопросы о
божественном он оставляет богословам, постольку в соответствии с контек-
стом его рассуждений следует считать, что ясность и отчетливость как крите-
рий истины понимаются им как характеристики, предполагающие «естествен-
ный свет» самого разума. Но именно «божественные вещи» разум с этим его
«светом» стал вскоре после Декарта ставить под сомнение, а затем и просто
отвергать как то, в чем он не нуждается.
Важны не сами по себе «ясность и отчетливость», а именно качество и проис-
хождение света, в котором они возникают. Свет — метафора глубокого уровня
бытия, не достижимого «автономным» разумом, скользящим по поверхности
вещей как объектов. Разум как свет возникает в свете первичном и цельном —
в свете веры. Провозглашение самозаконности разума есть акт непризнания
его собственного истока. В таком случае «естественный свет» превращается в
искусственный. У Декарта естественность света разума совмещалась с его бо-
жественными коннотациями: естество не мыслилось им совершенно «освобо-
дившимся» от связи со своим Творцом. Но как только эта связь рвется в глуби-
нах человеческого духа, не хотящего своего Творца, тогда и естественный свет
разума (с его скрытой или явной гармонией со светом веры) становится искус-
ственным светом, светом «полезных» конструкций, искажающим взгляд чело-
века на мир, на их связь и единый исток. Свет разума, ставший искусственным,
не может не стать ненавистным для сердца — не светом, а тьмой на пути света
веры... И это происходит, начиная с эпохи Декарта (даже раньше), когда не
разум как таковой, а сам дух человека захватывается непомерной гордыней,
заносчивостью — тем, что греки называли «хюбрис».
Разум сегодня превратился в техническую рациональность, создающую и
поддерживающую вторичную и внешнюю цивилизацию средств, поглощаю-
щую, точнее, затеняющую культуру целей, истоков, корней и живых начал.
Культура сегодня объективно описывается с помощью структурных мето-
дов, она все больше и больше отстраняется от такого объективирующего ее
9 «Не включать ничего в мои суждения, кроме того, что предстает моему уму так ясно и
так отчетливо, что у меня нет никакого повода подвергать это сомнению» (Рассуждение о
методе, 2-я часть. — Перевод мой. — В. В.).
702
Глава VII. Философия и культура
наблюдателя: на самом деле он отстраняется от культуры, выбирая вместо нее
цивилизацию научно-технических средств. Творчество замещается объективи-
рующей обработкой прошлой культуры — комментарием, предисловием, ис-
следованием, переводом и т. п. Философия вытесняется профессорской фило-
софией, историей философии. Чем отличается профессорская философия от
философии? Тем, что первая толкует готовые философские тексты, не выра-
жая глубинного личного опыта. Философ, ставший толкователем, на манер
ученого запрещает своему опыту быть внутренним гидом его работы. Духов-
ный опыт, который оформляли в своем творчестве великие философы, отло-
жившись в их «текстах», прерывает свою традицию в тех профессорах, кото-
рые толкуют их: философия исчезает, уступая место комментарию. В средние
века Европу поражала просто чума. Сейчас ей угрожает «чума научности».
Диссертации и толкования не пишет только самый ленивый. Компьютеры де-
лают этот труд доступным кому угодно. Никакого личного духовного опыта не
требуется — требуются только машинные навыки, умение приспособиться,
подобрать литературу, разместить цитаты.
Почему в наши дни такой интерес к неоплатонизму? Не из-за мистических
интуиции Плотина, не из-за содержащихся в его трактатах отблесков высокой
духовной жизни, глубоких прозрений, цельности разума и жизни. А потому,
что наша современная комментаторская, вторичная по типу культура тяготеет
к себеподобной. Рыбак рыбака...
Хайдеггер и христианство
Г. Марсель был совершенно прав, как-то в беседе с Рикёром воскликнув,
когда речь зашла о Хайдеггере: «Так ведь он же — грек!» По Хайдеггеру, мир
греков — выше, глубже, истиннее, ибо ближе к тайне бытия, чем христианский
мир. Ему во всем точкой отсчета служат греки. И в этом он следует за Гельдер-
лином, для которого Иисус Христос — брат Геракла и Диониса и сын Зевса 10.
Федье, который много занимался Хайдеггером, приходит к выводу, что для него
«мысль о бытии выше мысли о Боге» п. Обратим внимание: всюду у Хайдегге-
ра речь идет только о мышлении, о мысли: и бытие, и Бог — все это сюжеты
мысли, философ интересуется исключительно тем, как их можно мыслить. Но
ведь сама мысль не есть высшее! Это для рационалистов, для греков, мысль
есть то, что правит и богами, что превыше всего. Ведь когда греки говорят, что
и над богами царит Необходимость, то они тем самым утверждают, что мысль
10 Heidegger et la question de Dieu. P., 1980. P. 44.
11 Ibid. P. 45.
Из записей
703
превыше всего, могущественнее самих богов, поскольку Необходимость они
отождествляют с разумом или мыслью. Но установка на сведение Абсолюта к
рациональному содержанию является ложью в свете христианства, освободив-
шего свободу из плена необходимости.
Марион, Хлйдеггер и любовь
«"Любовь" у Хайдеггера, — пишет Марион, — остается, как и во всей ме-
тафизике, в состоянии вторичном и производном» 12. Это означает, что она еще
не слишком «захватана» и «заляпана» мыслями о ней, чтобы не быть способ-
ной освободить мысль, ищущую в «божественном» направлении. Марион про-
делывает с Богом (точнее, с написанным словом «Бог») то, что с бытием (Sein)
проделал Хайдеггер, перечеркнув обозначающее его слово (^Îq). Он считает
этот — на мой взгляд, детский — прием удобным для того, чтобы отстранить-
ся от «идололатрии» или объективирующего оконечивания Бога. На этом пути
остается один-единственный (не требующий перечеркивания) знак для обо-
значения Бога — любовь ( осушгп). «Если, — говорит Марион, — Бог не суще-
ствует, но, по определению, любит, то никакое условие не может ограничить
подобной инициативы... Любовь любит безусловно, в силу самого простого
факта, что она любит» ,3. Под форму «причины себя» (causa sui) лучше всего
подходит именно то содержание, которое содержится в любви. Мысль Марио-
на очевидна: мы избежим объективации (у него «идололатризации») Бога, лишь
постигая, что Он — Любовь.
Об А до и его концепции
Не спорит ли Адо со своим тезисом о философии как образе жизни, восста-
навливающим безусловную ценность стоиков и эпикурейцев, с апостолом Пав-
лом, сказавшим, что «мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Коринф.
3,19)? Ведь Адо и хочет сказать, что Бог христианства как раз не обесценил
мудрость античных философов, что она в свете христианской Благой Вести
безумием не стала.
Невместимость
Греческая рациональная онтология не может «измерить» библейского Бога
с его откровением на Синае. Измерительные средства в виде выработанных ею
категорий здесь бессильны.
Ibid. Р. 68—69. Ж. Л. Марион (Marion) — франц. философ, автор книг о Декарте.
13 Ibid. Р. 69.
704
Глава VIL Философия и культура
Как возможна христианская философия! Вопрос оправдан прежде всего в
том случае, если мы принимаем понимание философии как образа подлин-
ной цельной жизни — мудрой и счастливой, правильной и совершенной в
пределах возможного, если мы принимаем это ее понимание, которое разви-
вали в поздней античности прежде всего стоики и эпикурейцы и на которое в
наши дни снова указал Адо. Дело в том, что такая жизнь с приходом христи-
анства сосредоточилась для верующих в практике самой христианской веры,
в открытом ею мире богообщения. Поэтому христианская философия как
оптимальный образ жизни лишается своего содержания: оно осуществляет-
ся в собственно христианской жизни, не зависимой от какой бы то ни было
философии. Христианство и есть реализация философии в этом ее смысле.
Казалось бы, в таком случае христианская философия возможна не как жизнь
(образ жизни), а как дискурс. Но философия как дискурс есть оправдание ее
как образа жизни, есть он сам в его интеллектуальной проекции. Но и «образ
жизни» и высшая «форма» ее содержательно уже «заняты» исповеданием веры
Христовой и соответствующей духовной практикой. Поскольку интеллекту-
альная проекция христианской жизни дана в богословии, то христианская
философия ставится под вопрос и как дискурс. В этом я вижу смысл фразы
Хайдеггера, назвавшего христианскую философию «квадратным кругом» |4.
Однако если этой фразой он хочет сказать, что ее не существует, то он, на мой
взгляд, ошибается: непостижимость возможности чего-то не означает его
несуществования.
Бытие и Бог — не тождественны, по Хайдеггеру. Высвечивание бытия, его
испытание в его истине (открытости) есть условие возврата священного, в про-
странстве которого возможно появление и Бога, и богов. Бытие — священное —
боги: такая последовательность утверждается Хайдеггером. Связь между Бо-
гом и бытием у него более отдаленная, чем между священным (сакральным) и
бытием. Озабочены вопросом о бытии мыслитель и поэт, верующий в Бога не
нуждается в мышлении бытия. Позиция Хайдеггера: ни теизм, ни атеизм. Суть
дела — в вопросе о бытии, об открытости бытия (истине), о выходе к бытию, к
его высвечиванию. Это делает возможным и вопрос о Боге и богах. По Хайдег-
геру, как я его понимаю, человек должен быть готов как к появлению богов или
Бога, так и к их молчанию. Но в последнем случае его ждет катастрофа «перед
лицом Отсутствующего Бога» ,5.
14 Phénoménologie et théologie. P., 1966. P. 120.
15 Из интервью журналу «Spiegel» от 31 мая 1976 г.
Из записей
705
Истина: две концепции
Схоластическая: истина содержится в супертексте (Аристотеля, Платона,
св. Фомы...). Экзистенциально-духовная: истина ищется в духе и свободе, при-
открываясь в личном опыте. Вердикт: нельзя делать текст исключительным
местом для истины.
От удушения в профессорстве и схоластике философию спасали редкие,
художественно чуткие таланты. Одним из них был А. Бергсон. «Суть филосо-
фии, — говорил он, — в духе простоты... Всегда и повсюду усложнение явля-
ется поверхностным, конструирование — вторичным аксессуаром, а синтез —
видимостью. Философствование — это простой акт» 16.
Не существует постоянного числа, описывающего «процент» античной фи-
лософии, вошедшей в состав христианской духовности. Поиск абстрактных,
претендующих на универсальность «формул», вроде формул химического со-
става веществ, в этой сфере — безнадежное дело. Основание тому в том, преж-
де всего, что этот процесс не закончен и до сих пор. Спор античного наследия
с христианским откровением — живая душа европейской культуры, «генера-
тор» ее удивительного динамизма. Можно говорить о сочетании несочетаемо-
го — притяжений и отталкиваний. Эллинизации христианства противостоит
не менее мощная его «рехристианизация», что проявляется, например, в пери-
одическом возрождении «волюнтаристской» установки в теологии и филосо-
фии. Христианство распространилось среди самых широких слоев населения
Римской империи. Среди них образованная элита, естественно, в большей мере
была способна усваивать античные философские традиции. Но такой важный
феномен, как монашество, по признанию Адо, возник в чисто христианской
среде: «Первые монахи не были образованными людьми, а были простыми
христианами, стремящимися достичь христианского совершенства героическим
практикованием евангельских заповедей... Они искали свои технологии совер-
шенствования в Ветхом и Новом Заветах. Но благодаря влиянию александрий-
ской традиции — от Филона, Оригена и Климента, что было подхвачено кап-
падокийцами, — некоторые философские духовные техники были внедрены в
христианскую духовность. В результате христианский идеал был описан и ча-
стично стал практиковаться с помощью заимствования моделей и словаря из
греческой философской традиции. И благодаря ее литературным и философ-
ским качествам эта тенденция стала господствующей...» ,7.
16 Bergson H. La pensée et le mouvant. P., 1946. P. 139.
17 Hadot P. Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. Oxford;
45-3357
706
Глава VIL Философия и культура
Создать всеохватное и при этом цельное, непротиворечивое и истинное уче-
ние — а именно к этому стремилось большинство философов — невозможно.
Я приведу для иллюстрации один пример. Л. Шестов во всех философиях (ис-
ключений почти нет, кроме теолога XI в. П. Дамиани и С. Кьеркегора) увидел
общее им всем содержание — Гидру Необходимости, не подчиняться которой
невозможно. И он был во многом прав: и античные философы, и новые учили
о Едином Разуме, о мировых Законах, о Единой Природе и т. п. Но вот уже у
эпикурейцев был принцип множественности объяснений явлений природы. И
ум тем самым оказывался более свободным от тисков природной необходимо-
сти. Более того, допускаемое ими спонтанное отклонение атомов давало до-
полнительную опору для упражнений в свободе. Поэтому можно сказать, что
Шестов преувеличил значение необходимости в ущерб свободе, которая тоже
тематизировалась философами. Этот случай показывает, что философия сама
себя корректирует. И отсюда — множество философий.
Начало и конец этого рассуждения — не аргумент в пользу скептицизма и
агностицизма. Истина доступна человеку, если он сам всем существом своим
как личность открыт ей навстречу. Но она — антиномична, сверхрациональна.
Что не означает «иррациональна».
Прав Фуко: в новое время утвердилась юридическо-дознавательная модель
познания, когда природу пытают, когда человек тянет ее на аркане своих воп-
росов, заставляет подстраиваться под себя. Разум, говорит Кант, подведший
итоги новой науке и ее методам, «должен подходить к природе... не как школь-
ник, которому учитель подсказывает все, что он, учитель, хочет, а как судья,
заставляющий свидетеля отвечать на предлагаемые им вопросы» 18.
В основе такой познавательной модели лежит самообожествление челове-
ческого индивида с его земными аппетитами, начатое в эпоху Возрождения и
утвердившееся как модель цивилизации в новое время. Мировую силу, сто-
ящую за таким самообожествлением, Тютчев называл Революцией, формы ко-
торой бесконечно разнообразны, а дух один — богоборческий эгоцентризм
земного индивида. «Как же хотите вы, — писал он, — чтобы человеческое «Я»,
эта определяющая частица современной демократии, не избрало себя объек-
том самовозвеличивания и поскольку, в конце концов, оно не обязано призна-
вать иную власть, кроме своей, кого же оно должно было обожествлять, как не
самого себя?» 19 Кант эту силу приветствовал, рассматривая ее как проявление
Cambridge (USA), 1995. P. 140.
18 Кант И. Критика чистого разума. М, 1994. С. 17 (перевод отредактирован мной. —
В. В.).
19 Цит. по: Кожинов В. Тютчев. М., 1988. С. 289.
Из записей
707
возмужания разума человека, берущего все в мире под свою суверенную власть,
и называл ее Просвещением (Aufklârung).
Философия как духовная практика
Цель философии — не тренаж отвлеченного интеллекта, не преподавание
готового учения, а преобразование всего человека, всего его существа, делаю-
щего его более совершенным.
Цель философии — жить философски. Жизнью этой и других научить так
жить. И только в свете этого назначения оправдан и теоретический философ-
ский дискурс.
Цель философии как общения и практики — переход (обращение, conversio,
metanoia) от нефилософского образа жизни к философскому как искусству (бо-
лее) совершенной жизни.
Не следует думать, что философия как духовная практика реализовывалась
исключительно в этике как части философии (логика, физика, этика — тради-
ционное деление философии на основные части). Этика не может вместить
всего искусства жить философски: для этого требуется и логика, или диалек-
тика, и физика. Ведь человек живет и в мире интеллекта, и в космосе. И эти
стороны его жизни «настраиваются» логикой и физикой не как видами отвле-
ченного знания, а как видами особых «привлеченных» духовных практик.
О Бергсоне
Почему удар Бергсона по позитивизму был столь сокрушительным? Да по-
тому, что он философствовал в рамках еще более строгой научности, чем сами
позитивисты.
Бергсон — сказочный принц, своим поцелуем в виде «непосредственных
данных сознания» 20 ожививший мертвую принцессу — европейскую Мета-
физику.
Фуко запутался в суждениях о христианской аскетике. Ему, идущему по следу
Адо, хочется ее подверстать под «заботу о себе» (souci de soi): «Античная фи-
лософия и христианская аскетика, — говорит он, — размещаются под одним и
тем же знаком — знаком заботы о себе» 2|. Но далее он говорит уже о несовме-
стимости христианского пути спасения (как требующего «отказа от самости»)
20 Название пионерской работы Бергсона (1889).
21 Foucault M. Dits et écrits. Vol. 4. P., 1994. P. 787.
45*
708
Глава VII. Философия и культура
и традиции «заботы о себе» 22. Впрочем, эти блуждания философа неудиви-
тельны: он дважды чужд этим вопросам. Во-первых, не будучи верующим че-
ловеком, он может описывать христианство только внешним образом и поэто-
му неадекватно. Во-вторых, как ученый он не специалист ни по истории антич-
ности, ни по истории христианства, в частности перехода к нему от древнего
мира. В этом отношении он уступает Адо.
Суть дела в том, что вне христианской духовной традиции «самость», «Я»,
«личность» вообще не существуют в культуре Европы и, естественно, вне ее
непостижимы. При этом их «постижимость» есть лишь питаемое символами
этой традиции выражение их непостижимости.
Как философу разморочиться
Замороченность философов «идеями» снимается искусством, музыкой, по-
эзией, литературой в союзе с религизной верой, вырастающей из личного ду-
ховного опыта. Если вызванных ими и составляющих стержень жизни пере-
живаний у философа нет или они слишком блеклые, то разморочки не будет:
сама себя философия философов освободить от нее не может.
Заморочка — это соблазнившая философа «идея» — «интересная», «важ-
ная», «новая», «передовая», «прогрессивная» и т. п. Модные мысли с чужого
плеча могут быть отброшены потрясениями, оголяющими душу и ум. Размо-
рочка есть открытие просвета для возможного зарождения своей оригиналь-
ной и потому подлинной мысли. Не мыслит не только наука (об этом говорит
Хайдеггер), но не мыслит и философия, точнее, философы, которые замороче-
ны. Разморочившись, они могут начать мыслить, будь то под старость лет.
Мыслителем со стойким иммунитетом к заморочке был В. В. Розанов. Фено-
менология Гуссерля, кстати, — замороченное стремление к разморочке.
Проект модерна
XVI—XVII столетия. Западная Европа: смуты, конфликты, войны. Запад-
ный европеец приходит к выводу о неэффективности магии и религии. Он ре-
шает, что сумеет их заменить универсальным и эффективным средством реше-
ния самых жизненно важных задач (искоренение бедности, невежества, болез-
ней...) — наукой.
Выбор пал на то, что позволяло, как тогда казалось, действуя методически в
изменчивом, полном превратностей мире, решать важные и носящие устойчи-
вый характер задачи — управлять миром, побеждать болезни, возможно, вплоть
22 Ibid. Р. 788—789.
Из записей
709
до достижения бессмертия... Этими задачами раньше занимались магия и ре-
лигия. Но, разуверившись в их эффективности, западный человек решил, что
теперь ими эффективно займется новая наука.
Может ли опыт Другого переживаться как свой собственный? Вопрос архи-
важный. Представьте себе такую ситуацию: в одном месте Земли льют дожди,
а в соседнем свирепствуют засухи. Соответственно, люди, живущие в околопо-
топном состоянии, осваивают навигацию по водным путям, научаются стро-
ить мосты и дамбы. А те, кто живет в засушливой зоне, научились искусству
рытья колодцев, сбору воды в пустыне, особым приемам земледелия. Культу
Солнца в первом регионе отвечает культ Воды во втором. Можно ли считать
этих людей поверхностными умами? Допустим, что можно, потому что в прин-
ципе можно узнать о жизни своего соседа по Земле. А о жизни «соседа по
времени»? Можно ли считать умным человека, чей взгляд «обрывается куцый»,
условиями его времени ограничиваясь?
Я ставлю эти вопросы по одному конкретному поводу. Поверхностный ли
ум Вольтер? Что это ум острый, блестящий, изобретательный, широкий — бе-
зусловно. Но глубокий ли? И уж, кажется, точно — не пророческий. В даль
времени он не глядел. А если глядел, то ее не прозревал. Почему? Да потому,
что от людей подобных Пьеру Бейлю, гонимому гугеноту в эмиграции, усвоил
передовую «близорукость» своей эпохи — он не мог понять, что между фана-
тизмом и религиозностью отсутствует необходимая связь, что фанатизм атеис-
тов, стадообразно сплоченных, может быть несравненно страшнее фанатизма
верующих. Свой и близкий опыт жег сильнее, чем не столь дальний опыт в
будущем.
Мелким умам, салонным умникам, подозревающим за современным нерав-
нодушием к христианству вертлявый расчет, приспособленчество и моду, я бы
ответил словами Гоголя: «Помните, что в то время, когда мельче всего стано-
вится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все и никто не
верит чудесам — в это время именно может совершиться чудо, чудеснее всех
чудес» (письмо С. Т. Аксакову от 6 (18) авг. 1842 г.)23.
Мир как порядок, т. е. космос, держится самодержащимися качествами-эй-
досами. Если красота не прекрасна, если гнев не гневен 24, то все полетит в
тар-тарары.
Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. М, 1988. С. 32.
«Князь гневный как сам гнев» (Гоголь. II том «Мертвых душ»).
710
Глава VIL Философия и культура
Лучше
Лучше стоять на своем месте, чем лететь в чужом ветре. Перестанет дуть —
упадешь.
1685 год: трагический год для христианской Европы. Людовик XIV, «хрис-
тианнейший» из королей, отменяет Нантский эдикт.
Чего иного после этого можно было ждать, как не Вольтера, Белинского и
Ярославского?
Ахиллесова пята марксизма
Почему марксистское учение о примате материального производства оказа-
лось в конце концов безжизненной схоластикой, почему учение о материаль-
ной практике — мертвое отвлеченное умствование? Да потому, что сам его ос-
нователь, лично сам, никакой материальной практики не знал. Для обедов и
домашнего комфорта у него была Ленхен, кухарка и уборщица. Он не строил
домов, не варил обеда, не чинил штанов, не рыл траншей, не возделывал огоро-
да, не тачал сапоги, не делал мебели. Маркс не из личного опыта, а «из пальца»,
из своей теоретической отвлеченной головы «высосал» теорию неотвлеченной,
конкретной материальной практики. Исходя из созерцания и абстрактного духа,
он пришел к их отрицанию — к предметной деятельности, к несозерцанию и
конкретной практике. Но при таких начальных условиях полученный принцип
ничем другим, кроме схоластики и мертвечины, оказаться не мог. Так оно и
получилось.
Наука как познавательный эрос
Люди, ориентирующиеся духовно на науку (поскольку такое вообще воз-
можно), ждут от нее разгадки тайны реальности (здесь каждое слово экзис-
тенциально нагружено, может быть, даже в ущерб его философской прояснен-
ное™). Весь познавательный эрос, на который они способны, фокусируется в
этом ожидании: наука, продвигаясь вперед, рассеет завесу, закрывающую от
нас саму реальность.
Кантианство и позитивистская теория науки внесли холод скепсиса в эти
ожидания: в науке речь не идет о познании реальности самой по себе, а только
о познании отношений между явлениями нашего опыта. Но подобный холод-
ный душ не остудил экзистенциального научного эроса. И люди ждут... Вот
квантовая механика, вот физическая теория всего, вот еще будет создано что-
то новое — и откроется реальность...
Из записей
711
Но не закрывают ли они искомую ими реальность, тайну бытия, невнима-
нием к своему внутреннему миру?
О ГРАНИЦАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ
Техническое отношение к миру — в центре западной мысли. Современная
философия языка (по крайней мере западная) занята анализом языка как тех-
нического средства. А меня интересует в языке другое: не язык-средство, а
язык-цель, язык-смысл, не язык-мир, а язык-бог, если угодно. Я ведь не только
решаю технические проблемы овладения языком (и миром), но я и дружу, я
люблю, я почитаю Высшее через язык. А вот здесь — пусть техника не меша-
ет, ибо дело тут к ней не сводится: ведь речь теперь идет не об овладении, а о
самоотдаче, не о захвате мной Другого, а о моей собственной захваченности
Другим, не о том, чтобы сделать Другое моим, а о том, чтобы мое отдать Дру-
гому. Техника нужна и дружбе, и любви, и вере. Но из техники не «вытянуть»,
не произвести, не сконструировать ни дружбы, ни любви, ни веры.
Не повернула ли квантовая механика научную мысль к символизму! И не
сделали ли тем самым естественные науки шаг навстречу гуманитарному зна-
нию? Об этом думаешь, читая, например, такие места у Гейзенберга: «Ситуа-
ция дополнительности, — говорит он, — привела к тому, что физик, говоря о
событии в мире атомов, нередко довольствуется неточным метафорическим
языком и, подобно поэту, стремится с помощью образов и сравнений подтолк-
нуть ум слушателя в желательном направлении» 25.
Фактор Лейбница
Рассуждения Бора, апеллирующего к принципу дополнительности, толкуе-
мому им очень широко, напоминают мне размышления Лейбница, направлен-
ные против Декарта и ведущие к постулату предустановленной гармонии. Бор,
например, говорит о дополнительности финалистских и причинных описаний.
В биологии «оба способа описания, — говорит Бор, — взаимно исключают друг
друга, но не обязательно противоречат друг другу» 26.
В этом высказывании можно видеть своего рода ослабленную формулиров-
ку принципа предустановленной гармонии. Действительно, тело и душа ис-
ключают друг друга, живут по своим особым законам: первое — по механи-
ческим, вторая — по нравственным. Причем, в отличие от Декарта, ни в какой
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987. С. 218.
Цит. по: Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989. С. 216.
712
Глава VII. Философия и культура
«железе» они в контакт не вступают. Но в силу предустановленной гармонии
они совершенно согласуются друг с другом.
Обращение к Аристотелю, а с ним и к Лейбницу, в философии современно-
го естествознания кажется мне оправданным и по такой, в частности, причине.
Законы природы (на анализе которых делают упор большинство теорий науки)
не могут быть формирующей явления силой. Законы — устойчивые, матема-
тически выраженные формы, описывающие регулярности связей явлений. Но
не они действуют. Законы — не силы, не субъекты сил, не двигатели, не дея-
тели. А мир мы не можем понимать без действующей причины. Случайное
соударение атомов заменить ее не может: нужно отдать должное Аристотелю в
его критике атомизма Демокрита. Пусть потребность в категории действую-
щей причины выражает «привязанность» нашего понимания мира к миру ант-
ропомерному. Какой-то генератор импульсов воли, решимости, спонтанности
кажется неизбежным, если мы действительно хотим понять, а не просто опи-
сать природный мир. Но ничего подобного в номоцентристском естествозна-
нии типа классической механики нет. Поэтому Декарта и Ньютона мало для
понимания даже только одного физического мира: необходим еще и Лейбниц...
Триада оптик: разные оправдания, разная ценность
Оправдание оптики Гёте в его учении о цвете (Farbenlehre) — метафизиче-
ское, культурное, эстетическое. Оправдание ньютонианской оптики — техни-
ческое, прагматическое. На основе оптики Гёте нельзя создать оптическую тех-
нику (нам известную). На основе оптики Ньютона — можно. Ахиллесова пята
оптики Гёте: допущение тьмы как самостоятельной силы и реальности.
Разнообразие оптик — во всех смыслах этого слова — ценно само по себе.
Сциентисты-ньютонианцы не правы, когда сводят свет только к физической
реальности и отрицают за ним реальность духовного плана. Кстати, действи-
тельно великие физики свободны от физикалистского редукционизма (напри-
мер, Гейзенберг). Духовное тоже видимо, как и физическое, оно не только
ноуменально, но и феноменально. Но для того чтобы духовное было видимо
глазом человека, он должен быть духовно обученным, должен впитать в себя
тысячелетнюю духовную культуру. Злое свечение глаз или добрый свет, из-
лучаемый ими, — факт и физический, и метафизический: мы действительно
так видим людей и мир. Злое/доброе свечение ньютонианская оптика, в отли-
чие от религиозно-нравственной, не замечает. Гётевская, видимо, тоже, но
она все же ближе к духовным феноменам, к оптике духа, чем оптика чисто
научная. Гётевская оптика — оптика эстетическая, художественная. Еще не
нравственная и духовная. Но за эстезисом стоит нравственность и дух, как
смысл — за знаком.
Из записей
713
Душа человека прорастает мир. Насквозь. И выходит в сверхмировое... про-
странство, измерение... — это только малоподходящие метафоры для него.
О ЛЕГКОМ И ТРУДНОМ ЕЩЕ РАЗ
Брать у любимых или вмененных социальным порядком властителей дум
готовые схемы, навешивая на них условный, декоративный материал, легче,
чем тонуть в исследовании и пытаться выплыть, формируя свои собственные
суждения, взгляды, убеждения. Но сегодня легкость — и житейскую, и интел-
лектуальную — предпочитают многие. Немногие учатся плавать на свой страх
и риск. А ведь по большому счету нужна только самобытная и поэтому трудом
и испытаниями завоеванная мысль.
Совершенствование технических средств — подручный тампон, которым
«современный человек» пытается заткнуть сжигающую его изнутри духовную
пустоту.
Разное понимание символизма: Г. Вейль и Э. Кассирер
Вейль: «Завершенное бесконечное мы можем выражать только в знаках». В
существование Завершенного Бесконечного Вейль верит (см. его книгу «The
Open World». 1932). Абсолют есть.
Кассирер: в свободном конструировании человек создает символические
системы (см. три тома «Философии символических форм»). Абсолюта нет.
Смысл термина «символ» у Кассирера понимается через опровержение им те-
ории отражения (Abbildungstheorie): продукты человеческого творчества, зна-
ние, культура, язык суть не отражение внешнего, независимого от человека
объективного мира вещей, а свободные конструкции активно действующего
разума человека.
Итак, у Вейля символизм есть богопознание. У Кассирера — человеческое
самоопорное конструирование.
«Подвеска» разума
Когда человек «касается» божественного, когда, точнее, человеческое и бо-
жественное «соприкасаются», то разум человека как бы «подвешивается» —
инактивируется — в его привычных, образующих его мир категориях. Наука
исходит из устойчивости разума. А богопознание, напротив, предполагает его,
человеческого разума, приторможенность, выключение, «подвешенность». Это
означает приостановку действия всех категорий, схем, очевидностей привыч-
714
Глава VIL Философия и культура
ной рациональной мысли. В науке, как и в обыденной жизни, мы не можем
двигаться и находиться без постулирования устойчивостей (геометрия миро-
вого пространства, законы природы и т. п.). А когда «касаемся божества» или,
что то же, «касаемы божеством», то устойчивости эти оказываются недействи-
тельны (мир вдруг теряет свою прочность и его законы тоже).
Философия и истина
Однажды, это случилось в 1894 году, Б. Рассел во время прогулки по Трини-
ти-Лейн вдруг понял, что онтологическое доказательство бытия Бога верно.
Он зашел в табачную лавку, купил табаку, подбросил пачку в воздух, поймал и,
опровергая только что обретенную им уверенность, воскликнул: «Пустой звук!»
Г. Вейль так откомментировал его рассказ: «Может ли кто-нибудь после это-
го... сомневаться, что... Рассел — философ, но не математик?» 27 Комментарий
Вейля можно истолковать и так: в математике существуют не только идея ис-
тины и стремление к ней, но и средства узнать, истинны те или иные математи-
ческие утверждения или нет. В философии же подобных средств нет. Во вся-
ком случае нет принятого всеми философами критерия различения истинного
от неистинного (le vrai d'avec le faux, как говорил Декарт), что и делает воз-
можными для философа подобные колебания во взглядах.
Логического принципа запрета противоречия для этого явно недостаточно.
Этот принцип (или закон) скажет нам: из двух противоположных утверждений
истинно лишь одно: или то, что онтологический аргумент истинен, или то, что
он ложен. Но философ, как мы видели по рассказу Рассела, может колебаться
между тем и другим, не имея определенных средств твердо решить, что верно.
Содержится или не содержится в идее совершенства его бытие? Иными слова-
ми, если мы мыслим совершенное, то можем ли мы мыслить его не существу-
ющим? Входит ли с необходимостью реальное существование в состав абсо-
лютно совершенного? Короче: совершенство есть только идея (или мысль) или
же оно не может не существовать реально? В философии, если иметь в виду
всю философию, что существенно, не определено само понятие «существо-
вать». Выше мы различали реальное и идеальное существования. Но ведь есть
и другие виды существования.
В математике, насколько я могу судить, дело обстоит иначе. В отличие от
философии математика консолидирована как дисциплина. Что касается поня-
тия существования в ней, то приведу банальный пример. Существует только
одна прямая, соединяющая две точки на плоскости. Здесь «существовать» име-
ет один-единственный смысл (при переходе к философии математики дело
27 Вейль Г. Математическое мышление. М., 1989. С. 334.
Из записей
715
осложняется). Ситуация облегчается тем, что в математике реальное и идеаль-
ное не различаются. А в философии, как и в обыденной жизни (два талера в
кармане и два талера «в голове»), идеальное и реальное существования разли-
чаются. Вейль пишет: «В связи с изучением Фихте я сам в те далекие времена
месяцами предавался метафизическим размышлениям о Боге, "Я" и Мире, в
которых, казалось, мне открывается последняя истина. Должен признаться, что
от тех размышлений в моей памяти не сохранилось никаких следов» 28. Если
бы Вейль в те годы столь же упорно и долго думал о математике, то вряд ли бы
он мог в этом случае констатировать безрезультатность своих размышлений. В
философии результата (в смысле науки) нет. Открытий (в смысле научного от-
крытия) в ней не существует, как нет его и в искусстве. Философия, видимо,
располагается между искусством и наукой. Суждение Вейля, впрочем, можно
истолковать и как свидетельство того, что, несмотря на глубину его мысли и
серьезный интерес к философии, настоящим философом он все же не был.
Трудно себе представить того же Фихте, чтобы месяцами длящиеся упорные
размышления ничего ему как философу не дали. Близость философии к искус-
ству делает понятными «сложные» отношения ее с истиной в научном смысле
слова.
Но существует смысл понятия истины, превосходящий смысл понятия «науч-
ная истина». Научная истина, истина в науке — объективное знание. Но исти-
на есть и дух, имеет духовное значение кроме указанного значения объектив-
ного знания. Дух мыслим — в пределе — как абсолютное лицо. Это — религи-
озная истина. Поэтому уточним: философия размещается не внутри отрезка
между наукой и искусством, а внутри треугольника с вершинами «религия —
наука — искусство». В зависимости от типа философа она может приближать-
ся к каждой из указанных вершин.
Это размышление я бы заключил двумя замечаниями. Первое: линию, раз-
граничивающую идеальное существование и реальное, обычно проводят в со-
ответствии с убеждениями («предрассудками» в смысле Гадамера). Тонкости
философской рефлексии при этом, как правило, опускаются. Например, атеист
считает, что Бог — субъективное представление, существующее только «в го-
лове» верующего, существующее, иначе говоря, лишь идеально и субъектив-
но. Если ему возразят, что и внешний мир — тоже есть представление, то он
может прибегнуть к аргументам с помощью действия, стукнув возражающего
палкой: «Мир реально существует, вот он!» Но ощущение, например, боли,
строго говоря, ничего из того, что хочет доказать атеист, не доказывает: оно
требует интерпретации, толкования. Но ничего подобного в нем как таковом
не содержится. А вот толковать, понимать свои ощущения и ощущения других
Там же. С. 336.
716
Глава VIL Философия и культура
(данные ему в пересказе) человек будет в зависимости от своих убеждений.
Неверующий их истолкует одним образом, верующий — другим. И решить с
объективной основательностью, кто прав, невозможно. Ибо научного крите-
рия для установления истины в данном случае нет. Итак, различение идеаль-
ного и реального существований не есть то, что можно научно доказать, а зави-
сит от убеждений человека.
Второе: можно попытаться придать философии образ дисциплинарного
единства, сказав, что она суть длящиеся уже тысячелетия размышления о бы-
тии, что вопрос о нем — главный вопрос философии, так или иначе ее всю
пронизывающий. Все понятия, категории, проблемы «зацепляются» за цент-
ральный «гвоздь» вопроса о бытии, все его выражают, пытаются раскрыть —
и скрывают в то же время. Эту центрированность философской мысли на
бытии, может быть, яснее других выразил Аристотель. Отталкиваясь от его
учения о многозначности «быть», мы могли бы сказать, что что-то существу-
ет идеально, что-то реально, что-то — в представлении, что-то — на самом
деле, что-то — в возможности, что-то — в действительности, что-то суще-
ствует как отсутствие, иное — как присутствие, другое — как качество, как
количество, как отношение и т. п. Все это, условно, — виды бытия, его смыс-
лы, значения.
В философии, в том числе в философской онтологии, может содержаться
теория науки, но не сама наука. Квазитеоремы в философии, скажем, Аристо-
теля, есть, например, в учении о субстанциальном, или существенном, атрибу-
те (это такое свойство вещи, лишаясь которого она перестает быть собой). Су-
щественный атрибут связан с вещью-носителем необходимой связью. Теория
необходимости в философии есть (пусть она понимается различно у разных
философов). Но сами необходимые связи явлений изучаются наукой, существу-
ют в ее мире. Философия может приближаться к науке (как это имеет место в
случае Аристотеля). Но стать наукой, быть наукой она не может, не перестав
при этом быть собой. Ненаучность — существенный атрибут философии, как
бы близко к науке определенная философия не подходила. Зазор между фило-
софией и наукой может быть узким, но тем не менее непреодолимым. Необхо-
димые связи в философском размышлении, конечно, есть, но они могут только
приближаться к статусу научной необходимости. В конце концов мы можем
сказать, что непреодолимость указанного зазора обеспечивается зарядом сво-
боды, без которого нет философской мысли.
Из записей
717
Начало и конец философии
История философии от Платона до Ницше, от Аристотеля до Фуко, говоря
словами Венички Ерофеева, есть «удивление, медленно переходящее в подо-
зрение» 29.
О МУЗЫКЕ И МАТЕМАТИКЕ
Перефразируя известное уподобление архитектуры застывшей музыке
(Architektur ist eine erstarrte Musik)30, можно сказать, что музыка — это движу-
щаяся архитектура. Архитектура вечности во времени — вот что такое музы-
ка, эта «молитва для неверующих» 3|.
Музыка — пифагорейское искусство. Она свидетельствует в пользу тезиса
Пифагора. Но не в его обычной — сильной — формулировке (все есть число),
а в слабой: все, или почти все, может быть представлено как число — мечты,
чувства, эмоции, состояния и качества души, сама душа, в конце концов...
«Теологическая математика» (Г. Кантор) исходит из тезиса: Бог — это бес-
конечность (завершенная и абсолютная). Но правильнее сказать, что Бог есть и
бесконечность, и бесбесконечность, т. е. отрицание бесконечности. Поэтому
законен не только нарастающий crescendo инфинитизм, но и финитизм — как
умозрительная программа в математике и физике.
Не высшую ли музыкальность божественного выразил математик Герман
Вейль, сказав, что «Бог — вот вечно завершенное и вечно становящееся»? 32
Как устроена природа? — не задумываясь, спрашивает ученый. А никак.
Она — не игрушка и не машина. Но наука принимает ее за то и другое. Поче-
му? Потому что такое допущение в результате научного исследования, из него
вытекающего, позволяет управлять природой в целях человека — относитель-
ных целях. Какой ценой? Ценой забвения абсолютных целей, для которых по-
добная наука не нужна.
Теория и театр
Теория мира в культуре в определенную эпоху выражается как в науке, на-
пример физике, так и в искусстве, скажем, в театре. Переход от ренессансной
физики к механистической науке можно изучать на примере эволюции герме-
Ерофеез Венедикт. Записки психопата. М., 2000. С. 409.
30 Его автор — Шеллинг (Философия искусства. § 107).
31 Эррио Э. Жизнь Бетховена. М., 1959. С. 22.
32 Вейль Г. Математическое мышление. М., 1989. С. 358.
718
Глава VIL Философия и культура
тического театра искусства памяти (например, у Дж. Камилло) к классицист-
скому театру XVII—XVIII вв. Теория мира визуализирует его, мира, сущност-
ный план — и наука и искусство своими средствами его нам рисуют.
О ФИЛОСОФАХ
Есть философы, угрожающе бряцающие железом вымышленных ими необ-
ходимостей. Их вердикты произносятся ледяным тоном, по-врачебному, по-
военному. И сами себе они кажутся полубогами, александрами македонскими...
А я люблю в философах не «сверхчеловеческий» лязг, а тонкость души,
теплоту сердца... В конце концов, нежные идеи сильнее железных.
Культурологические забавы вокруг христианства
В 60—70-е годы мы читали Новый Завет, с упоением играли христиански-
ми словами, пытались свести их к теоретическим обобщениям вроде логики
парадокса...
Но христианство — дело серьезное. И здесь нужны свои собственные опы-
ты — и муки, и страсти, и озарения, и встречи... Не на книжности, не на горде-
ливом уме, не на философии держится христианство, а на вере, питаемой опы-
том, лично пережитым, не сводимым ни к каким логическим формулам.
Разумеется, все эти культурологические мудрствования заведомо были вне-
церковны. Церковь не переживалась сердцем, а лишь теоретически изучалась,
да и то поверхностно, как экклезиологическая часть христианского учения...
Но не под знаком учения мы действительно имеем дело с христианством. А
под знаком опыта и веры... А это безблагодатно, поверхностно-интеллектуаль-
но не бывает.
Философия
Философия — не «строгая наука», а трагическое искусство навигации к
Истине.
Наука: двусмысленность феномена
На новоевропейской науке лежит печать двусмысленности: она возникла у
христианских народов Западной Европы, но именно тогда, когда они стали от-
ходить от христианства. В железный век войн и безысходных конфликтов, ра-
зочаровавшись и в герметической магии, и в христианской религии, западный
европеец в поиске выхода из кризиса устремился к науке... Новая наука как
Из записей
719
основание проекта модерна не столько оттеснила магию и религию, сколько
заместила, взяв на себя их функции.
Наука как экзистенциальный выбор
Наукомания поразила западную философию. Почему? Да потому, что слиш-
ком глубоким был выбор науки как ковчега спасения из культурного, социаль-
ного, жизненного хаоса XVI—XVII вв. Не за Бога надо держаться на вспучен-
ных водах Истории, а за объективное знание — решил западный европеец в те
ужасные годы. И надо сказать, это решение не оказалось стерильным. Культур-
ный подъем, экономический и социальный, говорит об этом. Но какой ценой
была достигнута эта новая и относительная устойчивость! Ценой отхода от
фундаментальных основ европейской культурной традиции.
В науке, в ее методе видится универсально пригодный — для всего — вер-
ный путь. Кант упрекает метафизику именно за то, что она на него до сих пор
не сумела вступить. Тот же упрек делает современной философии Гуссерль.
Все они жаждут превращения философии в науку, чтобы, наконец, был обес-
печен несомненный прогресс в наращивании «объективного философского
знания». Но такого, увы, нет и быть не может. Но никакой очевидный урок
истории философии не может победить этого впущенного в самые глубины
духа науковерия...
В начале был Декарт
Тезис «живое — машина», «человек есть машина» — не констатация факта,
не экзистенциальное суждение, а суждение долженствования: человека надо
сделать машиной. Сциентоцентристский проект модерна и есть императив
машинизации человека и природы.
О Хайдеггере
Философский гений? Да, пожалуй. Но меня от него отвращает человече-
ская тупость: нацепив значок с нацистской свастикой, Хайдеггер, будучи в Ита-
лии, отправился на свидание со своим учеником, К. Левитом, бежавшим в эту
страну от нацистского преследования.
Философия и христианство: контраст
«На вопрос, заданный одному философу о том, когда он стал философом,
он ответил: когда стал другом самому себе. На вопрос, заданный христианину,
720
Глава VIL Философия и культура
когда он стал христианином, он ответил: когда стал врагом самому себе» (Се-
бастьян Франк)33. Философия — забота о себе. Христианство — забота о Дру-
гом, укореняющая самого заботящегося в вечности.
К ФИЛОСОФИИ СЛОВА
Слушая генетиков, невольно приходишь к мысли о близком сходстве жизни
и слова. Как язык есть одно разросшееся, дифференцированное и модифици-
рованное слово, так и жизнь — перешедший в многообразие проявлений ее
единый геном. В едином разросшемся слове выделяются три главных его уров-
ня: Слово-Бог, слово космическое, слово падшего мира и человека. Разнообра-
зие слова, диапазон его градаций: от Бога до суесловия.
Единство пронизывает и виды геномов живого. Действительно, геномы че-
ловека и червя почти тождественны. Их основу составляет набор из несколь-
ких десятков тысяч генов, причем сходных, отвечающих за базовые стандарт-
ные биохимические процессы в любом живом организме. В начале было Сло-
во-Геном, и Слово это было у Бога и было Богом...
Случайное, чисто материальное создание и слова-смысла, и генома живо-
го невероятно, более того, невозможно. Слово — от слова, смысл — от смыс-
ла происходит и образовать смысл из бессмыслицы невозможно. Подобно
этому и жизнь можно только «на бумаге», в теории производить из неживо-
го. Материальный мир, мир природы и общества — условие осуществле-
ния слова-смысла, но не то, из чего оно рождается впервые. Механические
колебания воздуха реализуют мысль-слово, а не создают его. Так и живое:
неживое — условие его проявления, реализации, а не то, из чего оно впер-
вые создается. Не есть ли душа тот «средний термин», то общее, в чем «пере-
секаются» слово и жизнь? И не является ли душа эта прежде всего душой
растительной, так сказать, древоподобной? «Имя, — говорит С. Булгаков, —
кустится, дает побеги» 34. Растительно-витальное, фитоподобное описание
слова и говорит прежде всего об изначальном глубоком сродстве слова и
жизни.
Сопоставим слово и число. Числа — как ипостаси. А на них «висят», как
одежды, сначала формулы и уравнения, алгебра мира, а затем — сами явления.
Не таковы ли и слова как имена вещей? И как соотносятся тогда имена-ипоста-
си и числа-ипостаси? Может быть, они встречаются в том, что называют иде-
ей, эйдосом?
Цит. по: Дильтей В. Мировоззрение и исследование человека со времен Возрожде-
ния и Реформации. М.; Иерусалим, 2001. С. 71.
34 Булгаков С. Н. Философия имени. СПб., 1998. С. 250.
Из записей
721
Идеи, как бы спящие не столько в вещах, сколько самими вещами спящие
(т. е. вещи суть их сонное, дремотное состояние), при встрече с человеком спо-
собны пробуждаться. В момент такой встречи — инсайта, просветления, пони-
мающего схватывания — идея пробуждается в своем вещном инобытии, рас-
крываясь в своем человеческом у-себя-бытии. Но затем, когда вспышка погас-
ла, вещи опять уносят в себя замкнутую в них идею. Но зато она пустила корни
в человеке, зажила в нем, в его доме как участник духовной интеллектуальной
жизни людей.
Идеи, смыслы «просверливают» мир вещей, мир явлений насквозь. И тогда
он начинает светиться внутренним светом.
Познание как именование (раньше я говорил «именация») есть про-свеще-
ние, оно светоносно. От имен исходит свет, от божественных имен — свя-
тость: «Да святится имя Твое!» «В тайне именования, — говорит С. Булга-
ков, — которая есть и тайна языка, содержится творческое да будет: "Да будет
свет" и "бысть свет"» 35. И поэтому философский рассказ об именовании у
Булгакова написан на языке световых метафор — вспышки, прозрачности,
лучи и т. п. Например, он говорит, что живая речь наводит «свои лучи». Ан-
типолюс светового «куста» метафор — тьма, мгла, непросветленные сгустки
и т. п. В результате взаимодействия этих базовых метафорических пластов
создается динамически-световая картина жизни слова, раскрывается его бес-
конечно сложная, подвижная «игра», в которой «пересекаются» отношение к
себе и отношение к бытию вовне, где оно, слово, доводится до ипостасного
света-логоса.
Свет — казалось бы, метафора прозрачной динамической среды, позволяю-
щей видеть не себя, а, напротив, несветовое сущее (бытие). Мы входим в тем-
ную комнату, зажигаем свет — и все в ней становится видимым. Не вещи све-
тятся сами по себе, но они сами извне освещаются светом. Однако в картинах,
рисуемых С. Булгаковым и которые на свой лад создает в своем воображении
его читатель, ситуация более сложная: слово предстает в них океаном света, в
котором вещи «плавают», пропитываясь им насквозь. Свет-слово объемлет
вещи, связует их воедино, пронизывает их изнутри. В такой свето-слово-вещ-
ной динамике выделяются фазы потенциального состояния и актуализации.
Эта светоголосная природа мирового бытия актуализируется человеком, его
речью — голосом (от логоса).
Эту мысль выражает тезис об антропокосмической природе слова. Плато-
низм здесь дополняется неоплатонизмом, Платон — Аристотелем, эйдология —
усиями и ипостасями. Поэтому основной онтологический пласт философии
Там же. С. 111.
46 - 3357
722
Глава VIL Философия и культура
имени сложен, и С. Булгаков его специально в своей работе не выявляет, гово-
ря как о своем главном предмете именно о слове и имени.
Вот пример преодоления С. Булгаковым одностороннего платонизма (или
его, платонизма, одностороннего, в духе новоевропейского идеализма, толко-
вания): «Идеи, — подчеркивает русский философ, — не бывают абстрактны
или конкретны (таковыми бывают понятия, логические препараты идей), они
всегда суть безобъемные, чистые смыслы» 36.
Излагая же свою «теорию идей», С. Булгаков формулирует свою софиоло-
гию: «Слова существуют лишь потому, что есть Слово, и идеи-смыслы суть
лишь потому, что существует Идея-Смысл. Есть София, Душа мира, Мудрость
мира, как всесовершенный организм идей, как Плерома, полнота бытия. Она
есть умопостигаемая основа мира, мир как космос. Здесь идеи смотрятся друг
в друга, отражаются друг в друге, здесь царит действительно коммунизм бы-
тия...» 37 Наш мир — внесофиен, даже антисофиен. Но направлен на Плерому
и Софию. Это — мир смешения и поэтому тьмы и грязи («во зле лежит»). Со-
фийная чистота идей в нашем мире замутнена. Вот суть дела. Иными слова-
ми, «есть две области идей: мир горний и мир дольний» 38.
Мир-с-человеком подобен системе зеркал, в которых лучатся, отражаясь,
дробясь, рассыпаясь, отражения первосмыслов. Например, местоимение «Я»,
давая зеркальные свои отражения, размножает виды личных местоимений
(«ты» — это другое «я»). Чтобы понять простой смысл Другого, надо самого
себя увидеть в зеркале. Мы видим личину, а лицо Другого, как и мы, стоит вне
зеркала — и прямо оно не видимо. Зеркала объективируют персоналистиче-
ский и смысловой мир бытия. Иллюзия вещного мира возникает из этого эф-
фекта многократного отражения первосмыслов-слов-личностей-ипостасей.
Связь идей в «органическом всеединстве» — динамическая, «энергетиче-
ская», а не формально-логическая, ибо с увеличением «объема» содержание
идей не беднеет, а, напротив, только обогащается. Идеи, подчеркнем еще раз,
это — не понятия, эти «препараты идей».
Заметим, что основы гётевской системы в учении о цвете содержат те же
самые метафоры, что и философия имени С. Булгакова. Вот пример тому:
«Слова как предикаты, — говорит русский философ, — суть лучи умного мира,
пробивающиеся через облачную атмосферу» 39. У Гёте тоже свет и тьма как
прафеномены, преломляясь через рассеивающую их атмосферу, дают цвето-
вую гамму.
36 Там же. С. 112.
37 Там же. С. 113.
38 Там же. С. 114.
39 Там же. С. 115.
Из записей
723
Наивно-реалистический взгляд на язык принимает такой порядок «имена-
ции»: имена по вещам даются, исходя из их объективных свойств. Но в плато-
низме любого вида все наоборот: по идеям-смыслам именуются вещи. Земные
вещи, вещи нашего мира «мы именуем, — говорит Булгаков, — потому, что
узнаем в них идею, дремлющую в нас самих как их онтологическую первоос-
нову» 40. В этом — не наш произвол, а веление самой вещи, нам открывающей-
ся в имени своем.
Русская мысль идет к Богу через созерцание космоса. Булгаков, в частно-
сти, показывает сущность слова через обращение к его космическому измере-
нию. А затем совершенно естественно присоединяет к космическому началу
божественное. Выход на космический уровень слова служит у него как бы оп-
равданием естественности перехода к его божественному уровню: «Энерге-
тизм (слов-символов), божественный или космический, образует истинную при-
роду символа» 41,— говорит он, причем до этого ничего не было сказано о
божественном уровне онтологии слова — последним его онтологическим сло-
ем был космический уровень. Слова — живые деятели космоса и Бога. Такова
суть онтологии слова как она понимается С. Булгаковым.
Человек как неповторимая личность подобен слову: как и слово, он сам себя
рождает (хотя и по воле Божьей).
Структура оснований всех явлений слова такова: самым глубоким уровнем
является уровень теокосмический. Следующим, более поверхностным по от-
ношению к нему, выступает уровень социально-исторический: «Основа язы-
ка, — говорит Булгаков, — космическая или антропологическая, его облече-
ние, реализация — дело социально-историческое» 42. Слова не сочиняются, а
осуществляются средствами языка в человеке, через него, а человек формиру-
ет свой мир в обществе и истории, проходя через которые, слова причудливо
видоизменяются, иногда до полной неузнаваемости.
Интересен и важен вопрос о связи смысла слова и силы слова. У Булгакова
этот вопрос, как мне представляется, прямо не поставлен и не исследован. Он
порой дает понять, что смысл и сила — различаются. Так, например, он гово-
рит о том, что в каббале сделан акцент на силе слова (магия) в ущерб его смыс-
лу: «Между тем, — говорит Булгаков, — необходимо удерживать как ту, так и
другую сторону слова» 43. Но являются ли смысл и сила разными сторонами?
Не сильно ли слово как раз смыслом, который оно несет? Не есть ли, в конце
концов, смысл и сила («энергия») слова одно и то же на глубоком онтологиче-
40 Там же. С. 116.
41 Там же. С. 39.
42 Там же. С. 56.
43 Там же. С. 61.
46*
724
Глава VII. Философия и культура
ском уровне? Ведь словесник, художник слова недаром ищет простых слов,
ясных и первоначальных — тех, в которых смысл и сила суть одно. Конечно,
между силой и смыслом могут быть расхождения. Но это — ситуация какой-то
духовной порчи. Могут быть стертые, пустые, но сильные слова — слова-при-
нуждения, слова-ловушки, слова-кандалы. У слов все как у людей: есть силь-
ные, но злые, недобрые люди: «на нежных и слабых зверушек нацелены жерла
пушек недобрых и злых людей». Это я вспомнил и перефразировал мои старые
стихи. Пример пустых, но сильных слов — слова-ярлыки, слова-доносы.
Я бы заключил эти размышления о философии слова так: слово — энергий-
ный 44, неразложимый ноуменальный феномен. Энергия слова — световая.
Слова— вспыхивают, горят, светятся, ими зажигают сердца («глагэлом жги
сердца людей»), они освещают мир, ими светятся умы и глаза людей, они су-
ществуют сами по себе, из ничего другого не объяснимы, но сами все освеща-
ют и тем самым дают возможность все объяснить. Благодаря словам-смыслам,
словам-эйдосам человек может соединиться с человеком, космосом и Богом.
Культура людей, ее история и судьба возможны лишь как следствие эйдетичес-
ко-энергийной онтологии мысли-слова. Слово — светоношение смысла всем
антропотеокосмическим союзом бытия.
Снизу—вверх
Мы высоко ценим тот уровень общения, когда люди рвутся обогатить друг
друга своими исканиями истины, находками, сомнениями, духовно значимы-
ми впечатлениями. Но как редко такое общение в нашей жизни! И, кажется, во
многом отсюда наш взгляд снизу вверх на деятелей Серебряного века: у них,
мол, такое общение было нормой, привычкой, повседневностью, а у нас — ред-
кий праздник.
Христианство и наука: шанс нового союза
Ситуация кризиса техногенной цивилизации и возникающий в связи с ним
вопрос о науке будущего, видимо, потребуют обращения к культурному ресурсу
православного христианства. Действительно, протестантизм и католицизм уже
разыграли свои карты в этом плане в эпоху научной революции XVII в. В част-
ности, волюнтаристская теология, характерная больше, пожалуй, для протестан-
тизма, способствовала формированию экспериментального характера новоевро-
пейской науки. Свой вклад в новый научный дух внес и католицизм (рационали-
стическая онтология, логика, научный интеллектуализм). Из всех трех главных
У Гумбольдта язык есть ëvépyeia.
Из записей
725
христианских конфессий в стороне от научного развития осталось православие.
Это означает, что его роль еще только должна быть сыграна (или, если она час-
тично уже и сыграна, например, в русской философской традиции, то последняя
призвана к реактуализации на мировой культурной сцене своих достижений).
Православие призвано способствовать преображению актуального мира.
Божественное начало своими энергиями пронизывает вещественный мир, и он
в их лучах перекомпонуется и начинает светиться духовным светом изнутри.
Образ подобного просветления и преображения дан в православной литургии.
Православие в отличие, скажем, от протестантизма символично и энергийно, в
нем нет рациоцентрической и антропоцентрической установок, обедняющих
полноту мирового и сверхмирового бытия. В качестве восточного христиан-
ства оно ближе, чем западные конфессии, к восточным религиям, культурные
миры которых не знают ни техномании, ни культа земного человеческого ин-
дивида как автономного центра мироздания. Если католицизм в своем бого-
словии ориентировался на Аристотеля (по преимуществу), то православие —
на Платона. А, по Платону, космос — живой цельный организм. Это умозре-
ние становится актуальным в период затянувшегося кризиса механистичес-
кой — несмотря на все обновления научной мысли — цивилизации Запада. Пи-
фагорейско-платоновская традиция — философская защита религиозно-поэти-
ческого миросозерцания от агрессивной рациональности.
Итак, возникает потребность в новом культурном поле, в котором наука бу-
дет не просто извне «обрамлена» религиозно-этическим сознанием, но и сама,
изнутри, станет мыслить в его свете. Признание самоценности научного по-
знания сложившегося типа может быть пересмотрено.
К МЕТАФИЗИКЕ БУКВЫ
Буква — минимальное тело духа, духа как слова. Поэтому буквализм —
духовное основание материализма.
Буква — телесный атом слова, «частица» его невидимой энергии, ставшей
зримой формой. Поэтому неслучайно, что атомистическая картина мира в свою
основу кладет атомы в качестве алфавита мира как текста. Это сравнение ато-
мов и букв мы находим у греческих атомистов (см., например, Аристотель
«Метафизика» 1,4).
О ТЕОДИЦЕЕ
«Неудача теодицеи», о которой говорит, например, Ясперс45, понятна, если
иметь в виду попытку логикой разума принудить человека к принятию таким
45 Jaspers К. Philosophic Bd. 3. Berlin, 1932.
726
Глава VIL Философия и культура
образом «доказанного» Бога, «оправданного» Бога. Вся ситуация с теодицеей
показывает неготовность разума открыться божественному откровению. Бог
открывается, а разум «мелочится» и закрывается от самой возможности встре-
чи... Бог — свобода, а разуму она не по зубам, он превозносит Необходимость
и хочет в ее оковы заковать самого Бога. А с помощью проектируемой им тео-
дицеи он хотел заковать в оковы, налагаемые «доказанным Богом», себя само-
го и, значит, доверившегося разуму человека... Ясно, что такая затея не могла
не провалиться.
Есть, однако, один момент в «деле теодицеи», который я считаю вполне оп-
равданным и, в конце концов, продуктивным. Я имею в виду опровержение
рационалистических «поклепов» и «наветов» на Бога (пример: раз есть без вины
страдающий в этом мире, значит, его Творец или не всеблаг, или не всесилен).
И в этом смысле теодицея, например, осуществленная Лейбницем, вовсе не
есть «неудача». Наш разум — не целеполагатель, а техник. Его дело — опро-
вергать собственные заблуждения, а не решать высшие вопросы сердца и
совести.
И последний момент. Доказательство, обоснование — вера разума. Разум,
приступающий к теодицее, верит не только в себя (т. е. в силу своих доказа-
тельств), но и верит верой не чуждого ему сердца. Ведь если бы он не был
близок к вере в Бога, то разве он стал бы верой в свои доказательства «оправ-
дывать» Бога? И в этом есть позитивный смысл — разум не совсем чужд боже-
ственному, он может мирно уживаться с верующим сердцем, внести свой вклад
в божественное домостроительство. Сама теодицея оправдывается как особая
часть рациональной науки (теологии) или, быть может, точнее, религиозной
философии. О «неудаче теодицеи» говорится в том случае, когда с нею связы-
ваются непомерные претензии — силой доказывающего разума навсегда иско-
ренить атеизм, по крайней мере тот, который апеллирует к страданиям невин-
ных. Но если такого масштаба претензий на нее не возлагать, то дело теодицеи
сохраняет свой позитивный смысл.
Научное познание и бытие
Бытие стоит за видимым, ощущаемым миром вещей, данных в формах про-
странства и времени, как не-объектное — за спиной объектов, как не-вещное —
за сценой вещей, как сверхвремя и сверхпространство — «внутри» времени и
пространства. И поэтому оно непознаваемо наукой, являющейся познанием
объектов (химических, физических, биологических и т. п.). Бытие не есть су-
ществующее (Sein не тождественно Seiende, в терминологии Хайдеггера). Бы-
тие открывается-скрывается как присутствие. Присутствие не доказывается, а
свидетельствуется причастным к его тайне лицом.
Из записей
727
«Творчество есть обретение, явление миру... сверхвременно сущих лучей и
ликов», — говорит С. Булгаков 46. Среди подобных «лучей и ликов» лучатся
лики музыки: я думаю прежде всего о музыке Баха. Лучатся лики, ликуют
лучи — оба выражения сводятся к одному: нерушимая крепость вечно сущего
явилась к нам, в подземелье земли, с неба спокойной лазури самой живой и
богатой жизни — жизни духа.
К ТИПОЛОГИИ ФИЛОСОФОВ
Философ может настаивать на своей особой роли философа, усваивать бога-
тый понятийный аппарат философской традиции и давать ему ход, не зависи-
мый от его собственного личного опыта. Он с гордостью считает себя местом
самопорождения новых философских дискурсов, непонятных для непосвящен-
ных.
Другой философ, напротив, чурается подобного философского профессио-
нализма, следуя за подвижной звездой своего духовно восходящего опыта, не
знающего дисциплинарных рамок.
К ТИПОЛОГИИ ПРАВДЫ
Один,сорт правд выхватывается снизу, острым взглядом ученого, верящего
только в объективные факты, в весы и мензурки. К ученому может присоеди-
ниться склонившийся перед наукой философ. Это — низменно-физиологиче-
ские правды, их любят гордецы ума, срыватели масок вроде Л. Толстого и
Ф. Ницше. Другой сорт правды возникает не тогда, когда мы со скальпелем
спускаемся в низины плоти, а когда поднимаемся ввысь, в свет незакатный.
Влюбившись в юное создание, мы испытываем подъем духа, нам хочется
творить, в нас просыпается вдохновение, «души прекрасные порывы». Но врач
нам скажет, что в кишечнике девушки находится в среднем 1,6 кг экскремен-
тов. Это — физиологическая правда.
К счастью, подобная медицинская правда нужна только тогда, когда мы боль-
ны, в экстремальных случаях жизни. А вот очарование, захват души лириче-
ским волнением, подъем духа, прилив творческих сил нужны всегда.
Так какой же тип правды нужно сеять среди людей в первую очередь! И
можно ли ответить на этот вопрос, не установив приоритета в мире правд?
Различать духовную ценность правды так же необходимо, как различать духов
в христианской аскетике.
Булгаков С. Я. Философия имени. С. 225.
728
Глава VIL Философия и культура
Первородный грех и науки о природе
Как связаны физика и математика сотворенного мира с грехопадением Ада-
ма и Евы, повлекшим искажение природы мира? Отличается ли математиче-
ская физика мира до грехопадения от той математической физики мира, кото-
рая нам известна?
Сомнение в законности таких вопросов возможно. Однако в самом Св. Пи-
сании устанавливается связь между искажением духа, выразившемся в нару-
шении заповеди Бога, и изменением физической структуры мира. Это касается
не только физиологии женщины (Быт. 3, 16), но и качеств земли (3, 17—19),
обрекаемой на бесплодие («тернии и волчцы»). Как проклятие земли и челове-
ка выразить естественнонаучно, языком математики и физики? Возможно ли
это вообще? Или здесь — предел научного познания? По крайней мере потен-
циально человек до грехопадения был бессмертен: ему не было запрещено есть
плоды от древа жизни, дающие вечную жизнь. Переход от потенциального бес-
смертия к актуальной смертности тоже трудно представить без кардинального
изменения физики мира. Я хотел только поставить этот вопрос, который, как
мне кажется, мало изучен с научной стороны.
Подозрение и наука
В «школе подозрения» наука числится одним из самых способных учени-
ков. Действительно, за красотой природы, за ее жизнью она подозревает беска-
чественную и безжизненную материю, электромеханические процессы, игру
отвлеченных сущностей, математических функций...
Тезисы о верности
Личность не есть натуральная данность. Она есть свобода и дух, решение
и риск. Без сверхвременного тождества меня как личности нет. Верность и
есть способ обрести «сверхвременное тождество личности» 47. В верности
хранится отблеск свободного обязательства по отношению к трансцендент-
ному. «Может быть верность только человеку, — говорит Марсель, — а не
идее или идеалу. Абсолютная верность подразумевает абсолютную лич-
ность» 48.
Как и вера, верность, этимологически производная от нее, связана с выс-
шим опытом, в котором присутствует свет благодати. Акт подозрения по отно-
47 Марсель Г. Быть и иметь. Новочеркасск, 1994. С. 46.
48 Там же. С. 82.
Из записей
729
шению к верности есть непризнание высшего опыта, самой его возможности.
Напротив, доверие к нему — основа и веры и верности.
Верность есть не столько внешнее признание постоянства как идеальной
ценности, сколько его созидание изнутри (хотя это и кажется парадоксом: как
может созидаться то, что постоянно?). Категория ценности — вторична, она
следует за бытием и свидетельствованием о нем, которое и осуществляет акт
верности. Кстати, выражение «акт верности» означает постоянно удерживае-
мый акт свободного самосозидания. Акт верности совершается не только в этом
мире объектов, но и в вечности, объективации недоступной. Можно сказать,
что он совершается на кромке вечности и времени, когда время решается быть
«подвижным образом вечного».
Азбука подлинности
Современная ситуация характеризуется утратой чувства ценностной иерар-
хии во всем. В философии это приводит к нивелировке ценностных различий,
когда понятия ценностно разных планов проецируются на одну плоскость.
Например, говорят о «призыве», идущем от подозрения или недоверия. Но если
мы находимся на том уровне, где действуют подозрение и недоверие, то надо
забыть о «призыве»: недоверие — не «призыв», и поэтому и «ответа» на него
быть не может. «Призыв» и «ответ» — концепты онтологического, метапроб-
лемного уровня. На уровне объектов действуют лишь их деградированные ко-
пии. Недоверие или подозрение (здесь мы их не различаем) выражают скорее
неизбежное правило игры в мире объективации, в мире вещей и их представ-
лений. Мы не доверяем случайной доске, брошенной через ров, мы не доверя-
ем тогда, когда, находясь во внешней позиции по отношению к предметам,
оцениваем их свойства в связи с нашими собственными «вещеобразными» свой-
ствами. В такой «оптике» мы овеществляем и себя и мир, пытаясь через реф-
лексию, проверку, расчет согласовать одно с другим (например, нагрузку нашего
тела с прочностью брошенной доски). В таком мире имеет место история, не
имеющая смысла — конечного и полного. Мир недоверия — мир дурной бес-
конечности. Это происходит потому, что в нем недоверие — инвариант. А зна-
чит, инвариантны объективация и овеществление. Это мир частичных и утили-
тарных гармонизаций, кончающийся смертью как абсолютом. Мир абсурда.
Фактичность и вымысел взаимно подрывают друг друга, и в результате ничего
не происходит, кроме топтания на месте, хотя одно сменяет другое, но высоты
при этом не набирается. История такого мира — прикрытое изменением, или
даже «прогрессом», топтание на одном уровне.
Призыв может исходить только от доверия, любви — от дара. Более того,
можно сказать, что сам дар (жизни, прежде всего) и есть призыв — его надо
730
Глава VII. Философия и культура
только расслышать. Расслышать призыв —значит почувствовать необходимость
дать ответ и ответить. Не доверяя мне, у меня отнимают бытие, меня начинают
исчислять, рассматривая как вещь-со-свойствами, доступную калькуляции.
Иными словами, у меня отнимают высший дар — дар свободы. Рождается не
ответ, а протест. Протестует же всегда личное достоинство, с которым не счи-
таются. В частности, не считаются, применяя к его носителю схему вещи, объек-
та. В недоверии и подозрении звучит не призыв, а провокация: «делай как я —
подозревай все и вся, никому и ничему не доверяя!» Это — мораль состояния
«войны всех со всеми», концлагеря. Учреждения с заведомо низким, если мож-
но так выразиться, «коэффициентом человечности». «Не верь, не надейся, не
бойся» гласит максима лагерной морали. Человеческое же существование не-
мыслимо без просвета, а значит, без надежды, веры, любви и страха — страха
упасть и не удержать высоту. Бойся не ответить на призыв, надейся на то, что
он к тебе послан и дойдет, верь ему — вот азбука подлинности, для человека
всегда надобъектной, сверхвещной.
Суд и объективация
Судить предполагает объективировать. Но любовь объективации недоступ-
на. Поэтому мы не можем судить о сравнительной мере любви: нельзя, напри-
мер, судить о том, кто кого больше любит. Любовь — не прыжки в длину. Ско-
рее — в высоту. Но в ту, которую никакой материальной планкой не измерить.
Платонизм и экзистенциальная философия
Если платоновская идея истолковывается как живой личный конкретный
дух, то экзистенциальная мысль с ним сходится, если как гипостазированная
абстрактная мысль, то расходится.
Что главное в философии?
Эллинский философ: самоизменение человека.
Марксистский философ: изменение внешнего мира.
Экзистенциальный философ: причастность к лучшему.
Число и слово
Мир можно уподобить живому существу, которое держится на «костях» чи-
сел. Числа — своего рода работники Божий, ангелы небесные, на труде кото-
рых держится «машина мироздания». Но их одних недостаточно, чтобы напра-
Из записей
731
вить громаду эту к добру, свету, спасению. Нужна еще и душа, что численна-
сверхчисленна. Сверхчисленность души в том, что она наделена даром слова.
В бессловесном мире Слово Божие выступает числом. В человеческой же
душе, способной к слову, число, одухотворяясь, проступает как слово. Бессло-
весный мир природы держится на числе, мере автоматически: нарушило меру
что-то в нем сущее — гибнет «автоматом». В мире человеческом порядок дер-
жится на слове — на данном слове, которое надо свободно, через совесть и
честь, держать. Нарушивший слово, им данное, не гибнет автоматически теле-
сно, извне — он гибнет изнутри, духовно. Наказывается творческим бес-
плодием.
Вдохновение ума — в этом весь платонизм.
Не через Гегеля и даже не через Платона, а через дверь экзистенциальной
мысли проходит философский маршрут рехристианизации европейского со-
знания.
Онтологическая оптика любви
Рассчитывать на любовь, вычислять умом, может она или не может быть
направлена на мое бытие другим человеком, нельзя. Я могу вроде бы разумом
«вычислить» кое-какие признаки, если не атрибуты, искомой любви. Напри-
мер, способность создавать вокруг себя доброжелательную любовную атмос-
феру, атмосферу открытости и расположенности (la disponibilité). Это — дух
готовности помочь вам или другому человеку. Причем помочь не так, как уде-
ляют время умеющие его считать деловые люди. Нет, помочь от души, от сер-
дца — всем существом. Я даже не могу опираться в этих прогнозах, делаемых
разумом, на свой опыт общения с человеком, способность которого полюбить
меня я поставил под вопрос, решив высветить его не могущим не объективи-
ровать проблему разумом. Допустим, что я знал случаи, когда этот человек
именно «отслаивал» от себя секунды помощи, показывая, что это его тяготит, и
делал это как-то очень уж холодно, отчужденно, служебно. Я даже могу уси-
лить это впечатление контрастом, вспоминая, как в жгучую минуту крайней
нужды большую теплоту в помощи я нашел у совсем незнакомых людей. Я
могу еще привести массу аргументов, свидетельств опыта и т. д. в пользу того,
что по всей логике ситуации я не слишком могу рассчитывать на данное лицо,
на то, что оно меня действительно может полюбить, т. е. разделить со мной в
радости духа и сердца мою судьбу. Делая все эти правдоподобные, не лишен-
ные, быть может, какого-то смысла выкладки, я, однако, на заднем фоне своего
732
Глава VIL Философия и культура
сознания ощущаю, что опереться по-настоящему на них я все же не могу. Что-
то мне мешает это сделать...
Если небо хмурится, дует ветер и гонит с северо-запада рваные полотна
темных туч, то, собираясь на прогулку, я с уверенностью беру зонт. О том, что
без вычисляющего разума в вопросах техники жизни никуда, — ясно. Конеч-
но, дождь может пройти стороной. Но вероятность его разум определяет дос-
таточно надежно. При починке прибора и в других подобных ситуациях я уж
совсем ничего не сделаю путного без разума с его расчетами и, конечно, без
соответствующего опыта, навыка и т. п. Но вот в вопросе о любви (могу ли я ее
с уверенностью ожидать от X или нет?) я сознаю, что разума и техники, в ши-
роком смысле, здесь недостаточно, причем в чем-то самом существенном. Вот
этот просвет над проблемой (здесь: любви) и означает, что она вовсе и не про-
блема, а таинство (le mystère). «Овладеть» любовью с помощью рационально-
го знания мы не можем. Она — не вещь, которую как механизм можно изучить,
оставаясь во внешней позиции, а затем, найдя ее объективную схему, управ-
лять ею в наших интересах и желаниях. Удивительно, но, по-другому это выра-
жая, я не могу не сказать, что любовь не меньше нас, а больше — мы в ней и в
то же время она в нас, но в самой нашей сердцевине как живых существ. По-
этому не мы ее захватываем, овладевая ею, а она — нас, тем самым давая нам
шанс раскрыться для себя и других, познать себя. Она нас охватывает и прони-
зывает изнутри. Вещами мира (как, например, электричеством) мы, зная их
устройство, можем управлять. Но любовь — вроде того света, над которым мы
не властны. Однако свет этот раскрывает нам истинные масштабы ценностей,
согревая все живое, поддерживая его.
Есть одно удивительное «свойство» (кавычки здесь необходимы) света люб-
ви: он вспыхивает и раскрывается в полную мощь в предельных ситуациях,
когда жизнь граничит со смертью и вот-вот готова потонуть в ней. Это обстоя-
тельство, на наш взгляд, может быть истолковано так, что свет этот пронизыва-
ет совершенно свободно границу между жизнью и смертью и для него ее про-
сто не существует. Самая фундаментальная, можно сказать, роковая граница
для всего мира вещей и существ для света любви не существует. Почему? Его
вспышка в таких ситуациях может быть вразумительно объяснена притоком
света «оттуда». Мир овладения/имения, мир вещественный — на грани своего
исчезновения в данном существе. Но, как по закону компенсации, вдруг через
эту границу, «оттуда» летит световой ветер любви. Чудо? Да, конечно. И на
этом чуде держится вся наша жизнь как духовных существ.
Сказанное не означает, что свет, о котором я говорю, только в таких ситуа-
циях может вспыхивать, вдруг прибывать. Дело в том, что, вообще говоря, упо-
мянутая граница вездесуща в нашей жизни — мы всегда, живя, соседствуем со
смертью. Ткань материального устроения мира как бы сама по себе и в самой
Из записей
733
себе уже изношена по определению. И поэтому свет любви, не знающий на-
ших границ, готов прийти нам в поддержку в любой момент, который мы, од-
нако, не можем не ощущать как приподнятый, торжественный, как миг прозре-
ния, подвига, как высшее мгновение нашего существования. Это вспышкооб-
разное усиление света Марсель называет «притоком бытия» (l'afflux d'être).
Нет ничего проще, чем отрицать все это как мистику или как чисто субъек-
тивные иллюзии крайне возбужденного мозга. Список оснований для сведе-
ния любви и ее света к «вещественным реалиям» давно установлен и, впрочем,
не богат в своих основных разновидностях. Дар любви, дар бытия и жизни
может быть отвергнут. И для этой духовной ориентации соответствующие ин-
теллектуальные схемы — лишь подсобное, вспомогательное средство. Закрыв
себе путь к свету, начинают игры с тьмой, сея ее в себе и вокруг. При этом,
естественно, тьма надевает на себя блестящей мишурой наряд, называемый
«передовым учением», «прогрессивной идеей», присваивает себе «корочки»
строгой науки и трезвой морали... Но нигилистические и негативистские кон-
цепции подрывают и самих себя, делая невозможным само понятие истины.
Ценности — и любовь, и истина в данном случае — неотделимы одна от дру-
гой, и когда высокомерно отказываются от одной, то на самом деле отказыва-
ются и от другой. Свет любви не так уж и далек от света Истины.
Святитель Григорий Палама и философ Габриэль Марсель
Запад, говорит св. Григорий, страна «внешних философов» (Триады, 1,1)49.
Что такое в его понимании «внешняя наука»? Это — эллинская ученость, пре-
имущественно знание о природе, математика и физика, основания которых были
заложены до прихода в мир Христа. Это — наука естественного разума, не про-
светленная светом Благой Вести Христовой. Цитируя св. Василия Великого,
св. Григорий говорит: «Внешнюю ученость, математические науки... некото-
рые люди объявляют теперь конечной целью созерцания и корнем спасения!»
(Там же). В чем суть спора св. Григория с его оппонентами? Не ценность науки
о природе как таковой отвергается им, а ее претензии на совершенствование
души человека и даже его спасение.
Действительно, св. Григорий не отвергает мирскую эллинскую науку вооб-
ще, как таковую. Он прямо указывает, что и «в мирской мудрости есть полез-
ное» (С. 32). Он лишь считает ложными и неосновательными претензии прий-
ти к богопознанию, чистоте души и спасению с помощью такой науки. Есте-
ственную причину утренней росы или северного сияния полезно знать. Но
49 Св. Палама Григорий. Триады в защиту священнобезмолвствующих. М., 1995. Все
цитаты даны по этому изданию.
734
Глава VII. Философия и культура
нельзя спастись, в высшем духовном смысле, с помощью такого знания. Зна-
чит, определенная относительная ценность за мирским знанием им вовсе не
отрицается. Отрицаются только непомерные притязания, с ним связанные, стре-
мящиеся обесценить христианские откровение и традиции. В шкале ценно-
стей, считает св. Григорий, ценности христианской духовной жизни стоят выше
ценностей светской науки. Но именно такой порядок ценностей отрицают его
оппоненты. Однако его утверждает светский философ Габриэль Марсель, го-
ворящий о том, что духовной жизни, особенно с эпохи Просвещения, угрожа-
ют притязания интеллектуализма и сциентизма, пытающихся заместить ее цен-
ности ценностями прогресса науки и техники.
Согласно св. Григорию, наука — естественная деятельность, воплощающая
натуральную установку сознания, она «суть дар не благодатный, а природный,
всем сообща данный через природу от Бога и трудами увеличиваемый» (С. 34,
курсив наш. — В. В.). Примерно то же самое говорил о науке и Декарт. Но в
отличие от св. Григория он верил в возможность усовершенствования души и
достижения бессмертия, в конце концов, с помощью такой науки, что, видимо,
можно считать осуществлением требования спасения или, по крайней мере,
его безблагодатным замещением. Правда, Декарт был не вполне в этом после-
дователен, ибо оставался практикующим католиком и не хотел ни менять свою
веру, ни отказываться от нее в пользу «научного атеизма». Но важный шаг в
направлении его он все-таки сделал.
Св. Григорий вряд ли бы согласился с популярным в наши дни тезисом о
христианских корнях новоевропейской науки. Правда, до эпохи Коперника и
Галилея он не дожил и не знал поэтому ее. Но ее предпосылки знал, и неплохо.
Он считал, что светская наука его времени — порождение языческого, дохрис-
тианского, всецело «природного» мира. Видимо (это наша интерпретация), он
мог бы сказать о новой науке, начавшейся с XVII в., что она лишь добавила к
созерцательной науке эллинского разума практическую направленность, тех-
нический, конструктивный, «неомагический» характер.
По св. Григорию, и философия, и наука суть искусство ума, «преходящее
вместе с веком сим» (С. 35), т. е. вместе с падшим в результате первородного
греха миром. Это знание с червоточиной греха, несовершенства. И поэтому
оно не есть высшая мудрость. В самом деле, очистить душу человека, в том
числе ее познающие способности, оно не в состоянии, хотя и хвастливо о том
заявляет. А без чистоты души невозможно и высшее знание. Поэтому, согласно
св. Григорию, внешняя наука имеет свое относительное оправдание, но не
следует ее превозносить «больше, чем надо» (С. 35). Знаем ли мы число спут-
ников Юпитера и их скорости или нет — это никак на нашем спасении не мо-
жет сказаться. Ибо ни чистоты сердца, ни праведности жизни это нам не при-
бавляет, не убавляет.
Из записей
735
В статье «Истина и ценность» 50 я различил истину как дух и истину как
объективное знание, поставив первую в приоритетную позицию относительно
второй. И читая св. Григория Паламу, я нахожу у него цитату из св. Василия
Великого, утверждающего то же самое: «Мы обнаруживаем два смысла, —
говорит он, — обозначаемых словом истина. Один — постижение того, что
ведет к блаженной жизни, другой — верное знание относительно чего бы то
ни было из вещей этого мира. Истина, содействующая спасению, живет в чис-
том сердце совершенного мужа, который бесхитростно передает ее ближнему,
а если мы не будем знать истину о земле и о море, о звездах и об их движении
и скорости, то это ничуть не помешает нам получить обетованное блаженство»
(С. 36).
Суть спора св. Паламы с Варлаамом: благодатный ли дар мирская наука
естественного разума или нет? М. О. Гершензон не без остроумия указал Л. Шес-
тову, радикальному критику разума, что разум, мол, тоже от Бога... Деятели
Возрождения и XVII в., заложившего фундамент новой науки, вполне приняли
бы реплику Гершензона: примерно так они во многом и думали. «Богоподо-
бие» и даже «богоблизость» именно разума, а не сердца — в этом была их воо-
душевлявшая мысль, питавшая долгое время рационализм во всех его истори-
ческих видах. Только несвоевременные хранители духа целостности, вроде
Коменского и отчасти Лейбница, могли отдать должное наряду с разумом и
сердцу, соединяя в единый путь два, казалось бы, несоединимых пути спасения.
Действительно, спастись средствами «внешней науки», с помощью математи-
ки с физикой, а сейчас и генетическими технологиями, или спастись молитвой
и подвигами, чистотой души и хранением сердца — два разных и, кажется на
первый взгляд, несоединимых пути спасения. Впрочем, само спасение пони-
маемо в них различным образом, хотя в чем-то важном обе его идеи (смыслы)
и сходятся (например, в тезисе о бессмертии). Проще сказать так: рационали-
зируем ли мы до конца и без остатка все наши высшие и главные упования и
требования, или же мы этого не делаем, оставляя для ответа на них место веру-
ющему сердцу — вот в чем разница этих двух путей. Спор идет именно об
этом. А также и о том, являются ли помехой спасению постоянные занятия
«эллинской наукой» или ее продолжением в науке сегодняшнего дня? Оппо-
ненты св. Григория говорят, что «заниматься всю жизнь эллинской наукой —
вовсе не помеха для совершенства жизни» (С. 16). А он отвечает им: помеха,
если только этим и заниматься! И затем своими словами излагает Евангелие:
«Лицемеры! Замечать небесные знамения вы умеете, а время Царствия Божия
почему не замечаете?» (Там же). Здесь нет запрета, например, смотреть в теле-
Визгин В. П. Истина и ценность// Ценностные аспекты развития науки. М., 1990.
С. 36—51.
736
Глава VII. Философия и культура
скопическую трубу на небо. Но есть указание на то, что нужно еще смотреть на
Небо в глубине своего сердца. И трудно отрицать ту мысль, что и то, и то тре-
буется человеку. И плох, и недопустим, и предельно опасен любой «перекос» в
этих качелях судьбы человека. Но важно при этом осознание приоритета: та-
инство божественной Любви рангом выше проблемы объективного знания 51.
На Западе возник перекос — известно какой. Декарт искренно верил, что
его научный метод позволит и усовершенствовать души, и привести, в конце
концов, к победе над самой смертью. Но уверовав в науку, Запад подрастерял
данные ему христианские дары. Успехи науки, как, например, техники клони-
рования, трансплантации тканей и органов и тому подобное, затмили его со-
знание. Он слишком серьезно стал калькулировать все, что можно и чего нельзя,
в своем науковерии утратив чувство меры: исчислять движения чего бы то ни
было на Земле и на небе он умеет, а вот замечать время и движение Царствия
Божия разучился...
И Бойль, и Декарт уверовали в то, во что верил Варлаам, главный оппонент
св. Григория: «Человек может найти и познать свое богоподобие с помощью
внешней науки... перестраивающей человека к лучшему и изгоняющей из души
мрак незнания» (С. 11). А Лейбниц убежден был в том, что преподавание мона-
хам математики и механики усилит в них благочестивый дух... И понятно, что
с такими убеждениями он редко заглядывал в свою кирху, отдавая лучшие часы
своего досуга математике.
Но св. Григорий Палама мечтал о другом свете и другом просвещении. «Му-
чительность молитвы, — говорит он, — превратившись в сладость, взращива-
ет цветок просвещения» (С. 1). Молитва как бы разглаживает складки души,
делая ее пригодной для письмен Божиих, для принятия даров Св. Духа, тем
самым приоткрывая ее для света Истины. Это — знание и просвещение хрис-
тиански просветленной души. А мирская или внешняя наука, сохраняя свою
относительную ценность, располагается рангом ниже такого просвещения. Но
Запад впал в высокомерие, заносчивую кичливость своей исчисляющей, тех-
нически ориентированной наукой. Он стал презирать Византию и Россию, как
ее наследницу, за «мракобесие», «ретроградство», «темноту» и «нецивилизо-
ванность»...
Итак, своею волей, но, вероятно, не без промысла Божия, Запад стал стра-
ной «внешних философов». И не-внешние философы в нем действительно ис-
ключение или — почти. Поэтому вдвойне радует, что такие исключения там
все же не прекращаются. И Габриэль Марсель — один из самых значительных
не-внешних философов Запада XX века.
51 Таинство (le mystère) и проблема (le problème) здесь употреблены в том значении, в
каком они были осмыслены и различены Г. Марселем.
Из записей
1Ъ1
Ситуация в мире смыслов
Есть философии и философы, для которых нет таинства и даже проблемы,
и даже понятия личности: они просто к нему нечувствительны. Есть мировоз-
зрения, для которых не существует символа спасения. Стоическое и спинозист-
ское мировоззрения — тому пример. Интеллектуалистское и моралистическое
слияние с натурализированным абсолютным разумом — вот их цель. Ни лич-
ности, ни спасения для них не существует. Я бы в этой связи сказал, что для
них не существует и символа как такового — только рациональные дефини-
ции, субстанции и атрибуты, все эти богатства и скудости натурализированно-
го разума. И поэтому и сам смысл как таковой, его идею они истолковывают
как рациональное значение — как законы разума или природы. И поэтому в
таких мировоззрениях нет и свободы.
Сказанным я вовсе не хочу подчеркнуть жизненную и человеческую сте-
рильность подобных философий. Нет, как тип мировоззрения они значимы ив
истории мысли и, что еще важнее, в сегодняшней жизни. В известном благо-
родстве умонастроения, в воспитании стойкости духа перед испытаниями им
не откажешь. Признав это, однако, я хочу сказать, что «стрела» их онтологи-
ческого полета легковесна и, пустившись в небо рационалистически-натура-
листического абсолюта, быстро падает на землю. Онтологический и антропо-
логический недолет их очевиден. Мир этих мировоззрений безрадостен, в нем
невозможно чудо. А вместе с ним, повторю, и личность, и свобода, и символ, и
спасение. Вот в этом и состоит упомянутый мною недолет пущенной ими стре-
лы постижения.
А теперь я хотел бы обрисовать, в самом сжатом виде, ситуацию в мире
смыслов. Мир смыслов был открыт-создан и худо-бедно храним в течение мно-
гих веков европейской истории. Но затем произошел ряд потрясений, и он был
разрушен. Особенно быстро его разрушение происходило начиная с XVIII в.
Во время разрушения этого мира была жива претензия, служившая для него
стимулом, что в результате будет создан новый мир смыслов, далеко превосхо-
дящий разрушаемый. В это верили и Бруно, и Спиноза, и Вольтер, и Маркс...
Но, в конце концов, особенно в XX столетии, обнаружилось (пусть все еще для
немногих), что нового мира смыслов, о котором говорили как о безусловно
превосходящем разрушаемый, не было создано и в принципе создано быть не
может.
Для пояснения сказанного приведу один пример. Нет ничего естественнее,
чем стремление к выздоровлению, к излечению болезней. И современный че-
ловек к этому стремится, и человек прошлого, не отличаясь в таком стремле-
нии от всего живого мира. Но на уровне смысла стремление человека к выздо-
ровлению есть не что иное, как символ спасения, исцеления в духе и вечности,
47 - 3357
738
Глава VIL Философия и культура
нового рождения, символ обретения полноты бытия через союз свободы и бла-
годати. «Даже целостность организма, — справедливо подчеркивает Мар-
сель, — когда я надеюсь на излечение болезни, является символом, предвосхи-
щающим высшую целостность» 52. Но в результате разрушения мира смыслов
как мира живых духовных символов здоровье организма стало рассматривать-
ся как абсолютная самоцель и самоценность. Но несмотря на такой поворот в
мире значений, болезни не были побеждены, а страдания людей лишь возрос-
ли, причем к телесным недугам добавились духовные — нигилизм и отчаяние.
Впрочем, сказанным я вовсе не хочу отрицать огромных достижений науки и
медицины, успехов микробиологии, генетики и тому подобное. Я хочу подчерк-
нуть другое: исключительно рационалистически-натуралистическая трактовка
болезни не избавила человека от страданий ни телесных, ни тем более духов-
ных. Я хочу обратить внимание на то, что на пути технического прогресса эта
цель недостижима. А цена за новые лекарственные средства слишком велика,
ибо, создавая их, человек лишается пространства надежды и перед ним рассти-
лается пустыня нигилизма и отчаяния. Отвергнутая же натурализмом и сциен-
тизмом символическая трактовка болезни нацелена именно на приоритет духов-
ной победы над нею и над ее естественным завершением — смертью. И вот
главное, что я хотел сказать всем этим рассуждением: духовный символ спасения
и победы над смертью невозможно разрушить без саморазрушения человека.
К этому я хотел бы добавить только один момент. В страдании, данном,
конкретном, светит тайна воплощенного духа, за которой стоит таинство Бого-
воплощения. Признавая это, мы открываем пространство позитивных смыс-
лов в переживаемом страдании, которое при натуралистическо-материалисти-
ческой его трактовке остается недостижимым. Оно ею не признается и даже
активно отрицается как измерение реальности. Систематическое разрушение
религиозных и метафизических смыслов превращает человека в Сизифа теле-
сности: попытавшись заместить тайну воплощения проблемой тела, всегда
остающегося бренным и доступным порче, он обрек себя на бесконечное вра-
щение по замкнутому кругу. Действительно, усилия по «починке» тела как ма-
шины все время возвращают его в исходную позицию болезни и страдания.
Такая ситуация не может не порождать отчаяния, этого духовного антипода
надежды.
Иерархия форм опыта и онтологических «картин мира»
Подглядеть и расчислить вращение «машины мира» — одна установка. Со-
браться с духом посреди жизненных невзгод и драм человеческих — другая.
Марсель Г. Быть и иметь. С. 65.
Из записей
739
Первая — интеллектуально-научная, вторая —духовно-экзистенциальная. Но
разряды, «человеческим сердцем накопленные» (Пастернак), рангом выше элек-
трических разрядов молний.
Истина научная познается и доказывается в принудительной цепи выво-
дов. Истина духовная признается и свидетельствуется свободным актом лич-
ности. Поэтому, прежде всего, опыт святости — пропедевтика в онтологию
конкретного духа. Опыт подгляда и расчета вводит нас в низшие сферы бы-
тия — в онтологию абстрактного ума.
Досократики велики тем, что соединяли оба типа онтологических картин.
Например, Эмпедокл говорил о космических циклах Любви и Вражды. У него
духовные силы управляют физическим миром. Но в мире досократиков нет
свободной личности, свидетельствующей о высшей истине.
Среди современных ученых, кажется, В. Паули стремился к чему-то подоб-
ному, что было у Эмпедокла. Но когда ученый-естествоиспытатель, физик-тео-
ретик ищет единства мира, пытаясь соединить дух и материю, то он легко впа-
дает в оккультистский соблазн: ему привычнее и легче материализовать, нату-
рализировать, физикализировать дух, чем одухотворить материю. Размышляя
о подобной попытке, мы отдаем себе отчет в том, что здесь — граница позна-
ния как такового. Участие, без которого немыслимо свидетельствование об
Истине, есть преодоление этой границы. На него способна экзистенциальная
мысль, открытая к мистическому и религиозному измерению. Но насколько я
могу судить, Паули не слишком глубоко понимал религиозное начало вообще и
христианство в частности, допуская его полное исчезновение в результате се-
куляризации, которую он, по шаблону сциентистов и позитивистов, считал нео-
твратимой. Не обрекалась ли тем самым его героическая попытка найти миро-
вое единство фатальным образом на неудачу?
К ГЕНЕАЛОГИИ СТРУКТУРАЛИЗМА
Лазейку для объективации, которую стремится превзойти экзистенциаль-
ная мысль, нашли в языке как вещи, как объекте. Но забыли, что язык как речь
есть не только говоримое, но и говорящее, не только сказанное, но и сказываю-
щее — не только объект, но и субъект.
Два типа символизма и судьба человека
Символизм искусственной формы, включая число, и символизм естествен-
ного слова — эти два типа символизма задают соотношение науки и искусства,
науки и философии, науки и религии. Символизм познаваемого (математизи-
рованная наука) и символизм непознаваемого, но признаваемого (философия,
47*
740
Глава VIL Философия и культура
искусство, религия). В частности, религия — опыт встречи человека с Другим,
которое ближе к нему самому, чем он сам. Наука же устремлена на встречу
человека с самим собой. Возьмем как пример математику. Например, окруж-
ность — форма, которую я мысленно воспроизвожу: замкнутая кривая с цент-
ром, от которого все ее точки отстоят на равное расстояние. В окружности нет
ничего, кроме этого — моего собственного, сконструированного мною самим
содержания. Поэтому и во всей науке (в математическом естествознании) и
технике мы встречаем только самих себя, свой «разум» и свое «воображение».
Гуманизм как мировоззренческий антропоцентризм ведет к машинизации
человека. Действительно, в основание всего он ставит человека как существо,
создающее искусственные символические системы (наука — их образец). А
такие системы ведут к безудержной технизации жизни, которая «проглатыва-
ет» самого человека, машинизируя его. Без признания онтологически высшего
ценностного ранга за естественным символизмом языка (в поэзии, в религии)
человеку вряд ли удастся избежать подобной механизации.
Участие
Приобщение к плероматической полноте — вот исполнение жизни. Жизнь,
перетекающая через границу жизни и смерти, такое приобщение осуществля-
ет. Самые высоко взлетающие волны бытия — плероматические валы жизни —
посланники вечности во времени. Участие в их движении — цель человека.
Эффект ужаса
Человек испытывает ужас перед необъективируемым, древний ужас перед
хаосом, бездной... Мир, доступный объективации, удобнее, знакомее, он пред-
сказуем, в нем для человека меньше поводов для страха. Поэтому экзистенци-
альная философия, заглядывающая за край объективируемого, никогда не бу-
дет массовой. Подобное заглядывание вызвало в интеллектуальном мире свое-
го рода головокружение, приведшее в 60-е годы к отказу от экзистенциальной
философии в пользу философии языка и структурализма, вернувших европейс-
кое сознание в привычный обжитой мир объектов. Все сущее снова стало веща-
ми. Сам язык стал не более чем совокупностью «сказанных вещей» (choses dites).
К БИБЛЕЙСКИМ КОРНЯМ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
Архетип современного ученого, для всего требующего доказательств, свою
генеалогию ведет от новозаветного Фомы53.
53 L'attitude de Thomas est après tout celle du savant d'aujourd'hui, qui réclame de preuves
Из записей
741
Наука возникла из духовных глубин человека. Пусть она при своем втором
рождении даже порвала с ними, далеко ушла от них. Но где основание для
утверждения, что она никогда не сможет к ним в какой-то мере повернуться,
если и не вернуться? Тайна сия велика есть.
«Зоологический» антисциентизм не лучше, чем «крутой» сциентоцентризм.
Такой антисциентизм не признает за наукой никакой духовной ценности. Он
не видит ничего заслуживающего философского исследования в опыте науки.
Не оказывается ли подобный антисциентизм и антифилософией, раз он отри-
цает духовную значимость за содержанием философских понятий и конструк-
ций, принимая в философии только ценностнозначимый символизм, доступ-
ный лишь вкусу духовного аристократа-знатока?
Подобный ультрарадикальный антисциентизм иногда отсылает как к своей
к традиции русской религиозной философии. Однако, на мой взгляд, он и с ней
порывает. Например, С. Франк видел в новейших для его времени (первая треть
XX в.) процессах, происходящих в науке, явные шаги к ее сближению с целос-
тным философско-религиозным миропониманием. Иными словами, он «не ста-
вил крест» на науке, не рассматривал ее в исключительно отрицательном клю-
че, а видел в ней возможности позитивных перемен, уводящих ее от грубого
натурализма, материализма и атеизма.
Считать физика, логика, инженера интеллектуальными инвалидами в силу
самой их профессии я не могу. Гуманитарную спесь я не приемлю столь же,
сколь и любую другую социальную спесь.
Не могу я принять и абсолютного разведения проблемного и метапроблем-
ного измерений (в смысле Г. Марселя). У него это — идеальная конструкция
наподобие идеальных типов у М. Вебера. И ее философское значение трудно
переоценить. Но история как действующая тайна человеческого творчества эти
барьеры преодолевает и соединяет идеально разведенное.
Если наш разум есть падший разум, то он таков и в естествознании, и в
гуманитарных дисциплинах одинаково. Надежда на его восстановление (ис-
купление, очищение, спасение) дается религиозной верой — не иначе. А не
каким-то знанием — каким бы расгуманитарным оно ни было.
Между божественным и человеческим — разрыв. Преодолевается он толь-
ко Божьей благодатью, верой и в Церкви. Но и во внецерковной культуре — в
науке, искусстве, философии — разве мы не видим бесконечно разнообразных
попыток если и не преодолеть его, то все же как-то минимизировать, сблизив
«небо» и «землю»? Исключать из возможности подобной работы в человече-
ском мире мы не можем почти ничего, кроме, конечно, разрушительной злой
{Marcel G. En chemin, vers quel éveil? P., 1971. P. 216). «Установка Фомы есть в конце кон-
цов установка современного ученого, требующего доказательств» (фр.).
742
Глава VIL Философия и культура
активности. Все же созидательное у человека напоминает строительство ду-
ховной лестницы на «небо». Например, философия, как бы дополняя (нередко,
правда, она претендует не на дополнение, а на замену) истинного Бога «Авра-
ама, Исаака, Иакова», вводит своего бога, бога философов, являющегося Его
смутной и даже искаженной, но все же некоторой копией. Образец неоплато-
ников, занятых диалектикой перехода от абсолюта к не-абсолюту, от высшего к
низшему, служит примером для подражания многих философов и других на-
правлений. По-своему то же самое делает и научная философия, показываю-
щая связь невидимых интеллектуальных конструкций или идей разума с опы-
том человека в этом мире. Даже наука занята этим же, даже практически ори-
ентированная. Ведь ее цель — как бы свести утраченное небесное блаженство
в земные пределы. А чистая наука снизу штурмует этот разрыв, пытаясь подоб-
но философии, но на свой манер соединить невидимое с видимым. Математи-
ка в том числе соединяет мир непосредственной повседневной жизни с миром
отвлеченных форм и истин.
Сделаем вывод: творчество человека в искусстве, науке, философии и в дру-
гих сферах культуры это как бы мирское служение, мирская служба, внецер-
ковный символ Церкви. Человек как творец тем самым уже как-то мистически
воцерковлен.
Не коррелирует ли способность к объективации себя самого (я легко могу
посмотреть на себя как на Другого и удержать этот объективирующий, овнеш-
няющий меня взгляд) со способностью к дезобъективации Другого (я легко
могу войти в «нутро» Другого — прежде всего другого человека, но не толь-
ко, — встать на его место, отождествить себя с ним, почувствовать изнутри его
ситуацию)? Не есть ли это в сущности одна и та же способность, способность
рефлектирующего воображения? И не мешает ли ее избыток умению жить по
логике здравого смысла с его презумпцией фундаментального отличения себя
от Другого?
Жизнь и наука
Жизнь — тайна, таинство. А не проблема. Конечно, в ней как тайне можно
найти (сконструировать) «участки», доступные для объективации, где возмож-
на и даже законна проблематизация, позволяющая ставить и решать научные
задачи. Но по сути, в целом и главном это — тайна. А вот послушаешь некото-
рых современных ученых-биологов и поражаешься: они из живого делают ма-
шинное... Может ли наука мыслить не по-машинному!
Из записей
743
О ЛОКАЦИИ ИСТИНЫ
В самих фактах истины как света нет. Она — во мне. Но есть я светоносный
и я, боящийся света. В их схватке и решается вопрос об истине. А не в «извле-
чении» ее из фактов самих по себе с помощью их правильной обработки.
Существует диспозиция или структура, которая, объединяя внешние и внут-
ренние моменты бытия человека в мире, не закрывает света истины, могущего
в ней появиться. Навык к формированию таких диспозиций помогает развить
в человеке, например, хороший романист, как считает Марсель. Умение занять
такую позицию — главное для мыслящего.
ИЗ РАЗГОВОРА НА МОСКОВСКОЙ УЛИЦЕ
С: Христианство копнуло глубоко, оно достигло базового пласта... Но сей-
час время другое и надо копнуть еще глубже...
В.: А не кажется ли тебе, что когда ты начинаешь что-то искать, то нельзя
себе с порога запрещать находить искомое? Неудивительно, что те, кто так по-
ступает, гипнотизируя себя тезисом о том, что истина — бесконечный поиск
ее, действительно ничего не находят, ибо и не могут найти, запретив себе это.
С: Все говорит о том, что пришло время новых всеохватывающих синтезов.
В частности, синтеза атеизма и религии, христианства и язычества... Нужно
новое. Все новое.
В.: Извини, если христианство, как ты сам говоришь, достигло базового
пласта, то зачем в поисках новизны во что бы то ни стало копать глубже? И
имеет ли это смысл, коли основание действительно уже достигнуто?
С: Синтез религии и атеизма необходим потому, что нельзя доказать, есть
ли Бог или Его нет. И именно поэтому одни люди — атеисты, другие — верую-
щие. Но доказать необходимость их соединения можно. И поэтому надо соеди-
нить и то и то...
В.: Постой! Ты разбираешь духовную ситуацию так, как рассматривают из-
вне объективную картину. Так зритель созерцает спектакль: ты себя исключа-
ешь из него, заняв позицию созерцателя. Но в духовном мире ты как живущий,
мыслящий, ищущий истину включен в этот спектакль, в эту драму. И твой вы-
бор, какими бы мотивами он ни определялся, в пользу Бога или против Него
будет включенным актом, актом участия, а не отстраненного созерцания. А это
значит, что ты вмешиваешься в саму драму, склоняя своим участием в ней мир
к тому, что ты выбрал...
744
Глава VII. Философия и культура
Сирена широты
Есть широта, готовая мешать высокое и низкое, ценное и лишенное ценно-
сти, значимое и незначительное: чем шире, говорит она, тем глубже, тем вер-
нее! Предельно широко забирая, широта эта надеется обновить мир и упорядо-
чить его по-новому. Но она не отдает себе отчета в том, что при такой широте
смешения всего со всем может возникнуть не новый всеохватывающий поря-
док, а тотальная деструкция.
Если уничтожить семенной фонд культуры, ростки которого всегда, в лю-
бое время и в любой точке пространства, указывают на центральную область
мира, то удержать процесс распада человека не удастся. Вселенной человека
угрожает не столько тепловая смерть от роста физической энтропии, сколько
духовная — от роста культурной энтропии, в результате чего физиология и день-
ги становятся кукловодами мира. Мира без культуры и без человека.
Чистая музыка звучит в музыке оглохшего Бетховена (сонаты № 31, 32...).
Неслышимая музыка, незримая живопись, немыслимая мысль... Мыслящий,
пытающийся мыслить немыслимую мысль, подобен оглохшему Бетховену, все-
таки как-то слышащему неслышимую им музыку. Мышление немыслимой
мысли, слышанье неслышимой музыки — чистые формы мысли и музыки.
Чистые означает здесь духовные. Именно дух способен прорываться через эти
преграды. На высотах духа неслышимая музыка слышна, зрима невидимая кар-
тина, мыслима немыслимая мысль.
Но высоты духа не есть вершины абстракции: ошибка идеализма.
Ученый ищет интеллектуально неопровержимые утверждения об объектах.
Экзистенциальный философ ищет рефлексивно оформленного символизиро-
вания тайны — тайны бытия, тайны личности...
Неабсолютность философии не в том, что философий много и все они оп-
ровергают друг друга (скептический аргумент против философии), а в том, что
философия как любовь к мудрости есть любовь неразделенная — в том смыс-
ле, что самой мудрости, а вместе с нею вершины бытия философия не дости-
гает и не может достичь. Но это не аргумент против философии.
Показательность философии
В философии надо двигаться так, как это делается нами тогда, когда мы
хотели бы сказать, что такое смешное и стали для этого рассказывать действи-
Из записей
745
тельно смешной анекдот. Философия хочет сказать, что такое истина, духов-
ная высота ума, позволяющая ясно видеть самое главное, самое важное. Но
демарш настоящей философии — не развертывание аргументов more geometrico,
не доказательство ее целей, а «показательство» их в самой ситуации их жизне-
проявления, правда, средствами рефлексии, мыслящего рассмотрения, а не ху-
дожественного образа. К такому пониманию и практикованию философии был
близок Марсель, тем более близок, что в своем драматургическом творчестве
он предвосхищал свои «философемы». Не только предвосхищал, но и, исполь-
зуя свой опыт драматурга, вносил в саму философскую мысль атмосферу диа-
лога, конкретной межличностной ситуации. Не доказывать философскую «те-
орему» требовал он от своих учеников, а показывать ее в конкретной ситуации
«на лицах».
C'est ainsi
Примерно год, как я не забываю один мною не разработанный, не тронутый
еще сюжет для медитации, обозначаемый как c'est ainsi. По-русски («это так!»)
он почему-то у меня не звучит. Я вспоминаю о нем почти каждый день как о
чем-то заветном, как об отложенной про вкусный и приятный запас «заначке»
для размышления. Я жду, жду часа, когда, сосредоточившись на нем, наконец
расскажу, что же это за сюжет. И что же я хочу сказать, непроизвольно воскли-
цая: C'est ainsi!
C'est ainsi: я пишу c'est ainsi. Звучит соната Баха, мне 61 год: c'est ainsi.
Американские летчики разбомбили колонну пуштунских старейшин, ехавших
на инаугурацию Корзая в Кабул: c'est ainsi.
В этих примерах я, говоря c'est ainsi, соглашаюсь со звучащими в них экзи-
стенциальными суждениями, подтверждаю, что они действительно обладают
статусом экзистенциальности (являясь суждениями о существующем, о суще-
ствовании как оно дано моему сознанию). C'est ainsi — знак рефлексивности
сознания: факты, вошедшие в сознание, отражены в зеркале рефлексии, любое
содержание сознания благодаря отражению (рефлексии) как бы удвоено и этот
феномен неотвязности, неизбежности рефлексии я и выражаю, говоря c'est ainsi.
Перечисленные примеры достаточно объективны: они вряд ли вызовут сопро-
тивление у других сознаний. Сонату Баха все, по крайней мере в норме, вос-
примут как сонату Баха (хотя реальные содержания ее восприятия разными
людьми будут разными).
Но есть другой тип случаев, когда я также говорю: C'est ainsi! Вот их приме-
ры: мир людей манипулируем, в нем не так сильна воля к истине, как воля ко
лжи: c'est ainsi! Нет ничего прозрачнее горного ручья: c'est ainsi! Нет ничего
более близкого душе, чем голос одинокой скрипки: c'est ainsi! Эти суждения
746
Глава VIL Философия и культура
наверняка вызовут возражения других сознаний: это подчеркнуто мои сужде-
ния о существующем: о моем мире. Это не научно-объективные суждения (вро-
де: мне 61 год и т. п.), а поэтически-субъективные, рисующие мой мир, мир
моего сознания, моих предпочтений, ценностей, моего видения «общего» мира.
Но я все равно говорю: c'est ainsi!, ибо для меня они выглядят вполне экзистен-
циальными суждениями. Мое сознание таково, я сам таков, как они его и меня
выражают: Je suis comme ça! И c'est ainsi здесь опять — знак рефлексии.
Самого главного о том, что же такое c'est ainsi, я еще не сказал: c'est ainsi.
Здесь это выражение рефлектирует совсем свежую интенцию, догадку, мысль-
всю-в-себе: я чувствую, что-то главное еще не сказано... Но в чем оно, я пока
еще не могу сказать. И эта ситуация исследования и говорения по ходу его
тоже рефлектируется. Отсюда и c'est ainsi.
C'est ainsi — это что-то вроде «я мыслю», cogito, je pense Декарта. «Я мыс-
лю» ведь тоже не более чем чистый знак чистой рефлексии, присущей мысли
как таковой или даже сознанию как таковому. Ведомый какими-то интересами,
идущими от факта моей воплощенности, я мыслю, двигаюсь по логике мысли-
мого содержания, пытаюсь решить какую-то проблему, выйти из затруднения.
Но при этом мысль еще и просто отражает себя — какой бы она ни была. Я
могу и само мышление о проблеме сделать проблемой, благодаря тому, что
мышление естественным для него образом обращено на само себя (рефлексив-
но). Это как комната с бесконечными зеркалами — ловушка рефлексии, ло-
вушка cogito.
Однако в c'est ainsi в отличие от cogito звучит особая экзистенциальная нота,
нота свободы не мысли как мысли, а нота мелодии свободы личности, индиви-
дуального личного существования. Говоря c'est ainsi, я принимаю все сущее,
все, что таковым для меня (но не только для меня) обозначилось. И даже не-
обозначенному, скрытой судьбе я могу сказать в духе Блока: «Принимаю!» Ска-
зать жестом c'est ainsi!
Чтобы пояснить этот экзистенциальный момент, я буду вынужден несколь-
ко отступить от ясной логики анализа и закончить это размышление эмоцио-
нальной попыткой выразить само чувство, стоящее за c'est ainsi.
Что же такое c'est ainsi? Все факты мира и сознания, все грехи мира, все его
добродетели, все мечты, все жертвы и все мучители, все побежденные и все
победители, все осанны и все проклятия в его адрес... Всё, что есть, и всё, чего
нет, но что могло бы быть или могло бы быть только помыслено. Все дела
наяву, все сны, все страхи и все бесстрашия... Труднодоступный оператор Всё,
общий знаменатель сущего и околосущего. И это Всё собирается ветром По-
рыва и несется хвалой Господу: c'est ainsi и спасибо! Что это? Эхо музыки
Плеромы, летящей к Небу? Конечно. Но кто ее слышит и как ее передать слова-
ми? Эти «да! да! да!» бытию, вобравшие мириады «нет!» Радости и страда-
Из записей
141
нию, радости-страданию — да! Они не стыкуются в линию, они строятся в
круг и танцуют рондо, эти бесконечные и конечные радости и страдания.
Я сказал что-то о c'est ainsi. И я не сказал о нем главного. Скажу ли? И это
ведь тоже — c'est ainsi. Молчание всегда хранит за собой последнее слово. Все
действительные резоны — у Бога. А по дороге к Нему они ночуют у мол-
чания.
Родившись, мы не знаем, что будет время, что будет пространство. Но зна-
ем, что будет вечность, ибо мы всегда уже внутри нее.
Мы родились, мы воплотились, чтобы жизнью своей просемафорить зеле-
ный свет надежде — вот смысл самого слова «смысл». Смысл смысла в том,
чтобы лучи надежды, которые были направлены на нас еще до нашего рожде-
ния, усилились и разгорелись еще ярче от нашего вклада в их интенсивность.
Лучиться надеждой посреди мира, лежащего во зле... Вот к чему мы призваны
Пославшим нас сюда: c'est ainsi.
НА ПУТИ К ДРУГОМУ:
РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
Меня попросили написать небольшую статью на тему «Свое и чужое. Встре-
ча с реальностью культуры» в контексте постструктурализма. По условиям
объема и времени я ограничился из указанного контекста только творчеством
М. Фуко. Тема эта настолько сложна и важна, что пришлось некоторые момен-
ты ее развития дать в порядке постановки вопросов и сжатого набрасывания
возможных подходов к их решению. Логико-философский, чисто теоретиче-
ский аспект темы (соотношение единого и многого, тождества и различия
и т. п.) я сознательно оставил без рассмотрения, потому что старался обратить
внимание на культурологический план ее анализа. Для этого, на мой взгляд,
необходимо сфокусировать указанную тематику на личностном бытии челове-
ка как субъекта культуры. По отношению к культуре как миру человека Другое
выступает двояко: как внекулыпурное начало (божественное и природное) и
как внутрикулыпурное отношение (проблема сосуществования внутрикультур-
ных дифференциаций, «моей» и «чужой» культуры и т. п.). Указанные аспекты
Другого взаимосвязаны: «внекультурное» Другое служит основанием для внут-
рикультурных его форм — как их единства и гармонии, так и борьбы и вражды
между ними. Наше размышление поэтому будет касаться обеих форм Другого.
Культура прежде всего активно отличает себя от своего Другого. Это прояв-
ляется в действии соответствующих правил отбора, нацеленных на самосохра-
нение определенной культуры в ее отличии от Другого как другой культуры.
Отбор поддерживает ее определенность, ее смысловое ядро (то, ради чего она
создается, ее «телоса»). Так, например, в гвардии существовала традиция оп-
ределенного отбора солдат в полки определенного типа. Эта центрированность
на себе с соответствующей селективностью позволяет определить ее как поря-
док, поддерживаемый отбором (параллель между культурой и негэнтропийны-
ми процессами). В случае гвардейской культуры ее центрированность на себе
(«своемерие», о котором речь пойдет ниже) проявляется в том, что действует
строгая традиция: каждый вступающий в полк новый гвардейский офицер обя-
На пути к Другому
749
зан приобрести историю своего полка и знать ее. Без подобной системы авто-
преференции культуры не существует. Но именно она и приводит к остроте
постановки вопроса о Другом по отношению к ней.
С реальностью культуры мы сталкиваемся, например, тогда, когда осозна-
ем замкнутость ее особого языка. Именно в нем репрезентировано для нас
Другое. Это может быть язык другого народа, другого сословия или корпора-
ции. В частности, корпоративный язык создается для маркированного отличе-
ния «своих» от «чужаков». Например, военных гвардейцы от штатских «шпа-
ков» и от негвардейских воинских подразделений отличают специальные знаки
(особенности мундира, характерные знамена и штандарты), традиции и соб-
ственно язык. Князь П. Вяземский говорил о наличии особого «гвардейского
языка» 1. Этот язык отличался от других языков не только специальной про-
фессиональной терминологией, но и особым языковым творчеством. Так, «го-
лубь» на гвардейском языке обозначал двуглавого орла на кирасирской каске 2.
«Свое» создавалось не только внутри гвардии как таковой, но и внутри каждо-
го гвардейского полка. Известно, что в Лейб-Гвардейский Павловский полк
«подбирали солдат курносых, как Павел I» 3. «Каждый гвардейский полк, —
говорит историк воинской атрибутики, — имел свой марш» 4. И, конечно, мно-
гое другое, присущее только ему.
Культура устанавливает коды отношения «своего» к «чужому», предписы-
вающие поведение «одного» перед лицом «другого». «Другое» живет по своим
законам, в соответствии со своим собственным характером, что не может не
вносить в отношения «своего» и «чужого» ту или иную степень напряженно-
сти вплоть до антагонизма. Вопрос о соотношении культурных различий (одно
и другое) не может быть продуктивно поставлен и тем более решен без обра-
щения к принципу их общности, в частности к их общему происхождению, к
охватывающему и единящему их смыслу.
Посмотрим теперь, как ставилась эта проблема М. Фуко. Соотношение «свое/
чужое» по-разному выступает в разные периоды его творчества. Для первого
этапа развертывания «генеалогического» проекта Фуко (представленного в
«Истории безумия» и сохранявшегося до работ начала 70-х годов), который
условно можно обозначить как «археологическая генеалогия», характерно ис-
1 Вяземский П. Старая записная книжка. Л., 1921. С. ПО.
2 Лотман Ю. М. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи //
Уч. записки ТГУ. Т. 481. Семиотика устной речи: Лингвистическая семантика и семиотика.
Тарту, 1979. С. 112.
3 Вилинбахов Г. В. Комментарий к военной теме и воинской атрибутике // Трубец-
кой Н. С. Записки кирасира // Наше наследие. 1991. № 4. С. 115.
4 Там же. С. 116.
750
Глава VII. Философия и культура
пользование работы Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» ( 1872). «Ниц-
ше показал, — говорит Фуко, — что той трагической структурой, исходя из
которой вершится история западного мира, является не что иное, как отказ от
трагедии, ее забвение и замалчивание» 5. Трагическое измерение как скрытое
основание западной цивилизации, обозначенное у Ницше как «дионисийское
начало», в ходе ее истории вытесняется за пределы ее рационалистической
христианско-моральной культуры. У Фуко это измерение обозначено как «вер-
тикаль», в которой по отношению к «горизонтально» расположенному запад-
ному Разуму размещается его Другое, выступающее в трех основных вопло-
щениях или фигурах —Востока —Безумия — Сновидения (сюда Фуко присо-
единяет еще и «счастливый мир желания»). Нетрудно узнать в этих фигурах
ницшеанское «дионисийское начало». Размежевываясь с воплощенным в этих
фигурах своим Другим, Запад конституирует свою собственную идентичность,
причем «жесты» такого размежевания суть культурогенные акты его исто-
рии.
Фуко мыслит Другое изнутри своей культуры. Фигуры Другого у него есть
фигуры Другого для западной культуры. «Самочувствие» западной культуры
задает и ее чувство Другого — ее Другого. «Восток», «сновидение», «безу-
мие» — все это образы Другого для той культуры, которая своим началом счи-
тает разум, рациональность. Для людей, живущих в других культурных мирах,
которые по крайней мере так безапелляционно не отождествляют себя с рацио-
центризмом, ни «Восток», ни «сновидение», ни даже «безумие» не будут фигу-
рами абсолютно Другого по отношению к ним, к их самоидентификации. От-
сюда следует достаточно очевидный вывод: сама оппозиция «свое/чужое», «мое/
другое» в своей определенности конституируется внутри конкретной культу-
ры, задавая ее специфику. Личность по своим возможностям шире, чем куль-
турный контекст ее самоидентификации. В этом смысле и сновидение, и нечто
восточное, и даже безумие не совсем чужды личности, считающей себя вопло-
щением западной культуры. Разведение «своего» и «чужого» маркирует грани-
цы собственно культурного мира, определяя его специфичность. Новоевропей-
ская культура (лучше — цивилизация) интернирует безумцев, заключая их в
психиатрический приют, не принимает во внимание сновидения, ориентиру-
ясь на ясность дневного рационального сознания 6, «цивилизует» «отсталый
Восток», отталкивая его собственные ценности.
Если оппозицию «свое/чужое» мыслить как проблему, как напряжение между
обозначенными в ней полюсами, то понятие «самоизменения» оказывается ее
5 Foucault M. Histoire de la folie à l'âge classique. P., 1961. P. IV.
6 В психоанализе они методически истолковываются так, чтобы обрести свою рацио-
нальность, раствориться в ней.
На пути к Другому
751
логически внятным решением, по крайней мере шагом на пути к нему. Дей-
ствительно, в триадической схеме «тезис — антитезис — синтезис» ее члены
могут быть представлены в контексте обсуждаемой проблемы таким образом:
тезису отвечает «свое» или «мое», антитезису — «чужое» или «другое», синте-
зис же этих полюсов дан в самоизменении, в котором «мое» и «чужое» слива-
ются в единство. Самоизменившись, я становлюсь «чужим» самому себе или,
напротив (что есть то же самое), в самоизменении чужое (то, чем я пока не
являюсь) становится моим (тем, чем я являюсь, ибо самоизменение и есть из-
менение самого содержания «Я»). Единство личности, самости сохраняется в
самоизменении, но при этом в нее входит и «чужое», «другое», «иное».
В. Декомб, описывая основную тему современной французской философии,
говорит о характерном для нее проблемном поле, образованном такими поня-
тиями, как Тождество (le Même) и Иное, или Другое, (l'Autre). Альтернатива
здесь такова: или Тождество «проглатывает» Иное, не испытывая при этом
никакого самоизменения по существу (не считая, быть может, чисто количе-
ственного роста), или оно перед лицом Другого оказывается способным к са-
моизменению 7. Вторая часть указанной альтернативы предполагает как мини-
мум открытость по отношению к Другому. Иными словами, или ассимиляция
Другого или (взаимное) самоизменение «своего» в результате его открытости
по отношению к Другому. Самоизменение выступает как синтез Тождествен-
ного и Другого, будучи самополаганием себя другим по отношению к самому
себе. Оно достигается в результате самотрансгрессии в ответ на вызов Друго-
го. Итак, основная альтернатива такова: или ассимиляция Другого, или соб-
ственное самоизменение.
Острота и экзистенциальная значимость проблемы соотношения «свое/чу-
жое» обусловлены тем, что границы между членами указанной оппозиции по-
движны и проницаемы. Существует серьезная близость между ее полюсами:
«чужое» в принципе — это отсроченное или задержанное «свое», «свое» как
возможность, притом вполне реальная. Но близость эта несет в себе и угрозу: в
«чужом» для меня всегда таится опасность самоутраты. Поэтому образ Друго-
го не может не быть амбивалентным в мире самотождественного. Существен-
но, что для личности в ее опыте открыта если и не прямая возможность транс-
формации в свое Другое, то по крайней мере возможность увидеть, что абсо-
лютных границ здесь не существует, что жизнь, охватывающая эти полюса, в
высшей степени подвижна, динамична. Но эта подвижность есть возможность
как гармонизации отношений Одного и Другого, «своего» и «чужого», так и их
прямой или прикровенной вражды.
7 Descombes V. Le Même et l'Autre. Quarante-cinq ans de la philosophie française (1933—
1978). P., 1979. P. 25.
752
Глава VIL Философия и культура
Культура размещается между двумя образами своего другого (не-культуры):
между «небом» (мир божественной трансценденции) и «землей» (мир приро-
ды). Обе трансгрессирующие мир человека как мир культуры инстанции ак-
тивно соединяются в феномене культуры. Модальность этого соединения (ар-
тикуляции) есть важнейшая характеристика для определения специфики куль-
туры. Кстати, новоевропейская западная культура приходит в конце концов к
тому, чтобы обеспечить беспрепятственный рост своей рациональности и со-
здаваемого ею рациотехномира за счет агрессии как против небесного начала,
так и против природного. Ницшевский безумец, кричащий «мы убили Бога!»,
для полноты картины должен еще кричать и о том, что мы убиваем и природу
и что Пан как ее символ умер потому, что мы его тоже убили. Столь же агрес-
сивна эта культура и по отношению к другим культурам, находящимся внутри
мира культурного многообразия 8. Именно это элементарное обстоятельство и
лежит в основании темы кризиса культуры, разума и европейского духа.
Очевидной альтернативой этой агрессивности служит установка на гармо-
низацию отношений человека как субъекта культуры с Богом, с природой и с
другими культурами и людьми. Условием ее выступает интенция личности на
поиск универсального смысла, на духовное возрастание, обеспечиваемое куль-
турным саморасширением. Первым условием такого расширения духа служит
открытость его к Иному, являющаяся условием продуктивного, к гармониза-
ции различий направленного, самоизменения. Поэтому тема самоизменения,
частью которой выступает тема «метанойи» или духовного поворота, «второго
рождения», оказывается в этом контексте особенно значимой.
В творчестве Фуко проблематизация самоизменения отвечает его последне-
му периоду (история сексуальности как история античных «эстетик существо-
вания», «стилей жизни», «практик самости», направляемых «заботой о себе
самом»). В основе всего «генеалогического» проекта Фуко лежит допущение,
состоящее в том, что человек как субъект (субъект познания, субъект властных
отношений, кстати, к чему Фуко по сути сводит всю гамму межчеловеческих
отношений, наконец, субъект морали) создает себя сам9. Но в ходе истории он
8 «Затаенной мечтой каждого европейца, — говорит Н. С. Трубецкой, — является обез-
личение всех народов Земного шара, разрушение всех своеобразных обликов культур, кро-
ме одной европейской, которая желает прослыть общечеловеческой, а все прочие превра-
тить в культуры второго сорта» (Цит. по: Гумилев Л. Н. Заметки последнего евразийца //
Наше наследие. 1991. № 3. С. 24).
9 Несмотря на эту единую схему, на самом деле существует достаточно явное отличие
первых двух периодов творчества Фуко от последнего: элиминация субъекта, своего рода
теоретический «антропоцид», характерный для них, сменяется в конце концов реабилита-
цией морального, автономного и свободного, субъекта. На наш взгляд, сам философ преуве-
личивал в своих поздних выступлениях и интервью гомогенность своего творчества в целом.
На пути к Другому
753
как бы забывает о том, как именно, с помощью каких механизмов он создал
себя таким, каким он есть. Однако вернуть ему это знание о его самосозидании
может «историческая онтология» или «онтология нас самих», которая у Фуко
есть критическая «генеалогическая» история. Поэтому в такой «генеалогии»
кроется, по Фуко, мощный ресурс самоизменения человека в настоящем. Од-
нако за пределами этой философемы (мы сжато реконструировали ее) остается
вопрос о смысле как о высшей цели самоизменения. Дело обстоит так, что в
условиях всеохватывающей и всепроникающей Системы, нацеленной на са-
мовоспроизводство (это саморазвивающаяся социальная система, частью ко-
торой является мир дискурса и мир техники), витально важно увидеть точки ее
возможного преодоления, саму возможность Иного. Критицизм Фуко тополо-
гичен и технологичен: важно усмотреть любую возможность (само)изменения,
увидеть, так сказать, микроальтернативы, ибо глобальная альтернатива Систе-
ме с порога отвергнута им как порочная (идеологема социальной утопии, ска-
жем, марксистского типа).
Основной парадокс, бросающийся в глаза при изучении творчества и дея-
тельности Фуко, такой: чтобы общественная практика стала чуточку погуман-
нее, надо изгнать гуманизм из теории. Фуко, собственно, никуда не зовет. У
него нет своего варианта «Царства Божьего на земле». Его «дегуманизирован-
ная» социальная теория позволяет только лучше разглядеть механику реаль-
ной власти, ее дисциплинарных систем. Разглядеть их в сугубо технологиче-
ском «неглиже», без идеалистических туманов — просто как вещную соци-
альную машинерию, как своего рода топологию и структуру, проникающую на
любой уровень — вплоть до индивидуального тела.
Теоретическая проблема, встающая в связи с этим, такова: кто же субъект
сопротивления? Если все в обществе создается им самим как суперсистемой,
то кто же, собственно, сопротивляется и ради чего? Как возможно «иное» или
«другое» там, где запланировано и создано в порядке расширенного воспроиз-
водства «одно и то же»? Сексуальность, безумие — все это объективирован-
ные результаты власти-знания, ее развертки в условиях демографического рос-
та, технологической революции и т. п. Индивид в его конкретике — продукт
той же системы в ее саморазвитии. Так кто же, повторяю, сопротивляется и не
является ли такое сопротивление реакционным ретроградством и нежеланием
идти в ногу со временем? Каков источник Другого, Иного по отношению к
этой вездесущей Системе? Что еще может им быть, кроме той отторгнутой ею
стихии безумия — сновидения — Востока? Ведь власть, по Фуко, прежде все-
го позитивна и продуктивна. Она рационализирует и создает системы социаль-
ной жизнедеятельности, приспособляя всех и каждого к нуждам и потребно-
стям Системы в целом. Не является ли в таком случае власть фатумом совре-
48 - 3357
754
Глава VIL Философия и культура
менных технологических обществ? И какой смысл тогда имеет борьба, о кото-
рой столько говорит Фуко?
На эти и подобные вопросы трудно найти ответ в работах Фуко. Ведь «смысл»
как нередуцируемая категория элиминирован из его мысли. В первых двух пе-
риодах его творчества он был редуцирован до «блика» или «пены» на «гребне»
Системы. В последнем периоде ему частично возвращается некоторое пози-
тивное значение в рамках этикоцентризма, характерного для философий по-
здней античности. То, к чему они направлены как «эстетики существования»,
позволяет определить смысл как счастье индивида, как блаженную безмятеж-
ную жизнь, проживаемую как своего рода произведение искусства (умение жить
и умение спокойно и достойно умереть). Вот смысловое поле античной «забо-
ты о себе», как его видит Фуко: «Время, проводимое в рамках заботы о себе, не
впустую потраченное время. Оно наполнено упражнениями, практическими
заданиями, различного рода активностью. Заботиться о самом себе — не сине-
кура. Здесь важны и забота о теле, диета, нацеленная на восстановление здоро-
вья, физические тренировки, проводимые без чрезмерностей, умеренное удов-
летворение всех своих жизненных нужд. Сюда же входят размышления, чте-
ние книг, выписки из них, которые затем перечитываются, накопление в активе
памяти тех истин, которые уже в принципе известны, но которыми нужно овла-
деть практически» ,0. Иными словами, это — управляемая разумом жизнь, на-
правленная на ценности здоровья, спокойствия духа, неустрашимости перед
ударами судьбы, на устранение страха смерти. Это идеал эпикурейцев и еще
больше стоиков, среди которых вершины философской разработки темы забо-
ты о себе, как считает Фуко, достигает Эпиктет с его «Беседами».
Не следует думать, что мир заботы о себе вообще исключает связи с Дру-
гим. Нет, практики заботы о себе — это в принципе социальные практики, в
них важным моментом выступает общение (учителя с учеником, разнообраз-
ный обмен опытом и плодами размышлений и т. п.). В конце концов филосо-
фии поздней античности, как и пифагореизм до них, существовали в форме
школ. И социальная ячейка школы служила достижению указанных целей —
целей правильно проживаемой жизни, освещаемой разумом, проникающим на
все уровни (тело, здоровье, социальные связи и т. п.).
Фуко старается избежать идеализации этого дохристианского мира «заботы
о себе». Да, этот мир был миром вирильным и аристократическим (позиция
женщины не принималась во внимание, из него было исключено сословие ра-
бов и т. п.) п. Но в то же время он и идеализирует его, поскольку видит в нем
10 Foucault M. Histoire de la sexualité. Vol. 3: Le souci de soi. P., 1984. P. 66.
11 «Греческая мораль наслаждения, — говорит Фуко, — связана с существованием ви-
рильного общества, с идеей диссимметрии, с исключением другого, с наваждением по по-
На пути к Другому
755
центрированность на свободе индивида, чего не находит в христианстве. Вклю-
чение трансцендентной перспективы в мир заботы о себе, как считает Фуко, не
только разрушает его, но и устраняет сам принцип свободы, с ним связанный.
По Фуко, самость и Бог, забота о себе и забота о божественном Другом абсо-
лютно несовместимы. Однако, вопреки Фуко, культивирование самости в духе
свободы не исчезает с приходом христианства. Просто сами концепции само-
сти и свободы существенным образом трансформируются. Трансцендентное
начало и человеческая личность с ее свободой не исключают друг друга. На-
против, сама человеческая самость с ее свободой в рамках христианского ду-
ховного опыта воспринимается как укорененная в конечном счете в трансцен-
дентном начале.
В античности проблематизации вращались не столько вокруг запретов (в
зоне сексуальности, прежде всего), сколько вокруг «эстетики существования»:
как вести себя (в том числе и в сексуальных отношениях) так, чтобы достигал-
ся образ правильной, прекрасной жизни? Как и многие философы до него (на-
пример, Гегель), Фуко в античности видит реализацию идеалов свободы и кра-
соты. И как и они, он явно предпочитает языческую античность позднейшему
христианству, которое он со своим историцизмом считает пройденным этапом.
По Фуко, христианство — «религия текста» и поэтому христианская мораль —
«мораль кодекса», а значит, запрета, принудительного правила. Саму актуаль-
ность обращения к античности он объясняет тем, что, мол, теперь, после кру-
шения христианства и его морали, поворот внимания к античным практикам
«эстетик существования» отвечает современной потребности в поиске новых
стилей жизни. Освободительной истины евангельского послания он не понял.
И поэтому античный языческий человек представлялся ему не пленником фа-
тума, космического рока, а свободным человеком. Надо сказать, что Фуко со-
всем не знал восточного христианства, всецело ограничиваясь его западными
вариантами. Да и их он понимал, на наш взгляд, так, что пропускал в христиан-
стве самое главное. И если в последнем периоде своего творчества он все же
обращается к анализу христианства, то в первых двух он говорит о нем совсем
мало. Отчасти это объясняется тем, что с XVIII в. оно действительно не играло
воду активного гомосексуального акта, с угрозой потери своей энергии... И все это весьма
непривлекательно!» {Foucault M. Le retour de la morale // Dits et écrits. T. 4. P., 1994. P. 614)
(курсив мой. — В. В.). Центрированность концепции истории сексуальности Фуко на забо-
те о себе придает ей самой вирильный (маскулинный) характер, делая ее не вполне реле-
вантной исследованиям сексуальности и тендерной идентичности в феминистской перс-
пективе (Темкина А. К вопросу о женском удовольствии: сексуальность, идентичность в
современной России // Мишель Фуко и Россия: Междунар. конференция 24—25 июня
2000 г.: Тезисы выступлений. СПб., 2000. С. 54—59). Дело, видимо, в том, что мир женщи-
ны скорее укладывается в формулу «заботы о другом», чем «заботы о себе».
48*
756
Глава VIL Философия и культура
важной социальной роли в секуляризованной западной Европе, которую как
философ-историк изучает Фуко. В целом он вообще немного говорит о христи-
анстве, как будто говорить о нем почти что неприлично в кругах западной ин-
теллектуальной левой элиты. И если говорит, например, о малоизученной хри-
стианизации европейских рабочих во второй половине XIX в., то исключительно
как о морали, вводимой в политическую стратегию власти. Христианская мо-
раль, как он считает, лишь одно из средств в технологии власти. Он даже упо-
требляет такой термин, как «пасторская власть». А феномен исповеди и при-
знания рассматривает лишь как генеративную ячейку власти-знания, включен-
ную в историческую жизнь в Европе после Ренессанса.
Однако именно христианство (как в известной мере и другие мировые рели-
гии) открыло духовные символы, проясняющие суть проблемы «свое/чужое».
Христианство действительно унаследовало многие моменты, уже развитые в
античных духовных практиках, о чем, кстати, говорит и Фуко. Христианская
вера внесла в мир человека самое радикальное его Другое, но такое, без кото-
рого невозможно и утверждение самого человека и его мира. Если античность
открыла и развивала практики заботы о себе, то христианство открыло и раз-
вило практики заботы о Другом, освещаемые и освящаемые трансцендент-
ным, но воплощенным в земной истории смыслом. В результате была создана
такая система ценностей, которая преодолела антиномию эгоизма и альтруиз-
ма, ибо самоутрата ради Другого как образец для самоутверждения и спасения
самости получила высшие символические санкции. Идеал братства был обо-
снован не общностью природной эволюции, не социальным эгоизмом, а
духовным родством людей в трансцендентном начале. В результате социоцен-
тризм и натуроцентризм были духовно преодолены. Тем самым дискурс «по-
дозрения» сам был не без основания заподозрен в узости мышления и произ-
вольном метафизическом догматизме. А это открыло дорогу для установки
доверия, без которой проблема «свое/чужое» или проблема Другого вряд ли
может продуктивно обсуждаться в философском плане ее постановки.
Существует агрессивный по отношению к Другому дискурс. Он, конечно,
имеет множество вариантов. Но в основе его лежит выведение Другого из-под
«зонтика» Закона, из-под прикрытия Номоса. Мне вспоминается один из до-
рожных разговоров, когда речь зашла о бомжах. Мой сосед по купе оправды-
вал выведение этой категории людей из режима толерантности и диалога тем,
что «бомжи — это не люди», они якобы необратимо уходят за черту человечно-
сти к дикому, звериному состоянию, и поэтому вполне оправданно и соответ-
ствующее отношение к ним. Дискурс исключения Другого строится на доста-
точно жестком определении Своего: Другой нам вреден, он для нас опасен,
следовательно, его нужно уничтожать и «гнилой гуманизм» здесь неуместен.
Например, если популяция кенгуру так сильно размножается, что вредит на-
На пути к Другому
757
шим полям, то их надо безжалостно отстреливать. Если же их вредное влияние
устранено, то остатки кенгуру могут быть сохранены опять-таки потому, что
они нам могут пригодиться. Примерно такую схему оптимума рационального
отношения к миру излагал в своей лекции в Институте философии РАН извест-
ный американский философ Р. Рорти. Контрастную к ней позицию высказал
русский философ Г. Батищев. Утилитарно-прагматической и эгоистической
установке сознания, называемой им «своемерием», он противопоставляет уста-
новку на открытость действительно универсальному смыслу, означающему
«свободу от приверженности лишь своему собственному мерилу — от своеме-
рия» 12. Кризис современной культуры и, в частности, кризис экологический,
считает Батищев, происходит потому, что мы «разучились страху за других»,
разучились «бескорыстной открытости внечеловеческому бытию» ,3. Эту си-
туацию можно обозначить и такой альтернативой: или мы самоутверждаемся
через отрицание Другого, или самоутверждаемся через отказ от «самоутверж-
денства», через причастность смыслу, большему, чем наш родовой или инди-
видуальный эгоизм. Если такой вмещающий и человеческое, и нечеловеческое
(звезду, птицу... Бога) смысл «подорвать» «генеалогической», в духе Ницше
или Фуко, критикой, то нам ничего не останется, кроме перспективы всеобщей
борьбы, безудержной схватки сил и эгоизмов. «Самоутвержденство» всего и
вся любой ценой тогда будет выступать естественной и неизбежной, неодоли-
мой нормой бытия как такового. Здесь же ясно проглядывает и такая форма
той же альтернативы: или мы пытаемся согнуть мир «железом» нашей меры и
нашей воли, или мы сами перед лицом его инаковости по отношению к нам
пытаемся изменить самих себя, расшириться и духовно возрасти до вмещения
более полного, всеобъемлющего смысла.
Пафос философий «подозрения», противостоящих философиям доверия и
смысла, в том, что они выдают себя за годос самой реальности, выставляя сво-
их оппонентов приверженцами фантомов сознания, «генеалогическая» анали-
тика которого должна выявить механизмы травм, ответственных за создание
подобных идеологических химер. Реальность, согласно ключевой онтологеме
этих философий, бессмысленна, трагична, случайна, дискретна, дисгармонич-
на, абсурдна. Смысл нереален, реальность же — бессмысленна. И если и есть
в ней какой-то смысл, то это как раз позитивизм, утилитаризм и прагматизм
«своемерия» и «самоутвержденства». Иными словами, редукция (не только в
смысле сведения, но и в смысле уменьшения) смысла — вот то, что проделы-
вает с ним философская установка на «подозрение». Но в условиях такой ре-
Батищев Г. С. Корни и плоды: Размышление об истоках и условии человеческой
плодотворности // Наше наследие. 1991. № 5. С. 1.
13 Там же. С. 2.
758
Глава VII. Философия и культура
дукции проблема «своего/чужого» оказывается неразрешимой: ведь вряд ли
можно считать продуктивным ее решением безжалостность схватки само-
утверждающихся сил, в которой позволено все и победителя не судят. Баланс
сил, подчеркивают теоретики «подозрения», хрупок и «генеалогия» особенно
интересуется моментами его внезапной перемены, нередко достигаемой под-
тасовками, уловками и тому подобными приемами в «играх» за господство в
мире.
Поскреби «не-Я» и откроешь за ним «Я» и только «Я». Сколько соблазна в
этой формуле, типичной для европейской философии нового времени! Гегель
говорил, конечно, то же самое — мысль, работая с предметным миром, откры-
вает в нем в конце концов лишь саму себя. В философии научного познания
это выглядит так: ученый, познавая мир, устанавливает или «открывает» в нем
законы, которые, однако, суть на самом деле законы его собственного разума.
Иными словами, за видимостью чуждой человеку природы скрывается его соб-
ственный разум — сокровеннейшее достояние человека, его лучшая часть, че-
рез которую он самоидентифицируется в качестве человека. Человек смотрит
в зеркало мира или в мир как зеркало (процесс этот, конечно, активен) и видит
в нем в конце концов себя самого. Именно о встрече с самим собой он и меч-
тал... Эту встречу он и «заказывает» в своем философствовании. Это — тради-
ция европейского духа, его подспудное стремление растворить все сущее в са-
мом человеке. Например, у Маркса это — гуманизация мира через его освое-
ние и снятие «отчуждения». Человек в научно-практическом преобразовании
мира так его «раскрывает», что он в результате становится всецело его соб-
ственным — своим, человеческим — миром. Иными словами, человек наце-
лен на встречу с самим собой. И ни с Ktu Другим...
Но существует и другое стремление души и духа человека — встретить в
своем существовании в мире не себя, а как раз Другое. Важна здесь интенция
на встречу именно с Другим, на инаковость, важна, как говорит Батищев, «дру-
го-доминантность», а не доминанта на «свое». На пути «самовстречи» человек
многого достиг, создал техномир, развил рациональное мышление, правда, за-
узив его до технической рациональности, до эффективной аналитики средств.
Но если он не вступит на путь встречи с Другим, чем он сам, то он рискует
всем — своей жизнью, всей своей судьбой. Поэтому проект модерна (вырабо-
танный под знаком ориентации на встречу с самим собой) необходимо по край-
ней мере дополнить, условно, проектом постмодерна, ориентированным на
встречу с Другим. Казалось бы, речь именно об этом и идет в современных
философиях диалога. Во многом этой действительно так. Но есть опасность
«диалогической» маскировки встречи с собой под встречу с Другим. Диалог
нетрудно имитировать, замыкаясь в игре с самим собой. Другой тогда будет не
более чем имитацией Другого. Для того чтобы ему действительно быть, необ-
На пути к Другому
759
ходима вера в него. Говоря языком трансцендентализма, Другое создает не
феноменологическая интенциональность, не когито, не разум и не логика, а
только вера (в него). Судьба человека и культуры зависит сейчас не столько от
его рациональных, сколько от «веровательных» способностей. И от того, ко-
нечно, насколько они цельны и способны к гармонии с разумом.
ФИЛОСОФИЯ НАДЕЖДЫ
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
Ведущие теоретики «школы подозрения» сводят мир человека в его сущно-
сти или к экономическим интересам и отношениям, или к сексуальному влече-
нию, или к стремлению господствовать (воле к власти). Несомненно, человек
причастен ко всем трем указанным сферам. Философская антропология вряд
ли мыслима вне рефлексии соотношения «Я» и связанного с ним тела, о кото-
ром каждый говорит как о своем или даже как о самом себе. Таким образом, в
первые две указанные сферы человек, хочет он того или нет, вовлечен в силу
своей телесности. И только стремление к господству выступает как духовный
аппетит, будучи даже своего рода формальным признаком духа: формально дух
может быть определен как то, что предназначено властвовать над телом.
Как в такой ситуации возможна философия не подозрения (за высшим как
эпифеноменом — низшего как его сущности), а доверия, не отчаяния, а надеж-
ды? Вопрос об условиях возможности некоторого мыслимого содержания —
традиционно философский вопрос. Ответ на него и должен составлять главное
содержание искомой философии доверия. В данном случае этот вопрос можно
представить так: как возможна причастность к чему-то лучшему, чем экономи-
ческий интерес, сексуальное влечение и стремление господствовать? Захва-
ченность человека этими тремя силами несомненна. Вопрос же в том, как воз-
можна захваченность чем-то лучшим, чем они? «Лучшее» в данном контексте
означает онтологически и ценностно более высокое, чем указанные основания
для редукции духовных смыслов, демонстрируемой учителями и учениками
упомянутой «школы».
Философии подозрения указанных типов возникли как реакция на крайно-
сти идеализма с его претензией исходить из чистого беспредпосылочного мыш-
ления. Все они гордятся его преодолением, все апеллируют, как они считают, к
фундаментальному опыту, основополагающей антропологической ситуации.
Но то, что действительно предлагается ими при этом, по сути дела представля-
Философия надежды
761
ет собой скрытый или явный натурализм. Действительно, предлагаемую ими
модель человека можно пусть и грубо, но достаточно точно обозначить как
масштаб «самого сильного самца». Например, в стаде обезьян самый сильный
самец лучше всех обеспечен в сексуальном и «экономическом» отношениях.
Ему гарантировано и послушание других особей, и лучшие условия питания и
жизнедеятельности в целом — вот образец для человека как Homo naturae. Тео-
ретики подозрения говорят: вот оно, реальное (на этом слове они делают осо-
бенный акцент) основание всех, самых высоких в том числе, стремлений чело-
века. Иного, говорят они, не дано, ибо такова сама природа или сущность че-
ловека, таков сам мир, не имеющий никакого сверхприродного «дополнения».
И они ссылаются при этом на науку, подчеркивая ее опытные основания, упо-
минают Дарвина и его эволюционное учение, антропологию, физиологию, эко-
номику, социологию, историю промышленности и сельского хозяйства, этног-
рафию и т. п. Но в опыте человека существуют не только подобные специально
научные зоны освоения мира. В нем существуют и такие априорно подозри-
тельные для подобного редукционизма феномены, как любовь, самопожертво-
вание, доверие, верность, надежда... Существуют этические и эстетические
ценности, которые также сопротивляются редукционистским схемам указан-
ных типов. Отвечает ли миру всех этих явлений какая-то реальность? Очевид-
но, ее трудно признать той же самой, что и реальность стада обезьян, атомар-
ного газа, физиологических функций или социальной структуры и борьбы эко-
номических интересов. И тем не менее опыт встречи с указанными феноменами
и с пронизывающим их светом говорит переживающему его человеку, что что-
то лучшее и более высокое, чем эти природно-социальные силы и связи, суще-
ствует не только в его воображении. Кстати, системы отвлеченного идеализма,
реакцией на которые и были основные философии подозрения, так же, как и
они, бессильны раскрыть для философской рефлексии возможность высвечи-
вания онтологической основы подобных феноменов. И именно поэтому дру-
гой реакцией на них были не различного рода материализмы и позитивизмы
«школы подозрения», а обновленная экзистенциальная мысль, пробивающая-
ся уже у позднего Шеллинга и ярко обнаруживаемая у Кьеркегора.
Действительно, можно сказать, что параллельно с редукционистско-нату-
ралистическими учениями в истории мысли существовали философии, пре-
одолевающие их горизонт и открывающие путь к Другому, к Иному, чем силы
и сущности природы. Не будем делать даже краткого экскурса в связи с этим в
историю, скажем только, что в XX в. такого рода антиредукционизм характе-
рен прежде всего для философий, порывающих с господством экстремистски
истолкованной рационалистической парадигмы, например для философии
жизненных ценностей М. Шелера или для экзистенциальной философии Н. Бер-
дяева, Л. Шестова, Г. Марселя. Но даже внутри рационалистически ориенти-
762
Вместо заключения
рованной философии мы находим антиредукционистские ходы, например, в
феноменологии Гуссерля, хотя их недостаточность была очевидной для ука-
занных представителей экзистенциальной мысли.
Нижеследующая работа посвящена проблеме надежды как причастности к
лучшему в указанном выше смысле. Она носит эссеистский характер, и уже
поэтому в ней нет нужной для систематического исследования полноты рас-
смотрения вопроса. Однако ее прямое отношение к основному замыслу всей
книги склоняет нас к тому, чтобы именно ею завершить ее. Особенно важными
в связи с этим нам кажутся два высказывания, одно из которых мы собирались
сделать эпиграфом к этой работе: «Главное, — говорит Габриэль Марсель, —
причастность к лучшему, которая была мне дарована пусть на короткий срок».
В этом высказывании нас захватывает чувство переживаемой реальности ду-
ховной вертикали жизненного пространства человека, без которой невозмож-
но преодоление редукционизма «школы подозрения». Здесь говорится, что та-
кая причастность дарована, мы присутствуем при акте свидетелъствования о
ней как о достоверном факте. Но как она возможна? Очевидно, что если она
дарована, то от получившего дар требуется лишь его признание в качестве та-
кового. Понять возможное, в конце концов, мы можем по-настоящему, лишь
исходя из бытия, из реальности, из совершенного акта, как справедливо считал
Аристотель. Ключевое слово здесь — дар, дарованность. В нем скрывается,
высвечиваясь, и само лучшее, и возможность причастности к нему как к свету,
к которому тянутся свободно, добровольно.
Второе важное высказывание, поясняющее принцип приоритета бытия над
возможностью (бытие есть prius), мы нашли у Ф. М. Достоевского, повторяю-
щего, по-видимому, некоторый вариант античной мудрости: «Лучшее обрета-
ется лучшим» \ Здесь слышится вариация на тему высказанного еще греками
принципа познания подобного подобным. Нам важен содержащийся в нем ак-
цент на качестве познающего («лучший») субъекта — он имеет шанс на успех
лишь в той мере, в какой сам действительно стал одноприродным со своим
объектом, с тем, что он ищет и чего взыскует. В таком повороте содержащейся
в этой фразе мысли мы видим выход на проблематику значения духовных прак-
1 Приведем обе фразы в их французских оригиналах.
Марсель: «Ce qui doit compter avant tout c'est cette participation au meilleur qui m'a été
accordée, serait-ce pendant un temps très court» {Marcel G. L'homme problématique. P., 1955.
P. 47. См.: Марсель Г. Трагическая мудрость философии II Марсель Г. Избр. работы / Пер. с
фр. Г. Тавризян. М., 1995. С. 129).
Достоевский: «Le mieux n'est trouvé que par le meilleur» (Достоевский Ф. M. Поли. собр.
соч. T. 28. Кн. 2. Л., 1985. С. 295). Заканчивая этой фразой письмо к любимой племяннице,
писатель добавляет: «Это великая мысль! Удостоимся же лучших миров и воскресения, а
не смерти в мирах низших!» (Перевод обеих фраз наш. — В. В.)
Философия надежды
763
тик, практик восхождения и очищения, для эпистемологии вообще и прежде
всего для философского познания. Духовные практики нацелены на совершен-
ствование субъекта познания в его целостности как личности. Они предназна-
чены сделать его самого лучше, чем он был до их применения. И только до-
стигнув повышенного уровня духовного восхождения как цельная личность,
он будет способен и к познанию высшего и лучшего. Иными словами, добро
открывается доброму или добротному, ум — умному, лучшее тому, кто сам, по
меньшей мере, неплох. Содержащуюся здесь важную тему мы не успели спе-
циально раскрыть в нашей книге. Но некоторые подступы к ее разработке на-
мечены, некоторые ключевые, на наш взгляд, моменты, имена и работы мы
обозначили.
И последнее. Значимым примером философии доверия в XX в. стала для
нас философия надежды Г. Марселя. Разумеется, далеко не один указанный
философ представлял это направление в недавно ушедшем столетии. Все рус-
ские мыслители, о которых мы здесь писали, как и некоторые из тех, о ком не
писали, разделяли в чем-то сходные с установками Марселя взгляды. Видимо,
можно было бы указать и на другие подходящие фигуры в других странах. Но
философия Марселя привлекла нас тем, что она, во-первых, строго выдержи-
вает границу, отделяющую философскую рефлексию от теологической, и, во-
вторых, тем, что в ней разработан, и, надо сказать, с большой тщательностью в
отделке, концептуальный аппарат, за которым стоит целый культурный мир,
где личный опыт осмысления трагической судьбы современного человека в
литературе и искусстве играет первостепенную роль. Второй из указанных
моментов нам представляется особенно важным для реактуализации философ-
ской традиции признания реальности высших позитивных ценностей, пред-
ставляющей действительно эффективную альтернативу «школе подозрения».
«Романтическая идеализация патриархальных отношений средневековья» —
такими фразами в советскую эпоху отделывались и от Константина Леонтьева,
и от Габриэля Марселя (1889—1973). Имя французского философа, если и из-
вестно нашему читателю, то несравненно в меньшей степени, чем имена дру-
гих мыслителей Запада примерно того же времени, ранга и направления, как
М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю. Лишь в последние годы были
переведены и изданы две его книги, представляющие важную, но слишком
микроскопическую часть его творческого наследия 2.
2 Марсель Г. Быть и иметь / Пер. и послесл. И. Н. Полонской. «Агентство Сагуна», Но-
вочеркасск, 1994; Марсель Г. Трагическая мудрость философии. Избранные работы / Пер.,
сост., вступ. ст. и примеч. Гаянэ Тавризян. М., 1995.
Из немногочисленных отечественных исследователей творчества Г. Марселя наиболь-
ший вклад в его изучение внесли работы Г. М. Тавризян. Мировая библиография литерату-
764
Вместо заключения
Философские этикетки что-то еще говорят профессору философии, ее исто-
рику — материализм, идеализм, дуализм, экзистенциализм... Но французский
философ и драматург Габриэль Марсель ненавидел всяческие «измы» и абст-
рактные отвлеченности, настоятельно советуя их по возможности избегать.
И что важно, эта установка на конкретный человеческий опыт, на личное его
переживание (Марсель предпочитал немецкое выражение Erlebnis француз-
скому l'expérience) сопровождалась отчетливым пониманием того, что фило-
софия есть поддержание и развитие рефлексии, мыслящего осознания всего
доступного человеку. В глубине переживаемого опыта рождается «слепая ин-
туиция». Она-то и служит непосредственным материалом и стимулом для реф-
лексии. Сказав это слово (réflexion), мы не можем тут же не пояснить, что у
Марселя было выработано учение о двух ее уровнях — рефлексии первичной,
являющейся редуцирующей и аналитической, и рефлексии вторичной или вто-
рой степени (réflexion seconde), которую назвать в противовес первой синтети-
ческой будет явно недостаточно.
Здесь необходимо пояснение. Если первичная рефлексия направляется на
целостное бытие, то по природе своей она не может его мысленно не разлагать
и не сводить к чему-то ценностно и онтологически более низкому. Так, напри-
мер, живой организм для науки выступает прежде всего как физико-химиче-
ская машина. Но рефлексия производится не в отвлеченном пространстве чис-
той мысли: ее совершает конкретный человек, существующий всегда в конк-
ретной ситуации. И как живое духовное существо он осознает сам факт такой
редукции или даже, как нередко говорит Марсель, деградации и уже тем са-
мым, в актах вторичной рефлексии, встает на защиту угрожаемой целостно-
сти. Поэтому главная функция вторичной рефлексии — восстановление разла-
гаемой целостности рефлектируемого предмета мысли. Первичная рефлексия
как рефлексия объективирующая не может схватить то, что превосходит гори-
зонт объективируемого. Во второй рефлексии выражается осознание этой си-
туации в целом, и поэтому она, ничего не объективируя, тем не менее пролива-
ет регенерирующий свет на операции первой рефлексии, выправляя всю кар-
тину в целом. Объективировать вторую рефлексию как внешний прием метода
нельзя — ее можно только показать как установку и как ментальное действие в
конкретных случаях. Это — та же мысль, но исходящая из широты и глубины
экзистенциальной ситуации и из понимания самой себя как выполняющей в
конце концов инструментальную роль по отношению к выражению высшего
смысла, несказуемого бытия. Субъекта вторичной рефлексии мы можем себе
представить как цельный ум, открытый правде сердца и поэтому согретый и
ры о нем уже в середине 80-х годов превысила 4000 наименований (La pensée de Gabriel
Marcel // Bull, de la Soc. franc, de Philosophie, 78 Année, № 2, Avril—Juin 1984. P. 50).
Философия надежды
765
освещенный Бытием, путь к которому ищется человеком. Никакого иррацио-
нализма и дурной мистики здесь нет. Напротив, именно культура второй реф-
лексии указывает на достоинство и высоту мысли: ведь это мысль, сознающая
свои собственные декомпозиционные потенции и направленная тем самым на
их коррекцию.
Итак, по Марселю, у философа есть одно-единственное орудие его профес-
сиональной деятельности — рефлексия. Но она укоренена в личном опыте,
производится в конкретной ситуации и в определенном исторически сложив-
шемся культурном и духовном «климате». Поэтому она, как мы сказали, пред-
полагает «слепую интуицию» бытия, которую прямо и поэтому и страстно, и
метафорически, и тем самым парадоксально может выражать поэт и тем более
пророк, но не философ. Однако именно такая интуиция как бы скрытым «под-
земным» образом питает философскую рефлексию, развертывающуюся на ма-
териале обычного опыта, внятного для всех людей, пользующихся естествен-
ным разумом, но, подчеркивает Марсель, настроенного благожелательно и от-
кровенно (à un esprit de bonne foi).
Однако как ни ненавидел Марсель абстракции и «измы», он их не избежал.
На философском конгрессе в Риме (1946) его философия была определена как
христианский экзистенциализм. Он de facto, пусть и нехотя, согласился с та-
ким определением, которое оказалось, на наш взгляд, все же удачнее, чем опять-
таки данное не им, а Ж. Шеню, участником его семинаров, определение «нео-
сократизма» 3. На него он тоже, впрочем, согласился, отмечая прочитываемый
в нем отказ от системного представления философии в пользу ее вопроситель-
но-поисковой структуры, к чему, не без долгих размышлений, он пришел еще в
молодые годы. Требование системы (систематизм) подразумевает категоричес-
кое суждение типа: «Я, философская система Имярека такого-то, есть полная и
окончательная истина». Но Марсель исповедует другое убеждение, которое в
его пьесе «Эмиссар» выражает близкий ему по духу персонаж: «Да и нет —
вот единственный ответ, когда мы сами поставлены под вопрос; мы верим и
мы не верим, мы любим и мы не любим, мы есть и нас нет; но если так обстоит
дело, то это потому, что мы — на пути к цели, которую мы видим и вместе с
тем не видим» 4. Ситуация человека в мире такова, что мы действительно вов-
3 Импульс для перемены названия философии Марселя был дан папской энцикликой
(1950), осуждающей экзистенциализм.
4 Entretiens Paul Ricœur — Gabriel Marcel. P., 1968. P. 119 (перевод наш. —В. В.). Г. Тав-
ризян дает другой перевод последней части фразы (Марсель Г. Трагическая мудрость фило-
софии. М., 1995. С. 182). В нашей версии передачи выражения tout ensemble мы учитываем
как его трактовку в данной цитате самим философом (см.: L'homme problématique. P., 1955.
P. 187: tout ensemble = «одновременно и противоречиво»), так и другие места, где оно име-
ет смысл «сразу», например, во фразе II a un sens tout ensemble trop humain et trop cosmique
766
Вместо заключения
лечены в процесс — в драму бытия, в его последние значения и смыслы. Ины-
ми словами, речь идет не об отвлеченном познании, таком, когда мы как его
субъект — одно, а объект его — нечто совсем другое, в данные которого мы
должны со всей тщательностью и критицизмом вникнуть и решить поставлен-
ную перед нами проблему. Мы — не зрители мира и тем более бытия, мы —
его участники. А если это так, то надо выйти за пределы горизонта объектива-
ции, в который включены и наука, и вся на ней основанная философия, и пе-
рейти к новым горизонту и языку.
Термин «экзистенциализм» в этом смысле относительно удачен и неудачен.
Удачен потому, что речь при таком освещении условий философской мысли дей-
ствительно идет не о знании, а о самом нашем существовании и даже бытии.
Познание интересуется не столько существованием вещей, сколько их существен-
ными отношениями, обнаружение которых позволяет установить между ними
регулярные связи, доступные математическому выражению. Однако настаивать
на абстрактном противопоставлении сущности (эссенции) существованию (эк-
зистенции) было бы ошибкой и попыткой создания нового абстрактного «изма»
(«экзистенциализма»). Марсель видел эту опасность и неустанно разоблачал ее
(объектом его критики чаще других становился Ж.-П. Сартр). И в этом смысле
термин «экзистенциализм» неудачен. Но он оказался живучим и уже поэтому
значимым, в то время как «неосократизм» не прижился, сохранив лишь локаль-
ную историческую значимость. Дело еще и в своенравном характере языка и
истории: превращать легендарную фигуру афинского любомудра, не только не
создавшего систему или даже учение, но и вообще не пользовавшегося записью
своих мыслей, в «изм» противоестественно. Аристотелизм, платонизм — это
нормально, это прижилось, для этого были основания. Но «сократизм»?! Вспо-
минается другой монструозный неологизм, шелухой слетавший с уст одного
профессора философии — «красотизм». «Сократизм» столь же «изящен»...
Итак, не перенося никакие «измы», Марсель, понимания их условность и
советуясь при этом с чуткими и благорасположенными к нему людьми, все же
соглашался называть свою философию, просто в силу условий книжного про-
изводства и энциклопедической рубрикации направлений, и христианским эк-
зистенциализмом, и неосократизмом. Что касается последнего, то нам пред-
ставляется важной одна ремарка при обсуждении принятия им этой этикетки.
«Напомним, — говорит Марсель П. Рикёру, — что этот сократизм не является
скептицизмом, нет, это — поиск, исследование, идущее ощупью, как вы заме-
тили, но такое, которое не требует, чтобы закрывались от света, когда его
видят» 5. Это — окрашенный традицией христианской культуры сократизм:
(Homo viator. Nouvelle éd. revue et augmentée. P., 1963. P. 285).
5 Entretiens Paul Ricœur — Gabriel Marcel. P., 1968. P. 126 (перевод и курсив наш. —В. В.).
Философия надежды
161
свет, о котором здесь говорится, исходит не столько от платоновских «умных»
идей, сколько от сверхумной трансцендентной Любви, способной светить по-
всюду, проникая в том числе и в философский поиск истины. Философ, «комп-
лексующий» по поводу возможного срыва философии в религию, склонен, почти
бессознательно, экранироваться от этого света, если вдруг он его встретит на
своем пути. Но тем самым он выступит заложником своей предвзятой идеи о
философии и, парадоксально, не даст ей новых и плодотворных возможностей
роста. Марсель не был таким философом. И этим он и ценен, и, кстати, близок
традиции русской мысли, с которой, как и с русской культурой в целом, у него
был продуктивный контакт.
Впрочем, не с аналитики «измов», пусть даже и не совсем неудачных, сле-
дует, на наш взгляд, начинать рассказ о философии Г. Марселя. Мы уже проци-
тировали впечатляющую цитату из его пьесы в качестве содержательного ком-
ментария к одному из подобных «измов». Вот на этот прием и стоит обратить
внимание. Действительно, многое в философском развитии французского мыс-
лителя объясняется его укрепившейся еще в детские годы любовью к театру.
Увлечение театром, а юный Марсель, по его словам, был «без ума от него», —
верный путь к развитию художественного начала будущей творческой лично-
сти. Достаточно вспомнить в связи с этим театральные увлечения молодого
Блока или А. Бенуа. Но театр для Марселя в его юные годы был не просто
захватывающим искусством зрелищного представления, но «привилегирован-
ным способом выражения» 6 мысли и чувства. И именно этот мыслительно и, в
конце концов, философски акцентированный и артикулированный театр и стал
театром Марселя как первичной формой выработки его основных идей. Преж-
де всего, театр приучил его мыслить в лицах и ради них, способствуя его отка-
зу от философии «Я», от картезианского и тем более фихтеанского трансцен-
дентального Эго, из себя якобы полагающего не-«Я». Интерсубъективность
как основное требование философского и онтологического в особенности, по-
иска Марселя имеет свои театральные корни. «Я считаю, — пишет сам фило-
соф, — что мои персонажи заменяли мне сестер и братьев, которых у меня не
было, но которых мне так не хватало» 7. Искусство, не обязательно драматур-
гическое, способно воссоздавать то, что в объективном плане отсутствует в
жизни, но крайне необходимо человеку для его бытия как личности. Такой спо-
соб бытия, по Марселю, есть присутствие (la présence), важнейшая категория
его философии.
Захватившая его драматургическое и философское творчество тема присут-
ствия возникла все же, скорее, в ответ на другое, трагическое, обстоятельство
6 Marcel G. Regard en arrière // Existentialisme chrétien. P., 1947. P. 296.
7 Ibid.
768
Вместо заключения
его жизни. В возрасте неполных четырех лет мальчик потерял мать. «Таин-
ственным образом, — говорит философ, — но она всегда была со мной» 8. Она
присутствовала (restée présente) в самой глубине его бытия. Но она умерла, и ее
не было, как мы привыкли говорить, в живых. Отец, высокого ранга государ-
ственный чиновник и дипломат, большой, кстати, поклонник театра, велико-
лепно читавший вслух драматический репертуар, женился на сестре умершей,
которая и воспитывала мальчика. Оказавшись между умершей, но духовно
живой матерью, и воспитывавшей его тетей, давшей ему, по его признанию,
требовательное отношение к истине и строгости суждений в стиле протестан-
тско-либеральной этики, мальчик с явно художественными и созерцательными
наклонностями чувствовал себя в ситуации «тайной полярности между неви-
димым и видимым» мирами 9. Напряжение этой полярности, свидетельствует
Марсель, «оказало на мое мышление и, глубже, на само мое бытие мистиче-
ское (occulte) воздействие, которое бесконечно превосходит все те влияния,
что запечатлены в моих сочинениях» ,0. Можно сказать, что в подобных пер-
вичных складках глубинного опыта и были заложены те основные «слепые
интуиции» бытия и жизни, что затем раскрывались с помощью двойной реф-
лексии в серии его философских сочинений.
Прервем наше изложение биографически документированных истоков фи-
лософской мысли Г. Марселя, с тем чтобы показать, что указанная «тайная по-
лярность» действительно прошла по всей его философии, начиная с ранних
работ, написанных еще до Первой мировой войны, и кончая книгами тридца-
тилетней давности.
Действительно, сердцевину экзистенциальной метафизики Марселя состав-
ляет базовая дуальность, пронизывающая все пласты понятийного и даже сверх-
понятийного, но тем не менее мыслимого универсума идей, образующих ее
каркас. Ее описание удобно начать, хотя это и не обязательно, с противополож-
ности «таинства» и «проблемы», подобно флагманскому кораблю задающей
строй параллельно идущих «эскадр» понятий, каждое из которых по интенции
его представления исключает другое. Тут же упомянем и другую важную оп-
позицию — бытия и объекта. «Объект как таковой, — говорит Марсель, — не
присутствует» п. Соответственно, присутствие не объективируемо. Строго го-
воря, присутствие не есть понятие, так как само понятие понятия относится к
ряду объекта и проблемы, а не к параллельному ему ряду, который мы начали с
таинства (тайны). Но нам важно было подчеркнуть, что они ориентированы
8 Ibid. Р. 302.
9 Ibid. Р. 303.
10 Ibid.
11 Марсель Г. Быть и иметь. Новосибирск, 1994. С. 95.
Философия надежды
769
скорее на их взаимные исключения, чем на связь. А теперь, не заботясь об
особом порядке следования самих оппозиций, дадим их сводную, но не пре-
тендующую на полноту таблицу, иллюстрирующую то, что «тайная полярность
между невидимым и видимым» как структура изначального личного опыта
Марселя действительно пронизывает все его философское творчество.
Полюс таинства и присутствия
Онтологическое и метапроблемное
измерение
Невозможность фиксировать
раздельно субъект и объект,
ситуация участия. Познающий
включен в познаваемое
Понятие «подхода к объекту
познания» неприменимо
Сосредоточение как впускающее
Другое снятие напряжения
«Таинство детализации
1 не подлежит»
Рефлексия второго порядка,
восстанавливающая исходную
| целостность
«Таинство (тайна) трансцендентно
по отношению ко всякой технике»
| Сфера гения
Прогресса нет, есть чудо
Надежда, вера, любовь, доверие
и творческая верность
1 Открытое время
Трансцендентное
Таинственная связь свободы
и благодати
Горизонт сверхъестественного,
бытие как дух
Таинство бессмертия
^Онтологическая полнота, полное
Полюс проблемы и объекта
Гносеологическое и проблемное
измерение
Дуалистическое разделение
субъекта и объекта, ситуация
неучастия. Познающий исключен
из познаваемого
Понятие подхода работает
Напряжение, исключающее Другое
«Сущность проблемного
рассмотрения в детализации» |
Рефлексия первого порядка,
разрушающая исходную
целостность
Проблема предполагает технику
и в своей постановке, и в решении
Сфера таланта
Чуда нет, оно — нонсенс.
Прогресс есть
Отчаяние, желание, измена
и предательство
Закрытое время
Имманентное
Безблагодатная псевдосвобода
выбора
Мир как «совершенно
естественное» целое
Смерть как абсолют мира объектов
Пустое, пустота
49 - 3357
770
Вместо заключения
Бытие
Присутствие
Экзистенция
Владение/имение
Вещь, объект
Объективность
Таблицу можно было бы продолжить. Мы опустили, например, ряд оппози-
ций из мира социальной философии Марселя, которую он разрабатывал на скло-
не лет. Кроме того, надо сказать, что понятия одного ряда все-таки могут быть
связаны с соответствующими понятиями другого ряда. Так, например, «усло-
вия, при которых возможна надежда, строго совпадают с условиями, ведущи-
ми к отчаянию» 12, — говорит Марсель, воспроизводя экзистенциальную диа-
лектику Кьеркегора, к которой он пришел самостоятельно, задолго до того, как
стал изучать сочинения датского мыслителя. Другой пример подобной связи
дает соотношение техники, относящейся к «миру объектов» (говоря языком
Бердяева, близкого по некоторым пунктам к Марселю), и присутствия. Мета-
проблемный мир, мир присутствия — сверхтехничен. Например, невозможно
создать технику, автоматически вызывающую настоящую любовь или верность,
широко открытых, однако, для присутствия. Сущность техники, напротив, в
том, что она неспособна к присутствию. Техника безлична и объективирована,
присутствие же лично и сверхлично, и то, что присутствует, не имеет объект-
ного существования. Однако здесь есть исключение: неспособная к присут-
ствию техника — это потребляемая техника. Но для творца ее она может при-
обрести черты присутствия. Например, когда ее создатель мечтает о ней, со-
здает ее проекты и т. п. В этом случае техники как объекта еще нет, но она уже
присутствует, и это потому, что она имеет духовное измерение. Однако мы не
имеем здесь возможности развивать тему взаимосвязи противопоставляемых в
данной таблице категорий, которая, на наш взгляд, недостаточно раскрыта у
французского философа. Дело в том, что взгляды его на характер соотношения
указанных двух миров претерпели некоторую эволюцию. Действительно, при-
нятая в начале 30-х годов не без влияния энтузиазма новообращенного католи-
ка установка на полный контраст между ними в 1968 г. кажется Марселю «чрез-
мерно строго религиозной». Уже в 50-е годы она была смягчена, в результате
чего мир объектов несколько сблизился с экзистенциальным миром.
Понятия левого ряда таблицы аксиологически и онтологически выше соот-
ветствующих понятий правого. Мы их объединили, отнеся к полюсу таинства
и присутствия. Поясним дополнительно это уже упоминавшееся понятие. В
идее присутствия содержится мысль о совместном бытии личностей как ду-
ховных существ, в котором они действуют друг на друга, не объективируясь
12 Там же. С. 80.
Философия надежды
111
при этом. Присутствует не объект или вещь, передо мной как другой вещью
находящаяся, а духовно близкие, любящие личности, объемлясь и пронизыва-
ясь общим для них измерением возможности присутствия как бытия. По Мар-
селю, важным моментом присутствия выступает то, что в нем преодолено раз-
личие между «вне меня» и «во мне», внешнего и внутреннего. Лишь поскольку
я захвачен изнутри меня самого другим сущим, оно присутствует для меня,
будучи ценностно и онтологически значимым. Здесь мысль покидает филосо-
фему одинокого «Я», ту эгоустановку сознания, когда другое мыслится как то,
что может быть схвачено и захвачено мною, поставлено под мой контроль и
господство. Внешняя эгоцентрическая захваченность владения и господства
характерна для мира имения (l'avoir), а не для собственно онтологического
измерения, не для бытия (l'être). Та захваченность, о которой говорится в свя-
зи с экспликацией присутствия, это захваченность любви, в которой я созидаю
одновременно и себя самого, и нас, а значит, и моего другого. Поэтому, пояс-
няя это понятие, Марсель прибегает к латинскому глаголу coesse (быть-с, со-
быть). В мире — множество вещей, которыми я не захвачен и которые не при-
сутствуют для меня, и поэтому их и нет для меня. Но, напротив, есть много
лиц, которые, будучи лишены существования в нашем физическом, объективи-
руемом мире, тем не менее в силу моей глубинной связи с ними присутствуют
во мне, со мной, для меня. И поэтому они для меня не умерли, они есть, но эту
ситуацию нельзя сформулировать в обезличенных объективированных данных
как проблему и затем ее решить так, как решаются, например, научные или
технические проблемы. В этой ситуации мы имеем дело с тайной, пусть и свя-
занной с психологией памяти, но к ней никоим образом не сводимой, ибо пси-
хология остается на уровне проблем и объектов.
Нетрудно видеть, что в той ситуации «тайной полярности видимого и неви-
димого», о которой мы говорили, действительно содержатся экзистенциально-
опытные предпосылки для идеи присутствия в связи с идеей бессмертия, что
сначала получило художественное осознание в драматургии, а затем перешло в
план философской рефлексии французского мыслителя. Метафизическое воп-
рошание как таковое предполагает не только, пусть и особое, бытие невидимо-
го, но и его таинственную связь с видимым существованием. Акцент философ-
ского поиска на феномене существования и вместе с тем на бытии как его ис-
точнике возникает у начинающего самостоятельное творчество философа в
конкретной духовно-практической, персонифицированной и диалогизирован-
ной атмосфере. Если принять во внимание это обстоятельство, то и литератур-
но-философские влияния и сближения Марселя с М. Бубером, К. Ясперсом,
М. Хайдеггером при безусловном его отличии от них всех становятся понят-
ными. Но не они в конечном счете определили его творчество, а именно ука-
занные коллизии и несовместимости (Insolubilia).
49*
772
Вместо заключения
Приведенная таблица показывает богатство и рефлексивную проработан-
ность мира философской мысли Марселя. Представленный в ней концептуаль-
ный аппарат подключается к работе с пережитым опытом, очень часто с опы-
том межличностных отношений, особой чуткостью к которому Марсель был
наделен как художественно мыслящий человек, драматург и музыкант. И хотя,
как мы сказали, французский философ сознательно отказался от построения
своей философской системы, это не означает бессистемности в смысле неря-
шества или небрежности мысли. Напротив, стилистике философии Марселя
присуща чуткая к нюансу рефлексия, уходящая своими корнями в традиции
французской культуры. Перечисленные нами выше понятия не просто попар-
но соотносятся между собой, а образуют именно целостный и живой организм
разветвленной мысли, поясняя друг друга, работая всегда во взаимной артику-
лированное™.
Продолжим наше биографически контекстуализируемое прочтение фило-
софии Марселя как прежде всего философии надежды. Вероятно, для типич-
ного профессора философии надежда вообще не философская проблема, не
настоящая тема для философии «как строгой науки». В каталог собственно
философских «схоларизируемых», как говорит иногда Марсель, проблем она
не входит. Это ведь не проблема типа проблемы свободы воли, соотношения
случайного и необходимого и т. п. Надежда — это фундаментальный духов-
ный опыт, питаемый традицией европейской христианской культуры. А про-
фессорская систематизирующая, ориентированная на науку философская дис-
циплина, как правило, избегает и того и другого. «Избегает» — не слишком
удачное выражение. Скорее, она просто ничего общего с ними не имеет и иметь
не может. Вот именно такой «климат» обезличенной абстрактности и стал сим-
волом того антидуха, от которого отталкивался Марсель уже в свои юноше-
ские годы и который он во что бы то ни стало хотел преодолеть («трансцендиро-
вать»), приступая к самостоятельному творчеству. «Климат» этот он почувство-
вал с особой силой тогда, когда после погруженной в свободную, открытую к
людям и ко всему неизведанному в мире жизнь в Стокгольме (его отец был
послом Франции в Швеции), вернулся в Париж и оказался в педагогической
«машине» французского лицея с его подчиненной этическим императивам, но
одновременно удивительно обездушенной и какой-то безнадежной жизнью.
Итак, осознаем эту, на первый взгляд, возможно, и странноватую связь: фор-
мальная этика в семье и в лицее и одновременно иссушающий дух отчаяния,
исходящий именно и прежде всего от тех, кто эту этику, провозглашаемую от
имени разума, олицетворяет, требуя следовать ее предписаниям. Преодолеть
эту атмосферу этически нагруженной (может быть, перегруженной?) безна-
дежности и стало глубоким внутренним импульсом-заданием будущего фи-
лософа-драматурга.
Философия надежды
ПЪ
Мир, в котором обостренное моральное сознание соседствует с абсолют-
ным признанием смерти и ее власти, для которого бессмертие — пустая иллю-
зия или даже суеверие, казался юному Марселю нелепым, и он не мог не вос-
стать против него в надежде его преодолеть. Впрочем, сами лица, соединяю-
щие таким вызывающим для подростка образом то и другое, казавшееся ему
совершенно несоединимым, были к нему лично внимательны и даже щедры.
Но это только влекло к обострению рефлектирующей мысли, искавшей сво-
ей — другой — философии. И основные вехи ее создания совпали с рубежами
преодоления этой атмосферы родительского дома и лицея. Действительно, духу
абстракции была противопоставлена конкретность мысли, неверию и обесцве-
ченному протестантизму — христианская вера и католичество, безнадежно-
сти и отчаянию — философия надежды, а всепоглощающий рационализм в
результате поисков и находок оказался «снятым» в сверхрационализме тайны
или мистерии бытия, в философии присутствия и бессмертия. Однако при этом
никакой теологии не возникло. Хотя Марсель философствовал действительно
вблизи нее, точнее, в свете религиозно переживаемого существования, но он
никогда не заходил на ее территорию. Более того, он всегда стремился к тому,
чтобы его философия была интересной и нужной равно как для верующих, так
и для неверующих, если у тех и других живо беспокойство духа, открытого к
радикальным вопрошаниям. И это ему, на наш взгляд, удалось.
Беспокойство духа и стимулируемый им поиск никогда не оставляли его. И
так было уже с детских лет, когда его захватила страсть к путешествиям и от-
крытиям нового и неизведанного в пейзажах и ландшафтах. Параллельно раз-
вивалось его увлечение музыкой. Опыт путешествий и размышлений в связи с
ними, равно как и музыкальные увлечения, впоследствии дали Марселю как
философу своего рода рабочие модели для его важнейших понятий, во многом
определив саму стилистику его философской мысли. Диалектику полярности
видимого и невидимого, категорию глубины в мыслительном поиске он снача-
ла разрабатывал на материале особого рода пейзажей, когда наличная картина
вдруг приобретает некие странности, указывающие на будущие ее преобразо-
вания, когда неявное и скрытое сигнализирует о себе в видимом для внима-
тельного глаза. Неудивительно, что подобные чувственно насыщенные пей-
зажно-музыкальные духовные упражнения уводили начинающего философа
от привычных господствовавших в философии начала XX в. неокантианских
схем и абстракций. Марсель считал, что в критическом идеализме преувеличе-
на роль конструирующего субъекта и что такое преувеличение обусловлено
невниманием к конкретным специфическим деталям, передающим «аромат»
реальности со всей несомненностью.
К протесту против идеализма, особенно, как говорит Марсель, экстремист-
ского толка, присоединялся вполне естественно и подспудный поначалу про-
774
Вместо заключения
тест против систематичности как conditio sine qua non профессиональной фи-
лософии. Подобный систематизм, считал он, склонен закрывать глаза на про-
тиворечия и трудности мысли ради возможности ее системного оформления. В
конце концов, выбор им был сделан в пользу философии как рефлексивного
поиска, озабоченного как раз трудностями и даже несходимостями в осмысле-
нии опыта. Целью такого поиска было несомненное и достоверное в нашем
опыте, но недоступное верификации научными методами с присущей им его
объективацией. При этом у Марселя изменяется и сам диапазон привычного
для философа опыта: в нем важное значение отводится опыту эмоционально-
му, художественному и религиозному. Сюда же в качестве самой, быть может,
существенной его компоненты входит и опыт человеческого общения с неиз-
бывным для него трагическим измерением.
Философия, претендующая на научность и в силу этого на монопольное
обладание объективной истиной, упрекает экзистенциальную мысль в целом и
философию Марселя в частности в том, что она не достигает надежного ин-
терсубъективного содержания, будучи якобы замкнутой в субъективном мире
единичного автора. Но тогда с той же легкостью, как и экзистенциальную фи-
лософскую мысль, можно упрекнуть в отсутствии общезначимого содержания
искусство и литературу. Однако достаточно внимательно вчитаться в работы
Марселя, чтобы увидеть, насколько на самом деле его мысль критична к себе
самой, насколько она озабочена вопросом о своей достоверности. Ошибочно
думать, что настоящую технику мысли, обеспечивающую ей ее интерсубъек-
тивную значимость, создают и применяют в полном объеме лишь научно ори-
ентированные философы. У Марселя, на наш взгляд, великолепная техника
мысли. Просто она другая, чем у ученых от философии. Чтобы убедиться в
этом, надо изучить его «Метафизический дневник», служивший ему как бы
резервуаром для его философских произведений 13. Кстати, сами приемы со-
ставления этих работ далеки от принятых научно-профессорской философи-
ей норм. Это, условно говоря, тематические коллажи, в структуру которых
входят и философские рассуждения дневника, и драматические произведе-
ния, и отдельные выступления или лекции. Марсель ищет не механического
жанрового единства, а объемного высвечивания проблемы, ему важно открыть
максимально широко доступ читателю в его духовный опыт, выражаемый не
только с помощью обезличенных философских категорий, но и средствами
его художественного осмысления, и показать тем самым, что философская
рефлексия развивается не в обездушенном пространстве априорной абстрак-
13 Marcel G. Journal Métaphysique. P., 1927. Дневник велся с 1913 до 1943 г. Записи 1928—
1933 гг. и 1937—1943 гг. составили основу двух его книг («Быть и иметь», 1935 и «Присут-
ствие и бессмертие», 1959).
Философия надежды
775
ции и не обязана следовать сертифицированному списку готовых «философ-
ских проблем».
Экстремистские формы идеализма, материализма, рационализма, объеди-
няемые лежащим в их основе экстремистским натурализмом, провозглашаю-
щим единственной реальностью «всецело естественное» (le tout naturel), не
устраивали Марселя из-за их абстрагированности от ситуации конкретного
человека, причем конкретного не в смысле социобиологической эмпирично-
сти, позволяющей каждого человека включить в систему объективированных
определений. Для него человек конкретен как духовно-практическое живое
существо, как личность, а не как член обезличенных социальных групп. Бесси-
лие абстракций и отвлеченной объективации человека он познал в годы Пер-
вой мировой войны, когда жизнь поставила его во главе одной из служб Крас-
ного Креста, занимавшейся вопросами розыска без вести пропавших людей.
Сведения, которые при этом узнавались и фиксировались, в большинстве слу-
чаев сводились к констатации гибели людей. Марсель целиком погрузился в
эту ситуацию, когда о смерти человека надо было извещать самых близких ему
людей. «В этих условиях, — вспоминает философ, — регистрационная кар-
точка перестала быть для меня абстракцией: это был раздирающий душу при-
зыв, на который я должен был дать ответ» и. Первичное осмысление возника-
ющей в этих условиях метафизической драмы он дал в своей неоконченной
пьесе «Непостижимое» (1919), ставшей первым вариантом такого ответа. За-
тем ответ был продолжен уже на уровне философской рефлексии присутствия,
надежды и бессмертия, вместе с указанной пьесой составивший книгу на эту
тему 15. Для того чтобы прийти к изложенной в ней философии надежды, нуж-
но было со всей бескопромиссностью понять, что «экстремистский натурализм»,
признающий единственной реальностью лишь естественное, есть образ мыс-
ли, «ведущий не только к омертвлению нашего мира, но и лишающий его цен-
тра, таких начал, которые единственно могли бы сообщить ему жизненность и
значение» 16.
Пережитый опыт военных лет пробудил интерес Марселя к метапсихиче-
ским явлениям (телепатия и т. п.), внимательное изучение данных о которых
заставило его признать их реальность, несмотря на массу окружающей их фан-
тастики. В тогдашней Франции среди ученых и философов только один лишь
А. Бергсон признавал их важность для философии и науки о человеке. Мар-
сель рассказал ему о своей работе в этой области. Значение метапсихологии
Марсель увидел по крайней мере в том, что она содействует преодолению на-
14 Marcel G. Regard en arrière. P. 312.
15 Marcel G. Présence et immortalité. P., 1959.
16 Marcel G. Regard en arrière. P. 313.
776
Вместо заключения
туралистической односторонности мысли, подтверждая законность философии
духа и метафизики. Марсель сразу же понял, что в этой области невозможно
достижение однозначных объективных результатов, что она не поддается объек-
тивирующей технике современной науки. Но с человеком, отваживавшимся
размышлять об этих вещах, может произойти внутреннее изменение, приотк-
рывающее ему мистическое измерение реальности. Оно, говорит Марсель,
почти тонет в нашей слабости и как бы в ночи нашего «удела» (la condition
humaine). Здесь важно слово «почти», так как редкими вспышками эта ночь все
же может если и не освещаться, то как бы только «прокалываться» (надежда и
есть подобное «пронизывание» светом — la percée). Соседство с мистикой и
ясновидением безусловно опасно для философии. Марсель отдает себе в этом
отчет. Но безопасна лишь плоская школьная философия, заполняющая фило-
софские конгрессы массированной банальностью. И высшее достоинство фи-
лософии спасают такие рискованные головы, как Кьеркегор или Ницше 17.
Философия надежды Марселя укоренена в пережитом опыте, опыте встре-
чи и углубленного общения, ведущего к свободному познанию себя изнутри
интерсубъективности. Он даже не прочь признать философскую правоту эм-
пиризма, но при одном условии — эмпиризм должен включать в себя ценност-
ную иерархию разных типов опыта, ибо опыт опыту — рознь. В опыте много
рутинного элемента, но бывают в нем и прозрения, высшие мгновения. В час-
тности, Марсель подчеркивает, что признание онтологического таинства, рас-
сматриваемое им как самая важная часть его метафизики, может иметь место
лишь «благодаря некоторым высшим формам человеческого опыта» 18. Опыт
самопожертвования, любви, творчества, наконец, святости — вот, что он име-
ет в виду, когда говорит о высших формах опыта, доступного человеку. В част-
ности, опыт святости «есть подлинное введение в онтологию» 19. И именно
поэтому он готов признать философию эмпиризма, но лишь в случае, если это
будет «высший эмпиризм». Признание такого эмпиризма невозможно без эле-
ментарного доверия к подобным формам человеческого существования. Мы
их или принимаем и признаем, и тогда нам может приоткрыться излучаемый
ими свет, или же мы их отвергаем и предаем, утверждая актом своей духовной
свободы лишь низкие и «теневые» формы опыта и их интеллектуальные имп-
17 «Неувядаемая слава Кьеркегора или Ницше состоит, быть может, существенным об-
разом в обнаружении, но не с помощью аргументов, но самой их жизнью, пережитыми
испытаниями, что философ достойный так называться, не является, не может и не должен
быть человеком конгресса и что он изменяет этому достоинству в той мере, в какой позво-
ляет себе ускользнуть от одиночества, в котором и заключено его призвание» {Marcel G.
Regard en arrière. P. 315).
18 Марсель Г. Трагическая мудрость философии. С. 105.
19 Там же. С. 101.
Философия надежды
111
ликации. В первом случае мы не экранируем себя от возможности увидеть свет
надежды, во втором — предаем тьме отчаяния и невольно или вольно заража-
ем ею других.
Надежда, как вера и верность, — символ бытия за пределами его представ-
ления как объекта. Доступное объективации бытие проанализировано Марсе-
лем как мир «имения», или «владения», и, как видно из приведенной выше
таблицы, противопоставлено бытию. Детально это противопоставление раз-
вернуто в одной из самых важных для него работ — в книге «Быть и иметь»,
основу которой составил «Метафизический дневник» (1928—1933). Онтоло-
гические основания надежды затем были дополнены разработкой ее феноме-
нологии в книге «Homo viator. Пролегомены к метафизике надежды» (1944).
Марсель называет свой метод феноменологическим, ибо, как и в классической
феноменологии Гуссерля и его последователей, его задачей выступает преодо-
ление психологического редукционизма и, соответственно, выявление автоном-
ных смыслов духовных, эмоциональных и когнитивных актов, опираясь прежде
всего на понятие интенциональности. Но в отличие от основателя феномено-
логии Марсель приходит в результате своих анализов к устойчивой конверген-
ции метафизического и религиозного измерений опыта. Проблематизации и
объективации бытия, базирующихся на постулате неучастия субъекта в жизни
его объекта, противостоит сознание его таинственного участия в нем. Эта при-
частность не доступна объективации и поэтому требует и особой рефлексии
(вторичной) и особого отношения к языку 20.
Представители «экстремистского рационализма», да и любой другой фор-
мы идеологического сознания, легко приносят в жертву человеческое начало
ради торжества выдвигаемых ими идей — неважно каких. Если понятийный
рациональный каркас считать абсолютным содержанием реальности самой по
себе, а не в лучшем случае совокупностью регулятивных принципов ее упоря-
дочивания и познания, то, говорит Марсель, «"человеческое как таковое" бу-
дет лишь его шелухой» 2I. Такие рационалисты, указывает французский фило-
соф, крайне негативно относятся к надежде, считая ее выражением миража
или иллюзии. Лишь отказ от абсолютистских претензий подобного рациона-
лизма дает шанс «спасти надежду».
Величайший рационалист нового времени, Б. Спиноза, говорит Марсель,
не понял феномена надежды, отнеся ее к сфере желания как противоположно-
20 Стратегическая дилемма здесь такова: или создавать свой особый технический язык,
подвергаясь опасности его объективации или фетишизации, или пользоваться обычным
концептуальным языком, но утруждая себя сохранением по отношению к нему уточняю-
щей его критической дистанции. По первому пути пошел М. Хайдеггер, по второму —
Г. Марсель.
21 Marcel G. Homo viator. P., 1963. P. 69.
778
Вместо заключения
сти страха. Но, замечает он, категория желания принадлежит к миру имения/
владения, в то время как концепт надежды указывает на горизонт бытия. Тех-
нократические «проектанты» будущего человечества, обещающие ему неслы-
ханное процветание на путях его собственной машинизации, отрицают онто-
логическое ядро надежды, оставаясь всецело в мире имения/владения и, соот-
ветственно, в горизонте желания. Кстати, именно «желающий человек» стал в
современной французской философии после Марселя одной из основных ант-
ропологических моделей, что вполне устраивает новых технократов.
Хотя, по видимости, надежда кажется близкой по смыслу к желанию, на
самом деле, подчеркивает Марсель, она предельно далека от него. Желающий
видит предмет своего желания, объективирует его, и превращает в проблему, с
тем чтобы решить ее. Тем самым он становится на путь технического мышле-
ния. Но надежда живет в другой духовной атмосфере. Она не предсказывает
то, на что надеются, в горизонте ее человек не строит объективированных кон-
струкций для ее осуществления. Но она парадоксально как бы помнит буду-
щее и поэтому является его «прикрытым видением». Актом надежды «проты-
кается» «скорлупа» замкнутого и омертвленного в его рациональной истолко-
ванное™ времени (надежда как упомянутый световой «прокол» — percée). При
этом в образовавшемся просвете не возникает образов определенных объек-
тов. Но зато начинает светить свет, несравненно более могучий, чем вся замы-
кающая время объективность мира вместе взятая. Надеющийся чувствует, осоз-
нает свою причастность к нему — какой бы слабой, условной и хрупкой она
ему ни казалась. Сорваться, «заболтать» надежду легко. Она не дается челове-
ку с гарантией объективного закона природы.
Мы могли бы резюмировать наше понимание концепта надежды, опираю-
щееся на работы Марселя, следующим образом. Надежда — чувство-сверх-
чувство, что невыразимая никакими понятиями объективирующего сознания
поддержка со стороны таинственных сил бытия мне оказана 22. Это — уверен-
ность в том, что подобный кредит трансцендентного доверия мне открыт, не-
смотря ни на какие самые удручающие обстоятельства. Будучи знаком таин-
ственной духовной подпитки моих внутренних сил, надежда обнаруживает свою
светоносную природу.
В своей философии надежды Марсель как бы переключает основной ре-
гистр, в котором развертывалась западная философская традиция. Действитель-
Личное местоимение первого лица, как это часто делает и Марсель, стоит здесь пото-
му, что говорить о надежде лучше изнутри себя, подчеркивая тем самым ее необъективиру-
емость в общезначимой верифицируемой и безличной дефиниции, что, разумеется, не оз-
начает никоим образом сужения горизонта «Мы» (принципа sumus — «мы есть»), в кото-
ром только и может светить надежда.
Философия надежды
119
но, она в основном строилась как философия ума, рациональности и объектив-
ности. Марсель же явно переводит ее тональность с объективирующего ума на
кажущуюся лишь субъективной духовность сердца, впрочем сохраняя при этом
все права философской рефлексии. Не часто, но у него все же можно встретить
такие выражения, как, например, «кровоточащее сердце человеческой экзис-
тенции» 23. Теология и философия сердца в западной культурной традиции были
введены в оборот бл. Августином. И Марселю он несравненно ближе св. Фомы
с его схоластическим рационализмом. Это предпочтение указывает на библей-
ский духовный «климат» его философии, в то время как основное русло запад-
ной философской традиции было сильно эллинизировано. Факт такой переак-
центировки внимания признает и сам Марсель в его итоговых беседах с Рикё-
ром.
«Надежда — мой компас земной!» — поется в популярной песне. Габриэль
Марсель, философ надежды, наверное, сказал бы о ней как о компасе небесном,
существование которого, к счастью, возможно и в земных условиях человече-
ского удела. Действительно, надежде, о которой говорит философ, присущ, как
мы видели, световой характер, что обнаруживается в соответствующих мета-
форах. Так, надежда у него явно лучиста, впрочем, как и вся философия Мар-
селя, эта светлая метафизика надежды и любви, веры и верности. Характерно,
что к световому ее характеру органически присоединяется ее музыкальность и
драматизм. Она немыслима без верного тона или интонации, но это не произ-
вольный субъективный каприз, а ясное, гармоничное приятие дара жизни, дара
бытия 24. У французского мыслителя есть одно характерное место, позволяю-
щее понять, насколько важна для него именно верная интонация, тон произно-
симых философом утверждений. Вот что он пишет об утверждении «я есть»
(je suis), которым начинается знаменитый тезис Декарта: «Это утверждение, —
подчеркивает он, — нельзя произносить в дерзком и заносчивом тоне, с вызо-
вом, но, скорее, нужно шептать внутри себя в тональности смирения, страха и
изумления» 25. И он поясняет, почему именно такая тональность является необ-
ходимой в том испытании, каким является жизнь человека. Однако новоевро-
пейская философия в основном своем русле оказалась как раз нечувствитель-
ной именно к тональности мысли, к ее экзистенциальному тонусу. Вызов, за-
Марсель Г. Трагическая мудрость философии. С. 113.
24 Наша жизнь есть дар «непредставимого и нехарактеризуемого бытия» или, переходя
с метафизического языка на религиозный, «божественный дар» (don divin). По отношению
к нему возможны или отказ (le refus), или его принятие, что означает, что он расслышан как
зов или призыв, влекущий творческий отклик как ответное его призывание (l'invocation). В
этом случае человек принимает открывшийся ему свет за свет и сам стремится его распро-
странить. В первом случае, случае отказа, он загораживает от него себя и других.
25 Marcel G. Foi et réalité. P., 1967. P. 45.
780
Вместо заключения
носчивость и гордыня (hybris) звучат у нее и в «я есть», и в «я мыслю», и в том,
что она из них выводит.
Теоретический философский эгоцентризм в истории Запада лишь допол-
нился тем, что Марсель называет «практическим эгоцентризмом». Данная ха-
рактеристика корреспондирует с определением западного культурного мента-
литета как «фаустовского духа». Здесь Марсель вполне солидарен со Шпенгле-
ром. Корни этого духа уходят в гностицизм и магию средних веков, в эпоху
Ренессанса выдвинувшихся на авансцену тогдашней культурной жизни. Со-
временная «техномания» (термин Марселя) ведет свое происхождение именно
оттуда, разумеется, получив при этом мощный импульс благодаря рождению
новой механистической науки. Фаустовский порыв его адептам когда-то казал-
ся светом, лучом надежды в ночи средневековья. Но Шпенглер, цитируемый
Марселем, замечает в череде научно-технических открытий какое-то «духов-
ное опьянение» 26. Какая-то безмерность, дерзость, заносчивость и высокоме-
рие сопровождают стремительный подъем науки и техники, становление индус-
триального общества. Новая философия, угадывая и абстрактно формулируя
этот дух завоевания мира, в высшей степени абстрактный дух, лишь усиливает
его в свою очередь. При этом экзистенциально-антропологическое измерение,
трезвость и смирение духа перед неисчерпаемой тайной бытия уходят на зад-
ний план. Все последующее развитие, с его вызовами и кризисами, становится
понятным, если вспомнить о главном эпизоде истории с доктором Фаустусом,
не испугавшимся заложить душу дьяволу ради обретения всесильной науки,
дающей возможность господства над миром и над людьми. Из легенды слова
не выкинешь, что было, то было. И если анализы Шпенглера и Марселя каса-
тельно сущности духа индустриальной цивилизации хотя бы в основном вер-
ны, то темнота официального средневековья действительно будет светом по
сравнению с этим люциферическим огнем.
Зовет ли, однако, Марсель к полному отказу от науки и техники"? Нет. Он
только возражает против их абсолютизации, превращающей их во всепогло-
щающих идолов, закрывающих другие способы быть и мыслить. Плыть назад
в утлом кораблике истории невозможно. Но плыть вперед надо с настоящим
светом на его палубе.
Marcel G. Le déclin de la sagesse. P., 1954. P. 11.
ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Герметическая традиция и генезис науки // Вопросы истории естествознания и техни-
ки. 1985. № 1.С. 56—63.
Генеалогия культуры: Ницше — Вебер — Фуко // Постижение культуры: Ежегодник.
Вып. 7. М., 1988. С. 5—39 (сокращ. вариант).
Урок Леонардо // История науки в контексте культуры. М., ИФАН. 1990. С. 118—123.
«Гуляка праздный»: антропология орудийности и феномен искусства // Человек. 1993.
№ 5. С. 45—52.
Метаморфозы абстрактной свободы: Гёц в пьесе Сартра «Дьявол и Господь-Бог» //
Новый Круг. 1993. № 3. С. 192—196.
Эстетизм против историзма: Случай Шопенгауэра // Историко-философский ежегод-
ник-1992. М., 1994. С. 65—76.
Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания // Вопросы философии. 1995. № 4.
Держание: метафорика и смысл // Встреча с Декартом: Философские чтения, посвя-
щенные М. К. Мамардашвили—1994. М., 1996. С. 151—177.
Постструктуралистская методология истории: достижения и пределы // Одиссей (Че-
ловек в истории). М., 1996. С. 39—59.
Герметизм, эксперимент, чудо: Три аспекта генезиса науки нового времени // Фило-
софско-религиозные истоки науки. М.: Мартис, 1997. С. 88—141.
Декарт: ясен до безумия? // Бессмертие философских идей Декарта: Материалы Меж-
дународной конференции, посвященной 400-летию со дня рождения Рене Декар-
та. М.: ИФРАН, 1997. С. 111—132.
Жизнедискурс в тени Ницше // НЛО. 1997. № 25. С. 382—389.
Опыт в творчестве Павла Флоренского // П. А. Флоренский: Арест и гибель. Уфа, 1997.
С. 228—248.
Разум на весах откровения: Лев Шестов и современная мысль // НЛО. 1997. № 28.
С. 379—390.
Декарт Р. (1596—1650) // Исторический лексикон. XV11 век. М., 1998. С. 191—195.
Жизнь и культура: несколько соображений // Постижение культуры. Ежегодник. Вып. 7.
М., 1998. С. 343—346.
Картезианство // Исторический лексикон. XVII век. М., 1998. С. 195—198.
Сериальность и уникальность бытия // Произведенное и названное: Философские чте-
ния, посвященные М. К. Мамардашвили—1995. М., 1998. С. 141—165.
782
Вместо заключения
Две модели интеграции и исторический опыт России // Полигнозис. 1999. № 3. С. 49—
56 (текст для настоящего издания дополнен и публикуется под названием «Другая
интеграция»).
Философия Ницше в сумерках нашего сегодня // Ф. Ницше и философия в России.
СПб. РХГИ, 1999. С. 179—207 (сокращ. вариант).
Эзотерика и наука: Эффект резонанса // Науковедение. 1999. № 3. С. 205—217.
Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии // Полигнозис. 2000. № 3.
С. 120—127 (сокращ. вариант).
В зеркале фаларийского быка // Коллаж-3. Социально-философский и философско-ан-
тропологический альманах. М.: ИФРАН, 2000. С. 58—62.
Двуединый образ философии // Философские науки. 2000. № 1. С. 82—83.
Жизнь как ценность: опыт Ницше // Жизнь как ценность. М.: ИФРАН, 2000. С. 7—30.
Идеологии уходят, любовь остается // НЛО. 2000. № 44. С. 334—343.
Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше // Постижение культуры: Еже-
годник. Вып. 10. М., 2000. С. 190—226.
Сон в ноябрьскую ночь // Новое литературное обозрение (НЛО). 2000. № 41. С. 349—
356.
Эпистрофический порыв: Прошлое и настоящее // Вопросы философии. 2000. № 3.
С. 145—154 (сокращ. вариант).
Генеалогический проект Мишеля Фуко: онтологические основания // Мишель Фуко и
Россия. СПб.; М., 2001. С. 96—110.
«Инварианты» культуры // Постижение культуры: Ежегодник. Вып. 11. М., 2001. С. 182—
189.
Ищущие Града // Полигнозис. 2001. № 2. С. 82—89.
Культура как искусство целей // От философии жизни к философии культуры. СПб.:
Алетейа, 2001.С. 5—8.
Культура сегодня: ситуация распутья // От философии жизни к философии культуры.
СПб.: Алетейа, 2001. С. 380—384.
На перекрестке двух культур: Читая Августина // От философии жизни к философии
культуры. СПб.: Алетейа, 2001. С. 209—220.
На пути к Другому: Размышление на заданную тему // Постижение культуры: Ежегод-
ник. Вып. 11. М., 2001. С. 267—284.
Нигилизм // Новая философская энциклопедия. Т. 3. М.: Мысль, 2001. С. SA—85.
«Двойная звезда» Джордано Бруно // Историко-астрономические исследования. Вып. 27.
М., 2002. С. 237—258.
Поэзия — философия — повседневность // Ё. Психотворец — Обуватель — Филозоф.
М., 2002. С. 272—289.
Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель: резонанс творческой мысли // Историко-фи-
зические исследования 2002. М., 2003. С. 174—216.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин Аврелий бл. 15,31,32,38—43,
66, 77, 81, 93, 353, 356, 380, 421,
459, 779, 782
Аверинцев С. С. 219, 643
Авицеброн (Ибн Гебироль) 128
Авраам 158, 176, 359, 363, 366, 368, 742
Авсоний 179, 180
Автономова Н. С. 534, 542, 543, 606
Агриппа Г. К. 75, 100, 196, 226
Адам 34, 38, 39, 41, 147, 384, 678, 728
Адам Кадмон 391
АдоП. (Hadot) 9, 15—26, 28, 29, 144,
146, 698, 699, 703, 704, 705, 707,
708
АдорноТ. В. 173, 174
Аид(Орк) 132
Айхенвальд Ю. А. 264
Аксаков С. Т. 709
Александр Македонский 718
Александров А. Д. 493
Алкмеон 520
Алле P. (Halleux) 181, 182
Альберт Великий 103, 127, 130
Альбертина 499, 501, 506—508, 510
Альдрованди У. 169
Альтюсер Л. 536, 537
Алыитед И. Г. 204
Амбросий Медиоланский, епископ 17
Анаксагор 125
Анаксимандр301,
Андреэ И. В. 83, 188, 196, 197, 204, 214,
216,217
Андроник (Трубачев), игумен 348
Антоновский Ю. М. 285
Анучин Д. Н. 73
Аполлон 16, 77, 122, 248, 250, 252, 338,
668
Аполлоний Тианский 101, 102, 108
Апулей 64
Аржаковский А. 371, 372, 375
Аристотель (Стагирит) 29,40,48,49,58,
82, 88, 93, 94, 96, 98, 100, 103—
105, 109, 120, 123, 124, 125, 127,
128, 130, 143, 145, 147, 150, 152,
153,155—157, 234, 310, 368,410,
422, 423, 429, 526, 589, 594, 651,
689—691, 698,705, 712, 716, 717,
721,725,762
Арнольд Дж. 345?
Арнольд П. 187, 345
Арриан 22
Арсений (Лебединцев), митрополит 279
Артемида 33
Архимед 75, 84, 110,411
Архит 72
Асклепий 52, 77
Аскольдов (Алексеев) С. А. 398
Асланов К. (Aslanoff Cyril) 13
Асмус В. Ф. 310
Афродита 33
Ахматова А. А. 686, 688
Ахутин А. В. 94,362,370,596,674—676,
678—683
Ашенбах 317
784
Указатель имен
Баадер Ф. К. фон 400
БайеА. 179, 180, 182
Бакунин М. А. 451, 537
Балаховская С. Г. 376
Балаховский И. 368
Бальзак О. 321, 640, 645, 684
Баранова-Шестова Н. Л. 307, 371, 376,
379—381,393,456
Бароний Ч., кардинал 80
Барт Р. 536, 537, 543, 563, 566, 567, 569,
606
Баскакова Т. 189
Батай Ж. 554
Батищев Г. С. 10, 672, 757, 758
Бауэр Б. 534
Бах И. С. 439, 727, 745
Бахтин M. М. 136, 143, 396, 653, 692
Башляр Г. 56,100,145,179,366,429,475,
493,538,547, 558—563, 565, 644,
698
Бейль П. 709
Беккер А. 237
БекманИ. 150, 185
Белинский В. Г. 710
Белый Андрей (Бугаев Б. Н.) 73, 317,
324, 373
БёмеЯ. 122,396,400,421
Бенуа А. Н. 696, 767
Бенуа Ж.-М. 557
Бергот 499, 500
Бергсон А. 24, 229, 258—360, 609, 617,
682, 705, 707, 775
Бердяев Н. А. 88,122,279,280,333,360,
364, 368, 371, 372, 375—392,
394—400,422,456,458, 670, 761,
770, 782
Бетховен Л. ван 419, 676, 744
Бибихин В. В. 13, 16, 199, 216, 370
БиблерВ. С. 10,672
Бизе Ж. 323
Бланше Л. (Blanchet L.) 109
Бланшо M. (Blanchot M.) 229, 548, 554
Блейк У. 23
БлокА. А. 25, 382, 383, 501, 679, 746,
767
Блондель Э. 607
Блумфилд М. У. (Bloomfield) 53
Блур Д. 520
Блюменталь Дж. 14
Бодлер Ш. 494
Бойль Р. 91—96, 181, 652, 736
Бонфуа И. 367
Бор Н. 409, 420, 425, 429, 432, 441, 711
Борджиа Ч. (Борджа) 309,315, 323,334,
602
Борхес X. Л. 316
Боттичелли С. 64, 85, 117
Брадвардин Т. 88
Брейе Э. 380
Брен Ж. 363, 369, 370
Бренгер Г. 132
Бреннер 335
Брентано Ф. 601
Бруно Дж. (Ноланец) 46, 51, 53—55,57,
59,60, 63, 65—68, 80—83,98,99,
100, 105, 111—133,136, 140, 189,
293, 737, 782
Берюлль П. де (Bérulle P. de), кардинал
644
Бубер М. 10, 377, 396, 653, 771
Бугаев Н. В. см. Белый А. 357, 360
Булгаков С. Н. 305, 344, 345, 353, 358,
375,398,399,401,404, 593,720—
723, 727
Бурдье П. 535, 565, 566, 568—571, 632
БурельД. 13
БуриданЖ. 89, ПО, 143
Буркхардт Я. 254
Бурман Ф. 482
Бэкон Р. 103
Бэкон Ф. 51, 68, 75, 76, 81, 83, 86, 91,
93—95, 107, 138, 140, 150, 181,
189, 193, 194, 196, 197,200,201,
203,205—207,212,213,215,217,
225—227,413,475,521,537
Бэр К. 285
Бюссон A. (Busson H.) 109
Указатель имен
785
Вагнер Р. 245, 250, 253, 271, 272, 276,
286,321,323
Валевичус А. 372
Валери П. 46
Валь Ж. 380, 690
Вальденфельс Б. 690, 691
Ван Губерген М. 365
Ван-Гельмонт И. Б. 92, 93, 95, 99
Варлаам 735
Варуна 602
Василий Великий 733, 735
Введенский А. И. 163
Вебер М. 85,110,221,224,543,572,573,
604, 609—611, 614, 621, 622, 623,
624, 625, 626, 627, 628, 629, 670,
741,781
ВейльГ. 713—715, 717
Вейн П. (Veyne Р.) 21, 538, 554, 556
Вейцзеккер К. Ф. Фон 440
Великовский С. И. 240, 241, 452, 461,
628
Вергилий 112, 581
Вержели Б. 370
Вернан Ж.-П. 475
Виан Б. 468
Вивес X. Л. 470
ВиерИ. 100
ВизгинВ. П. 64, 67, 88, 109, 111—113,
118, 122, 135, 145, 162, 179,224,
229, 308, 317, 318, 368, 429, 473,
481, 487, 514, 534, 540, 543, 548,
558, 562, 564, 569, 571, 599, 634,
735
Вилинбахов Г. В. 749
Виндельбанд В. 237
Витгенштейн Л. 491
Владимирский Ф. С. 13
Вовенарг Люк де Клапье де 311
Волжский (Глинка) А. С. 398
Вольтер 69, 157, 226, 321, 662, 709, 710,
737
Вольф Ф. А. 273
Вяземский П. А. 749
50 - 3357
Гадамер Х.-Г. 715
ГайденкоП. П. 10,51,651
Гайдн Ф. Й. 442
Галеви Д. 271, 273, 275, 276, 325
Гален 82, 93, 94
Галилей Г. 49, 75, 92, 99, 104, 105, 117,
121, 130, 150, 181,220,420,522,
734
Гальперин Д. 540
Гамалея С. И. 69
Гамлет 451
Гамов Г. 279
Гандийак М. де (Gandillac M. de) 128,
129. 335
ГарвейУ. 132, 157,470
Гартман Э. Фон 285, 287
ГарэнЭ. 117,390
Гассенди П. 91, 92, 192, 206
Гаст П. 339
Гастев А. А. 44, 47—49
ГачевГ. Д. 175
Гегель Г. В. Ф. 28,148,232,236,243,245,
252,260,262,270, 310—312,315,
362, 364, 366, 377, 409, 453, 457,
489, 570, 597, 600, 603, 669, 683,
693,731,755,758
Гезенталер 214
ГейзенбергВ. 219—223, 407—427,
429—433, 435, 436, 438—445,
559,687,692,711,712,782
Гелиос 155
Генрих III 114, 115, 116
Генриха 150
Генрих Наваррский 116
Георге С. 439
Геракл 302, 702
Гераклит 125, 144, 248, 301, 321, 489,
491,551,556
Гердер И. Г. 252, 653, 655
Гермес Трисмегист 52,62,64,65,72,73,
75,81, 108, 117, 130, 192,621
Герцен А. И. 356
Гершензон М. О. 371, 393, 735
Герье В. И. 208
786
Указатель имен
Гесиод 602
Гессе Г. 580
Гессен С. И. 397
Гёте И. В. 22, 23, 46, 47, 79, 205, 216,
308,317,318,344,347,351,353,
354, 408, 409, 418, 442, 462, 639,
653,655,667, 681—683, 685,712,
722
Гёц фон Берлихенген (Гёц) 446—451,
781
Гильберт У. 132,425
Гиппас из Метапонта 69, 136
Гихтель Г. 345
Главк 77
Глюксман А. 389
Гоголь Н. В. 680, 709
Годвин Дж. 57, 70, 71
Годвин Ф. 57
Голиаф 175
Гольбах П. А. 662
Гомер 33, 598, 681
Горфункель А. X. 101, 103, 109, 113
Горький М. 280, 366
Гофман Э. Т. А. 232
Гофмансталь Г. фон 23, 696, 697
Гревил Ф. (Greville F.) 119
Грейвс Р. 77
Гренье Ж. 462, 463
Григорий Нисский св. 16
Григорий Палама св. 733—736
ГрязновБ. С. 10,493
Гумбольдт В. фон 609,610,635,655,724
Гумилев Л. Н. 618, 752
Гурштейн А. А. 51
Гуссерль Э. 162, 176, 362, 368—370,
372—374, 377, 397,492, 511, 541,
566, 575, 600, 601, 637, 692, 708,
719,762,777
Гюго В. 684
Давид, царь 175, 384
Давыдов Ю. Н. 237, 245, 252, 270
Даниил, пророк 200
Данилов Ю. А. 67
Данте А. 581,684
Дарвин Ч. 243, 284, 285, 287, 291, 639,
761
Дашевский Г. 111
Дворецкий И. X. 40
Де Бри И. Т. 70
Де Руа (Regius) X. 158
Дебас А. Дж. (Debus A. G.) 51,71,82,83,
103
Дезиле А. 365, 366
Декарт Р. 77, 78, 91—93, 96, 121, 138,
145—189, 192, 193, 196—201,
203, 205, 207, 211—216, 224—
227, 283, 310, 363, 364, 366, 388,
429, 445, 461, 470—475, 477—
485,487-^89,491,493, 617, 644,
646, 655, 689, 690, 698, 701, 703,
711, 712, 714, 719, 734, 736, 746,
779,781
ДекомбВ. 163,751
Делакруа Э. 321
Делапорт Ф. 565, 566
Делёз Ж. 307, 308, 495, 538
Делоне М. 13
ДельРиоМ. 100
Демидов С. С. 357
Демокрит 54, 84, 137, 432, 475, 712
ДерридаЖ. 161,166,170—172,278,568
Дефер Д. 540
Джованни ди Стефано 77, 117
Джойс Дж. 499, 500
Джорджо Ф. (Giorgio) 100
Джостен Ч. Г.
Ди Дж. 53, 65, 67, 68, 70—72, 182
Диггс T. (Digges Т.) 127
Дидро Д. 534,583
Диксон А. 124
Диллон Дж. 14
ДильтейВ. 172,720
Диодор Сицилийский 17
Дионис 248,250,252,271,289,321,339,
621,702
Дионисий Ареопагит (см. Псевдо-Дио-
нисий Ареопагит) 14, 346
Указатель имен
787
Диотима 507
Дирак П. 440
Дмитриев И. С. 64
Добролюбов А. М. 318
Дозорец Ж. А. 674—678, 680
Дон Кихот 172
Донзло (Donzelot) 605, 609
Достоевский Ф. М. 282, 307, 308, 310,
321, 341, 355, 358, 360—365, 370,
373, 376, 382, 383, 391, 393, 396,
402, 405, 406, 458, 460, 462, 593,
635, 639, 640, 661, 662, 664, 667,
680,681,762
Дьюар Дж. 574, 637
Дэвидсон A. (Davidson А. I.) 18, 21
Дюгем П. 88, 137, 138, 143, 560
Дюмезиль Ж. 535, 545
Дюпюи Б. 13
Дюринг Е. 285—288, 296, 297
Ева 38, 678, 679, 728
Евдокс 130
Евклид 67, 433
Егоров Д. Ф. 357
ЕгуновА. Н. 511
Ейтс (Йейтс) Ф. A. (Yates F. А.) 51,53—
56, 60, 63—65, 67, 68, 71, 72, 75,
77, 78, 80—82, 84, 85, 110—112,
114, 117—120, 122, 132—138,
141, 143, 160, 162, 181, 182, 188,
189, 196, 197,203,386,390
Екатерина Великая 142
Елизавета (Стюарт), королева Богемии,
герцогиня Пфальцская 68, 70
Елизавета, принцесса Пфальцская, дочь
королевы Богемии 154, 176
Ерофеев Венедикт 717
Жама С. (Jama S.) 181—189, 197
Жид А. 229, 639
Жильсон Э. 26, 28, 89
Жирар Р. 373
Забарелла Дж. 94
Зайцев Б. К. 390
Заратустра (Зороастр) 118,225,258,285,
292, 295, 325, 327, 334, 336, 362,
394, 455, 461, 555, 568, 610, 621,
639, 692
Зевс 702
Зеньковский В. В. 238, 277, 286, 390
Зигфрид 696
Зиммель Г. 258, 681
Злобин Н. С. 672
Золотарев А. 121
Зомбарт В. 663, 664
Зоммерфельд А. 692
Зосима 373
Зубов В. П. 47, 689
Иаков 158, 176,366,742
Иванов С. А. 679
Иегова (Яхве)
Иеремия, пророк 380
Изида 131
Изольда 272
Иисус Христос 39, 71, 72, 74, 75, 102,
106, 108, 183, 197, 198, 200, 271,
290, 323, 324, 338, 360, 367, 379,
384, 401, 449, 508, 509, 624, 702,
733
Икеда Дайсаку 694
Иксион 239
Ильенков Э. В. 672
Ильин А. А. 51
Ильин И. А. 390
Индра 602, 603
Иоанн, евангелист 37, 300, 319, 668
Иоахим Флорский 71
Иов 359, 383
Исаак 158, 176, 366, 742
Исайя, пророк 365
Исократ 144
Кавтаскина А. 189
Казобон И. 72—74, 77, 80, 192
Калибан 236
Калипп 130
Каляев И. П. 457, 463
50*
788
Указатель имен
КамиллоДж. 119, 121,718
Кампанелла Т. 65, 105, 126, 216
Камю А. 229,230,240,246,271,282,321,
340,386,387,392,452—464,468,
763
Кангилем Ж. (Canguilhem) 538,547,558,
599,600,610
Кандоль Альфонс де 62
Кант И. 79, 88, 147, 203, 231, 232, 235,
245, 249, 310, 312, 321, 343, 364,
366, 396, 397, 689, 693, 706, 719
Кантор Г. 717
Карамазов Алеша 373
Карамазов Иван 282, 364, 383
Карассу М. 370
Кардано Дж. 49, 100, 102, 109
Кассандра 161
Кассирер Э. 191, 416, 563, 654, 655, 713
Кафка Ф. 499, 500,681,682
Кейдан В. И. 398
Кейнс Дж. М., лорд 181
Келлер Г. 418
Кент Р. 678
Кеплер И. 68, 71, 76, 77, 105, 119, 130,
132, 181, 192, 193,223,412,652
Кийо P. (Quillot R.) 456
Кино Ф. (Quinault) 155
Киреевский И. В. 351
Кирсанов В. С. 65
Клаарен Е. М. (Юаагеп Е. М.) 66,87,90,
92,95, 106,480
Клагес Л. 653
Кладжет M. (Clagett) 143
Кламанс Ж. Б. 454, 459, 463, 464
Клеанф 26
Клерселье К. 179
Климент VIII 116
Климент Александрийский 705
Клио 496
Клюкин М. В. 255
Ключевский В. О. 69
КогенГ. 13
Кожев А. 62, 88, 386, 570
Кожевников В. А. 347
Кожинов В. В. 706
Койре А. 55, 56, 58, 59, 70, 88, 117, 137,
138
Колаковский Л. 369, 370
Колумб X. 190
Коменский Я. А. 192, 193, 195—205,
207,210—217,223,224,228,413,
735
Констан Б. 463
Конт О. 286
Коперник Н. 100, 105, 106, 113, 115,
126—128, 130, 131, 133,420,734
Кордерий 346
Корен, фон 360
Корзай 745
КоркияВ. 160
Коронида 77
Косарева Л. М. 64, 67, 111, 134, 137—
144, 146, 148
Косидовский 3. 40
Косик К. 690
Косиков К. Г. 543
Краус Ф. 282, 408
Кристеллер О. 117
Ксенократ 699
КудроваИ.371,372
Кун Т. 63
Кунрат Г. 73, 83
Кушкин Е. П. 452
КьеркегорС. 10, 88, 91, 148, 241, 309,
341,356,362—364,368,373,377,
380—384,386,389,392,396,421,
434, 455, 456, 458, 459, 464, 583,
601, 636, 640, 651, 706, 761, 770,
776
Кювье Ж. 243, 285, 635
Лабрюйер Ж. де 311
Лавуазье А. Л. 98, 541
Лазарь 367
Лакан Ж. 536
Лактанций 77, 81
Ланге Ф. А. 639
Лаплас П. С. 79
Указатель имен
789
Ларошфуко Ф. де 311
Лауэр К. 370
Леви-Строс К. 536
ЛёвитК. 719
Левицкий С. А. 375
Левкипп 84
Лейбниц Г. В. 48,88, 89,91,96,132,133,
140,158,163,179,191,193,195—
197,204—212,215,217,220,223,
228, 364, 366, 412, 474, 648, 649,
655,711,712,726,735,736
Ленин (Ульянов) В. И. 368, 662
Ленобль P. (Lenoble R.) 70, 87, 96—98,
102, 104, 108, 193,216,470
Ленхен 710
Леонардо да Винчи АА—49,57,117,127,
319,354,781
Леонтьев К. Н. 290, 318, 356, 665, 763
ЛеопардиД. 112,334
Либавий А. 71, 72
Либер И. (Эраст Т.) 100, 103, 104, 109
Ликург 77
Линней К. 285, 635
ЛисеевИ. К. 10
Лихтенберже А. 272, 320
Лойола Игнасий св. 144, 183, 187
ЛоккДж. 96, 231
Лопе де Вега (Вега Карпьо Л. Ф.) 160
Лосев А. Ф.107, 252, 477, 592, 593, 597
Лосева И. Н. 51
Лосский В. Н. 32, 88
Лосский Н. О. 345, 347, 352, 355
Лотман Ю. М. 749
Лузин H. Н. 357
Лукач Д. (Lukacs G.) 334
Лукреций 11, 54, 112, 113, 125, 126
ЛуллийР. 113, 116, 128
Луцилий 23, 26, 34
Льюис К. 105,365
Людовик XIII 154
Людовик XIV 526, 710
ЛюллиЖ.-Б. 155
Лютер М. 88,191,271,368,384,385,405,
684
Люцифер 183
Магеллан Ф. 44
МайерМ. 188, 196
Майкельсон А. А. 134
Макгуайр Дж. Э. (McGuire J. Е.) 65, 66,
67
Макиавелли Н. 334
Максвелл Дж. К. 536, 551
Максимилиан Баварский, герцог 179
Малкей М. 520
Малларме С. 492
МальбраншН. 158, 191,231
Мамардашвили М. К. 10, 160, 163, 175,
465—469, 473—485, 488—496,
500—515,781
Мандзолли П. А. (Палингений) 113,123,
126, 127
Манн Г. 334
Манн Т. 229,241,269,271,274,309,317,
325
МаресийС. 215, 216
Марий Викторин 17
Марион Ж. Л. 703
Марк Аврелий, император 16—18, 23,
34,35
Маркес Гарсиа 534
Маркова Л. А. ПО
Маркс К. 140, 148, 174, 202, 230, 244,
261, 281, 287, 290, 293, 297, 298,
301,305,311,319, 327,329—334,
336, 365, 366, 457, 470, 534, 555,
556, 570, 572, 573, 575, 589, 602,
603, 611—613, 619, 635—640,
645,654,710,758
Маркус С. 542
Марсель Г. 10, 26, 386, 407, 408, 411,
413—425, 427—439, 441—445,
617, 653, 690, 693, 702, 728, 733,
734, 736—738, 741, 745, 761—
780, 782
Мартин св. 185, 186, 187
Марциан Капелла 204
Маяковский В. В. 308, 680
790
Указатель имен
Мейерсон Э. 560
Мель Э. (Mehl Е.) 182, 183
Мережковский Д. С. 390
Мерсенн М. 74—77, 87, 91, 96—99,
102—105, 107, 108, ПО, 119, 150,
152, 153, 192, 193, 198,205,212,
214,216,470,652
Мерсо240, 241
Мертон Р. 85, 93, ПО
Местр Жозеф де 319
Метаксопулос Е. А. 60
Метнер Э. К. 247, 254
Миеле М. 114
Микеланджело Б. 678
Микушевич В. 639
Миллер 540
Минковский Г. 584
Михайлов Ал. В. 10, 307, 375, 643, 645
Михайлов Ф. Т. 564, 672
Михель Д. 544
Мнемозина 112, 121, 122, 496
Моисей 64, 72, 73, 75, 102, 117, 118, 130
Монтень М. 168, 169, 172, 534
Монтинари М. 334
Мор Г. 72, 205
Мор Т. 537
Морденте Ф. 116
Мориц Нассауский, граф 149
МорлиЭ. 135
Морозов Павлик 368
Морозова М. К. 399—403
Моруа А. 47
Мосс М. 84
Мотрошилова Н. В. 10
Моцарт В. А. 442, 598
МоченигоДж. 116, 120
Набоков В. В. 684
Наполеон 323, 662
Невежина В. М. 164
Немезий Эмесский 13
Николай Кузанский, кардинал 54, 81,
113, 123—127, 129, 130, 140,204,
629
НифоА. 100
Ницше Ф. 10, 22—24, 46, 145, 162, 173,
175, 176, 181, 225, 229, 230, 240,
241, 243—278, 281—341, 356,
359—365, 368, 370, 372, 373, 376,
384, 392—395, 398, 404, 406,
455—458, 460—462, 467, 516,
533—535, 537, 539, 541, 543—
550, 554—556, 567, 568, 570—
575, 586, 589—602, 604—626,
628, 629,631, 632, 635—641, 646,
651, 670, 692, 717, 727, 750, 757,
776,781,782
Новиков Н. И. 69
Новоселов M. М. 398
Ной 36, 37
Нордау М. 285, 360
Ньютон И. 47, 64, 66, 92, 95, 137, 143,
181, 220, 224, 408, 412, 650, 712
ОбенП. 14, 15
Овидий 372
Овчинников Н. Ф. 412
Огурцов А. П. 653
Одетта 498
Оккам У. 89
Ольсен Регина 91
Ольшки Л. 117
Орем Н. 89
Ориген 14, 705
Ортега-и-Гассет X. 222, 396
Орфей 73, 74, 118, 130
Ослер M. (Osier M.) 103
Отт Луиза 335
Павел I 749
Павел, апостол 323, 360, 703
Пан 122
Панлю 271
Пантен И. 132
Панченко А. М. 355
Парацельс 71, 79, 94, 95, 103, 104, 109,
192
Парменид 38, 125, 370, 551
Указатель имей
791
Паррен Б. 461
Паршин А. Н. 279
Паскаль Б. 157, 158, 161, 162, 175, 176,
265, 271, 359, 364, 366, 421, 440,
458,459,511,534,651
Пастернак Б. Л. 106, 310, 342, 355, 674,
675, 739
Патерсон А. 59
Паткош Э. 362
Патрици Ф. 53, 55, 65, 100
Паули В. 193,221,414,440,739
Пётр Дамиани св. 91, 367, 706
Пётр Ломбардский 15
Пётр, апостол 384,
ПийУ 114
Пиклен Н. 229
Пико делла Мирандола Дж. 74, 81, 100,
103,215
Писарев Д. И. 662
Пифагор 17,73,74,84,118,125,130,144,
155, 180, 188, 189,717
Платон 29, 33, 38, 45, 54, 55, 58, 73, 75,
89,90,98, 118, 125, 137, 145, 147,
155, 193,293,310,312,313,315,
338, 343, 364—366, 388,410,415,
422, 424, 431, 441, 444, 468, 511,
541, 551, 552, 594, 600, 619, 651,
660,689—691,696,698, 699,705,
717,721,725,731
Плиний 81
Плотин 13, 14, 17, 25, 32, 42, 144, 700,
702
Плутарх 16, 103
Погоняйло А. Г. 146
Подорога В. А. 173, 571, 606, 607
Полонская И. Н. 763
Помпонацци П. 100—103,105, 107, 108,
109
Попова Н. Т. 654, 655
ПопперК. 51,397,405, 597
Пордейдж Дж. 345
Порта Дж. Делла 123
Порфирий 17,42, 144
Пракситель 685
Преображенский В. В. 231, 232
Прокл 27
Прометей 336
Пруст М. 160, 440, 485, 489, 494—511,
514
Псевдо-Дионисий Ареопагит 14,15,123
Пузырей А. 541
Пушкин А. С. 372, 598, 668
Рабинович В. Л. 64, 65
Рабле Ф. 108, 136, 169, 662, 684
РамусП. 120
Рассел Б. 245, 714
Рафаэль Санти 689
Ребиба, кардинал 114
Реди691
Рей А. 84
Рей Ж.98
Ре.йсбрук Удивительный 71
РейхлинИ. 100
Ренар Ж. 459
Рехенберг Г. 408
Ржевская Н. 452
Рикёр П. 10,327, 555,570, 573,619,632,
635, 702, 766, 779
Риккерт Г. 230, 292, 622
РильА. 117
Рильке Р. М. 23, 442
Ришелье, кардинал 154
Рожанский И. Д. 608
Рожицын В. С. 132
Розанов В. В. 307, 356, 389, 390, 399—
401,403—406,708
Розенкрейц Христиан 83, 187, 188
РозенцвейгФ. 13
Роллан Р. 24
Рольф В. 292
Рормозер Г. 225
Рорти Р. 757
Россе К. 229, 230
РоссиП. 51, 117
Рудольф II, император 68, 116
Румянцеве К. 10
Руссо Ж.-Ж. 23, 230, 284, 289, 359
792
Указатель имен
Руткевич А. М. 452, 456
РыклинМ. К. 543, 571,606
Рэ П. 550
Страда В. 64
Странден Д. 78, 183
Сузо Г. 14
Сад де, маркиз 536
Сальери А. 598
Сантильяна Ж. де (Santillana G. de) 132
Сартр Ж.-П. 176,225,340,386,387,446,
448,449,451—454,458,459,468,
549,690,763,766,781
Саулин 121
Сафо (Сапфо) 678
Сатурн 122
Сван 496, 497, 498
Свасьян К. А. 255, 307, 605, 612, 613
Сегон А.-Ф. (Segonds A.-Ph.) 114
Сезанн П. 23
Селигмен А. 10
Сельвинский И. Л. 676
Семенова С. Г. 452
Сенека Л. А. 20, 23, 26, 34, 35, 698
Сепир Э. 492
Сергеенко M. Е. 31, 353
Сизиф 34, 229, 738
Сильвестров В. В. 589
Сирано де Бержерак С. 57, 108
Скотт У. 72
Сноу Ч. 253
Сократ 16, 17, 248, 280, 281, 290, 333,
338,601,616,660
Соловьев В. С. 73, 162, 163, 174, 278,
344, 358, 364, 366, 392, 396, 405
Соловьев Э. Ю. 492
Соломон 110,200,201
Сорокин Питирим А. 575
София 349, 352, 722
Спампанато В. 114
Спенсер Г. 405
Спиноза Б. 107, 132, 191, 310, 364, 366,
737, 777
Сретенский H. Н. 163
Стендаль Ф. 452, 500, 504, 506, 640
СтепинВ. С. 10,666
Столяров А. А. 31
Табачникова С. В. 534, 538, 539, 541
Тавризян Г. М. 417, 762, 763, 765
Танпье Э. (Tempier), епископ 88, 368
Тансилло Л. 112
Тассо Т. 267
Таулер И. 14, 71
Тейяр де Шарден П. 24, 25
ТелезиоБ. 100
Темкина А. 755
Теофил 123
Тереза Авильская, св. 24
Тертуллиан 33, 88, 367
Тимей 89, 98, 366, 422, 431, 551, 552
Тиндарей 77
Тищенко П. Д. 606, 656
Тойнби А. Дж. 140, 640, 642, 694, 695
ТоландДж. 132
Толстая С. А. 344
Толстой Л. Н. 310, 318, 324, 358, 360,
366, 371, 372, 379, 380, 405, 593,
684, 685, 727
Толстых В. И. 666
Томпсон Ф. 23
Торо Г. Д. 23
Торричелли Э. 157
Тригано Ш. 13
Тристан 272
Трубецкой Е. Н. 397,399,401—403, 602
Трубецкой Н. С. 752
Тургенев И. С. 280
Туровский М. Б. 588—591,634,642,672
Тютчев Ф. И. 106, 355, 402, 706
Уитмен У 602
Уолкер Д. 75
Уорф Б. Л. 492
Уэбстер Ч. (Webster Ch.) 76, 82, 86, 103,
110
Уэстмен Р. С. (Westman R. S.) 65, 67, 82
Указатель имен
793
Файхингер Г. 256
Фалес 300
Фарадей М. 346
Фаустус (Фауст) 639, 780
Фаэтон 155, 156
Февр Л. 660
Федье Ф. 702
Фейербах Л. 262, 286, 319, 327, 330, 365
Фейнман Р. 357
Феодор, епископ (Поздеевский) 398
Фестюжьер А.-Ж. 12, 53
Фет А. А. 232
Фидий 685
Филипп Нери св. 644
Филон Александрийский 705
Фихте И. Г. 366, 377, 715
Фичино М. 74, 75, 80, 81, 100, 103, 115,
124, 127
Фишер К. 229, 232, 237, 238, 271
Флоренский П. А. 40, 107, 342—357,
398,401,477,487,593,781
Флоровский Г. В. 69, 71
Флудд P. (Fludd) 53, 65, 70—77, 79, 81,
83,98,105,119,188,192,193,196,
204,212,652
Фокин С. Л. 452,453,455,458,459,461,
462
Фолкнер У. 458
Фома, апостол 366, 685, 740, 741
Фома Аквинский св. 15, 88, 91,705, 779
Фома Кемпийский 71
Фондан Б. 366, 370, 380
ФонтенельБ. 122, 155, 156, 568
Форментелли Ж. 373
Фортуна 240
Фотиаде Р. 369, 370
ФранкС. Л. 616, 617
Франк Себастьян 720, 741
Франс А. 603
Фрезер Дж. Дж. 84
Фрейд 3. 10,230,244,287,327,365,488,
555, 556, 570, 589, 607, 612, 613,
619, 635
Фридрих V, курфюрст пфальцекий 68,
70
Фуа де Кандаль Ф. 65
ФукоМ. 15—18, 20—22, 29, 144, 146,
161, 166, 169—174,213,229,257,
335,442,492, 516—556,558,559,
562—567, 569, 571,573, 599, 600,
602, 604, 606, 610, 611, 630—632,
636, 643, 654, 670, 692, 699, 706,
707, 717, 748—750, 752—757,
781,782
Фукуяма Ф. 570
Хабермас Ю. 172
Хайдеггер М. 26,261,281,282,284,303,
365, 370, 386, 387, 392, 427, 428,
431, 433, 442, 453, 467, 492, 548,
556, 651, 670, 687, 702—704, 708,
719,726,763,771,777
Хаос 41
ХейзингаЙ. 217, 218, 219
Хёсле В. 594
Хлебников Велимир 45, 442, 492
Хойкас P. (Hooykaas) 86
ХоркхаймерМ. 173, 174
ХоружийС. С. 13, 18
Хренников Т. Н. 643
Христина, королева Швеции 154
Хуан де ля Крус 24
ХюбнерК. 212
Цветаева М. И. 317, 371, 372, 494, 678
Чаадаев П. Я. 319, 342, 356
Чехов А. П. 360, 365
Шанду 644
Шарль-Саже А. 12
Швырев В. С. 492
Шевалле К. 408
ШекспирУ 119,201,353,381
ШелерМ. 615, 616, 617, 761
Шеллинг Ф. В. Й. 132, 216, 232, 238,
364,366,433,693,717,761
794
Указатель имен
Шеманов А. Ю. 656
Шеню Ж. 28, 765
Шеню М.-Д. 28
Шервашидзе В. В. 452
Шерли Т. 92
Шестов Л. И. 26, 28, 88, 91, 307, 317,
324, 359—386, 388—390, 392—
396, 421, 455, 456, 458, 464, 706,
735,761,781,782
Шичалин Ю. А. 12, 17, 27, 144
Шие У. P. (Shea) 84
Шиллер Ф. 407, 655, 693
Шнитке А. Г. 643
Шопенгауэр А. 225, 229—246, 248, 249,
251—253, 255, 260, 262, 264—
266, 271, 273, 274, 284, 285, 287,
294,310,313,321,323,331,359,
360,397,601,639,781
Шлегель Ф. 230
Шпенглер О. 692, 780
Шрейдер Ю. А. 426
Штейнер Р. 73, 79, 324, 399
ШтирнерМ. 282, 319, 645
Штраус Д. Ф. 225, 246, 268, 290
Щлецер Б. Ф. (Schloêzer Boris de)
ЭбботДж. 115
Эвальд Ф. 540
Эддингтон А. 136
Эдигхоффер P (Edighoffer R.) 188, 189,
197
Эдисон Т. А. 559
Эйнштейн А. 51, 136, 437, 444
Эко У. 493
Экхарт (Мейстер) И. 14, 271
Эмпедокл 235, 739
Энгельс Ф. 288, 297, 331, 470, 637, 638
Энгр Ж. 697
Эпельбуэн А. Э. 465
Эпиктет 22, 36, 754
Эпикур 16, 33, 91, 125, 147, 239, 432
Эразм Роттердамский 114
Эрибон Д. (Eribon D.) 537, 539
ЭрриоЭ. 717
ЭуригенаИ. С. 15,685
Эрн В. Ф. 397—399, 402
Эрот (Эрос) 496, 507, 577
Эсхил 250
Юбер А. 84
Юлий, герцог Брауншвейгский 116
Юнг К. Г. 79
Юнона 33
Юпитер 131,734
Юркевич П. Д. 40
ЮтенС. (HutenS.)187
Яки С. ПО, 137, 143
Якоби Ф. М. 280
Яков I 68
Яковенко Б. В. 388
Ямвлих 27, 30
Ярославский Е. 662, 710
Ясперс К. 320, 386, 392, 597, 636, 653,
725,763,771
Antognazza M. R.204
Backès J. -L. 562
BlekastadM. 199
BougardM. 118
Bridoux A. 470
Cassidy David C. 440
CluleeN. H. 188
Cohen I. B. 62
Delorme M. D. 67
Dvorak 198, 199
Firpo L. 114
Friedmann G. 191
Fritz Kurt von 69
FundaO.A. 198
Goldstein J. 18
HauserH. 190
Hyppolite J. 546, 607
Jones R. 83
Kearney H. F. 92, 93, 100, 103, 107, 109
Kremer-Marietti A. 519, 520, 522, 525
Lafuma L. 162
Указатель имен
795
LâsecJ. В. 198, 199
McDowald D. 666
Meyer R.W. 204, 205
Michel P.-H. 128
Miller R. 105
Minson J. 605, 609
NatoliS. 169,604
Nock A. D. 52
RenaudetA. 190
Simon J. 184,471
Виктор Павлович Визгип
НА ПУТИ К ДРУГОМУ
От школы подозрения к философии доверия
Издатель А. Кошелев
Оригинал-макет изготовила Л. Кисличенко
Корректор А. Рыко
Оформление переплета Н. Прокуратовой и С. Жигалкина
Художник-консультант Л. М. Панфилова
Подписано в печать 13.10.2003. Формат 70 х 1007|6.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Times.
Усл. печ. л. 64,5. Заказ № 3357.
Издательство «Языки славянской культуры».
ЛР№ 02745 от 04.10.2000.
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. M 153).
E-mail: Lrc-kozlov@mtu-net.ru
Каталог в ИНТЕРНЕТ http:// www.lrc-press.ru
http://www.lrc-mik.narod.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов на ФГУП ордена «Знак Почета»
Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.
Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)
Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ
В. Айрапетян. Русские толкования. 208 с. 2000.
В. Айрапетян. Толкуя слово: Опыт герменевтики по-русски. 496 с. 2001.
В. М. Алпатов. История лингвистических учений. 368 с. 2001.
В. С. Баевский. История русской литературы XX века: Компендиум. 448 с. 2003.
M. М. Бахтин. Собрание сочинений.
Т. 1.912 с. 2003.
Т. 6. 800 с. 2002.
Г. В. Бондаренко. Мифология пространства Древней Ирландии 416 с. 2003.
A. В. Бондарко. Теория значения в системе функциональной грамматики: На
материале русского языка. 736 с. 2002.
Е. А. Боратынский. Полное собрание сочинений и писем: В 4 т.
Т. 1. Стихотворения 1818-1822 годов. 512 с. 2002.
Т. 2. Стихотворения 1823-1834 годов. 440 с. 2002.
B. В. Вейдле. Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории иску сства. 456 с.
2002.
M. М. Гиршман. Литературное произведение: Теория художественной целост-
ности. 528 с. 2002.
C. А. Григорьева, Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин. Словарь языка русских жес-
тов. 256с. 2001.
Г. А. Гуковский. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. 352 с.
2001.
A. С. Демин. Древнерусская литература: Опыт типологии с XI по середину XVIII в.
от Илариона до Ломоносова. 760 с. 2003.
H. Н. Дурново. Избранные работы по истории русского языка 816 с. 2000.
Евразийское пространство: Звук. Слово. Образ: Сб. статей. 584 с. 2003.
Б. Ф. Егоров. От Хомякова до Лотмана 368 с. 2003.
B. М. Живов. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры.
760 с. 2002.
A. К. Жолковский. Зощенко: Поэтика недоверия. 392 с. 1999.
B. А. Жуковский. Полное собрание сочинений: [В 20 т.]
Т. I. Стихотворения 1797-1814 годов. 760 с. 1999.
Т. И. Стихотворения 1815-1852 годов. 840 с. 2000.
А. А. Зализняк. «Русское именное словоизменение»: С прил. Избр. работ по со-
временному русскому языку и общему языкознанию. 2002. - I—VIII, 752 с.
2002.
А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 720 с. 1995.
Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев. Введение в русскую аспектологию. 226 с. 2000.
Вяч. Be. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1-П-.
Т. I. 912 с. 1998.
Т. II. 880 с. 2000.
С. А. Иванов. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» миссио-
нера? 376 с. 2003.
Д. П. Ивинский. Пушкин и Мицкевич: История литературных отношений. 432 с.
2003
Из истории русской культуры.
Т. I. Древняя Русь. 760 с. 2000.
Т. И. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. 944 с. 2002.
Т. III. XVII век. 768 с. 1995.
Т. IV. XVIII - начало XIX века. 832 с. 1996.
Т. V. XIX век. 848 с. 1996.
A. В. Исаченко. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с сло-
вацким: Морфология. 880 с. 2003.
B. В. Калугин. «Житие святителя Николая Мирликийского» в агиографическом
своде Андрея Курбского. 240 с. 2003.
C. Д. Кацнельсон. Категории языка и мышления: Из научного наследия. 864 с.
2001.
А. Б. Куделин. Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимо-
связи. 512 с. 2003.
Дж. Лайонз. Лингвистическая семантика: Введение. 400 с. 2003.
П. Е. Лукин. Письмена и православие. 376 с. 2001.
Н. А. Любимов. Неувядаемый цвет: Книга воспоминаний: [В 3 т.]
Т. 1.416 с. 2000.
К. А. Максимович. Пандекты Никона Черногорца. 296 с. 1998.
А. В. Михайлов. Обратный перевод. 856 с. 2000.
А. В. Михайлов. Языки культур. 912 с. 1997.
Мир Велимира Хлебникова. 880 с. 2000.
А. В. Назаренко. Древняя Русь на международных путях. 784 с. 2001.
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под рук. акад.
Ю. Д. Апресяна.
Вып. 1.552 с. 1997.
Выл 2. 488 с. 2000.
Вып. 3.624 с. 2003.
М. Озуф. Революционный праздник: 1789—1799. 416 с. 2003.
Ю. Г. Оксман - К. И. Чуковский. Переписка. 1949-1969 / Предисл. и коммент.
А. Л. Гришунина. 192 с. 2001.
А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. 544 с. 2001.
Р. Пиккио. Древнерусская литература. 352 с. 2002.
Л. В. Пумпянский. Классическая традиция. 864 с. 2000.
А. С. Пушкин. История Петра. 392 с. 2000.
A. С. Пушкин. Тень Баркова. 496 с. 2002.
Р. Ратмайр. Прагматика извинения: Сравнительное исследование на материале
русского языка и русской культуры. 272 с. 2003.
Русский язык в научном освещении. № 1. 2001. (Языки славянской культуры:
ИРЯ РАН). *
Русский язык в научном освещении. № 2. 2001. (Языки славянской культуры:
ИРЯ РАН). "
Русский язык в научном освещении. № 1(3). 2QÛ2. (Языки славянской культуры:
ИРЯ РАН).
Русский язык в научном освещении. № 2(3). 2002. (Языки славянской культуры:
ИРЯ РАН).
Русский язык в научном освещении. № 1(5). 2003. (Языки славянской культуры:
ИРЯ РАН). '
Русский язык конца XX столетия (1985-1995): Сб. статей. 480 с. 2000.
B. В. Седов. Славяне: Историко-археологическое исследование. 624 с. 2002.
А. М. Селищев. Труды по русском}7 языку. Т. 1. Язык и общество. 632 с. 2003.
Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окр}-жени-
ем: Сб. статей. 560 с. 2002.
Словарь языка русской поэзии XX века.
Т. I: А-В. 896 с. 2001.
Т. II: Г—Ж. 800 с. 2003.
Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к 70-летию академика Ю. Д. Апресяна. 648 с. 2001.
A. В. Смирнов. Логика смысла. 504 с. 2001.
Дж. Смит. Взгляд извне: Статьи о русской поэзии и поэтике. 528 с. 2002.
И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. В 3 т.
Т. 1:776 с. 2003.
Т. 2: 920 с. 2003.
Т. 3: 1000 с. 2003.
Ж. Старобинский. Поэзия и знание: История литературы и культуры.
Т. I. 528 с. 2002.
Т.Н. 600с. 2002.
H. Н. Старыгина. Русский роман в ситуации философско-религиозной полеми-
ки 1860—1870-х годов. 354 с. 2003.
К. Тарановский. О поэзии и поэтике. 432 с. 2000.
B. 3. Тарантул. Геном человека: Энциклопедия, написанная четырьмя буквами.
392 с. 2003.
В. Н. Топоров. Из истории русской литературы. Т. II. Русская литература второй
половины XVIII века: Исследования, материалы, публикации. M. Н. Муравь-
ев: Введение в творческое наследие.
Кн. 1.912 с. 2001.
Кн. И. 928 с. 2003.
Я. Ульфельдт. Путешествие в Россию. 616 с. 2002.
Е. В. Урысон. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в се-
мантике. 224 с. 2003.
Б. А. Успенский. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. 128 с. 2000.
Б. А. Успенский. Семиотика искусства. 480 с. 1995.
Б. А. Успенский. Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших
титулов. 144 с. 2000.
Б. А. Успенский. Царь и патриарх: Харизма атасти в России. 680 с. 1998.
Ф. Б. Успенский. Имя и власть. 144 с. 2001.
Ф. Б. Успенский. Скандинавы. Варяги. Русь: Историко-филологические очерки.
456 с. 2002.
А. А. Формозов. Пушкин и древности: Записки археолога. 144 с. 2000.
Е. А. Хелимский. Компаративистика, уршшстика. 640 с. 2000.
М. О. Чудакова. Литература советского прошлого. Т. 1. 472 с. 2001.
А. Я. Шайкевич, В. М. Андрющенко, Н. А. Ребецкая. Статистический словарь
языка Достоевского. 880 с. 2003.
М. И. Шапир. UNIVERSUM VERSUS: ЯЗЬЖ-СТИХ-СМЫСЛ в русской поэзии
XVIII-XX веков. Кн. 1. 544 с. 2000.
A. Д. Шмелев. Русская языковая модель мира. 224 с. 2002.
Д. Н. Шмелев. Избранные труды по русскому языку. 888 с. 2002.
Е. Я. Шмелева, А. Д. Шмелев. Русский анекдот: Текст и речевой жанр. 144 с.
2002.
Дж. Т. Шоу. Конкорданс к стихам А. С. Пушкина
Т. 1.672 с. 2000.
Т. 2. 640 с. 2000.
Дж. Т. Шоу. Поэтика неожиданного у Пушкина. 456 с. 2002.
Е. М. Юхименко. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и ли-
тература.
Т. I. 544 с. 2002.
Т. И. 480 с. 2002.
Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Ю. С. Степанова: Сб. статей.
600 с. 2001.
Язык русского зарубежья: Общие процессы и речевые портреты. 496 с. 2001.
Языки свободного общества: Искусство: Сб. статей. 160 с. 2003.
B. Л. Янин. Новгородские посадники. 512 с. 2003.
Т. Е. Янко. Коммуникативные стратегии русской речи. 384 с. 2001.
Виктор Павлович Визгин родился
в 1940 году. Окончил химический
факультет Московского универси-
тета. Много лет работал в Институ-
те истории естествознания и тех-
ники РАН. Доктор философских
наук, ведущий научный сотрудник
Сектора философских проблем
истории науки. Переводил М. Фуко
и других французских историков и
философов. Автор книг («Генезис и
структура квалитативизма Ари-
стотеля». М., 1982; «Идея множе-
ственности миров: Очерки исто-
рии». М., 1988; «Эпистемология Га-
стона Башляра и история науки».
М., 1996; «Божьекоровские расска-
зы». М., 1993) и многих статей по
истории науки, философии и куль-
туры.