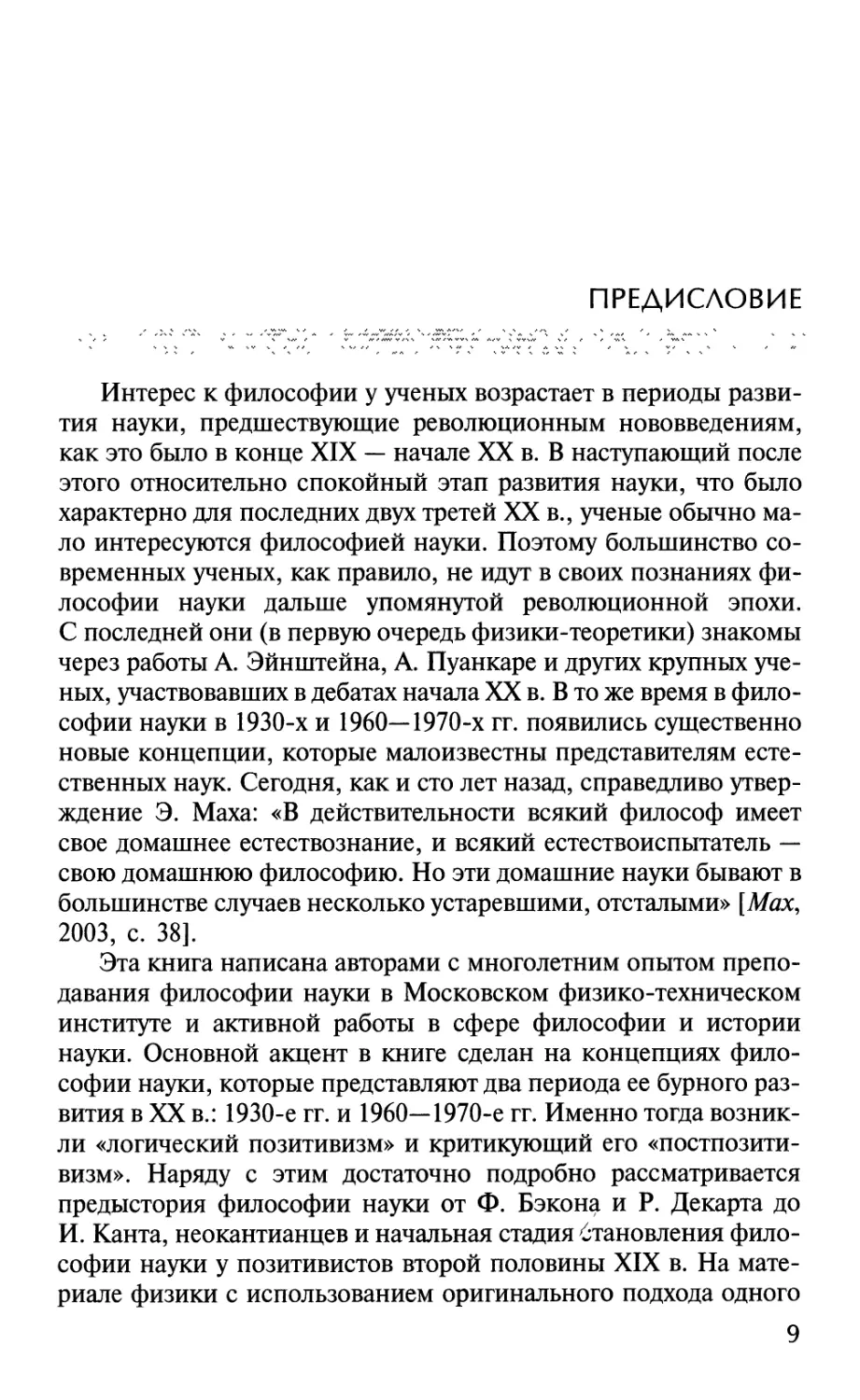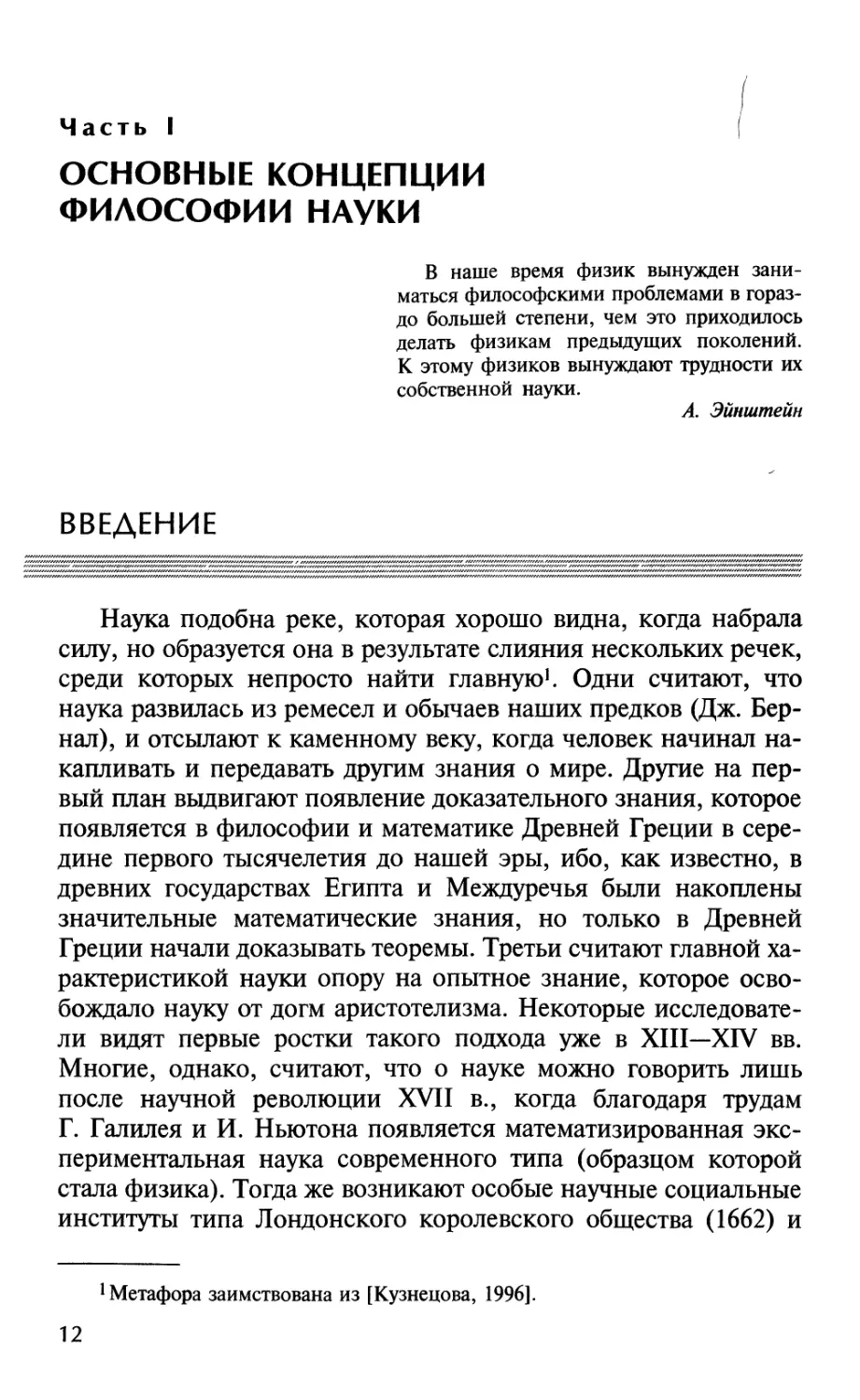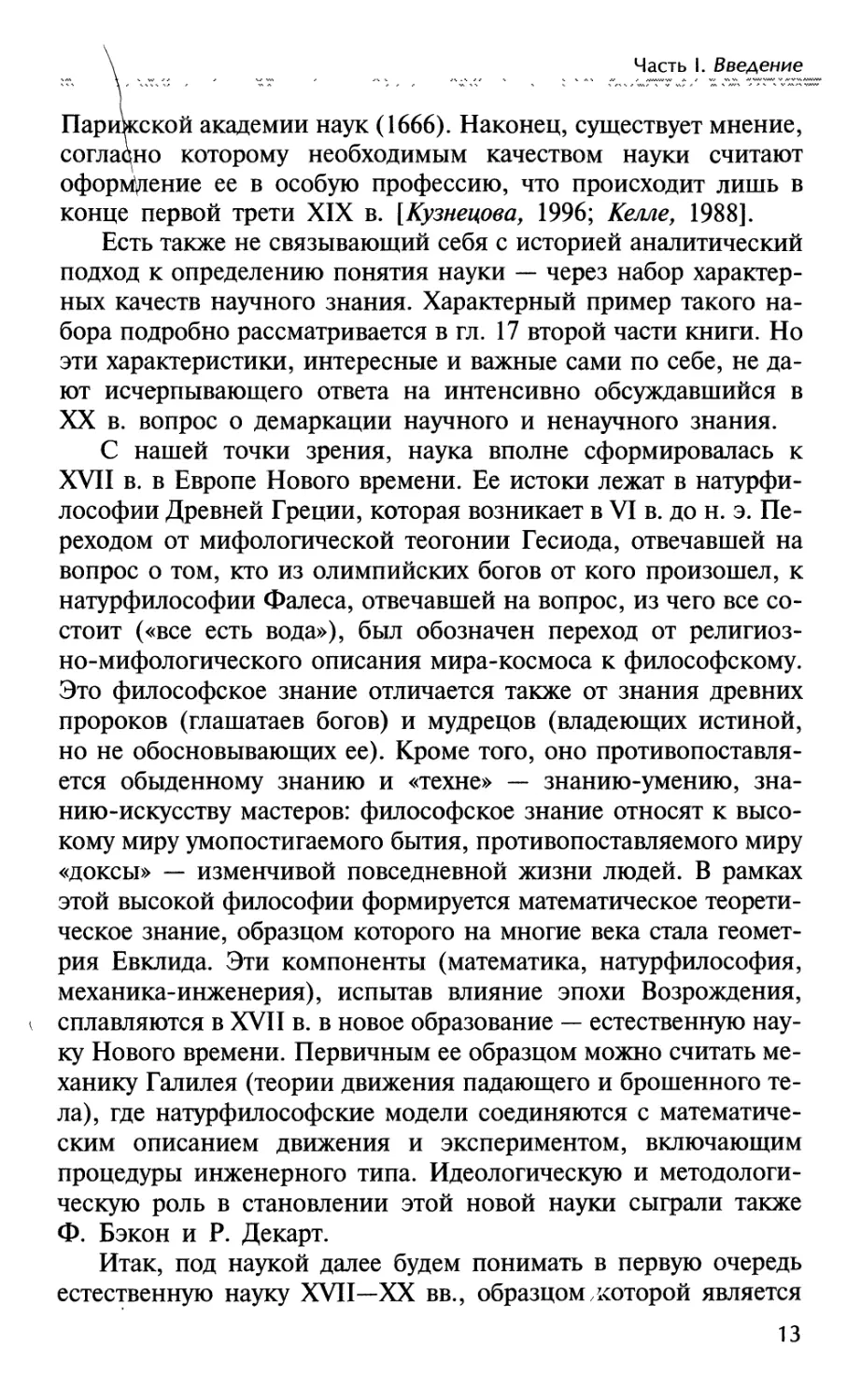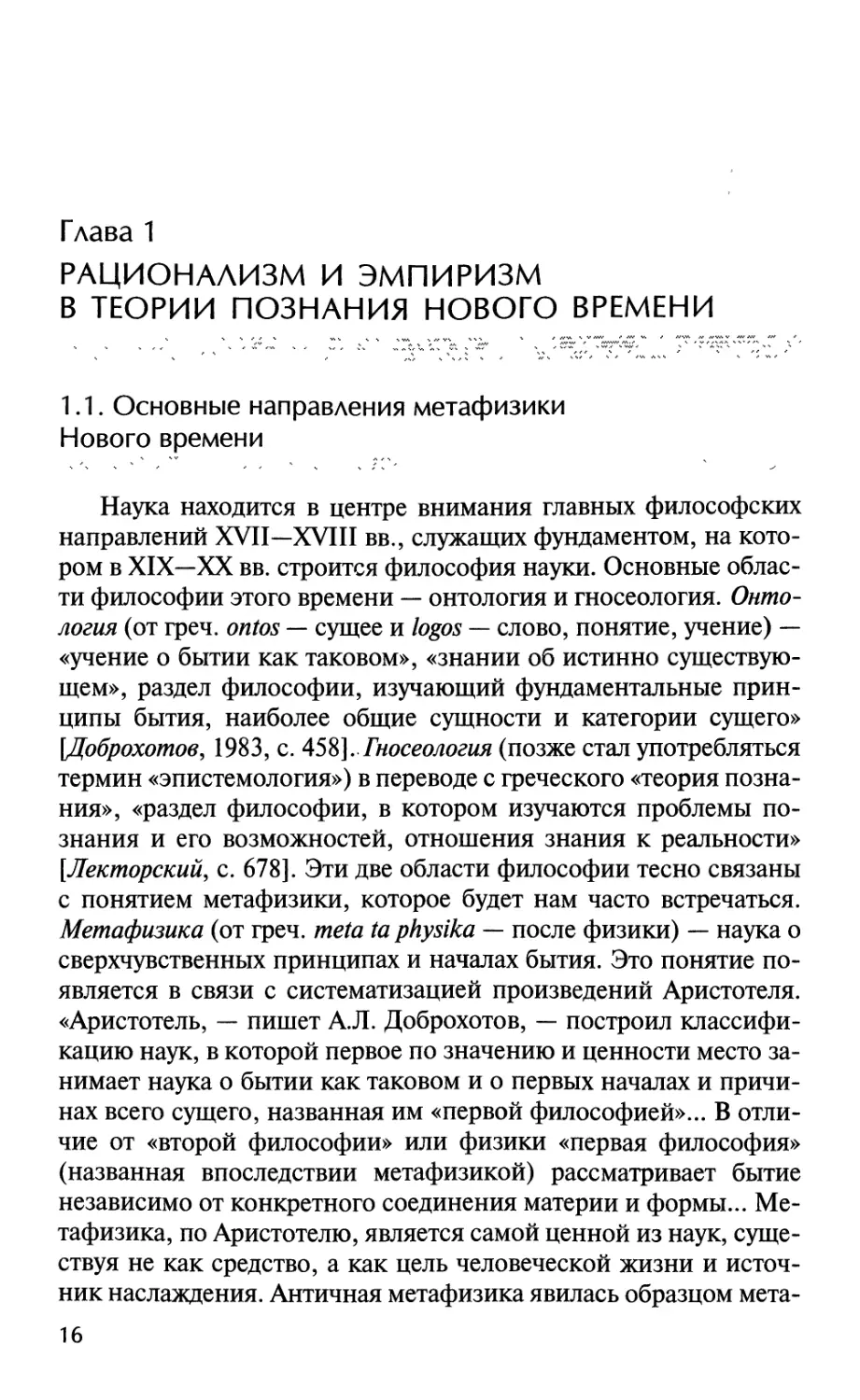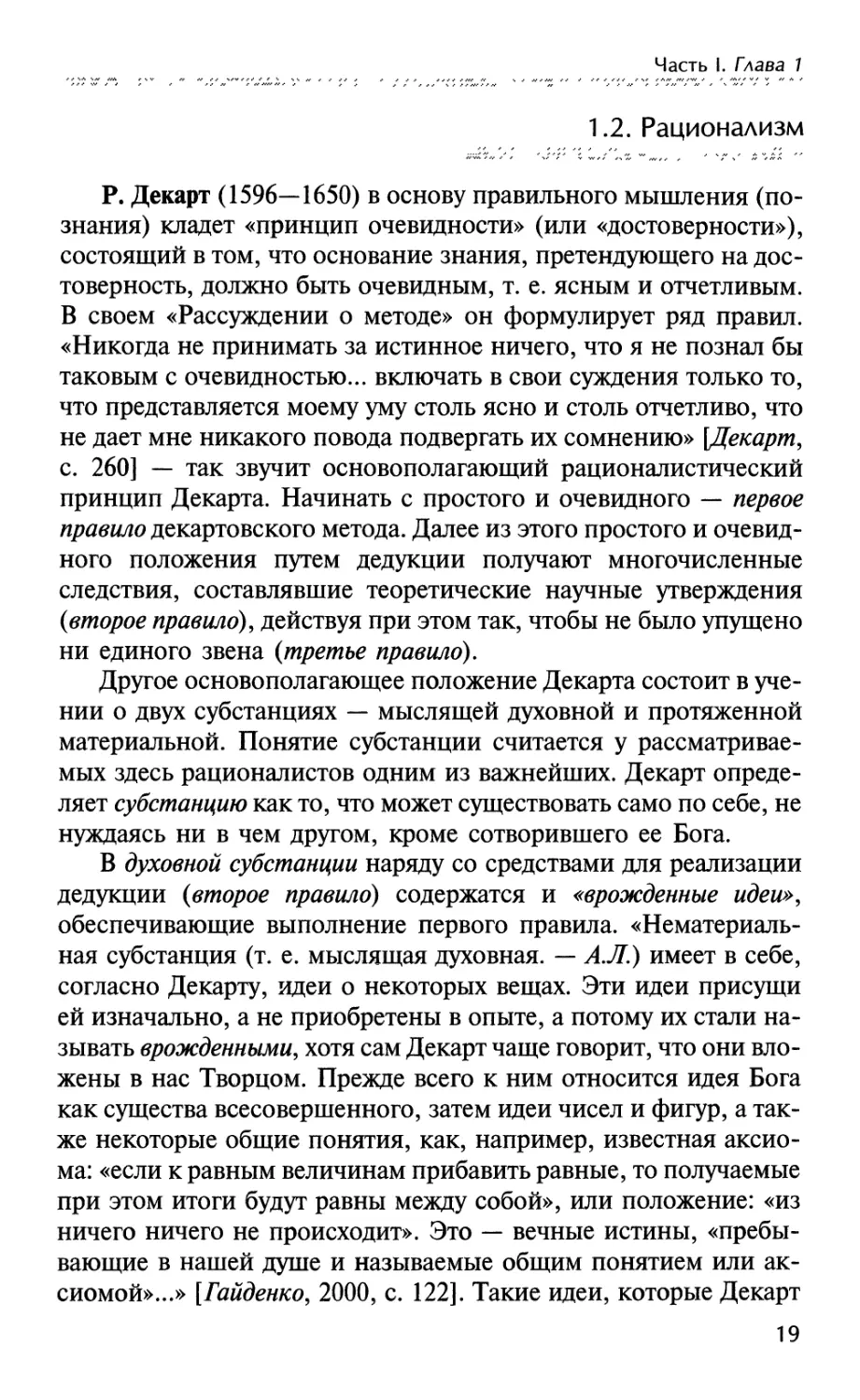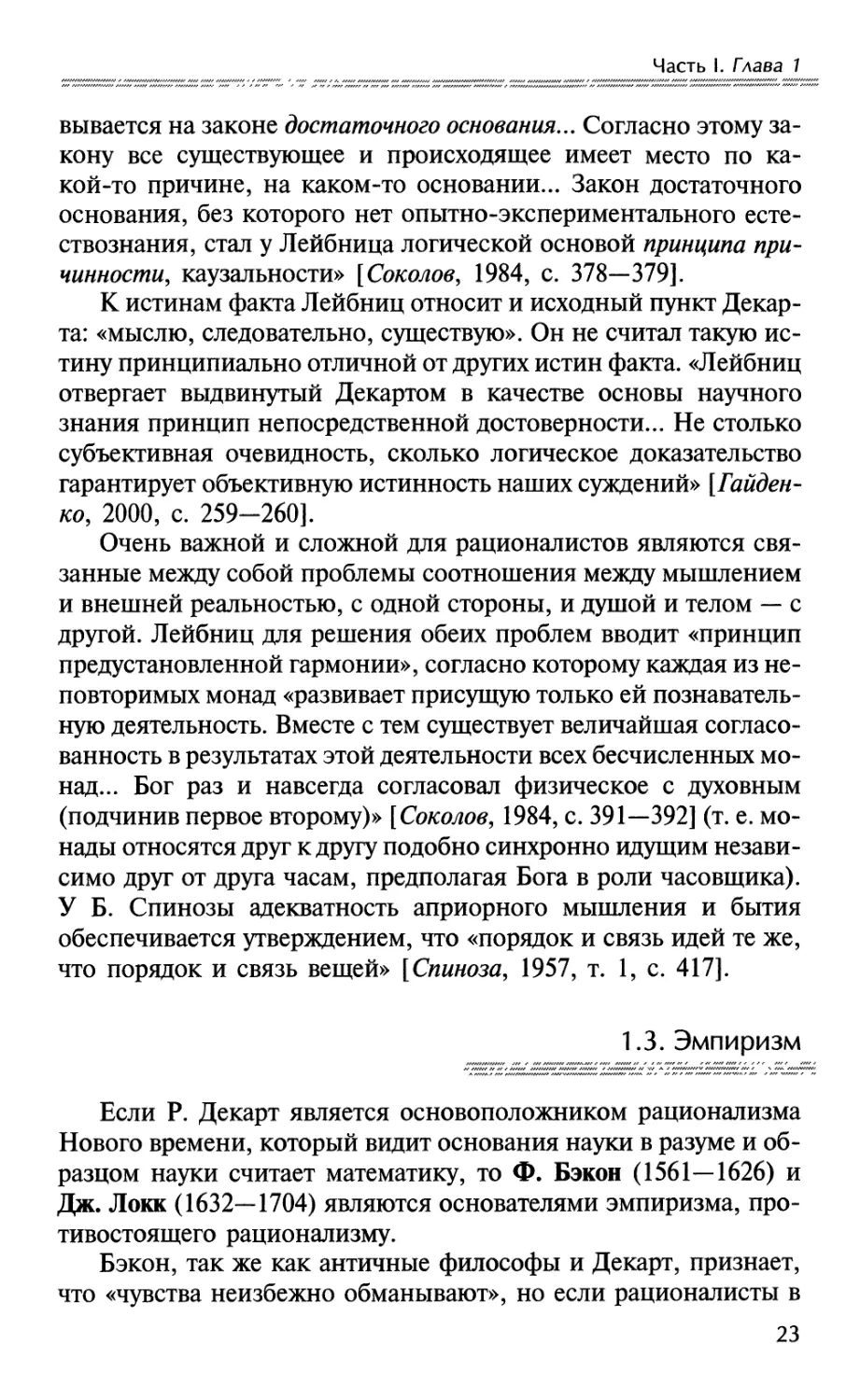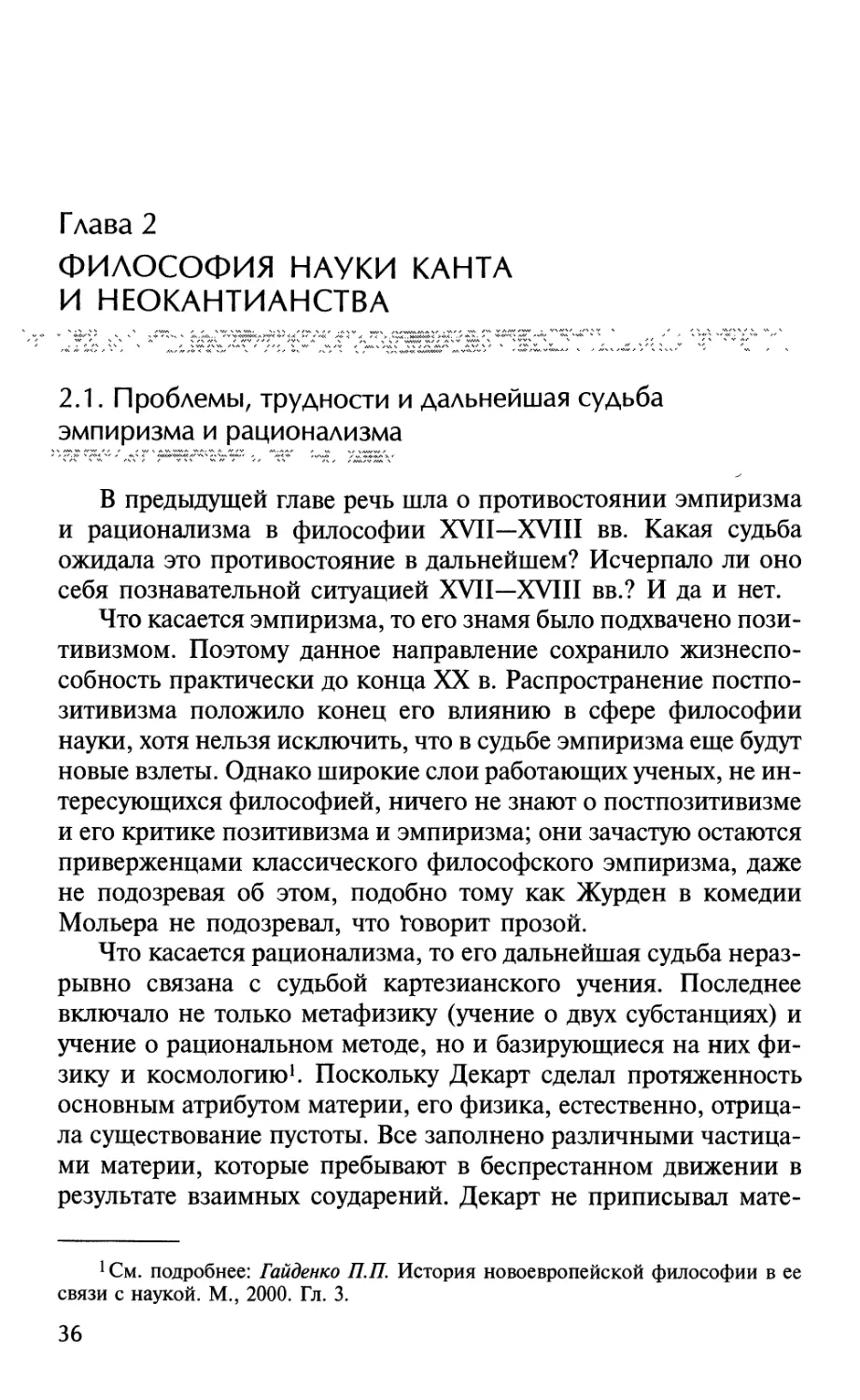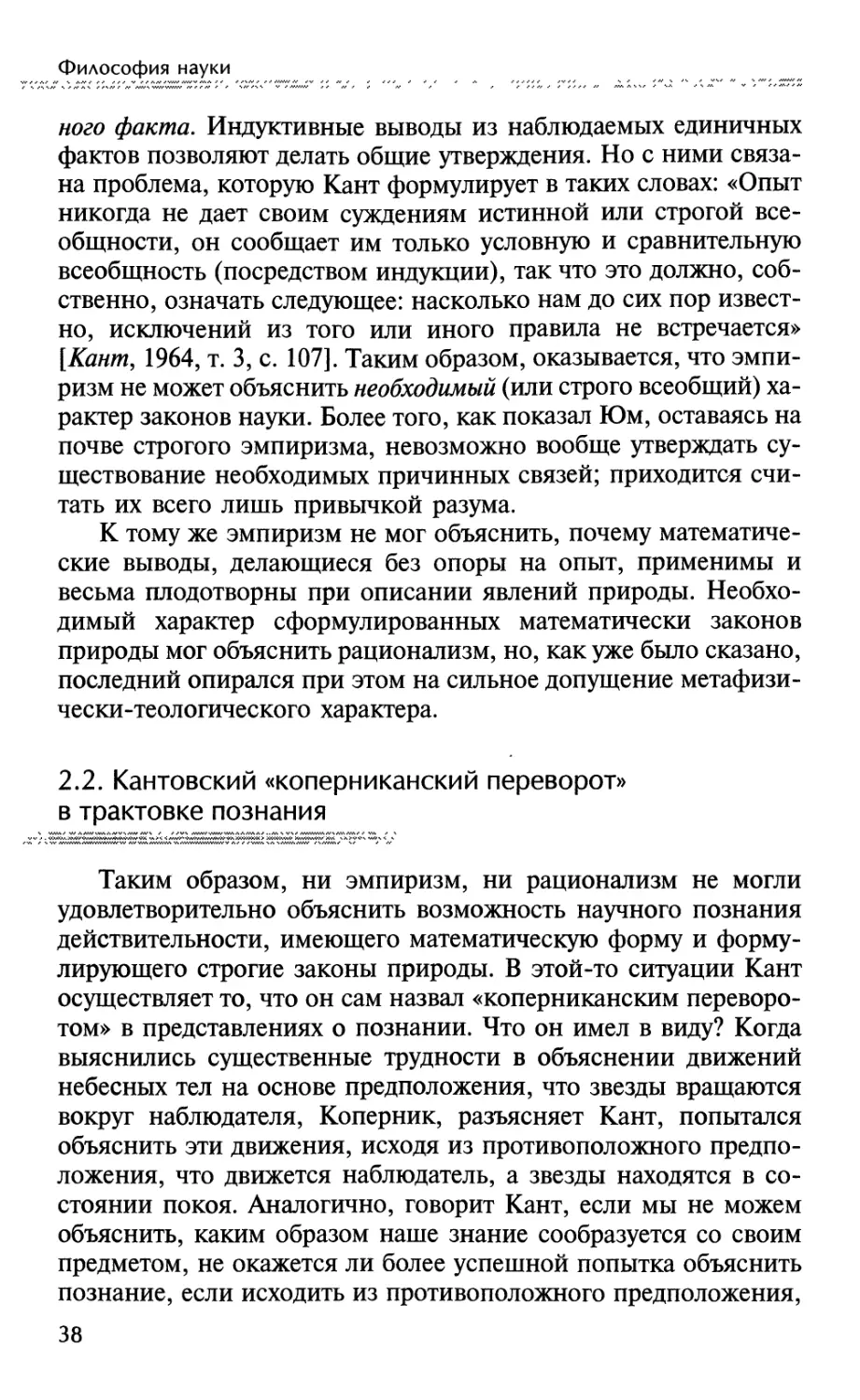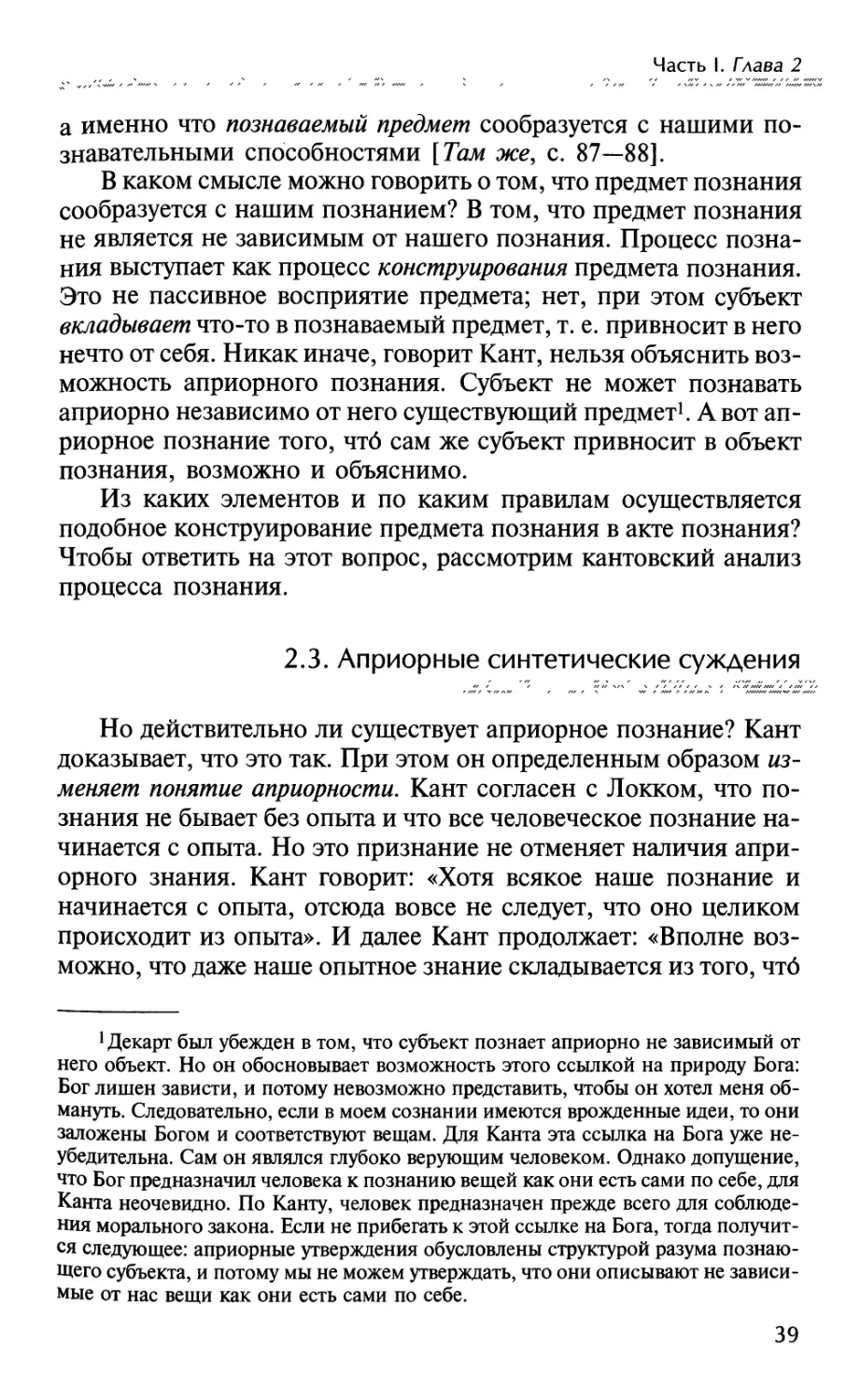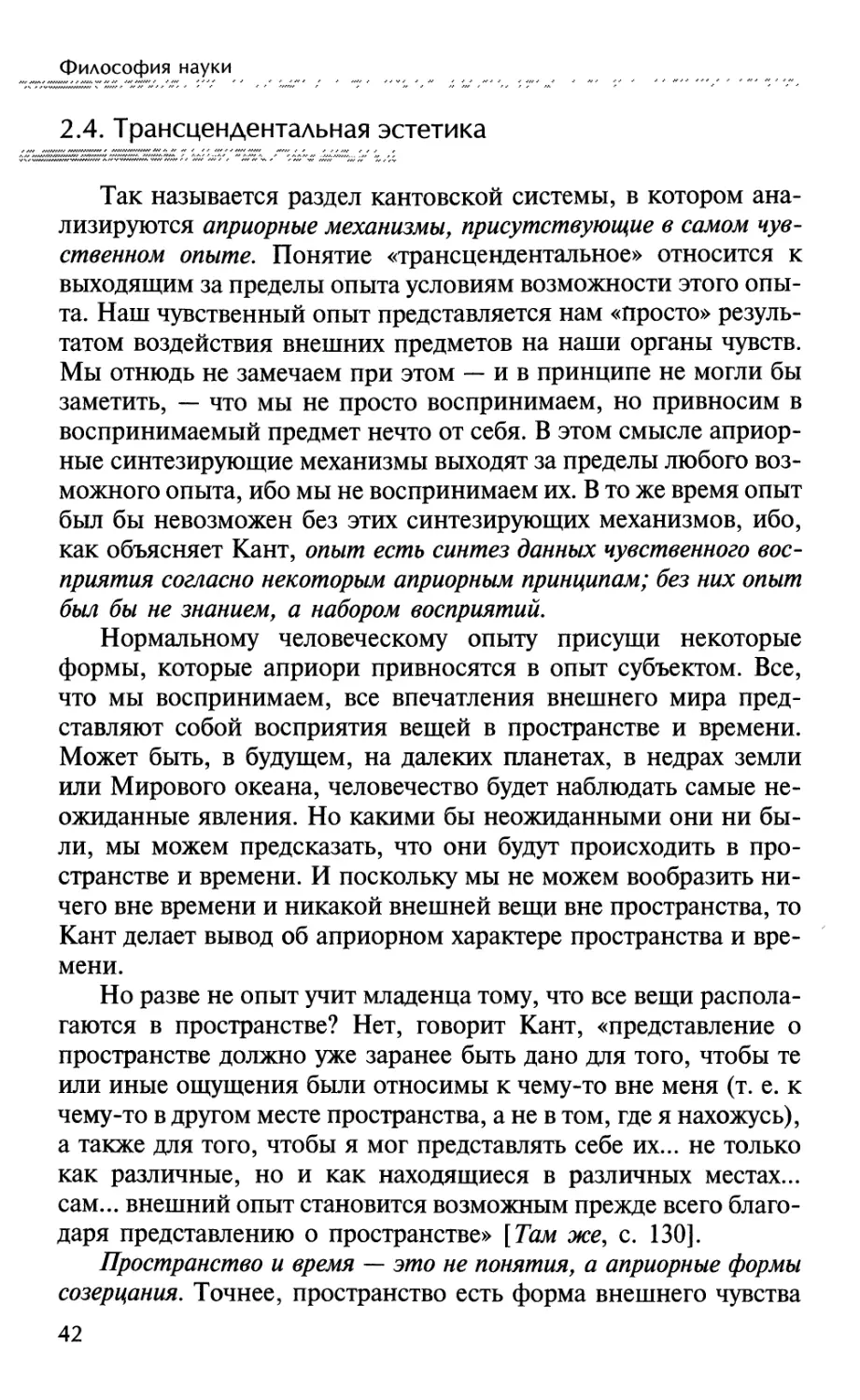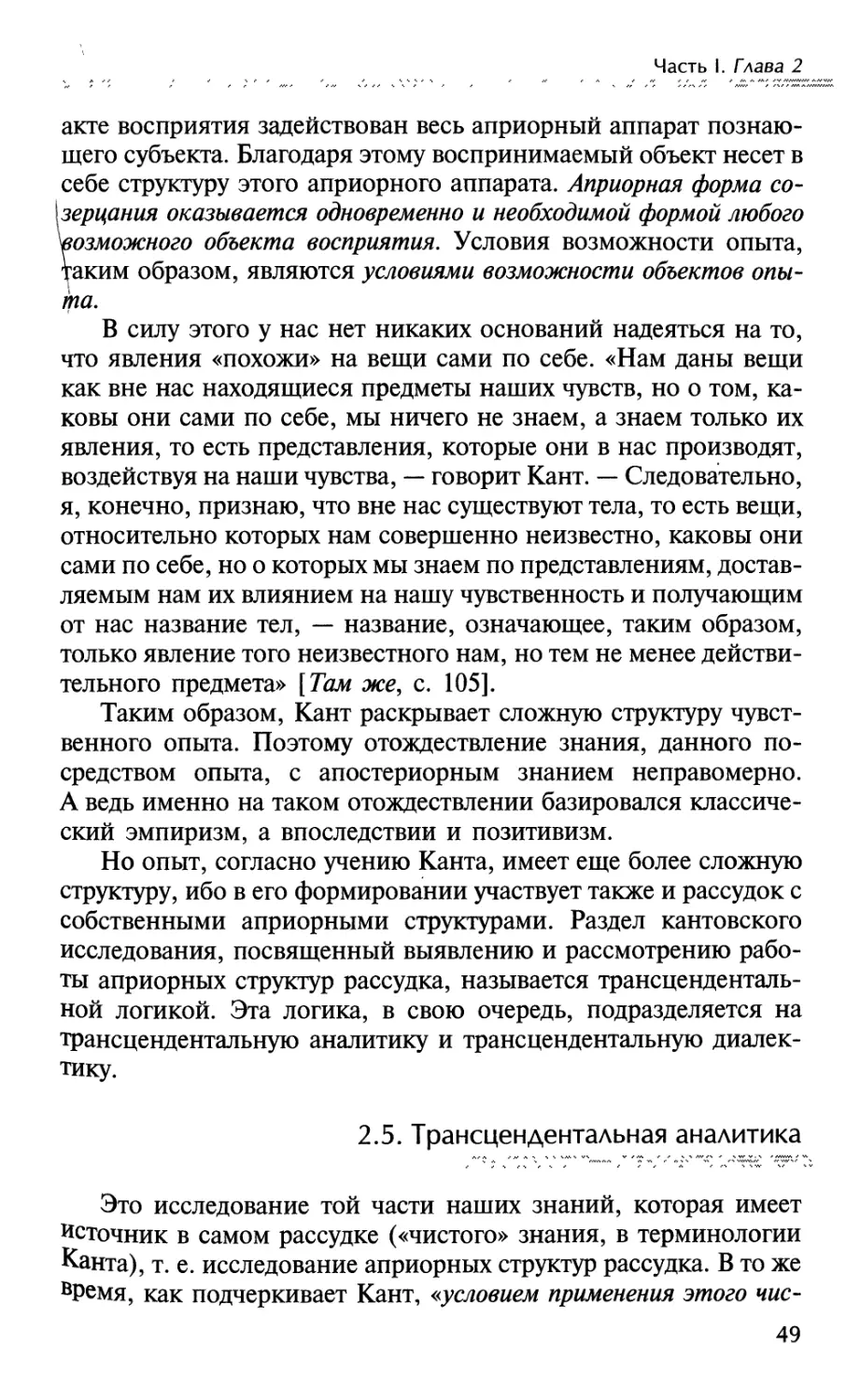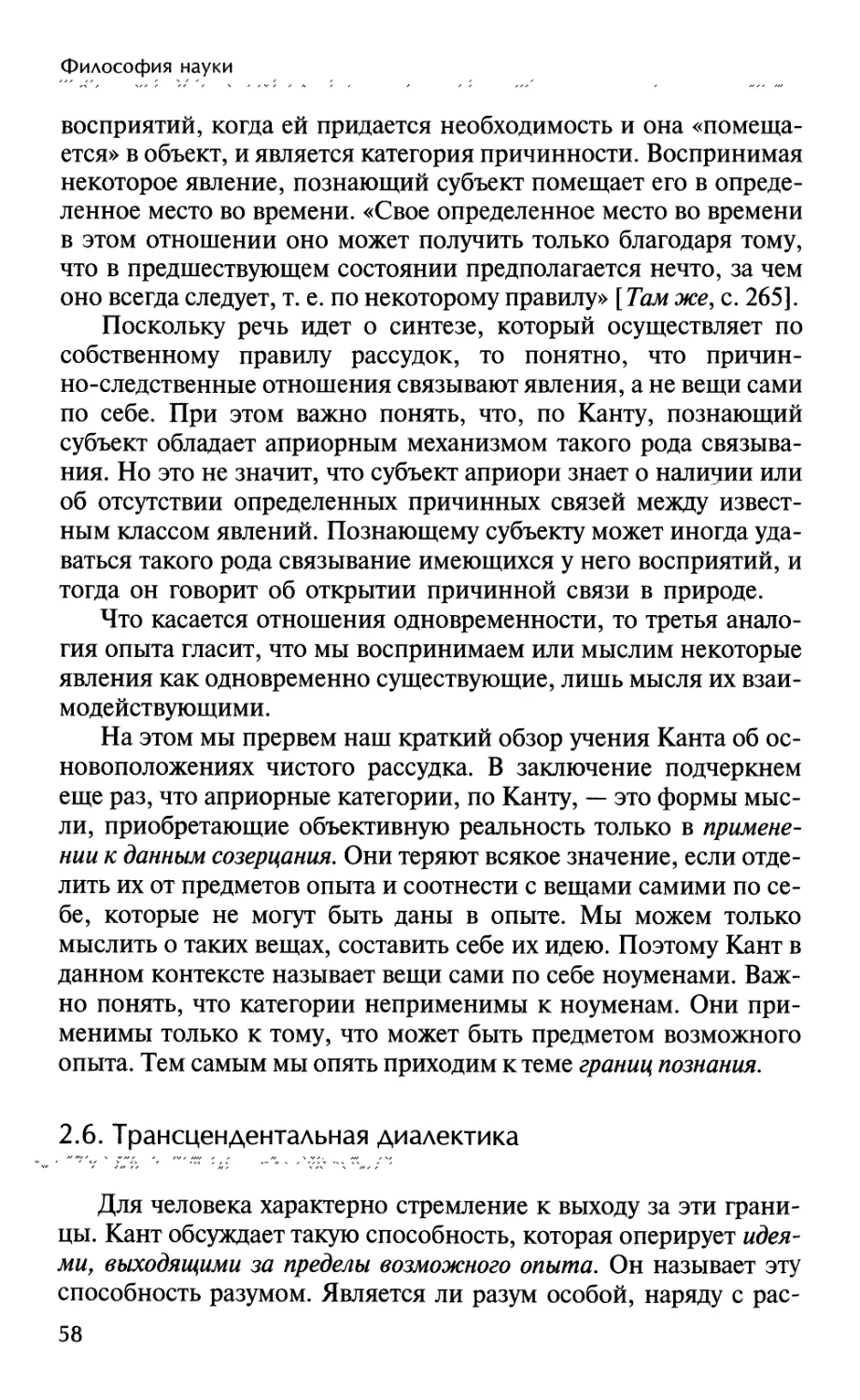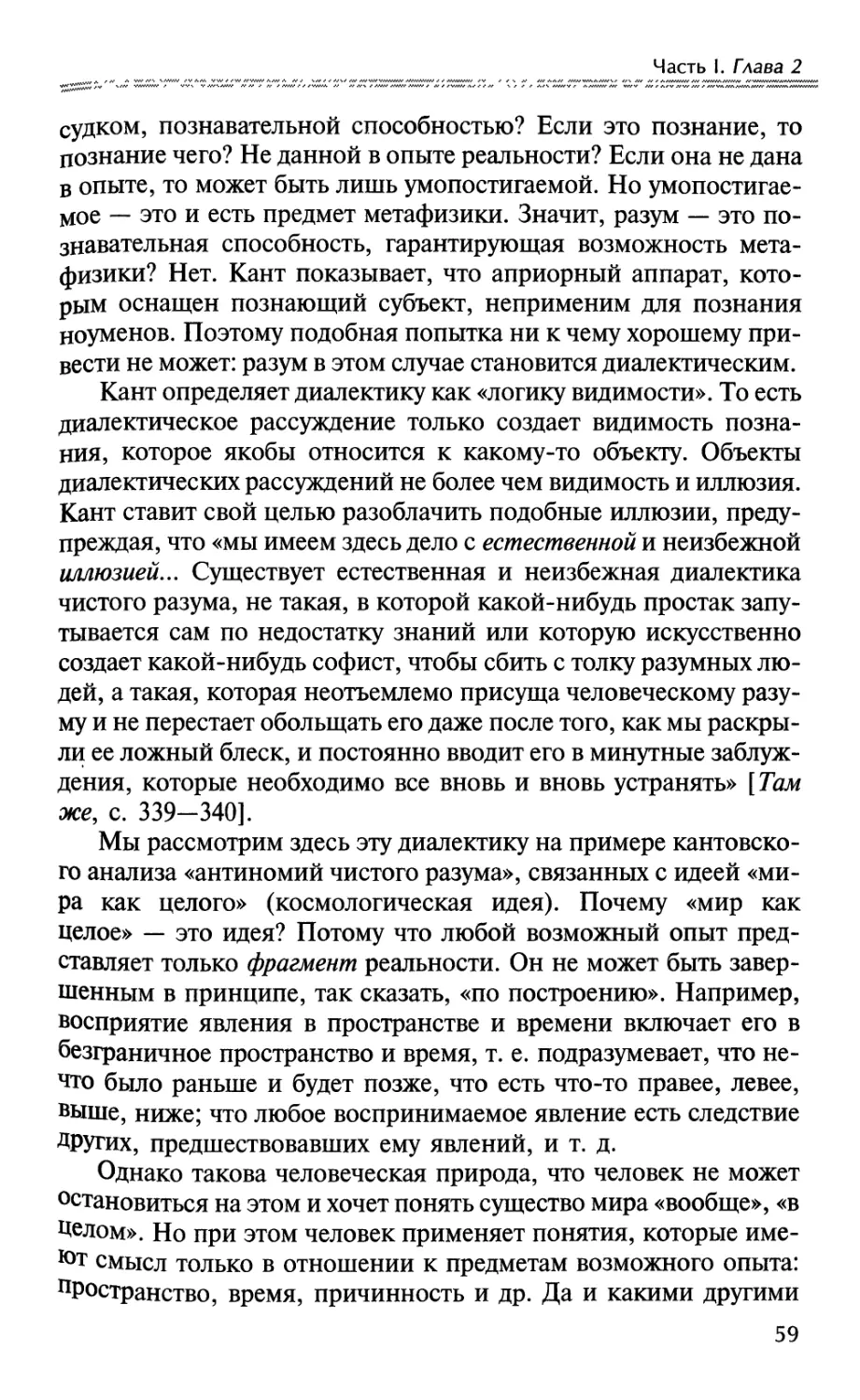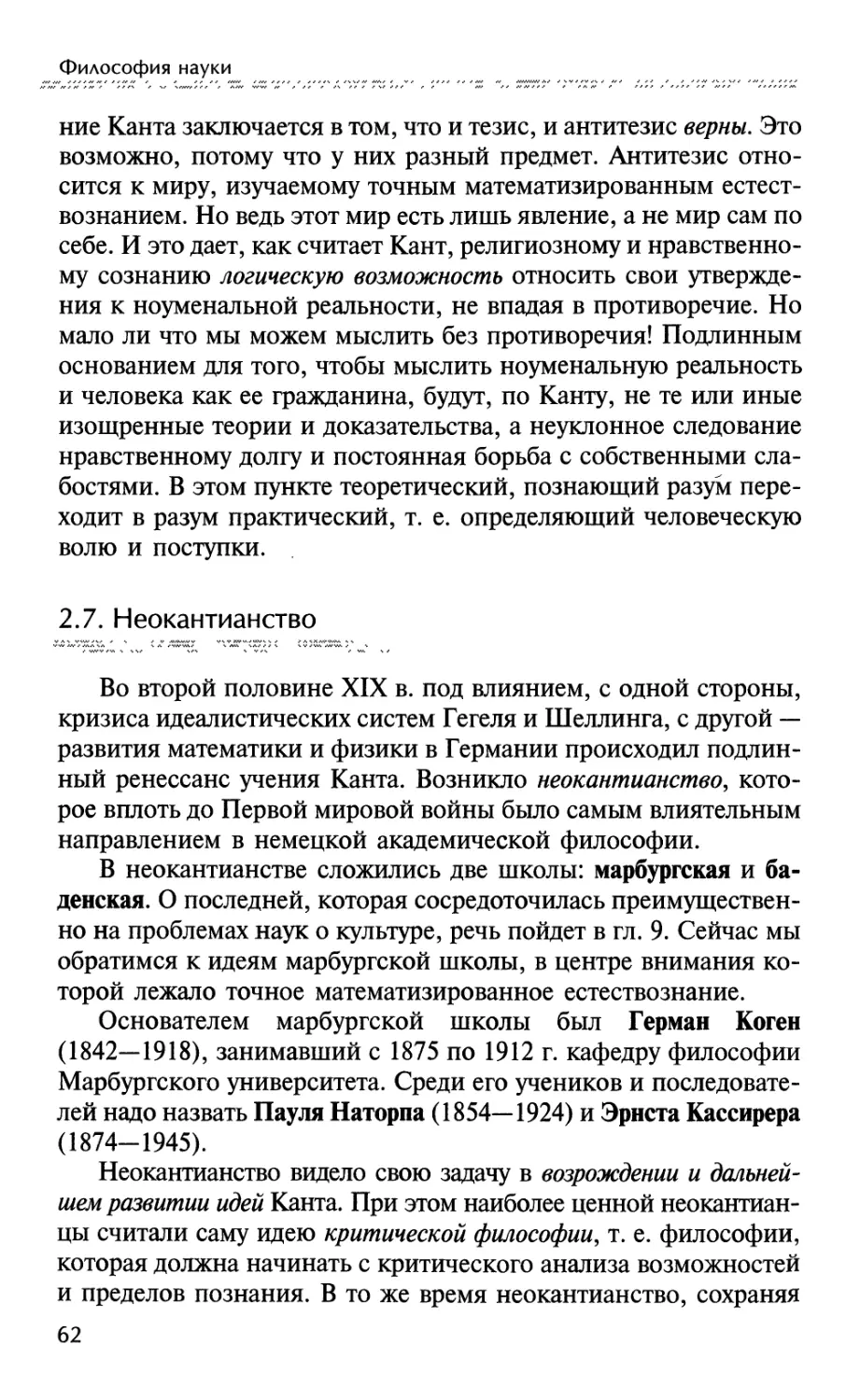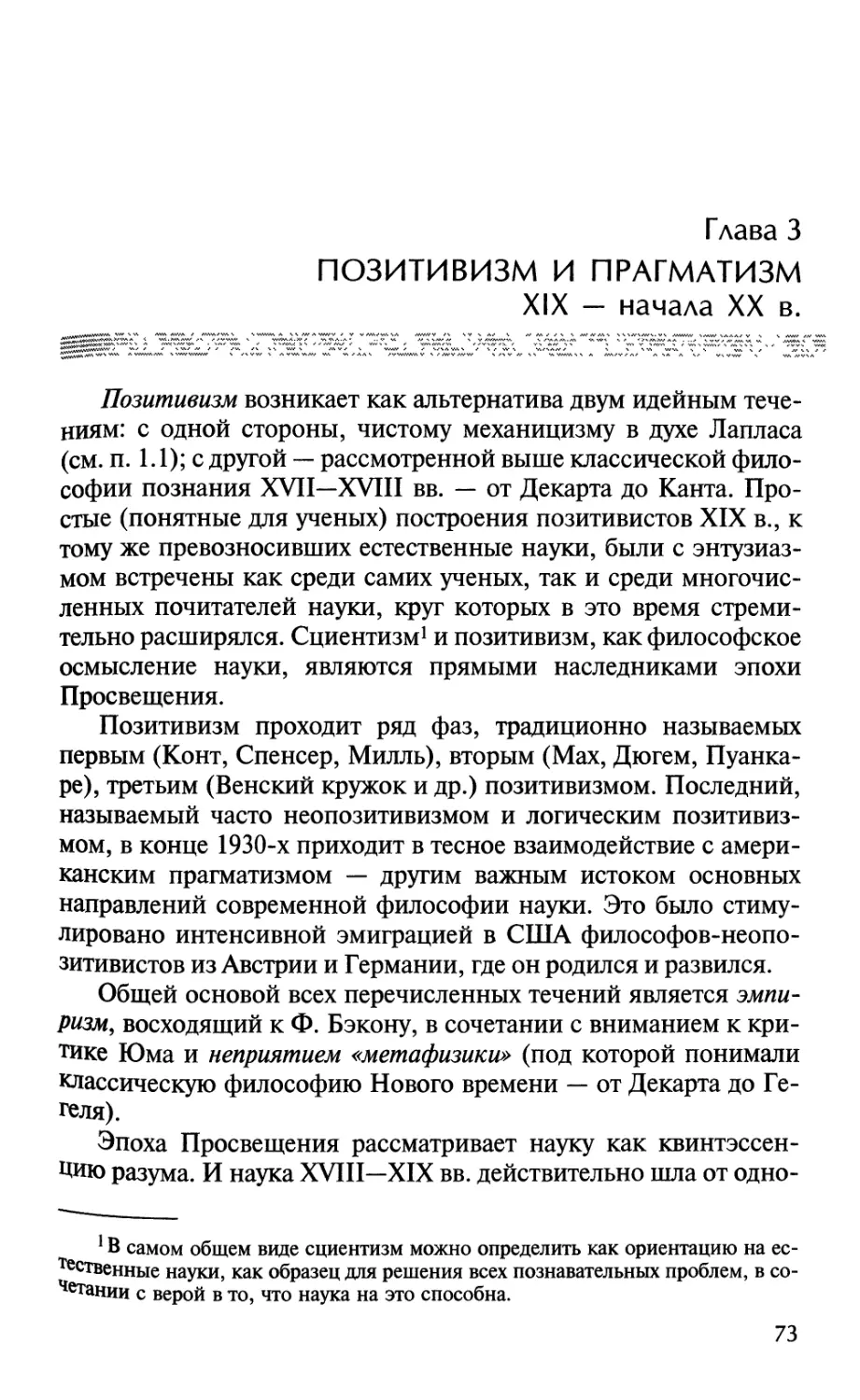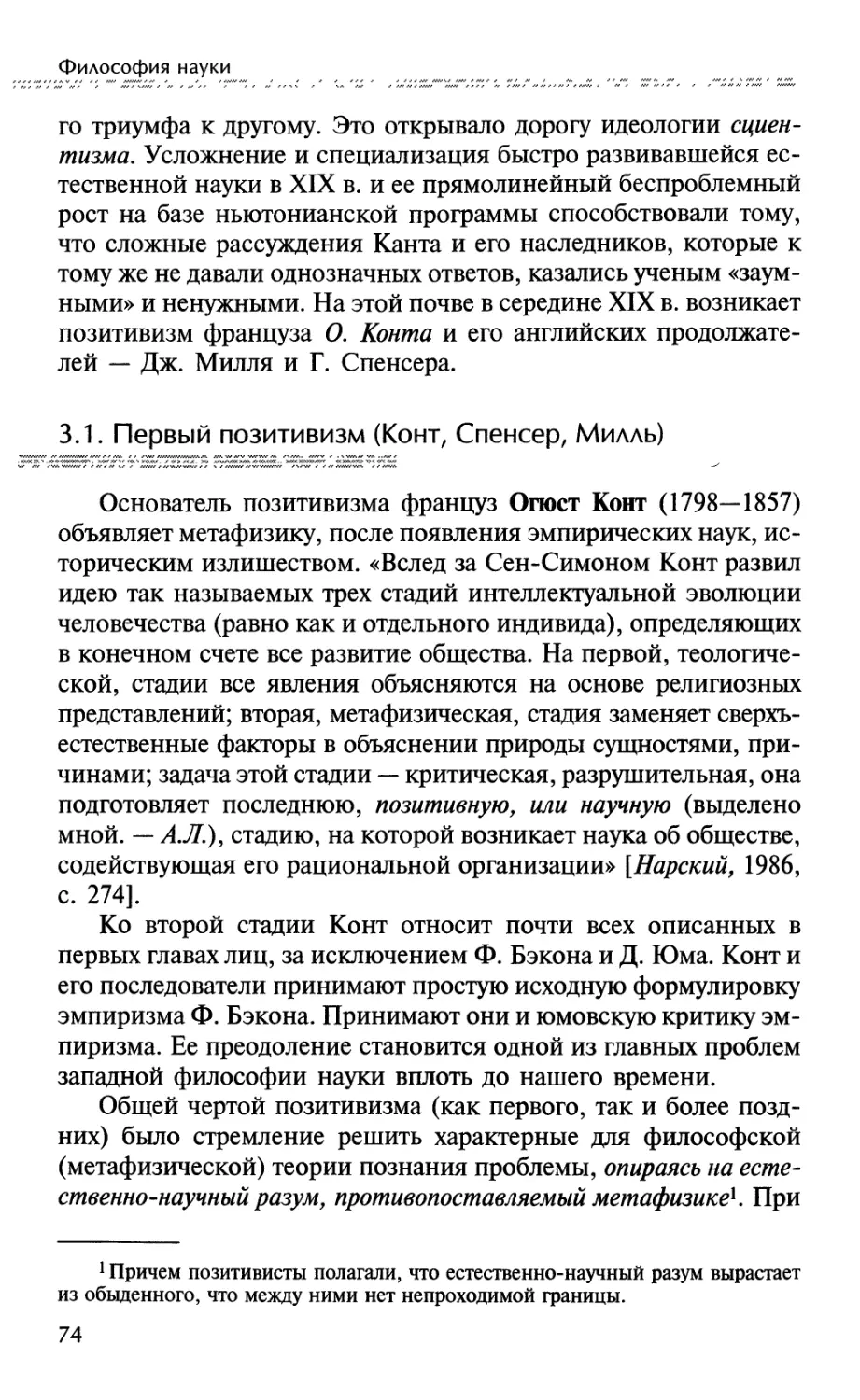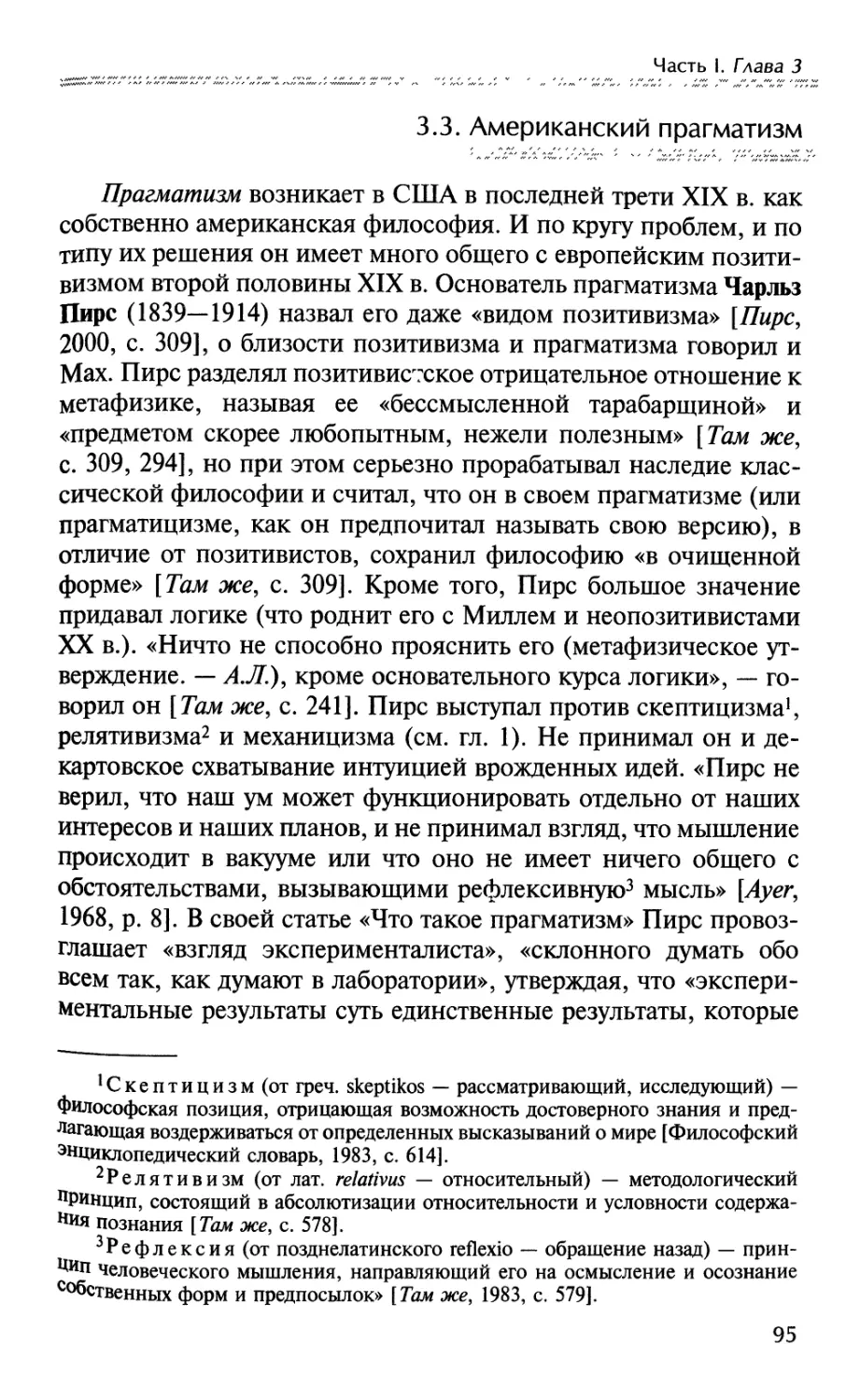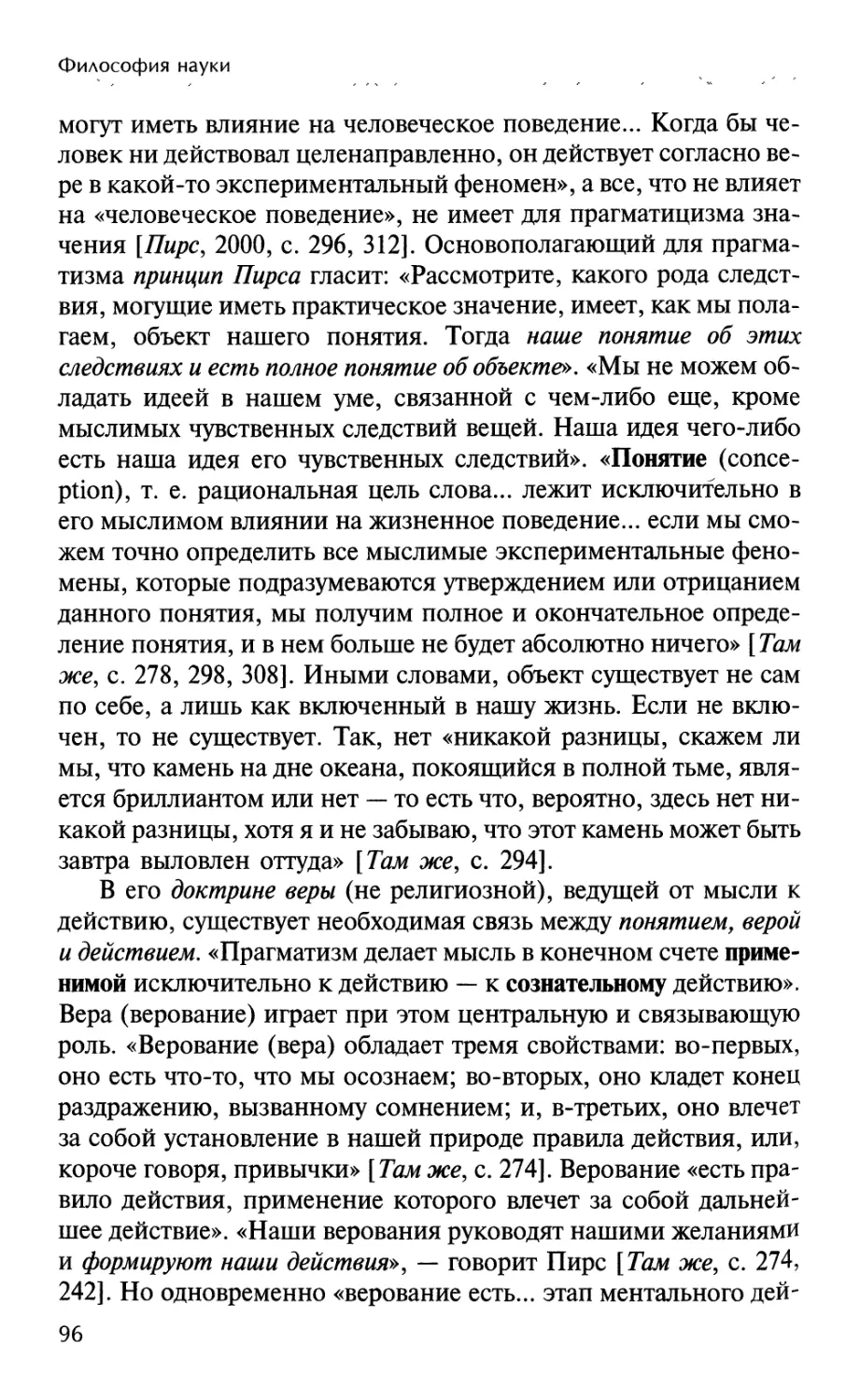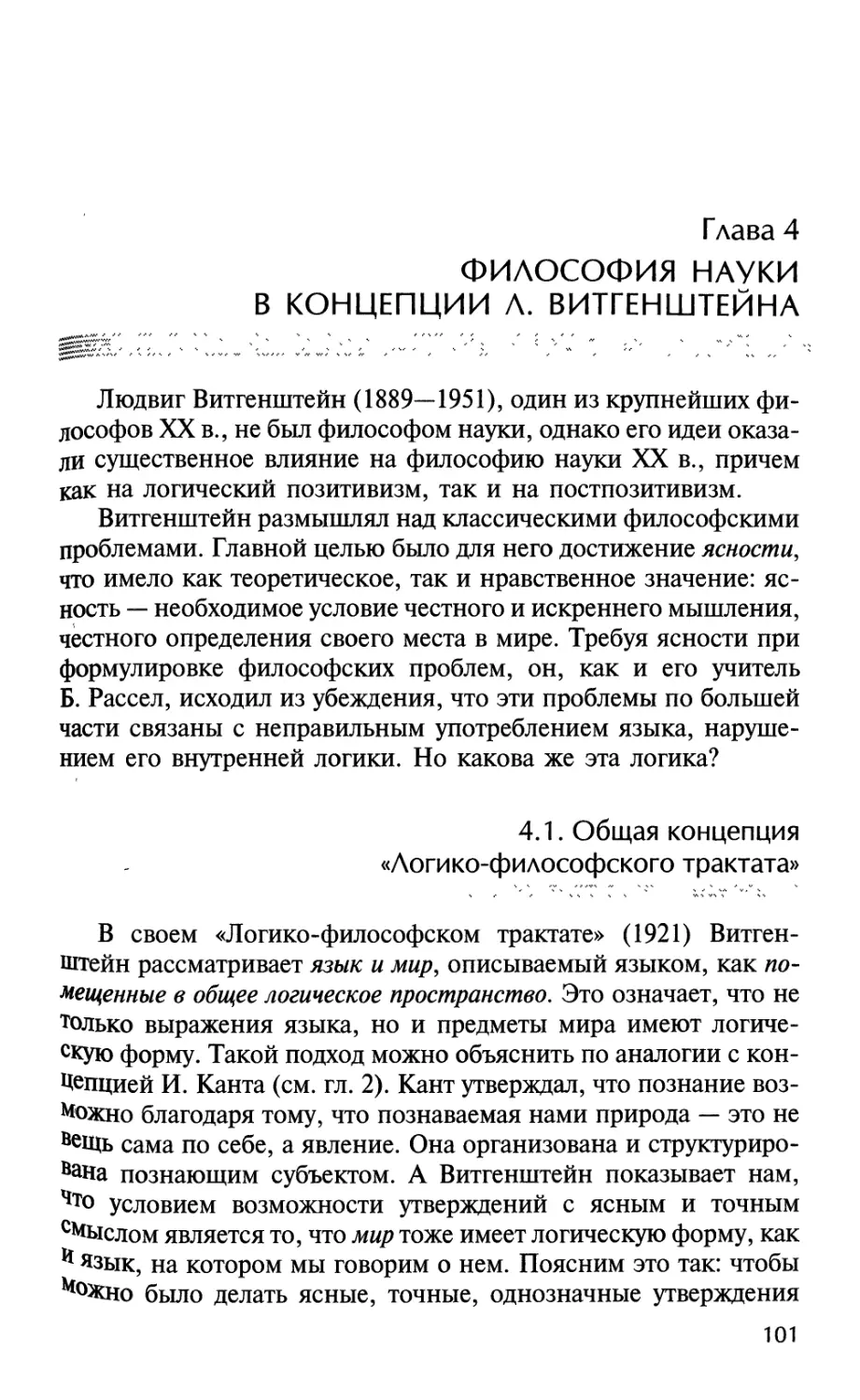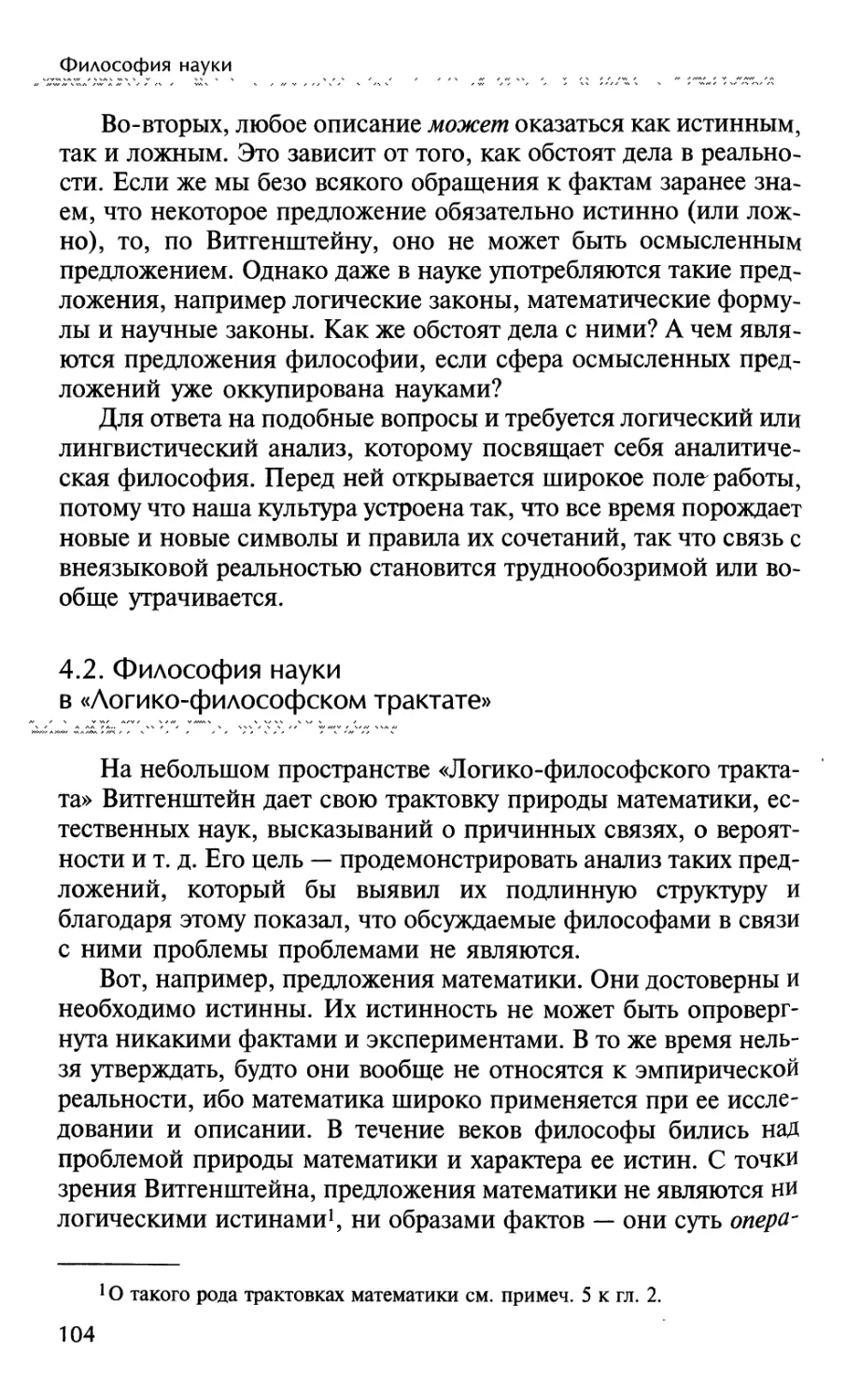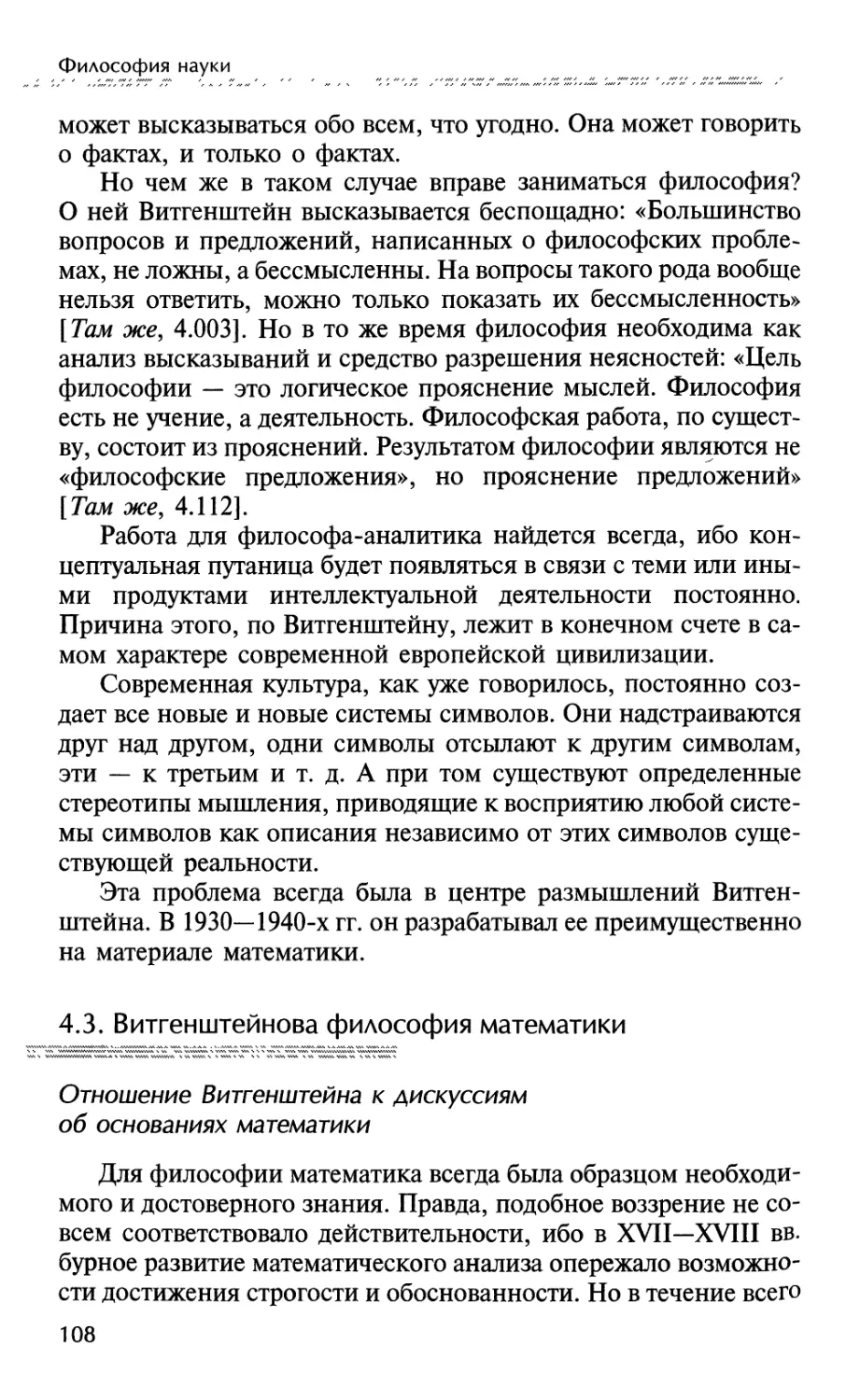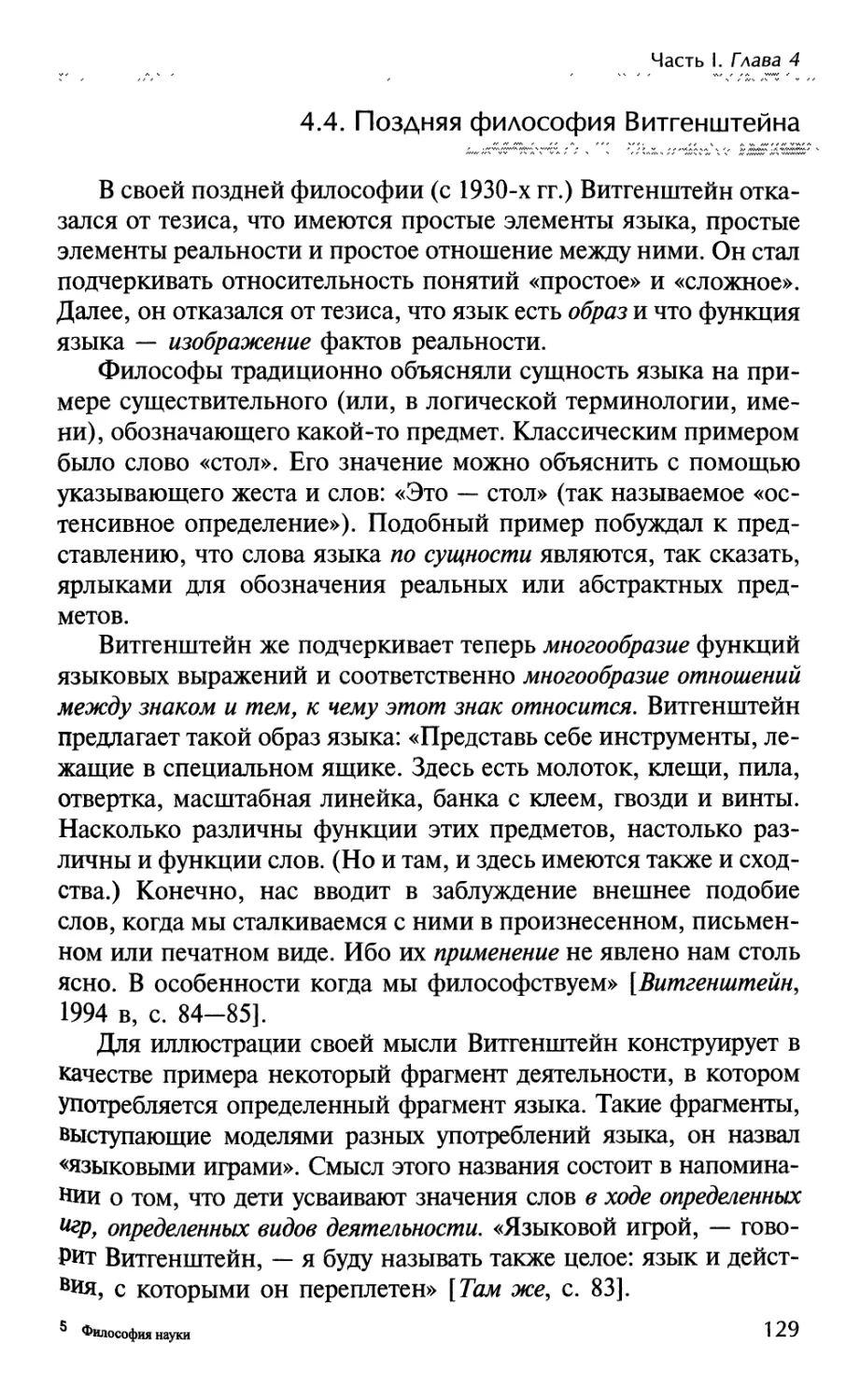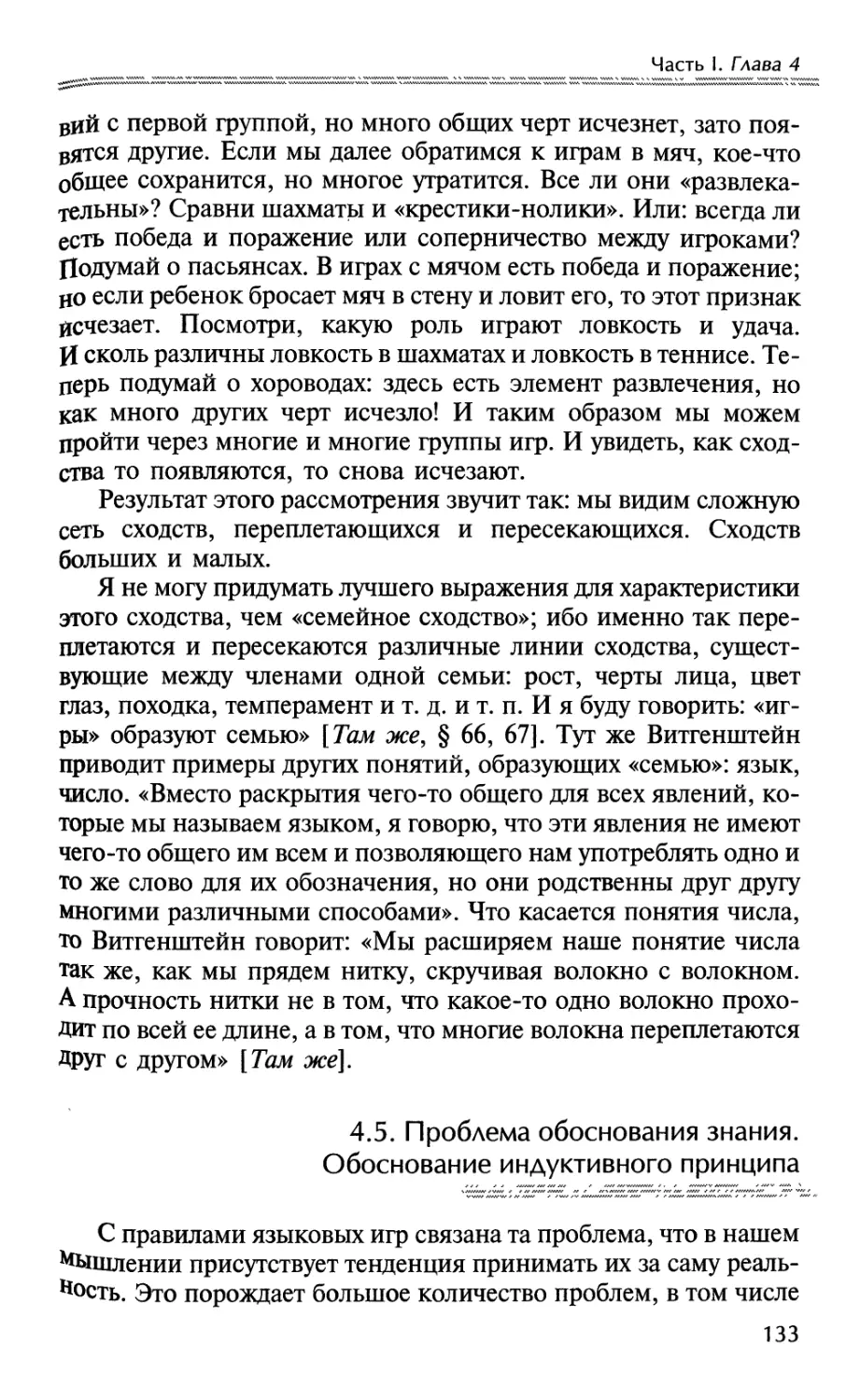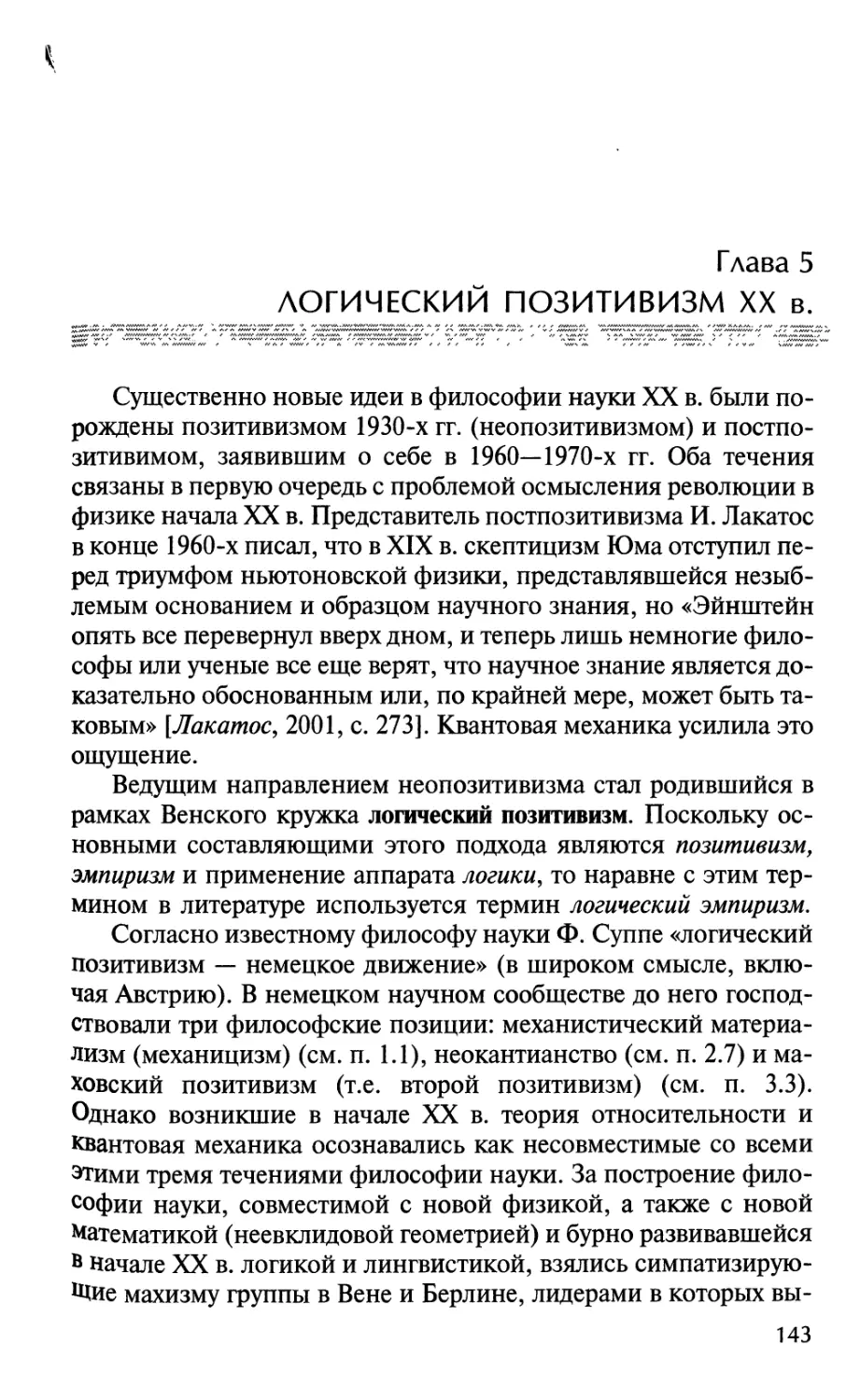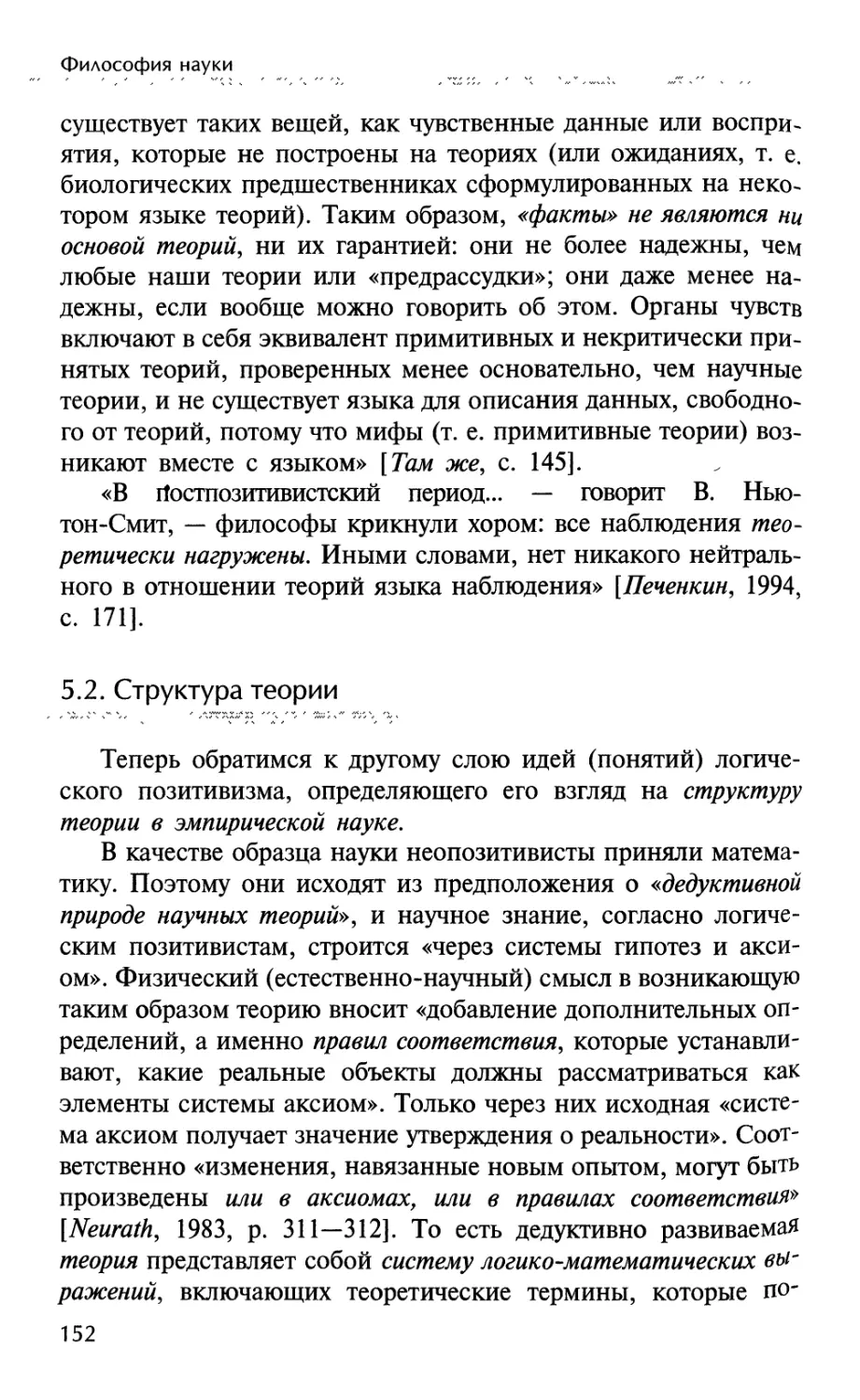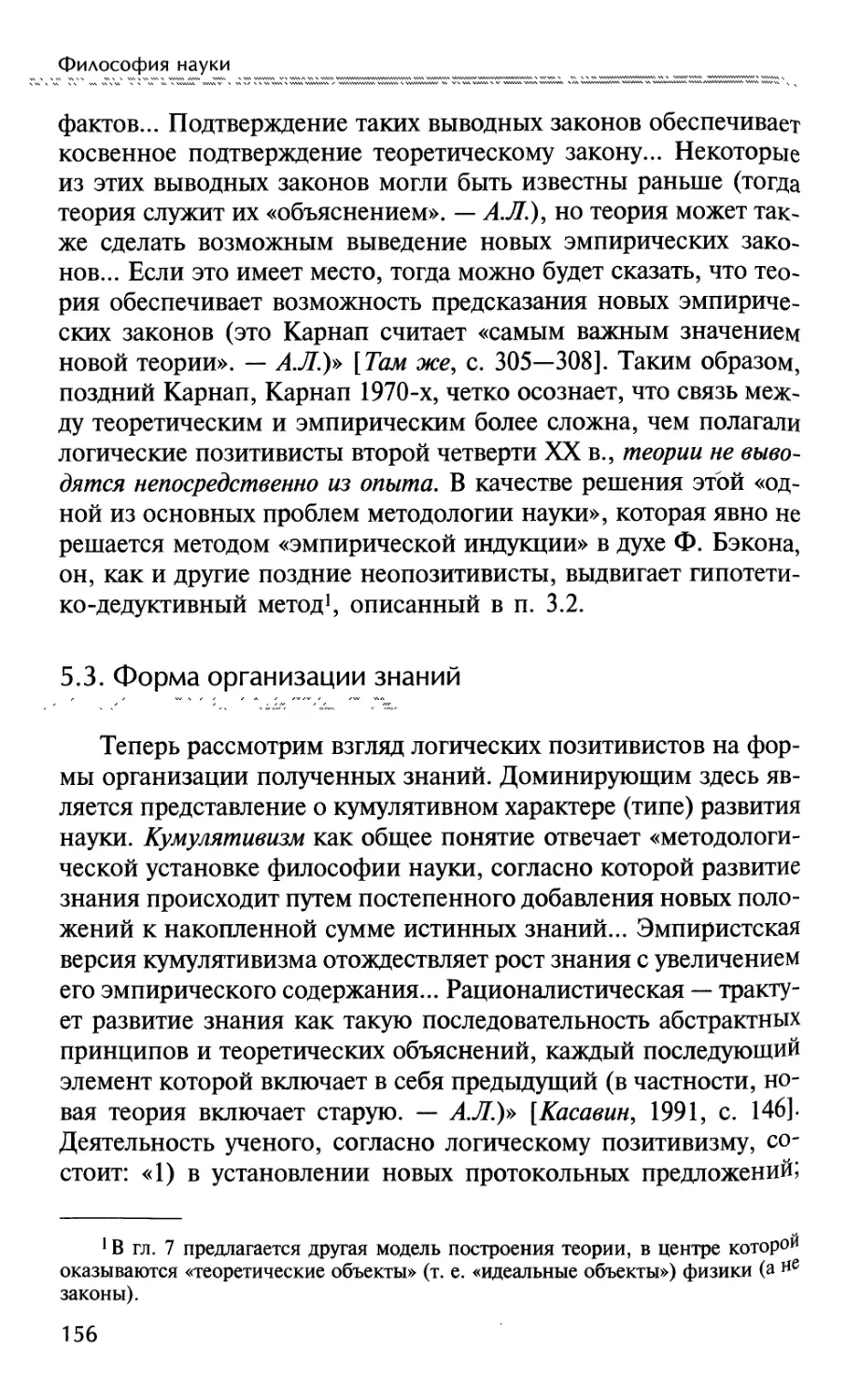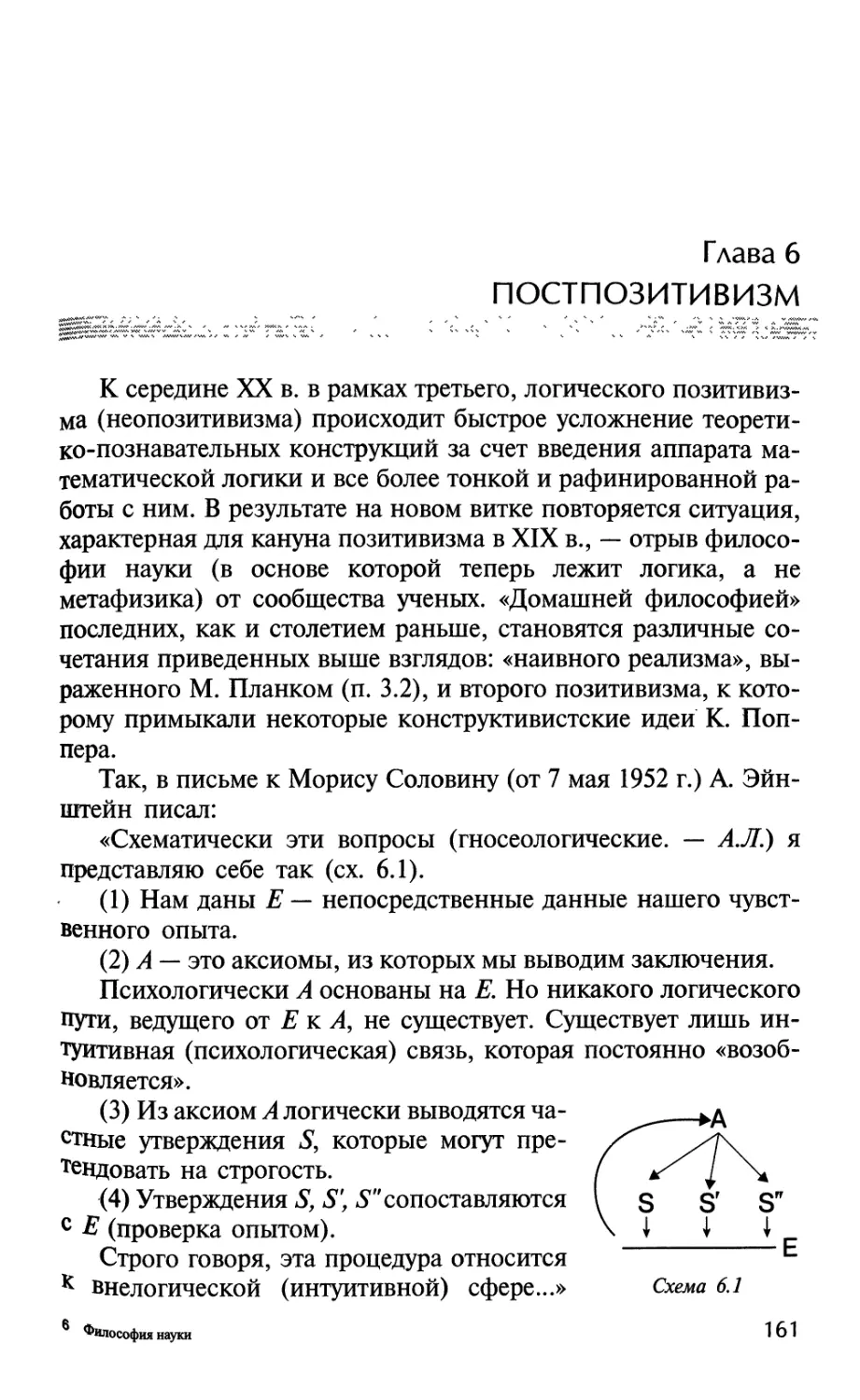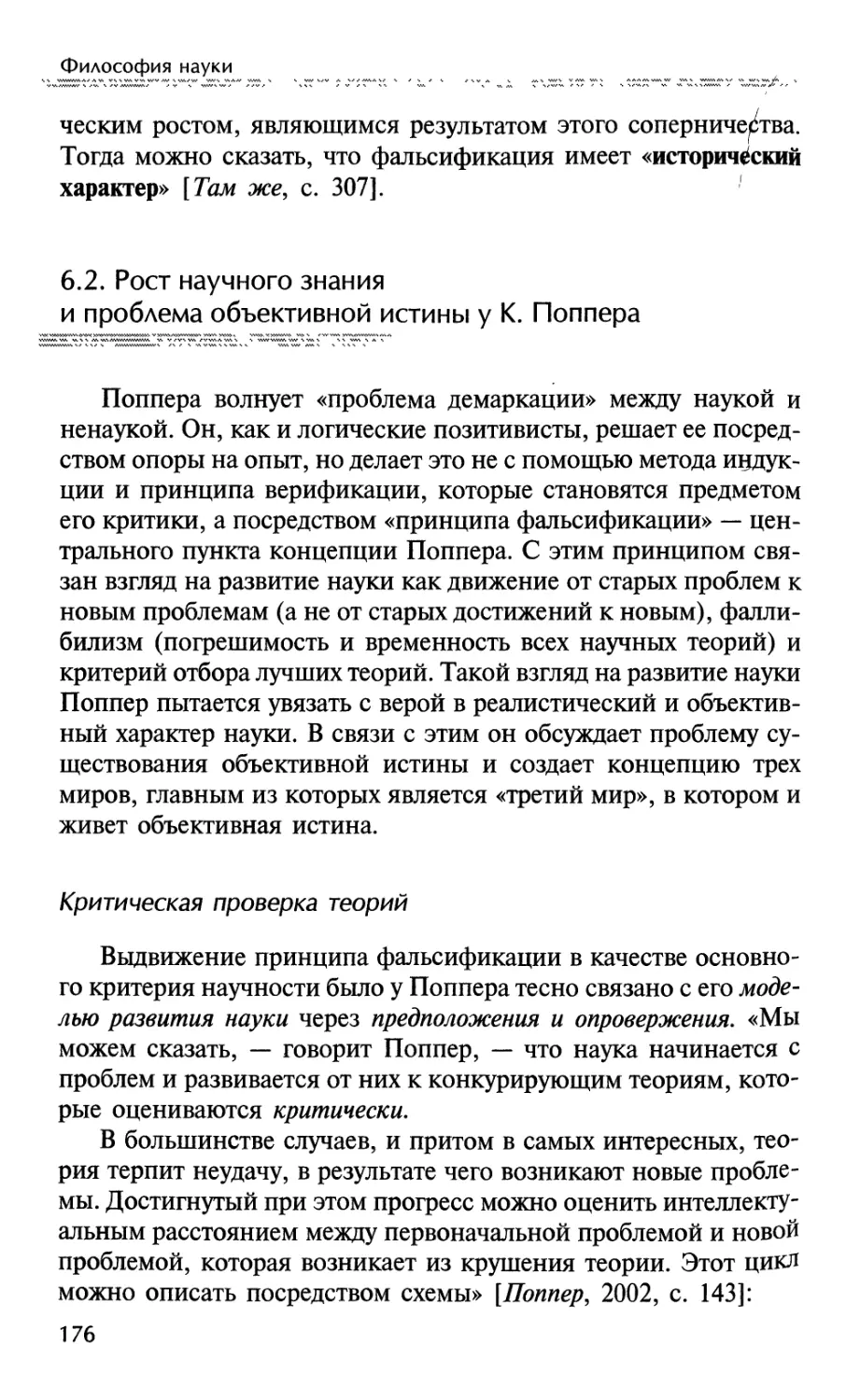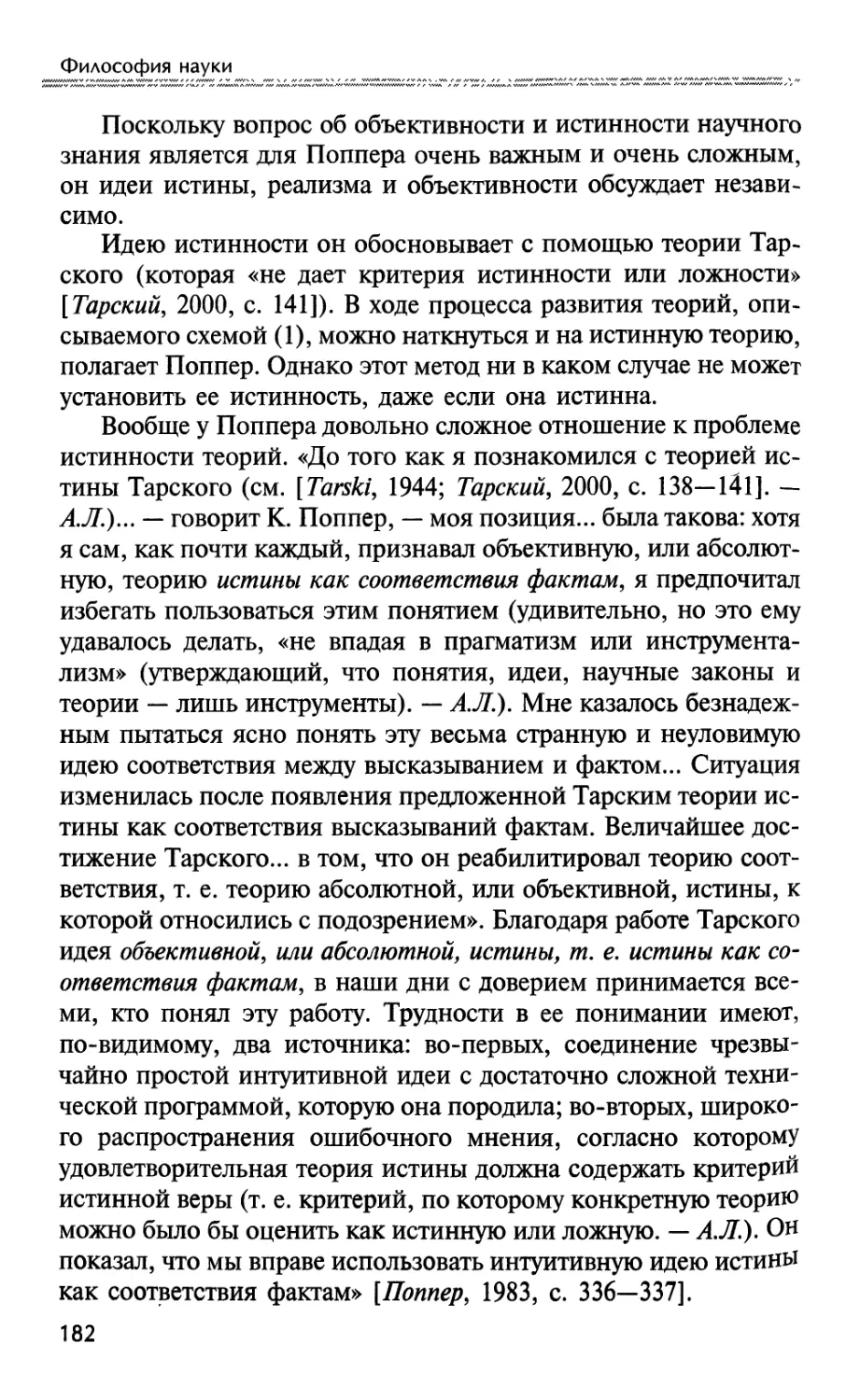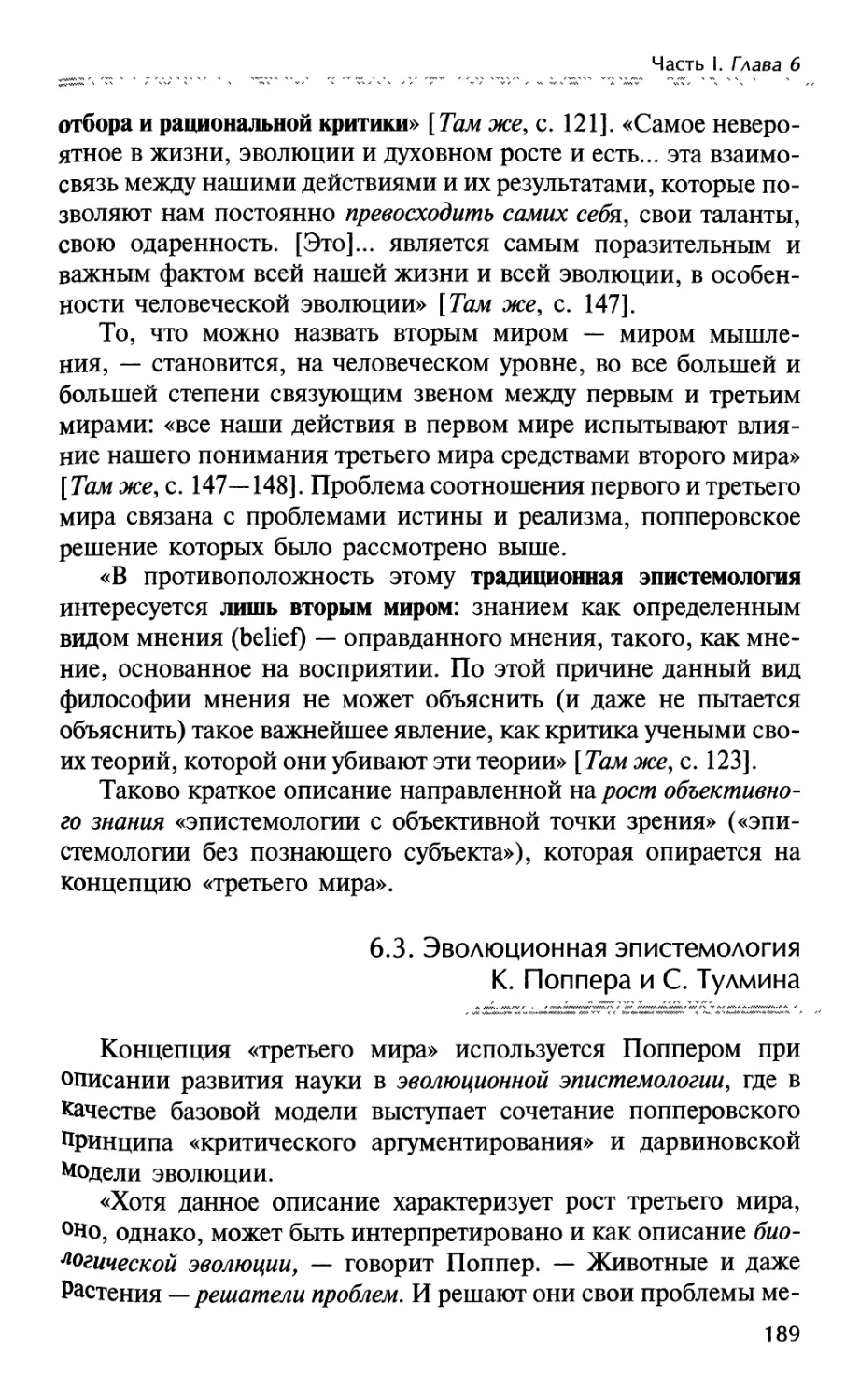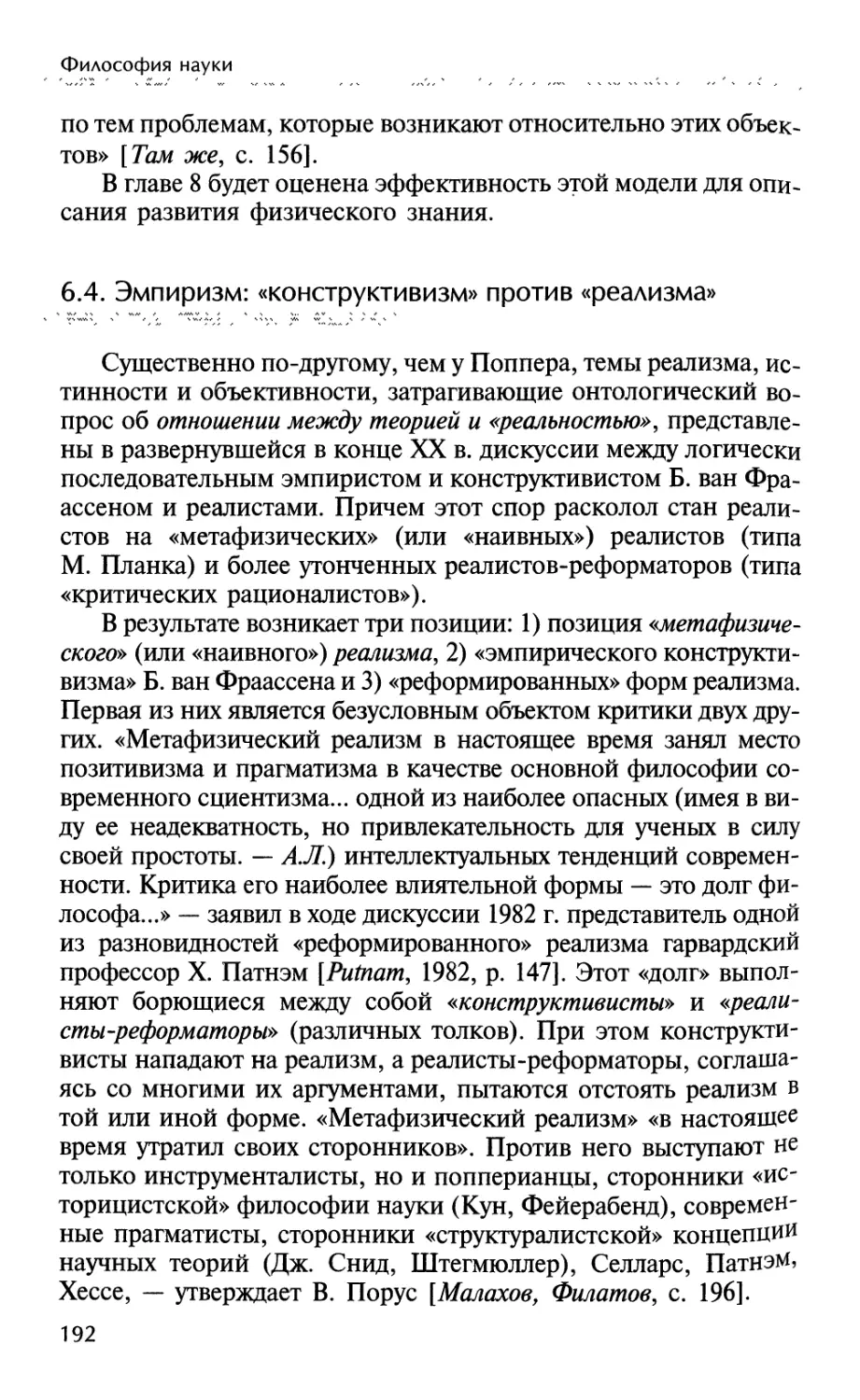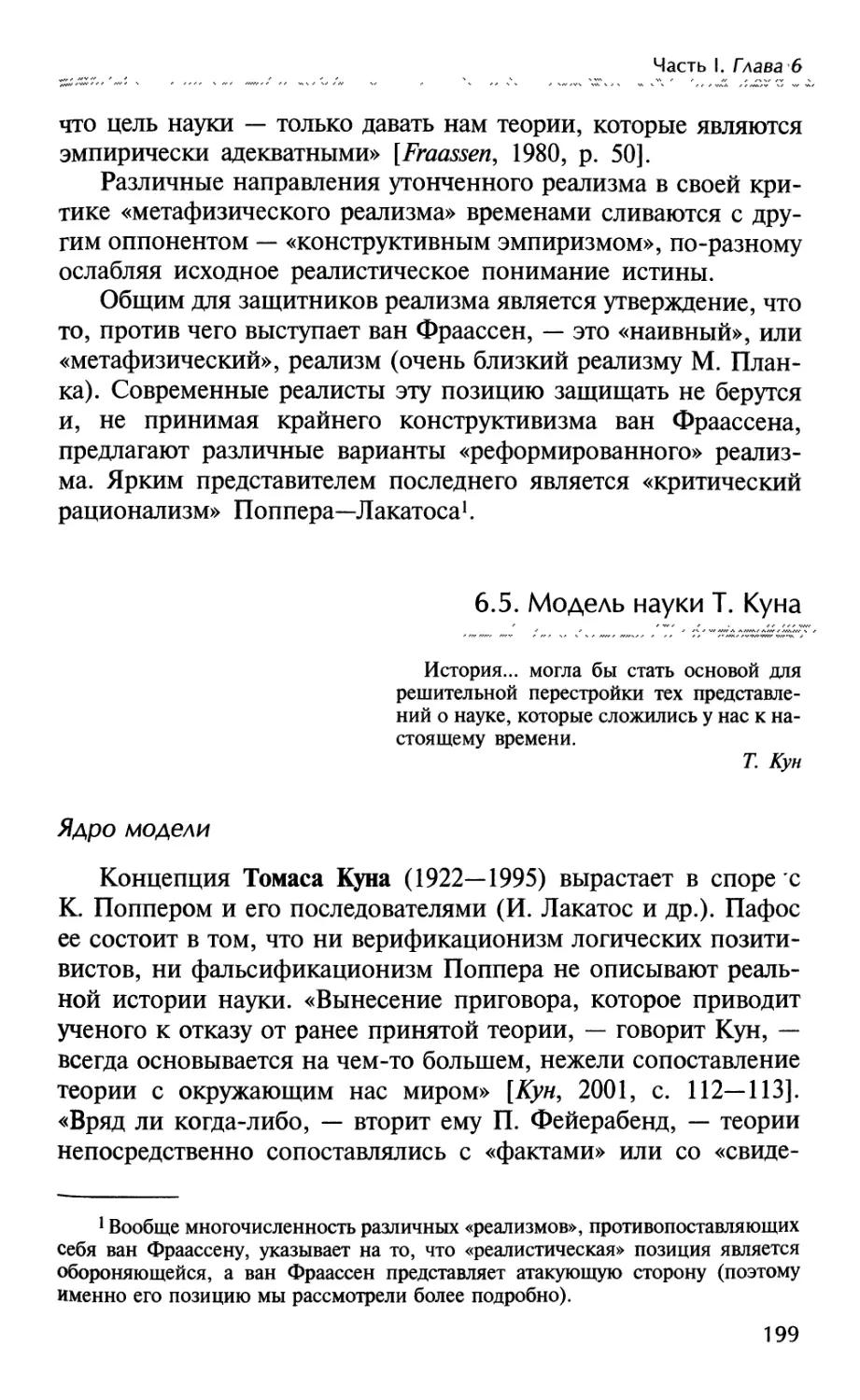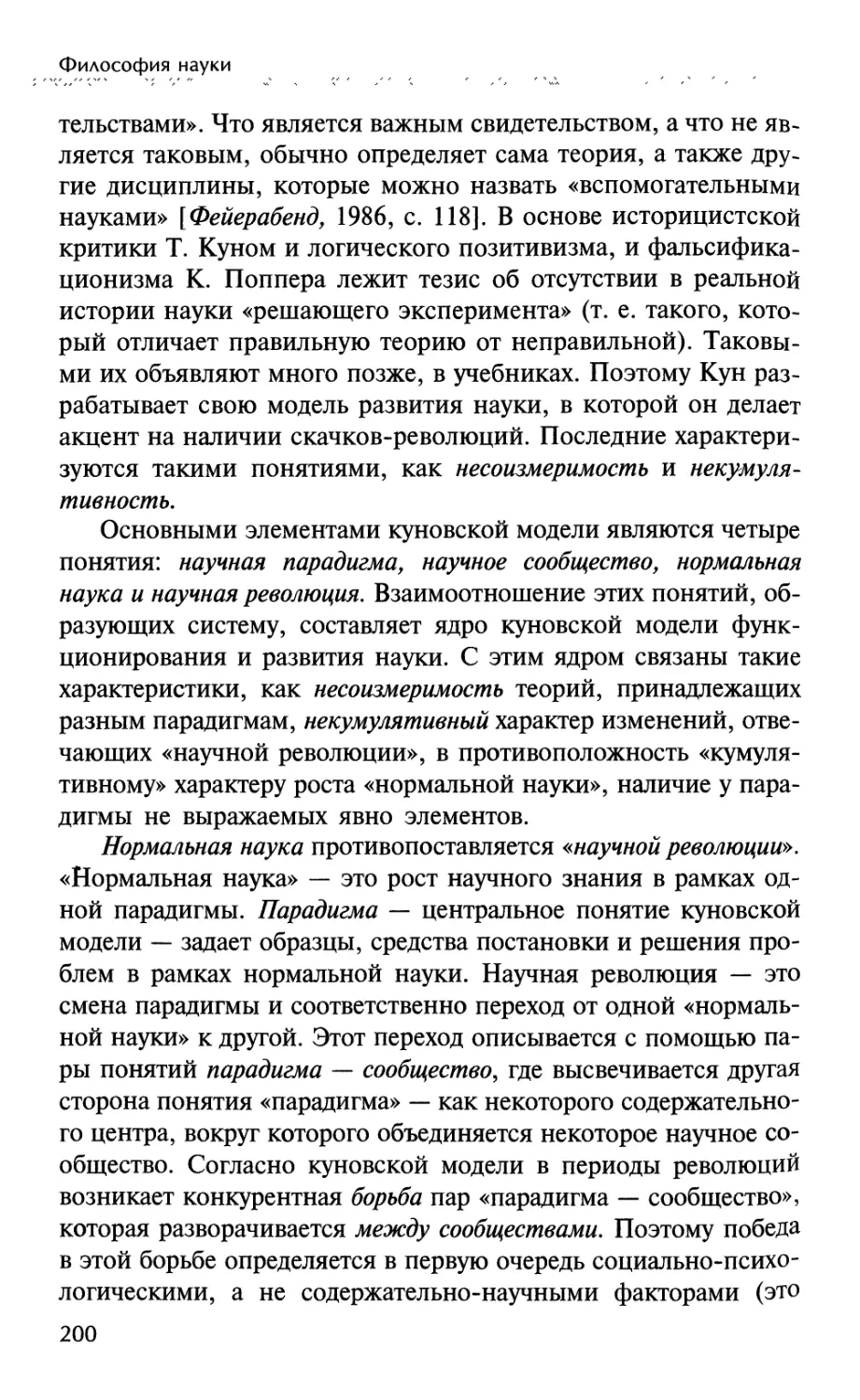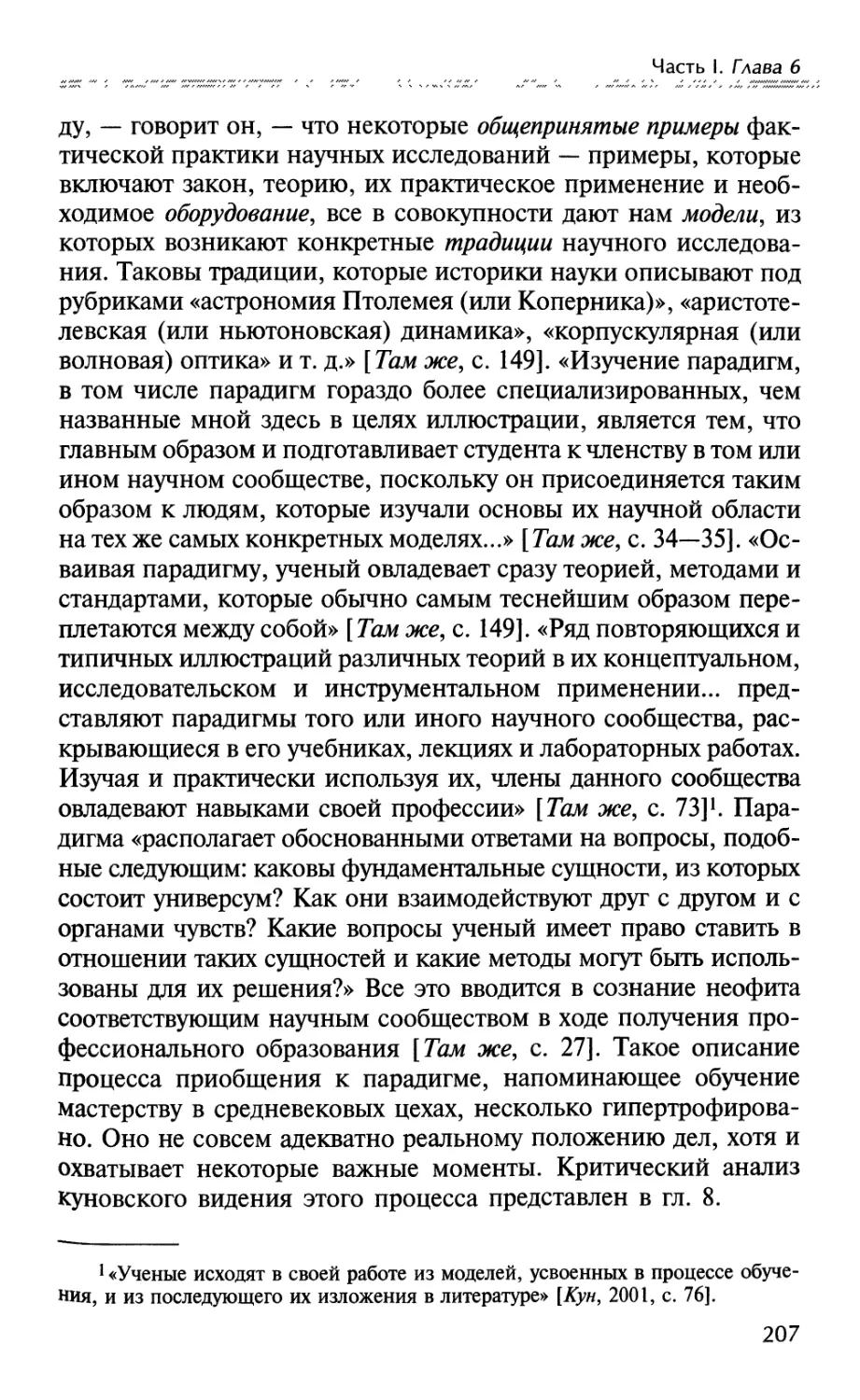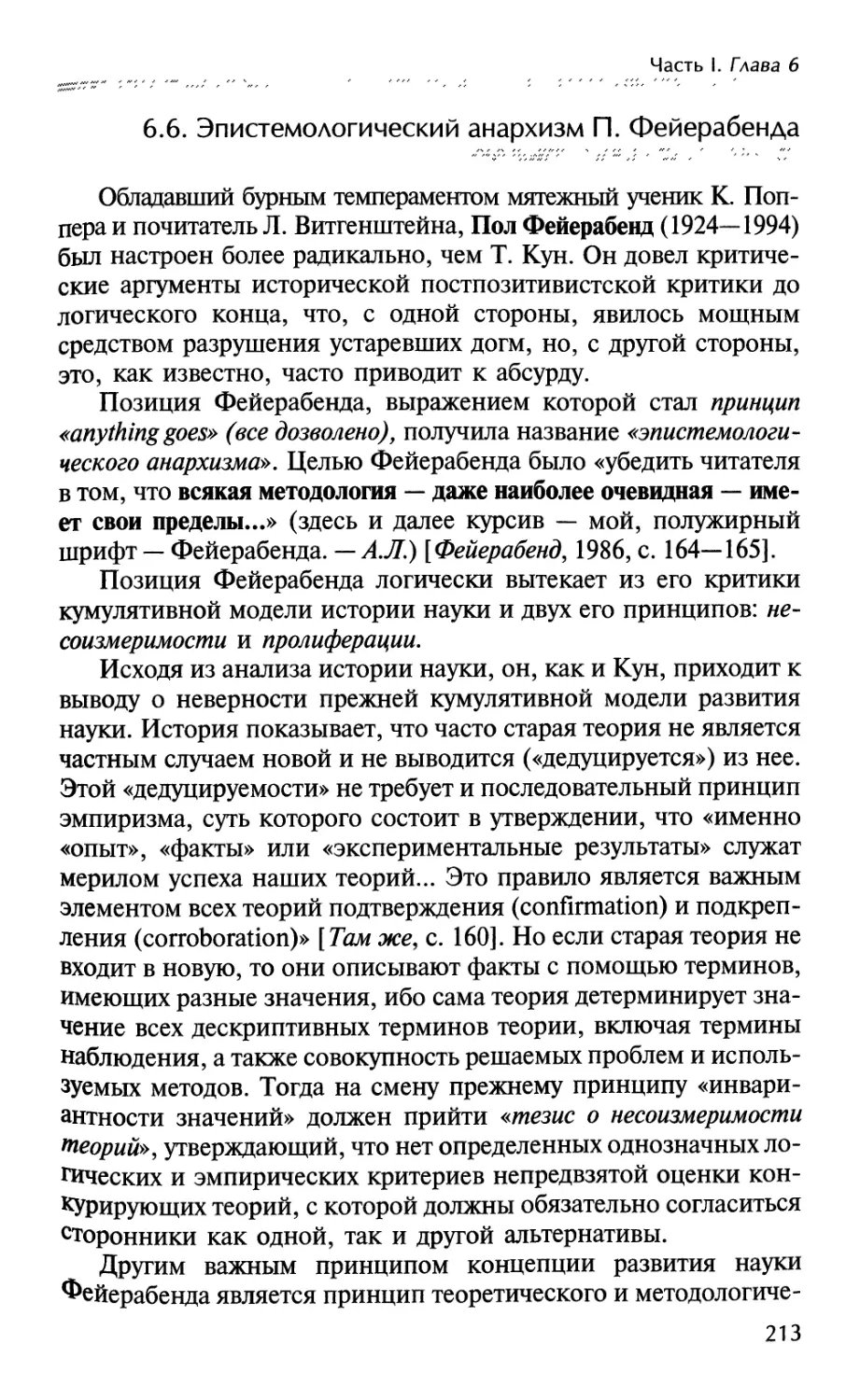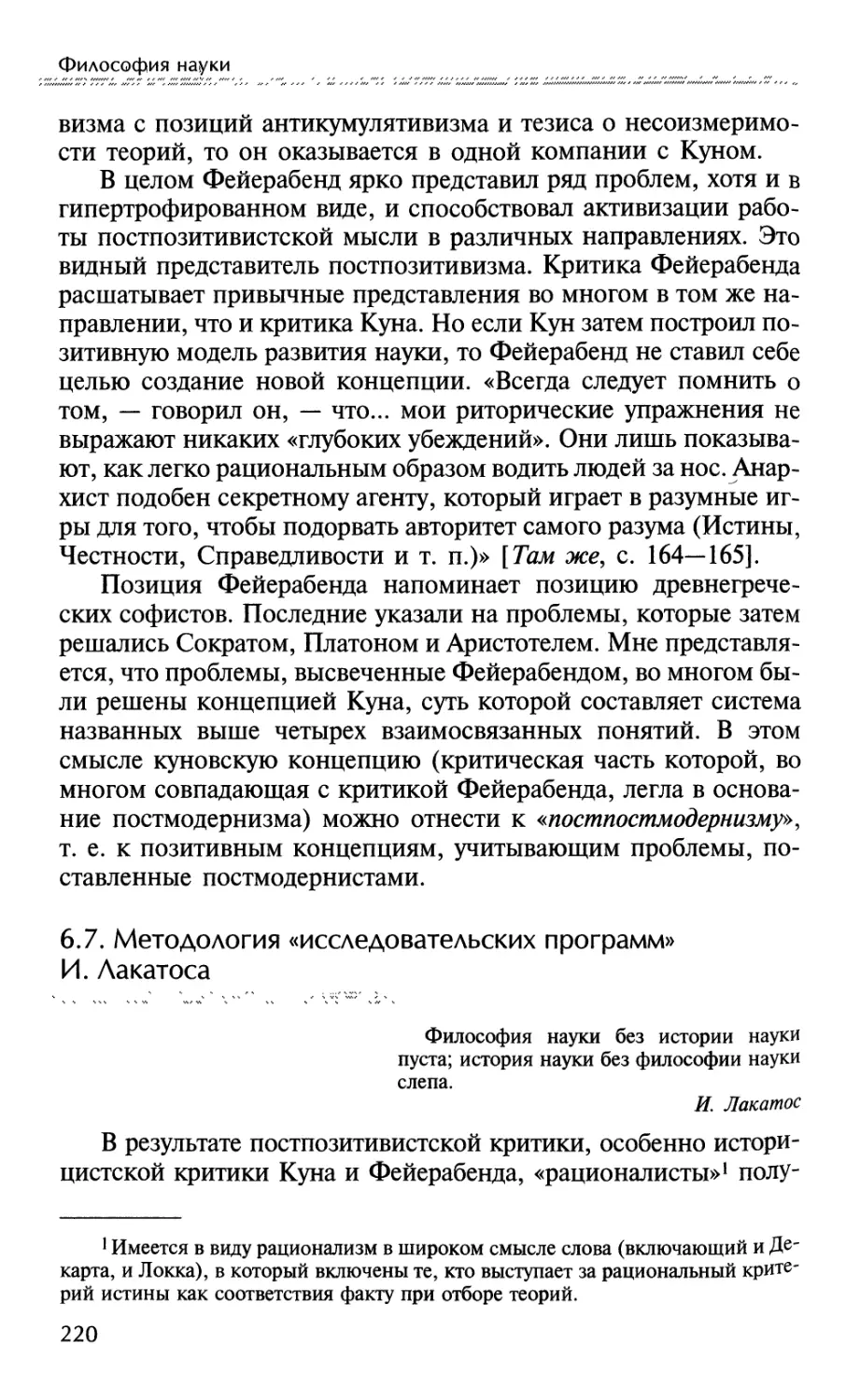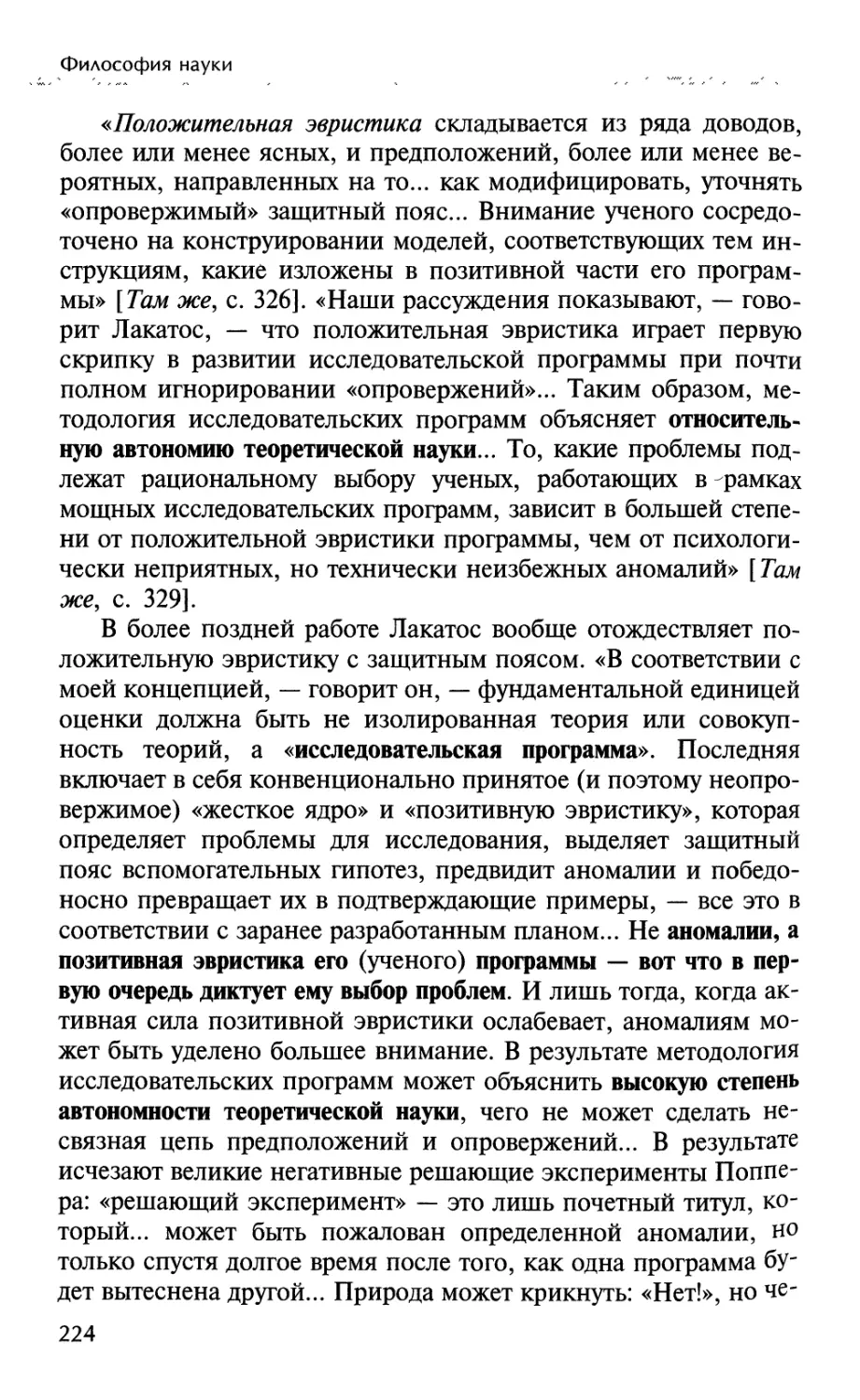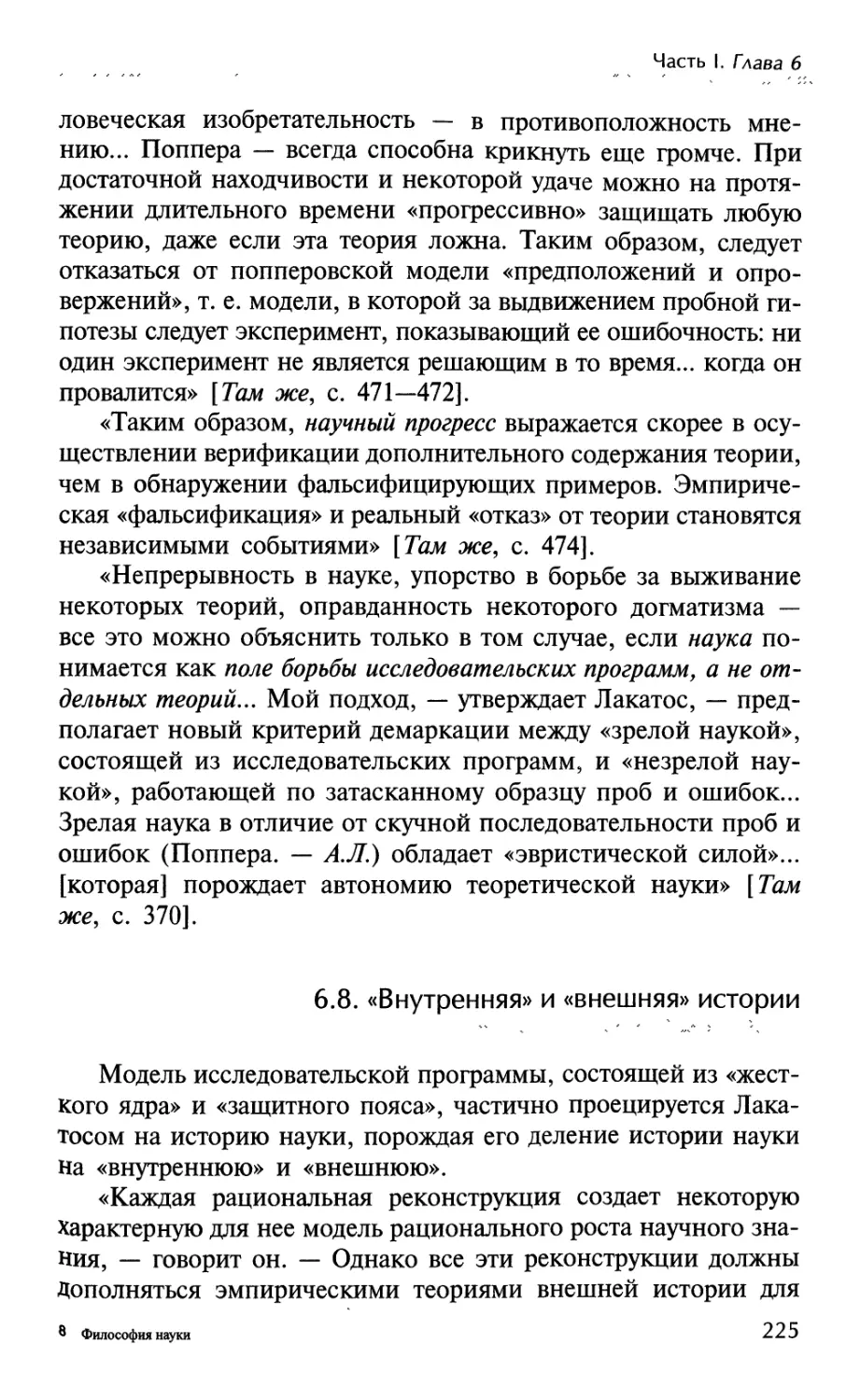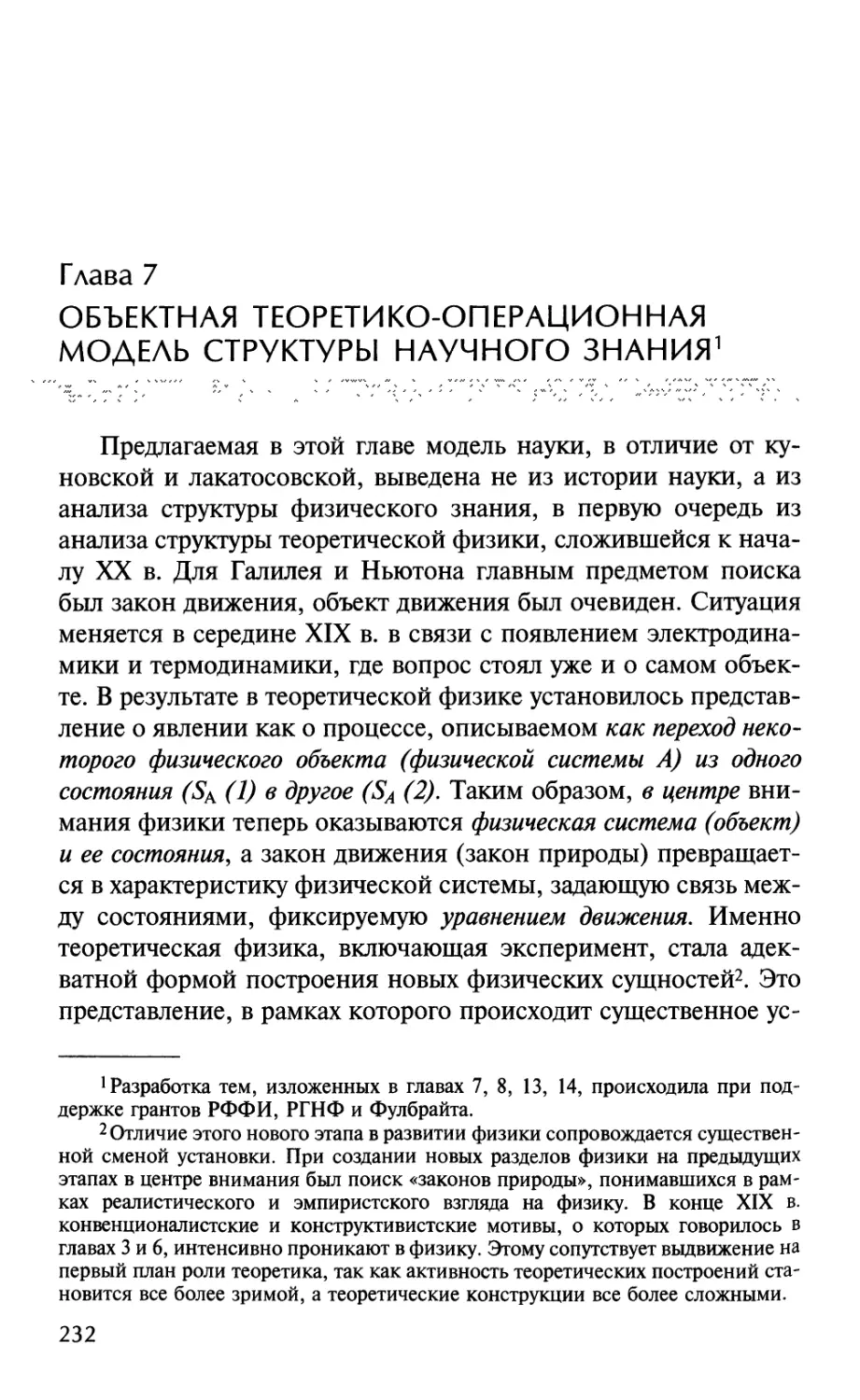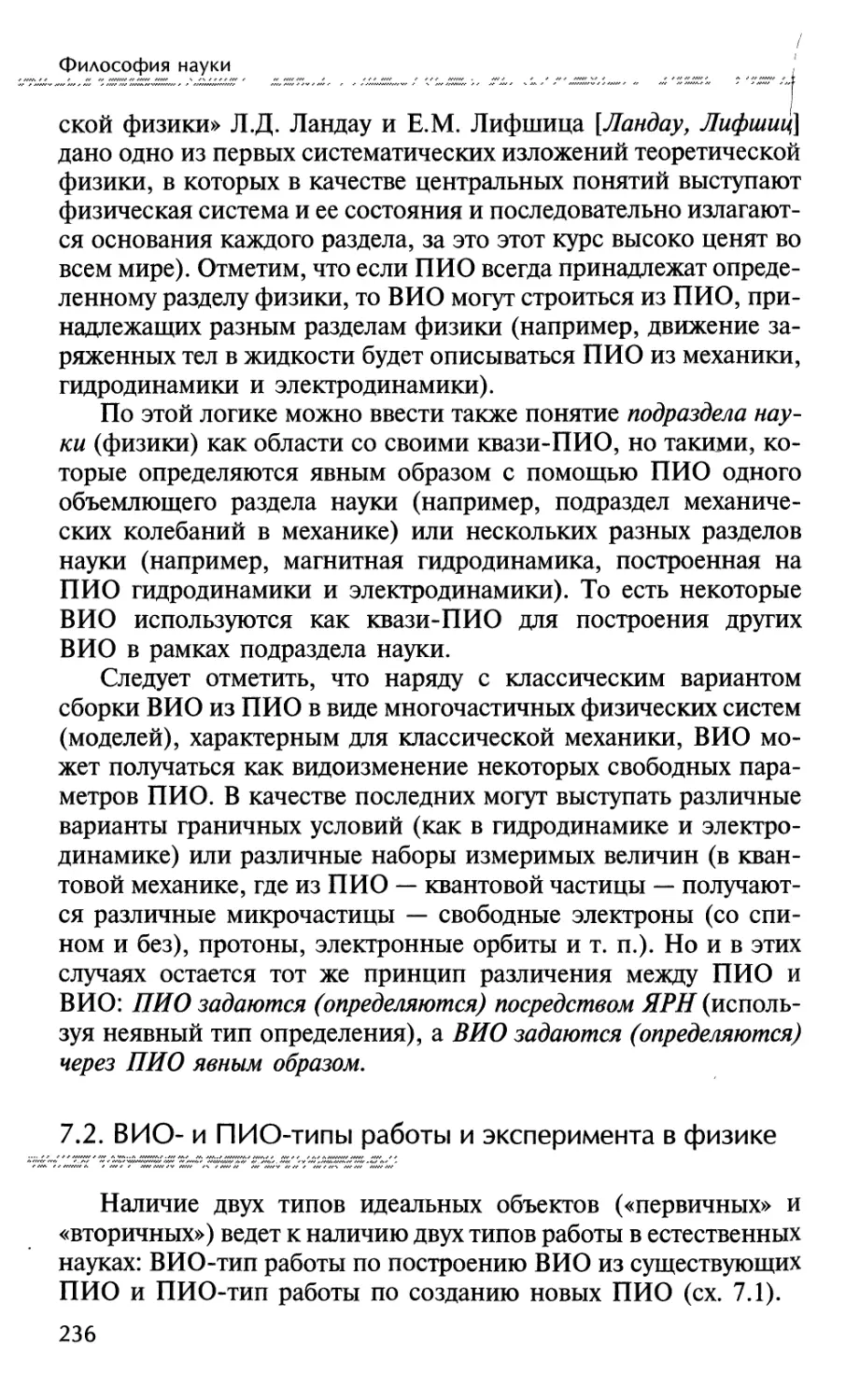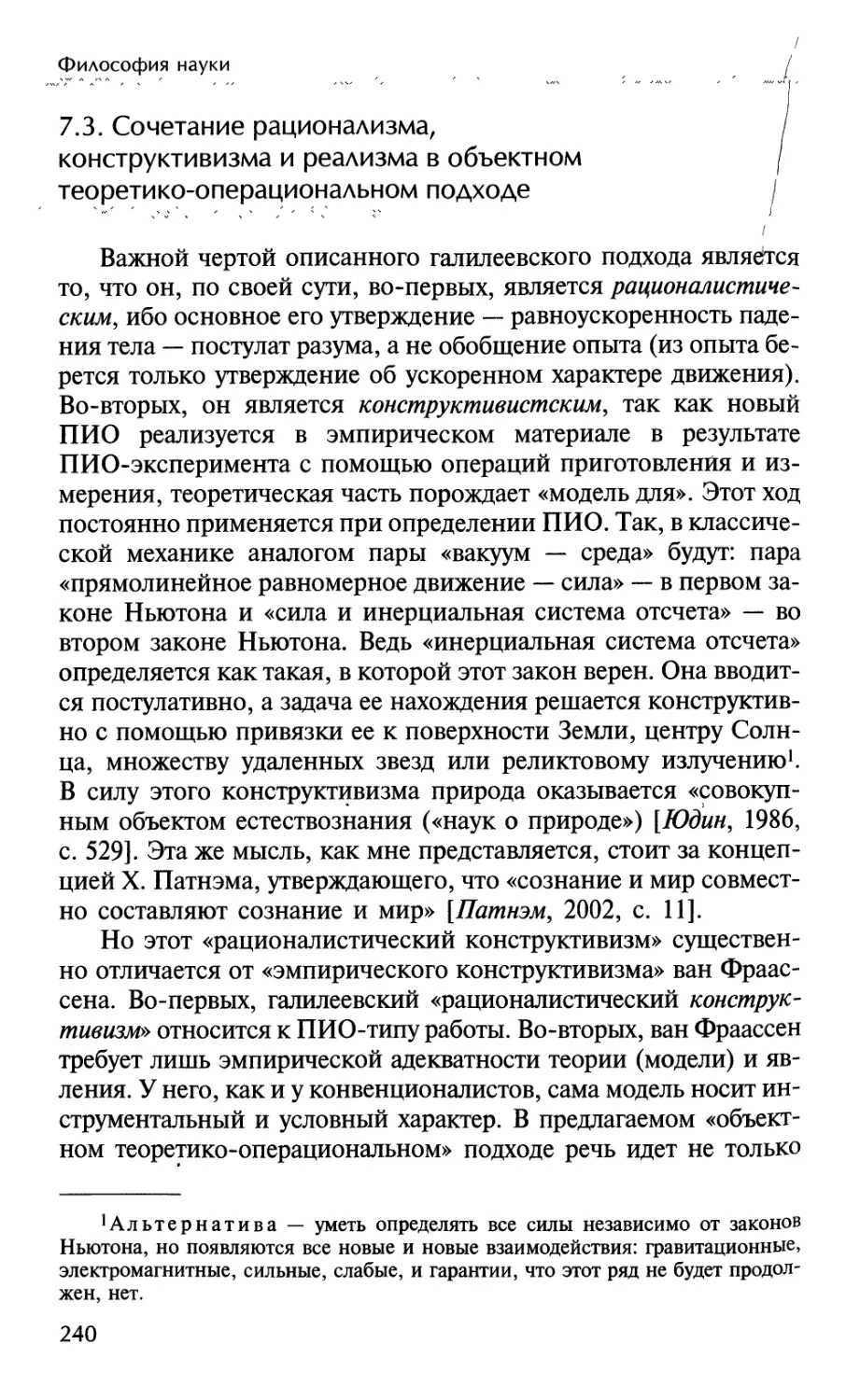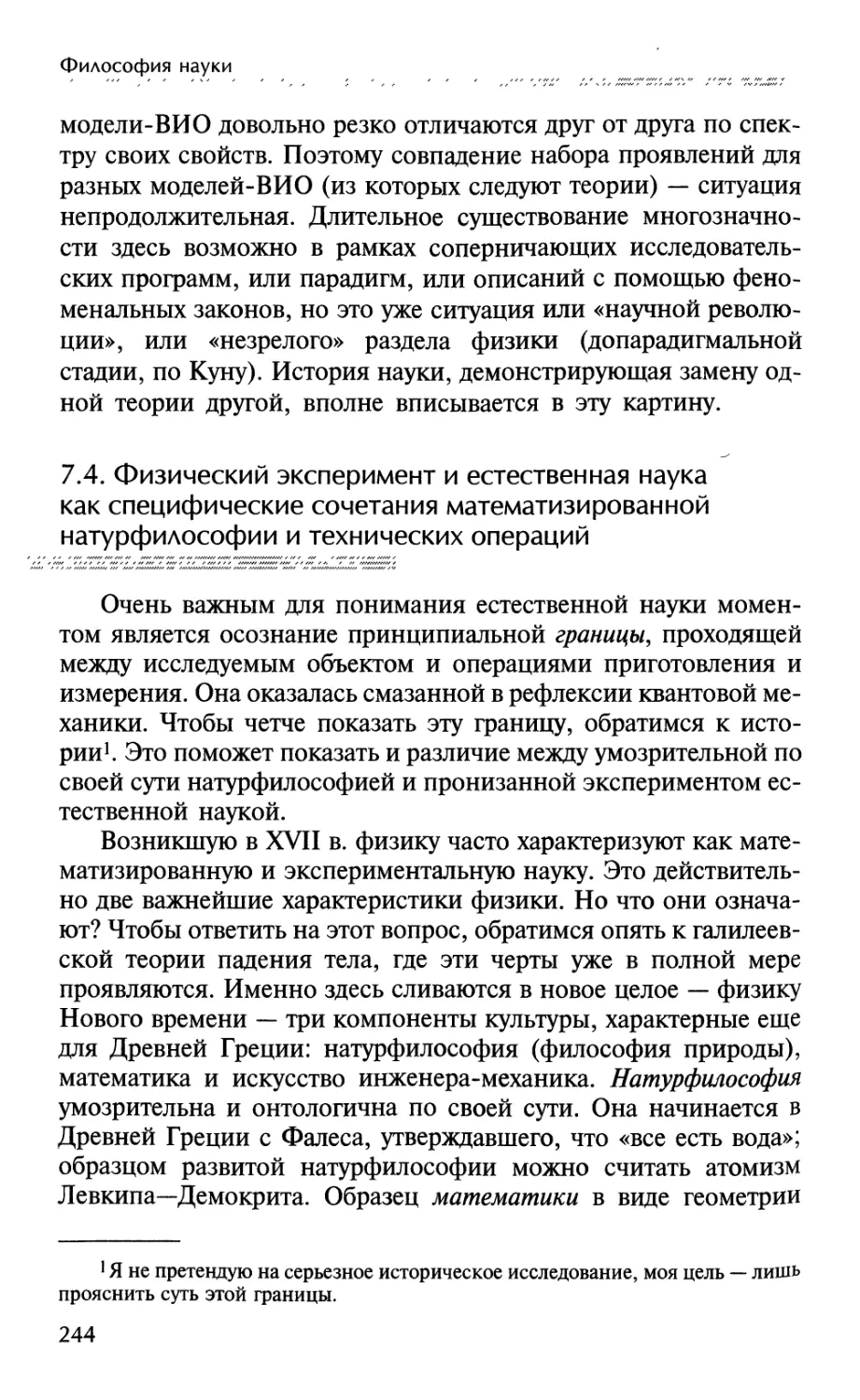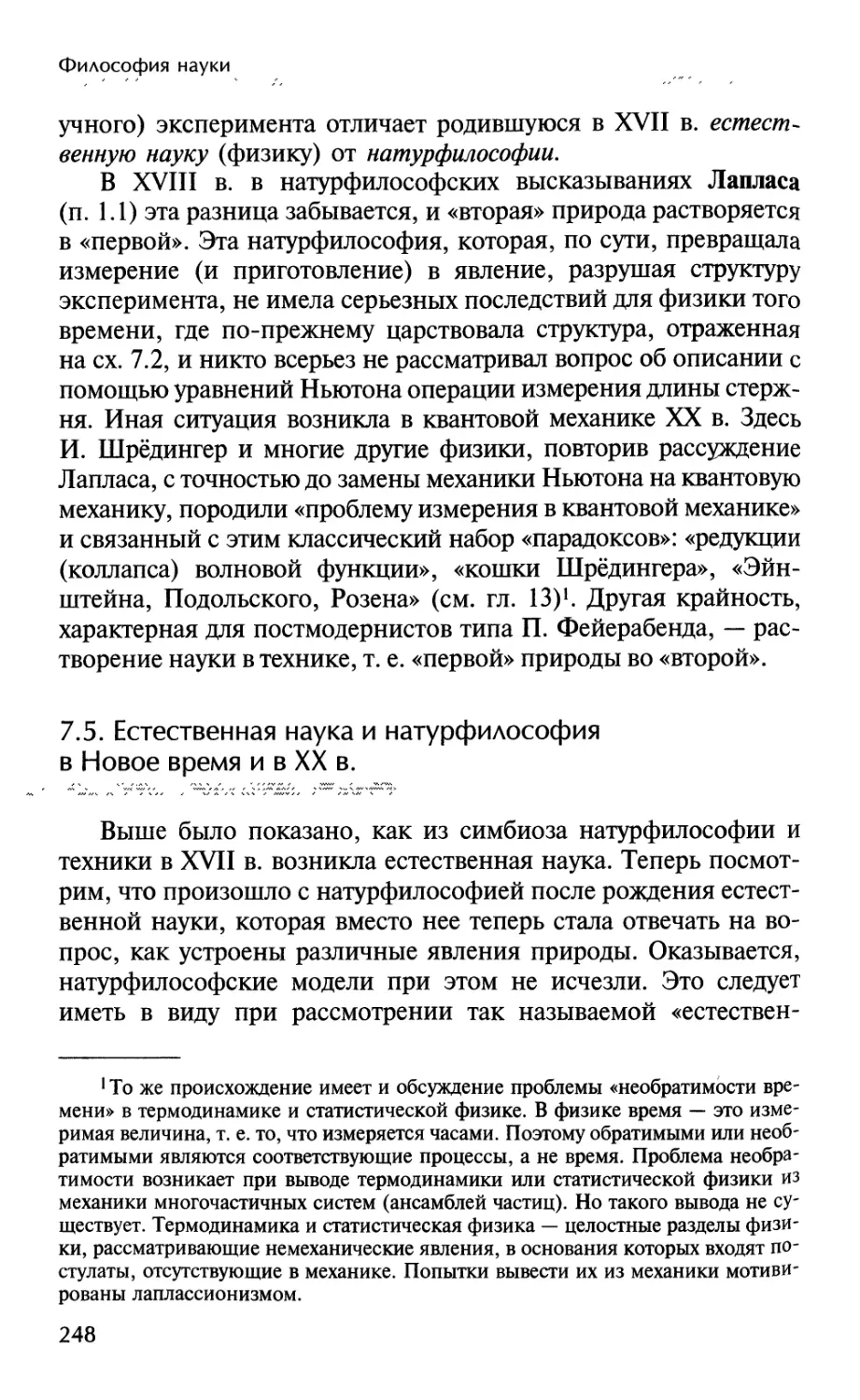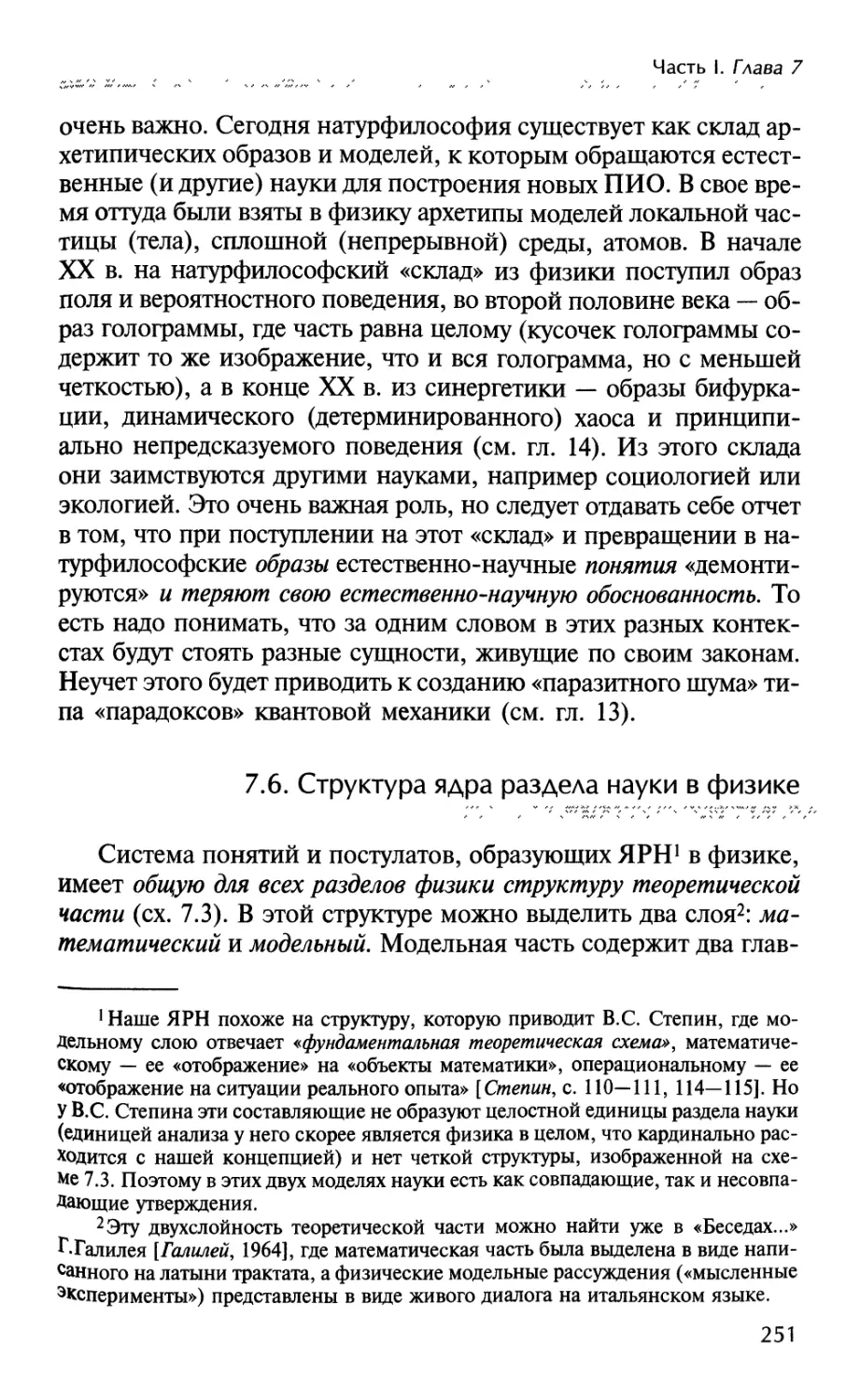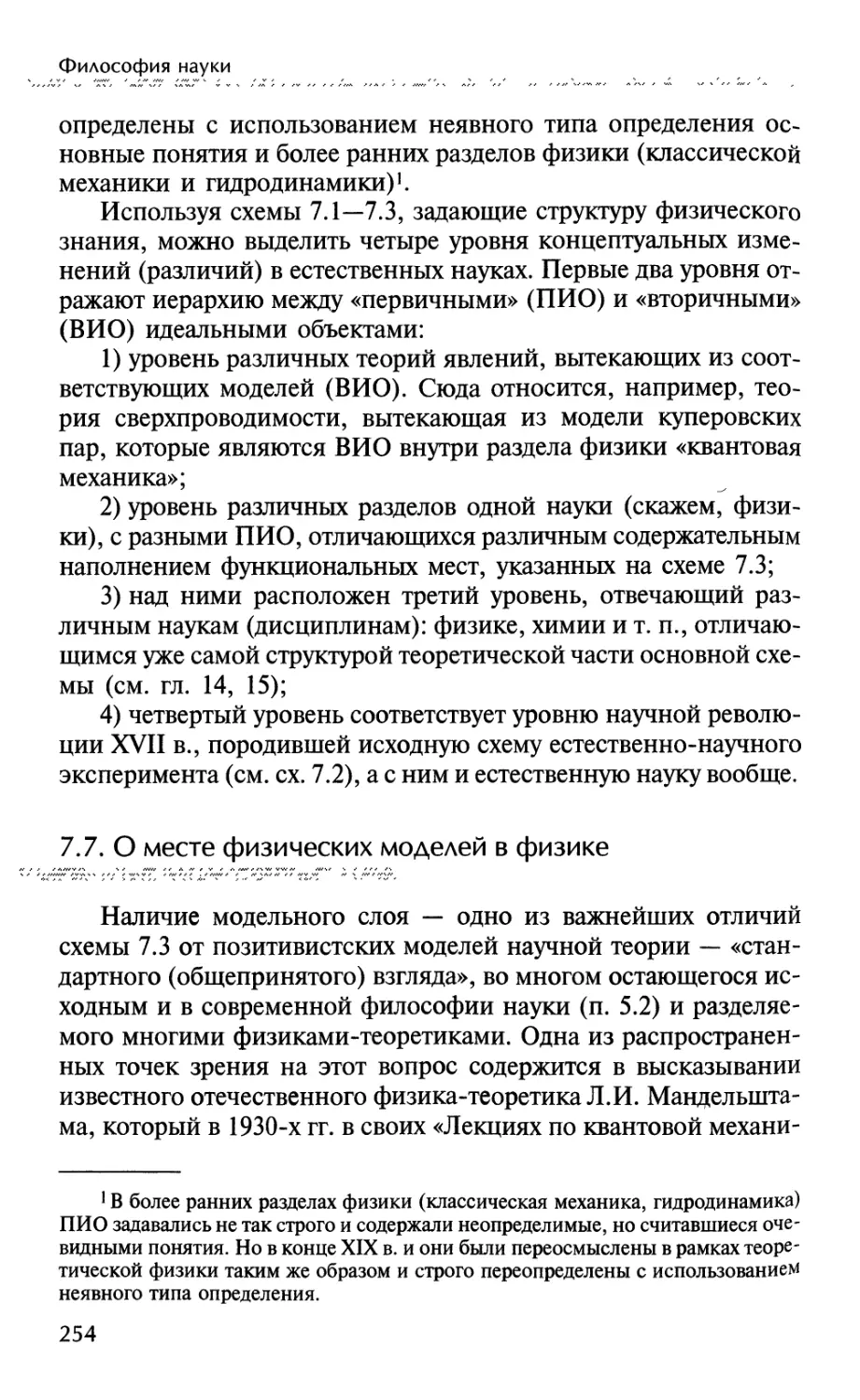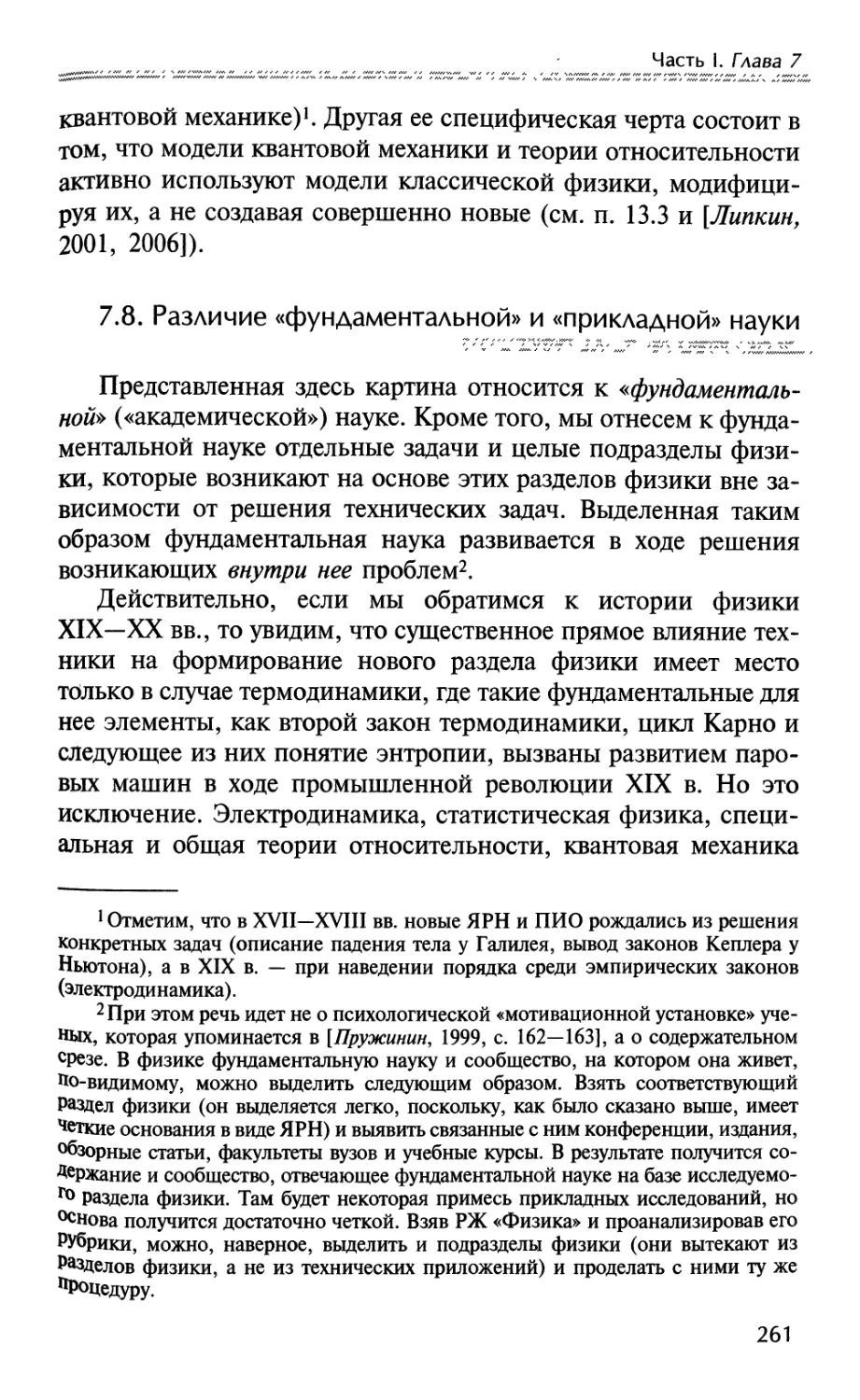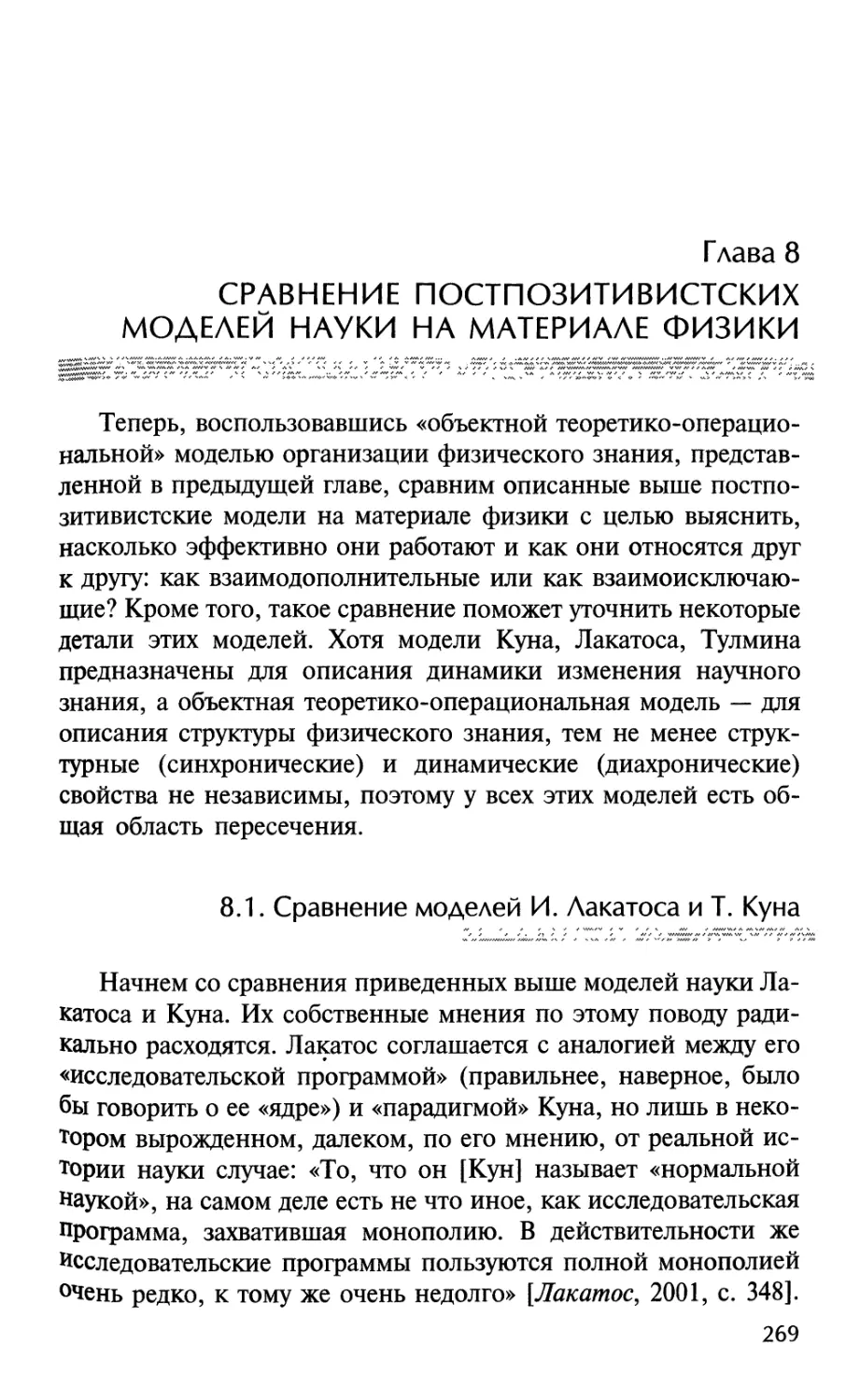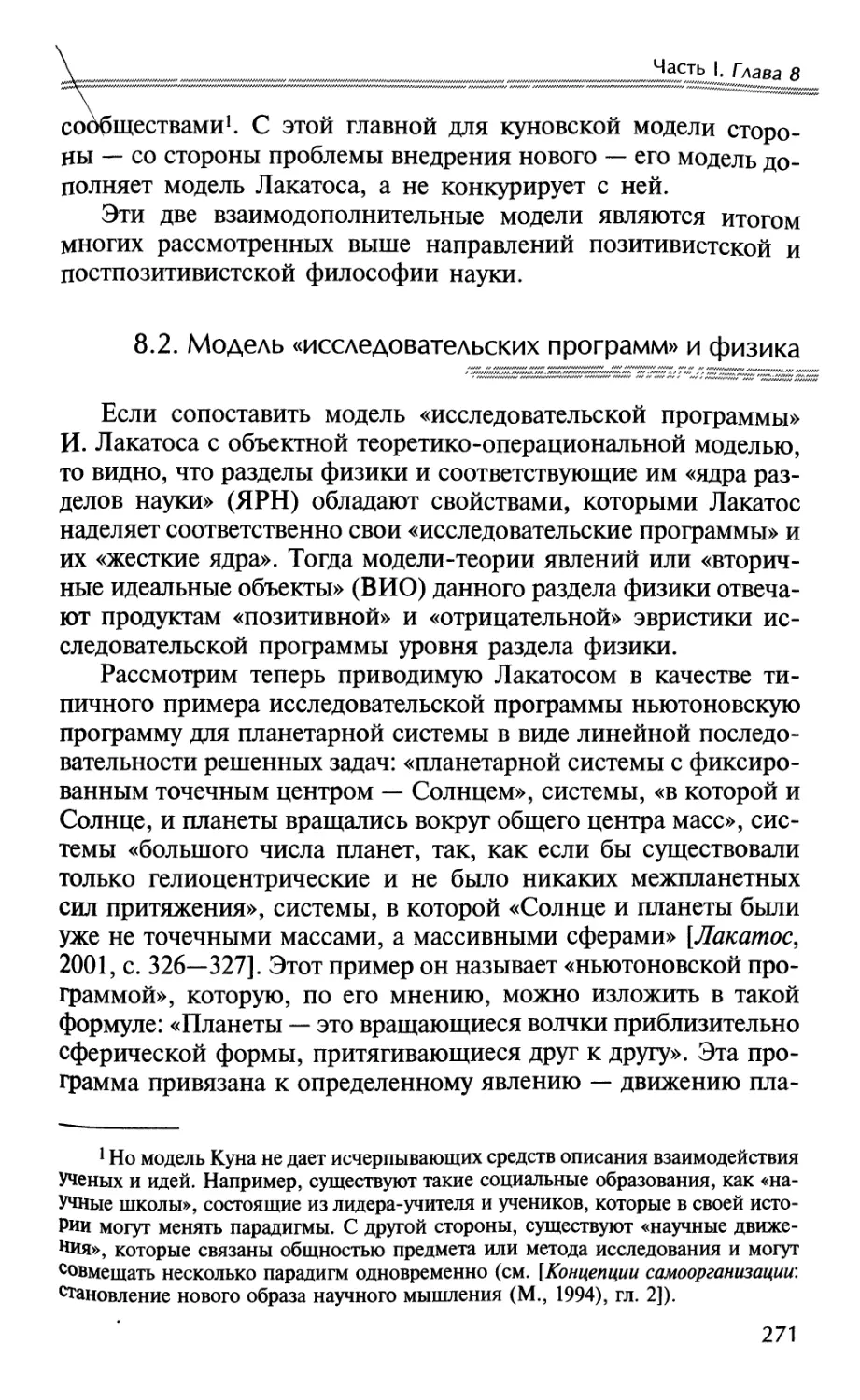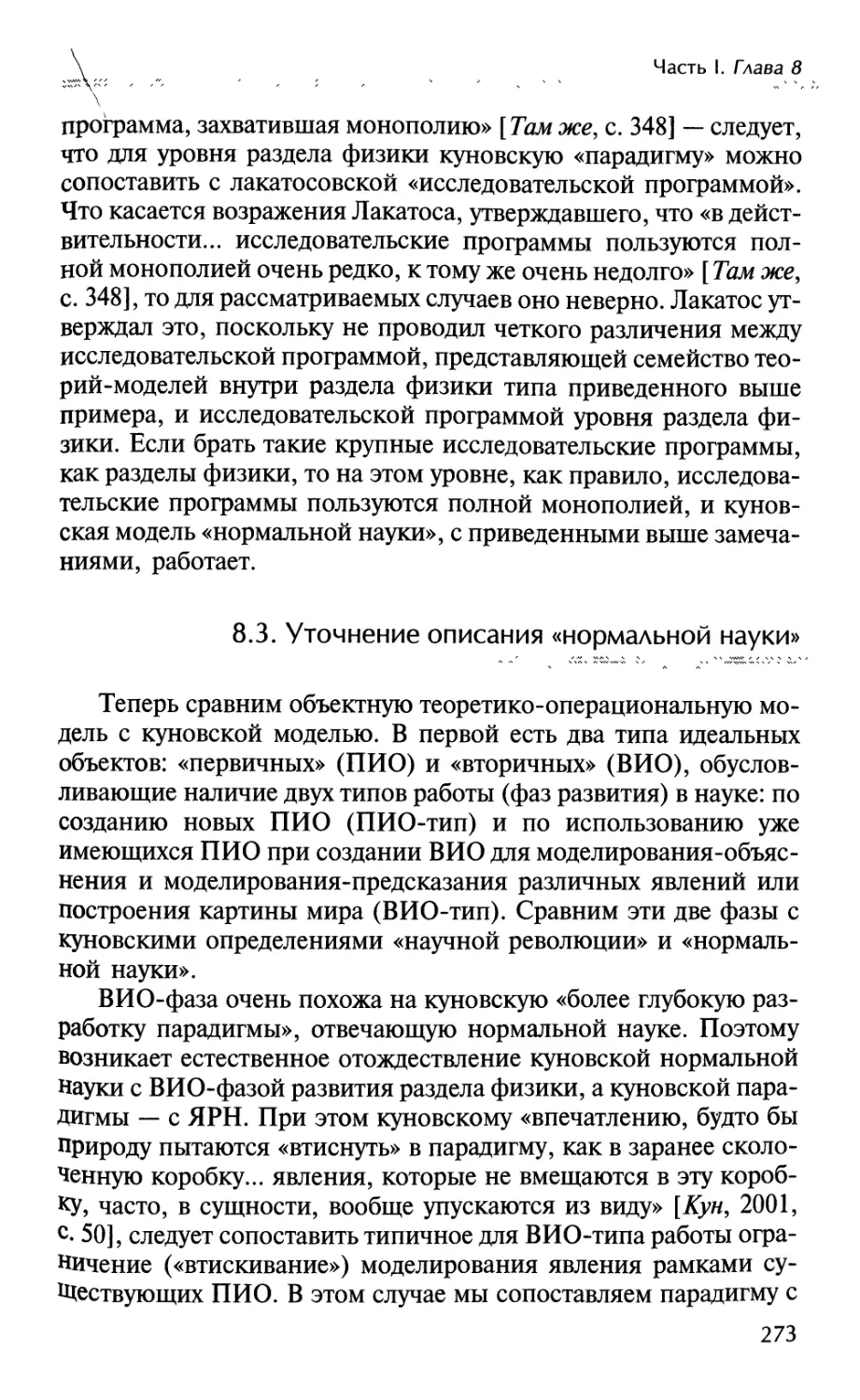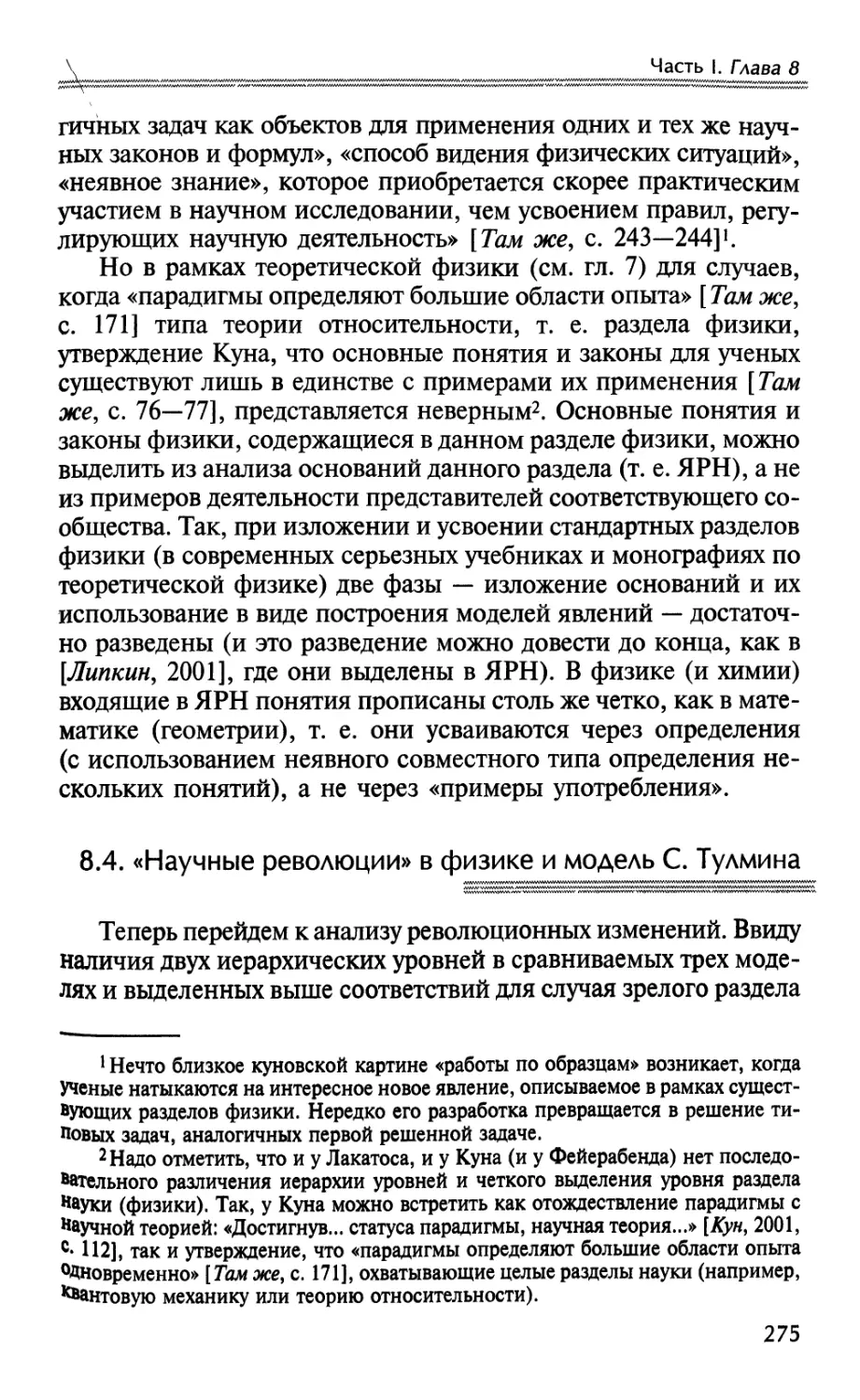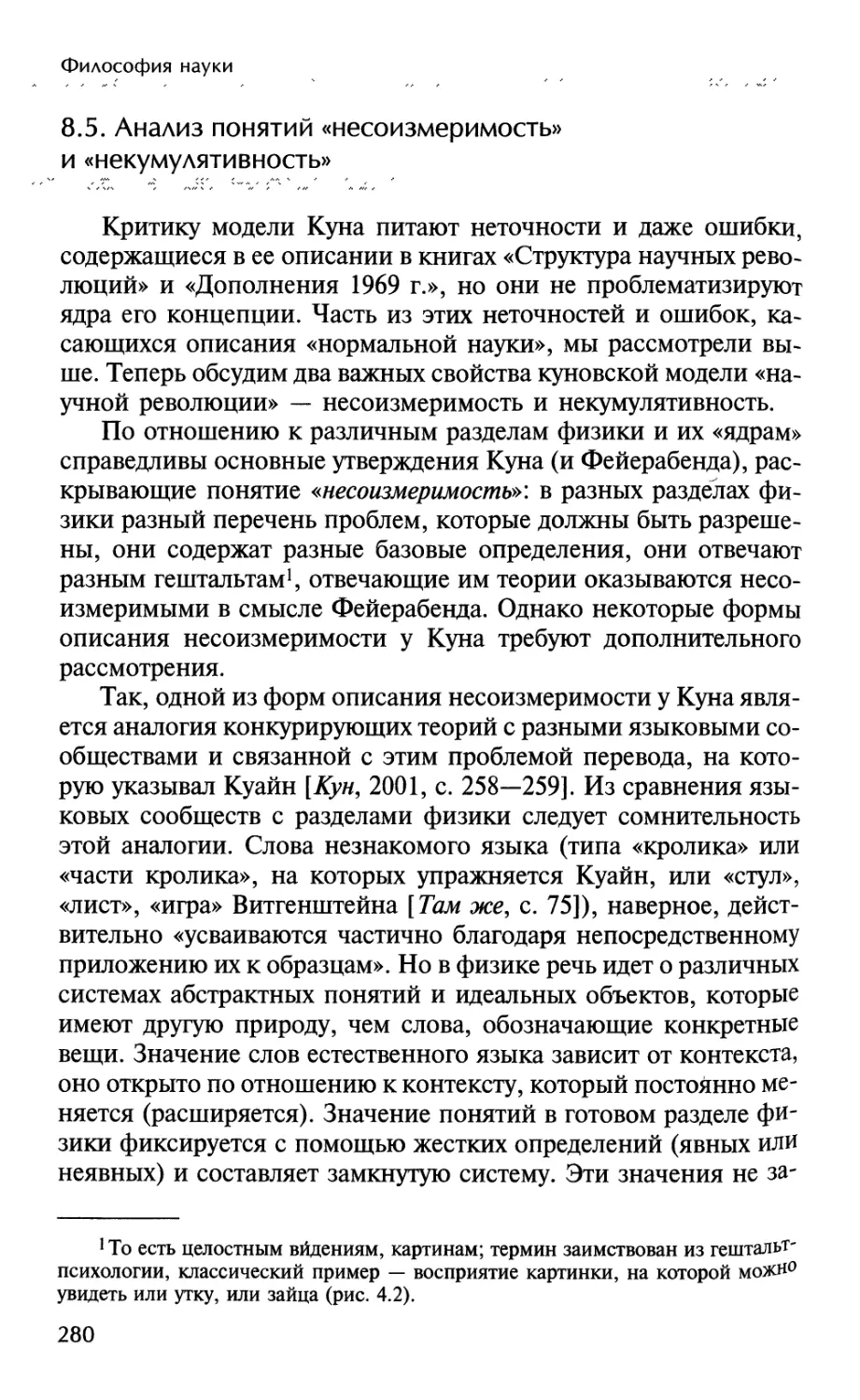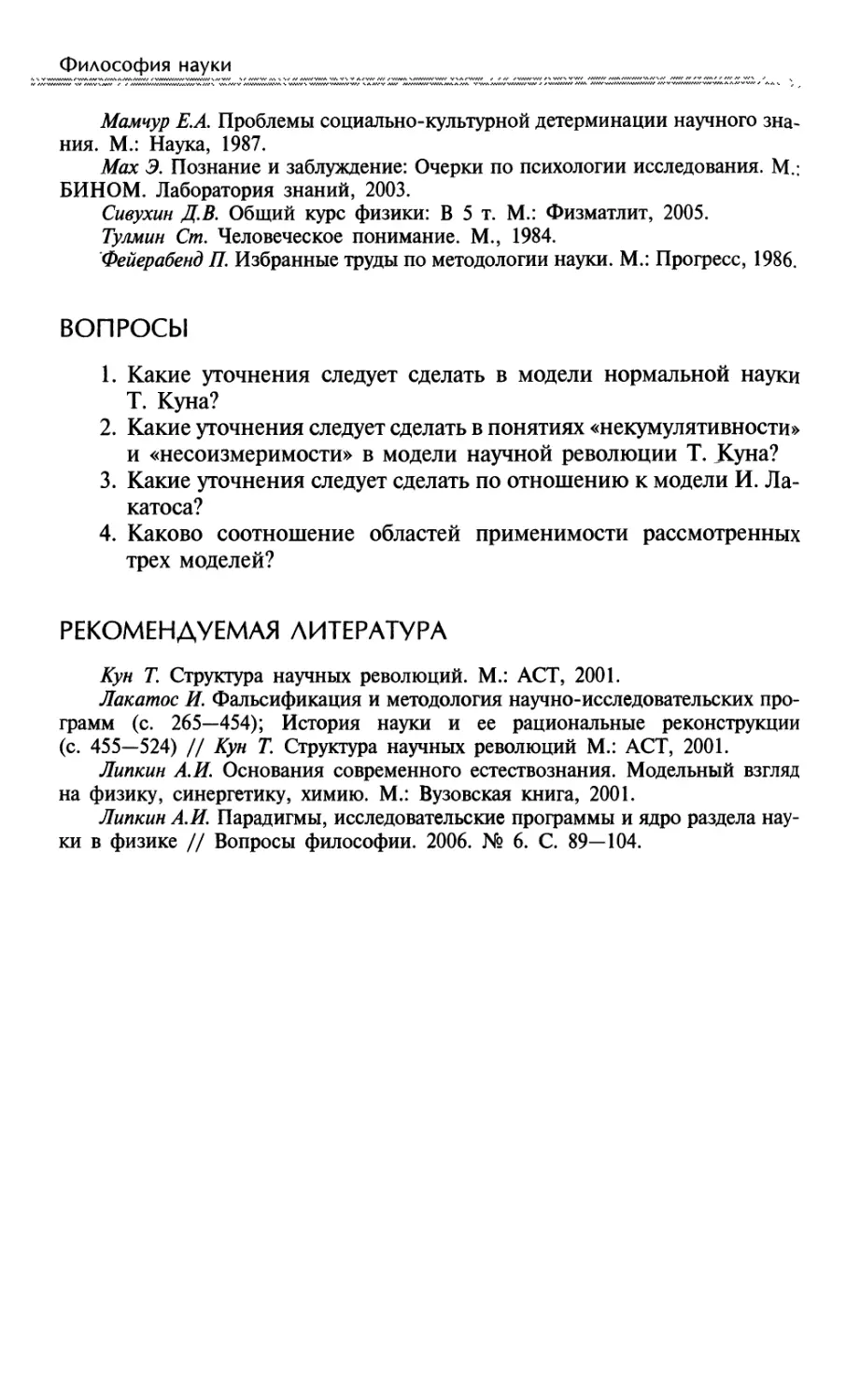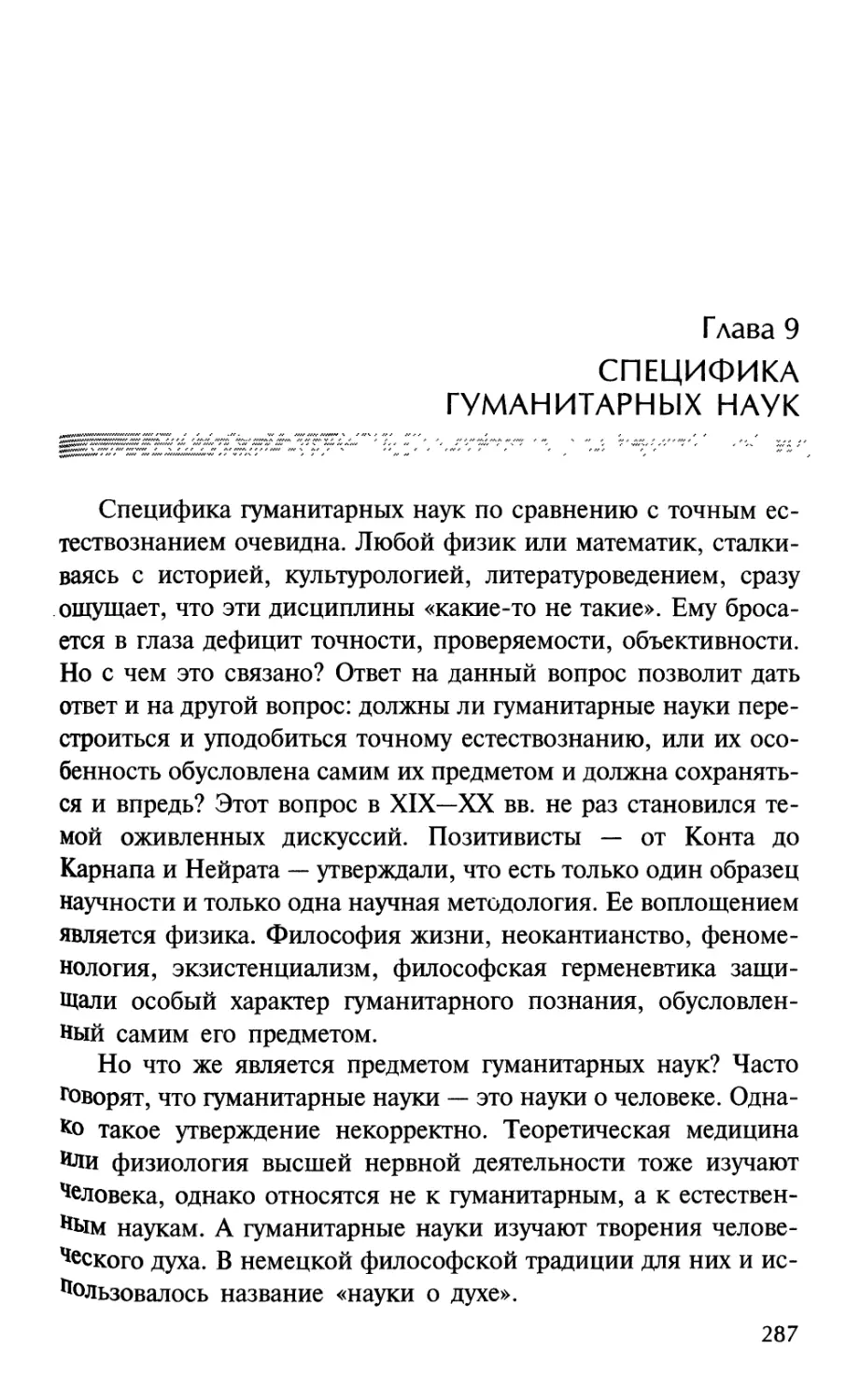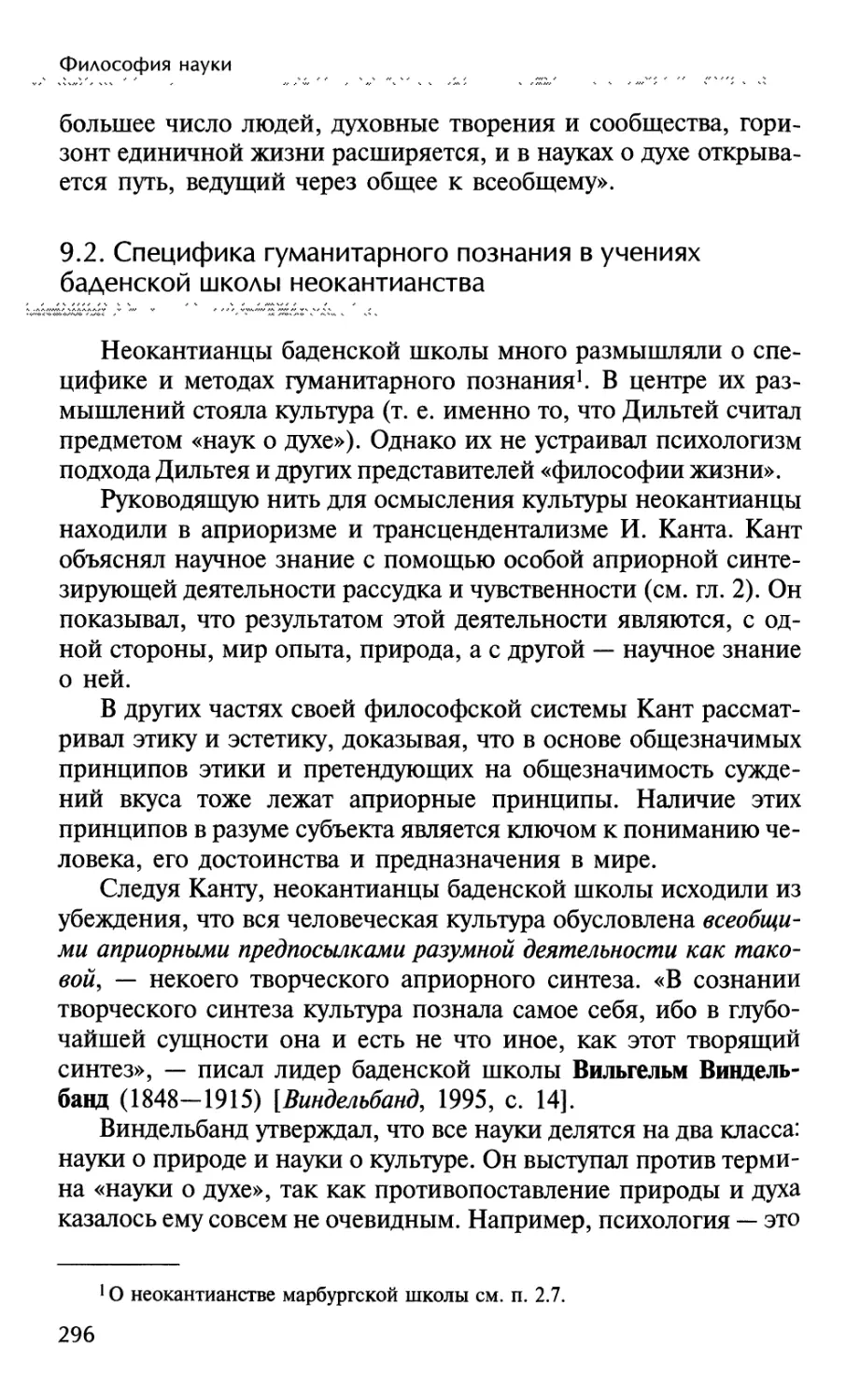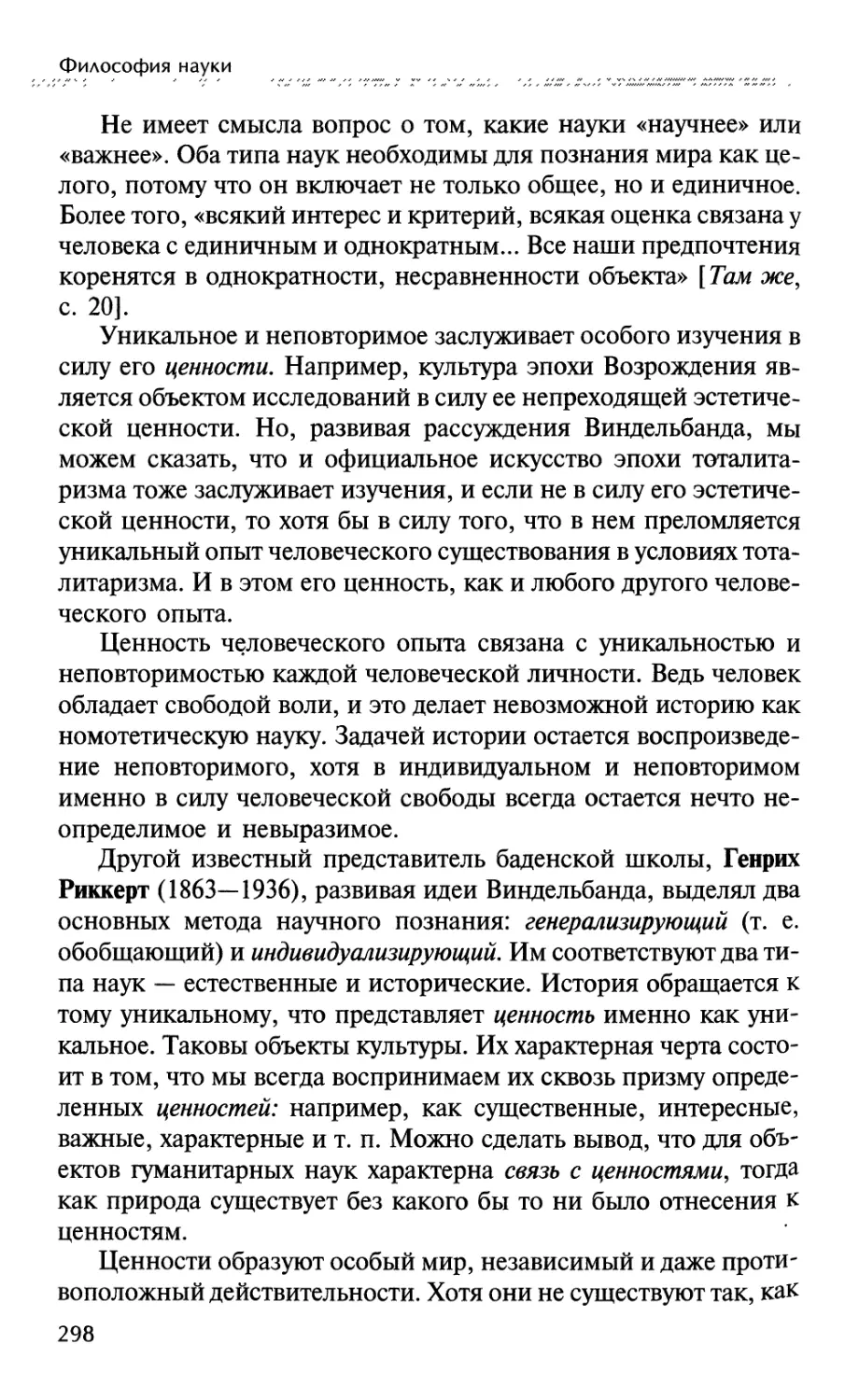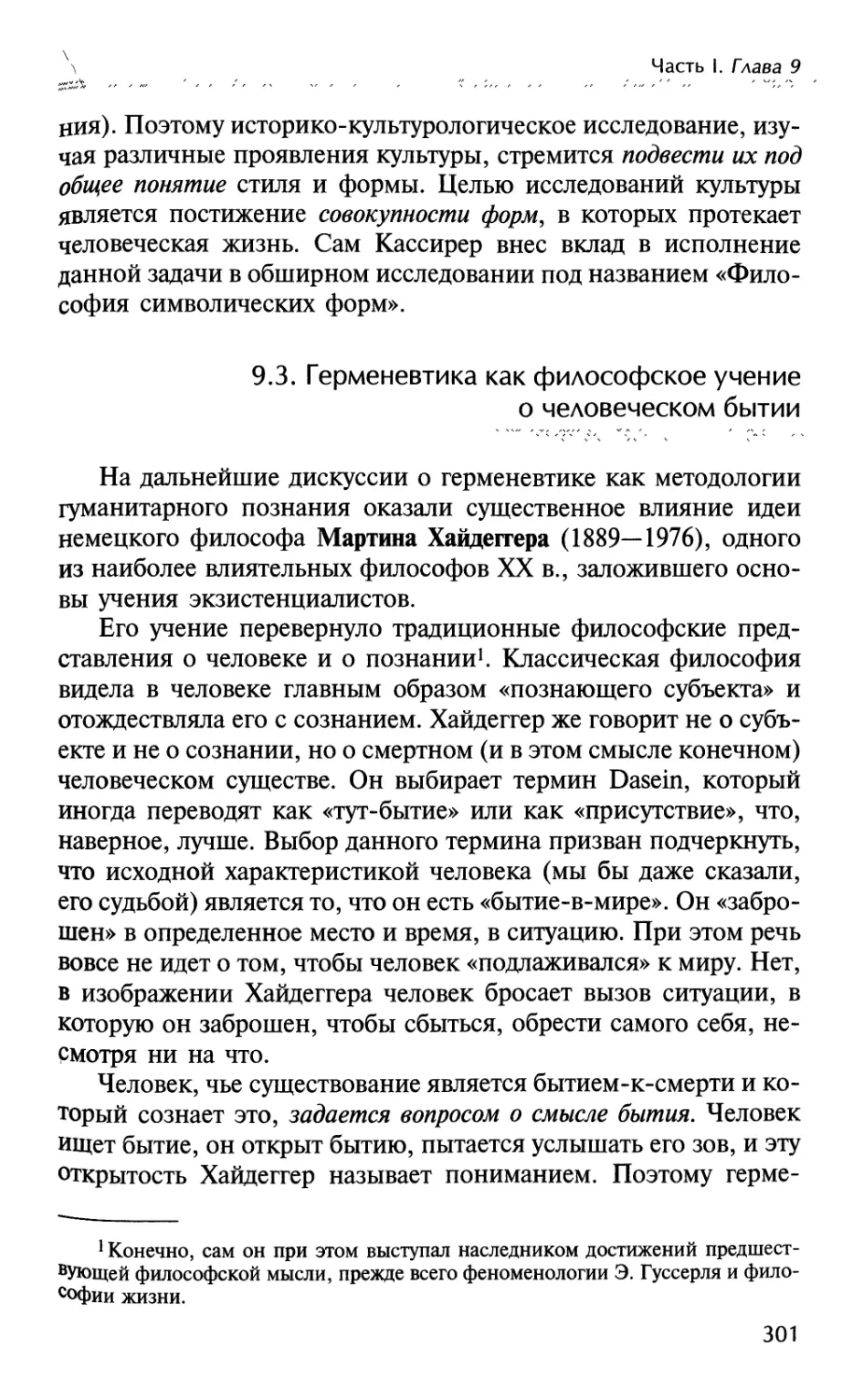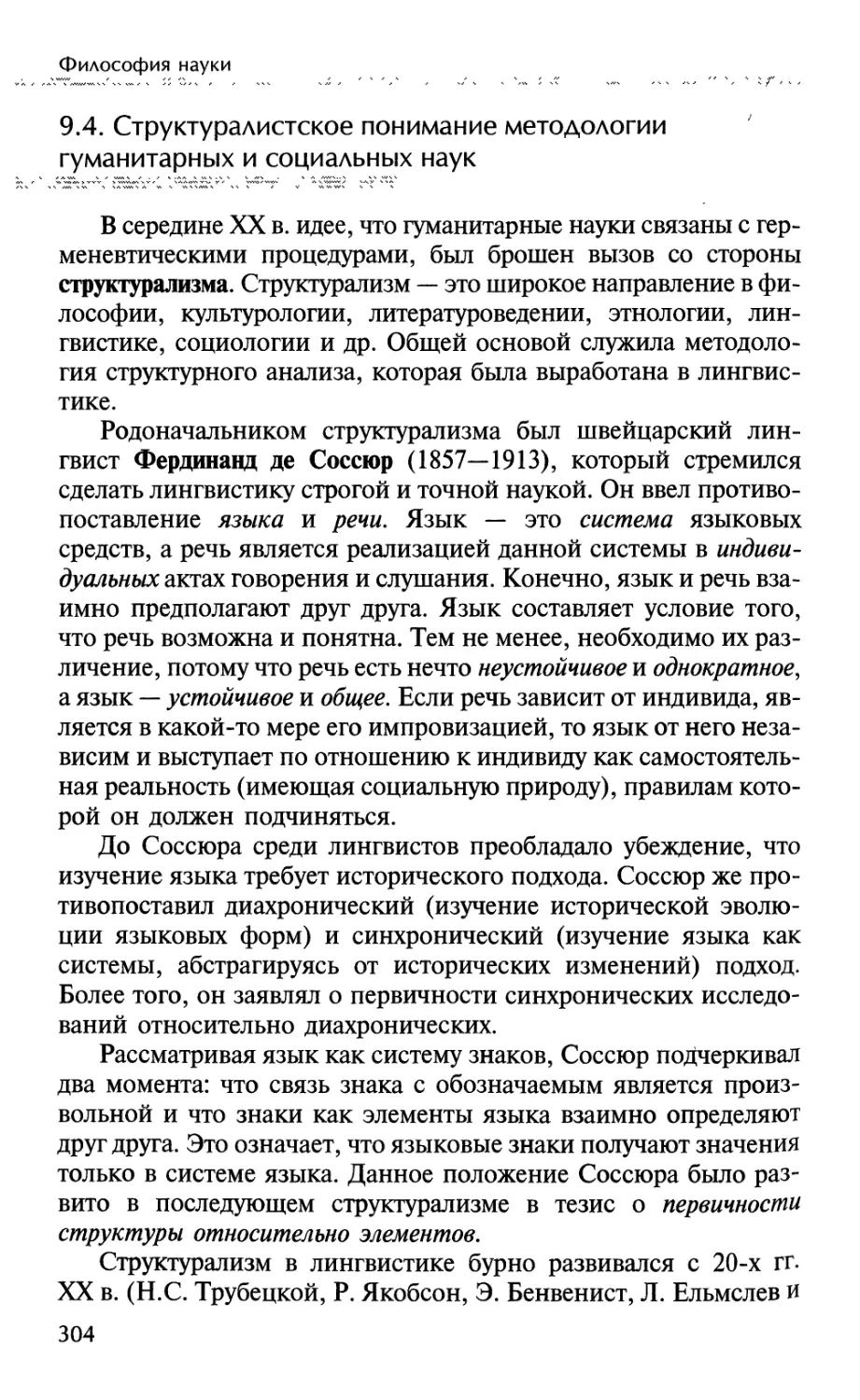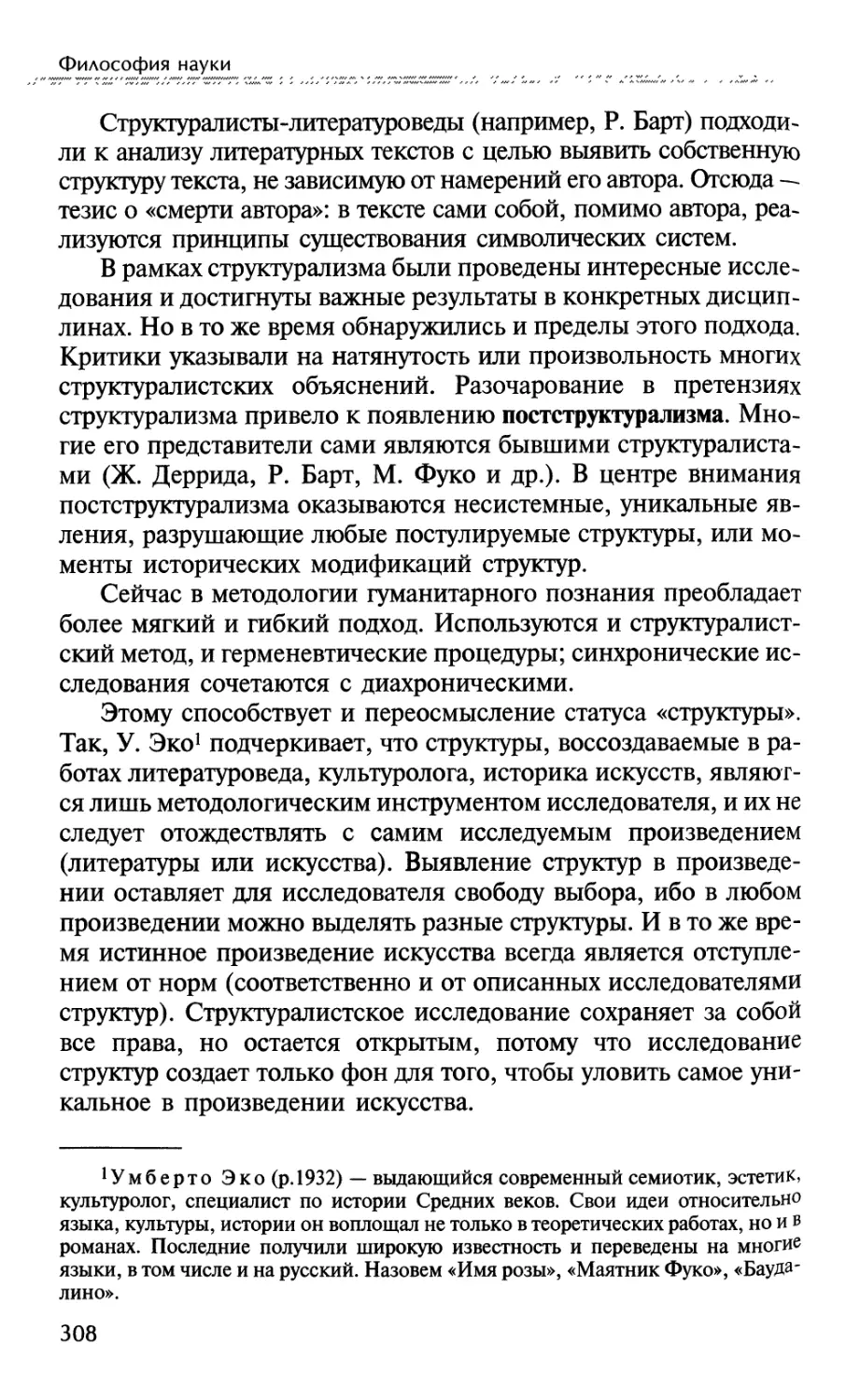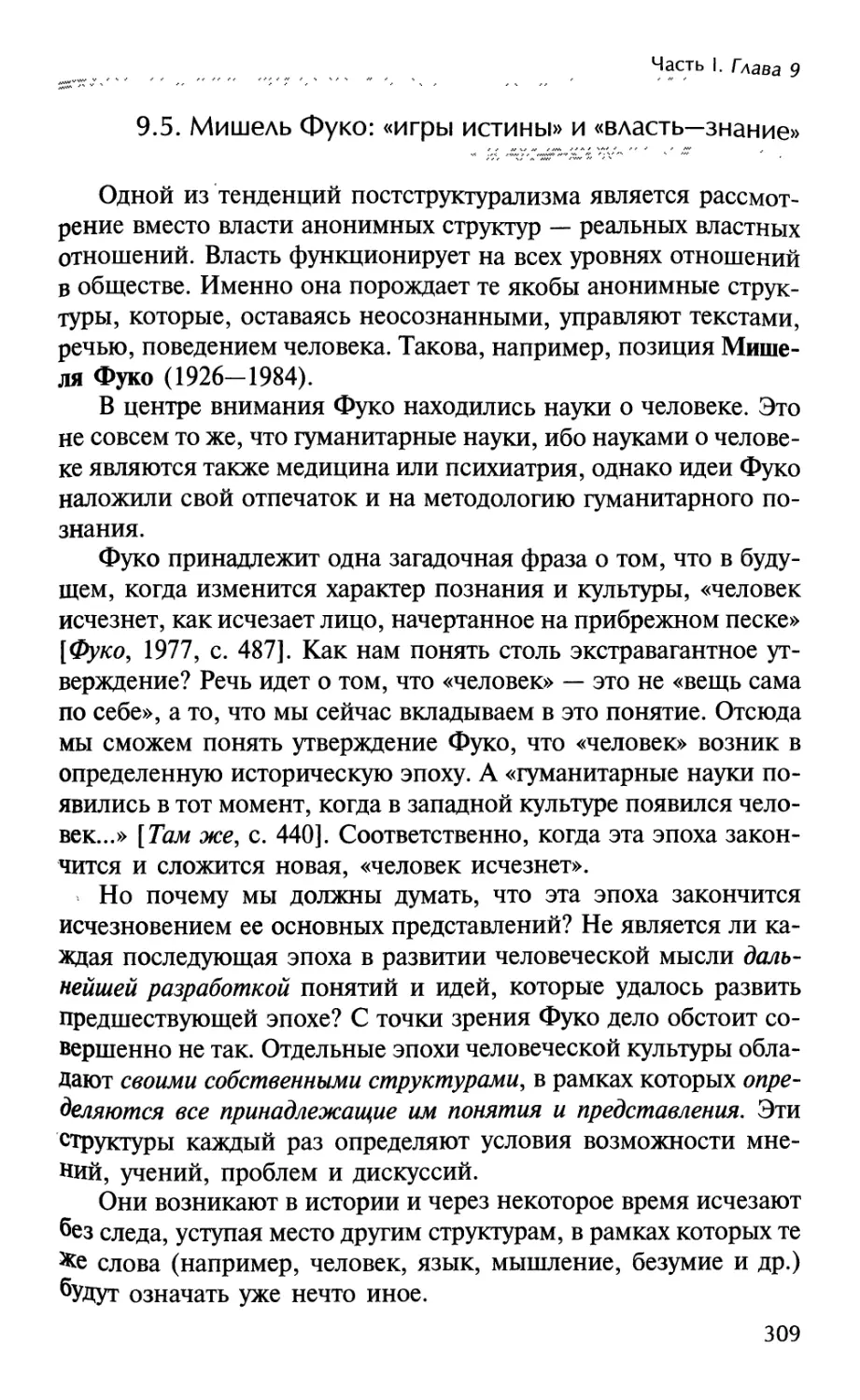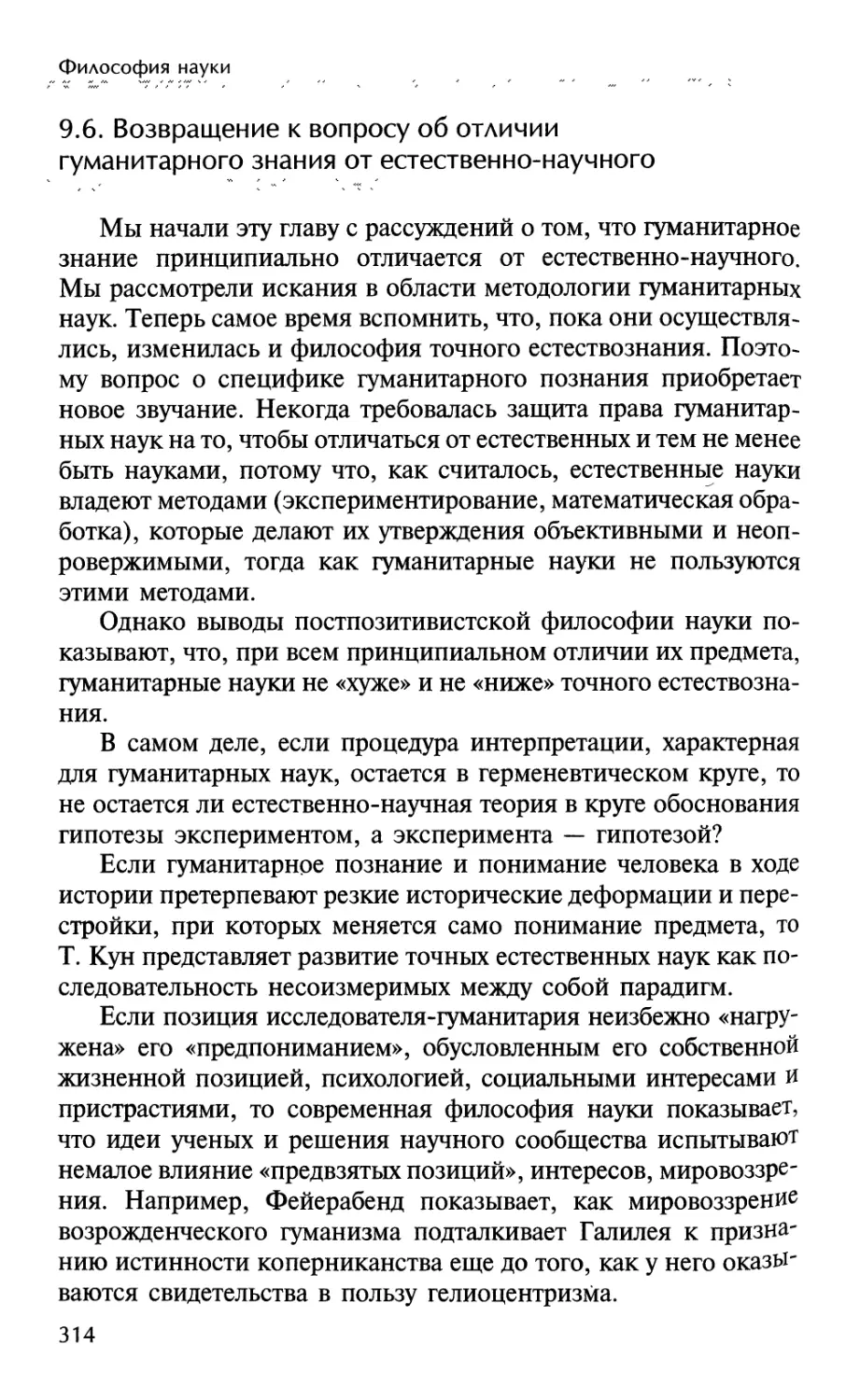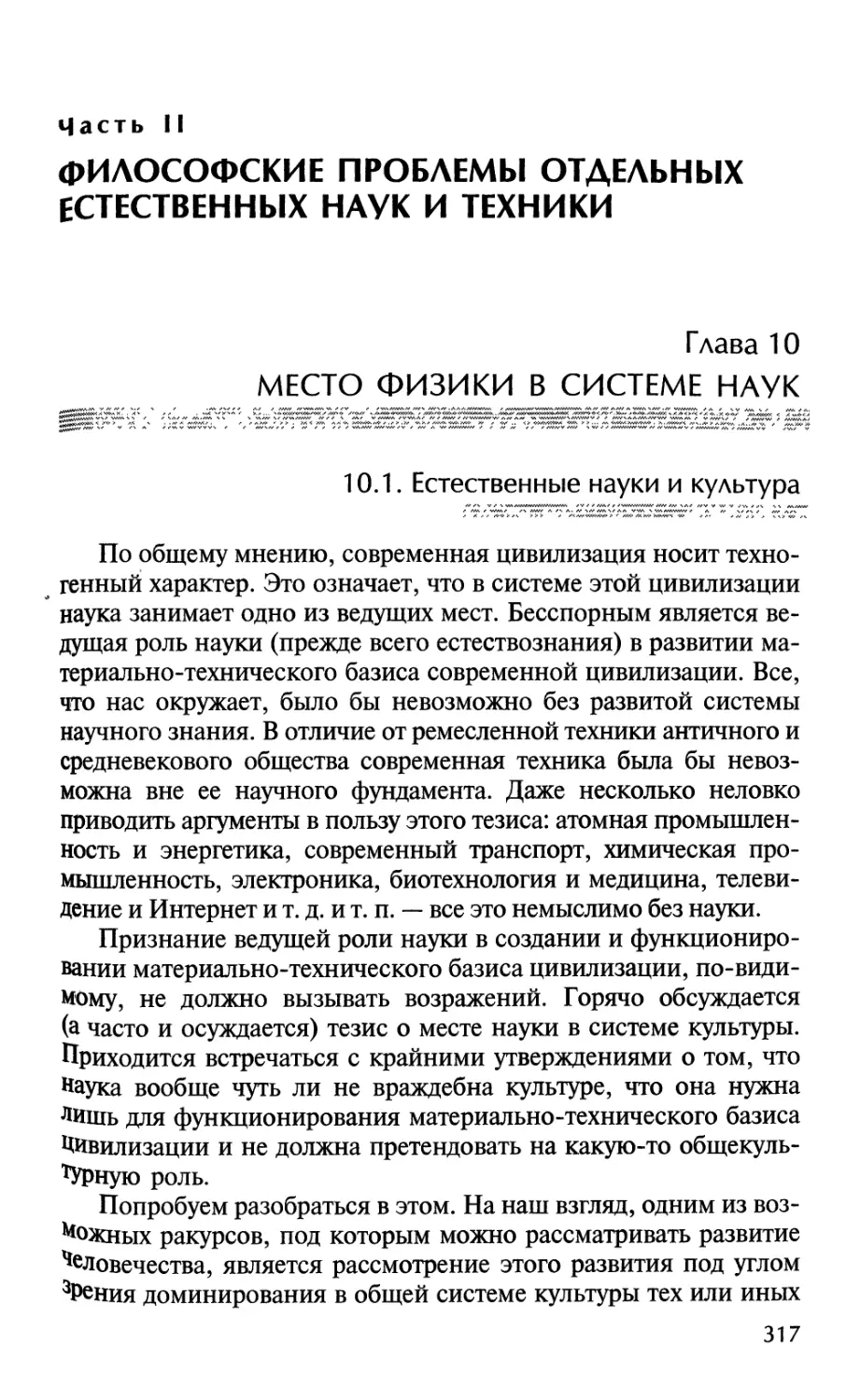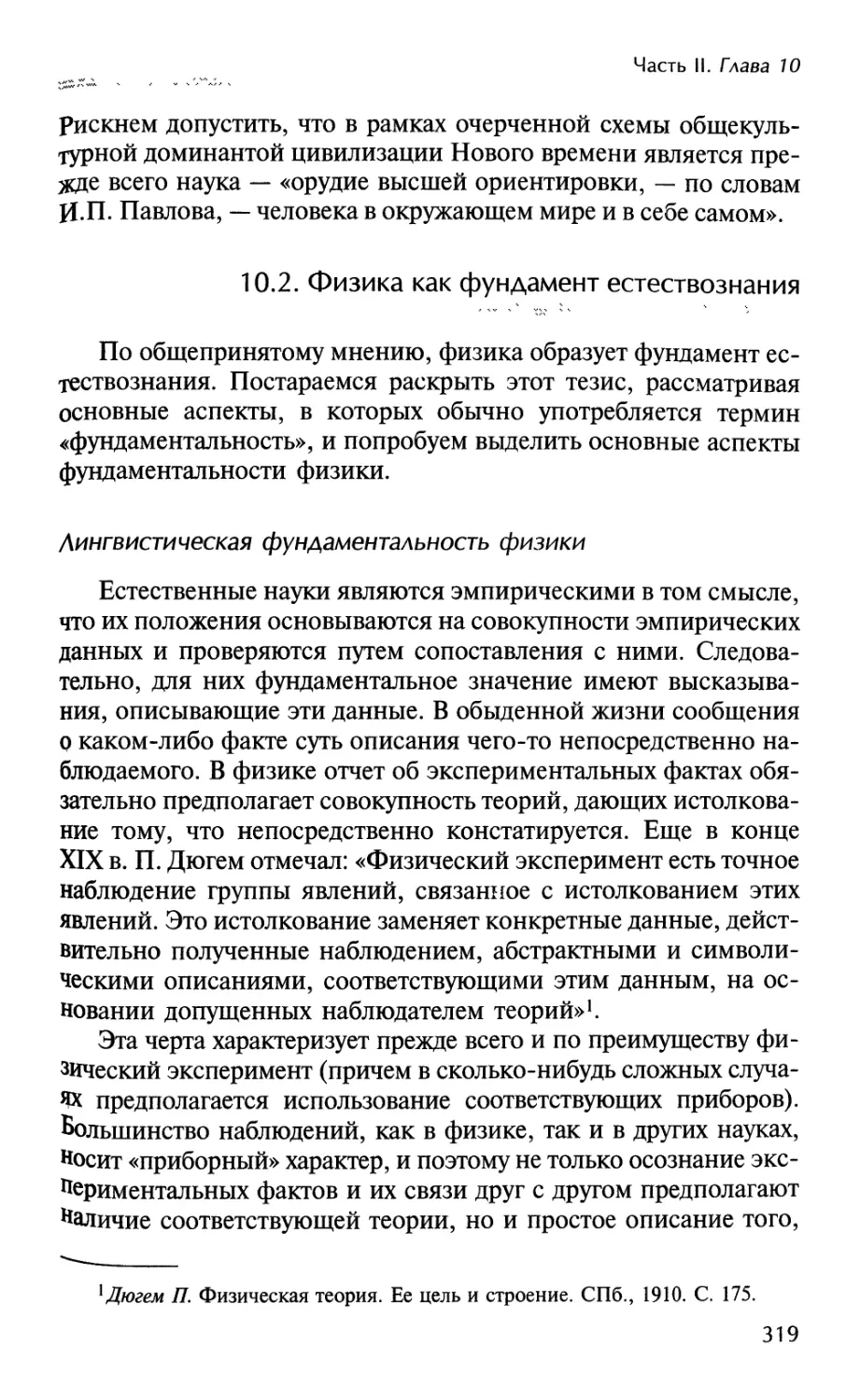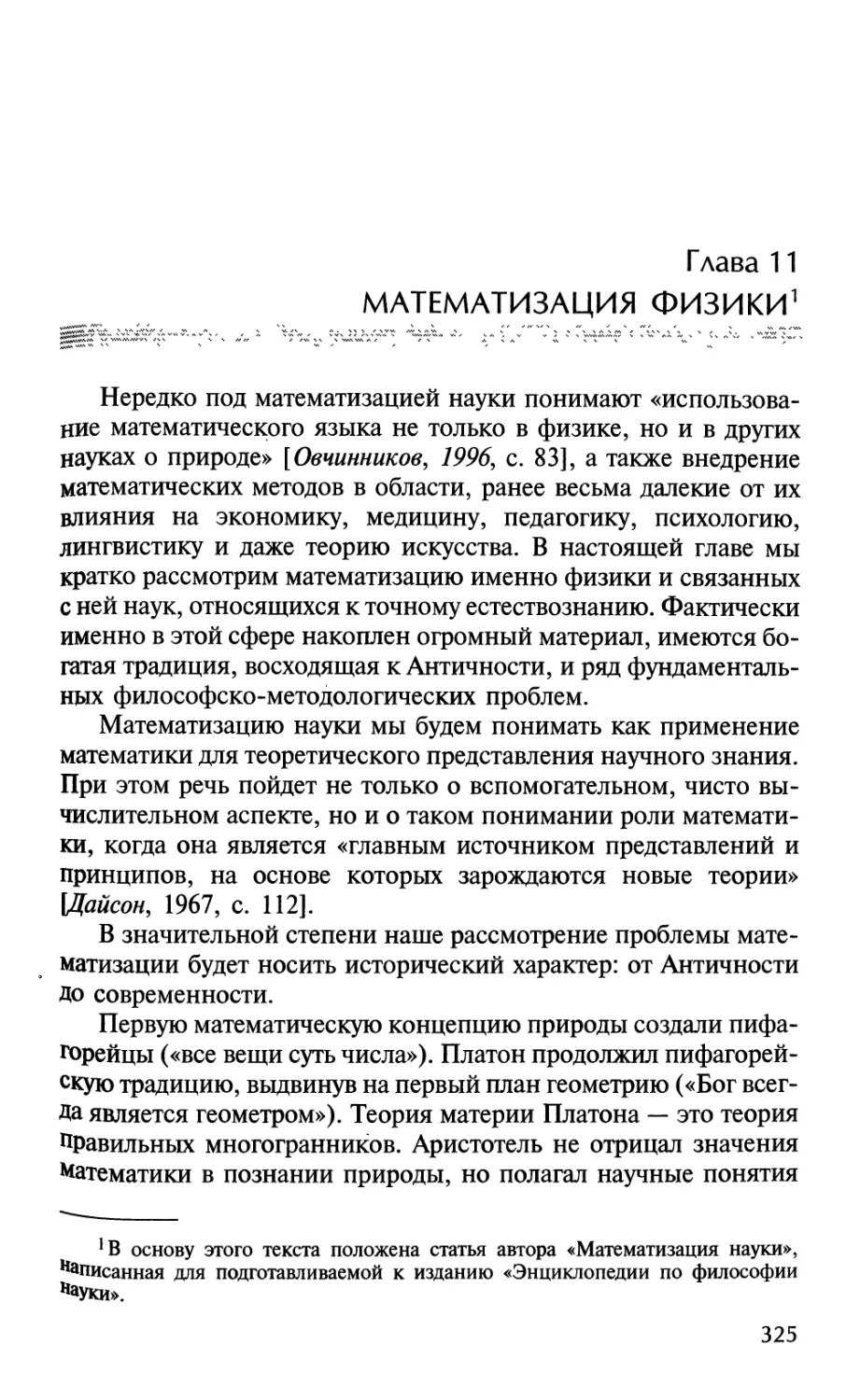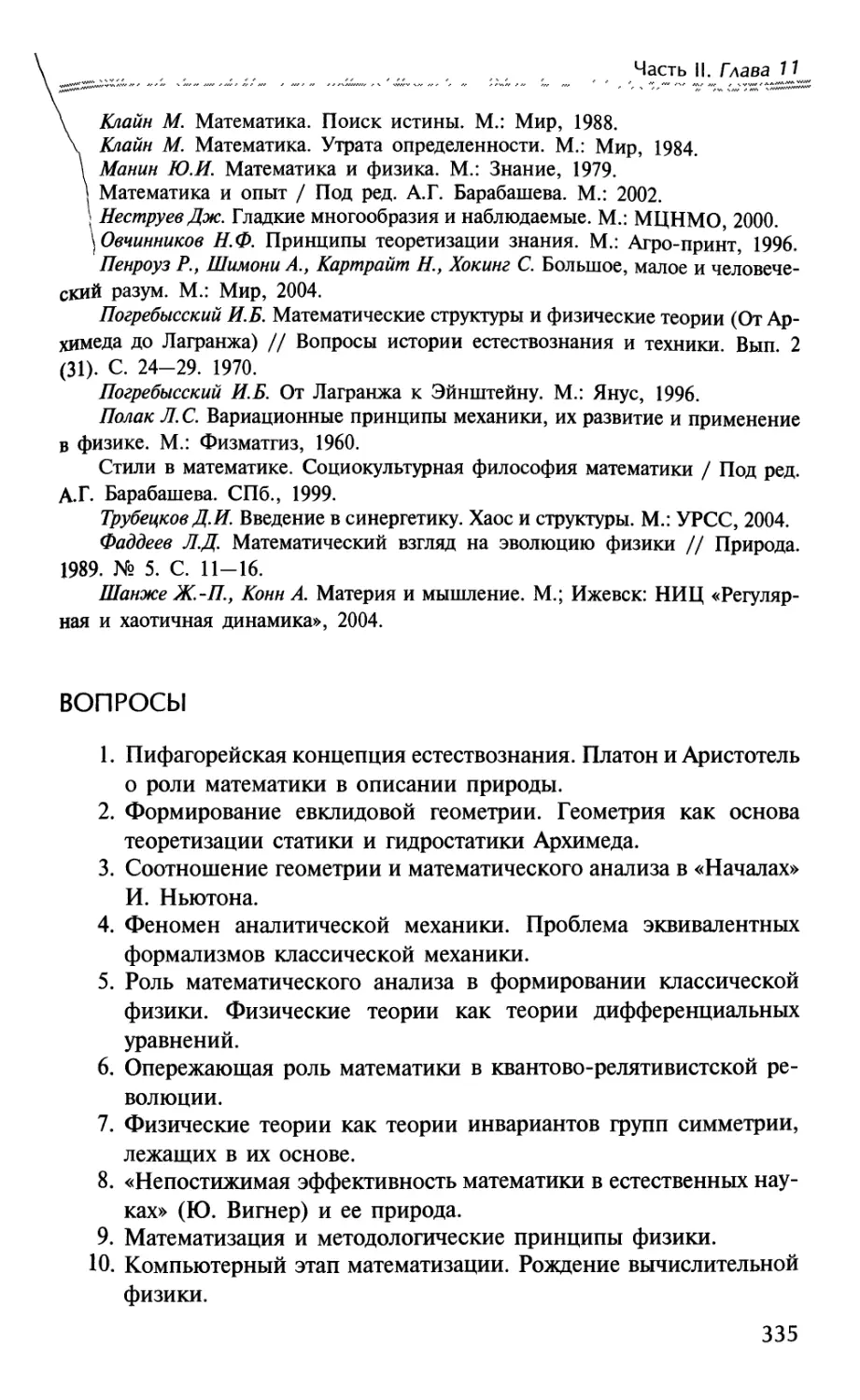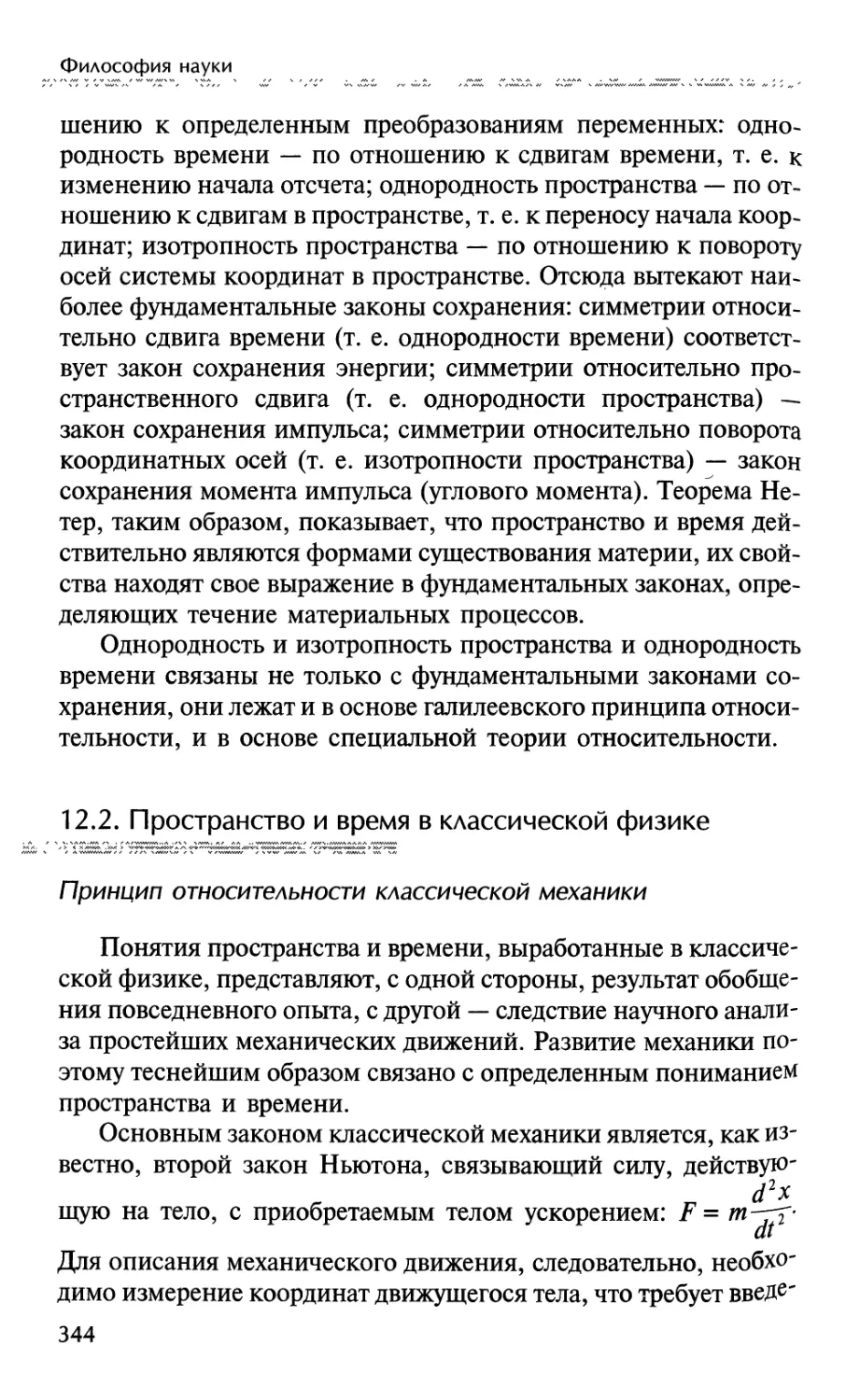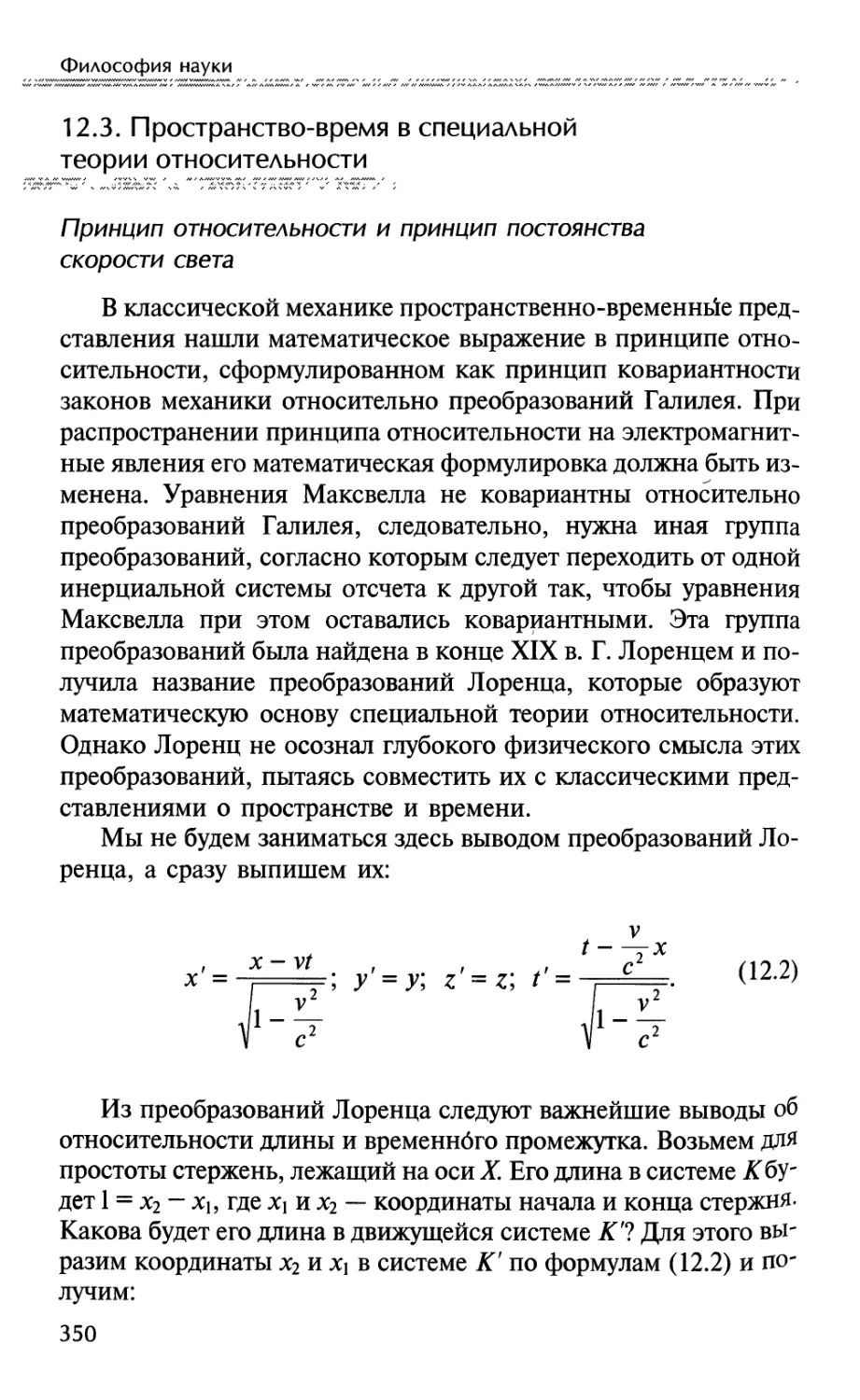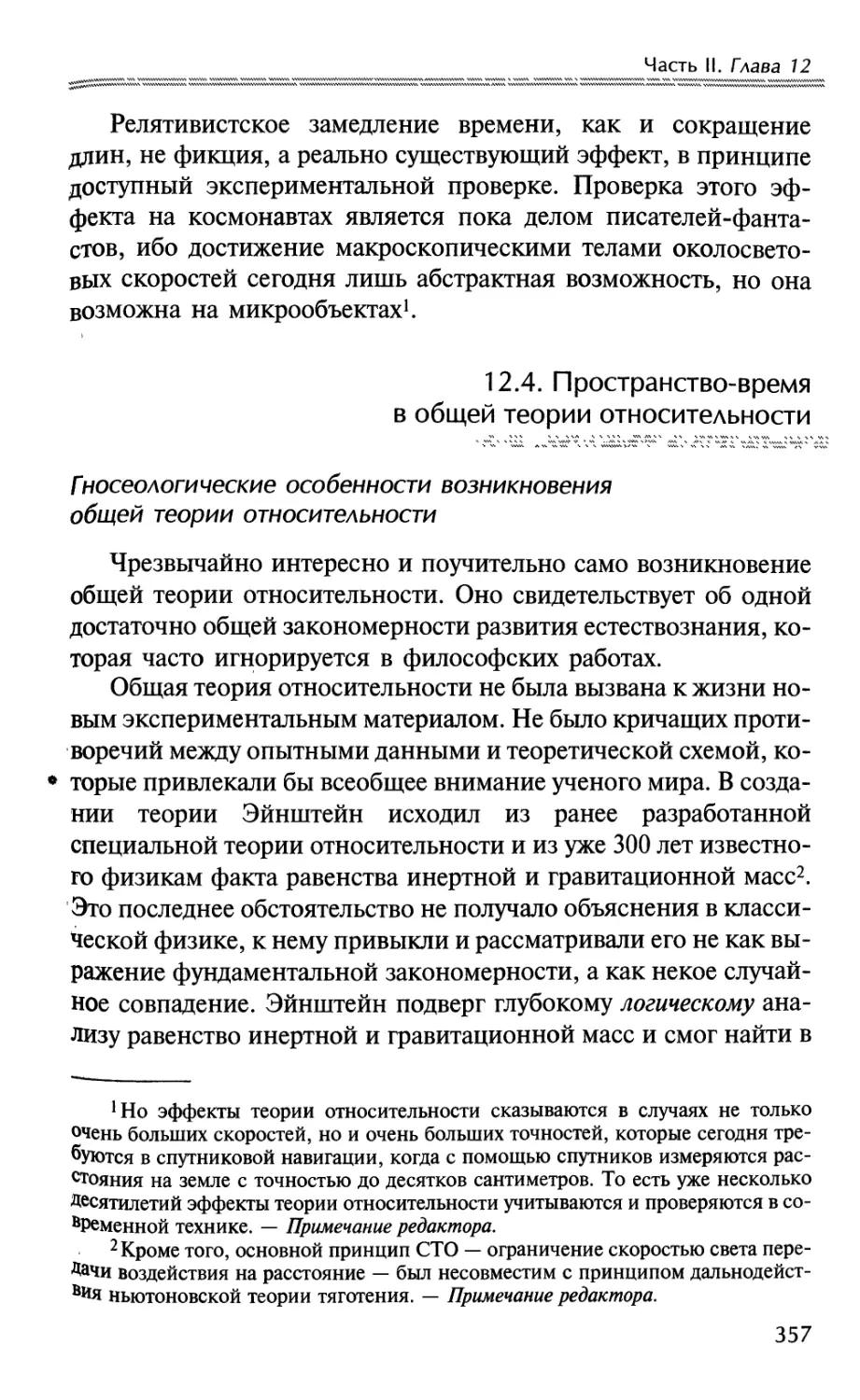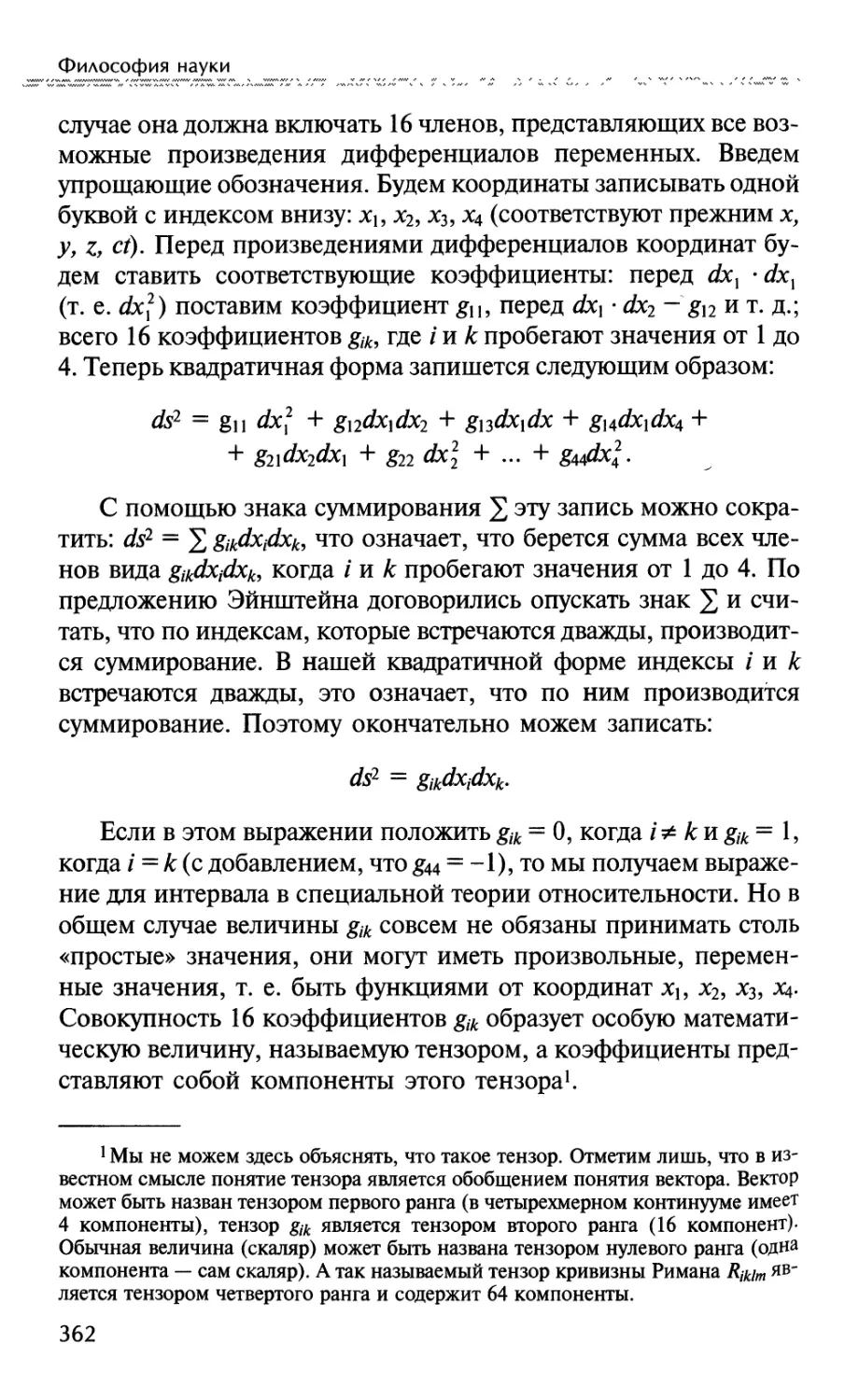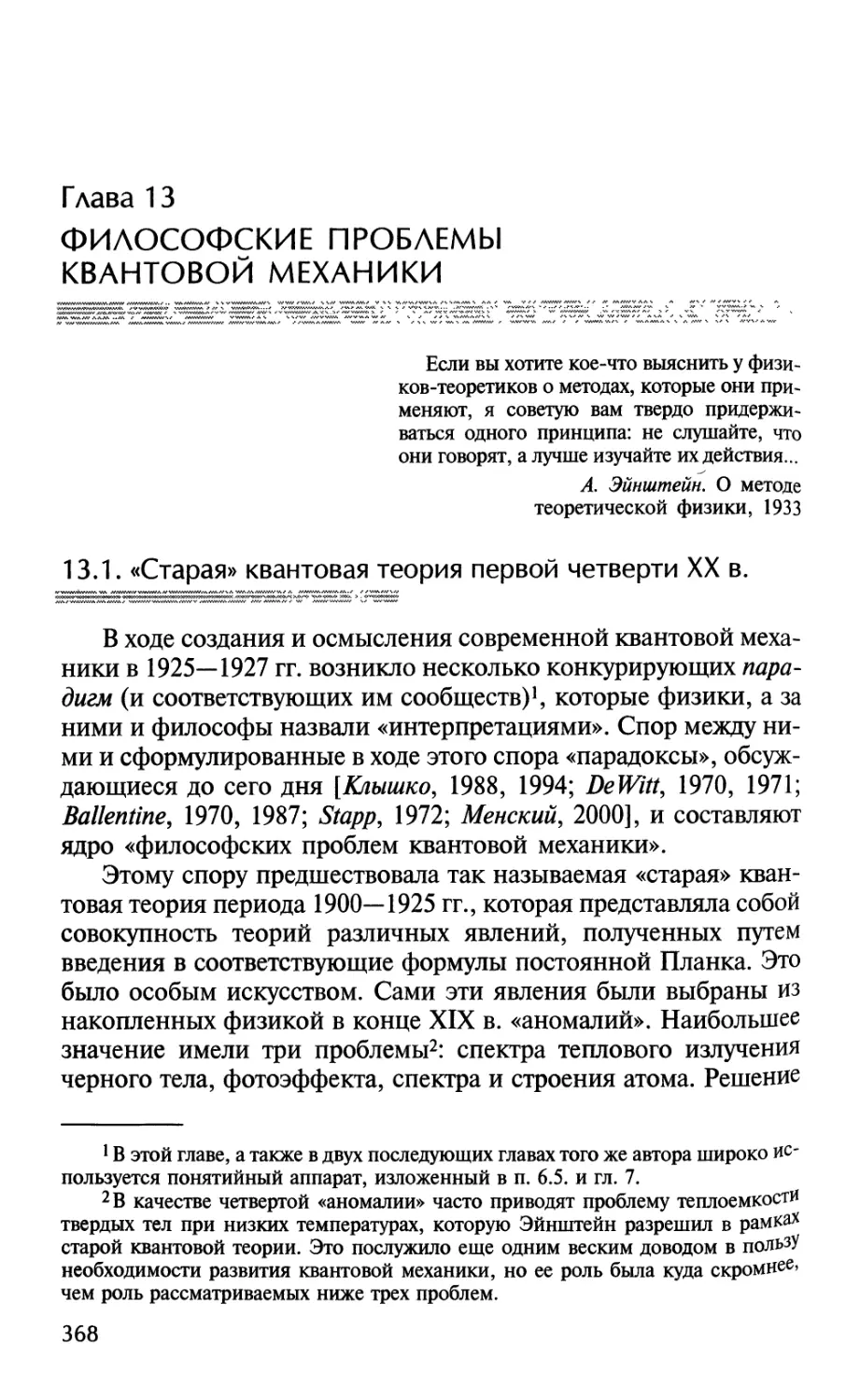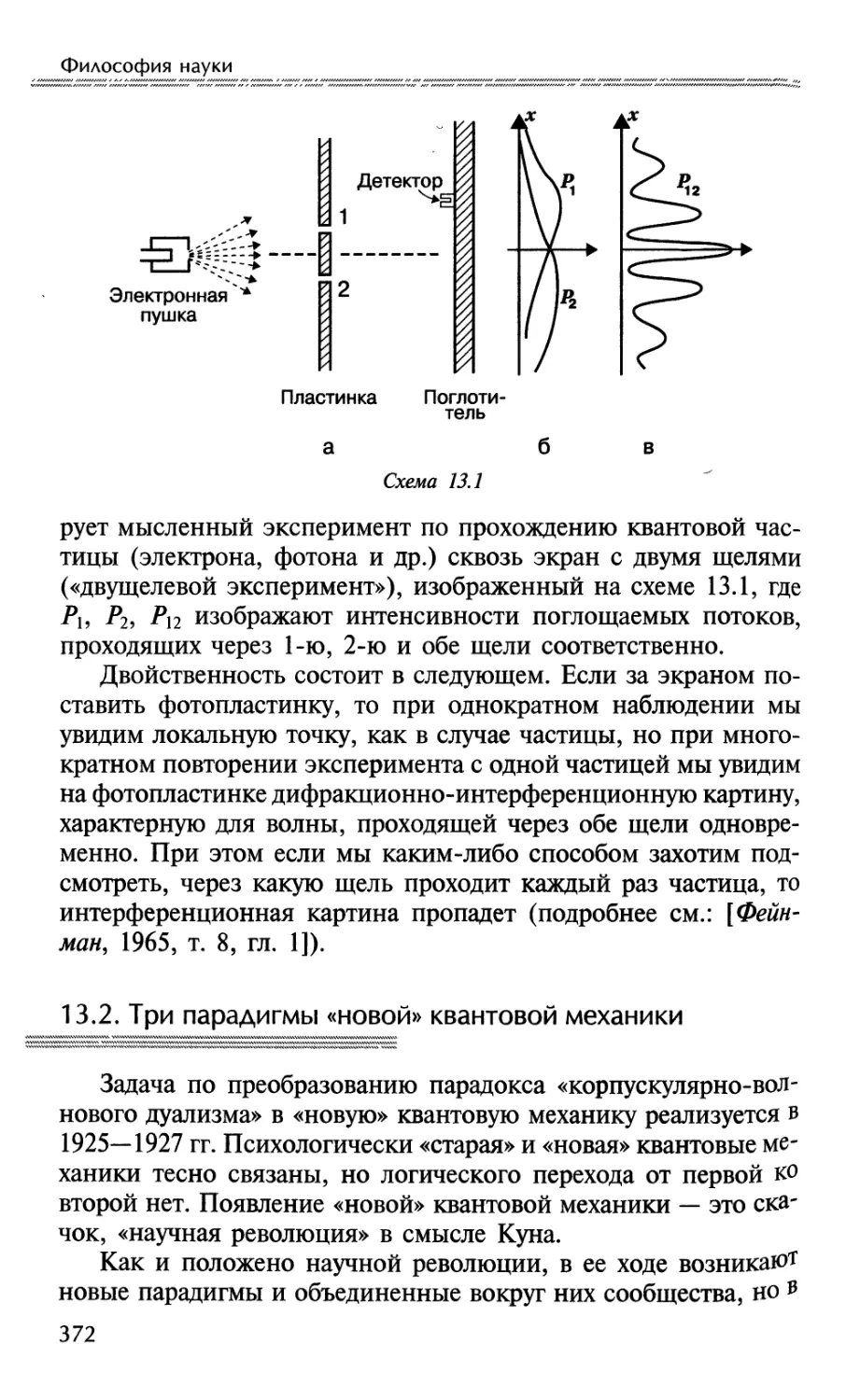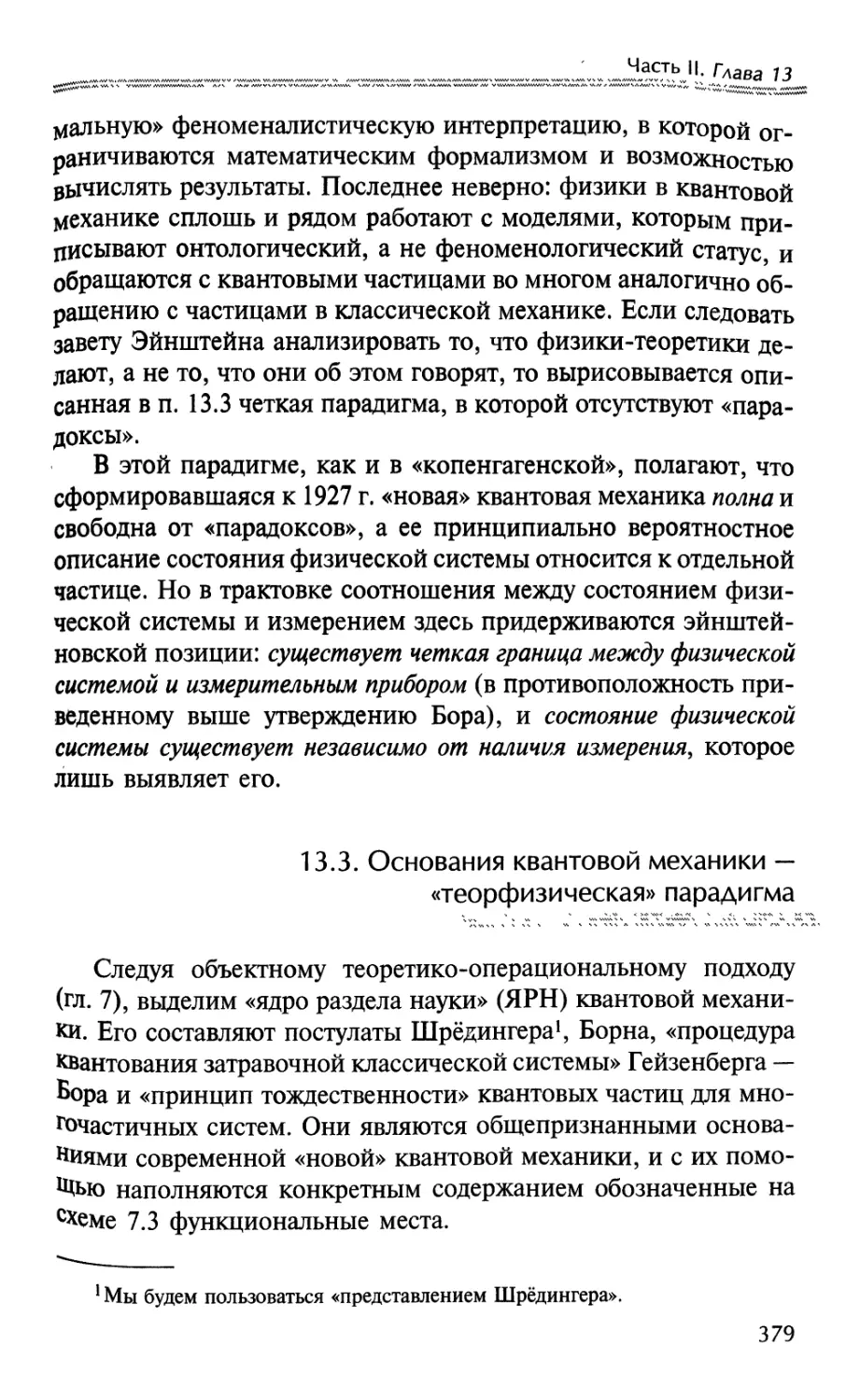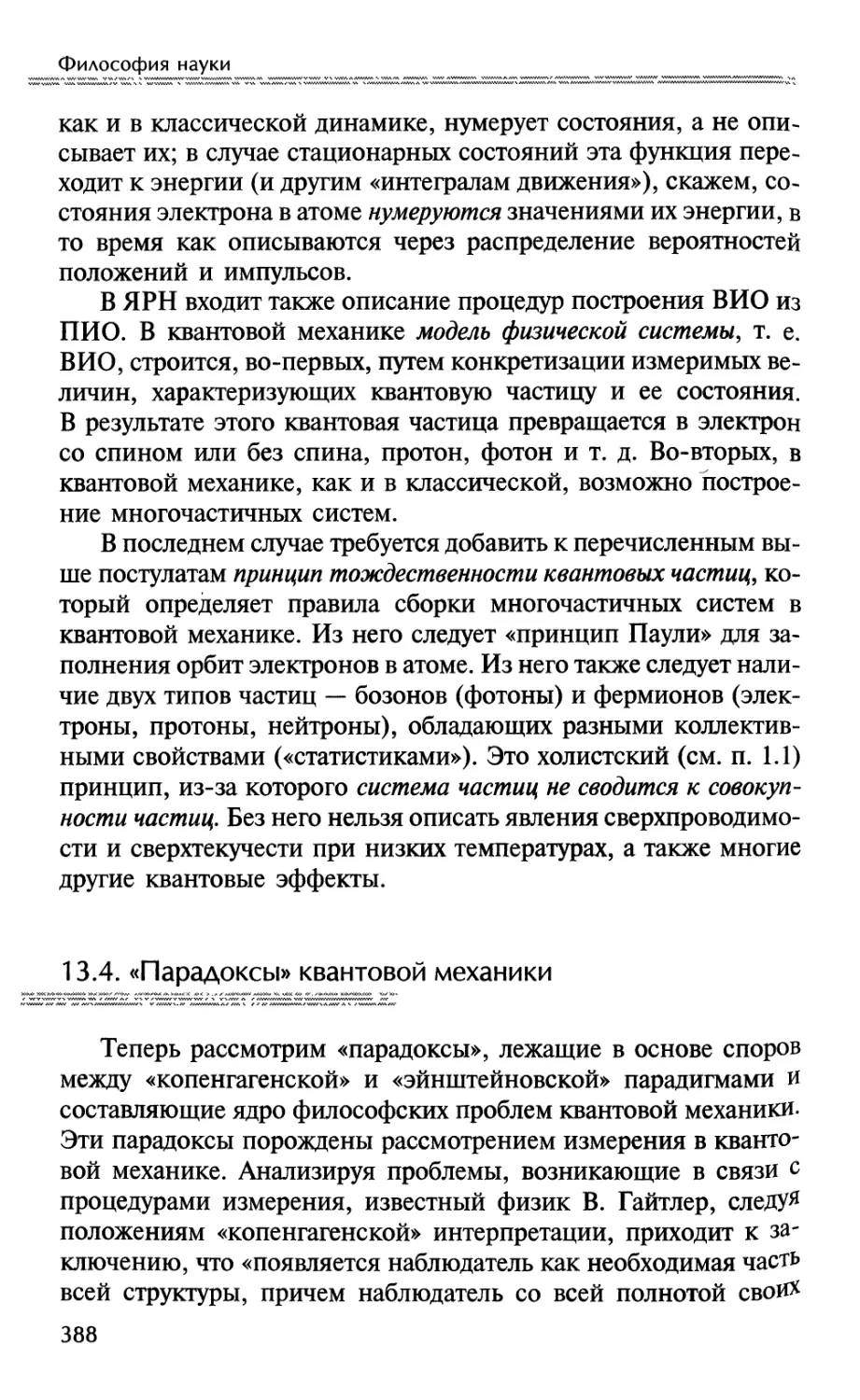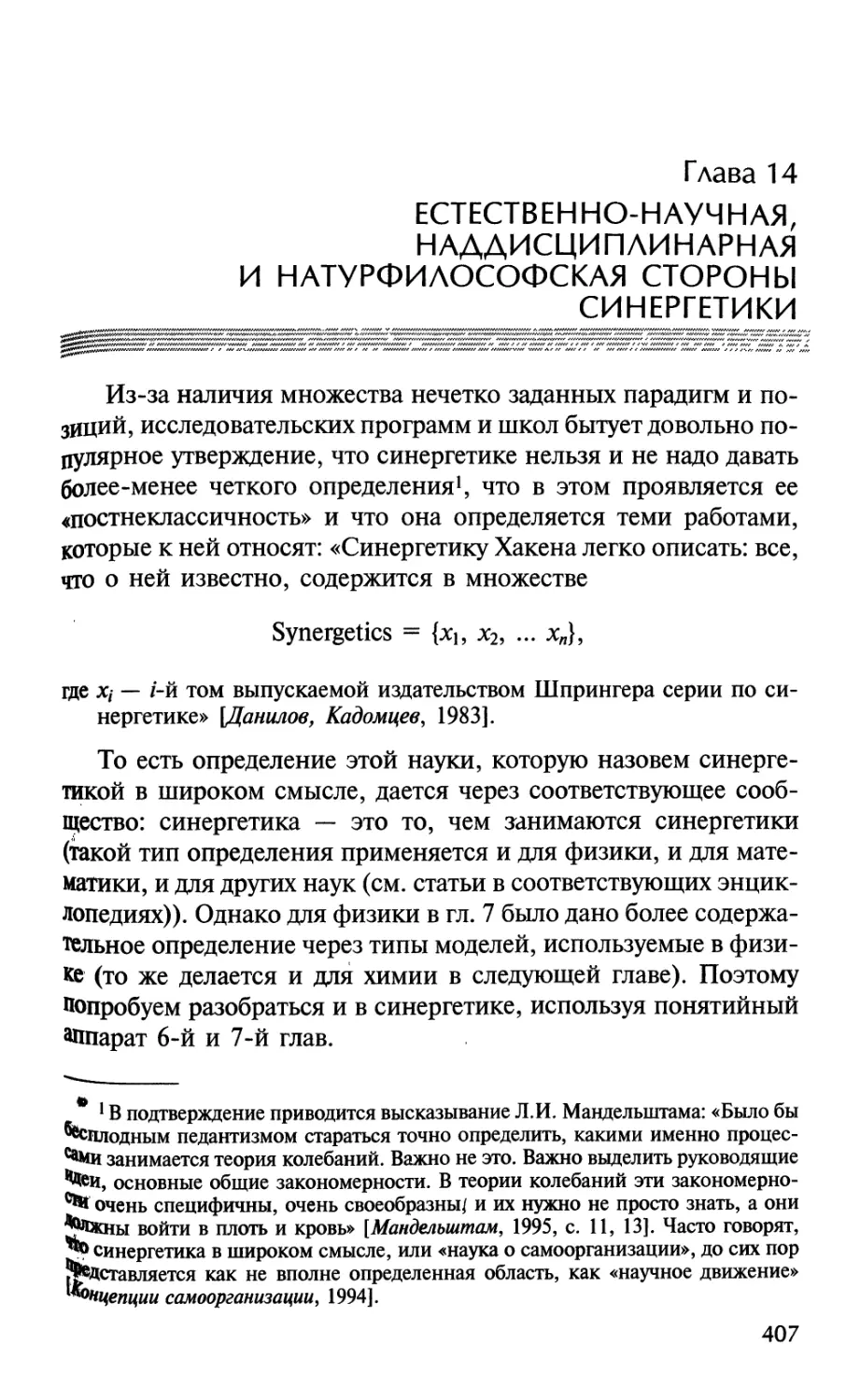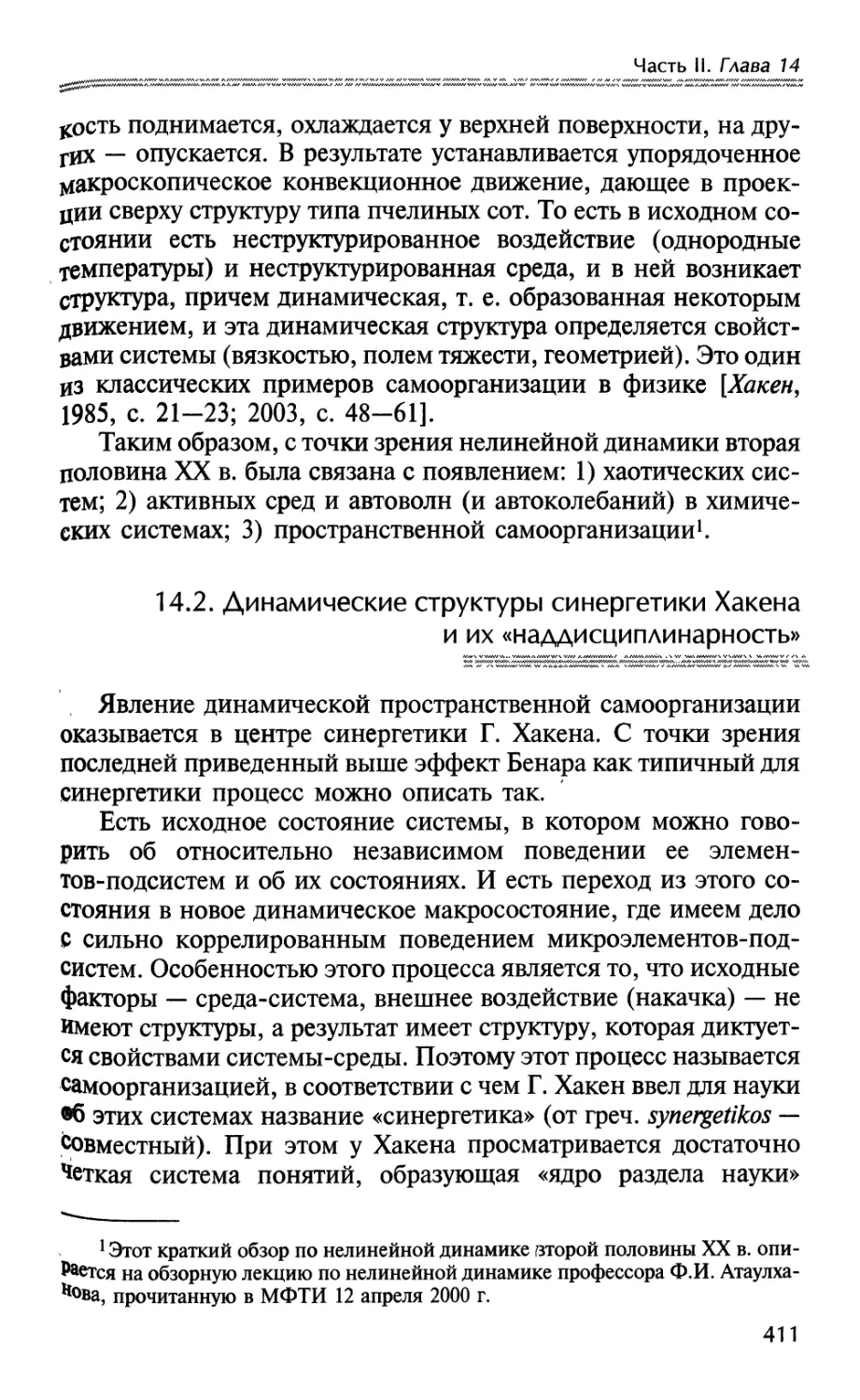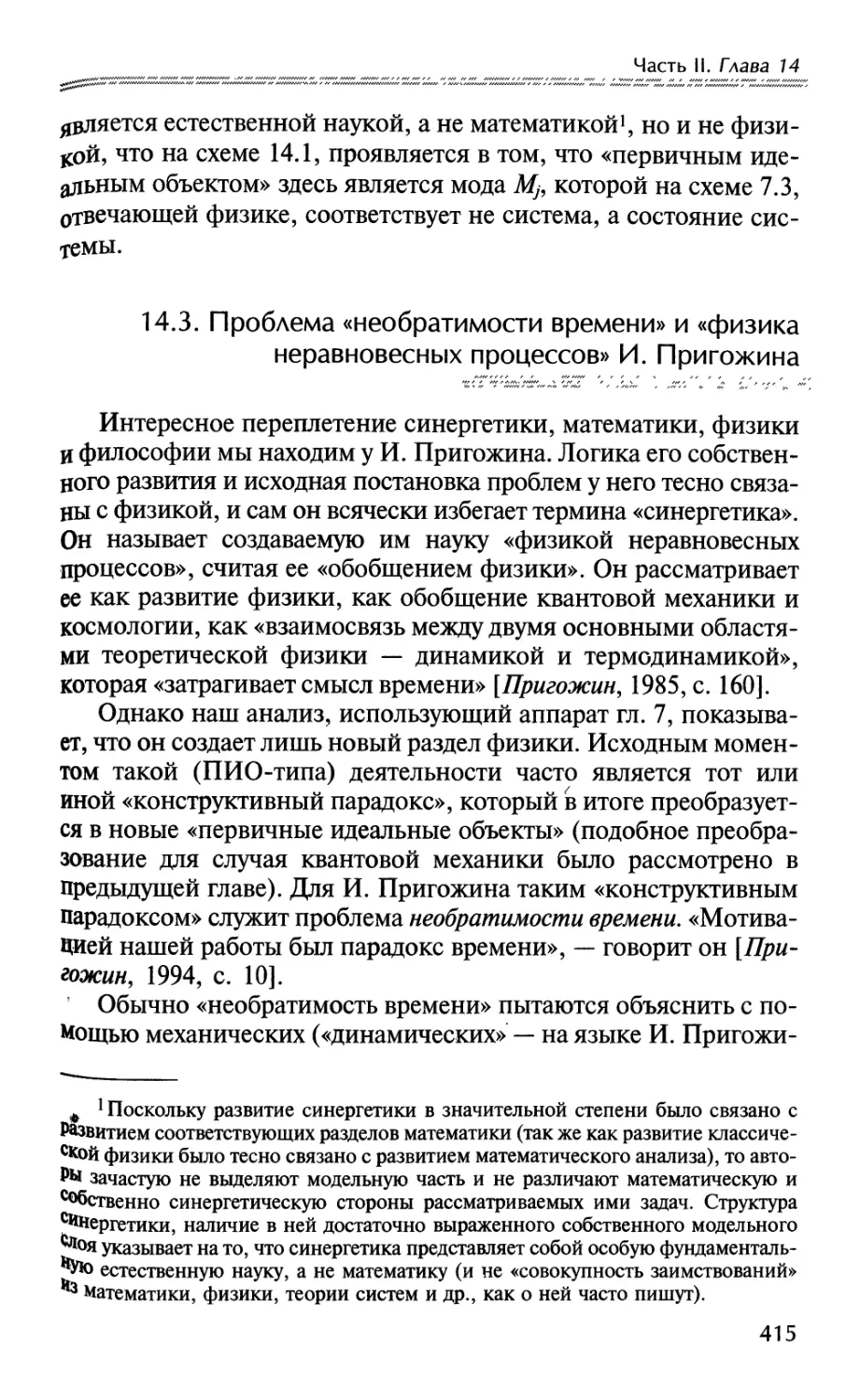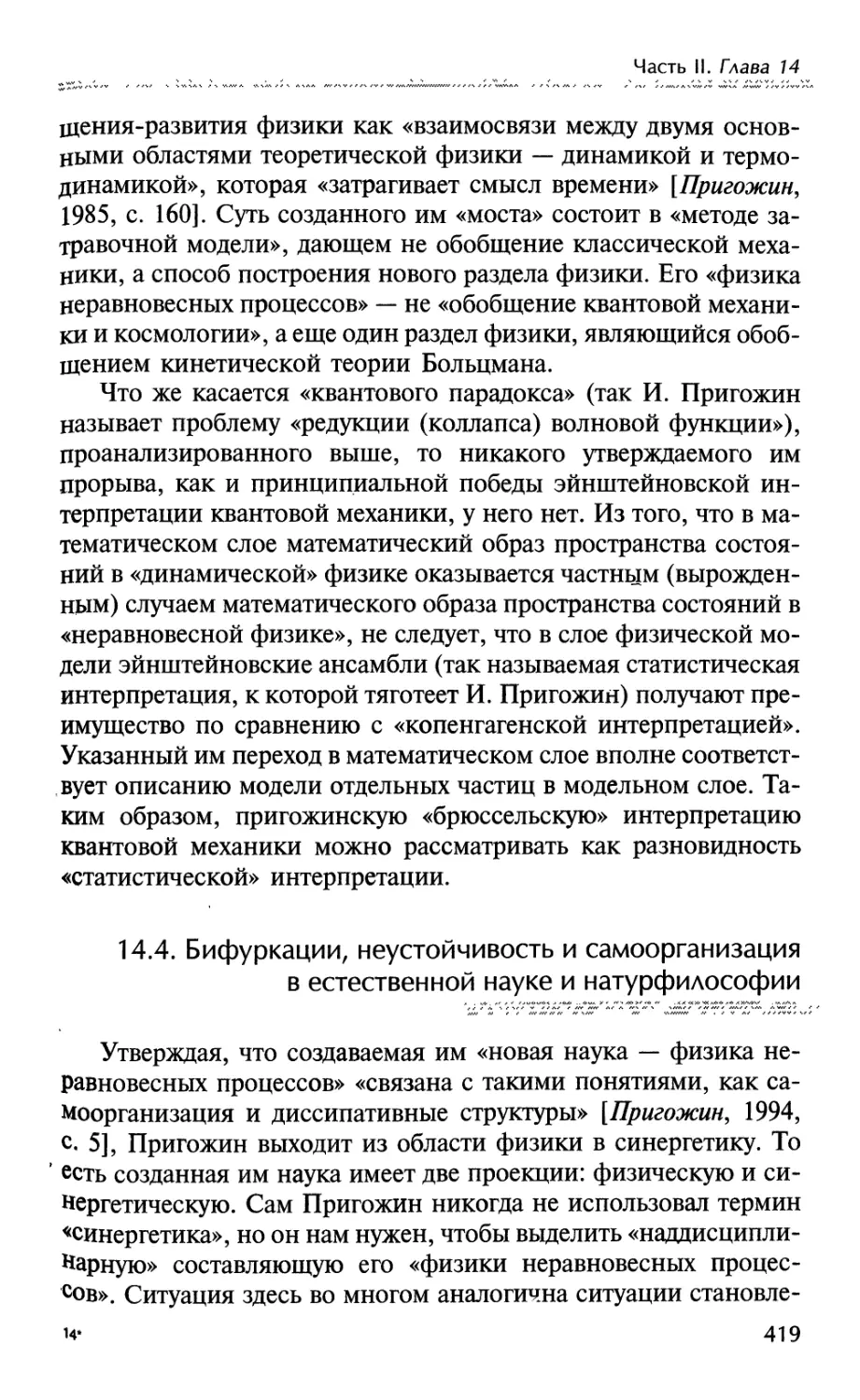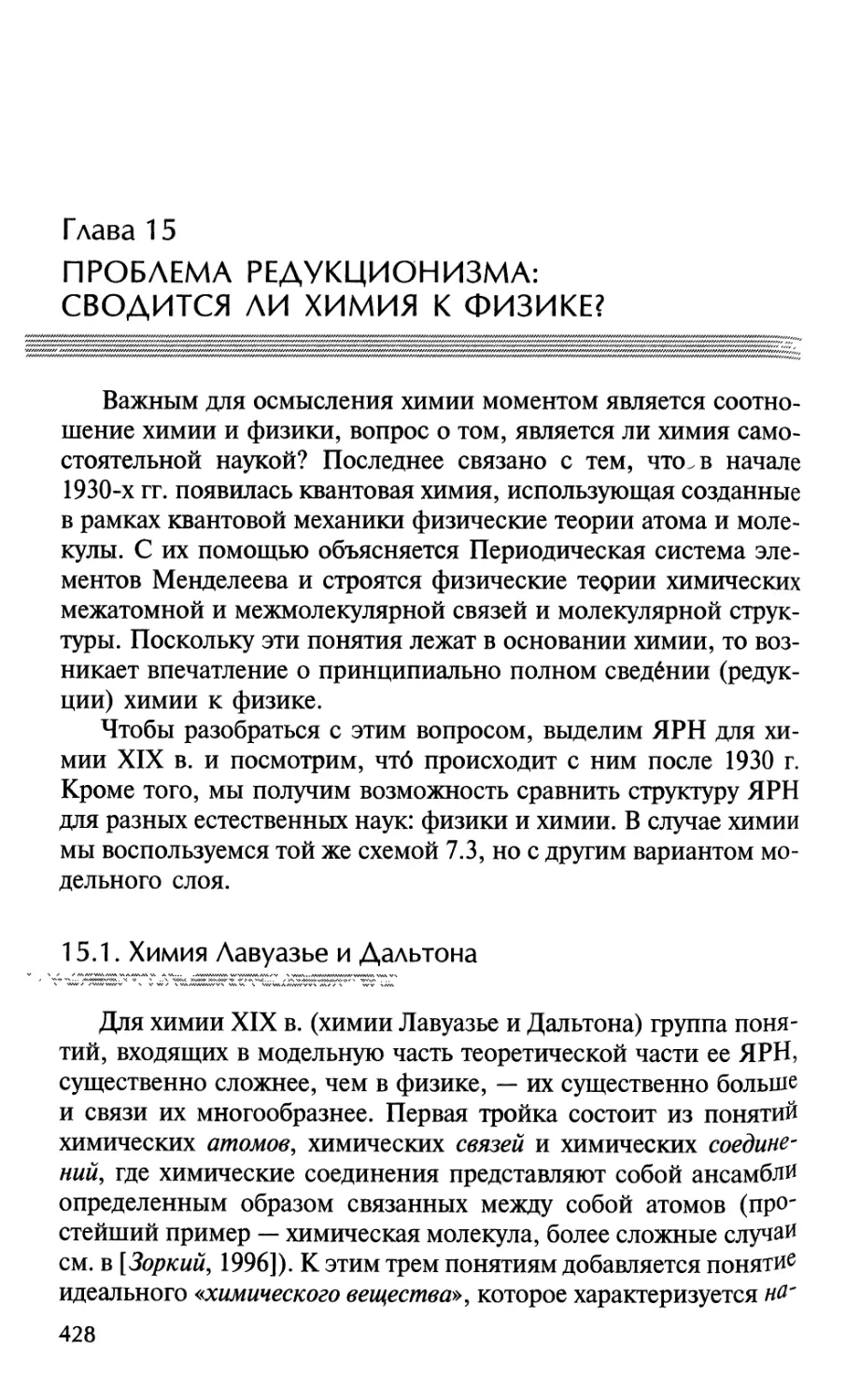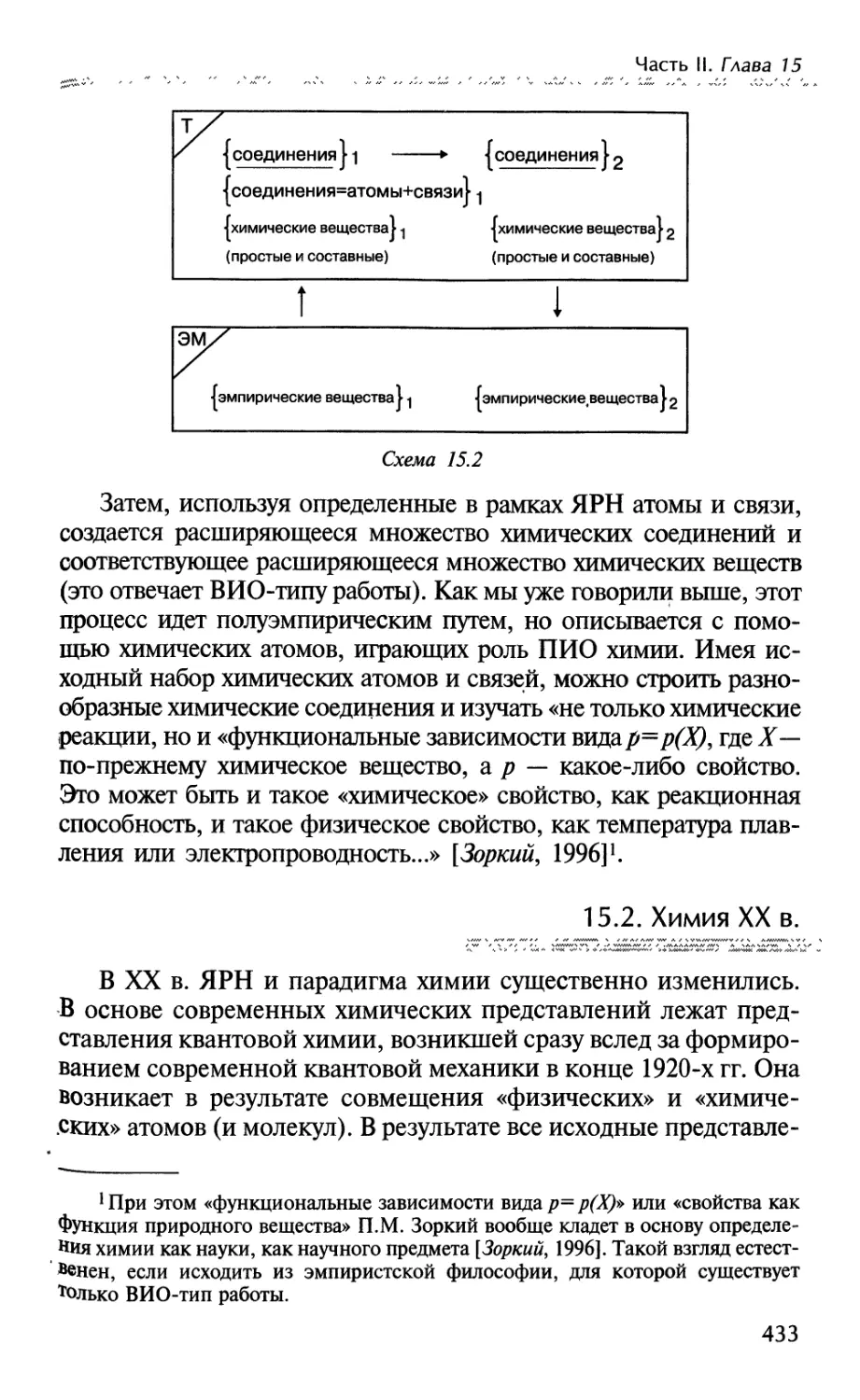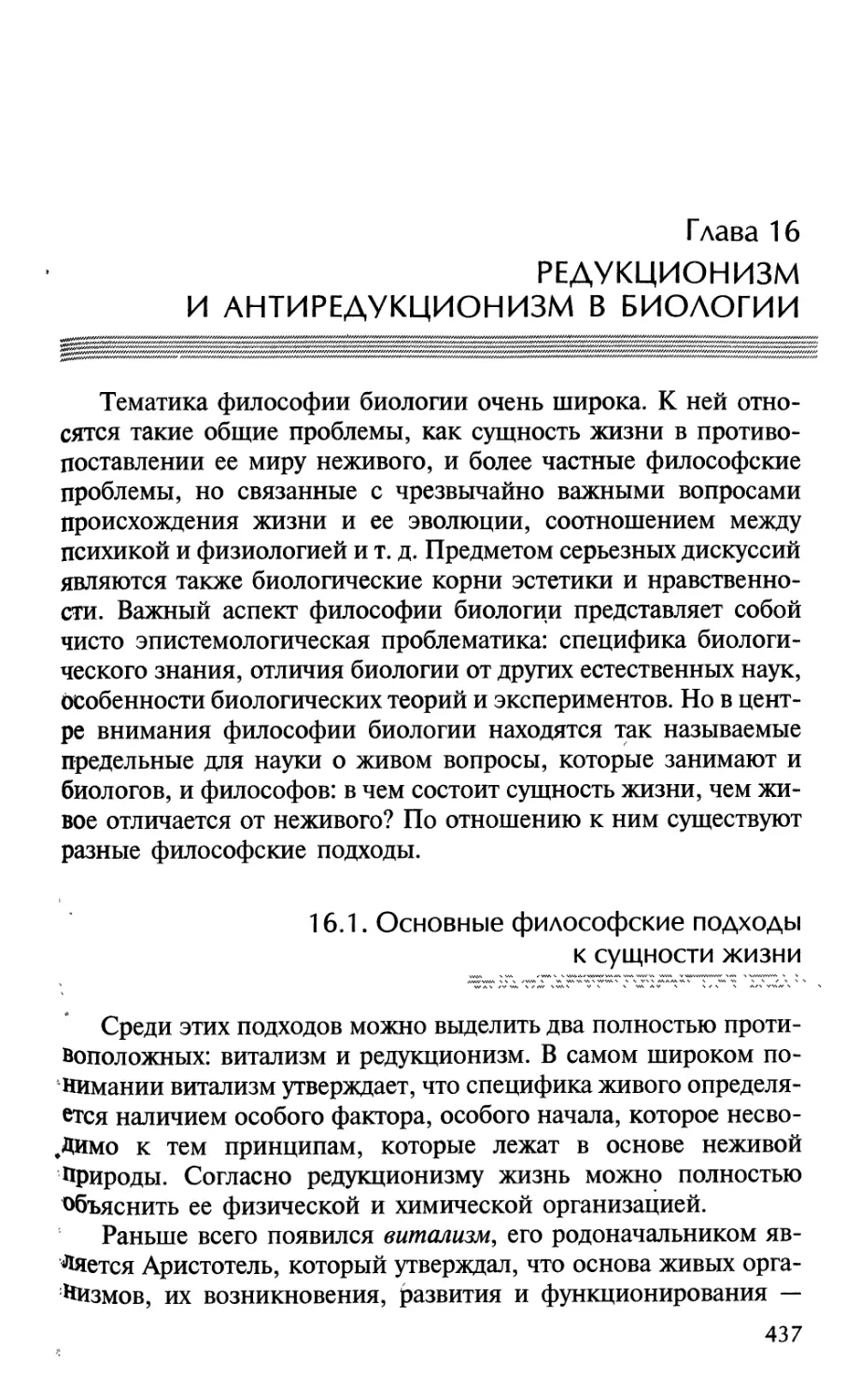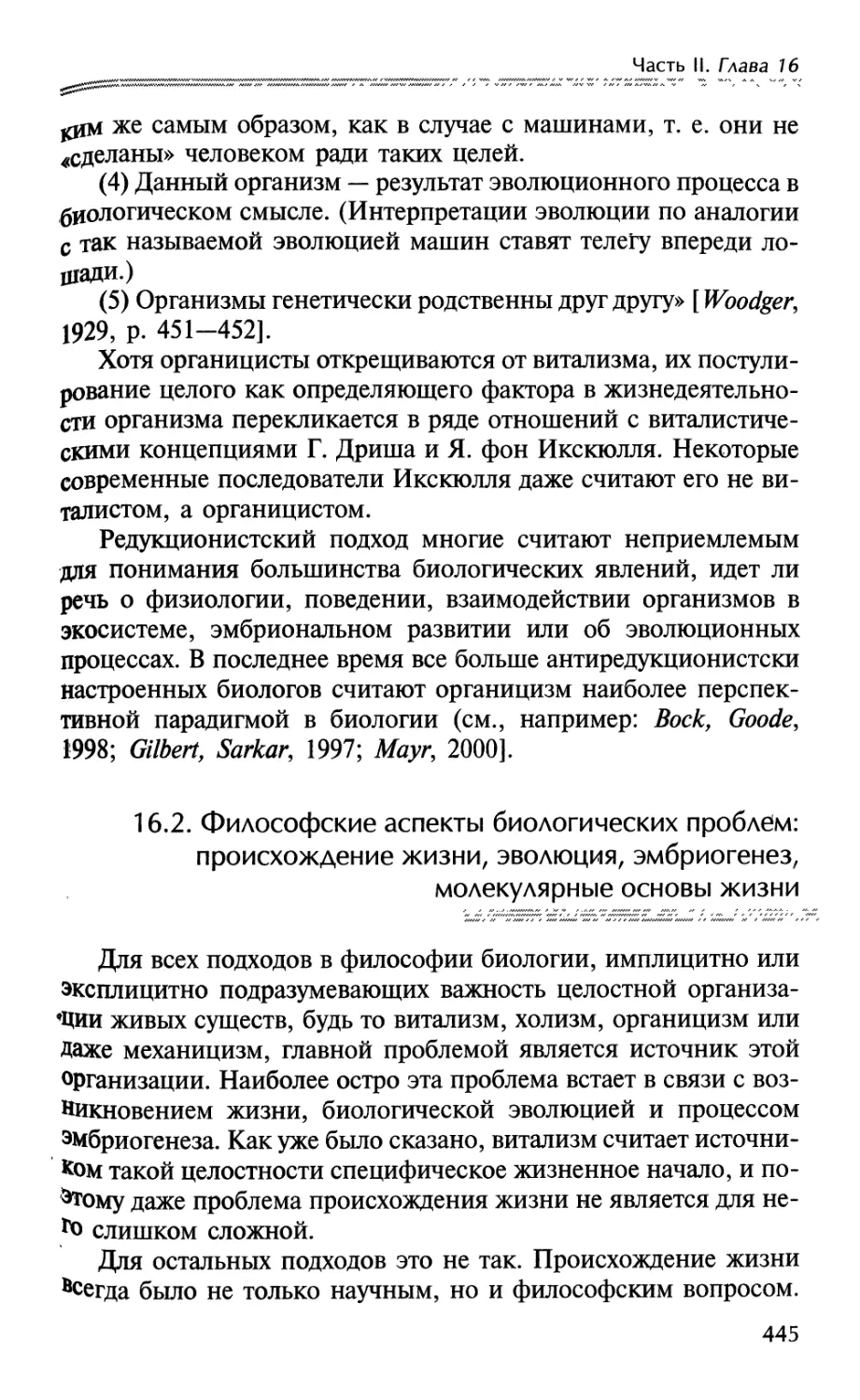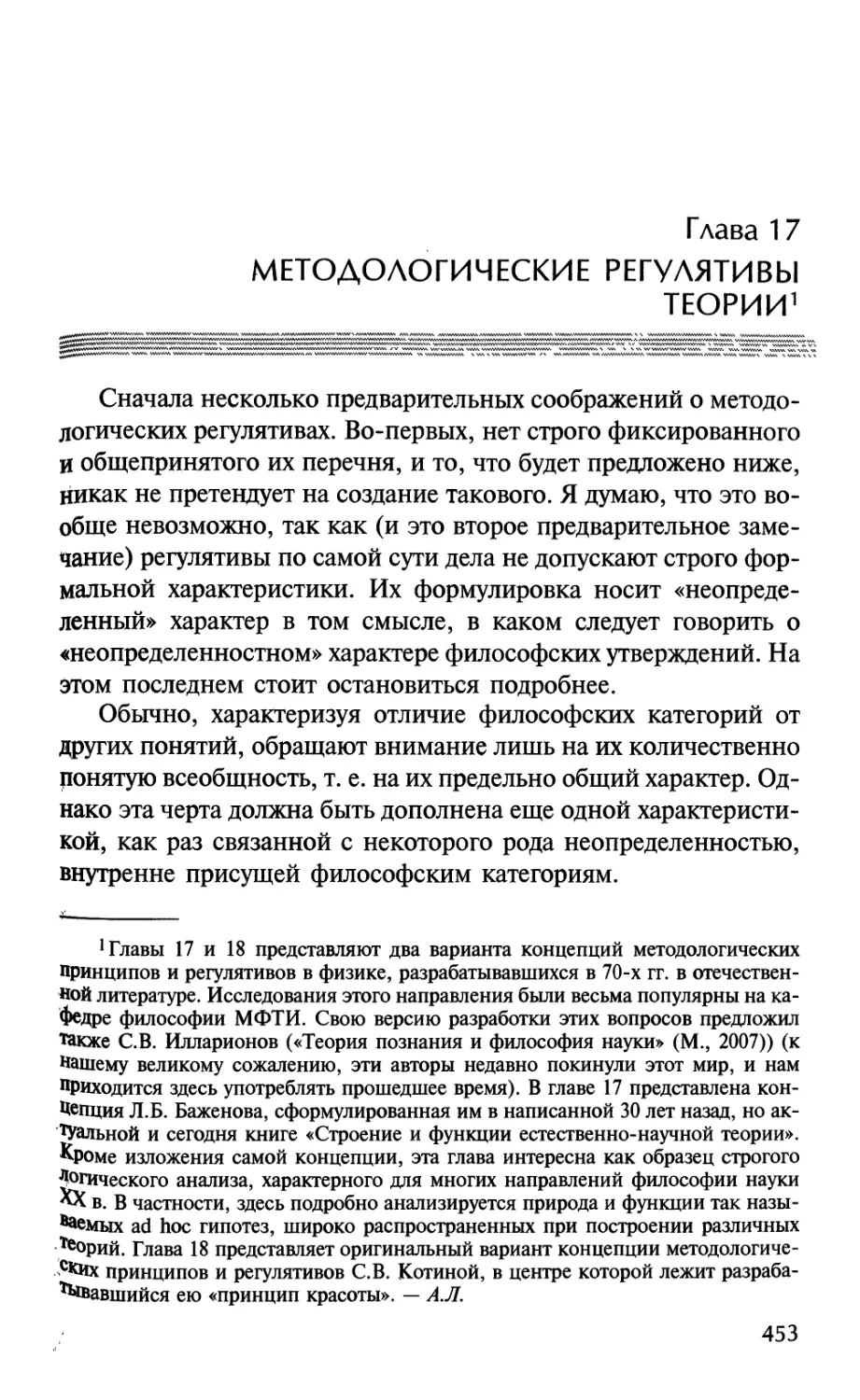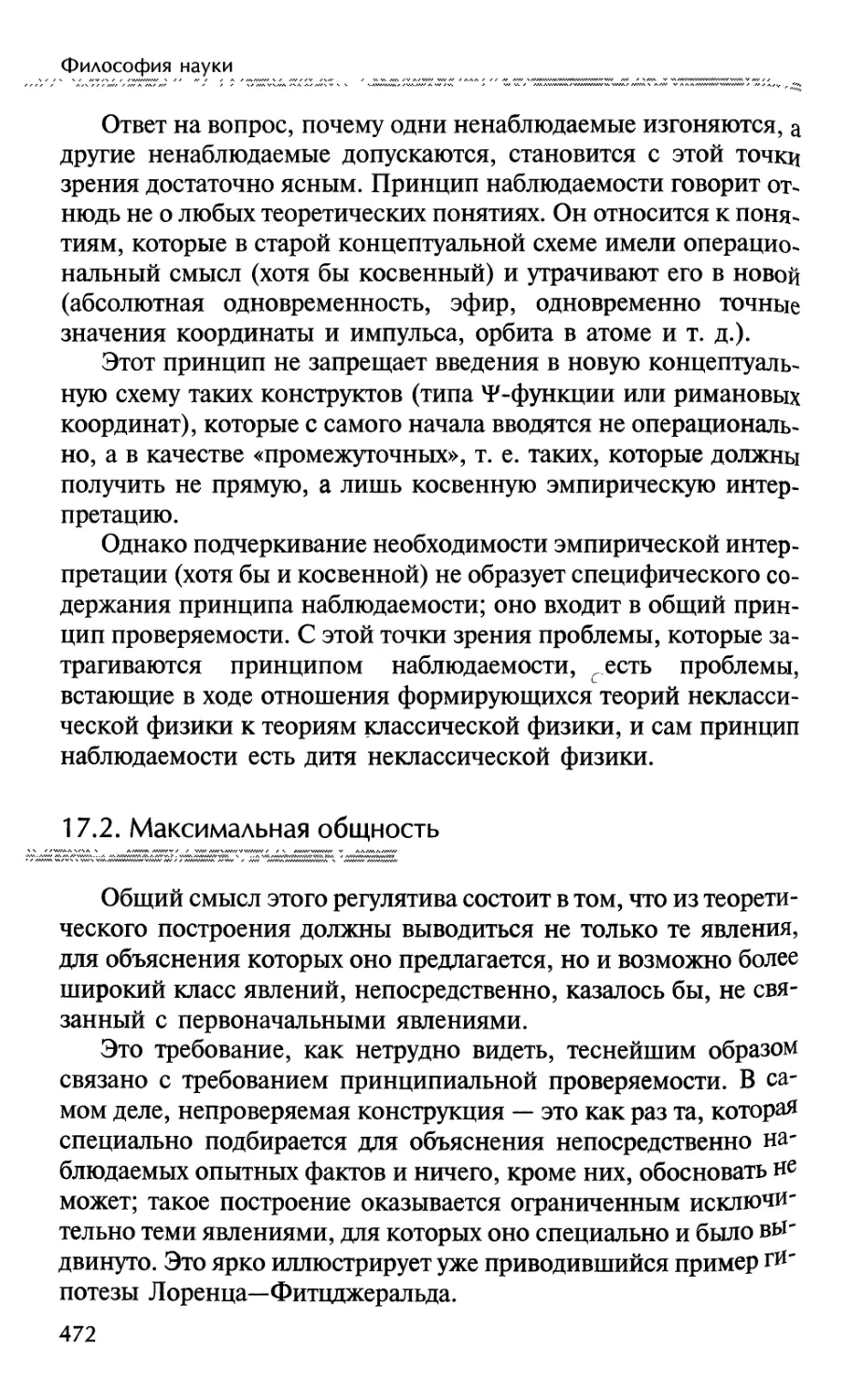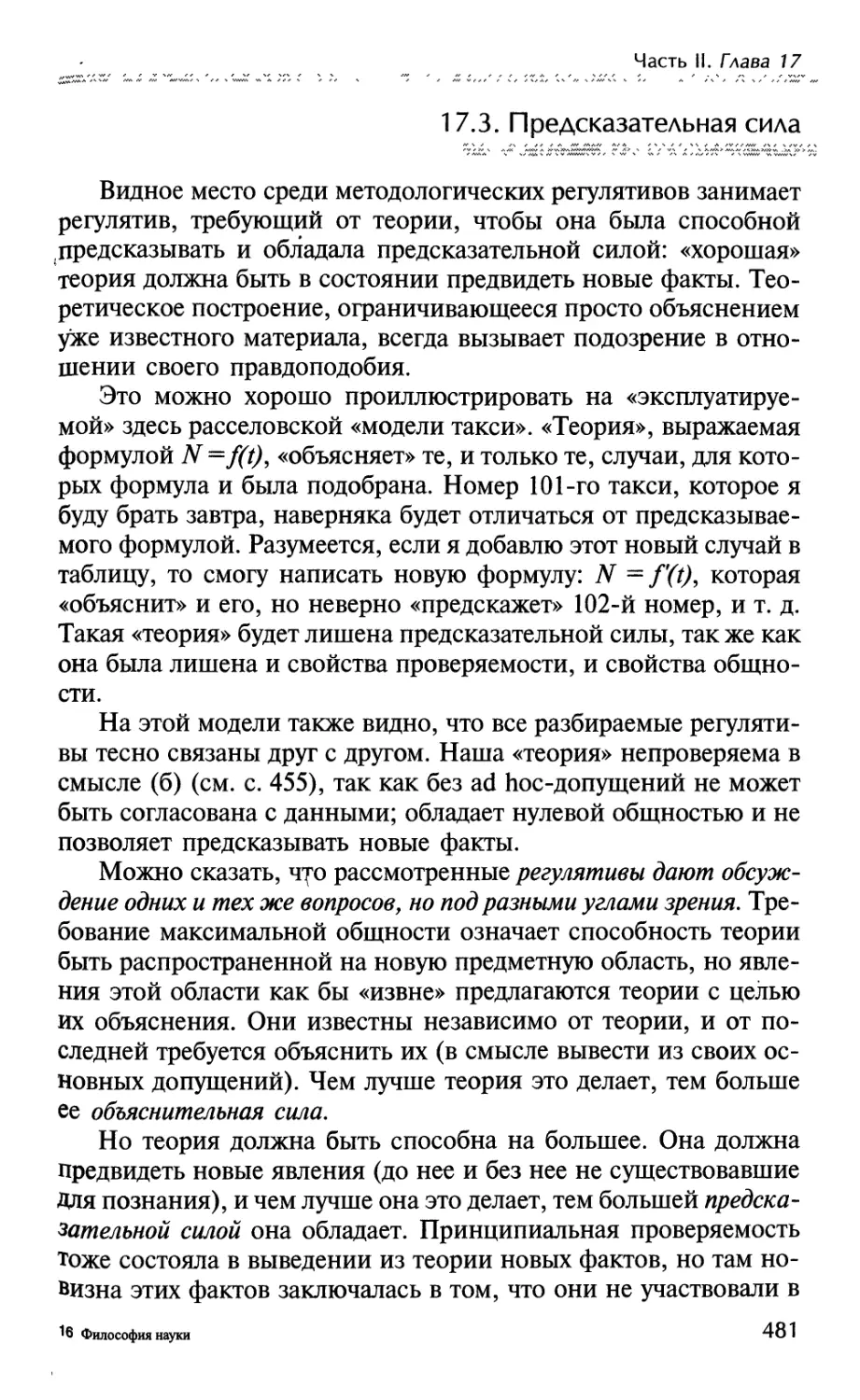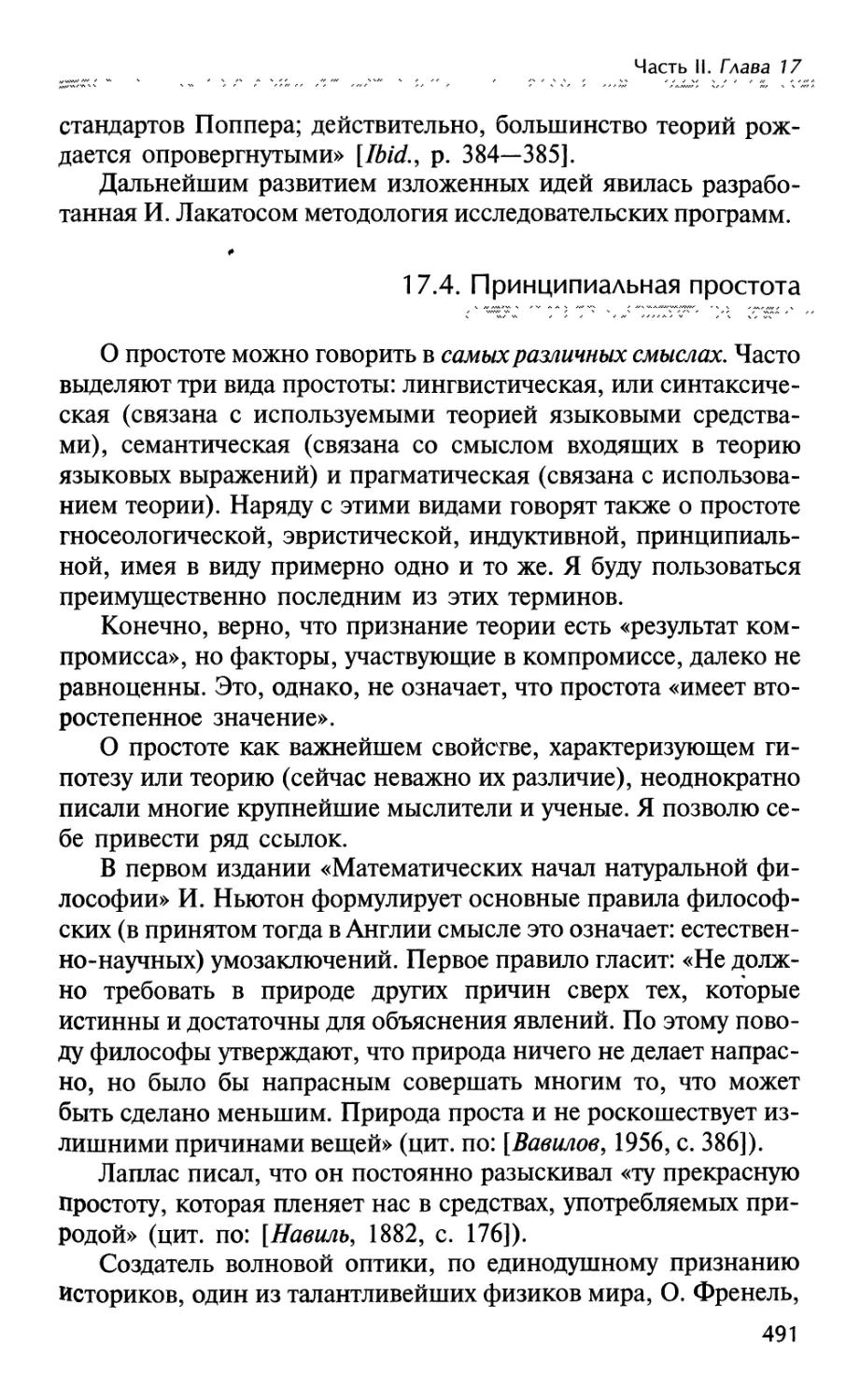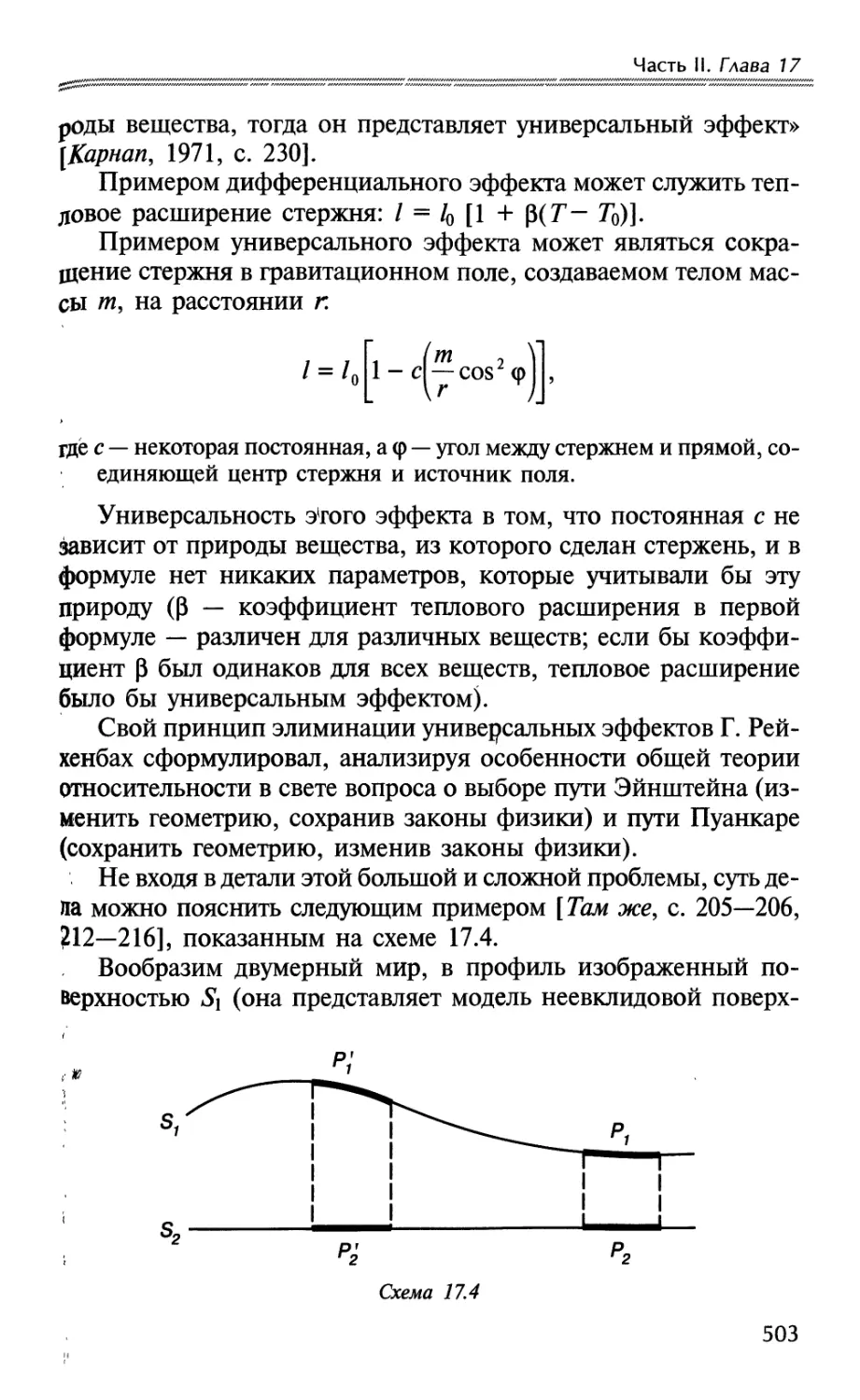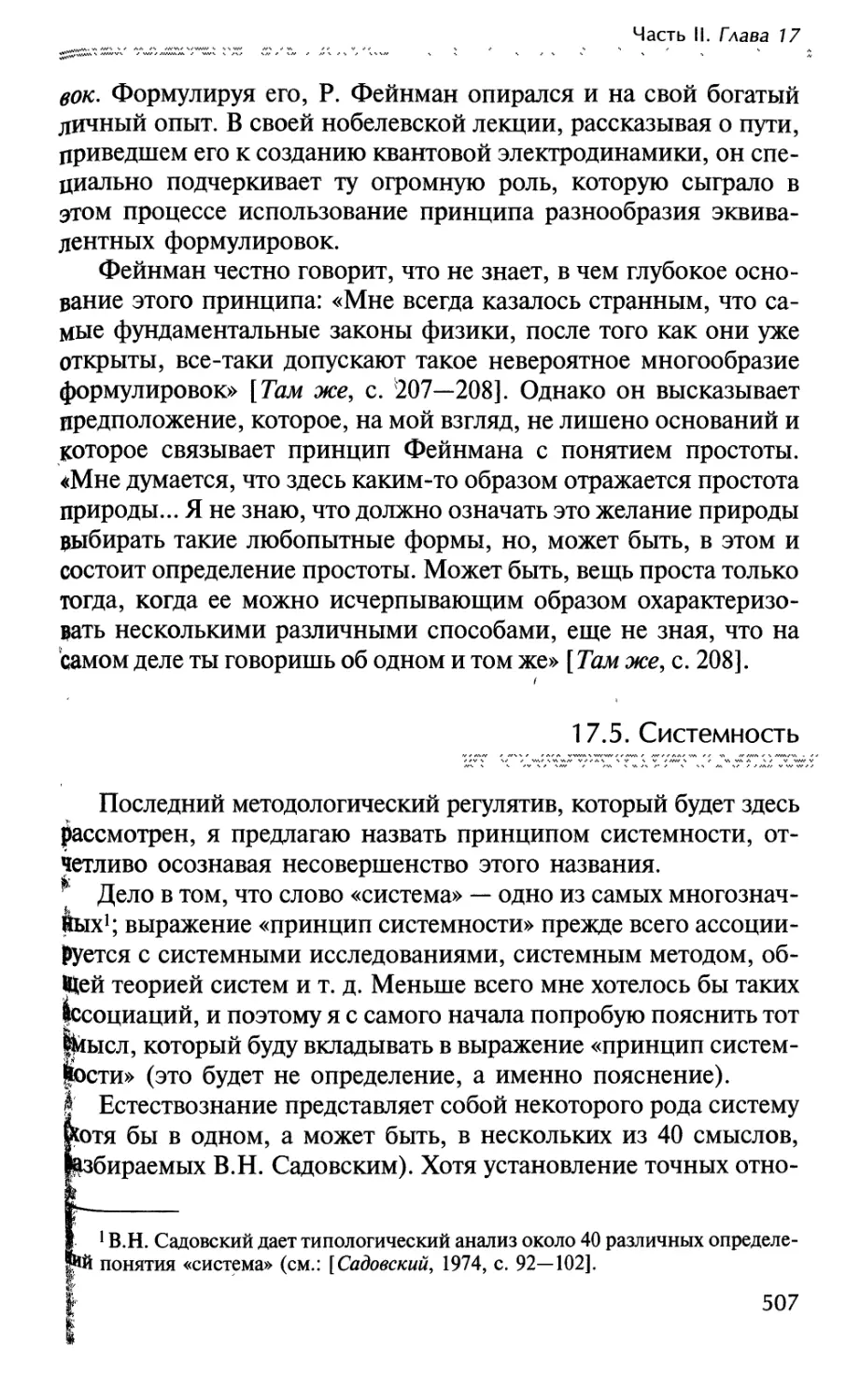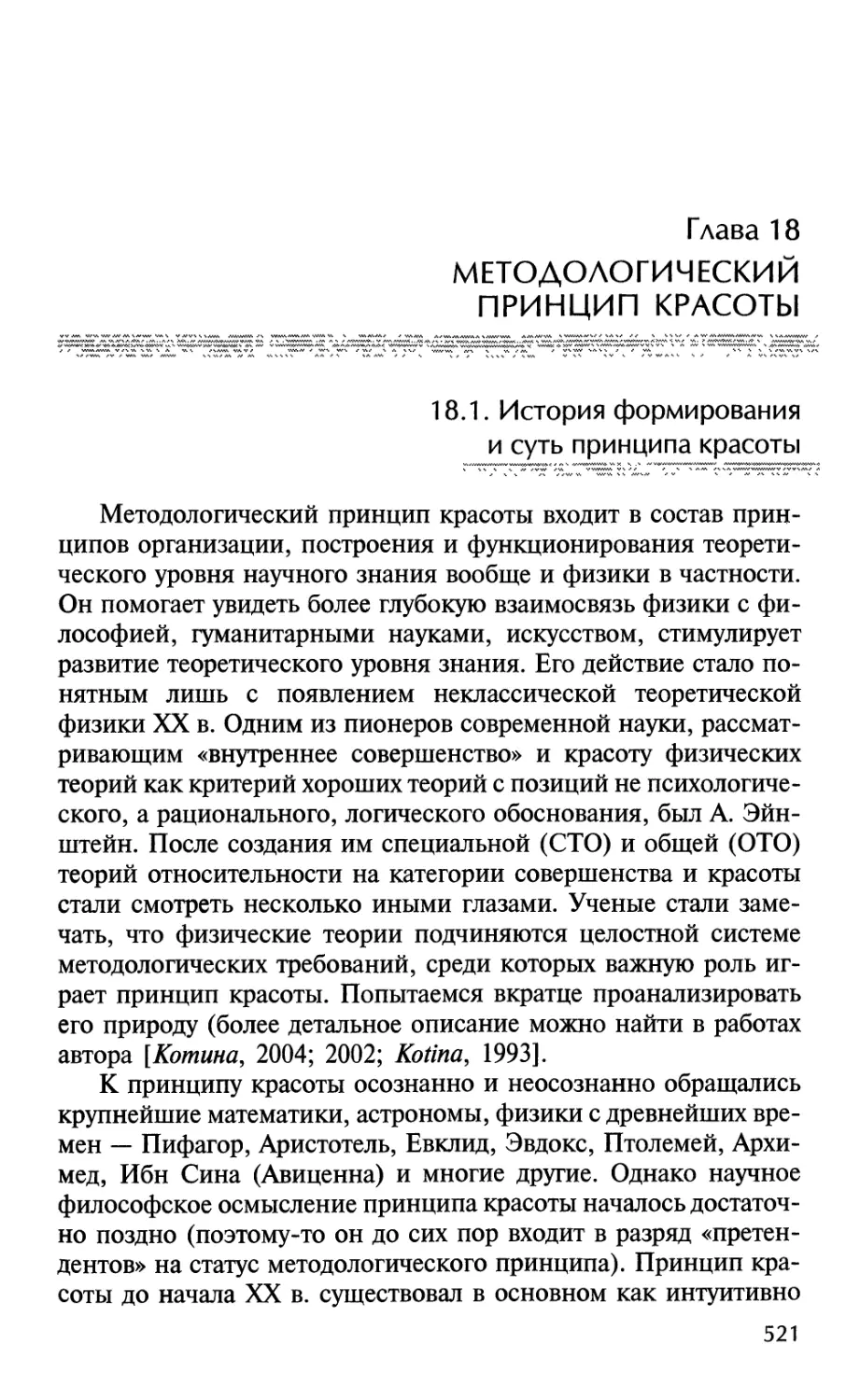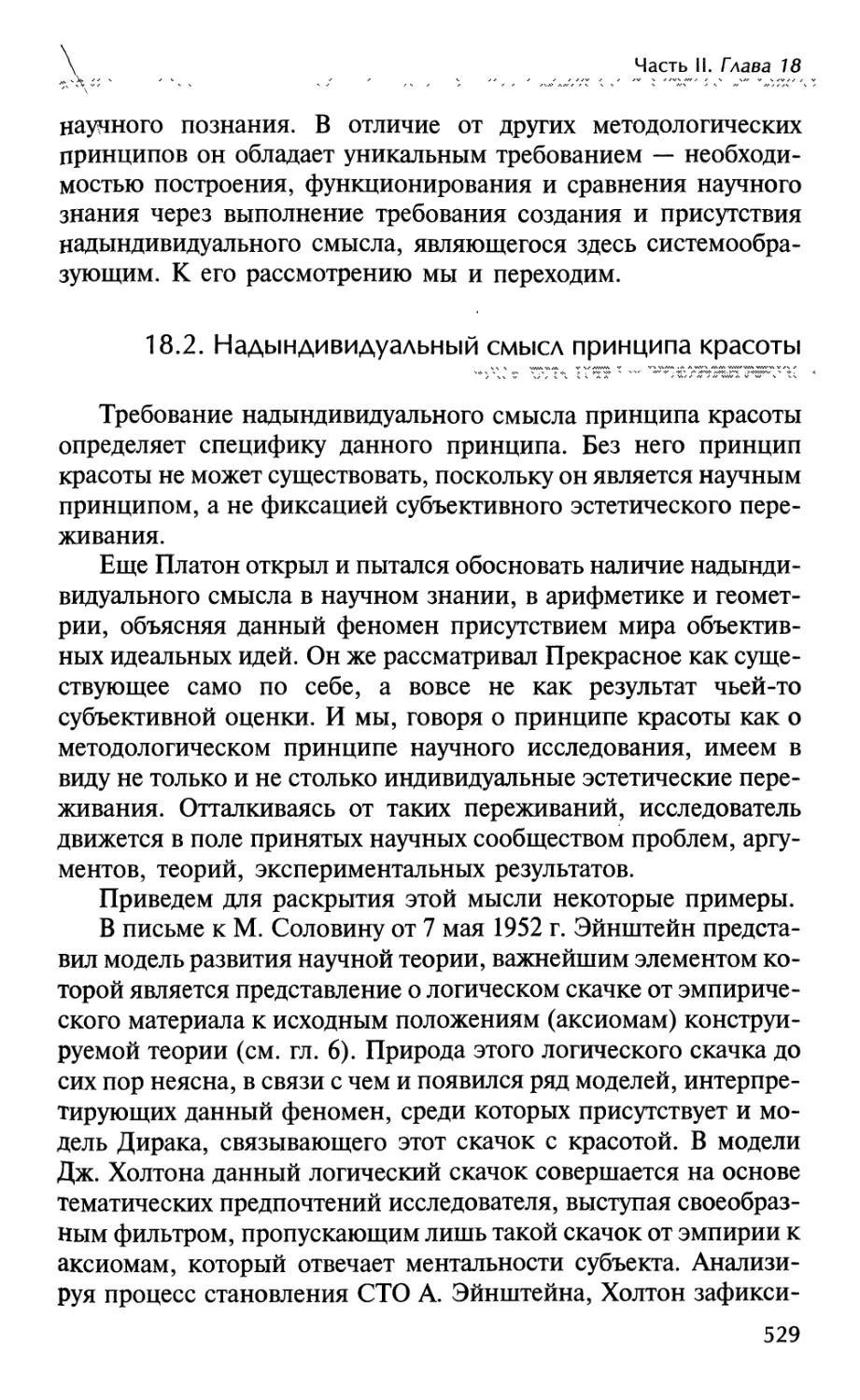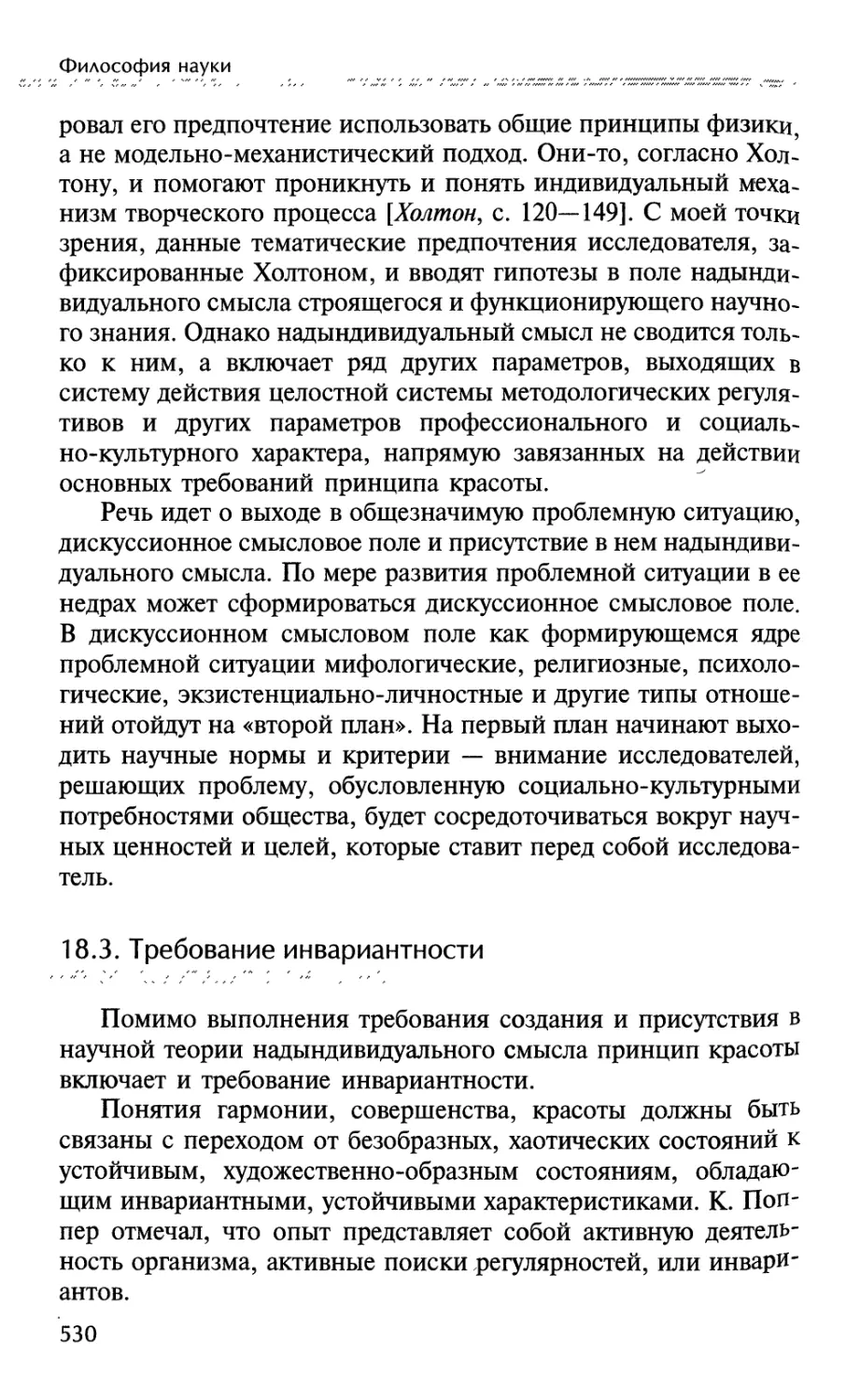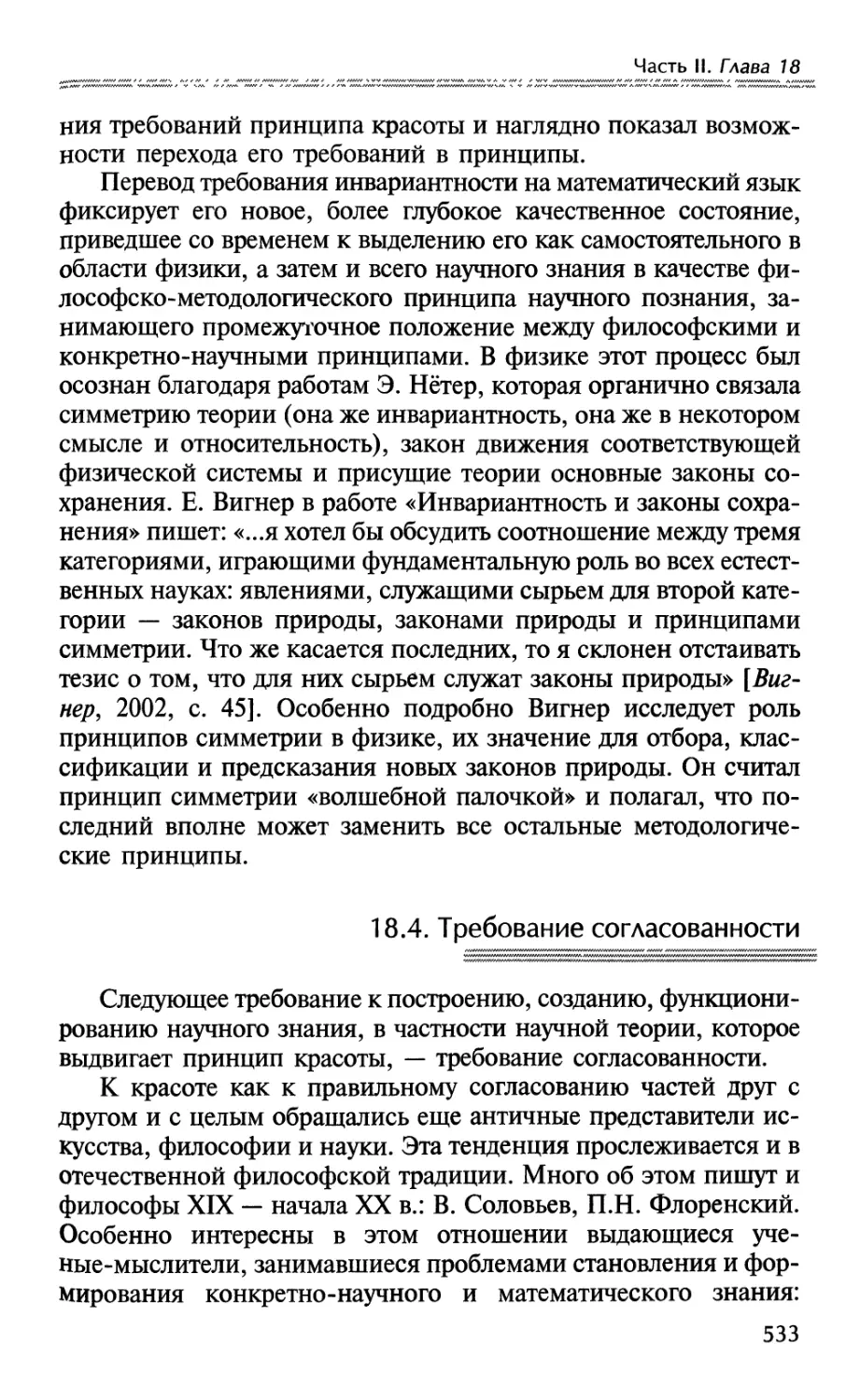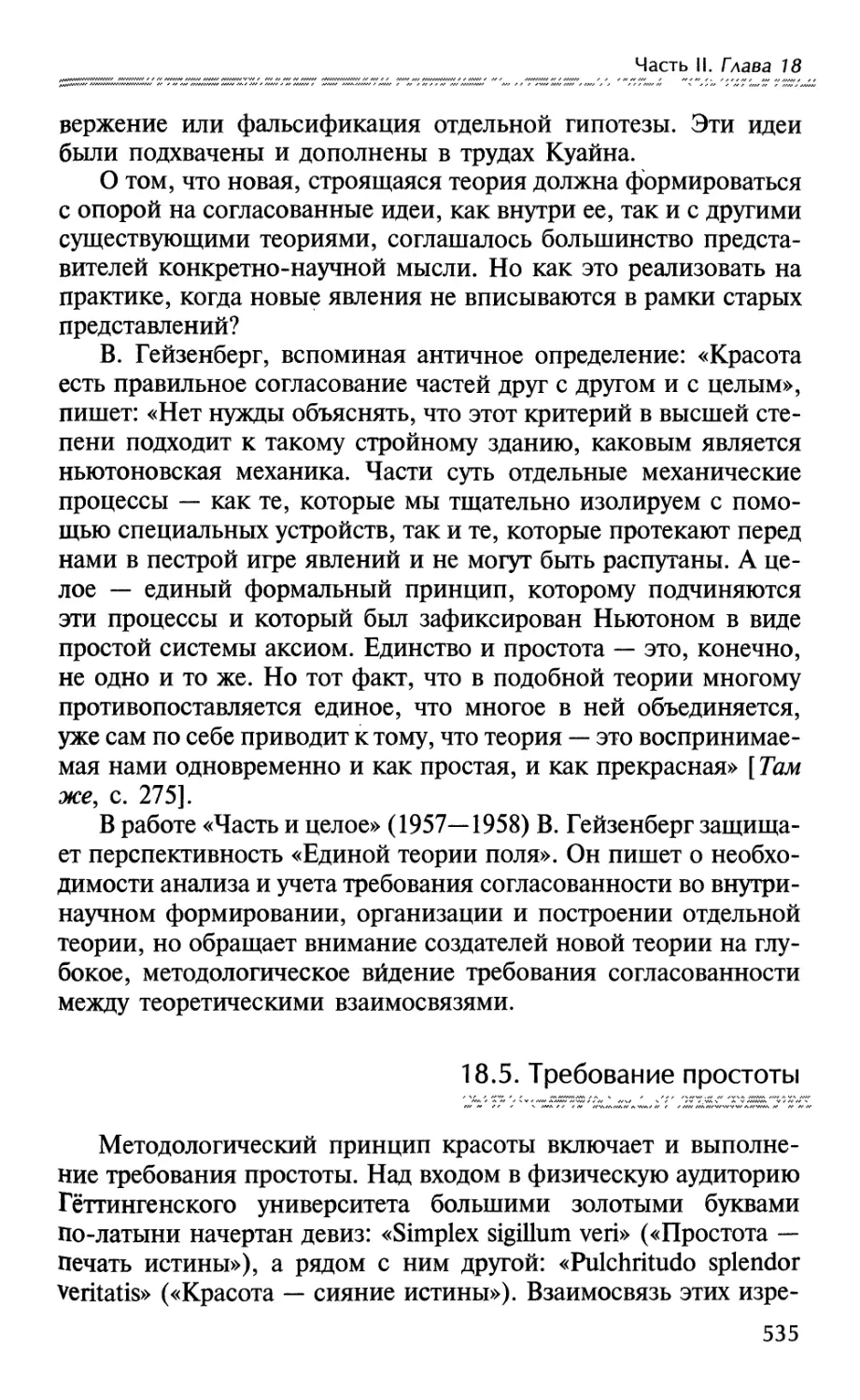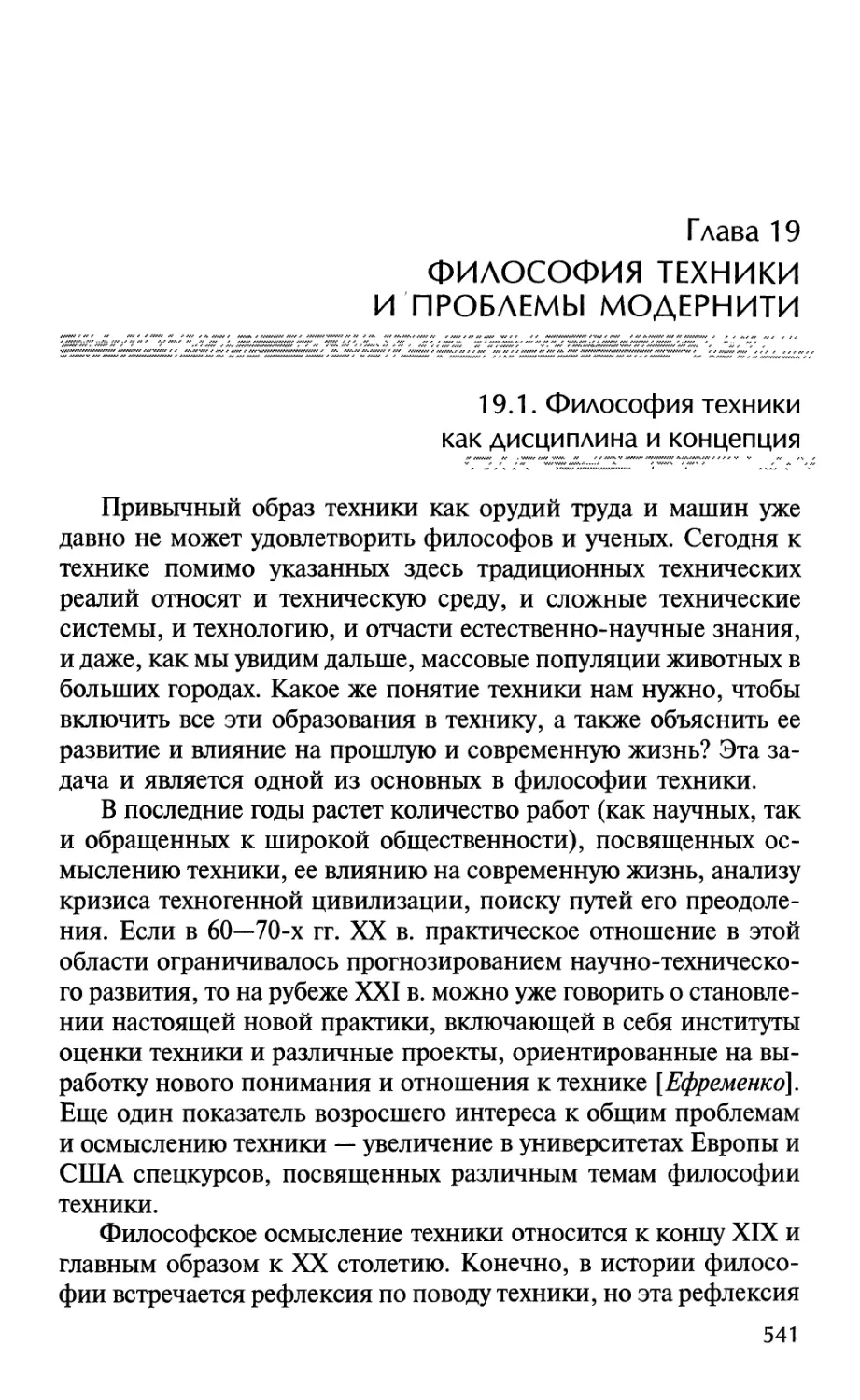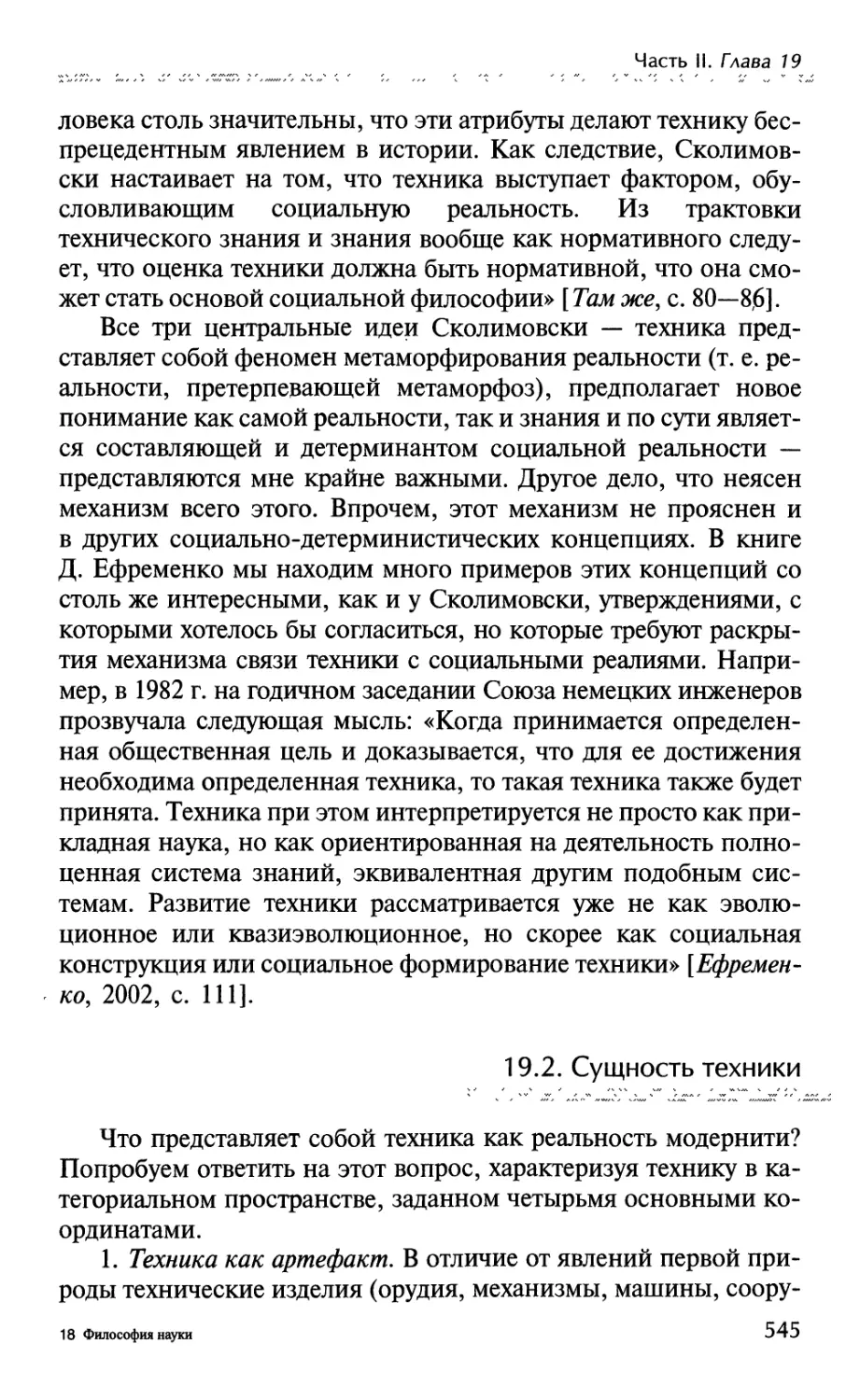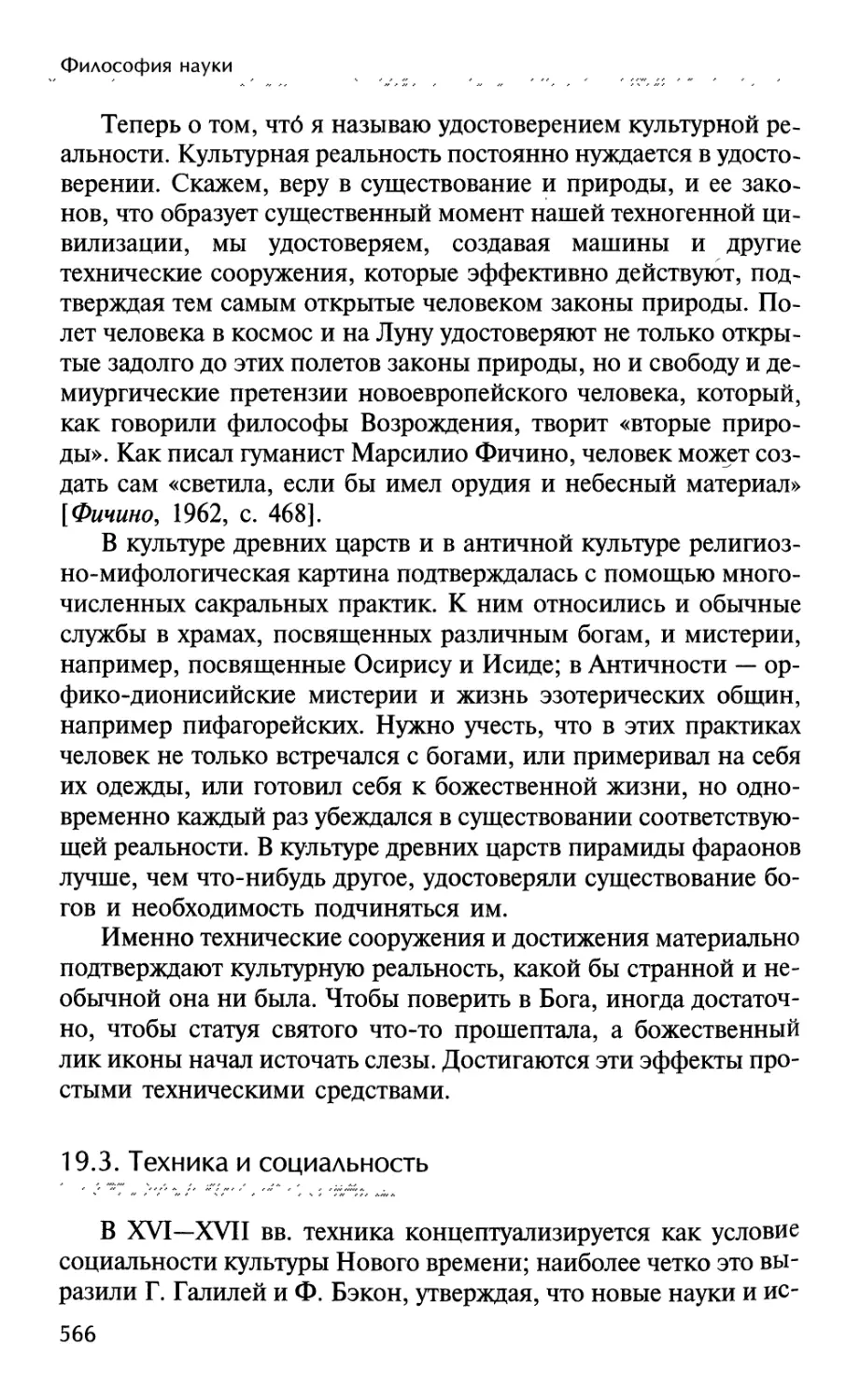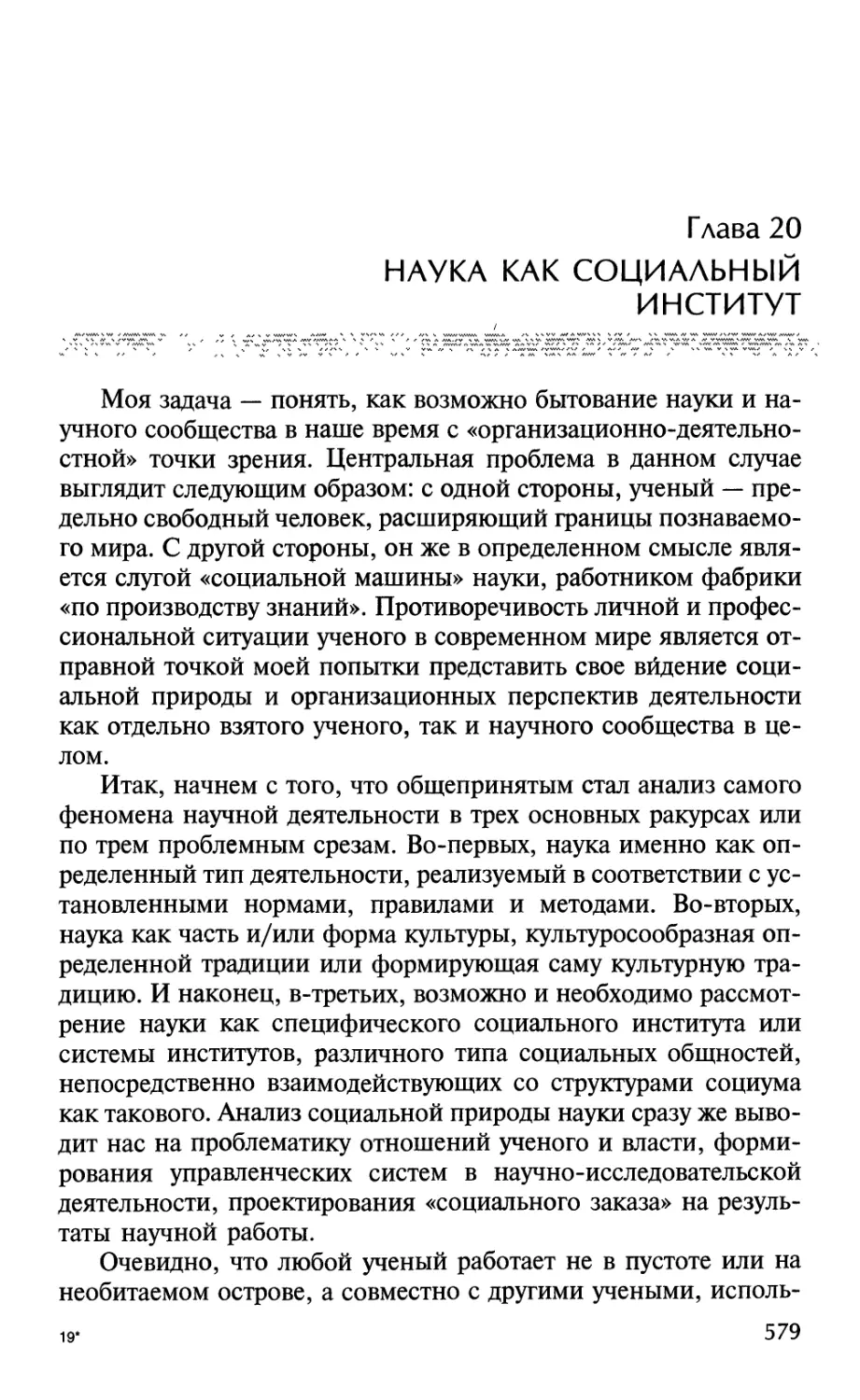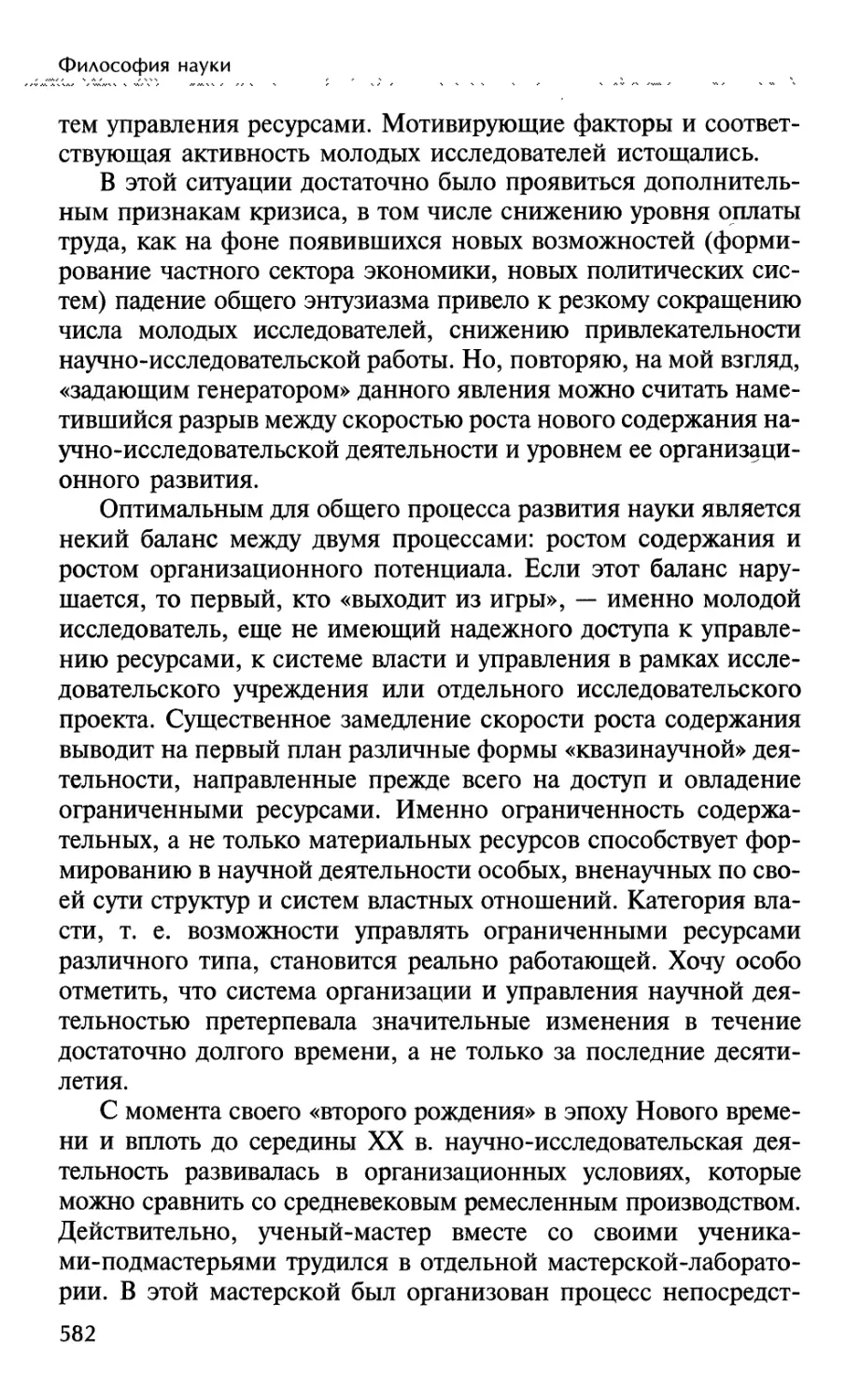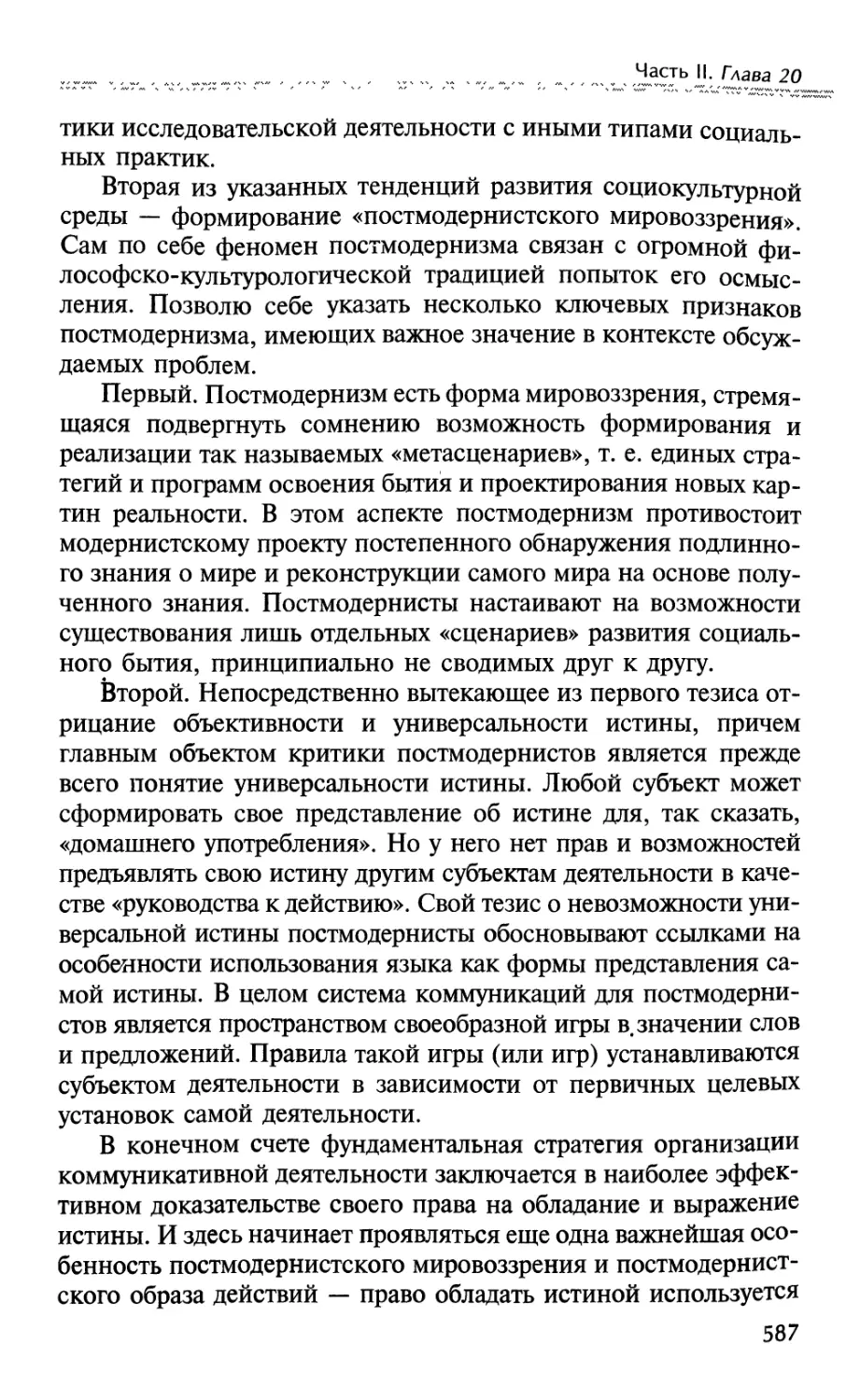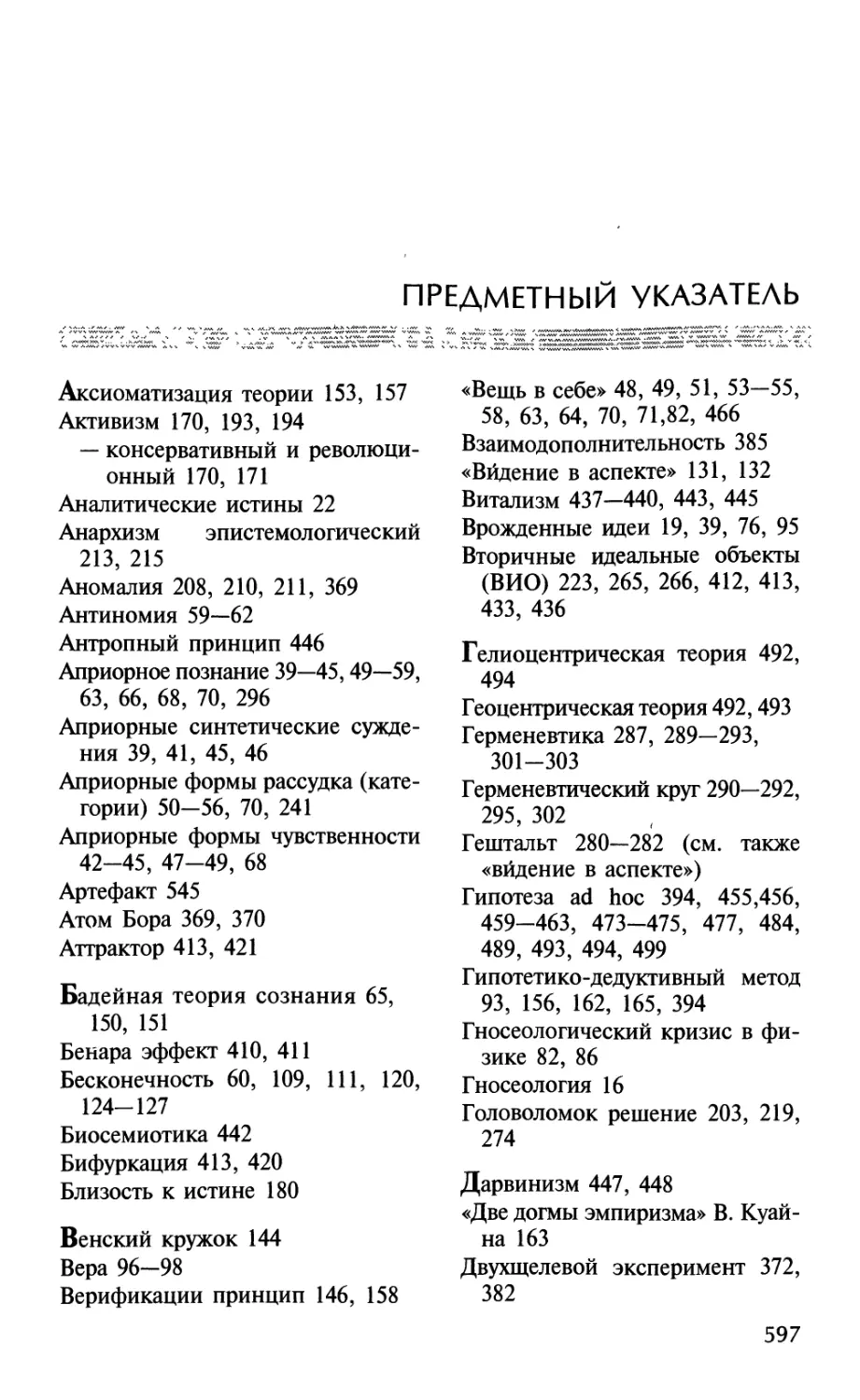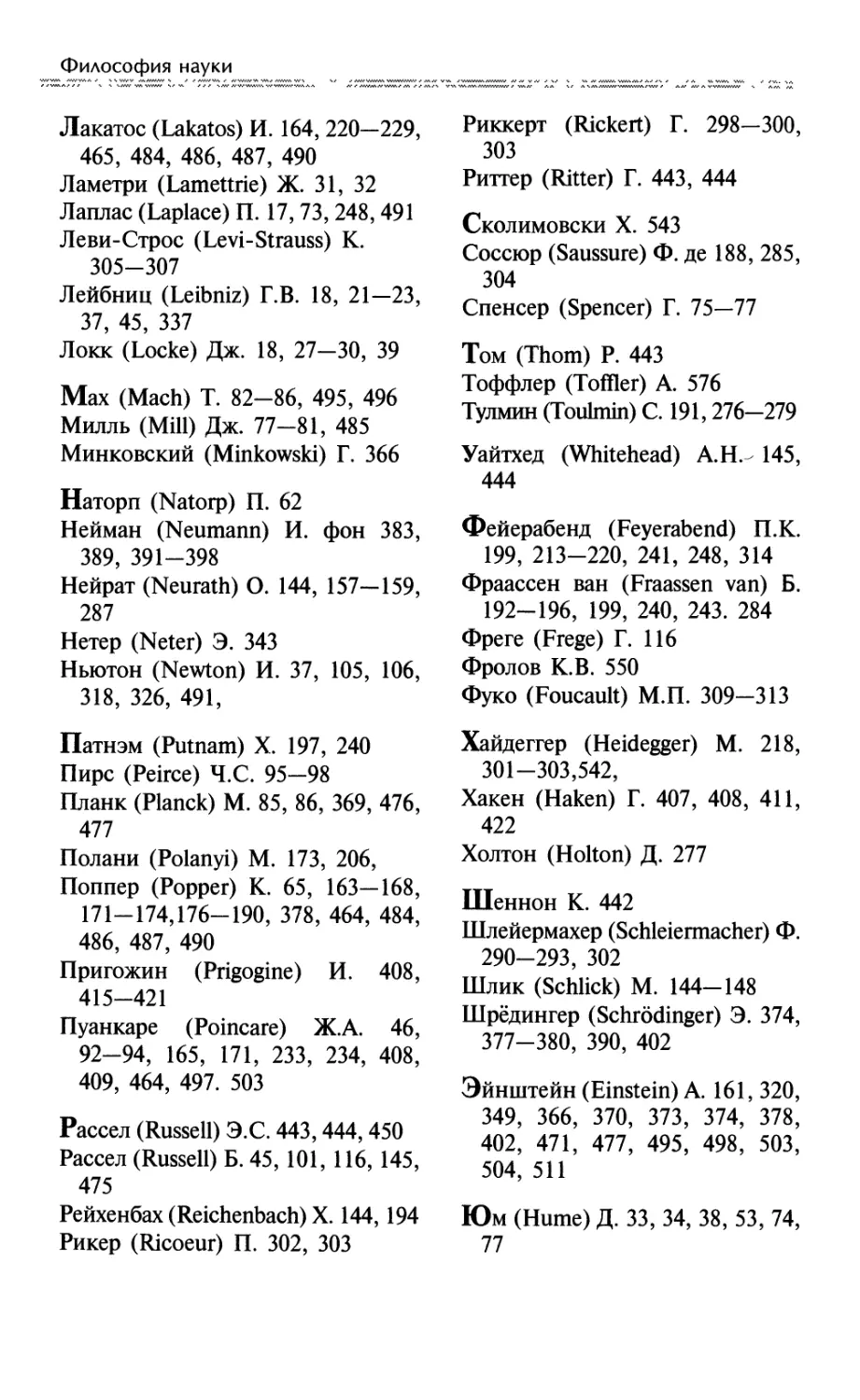Автор: Пипкина А И.
Теги: космология философия природы учебники и учебные пособия по философским наукам философия история история науки философия науки издательство эксмо серия образовательный стандарт 21 век
ISBN: 978-5-699-18350-0
Год: 2007
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ XXI
ФИЛОСОФИЯ
НАУКИ
Под редакцией А И. Пипкина
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ XXI
ФИЛОСОФИЯ
НАУКИ
Под редакцией доктора философских наук А.И. Пипкина
Рекомендовано
Научно-методическим советом по философии Министерства
образования и науки Российской Федерации
в качестве учебного пособия по дисциплине
«История и философия науки»
для аспирантов естественно-научных
и технических специальностей
Москва
Eksmo Education
ЭКСМО
2007
УДК 113/119(075)
ББК 87я73
Ф 51
Серия «Образовательный стандарт XXI»
Авторы:
| Баженов Л.Б.\ — д-р филос. наук, профессор кафедры философии Московс-
кого физико-технического института (государственного университета) —
главы 10, 12, 17;
Визгин В.П. — д-р физ.-матем. наук, заведующий сектором истории физики и
механики Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавило-
ва РАН — глава 11;
Гороховская Е.А. — канд. биолог, наук — глава 16;
| Котина С.В.\ — д-р филос. наук, профессор кафедры философии Московского
физико-технического института (государственного университета) — глава 18;
ЛипкинА.И. — д-р филос. наук, канд. физ.-матем. наук, доцент кафедры филосо-
фии Московского физико-технического института (государственного уни-
верситета) — введение, главы 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15;
Розин В.М. — д-р филос. наук, заведующий сектором философии техники Ин-
ститута философии РАН — глава 19;
Скворчевский К.А. — д-р техн, наук, канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-
фии Московского физико-технического института (государственного уни-
верситета) — глава 20;
Сокулер З.А. — д-р филос. наук, профессор кафедры онтологии и теории позна-
ния МГУ и кафедры философии Московского физико-технического инсти-
тута (государственного университета) — главы 2, 4, 9.
Философия науки: учеб, пособие / Под ред. д-ра филос.
ф 51 наук А.И. Липкина. — М.: Эксмо, 2007. — 608 с. —
(Образовательный стандарт XXI).
ISBN 978-5-699-18350-0
Книга дает представление о широком спектре современных взглядов на ес-
тественную науку. Наряду с концепциями и методами современной филосо-
фии науки и ее истории рассматриваются конкретные философские проблемы
естествознания: наличие различных «интерпретаций» квантовой механики и
миф об особой роли в ней сознания наблюдателя, проблемы пространства и
времени в теории относительности, споры вокруг синергетики, биологии, тех-
ники и др.
Для студентов и аспирантов естественно-научных специальностей, препо-
давателей, а также всех интересующихся проблемами философии науки.
УДК 113/119(075)
ББК 87я73
ISBN 978-5-699-18350-0
© ООО «Издательство «Эксмо», 2007
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие..................................................9
ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ НАУКИ
Введение (А. И. Липкин).......................................12
Глава 1. Рационализм и эмпиризм в теории познания
Нового времени (А.И.Аипкин)....................................16
1.1. Основные направления метафизики Нового времени .... 16
1.2. Рационализм.............................................19
1.3. Эмпиризм................................................23
Глава 2. Философия науки Канта и неокантианства
(З.А. Сокулер).................................................36
2.1. Проблемы, трудности и дальнейшая судьба эмпиризма
и рационализма..........................................36
2.2. Кантовский «коперниканский переворот»
в трактовке познания....................................38
2.3. Априорные синтетические суждения........................39
2.4. Трансцендентальная эстетика.............................42
2.5. Трансцендентальная аналитика............................49
2.6. Трансцендентальная диалектика...........................58
2.7. Неокантианство..........................................62
Глава 3. Позитивизм и прагматизм XIX — начала XX в.
(А.И, Аипкин)..................................................73
3.1. Первый позитивизм {Конт, Спенсер, Милль)................74
3.2. Второй позитивизм {Мах, Дюгем, Пуанкаре)................81
3.3. Американский прагматизм.................................95
Г л а в а 4. Философия науки в концепции Л. Витгенштейна
(З.А, Сокулер)................................................101
4.1. Общая концепция «Логико-философского трактата» . . . . 101
4.2. Философия науки в «Логико-философском трактате» . . . 104
4.3. Витгенштейнова философия математики...............108
4.4. Поздняя философия Витгенштейна....................129
4.5. Проблема обоснования знания.
Обоснование индуктивного принципа..................133
5
Философия науки
Г л а в а 5. Логический позитивизм XX в. (А.И. Липкин)....143
5.1. Принцип верификации................................145
5.2. Структура теории...................................152
5.3. Форма организации знаний...........................156
Глава 6. Постпозитивизм (Л.И. Липкин).....................161
6.1. От верификационизма к фальсификационизму
«критического рационализма» Поппера—Лакатоса...........164
6.2. Рост научного знания и проблема объективной истины
у К. Поппера............................................176
6.3. Эволюционная эпистемология К. Поппера
и С. Тулмина............................................189
6.4. Эмпиризм: «конструктивизм» против «реализма».......192
6.5. Модель науки Т. Куна...............................199
6.6. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда.........213
6.7. Методология «исследовательских программ»
И. Лакатоса.............................................220
6.8. «Внутренняя» и «внешняя» истории...................225
Глава 7. Объектная теоретико-операциональная модель
структуры научного знания (Л.И. Липкин)...................232
7.1. «Вторичные» и «первичные» идеальные объекты
и «ядро раздела науки»..................................233
7.2. ВИО- и ПИО-типы работы и эксперимента в физике . . . 236
7.3. Сочетание рационализма, конструктивизма и реализма
в объектном теоретико-операциональном подходе..........240
7.4. Физический эксперимент и естественная наука как
специфические сочетания математизированной
натурфилософии и технических операций...................244
7.5. Естественная наука и натурфилософия
в Новое время и в XX в..................................248
7.6. Структура ядра раздела науки в физике..............251
7.7. О месте физических моделей в физике................254
7.8. Различие «фундаментальной» и «прикладной» науки. . . . 261
Глава 8. Сравнение постпозитивистских моделей
науки на материале физики (Л.И. Липкин)...................269
8.1. Сравнение моделей И. Лакатоса и Т. Куна............269
8.2. Модель «исследовательских программ» и физика.......271
8.3. Уточнение описания «нормальной науки»..............273
8.4. «Научные революции» в физике и модель
С. Тулмина..............................................275
8.5. Анализ понятий «несоизмеримость»
и «некумулятивность». .................................280
6
Содержание
Г л а в а 9. Специфика гуманитарных наук (ЗА. Сокулер)....287
9.1. Герменевтика и проблема «герменевтического круга» . . . 289
9.2. Специфика гуманитарного познания в учениях баденской
школы неокантианства...................................296
9.3. Герменевтика как философское учение
о человеческом бытии...................................301
9.4. Структуралистское понимание методологии гуманитарных
и социальных наук......................................304
9.5. Мишель Фуко: «игры истины» и «власть—знание».......309
9.6. Возвращение к вопросу об отличии гуманитарного знания
от естественно-научного................................314
ЧАСТЬ II. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОТДЕЛЬНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНИКИ
Глава 10. Место физики в системе наук (Л.Б. Баженов) .... 317
10.1. Естественные науки и культура.....................317
10.2. Физика как фундамент естествознания...............319
10.3. Онтологическая фундаментальность физики
(оппозиция редукционизма и антиредукционизма) .... 322
Г л а в а 11. Математизация физики (Вл.П. Визгин).........325
Г л а в а 12. Проблема пространства-времени (Л.Б. Баженов). . . 337
12.1. Общая характеристика пространства и времени
и их основные свойства.................................337
12.2. Пространство и время в классической физике........344
12.3. Пространство-время в специальной теории
относительности........................................350
12.4. Пространство-время в общей теории относительности. . . 357
Глава 13. Философские проблемы квантовой механики
(А.И. Липкин).............................................368
13.1. «Старая» квантовая теория первой четверти XX в....368
13.2. Три парадигмы «новой» квантовой механики..........372
13.3. Основания квантовой механики — «теорфизическая»
парадигма..............................................379
13.4. «Парадоксы» квантовой механики....................388
Глава 14. Естественно-научная, наддисциплинарная
и натурфилософская стороны синергетики (Л.И. Липкин).... 407
14.1. Парадигма «нелинейной динамики»...................408
14.2. Динамические структуры синергетики Хакена
и их «наддисциплинарность».............................411
14.3. Проблема «необратимости времени»
и «физика неравновесных процессов» И. Пригожина. . . 415
14.4. Бифуркации, неустойчивость и самоорганизация
в естественной науке и натурфилософии..................419
7
Философия науки
Глава 15. Проблема редукционизма: сводится ли химия
к физике? (А.И. Липкин)..................................428
15.1. Химия Лавуазье и Дальтона........................428
15.2. Химия XX в.......................................433
Глава 16. Редукционизм и антиредукционизм в биологии
(ЕЛ. Гороховская)........................................437
16.1. Основные философские подходы к сущности жизни . . . 437
16.2. Философские аспекты биологических проблем:
происхождение жизни, эволюция, эмбриогенез,
молекулярные основы жизни..........................445
Глава 17. Методологические регулятивы теории
(Л.Б, Баженов)...........................................453
17.1. Принципиальная проверяемость.....................455
17.2. Максимальная общность............................472
17.3. Предсказательная сила............................481
17.4. Принципиальная простота..........................491
17.5. Системность......................................507
Глава 18. Методологический принцип красоты
(С.В. Котина)............................................521
18.1. История формирования и суть принципа красоты .... 521
18.2. Надындивидуальный смысл принципа красоты.........529
18.3. Требование инвариантности........................530
18.4. Требование согласованности.......................533
18.5. Требование простоты..............................535
Глава 19. Философия техники и проблема модернити
(В.М. Розин).............................................541
19.1. Философия техники как дисциплина и концепция .... 541
19.2. Сущность техники.................................545
19.3. Техника и социальность...........................566
Глава 20. Наука как социальный институт
(К.А. Скворчевский)......................................579
Предметный указатель.....................................597
Именной указатель........................................601
ПРЕДИСЛОВИЕ
Интерес к философии у ученых возрастает в периоды разви-
тия науки, предшествующие революционным нововведениям,
как это было в конце XIX — начале XX в. В наступающий после
этого относительно спокойный этап развития науки, что было
характерно для последних двух третей XX в., ученые обычно ма-
ло интересуются философией науки. Поэтому большинство со-
временных ученых, как правило, не идут в своих познаниях фи-
лософии науки дальше упомянутой революционной эпохи.
С последней они (в первую очередь физики-теоретики) знакомы
через работы А. Эйнштейна, А. Пуанкаре и других крупных уче-
ных, участвовавших в дебатах начала XX в. В то же время в фило-
софии науки в 1930-х и 1960—1970-х гг. появились существенно
новые концепции, которые малоизвестны представителям есте-
ственных наук. Сегодня, как и сто лет назад, справедливо утвер-
ждение Э. Маха: «В действительности всякий философ имеет
свое домашнее естествознание, и всякий естествоиспытатель —
свою домашнюю философию. Но эти домашние науки бывают в
большинстве случаев несколько устаревшими, отсталыми» [Мах,
2003, с. 38].
Эта книга написана авторами с многолетним опытом препо-
давания философии науки в Московском физико-техническом
институте и активной работы в сфере философии и истории
науки. Основной акцент в книге сделан на концепциях фило-
софии науки, которые представляют два периода ее бурного раз-
вития в XX в.: 1930-е гг. и 1960—1970-е гг. Именно тогда возник-
ли «логический позитивизм» и критикующий его «постпозити-
визм». Наряду с этим достаточно подробно рассматривается
предыстория философии науки от Ф. Бэкона и Р. Декарта до
И. Канта, неокантианцев и начальная стадия Становления фило-
софии науки у позитивистов второй половины XIX в. На мате-
риале физики с использованием оригинального подхода одного
9
Философия науки
из авторов анализируется взаимоотношение различных постпо-
зитивистских направлений. На базе этих концепций обсуждают-
ся философские проблемы современной «неклассической» фи-
зики (теории относительности и квантовой механики), а также
химии, синергетики, биологии и техники.
Авторы преследуют две цели. Во-первых, в ситуации назре-
вающей новой волны научных революций познакомить ученых с
современными концепциями философии науки, которые могут
помочь лучше понять философские аспекты «неклассической
физики» начала XX в. и «постнеклассической» синергетики и
биологии конца XX в. Во-вторых, способствовать расширению
кругозора, дать представление о гуманитарном мышлении, без
которого нельзя понять современный быстро меняющийся мир
(во всем мире признана полезность ознакомления специалистов
естественно-научного и технического профиля с гуманитарны-
ми дисциплинами (а гуманитариев с естественно-научными)).
Философия науки позволяет это сделать на близком читателям
материале — истории науки.
Одна из ярких специфических черт гуманитарного познания,
которая отражена в изложении материала, состоит в том, что в
отличие от математики или физики философия науки (и фило-
софия вообще) всегда существует как множество конфликтую-
щих между собой точек зрения, спор между которыми и обеспе-
чивает ее развитие1. Авторы старались излагать сложные и неод-
нозначные концепции таким образом, чтобы у читателя была
возможность достаточно глубоко с ними познакомиться и соста-
вить о них собственное мнение.
Первая часть книги дает довольно широкий спектр основных
современных подходов. Но поскольку нельзя объять необъятное,
то отечественная традиция представлена только направлениями,
разрабатывавшимися на кафедре МФТИ. Это два варианта од-
ного из известных направлений отечественной философии нау-
1 Авторы различных разделов этой книги, будучи не только преподавателя-
ми, но и активными учеными (все они доктора философских или физико-мате-
матических наук), тоже придерживаются различных позиций: Л.Б. Баженову и
С.В. Котиной близки позиции К. Маркса, К. Поппера и Т. Куна, З.А. Сокулер —
Витгенштейна, А.И. Липкину близки позиции Т. Куна и И. Лакатоса, но он раз-
рабатывает свою собственную линию, которая изложена в гл. 7, В.П. Визгину —
представители второго и третьего позитивизма, К.А. Скворчевскому близки
У. Куайн и П. Фейерабенд.
10
Предисловие
' г " ' z/ ИХ,,", ' , - " " ' , ' ,' . ' ' ' , ,. ,?'*, v ,J
ки — исследования методологических регулятивов (гл. 17 и 18) и
один оригинальный взгляд на структуру физического знания
(гл. 7). Кроме того, чтобы обозначить специфику естественных
наук, в п. 4.3 рассматривается вопрос об особенности математи-
ческого объекта, а в гл. 9 — философия гуманитарных наук.
Вторая часть посвящена философско-методологическим проб-
лемам физики и осмыслению ее границ. Здесь рассматриваются
философские проблемы пространства и времени (Л.Б. Баженов),
анализируются различные «интерпретации» квантовой механи-
ки, миф о включенности сознания наблюдателя в основания
квантовой механики и приводится целостная «интерпретация»
квантовой механики, обходящаяся без проблемы «редукции вол-
новой функции» и других «парадоксов» (А.И. Липкин). Здесь
также обсуждается роль математики в физике (Вл.П. Визгин) и
физики в системе наук (Л.Б. Баженов), а в связи с вопросом о ре-
дукции одних наук к другим (химии к физике, биологии к химии
и физике и т. п.) рассмотрена проблема существования качест-
венных границ между физикой, химией, биологией и синергети-
кой и природа специфики последних. В главе, посвященной фи-
лософии биологии (Е.А. Гороховская), рассматриваются различ-
ные подходы к пониманию сущности жизни и философские
аспекты таких фундаментальных биологических проблем, как
происхождение жизни, эволюция, морфогенез и молекулярные
основы жизни. В конце этой части помещена глава, посвящен-
ная техническим наукам (В.М. Розин), и небольшая глава о не-
которых социальных аспектах организации науки (К.А. Сквор-
чевский).
Книга адресована прежде всего физикам, но она представля-
ет интерес и для представителей других специальностей, ибо ис-
пользуемая в физике сложная математика остается за кадром.
Правда, изложение материала главы, посвященой квантовой ме-
ханике (гл. 13), предполагает знакомство с понятием «функции
распределения вероятностей».
Авторский коллектив благодарит заведующего кафедрой фи-
лософии МФТИ В.В. Сербиненко за идею создания данной кни-
ги и организационную поддержку издания, а также И.В. Лупан-
дина, А.А. Печенкина, В.Д. Эрекаева и О.С. Храмова — за тща-
тельное прочтение текста и ценные замечания.
11
Часть I
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
ФИЛОСОФИИ НАУКИ
В наше время физик вынужден зани-
маться философскими проблемами в гораз-
до большей степени, чем это приходилось
делать физикам предыдущих поколений.
К этому физиков вынуждают трудности их
собственной науки.
А. Эйнштейн
ВВЕДЕНИЕ
Наука подобна реке, которая хорошо видна, когда набрала
силу, но образуется она в результате слияния нескольких речек,
среди которых непросто найти главную*. Одни считают, что
наука развилась из ремесел и обычаев наших предков (Дж. Бер-
нал), и отсылают к каменному веку, когда человек начинал на-
капливать и передавать другим знания о мире. Другие на пер-
вый план выдвигают появление доказательного знания, которое
появляется в философии и математике Древней Греции в сере-
дине первого тысячелетия до нашей эры, ибо, как известно, в
древних государствах Египта и Междуречья были накоплены
значительные математические знания, но только в Древней
Греции начали доказывать теоремы. Третьи считают главной ха-
рактеристикой науки опору на опытное знание, которое осво-
бождало науку от догм аристотелизма. Некоторые исследовате-
ли видят первые ростки такого подхода уже в XIII—XIV вв.
Многие, однако, считают, что о науке можно говорить лишь
после научной революции XVII в., когда благодаря трудам
Г. Галилея и И. Ньютона появляется математизированная экс-
периментальная наука современного типа (образцом которой
стала физика). Тогда же возникают особые научные социальные
институты типа Лондонского королевского общества (1662) и
1 Метафора заимствована из [Кузнецова, 1996].
12
\ Часть I. Введение
Парижской академии наук (1666). Наконец, существует мнение,
согласно которому необходимым качеством науки считают
оформление ее в особую профессию, что происходит лишь в
конце первой трети XIX в. [Кузнецова, 1996; Келле, 1988].
Есть также не связывающий себя с историей аналитический
подход к определению понятия науки — через набор характер-
ных качеств научного знания. Характерный пример такого на-
бора подробно рассматривается в гл. 17 второй части книги. Но
эти характеристики, интересные и важные сами по себе, не да-
ют исчерпывающего ответа на интенсивно обсуждавшийся в
XX в. вопрос о демаркации научного и ненаучного знания.
С нашей точки зрения, наука вполне сформировалась к
XVII в. в Европе Нового времени. Ее истоки лежат в натурфи-
лософии Древней Греции, которая возникает в VI в. до н. э. Пе-
реходом от мифологической теогонии Гесиода, отвечавшей на
вопрос о том, кто из олимпийских богов от кого произошел, к
натурфилософии Фалеса, отвечавшей на вопрос, из чего все со-
стоит («все есть вода»), был обозначен переход от религиоз-
но-мифологического описания мира-космоса к философскому.
Это философское знание отличается также от знания древних
пророков (глашатаев богов) и мудрецов (владеющих истиной,
но не обосновывающих ее). Кроме того, оно противопоставля-
ется обыденному знанию и «техне» — знанию-умению, зна-
нию-искусству мастеров: философское знание относят к высо-
кому миру умопостигаемого бытия, противопоставляемого миру
«доксы» — изменчивой повседневной жизни людей. В рамках
этой высокой философии формируется математическое теорети-
ческое знание, образцом которого на многие века стала геомет-
рия Евклида. Эти компоненты (математика, натурфилософия,
механика-инженерия), испытав влияние эпохи Возрождения,
сплавляются в XVII в. в новое образование — естественную нау-
ку Нового времени. Первичным ее образцом можно считать ме-
ханику Галилея (теории движения падающего и брошенного те-
ла), где натурфилософские модели соединяются с математиче-
ским описанием движения и экспериментом, включающим
процедуры инженерного типа. Идеологическую и методологи-
ческую роль в становлении этой новой науки сыграли также
Ф. Бэкон и Р. Декарт.
Итак, под наукой далее будем понимать в первую очередь
естественную науку XVII—XX вв., образцом , которой является
13
Философия науки
физика. Зрелой стадией этой науки является уже механика
Ньютона, становящаяся образцом физики вплоть до второй по-
ловины XIX в. Этот период принято называть периодом(«клас-
сической» науки, в отличие от «неклассической» науки (физи-
ки) начала XX в. (сюда же, возможно, следует отнести и физику
последней трети XIX в.). Таким образом, в истории физики и
естествознания в целом выделяют две революции: так называе-
мую «научную революцию XVII в.» (сюда относят коперникан-
ский переворот в астрономии, за которым последовали теории
Г. Галилея и Ньютона) и «революцию в физике начала XX в.».
Иногда еще говорят о «постнеклассической» науке последней
трети XX в., но наличие соответствующей революции не столь
очевидно.
То же сравнение с рекой применимо и к философии науки.
В явном виде о ней можно говорить не ранее позитивизма
XIX—XX вв. Но первые ручейки можно разглядеть уже в Древ-
ней Греции: это такие идеи, как не зависящее от чувственного
опыта знание-эпистема Платона, и многие элементы метафизи-
ки, теории познания и логики Аристотеля. Непосредственной
предшественницей философии науки является гносеология
XVII—XVIII вв. (как эмпирическая, так и рационалистическая),
в центре которой было осмысление сущности научного знания
и методов его получения. Без понимания проблем, поставлен-
ных в философии познания (то есть гносеологии, которую поз-
же стали называть также эпистемологией) XVII—XVIII вв.,
нельзя понять философию науки XIX—XX вв. Гносеологиче-
ские проблемы науки стали центральной темой классического
этапа философии Нового времени — от Р. Декарта и Дж. Локка
до И. Канта.
Собственно философия науки начинается, по-видимому, в
XIX в. с позитивизма О. Конта, вдохновленного идеями эпохи
Просвещения. Еще более отчетливой она становится в конце
XIX в. в неокантиантстве и «втором» позитивизме (Э. Мах,
П. Дюгем и А. Пуанкаре), приобретая зрелые формы в логиче-
ском позитивизме 20—30-х гг. XX в. Этот третий этап развития
позитивизма у нас называют «неопозитивизмом» (в западной ли-
тературе часто — логическим эмпиризмом, а иногда просто «по-
зитивизмом»). В начале 1960-х г. рождается постпозитивизм, в
14
Часть I. Введение
рамках которого осуществляется логическая (К. Поппер и др.) и
историческая (Т. Кун, П. Фейерабенд, И. Лакатос и др.) критика
позитивизма (точнее, неопозитивизма). В ходе разгоревшегося
спора кристаллизуются основные позиции современной фило-
софии науки.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кузнецова Н.И. Проблема возникновения науки // Философия и методоло-
гия науки. М., 1996.
Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. М., 1988.
ВОПРОСЫ
1. Что такое наука? Когда она возникает?
2. Каковы основные этапы философии науки?
Глава 1
РАЦИОНАЛИЗМ И ЭМПИРИЗМ
В ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
* ’’ * % V, ‘ S S 4 4 МАа ч V%,A 'Wv % ' AVW 45 ' Z/*T •• '
1.1. Основные направления метафизики
Нового времени
Наука находится в центре внимания главных философских
направлений XVII—XVIII вв., служащих фундаментом, на кото-
ром в XIX—XX вв. строится философия науки. Основные облас-
ти философии этого времени — онтология и гносеология. Онто-
логия (от греч. ontos — сущее и logos — слово, понятие, учение) —
«учение о бытии как таковом», «знании об истинно существую-
щем», раздел философии, изучающий фундаментальные прин-
ципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего»
[Доброхотов, 1983, с. 458]. Гносеология (позже стал употребляться
термин «эпистемология») в переводе с греческого «теория позна-
ния», «раздел философии, в котором изучаются проблемы по-
знания и его возможностей, отношения знания к реальности»
[Лекторский, с. 678]. Эти две области философии тесно связаны
с понятием метафизики, которое будет нам часто встречаться.
Метафизика (от греч. meta ta physika — после физики) — наука о
сверхчувственных принципах и началах бытия. Это понятие по-
является в связи с систематизацией произведений Аристотеля.
«Аристотель, — пишет A.JI. Доброхотов, — построил классифи-
кацию наук, в которой первое по значению и ценности место за-
нимает наука о бытии как таковом и о первых началах и причи-
нах всего сущего, названная им «первой философией»... В отли-
чие от «второй философии» или физики «первая философия»
(названная впоследствии метафизикой) рассматривает бытие
независимо от конкретного соединения материи и формы... Ме-
тафизика, по Аристотелю, является самой ценной из наук, суще-
ствуя не как средство, а как цель человеческой жизни и источ-
ник наслаждения. Античная метафизика явилась образцом мета-
16
Часть I. Глава 1
физики вообще... Метафизика Нового времени... сделала
объектом своего исследования природу... Формально оставаясь
«царицей наук», метафизика испытала влияние естествознания,
достигшего в этот период выдающихся успехов... Основная черта
метафизики Нового времени — сосредоточенность на вопросах
гносеологии, превращение ее в метафизику познания (в Антич-
ности и Средние века она была метафизикой бытия)» [Доброхо-
тов, с. 362].
В метафизике Нового времени выделяются две пары проти-
востоящих друг другу направлений: в гносеологии — рациона-
лизм и эмпиризм, в онтологии — органицизм и механицизм.
Основы механицизма (по сути — физикализма) были четко
сформулированы великим французским математиком и физи-
ком П. Лапласом (1749—1827). Эта позиция имеет несколько ас-
пектов. Во-первых, всеобщий детерминизм, отрицающий сво-
бодную волю: «Всякое имеющее место явление связано с пред-
шествующим... мы должны рассматривать настоящее состояние
Вселенной как следствие ее предшествующего состояния и как
причину последующего», «Воля, самая свободная, не может по-
родить эти действия без побуждающей причины» (по сути, здесь
все живое сводится к сложной машине, предполагающей в каче-
стве источника активности некую внешнюю силу). Во-вто-
рых, — отрицание случайности — случайность есть «лишь про-
явление неведения, истинная причина которого — мы сами»
[Лаплас, 1908, с. 8—9].
Но самая главная для нас черта механицизма — редукцио-
низм, сведение всего к механике (в XIX в. — классической). Суть
этого редукционизма и одновременно отношение к этому физи-
ков очень ярко выразил видный физик и философ конца XIX в.
Э. Мах: «Как бы вдохновенным тостом, посвященным научной
работе XVIII столетия, — говорит он, — звучат часто цитируемые
слова великого Лапласа: «Интеллект, которому были бы даны на
мгновение все силы природы и взаимное положение всех масс и
который был бы достаточно силен для того, чтобы подвергнуть
эти данные анализу, мог бы в одной формуле представить дви-
жения величайших масс и мельчайших атомов; ничего не было
бы для него неизвестного, его взорам было бы открыто и про-
шедшее и будущее». Лаплас разумел при этом, как это можно до-
казать, и атомы мозга... В целом идеал Лапласа едва ли чужд ог-
ромному большинству современных естествоиспытателей...»
17
Философия науки
[Мах, 1909, с. 153]. Действительно, лапласовскую редукционист-
скую логику, основанную на тезисе «все состоит из атомов, ато-
мы подчиняются физическим законам, следовательно, все должно
подчиняться физическим законам» (для Лапласа — законам дина-
мики и тяготения Ньютона), в XX в. на основе законов кванто-
вой механики почти слово в слово воспроизводят Э. Шрёдингер
и многие другие великие физики XX в.
Подобный физикалистский взгляд предполагает элементари-
стскую парадигму, согласно которой свойства целого (или сис-
темы) определяются свойствами его элементов (атомов) и их
взаимодействий. Холистский (от англ, whole — целый) подход, с
его центральным тезисом, что свойства целого могут не сводить-
ся к свойствам его элементов (или даже определяться им), ука-
зывает на наличие качественных границ между физикой, биоло-
гией, антропологией1.
В основании органицизма лежит центральное для биологии
понятие «организма» (см. гл. 16). Но оно развито несравненно
слабее, чем понятие «механизма», и тем более — понятия «физи-
ческой механики» или физики. В качестве важного отличия жи-
вого организма от механизма является то, что организм есть
цельное, которое предполагает источник активности внутри себя.
В мировоззрении ученых-естественников XVII—XX вв. пре-
обладают эмпиризм и механицизм, хотя в начале и в конце
XX в. имеет место возрастание интереса к рационализму и орга-
ницизму.
Главное отличие рационализма от эмпиризма состоит в сле-
дующем. Рационалисты (Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза) по-
лагают, что исходным пунктом для построения научного знания
являются идеи разума, а основным методом — дедукция. Эмпи-
ри(ци)сты (Ф. Бэкон, Дж. Локк, Дж. Беркли, французские мате-
риалисты, Д. Юм) считают, что исходным пунктом для построе-
ния научного знания является опыт, а основным методом — эм-
пирическая индукция (Ф. Бэкон) или преобразования простых
идей в сложные (Дж. Локк).
Рассмотрим вкратце позиции тех и других.
1 Поэтому ученых и создаваемую ими науку нельзя вывести из уравнений
Ньютона или Шрёдингера. Скорее наоборот, чтобы понять сложные физически
понятия, например микрочастицы, надо обратиться к структуре науки.
18
Часть I. Глава 1
1.2. Рационализм
Р. Декарт (1596—1650) в основу правильного мышления (по-
знания) кладет «принцип очевидности» (или «достоверности»),
состоящий в том, что основание знания, претендующего на дос-
товерность, должно быть очевидным, т. е. ясным и отчетливым.
В своем «Рассуждении о методе» он формулирует ряд правил.
«Никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы
таковым с очевидностью... включать в свои суждения только то,
что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что
не дает мне никакого повода подвергать их сомнению» [Декарт,
с. 260] — так звучит основополагающий рационалистический
принцип Декарта. Начинать с простого и очевидного — первое
правило декартовского метода. Далее из этого простого и очевид-
ного положения путем дедукции получают многочисленные
следствия, составлявшие теоретические научные утверждения
(второе правило), действуя при этом так, чтобы не было упущено
ни единого звена (третье правило).
Другое основополагающее положение Декарта состоит в уче-
нии о двух субстанциях — мыслящей духовной и протяженной
материальной. Понятие субстанции считается у рассматривае-
мых здесь рационалистов одним из важнейших. Декарт опреде-
ляет субстанцию как то, что может существовать само по себе, не
нуждаясь ни в чем другом, кроме сотворившего ее Бога.
В духовной субстанции наряду со средствами для реализации
дедукции (второе правило) содержатся и «врожденные идеи»,
обеспечивающие выполнение первого правила. «Нематериаль-
ная субстанция (т. е. мыслящая духовная. — А.Л.) имеет в себе,
согласно Декарту, идеи о некоторых вещах. Эти идеи присущи
ей изначально, а не приобретены в опыте, а потому их стали на-
зывать врожденными, хотя сам Декарт чаще говорит, что они вло-
жены в нас Творцом. Прежде всего к ним относится идея Бога
как существа всесовершенного, затем идеи чисел и фигур, а так-
же некоторые общие понятия, как, например, известная аксио-
ма: «если к равным величинам прибавить равные, то получаемые
при этом итоги будут равны между собой», или положение: «из
ничего ничего не происходит». Это — вечные истины, «пребы-
вающие в нашей душе и называемые общим понятием или ак-
сиомой»...» [Гайденко, 2000, с. 122]. Такие идеи, которые Декарт
19
Философия науки______________________________________________
SV ev s г v. v. s %% s ss sasw. s .. wCva-.-.' sssa 444 s v -% .... ssas • гчг . a^ avvsv. v. V.--.V. ssss г sssssss s -..v. ssw w a •. г -
считает «врожденными», даны разуму «интеллектуальной интуи-
цией».
Материальная субстанция служит у Декарта основой его ме-
ханистического истолкования природы — важного его вклада в
формирование физики Нового времени. У Декарта «духовное
начало полностью выносится за пределы природы, которая этим
превращается в систему машин, объект для человеческого рас-
судка» [Там же, с. 121, 134]. Человеческое тело, по Декарту, есть
«машина, которая, будучи создана руками Бога, несравненно
лучше устроена и имеет в себе движения более изумительные,
чем любая из машин, изобретенных людьми» [Декарт, 1989, т. 1,
с. 282]. Соответственно все изменения в природе Декарт сводит
к перемещению частей материальной субстанции (основные ее
характеристики — протяженность, фигура и движение): «Я...
пользуюсь этим словом (природой) для обозначения самой мате-
рии... Все свойства, отчетливо различимые в материи, сводятся
единственно к тому, что она дробима и подвижна в своих частях
и, стало быть, способна к различным расположениям, которые...
могут вытекать из движения ее частей... Все различие встречаю-
щихся в материи форм зависит от местного движения (т. е. дви-
жения-перемещения — АЛ.)» [Там же, с. 359—360]. У Декарта
«материя утратила свой прежний статус — чего-то неопределен-
ного... и получила новое определение: она стала началом плот-
ным, неизменным, устойчивым... Материя стала телом, а тело
стало материей, т. е. утратило то начало формы и жизни, каким
оно обладало у Аристотеля... В Античности материя мыслилась
как возможность, которая сама по себе, без определяющей ее
формы, есть ничто». У Декарта «материя сама по себе уже одна, а
это значит, что она не есть просто возможность, а есть действи-
тельность, которая даже носит название субстанции, т. е. того,
что может существовать само по себе». «При этом... все, что в ма-
терии (т. е. в природе) является неизменным, происходит от Бо-
га, ибо Он — начало постоянства, а все изменяющееся — от са-
мой материи» [Гайденко, 2000, с. 126, 128].
Отождествление материи и пространства приводит к слия-
нию физики и геометрии. В результате наука о природе пред-
ставляется Декарту как дедуктивная система, подобная евклидо-
вой геометрии.
Наряду с переосмыслением понятия материи у Декарта про-
исходит и переосмысление сущности математики. Платон, про-
20
Часть I. Глава 1
должая пифагорейскую традицию, считал математику содержа-
тельной наукой, числа и фигуры для него имели онтологический
смысл, это божественные первоэлементы мироздания. Эта тра-
диция продолжалась и в Средние века. Декарт же «убежден, что
математика есть наука формальная, что ее правила и понятия —
это создания интеллекта, не имеющие вне его никакой реально-
сти, и поэтому математику совершенно все равно, что «считать»:
числа, звезды, звуки и т. д. Математика в руках Декарта стано-
вится формально-рациональным методом, с помощью которого
можно «считать» любую реальность, устанавливая в ней меру и
порядок с помощью нашего интеллекта... Эта новая математи-
ка... есть инструмент... Это требовало, во-первых, пересмотра
оснований античной математики... а во-вторых, пересмотра ста-
рой физики... В математику вводится принцип движения (с по-
мощью понятия функции. — А.Л.), а из природы... изгоняется
начало жизни и души, без которых не мыслили природу ни пла-
тоники, ни перипатетики (последователи Аристотеля. — А.Л.).
Оба этих процесса... составляют содержание «универсальной
науки» Декарта... Созданную им математику Декарт называет
универсальной именно потому, что она абстрагируется от всех
тех содержательных определений, которые лежали в основе ан-
тичной и во многом еще и средневековой математики» [ Там же,
с. 141—142, 144]. Таким образом, у Декарта происходит десакра-
лизация античной математики, превращение ее в интеллекту-
альный инструмент.
Другим видным представителем рационализма был Г. Лейб-
ниц (1646—1716), позиция которого во многих отношениях отли-
чалась от позиции Декарта. Как и Декарт, он сделал существен-
ный вклад в физику и был великим математиком. Если Декарт в
физике ввел законы сохранения количества движения («мертвой
силы») и инерции {Декарт, 1989, с. 367—370], а в математике
был создателем аналитической геометрии, то Лейбниц в физике
ввел, по сути, понятие кинетической энергии («живой силы»), а
в математике был создателем дифференциального исчисления.
Но основой его концепции была не математика, а логика. Мате-
матика для него «есть особый случай применения логики... ак-
сиомы математики не первичны, а имеют свои основания в ис-
ходных логических аксиомах» {Гайденко, с. 261].
Логика лежала и в основании его метафизики, которую он
ставил выше математики: «Существуют три степени понятий,
21
Филосо^ия^^ ; ......... / ' ;/
,AA%AV AWA*VA .SV.-.V.'.1- V -' .' VaWA^-
или идей: обыденные, математические и метафизические поня-
тия» [Лейбниц, 1989, т. 2, с. 211]. Таким образом, метафизика со-
держит наиболее глубокие истины. «Хотя все частные явления
могут быть объяснены математически и механически тем, кто их
понимает, — говорит Лейбниц, — тем не менее общие начала те-
лесной природы и самой механики носят скорее метафизиче-
ский, чем геометрический характер» [Там же, 1989, т. 1, с. 144].
Само основополагающее понятие субстанции выводится Лейб-
ницем «из логических категорий субъекта и предиката. Некото-
рые слова могут быть либо субъектами, либо предикатами, на-
пример, я могу сказать «небо — голубое», «голубое — это цвет».
Другие слова, из которых имена собственные дают наиболее оче-
видные примеры, никогда не бывают предикатами, а только
субъектами или одним из терминов отношения. Такие слова
призваны обозначать субстанции» [Рассел, 1999, с. 549]. Из этого
же логического определения следует, что таких индивидуальных
субстанций, которые Лейбниц назвал монадами, должно быть
много. При этом «всякая «индивидуальная субстанция», по
Лейбницу, должна выражаться настолько «полным понятием»,
чтобы из него можно было «вывести все предикаты (относящие-
ся к прошлому, настоящему и будущему. — А.Л.) того субъекта,
которому оно придается» [Лейбниц, 1989, т. 1, с. 132].
Логика лежит в основании еще одного важного для Лейбница
различения: «истины разума» и «истины факта». Более важными
для Лейбница, конечно, являются «истины разума», или «истины
вечные», — это «интуитивно-дедуктивные истины, полностью
независимые от многообразных изменений, постоянно конста-
тируемых в опыте» [Соколов, 1984, с. 378]. Они позволяют мыс-
лить возможное и непротиворечивое. Это аналитические исти-
ны. «Те понятия, которые... могут быть сведены к тождествен-
ным утверждениям, или, иначе говоря, которые полностью
аналитичны, Лейбниц считает созданными самим умом ближе
всего к таким понятиям... стоит, по Лейбницу, понятие числа».
«Высшим законом логики и соответственно высшим принципом
истинного знания Лейбниц считает закон тождества» [Гайденко,
2000, с. 264-265, 268-269].
«Истины факта» — это истины, получающиеся из опыта.
«В противоположность разумным, или вечным, истинам как ис-
тинам необходимым... они всегда более или менее случайны.
Тем не менее научное осмысление опыта возможно. Оно осно-
22
Часть I. Глава 1
вывается на законе достаточного основания... Согласно этому за-
кону все существующее и происходящее имеет место по ка-
кой-то причине, на каком-то основании... Закон достаточного
основания, без которого нет опытно-экспериментального есте-
ствознания, стал у Лейбница логической основой принципа при-
чинности, каузальности» [Соколов, 1984, с. 378—379].
К истинам факта Лейбниц относит и исходный пункт Декар-
та: «мыслю, следовательно, существую». Он не считал такую ис-
тину принципиально отличной от других истин факта. «Лейбниц
отвергает выдвинутый Декартом в качестве основы научного
знания принцип непосредственной достоверности... Не столько
субъективная очевидность, сколько логическое доказательство
гарантирует объективную истинность наших суждений» [Гайден-
ко, 2000, с. 259-260].
Очень важной и сложной для рационалистов являются свя-
занные между собой проблемы соотношения между мышлением
и внешней реальностью, с одной стороны, и душой и телом — с
другой. Лейбниц для решения обеих проблем вводит «принцип
предустановленной гармонии», согласно которому каждая из не-
повторимых монад «развивает присущую только ей познаватель-
ную деятельность. Вместе с тем существует величайшая согласо-
ванность в результатах этой деятельности всех бесчисленных мо-
над... Бог раз и навсегда согласовал физическое с духовным
(подчинив первое второму)» [Соколов, 1984, с. 391—392] (т. е. мо-
нады относятся друг к другу подобно синхронно идущим незави-
симо друг от друга часам, предполагая Бога в роли часовщика).
У Б. Спинозы адекватность априорного мышления и бытия
обеспечивается утверждением, что «порядок и связь идей те же,
что порядок и связь вещей» [Спиноза, 1957, т. 1, с. 417].
1.3. Эмпиризм
Если Р. Декарт является основоположником рационализма
Нового времени, который видит основания науки в разуме и об-
разцом науки считает математику, то Ф. Бэкон (1561—1626) и
Дж. Локк (1632—1704) являются основателями эмпиризма, про-
тивостоящего рационализму.
Бэкон, так же как античные философы и Декарт, признает,
что «чувства неизбежно обманывают», но если рационалисты в
23
Философия науки
качестве преодоления этого обмана предлагают обратиться не-
посредственно к «свету разума», то Бэкон для этой цели предла-
гает использовать опыт, полагая, что «тонкость опытов намного
превосходит тонкость самих чувств». «Хотя чувства довольно
часто обманывают и вводят в заблуждение, — говорит Бэкон, —
однако в союзе с активной деятельностью человека они могут
давать нам вполне достаточные знания; и это достигается... бла-
годаря экспериментам, способным объекты, не доступные на-
шим органам чувств, сводить к чувственно воспринимаемым
объектам...» [Бэкон, 1972, т. 1, с. 76, 299]. В этой опоре познания
на опыт и состоит суть эмпиризма.
В своем «Новом органоне» Бэкон провозгласил, что новая
наука должна исходить из опыта, а не из умозрений, но этот «све-
тоносный» (т. е. ведущий к новым знаниям, а не к умениям)
опыт далее должен быть соответствующим образом обработан с
целью получения общих «аксиом» (так Бэкон называл теорети-
ческие утверждения), из которых можно вывести много следст-
вий, включая новые «плодоносные» опыты, т. е. такие, которые
могут быть с пользой применены людьми в обыденной жизни:
«Ибо хотя мы более всего устремляемся в практике к действен-
ной части наук, — говорит Бэкон, — однако мы выжидаем время
жатвы... Ведь мы хорошо знаем, что правильно найденные ак-
сиомы влекут за собой целые вереницы практических приложе-
ний и показывают их не поодиночке, а целой массой» [ Там же,
т. 1, с. 79]. Центральную идею бэконовского эмпиризма очень
хорошо передает бэконовская метафора пчелы: «Те, кто занима-
лись науками, были или эмпириками, или догматиками. Эмпи-
рики, подобно муравью, только собирают и довольствуются соб-
ранным. Рационалисты, подобно паукам, производят ткань из
самих себя. Пчела же избирает средний способ: она извлекает
материал из садовых и полевых цветов, но располагает и изменя-
ет его по своему умению. Не отличается от этого и подлинное де-
ло философии» [ Там же, т. 2, с. 58], которое состоит в «искусстве
указания». «Это искусство указания... может вести либо от экс-
периментов к экспериментам, либо от экспериментов к ак-
сиомам, которые в свою очередь сами указывают путь к новым
экспериментам. Первую часть мы будем называть научным опы-
том... вторую — истолкованием природы или Новым Органо-
ном... (имея в виду правильный метод для исследования приро-
ды. — А.Л.)» [Там же, т. 1, с. 299]. Суть последней составлял
24
Часть I. Глава 1
метод истолкования, или наведения, т. е. индукции, который се-
годня называют методом эмпирической индукции.
Логический метод индукции как восхождение от единичного
к общему был введен еще Аристотелем в его «Органоне». Однако
до Ф. Бэкона индукцию, во-первых, понимали как полную ин-
дукцию, когда возможно обозреть все без исключения случаи.
Во-вторых, была известна неполная индукция как вывод на ос-
новании наблюдения лишь тех фактов, которые подтверждали
доказываемое утверждение. Этой «индукции через перечисле-
ние» Бэкон противопоставил «истинную индукцию». В послед-
ней наряду с учетом явлений, подтверждающих доказываемое
положение (сводимых в «Таблицу присутствия»), производился
учет случаев, противоречащих доказываемому положению (сво-
димых в «Таблицу отсутствия»), которые рассматривались как
основной элемент метода. Такое установление фактов предпола-
гает активное вмешательство в процесс наблюдения, устранение
одних и создание других условий — путь, ведущий к экспери-
менту. Бэкон указывал на «рассечение и анатомирование мира»
как на способ продвижения к «светоносным опытам».
Сбор всех случаев в различные типы таблиц — «присутст-
вия», «отсутствия», «сравнения» и др. — подготовительная ста-
дия собственно индуктивного вывода. В итоге же ученый должен
получить положительный вывод, устанавливающий наличие об-
щего свойства или причины изучаемого явления. Этот итоговый
творческий акт никак не формализован (и зависит от искусства
ученого, хотя идея Бэкона — создать что-то вроде производствен-
ной технологии по производству открытий). Так, исследуя поня-
тие тепла, Бэкон в первую таблицу отобрал факты, подтверж-
дающие эти свойства, начиная с «солнечных лучей, особенно ле-
том и в полдень» (1), и завершая этот ряд описанием «сильного и
острого холода, приносящего ощущение жжения» (27). Во вто-
рой таблице он приводит «к первому положительному приме-
ру — первый отрицательный, или подчиненный, пример: лучи
луны, звезд и комет не оказываются теплыми для осязания» и
т.д. Третью таблицу (таблицу сравнений) он начинает с «твердых
и осязаемых тел», которые не являются «теплыми по своей при-
роде», и кончает раскаленными телами, «гораздо более горячи-
ми, чем некоторые виды пламени». «Задачу и цель этих таб-
лиц, — говорит он, — мы называем представлением примеров ра-
зуму. А после представления должна прийти в действие и самая
25
Философия науки
индукция», основу которой составляет исключение, т. е. отбра-
сывание «простых природ», примерами которых для него служат
«свет и блеск», «расширяющее и сжимающее движение» и др.
Однако индукция «не завершена до тех пор, пока не утверждает-
ся в положительном». Пример последнего для «формы» или
«природы» тепла у Бэкона звучит так: «На всех примерах и из ка-
ждого из них видно, что природа, частным случаем которой яв-
ляется тепло, есть движение. Это более всего обнаруживается в
пламени, которое всегда движется, и в кипящих жидкостях, кото-
рые также всегда движутся... Это обнаруживается также и в том,
что всякое тело разрушается или... заметно изменяется всяким
огнем или сильным и бурным теплом...» И наконец, итог (пред-
варительный): «На основании этого первого сбора плодов фор-
ма, или истинное определение тепла (того, которое относится ко
Вселенной (т. е. объективно. — А.Л.), а не только к чувству), со-
стоит в следующем...: тепло есть движение распространения, за-
трудненное и происходящее в малых частях. Но это распростра-
нение особого вида: распространяясь вокруг себя, оно, однако,
отклоняется несколько вверх...» [Бэкон, т. 2, с. 92—122].
Конечно, сводить систему Бэкона к методу эмпирической
индукции — это очень зауженный взгляд. Предложенный Бэко-
ном метод является лишь элементом его широкого замысла, ко-
торый состоял в построений научной организации нового типа,
и этот замысел «повлиял на инициаторов четырех наиболее важ-
ных академий XVII—XVIII вв.: Лондонской, Парижской, Бер-
линской и Санкт-Петербургской — и стоял у истоков главней-
ших организационных научно-образовательных программ», —
пишет современный исследователь творчества Ф. Бэкона
Д.Л. Сапрыкин [Сапрыкин, 2001, с. 20]. Однако нас здесь интере-
сует в основном лишь его программа эмпиризма и индуктивизма.
Что касается разрабатывавшегося им метода эмпирической ин-
дукции, бывшего одним из центральных элементов его методо-
логии, то к нему всерьез вернулись только в позитивизме
XIX—XX вв., где он стал основой индуктивизма. «Для научной и
философской атмосферы Европы XVII в. наибольшую роль сыг-
рала общая — критическая, эмпирическая и практическая —
тенденция бэконовской методологии» [Соколов, 1984, с. 227],
причем после его смерти сначала развитие рационалистической
методологии привело к существенному «забвению его методоло-
гических принципов». Затем с развитием философии Просвеще-
26
Часть I. Глава 1
ния снова приобрел популярность «опытно-эмпирический пафос»
Бэкона [Там же, с. 227]. Д. Юм считал его «отцом опытной фи-
зики» [Юм, 1996, т. 1, с. 660]. Наука, согласно Ф. Бэкону, опира-
ется на опыт1 — тезис, легший в основу эмпиризма, доминирую-
щего и в современной философии науки.
Бэкон и Декарт — два основоположника науки Нового вре-
мени — «трудились в одном и том же направлении: сокрушали
старое здание и на его обломках воздвигали новое. За обоими
пошли последователи... [которые] разделились на два лагеря.
Одни, следуя Бэкону и доведя до крайности его методологию,
объявили непогрешимыми опыт и индукцию (эту линию пред-
ставляло Лондонское королевское общество. — А.Л.), другие,
следуя примеру Декарта, увлекались его программой построения
картины мира (эту линию представляла Парижская академия на-
ук. — А.Л.). Неудачи первых картезианцев... отпугнули многих.
Многочисленные ряды сторонников Картезия редеют во второй
половине XVHI в. Но уже в конце первой половины XIX в., на
базе успехов теории эфира и закона сохранения энергии, стала
возрождаться модельная физика, и вспомнили ее великого осно-
вателя. Но уже на новую ступень поднялась физическая наука и
на новой базе развернулась борьба двух направлений» [Кудряв-
цев, 1948, с. 142].
Ф. Бэкон является отцом эмпирического направления в тео-
рии познания (гносеологии) Нового времени, но в целом — по
стилю аргументации и изложения — Бэкон принадлежит еще
эпохе Возрождения. Центральной фигурой эмпиризма, относя-
щейся уже к философии Нового времени, является Джон Локк
(1632-1704).
Локковская теория познания, продолжая традицию Ф. Бэко-
на, противостоит Декарту. Локк считал, что не существует врож-
денных идей и принципов и что все без исключения общие
принципы только кажутся нам врожденными, в действительно-
сти же за ними скрывается накапливаемый опыт. Отсутствие
«врожденных идей» он обосновывал тем, что нельзя считать вро-
жденными даже всеобщие принципы знания, включая логиче-
ские законы тождества и противоречия, ибо их нельзя «найти у
1 Под опытом в философии в XVII—XIX вв., а часто — и в XX в. понимали
восприятие природных явлений с помощью органов чувств, а не научный экспе-
римент, как он описан в гл. 7.
27
Философия науки
детей, идиотов, дикарей и людей необразованных» [Локк, 1985,
т. 1, с. 97, 113].
Согласно Локку человеческая душа в самом начале своей
жизни представляет собой «белую бумагу без всяких знаков и
идей» [Там же, т. 1, с. 128]. Этот «белый лист» заполняется про-
стыми идеями, получаемыми из опыта. «На опыте основывается
все наше знание, от него в конце концов оно происходит... — ут-
верждает Локк. — Наше наблюдение, направленное или на внеш-
ние ощущаемые нами предметы, или на внутренние действия наше-
го ума, которые мы сами воспринимаем и о которых мы сами раз-
мышляем, доставляет нашему разуму весь материал мышления.
Вот два источника знания, откуда происходят все идеи, которые
мы имеем... Называя первый источник ощущением, я называю
второй рефлексией» [Там же, с. 154].
Учение Локка часто называют сенсуализмом. Но «фундамен-
тальный гносеологический термин «сенсуализм» применим
главным образом — если не исключительно — к [той] важней-
шей разновидности опыта», которую Локк назвал внешним опы-
том и которому у Локка «всегда принадлежит хронологическое
первенство». Поскольку он «подчеркнул значение и внутреннего
опыта, находящегося в сложном взаимодействии с опытом
внешним, его позицию более правильно определять как эмпири-
стическую» [Соколов, 1984, с. 409—411].
Знание Локк делит на интуитивное (состоящее из самооче-
видных истин типа «белое не есть черное», «три больше двух»),
демонстративное (получаемое посредством дедукции, как поло-
жения математики) и сенситивное (как получаемое через ощуще-
ния, констатацию существования единичных вещей). Опыт яв-
ляется источником «простых идей», в том числе качеств тел, ко-
торые Локк делит на «первичные» (где идеи похожи на качества
самих тел, т. е. представляют непосредственно тела сами по се-
бе) — протяженность, фигура, плотность, движение — и «вто-
ричные» (те, в которые подмешаны свойства органов чувств) —
цвет, звук, запах, вкус.
«Ум, будучи совершенно пассивным, при восприятии всех
своих простых идей производит некоторые собственные дейст-
вия, при помощи которых из его простых идей, как материала и
основания для остального, строятся другие». К сложным идеям,
производимым умом, он относит «идеи, которые мы обозначаем
словами «обязанность», «опьянение», «ложь»... идею лицеме-
28
Часть I. Глава 1
рия... идею святотатства. Действия, в которых ум проявляет свои
способности в отношении своих простых идей... суть главным
образом следующие: 1) соединение нескольких простых идей в
одну сложную (например, «убийство старого (молодого или ка-
кого-нибудь другого) человека». — А.Л.); 2) сведение двух идей...
и сопоставление их друг с другом так, чтобы обозревать их сразу,
но не соединять в одну; так ум приобретает все свои идеи отно-
шений; 3) обособление идей от всех других идей, сопутствующих
им в их реальной действительности; это действие называется аб-
страгированием, и при его помощи образованы все общие идеи в
уме». «Опыт показывает нам, — говорит Локк, — что ум в отно-
шении своих простых идей совершенно пассивен и получает их
все от существования и воздействия вещей... сам не будучи в со-
стоянии образовать ни одной идеи. Но... запасшись однажды
простыми идеями (получаемыми от ощущения или рефлек-
сии. — АЛ.), он может складывать их в различные соединения и
создавать таким образом множество разных сложных идей, не
исследуя, существуют ли они в таком сочетании в природе»
[Локк, 1985, т. 1, с. 272, 338—339]. Примером не существующей в
природе сложной идеи является идея кентавра. Примером смут-
ной сложной идеи для него является столь важное для рациона-
листов понятие субстанции'. «Наша идея, которой мы даем общее
имя «субстанция», есть лишь предполагаемый, но неизвестный
носитель тех качеств, которые мы считаем существующими...
Говоря о каком-нибудь виде субстанций, мы говорим, что она
есть нечто, имеющее такие-то или такие-то качества, как тело
есть нечто, имеющее протяжение, форму и способное к движе-
нию; дух есть нечто, способное мыслить... Наша идея, или поня-
тие, материи есть не что иное, как понятие о чем-то таком, в чем
существуют те многочисленные чувственные качества, которые
воздействуют на наши чувства... Наше понятие о субстанции духа
будет таким же ясным, как и понятие тела, если мы предполо-
жим субстанцию, в которой существуют мышление, знание, со-
мнение, сила движения и т.д.; одну субстанцию (не зная, что это
такое) мы предполагаем субстратом (т. е. носителем. — А.Л.)
простых идей, получаемых нами извне, другую (в такой же сте-
пени не зная, что это такое) — субстратом тех действий, кото-
рые мы испытываем внутри себя... Какова бы ни была скрытая и
отвлеченная природа субстанции вообще, все наши идеи отдель-
ных, различных видов субстанций только сочетания простых
29
Философия науки
идей... идея какой угодно субстанции — золота ли, лошади, желе-
за, человека... — есть лишь идея тех чувственных качеств, кото-
рые он полагает неотъемлемыми от субстанции, добавляя пред-
положение субстрата, как бы поддерживающего эти качества,
или простые идеи, которые, по его наблюдениям, существуют
объединенными друг с другом» [Там же, т. 1, с. 347—349].
Таким образом, Локк снижает значение субстанций «мате-
рии» и «духа» (сближая их с такими «эмпирическими» субстан-
циями, как «лошадь», «камень») и утверждает невозможность
сделать достоверный вывод об их существовании или несущест-
вовании. Его продолжатели — Дж. Беркли и французские мате-
риалисты эпохи Просвещения — занимают более четкую и одно-
значную позицию по отношению к существованию материй и
духа.
Суть идеалистического варианта сенсуализма Дж. Беркли
(1685—1753) состоит в отождествлении свойств вещей с ощуще-
ниями этих свойств, которые объявляются принадлежностью ду-
ха. «Все согласятся с тем, что ни наши мысли, ни страсти, ни
идеи, образуемые воображением, не существуют вне нашей ду-
ши, — говорит Беркли. — И вот для меня не менее очевидно, что
различные ощущения или идеи, запечатленные в чувственности,
как бы смешаны или соединены они ни были между собою (т. е.
какие бы предметы они ни образовывали), не могут иначе суще-
ствовать, как в духе, который их воспринимает». «Рядом с этим
бесконечным разнообразием идей или предметов знания, — го-
ворит он, — существует равным образом нечто познающее или
воспринимающее их и производящее различные действия, как
то: хотения, воображения, воспоминания. Это познающее дея-
тельное существо есть то, что я называю умом, духом, душою или
мною самим. Этими словами я обозначаю не одну из своих идей,
но вещь, совершенно отличную от них, в коей они существуют,
или, что то же самое, коею они воспринимаются, так как суще-
ствование идеи состоит в ее воспринимаемости» [Асмус, 1970,
с. 513]. «На самом деле объект и ощущение — одно и то же...» —
говорит Беркли [Берои, 1978, с. 173].
При этом ощущения он трактует как внутренние пережива-
ния духа, а вещи — как комбинации ощущений, или идей.
«Беркли признавал существование только духовного бытия, ко-
торое он делил на «идеи» и «души». «Идеи» — воспринимаемые
нами субъективные качества — пассивны, непроизвольны; со-
30
Часть I. Глава 1
держание наших ощущений и восприятий совершенно не зави-
сит от нас. Напротив, «души» деятельны, активны, могут быть
причиной. Все «идеи» существуют, по Беркли, только в душе (как
мысли и страсти, так и различные ощущения). «Идеи» не могут
быть копиями или подобиями внешних вещей: «идея» может быть
сходна только с «идеей» [Философский энциклопедический сло-
варь, 1983, с. 515]. Соответственно законами природы называют-
ся «те твердые правила и определенные методы, коими дух, от ко-
торого мы зависим, порождает или возбуждает в нас идеи ощуще-
ний» [Беркли, 1978, с. 184] (при этом источником идеи ощущений
являются не сами вещи, а Бог, посылающий нам эти ощущения,
ибо вещи — это всего лишь комплексы ощущений).
Беркли, что характерно для английской традиции, не желает
отрываться от обыденного сознания и отрицать существование
вещей, когда от них «отворачиваются». Поскольку для Беркли
существовать — значит быть воспринимаемым духом [ Там же,
с. 172], то непрерывность существования вещей должна обеспе-
чиваться непрерывностью их восприятия, что он и делает: «Ко-
гда говорится, что тела не существуют вне духа, — говорит Берк-
ли, — то следует разуметь последний не как тот или другой еди-
ничный дух, но как всю совокупность духов (вообще говоря,
включая Бога. — А.Л.). Поэтому из вышеизложенных принципов
не следует, чтобы тела ежемгновенно уничтожались и создава-
лись вновь или вообще вовсе не существовали в промежутках вре-
мени между нашими восприятиями их» [Там же, с. 192—193]. Та-
ким образом, реально существует лишь дух [Там же, с. 327—328],
первичные же качества, претендовавшие на независимое объек-
тивное существование и связывавшиеся с существованием мате-
рии, столь же субъективны, как и вторичные, а материя является
бесполезным понятием и для философии, и для науки.
В противоположность Беркли у французских материалистов
Ж. Ламетри (1709—1751) иД. Дидро (1713—1784) дается материа-
листическое толкование души, т. е. единственной субстанцией
объявляется материя. «Душа — это лишенный содержания тер-
мин, — утверждает Ламетри, — за которым не кроется никакого
определенного представления... Мы знаем в телах только мате-
рию... Мы должны сделать смелый вывод, что человек является
машиной и что во Вселенной существует только одна субстан-
ция, различным образом видоизменяющаяся» [Соколов, 1970,
с. 615, 620, 617]. Этой субстанцией является материя (которую
31
Философия науки
Ламетри наделяет «способностью чувствовать»). «Невозможно
предположение чего-либо, что существует вне материальной
Вселенной; никогда не следует делать подобных предположе-
ний, потому что из этого нельзя сделать никаких выводов... Я —
физик и химик; я беру тела такими, каковы они в природе, а не в
моей голове», — вторит Ламетри Дидро [Там же, с. 662, 664].
Эта материя определяется посредством внешнего опыта.
«Хотя мы не имеем никакого представления о сущности мате-
рии, мы не можем отказать ей в признании свойств, открывае-
мых нашими чувствами», — говорит Ламетри [Там же, с. 619].
«Наши чувства — клавиши, по которым ударяет окружающая
нас природа и которые часто сами по себе ударяют; вот, по мо-
ему мнению, все, что происходит в фортепиано, организованном
подобно вам и мне», — говорит Дидро [Там же, с. 655—656].
Познание Ламетри рассматривал как процесс, «который дол-
жен начинаться с чувственного восприятия изучаемых реально-
стей, их дальнейшего опытно-экспериментального исследова-
ния и завершаться рациональным обобщением выявленных
фактов, которое в свою очередь должно подвергаться эмпириче-
ской проверке» [Кузнецов, 1986, с. 251]. Близкой точки зрения
придерживался и Дидро, считавший «тремя главными средства-
ми исследования природы» наблюдение, размышление и экспе-
римент: «Наблюдение собирает факты; размышление их комби-
нирует; опыт проверяет результаты комбинаций» [Дидро, 1941,
с. 98]. То есть первичным источником знаний являются чувст-
ва — центральный тезис сенсуализма, но разум принимает ак-
тивное участие в процессе познания.
Французские просветители являются естественными предше-
ственниками позитивизма. У них появляется уже то сочетание, от-
рицательно-пренебрежительного отношения к метафизике с пре-
клонением перед новой наукой — естествознанием и предпочте-
ние полезного знания, которое станет основой позитивизма.
«Возьмем в руки посох опыта и оставим в покое историю всех
бесплодных исканий философов», — говорит Даламбер, имея в
виду то, что Ламетри называл «бесполезными трудами великих ге-
ниев: всех этих Декартов, Мальбраншей, Лейбницев и Вольфов...»
Только за учеными признает Ламетри право на суждение, Декарт
же для него — «гений, прокладывающий пути, в которых сам за-
блудился» [Соколов, 1970, с. 611, 618, 620].
Позитивизм, который вскоре будет в центре нашего внима-
ния, является естественным продолжением эмпирицистской
32
Часть I. Глава 1
традиции XVIII в. Будучи естественным порождением эпохи
Просвещения, он впитывает и английскую идеалистическую
традицию Беркли и Юма.
Особого рассмотрения требуют идеи Д. Юма. Из его анализа и
критики эмпиризма вырастает, с одной стороны, рассматривае-
мая в следующей главе критическая философия И. Канта, с дру-
гой — сформулированная им проблема причинности стала вызо-
вом эмпиризму и позитивизму XIX—XX вв. и стимулом для созда-
ния новых концепций. «Под влиянием идей Юма, — говорит
И.С. Нарский в статье «Юм», — развивалось большинство пози-
тивистских учений XIX—XX вв.» [Нарский, 1983, с. 813—814].
Теория познания Д. Юма (1711—1776) «сложилась в резуль-
тате переработки им субъективного идеализма Беркли... Юм
оставлял теоретически открытым вопрос, существуют ли мате-
риальные объекты, вызывающие наши впечатления (хотя в жи-
тейской практике он в их существовании не сомневался). Пер-
вичными восприятиями Юм считал непосредственные впечатле-
ния внешнего опыта (ощущения), вторичными — чувственные
образы памяти («идеи») и впечатления внутреннего опыта (аф-
фекты, желания, страсти). Образование сложных идей толковал
как психологические ассоциации простых идей друг с другом»
[Там же, с. 813—814].
Одно из главных отличий его концепции от локковской со-
стоит в том, что Локк был уверен в существовании внешних объ-
ектов, вызывающих идеи, и в существовании первичных ка-
честв, тогда как Юм в этом сомневается. Кроме того, у него была
несколько более сложная связь между опытом и мышлением в
процессе познания. Он полагал, что анализ чувственного опыта
следует начинать с «впечатлений» или «восприятий». «Под тер-
мином впечатления я подразумеваю все наши более живые вос-
приятия, когда мы слышим, видим, осязаем, любим, ненавидим,
желаем, хотим», — говорит Юм. Поэтому у него исходным для
теории познания оказывается человеческий опыт, уже распола-
гающий впечатлениями, неизвестно как полученными. «Ум ни-
когда не имеет перед собой никаких вещей, кроме воспри-
ятий...» — говорит Юм. Механизм дальнейшего развертывания
чувственного опыта на основе впечатлений описывается Юмом
так: «Сначала возникает какое-либо впечатление, заставляя пе-
реживать тепло, холод, жажду, голод, удовольствие, страдание.
Потом ум снимает с этого первоначального впечатления копию
и образует идею. Идея, стало быть, определяется Юмом как «ме-
2 Философия науки
33
Философия науки
нее живое восприятие». У Локка, говорит Юм, идея была ото-
ждествлена со всеми восприятиями. Между тем идея может оста-
ваться и тогда, когда впечатление, копией которого она являет-
ся, исчезает... С этих вторичных впечатлений снова снимается
копия — возникают новые идеи. Затем своеобразная «цепная ре-
акция» идей и впечатлений продолжается...» [Мотрошилова,
1999, с. 214]. В результате опыту, в котором «теснейшим образом
сплавляются впечатления и идеи», приписывается «сложная чув-
ственно-рациональная структура». Такой взгляд на опыт подхва-
тывается и развивается Кантом.
Но наиболее важный для нас момент в его гносеологии —
учение о причинности. Особенность причинности — одного из
семи выделяемых им отношений — состоит в том, что, не обла-
дая ни интуитивной, ни дедуктивной достоверностью, «только
причинность порождает такую связь, благодаря которой мы из
существования или действия какого-нибудь одного объекта чер-
паем уверенность, что за ним следовало или же ему предшество-
вало другое существование или действие» [Юм, 1996, с. 130].
Анализируя это отношение, Юм приходит к выводу, что есть ос-
нования говорить лишь об «отношениях смежности (в простран-
стве. — А. Л.) и предшествования (во времени. — А. Л.)», а не о
причине и действии. «Движение одного тела при столкновении
считается причиной движения другого тела. Рассматривая же эти
объекты с величайшим вниманием, мы видим только, что одно
тело приближается к другому и что движение первого тела пред-
шествует движению второго... Разум никогда не может убедить
нас в том, что существование одного объекта (причины. — А.Л.)
всегда заключает в себе существование другого (следствия. — А.Л.)',
поэтому когда мы переходим от впечатления одного объекта к
идее другого или к вере в этот другой, то побуждает нас к этому
не разум, а привычка, или принцип ассоциации» [Юм, 1996,
с. 133, 153]. То есть, по Юму, никаких других оснований, кроме
психологических привычки и веры, для принципа причинности,
который до Юма считался столь же необходимым, как и логиче-
ские связи, нет [Рассел, 1999, с. 615].
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Беркли Д. Сочинения. М., 1978.
Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Наука, 1972.
Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой.
М.: Университетская книга, 2000.
34
Часть I. Глава 1
Григорьян А. Г., Зубов В.П Очерки развития основных понятий механики.
М.: Наука, 1962.
Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989.
Дидро Д. Избранные философские произведения. М.: Госполитиздат, 1941.
Доброхотов А.Л. Метафизика. Онтология // Философский энциклопедиче-
ский словарь. М.: СЭ, 1983. С. 362-363; 458-459.
Мотрошилова Н.В. Дэвид Юм // История философии: Запад — Россия —
Восток: В 4 кн. Кн. 2. М., 1999.
Кудрявцев П.С. История физики. М.: Учпедгиз, 1948.
Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская филосо-
фия XVIII века. М.: Высшая школа, 1986.
Лаплас П.С. Опыт философии теории вероятностей. М.: Типо-лит, Кушне-
рев, 1908.
Лейбниц ГВ. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1989.
Лекторский В.А. Теория познания // Философский энциклопедический
словарь. М.: СЭ, 1983. С. 678-680.
Локк Д. Сочинения: В 3 т. М.: Мысль, 1985.
Мах Э. Популярно-научные очерки. СПб., 1909.
Нарский П.С. Юм // Философский энциклопедический словарь. М.: СЭ,
1983. С. 813-814.
Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1999.
Соколов В.В. (ред.) Антология мировой философии: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль,
1969-1970.
Соколов В.В. Европейская философия XV—XVII веков. М.: Высшая школа,
1984.
Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. М.: Госполитиздат, 1957.
Философский энциклопедический словарь. М.: СЭ, 1983.
Юм Д. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1996.
ВОПРОСЫ
1. Каковы основные положения рационализма и эмпиризма?
2. Основные понятия и принципы теории познания Декарта и
Лейбница. Каковы сходства и различия?
3. Эмпиризм и индуктивизм Ф. Бэкона.
4. Основные понятия и принципы теории познания Локка, Беркли,
Ламетри и Дидро. Каковы сходства и различия?
5. В чем суть критики Д. Юмом понятия причинности?
6. Каково отношение философов Просвещения к метофизике и
науке?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Антология мировой философии: В 4 т. М.: Мысль, 1970. Т. 2.
Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой.
М.: Университетская книга, 2000.
История философии: Запад — Россия — Восток: В 4 кн. М.: Греко-латин-
ский кабинет, 1998. Кн. 2.
Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1999.
2*
Глава 2
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ КАНТА
И НЕОКАНТИАНСТВА
2.1. Проблемы, трудности и дальнейшая судьба
эмпиризма и рационализма
В предыдущей главе речь шла о противостоянии эмпиризма
и рационализма в философии XVII—XVIII вв. Какая судьба
ожидала это противостояние в дальнейшем? Исчерпало ли оно
себя познавательной ситуацией XVII—XVIII вв.? И да и нет.
Что касается эмпиризма, то его знамя было подхвачено пози-
тивизмом. Поэтому данное направление сохранило жизнеспо-
собность практически до конца XX в. Распространение постпо-
зитивизма положило конец его влиянию в сфере философии
науки, хотя нельзя исключить, что в судьбе эмпиризма еще будут
новые взлеты. Однако широкие слои работающих ученых, не ин-
тересующихся философией, ничего не знают о постпозитивизме
и его критике позитивизма и эмпиризма; они зачастую остаются
приверженцами классического философского эмпиризма, даже
не подозревая об этом, подобно тому как Журден в комедии
Мольера не подозревал, что Говорит прозой.
Что касается рационализма, то его дальнейшая судьба нераз-
рывно связана с судьбой картезианского учения. Последнее
включало не только метафизику (учение о двух субстанциях) и
учение о рациональном методе, но и базирующиеся на них фи-
зику и космологию1. Поскольку Декарт сделал протяженность
основным атрибутом материи, его физика, естественно, отрица-
ла существование пустоты. Все заполнено различными частица-
ми материи, которые пребывают в беспрестанном движении в
результате взаимных соударений. Декарт не приписывал мате-
1 См. подробнее: Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее
связи с наукой. М., 2000. Гл. 3.
36
Часть I. Глава 2
рии никаких особых сил, считая, что понятия, подобные поня-
тию силы, не являются ни ясными, ни отчетливыми, а представ-
ляют собой наследие схоластического мышления, с готовностью
допускавшего для объяснения любого явления особые скрытые
«силы» и «потенции». А падение тяжелых тел на Землю и движе-
ние планет вокруг Солнца Декарт и его последователи объясня-
ли действием вихрей материальных частиц, заполняющих все
пространство.
Признание механики Ньютона на континенте, прежде всего
во Франции, бывшей в ту эпоху лидером науки, произошло
только в результате длительной и упорной борьбы ныотониан-
цев и картезианцев. С точки зрения последних, ньютонова тео-
рия всемирного тяготения была нарушением требований ясного
и отчетливого мышления, потому что понятие силы тяготения
как внутреннего свойства материи не ясно и не отчетливо. Побе-
да, одержанная физикой, ознаменовала собой и поражение де-
картовского учения о рациональном методе. Сама история по-
знания продемонстрировала, что понятия, не являющиеся ни
ясными, ни отчетливыми, могут быть чрезвычайно плодотвор-
ными для развития науки и что попытка усмотреть истину в чис-
том разуме, и только в нем одном, может приводить к произ-
вольным теоретическим построениям, разным у разных мысли-
телей.
Следует отметить также, что рассуждения рационалистов
опирались на очень сильную метафизическую и даже теологиче-
скую предпосылку. Ее явно сформулировал Лейбниц как прин-
цип предустановленной гармонии, но она присутствует и у Де-
карта, и у Спинозы. Речь идет о том, что существует установлен-
ная Богом гармония между априорными принципами разума и
устройством самой реальности. То есть Бог сотворил мир по точ-
ным и гармоничным математическим принципам, а потом вло-
жил эти принципы в умы людей, чтобы они могли адекватно по-
знать Вселенную и прочесть в фактах реальности Его план. Для
мыслителей XVII в. человек самим Богом предназначен для того,
чтобы достичь полного и истинного знания о мире. Допущение
Далеко не самоочевидное.
В то же время уже в полемике рационалистов и эмпиристов
была указана принципиальная трудность, стоящая перед эмпи-
ристскими объяснениями научного познания. Она заключается
в том, что опыт, наблюдение, эксперимент дают знание единич-
7,7
Философия науки
него факта. Индуктивные выводы из наблюдаемых единичных
фактов позволяют делать общие утверждения. Но с ними связа-
на проблема, которую Кант формулирует в таких словах: «Опыт
никогда не дает своим суждениям истинной или строгой все-
общности, он сообщает им только условную и сравнительную
всеобщность (посредством индукции), так что это должно, соб-
ственно, означать следующее: насколько нам до сих пор извест-
но, исключений из того или иного правила не встречается»
[Кант, 1964, т. 3, с. 107]. Таким образом, оказывается, что эмпи-
ризм не может объяснить необходимый (или строго всеобщий) ха-
рактер законов науки. Более того, как показал Юм, оставаясь на
почве строгого эмпиризма, невозможно вообще утверждать су-
ществование необходимых причинных связей; приходится счи-
тать их всего лишь привычкой разума.
К тому же эмпиризм не мог объяснить, почему математиче-
ские выводы, делающиеся без опоры на опыт, применимы и
весьма плодотворны при описании явлений природы. Необхо-
димый характер сформулированных математически законов
природы мог объяснить рационализм, но, как уже было сказано,
последний опирался при этом на сильное допущение метафизи-
чески-теологического характера.
2.2. Кантовский «коперниканский переворот»
в трактовке познания
Таким образом, ни эмпиризм, ни рационализм не могли
удовлетворительно объяснить возможность научного познания
действительности, имеющего математическую форму и форму-
лирующего строгие законы природы. В этой-то ситуации Кант
осуществляет то, что он сам назвал «коперниканским переворо-
том» в представлениях о познании. Что он имел в виду? Когда
выяснились существенные трудности в объяснении движений
небесных тел на основе предположения, что звезды вращаются
вокруг наблюдателя, Коперник, разъясняет Кант, попытался
объяснить эти движения, исходя из противоположного предпо-
ложения, что движется наблюдатель, а звезды находятся в со-
стоянии покоя. Аналогично, говорит Кант, если мы не можем
объяснить, каким образом наше знание сообразуется со своим
предметом, не окажется ли более успешной попытка объяснить
познание, если исходить из противоположного предположения,
38
Часть I. Глава 2
а именно что познаваемый предмет сообразуется с нашими по-
знавательными способностями [Там же, с. 87—88].
В каком смысле можно говорить о том, что предмет познания
сообразуется с нашим познанием? В том, что предмет познания
не является не зависимым от нашего познания. Процесс позна-
ния выступает как процесс конструирования предмета познания.
Это не пассивное восприятие предмета; нет, при этом субъект
вкладывает что-то в познаваемый предмет, т. е. привносит в него
нечто от себя. Никак иначе, говорит Кант, нельзя объяснить воз-
можность априорного познания. Субъект не может познавать
априорно независимо от него существующий предмет1. А вот ап-
риорное познание того, чтб сам же субъект привносит в объект
познания, возможно и объяснимо.
Из каких элементов и по каким правилам осуществляется
подобное конструирование предмета познания в акте познания?
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим кантовский анализ
процесса познания.
2.3. Априорные синтетические суждения
Но действительно ли существует априорное познание? Кант
доказывает, что это так. При этом он определенным образом из-
меняет понятие априорности. Кант согласен с Локком, что по-
знания не бывает без опыта и что все человеческое познание на-
чинается с опыта. Но это признание не отменяет наличия апри-
орного знания. Кант говорит: «Хотя всякое наше познание и
начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком
происходит из опыта». И далее Кант продолжает: «Вполне воз-
можно, что даже наше опытное знание складывается из того, чтб
•Декарт был убежден в том, что субъект познает априорно не зависимый от
него объект. Но он обосновывает возможность этого ссылкой на природу Бога:
Бог лишен зависти, и потому невозможно представить, чтобы он хотел меня об-
мануть. Следовательно, если в моем сознании имеются врожденные идеи, то они
заложены Богом и соответствуют вещам. Для Канта эта ссылка на Бога уже не-
убедительна. Сам он являлся глубоко верующим человеком. Однако допущение,
что Бог предназначил человека к познанию вещей как они есть сами по себе, для
Канта неочевидно. По Канту, человек предназначен прежде всего для соблюде-
ния морального закона. Если не прибегать к этой ссылке на Бога, тогда получит-
ся следующее: априорные утверждения обусловлены структурой разума познаю-
щего субъекта, и потому мы не можем утверждать, что они описывают не зависи-
мые от нас вещи как они есть сами по себе.
39
Философия науки
мы воспринимаем посредством впечатлений, и из того, чтб наша
собственная познавательная способность (только побуждаемая
чувственными впечатлениями) дает от себя самой...» [Там же,
с. 105]. Таким образом, для Канта априорное знание — это не то
знание, которое предшествует опыту во времени. Это такое зна-
ние, которое, проявляясь только вместе с опытом, тем не менее
абсолютно не зависит от любого возможного опыта.
Но почему Кант так уверен в том, что подобное знание вооб-
ще существует? Потому что опыт не может придать знанию все-
общность и необходимость. Следовательно, если в науках имеют-
ся необходимые и всеобщие утверждения, значит, делает вывод
Кант, в них обязательно должен быть элемент содержания, кото-
рый происходит не из опыта, т. е. является априорным. Поэтому
необходимо исследование возможности, принципов и объема
имеющегося у человека априорного знания.
Чтобы более точно сформулировать проблему, Кант строит
классификацию суждений. Прежде всего суждения могут быть
аналитическими или синтетическими. Аналитические суждения
ничего не добавляют к имеющемуся знанию и являются только
поясняющими. Пример Канта: суждение «Все тела протяженны»
является аналитическим, потому что для того, чтобы убедиться в
его истинности, достаточно просто проанализировать понятие
тела и понять, что в нем уже подразумевается свойство протя-
женности.
Синтетические суждения, напротив, дают новое содержание.
Пример Канта: суждение «Все тела имеют тяжесть» является
синтетическим, потому что присоединяет к представлению о те-
ле, в котором мы неявно мыслим некоторые признаки (в данном
случае признак протяженности, т. е. занимания некоторого про-
странства), новое представление, которое в понятии тела не со-
держится, — признак тяжести.
Итак, синтетические суждения потому и называются синте-
тическими, что в них рассудок синтезирует различные содержа-
ния. Тем самым такие суждения обогащают наше знание. На ка-
ком основании рассудок осуществляет подобный синтез?
Таким основанием может быть опыт. Все суждения, основы-
вающиеся на опыте, являются синтетическими. Опыт и есть
синтетическое связывание созерцаний. Например, если в опыте
мы имеем восприятие розы и ее цвета, то этот опыт будет являть-
ся основанием для синтетического суждения «Роза красна».
40
Часть I. Глава 2
Но могут ли помимо них существовать априорные синтетиче-
ские суждения! Кант отвечает, что да. Это прежде всего суждения
математики. В самом деле, они не имеют опытного характера и в
то же время расширяют наше знание.
Но оказывается, что и естествознание заключает в себе апри-
орные синтетические суждения. Хотя естествознание, по опре-
делению, есть познание, опирающееся на опыт, тем не менее
оно опирается и на некоторые принципы, которые обладают
всеобщностью и необходимостью, например: «Все, что происхо-
дит, имеет свою причину»; «При всех изменениях телесного ми-
ра количество материи остается неизменным»; «При всякой пе-
редаче движения действие и противодействие всегда должны
быть равны друг другу».
Следовательно, вопреки самым распространенным представ-
лениям о научном познании оно не полностью обусловлено опы-
том, но опирается на априорную синтезирующую деятельность по-
знания.
И наконец, третьей сферой синтетических суждений априо-
ри является метафизика. «Метафизика, — говорит Кант, — даже
если и рассматривать ее как науку, которую до сих пор только
пытались создать, хотя природа человеческого разума такова,
что без метафизики и нельзя обойтись, должна заключать в себе
априорные синтетические знания...» [Там же, с. 116]. В самом
деле, метафизическое учение не может быть совокупностью
только аналитических суждений — в таком случае оно преврати-
лось бы в простой набор определений. В то же время метафизика
обращается к объектам, выходящим за пределы любого возможного
опыта, т.е. умопостигаемым. Поэтому метафизика, если она во-
обще возможна, должна состоять из синтетических априорных
суждений.
Таким образом, исследование человеческого познания, по
Канту, требует ответа на вопрос: как возможны априорные синте-
тические суждения! Этот общий вопрос сообразно тем основ-
ным сферам, в которых обнаружились синтетические суждения
априори, подразделяется у Канта на следующие:
Как возможна чистая математика?
Как возможно чистое естествознание?
Как возможна метафизика в качестве природной склонности и
как возможна метафизика как наука?
Нас будет интересовать ответ Канта на первые два вопроса.
41
Философия науки
2.4. Трансцендентальная эстетика
Так называется раздел кантовской системы, в котором ана-
лизируются априорные механизмы, присутствующие в самом чув-
ственном опыте. Понятие «трансцендентальное» относится к
выходящим за пределы опыта условиям возможности этого опы-
та. Наш чувственный опыт представляется нам «просто» резуль-
татом воздействия внешних предметов на наши органы чувств.
Мы отнюдь не замечаем при этом — и в принципе не могли бы
заметить, — что мы не просто воспринимаем, но привносим в
воспринимаемый предмет нечто от себя. В этом смысле априор-
ные синтезирующие механизмы выходят за пределы любого воз-
можного опыта, ибо мы не воспринимаем их. В то же время опыт
был бы невозможен без этих синтезирующих механизмов, ибо,
как объясняет Кант, опыт есть синтез данных чувственного вос-
приятия согласно некоторым априорным принципам; без них опыт
был бы не знанием, а набором восприятий.
Нормальному человеческому опыту присущи некоторые
формы, которые априори привносятся в опыт субъектом. Все,
что мы воспринимаем, все впечатления внешнего мира пред-
ставляют собой восприятия вещей в пространстве и времени.
Может быть, в будущем, на далеких планетах, в недрах земли
или Мирового океана, человечество будет наблюдать самые не-
ожиданные явления. Но какими бы неожиданными они ни бы-
ли, мы можем предсказать, что они будут происходить в про-
странстве и времени. И поскольку мы не можем вообразить ни-
чего вне времени и никакой внешней вещи вне пространства, то
Кант делает вывод об априорном характере пространства и вре-
мени.
Но разве не опыт учит младенца тому, что все вещи распола-
гаются в пространстве? Нет, говорит Кант, «представление о
пространстве должно уже заранее быть дано для того, чтобы те
или иные ощущения были относимы к чему-то вне меня (т. е. к
чему-то в другом месте пространства, а не в том, где я нахожусь),
а также для того, чтобы я мог представлять себе их... не только
как различные, но и как находящиеся в различных местах...
сам... внешний опыт становится возможным прежде всего благо-
даря представлению о пространстве» [Там же, с. 130].
Пространство и время — это не понятия, а априорные формы
созерцания. Точнее, пространство есть форма внешнего чувства
42
Часть I. Глава 2
(т. е. форма восприятия чего-либо как находящегося вне нас),
тогда как время есть форма внутреннего чувства, что означает
организацию всего нашего внутреннего опыта как потока ощу-
щений, переживаний и пр., следующих друг за другом. Все
внешнее мы воспринимаем рядоположенно, а все свои внутрен-
ние переживания — последовательно.
Обратим внимание также на то, что пространство и время яв-
ляются именно формами созерцания. Они определяют собой не
содержание, не характер или своеобразие тех или иных ощуще-
ний, а только общую форму их организации. Априорные формы
чувственности функционируют одновременно с актами чувст-
венного восприятия, синтезируя многообразные данные чувст-
венного восприятия в формы пространства и времени. Благода-
ря этому получается, что все воспринимаемые нами предметы
обладают определенными пространственными характеристика-
ми, например они трехмерны. Таким образом, априорные фор-
мы чувственности, определяя характер нашего восприятия, опре-
деляют и предмет нашего восприятия. Ниже мы еще вернемся к
этой теме.
В то же время Кант утверждает, что познающий субъект спо-
собен и к «чистому, внечувственному созерцанию». Он называет
созерцание чистым, если оно свободно от элементов чувствен-
ной данности. Но что именно созерцается в акте чистого созер-
цания? Сама форма возможных предметов чувственного созер-
цания, т. е. пространственность и временность как таковые.
Свидетельством того, что познающий субъект действительно об-
ладает такой способностью, являются, по Канту, математиче-
ские науки — арифметика и геометрия.
Для Канта характерная черта математики состоит в том, что
она должна представить свой объект в созерцании. Но это есть
чистое, нечувственное созерцание, а вовсе не созерцание эмпири-
чески существующих объектов. Такое созерцание представляет
собой конструирование соответствующего объекта. Возьмем, на-
пример, утверждение: «Треугольник имеет три стороны». Оно
априорное (потому что треугольники, о которых говорит геомет-
рия, не являются эмпирическими объектами, встречающимися в
опыте) и синтетическое (потому что в понятии треугольника
мыслится фигура, имеющая три угла, и не более того). Благодаря
чему возможно подобное априорное синтетическое утвержде-
ние? Благодаря тому, что мы как бы построили перед своим ум-
43
Философия науки
ственным взором некий треугольник вообще и потому знаем,
что иначе как с тремя сторонами его построить нельзя. То есть,
конструируя такой объект, мы создаем этим условие, при котором
отдельные единичные треугольники только и могут мыслиться.
И в то же время мы построили его как конкретный единичный
объект (точнее, это схема конструирования произвольного тре-
угольника!) и потому можем его созерцать и формулировать от-
носительно его синтетические и необходимые суждения.
Геометрия опирается на априорное созерцание пространства, а
арифметика — на априорное созерцание времени.
Кант объясняет это на примере арифметического суждения
«7 + 5 = 12». Он доказывает, что подобное суждение является
синтетическим априори, обосновывая это следующим образом:
«Понятие суммы 7 и 5 содержит в себе только соединение этих
двух чисел в одно, и от этого вовсе не мыслится, каково то число,
которое охватывает оба слагаемых... и сколько бы я ни расчленял
свое понятие такой возможной суммы, я не найду в нем числа
12. Для этого необходимо выйти за пределы этих понятий, при-
бегая к помощи созерцания, соответствующего одному из них,
например своих пяти пальцев, или... пяти точек, и присоединять
постепенно единицы числа 5, данного в созерцании, к понятию
семи» [Там же, с. 114—115].
Таким образом Кант обосновывает свою трактовку матема-
тики как науки, в которой определяющую роль играют априор-
ные синтетические суждения, доказывая, что рассуждения в гео-
метрии и арифметике опираются на представления особого рода:
созерцание конкретного и одновременно всеобщего объекта, ко-
торый на самом деле является схемой построения возможных
объектов определенного рода.
Однако современная математика выходит далеко за пределы
арифметики и евклидовой геометрии, о которых рассуждал
Кант. Она конструирует объекты, которые очень трудно пред-
ставить в наглядном созерцании. Критикуя Канта, указывают
обычно и на то, что в современной науке признают геометрией
физического пространства неевклидову геометрию. Это застав-
ляет поставить вопрос о том, устарело или не устарело Кантово
понимание математики.
Разумеется, дальнейшее развитие математики и точного ес-
тествознания потребовало развития и модификации кантовских
идей. Это делали неокантианцы, о которых речь пойдет ниже.
44
Часть I. Глава 2
И в то же время можно привести аргументы в пользу того, что
кантовский подход не утратил своей актуальности.
Например, Кант рассматривает евклидову геометрию как
«встроенную» в наш аппарат чувственного восприятия и вслед-
ствие этого в структуру чувственно воспринимаемого мира.
Именно благодаря этому предложения евклидовой геометрии, с
его точки зрения, являются синтетическими априорными исти-
нами. В какой мере устарело это его представление? Поскольку
мы продолжаем прилагать евклидову геометрию к миру нашего
опыта, учение Канта не устарело. Конечно, современная мате-
матика создала много теорий и конструкций, отличающихся от
описаний Канта, но она не изменила нашего восприятия мира и
наших способов счета окружающих нас предметов. А Кант свя-
зывает евклидову геометрию и арифметику с априорными форма-
ми восприятия, а не с априорными понятиями.
Утверждение Канта, что равенство 5+7=12 является синте-
тическим и требует определенного созерцания, также часто вы-
зывает возражения у современных студентов, особенно тех, кто
знаком с идеями логицизма и формализма1. Суть возражения со-
^огицизм — направление в философии математики, восходящее к Лейб-
ницу. Основная идея заключается в том, что математические утверждения пред-
ставляют собой частный случай законов логики. В XIX в. для обоснования этой
позиции Г. Фреге предпринял реформу логики и создал новую, математическую
логику. В XX в. логицизм защищали Б. Рассел, Р. Карнап и др. Для логицистов
законы логики неопровержимы, потому что неинформативны (являются логиче-
скими тавтологиями), например: «если все предметы обладают свойством А, то
данный предмет обладает свойством А», «если суждение р истинно, то суждение р
истинно» и т. п. Тогда математические утверждения должны выступать либо как
результаты подстановки в подобные логические аксиомы результатов определе-
ний математических понятий через логические термины, либо как дедуктивные
выводы из таких подстановок.
Формализм — это еще одно влиятельное направление в философии ма-
тематики XX в. Его связывают обычно с именем Д. Гильберта. Программа фор-
мализма ставила задачу представить арифметику, евклидову геометрию и любую
другую математическую теорию как систему графических объектов — математи-
ческих символов, с которыми оперируют по полностью заданным правилам и
аксиомам, совершенно отвлекаясь от их смысла. См. подробнее: Клини Ст. Вве-
дение в метаматематику. М., 1957, гл. 3; Френкель А., Бар-Хиллел И. Основания
теории множеств. М., 1966, гл. 5; Бурбаки Н. Исторический очерк // Бурбаки Н.
Теория множеств. М., 1965, с. 298—348.
Общая идеология обоих направлений заставляла смотреть на математику как
на аксиоматическую систему, в которой математические предложения, будучи де-
дуктивными следствиями из аксиом, не несут никакой информации, кроме той,
которая уже содержится в аксиомах, и не опираются ни на какие созерцания.
45
Философия науки
стоит в том, что любые арифметические утверждения являются
дедуктивными следствиями из некоторого набора аксиом или
рекурсивных схем. Эти схемы или аксиомы определяют все
свойства чисел. Поэтому никакого конструирования арифмети-
ческого объекта в созерцании не требуется.
Для ответа на подобное возражение воспользуемся идеями
Анри Пуанкаре1 — выдающегося математика, который придер-
живался убеждения в существовании синтетических априорных
принципов, на которые опирается математическое познание.
Пусть имеется полная и адекватная система аксиом арифметики
или евклидовой геометрии, и, работая в рамках этой аксиомати-
ки, математик уже не прибегает ни к каким созерцаниям. Но что
позволяет ему утверждать, что доказываемые им теоремыявля-
ются теоремами арифметики (евклидовой геометрии)? Не требу-
ется ли для этого изначальное содержательное представление об
объектах этих теорий?
Далее, допустим, что в арифметической теории имеется ре-
курсивная схема, определяющая, что такое число. Однако, для
того чтобы такая схема давала нам определение любого числа,
она должна опираться на неявное допущение возможности по-
вторения одной и той же операции (взятие объекта, «следующего
за») сколько угодно раз. А подобное допущение, составляющее
необходимый компонент принципа математической индукции,
близко тому, что Кант говорит об интуиции времени, лежащей в
основе арифметики.
Кант осуществил очень тонкий анализ, который позволил
указать на эту необходимую интуицию, первичную даже по от-
ношению к доказательствам логицистов. Как утверждал А. Пу-
анкаре, математическая индукция является синтетическим ап-
риори принципом, лежащим в основе и арифметики, и всех до-
казательств адекватности любых формальных систем. В самом
деле, доказательства того, что некоторая формальная система
непротиворечива и способна выражать именно арифметику, ис-
пользуют математическую индукцию.
Часто утверждают также, что современные математические
теории аналитичны, ибо представляют собой дедуктивные след-
ствия из принятых аксиом. Однако при этом забывают, что:
'См.: Пуанкаре А. Наука и метод. Гл. 3 // Пуанкаре А. О науке. М., 1983.
С. 368-403.
46
Часть I. Глава 2
во-первых, сами аксиомы не являются аналитическими (они
не являются частными случаями закона тождества хотя бы пото-
му, что существуют такие системы, что некоторая аксиома А од-
ной системы (например, евклидовой геометрии) несовместима с
некоторой аксиомой В другой (например, римановой геомет-
рии);
во-вторых, идея «предзаложенности всех теорем в аксиомах»
имеет смысл в том случае, когда существует алгоритмическая
процедура установления того, является ли некоторое предложе-
ние теоремой системы или нет («процедура разрешения»), либо
когда можно указать какое-то общее свойство аксиом, сохраняе-
мое правилами вывода (истинность, например).
Однако, чтобы говорить об истинности аксиом, надо иметь
модель, относительно которой аксиомы истинны. Но откуда бе-
рется такая модель? Не из содержательных ли рассмотрений?
В то же время для большого количества нетривиальных и
сильных систем не существует процедуры разрешения, как и до-
казательства непротиворечивости. И это означает, что идея
«предзаложенности всех теорем в аксиомах» не имеет достаточно
определенного и четкого смысла. Например, учтем, что теоремы
не вытекают из аксиом сами собой. Их выводят люди. Иногда для
этого создаются особые конструкции, неожиданные методы рас-
суждения. Представим себе ситуацию, когда математик, имев-
ший опыт работы с одними системами, начиная работать с со-
всем другими аксиоматическими системами, в другой области
математики, вдруг видит возможность ввести на основе непри-
вычной для него аксиоматики структуры, ему привычные, и так
получить результаты, аналогичные привычной ему области. Бы-
ло ли это предзаложено в аксиомах или нет?
Возможность задавать вопросы такого рода показывает, что
кантовская трактовка предложений математики не утратила сво-
ей актуальности.
Подведем предварительные итоги.
Кантова трансцендентальная эстетика показывает, что чувст-
венный опыт имеет сложную структуру. Его невозможно рас-
сматривать как простой результат воздействия внешнего предмета
на наши органы чувств. Внешние предметы, по Канту, воздейст-
вуют на наши органы чувств, но познающий субъект при этом не
является пассивным регистратором этих воздействий. Субъект
47
Философия науки
выступает как единство пассивности и активности', восприимчи-
вости и спонтанности.
Таким образом, познающий субъект изначально — не «чис-
тая дощечка, свободная от каких бы то ни было знаков». Скорее
в духе кантианской философии познающего субъекта надо упо-
добить компьютерной программе, определенным образом обра-
батывающей данные, поступающие на вход. Все чувственные
восприятия упорядочиваются в некоторой координатной сетке,
образуемой временем, имеющим одно измерение, и пространст-
вом, имеющим три измерения.
Отсюда становится понятным, почему арифметика и евкли-
дова геометрия применимы к познанию внешнего мира. Ведь
эти науки, по Канту, формулируют законы той самой коорди-
натной сетки, посредством которой мы конструируем из много-
образия полученных нами чувственных впечатлений трехмер-
ную реальность, к которой и привыкли.
Обычный здравый рассудок считает, что эта реальность су-
ществует сама по себе и не зависит от того, воспринимает он ее
или нет. Но так ли это? Если пространство и время являются
формами нашего чувственного восприятия, то какие у нас осно-
вания считать, что вещи сами по себе, независимо от нашего
сознания, рядоположены в пространстве и последовательны во
времени? Поэтому Кант подчеркивает, что созерцания дают нам
только явления, а не вещи сами по себе', «...наше чувственное пред-
ставление никоим образом не есть представление о вещах самих
по себе, а есть представление только о том способе, каким они
нам являются» [Кант, 1965, т. 4, ч. 1, с. 103]. «Все, что может
быть дано нашим чувствам (внешним — в пространстве, внут-
реннему — во времени), мы созерцаем только так, как оно нам
является, а не как оно есть само по себе...» [Там же, с. 101].
Итак, Кант противопоставляет явление и вещь саму по себе.
Вещь сама по себе (иногда говорят «вещь в себе») независима от
нашего восприятия. Она существует вне сознания. Кант утверж-
дает, что вещи сами по себе существуют. Многообразие чувствен-
ных впечатлений, с которых начинается наше познание внеш-
ней реальности, вовсе не есть порождение познающего субъекта.
Он не вытягивает их из себя, как паук — паутину. Нет, они воз-
никают у нас благодаря тому, что вещи сами по себе каким-то
образом воздействуют на наш воспринимающий аппарат — аф-
финируют его, как выражается Кант. Но тем не менее в каждом
48
Часть I. Глава 2
акте восприятия задействован весь априорный аппарат познаю-
щего субъекта. Благодаря этому воспринимаемый объект несет в
себе структуру этого априорного аппарата. Априорная форма со-
зерцания оказывается одновременно и необходимой формой любого
^возможного объекта восприятия. Условия возможности опыта,
таким образом, являются условиями возможности объектов опы-
та.
В силу этого у нас нет никаких оснований надеяться на то,
что явления «похожи» на вещи сами по себе. «Нам даны вещи
как вне нас находящиеся предметы наших чувств, но о том, ка-
ковы они сами по себе, мы ничего не знаем, а знаем только их
явления, то есть представления, которые они в нас производят,
воздействуя на наши чувства, — говорит Кант. — Следовательно,
я, конечно, признаю, что вне нас существуют тела, то есть вещи,
относительно которых нам совершенно неизвестно, каковы они
сами по себе, но о которых мы знаем по представлениям, достав-
ляемым нам их влиянием на нашу чувственность и получающим
от нас название тел, — название, означающее, таким образом,
только явление того неизвестного нам, но тем не менее действи-
тельного предмета» [Там же, с. 105].
Таким образом, Кант раскрывает сложную структуру чувст-
венного опыта. Поэтому отождествление знания, данного по-
средством опыта, с апостериорным знанием неправомерно.
А ведь именно на таком отождествлении базировался классиче-
ский эмпиризм, а впоследствии и позитивизм.
Но опыт, согласно учению Канта, имеет еще более сложную
структуру, ибо в его формировании участвует также и рассудок с
собственными априорными структурами. Раздел кантовского
исследования, посвященный выявлению и рассмотрению рабо-
ты априорных структур рассудка, называется трансценденталь-
ной логикой. Эта логика, в свою очередь, подразделяется на
трансцендентальную аналитику и трансцендентальную диалек-
тику.
2.5. Трансцендентальная аналитика
Это исследование той части наших знаний, которая имеет
источник в самом рассудке («чистого» знания, в терминологии
Канта), т. е. исследование априорных структур рассудка. В то же
время, как подчеркивает Кант, «условием применения этого чис-
49
Философия науки
того знания служит то, что предметы нам даны в созерцании, к
которому это знание может быть приложено» [Кант, 1964, т. 3,
с. 162]. Это очень важное обстоятельство. Все его значение выяс-
нится для нас постепенно. Но уже сейчас обратим внимание на
эту принципиальную особенность кантовской трактовки апри-'
орных структур мышления: они являются не столько готовыми
истинами (как это было у Декарта), сколько принципами работы
рассудка с данными чувственного опыта.
Трансцендентальная аналитика дает ответ на второй транс-
цендентальный вопрос: Как возможно чистое естествознание?
Под «чистым» естествознанием подразумевается та часть науки о
природе, которая не может происходить из опыта. Это, как уже
объяснялось выше, всеобщие и необходимые суждения, т. е. за-
коны науки (или законы природы). В любом реальном научном
законе, конечно, априорная компонента перемешана с апосте-
риорными. Однако сама форма закона, т. е. его качество необхо-
димого и всеобщего суждения, опирается на априорные основа-
ния. Зрелая теоретическая наука, как известно, отличается тем,
что она формулирует законы, а не только эмпирические обобще-
ния. Таким образом, получается, что сама форма научности обя-
зана своим происхождением априорным структурам рассудка, и
без них не может быть науки (а могут быть в лучшем случае кол-
лекции сведений).
Итак, естествознание исследует природу и формулирует ее
законы. «Природа есть существование вещей, поскольку оно оп-
ределено по общим законам» [ Там же, с. 111]. В самом деле, уче-
ный, подходя к исследованию того или иного явления, уже зара-
нее знает, что оно подчинено определенным регулярностям (хо-
тя пока не знает, каким именно — на это и направлено его
исследование), что изменения изучаемого явления имеют при-
чину и скоррелированы с ней, что в природе ничто не возникает
ниоткуда и не исчезает бесследно, и т. п. Ученый исходит из то-
го, что в природе дело обстоит именно так, — иначе его исследо-
вательская деятельность потеряла бы смысл. Итак, до всякого
исследования познающий субъект подходит к природе, как под-
чиненной некоторым общим законам. Такой подход не вытекает
из опыта, напротив, он составляет условие возможности опыта и
научного исследования. Получается, что рассудок априори пред-
писывает природе, что она должна подчиняться некоторым за-
конам. Это и имеет в виду Кант.
50
Часть I. Глава 2
Но откуда у рассудка такая способность законодательства
I относительно природы? Если понимать природу как существова-
' ние вещей самих по себе, то, как утверждает Кант, мы вообще не
могли бы ее познать: ни апостериори (поскольку опыт не дает
знания с необходимостью), ни априори (поскольку вещи сами
по себе не обязаны считаться с законами рассудка). Следова-
тельно, природа — не вещь сама по себе, а явление. Она есть со-
вокупность предметов возможного опыта.
Мы уже знаем, что опыт представляет собой результат синте-
тического связывания данных чувственности благодаря априор-
ным формам, заложенным в самом познающем субъекте.
В трансцендентальной аналитике мы узнаем, сколь сложным яв-
ляется данный процесс синтетического связывания, благодаря
которому возникает тот опыт, который только и может быть по-
ложен в основание научного познания.
В самом деле, опыт есть нечто, имеющее объективную, т. е.
интерсубъективную, значимость. Это означает: «Чему опыт учит
меня при определенных обстоятельствах, тому он должен учить
меня всегда, а также и всякого другого» [ Там же, с. 117]. Разуме-
ется, нормальный человеческий опыт, а также научный опыт
должен обладать этим свойством. Только оно и делает опыт объ-
ективным опытом, в котором мы имеем дело с некоторым объек-
том. А теперь посмотрим, какие нетривиальные философские
выводы можно извлечь из этого признания.
Итак, в нормальном опыте мы имеем многообразие чувст-
венных впечатлений, но они воспринимаются как относящиеся
к самому объекту, как свойства объекта или как наблюдение
взаимодействия самих объектов. Когда мы говорим «комната теп-
лая» или «сахар сладкий», то эти суждения имеют лишь субъек-
тивную значимость. В них лишь выражается отношение двух
восприятий к субъекту. Это для данного субъекта восприятие
комнаты связывается с ощущением тепла. Кому-то другому та
же комната может показаться холодной. Но вот если мы наблю-
даем, что воздух упруг, то мы мыслим, что свойство упругости
присуще самому воздуху. Значит, здесь связь между восприятия-
ми «подчинена условию, которое делает ее общезначимой, т. е.
я хочу, чтобы и я, и всякий другой необходимо связывали всегда
эти восприятия при одинаковых условиях» [Там же, с. 118]. Но
общезначимое условие, убежден Кант, не содержится в чувст-
венных данных самих по себе.
51
Философия науки
/AV/ AAAV / AW ///// //-.///// / AV AW/ ///AW V //A///V ///// // / A A// / // // /// f M /AV//*"^/ WM,r " " w" t ^///WA W W^" V -f A / / ’^ W WM** г /’ / / г"' / ^ / .’ s ' '
Следовательно, опыт может иметь объективное содержание,
только если в него привносится нечто деятельностью связывания.
Эту деятельность и осуществляет рассудок. Мы не замечаем ее в
собственном восприятии, тем не менее ее не может не быть. В са-
мом деле, органы чувств дают нам многообразие разрозненных
чувственных впечатлений: зрительных, слуховых, тактильных и
пр. А в нашем опыте все это связано так, что мы имеем воспри-
ятие определенных целостных объектов и их свойств и отноше-
ний. В любом опыте мы воспринимаем больше, нежели нам могут
доставить органы чувств. Благодаря чему же в опыт привносится
единство и определенная законосообразная упорядоченность,
благодаря чему опыт приобретает объективную значимость?
Благодаря деятельности рассудка. Именно деятельность рассуд-
ка составляет условие любого возможного опыта. ОПЫТ ЕСТЬ СО-
ВМЕСТНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧУВСТВ И РАССУДКА.
Таким образом, опыт формируется благодаря тому, что дан-
ные чувственного созерцания оформляются с помощью особых
понятий, коренящихся в самом рассудке. То есть чувства дают
ощущения, рассудок же беспрестанно выносит суждение о них
тем, что он подводит ощущения под чистые понятия рассудка,
или категории. Категории не могут следовать из опыта, ибо они
сами есть условие всякого опыта. Категории есть «понятия о
предмете вообще, благодаря которым созерцание (предмета)
рассматривается как определенное с точки зрения одной из ло-
гических функций суждения» [Там же, т. 3, с. 189], тогда как сам
рассудок представляет собой способность априори связывать и
приводить многообразие наших представлений к единству.
Без такого единства не было бы нормального опыта, состав-
ляющего основу и для научного исследования природы. Мы
привыкли считать, что это единство опыт приобретает сам со-
бой, за счет того, что в опыте на нас действуют цельные предме-
ты или явления, единая природа и т. п. Кант же показывает, что
это единство коренится в субъекте. Оно возникает благодаря ос-
новополагающей трансцендентальной1 структуре, присущей по-
знающему субъекту.
•Трансцендентальное — это то, что выходит за пределы возможного
опыта, не может быть данным в опыте, к чему, однако, приводит выяснение ус-
ловий возможности опыта. Априорные категории и формы восприятия являются
трансцендентальными. Они не даны в опыте непосредственно, но составляют
условие возможного опыта.
52
Часть I. Глава 2
Итак, мы установили, что опыт не есть простая совокупность
восприятий. Восприятия превращаются в опыт благодаря дейст-
вию рассудка, который привносит в опыт суждение, представ-
ляющее собой подведение некоторого восприятия под катего-
рию рассудка. Кант приводит такой пример: «Когда солнце осве-
щает камень, он становится теплым; это суждение есть не более
как суждение восприятия и не содержит никакой необходимо-
сти: как бы часто я и другие это ни воспринимали, восприятия
обычно связаны таким образом. Если же я говорю: солнце нагре-
вает камень, то здесь мы кроме восприятия имеем еще рассу-
дочное понятие причины, необходимо связывающее с понятием
солнечного света понятие теплоты, и синтетическое суждение
становится необходимо общезначимым, следовательно, объек-
тивным и из восприятия превращается в опыт» [Там же, т. 4,
ч. 1, с. 119].
Этот пример поясняет одну из априорных категорий рассуд-
ка — причинность. Вспомним доводы Юма о том, что опыт не
может дать нам знание причинной связи (см. гл. 1). Юм прихо-
дит к утверждению, что наша идея причинности обусловлена
всего лишь психологической установкой. Кант не может принять
такой вывод. И он отчасти соглашается с Юмом, отчасти по-
правляет Юма, постулируя, что познающий субъект обладает ап-
риорной категорией причинности. Рассудок упорядочивает и
организует опыт, как бы вставляя неопределенное многообразие
чувственных впечатлений в рамку этой категории. Тем самым
Кант, как и Юм, не берется утверждать, что причинность прису-
ща вещам самим по себе. Однако его позиция отличается от
юмовской тем, что он со всей определенностью утверждает: при-
чинность присуща объектам нашего опыта. Благодаря этому
Кант может защищать объективный характер научного знания,
базирующегося на принципе причинности. Ведь объект рассмат-
ривается как результат конструирующей деятельности трансцен-
дентального субъекта. А трансцендентальный субъект — это не
то же, что отдельный эмпирический субъект, т. е. реальный че-
ловек. Это, так сказать, закон организации опыта, присутствую-
щий в каждом эмпирическом субъекте; благодаря наличию тако-
го закона опыт одного человека согласуется с опытом другого, и
возможна наука, принадлежащая всему человечеству.
Трансцендентальный субъект конструирует объект, исходя
из данных чувственности, в которых ему являет себя вещь сама
53
Философия науки
по себе. В этом смысле объекты мышления являются продукта-
ми самого мышления, хотя за ними и стоит вещь сама по себе.
Кант подробно анализирует этот процесс, называя его продук-
тивным синтезом воображения. Данные восприятия подводятся
под априорные категории, которых Кант выделяет двенадцать.
Среди них, помимо причинности, назовем категории единства,
множественности, реальности, субстанции, возможности, необ-
ходимости.
Процесс подведения данного чувственности под категорию
не прост. Что общего между отдельным чувственным восприяти-
ем и категорией рассудка, чтобы их объединить? Для ответа на
данный вопрос Канту приходится постулировать промежуточное
звено, которое он называет «априорными категориальными схе-
мами». Поскольку общим для чувств и рассудка является их
связь со временем, то посредником между чувственностью и рас-
судком выступает время: ведь именно время есть форма внутрен-
него чувства.
Соответственно априорные категориальные схемы нераз-
рывно связаны со временем. Они представляют собой схемы дея-
тельности по организации и упорядочиванию доставляемого
чувствами материала. При этом оказывается, что каждая отдель-
ная категория связана с определенной схемой деятельности рассуд-
ка и при этом обладает сходством с особой формой отношений
во времени. Кант особенно подчеркивает то обстоятельство, что в
основе наших чистых понятий рассудка лежат не какие-то ста-
тичные образы, а именно схемы деятельности. Например, гово-
рит Кант, мы не можем мыслить прямую линию, не проводя ее
мысленно; мыслить число означает мыслить метод, каким пред-
ставляют некоторое множество; мыслить треугольник вообще
означает мыслить способ построения треугольника. Такой же
деятельный характер присущ даже эмпирическим понятиям: так,
«понятие о собаке означает правило, согласно которому мое во-
ображение может нарисовать четвероногое животное в общем
виде, не будучи ограниченным каким-либо единичным частным
обликом» [Там же, т. 3, с. 223].
Таким образом, априорные категории участвуют в конструи-
ровании рассудком объективной реальности из неопределенного
многообразия чувственных данных. Они функционируют как
правила для соединения представлений в сознании. В силу это-
го, естественно, категории становятся необходимыми чертами
54
Часть I. Глава 2
объективного мира. «Категории, — говорит Кант, — суть поня-
тия, априори предписывающие законы явлениям, стало быть,
природе как совокупности всех явлений» [ Там же, т. 3, с. 212].
Поэтому рассмотрение системы априорных категорий логич-
но подводит к теме всеобщих и необходимых законов природы:
«Основоположения возможного опыта суть вместе с тем всеоб-
щие законы природы, которые могут быть познаны априори»
[Там же, т. 4, ч. 1, с. 124]. Поэтому анализ категорий приводит к
ответу на второй трансцендентальный вопрос: как возможно чис-
тое естествознание? Ответ состоит в том, что оно возможно,
во-первых, потому, что изучает явления, а не вещи сами по себе, а
во-вторых, потому, что априорная, присущая самому познающе-
му субъекту система категорий объясняет «то систематическое,
что необходимо для формы науки» [Там же, с. 124].
Следует обратить особое внимание на этот момент: научное
познание невозможно без определенной системы. Независимо
от конкретного содержания существует определенная форма на-
учности, которую и стремится описать Кант. Она не может быть
случайным результатом простого наблюдения природы. Если бы
дело обстояло так, как представлял себе, например, Бэкон, то
было бы совершенно необъяснимым и неожиданным, что все
многообразие данных опыта укладывается в простые и точные,
сформулированные на математическом языке системы законов.
Даже более того: эти законы никогда и не появились бы, потому
что опыт может подсказать их только такому исследователю, ко-
торый заранее убежден в их возможности и ищет их. Как разъяс-
нял эту очень важную мысль неокантианец Э. Кассирер, «науч-
ная теория природы не есть нечто двойственное, она не вышла
из эклектического соединения гносеологически гетерогенных
составных частей; она составляет замкнутый и единый метод.
Понять это единство и объяснить его аналогично единству чис-
той математики из общего основного принципа — такова задача,
которую ставит себе трансцендентальная критика. В постиже-
нии этой задачи она сразу же преодолела как односторонность
Рационализма, так и односторонность эмпиризма. Ни ссылка на
понятие, ни ссылка на восприятие и опыт не определяют, как
становится теперь очевидным, сущность естественно-научной
теории; обе выделяют лишь отдельный момент, вместо того что-
бы определить подлинное отношение моментов, от которого
Здесь зависит все решение» [Кассирер, 1997, с. 150—151]. Это от-
55
философия науки
ношение моментов состоит в том, что опыт есть конструкция, в
которой участвуют и чувственность (с присущими ей априорны-
ми формами), и рассудок (с присущими ему априорными катего-
риями).
Перечисляемые Кантом основоположения чистого рассудка не
потеряли своей актуальности и для современной науки. Напри-
мер, сущность «аксиом созерцания» заключается в том, что все
явления суть величины, подчиняющиеся законам математики.
Это объясняется тем, что «как созерцания в пространстве или
времени они должны быть представляемы посредством того
синтеза, которым определяются пространство и время вообще»
[Кант, т. 3, с. 238]. Значение этого основоположения состоит в
том, что «именно благодаря [ему] чистая математика со всей ее
точностью становится приложимой к предметам опыта, тогда
как без него это не было бы ясно само собой и, более того, вызы-
вало бы много противоречий» [Там же, с. 240]. Кроме того, Кант
формулирует еще одну группу основоположений — так называе-
мые антиципации восприятия, — согласно которым то, что мыс-
лится как реальное свойство объекта, данное нам в ощущении,
мыслится как непрерывное. Поэтому, подчеркивает Кант, все
явления суть непрерывные величины [Там же, с. 244—245].
Продолжая свое рассмотрение методологических оснований
точного естествознания, Кант формулирует еще одну группу ос-
новоположений, которую называет «аналогиями опыта». Прин-
цип их таков: «опыт возможен только посредством представле-
ния о необходимой связи восприятий» [Там же, с. 248]. При
этом, поскольку подобные необходимые связи восприятий обес-
печиваются посредством наложения априорных категориальных
схем, а эти последние связаны, как говорилось выше, со време-
нем, то отсюда вытекают «три правила всех временных отноше-
ний явлений, согласно которым можно определить существова-
ние каждого явления относительно единства всего времени»
[Там же, с. 249]. Эти три правила связаны с такими модусами
времени, как «постоянность, последовательность и одновременное
существование» [Там же]. Первое правило, или первая аналогия,
опыта гласит: «При всякой смене явлений субстанция постоянна, и
количество ее в природе не увеличивается и не уменьшается» [ Там
же, с. 252]. Обоснование данного правила заключается в том,
что «все явления находятся во времени, и только в нем как в суб-
страте (как постоянной форме внутреннего созерцания) могут
56
Часть I. Глава 2
быть представлены и одновременное существование, и последова-
тельность. Стало быть, время, в котором должна мыслиться вся-
кая смена явлений, само сохраняется и не меняется, так как оно
есть то именно, в чем последовательность или одновременное
существование могут быть представлены только как его опреде-
ления» [Там же, с. 253]. Но поскольку время само по себе не мо-
жет быть воспринято, то это постоянное, в чем пребывает всякое
изменение, мыслится как субстанция, т. е. «реальное (содержа-
ние) явления, всегда остающееся одним и тем же как субстрат
всякой смены» [Там же].
Обратим внимание на то, что благодаря такому кантовскому
истолкованию «субстанция» из умопостигаемой сущности ве-
щей и основной категории метафизики превращается в катего-
рию эмпирического познания. Она лежит в основе таких прин-
ципов, согласно которым ничто не возникает из ничего и не ис-
чезает бесследно. Думается, что Кант прав в том, что без
подобных принципов познание природы было бы невозможно.
Однако то, как именно мыслить это постоянное и неизменное,
лежащее в основе смены явлений, — как материю, энергию, ма-
терию плюс энергию или как-то иначе, — будет определяться
развитием науки.
Следующая аналогия опыта, относящаяся к временнбй по-
следовательности явлений, гласит: «Все изменения происходят по
закону связи причины и действия» [Там же, с. 258]. Кант разъяс-
няет это основоположение таким образом: познающий субъект
связывает восприятия во времени, т. е. как следующие одно за
другим. Однако это связывание может происходить двояким об-
разом. Кант поясняет свою мысль примерами. Первый: я схва-
тываю многообразное в таком явлении, как стоящий передо
мной дом, последовательно. Однако определенная последова-
тельность здесь связана с воспринимающим субъектом. Его вос-
приятия могут начаться с верхней части дома и закончиться ос-
нованием или иметь иной порядок. Второй пример: восприятие
лодки, плывущей вниз по течению реки. Здесь ее восприятие ни-
же по течению следует за восприятием выше по течению. Обрат-
ного порядка в данном случае быть не может. Это означает, что
Должно существовать некое правило, задействованное в процес-
се нашего синтеза восприятий, которое делает его необратимым:
в ситуациях такого рода мы относим последовательность вос-
приятий к объективной последовательности самих явлений. Ме-
ханизмом (или правилом) такого синтеза последовательности
57
Философия науки
восприятий, когда ей придается необходимость и она «помеща-
ется» в объект, и является категория причинности. Воспринимая
некоторое явление, познающий субъект помещает его в опреде-
ленное место во времени. «Свое определенное место во времени
в этом отношении оно может получить только благодаря тому,
что в предшествующем состоянии предполагается нечто, за чем
оно всегда следует, т. е. по некоторому правилу» [ Там же, с. 265].
Поскольку речь идет о синтезе, который осуществляет по
собственному правилу рассудок, то понятно, что причин-
но-следственные отношения связывают явления, а не вещи сами
по себе. При этом важно понять, что, по Канту, познающий
субъект обладает априорным механизмом такого рода связыва-
ния. Но это не значит, что субъект априори знает о наличии или
об отсутствии определенных причинных связей между извест-
ным классом явлений. Познающему субъекту может иногда уда-
ваться такого рода связывание имеющихся у него восприятий, и
тогда он говорит об открытии причинной связи в природе.
Что касается отношения одновременности, то третья анало-
гия опыта гласит, что мы воспринимаем или мыслим некоторые
явления как одновременно существующие, лишь мысля их взаи-
модействующими.
На этом мы прервем наш краткий обзор учения Канта об ос-
новоположениях чистого рассудка. В заключение подчеркнем
еще раз, что априорные категории, по Канту, — это формы мыс-
ли, приобретающие объективную реальность только в примене-
нии к данным созерцания. Они теряют всякое значение, если отде-
лить их от предметов опыта и соотнести с вещами самими по се-
бе, которые не могут быть даны в опыте. Мы можем только
мыслить о таких вещах, составить себе их идею. Поэтому Кант в
данном контексте называет вещи сами по себе ноуменами. Важ-
но понять, что категории неприменимы к ноуменам. Они при-
менимы только к тому, что может быть предметом возможного
опыта. Тем самым мы опять приходим к теме границ познания.
2.6. Трансцендентальная диалектика
Для человека характерно стремление к выходу за эти грани-
цы. Кант обсуждает такую способность, которая оперирует идея-
ми, выходящими за пределы возможного опыта. Он называет эту
способность разумом. Является ли разум особой, наряду с рас-
58
Часть I. Глава 2
судком, познавательной способностью? Если это познание, то
познание чего? Не данной в опыте реальности? Если она не дана
в опыте, то может быть лишь умопостигаемой. Но умопостигае-
мое — это и есть предмет метафизики. Значит, разум — это по-
знавательная способность, гарантирующая возможность мета-
физики? Нет. Кант показывает, что априорный аппарат, кото-
рым оснащен познающий субъект, неприменим для познания
ноуменов. Поэтому подобная попытка ни к чему хорошему при-
вести не может: разум в этом случае становится диалектическим.
Кант определяет диалектику как «логику видимости». То есть
диалектическое рассуждение только создает видимость позна-
ния, которое якобы относится к какому-то объекту. Объекты
диалектических рассуждений не более чем видимость и иллюзия.
Кант ставит свой целью разоблачить подобные иллюзии, преду-
преждая, что «мы имеем здесь дело с естественной и неизбежной
иллюзией... Существует естественная и неизбежная диалектика
чистого разума, не такая, в которой какой-нибудь простак запу-
тывается сам по недостатку знаний или которую искусственно
создает какой-нибудь софист, чтобы сбить с толку разумных лю-
дей, а такая, которая неотъемлемо присуща человеческому разу-
му и не перестает обольщать его даже после того, как мы раскры-
ли ее ложный блеск, и постоянно вводит его в минутные заблуж-
дения, которые необходимо все вновь и вновь устранять» [Там
же, с. 339—340].
Мы рассмотрим здесь эту диалектику на примере кантовско-
го анализа «антиномий чистого разума», связанных с идеей «ми-
ра как целого» (космологическая идея). Почему «мир как
целое» — это идея? Потому что любой возможный опыт пред-
ставляет только фрагмент реальности. Он не может быть завер-
шенным в принципе, так сказать, «по построению». Например,
восприятие явления в пространстве и времени включает его в
безграничное пространство и время, т. е. подразумевает, что не-
что было раньше и будет позже, что есть что-то правее, левее,
выше, ниже; что любое воспринимаемое явление есть следствие
Других, предшествовавших ему явлений, и т. д.
Однако такова человеческая природа, что человек не может
остановиться на этом и хочет понять существо мира «вообще», «в
Целом». Но при этом человек применяет понятия, которые име-
Ют смысл только в отношении к предметам возможного опыта:
пространство, время, причинность и др. Да и какими другими
59
Философия науки
понятиями он может пользоваться? А в результате разум впадает
в антиномии, т. е. в неразрешимые противоречия с самим собой.
Антиномии представляют собой пары утверждений, из кото-
рых одно является логическим отрицанием другого (тезис и ан-
титезис). По законам логики из таких утверждений одно должно
быть истинным, а другое — ложным. Поэтому разум хочет выяс-
нить, тезис верен или антитезис, и для этого стремится рассмот-
реть их обоснования. Но оказывается, что доказательство как те-
зиса, так и антитезиса равно убедительны, или, если хотите, рав-
но неубедительны, и разум никак не может сделать выбор.
Кант формулирует следующие четыре антиномии.
1. Тезис
Мир имеет начало во времени и ограничен также в простран-
стве.
Антитезис
Мир не имеет начала во времени и границы в пространстве;
он бесконечен и во времени, и в пространстве1.
Если представить себе, что мир бесконечен в пространстве и
во времени, то мы будем иметь парадокс истекшей бесконечно-
сти; а если представить его конечным, то встает вопрос: что «за»
границей пространства и «до» начала времени?
2. Тезис
Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых час-
тей, и вообще существует только простое или то, что сложено из
простого.
Антитезис
Ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей,
и вообще в мире нет ничего простого.
1 Для иллюстрации проблемы, которую обсуждает Кант, приведем слова фи-
лософа М. Бубера: «Попытка реально вообразить как конечное, так и бесконеч-
ное пространство — задача одинаково головоломная и в обоих случаях приводя-
щая к мысли, что мир этот нам не по зубам. В свои неполные 14 лет я и сам узнал
это на опыте... В ту пору надо мной нависло какое-то безотчетное принуждение:
я должен был то и дело пытаться представлять себе то край пространства, то его
бесконечность, а время — то имеющим начало и конец, то без конца и начала.
И то и другое было одинаково невозможно и бессмысленно, и все же казалось,
что выбор возможен лишь между двумя этими абсурдами» [Бубер М. Два образа
веры. М., 1995. С. 173].
60
Часть I. Глава 2
Эта антиномия связана с проблемой того, является ли реаль-
ность бесконечно делимой, или существуют неделимые, т. е. аб-
солютно простые элементы.
Иногда говорят, что' современная наука разрешила кантов-
ские антиномии. Однако можно ли утверждать, что это — окон-
чательное решение, которое не будет пересмотрено в ходе даль-
нейшего развития науки? Кантово решение этих антиномий со-
стоит в том, что и тезис, и антитезис ложны, ибо в понятии «мир
как целое» заложено внутреннее противоречие. В самом деле, в
любом возможном опыте мы имеем дело только с фрагментом
мира, как уже разъяснялось выше. Поэтому «мир как целое» —
это только идея разума. Однако, рассуждая о мире в целом, при-
меняют понятия и представления, которые приложимы к воз-
можному опыту. Из-за этого и возникают неразрешимые проти-
воречия: человек пытается представить себе мир сам по себе, не
зависимый от нашего познания его, и вообразить его, так ска-
зать, с точки зрения Бога, но в то же время в понятиях, обретаю-
щих смысл только в нашем опыте.
Кант говорит о том, что стремление к выходу за пределы воз-
можного опыта присутствует в человеческой природе. Оно при-
открывает человеку его Призвание в мире. Однако по большей
части это стремление получает неправильное направление. Мы
не можем обладать полным и завершенным предметом позна-
ния. Но зато полнота, завершенность, организация всего позна-
ния в единое целое всегда стоят перед рассудком как его беско-
нечная задача. В свете этого мы получаем возможность понять
природу и задачу разума. Разум выступает как способность зада-
вать регулятивные принципы познания и указывать на его цель.
Третья антиномия связана с проблемой детерминизма и сво-
боды. Тезис тут утверждает, что в мире, кроме причинности по
законам природы, существует и свобода, тогда как антитезис
гласит, что в мире нет никакой свободы и все совершается толь-
ко по законам природы. А четвертая антиномия связана с вопро-
сом о том, все ли причины в мире обусловлены предшествующи-
ми причинами, или имеется необходимая, безусловная причина,
т. е. Бог. В этих антиномиях перед нами встают проблемы, свя-
занные с тем, как совместить научную картину мира (антитезис)
с Религиозным и нравственным сознанием (тезис). В самом де-
ле, свобода человеческой воли является необходимой предпо-
сылкой для моральной и юридической ответственности. Реше-
61
Философия науки
ние Канта заключается в том, что и тезис, и антитезис верны. Это
возможно, потому что у них разный предмет. Антитезис отно-
сится к миру, изучаемому точным математизированным естест-
вознанием. Но ведь этот мир есть лишь явление, а не мир сам по
себе. И это дает, как считает Кант, религиозному и нравственно-
му сознанию логическую возможность относить свои утвержде-
ния к ноуменальной реальности, не впадая в противоречие. Но
мало ли что мы можем мыслить без противоречия! Подлинным
основанием для того, чтобы мыслить ноуменальную реальность
и человека как ее гражданина, будут, по Канту, не те или иные
изощренные теории и доказательства, а неуклонное следование
нравственному долгу и постоянная борьба с собственными сла-
бостями. В этом пункте теоретический, познающий разум пере-
ходит в разум практический, т. е. определяющий человеческую
волю и поступки.
2.7. Неокантианство
Во второй половине XIX в. под влиянием, с одной стороны,
кризиса идеалистических систем Гегеля и Шеллинга, с другой —
развития математики и физики в Германии происходил подлин-
ный ренессанс учения Канта. Возникло неокантианство, кото-
рое вплоть до Первой мировой войны было самым влиятельным
направлением в немецкой академической философии.
В неокантианстве сложились две школы: марбургская и ба-
денская. О последней, которая сосредоточилась преимуществен-
но на проблемах наук о культуре, речь пойдет в гл. 9. Сейчас мы
обратимся к идеям марбургской школы, в центре внимания ко-
торой лежало точное математизированное естествознание.
Основателем марбургской школы был Герман Коген
(1842—1918), занимавший с 1875 по 1912 г. кафедру философии
Марбургского университета. Среди его учеников и последовате-
лей надо назвать Пауля Наторпа (1854—1924) и Эрнста Кассирера
(1874-1945).
Неокантианство видело свою задачу в возрождении и дальней-
шем развитии идей Канта. При этом наиболее ценной неокантиан-
цы считали саму идею критической философии, т. е. философии,
которая должна начинать с критического анализа возможностей
и пределов познания. В то же время неокантианство, сохраняя
62
Часть I. Глава 2
верность духу кантовской критической философии, во многих
отношениях осуществило ревизию учения Канта, следуя запро-
сам современного ему естествознания. Пафос учения Канта, ко-
торый отвергал представление, будто предмет познания нам
просто дан, и настаивал на том, что предмет познания сущест-
венным образом является конструкцией познающего субъекта,
присутствовал в неокантианстве еще более подчеркнуто, чем у
самого Канта. Неокантианцы выступили против позитивизма,
эмпиризма и индуктивизма, доказывая, что научные теории не
следуют из данных опыта, но являются свободными конструк-
циями сознания. Конструктивная деятельность сознания с при-
сущими ей априорными формами рассматривалась неокантиан-
цами как универсальная предпосылка и науки, и изучаемой ею
реальности, и, соответственно, данных опыта.
В связи с этим ревизии подверглись: кантовская трактовка
вещи самой по себе, чувственного познания, пространства и време-
ни как априорных форм чувственности, само понятие априорно-
сти и Кантово убеждение, что можно дать окончательный и за-
вершенный список априорных форм и категорий.
Посмотрим, какова была аргументация философов-неокан-
тианцев.
Кант, как мы видели выше, отталкивался от факта существо-
вания наук, содержащих необходимые и всеобщие, т. е., по мысли
Канта, внеопытные, утверждения. Первым ярким примером та-
кой науки была для него математика. Кант утверждал при этом,
что в каждой науке столько науки, сколько в ней математики.
Этот принципиальный для Канта тезис подразумевал, в частно-
сти, что науку делает наукой именно наличие в ней априорных
законов. Отталкиваясь от понятого таким образом факта сущест-
вования точной науки о природе, Кант и задавался вопросом о
том, как возможна такая наука. Ответ на этот вопрос вывел Кан-
та из сферы того, что дано в опыте, к утверждениям о трансцен-
дентальных структурах познающего субъекта, лежащих в основе
опыта и самой возможности наук.
Сохраняя приверженность такому методу, Г. Коген даже бо-
лее настойчиво, чем Кант, обращается к математизированному
естествознанию своего времени. Математика и точное естество-
знание становятся отправными пунктами его исследований. При
этом Коген отчетливо видит, что современная ему наука опира-
ется не на ту математику, о которой писал Кант. Кант обсуждал
63
Философия науки
арифметику и евклидову геометрию. Для объяснения их возмож-
ности он и построил свою «трансцендентальную эстетику» —
учение о пространстве и времени как априорных формах созер-
цания. Коген же видел, что современное ему естествознание
опирается на дифференциальное и интегральное исчисление.
Поэтому вопрос: «Как возможна такая математика и такое есте-
ствознание?» — требует нового ответа. Так, неевклидовы геомет-
рии уже не могли опираться на чувственное созерцание. Анало-
гичное можно сказать и об исчислении бесконечно малых. В то
же время и физика, говорит Коген, объясняет реальность чувст-
венно не воспринимаемыми движениями атомов и молекул,
движениями волн эфира, электрическими или магнитными
взаимодействиями, которые не даются в каких-то специфиче-
ских ощущениях. Таким образом, и математика, и математизи-
рованное естествознание недвусмысленно продемонстрировали
свою свободу по отношению к данным чувств. Поэтому, прихо-
дит к выводу Коген, требуется пересмотр представлений о роли
чувственного опыта в познании. Причем это касается не только
эмпиризма, но даже и кантовского учения о чувственности.
Что имеется в виду? Кант учил о двух различных познава-
тельных способностях — чувственности и рассудке. Противопос-
тавляя их, он приписал рассудку активный, спонтанный характер,
а чувственность, в отличие от него, обычно характеризовал через
пассивность, восприимчивость. Рассудок сам инициирует свою
деятельность, а чувства приводятся в действие чем-то внешним.
Чем же? Вещью самой по себе. И хотя Кант постоянно повторял,
что в познании мы имеем дело только с явлениями, а не с веща-
ми самими по себе, Коген усмотрел в кантовском противопос-
тавлении чувственного познания и рассудка непоследователь-
ность. Он опасался, что подобная трактовка чувственного позна-
ния может повлечь:
— недооценку влияния рассудка и его категорий на эмпири-
ческий базис науки и на чувственный опыт вообще;
— возрождение представления, будто вещи сами по себе да-
ны в чувственном опыте;
— непонимание того, что опыт есть результат творческого
синтеза, осуществляемого познающим субъектом; что предмет
познания в опыте не дается, а создается.
Коген подчеркивает, что предмет, на который направлено
познание, нам не дан. Дано нечто, некий X, подчеркивает он,
64
Часть I. Глава 2
следуя формулировке самого Канта. Поэтому в чувственном
опыте, не обработанном категориями рассудка, меньше всего
можно ожидать встречи с объективным содержанием познания,
т. е. с предметом как он есть сам по себе. Когда-то за подобные
утверждения Когена критиковали советские философы, обвиняя
его в идеализме. Однако современная, т. е. постпозитивистская,
философия науки подтверждает справедливость позиции Когена
в данном вопросе. Вот, например, К. Поппер также борется с
представлениями о пассивности чувственного познания, крити-
кует «бадейную» теорию познания (согласно которой информа-
ция «вливается» в сознание через органы чувств и наполняет его
как некую бадью) и доказывает, что даже в чувственном позна-
нии субъект активен (см. п. 6.1). Дело обстоит не так, что инфор-
мация просто «вливается» в него через органы чувств; субъект
активно ищет ее, отбирая в потоке раздражителей то, что спо-
собствует его выживанию, говорит Поппер.
Но раз так, то можно представить себе, что чувственность,
будучи активной целенаправленной реакцией организма на
внешний раздражитель, свидетельствует не столько о вещи, воз-
действующей на органы чувств, сколько о состоянии и реакции
самого организма. Человек в известном эксперименте может
ощущать воду в сосуде как холодную одной рукой и как теп-
лую — другой. Или другой пример: нам кажется, что качества
тепла или холода меняются скачкообразно. Мы можем ощущать,
что предмет А такой же холодный, как и предмет В, а предмет
В столь же холоден, как и С, и в то же время чувствовать, что
А теплее С. Однако мы знаем, что «на самом деле» температура
тела меняется непрерывно. Откуда мы знаем это? Органы чувств
не могут показать ничего подобного (порог ощущения). Так оп-
равданно ли искать независимую от познания реальность имен-
но «со стороны» чувственного опыта?!
Если мы будем помнить об этом, то нам покажутся вполне
естественными и справедливыми постоянные напоминания Ко-
гена о том, что ощущение есть не более чем впечатление, кото-
рому еще нельзя приписывать никакой объективности, что оно
определяется и исправляется мышлением. То реальное, что при-
нято считать объектом ощущения, конституируется с помощью
категорий мышления, или, как говорит Коген, материя ощуще-
ния созревает до чистого объекта познания лишь в содержании чис-
того мышления. Рассудок априори вносит в восприятие чувст-
3
Философия науки
65
Философия науки
венных качеств, таких, как теплое, холодное, светлое, темное,
структуру непрерывности (гладкости, выражаясь математическим
языком), соответствующую принципам исчисления бесконечно
малых. Именно эта априорная структура, воплощающая прин-
цип непрерывности, конституирует субъективные впечатления и
ощущения в объект познания, в «реальное». Для Когена чувства
дают нам доступ к реальности в той и только в той мере, в какой
они организованы подобной априорной структурой. То, что
Кант называл «антиципациями восприятия», у Когена превра-
щается в принцип, априори определяющий, что данная нам в
ощущениях реальность описываема на языке исчисления беско-
нечно малых.
Поэтому Коген настаивает на том, что нет и не может быть
реальности до и независимо от мышления. «Лишь благодаря
чистому мышлению, — пишет он, — то содержание, которое со-
общают ощущения, которое они должны сообщать и которое
только они и сообщают, может получить признание. И именно
инфинитезимальная реальность опять-таки придает легитим-
ность сообщениям чувств. Сообщениям чувств придает реаль-
ность не что иное, как содержание физики, поскольку оно отли-
чается от чистой математики. Это физикалистское содержание
ощущений определяется и обосновывается инфинитезимальной
реальностью» [Cohen, 1918, S. 792]. Таким образом, данные ощу-
щений получают значение объективной реальности только бла-
годаря тому (и в той мере), как они измеряются, получают чис-
ленное значение и укладываются в определенную математиче-
скую структуру.
В самом деле, ведь число — это не самостоятельно сущест-
вующая вещь. Число существует лишь как член некоторого ряда
чисел, определяемого известным законом. Понятие ряда имеет
очень важное значение в теории познания неокантианства, ибо с
ним связана та идея, что закон ряда первичен по отношению к
его отдельным элементам; отсюда следует, что и отдельные ощу-
щения получают познавательное значение, только будучи вклю-
чены в априорную математическую структуру, которая характе-
ризует отношения между ними. Неокантианство настаивает на
том, что все понятия математики и точного естествознания ука-
зывают не на существующие сами по себе «субстанции», а лишь
на их отношения. «Постоянные числовые значения, которыми
мы определяем физический предмет или физическое происше-
66
Часть I. Глава 2
ствие, обозначают лишь включение его в некоторую всеобщую
связь ряда. Единичная константа не означает ничего сама по себе;
она получает свой смысл лишь путем сравнения и связи с други-
ми числовыми значениями» [Кассирер, 1912, с. 186—187].
Хочется отметить, до какой степени такая трактовка созвуч-
на тенденциям самой математики конца XIX в. Так, в 1872 г. в
своей знаменитой Эрлангенской программе Ф. Клейн предло-
жил рассматривать любую геометрию как «теорию инвариантов
особой группы преобразований. Расширяя или сужая группу,
можно перейти от одного типа геометрии к другому. Евклидова
геометрия изучает инварианты метрической группы, проектив-
ная геометрия — инварианты проективной группы. Классифи-
кация групп преобразований дает нам классификацию геомет-
рий» [Страйк, 1969, с. 243—244]. Таким образом, отдельная гео-
метрия перестает быть уникальным объектом, воплощающим в
себе законы (истины) пространственной реальности, но стано-
вится членом ряда, выстраиваемого по определенному закону.
Эту тенденцию современной ему науки подробно описывает
Э. Кассирер. Он отмечает, что современная геометрия представ-
ляет собой не исследование определенных, допускающих чувст-
венное представление фигур, «но свободное творчество фигур по
некоторому определенному единому принципу. Различные чув-
ственно возможные случаи какой-нибудь фигуры не разбирают-
ся и изучаются, как в греческой геометрии, порознь, но весь ин-
терес сосредоточивается как раз на том способе, каким они вы-
текают один из другого. Если же рассматривается отдельная
фигура, то она никогда не берется сама по себе, но как символ
всей связи, к которой она принадлежит, и как выражение всей со-
вокупности форм, к которым она может быть переведена при со-
блюдении определенных правил преобразования» [Кассирер,
1912, с. 107—108]. Речь вдет о том, чтобы «рассматривать изучае-
мую нами частную фигуру не как конкретный предмет исследо-
вания, но как исходный пункт, из которого с помощью опреде-
ленного правила варьирования мы выводим дедуктивно целую
систему возможных фигур. Основные отношения, которые ха-
рактеризуют эту систему и которые должны быть одинаково
Удовлетворены в каждой отдельной фигуре, образуют лишь в
своей совокупности настоящий геометрический объект» [Там
*е, с. НО].
з-
67
Философия науки
Пересматривая далее основы учения Канта, Коген отказыва-
ется от кантовской трактовки пространства и времени как апри-
орных форм чувственности. Конечно, неокантианцы не меньше,
чем Кант, убеждены, что идеи пространства и времени не выте-
кают из опыта, а налагаются на него. Например, Кассирер энер-
гично доказывает это, споря с философами-позитивистами:
«Пространство нашего чувственного восприятия неравнозначно
с пространством нашей геометрии, а в самых как раз решающих,
конститутивных признаках отлично от него. Для чувственного
восприятия каждое различение в месте необходимым образом
связано с некоторой противоположностью в содержании ощуще-
ний. «Верх» и «низ», «право» и «лево» не являются здесь рав-
ноценными направлениями... В пространстве же геометрии нет
совсем этих противоположностей... Принцип универсальной од-
нородности точек пространства уничтожает все различия» [Кас-
сирер, 1912, с. 142]. «...Дальнейшие признаки геометрического
пространства — его непрерывность и бесконечность', их мы совсем
не имеем данными в пространственных ощущениях; они основы-
ваются на произведенных нами идеальных дополнениях этих
ощущений» [7Ьи же, с. 143]. Таким образом, в науке работает
геометрическое представление о пространстве, которое никоим
образом не «вытекает» из опыта, но в строгом кантовском смыс-
ле независимо от него, т. е. априорно.
Но неокантианцы не согласны с Кантом в том, что он помес-
тил пространство и время на уровень чувственного познания, сде-
лав их априорными формами созерцания. В самом деле, такая
трактовка означает, что независимо от рассудка опыт уже опре-
деленным образом структурирован. Получается, что для рассуд-
ка пространство и время «даны» и не могут быть им изменены.
Коген же утверждает, что «в качестве изначальной формы дея-
тельности нашей чувственности может быть зафиксирован толь-
ко всеобщий способ связи элементов... Ничего более определен-
ного, чем простая возможность сосуществования, в форме чув-
ственности не мыслится» (цит. по: Гайденко, с. 88). Любая
дальнейшая определенность обеспечивается работой рассудка.
Коген утверждает, таким образом, что пространство и время —
не формы чувственности, а конструкции рассудка.
Насколько принципиален данный вопрос? Представляется,
что он достаточно принципиален. В самом деле, аппарат нашего
чувственного познания, по-видимому, не изменяется со времен
68
Часть I. Глава 2
становления человека разумного. А вот конструкции его рассуд-
ка изменялись в истории познания: например, появились неевк-
лидовы геометрии или геометрии многомерных пространств.
Коген и его последователи, в отличие от Канта, обращают
особое внимание на историю науки. Коген, например, посвятил
немало страниц становлению исчисления бесконечно малых.
И в то же время, как мы уже видели, для него это исчисление
представляет собой априорную структуру, посредством которой
познающий субъект конструирует реальность как объект своего
познания. Таким образом, его понятие априорного окончатель-
но порывает с исходным определением априорного знания как
врожденного. Законы и категории рассудка являются априорны-
ми в том смысле, что они не обусловлены внешним опытом, но
конструируются самим рассудком. Но эти конструкции меняют-
ся в истории познания.
Когда неокантианцы доказывают, что фундаментальные по-
нятия и законы науки не обусловлены опытом, они прокладыва-
ют путь, по которому потом пойдут постпозитивисты. Они пока-
зывают, что нет и не может быть опыта без определенной теоре-
тической интерпретации. «Никогда дело не обстоит так, —
говорит Кассирер, — что на одной стороне находится абстракт-
ная теория, а на другой — материал наблюдения, как он дан сам
по себе, без всякого абстрактного истолкования. Наоборот,
материал этот, чтобы мы могли приписать ему какую-нибудь оп-
ределенность, должен уже носить в себе черты какой-нибудь ло-
гической обработки. Мы никогда не можем противопоставить
понятиям, которые мы анализируем, данные опыта как голые
«факты»; в конце концов мы всегда имеем дело с определенной
логической системой связи эмпирически данного...» [Кассирер,
1912, с. 145]. В эту логическую систему входят определенные ма-
тематические и физические принципы. Кассирер особо указывает
в этой связи на предпосылки, лежащие в основе физического из-
мерения и обработки его результатов, ибо «предпосылки эти об-
разуют настоящие «гипотезы»... «Истинная гипотеза» означает не
что иное, как принцип и средство измерения. Она появляется не
после того, как явления признаны уже и приведены в порядок в
качестве величин, и не для того, чтобы прибавить к ним задним
числом догадку об их абсолютных основаниях; она служит для са-
мой возможности такого приведения в порядок» [ Там же, с. 187].
69
Философия науки
В то же время понятно, что процесс априорного конструиро-
вания теоретических понятий и систем бесконечно сложен и дра-
матичен. Свидетельством тому является сама история науки, пре-
жде всего научная революция, деятельность таких революционе-
ров в науке, как Галилей, Ньютон, Лейбниц. В ходе научной
революции XVI—XVII вв. впервые возникли те понятия и прин-
ципы, которые потом были описаны Кантом как априорные фор-
мы и категории. Коген и его последователи обратились к истории
науки, показывая, что они и в самом деле не были продиктованы
опытом. Так неокантианство оспорило позитивистскую и индук-
тивистскую интерпретации истории науки, предвосхитив постпо-
зитивистское обращение к истории науки — с той же целью (см.
п. 6.3 и 6.4). Влияние неокантианства в истории науки можно ви-
деть также на примере блестящих работ А. Койре1.
«Впустив» историю в анализ априорных синтезов, осуществ-
ляемых рассудком, Коген признал, что всегда остается нечто не-
познаваемое, что не удается уложить в систему категорий, и по-
тому требуются все новые и новые синтезы. Кант, полагает Коген,
ошибался, считая, что ему удалось построить полную таблицу
категорий: «Такое совершенство для логики было бы не богатст-
вом, а открытой раной. Новые проблемы потребуют и новых
предположений. Необходимая мысль о прогрессе науки не толь-
ко сопровождается мыслью о прогрессе чистых познаний, но не-
обходимо их предполагает» [Cohen, 1902, S. 499].
Итак, априорное знание не является врожденным, оно —
продукт истории и культуры. Носителем априорных структур
уже не может выступать отдельный индивид. Им становится са-
ма наука в лице научного сообщества и в более широком смыс-
ле — человечество и выработанная им на определенном этапе
истории культура.
Доказывая, что предмет познания не дается, а конструирует-
ся познающим субъектом, Коген в то же время настаивает, что
вещь сама по себе является главной целью познания. Он признает
вещь саму по себе, т. е. бытие, не продуцируемое познающим
субъектом. Но при этом Коген хочет избавиться от стереотипа
мышления, находящегося под властью языка и побуждающего
говорить и думать о вещи самой по себе именно как о вещи, как
1 См., например: Койре А. Очерки истории философской мысли: О влиянии
философских концепций на развитие научных теорий. (Любое издание); Он же.
От замкнутого мира к бесконечной Вселенной. М., 2001.
70
Часть I. Глава 2
некоем устойчивом определенном предмете, только спрятанном
за какой-то ширмочкой. Коген хочет приучить нас мыслить о ве-
щи самой по себе в других терминах. Она и выступает у него как
недостижимая целостность и завершенность познания, как то,
благодаря чему познание представляет собой великую нескон-
чаемую цепь проблем, вернее, как основу единства этого идеаль-
ного целого познания и в то же время как причину того, почему
эти целостность и завершенность никогда не будут достигнуты.
Познание невозможно без свободных конструкций рассудка; но
цель познания состоит в том, чтобы через эти конструкции прий-
ти к постижению действительности как она есть сама по себе. Ве-
ликая, хотя и недостижимая цель. «Истина, — говорит Коген, —
состоит единственно в поиске истины» [Cohen, 1921, S. 93].
Для Когена граничное и поначалу чисто отрицательное поня-
тие вещи самой по себе обретает положительное значение как за-
дача познания, как регулятивная идея цели. Важно, что данное по-
нятие сохраняет свое значение именно при удержании обоих его
аспектов — как положительного, так и отрицательного. Выступая
регулятивной идеей цели, вещь сама по себе служит одновремен-
но защите науки и оправданию учения о нравственности. Ко-
ген — вслед за Кантом — делает вещь саму по себе связующим
звеном между учением о познании и учением о нравственности.
Великая и недостижимая цель познания указывает человечеству
на его истинное предназначение и на то, что сознание человека
не детерминировано чувственно данным. Следовательно, оно от-
крыто для того, чтобы определять себя не тем, что есть, а тем, что
должно быть, — справедливостью, равенством, человечностью.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гайденко П.П. Анализ математических предпосылок научного знания в нео-
кантианстве марбургской школы // Концепции науки в буржуазной философии
и социологии. М., 1973. С. 73—131.
Кант И. Критика чистого разума. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1964.
Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться
как наука. Соч.: В 6 т. Т. 4.1. М., 1965.
Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. СПб.: Университетская книга, 1997.
Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие
0 Функции. СПб., 1912.
Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. М., 1969.
Cohen Н. Kant’s Theorie der Erfahrung. Dritte Aufl. Berlin, 1918.
Cohen H. Ethik des reinen Willens. Dritte Aufl. Berlin, 1921.
Cohen H. Logik der reinen Erkenntnis. Berlin, 1902.
71
Философия науки
ВОПРОСЫ
1. Как Кант переосмысливает понятие априорного знания?
2. Кантова классификация суждений. Что такое априорные синте-
тические суждения?
3. Как Кант объясняет природу пространства и времени?
4. Ответ Канта на вопрос: как возможна математика как наука?
5. Кантово различение явления и вещи самой по себе.
6. Особенность кантовского понимания субъекта познания.
7. Что понимает Кант под «чистым естествознанием»?
8. Понятие природы по Канту.
9. Как Кант объясняет объективную значимость опыта?
10. Учение Канта об априорных категориях рассудка.
11. Чем Кантова трактовка причинности отличается от юмовской?
12. Априорные категориальные схемы и время.
13. Ответ Канта на вопрос: как возможно чистое естествознание?
14. Учение Канта об основоположениях чистого рассудка.
15. Антиномии чистого разума и их разрешение Кантом.
16. Когда возникло неокантианство, какие школы существуют в нео-
кантианстве и какой была руководящая идея этого философского
направления?
17. Отношение неокантианцев марбургской школы к эмпиризму,
позитивизму и индуктивизму.
18. Как неокантианцы марбургской школы изменяют Кантово пред-
ставление о соотношении чувственности и рассудка?
19. Идея «ряда» в философии неокантианцев марбургской школы.
20. Как переосмысливается в неокантианстве марбургской школы
Кантово учение о пространстве и времени?
21. Как понималась «вещь сама по себе» в неокантианстве марбург-
ской школы?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Виндельбанд В. От Канта до Ницше. М.: Канон-пресс, 1998. С. 56—113.
Гайденко П.П. Анализ математических предпосылок научного знания в нео-
кантианстве марбургской школы // Концепции науки в буржуазной философии
и социологии. М., 1973. С. 73—131.
Кант И. Критика чистого разума. (Любое издание.)
Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться
как наука. (Любое издание.)
Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Гл. 3. СПб.: Университетская книга, 1997.
Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие
о функции. СПб., 1912.
Глава 3
ПОЗИТИВИЗМ И ПРАГМАТИЗМ
XIX — начала XX в.
Позитивизм возникает как альтернатива двум идейным тече-
ниям: с одной стороны, чистому механицизму в духе Лапласа
(см. п. 1.1); с другой — рассмотренной выше классической фило-
софии познания XVII—XVIII вв. — от Декарта до Канта. Про-
стые (понятные для ученых) построения позитивистов XIX в., к
тому же превозносивших естественные науки, были с энтузиаз-
мом встречены как среди самих ученых, так и среди многочис-
ленных почитателей науки, круг которых в это время стреми-
тельно расширялся. Сциентизм1 и позитивизм, как философское
осмысление науки, являются прямыми наследниками эпохи
Просвещения.
Позитивизм проходит ряд фаз, традиционно называемых
первым (Конт, Спенсер, Милль), вторым (Мах, Дюгем, Пуанка-
ре), третьим (Венский кружок и др.) позитивизмом. Последний,
называемый часто неопозитивизмом и логическим позитивиз-
мом, в конце 1930-х приходит в тесное взаимодействие с амери-
канским прагматизмом — другим важным истоком основных
направлений современной философии науки. Это было стиму-
лировано интенсивной эмиграцией в США философов-неопо-
зитивистов из Австрии и Германии, где он родился и развился.
Общей основой всех перечисленных течений является эмпи-
ризм, восходящий к Ф. Бэкону, в сочетании с вниманием к кри-
тике Юма и неприятием «метафизики» (под которой понимали
классическую философию Нового времени — от Декарта до Ге-
геля).
Эпоха Просвещения рассматривает науку как квинтэссен-
цию разума. И наука XVIII—XIX вв. действительно шла от одно-
1В самом общем виде сциентизм можно определить как ориентацию на ес-
тественные науки, как образец для решения всех познавательных проблем, в со-
четании с верой в то, что наука на это способна.
73
Философия науки
го триумфа к другому. Это открывало дорогу идеологии сциен-
тизма. Усложнение и специализация быстро развивавшейся ес-
тественной науки в XIX в. и ее прямолинейный беспроблемный
рост на базе ньютонианской программы способствовали тому,
что сложные рассуждения Канта и его наследников, которые к
тому же не давали однозначных ответов, казались ученым «заум-
ными» и ненужными. На этой почве в середине XIX в. возникает
позитивизм француза О. Конта и его английских продолжате-
лей — Дж. Милля и Г. Спенсера.
3.1. Первый позитивизм (Конт, Спенсер, Милль)
Основатель позитивизма француз Опост Конт (1798—1857)
объявляет метафизику, после появления эмпирических наук, ис-
торическим излишеством. «Вслед за Сен-Симоном Конт развил
идею так называемых трех стадий интеллектуальной эволюции
человечества (равно как и отдельного индивида), определяющих
в конечном счете все развитие общества. На первой, теологиче-
ской, стадии все явления объясняются на основе религиозных
представлений; вторая, метафизическая, стадия заменяет сверхъ-
естественные факторы в объяснении природы сущностями, при-
чинами; задача этой стадии — критическая, разрушительная, она
подготовляет последнюю, позитивную, или научную (выделено
мной. — А.Л.), стадию, на которой возникает наука об обществе,
содействующая его рациональной организации» [Нарский, 1986,
с. 274].
Ко второй стадии Конт относит почти всех описанных в
первых главах лиц, за исключением Ф. Бэкона и Д. Юма. Конт и
его последователи принимают простую исходную формулировку
эмпиризма Ф. Бэкона. Принимают они и юмовскую критику эм-
пиризма. Ее преодоление становится одной из главных проблем
западной философии науки вплоть до нашего времени.
Общей чертой позитивизма (как первого, так и более позд-
них) было стремление решить характерные для философской
(метафизической) теории познания проблемы, опираясь на есте-
ственно-научный разум, противопоставляемый метафизике'. При
1 Причем позитивисты полагали, что естественно-научный разум вырастает
из обыденного, что между ними нет непроходимой границы.
74
Часть I. Глава 3
«/Я* ***777 /7 77*77 ' ' ' ' ' .- z / л л г * '7, ' •. ' ' 7 • ' ’’z z ' 7777' 777- ’’’wzzz Sziww/'S,#/
этом одним из средств исключения метафизических аспектов
было утверждение, что цель познания состоит в описании явле-
ний, а не в поиске метафизических сущностей или причин.
Эта позиция феноменологизма — уход от вопроса «почему?» и
ограничение вопросом «как?» — была и средством обхода про-
блемы, поставленной Юмом. «Наш ум отныне отказывается от
абсолютных исследований (т. е. поиска причин и сущности явле-
ний. — АЛ.)... — провозглашает О. Конт, — и сосредоточивает
свои усилия в области действительного наблюдения... Всякое
предложение, которое недоступно точному превращению в простое
изъяснение частного или общего факта (каковыми являются утвер-
ждения о причине и сущности явлений. — АЛ.), не может пред-
ставлять никакого реального и понятного смысла (эта линия бу-
дет развита позитивизмом XX в. — АЛ.). Мы можем действитель-
но знать, — говорил Конт, — только различные взаимные связи, не
будучи никогда в состоянии проникнуть в тайну их образования...
Наши положительные исследования во всех областях должны,
по существу, ограничиваться систематической оценкой того, что
есть, отказываясь открывать первопричину и конечное назначе-
ние (выделено мной. — АЛ.)» [Конт, 1910, с. 17]. «...Мы видим,
что основной характер позитивной философии выражается в
признании всех явлений подчиненными неизменным естествен-
ным законам, открытие и сведение числа их до минимума и со-
ставляет цель всех наших усилий... Мы ограничиваемся тем, что
точно анализируем условия, в которых явления происходят, и
связываем их друг с другом естественными отношениями после-
довательности и подобия...» [Нарский, с. 556, 559—560].
По Конту, ни наука, ни философия не могут и не должны
ставить вопрос о причине явлений, а только о том, «как» они
происходят. В соответствии с этим наука, по Конту, познает не
сущности, а только феномены.
Англичанин Герберт Спенсер (1820—1903), искавший «закон
совокупного перераспределения материи и движения, охваты-
вающий все изменения (начиная с тех, которые медленно преоб-
разуют структуру нашей галактики, и кончая теми, которые со-
ставляют процесс химического разложения)» [Там же, с. 611],
пытался решить юмовскую проблему натуралистически, на ос-
нове биологической наследственности. «Врожденные» исти-
ны — основа всякого научного знания; они обладают свойства-
ми всеобщности и необходимости, — утверждал он [Грязнов,
75
Философия науки
1975, с. 59]. Но источником этих «врожденных истин», в отличие
от Декарта, является не разум, а опыт. «В настоящее время, —
писал Спенсер, — общепризнано, что прямо или косвенно все
общие истины индуктивны, т. е. они или сами проистекали от
сопоставления наблюденных фактов, или выведены из истин,
происшедших таким путем» [Там же]. Полученные таким эмпи-
рическим путем истины впоследствии наследуются и становятся
«врожденными». «Спенсер считал, что знания (как и биологиче-
ские признаки особи) наследуются биологическим путем» [Там
же]. «Наука для Спенсера — средство приспособления человека
к среде, это способ «достигать блага и избегать вреда» [Там же,
с. 54]. «То, что мы называем истиной, указывающей нам путь к
успешной деятельности и к последовательному поддержанию
жизни, есть просто точное соответствие субъективных отноше-
ний с объективными...» [Там же, с. 54—55]. Эта линия была под-
хвачена эволюционной эпистемологией второй половины XX в.
Спенсер продолжает контовский феноменализм, несколько
усиливая в нем роль механических понятий: «Снова и снова по-
казывали мы различными способами, что глубочайшие истины,
каких мы только можем достичь, состоят лишь в простой кон-
статации широчайших единообразий в нашем опыте, касающих-
ся отношений материи, движения и силы... Высшее достижение
науки состоит в истолковании всех классов явлений как различ-
но обусловленных проявлений этого одного рода действий при
различно обусловленных формах этого одного единообразия.
Но, сделав это, наука не более как систематизирует наш опыт»'
[Там же, с. 51] (выделено мной. — А.Л.).
«В Англии позитивизм рассматривался как естественное
продолжение здравого смысла... По всей вероятности, громад-
ный успех, который выпал на долю Спенсера, был обусловлен
этим обстоятельством. Интеллигенту XIX в. (впрочем, и XX в.
тоже) льстило, что в философском трактате он обнаруживал суж-
дения здравого смысла, до которых он и сам додумывался, но
только явно их не выражал. Наконец-то были выражены сами
1 При этом в отличие от Конта, считавшего науку, научные знания главным
стимулом развития общества, Спенсер видит стимулы действия людей, а следо-
вательно, и развития общества в их чувствах, а не в разуме. «Мир управляется и
изменяется через чувства...» — говорит Г. Спенсер в статье «Причины моего раз-
ногласия с О. Контом». «...Во всех случаях поведение определяется не знанием, а
чувством», — пишет он в работе «Изучение социологии» [Грязнов, 1975, с. 51].
76
Часть I. Глава 3
робой разумеющиеся идеи, понимание которых теперь не требо-
вало специальной философской культуры. ...Популярность
Спенсера — это популярность «здравого ума». Восхищение
Спенсером — это способ восхваления своего ума обывателем от
науки (в XIX в. таковые уже появились)» [Там же, с. 49—51].
Третий видный представитель первого позитивизма, Джон
Стюарт Милль (1806—1873)логик, экономист, общественный
деятель, пытался решить проблему Юма в рамках логики, совер-
шенствуя формулировку и правила метода индукции. У него мы
находим четко сформулированную позицию индуктивизма.
Милль был убежден в том, что наука представляет собой резуль-
тат индуктивного обобщения опытных данных. Она развивается
путем непрестанного добавления все новых и новых знаний к уже
имеющимся. Наука начинает с собирания фактов, накапливает
их и обобщает. Для Милля понятия позитивной науки и индук-
тивной науки совпадают.
В то же время научное знание — это знание обоснованное и
доказанное. Что является его обоснованием? Та же самая про-
цедура индуктивного вывода, которая производила знание. Но
выводами занимается логика. Следовательно, полагает Милль,
философия науки совпадает с логикой, а именно с индуктивной
логикой. Милль является продолжателем дела Бэкона — он хо-
чет найти правила обоснованного и достоверного индуктивного
вывода. Милль убежден, что эта задача имеет решение. Да и как
может быть иначе, если, по его убеждению, наука развивается
индуктивно и при этом является образцом обоснованного досто-
верного знания?!
Подчеркнем это характерное для индуктивизма убеждение:
наука развивается индуктивно. Милль критически ограничивает
метод построения гипотез, опасаясь, что, если наука станет
пользоваться гипотезами, она превратится в необоснованную
натурфилософию. Поскольку «гипотеза есть лишь предположе-
ние, то для гипотез нет других границ, кроме пределов человече-
ского воображения» [Милль, 1899, с. 394—395]. Поэтому она мо-
жет применяться лишь под контролем индукции и аналогии. Для
индуктивизма наука и развивается, и обосновывается благодаря
индукции: «Всякий вывод и, следовательно, всякое доказатель-
ство, открытие всякой истины, не принадлежащей к истинам са-
1 Текст о Милле написан З.А. Сокулер.
77
Философия науки
моочевидным, состоит из индукций и из истолкования индук^
ций...» [Там же, с. 225]. Соответственно Милль ищет логику, ко-
торая была бы одновременно и логикой открытия, и логикой
обоснования.
Индукция определяется им как «обобщение из опыта», когда
«на основании нескольких отдельных случаев, в которых извест-
ное явление наблюдалось, мы заключаем, что это явление имеет
место и во всех случаях известного класса, т. е. во всех случаях,
сходных с наблюдавшимися в некоторых обстоятельствах, при-
знаваемых существенными» [Гол/ же, с. 229]. Иначе говоря, ин-
дукция — это «процесс нахождения и доказывания общих пред-
ложений» [Там же, с. 226].
Главная проблема индуктивной логики состоит в объясне-
нии того, почему иногда для обоснованной индукции достаточ-
но единичного примера (научный опыт или эксперимент), а
иногда и бесчисленного множества примеров при отсутствии
противоречащего примера недостаточно (ср. обобщение «Все ле-
беди белые» и последующее обнаружение черных лебедей).
Вообще, нетрудно понять, что индуктивные обобщения опи-
раются на некоторое представление о Вселенной, которое мож-
но назвать принципом единообразия природы. «Принцип этот, —
говорит Милль, — заключается в том, что в природе существуют
сходные, параллельные случаи, что то, что произошло один раз,
будет иметь место при достаточно сходных условиях... всякий
раз, как снова встретятся те же самые обстоятельства» [ Там же,
с. 245]. Данный принцип необходим как общая аксиома или
обоснование для индуктивных заключений.
Но каково происхождение самого принципа? Милль, после-
довательный позитивист и эмпирик, утверждает, что данный
принцип тоже является обобщением опыта. Правда, совершенно
непонятно, как он может получиться из опыта, если является ос-
нованием и условием всех обобщений из опыта. Эта явная сла-
бость концепции Милля впоследствии стимулировала много
споров по поводу статуса принципа единообразия природы.
Есть и другая проблема: опыт показывает нам, что строй при-
роды не только единообразен, но и разнообразен. По данному
поводу Милль дает следующее объяснение: соотношение между
причиной и следствием в природе всегда единообразно, но дело
в том, что мы обычно наблюдаем переплетение множества при-
чинно-следственных связей. Задача ученого — выделить из пере-
78
Часть I. Глава 3
щетения отдельные связи, которые вполне подчиняются прин-
ципу единообразия. Эти отдельные единообразия и называются
Законами природы.
' Прогресс науки состоит в том, чтобы брать все меньшее число
основных законов и из них дедуктивно выводить другие законы.
Милль показывает, что между различными индуктивными обоб-
щениями существуют дедуктивные связи. Различные обобщения
взаимно подкрепляют или исправляют друг друга.
Существуют, убежден Милль, совершенно достоверные и об-
щие индуктивные обобщения, которые составляют основу для всех
остальных. Это, во-первых, законы относительно порядка и по-
ложения (т. е. законы арифметики и аксиомы геометрии). Даже
в случае математики Милль не отступает от своих эмпиристских
убеждений. Но и среди эмпиристов он представляет собой ред-
кое явление, утверждая, что законы арифметики и геометрии яв-
ляются обобщениями из опыта и их неопровержимость обуслов-
лена психологически. Мы все, утверждает он, делаем эти обоб-
щения в столь раннем возрасте, что не помним факта вывода, и
настолько свыклись с ними, что не можем представить себе то,
что противоречило бы арифметике и геометрии.
Следующим совершенно достоверным индуктивным обоб-
щением, являющимся посылкой и обоснованием прочих индук-
тивных выводов, Милль называет закон всеобщей причинной свя-
зи: «Всякое событие или начало всякого явления должно иметь
какую-либо причину, какое-либо предыдущее, за которым оно
неизменно и безусловно следует» [Там же, с. 452]. При этом
Милль учитывает юмовский анализ этой проблемы и в полном
согласии со своей позитивистской совестью объясняет, что гово-
рит только о таком понятии причины, которое может следовать
из опыта. Здесь под причиной понимается не некая ненаблюдае-
мая сущность, а просто первый член в неизменном порядке по-
следовательности явлений. Главная задача индуктивных выво-
дов в науке состоит в установлении того, какие именно законы
причинной связи существуют в природе. Это обеспечивает воз-
можность предсказаний.
В силу единообразия природы даже единичного наблюдения
было бы достаточно для установления причинно-следственной
связи, но трудность заключается в том, что в природе мы всегда
Наблюдаем сложное переплетение различных действующих
Факторов, и это затрудняет установление того, какой именно
79
Философия науки
.•v.v.v. г / *. ге . ч.-.ч v члчлч чч /г чч г чч ч л f ' '“J «ч ч^\ ч УТ % " л '-/'t-'f-f/Л г ’• -А .• •.£
фактор был причиной исследуемого явления. Поэтому задача
исследователя состоит в том, чтобы разложить сложные пере-
плетения многообразий в природе на более простые единообра-
зия. Так что процесс научной индукции есть процесс аналитиче-
ский. При этом Милль исходит из того, что совместное действие
причин в природе аддитивно. Он ссылается на закон сложения
причин, действующий в механике, и полагает, что данный закон
представляет собой общее правило природных взаимодействий.
Хотя в то же время Милль оговаривается, что возможно и такое
взаимодействие причин, когда они не суммируются, но моди-
фицируют друг друга. Особенно часто это происходит в сфере
общественных явлений. Возможно, поэтому науки об этих явле-
ниях отстают в своем развитии от естественных, замечает
Милль.
В качестве методов опытного исследования (они же — мето-
ды индуктивного вывода) Милль приводит следующие четыре,
одновременно отмечая, что в науке часто используются их соче-
тания. При их формулировке Милль обозначает причины боль-
шими буквами, а их следствия — маленькими.
1. Метод сходства. Пусть имеется явление А, и задача иссле-
дования состоит в том, чтобы выяснить, каково его следствие;
пусть, далее, в опыте наблюдается явление А вместе с В и С, и
его следствием оказывается abc. Затем над А производится опыт
в присутствии явлений D и Е, но без ВС, в этом случае следст-
вием является ade. Тогда очевидно, что А является причиной а.
2. Метод различия. Пусть опять-таки ищется следствие при-
чины А. Опыт показывает, что следствием АВС является abc. За-
тем ставится эксперимент, в котором исключается действие А.
Он показывает, что ВС имеет следствием Ьс. Тогда очевидно,
что а является следствием А.
Часто в научных исследованиях применяется соединенный
метод сходства и различия.
3. Метод остатков'. «Если из явления вычесть ту его часть,
которая, как известно из прежних индукций, есть следствие не-
которых определенных предыдущих, то остаток данного явле-
ния должен быть следствием остальных предыдущих» [ Там же,
с. 319]. Этот метод применяется тогда, когда невозможно поста-
вить эксперимент, исключающий действие известной причины.
4. Метод сопутствующих изменений. Он основан на том, что
если А является причиной а, то любое изменение количества А
80
Часть I. Глава 3
влечет за собой закономерное изменение количества а. Правило
)для этого метода гласит: «Всякое явление, изменяющееся опре-
деленным образом всякий раз, когда некоторым особенным об-
разом изменяется другое явление, есть либо причина, либо
следствие этого явления, либо соединено с ним какою-либо
причинною связью» [Там же, с. 322].
Нетрудно заметить, что в отличие от бэконовского индуктив-
ного метода индуктивная логика Милля ориентирована на пла-
нируемый научный эксперимент, а не на сбор наблюдений. И в
этом отношении она может быть действительно полезна экспе-
риментатору. Тем не менее очевидно, что сформулированные
Миллем правила далеко не исчерпывают арсенал научных мето-
дов. Когда Милль использует заглавную букву А для обозначе-
ния причины и маленькую букву — для обозначения следствия,
то этим он маскирует необходимость гипотезы для организации
эксперимента.
Дальнейшее развитие науки показало, что гипотезы необхо-
димы, потому что объяснения выходят за пределы наблюдаемого —
к ненаблюдаемым причинам наблюдаемых явлений. Эту проблему
отчетливо осознал уже второй позитивизм (см. 3.2).
3.2. Второй позитивизм (Мах, Дюгем, Пуанкаре)
Первый позитивизм возник и утвердился на фоне беспро-
блемного развития физики и других естественных наук. В физи-
ке середины XIX в. господствует ньютоновская механика как
образец науки, и эта ньютоновская программа способствует ее
бурному росту. У ученых второй трети XIX в. никаких серьез-
ных собственных гносеологических проблем не возникает. Со-
вершенно другая атмосфера характеризует естествознание по-
следней трети XIX в.
С появлением электродинамики Максвелла в физике (на
фоне кризиса оснований математики, вызванного, в частности,
явлением неевклидовых геометрий) были поставлены под со-
мнение основания ньютоновской механики. В центр внимания
попали вопросы, которые раньше не возникали: что такое сила,
Масса, тело, время, пространство, причинность, законы приро-
ды... Это порождает «гносеологический кризис в физике».
81
Философия науки
В рамках эмпиризма возникает новая волна вопросов в отноше-
нии процессов измерения и восприятия, с одной стороны, и ре-
альной (а не умозрительно-гипотетической, как у Конта и
Спенсера) истории науки — с другой.
Примыкающая к этому периоду революционная эпоха фор-
мирования специальной теории относительности (СТО) харак-
теризовалась колоссальным интересом к философии науки в
научных и околонаучных кругах. Так, первая книга А. Пуанкаре
«Наука и гипотеза» вышла в 1902 г. в Париже тиражом 16 тыс.
экземпляров и была распродана в течение нескольких дней.
Люди, прочитав ее, передавали своим друзьям и знакомым.
В результате в том же году с книгой ознакомилось около ста ты-
сяч человек [Пуанкаре, 1983, с. 526].
В этой атмосфере и возникает то новое, что отличает второй
позитивизм от первого. Второй позитивизм, как и первый, от-
рицательно относился, с одной стороны, к кантовскому реше-
нию гносеологических проблем1 и ко всей метафизике (от Де-
карта до Гегеля) в целом, а с другой — к механицизму. Однако
как по составу проблем и методов их решений, так и по типу
участников между первым и вторым позитивизмом были суще-
ственные различия, обусловленные более тесной связью второ-
го позитивизма с наукой.
Виднейшими и типичными представителями второго пози-
тивизма являются крупнейшие ученые и участники революци-
онной эпохи конца XIX — начала XX в.: физики Э. Мах, П. Дю-
гем и математик А. Пуанкаре.
Лидирующее место Эрнста Маха (1838—1916) было связано
с его включенностью в обсуждение конкретных вопросов осно-
ваний механики Ньютона, сыгравших важную роль в подготов-
ке почвы для рождения «новой» «неклассической» физики в ви-
де теории относительности и квантовой механики. Благодаря
А. Эйнштейну, являвшемуся в юности большим поклонником
Маха, философия Маха, тесно связанная с его критикой осно-
1 Центральное для Канта разделение на познаваемый «мир явлений» и непо-
знаваемый мир «вещей самих по себе» Мах относил к заумной метафизике. При
этом Мах, как и большинство позитивистов, не принимая Канта, принимает
критику Юма. «Изложенные здесь взгляды не чужды современному естествоис-
пытателю и к точке зрения Юма ближе, чем к точке зрения Канта», — говорит он
[Мах, 1909, с. 302].
82
Часть I. Глава 3
I ваний механики Ньютона, довольно хорошо знакома многим
ученым, особенно физикам-теоретикам. Философия Маха была
рассчитана в первую очередь на естествоиспытателей, и в эту
революционную эпоху он для них становится главным автори-
тетом в философии.
В основе собственно философских гносеологических по-
строений Маха лежит его учение о «нейтральных элементах», ко-
торое в значительной степени навеяно его исследованиями био-
психологических механизмов зрительного восприятия. «Мах
считает элементы нейтральными, не относя их ни к физиче-
ской, ни к психической сфере. Эти элементы призваны обеспе-
чить непрерывный переход от физического к психическому в
рамках единого знания, где физика и психология выступают как
разные направления в исследовании одних и тех же элементов
опыта» [Калиниченко, 1991]. Одновременно появляются новые
аргументы против механицизма со стороны психологии: «Нет
ничего трудного всякое физическое переживание построить из
ощущений, т. е. из элементов психических. Но совершенно не-
возможно понять, как из элементов, которыми оперирует со-
временная физика, т. е. из масс и движений (в их определенно-
сти, пригодной для одной только этой специальной науки), по-
строить какое-либо психическое переживание» [Мах, 2003,
с. 45]. «Физическое» и «психическое» он разводит следующим
образом: «Назовем покуда совокупность всего существующего
непосредственно в пространстве для всех именем физического
и непосредственно данное только одному... — именем психиче-
ского. Совокупность всего, непосредственно данного только
одному, назовем также его... Я... Разложим... психическое пере-
живание на его составные части. Мы находим здесь прежде все-
го те части, которые в своей зависимости от нашего тела — от-
крытых глаз... — называются «ощущениями», а в своей зависи-
мости от другого физического — присутствия солнца, осязаемых
тел и т. д. — являются признаками, свойствами физического»
[Там же, с. 39-40, 52].
Суть своего учения об элементах он формулирует так: «Все
Физическое, находимое мною, я могу разложить на элементы, в
Настоящее время дальнейшим образом не разложимые: цвета,
т°ны, давления, теплоту, запахи, пространства, времена и т. д.».
В результате вещи (тела) даны нам как «сравнительно устойчи-
83
Философия науки
вне комплексы связанных друг с другом, зависящих друг от
друга чувственных ощущений»1 [Там же, с. 42, 148]. (Здесь и да-
лее в этом параграфе выделения сделаны мной. — АЛ.) То есть
тела, по Маху, как бы состоят не из механических частиц-ато-
мов (как у Лапласа), а из «нейтральных» (т. е. не физических и
не психических) «элементов», воспринимаемых нами как ощу-
щения2. Соответственно связанный с особым живым телом
комплекс воспоминаний, настроений, чувств обозначается сло-
вом «Я». «Распространение анализа наших переживаний вплоть
до «элементов»... — говорит Мах, — представляет для нас глав-
ным образом ту выгодную сторону, что обе проблемы — про-
блема «непознаваемой» вещи и проблема в такой же мере «не
поддающегося исследованию» Я... могут быть легко распознаны
как проблемы мнимые» [Там же, с. 45—46].
В дополнение к учению об «элементах» Мах, фактически
продолжая эволюционистскую линию Спенсера, утверждает,
что «развитие науки имеет целью все лучше и лучше приспосо-
бить теорию к действительности... Согласно нашему понима-
нию, — говорит он, — законы природы порождаются нашей
психологической потребностью найтись среди явлений природы...
Представления постепенно так приспосабливаются к фактам, что
дают достаточно точную, соответствующую биологическим по-
требностям, копию их... Систематизация представлений в ряды...
всего более содействует развитию научного исследования приро-
ды... Научное мышление является последним звеном в непрерывной
цепи биологического развития, начавшегося с первых элементар-
ных проявлений жизни...» [Там же, с. 35, 175, 182, 429, 431].
Отсюда закономерно вытекает феноменологический (близ-
кий контовскому) взгляд на науку. «Самое экономное и простое
выражение фактов через понятия (а не выяснение истинной
структуры бытия (онтологии). — А.Л.), вот в чем оно (естество-
знание) признает свою цель», — утверждает Мах [Мах, 1909,
с. 166]. Отсюда же следует взгляд на теории как на условные со-
1 По сути, Мах здесь, во многом продолжая линию Беркли, в качестве «пер-
вой реальности» выбирает ощущения, а не внешние тела.
2 «Я имею здесь в виду зеленый цвет деревьев парка... Сохраним для психо-
логического анализа выражение «ощущение»... Наше тело реагирует на них бо-
лее или менее интенсивными движениями приближения или удаления, каковые
движения нашему внутреннему созерцанию сами представляются опять-таки
как комплексы ощущений» [Мах, 2003, с. 53].
84
Часть I. Глава 3
глашения (конвенции), которые представляют собой лишь «упо-
рядоченные, упрощенные и свободные от противоречий систе-
мы идей» [Мах, 2003, с. 28]. В свою очередь конвенционализм
прокладывает дорогу активизму [Хилл, 1965] и конструктивизму
(о нем речь пойдет в п. 6.2), согласно которым теории содержат
значительный элемент изобретения, т. е. активного творения со
стороны ученых, а не являются просто открытием чего-то внеш-
не заданного. Этому отвечает и соответствующий критерий вы-
бора «правильной» теории. Критерий истинности заменяется у
Маха критерием успешности: «Познание и заблуждение вытека-
ют из одних и тех же психических источников; только успех мо-
жет разделить их» [Там же, с. 134]. Согласно Маху цель науки не
истина (в силу ограниченности ее средств для отражения «бога-
той жизни Вселенной» [Мах, 1909, с. 152]), а экономия мышле-
ниях. [Там же, с. 156, 159, 166]. «Все положения и понятия физи-
ки представляют собой не что иное, как сокращенные указания на
экономически упорядоченные, готовые для применения данные
опыта...» [Там же, с. 164].
Этот антиреалистический пафос философии Маха четко за-
фиксирован сторонником реализма Максом Планком (1858 —
1947). Возражая последователям Э. Маха, он говорил: «Чем яв-
ляется, по существу, то, что мы называем физической картиной
мира? Есть ли эта картина только целесообразное, но, в сущно-
сти, произвольное создание нашего ума, или же мы вынуждены,
напротив, признать, что она выражает реальные, совершенно не
зависящие от нас явления природы?» Планк считает, что внеш-
ний мир представляет собой нечто не зависящее от нас, абсо-
лютное, чему мы противостоим. «Этот постоянный элемент
(подразумеваются мировые постоянные и связанные с ними за-
коны. — А.Л.) не зависит ни от какой человеческой и даже ни от
какой вообще мыслящей индивидуальности и составляет то, что
мы называем реальностью... Коперник, Кеплер, Ньютон, Гюй-
генс, Фарадей... опорой всей их деятельности была незыблемая
Уверенность в реальности их картины мира... Этот ответ нахо-
дится в известном противоречии с тем направлением филосо-
1В своей лекции с красноречивым названием «Экономическая природа фи-
зического исследования» (лекция от 25 мая 1882 г.) он утверждает, что «физика
Представляет собой экономически упорядоченный опыт» и что «основные прин-
ципы, установленные превосходным экономистом Германом для экономии тех-
ники, находят полное применение и в области обыденных и научных понятий».
85
Философия науки
фии природы, которым руководит Э. Мах и которое пользуется в
настоящее время большими симпатиями среди естествоиспыта-
телей. Согласно этому учению в природе не существует другой
реальности, кроме наших собственных ощущений, и всякое изу-
чение природы является в конечном счете только экономным
приспособлением наших мыслей к нашим ощущениям... Разни-
ца между физическим и психическим — чисто практическая и
условная; единственные существенные элементы мира — это на-
ши ощущения...» [Планк, 1966, с. 3, 24—26, 46—49].
Таким образом, второй позитивизм так или иначе сформули-
ровал противопоставление «реализм — конструктивизм», кото-
рый более подробно мы рассмотрим в п. 6.2. Это противопостав-
ление проявило себя и в дискуссии о цели науки, поднятой в кон-
тексте «гносеологического кризиса в физике» Кирхгофом в 1874 г.
А именно, заключается ли цель науки в объяснении (т. е. выясне-
ние истинной структуры объектов и явлений) или лишь в описа-
нии. Мах, естественно, склонялся ко второй точке зрения: «На-
учное «сообщение» всегда содержит в себе описание, т. е. вос-
произведение опыта в мыслях, долженствующее заменять собою
самый опыт и таким образом избавлять от необходимости повто-
рять его. Средством же для сбережения труда самого обучения и
изучения служит обобщающее описание. Ничего другого не
представляют собой и законы природы...» [Мах, 1909, с. 157]. «За-
кон тяготения Ньютона есть одно лишь описание... описание бес-
численного множества фактов в их элементах» [Там же, с. 145].
«Склонность к объяснению вполне понятна, — говорит Мах об
отношениях между учителем и учеником. — [Но] для научного
исследователя та же наука есть нечто совсем другое, нечто разви-
вающееся, подвергающееся постоянным изменениям, эфемер-
ное; его цель — главным образом констатирование фактов и свя-
зи между ними» [Там же, с. 145, 318].
Близкие взгляды развивал другой представитель второго по-
зитивизма французский физик-теоретик и историк науки Пьер
Дюгем (1861—1916). Но концепция Дюгема более сложна и бли-
же к реальной истории науки. Многие его положения были со-
звучны постпозитивизму второй половины XX в.
Он, как и Мах, рассматривает теорию как средство «эконо-
мии мышления». Теория «вместо очень большого числа зако-
нов... устанавливает очень небольшое число положений, основ-
ных гипотез», ее предназначение — «конденсация кучи законов
86
Часть I. Глава 3
в небольшое число принципов». «Сведение физических законов
в теории содействует той экономии мышления, в которой
Э. Мах усматривает цель, регулирующий принцип науки», — го-
ворит Дюгем [Дюгем, 1910, с. 27].
Дюгем поддерживает и конвенционалистский взгляд на тео-
рию: «В качестве принципов теория имеет постулаты, т. е. поло-
жения, которые она может формулировать как ей угодно, при
условии, чтобы не было противоречий...» [Там же, с. 246]. Сов-
падает у них и ответ на вопрос о цели науки — описывать, а не
объяснять: «Всякая физическая теория... есть абстрактная систе-
ма, имеющая целью резюмировать и логически классифициро-
вать группу экспериментальных законов, не претендуя на объясне-
ние их» [Там же, с. 9].
Критикуемый им взгляд на теорию как объяснение Дюгем
связывает с реализмом: «Объяснять — значит обнажать реаль-
ность от ее явлений... — говорит он, — чтобы видеть эту реаль-
ность обнаженной и лицом к лицу. Наблюдение физических яв-
лений приводит нас в соприкосновение не с реальностью... Об-
нажая, сдирая покров с этих чувственных явлений, теория ищет
в них и под ними то, что есть в них реального» [Там же]. Недо-
пустимость этого Дюгем обосновывает тем, что объяснение-ре-
альность зависит от метафизической позиции. Но для метафизи-
ческих позиций характерно «стремление возможно глубже и рез-
че отграничиться друг от друга, противопоставить себя другим»
[Там же, с. 13]. Поэтому объяснения перипатетиков (последова-
телей Аристотеля), атомистов, картезианцев (последователей
Декарта), ньютонианцев будут разными, что противоречит науч-
ному стремлению к всеобщему признанию научных истин (образ-
цом здесь служит математика), что может обеспечить лишь
взгляд на теорию как на описание.
Соотношение этих двух взглядов в физике ему видится сле-
дующим образом: «Когда приступают к анализу теории, создан-
ной физиком, поставившим себе задачу объяснить доступные
восприятию явления, то сейчас же обыкновенно оказывается,
что теория эта состоит из двух частей, прекрасно различимых:
одна из них есть часть чисто описательная, задача которой —
классифицировать экспериментальные законы; другая есть
часть объяснительная, ставящая себе задачу постигнуть реальную
Действительность, существующую позади явлений. Но объясни-
тельная часть вовсе не является основой части описательной...
87
Философия науки
Связь, существующая между обеими частями, почти всегда бы-
вает крайне слабой и искусственной. Описательная часть разви-
вается за собственный счет — специальными и самостоятельны-
ми методами теоретической физики. Это совершенно самостоя-
тельный развившийся организм, который объяснительная часть
обвивает подобно паразиту. Не этой объяснительной части, не
этому паразиту теория обязана своей силой и своей плодотвор-
ностью... Все, что есть хорошего в теории, — утверждает Дю-
гем, — заключается в описательной части... Все же, что есть в
теории худого, что оказывается в противоречии с фактами, со-
держится главным образом в части объяснительной» [Там же,
с. 40].
«Физическая теория, — полагает он, — не есть объяснение.
Это система математических положений, выведенная из неболь-
шого числа принципов, имеющих целью выразить возможно
проще, полнее и точнее цельную систему экспериментально ус-
тановленных законов» [Там же, с. 25]. Однако, исходя из суще-
ствующего в среде физиков «непреодолимого убеждения» в свя-
зи их теорий с реальностью, Дюгем вводит в свои построения ре-
альность наподобие «вещи в себе», не доступной логике, но
смутно доступной интуиции ученого. «Не претендуя на объясне-
ние реальности, скрывающейся позади явлений, законы кото-
рых мы группируем, — говорит он, — мы тем не менее чувству-
ем, что группы (экспериментальных законов. — АЛ.), созданные
нашей теорией, соответствуют действительным родственным
связям между самими вещами» [Там же, с. 32]. То есть реальность
вещей нам недоступна, но на установление реальности связей
ученый рассчитывать может, если он разработает их «естествен-
ную» классификацию1. Согласно взглядам Дюгема «теория есть
не только экономное представление экспериментальных зако-
нов, а она еще и классификация их» [Там же, с. 29]. При этом
классификация (фактов и экспериментальных законов) занимает
в построении Дюгема место причинности, фигурирующей у реа-
листов. Согласно позиции Дюгема в принципе от такой класси-
фикации можно требовать, «чтобы она заранее указывала место
•Понятие классификации, по-видимому, взято из биологии, где пользова-
лись «искусственной» классификацией Линнея, но хотели найти «естественную»
классификацию, отражающую сущностные, а не произвольные, как у Линнея
(описание цветка растения), характеристики организма.
88
Часть I. Глава 3
фактам, подлежащим лишь открытию в будущем». Такую клас-
сификацию Дюгем называет «естественной» [Там же, с. 36].
В результате позиция Дюгема формулируется так: «Физическая
теория никогда не дает нам объяснения экспериментальных за-
конов. Она никогда не вскрывает реальностей, скрывающихся по-
зади доступных восприятию явлений. Но чем более она совершен-
ствуется, тем более мы предчувствуем, что логический порядок,
который она устанавливает между экспериментальными закона-
ми, есть отражение порядка онтологического (т. е. самого бы-
тия. — А.Л.), тем больше мы предчувствуем, что связи, которые
она устанавливает между данными наблюдения, соответствуют
связям, существующим между вещами, тем более мы можем
предсказать, что она стремится стать классификацией естествен-
ной». Правда, последнее оказывается возможным благодаря ин-
туиции и чувству ученого и не вытекает из описываемой Дюге-
мом и Махом структуры научного знания. «В этом убеждении
физик не может отдать себе отчет. Метод, которым он пользует-
ся, — говорит Дюгем, — ограничен данными наблюдения. По-
этому он не может привести к доказательству, что порядок, уста-
новленный экспериментальными законами, отражает порядок,
выходящий за пределы опыта... Но если физик бессилен чем-ни-
будь подтвердить это свое убеждение, то он, с другой стороны, не
менее бессилен поколебать его... Он не может заставить себя ду-
мать, что система, способная столь просто и легко упорядочить
огромное множество законов, с первого взгляда столь мало родст-
венных, есть система чисто искусственная» [Дюгем, с. 33—34]. Но
к этой «вере в действительный порядок и в то, что теории его яв-
ляются образом этого порядка» ученого толкает интуиция, осно-
ванная на «резонах сердца, которых разум не знает» [ Там же].
Дюгем считал, что физическая теория — это конвенциональ-
но принимаемая математическая система, которая обеспечивает
только вычисления и предсказания, и «задача этой системы —
Дать не объяснение, а описание, и естественную классификацию
экспериментов, и естественную классификацию эксперимен-
тальных законов... Теоретическая физика не постигает реально-
сти вещей, она ограничивается только описанием доступных
воспроизведению явлений при помощи знаков и символов» [ Там
Же, с. 25, 27, 29, 127, 137]. Таким образом, «правильной теорией
должны считать, — говорит Дюгем, — не такую теорию, ко-
торая дает объяснение физическим явлениям, соответствующим
89
Философия науки
действительности, а такую, которая наиболее удовлетворитель-
ным образом выражает группу экспериментально установлен-
ных законов» [Там же, с. 26].
В результате у Дюгема возникает следующая трехуровневая
последовательность:
«экспериментальные факты» -э «экспериментальные зако-
ны» -» «теории».
Первые два уровня — продукт деятельности экспериментато-
ра, который «безостановочно, изо дня в день, открывает факты...
и формулирует новые законы», содержащие в концентрирован-
ном виде конкретные факты.
Третий уровень — дело теоретика, который «безостановочно
придумывает формы1 представления их». Этой формой является
физическая теория, которая «есть абстрактная система, имею-
щая целью резюмировать и логически классифицировать группу
экспериментальных законов, не претендуя на объяснение их».
При этом «ввиду... неточных опытов физику приходится выби-
рать из множества символических форм, равно возможных...
Только интуиция, угадывающая форму подлежащей обоснова-
нию теории, направляет выбор»2 [Там же, с. 29, 237]. В резуль-
тате получается «удвоенная экономия», вытекающая «из замены
конкретных фактов законом» и «сгущения экспериментальных
законов в теории», которая наиболее удовлетворительным обра-
зом выражает группу экспериментально установленных законов.
Другими словами, «наблюдатели установили значительное число
экспериментальных законов. Теоретик собрался объединить их в
очень небольшое число гипотез и совершил эту работу: каждый
из экспериментальных законов может быть представлен как од-
но из последствий, вытекающих из этих гипотез. Но последст-
вий, которые могут быть выведены из этих гипотез, безгранич-
ное множество... Таким образом, физическая теория, как мы ее
определили, дает сжатое описание большого множества экспе-
риментальных законов, благоприятствующих экономии мышле-
ния» [Там же, с. 9, 26, 28, 34—35, 37]. «Материалы, из которых
строится эта теория, — это математические символы, служащие
1 Здесь надо иметь в виду аристотелевскую систему понятий: существующие
вещи есть результат наложения формы на материю (материал). У Дюгема форму
поставляет теоретик, а материал — экспериментатор.
2 Поэтому «преподавание физики по чисто индуктивному методу... — пола-
гает Дюгем, — есть химера» [Дюгем, с. 243].
90
Часть I. Глава 3
для представления количеств и различных качеств физического
мира, с одной стороны, и, с другой стороны, общие постулаты,
служащие в качестве общих принципов... Из этих материалов
она должна построить логическое здание»1 [Там же, с. 245].
При этом Дюгем «различает в физической теории четыре ос-
новные операции: 1) определение и измерение физических вели-
чин, 2) выбор гипотез, 3) математическое развитие теории,
4) сравнение теории с опытом» [Там же, с. 26].
Последние три операции указывают на использование гипо-
тетико-дедуктивного метода, который широко распространен в
механике XVII—XVIII вв. «С логической точки зрения гипотети-
ко-дедуктивная система представляет собой иерархию гипотез...
На вершине располагаются гипотезы, имеющие наиболее общий
характер... Из них как посылок выводятся гипотезы более низко-
го уровня. На самом низшем уровне системы находятся гипоте-
зы, которые можно сопоставлять с эмпирическими данными...
Если они подтверждаются этими данными, то это служит кос-
венным подтверждением и гипотез более высокого уровня, из
которых [они] логически выведены» [Никифоров, 1998, с. 140].
Однако связь между теорией и опытом оказывается непро-
стой, что и фиксирует тезис Дюгема: «...физический экспери-
мент никогда не может привести к опровержению одной ка-
кой-нибудь изолированной гипотезы, а всегда только целой
группы теорий... Среди всех научных положений, на основании
которых (некоторое) явление было предсказано и затем конста-
тировано, что оно не наступает, имеется по меньшей мере одно
неправильное. Но какое именно, этому произведенный опыт нас
не научает» [Дюгем, 1910, с. 220]. Этот тезис выражает сложный
характер взаимосвязи между множеством теорий и множеством
экспериментов.
Кроме этого утверждения, которое в середине XX в. было пе-
реоткрыто в несколько другой формулировке У. Куайном и по-
лучило название «тезис Дюгема—Куайна», Дюгем четко фикси-
рует то, что во второй половине XX в. стало называться теорети-
ческой нагруженностью эксперимента (см. гл. 6). Он обращает
1 Причем Дюгем констатирует у физиков «непобедимое стремление к логи-
ческой цельности физической теории», а также «к единству науки», которые
Нельзя логически обосновать, ибо «ни принцип противоречия, ни закон эконо-
’чии мысли не дают нам возможности неопровержимо доказать, что физическая
Теория должна быть логически упорядочена» [Дюгем, 1910, с. 123].
91
Философия науки
внимание на то, что сама «возможность употребления инстру-
ментов» в эксперименте предполагает наличие теорий, исполь-
зованных при разработке различных приборов (например, ам-
перметра), а столь распространенным измеримым величинам,
как «сила» и «масса», «только одна динамика (т. е. классическая
механика. — АЛ.) придает определенный смысл» [Там же,
с. 232]. Но этим суть дела не ограничивается. «Между явления-
ми, действительно установленными во время эксперимента, и
результатом этого эксперимента, формулируемым физиком, —
говорит Дюгем, — необходимо включить еще звено — весьма
сложную интеллектуальную работу, которая из отчета о конкрет-
ных фактах ставит абстрактное и символическое суждение».
«Физический эксперимент есть точное наблюдение группы явле-
ний, связанное с истолкованием этих явлений. Это истолкование
заменяет конкретные данные... абстрактными и символическими
описаниями, соответствующими этим данным на основании до-
пущенных наблюдателем теорий». «Результат физического экс-
перимента есть абстрактное и символическое суждение» [Там
же, с. 175, 182]. Тем более это касается экспериментального за-
кона, ибо «физический закон есть символическое отношение»
(типа формулы. — А.Л.), а «символические выражения, объеди-
ненные в закон, уже не такие абстракции, которые прямо выте-
кают из конкретной реальности. Нет, — говорит Дюгем, — эти
абстракции представляют собой плод длительной, сложной, соз-
нательной работы» [7<ш же, с. 201, 199].
Взгляды Маха и Дюгема на цели науки близки и другому ве-
ликому ученому конца XIX в. (математику и физику, работавше-
му над созданием теории относительности) — Анри Пуанкаре
(1854—1912), являющемуся основателем конвенционализма —
«направления в философском истолковании науки, согласно ко-
торому в основе математических и естественно-научных теорий
лежат произвольные соглашения...» [Философский энциклопе-
дический словарь, 1983, с. 271].
Для Пуанкаре исходной проблемой было осознание следст-
вий для научной картины мира, вытекающих из появления не-
евклидовых геометрий. Поэтому его конвенционализм четче
всего формулируется на материале геометрии: «Аксиомы геомет-
рии... суть не более чем замаскированные определения1... Никакая
1 Здесь и далее полужирным шрифтом обозначены выделения, делаемые ав-
торами цитат, а курсивом — мои.
92
Часть I. Глава 3
геометрия не может быть более истинной, чем другая; та или
иная геометрия может быть только более удобной» [Пуанкаре,
1983, с. 41].
Распространение этого взгляда на механику ведет к утверж-
дению, что «только по определению сила равна произведению
массы на ускорение» [Там же, с. 72, 69]. Но в отличие от геомет-
рии механика и физика в целом связаны с опытом. Эта связь у
Пуанкаре выглядит следующим образом: «Принципы механики
представляются нам в двух различных аспектах. С одной сторо-
ны, это — истины, обоснованные опытом, подтверждающиеся
весьма приближенно... С другой стороны, это — постулаты, ко-
торые прилагаются ко всей Вселенной и считаются строго досто-
верными... Это оттого, что они... сводятся к простому соглаше-
нию... Однако это соглашение не абсолютно произвольно... мы
принимаем его, потому что известные опыты доказали нам его
удобство» [Там же, с. 89].
При этом, как и у Дюгема, у Пуанкаре можно найти постпо-
зитивистские по своей сути утверждения о связи опыта и теории
(т. е. о «теоретической нагруженности» эмпирических фактов):
«Закон вытекает из опыта, но он следует из него не непосредст-
венно. Опыт индивидуален, а закон, который из него извлекается,
имеет характер общности. Опыт бывает только приближенным;
закон... имеет притязание на точность. Опыт всегда осуществля-
ется в сложных условиях — формулировка закона исключает их;
это называется «исправлением систематических погрешностей».
Словом, чтобы вывести закон из опыта, необходимо обоб-
щать...» [Там же, с. 220].
На таком взгляде основан его вариант «домашней филосо-
фии»1 для естествоиспытателей. Он утверждал, что наука «может
постичь не суть вещи в себе, как думают наивные догматики, а
лишь отношения между вещами». Последнее он связывал с необ-
ходимым выполнением для науки «условий объективности»:
объективно то, что «должно быть обще многим умам и, значит,
Должно иметь способность передаваться от одного к другому»,
Поэтому «все, что объективно, лишено всякого «качества» (он
1 Мах говорил: «В действительности всякий философ имеет свое домашнее
естествознание, и всякий естествоиспытатель — свою домашнюю философию.
Но эти домашние науки бывают в большинстве случаев несколько устаревшими,
отсталыми» [Мах, 2003, с. 38] (поскольку физика и философия стали очень слож-
ными).
93
Философия науки
считает, что восприятие качеств субъективно. — А.Л.), является
только чистым отношением» [Там же, с. 275—276]. Поэтому
наука открывает не «истинную природу вещей», а «истинные от-
ношения вещей» [Там же, с. 277]. «Наука есть система отноше-
ний» и «некоторая классификация». Он считал, что «опыт пре-
доставляет нам свободный выбор» (теоретического описания. —
А. Л.), и поэтому «.принципы (механики. — АЛ.)... — это соглаше-
ния и скрытые определения» [Там же, с. 8, 90, 277]. При этом, раз-
деляя эмпиристский взгляд, он считает, что принципы извлека-
ются из экспериментальных законов и поэтому «преподавание
механики должно оставаться экспериментальным» [Там же,
с. 90]. Сочетание между теорией и экспериментом Пуанкаре
представлял себе следующим образом. «Я, — говорит А. Пуанка-
ре в докладе на Международном конгрессе физиков в Париже в
1900 г., — позволю себе сравнить науку с библиотекой, которая
должна беспрерывно расширяться; но библиотекарь располагает
для своих приобретений лишь ограниченными кредитами; он
должен стараться не тратить их понапрасну. Такая обязанность
делать приобретения лежит на экспериментальной физике, ко-
торая одна лишь в состоянии обогащать библиотеку. Что касает-
ся математической физики, то ее задача состоит в составлении
каталога... Каталог, указывая библиотекарю на пробелы в его со-
браниях, позволяет ему дать его кредитам рациональное упот-
ребление... Итак, вот в чем значение математической физики.
Она должна руководить обобщением, руководить так, чтобы
от этого увеличивалась производительность науки» [7Ьи же,
с. 91-94].
Таковы концепции (позиции) основных представителей вто-
рого позитивизма, добавившего к феноменалистической уста-
новке Конта разработку темы конвенционализма и условности
теоретических построений. Отсюда прямой путь к различению
«реалистического» и «конструктивистского» взгляда на науку в
виде противопоставления отношения к теории как к объяснению
и как к описанию. Все эти темы нашли свое дальнейшее развитие
в рамках неопозитивизма и постпозитивизма XX в. Но прежде
чем перейти к позитивизму XX в., скажем несколько слов об аме-
риканском прагматизме, ставшем благоприятной почвой для раз-
вития логического позитивизма во второй трети XX в.
94
Часть I. Глава 3
3.3. Американский прагматизм
Прагматизм возникает в США в последней трети XIX в. как
собственно американская философия. И по кругу проблем, и по
типу их решения он имеет много общего с европейским позити-
визмом второй половины XIX в. Основатель прагматизма Чарльз
Пирс (1839—1914) назвал его даже «видом позитивизма» [Пирс,
2000, с. 309], о близости позитивизма и прагматизма говорил и
Мах. Пирс разделял позитивистское отрицательное отношение к
метафизике, называя ее «бессмысленной тарабарщиной» и
«предметом скорее любопытным, нежели полезным» [Там же,
с. 309, 294], но при этом серьезно прорабатывал наследие клас-
сической философии и считал, что он в своем прагматизме (или
прагматицизме, как он предпочитал называть свою версию), в
отличие от позитивистов, сохранил философию «в очищенной
форме» [Там же, с. 309]. Кроме того, Пирс большое значение
придавал логике (что роднит его с Миллем и неопозитивистами
XX в.). «Ничто не способно прояснить его (метафизическое ут-
верждение. — А.Л.), кроме основательного курса логики», — го-
ворил он [Там же, с. 241]. Пирс выступал против скептицизма1,
релятивизма2 и механицизма (см. гл. 1). Не принимал он и де-
картовское схватывание интуицией врожденных идей. «Пирс не
верил, что наш ум может функционировать отдельно от наших
интересов и наших планов, и не принимал взгляд, что мышление
происходит в вакууме или что оно не имеет ничего общего с
обстоятельствами, вызывающими рефлексивную3 мысль» [Ayer,
1968, р. 8]. В своей статье «Что такое прагматизм» Пирс провоз-
глашает «взгляд эксперименталиста», «склонного думать обо
всем так, как думают в лаборатории», утверждая, что «экспери-
ментальные результаты суть единственные результаты, которые
'Скептицизм (от греч. skeptikos — рассматривающий, исследующий) —
Философская позиция, отрицающая возможность достоверного знания и пред-
лагающая воздерживаться от определенных высказываний о мире [Философский
энциклопедический словарь, 1983, с. 614].
2Релятивизм (от лат. relativus — относительный) — методологический
Принцип, состоящий в абсолютизации относительности и условности содержа-
ния познания [Таи же, с. 578].
3Рефлексия(от позднелатинского reflexio — обращение назад) — прин-
цип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и осознание
собственных форм и предпосылок» [Там же, 1983, с. 579].
95
Философия науки
могут иметь влияние на человеческое поведение... Когда бы че-
ловек ни действовал целенаправленно, он действует согласно ве-
ре в какой-то экспериментальный феномен», а все, что не влияет
на «человеческое поведение», не имеет для прагматицизма зна-
чения [Пирс, 2000, с. 296, 312]. Основополагающий для прагма-
тизма принцип Пирса гласит: «Рассмотрите, какого рода следст-
вия, могущие иметь практическое значение, имеет, как мы пола-
гаем, объект нашего понятия. Тогда наше понятие об этих
следствиях и есть полное понятие об объекте». «Мы не можем об-
ладать идеей в нашем уме, связанной с чем-либо еще, кроме
мыслимых чувственных следствий вещей. Наша идея чего-либо
есть наша идея его чувственных следствий». «Понятие (conce-
ption), т. е. рациональная цель слова... лежит исключительно в
его мыслимом влиянии на жизненное поведение... если мы смо-
жем точно определить все мыслимые экспериментальные фено-
мены, которые подразумеваются утверждением или отрицанием
данного понятия, мы получим полное и окончательное опреде-
ление понятия, и в нем больше не будет абсолютно ничего» [Там
же, с. 278, 298, 308]. Иными словами, объект существует не сам
по себе, а лишь как включенный в нашу жизнь. Если не вклю-
чен, то не существует. Так, нет «никакой разницы, скажем ли
мы, что камень на дне океана, покоящийся в полной тьме, явля-
ется бриллиантом или нет — то есть что, вероятно, здесь нет ни-
какой разницы, хотя я и не забываю, что этот камень может быть
завтра выловлен оттуда» [Там же, с. 294].
В его доктрине веры (не религиозной), ведущей от мысли к
действию, существует необходимая связь между понятием, верой
и действием. «Прагматизм делает мысль в конечном счете приме-
нимой исключительно к действию — к сознательному действию».
Вера (верование) играет при этом центральную и связывающую
роль. «Верование (вера) обладает тремя свойствами: во-первых,
оно есть что-то, что мы осознаем; во-вторых, оно кладет конец
раздражению, вызванному сомнением; и, в-третьих, оно влечет
за собой установление в нашей природе правила действия, или,
короче говоря, привычки» [Там же, с. 274]. Верование «есть пра-
вило действия, применение которого влечет за собой дальней-
шее действие». «Наши верования руководят нашими желаниями
и формируют наши действия», — говорит Пирс [ Там же, с. 274,
242]. Но одновременно «верование есть... этап ментального дей-
96
Часть I. Глава 3
ствия», которое неразрывно связано с понятиями «сомнения» и
«привычки».
С одной стороны, «слово «вера» повсеместно используется
только как обозначение состояния, противоположного сомне-
нию» [Там же, с. 305]. То есть сомнение и верование, понимае-
мые Пирсом как «состояния ума», вводятся как пара взаимосвя-
занных понятий, с помощью которых он определяет процесс
мышления: «Деятельность мышления возбуждается раздражени-
ем, вызванным сомнением, и прекращается, когда достигается
верование, так что производство верования есть единственная
функция мышления». «Раздражение, причиненное сомнением
(причем «реальным и живым» [Там же, с. 245]), вызывает борь-
бу, направленную на состояние верования. Я буду эту борьбу на-
зывать исследованием», — говорит Пирс, имея в виду научное ис-
следование [Там же, с. 244, 271]. Следовательно, познание идет
«не от незнания к знанию, а от сомнения к вере».
С другой стороны, понятие веры связывается Пирсом с «при-
вычкой» (подобно тому как Юм связывал с психологической
привычкой понятие причинности (см. гл. 1), которая связана с
действием (ибо речь идет о «привычке к действию»): «Сущность
верования заключается в установлении привычки; и различные
верования отличаются друг от друга теми различными способа-
ми действия, которые они вызывают... Единственная функция
мысли состоит в том, чтобы производить привычки к действию...
То, что вещь «значит», есть просто те привычки, которые она
вызывает... То, чем привычка является, обусловлено тем, когда и
как она заставляет нас действовать... Таким образом, мы прихо-
дим к осязаемому и практическому, как к корню всякого разли-
чия в мысли, сколь бы утонченным оно ни было». «То, что за-
ставляет нас, исходя из данных посылок, выводить скорее это за-
ключение, нежели иное, представляет собой некую привычку
нашего разума, неважно, врожденную или приобретенную. При-
вычка (habit) хороша, если она производит верные (true)(*)'
заключения из верных (true)(*) посылок; вывод считается спра-
ведливым (valid)(*), безотносительно к верности (truth) или
ошибочности (falsity)(*) его заключения... если привычка, кото-
1 (*) Я даю свой перевод слов «true» как «верный» (а не «истинный»), «valid»
как «справедливый» (а не «значимый»), — А.Л.
фВДософия науки 9 7
Философия науки
рая обусловливает его, такова, что, как правило, производит вер-
ные (true) (*) заключения» [Там же, с. 239, 275—277].
Здесь мы выходим на проблему истины в прагматизме. С од-
ной стороны, в соответствии с логикой прагматизма «то, в чем
вы совершенно не сомневаетесь, вы должны считать... несо-
мненной абсолютной истиной», «истина» — это «решимость сле-
довать сделанному выбору». «Если ваши термины «истина» и
«ошибка» берутся в том смысле, что их можно определить в тер-
минах верования, сомнения и течения опыта... то все хоро-
шо», — говорит Пирс [Там же, с. 289, 304, 305].
Но, с другой стороны, Пирс не приемлет субъективизма, по-
этому он определяет реальность «как то, чьи свойства независи-
мы от того, что кто-либо может о них думать», утверждает, что
«не «мой» опыт, а «наш» является предметом мышления», и ис-
ходит из того, что «все последователи науки воодушевлены свет-
лой надеждой на то, что процесс исследования, будучи продол-
жен достаточно долго, даст одно определенное решение каждого
вопроса, к которому они его применяют... По мере того как каж-
дый будет совершенствовать свой метод и свой процесс, резуль-
таты будут иметь тенденцию неуклонно приближаться к некото-
рому предустановленному центру... к предопределенной цели...
Мнение, которому суждено получить окончательное согласие всех
исследователей, есть то, что мы имеем в виду под истиной, а объ-
ект, представленный в этом мнении, есть реальное». При этом
«реальность, как и любое другое качество, заключается в особен-
ных чувственных следствиях, которые производят вещи, являю-
щиеся ее составными частями» [Там же, с. 280, 289, 291, 292]>.
То есть объективность (во всяком случае — интерсубъектив-
ность) истины и реальность опираются у Пирса на коллектив-
ный характер эксперимента [Там же, с. 310] и научной деятель-
ности в целом («изолированный человек лишен целостности»
[Там же, с. 280]) и на системный характер верований.
'Согласование этих двух во многом трудносовместимых установок Пирс
пытается осуществить с помощью следующего пассажа: «Реальность вовсе не не-
обходимо независима от мысли вообще, но только от того, чтб вы, или я, или
любое конечное число людей может думать о ней; и, с другой стороны, хотя объ-
ект окончательного мнения зависит от того, каково это мнение, то, чтб собой
представляет это мнение, не зависит от того, что вы, или я, или любой человек
думает» [Пирс, 2000, с. 292].
98
Часть I. Глава 3
Идеи прагматизма развивались далее психологом и религи-
озным деятелем У. Дже(й)мсом’ (1842—1910) и социологом
Дж. Дьюи1 2 (1859—1952). Спецификой американского прагматиз-
ма было рассмотрено в качестве онтологического объекта — по-
ведение. Поэтому «прагматизм рассматривает мышление лишь
как средство приспособления организма к среде с целью успеш-
ного действия. Функция мысли — не в познании как отражении
объективной реальности... а в преодолении сомнения, являюще-
гося помехой для действия (Пирс), в выборе средств, необходи-
мых для достижения цели (Джеймс) или для решения «пробле-
матической ситуации» (Дьюи). Идеи, понятия и теории — лишь
инструменты, орудия или планы действия. Их значение, соглас-
но основной доктрине прагматизма — так называемому «прин-
ципу Пирса», целиком сводится к возможным практическим по-
следствиям» [Мельвиль, 1983, с. 522].
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Грязнов Б. С. Эволюционизм Г. Спенсера и проблемы развития науки // По-
зитивизм и наука: Сб. М.: Наука, 1975.
Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. СПб., 1910.
Калиниченко В.В. Мах // Современная западная философия: Словарь. М.:
Политиздат, 1991.
Конт О. Дух позитивной философии. СПб.: Вестник знания, 1910.
Мах Э. Познание и заблуждение: Очерки по психологии исследования. М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.
Мах Э. Популярно-научные очерки. СПб.: Образование, 1909.
1 Психолог и религиозный подвижник У. Дже(й)мс утверждал, что совре-
менный человек «жаждет фактов; он жаждет науки; но он жаждет также и рели-
гии. Но вы встречаете эмпирическую философию, которая недостаточно эмпи-
рична» [Джемс В. Прагматизм. СПб., 1910, с. 13, 16]. Необходимый компромисс
он находит в своем прагматизме, где он провозгласил единственным «вещест-
вом» мира опыт (в широком смысле: от чувственного до религиозного) и «ввел
понятие об опыте как непрерывном потоке сознания, из которого мы своими во-
левыми усилиями выделяем отдельные отрезки или части, обретающие для нас
статус вещей благодаря наименованию... Реальность, значение которой состав-
ляет тот факт, что она заставляет нас считаться с собой, складывается из ощуще-
ний (приходящих неизвестно откуда), отношений между ощущениями, обнару-
живаемых в опыте, и старых истин» [Там же, с. 248].
2 Дьюи полагает, что если достигнуто успешное решение проблемной ситуа-
ции, то предложенная гипотеза или теория должна считаться истиной, а возник-
шая новая, теперь уже определенная ситуация, сменившая сомнительную или
Проблемную, приобретает статус реальности. Следовательно, процесс познания
Изменяет познаваемый предмет, если и не создает его.
4*
99
Философия науки
Мельвиль Ю.К. Прагматизм // Философский энциклопедический словарь.
М.: СЭ, 1983. С. 521-522.
Милль Д. С. Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение
принципов доказательства в связи с методами научного исследования. М., 1899.
Нарский И.С. (ред.) Антология мировой философии: В 4 т. Т. 3. М.: Мысль,
1971.
Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М.: Дом интел-
лектуальной книги, 1998.
Оствальд В. Несостоятельность научного материализма и его устранение.
СПб.: К.Л. Риккерт, 1896.
Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000.
Планк М. Единство физической картины мира. М.: Наука, 1966.
Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983.
Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1983.
Спенсер Г. Основные начала. СПб., 1899; Он же. Разные мелкие статьи. Ки-
ев—Харьков—СПб., б/г.
Философский энциклопедический словарь. М.: СЭ, 1983.
Хилл Т. Современные теории познания. М.: Прогресс, 1965.
Шарвин В.В. Как создается наука: (Воззрения Э. Маха). М., 1906.
Эйнштейновский сборник, 1972. М.: Наука, 1974.
Ayer A.J. The Origins of Pragmatism. San Francisco, 1968.
ВОПРОСЫ
1. Основные положения позитивизма О. Конта.
2. Основные положения позитивизма Г. Спенсера.
3. Что такое принцип единообразия природы по Миллю? Какие
проблемы с ним связаны?
4. Как Милль понимает причинную связь?
5. Какое отношение к гипотезе характерно для индуктивизма?
6. Каковы правила опытного исследования по Миллю?
7. Основные положения позитивизма Э. Маха.
8. Основные положения позитивизма П. Дюгема.
9. Основные положения конвенционализма А. Пуанкаре.
10. В чем суть гипотетико-дедуктивного метода?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Антология мировой философии: В 4 т. М.: Мысль, 1971. Т. 3.
Мах Э. Познание и заблуждение: Очерки по психологии исследования. М-,
2003.
Позитивизм и наука. М.: Наука, 1975.
Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1983.
Современная западная философия: Словарь. М.: Политиздат, 1991.
Философский энциклопедический словарь. М.: СЭ, 1986.
Глава 4
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
В КОНЦЕПЦИИ А. ВИТГЕНШТЕЙНА
'' \ ' ' -' ' '' ' ' ' '' " " ' " " ' '
Людвиг Витгенштейн (1889—1951), один из крупнейших фи-
лософов XX в., не был философом науки, однако его идеи оказа-
ли существенное влияние на философию науки XX в., причем
как на логический позитивизм, так и на постпозитивизм.
Витгенштейн размышлял над классическими философскими
проблемами. Главной целью было для него достижение ясности,
что имело как теоретическое, так и нравственное значение: яс-
ность — необходимое условие честного и искреннего мышления,
честного определения своего места в мире. Требуя ясности при
формулировке философских проблем, он, как и его учитель
Б. Рассел, исходил из убеждения, что эти проблемы по большей
части связаны с неправильным употреблением языка, наруше-
нием его внутренней логики. Но какова же эта логика?
4.1. Общая концепция
«Логико-философского трактата»
В своем «Логико-философском трактате» (1921) Витген-
штейн рассматривает язык и мир, описываемый языком, как по-
мещенные в общее логическое пространство. Это означает, что не
только выражения языка, но и предметы мира имеют логиче-
скую форму. Такой подход можно объяснить по аналогии с кон-
цепцией И. Канта (см. гл. 2). Кант утверждал, что познание воз-
можно благодаря тому, что познаваемая нами природа — это не
вещь сама по себе, а явление. Она организована и структуриро-
вана познающим субъектом. А Витгенштейн показывает нам,
Что условием возможности утверждений с ясным и точным
сМыслом является то, что мир тоже имеет логическую форму, как
11 язык, на котором мы говорим о нем. Поясним это так: чтобы
’Яожно было делать ясные, точные, однозначные утверждения
101
Философия науки
типа «Такой-то предмет обладает таким-то свойством», мир дол-
жен быть структурирован определенным образом: он должен со-
держать определенные, устойчивые и отличимые одни от других
предметы, а эти последние должны обладать свойствами. То есть
мир должен иметь структуру, параллельную грамматической
структуре языка. Понятно, что «мир» — это не «вещь сама по се-
бе», а мир нашего языка.
Когда мы рассуждаем, мы говорим предложениями, которые
являются сложными языковыми знаками: они состоят из более
простых единиц, которые также имеют значение. В «Логико-фи-
лософском трактате» Витгенштейн принимает следующее допу-
щение (от которого он отказался в более поздний период): усло-
вием возможности для предложений иметь ясный и точный
смысл является то, что любое сложное языковое выражение одно-
значным образом анализируется, т. е. расчленяется на простые,
далее не анализируемые составляющие; эти последние простым и
однозначным образом соотносятся с обозначаемой внеязыковой ре-
альностью. Такие «атомы» языка он называет именами, а соот-
ветствующие им «атомы» мира — «предметами». Имя однознач-
но соотносится с именуемым им предметом, подобно тому как
номерные знаки на домах некоторой улицы однозначно соответ-
ствуют самим домам. Но чтб именно в реально существующих
языках и в окружающем нас мире Витгенштейн относит к таким
«атомам»? Он не дает никаких пояснений и примеров, считая
это задачей специальных, а не философских исследований.
Впоследствии логические позитивисты (см. гл. 5) заполнили
этот пробел, проинтерпретировав Витгенштейна в духе сенсуа-
лизма'. якобы его «простые предметы» — это «чувственные дан-
ные». Ведь для сенсуалиста мир слагается из моих ощущений, а
научное знание представляет собой систему символов, обозна-
чающих классы ощущений. Однако такую интерпретацию надо
оставить на совести логических позитивистов, ибо у Витген-
штейна дело обстояло гораздо сложнее. Ведь он приписывал
всем предметам свою логическую форму. Благодаря этому пред-
меты могут соединяться в ситуациях, как звенья в цепи, говорит
Витгенштейн. Характеризуя предметы, Витгенштейн отмечает:
«Подобно тому как мы не можем мыслить пространственный
предмет вне пространства, а временной — вне времени, мы не
можем мыслить никакого предмета вне возможностей его связей
с другими предметами» [Витгенштейн, 1994 а, 2.012]. Например,
102
Часть I. Глава 4
логическая форма такого предмета, как «синий», предопределя-
ет, что он может сочетаться с предметом «небо», создавая ситуа-
цию «небо синее», но не может сочетаться с предметами типа
«бег» или «скрежет».
Из сочетаний предметов образуются ситуации и факты, а из
сочетаний имен — элементарные и сложные предложения. Эле-
ментарное предложение является образом факта. Изображаемый
предложением факт является его смыслом. Например, предложение
«Небо синее» изображает соответствующий факт. Это осуществля-
ется благодаря тому, что каждому «атому» предложения (т. е. име-
ни) соответствует определенный «атом» реальности (т. е. предмет),
и при этом структура предложения, т. е. то, как соединены про-
стые элементы предложения, изоморфна структуре факта. На-
пример, предложение «Небо коричневое» изображает возмож-
ный факт, и мы поняли, какой именно, как только поняли пред-
ложение. А вот сочетание слов «Скрежет коричневый» не имеет
смысла, потому что в силу самой своей логической формы пред-
мет «коричневый» не соединяется с такими «предметами», как
звуки.
Таким образом, осмысленное предложение изображает воз-
можный факт. Этот факт и предложение должны иметь одну и
ту же логическую форму. Если данный факт имеет место в дейст-
вительности, то предложение истинно, а если нет — то ложно.
Понять предложение — значит понять, как обстояли бы дела
в действительности, если бы предложение было истинно. Из
этих на первый взгляд тривиальных разъяснений вытекает ряд
сильных и неожиданных следствий.
Во-первых, осмысленное предложение является образом воз-
можного факта. Но описание фактов — дело положительной
науки. А если мы захотим поговорить о чем-то большем?. Тогда,
Увы, несмотря на всю серьезность порыва, о котором Витген-
штейн говорит со всяческим уважением, итогом будет произне-
сение (писание) фраз, лишенных смысла, из-за того, что они на-
рушают логику языка. Осмысленные фразы — это описания не-
которых обстоятельств. Поэтому говорить о возвышенном,
божественном, об абсолютных нравственных ценностях, по мне-
нию Витгенштейна, все равно что пытаться «влить в чашку гал-
лон воды». Это те вещи, о которых нельзя говорить, ими надо
Жить.
103
Философия науки
Во-вторых, любое описание может оказаться как истинным,
так и ложным. Это зависит от того, как обстоят дела в реально-
сти. Если же мы безо всякого обращения к фактам заранее зна-
ем, что некоторое предложение обязательно истинно (или лож-
но), то, по Витгенштейну, оно не может быть осмысленным
предложением. Однако даже в науке употребляются такие пред-
ложения, например логические законы, математические форму-
лы и научные законы. Как же обстоят дела с ними? А чем явля-
ются предложения философии, если сфера осмысленных пред-
ложений уже оккупирована науками?
Для ответа на подобные вопросы и требуется логический или
лингвистический анализ, которому посвящает себя аналитиче-
ская философия. Перед ней открывается широкое поле работы,
потому что наша культура устроена так, что все время порождает
новые и новые символы и правила их сочетаний, так что связь с
внеязыковой реальностью становится труднообозримой или во-
обще утрачивается.
4.2. Философия науки
в «Логико-философском трактате»
На небольшом пространстве «Логико-философского тракта-
та» Витгенштейн дает свою трактовку природы математики, ес-
тественных наук, высказываний о причинных связях, о вероят-
ности и т. д. Его цель — продемонстрировать анализ таких пред-
ложений, который бы выявил их подлинную структуру и
благодаря этому показал, что обсуждаемые философами в связи
с ними проблемы проблемами не являются.
Вот, например, предложения математики. Они достоверны и
необходимо истинны. Их истинность не может быть опроверг-
нута никакими фактами и экспериментами. В то же время нель-
зя утверждать, будто они вообще не относятся к эмпирической
реальности, ибо математика широко применяется при ее иссле-
довании и описании. В течение веков философы бились над
проблемой природы математики и характера ее истин. С точки
зрения Витгенштейна, предложения математики не являются ни
логическими истинами1, ни образами фактов — они суть опера-
10 такого рода трактовках математики см. примеч. 5 к гл. 2.
104
Часть I. Глава 4
ции над знаками. При этом он утверждает, что в жизни математи-
ческие предложения применяются лишь как посредники при
выводе одних содержательных предложений из других содержа-
тельных предложений. «Математика, — говорит он, — есть логи-
ческий метод. Предложения математики суть уравнения и, сле-
довательно, псевдопредложения» [Там же, 6.2]. «Математиче-
ские предложения не выражают никакой мысли» [Там же, 6.21].
«Сущность математического метода, — продолжает он, — состо-
ит в работе с уравнениями» [ Там же, 6.2341]. Почему уравнения
оказываются псевдопредложениями? Потому что они не явля-
ются образами фактов, а показывают равенство выражений. По-
скольку математические предложения, как показывает витген-
штейновский анализ, не являются предложениями, они не явля-
ются ни истинными, ни ложными. Поэтому не имеют смысла
вопросы о характере и источнике их истинности.
А как быть с теориями естественных наук и с научными зако-
нами? Следует ли рассматривать их как описания фактов? На
первый взгляд ответ очевиден: да, конечно. Однако здесь есть
один тонкий момент. Если предложение описывает возможный
факт, то нельзя исключать, что факт покажет и ложность этого
предложения. Но действительно ли мы ожидаем от фактов, что
они покажут ложность, например, трех законов механики Нью-
тона? Или, напротив, эти законы в каждом конкретном случае
являются правилами для описания факта и для отличения факта
от некорректно поставленного эксперимента или неправильно
выполненного расчета? Здесь, таким образом, мы встречаемся с
той же проблемой, от которой отталкивался Кант (см. п. 2.3).
Кант давал на нее ответ, описывая механизмы априорного син-
теза. Пуанкаре трактовал многие фундаментальные законы нау-
ки как конвенции (см. п. 3.2). Позиция Витгенштейна тут ближе
к позиции Пуанкаре, нежели к позиции Канта.
Научные законы, по Витгенштейну, не являются совокупно-
стями предложений, у них иная природа. Они суть способы уни-
фицированных описаний большого количества фактов. «Ньютоно-
ва механика, например, приводит описание универсума к уни-
фицированной форме» [Там же, 6.341]. «Все предложения,
такие, как закон причинности, закон непрерывности в природе,
Закон наименьшего сопротивления и т. д. и т. п., — все они яв-
ляются априорными интуициями возможных форм научных
Предложений» [Там же, 6.34]. Индукция есть процесс принятия
105
Философия науки
наипростейшего закона, согласующегося с явлениями. Этот про-
цесс не имеет никакого логического обоснования, только психо-
логическое, заявляет Витгенштейн, солидаризуясь с Д. Юмом.
Подобное объяснение природы научных теорий и принци-
пов провоцирует вопрос: как они соотносятся с реальностью?
Витгенштейн дает следующее объяснение. Представьте себе бе-
лую поверхность с хаотически расположенными на ней черными
пятнами. Можно дать описание этой плоскости, накладывая на
нее сеть с квадратными ячейками и отмечая для каждого квадра-
та, является он белым или черным. Выбрав достаточно мелкие
ячейки, можно получить унифицированное описание поверхно-
сти. Однако оно будет, конечно, произвольным, потому что с та-
ким же успехом можно было бы использовать сеть с треугольны-
ми или шестиугольными ячейками. Различным сетям соответст-
вуют различные системы описания мира. Механика подобна
такой сети: она определяет способ описания мира, задавая свои
аксиомы и правила, по которым из них выводятся прочие пред-
ложения.
Поскольку поверхность можно описывать с помощью и тре-
угольной, и квадратной, и иной сети, тот факт, что мы описали
ее, используя, скажем, квадратную сеть, еще ничего о самой по-
верхности не говорит. Однако если ее удается полностью опи-
сать с помощью сети определенной конфигурации, то данный
факт уже характеризует поверхность. Подобно этому, тот факт,
что реальность описывается механикой Ньютона, еще ничего не
говорит о реальности. В самом деле, хотя на протяжении двух
столетий факты успешно описывались этой механикой, это не
помешало тому, что в качестве картины реальности ее сменила
теория Эйнштейна. В истории науки бывают научные револю-
ции. Витгенштейн своим утверждением просто зафиксировал
это обстоятельство. Но в то же время, как отмечает Витген-
штейн, то, насколько успешно или полно удается описать реаль-
ность с помощью механики Ньютона, уже говорит что-то о ре-
альности. О реальности что-то говорит и то, что она проще опи-
сывается с помощью одной теории, чем с помощью другой.
Таким образом, хотя Витгенштейн придерживается позиции
конвенционализма относительно научных теорий, однако тео-
рии в его изображении не совсем произвольны, а реальность не
совсем пассивна и безразлична к любым описаниям. Теория
плюс факты, показывающие, насколько успешно ее примене-
106
Часть I. Глава 4
ние, что-то говорят о самой реальности. Но что именно говорят?
Что именно говорит о реальности тот факт, что механика Нью-
тона успешно применяется к такому-то кругу явлений? Ответ
представляется на первый взгляд очевидным, и он равнозначен
определению границ применимости механики Ньютона с точки
зрения теории относительности. Но разве теория относительно-
сти — конечный этап развития науки? Разве ее не может постичь
та же судьба, что и механику Ньютона? Скорее всего может.
И тогда мы будем обсуждать вопрос: что же говорит о реальности
тот факт, что теория относительности более успешно, чем меха-
ника Ньютона, применялась для описания таких-то классов яв-
лений?
Итак, законы науки и научные теории — не описания реально-
сти, но «сети», с помощью которых осуществляются такие описа-
ния, правила построения описаний. Закон причинности характе-
ризует устройство этих «сетей», а вовсе не устройство самой
реальности, полагает Витгенштейн. Значение принципа при-
чинности состоит в том, что мы признаем существование естест-
венно-научных законов. Таким образом, попытка сформулиро-
вать какой-то особый «закон причинности», якобы «лежащий в
основе» научных теорий, бессмысленна. Не нужно никакого
особого принципа; то, что люди признают причинность, само
показывается тем фактом, что они строят такие-то теории. По-
следние устроены так, что «то, что исключается законом при-
чинности, не может быть описано» [Там же, 6.362].
Витгенштейна как автора «Логико-философского трактата»
нередко называют сциентистом, — возможно, из-за того, что он
много говорит о логике. Но это еще не является признаком сци-
ентизма. Об отношении Витгенштейна к науке говорят следую-
щие высказывания: «В основе всего современного мировоззре-
ния лежит иллюзия, что так называемые законы природы явля-
ются объяснениями явлений природы» [Там же, 6.371]. «Они
(т. е. современные люди. — З.С.) склоняются перед этими зако-
нами как чем-то неприкосновенным, как древние — перед Бо-
гом и Судьбой. В этом они и правы, и неправы. Однако древние
были умнее в том отношении, что они признавали ясный пре-
дел, тогда как в новой системе это выглядит так, будто все объяс-
нено» [Там же, 6.372]. Витгенштейн утверждает в «Трактате»,
’гго все то, что может быть сказано ясно, высказывается предло-
жениями естественных наук. Но он вовсе не думает, что наука
107
Философия науки
может высказываться обо всем, что угодно. Она может говорить
о фактах, и только о фактах.
Но чем же в таком случае вправе заниматься философия?
О ней Витгенштейн высказывается беспощадно: «Большинство
вопросов и предложений, написанных о философских пробле-
мах, не ложны, а бессмысленны. На вопросы такого рода вообще
нельзя ответить, можно только показать их бессмысленность»
[Там же, 4.003]. Но в то же время философия необходима как
анализ высказываний и средство разрешения неясностей: «Цель
философии — это логическое прояснение мыслей. Философия
есть не учение, а деятельность. Философская работа, по сущест-
ву, состоит из прояснений. Результатом философии являются не
«философские предложения», но прояснение предложений»
[Там же, 4.112].
Работа для философа-аналитика найдется всегда, ибо кон-
цептуальная путаница будет появляться в связи с теми или ины-
ми продуктами интеллектуальной деятельности постоянно.
Причина этого, по Витгенштейну, лежит в конечном счете в са-
мом характере современной европейской цивилизации.
Современная культура, как уже говорилось, постоянно соз-
дает все новые и новые системы символов. Они надстраиваются
друг над другом, одни символы отсылают к другим символам,
эти — к третьим и т. д. А при том существуют определенные
стереотипы мышления, приводящие к восприятию любой систе-
мы символов как описания независимо от этих символов суще-
ствующей реальности.
Эта проблема всегда была в центре размышлений Витген-
штейна. В 1930—1940-х гг. он разрабатывал ее преимущественно
на материале математики.
4.3. Витгенштейнова философия математики
Отношение Витгенштейна к дискуссиям
об основаниях математики
Для философии математика всегда была образцом необходи-
мого и достоверного знания. Правда, подобное воззрение не со-
всем соответствовало действительности, ибо в XVII—XVIII вв.
бурное развитие математического анализа опережало возможно-
сти достижения строгости и обоснованности. Но в течение всего
108
\ Часть I. Глава 4
„л , , - ;; v '......., ; , ,
XIX в. шла работа по уточнению и обоснованию основных поло-
жений математического анализа, по введению все большей и
большей строгости в его основания. Кульминацией этой дея-
тельности можно считать перевод фундаментальных понятий
математического анализа, например «числовая прямая», на тео-
ретико-множественный язык. Однако в конце XIX в. в теории
множеств стали обнаруживаться парадоксы. Это привело к воз-
никновению кризиса в основаниях математики. Возникли опасе-
ния по поводу того, не лежат ли в основаниях математики еще не
обнаруженные, скрытые противоречия.
Поскольку кризис в основаниях был связан с открытием па-
радоксов теории множеств, то естественно было считать, что па-
радоксы так или иначе связаны со свободным обращением с ак-
туальной бесконечностью', допускавшимся в теории множеств.
Реакцией на кризис явилось формирование различных на-
правлений в основаниях математики* 2. Важнейшими из них были
логицизм, формализм, интуиционизм и конструктивизм. Логи-
цизм стремился свести всю математику к логике и тем самым по-
ставить ее на твердое, незыблемое основание логических истин.
Формализм выдвинул программу формализации всей математи-
ки, чтобы затем, рассматривая математические теории как обо-
зримые системы символов, в которых по строго определенным
правилам из одних цепочек символов выводятся другие, дока-
зать, что не может быть выведена такая цепочка символов, кото-
рая при содержательной интерпретации означала бы противоре-
чие. Подобное доказательство обеспечило бы доказательство не-
противоречивости формализованных математических теорий и
давало бы гарантию, что в них не может появиться парадоксов.
Интуиционизм, а позднее конструктивизм выступали с програм-
мой реформирования существующей математики путем изгна-
ния из нее неконструктивных элементов, и в первую очередь ак-
туальной бесконечности.
То есть рассмотрением бесконечных совокупностей как ставших, завер-
шенных, так сказать, «присутствующих целиком и полностью», подобно конеч-
ным совокупностям.
2См.: Френкель А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. М., 1966.
Гл.1,4, 5; Клини Ст.К. Введение в метаматематику. Ч. 1. М., 1957; Бурбаки Н. Ис-
торический очерк // Бурбаки Н. Теория множеств. М., 1965. С. 298—348; Рузавин
Философские проблемы оснований математики. М., 1983.
109
Философия науки
С тех пор и практически до настоящего времени философия
математики оказалась сведенной к обсуждению этих программ в
исследованиях по основаниям. Появилось утверждение, что на
современном уровне развития науки философские проблемы
математики — это проблемы оснований.
Но Витгенштейн еще в 30-х годах критически оценивал за-
мысел оснований математики, говоря: «Если в математике как
таковой что-то ненадежно, то и любое основание будет столь же
ненадежным» [Wittgenstein, 1976, р. 121]. Выражая свое отноше-
ние к идее подведения под здание математики какого-то особой
прочности фундамента, он писал: «Математические проблемы
того, что называют основаниями математики, составляют для
нас ее основание не в большей степени, чем нарисованная ска-
ла — основание нарисованной башни» [Ibid., 1967, р. 171]. По-
добные заявления шли вразрез с господствовавшим в филосо-
фии математики умонастроением. Однако они представляются
достаточно мотивированными. В самом деле, так ли очевидно,
что обнаружение парадоксов в теории множеств Г. Кантора есть
кризис в основаниях математики как таковой? Ведь, несмотря на
парадоксы, математика продолжала развиваться, а ее результаты
по-прежнему имели широчайшее применение в науке и практи-
ке, и доверие к ним никоим образом не было подорвано.
Почему же появилось представление о кризисе и сложилось
то, что можно назвать «кризисным сознанием»? Объяснение
скорее всего состоит в том, что парадоксы поставили под удар не
саму математику, а определенные представления о том, какой
она должна быть: стихийную и повсеместно распространенную
философию математики. Ее разделяют и математики, и филосо-
фы; и те, кто выступает против вмешательства философии в дела
науки, и те, кто считает такое вмешательство необходимым.
Рассуждения Витгенштейна можно понять как деятельность
по прояснению мыслей носителей такой философии. Примера-
ми и наводящими вопросами он хочет лишить данное воззрение
его кажущейся очевидности. Занимаясь философией математи-
ки, как объясняет сам Витгенштейн, он привлекает внимание к
фактам, известным всем, кто только знает математику в школь-
ном объеме, но обычно упускаемым из виду. Их не всегда учиты-
вают вследствие пиетета перед математикой, ибо речь идет о са-
мых простых и известных фактах, которые кажутся слишком
мелкими и незначительными, чтобы вспоминать о них в связи с
110
Часть I. Глава 4
такими важными проблемами, как основания математики. Буду-
чи философом, говорит Витгенштейн, он может рассуждать о
математике потому, что собирается анализировать только те за-
труднения, которые вытекают из слов повседневного языка, та-
ких, как «доказательство», «число», «последовательность», «по-
рядок» и т. п. Такие затруднения можно продемонстрировать на
примерах из элементарной математики. Но именно они наибо-
лее навязчивы, и от них труднее всего избавиться.
Каковы же отличительные признаки этой стихийной филосо-
фии математики? Согласно ей математика есть подлинное позна-
ние. Она открывает истины, так что ее теоремы представляют со-
бой истинные утверждения, адекватно описывающие особые
сущности: математические объекты и их отношения, которые
существуют сами по себе, вроде платоновских идей. Когда чело-
век наблюдает за реальными физическими предметами, они воз-
действуют на его органы чувств, и у него формируются представ-
ления об этих предметах. Точно так же, признав особую матема-
тическую реальность — универсум математических объектов, —
приходится признать у математиков наличие особой познава-
тельной способности, благодаря которой они постигают эту ре-
альность. И стихийная философия математики признает, что
ученые-математики с помощью какой-то внечувственной позна-
вательной способности типа интуиции (или, быть может, логи-
ки) могут созерцать свойства математических объектов. Так, из-
вестный математик Дж. Харди сравнивал математика с наблюда-
телем, который рассматривает горный хребет и описывает то,
что видит. Если он не может разглядеть чего-то из-за расстояния
или тумана, то прибегает к помощи приборов. Для математика
роль приборов в подобных случаях играют доказательства. В слу-
чае, когда математический факт можно усмотреть непосредст-
венно, никакого доказательства не требуется.
Если верить во все это, то парадоксы начинают выглядеть
свидетельствами того, что в некоторых случаях (например, когда
Речь идет о бесконечных совокупностях) математическая спо-
собность «плохо различает» и может ошибаться. Отсюда у мате-
матиков возникало чувство страха и неуверенности, коль скоро
Ненадежна та познавательная способность, которой наделил ма-
тематиков Господь Бог.
Скептические сомнения подрывают веру в обоснованность
’Побых результатов, и Витгенштейн пытается устранить их, про-
111
Философия науки
анализировав их мотивы и показав их безосновательность. С по-
мощью разнообразных примеров и вопросов Витгенштейн наво-
дит на мысль, что скептицизм относительно оснований матема-
тики вытекает из такой философии математики, которая
полагается на ложные аналогии, например: между математикой и
эмпирической наукой; между доказательством и эксперимен-
том; между конечными и бесконечными совокупностями.
Опровержения ложной аналогии между математикой
и эмпирической наукой, между доказательством
и экспериментом
Витгенштейн постоянно проводит мысль об отличии матема-
тического вычисления или доказательства от проведения экспе-
римента. Это отличие наглядно проявляется в реакции на не-
ожиданный результат. Если мы проводим математическое вы-
числение и его результат расходится с тем, что мы можем
наблюдать, то мы делаем вывод, что некорректно не вычисле-
ние, а наблюдение. Например, если мы складываем два яблока и
еще два яблока и, пересчитав кучку, обнаруживаем, что у нас три
яблока, мы не скажем: «Значит, 2 + 2 не всегда равно 4». Мы
просто скажем: «Одно яблоко пропало, хотя мы не успели этого
заметить». Данный пример показывает фундаментальную разни-
цу между математическими и эмпирическими (эксперименталь-
ными) предложениями. Она состоит не в формулировке, не в
используемых понятиях, но в употреблении соответствующих
предложений. Математические предложения так же не могут оп-
ровергаться экспериментами, как и предложение: «В одном мет-
ре сто сантиметров».
Раз математические предложения не могут опровергаться
фактами реальности, значит, они ничего не говорят о ней. По-
этому, утверждает Витгенштейн, математические предложения
вообще не могут быть названы предложениями. Это — правила,
чем и объясняется их неумолимость. Мы можем предсказать ре-
зультаты вычисления (измерения, взвешивания и пр.), потому
что, осуществляя эти процедуры, следуем тем правилам, на ко-
торых основаны наши предсказания.
Будучи правилами, математические теоремы указывают на
допустимые словосочетания. Когда входящий в них термин на-
чинает использоваться за пределами математики, то они дают
112
Часть I. Глава 4
возможность определить, какие фразы с этим термином осмыс-
ленны, а какие — нет. Геометрия не описывает кубы, сущест-
вующие в реальности, и не является наукой, изучающей и опи-
сывающей идеальные кубы. Она определяет смысл слова «куб» и
дает правила использования этого слова. Например, если нам
скажут: «У этого куба оказалось 13 ребер», то мы, не рассматри-
вая его, можем заявить: «Это невозможно. Либо у него 12 ребер,
либо это не куб».
Витгенштейновская трактовка математических предложений
заставляет по-новому посмотреть на значение и функции дока-
зательства. Если считать, что математические теоремы описыва-
ют особую математическую реальность, то доказательство будет
играть роль гаранта истинности подобного описания. Оно требу-
ется, если утверждение теоремы не очевидно. А для чего служит
доказательство, если мы признаем, что доказываемое предложе-
ние не может быть ни истинным, ни ложным? Оно служит для
установления смысла доказываемого предложения. Одновре-
менно оно позволяет формулировать новые языковые правила.
Математическое предложение не имеет определенного смыс-
ла до того, как оно доказано. Пониманию данного обстоятель-
ства, полагает Витгенштейн, мешает ложная аналогия: экспери-
мент верифицирует истинность физической гипотезы, а доказа-
тельство — теоремы. «Ни одно воззрение не сыграло такой
роковой для философского понимания математики роли, как
мнение, что доказательство и опыт являются двумя различными,
но сравнимыми методами верификации» [Ibid., 1973, р. 361]. Ко-
гда мы убеждаемся, что некоторое эмпирическое предложение
истинно (или ложно), это не влияет на его смысл, а просто до-
бавляет какую-то внеязыковую информацию. Совсем по-друго-
му обстоит дело с математическими предложениями. Здесь дока-
зательство влияет на словоупотребление. Мы можем осмыслен-
но говорить о кентаврах и единорогах, даже зная, что их не
существует. Но когда мы узнаем, что с помощью циркуля и ли-
нейки угол нельзя разделить на три равные части, то фраза:
«Я разделил этот угол на три равные части с помощью циркуля и
линейки» — будет не ложной, а бессмысленной. Естественная
Реакция на нее: «Вы допустили ошибку или не понимаете смыс-
ла данной задачи».
Следовательно, доказательства влияют на использование
языка. Они создают новые языковые правила. Так, когда была
113
Философия науки
доказана основная теорема алгебры (что уравнение степени п
имеет в точности п корней), то фактически было создано новое
исчисление. Данная теорема может показаться открытием не за-
висящей от нас истины об уравнениях, но это иллюзия, ибо тео-
рема зависит от решения математиков и введения символики для
комплексных чисел. Однако, для того чтобы обнаружить это, на-
до посмотреть на доказательство. Оно вписывает данное матема-
тическое предложение в систему других предложений и благода-
ря этому формирует его смысл.
Итак, Витгенштейн убеждает нас в том, что математические
предложения — это не идеализированные описания эмпириче-
ской реальности и не образы особой умопостигаемой реально-
сти. Они суть грамматические нормы, управляющие нашими
описаниями реальности.
С этим поначалу трудно согласиться. В самом деле, ведь ре-
альность упорно подтверждает правила арифметики, алгебры,
геометрии и прочих разделов математики. Например, часто ли
приходится сталкиваться с ситуацией, когда мы сложим два яб-
лока и еще два и обнаружим, что их у нас не четыре, а три или
пять. Поэтому нам трудно согласиться считать математические
законы чисто конвенциональными (ср. с позицией Пуанкаре).
Чтобы продемонстрировать конвенциональность принятой
арифметики, Витгенштейн пытается показать возможность дру-
гих способов счета или измерения. Он утверждает, например, что
можно вообразить себе, что все линейки делаются из эластично-
го материала. «Но ведь они будут давать ложные результаты!» —
так и хочется возразить ему. Однако разве есть такая вещь, как
«истинная» длина? Длина является результатом выбора опреде-
ленной единицы и процедуры измерения. Коль скоро они фик-
сированы, то относительно их становится возможным говорить
о правильных или неправильных результатах. Однако говорить
так о самих процедурах и единицах измерения бессмысленно.
Они могут быть только удобными и неудобными.
Витгенштейн утверждает также, что возможна арифметика, в
которой 2 + 2 = 3 или 5. «Но она будет неприменима!» — вос-
кликнем мы. Она не будет применима тем же способом, каким
применяется привычная арифметика, поправит нас Витген-
штейн. Однако возможно, что она будет применяться по-друго-
му, например, при пересчете предметов, которые могут испа-
ряться, сливаться с соседними или раздваиваться. Наша арифме-
114
Часть I. Глава 4
тика рассчитана не на такие объекты, а на твердые, четко
различимые и устойчивые предметы вроде палочек или кубиков,
на которых всех учат считать в детстве. Поэтому, если результаты
счета вдруг не согласуются с реальностью, мы не подвергаем со-
мнению арифметику, но заключаем, что пересчитываемые пред-
меты слишком отличаются от парадигмальных твердых неисче-
зающих объектов счета. Однако отсюда не следует, что не может
быть другого счета и других способов обучения. Просто мы не
назовем другой образ действий счетом, и это создает иллюзию,
что наша процедура счета является единственно правильным от-
ражением некоей реальности: умопостигаемого универсума чи-
сел и их отношений.
Счет является важной частью нашей жизненной активности.
Он применяется. Но это, как постоянно подчеркивает Витген-
штейн, не дает оснований говорить о его истинности. Поясняя
свою мысль, он даже предлагает такой пример: в некотором пле-
мени принято начинать (или не начинать) войну в зависимости
от результата шахматной партии. Здесь шахматы тоже применя-
ются. Но это не изменяет их природы. Шахматные правила суть
конвенции.
Но разве одни математические предложения не следуют из
других с логической необходимостью! Разве нет истины, соответ-
ствующей логическому выводу? Подобный вопрос Витгенштейн
парирует контрвопросом: а с чем мы вступим в противоречие,
если сделаем иной вывод? Каким образом, например, мы всту-
паем в конфликт с истиной, используя эластичные линейки?
Конечно, в этом случае будут получаться другие результаты. Но
разве есть «истинные» размеры?
Для пояснения этой мысли Витгенштейна можно привести
простые и известные всем примеры. Математики прошлого бы-
ли убеждены, что результата вычисления 3 - 5 не может быть.
Сейчас мы делаем это вычисление и пишем -2. Подобно этому,
математики прошлого считали, что у уравнения х2 + 1 = О нет
корней, тогда как современная математика утверждает, что у не-
го есть два «мнимых» корня. Выводы, таким образом, измени-
лись. Но где же здесь столкновение с реальностью? Его нет. Есть
Просто разные исчисления, имеющие разные применения.
Поэтому Витгенштейн и утверждает, что переход от одного
Математического предложения к другому в ходе математического
вывода опирается на принятые правила, которые в принципе
115
Философия науки
могли бы быть другими. Здесь нет особой, «оккультной», как он
выражается, связи между самими предложениями в цепочке вы-
вода. Предложения следуют друг из друга не сами по себе, а по-
тому, что у нас принята система, в которой есть правило, позво-
ляющее осуществлять такой вывод.
Аналогия между математикой и опытными науками приво-
дит и к вере в то, что математика описывает определенные объек-
ты. В начале XX в. такая вера подверглась суровому испытанию
из-за обнаружения парадоксов теории множеств. Ведь выясни-
лось, что теория множеств допускала и множества с противоре-
чивыми свойствами, тогда как противоречивые объекты с точки
зрения математики не существуют.
Эта ситуация породила различные попытки определения то-
го, что такое математическое существование. Велась активная
полемика между формалистами, для которых оно было равно-
сильно непротиворечивости, и интуиционистами, которые раз-
решали считать математический объект существующим, только
если имеется эффективный способ его построения. Интуицио-
нисты отвергали все доказательства существования «от против-
ного». Размышления Витгенштейна привели к выводу о непра-
воте обеих сторон. Неправомерны сами попытки определить,
что такое подлинное математическое существование.
Убеждение, что математическим понятиям-соответствуют
особые абстрактные сущности, вытекает, по утверждению Вит-
генштейна, из неправильного представления о значении. Счита-
ется, что существительное должно обозначать какой-то опреде-
ленный предмет или мысленный образ. В математических рассу-
ждениях, в отличие от обыденных, числа ведут себя как
существительные. Поэтому начинаются поиски предмета, кото-
рый соответствует числу и является его значением, подобно тому
как значением слова «яблоко» является реальное яблоко. По-
скольку ничего подходящего найти не удается, делается вывод,
что значениями слов, обозначающих числа, являются абстракт-
ные предметы. Фреге и Рассел предлагали в качестве таковых
множества эквивалентных множеств. Но, как объясняет Витген-
штейн, данное определение не объясняет природы натуральных
чисел, ибо основной способ установления эквивалентности ко-
нечных множеств — это их пересчет.
Как нам понять, что такое число? О чем говорит арифмети-
ка? Затруднение, полагает Витгенштейн, объясняется еще и тем,
116
Часть I. Глава 4
что математика окружена особым ореолом значительности. По-
этому он предлагает начать разговор не о математике, а о шахма-
тах. Попробуем вместо вопроса: «О чем арифметика?» — спро-
сить: «О чем шахматы?» Что такое шахматная фигура? Очевидно,
что не кусочек дерева или слоновой кости, а нечто большее, для
чего фигурка выступает только знаком. В то же время мы пони-
маем, что она не является знаком какого-то идеального объекта.
Шахматная фигура, знаком которой выступает данная фигурка,
определяется через ее роль в системе правил шахматной игры. Ни-
какого самостоятельного значения она не имеет. То же можно
сказать и о любом математическом понятии. Его значение — это
его употребление в соответствующей математической теории.
Однако шахматы не имеют применений, а арифметика или
геометрия имеют. Поэтому люди относятся к первым и вторым
по-разному и не замечают, что проблема их значения решается в
данном случае аналогично.
Математические объекты и факты конструируются доказа-
тельствами, которые включают их в определенную теоретиче-
скую систему и тем самым дают им жизнь. Витгенштейн подчер-
кивает, что доказательство не уточняет старые понятия, но про-
сто создает новые. Доказательство определяет также правила
употребления математического утверждения. До доказательства
математический объект или факт просто не существуют, подоб-
но тому как шахматные фигуры не существовали до того, как по-
явились правила шахматной игры. А математические теоремы до
доказательства — это правила, о которых еще не известно, из ка-
кой они игры, т. е. нечто, не обладающее смыслом. Смысл будет
создан доказательством. Новые методы доказательства изменя-
ют его.
Парадоксальным следствием витгенштейновских рассужде-
ний оказывается вывод, что доказательство всегда доказывает не
то, что собирались доказать. Результат — это осмысленное мате-
матическое утверждение, а доказывалось предположение; оно
является всего лишь цепочкой символов, вызывающих у матема-
тиков определенные ассоциации. Математическое предположе-
ние, которое еще надо доказать, есть просто некий замысел.
Для Витгенштейна оказывается очень важной также и та
Мысль, что доказательства бывают разными. Более того, «каждое
Новое доказательство расширяет в математике понятие доказа-
тельства» [Ibid., 1982, р. 10].
117
Философия науки
Возьмем теоремы о существовании. Интуиционисты и конст-
руктивисты утверждали, что они должны давать метод построе-
ния того объекта, существование которого доказывается. Иначе
теоремы существования не имеют смысла. Но почему, спраши-
вает Витгенштейн, доказательства существования должны быть
построениями? Защитники такого мнения убеждены, что знают,
в чем состоит математическое существование, и поэтому могут
судить, какие из доказательств являются доказательствами суще-
ствования. Но «если бы была такая вещь, как существование...
тогда можно было бы говорить, что каждое доказательство суще-
ствования должно делать то-то и то-то... каждое доказательство
существования отличается от другого, и каждая «теорема суще-
ствования» имеет свой смысл, соответствующий тому, может
или не может быть построено то, существование чего доказыва-
ется» [Ibid., 1982, р. 117]. «В действительности существование —
это то, что доказывается теоремами, называемыми теоремами
существования» [Ibid., р. 374]. Отрицание неконструктивных до-
казательств опирается на своего рода «натурализм» в понимании
математических объектов: как будто можно непосредственно их
узреть, а потом отобрать доказательства, которые доказывают
именно существование, а не что-то другое.
Итак, Витгенштейн заявляет, что для понимания любого ма-
тематического утверждения надо обратиться к его доказательст-
ву. Однако результаты доказательств или вычислений формули-
руются в языке как самостоятельные предложения. Этим созда-
ется опасная языковая ловушка, способная порождать мифы
относительно смысла таких предложений. Поэтому нельзя абсо-
лютизировать формулировку теоремы и рассматривать ее как
описание некоторого независимого факта. «Если ты захочешь
знать, что означает выражение «непрерывность функции», по-
смотри на доказательство ее непрерывности; оно покажет тебе,
что было доказано» [Ibid., 1973, р. 369—370]. Витгенштейн по-
стоянно подчеркивает, что в математике «средства и результат —
это одно и то же. Как только я начинаю различать средства и
результат, это уже не математика» [Ibid., 1976, р. 53].
Позиция, согласно которой математика есть наука, описы-
вающая особые, независимо от этих описаний существующие
объекты, и до сих пор остается привлекательной для многих мате-
матиков и философов математики. Такая позиция называется ма-
118
Часть I. Глава 4
тематическим платонизмом, или математическим реализмом (ряд
концепций и авторов названы в [Барабашев, 1991, с. 82—83]).
Например, В.Я. Перминов утверждает: «Мы можем говорить
о реальности первичных математических объектов, во-первых, в
том смысле, что они являются элементами онтологически детер-
минированных понятийных систем. Арифметика и элементар-
ная геометрия реальны, поскольку они порождены представле-
ниями идеальной предметности в качестве их формального кор-
релята. Евклидова геометрия, несомненно, реальна, ибо она
имеет онтологический статус, которого не имеет никакая другая
геометрия» [Перминов, 1999, с. 96].
С.С. Демидов отмечает, что «вера в то, что математические
сущности некоторым образом предшествуют нашим математи-
ческим изысканиям, разделяется большинством математиков.
Это уже другой вопрос: какой смысл мы вкладываем в слово
«предшествуют»? Считаем ли мы, как платоники, что они обра-
зуют некоторый существующий независимо от нас мир, знаком-
ство с которым дается нам особой формой внутреннего зре-
ния — интуицией, или же предполагаем, что сущности эти суть
законы, по которым построен мир в итоге акта божественного
Творения или в результате естественной эволюции» [Демидов,
2001, с. 145].
Особые математические объекты требуются потому, что, с
одной стороны, невозможно трактовать математические теории
как описания реальных объектов физического мира. В истории
философии неоднократно выдвигались доводы, показывающие
эту невозможность. Напомним хотя бы о том, что математиче-
ские теории, в отличие даже от самых абстрактных теорий мате-
матической физики, не проверяются экспериментами. И невоз-
можно представить себе, чтобы математическая теория была от-
брошена, потому что ее утверждения противоречат данным
опыта и наблюдения.
С другой стороны, математические утверждения никоим об-
разом не произвольны. Математик не свободен изобретать лю-
бые объекты с любыми свойствами и отношениями. Поскольку
°н не свободен, у него складывается убеждение, что он открыва-
ет свойства математических объектов, а не изобретает их. На
этот факт неоднократно обращали внимание математики и фи-
лософы. Многим из них представлялось, что единственным спо-
еобом объяснения всего этого может быть только допущение не-
119
Философия науки
зависимого идеального существования математических объектов
как сущностей особого рода.
Такого убеждения придерживается, например, известный
математик, автор знаменитой теоремы о неполноте формализо-
ванной арифметики, Курт Гёдель. Свое убеждение он сформули-
ровал в статье «В чем состоит канторовская проблема континуу-
ма?» {Giidel, 1964]. Он отталкивался от обсуждения вопроса: воз-
можны ли разные теории множеств (с канторовской гипотезой
континуума или с ее отрицанием1), подобно тому как недоказуе-
мость пятого постулата Евклида открыла путь для построения
разных геометрий? В самом деле, из доказательства независимо-
сти континуум-гипотезы следует возможность построения аль-
тернативных теорий множеств, а из этого обстоятельства весьма
естественно было бы заключить, что теория множеств (и соот-
ветственно множество как математический объект) является
конструкцией математика, а не описанием особой реальности.
На такой вывод наталкивает аналогия с геометрией. Ведь неевк-
лидовы геометрии очевидно являлись конструкциями математи-
ков. Позднее вопрос об истинности определенной геометриче-
ской теории оказался перенесенным в плоскость физического
рассмотрения. Физика, а не математика решает сейчас, какая из
геометрий истинна в смысле соответствия реальности. Но объ-
екты теории множеств, напоминает Гёдель, не принадлежат фи-
зической реальности. Тем не менее, утверждает он, «несмотря на
их удаленность от чувственного опыта, у математика есть что-то
вроде восприятия также и для этих объектов, ибо аксиомы тео-
рии множеств как бы сами навязываются нам в качестве истин-
ных. Я не вижу, — говорит далее Гёдель, — никаких причин, по-
1 Георг Кантор ввел понятие мощности множества как его количественной
характеристики. «Самой маленькой» из всех бесконечных мощностей является
мощность ряда натуральных чисел. Она обозначается как%0. Кантор доказал так-
же, что мощность множества всех подмножеств некоторого множества М больше
мощности М. Мощность множества всех подмножеств %0 обозначается как %,-
Мощность множества всех действительных чисел называется мощностью конти-
нуума и обозначается как с. Кантор высказал предположение, являющееся на
первый взгляд совершенно естественным, что %, = с. Это предположение и полу-
чило название «континуум-гипотеза». Несмотря на всю его естественность, в
1963 г. было доказано (П.Дж. Коэн), что как континуум-гипотеза, так и ее отри-
цание совместимы с ZF (наиболее принятая в настоящее время аксиоматическая
формулировка теории множеств). Следовательно, можно строить различные тео-
рии множеств, добавляя к ZF или континуум-гипотезу, или ее отрицание.
120
Часть I. Глава 4
•хгг/. ~ Г" --.-г-
чему этому виду восприятия, т. е. математической интуиции, мы
должны доверять меньше, чем тем восприятиям, которые приво-
дят нас к построению физических теорий и к ожиданию, что бу-
дущий чувственный опыт согласуется с ними. Парадоксы теории
множеств являются математически не более серьезной пробле-
мой, чем обман чувств для физики» [Ibid., 1964, р. 271].
Весьма любопытно дальнейшее развитие Гёделем этой ана-
логии. Математическая интуиция, говорит он, необязательно
должна мыслиться как способность непосредственного знания о
множествах. Ведь и знание о физических объектах не является
непосредственным знанием о чувственных восприятиях. Абст-
рактные элементы математики не являются чисто субъективны-
ми, «скорее они тоже представляют какой-то элемент объектив-
ной реальности, но, в отличие от ощущений, присутствие их в
нашем знании объясняется каким-то особым видом отношения
между ними и реальностью» [Ibid., р. 272]. В связи с этим Гёдель
ссылается на И. Канта, утверждая, что существует глубокая ана-
логия между понятием множества (в его понимании) и катего-
риями чистого рассудка в смысле Канта; функцией и первого, и
вторых является синтез многообразного.
Позиция математического реализма, защищаемого Гёделем,
применительно к канторовской континуум-гипотезе будет озна-
чать уверенность в том, что в правильной теории множеств са-
мой по себе является фактом истинность или неистинность кон-
тинуум-гипотезы. Задача математика — «разглядеть» этот факт и
затем выразить его, переформулировав принятые аксиомы или
введя новые. Эта позиция продолжает обсуждаться в современ-
ной литературе по философии математики. Так, П. Мэдди на
основе подобной аналогии между математическими и физи-
ческими науками формулирует позицию «теоретико-множест-
венного реализма», или «платонизма» [Maddy, 1981]. «Централь-
ным для этой концепции является убеждение, что математические
Утверждения либо истинны, либо ложны, что их истинностные
значения зависят от свойств независимо существующих матема-
тических объектов (а не от структуры человеческого интеллекта,
особенностей языка и пр.) и не зависят от нашей способности
(или неспособности) определять, каковы именно эти истинност-
ные значения» [Ibid., 1981, р. 495].
Еще один современный исследователь, Марк Стейнер [Steiner,
1983], показывая, что понятие существования может охватывать
Разные типы существования (например, по-разному существуют
121
Философия науки
кусок сыра и дырочки в нем), выделяет понятие реального суще-
ствования и предлагает для него следующий критерий: реально
существующим является то, чему можно давать разные незави-
симые (т. е. принадлежащие разным концептуальным схемам
или теориям) описания. Подобный критерий мотивируется тем,
что «быть реальным — значит быть независимым... от нашей
концептуальной схемы...» [Ibid.]. Далее Стейнер утверждает, что
можно найти основания для утверждения о реальном существо-
вании математических объектов, ибо, как он полагает, можно
доказать, что их существование независимо от наших концепту-
альных схем, если только будет показано, что для математиче-
ских объектов могут быть даны различные независимые описа-
ния. А признание их реального существования необходимо, по-
лагает он, ибо как иначе можно было бы объяснить открытия в
математике. В качестве яркого примера подлинного открытия он
предлагает формулу: е'" +1 = 0. Такая простая и элегантная связь
этих важнейших математических констант действительно не-
ожиданна. Каждая из них вводилась в математике совершенно
независимо от других. Возможность появления их в одной фор-
муле обусловлена тем, что для к, е, i имеются независимые опи-
сания. Например, п определяется в геометрии как отношение
окружности круга к диаметру, а в теории комплексных чисел для
него принимается другое описание: arg(—l)= л.
Пример Стейнера, конечно, обращает на себя внимание. Но
все же его аргументация нам представляется недостаточно убе-
дительной. В самом деле, если для к имеется и другое определе-
ние, помимо исходного геометрического, этого еще недостаточ-
но для утверждения, что л вообще существует независимо от да-
ваемого математиками определения. К тому же еще вопрос: в
каком смысле определение л в теории комплексных чисел неза-
висимо от геометрического (не имело его в виду, не было ориен-
тировано на согласование с традиционным определением?)
Анализируя аргументацию Гёделя, Стейнера и других защит-
ников математического реализма, С.С. Демидов утверждает:
«...за реалистической позицией скрываются очень сильные аргу-
менты. С другой стороны, сколь бы основательными они ни вы-
глядели, даже взятые в своей совокупности, доказательством
они не являются. Впрочем, доказательств здесь и быть не может.
К тому же в пользу антиреалистической конструктивной пози-
ции (...предполагающей, что математические сущности и теории
являются свободными конструкциями человеческого разума)
122
Часть I. Глава 4
также выдвигаются серьезнейшие аргументы. Причем выдвига-
ли их такие крупнейшие математики, как, например, А.А. Мар-
ков, имевшие большой опыт работы в классической математи-
ке... Основной, на мой взгляд, аргумент здесь все тот же, к ко-
торому мы прибегали для защиты позиции реализма: опыт
работающих математиков, конструировавших свои результаты.
Даже самые убежденные реалисты имеют в своем непосредст-
венном творчестве опыт свободного математического конструи-
рования. Особенно большой простор возможностям такого кон-
струирования предоставляет современный аксиоматический ме-
тод...» [Демидов, с. 150].
Демидов предлагает соединить обе интерпретации математи-
ки. Тогда это будет выглядеть следующим образом: существует
Математика как таковая — мир независимых математических
сущностей. А люди-математики в конструкциях своего ума пы-
таются все точнее воссоздать ее. «Математика с большой буквы
является для нас некоторым возможно (или даже — скорее все-
го) недостижимым идеалом. Если Математику мы открываем, то
математику строим» [Там же, с. 152]. В результате получается
картинка, полностью соответствующая наивно-реалистическим
представлениям о том, как развиваются естественные науки.
Все это показывает, что витгенштейновский анализ той ро-
ли, которую играют в философии аналогии между математикой
и естественными науками, до сих пор актуален. Похоже, что ма-
тематический платонизм просто обречен возрождаться снова и
снова. Один из современных исследователей, М. Маховер, видит
причину его живучести в том, что математический платонизм
подкрепляется определенными чертами самой математической
деятельности, а именно неизбежным процессом отчуждения ре-
зультатов математической деятельности от породившего их ума.
Результаты, полученные любым членом математического сооб-
щества, реифицируются, т. е. представляются как обладающие
собственными законами и развитием. Таким образом, корень
математического платонизма видится Маховеру в социальной
природе математики, которую не осознают сами члены матема-
тического сообщества. Эти рассуждения достаточно близки духу
витгенштейновских заметок по философии математики1.
1В то же время надо отметить, что в современной литературе присутствует и
•Фитика математического платонизма. См., например: Розов, 1989; Kitcher, 1978 и
Многие другие.
123
Философия науки
Проблема бесконечности
Проблема бесконечности является едва ли не самой захваты-
вающей проблемой философии математики, причем не только
для философов, но, как показал кризис в основаниях математи-
ки, и для самих математиков. И для тех, и для других бесконеч-
ность подчас становилась источником терзаний и мучений.
Лекарство от этих мучений, по мнению Витгенштейна, заключа-
ется в том, чтобы «подчеркивать различия там, где обычно заме-
чают сходство». Следуя этому принципу, Витгенштейн, напри-
мер, фиксирует внимание на различиях между периодическими
и непериодическими бесконечными дробями. Конечно, сама
математика стремится к единой трактовке всех чисел. Однако,
полагает Витгенштейн, такая тенденция приводит к серьезным
философским недоразумениям. Затруднения здесь связаны с
оборотом «и так далее до бесконечности» и его грамматикой. Ко-
гда мы продолжаем «до бесконечности» периодическую дробь,
то, определив период, уже можем делать предсказания относи-
тельно всего бесконечного продолжения. Например, мы можем
сказать, что в десятичном разложении дроби 1/3 нигде не встре-
тится двойка. Как нам дано знание того, что произойдет в беско-
нечности? Ответ на подобный вопрос нашелся бы без труда, если
бы не мешала аналогия с продолжением в бесконечность ирра-
ционального числа. Из-за нее мы начинаем представлять себе
дело так, как будто речь идет о бесконечности в одном и том же
смысле. Тогда наша способность предсказывать, какие цифры
будут появляться в бесконечном продолжении периодических
дробей, начинает выступать как свидетельство того, что,беско-
нечный процесс является завершенным, и божественный разум
может обозреть его целиком в любом случае, а мы — только то-
гда, когда имеем дело с периодическими дробями. При этом еще
не выполненное разложение (например, разложение числа к до
стомиллионного знака) рассматривается как уже существующее.
Игнорирование специфики различных употреблений выраже-
ния «и так далее до бесконечности» способно породить иллю-
зию, что не вычисленные члены бесконечной последовательно-
сти уже имеются и подразумеваются.
Самый лучший способ убедиться, что равенство a = b имеет
разный смысл для случаев, когда а и b рациональны и когда они
иррациональны, — это посмотреть на способы проверки равен-
ства в обоих случаях.
124
Часть I. Глава 4
Слово «бесконечность» имеет разные употребления, которые
не надо путать или отождествлять. Например, сказать, что в бес-
конечном разложении дроби 1/3 не встретится цифра 2, — зна-
чит сказать, что ее нет в периоде: и это все содержание данного
утверждения. Иррациональные числа являются процессами. Мы
не можем сказать, какая цифра стоит на стомиллионном месте в
десятичном разложении некоторого числа, не потому, что наш
разум не может, подобно божественному, обозревать завершен-
ную бесконечную совокупность, а потому, что это разложение
пока еще не существует.
В аналогичном ключе Витгенштейн анализирует общие
арифметические предложения типа: «Для всякого х Ах». Он под-
черкивает, что грамматика подобных предложений различна в
зависимости от того, пробегает ли х по конечным или по беско-
нечным областям. Чтобы убедиться в этом, надо обратить вни-
мание на употребление предложения и прежде всего на способы
его проверки: «Прежде чем говорить обо «всех этих объектах»
или «совокупности этих объектов», я обязан хорошенько пораз-
мыслить над тем, каким условиям должно удовлетворять в этом
случае употребление слов «все» и «совокупность» [ Wittgenstein,
1973, р. 457]. Бытует ложное представление, что процедура про-
верки общих бесконечных предложений аналогична проверке
конечных и состоит в последовательной проверке всех единич-
ных предложений А(1), А(2), А(3)... и т. д. до бесконечности. При
этом считается, что проверка бесконечных предложений отлича-
ется от проверки конечных только практической невозможно-
стью осуществить бесконечный перебор из-за нехватки времени
и бумаги. При этом «то, что называется «логической невозмож-
ностью», смешивается с физической невозможностью» [Ibid.,
1973, р. 452]. То есть бесконечное в математическом смысле пони-
мается как чрезвычайно большое. И тогда начинает казаться, что
трудность, связанная с проверкой бесконечного числа единич-
ных предложений, в принципе не отличается от затруднения при
проверке очень большого, но ограниченного числа высказыва-
ний и упирается только в нехватку времени и бумаги. Дело же в
том, что предложения о бесконечном множестве и об «очень
большом конечном» имеют разную природу.
Игнорирование различия между ними укрепляет веру в то,
что бесконечное лежит в одном ряду с конечным, только дальше;
бесконечное начинается тогда, когда кончается конечное, а это
125
Философия науки
очень-очень далеко. Вспомним упоминавшееся выше сравнение
Дж. Харди: математик подобен путешественнику, который на-
блюдает и описывает горную цепь. Ему просто описать то, что он
видит ясно, но с самыми отдаленными вершинами могут возни-
кать затруднения. А тогда, если продолжить сравнение Харди,
насколько значительными будут затруднения при описании бес-
конечно удаленных вершин! Ведь это так далеко! В такой дали, ко-
нечно же, наше умственное зрение плохо различает математиче-
ские факты и может подвести нас, как это показали парадоксы
теории множеств. Парадоксы начинают восприниматься как
свидетельство того, что «в бесконечности» мы «плохо различа-
ем» и можем ошибиться. Отсюда у математиков возникает чувст-
во неуверенности. Рассуждения Витгенштейна преследуют тера-
певтическую цель: внести успокоение. Для этого он стремится
отделить математическое понятие бесконечности от ассоциаций
с чем-то предельно большим или крайне удаленным: «Представ-
ление о бесконечности как о чем-то огромном производит очень
сильное впечатление на некоторых людей, и их интерес связан
именно с такой ассоциацией... Без ассоциации с чем-то огром-
ным никто и внимания не обратил бы на бесконечность» [Ibid.,
1982, р. 194], ибо «бесконечность вообще не связана с размером»
[Ibid., р. 189], она связана с оперированием определенными сим-
волами по определенным правилам, и в самом этом оперирова-
нии нет ничего бесконечного. Например, вычисление предела
функции f (х) при х -»о» есть манипулирование формулами по
определенным правилам и не предполагает ассоциации между
-»оо и «чем-то огромным». Математическая бесконечность, го-
ворит Витгенштейн, вообще не является количеством. Поэтому
грамматика слова «бесконечное» отличается от грамматики слов,
обозначающих числа.
Витгенштейн заметил однажды, что математикой иногда за-
нимаются из-за особого эстетического наслаждения, доставляе-
мого ею. Причем иногда, в случае исчислений, не имеющих
практического применения, эстетическое наслаждение вообще
становится определяющим мотивом работы. Тогда, предостере-
гает Витгенштейн, это может привести к серьезным недоразуме-
ниям, потому что особое очарование имеют результаты, вы-
зывающие своего рода головокружение от неожиданности и
непостижимости полученных открытий. Лекарство от голово-
126
Часть I. Глава 4
кружения состоит в том, чтобы не принимать за открытие про-
стую переинтерпретацию понятий [Ibid., 1976, р. 14 ff].
Замечание Витгенштейна об исчислениях, которые строятся
в основном ради получения особых эстетических переживаний,
«головокружений», и о таящейся в этом опасности раскрывает
его отношение к теории множеств Г. Кантора и ее поразитель-
ным результатам (например, различению бесконечностей раз-
личной мощности и установлению того факта, что бесконечно-
сти, подобно натуральным числам, можно упорядочить по вели-
чине). Витгенштейн выступав г не против теории Кантора как
некоторого формализма (верный своему принципу, что филосо-
фия не должна пересматривать существующую математику), а
против той ее интерпретации, в которую верил Кантор.
Интерпретации, которые сами математики дают своим сим-
волизмам, Витгенштейн называл «прозой» и считал, что именно
эта «проза» создает концептуальную путаницу, требующую фи-
лософского вмешательства. «Проза» Кантора состояла в том, что
он принимал некую онтологическую аналогию между натураль-
ными и трансфинитными числами. Для Кантора трансфинит-
ные числа были реальны в том же смысле, что и обычные нату-
ральные. Однако эта «проза» не определяет построенную им
систему, ибо у него трансфинитные числа представляют собой
бесконечные последовательности следующих друг за другом чи-
сел, т. е. явно принадлежат иной грамматической категории, не-
жели натуральные числа. Поэтому Кантор не имеет права упот-
реблять понятия «больше» и «равно» одновременно и для конеч-
ных, и для трансфинитных чисел, ибо они имеют различный
смысл в первом и во втором случае. Если отказаться от уподоб-
ления этих случаев, то исчезает видимая головокружительность
результатов Кантора, например открытие того, что мощность со-
вокупности точек отрезка [0, 1] «равна» мощности совокупности
точек квадрата со стороной [0, 1].
Подведем итог: для Витгенштейна математика — это не опи-
сание какой-то особой идеальной реальности, а человеческая
конструкция. Она свободна в том смысле, что не детерминирует-
ся никакой реальностью — ни материальной, ни идеальной.
По отношению к естественным наукам и повседневным рас-
суждениям математика является частью их «грамматики». Она
Дает правила, которым должны подчиняться осуществляемые в
Иих рассуждения о реальности. Невозможно говорить о соответ-
127
Философия науки
ствии или несоответствии этих правил и реальности, ибо они как
раз являются частью того концептуального каркаса, в рамках ко-
торого только и можно ставить вопрос о соответствии или несо-
ответствии реальности тех или иных фрагментов человеческого
знания.
В то же время деятельность любого математика несвободна в
том смысле, что подчиняется принятым математическим прави-
лам, которые носят достаточно жесткий характер. Можно сказать,
что для Витгенштейна математика — это оперирование с языко-
выми символами, подчиняющееся определенным правилам.
Обсуждая проблемы математических теорий, Витгенштейн
постоянно употребляет термин Kalkiil, который в зависимости
от контекста надо понимать как «исчисление» или «вычисле-
ние». В любом случае это манипулирование с математическими
формулами по определенным правилам. Поэтому для Витген-
штейна любая математическая деятельность выступает как вы-
числение. Инженер по первоначальному образованию, Витген-
штейн постоянно подчеркивает этот операциональный характер
математики. «Математика целиком состоит из вычислений», —
говорит он [Ibid., 1973, р. 468]. Математика видится ему как пе-
страя совокупность разнообразных техник. Поэтому она ничего
не описывает. Достоверность математических предложений со-
стоит в том, что в них нельзя сомневаться. Не потому нельзя, что
они якобы имеют абсолютно незыблемое обоснование, а пото-
му, что правила — неподходящий объект для сомнения. Матема-
тика есть система правил, и этим объясняется ее природа, а также
дается решение «проблемы обоснования». Математика достовер-
на, ибо не подлежит сомнению. Но ее достоверность имеет со-
всем иную природу, нежели достоверность эмпирических наук.
Однако тот факт, что математик, работая в определенной
системе правил, уже не свободен получить такой-то либо проти-
воположный результат, порождает впечатление, что математика
есть описание независимо от математиков существующей реаль-
ности. Вообще, по мнению Витгенштейна, любые знаковые сис-
темы способны порождать подобные представления. Поэтому от
человека, занимающегося любым видом интеллектуальной дея-
тельности, будь он философом, математиком или физиком, по-
стоянно требуется усилие воли, чтобы не попасть под власть ме-
тафизических иллюзий.
128
Часть I. Глава 4
4.4. Поздняя философия Витгенштейна
В своей поздней философии (с 1930-х гг.) Витгенштейн отка-
зался от тезиса, что имеются простые элементы языка, простые
элементы реальности и простое отношение между ними. Он стал
подчеркивать относительность понятий «простое» и «сложное».
Далее, он отказался от тезиса, что язык есть образ и что функция
языка — изображение фактов реальности.
Философы традиционно объясняли сущность языка на при-
мере существительного (или, в логической терминологии, име-
ни), обозначающего какой-то предмет. Классическим примером
было слово «стол». Его значение можно объяснить с помощью
указывающего жеста и слов: «Это — стол» (так называемое «ос-
тенсивное определение»). Подобный пример побуждал к пред-
ставлению, что слова языка по сущности являются, так сказать,
ярлыками для обозначения реальных или абстрактных пред-
метов.
Витгенштейн же подчеркивает теперь многообразие функций
языковых выражений и соответственно многообразие отношений
между знаком и тем, к чему этот знак относится. Витгенштейн
предлагает такой образ языка: «Представь себе инструменты, ле-
жащие в специальном ящике. Здесь есть молоток, клещи, пила,
отвертка, масштабная линейка, банка с клеем, гвозди и винты.
Насколько различны функции этих предметов, настолько раз-
личны и функции слов. (Но и там, и здесь имеются также и сход-
ства.) Конечно, нас вводит в заблуждение внешнее подобие
слов, когда мы сталкиваемся с ними в произнесенном, письмен-
ном или печатном виде. Ибо их применение не явлено нам столь
ясно. В особенности когда мы философствуем» [Витгенштейн,
1994 в, с. 84-85].
Для иллюстрации своей мысли Витгенштейн конструирует в
качестве примера некоторый фрагмент деятельности, в котором
Употребляется определенный фрагмент языка. Такие фрагменты,
выступающие моделями разных употреблений языка, он назвал
«языковыми играми». Смысл этого названия состоит в напомина-
нии о том, что дети усваивают значения слов в ходе определенных
игр, определенных видов деятельности. «Языковой игрой, — гово-
рит Витгенштейн, — я буду называть также целое: язык и дейст-
вия, с которыми он переплетен» [Там же, с. 83].
5
Философия науки
129
Философия науки
Его пример таков: «Этот язык должен обеспечить взаимопо-
нимание между строителем А и его помощником В. А возводит
здание из строительных камней — блоков, колонн, плит и балок.
В должен подавать камни в том порядке, в каком они нужны А.
Для этого они пользуются языком, состоящим из слов «блок»,
«колонна», «плита», «балка». А выкрикивает эти слова, Б достав-
ляет тот камень, который его научили подавать при соответст-
вующей команде. Рассматривай это как завершенный прими-
тивный язык» [Там же, с. 81]. Что означают слова этой языковой
игры? Они не являются «ярлыками» для обозначения объектов.
У них своя, особая функция.
Языковую игру строителя и его помощника можно обога-
щать и усложнять, добавляя обозначения для натуральных чи-
сел, цветов и слова типа «туда», «сюда». Теперь строитель может
говорить более сложными фразами, например: «Три красные
плиты — туда!» Что обозначают слова этого языка? Слова «туда»
и «сюда» нельзя трактовать как знаки, представляющие в пред-
ложении определенные предметы. Не поддаются такой трактов-
ке и числительные.
А что мы скажем относительно значения слова «красное»?
Не является ли оно «ярлыком» для обозначения свойства крас-
ноты, данного нам в чувственном опыте? Чтобы разобраться со
значением слова «красное», Витгенштейн предлагает посмотреть
на то, как ребенок усваивает значение данного слова. На первый
взгляд ответ кажется очевидным и банальным: ребенку показы-
вают что-то красное и называют его. То есть представляется, что
значения слов типа «красное» (обозначающих чувственные дан-
ные) задаются остенсивно, т. е. с помощью указующего жеста и
фразы: «Вот это называется красным». Но к чему относится сло-
во «это»? Как может обучающийся ребенок сразу понять, что
данное слово относится к цвету, а не к форме или назначению
предмета?
Представим себе далее такую попытку преодолеть данную
неопределенность: «этот цвет (указывающий жест) называется
«красное». Подобное уточнение равносильно предположению,
что ребенок уже владеет употреблением слова «цвет». Вера в то,
что для задания значения достаточно остенсивного определе-
ния, неосознанно опирается на предположение, будто ребенок
уже владеет собственным языком, грамматическая структура и
категории которого идентичны нашему. Он как будто уже знает,
130
Часть I. Глава 4
чем отличаются, например, числа от цветов или форм, знает, что
употребление выражений любой категории управляется особы-
ми правилами. Обучение языку представляется как обучение пе-
реводу с этого внутренне присущего ребенку языка на наш об-
щедоступный язык.
Витгенштейн же показывает, что обучение языку есть «на-
таскивание» на правильное употребление языка во всех соответ-
ствующих ситуациях. Овладение языком есть овладение опре-
деленной техникой, а овладение значением слова, введенного
остенсивно, есть элемент этой техники. Поясняя это, Витген-
штейн приводит пример объяснения того, что такое шахматный
король. Остенсивное определение, т. е. указание на фигурку и
фраза «Это король», имеет смысл только тогда, когда для данно-
го понятия, так сказать, «приготовлено место»: тот, кому объяс-
няют, представляет себе, в чем заключается шахматная игра.
Идея Витгенштейна состоит в том, что значение любого
слова подобно значению выражения «шахматный король». Оно
зависит от правил той языковой игры, в которой употребляется
слово. Шахматный король не существует сам по себе; его суще-
ствование определяется тем, что люди создали систему правил
шахматной игры. Витгенштейн стремится подвести нас к мыс-
ли, что то же самое верно относительно многого из того, что мы
привыкли считать объектами и чертами самой реальности. Ре-
альность не существует для нас помимо способов ее восприятия
и описания. Витгенштейн исходил из этого в «Логико-фило-
софском трактате». В его поздней философии к этому добави-
лось допущение многообразия языков и их структур.
Один из аргументов в пользу того, что мы имеем дело не с
миром самим по себе, а с миром, увиденным и понятым опре-
деленным образом, связан с анализом слова «видеть». Витген-
штейн выделяет два значения этого слова: видеть что (т. е. ви-
деть некоторую вещь или факт) и видеть как (т. е. видеть вещь
или факт в определенном аспекте, оп- _
Ределенным образом). Последний тип Z*' 'Ч
вйдения Витгенштейн иллюстрирует )
Известными опытами с картинками, ~ (
На которых можно видеть то утку, то /
Кролика (рис. 4.1). \ |
Этот пример служит для иллюстра- ’ ’
Нии тезиса, что не бывает вйдения в Рис. 4.1
s' 131
Философия науки
первом смысле без вйдения во втором. Например, мы видим че-
ловека — это «вйдение что». А потом видим, как он похож на
своего отца, — это «вйдение как». Но что изменилось в самом
акте чувственного восприятия? Чувственное восприятие оста-
лось тем же самым. Поставим теперь более общий вопрос: ви-
деть человека — не значит ли видеть нечто как человека, т. е. ви-
деть в определенном аспекте? И наконец, принципиальный во-
прос: видим ли мы вообще окружающий мир, как он есть сам по
себе, или всегда в определенном аспекте?
Эти рассуждения Витгенштейна оказали влияние на филосо-
фов-постпозитивистов, выдвинувших тезис о теоретической на-
груженности языка наблюдения. Например, Т. Кун, раскрывая
свое понимание научной революции как изменения способа
ученых видеть мир, пишет: «То, что казалось ученому уткой до
революции, после революции оказывалось кроликом. Тот, кто
сперва видел наружную стену коробки, глядя на нее сверху,
позднее видел ее внутреннюю сторону, если смотрел снизу»1.
Здесь Кун как раз ссылается на излюбленные примеры Витген-
штейна, на которых он демонстрировал смену аспекта вйдения.
Итак, мы всегда имеем дело с реальностью, определенным
образом увиденной, понятой или описанной. Правила наших
«языковых игр» оказывают определяющее влияние на то, каким
образом мы видим реальность, потому что, как уже говорилось, у
нас есть склонность предполагать за каждым существительным
какой-то (реальный или абстрактный) предмет, являющийся его
значением, тогда как значения слов конституируются правилами
языковой игры, и в этом смысле Витгенштейн говорит, что зна-
чение — это употребление.
Для иллюстрации он приводит пример слова «игра».
«Я имею в виду, — пишет он, — игры на доске, игры в карты,
с мячом, спортивные игры и т. д. Что общего у них всех? — Не
говори: «В них должно быть что-то общее, иначе их не называли
бы «играми», но присмотрись, есть ли что-нибудь общее для них
всех. Ведь, глядя на них, ты не видишь чего-то общего, присуще-
го им всем, но замечаешь подобия, сходства, и причем целый ряд.
Как уже было сказано: не думай, а смотри! Погляди, например,
на игры на доске с их многообразными сходствами. Затем перей-
ди к карточным играм: здесь ты найдешь множество соответст-
1 Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 145.
132
Часть I. Глава 4
вИЙ с первой группой, но много общих черт исчезнет, зато поя-
вятся другие. Если мы далее обратимся к играм в мяч, кое-что
общее сохранится, но многое утратится. Все ли они «развлека-
тельны»? Сравни шахматы и «крестики-нолики». Или: всегда ли
есть победа и поражение или соперничество между игроками?
Подумай о пасьянсах. В играх с мячом есть победа и поражение;
но если ребенок бросает мяч в стену и ловит его, то этот признак
Исчезает. Посмотри, какую роль играют ловкость и удача.
И сколь различны ловкость в шахматах и ловкость в теннисе. Те-
перь подумай о хороводах: здесь есть элемент развлечения, но
как много других черт исчезло! И таким образом мы можем
пройти через многие и многие группы игр. И увидеть, как сход-
ства то появляются, то снова исчезают.
Результат этого рассмотрения звучит так: мы видим сложную
сеть сходств, переплетающихся и пересекающихся. Сходств
больших и малых.
Я не могу придумать лучшего выражения для характеристики
этого сходства, чем «семейное сходство»; ибо именно так пере-
плетаются и пересекаются различные линии сходства, сущест-
вующие между членами одной семьи: рост, черты лица, цвет
глаз, походка, темперамент и т. д. и т. п. И я буду говорить: «иг-
ры» образуют семью» [Там же, § 66, 67]. Тут же Витгенштейн
приводит примеры других понятий, образующих «семью»: язык,
число. «Вместо раскрытия чего-то общего для всех явлений, ко-
торые мы называем языком, я говорю, что эти явления не имеют
чего-то общего им всем и позволяющего нам употреблять одно и
то же слово для их обозначения, но они родственны друг другу
многими различными способами». Что касается понятия числа,
то Витгенштейн говорит: «Мы расширяем наше понятие числа
так же, как мы прядем нитку, скручивая волокно с волокном.
А прочность нитки не в том, что какое-то одно волокно прохо-
дит по всей ее длине, а в том, что многие волокна переплетаются
Друг с другом» [Там же].
4.5. Проблема обоснования знания.
Обоснование индуктивного принципа
С правилами языковых игр связана та проблема, что в нашем
Мышлении присутствует тенденция принимать их за саму реаль-
ность. Это порождает большое количество проблем, в том числе
133
Философия науки
в философии математики, теории познания и др. Фокусом этих
проблем оказывается достоверное, т. е. неопровержимое, зна-
ние.
Традиционно научное знание определялось как знание дос-
товерное. Такое знание должно иметь незыблемое обоснование.
Но каково подобное обоснование? Над этим вопросом бились
эмпиристы и рационалисты; он же не давал покоя логикам, ко-
торых мучила проблема обоснования индуктивных выводов.
Как мы видели в п. 4.3, Витгенштейн объяснял неопровер-
жимость математических утверждений тем, что они представля-
ют собой правила, а не описания. Однако существуют и эмпири-
ческие предложения, которые мы не подвергнем сомнению ни
при каком течении событий, но скорее будем использовать их
как критерии наличия или отсутствия галлюцинаций, правиль-
ности и неправильности описания событий и т. п. Например,
убеждение в том, что если человеку отрубить голову, то она не
вырастает снова, связано, конечно, с тем, что никто никогда не
слышал и не был сам свидетелем примеров обратного. Поэтому
данное убеждение можно было бы счесть индуктивным обобще-
нием опытных свидетельств. Но это породит неадекватное пред-
ставление о его статусе. В самом деле, сравним его с индуктив-
ным обобщением «Все лебеди белы». Путешественники, впер-
вые увидевшие в Австралии черных лебедей, вряд ли испугались
за свой рассудок, хотя они и верили ранее, что все лебеди явля-
ются белыми. Однако, если бы некий человек увидел нечто, про-
тиворечащее убеждению, что потеря головы непоправима, он
действительно испугался бы за свое психическое состояние. Лю-
бого человека, уверяющего, что он видел такое своими глазами,
мы сочли бы сумасшедшим или заподозрили, что он плохо вла-
деет языком и не понимает, что говорит.
Проблема индукции и индуктивного принципа занимает од-
но из центральных мест в комплексе проблем, связанных с обос-
нованием научного знания. Под индукцией понимается вывод
от частного к общему (или от следствий — к причинам). Основ-
ное затруднение, связанное с индуктивным выводом, можно
проиллюстрировать следующим образом: представим себе кури-
цу, которая на основе предшествующего опыта формулирует
обобщение, что птичница приходит к ней в курятник, чтобы дать
ей корм. Соответственно она всегда прибегает на зов птичницы,
134
Часть I. Глава 4
и такое поведение до поры до времени оказывается для нее впол-
не целесообразным, пока она не попадает в суповую кастрюлю.
Принято считать, что «индуктивный вывод» нашей курицы
был бы оправдан, если бы у нее были основания считать, что
птичница всегда будет вести себя одинаково. На более философ-
ском языке это означает, что для обоснования индуктивных вы-
водов необходим принцип единообразия природы. Однако по-
добный принцип не является самоочевидным, и в то же время
его нельзя обосновать ни опытом, ни индукцией (получится
круг в обосновании). Подобная ситуация порождает неразреши-
мую проблему обоснования индукции, над которой бились
Дж.Ст. Милль (см. п. 3.1), Дж. Венн, Б. Рассел, логические пози-
тивисты. Принципиальную неразрешимость этой проблемы до-
казывал К. Поппер (см. п. 6.1). Неразрешенная проблема индук-
ции создает почву для скептических сомнений во всей совокуп-
ности человеческих знаний и представлений. Ни научные
теории, ни положения здравого смысла не могут устоять перед
напоминанием о печальной участи курицы, так недальновидно
полагавшейся на свой прошлый опыт.
Витгенштейну же задача обоснования принципа единообра-
зия природы или индуктивных выводов представляется непра-
вильно поставленной. Он утверждает, что научные гипотезы и
теории не являются логическими следствиями из предшествую-
щего опыта, которые должны отбрасываться, как только появля-
ется новое, опровергающее свидетельство. Любая гипотеза или
теория опутана многообразными связями с элементами некото-
рого целого, в которое они входят. Научные гипотезы и теории
имеют как бы «подпорки» в виде явлений, в объяснении которых
они используются, смежных теорий, обосновывающихся с их
помощью, и пр. Чтобы теория или гипотеза была отброшена, не-
достаточно одного опровергающего свидетельства. Требуется
что-то такое, что могло бы перевесить всю систему «подпорок».
Для обозначения этого свойства теорий и гипотез Витгенштейн
Употребляет термин «вероятность», но очевидно, что вероят-
ность в его понимании не подчиняется аксиомам теории вероят-
ностей: «Вероятность гипотезы измеряется тем, как много дан-
ных требуется для того, чтобы было предпочтительнее отбросить
ее. И только в этом смысле мы можем говорить о том, что повто-
ряющийся в прошлом единообразный опыт делает более вероят-
ным продолжение этого единообразия в будущем» [ Wittgenstein,
135
Философия науки
1975, р. 286]. Витгенштейн показывает, что гипотеза не обосно-
вывается принципом единообразия природы, но, напротив, сама
служит основой для него в той мере, в какой начинает функцио-
нировать как правило для формирования конкретных научных
утверждений и ожиданий. Таким образом, она формирует то
единообразие, которое придает ей устойчивость.
Витгенштейн выделяет причину и основание индуктивного вы-
вода. Причиной веры в единообразие природы является в пер-
вую очередь страх, например, перед тем огнем, который некогда
обжег, т. е. страх, что огонь обожжет снова. Когда у человека есть
такой страх, то бесполезно доказывать ему, что для соответст-
вующего индуктивного вывода нет основания, что он якобы не-
убедителен. Напротив, это образцовый пример убедительности
[Витгенштейн, 1994 в, § 472—473].
Когда говорят об основании индуктивного вывода, имеют в
виду посылку, логически достаточную для вывода от прошлого
опыта к будущему. Но, утверждает Витгенштейн, в основе ин-
дуктивного рассуждения не лежит логический вывод, и вообще
это не логическая проблема. Многие философы и логики счита-
ют, что должен существовать общий принцип индукции, кото-
рый якобы является основанием для многообразных индуктив-
ных выводов. Их мучает, что они никак не могут найти обосно-
вание для этого общего принципа. Витгенштейн стремится
доказать, что многообразные «индуктивные выводы», совершае-
мые в реальных ситуациях, вообще не нуждаются в обосновании
особым принципом индукции. Скорее наоборот — общий прин-
цип обосновывается реальными ситуациями: «Белка не заключа-
ет с помощью индукции, что ей понадобятся припасы и на сле-
дующую зиму. И мы столь же мало нуждаемся в законе индук-
ции для определения наших поступков и предсказаний»
[Витгенштейн, 1994 с, § 287]. «...Если бы ученик усомнился в
единообразии природы, а значит, и в оправданности индуктив-
ных выводов, — учитель почувствовал бы, что такое сомнение
лишь задерживает их, что из-за этого учеба только застопорива-
ется и не продвигается. — И он был бы прав. Это похоже на то,
словно кто-то ищет в комнате какой-то предмет; он выдвигает
ящик и не находит искомого; тогда он снова его закрывает, ждет
и снова открывает, чтобы посмотреть, не появилось ли там
что-нибудь, и продолжает в том же духе. Он еще не научился ис-
136
Часть I. Глава 4
кать. Так и тот ученик еще не научился задавать вопросы. Не на-
учился той игре, которой его пытаются обучить» [ Там же, §315].
Таким образом, неявный и неосознанный (сравнение с бел-
кой, готовящей к зиме запасы) «индуктивный вывод» постоянно
присутствует в нашей практической деятельности. Без него
субъект просто не мог бы действовать так, как действуют все
нормальные люди. Не имеет смысла искать логическое обосно-
вание «общего закона индукции», потому что такой закон явля-
ется не логическим обоснованием, а результатом нашего образа
действий. Вера в единообразие природы не есть какой-то осо-
бый принцип вне и над действиями и реакциями людей в много-
образных реальных ситуациях. Напротив, этот «принцип» и есть
сам принятый образ действий, которому мы выучиваемся, овла-
девая всем тем, что должен знать и уметь человек. Не выучив-
шись этому, человек не мог бы участвовать в принятых видах
деятельности, например не мог бы вести научные исследования,
проверять гипотезы.
Страх перед тем, что огонь может обжечь, вера в то, что солн-
це завтра взойдет, не имеют рационального обоснования. Но это
не значит, что они не рациональны. Они не имеют рационально-
го обоснования, потому что сами являются основой любого
обоснования. Обоснование приходит к тому, что наша деятель-
ность организована таким образом, потому что... она организо-
вана таким образом. Такова наша форма жизни. А форма жизни
не может иметь ни логического, ни эмпирического обоснования.
Или, иначе, ее обосновывает сам тот факт, что она существует.
Но разве все это помогает нам гарантировать себя от индук-
тивных выводов, подобных выводу той курицы, которая в конце
концов угодила в суп? Никоим образом. И Витгенштейн к этому
совсем не стремится. Классическая философская традиция ви-
дела в подобной ситуации прежде всего «убеждение» курицы и
проблему соответствия данного убеждения и реальности. С по-
зиции витгенштейновской философии, мы должны увидеть
Здесь не «убеждения относительно окружающего мира», которые
формулирует эта философствующая курица, но форму совмест-
ной жизни кур и птичниц. Что касается кур, то, собственно, бла-
годаря ей и продолжается существование куриного рода. А га-
рантии от неожиданных неприятностей... Их нет и не может
быть.
137
Философия науки
Поскольку принцип единообразия природы является пред-
посылкой многообразных видов человеческой деятельности,
люди не могут отказаться от него и даже поставить его под со-
мнение. У него слишком много «подпорок». Но ни из каких рас-
суждений Витгенштейна не следует, что наша форма жизни,
включающая этот принцип, является единственно возможной
или наиболее адекватной из всех возможных. Для Витгенштейна
не встает проблемы адекватности в смысле соответствия реаль-
ности. Можно было бы представить себе форму жизни, основан-
ную на постоянном ожидании сюрпризов и организованную по
принципу «раз на раз не приходится».
Когда мы придаем предложению статус неопровержимо дос-
товерного, мы тем самым начинаем употреблять его как правило
(соответствующей языковой игры) и на его основе оцениваем
все другие предложения. Одно и то же предложение может вы-
ступать в одних ситуациях как доступное экспериментальной
проверке, а в других — правилом для проверки иных предложе-
ний. Но есть предложения, которые настолько закрепились в
функции правил, что вошли в структуру некоторой языковой иг-
ры. Они не могут быть ложными, и потому бессмысленно гово-
рить об их истинности. Они предшествуют всякому определе-
нию истинности и соответствия реальности. Для пояснения этой
мысли Витгенштейна можно привести следующий пример: пре-
жде чем говорить о правильных или неправильных результатах
измерения, следует зафиксировать единицу измерения и изме-
рительную процедуру. Только относительно единицы и процеду-
ры имеет смысл говорить, что результаты измерения соответст-
вуют или не соответствуют реальности. Однако бессмысленно
говорить, что выбранная нами единица (метр или что-то другое)
и процедура измерения соответствуют реальности (или, напро-
тив, не соответствуют ей). Аналогичным образом любое утверж-
дение, по мнению Витгенштейна, является как бы оценкой ре-
альности на основе какого-то «масштаба». Роль масштаба и пра-
вил приложения его к реальности играют правила языковых игр.
Они определяют, что означает «быть истинным» для предложе-
ния того или иного вида, устанавливая критерии его проверки и
обоснования. Но прилагать те же критерии к самим правилам
языковых игр бессмысленно. Это все равно что пытаться изме-
рениями проверить, действительно ли в метре сто сантиметров.
«Если истинным является то, что обоснованно, тогда основание
138
Часть I. Глава 4
не является ни истинным, ни ложным» [Там же, § 205]. При
этом в рубрику «оснований» попадают не только логика, матема-
тика, не только аналитические предложения, правила измере-
ния, таблицы мер и т. п., но и любые утверждения, которые мы
употребляем как достоверные и неопровержимые.
Классическая философия (как в рационалистическом, так и
в эмпиристском варианте) искала такие основания знания, ко-
торые были бы истинны. Витгенштейн же отказывается от рас-
смотрения вопроса об истинности оснований, перенося рас-
смотрение на функционирование языковой игры в целом.
Утверждения и убеждения, функционирующие как правила
языковой игры, — их еще можно было бы назвать «концептуаль-
ным каркасом» соответствующей игры, — не являются априор-
ными. Бессмысленно также говорить о том, что они якобы явля-
ются «отражением» реальности. Но это бессмысленно не пото-
му, что они не являются отражением реальности. Скептические
утверждения, что концептуальные каркасы языковых игр не со-
ответствуют реальности, столь же бессмысленны, ибо речь здесь
идет о таких утверждениях и убеждениях, которые являются ус-
ловием сопоставления с реальностью других утверждений и убе-
ждений. Витгенштейн при этом постоянно указывает на множе-
ственность возможных «концептуальных каркасов». Это делает-
ся для того, чтобы мы не принимали устройство нашего
«каркаса» за реальность как она есть сама по себе.
Однако у Витгенштейна можно выделить два ряда аргумен-
тов, направленных на возможность внешней оценки языковых
игр. Первый ряд аргументов связан с темой целостности и сис-
темности. Как разъясняет Витгенштейн, основные убеждения и
правила языковых игр образуют систему: «И освещается для ме-
ня не единичная аксиома, а система, в которой следствия и по-
сылки взаимно поддерживают друг друга» [Там же, § 142]. Это
очень существенный для концепции Витгенштейна момент. На
роль основания годится не отдельное предложение, но только
Целая система. «Если у человека ампутирована рука, она уже не
вырастет... Тот, кому отрубили голову, мертв и никогда не ожи-
вет... Можно сказать, что опыт научил нас этим предложениям.
Однако он научил нас не изолированным предложениям, но
Множеству взаимосвязанных предложений. Будь они разрознен-
ны, я мог бы в них сомневаться, поскольку у меня не было бы
Подходящего для них опыта» [Там же, § 274]. Таким образом, и
139
Философия науки
опыт, с точки зрения Витгенштейна, является основанием для
некоторых убеждений только постольку, поскольку он входит в
определенную систему убеждений и видов деятельности.
Основания системы убеждений, говорит Витгенштейн, не
поддерживают эту систему, но сами поддерживаются ею. Это
значит, что надежность оснований лежит не в них самих по себе,
а в том, что на их основе может существовать целая языковая иг-
ра [Там же, § 248]. То есть в понимании Витгенштейна «фунда-
мент» знания оказывается как бы висящим в воздухе до тех пор,
пока на нем не построено устойчивое здание.
Второй род аргументации связан с тем, что языковая игра по-
нимается как определенный вид деятельности. Поэтому и основа-
ния языковых игр поддерживаются в конечном счете деятельно-
стью. «Однако обоснование, оправдание свидетельства приходит
к какому-то концу; но этот конец не в том, что определенные
предложения выявляются в качестве непосредственно истинных
для нас; то есть не в некоторого рода усмотрении с нашей сторо-
ны, а в нашем действии, которое лежит в основе языковой игры»
[Там же, § 204].
Таким образом, достоверные утверждения характеризуются
не тем, что они имеют бесспорное, не допускающее сомнения
обоснование (такового они не имеют), но тем, что они принима-
ются как правила наших «языковых игр». А конечной инстанци-
ей в обосновании языковых игр является сама жизнедеятель-
ность людей. Она как-то связана с объективным устройством
мира. Но в то же время подобное «обоснование» не может при-
дать смысл утверждениям о том, что такие-то суждения сами по
себе являются «отражениями реальности». При этом Витген-
штейн отмечает, что эмпирические предложения и предложе-
ния, играющие роль правил (ситуативных правил и правил «иг-
ры» в целом), с течением времени могут переходить из одной
группы в другую. Для описания этого процесса он использует
образ реки и ее берегов. Текучие изменчивые воды — это эмпи-
рические предложения, которые подвергаются проверкам в опы-
те и исправлению. Берега — это предложения, за которые мы
«крепко держимся», т. е. используем как правила для проверки
других предложений. Берега, конечно, не текут вслед за водами,
но и они подвергаются постепенным изменениям. Витгенштейн
отмечает при этом, что предложения, описывающие нашу кар-
тину мира, «могут быть своего рода мифологией». Тогда их роль
140
Часть I. Глава 4
, „„мм zz zzzzzzzzz zzz z z zz zz z z zzzz zzzzzzz zzzz z z zzzzzzzzzz zzzz z z z z zz zzzzzzzzz z zzzzz zz zzzzzz zz zzzzzV zz"7'77 ' /7,'"" 7/7,/7 7777'7^
будет аналогична роли правил языковой игры. В то же время
«мифология может снова прийти в состояние непрерывного из-
менения, русло, по которому текут мысли, может смещаться»
[Там же, § 97]. Познакомившись с концепцией «парадигм»
Т. Куна, можно убедиться в том, что эти рассуждения Витген-
штейна действительно оказали серьезное влияние на постпози-
тивистскую философию науки.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Барабашев А.Г. Будущее математики: методологические аспекты прогнози-
рования. М.: МГУ, 1991.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Фило-
софские работы. Ч. 1. М., 1994 а. С. 1—73.
Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философ-
ские работы. Ч. 1. М., 1994 в. С. 77—319.
Витгенштейн Л. О достоверности // Витгенштейн Л. Философские работы.
Ч. 1. М., 1994 с. С. 323-405.
Демидов С. С. Контроверза «реализм—конструктивизм» и вопрос о прогрес-
се математики // Проблема знания в истории науки и культуры. СПб., 2001. С.
142-154.
Перминов В.Я. Априорность и реальная значимость исходных представле-
ний математики // Стили в математике: Социокультурная философия матема-
тики. СПб.: РХГИ, 1999. С. 80-100.
Розов М.А. Способ бытия математических объектов // Методологические
проблемы развития и применения математики. М., 1989.
Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX века. Дол-
гопрудный, 1994.
Godel К. What is Cantor’s continuum problem // Philosophy of mathematics:
Sei. readings. - Englewood Hill (N.Y.), 1964. P. 258-273.
Kitcher Ph. The pligth of the Platonist. Nous, Bloomington, 1978. Vol. 12. № 2.
P. 119-136.
Maddy P. Naturalism and ontology // Philosophia Mathematica. Ser. III. 1995.
Vol. 3. № 3. P. 248-270.
Maddy P. Sets and numbers. Nous, Bloomington, 1981. Vol. 15. № 4. P.
495-511.
Resnik M.D. Scientific vs. mathematical realism: the indispensability argument //
Philosophia Mathematica. Ser. III. Vol. 3. № 2. p. 166—174.
Steiner M. Mathematical realism. Nous, Bloomington, 1983. Vol. 17. № 3.
P. 363-385.
Wittgenstein L. Philosophical remarks / Ed. by R. Rhees. Chicago, 1975.
Wittgenstein L. Philosophische Grammatik / Hrsg. von R. Rhees. Frankfurt am
Main, 1973.
Wittgenstein L. Wittgenstein’s lectures on the foundations of mathematics.
Cambridge, 1939; From the notes of ... / Ed. by C. Diamond. Hassocks, 1976.
Wittgenstein L. Wittgenstein’s lectures: Cambridge, 1932—1935; From the notes
°f / Ed. by A. Ambrose. Chicago, 1982.
Wittgenstein L. Remarks on the foundations of mathematics / Ed. by G.H. von
bright, Rhees R., Anscombe G.E.M. Oxford, 1967.
141
Философия науки
ВОПРОСЫ
1. Чем являются, по Витгенштейну, научные теории?
2. Что является задачей философии, согласно Витгенштейну?
3. Природа предложений математики, согласно Витгенштейну.
4. Что такое «языковая игра»? В каком смысле значение слова есть
его употребление?
5. Витгенштейновская трактовка достоверных предложений.
6. Как Витгенштейн рассматривает проблему обоснования индук-
тивного принципа?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Фило-
софские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 1—73.
Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философ-
ские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 77—319.
Витгенштейн Л, О достоверности // Витгенштейн Л. Философские работы.
Ч. 1. М., 1994. С. 323-405.
Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX века. Дол-
гопрудный, 1994.
Глава 5
ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ XX в.
Существенно новые идеи в философии науки XX в. были по-
рождены позитивизмом 1930-х гг. (неопозитивизмом) и постпо-
зитивимом, заявившим о себе в 1960—1970-х гг. Оба течения
связаны в первую очередь с проблемой осмысления революции в
физике начала XX в. Представитель постпозитивизма И. Лакатос
в конце 1960-х писал, что в XIX в. скептицизм Юма отступил пе-
ред триумфом ньютоновской физики, представлявшейся незыб-
лемым основанием и образцом научного знания, но «Эйнштейн
опять все перевернул вверх дном, и теперь лишь немногие фило-
софы или ученые все еще верят, что научное знание является до-
казательно обоснованным или, по крайней мере, может быть та-
ковым» [Лакатос, 2001, с. 273]. Квантовая механика усилила это
ощущение.
Ведущим направлением неопозитивизма стал родившийся в
рамках Венского кружка логический позитивизм. Поскольку ос-
новными составляющими этого подхода являются позитивизм,
эмпиризм и применение аппарата логики, то наравне с этим тер-
мином в литературе используется термин логический эмпиризм.
Согласно известному философу науки Ф. Суппе «логический
позитивизм — немецкое движение» (в широком смысле, вклю-
чая Австрию). В немецком научном сообществе до него господ-
ствовали три философские позиции: механистический материа-
лизм (механицизм) (см. п. 1.1), неокантианство (см. п. 2.7) и ма-
ховский позитивизм (т.е. второй позитивизм) (см. п. 3.3).
Однако возникшие в начале XX в. теория относительности и
квантовая механика осознавались как несовместимые со всеми
этими тремя течениями философии науки. За построение фило-
софии науки, совместимой с новой физикой, а также с новой
Математикой (неевклидовой геометрией) и бурно развивавшейся
в начале XX в. логикой и лингвистикой, взялись симпатизирую-
щие махизму группы в Вене и Берлине, лидерами в которых вы-
143
Философия науки
ступили Морис Шлик и Ганс Рейхенбах. Наиболее четко про-
грамма логического позитивизма была сформулирована в Вен-
ском кружке [Suppe, 1974, р. 7—12].
Венский кружок возник из дискуссий группы интересую-
щихся философией ученых-специалистов (математиков, физи-
ков, социологов), которые собрались вместе в 1923 г. и с 1925 по
1936 г. встречались регулярно раз в неделю в Венском универси-
тете. Эти собрания проводились Морицем Шликом — физиком и
философом, который был профессором и заведующим кафедрой
философии индуктивных наук, созданной в 1895 г. для Эрнста
Маха, которой последний заведовал до 1901 г., а после него ка-
федру занимал Л. Больцман (с 1902 по 1906 г.). Как и его пред-
шественники, Мориц Шлик пришел в философию из физики.
Он непосредственно общался с ведущими представителями точ-
ных наук — М. Планком, А. Эйнштейном, Д. Гильбертом. В 1917 г.
он первым дал философскую оценку теории относительности.
Важную роль в этом движении играли интересующиеся филосо-
фией математики. «Участие математиков усиливало стремление
к логической строгости и аккуратности» в философском обсуж-
дении рассматриваемых ими проблем [Крафт, 2003, с. 39—40]
(здесь и далее курсив — мой, полужирный шрифт — цитируемо-
го автора. — А.Л.). Наиболее крупными представителями Вен-
ского кружка и логического позитивизма в целом являются Ру-
дольф Карнап (1891—1970), Отто Нейрат (1882—1945), Карл
Гемпель (1905—1997), Ганс Рейхенбах (1891—1953). Програм-
мные идеи логического позитивизма были сформулированы в
1929—1930 гг.1. Они интенсивно развивались в Вене, Варшаве,
Берлине. Венский кружок стал быстро приобретать все более
широкую известность, его идеи завоевывали умы философов и
ученых, но сам кружок после переезда в США Карнапа и траги-
ческой гибели Шлика в 1936 г. перестал собираться и после на-
сильственного присоединения Австрии к Германии в 1938 г. во-
обще прекратил свое существование. «Члены кружка рассеялись
1В небольшой программной статье «Научное мировоззрение. Венский кру-
жок» (1929), написанной Карнапом, Ганом и Нейратом [Крафт, 2003, с. 41] и в
статье М. Шлика «Поворот в философии» (1930). «А в сентябре 1930 г. в связи с
конгрессом немецких физиков и математиков, проходившим в Кенигсберге,
кружок совместно с Берлинской группой эмпирической философии... провел
конференцию по теории познания точных наук, на которой обсуждались фунда-
ментальные проблемы математики и квантовой механики» [Там же].
144
, Часть I. Глава 5
V
по всем странам... Однако заданное им направление получило
широкое распространение за рубежом, прежде всего в Соеди-
ненных Штатах» [Там же, с. 44].
5.1. Принцип верификации
Для логического позитивизма, как и для всего позитивизма,
начиная с Конта, было характерно «стремление сделать филосо-
фию научной. Строгие требования научного мышления должны
выполняться философией. Однозначная ясность, логическая
строгость и обоснованность в философии необходимы так же,
как и в других науках» [Neurath, 1983, р. V—VI].
Средства для этого неопозитивисты видели в «.новейшей логи-
ке». «Новый образ логики нашел завершенное выражение в фун-
даментальном труде «Principia Mathematica» Б. Рассела и А. Уайт-
хеда [Крафт, 2003, с. 53—54], в котором была реализована логи-
цистская программа развития оснований математики, сформу-
лированная еще Лейбницем, и дано «доказательство того, что
вся чистая математика следует из чисто логических предпосылок
и пользуется только теми понятиями, которые определимы в ло-
гических терминах» [Грязнов, 1993, с. 20]. Логические позитиви-
сты были вдохновлены успехами Бертрана Рассела (1872—1970)
в области оснований математики. Новая логика существенно
расширяла область логики. Вместе с символикой она обрела та-
кую форму выражения, которая с математической точностью
позволила представлять понятия, высказывания и правила их
связи1.
Развивая идеи своего учителя Б. Рассела, Л. Витгенштейн
(1889—1951) в своем знаменитом «Логико-философском тракта-
те» распрастраняет модель знания «Principia Mathematica» на всю
совокупность знания о мире. Эта модель основана на принципах
логического атомизма'. 1) экстенсиональности (логические связи
между предложениями понимаются исключительно как связи по
Функциям истинности) и 2) атомарности (в основе знания лежат
взаимонезависимые атомарные предложения).
1 Однако использование этой логики в то время «существенно ограничива-
лось тем, что ее формулы очень скоро стали слишком сложными... «Простое рас-
суждение, излагаемое в течение двух секунд, тогда потребовало бы целого дня»
(По словам Карнапа. — АЛ.) [Крафт, 2003, с. 54].
145
Философия науки
К этой логической модели логические эмпиристы добавили
эмпиризм. В рамках модели логического атомизма значение ис-
тинности элементарных высказываний может быть задано толь-
ко каким-то внелогическим способом. Витгенштейн указывает
на логический атом как на логический предел, о содержании ко-
торого ничего нельзя сказать (см. гл. 4). Логические позитиви-
сты приняли другую, родственную махизму, эмпиристскую трак-
товку элементарных высказываний, которую они заимствовали у
раннего Рассела: «Если атомарные факты должны быть позна-
ваемы вообще, то, по крайней мере, некоторые из них должны
быть познаваемы без обращения к выводу. Атомарные факты,
которые мы познаем таким путем, являются фактами чувствен-
ного восприятия» [цит. по: Швырев, 1977, с. 18]. Все знание в ко-
нечном счете сводится к совокупности элементарных, чувственно
проверяемых утверждений, которые у неопозитивистов фигури-
ровали под именами «эмпирического базиса», «предложений на-
блюдения», «протокольных предложений».
В логическом позитивизме утверждение имеет значение то-
гда, и только тогда, когда оно может быть проверено на истин-
ность или ложность, по крайней мере в принципе, посредством
опыта. «Акт верификации, к которому в конце концов приводит
путь решения, всегда одинаков, — говорит Шлик, — это некий
определенный факт, который подтвержден наблюдением и не-
посредственным опытом. Таким образом, определяется истин-
ность (или ложность) каждого утверждения — в обыденной жиз-
ни или науке — и не существует других способов проверки и
подтверждения истин, кроме наблюдения и эмпирической нау-
ки. Всякая наука (если и поскольку мы понимаем под этим сло-
вом содержание, а не человеческие приспособления для его от-
крытия) есть система познавательных предложений, т. е. истин-
ных утверждений опыта...» [Грязнов, 1993, с. 29—30]. Это
центральное положение логического позитивизма называется
принципом верификации. Этот принцип утверждал, что все те тео-
ретические утверждения, которые не могут быть посредством
логической цепочки рассуждений сведены к эмпирическим ут-
верждениям (т. е. верифицированы), должны выбрасываться из
науки как бессмысленные (т. е. кроме «истинно» и «ложно» было
введено еще одно значение — «бессмысленно»). В результате все
метафизические вопросы попадали в категорию бессмысленных
и отбрасывались. Реализация этой программы пошла по пути за-
146
Часть I. Глава 5
мены философской теории познания и гносеологических вопро-
сов о соотношении теории и «реальности» логическими пробле-
мами и проблемами языка1.
Шлик вторит Витгенштейну: «“мир” — это не “вещь сама по
себе”, а мир нашего языка». «Всякое познание есть выражение,
или репрезентация (в первую очередь в языке. — А.Л.), — гово-
рит Шлик. — А именно познание выражает факт, который в по-
знании познается... Так что все знание является знанием в силу
его формы (т. е. языка. — АЛ.). Именно через форму оно репре-
зентирует познанный факт... Исследования, касающиеся чело-
веческой «способности к познанию»... заменяются тогда сообра-
жениями, касающимися природы выражения, или репрезента-
ции, т. е. всякого возможного «языка» в самом общем смысле...
Вопросы об «истинности и границах познания» исчезают. По-
знаваемо все, что может быть выражено... То, что принималось
раньше за такие вопросы («метафизические» вопросы об «истин-
ности и границах познания». — АЛ.), суть... бессмысленные це-
почки слов... [Там же, с. 29—30]. «Подтвержденные наблюдени-
ем и непосредственным опытом факты», о которых говорит
Шлик, описываются «протокольными предложениями», на кото-
рые переносится центр тяжести всей концепции. «Проблема
«протокольных предложений», их структуры и функций есть но-
вейшая форма, в которой философия, или, скорее, решительный
эмпиризм наших дней, облекает поиски последнего основания
познания (каковыми для Локка был опыт, а для Декарта — «вро-
жденные идеи» (см. гл. 1). — АЛ.)... — писал Шлик. — Поэтому
если нам удастся выразить факты в «протокольных предложени-
ях», без какого-либо искажения, то они станут, наверное, абсо-
лютно несомненными отправными точками знания... образуют
твердый базис, которому все наши познания обязаны присущей
им степенью правильности» [Там же, с. 33—34]. «Очищающая»
науку от метафизики процедура верификации (от нем. verifika-
tion — свидетельство в подлинности, подтверждение правильно-
сти) с помощью «протокольных предложений» эмпирического
характера лежит в основе всей программы логического позити-
визма.
1 «Если Беркли превратил внешний источник ощущений (то есть объекты) в
ощущения, махисты превратили ощущения в объекты, то неопозитивисты по-
Ч1Ли по пути отрицания самого этого вопроса» [Швырев, с. 88—89].
147
Философия науки
Выдвинутая логическими позитивистами программа была
проникнута оптимизмом. «Я убежден, — писал в 1930 г. в статье
«Поворот в философии» М. Шлик, — что мы сейчас переживаем
решительный поворот в философии, и наше мнение о том, что
бесплодному конфликту систем пришел конец, можно оправ-
дать вполне объективными соображениями. Уже сейчас мы об-
ладаем методами, которые делают подобные конфликты в прин-
ципе ненужными» [Там же, с. 29].
Вот как этот «конфликт систем» разрешался в рамках кон-
цепции «языковых каркасов» Карнапа в его статье «Эмпиризм,
семантика и онтология»: «Языковый каркас» Карнапа — это ло-
гически более изощренная форма «языка» Витгенштейна, пред-
ставляющая науку (скажем, физику) как язык. Сходным с Вит-
генштейном было и отношение к вопросу о науке и реальности
«самой по себе», — это философский, а не научный вопрос. Нау-
ку и реальность Карнап разводит, предлагая «различить два вида
вопросов о существовании', первый — вопросы о существовании
определенных объектов нового вида в данном каркасе; мы назы-
ваем их внутренними вопросами; второй — вопросы, касающие-
ся существования или реальности системы объектов в целом, на-
зываемые внешними вопросами. Внутренние вопросы и возмож-
ные ответы на них формулируются с помощью новых форм
выражений. Ответы могут быть найдены или чисто логическими
методами, или эмпирическими методами — в зависимости от то-
го, является ли каркас логическим или фактическим... «Действи-
тельно ли жил король Артур?», «Являются ли единороги и кен-
тавры реальными или только воображаемыми существами?» и
т. д. На эти вопросы нужно отвечать эмпирическими исследова-
ниями... Понятие реальности, встречающееся в этих внутренних
вопросах, является эмпирическим, научным, неметафизическим
понятием. Признать что-либо реальной вещью или событием —
значит суметь включить эту вещь в систему вещей в определен-
ном пространственно-временнбм положении среди других ве-
щей, признанных реальными, в соответствии с правилами кар-
каса... От этих вопросов мы должны отличать внешний вопрос о
реальности самого мира вещей. В противоположность вопросам
первого рода этот вопрос поднимается не рядовым человеком и
не учеными, а только философами... Этот вопрос и нельзя разре-
шить, потому что он поставлен неправильно. Быть реальным в
научном смысле — значит быть элементом системы', следователь-
148
Часть I. Глава 5
но, это понятие не может осмысленно применяться к самой сис-
теме... Принять мир вещей — значит лишь принять определен-
ную форму языка, другими словами, принять правила образова-
ния предложений и проверки, принятия или отвержения их... Но
тезиса о реальности мира вещей не может быть среди этих пред-
ложений, потому что он не может быть сформулирован на вещ-
ном языке и, по-видимому, ни на каком другом теоретическом
языке» (курсив мой. — АЛ.) [Карнап, 1971].
Такова центральная концепция одного из ведущих предста-
вителей логического позитивизма Р. Карнапа. Но все варианты
логического позитивизма опирались на концепцию протоколь-
ных предложений, с которыми, как оказалось, было не все гладко.
«В основе развиваемых в рамках логического позитивизма кон-
цепций (подробно они изложены в работах Э. Нагеля, Р. Карна-
па, К. Гемпеля) лежало предположение о том, что в структуре
языка науки можно выделить язык, который состоит только из
терминов и предложений наблюдения, — так называемый «язык
наблюдения». «Считалось, что эти предложения обладают сле-
дующими особенностями: а) они выражают «чистый» чувствен-
ный опыт субъекта; б) они абсолютно достоверны, в их истинно-
сти нельзя сомневаться; в) протокольные предложения ней-
тральны по отношению ко всему остальному знанию; г) они
гносеологически первичны — именно с установления прото-
кольных предложений начинается процесс познания» [Никифо-
ров, 1991, с. 252].
Но по мере того как осознавались трудности описания с по-
мощью этого языка не только теоретической, но и эксперимен-
тальной работы в области физики и других естественных наук,
концепция «протокольных предложений» проходила через ряд
стадий.
Первая — это стадия «протокольных предложений» феноме-
налистического языка, которые мыслились как выражающие
«чистый опыт» без какого-либо его понятийного истолкования
(типа «Я теперь гневен» или «Сейчас я вижу зеленое»).
Вторая стадия — понятие «протокольных предложений», вы-
раженных в так называемом физикалистском языке, фиксирую-
щем пространственно-временные связи (типа «Карл был гневен
вчера в полдень»). Последняя, третья стадия — понятие «предло-
жений наблюдения» вещного языка, предложения и термины ко-
торого обозначают чувственно воспринимаемые вещи и их свой-
149
Философия науки
ства (типа «Эта точка выше и правее той») [Швырев, 1977,
с. 105-106].
На всех этих стадиях «твердый, несомненный эмпирический
базис науки сохраняется. Термины наблюдения заимствуют
свои значения из чувственного опыта; этот опыт, в свою оче-
редь, определяется работой органов чувств, а поскольку органы
чувств у людей не изменяются, постольку эмпирические терми-
ны и состоящие из них протокольные предложения оказывают-
ся нейтральными по отношению к теоретическому знанию и
его изменению. Как для Аристотеля, так и для Ньютона, и для
Эйнштейна листья деревьев были зелеными, а небо — голубым.
Протокольный язык этих мыслителей был одним и тем же, не-
смотря на различие их теоретических представлений. Сохраня-
ется и гносеологическая первичность языка наблюдения: про-
цесс познания начинается с констатации фактов, с установле-
ния протоколов наблюдения; затем наступает очередь
обобщения результатов наблюдения» [Никифоров, 1991, с. 253].
Но и на этой стадии не удалось закрепиться. В многочис-
ленных исследованиях к середине XX в. было показано, что та-
кого языка в научном познании просто не существует. «Тот
слой знания (тот язык), который выполняет в науке функцию
описания эмпирических данных... всегда теоретически нагру-
жен» [Мамчур, 1987, с. 70], ибо, на что указывал еще Дюгем,
большинство измерений в естественной науке, например, та-
кие, как сила, масса, электрический заряд в физике, осмыслен-
ны только внутри соответствующих теоретических систем (ме-
ханики, электродинамики), а многие измерительные приборы
устроены достаточно сложно и используют различные физиче-
ские принципы.
Поппер видит основание концепции протокольных предло-
жений в сенсуализме локковского типа. Он называет эту кон-
цепцию «бадейкой теорией сознания» и подвергает ее сокруши-
тельной критике. Бадейную теорию сознания он описывает так.
«Наше сознание — это бадья, поначалу более или менее пустая,
и в эту бадью через наши органы чувств... проникает материал,
который в ней собирается и переваривается... В философском
мире эта теория лучше известна под более благородным назва-
нием теории сознания как tabula rasa: наше сознание — чистая
доска, на которой чувства вырезают свои послания (позиция
Локка. — А.Л.)... Существенный тезис бадейной теории состоит
150
Часть I. Глава 5
в том, что мы узнаем ббльшую часть, если не все, из того, что
мы узнаем благодаря входу опыта через отверстия наших орга-
нов чувств; таким образом, все знание состоит из информации,
полученной через наши органы чувств, т. е. в опыте... В такой
форме1 эта насквозь ошибочная теория еще очень жива», — ут-
верждает Поппер [Поппер, 2002, с. 67]. Это для него позиция
классической эпистемологии (т. е. эпистемологии логических по-
зитивистов). Поппер противопоставляет ей характерный для
постпозитивистов тезис о неизбежной «теоретической нагру-
женности» «протокольных предложений».
«Классическая эпистемология, рассматривающая наши чувст-
венные восприятия как «данные», как «факты», из которых
должны быть сконструированы наши теории посредством неко-
торого процесса индукции... — говорит Поппер, — не способна
учитывать то, что так называемые данные на самом деле явля-
ются... интерпретациями, включающими теории и предрассуд-
ки, и, подобно теориям, пронизаны (аге impregnated) гипотети-
ческими ожиданиями (которые, по Попперу, «подобны теори-
ям». — АЛ.). Классическая эпистемология не осознает, что не
может быть чистого восприятия, чистых данных, точно так же,
как не может быть чистого языка наблюдения, так как все язы-
ки пронизаны теориями и мифами. Точно так же, как наши гла-
за слепы к непредвиденному или неожиданному2, так и наши
языки не способны описать непредвиденное или неожиданное
(хотя наши языки могут расти подобно нашим органам
Чувств)...
Высказанное соображение — о том, что теории или ожида-
ния встроены в наши органы чувств, — показывает, что эписте-
мология индукции терпит неудачу даже прежде, чем она делает
свой первый шаг. Она не может начинаться с чувственных дан-
ных или восприятий и строить наши теории на них, так как не
1 По утверждению Поппера, «эта точка зрения была впервые сформулирова-
ча Парменидом в сатирическом ключе: «У большинства смертных нет ничего в
Чх заблуждающемся (erring) уме, кроме того, что попало туда через их заблуж-
дающиеся органы чувств»« [Поппер, 2002, с. 14].
2 «Органы чувств, такие, как глаз, подготовлены реагировать на определен-
ие отобранные события из окружающей среды, на такие события, которых они
«ожидают», и только на эти события. Подобно теориям (и предрассудкам), они в
Челом слепы к другим событиям: к таким, которых они не понимают, которые
°ЧИ не могут интерпретировать» [Там же, с. 145].
151
Философия науки
существует таких вещей, как чувственные данные или воспри-
ятия, которые не построены на теориях (или ожиданиях, т. е.
биологических предшественниках сформулированных на неко-
тором языке теорий). Таким образом, «факты» не являются ни
основой теорий, ни их гарантией: они не более надежны, чем
любые наши теории или «предрассудки»; они даже менее на-
дежны, если вообще можно говорить об этом. Органы чувств
включают в себя эквивалент примитивных и некритически при-
нятых теорий, проверенных менее основательно, чем научные
теории, и не существует языка для описания данных, свободно-
го от теорий, потому что мифы (т. е. примитивные теории) воз-
никают вместе с языком» [Там же, с. 145].
«В йостпозитивистский период... — говорит В. Нью-
тон-Смит, — философы крикнули хором: все наблюдения тео-
ретически нагружены. Иными словами, нет никакого нейтраль-
ного в отношении теорий языка наблюдения» [Печенкин, 1994,
с. 171].
5.2. Структура теории
Теперь обратимся к другому слою идей (понятий) логиче-
ского позитивизма, определяющего его взгляд на структуру
теории в эмпирической науке.
В качестве образца науки неопозитивисты приняли матема-
тику. Поэтому они исходят из предположения о «дедуктивной
природе научных теорий», и научное знание, согласно логиче-
ским позитивистам, строится «через системы гипотез и акси-
ом». Физический (естественно-научный) смысл в возникающую
таким образом теорию вносит «добавление дополнительных оп-
ределений, а именно правил соответствия, которые устанавли-
вают, какие реальные объекты должны рассматриваться как
элементы системы аксиом». Только через них исходная «систе-
ма аксиом получает значение утверждения о реальности». Соот-
ветственно «изменения, навязанные новым опытом, могут быть
произведены или в аксиомах, или в правилах соответствия»
[Neurath, 1983, р. 311—312]. То есть дедуктивно развиваемая
теория представляет собой систему логико-математических вы-
ражений, включающих теоретические термины, которые по-
152
Часть I. Глава 5
средством «правил соответствия» связаны с «протокольными
предложениями» опыта.
Эта концепция структуры научных теорий была провозгла-
шена Рейхенбахом и Карнапом и стала основой «общепринято-
го (стандартного) взгляда» (Received View) на теории. «Неболь-
шим преувеличением будет сказать, что фактически каждый
значительный результат, полученный в философии науки меж-
ду 1920-ми и 1950-ми, или использовал, или неявно предпола-
гал этот общепринятый взгляд», — говорил известный философ
науки Ф. Суппе. Согласно этому подходу «научная теория долж-
на быть аксиоматизирована на языке математической логики...
Термины логической аксиоматизации должны быть разделены
на три сорта: (1) логические и математические; (2) теоретиче-
ские; (3) наблюдения» \Suppe, 1974, р. 10—12]. При этом, со-
гласно данной концепции, «теоретические термины являются
дишь сокращениями для феноменальных описаний», а аксиомы
«устанавливают отношения между теоретическими терминами»
и являются «формулировкой научных законов».
Этот взгляд приводит к резкому разведению (дихотомии)
между двумя видами терминов, входящих в теорию, — терминов
наблюдения и теоретических терминов («ненаблюдаемых»). Тер-
мины наблюдения' обозначают объекты или свойства, которые
могут быть непосредственно наблюдаемы или измерены, в то
время как теоретические термины обозначают объекты или
свойства, которые мы не можем наблюдать или измерять, но
которые выводятся из непосредственно наблюдаемых».
В 1950-х гг. общепринятый взгляд «стал объектом критиче-
ских атак... Эти атаки были столь успешны, что к концу 1960-х
был достигнут общий консенсус среди философов науки, что
«общепринятый взгляд» неадекватен как анализ научных тео-
рий... Сегодня в философии науки сложилась следующая ситуа-
ция: «общепринятый взгляд» отвергнут, но ни одна из предло-
женных альтернатив анализа теорий не получила широкого
Признания» (в результате «общепринятый взгляд» остался жить,
Хотя породивший его логический позитивизм к 1960-м сошел на
1 Предикат Р Карнап называет «наблюдаемым» для субъекта N, если при со-
ответствующих условиях для некоторого предмета а субъект N может прийти к
Решению об истинности предложения «Ра» или «не-Ра» [Карнап, 1959, с. 28].
153
Философия науки
нет) [Ibid., р. 3—4]. Это писалось в 1969 г., но во многом верно и
сегодня1.
С «общепринятым взглядом» на структуру теории сочетается
представление о том, что «конструирование понятий проходит
несколько ступеней: сначала на базе исходных понятий конст-
руируются понятия первой ступени, затем на основе первых
конструируются понятия более высокой ступени, затем — еще
более высокой и т. д. ... Таким образом, ряд ступеней, конст-
руируемых этим способом понятий, упорядочен согласно по-
знавательным связям» [Крафт, 2003, с. 113—114]. В такой упо-
рядоченности Карнап, подобно Дюгему, выделяет три качест-
венно разных уровня утверждений: 1) эмпирические факты
(«наука начинает с непосредственных наблюдений отдельных
фактов. Ничто, кроме этого, не является наблюдаемым»);
2) простые обобщения, которые мы можем непосредственно
проверить, — эмпирические законы, они объясняют2 факты и ис-
пользуются для предсказания фактов («Наблюдения... обнару-
живают в мире определенную повторяемость или регуляр-
ность... Законы науки представляют не что иное, как утвержде-
ния, выражающие эти регулярности настолько точно,
насколько это возможно» [Карнап, 1971, с. 39]); 3) общие прин-
ципы, которые мы можем использовать, чтобы объяснять эмпи-
рические законы: теоретические законы («Так же как отдель-
ные, единичные факты должны занять свое место в упорядо-
ченной схеме, когда они обобщаются в эмпирический закон, —
говорит Карнап, — так и единичные и обособленные эмпириче-
ские законы приспосабливаются к упорядоченной схеме теоре-
тического закона» [Там же, с. 306—307]).
1В последующие десятилетия был сделан еще один шаг — в связи с рядом
проблем, возникающих в рамках «общепринятого взгляда», появился «структу-
ралистский взгляд» на науку (Суппес, Штегмюллер и др.). Однако все они исхо-
дят из представления, что науки определяются своим предметом (объектом) и за-
конами, которые описывают его поведение. Все они подразумевают наличие двух
основных реальностей: теоретических законов, фиксируемых математическими
формулами, и эмпирических фактов (явлений) [Stegmuller, 1979].
2 Поскольку у Карнапа речь идет о «научных» «внутренних вопросах», то его
«объясняют» не сильно отличается от «описывают» у Маха и Дюгема (эта тема
также обсуждается в п. 7.2). «Сегодня, — говорит Карнап, — мы с легкой улыб-
кой думаем о больших спорах вокруг проблемы описание — объяснение. Мы мо-
жем видеть, что каждой из спорящих сторон было что сказать друг другу, но сам
их метод обсуждения вопроса был неверным» [Карнап, 1971, с. 324].
154
Часть I. Глава 5
Качественное отличие теоретических законов заключается в
том, что они используют теоретические термины, в то время как
эмпирические законы включают лишь термины наблюдения. Ответ
на вопросы о том, как могут быть получены и обоснованы теоре-
тические законы, Карнап считает «одной из основных проблем
методологии науки» [ Там же, с. 306—307]. Процесс их создания
ему видится следующим образом.
«Теоретические законы являются, конечно, более общими,
чем эмпирические. Важно понять, однако, — говорит Карнап, —
что к теоретическим законам нельзя прийти, если просто взять
эмпирические законы, а затем обобщить их на несколько ступе-
ней дальше» [Там же, с. 305]. «Теоретические законы отличают-
ся от эмпирических... тем, что содержат термины другого рода.
Термины теоретических законов не относятся к наблюдаемым
величинам... (Здесь и далее курсив мой. — АЛ.) Они являются за-
конами о таких объектах, как молекулы, атомы, электроны, про-
тоны, электромагнитные поля и др.1, которые не могут быть
измерены простым, непосредственным способом» [Там же,
с. 303—304]. «Как физик приходит к эмпирическому закону? Он
наблюдает некоторые события в природе, подмечает определен-
ную регулярность в их протекании, описывает эту регулярность
с помощью индуктивного обобщения... Как могут быть открыты
теоретические законы? — продолжает Карнап. — Мы можем
сказать: «Будем собирать все больше и больше данных, затем
обобщим их за пределы эмпирических законов, пока не придем
к теоретическим законам». Однако никакой теоретический за-
кон не был когда-либо основан таким образом. Мы наблюдаем
камни и деревья... замечаем различные регулярности и описыва-
ем их с помощью эмпирических законов. Но независимо от того,
как долго и тщательно мы наблюдаем такие вещи, мы никогда не
Достигнем пункта, когда мы сможем наблюдать молекулу. Тер-
мин «молекула» никогда не возникнет как результат наблюдений.
По этой причине никакое количество обобщений из наблюдений не
Может дать теории молекулярных процессов. Такая теория долж-
на возникнуть иным путем (т. е. не методом индукции. — АЛ.).
Она выдвигается не в качестве обобщения фактов, а как гипоте-
3О— Из гипотезы выводятся некоторые эмпирические законы, и
эти законы, в свою очередь, проверяются путем наблюдения
1В гл. 7 они названы «идеальными объектами» физики.
155
Философия науки
фактов... Подтверждение таких выводных законов обеспечивает
косвенное подтверждение теоретическому закону... Некоторые
из этих выводных законов могли быть известны раньше (тогда
теория служит их «объяснением». — А.Л.), но теория может так-
же сделать возможным выведение новых эмпирических зако-
нов... Если это имеет место, тогда можно будет сказать, что тео-
рия обеспечивает возможность предсказания новых эмпириче-
ских законов (это Карнап считает «самым важным значением
новой теории». — АЛ.)» [Там же, с. 305—308]. Таким образом,
поздний Карнап, Карнап 1970-х, четко осознает, что связь меж-
ду теоретическим и эмпирическим более сложна, чем полагали
логические позитивисты второй четверти XX в., теории не выво-
дятся непосредственно из опыта. В качестве решения этой «од-
ной из основных проблем методологии науки», которая явно не
решается методом «эмпирической индукции» в духе Ф. Бэкона,
он, как и другие поздние неопозитивисты, выдвигает гипотети-
ко-дедуктивный метод1, описанный в п. 3.2.
5.3. Форма организации знаний
Теперь рассмотрим взгляд логических позитивистов на фор-
мы организации полученных знаний. Доминирующим здесь яв-
ляется представление о кумулятивном характере (типе) развития
науки. Кумулятивизм как общее понятие отвечает «методологи-
ческой установке философии науки, согласно которой развитие
знания происходит путем постепенного добавления новых поло-
жений к накопленной сумме истинных знаний... Эмпиристская
версия кумулягивизма отождествляет рост знания с увеличением
его эмпирического содержания... Рационалистическая — тракту-
ет развитие знания как такую последовательность абстрактных
принципов и теоретических объяснений, каждый последующий
элемент которой включает в себя предыдущий (в частности, но-
вая теория включает старую. — А.Л.)» [Касавин, 1991, с. 1463-
Деятельность ученого, согласно логическому позитивизму, со-
стоит: «1) в установлении новых протокольных предложений;
1В гл. 7 предлагается другая модель построения теории, в центре которой
оказываются «теоретические объекты» (т. е. «идеальные объекты») физики (а Ие
законы).
156
Часть I. Глава 5
2) в изобретении способов объединения и обобщения этих пред-
ложений. Наука только добавляет новые факты и законы» [Ни-
кифоров, 1999, с. 24—25].
Интересным вариантом кумулятивизма, популярным среди
логических позитивистов, был «энциклопедизм». В соответст-
вии с описанным выше «общепринятым взглядом» «научная
теория мыслилась (ими) в виде пирамиды, в вершине которой
находятся основные понятия, определения и постулаты (аксио-
мы. — А.Л.); ниже располагаются предложения, выводимые из
аксиом; вся пирамида опирается на совокупность протокольных
предложений» [Там же]. Наилучшей формой собирания таких
теорий-пирамидок им представлялась энциклопедия. Этот тер-
мин О. Нейрат «предложил... в противовес термину «система»,
под которой подразумевается вид тотальной науки, основанной
на аксиомах...» [Neurath, 1983, р. 48,168]. Последняя предполага-
ла наличие некой единой, по возможности небольшой, системы
аксиом, из которой дедуктивным путем можно вывести все зна-
ния (современная родственная программа называется «теорией
всего»). Примером «системы» являлась программа М. Бунге:
«Любая историческая последовательность научных теорий (с по-
зиций кумулятивизма. — Е.М.) является возрастающей в том
смысле, что каждая новая теория включает... предшествующие
теории. И в этом процессе ничто и никогда не теряется; по суще-
ству, указанная точка зрения предполагает непрерывный рост в
виде аддитивной последовательности теорий, сходящихся к не-
которому пределу, объединяющему все теории в единое целое»
[цит. по: Мамчур, 1987, с. 81]. В противовес такого типа позиции
Нейрат от имени логических позитивистов утверждает: «Наша
научная практика базируется на локальной систематизации, а не
на чрезмерном преклонении перед дедукцией» [Neurath, 1983,
р. 232]. «Для защитников эмпирицистской позиции, — говорит
он, — абсурдно говорить о единственной и тотальной системе
Науки... То, что мы называем «энциклопедией»... не что иное,
®ак предварительное собрание знаний, не чего-то еще неполно-
Ч а тотальность научного материала, имеющегося в распоряже-
нии на данный момент. Марш науки прогрессирует от энцикло-
педий к энциклопедиям. Эту концепцию мы называем энцикло-
педизмом» [Ibid., р. 146]. Этот энциклопедизм является формой
Здания и развития «объединенной науки» путем «кооперации
(Ученых) в плодотворной дискуссии» (курсив мой. — А.Л.) [Ibid.,
157
Философия науки
р. 230]. Образец такой интеграции они видели в кооперации
французских энциклопедистов XVIII в.
Форма организации знаний в виде энциклопедии позволяет
ввести более утонченную процедуру «верификации», которая
учитывает «тезис Дюгема» о невозможности эмпирически вери-
фицировать отдельную теорию или утверждение (см. гл. 3). Ней-
рат наряду со старой процедурой верификации, основанной на
протокольных предложениях, вводит новую процедуру «обосно-
вания». «Если теперь мы найдем, что данное утверждение оказы-
вается в используемой нами энциклопедии или может быть вы-
ведено из утверждений этой энциклопедии, — говорит он, — то
мы можем сказать, что это утверждение обосновано (valid) для
нас. Однако, как уже было показано Дюгемом, Пуанкаре и др.,
мы не можем сказать об изолированном позитивном утвержде-
нии, что оно «обосновано»; это можно сказать только в связи с
массой утверждений, к которым это позитивное утверждение
принадлежит» [Ibid., р. 160—161]. При этом «истинным» (т. е.
положительно верифицированным) является «обоснованное»
утверждение, а «ложным» — противоречащее энциклопедии.
Кроме того, есть бессмысленные «изолированные» утверждения,
которые не могут быть помещены в энциклопедию. «Если мы
исключим такие «изолированные» утверждения, — продолжает
Нейрат, — мы можем построить энциклопедию, которая содер-
жит только утверждения, которые могут быть взаимно связа-
ны...» [Ibid., р. 161].
Проект энциклопедии как формы восстановления единства
познания, создания объединенной науки дополнялся проектом
унификации терминологии на базе «физикализма», понимающего
«физику в ее максимально широком смысле, как сеть законов,
выражающих пространственно-временное связи» [Ibid., р. 49].
«Нельзя было примириться с тем, что понятийные системы фи-
зики, биологии, психологии, социологии, исторических наук не
имеют точек соприкосновения, что каждая из этих наук говорит
на своем собственном языке... — писал Крафт. — Законы и по-
нятия конкретных наук должны принадлежать к одной системе и
находиться во взаимной связи. Они должны быть объединены в
некоторую единую науку с общей системой понятий (с общим
языком). Отдельные науки являются лишь членами этой обшей
системы, а языки этих наук — частями общего языка... В качест-
ве такого языка и такой системы понятий Нейрат и Карнап РаС'
158
Часть I. Глава 5
сматривали прежде всего физику» [Крафт, 2003, с. 176—177]'. То
есть под «общей системой» имелся в виду общий язык, а не общая
теория в смысле Бунге.
Итак, логический позитивизм (эмпиризм), возникший на
пересечении позитивизма, эмпиризма, новой логики и проблем
осмысления новой физики и математики, представлял собой
весьма сложное явление. В 1960—1970-х гг. его теснит постпо-
зитивизм, который подвергает концепции логического позити-
визма критике логической (К. Поппер и др.) и исторической
(И. Лакатос, Т. Кун, П. Фейерабенд и др.). Изложение основ
логического позитивизма (эмпиризма), часто называемого про-
сто «позитивизмом», в этой постпозитивистской критике было
сильно упрощено. Основные черты хрестоматийного неопози-
тивизма: метод верификации, опирающийся на чисто эмпири-
ческие протокольные предложения, простые эмпирические
критерии истинности отдельных утверждений (то, что у Лакато-
са будет подпадать под «джастификационизм») и простая куму-
лятивная модель развития науки. Усложненные варианты типа
«языковых каркасов» Карнапа и «энциклопедии» Нейрата ока-
зываются при этом вытесненными на периферию. Впрочем,
они тоже предполагали «протокольные предложения», индук-
тивные законы и прогрессивное накопление знаний.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Грязнов А.А. (составитель). Аналитическая философия: Избранные тексты.
М.: МГУ, 1993.
Касавин И. Т. Кумулятивизм // Современная западная философия: Словарь.
М.: Политиздат, 1991. С. 142.
Карнап Р. Философские основания физики. М.: Прогресс, 1971.
Карнап Р. Значение и необходимость. М., 1959.
Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма. М.: Идея-пресс,
2003.
1 «Естественно-научные высказывания уже сами по себе являются высказы-
ваниями о вещных пространственно-временных отношениях. Высказывания
РУгих областей науки должны, по меньшей мере, переводиться в такие высказы-
вания». «Единственный научно приемлемый смысл предложений о духовных яв-
ениях может состоять лишь в высказываниях о телесных состояниях» [Крафт,
2о°3, С. 178, 179].
159
Философия науки
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских про-
грамм; История науки и ее рациональные реконструкции // Кун Т. Структура
научных революций. М.: ACT, 2001.
Мамчур Е.А. Проблемы социально-культурной детерминации научного зна-
ния. М.: Наука, 1987.
Никифоров АЛ. Философия науки. История и методология. М.: Дом интел-
лектуальной книги, 1999.
Никифоров АЛ. Протокольные предложения // Современная западная фи-
лософия: Словарь. М.: Политиздат, 1991. С. 252—253.
Печенкин А.А. (составитель). Современная философия науки: Хрестоматия.
М.: Наука, 1994.
Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: УРСС, 2002.
Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М.: Нау-
ка, 1977.
Neurath О. Philosophical papers 1913—1946. Dordrecht; Boston; Lancaster,
1983.
Stegmuller IF. The Structuralist View of Theories. Berlin; N.Y., 1979.
Suppe F. The Search for Philosophic Understanding of Scientific Theories // The
Structure of Scientific Theories (Ed. with a critical introduction by Frederick Suppe).
Urbana; Chicago; London, 1974. P. 3—241.
ВОПРОСЫ
1. Что такое принцип верификации?
2. Что такое «протокольные предложения»?
3. Каков взгляд логических позитивистов на метафизику?
4. Какова структура теории эмпирической науки в «стандартной
(общепринятой) модели» логических позитивистов?
5. Что такое «ненаблюдаемые»?
6. Что такое «гипотетико-дедуктивный метод» и его место в по-
строениях логических позитивистов?
7. В чем суть «модели энциклопедии» как формы организации на-
учного знания?
8. Что такое кумулятивный характер роста научного знания?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма М.: Идея-пресс,
2003.
Никифоров АЛ. Философия науки. История и методология. М.: Дом интел-
лектуальной книги, 1999.
Современная западная философия: Словарь. М.: Политиздат, 1991.
Глава 6
ПОСТПОЗИТИВИЗМ
К середине XX в. в рамках третьего, логического позитивиз-
ма (неопозитивизма) происходит быстрое усложнение теорети-
ко-познавательных конструкций за счет введения аппарата ма-
тематической логики и все более тонкой и рафинированной ра-
боты с ним. В результате на новом витке повторяется ситуация,
характерная для кануна позитивизма в XIX в., — отрыв филосо-
фии науки (в основе которой теперь лежит логика, а не
метафизика) от сообщества ученых. «Домашней философией»
последних, как и столетием раньше, становятся различные со-
четания приведенных выше взглядов: «наивного реализма», вы-
раженного М. Планком (п. 3.2), и второго позитивизма, к кото-
рому примыкали некоторые конструктивистские идеи К. Поп-
пера.
Так, в письме к Морису Соловину (от 7 мая 1952 г.) А. Эйн-
штейн писал:
«Схематически эти вопросы (гносеологические. — А.Л.) я
представляю себе так (сх. 6.1).
(1) Нам даны Е — непосредственные данные нашего чувст-
венного опыта.
(2) А — это аксиомы, из которых мы выводим заключения.
Психологически А основаны на Е. Но никакого логического
пути, ведущего от £ к Л, не существует. Существует лишь ин-
туитивная (психологическая) связь, которая постоянно «возоб-
новляется».
(3) Из аксиом А логически выводятся ча-
стные утверждения S, которые могут пре-
тендовать на строгость.
(4) Утверждения S, S', 5" сопоставляются
с Е (проверка опытом).
Строго говоря, эта процедура относится
К внелогической (интуитивной) сфере...»
Схема 6,1
161
6
Философия науки
Философия науки
{Эйнштейн, т. 4,1967, с. 569—570]. «Я думаю (подобно Вам, меж-
ду прочим), — пишет он в письме к Попперу по поводу этой про-
цедуры, — что теория не может быть получена из результатов на-
блюдений, но может быть только изобретена» [Эйнштейновский
сборник, 1972, с. 284].
Эта схема имеет много общих черт с представлениями о нау-
ке П. Дюгема и А. Пуанкаре и с гипотетико-дедуктивным мето-
дом.
Таким образом, можно констатировать, что во второй чет-
верти XX в., когда революции в физике завершились (теория от-
носительности и современная квантовая механика были уже соз-
даны) и физика снова вступила в относительно спокойный этап
развития, интерес к философии в среде ученых упал, и стреми-
тельно усложнявшиеся построения логического позитивизма их
задевали не очень сильно. Наиболее философствующими среди
ученых были физики-теоретики, но они, следуя А. Эйнштейну, в
основном довольствовались уровнем обсуждения второго пози-
тивизма, отвечавшего предреволюционной эпохе конца XIX —
начала XX в. Влияние логического позитивизма было заметным
лишь в философии квантовой механики, в которой активное
участие принимали многие крупные физики-теоретики. Но фи-
лософия квантовой механики к этому времени перестала взаи-
модействовать с самой квантовой механикой, перешедшей из
стадии становления, когда это взаимодействие было существен-
ным, в стадию роста.
В философии науки на смену логическому позитивизму,
программа которого, как было отмечено в конце предыдущей
главы, к середине XX в. выдыхается, приходит постпозитивизм,
в центре внимания которого находятся процессы развития и
функционирования научного знания и научные революции. Яв-
ляясь новым словом в философии науки, постпозитивизм обра-
зует область, относительно малоизвестную ученым. Он проще
логического позитивизма по своему языку и аппарату, но психо-
логически сложнее, ибо обсуждаемые здесь идеи противоречат
многим привычным установкам ученых. Впрочем, подобным ка-
чеством обладал и махизм для ученых XIX в.
Одной из вех, обозначивших наступление так называемого
«постпозитивистского» периода, стало английское переиздание
книги К. Поппера «Логика научного исследования» (1959), на-
писанной им за четверть века до этого на немецком языке (но
162
Часть I. Глава 6
тогда, во время расцвета логического позитивизма, она не про-
извела заметного эффекта). Попперовская критика логического
позитивизма была многократно усилена его талантливыми уче-
никами — И. Лакатосом, П. Фейерабендом и др. Другим героем
наступления на логический позитивизм и одновременно оппо-
нентом К. Поппера (который тем не менее оказал на него силь-
ное влияние) был Т. Кун со своей книгой «Структура научных
революций» (1962).
В результате концепции логического позитивизма подверга-
ются логической (К. Поппер, В. Куайн1, Б. ван Фраасен и др.) и
исторической (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд и др.) крити-
ке. По словам известного философа науки Марии Хессе, эти
постпозитивистские программы «оказались вполне очевидной
реакцией на ту революционную ситуацию в философии науки
1960-х гг., когда идеи теоретического иммунитета («теоретиче-
ской нагруженности» эмпирических данных. — А.Л.) и научных
революций превратили в развалины тщательно разработанную и
специфицированную программу позитивистской и гипотети-
ко-индуктивистской философии науки» [Порус, 1984, с. 109].
1 Современник Поппера У. Куайн (1908—2000) является наследником амери-
канского прагматизма, считающим «концептуальную схему науки инструмен-
том... для предсказания будущего опыта, исходя из прошлого опыта». Он начал
критику неопозитивизма еще в 50-х гг. Его «влияние... на философскую жизнь
США сопоставимо с влиянием К. Поппера на философскую жизнь Европы».
В 1953 г. он опубликовал свои «Две догмы эмпиризма», где оспорил позицию
крупнейшего представителя логического позитивизма Р. Карнапа и его концеп-
цию языковых каркасов (гл. 5). Там он указывает «на две обусловливающие одна
другую предпосылки карнаповской точки зрения — дихотомию (противопоставле-
ние) аналитического и синтетического (введенное еще Кантом (гл. 2). — А.Л.) и ре-
дукционизм (имеется в виду позиция, утверждающая непосредственную или
опосредованную сводимость теоретических предложений и терминов к некоей
общей эмпирии, базирующейся на данных наблюдения и экспериментов)», ко-
торые он характеризует как «догмы эмпиризма». Понимая под онтологией «сово-
купность объектов, существование которых предполагается теорией», он форму-
лирует тезис «онтологической относительности»: онтология «относительна той
теории, интерпретацией которой она является». Это предтеча близкому по духу
более позднему тезису о «несоизмеримости теорий» Т. Куна и П. Фейерабенда
(п. 6.5). Продолжая идеи П. Дюгема о целостности физической теории (см. гл. 3),
Куайн сформулировал известный «тезис Дюгема—Куайна»: «Наши предложения
° внешнем мире предстают перед трибуналом чувственного опыта не индивиду-
ально, а только как единое целое» (цит. по: Печенкин, 1994, с. 14—20). Но, зани-
жая почетное место в истории постпозитивизма, Куайн в отличие от К. Поппера,
Т. Куна и И. Лакатоса не создавал новых моделей развития науки. Поэтому спе-
циально останавливаться на Куайне не будем.
163
Философия науки
Крушение программы логических позитивистов способствовало
росту скептических и иррационалистических учений. «Критиче-
ский рационализм» К. Поппера и И. Лакатоса выступал альтер-
нативой, как тех, так и других.
«Среди разнообразных проблем, обсуждаемых в философии
науки 1960—1980-х гг., на первый план, — утверждает М. Хес-
се, — выходят два круга вопросов: методология историко-науч-
ных исследований и онтология научных теорий» [Там же], т. е.
вопросов истории развития науки и отношение научной теории к
реальности.
Первый круг вопросов разрабатывается К. Поппером, Т. Ку-
ном и И. Лакатосом, спорящими между собой, но выступающи-
ми единым фронтом против логических позитивистов.
Второй круг вопросов выявляется в спорах между «конструк-
тивистами» («инструменталистами») и реалистами, которые де-
лятся на «метафизических» (или «наивных») реалистов (типа
М. Планка) и более утонченных реалистов-реформаторов (типа
«критических рационалистов»).
6.1. От верификационизма к фадьсификационизму
«критического рационализма» Поппера—Лакатоса
Фальсифицируемость как критерий научности по К. Попперу
Карл Поппер (1902—1994) — основатель «критического ра-
ционализма», в основе которого лежит принцип фальсифика-
ции.
Еще в 1930-х гг. К. Поппер выдвинул в качестве центральной
«проблему демаркации», т. е. «проблему нахождения критерия,
который дал бы нам в руки средства для выявления различия ме-
жду эмпирическими науками, с одной стороны, и математикой,
логикой и «метафизическими» системами — с другой» [Поппер,
1983, с. 55]. Тесно связанной с проблемой демаркации оказалась
«проблема индукции», ибо в позитивизме (как логическом, так и
более раннем) именно индукция претендовала на решение про-
блемы демаркации [Там же]. Действительно, хотя процедура ве-
рификации прямо не использовала метод индукции, но в про-
цессе образования научного знания, опирающегося на опыт,
логические позитивисты подразумевали стандартную эмпириче-
164
Часть I. Глава 6
скую последовательность: эмпирические факты -> эмпирические
законы -»научные теории (теоретические законы), в которой, по
крайней мере, первый этап предполагал использование метода
эмпирической индукции (на втором этапе могла использоваться
либо та же индукция, либо гипотетико-дедуктивная схема).
Поппер связывал проблемы верификации и индукции следую-
щим образом.
Под «традиционной философской проблемой индукции» он под-
разумевал формулировки, подобные следующим: «Чем можно
обосновать веру в то, что будущее будет (в большой мере) таким
же, как прошлое (типа «Солнце опять взойдет». — АЛ.)?» Ее он
переформулировал сначала в более строгой логической форме:
«Оправдан ли в наших рассуждениях переход от случаев, [по-
вторно] встречавшихся в нашем опыте, к другим случаям [за-
ключениям], с которыми мы раньше не встречались?» — а затем
в виде, очень напоминающем формулировку принципа верифи-
кации: «Можно ли истинность некоторой объяснительной уни-
версальной теории1 оправдать... предположением истинности оп-
ределенных проверочных высказываний, или высказываний на-
блюдения (которые, можно сказать, «основаны на опыте»)?
«Мой ответ на эту проблему, — говорит Поппер, — такой же, как
у Юма: нет, это невозможно; никакое количество истинных про-
верочных высказываний не может служить оправданием истин-
ности объяснительной универсальной теории» [Поппер, 2002,
с. 18—19]2. «Сколько бы примеров появления белых лебедей мы
ни наблюдали, все это не оправдывает заключения: «Все лебеди
белые», — говорит Поппер [Поппер, 1983, с. 46—47].
Однако «заменой слова «истинность» словами «истинность
или ложность» Поппер модифицирует принцип верификации в
«принцип фальсификации», позволяющий ему дать утверди-
тельный ответ на поставленный вопрос: «Да, предположение ис-
тинности проверочных высказываний иногда позволяет нам оп-
равдать утверждение о ложности объяснительной универсаль-
ной теории... если повезет. Ведь может так случиться, что наши
проверочные утверждения опровергнут некоторые — но не все —
1 «Сингулярными», или «единичными (частными)», называются высказывания
типа отчетов о результатах наблюдений или экспериментов, а «универсальны-
ми» — высказывания типа гипотез или теорий.
2 Здесь и далее принято, что внутри цитат выделение полужирным шрифтом
Принадлежит автору цитаты, а курсивом — автору главы.
165
Философия науки
из конкурирующих теорий, а так как мы ищем истинную тео-
рию, то отдадим предпочтение тем из них, ложность которых по-
ка еще не установлена» [Поппер, 2002, с. 18—19].
Отсюда следует попперовское утверждение (которое потом
критически обсуждается Лакатосом), что теоретик «стремится по
отношению к каждой данной неопровергнутой теории приду-
мать случаи или ситуации, при которых, если она ложна, ее лож-
ность могла бы проявиться. Таким образом, он будет пытаться
спланировать строгие испытания и решающие проверочные си-
туации» [Там же, с. 25, 28].
Итак, из введения критерия «ложности» вытекает принцип
«фальсификации», или метод «критической проверки теорий»
(который Поппер противопоставляет соответственно методу ин-
дукции и принципу «верификации» логических позитивистов):
теория научна, если она содержит такие рискованные для нее
высказывания-фальсификаторы, которые в случае отрицатель-
ного результата однозначно фальсифицируют теорию. «Из дан-
ной теории, — говорит Поппер, — с помощью других, ранее при-
нятых высказываний выводятся некоторые сингулярные выска-
зывания... Из них выбираются высказывания, не сводимые к до
сих пор принятой теории и особенно противоречащие ей. Затем
мы пытаемся вывести некоторые решения относительно этих
(и других) выводимых высказываний путем сравнения их с ре-
зультатами практических применений и экспериментов. Если
такое решение положительно... то теория может считаться в на-
стоящее время выдержавшей проверку, и у нас нет оснований
отказываться от нее. Но если вынесенное решение отрицатель-
ное или, иначе говоря, если следствия оказались фальсифициро-
ванными, то фальсификация их фальсифицирует и саму теорию, из
которой они были логически выведены... Отметим, что в кратко
очерченной процедуре проверки теорий нет и следа индуктив-
ной логики» [Поппер, 1983, с. 52—54]. Таким образом, научность
теории связывается Поппером с возможностью ее фальсифика-
ции, а основное в науке — поиск критических проверок. В этом
и состоит принцип демаркации: научная теория — это такая тео-
рия, которая имеет непустое множество фальсификаторов, т. е.
утверждений, опровержение которых влечет за собой фальсифи-
кацию самой теории. «Теории», подобные марксизму и фрейдиз-
му, могут любое утверждение проинтерпретировать как не пр°"
тиворечащее их положениям, поэтому они не научны.
166
Часть I. Глава 6
Это описание фальсификационизма очень похоже на опи-
санный ниже И. Лакатосом «догматический» фальсификацио-
низм. Однако, основываясь на других высказываниях К. Поппе-
ра, которые можно добавить к приведенным выше, Лакатос от-
носит попперовский фальсификационизм к более развитому
«методологическому» фальсификационизму.
Эволюция фальсификационизма по И. Лакатосу
Если К. Поппер приходит к фальсификационизму как логик,
решающий проблему демаркации, то И. Лакатос — как историк.
Он рассматривает фальсификационизм как развивающееся на-
правление философии науки, нацеленное на создание понятий-
ного аппарата для описания реальной истории науки.
Философия науки вплоть до логического позитивизма XX в.
характеризуется Лакатосом как джастификационизм (от англ.
justification — «подтверждение» или «оправдание»). «Джастифи-
кационисты» полагают, будто научное знание состоит из доказа-
тельно обоснованных высказываний. Признавая, что чисто логи-
ческая дедукция позволяет только выводить одни высказывания
из других (переносить истинность), но не обосновывать (уста-
навливать) истинность, они по-разному решают вопрос о приро-
де тех высказываний, истинность которых устанавливается и
обосновывается внелогическим образом» [Лакатос, 2001, с. 276].
Один путь обоснования предлагают рационалисты-кантианцы,
фигурирующие у Лакатоса под именем «классические интеллек-
туалисты (в более узком смысле — «рационалисты»)». Они ис-
пользовали аналоги априорных форм Канта и ориентировались
на неизменность теорий и законов ньютонианской физики и
евклидовой геометрии. Другой, более популярный в XX в., путь
предлагали «классические эмпирицисты» (т. е. логические пози-
тивисты). Они «считают такими основаниями только сравни-
тельно небольшое множество «фактуальных высказываний», вы-
ражающих «твердо установленные факты». Значение истинно-
сти таких высказываний устанавливается опытным путем, и все
они образуют эмпирический базис науки (это не что иное, как
описанная в гл. 5 процедура верификации. — АЛ.)... Все джасти-
фикационисты, будь то интеллектуалисты или эмпирицисты, со-
гласны в том, что единичного высказывания, выражающего твердо
Установленный факт, достаточно для опровержения универсаль-
ны
Философия науки
ной теории (но лишь немногие осмеливаются утверждать, что ко-
нечной конъюнкции1 фактуальных высказываний достаточно
для «индуктивного» доказательного обоснования универсальной
теории)... Но и те, и другие (и рационалисты, и эмпирицисты. —
АЛ.) терпят поражение: кантианцы — от удара, нанесенного не-
евклидовой геометрией и неньютоновской физикой (имеются в
виду теория относительности и квантовая механика. — А.Л.), эм-
пирицисты — от логической невозможности положить в основа-
ние знания чисто эмпирический базис... и индуктивную логику...
Отсюда следовало, что все теории в равной степени не могут иметь
доказательного обоснования [Там же, с. 276—277]. То есть преж-
ние схемы подтверждения научного знания не выдерживают
критики, что приводит к скептицизму и «открывает дверь ирра-
ционализму, мистике, суевериям», утверждает Лакатос [Там же,
с. 277]. Поппер показал безуспешность попытки решения этой
проблемы со стороны «пробабилистов», полагавших, что, «хотя
научные теории равно необоснованны, они все же обладают раз-
ными степенями вероятности... по отношению к имеющемуся
эмпирическому подтверждению» [Там же, с. 278]. Поппер пока-
зал, что «все теории не только равно необоснованны, но и равно не-
вероятны» [Там же].
Ввиду этой неудачи эстафета переходит от джастификацио-
низма, бывшего «господствующей традицией рационального
мышления на протяжении столетий» [Там же, с. 277], к фальси-
фикационизму. При этом Лакатос различает несколько последова-
тельно усложняющихся форм фальсификационизма: «догматиче-
ский» (или «натуралистический»), «методологический» (К. Поппе-
ра) и «утонченный методологический» (самого Лакатоса).
Согласно «догматическому» (или «натуралистическому») фаль-
сификационизму «все без исключения научные теории опровер-
жимы, однако существует некий неопровержимый эмпирический
базис. Это — строгий эмпирицизм, но без индуктивизма; неоп-
ровержимость эмпирического базиса не переносится на теории».
Такой фальсификационизм можно считать более слабым вари-
антом джастификационизма. Его последователь «верит эмпири-
ческому контрсвидетельству, считая его единственным арбитром,
выносящим приговор теории» [Там же, с. 278—279]. При этом
1 Операция математической логики, соединяющая два или более высказыва-
ния при помощи союза, сходного с союзом «и».
168
Часть I. Глава 6
«теория научна, если у нее есть эмпирический базис», который
представляет собой «множество потенциальных фальсификато-
ров, т. е. множество тех предложений наблюдения, которые мо-
гут опровергнуть эту теорию» [Там же, с. 282]. Суть научности
здесь состоит в том, что «научные» высказывания должны иметь
непустое множество фальсификаторов... Фальсификационист
требует, чтобы опровергнутое высказывание безоговорочно от-
вергалось без всяких уверток... нефальсифицируемые высказыва-
ния [он]... зачисляет... в «метафизические» и лишает их права на
гражданство в науке. Догматический фальсификационист четко
различает теоретика и экспериментатора', теоретик предполага-
ет, экспериментатор — во имя Природы — располагает ...Рост
науки — это раз за разом повторяющееся опрокидывание теорий, на-
талкивающихся на твердо установленные факты» [ Там же, с. 280].
Но во-первых, «нет никакой естественной демаркации между
предложениями наблюдения и теоретическими предложениями»
(например, Галилей наблюдал горы на Луне и пятна на Солнце
не непосредственно глазом, а с помощью подзорной трубы, для
обоснования применимости которой пришлось создать соответ-
ствующую оптическую теорию).
Во-вторых, «никакое фактуальное предложение не может быть
доказательно обосновано экспериментом... Фактуальные предло-
жения... могут быть ошибочными (это знали еще древнегрече-
ские философы, указывая на то, что весло, погруженное в воду,
представляется изломанным. — А.Л.). Следовательно, мы не мо-
жем не только доказательно обосновывать теории, но и опроверг-
нуть их. Никакой демаркации между рыхлыми недоказуемыми
«теориями» и жесткими, доказательно обоснованными предло-
жениями «эмпирического базиса» не существует: все научные
предложения являются теоретическими и, увы, погрешимыми»
[Там же, с. 282—284].
В-третьих, «если даже эксперименты могли бы доказательно
обосновывать свои результаты, их опровергающая способность
была бы до смешного ничтожной: наиболее признанные научные
теории характеризуются как раз тем, что не запрещают никаких на-
блюдаемых состояний... В самом деле, научные теории исключают
Какие-либо события в определенных... уголках Вселенной... только
При условии, что эти события не зависят от каких-либо неучтен-
ных... факторов. Но это значит, что такие теории никогда не
Могут противоречить отдельному «базисному» предложению...
169
Философия науки
Поппер спрашивает: «Какого же рода клинические реакций мог-
ли бы в глазах психоаналитика опровергнуть не только отдель-
ный его диагноз, но и психоанализ в целом?» «А какое наблюде-
ние могло бы опровергнуть в глазах ньютонианца не только ка-
кое-нибудь частное объяснение, но саму теорию Ньютона?»
[ Там же, с. 284, 286, 389] — спрашивает Лакатос и приводит ги-
потетическую «историю о том, как неправильно вели себя пла-
неты», состоящую из длинной и в принципе неограниченной
последовательности из теоретических утверждений, вводящих
все новые факторы (неизвестная планета, трудности ее наблюде-
ния из-за малости размеров (надо строить новый телескоп), ее
скрытость космическим облаком пыли (надо послать спутник) и
т. д.), и отвергающих их наблюдений [Там же, с. 284—286].
Итог: «Догматический фальсификационист, в соответствии
со своими правилами, должен отнести даже самые значительные
научные теории к метафизике... [т. е. он] оказывается в высшей
степени антитеоретическим» [Там же, с. 287].
Выход из этого положения в рамках фальсификационизма
Лакатос видит во включении в фальсификационизм элементов
конвенционализма, превращающих фальсификационизм в «мето-
дологический фальсификационизм». «Методологическое открытие
конвенционалистов», согласно Лакатосу, состояло «в том, что
никакой экспериментальный результат не может убить теорию;
любую теорию можно спасти от контрпримеров посредством не-
которой вспомогательной гипотезы либо посредством соответст-
вующей переинтерпретации ее понятий» [Там же, с. 304].
При этом Лакатос вводит различие между «пассивной» и «ак-
тивной» теориями познания (в п. 6.4 они называются реализмом
и конструктивизмом). «Пассивисты» полагают, что истинное
знание — это след, который оставляет Природа на совершенно
инертном сознании; активность духа обнаруживается только в
искажениях и отклонениях от истины. Самой влиятельной шко-
лой пассивистов является классический эмпирицизм. Привер-
женцы «активной» теории познания считают, что Книга Приро-
ды не может быть прочитана без духовной активности; наши
ожидания или теории — это то, с помощью чего мы истолковы-
ваем ее письмена. Консервативные «активисты» полагают, что
базисные ожидания врожденны... Идея о том, что мы живем и
умираем, не покидая тюрьмы своих «концептуальных каркасов»,
восходит к Канту (к его априорным формам чувственности и
170
Часть I. Глава 6
рассудка. — А.Л.)... «Революционные активисты» верят, что кон-
цептуальные каркасы могут развиваться и даже заменяться но-
выми, лучшими» [Там же, с. 290].
Мягкий вариант консервативной позиции представляет Пу-
анкаре, который предпочитал «объяснять непрерывные успехи
ньютоновской механики методологическим решением ученых.
Это значит, что, находясь под впечатлением длительного перио-
да эмпирических успехов этой теории, ученые могут решить, что
опровергать эту теорию вообще непозволительно» [Там же], т. е.
ее надо спасать с помощью «дополнительных гипотез» и/или
«переинтерпретации понятий».
Однако в рамках такого конвенционализма, который Лака-
тос назвал «консервативным», не решается «проблема элимина-
ции (т. е. исключения. — А.Л.) теорий, торжествовавших в тече-
ние длительного времени... Критики Пуанкаре отвергли его
идею, сводящуюся к тому, что, хотя ученые сами строят свои
концептуальные каркасы, приходит время, когда эти каркасы
превращаются в тюрьмы, которые уже нельзя разрушить. Из
этой критики выросли две соперничающие школы революционного
конвенционализма: симплицизм Дюгема и методологический
фальсификационизм Поппера.
Как конвенционалист, Дюгем считает, что никакая физиче-
ская теория не может рухнуть от одной только тяжести «опровер-
жений», но все же она обрушивается от «непрерывных ремонтных
работ и множества подпорок»... «Тогда теория утрачивает свою
простоту и должна быть заменена... [Но тогда] фальсификация
теории зависит от чьего-либо вкуса» [Там же, с. 291].
«Поппер вознамерился найти более объективный и более
точный критерий... Эта методология соединяет в себе и конвен-
ционализм, и фальсификационализм, но, пишет он, «от (консерва-
тивных) конвенционалистов меня отличает убеждение в том, что
по соглашению мы выбираем не универсальные, а сингулярные
высказывания» [Поппер, 1983, с. 145]... Методологический фаль-
сификационист отдает себе отчет в том, что в «эксперименталь-
ную технику», которой пользуется ученый, вовлечены подвер-
женные ошибкам теории, «в свете которых» интерпретируются
факты. И все же, «применяя» эти теории, он рассматривает их в
Данном контексте не как теории, подлежащие проверке, а как
Непроблематичное исходное знание (background knowledge), кото-
рое мы принимаем (условно, на риск) как бесспорное на время
171
Философия науки
проверки данной теории» [Лакатос, 2001, с. 291—292]. Эти тео-
рии можно назвать «наблюдательными» (например, оптическая
теория телескопа у Галилея при наблюдении спутников Юпите-
ра). «Методологический фальсификационист использует наибо-
лее успешные теории как продолжение наших чувств... Для этого
вида методологического фальсификационизма характерна необхо-
димость принятия решений, которыми проверяемая теория отгра-
ничивается от непроблематичного исходного знания» [Там же,
с. 293].
Итак, для этого (попперовского) вида методологического
фальсификационизма мы имеем два «конвенциональных эле-
мента». Один «позволяет считать теорию «наблюдательной» (в
методологическом смысле)», другой связан с фальсификатора-
ми: какой конкретно фальсификатор будет принят, «зависит от
вердикта ученых-экспериментаторов. Именно так методологи-
ческий фальсификационист устанавливает свой «эмпирический
базис»1 [Там же, с. 293—294].
Методологический фальсификационист понимает, что, с од-
ной стороны, ««фальсифицированная теория» все же может быть
истинной» (т. е. данная фальсификация данной теории впослед-
ствии может быть признана ошибочной), а с другой стороны,
«если мы хотим примирить фаллибилизм с рациональностью... то
обязаны найти способ элиминировать некоторые теории. Если это
не получится, рост науки будет не чем иным, как ростом хаоса...
[Следовательно], с методологической точки зрения элиминация
должна быть окончательной» [Там же, с. 294—295]. Отсюда сле-
дует «новый критерий демаркации»: теория является «научной»,
если она имеет «эмпирический базис» [Там же, с. 295], который
отличается от «старого» критерия демаркации догматического
фальсификационизма тем, что в «новом» в «эмпирический ба-
зис» включены указанные выше два «конвенциональных эле-
мента». «Эмпирический базис» теории — это понятие относи-
тельное... В плюралистической модели расхождение имеется не
между «теорией» и «фактами», а между двумя теориями высших
уровней: между интерпретативной теорией, с помощью которой
1 Словосочетание «эмпирический базис» Лакатос употребляет в кавычках то-
гда, когда оно относится к методологическому фальсификационизму, т. е. вклю-
чает конвенциональные элементы, а без кавычек — когда оно относится к догма-
тическому фальсификационизму.
172
Часть I. Глава 6
возникают факты, и объяснительной теорией, при помощи ко-
торой эти факты получают объяснение». Отсюда возникает про-
блема, которая «состоит в том, какую теорию считать интерпрета-
тивной, то есть обеспечивающей «твердо установленные факты», а
какую — объяснительной, «гипотетически» объясняющей их...»
[Там же, с. 319]. «Мы не можем отделаться от проблемы «эмпи-
рического базиса», если хотим учиться у опыта, но мы можем
сделать познание менее догматичным, хотя и менее быстрым, и
менее драматичным» [Там же, с. 320].
«Методологический критерий демаркации куда более либе-
рален, чем догматический. Методологический фальсификацио-
низм раскрывает перед критицизмом новые горизонты: гораздо
больше теорий квалифицируются как научные» [Там же, с. 295].
Однако, пишет Лакатос, «не так уж трудно заметить две харак-
терные черты и догматического, и методологического фальси-
фикационизма, вступающие в диссонанс с историей науки'.
1) проверка является (или должна быть) обоюдной схваткой
между теорией и экспериментом; в конечном итоге, только эти про-
тивоборствующие силы остаются один на один;
2) единственным важным для ученого результатом такого про-
тивоборства является фальсификация: «настоящие открытия — это
опровержения научных гипотез».
Однако история науки показывает нечто иное: 1) проверка —
это столкновение, по крайней мере, трех сторон: двух соперни-
чающих теорий и эксперимента; 2) некоторые из наиболее инте-
ресных экспериментов дают скорее подтверждения, чем опро-
вержения» [Там же, с. 302].
Что же делать? «Можно... — говорит Лакатос, — пытаться
объяснять переходы от одних «парадигм» к другим, положив в ос-
нование социальную психологию. Это путь Полани1 и Куна. Аль-
тернатива этому — ... заменить наивный вариант методологиче-
ского фальсификационизма... новой, утонченной версией... и та-
ким образом спасти идею методологии, идею прогресса научного
знания. Это путь Поппера, и я намерен следовать по этому пути»
[Там же, с. 303].
1 Имя Майкла Полани (1891—1976) — автора «Личностного знания» обычно
Употребляется в одном ряду с именами Куна и Фейерабенда. Его пафос заклю-
чался в «преодолении ложного идеала деперсонифицированного научного зна-
ния» [Малахов, Филатов, 1991, с. 235] (см. с. 206).
173
Философия науки
На этом пути Лакатос создает свой «утонченный методологи-
ческий фальсификационизм», или, что то же самое, методологию
«исследовательских программ». «Характерным признаком утон-
ченного фальсификационизма является то, что он вместо поня-
тия теории вводит в логику открытия в качестве основного поня-
тия ряда теорий. Именно ряд или последовательность теорий, а не
одна изолированная теория оценивается с точки зрения научности
или ненаучности. Но элементы этого ряда связаны замечательной
непрерывностью, позволяющей называть этот ряд исследова-
тельской программой» [Там же, с. 321]. «Утонченный фальсифи-
кационизм отличается от наивного фальсификационизма как
своими правилами принятия (или «критерием демаркации»), так
и правилами фальсификации или элиминации» [Там же, с.304].
«Наивные фальсификационисты выдвигали на первый план
«опровержения». Методологические фальсификационисты по-
лагали, что решающую роль играет подкрепленная добавочная
информация» [Там же, с. 308]. «Для утонченного фальсифика-
циониста теория «приемлема» или «научна» только в том случае,
если она имеет добавочное подкрепленное эмпирическое содер-
жание по сравнению с предшественницей (или соперницей),
т. е. если только она ведет к открытию новых фактов... Утончен-
ный фальсификационист признает теорию Т фальсифицирован-
ной, если, и только если, предложена другая теория Т' со сле-
дующими характеристиками: 1) Т имеет добавочное эмпириче-
ское содержание по сравнению с Т, т. е. она предсказывает
факты новые, невероятные с точки зрения Т или даже запрещае-
мые ею; 2) Т' объясняет предыдущий успех Т, т. е. все неопро-
вергнутое содержание Т (в пределах ошибки наблюдения) при-
сутствует в Г; 3) какая-то часть добавочного содержания Т' под-
креплена» [Там же, с. 304].
Эти правила позволяют Лакатосу ввести «непрерывную»
(кумулятивную) «последовательность теорий» Ть Т2, Т3, ..., «где
каждая последующая теория получена из предыдущей путем до-
бавления к ней вспомогательных условий... чтобы устранить не-
которую аномалию». Для этой «последовательности теорий»
вводится ряд критериев «прогрессивности». «Такая последова-
тельность теорий является теоретически прогрессивной (или об-
разует теоретически прогрессивный сдвиг проблем), если каждая
новая теория имеет какое-то добавочное эмпирическое содер-
жание по сравнению с ее предшественницей, т. е. предсказыва-
174
Часть I. Глава 6
ет некоторые новые, ранее не ожидаемые факты... Теоретически
прогрессивный ряд теорий является также и эмпирически про-
грессивным (или «образует эмпирически прогрессивный сдвиг про-
блем»), если какая-то часть этого добавочного эмпирического
содержания является подкрепленной, если каждая новая теория
ведет к действительному открытию новых фактов'... Назовем
сдвиг проблем прогрессивным, если он и теоретически, и эмпи-
рически прогрессивен, и регрессивным — если нет1 2... Утончен-
ный фальсификационизм, таким образом, сдвигает проблему с
оценки теорий на оценку ряда (последовательности) теорий. Не
отдельно взятую теорию, а лишь последовательность теорий
можно назвать научной или ненаучной». Применять определе-
ние «научная» к отдельной теории — решительная ошибка» [ Там
же, с. 306]. (То, что у Поппера понятия «теория» и «последова-
тельность теорий» сливаются в одно, не позволило ему более
успешно развить основные идеи утонченного фальсификацио-
низма.) [Там же, с. 395—396.]
«В утонченном методологическом фальсификационизме соеди-
нились несколько различных традиций. От эмпирицистов он
унаследовал стремление учиться прежде всего у опыта. От кан-
тианцев он взял активистский подход к теории познания.
У конвенционалистов он почерпнул важность решений в мето-
дологии... Эмпиризм (т. е. научность) и теоретическая прогрес-
сивность неразрывно связаны», — утверждает Лакатос [Там же,
с. 310]. «Идея роста науки и ее эмпирический характер соединя-
ются в нем в одно целое... Если фальсификация зависит от воз-
никновения лучших теорий, от изобретения таких теорий, ко-
торые предвосхищают новые факты, то фальсификация являет-
ся не просто отношением между теорией и эмпирическим
базисом, но многоплановым отношением между соперничаю-
щими теориями, исходным «эмпирическим базисом» и эмпири-
1 «Так называемые эмпирические обобщения не составляют прогресса. Но-
вый факт должен быть невероятным или даже невозможным в свете предшест-
вующего знания».
2«Могут спросить, уместен ли термин «сдвиг проблем», когда речь идет о
Последовательности теорий, а не проблем. Отчасти я остановился на нем, — объ-
ясняет Лакатос, — потому, что не нашел лучшего... отчасти же потому, что тео-
рии всегда проблематичны, они никогда не решают всех проблем, которые стоят
перед ними... [Кроме того, далее] этот термин... будет заменен более естествен-
ным термином — «исследовательская программа».
175
Философия науки
ческим ростом, являющимся результатом этого соперничества.
Тогда можно сказать, что фальсификация имеет «исторический
характер» [Там же, с. 307].
6.2. Рост научного знания
и проблема объективной истины у К. Поппера
Поппера волнует «проблема демаркации» между наукой и
ненаукой. Он, как и логические позитивисты, решает ее посред-
ством опоры на опыт, но делает это не с помощью метода индук-
ции и принципа верификации, которые становятся предметом
его критики, а посредством «принципа фальсификации» — цен-
трального пункта концепции Поппера. С этим принципом свя-
зан взгляд на развитие науки как движение от старых проблем к
новым проблемам (а не от старых достижений к новым), фалли-
билизм (погрешимость и временность всех научных теорий) и
критерий отбора лучших теорий. Такой взгляд на развитие науки
Поппер пытается увязать с верой в реалистический и объектив-
ный характер науки. В связи с этим он обсуждает проблему су-
ществования объективной истины и создает концепцию трех
миров, главным из которых является «третий мир», в котором и
живет объективная истина.
Критическая проверка теорий
Выдвижение принципа фальсификации в качестве основно-
го критерия научности было у Поппера тесно связано с его моде-
лью развития науки через предположения и опровержения. «Мы
можем сказать, — говорит Поппер, — что наука начинается с
проблем и развивается от них к конкурирующим теориям, кото-
рые оцениваются критически.
В большинстве случаев, и притом в самых интересных, тео-
рия терпит неудачу, в результате чего возникают новые пробле-
мы. Достигнутый при этом прогресс можно оценить интеллекту-
альным расстоянием между первоначальной проблемой и новой
проблемой, которая возникает из крушения теории. Этот цикл
можно описать посредством схемы» [Поппер, 2002, с. 143]:
176
Часть I. Глава 6
(1)
где Л — исходная проблема, ТТ — пробные теории (tentative theories),
которые могут быть (частично или в целом) ошибочными. Эти тео-
рии подвергаются процессу устранения ошибок (error elimination)
ЕЕ, который может состоять из критического обсуждения или экс-
периментальных проверок. Результатом является появление новой
проблемы Pi.
Важным моментом в схеме (1) является переход к более
крупным единицам анализа — от отдельных утверждений логи-
ческих позитивистов к теориям.
Поппер предлагает «рассматривать науку как прогрессирую-
щую от одной проблемы к другой (а не от теории к теории) — от
менее глубокой к более глубокой проблеме. Научная (объясни-
тельная) теория является не чем иным, как попыткой решить не-
которую научную проблему, т. е. проблему, связанную с откры-
тием некоторого объяснения... Противоречия же могут возникать
либо в некоторой отдельной теории, либо при столкновении
двух различных теорий, либо в результате столкновения теории с
наблюдениями... Только благодаря проблеме мы сознательно
принимаем теорию... наука начинает с проблем, а не с наблюде-
ний, хотя наблюдения могут породить проблему...» [Поппер,
1989, с. 33-35].
Схема (1) является центральной для Поппера, она описывает
науку как динамическое явление, ибо наука, полагает Поппер,
может существовать только в процессе роста. Если логические
позитивисты концентрировали внимание на структуре научного
знания, то Поппер переносит центр внимания на развитие нау-
ки. «С объективной точки зрения, — говорит он, — эпистемоло-
гия представляет собой теорию роста знания, теорию решения
проблем или, другими словами, теорию построения, критиче-
ского обсуждения, оценки и критической проверки конкури-
рующих гипотетических теорий» [Поппер, 2002, с. 142].
«Выдвижение на первый план изменения научного знания,
его роста и прогресса, — говорит он, — может в некоторой степе-
ни противоречить распространенному идеалу науки как аксиома-
тизированной дедуктивной системы (характерной, как мы видели,
Для логических позитивистов. — А.Л.). Этот идеал доминировал
в европейской эпистемологии, начиная с платонизированной
Космологии Евклида... находит выражение в космологии Нью-
177
Философия науки
тона и, далее, в системах Бошковича, Максвелла, Эйнштейна,
Бора, Шрёдингера и Дирака. Эта эпистемология видит конеч-
ную задачу научной деятельности в построении аксиоматизиро-
ванной дедуктивной системы». Сам же Поппер считает, что «ра-
циональность науки состоит в рациональном выборе новой теории,
а не в дедуктивном развитии теорий» [Поппер, 1983, с. 333—334].
Поппер отрицает представления логических позитивистов о де-
дуктивном развитии теорий (о теории как аксиоматизирован-
ной дедуктивной системе высказываний) и об индуктивном
происхождении законов и теоретических терминов (используя
текст М. Борна, Поппер говорит: «Наблюдение или экспери-
мент... не могут дать более чем конечное число повторений»,
следовательно, «утверждение закона — В зависит от А — всегда
выходит за границы опыта» [Поппер, 2004, с. 96]). Поппер ут-
верждает, что, хотя «вера в то, что наука развивается от наблю-
дения к теории, все еще так широко распространена», «ни одна
научная теория не может быть выведена из высказываний на-
блюдения» [ Там же, с. 84, 75]. Но тогда что такое теории? Его
ответ весьма близок ответу конструктивизма, описываемому в
п. 6.4: «Теории — это наши собственные изобретения, наши соб-
ственные идеи. Они не навязываются нам извне, а представляют
собой созданные нами инструменты нашего мышления... наши
открытия направляются нашими теориями, и теории не являют-
ся результатами открытий, «обусловленных наблюдением» [Там
же, с. 198, 199].
Фаллибилизм и квазикритерии предпочтения теорий
Из процедуры «критической проверки теорий» вытекает «чис-
то логический вывод», что рано или поздно существующие тео-
рии, если они подлинно научны, будут фальсифицированы. От-
сюда следует попперовское «учение о погрешимости знания», по-
лучившее название «фаллибилизм» (от англ, fallability —
подверженность ошибкам): все законы и теории следует считать
гипотетическими или предположительными. «Все наши теории
являются и остаются догадками, предположениями, гипотеза-
ми», — говорит он. Но тогда возникает вопрос о критериях
предпочтения одних теорий другим. «Возможны ли какие-то
чисто рациональные, в том числе эмпирические, аргументы в
пользу предпочтительности одних предположений или гипотез
178
\ _ Часть I. Глава 6
по сравнению с другими... Когда он [теоретик] окончательно
усвоит, что истинность той или иной научной теории невозмож-
но обосновать эмпирически, т. е. при помощи проверочных вы-
сказываний, и что, следовательно, перед нами в лучшем случае
стоит проблема пробного предпочтения одних догадок другим,
тогда он может, с точки зрения искателя истинных теорий, за-
думаться над такими вопросами: Какие принципы предпочтения
следует нам принять? Могут ли некоторые теории быть «лучше»
других? [Поппер, 2002, с. 23—24].
Ответ Поппера основывается на том, что «не существует
«абсолютной надежности (reliance)», но, поскольку выбирать
все же приходится, будет «рационально» выбрать лучше всего про-
веренную теорию. Такое поведение «рационально». При этом
речь у Поппера идет о «конкурирующих теориях», т. е. о «теори-
ях, которые предлагаются в качестве решений одних и тех же
проблем» [Там же, с. 31].
Развивая эту идею, он пытается ввести некие квазикритерии
для отбора теорий типа «лучшего подкрепления» и «правдоподоб-
ности».
«Под степенью подкрепления (corroboration) теории я подра-
зумеваю сжатый отчет, оценивающий состояние (на данный
момент времени Г) критического обсуждения теории с точки
зрения того, как она решает свои проблемы, ее степени прове-
ряемости, строгости проверок, которым она подвергалась, и то-
го, как она выдержала эти проверки. Таким образом, подкреп-
ленность (или степень подкрепления) теории — это оценочный
отчет о ее предыдущем функционировании... — говорит он. —
Иногда мы можем сказать о двух конкурирующих теориях А и
В, что в свете состояния критического обсуждения на момент
времени t и эмпирических данных (проверочных высказыва-
ний), полученных в ходе обсуждения, теория А оказывается бо-
лее предпочтительной, или лучше подкрепленной, чем теория
В» [Там же, с. 28]. «Правдоподобность высказывания, — говорит
он, — будет определена как возрастающая с ростом его истинно-
стного содержания1 и убывающая с ростом его ложностного содер-
жания...» [Там же, с. 55].
1 «Класс всех истинных высказываний, следующих из данного высказывания
(или принадлежащих данной дедуктивной системе) и не являющихся тавтоло-
гиями, можно назвать его истинностным содержанием» [Поппер, 2002, с. 55].
179
Философия науки
«При этом более сильная теория, т. е. теория с более богатым
содержанием, будет в то же время иметь бблыпую правдоподоб-
ность... Это утверждение образует логическую основу метода
науки — метода смелых предположений и попыток их опроверже-
ния. Теория тем более дерзка, чем больше ее содержание. Такая
теория также является и более рискованной... она с большей ве-
роятностью может оказаться ложной. Мы пытаемся найти ее
слабые места, опровергнуть ее. Если нам не удастся опроверг-
нуть ее или если найденные нами опровержения окажутся в то
же время опровержениями и более слабой теории, которая была
предшественницей более сильной, тогда у нас есть основания за-
подозрить или предположить, что более сильная теория имеет не
больше ложностного содержания, нежели ее более слабая пред-
шественница, и, следовательно, что она имеет бблыцую степень
правдоподобности» [Там же, с. 60]. «Другими словами, похоже
на то, что мы можем отождествить идею приближения к истине с
идеей высокого истинностного содержания при низком «ложно-
стном содержании»... [При этом] формулировка «цель науки —
правдоподобность» имеет важное преимущество перед, возмож-
но, более простой формулировкой «цель науки — истина»... По-
иск правдоподобности — более ясная и более реалистическая цель,
чем поиск истины. Вместе с тем я хочу показать не только это.
Я хочу показать, что, в то время как в эмпирической науке мы
никогда не можем иметь достаточно веские аргументы для при-
тязания на то, что мы на самом деле достигли истины, мы можем
иметь весомые и достаточно (reasonably) хорошие аргументы в
пользу того, что мы, возможно, продвинулись к истине, т. е. что
теория Т1 предпочтительнее своей предшественницы Т, по
крайней мере в свете всех известных нам рациональных аргу-
ментов. Более того, мы можем объяснить метод науки, а также
значительную часть истории науки как рациональную процедуру
приближения к истине» [Там же, с. 63—64].
«Содержание теорий и их фактическая объяснительная сила
являются самыми важными регулятивными идеями для их апри-
орной оценки. Они тесно связаны со степенью проверяемости
теорий. Самой важной идеей для апостериорной оценки теорий
является истина или — так как мы нуждаемся в более доступном
сравнительном понятии — то, что я называю «близостью к исти-
не», или «правдоподобностью» [Там же, с. 143].
180
Часть I. Глава 6
~ г - v --- , .г - - ; - - -
Защита идеалов объективной истины
Одной из важнейших задач для Поппера была задача защиты
идеи объективности научного знания, борьба против субъектив-
ных психологических и социологических подходов к научному
знанию1.
Согласно Попперу решение столь важной для него проблемы
«заключается в осмыслении того факта, что хотя все мы... часто
ошибаемся, однако уже сама идея ошибки и человеческих заблу-
ждений предполагает другую идею — идею объективной истины:
того стандарта, от которого мы можем отклоняться» [Там же,
с. 35]. Отсюда вытекает попперовский научный метод, основан-
ный на критике, прообраз которого он видит в «повивальном ис-
кусстве» Сократа (или майевтике). Этот метод «заключается, по
сути дела, в задавании вопросов, предназначенных для разруше-
ния предрассудков, ложных верований... ложных ответов» [Там
же, с. 30]. Той же майевтикой, с точки зрения Поппера, являют-
ся методы и Бэкона, и Декарта [Там же, с. ЗЗ]2.
1 Этот вопрос имел для него важнейшее этическое значение как фундамент
либерального мировоззрения, которое опирается на возможность принятия инди-
видуального выбора, основанного на доступности достоверного знания. «Это дви-
жение вдохновлялось беспримерным эпистемологическим оптимизмом — несо-
крушимой уверенностью в способность человека открыть истину и обрести зна-
ние... Рождение современной науки и технологии было стимулировано этой
оптимистической эпистемологией, главными глашатаями которой были Бэкон и
Декарт... Человек может знать, поэтому он может быть свободным. Эта формула
выражает тесную связь между эпистемологическим оптимизмом и идеями либе-
рализма» [Поппер, 2004, с. 18—19]. Оптимистическая эпистемология Бэкона и
Декарта «явилась базисом свободы совести, индивидуализма и нового чувства
человеческого достоинства, породила требование всеобщего образования и но-
вую мечту о свободном обществе. Она внушила людям чувство ответственности
за себя и других... Однако теория, утверждающая, что истина очевидна и каж-
дый, кто хочет, может ее увидеть, лежит в основе почти всех разновидностей фа-
натизма» [Там же, с. 24]. Последнее Поппер связывает с тем, что Бэкону и Де-
Карту «так и не удалось решить важнейшую проблему: как признать, что познание
является человеческим деянием, и в то же время не предполагать, что оно индиви-
дуально и произвольно?» [Там же, с. 34—35].
2 Он считает неверным классическое представление «спора между классиче-
ским эмпиризмом Бэкона, Локка, Беркли, Юма и Милля и классическим рацио-
нализмом, или интеллектуализмом, Декарта, Спинозы и Лейбница». «Сам я в
°пределенной мере эмпирик и рационалист, — говорит Поппер. — Я признаю, что
и наблюдение, и разум играют важную роль, однако совсем не ту, которую припи-
сывали им их защитники — философы-классики» [Там же, с. 16—17]. Верный
°твет связан, с его точки зрения, с рациональной критикой и «повивальным ис-
^Усством» Сократа.
181
Философия науки
Поскольку вопрос об объективности и истинности научного
знания является для Поппера очень важным и очень сложным,
он идеи истины, реализма и объективности обсуждает незави-
симо.
Идею истинности он обосновывает с помощью теории Тар-
ского (которая «не дает критерия истинности или ложности»
[Тарский, 2000, с. 141]). В ходе процесса развития теорий, опи-
сываемого схемой (1), можно наткнуться и на истинную теорию,
полагает Поппер. Однако этот метод ни в каком случае не может
установить ее истинность, даже если она истинна.
Вообще у Поппера довольно сложное отношение к проблеме
истинности теорий. «До того как я познакомился с теорией ис-
тины Тарского (см. [Tarski, 1944; Тарский, 2000, с. 138—141]. —
АЛ.)... — говорит К. Поппер, — моя позиция... была такова: хотя
я сам, как почти каждый, признавал объективную, или абсолют-
ную, теорию истины как соответствия фактам, я предпочитал
избегать пользоваться этим понятием (удивительно, но это ему
удавалось делать, «не впадая в прагматизм или инструмента-
лизм» (утверждающий, что понятия, идеи, научные законы и
теории — лишь инструменты). — А.Л.). Мне казалось безнадеж-
ным пытаться ясно понять эту весьма странную и неуловимую
идею соответствия между высказыванием и фактом... Ситуация
изменилась после появления предложенной Тарским теории ис-
тины как соответствия высказываний фактам. Величайшее дос-
тижение Тарского... в том, что он реабилитировал теорию соот-
ветствия, т. е. теорию абсолютной, или объективной, истины, к
которой относились с подозрением». Благодаря работе Тарского
идея объективной, или абсолютной, истины, т. е. истины как со-
ответствия фактам, в наши дни с доверием принимается все-
ми, кто понял эту работу. Трудности в ее понимании имеют,
по-видимому, два источника: во-первых, соединение чрезвы-
чайно простой интуитивной идеи с достаточно сложной техни-
ческой программой, которую она породила; во-вторых, широко-
го распространения ошибочного мнения, согласно которому
удовлетворительная теория истины должна содержать критерий
истинной веры (т. е. критерий, по которому конкретную теорию
можно было бы оценить как истинную или ложную. — А. Л.). Он
показал, что мы вправе использовать интуитивную идею истины
как соответствия фактам» [Поппер, 1983, с. 336—337].
182
Часть I. Глава 6
Дело в том, что в силу проблем, выявленных еще в XIX в.,
возникло опасение, что такое понимание истины может быть
логически противоречивым. О трудностях применения понятия
истины говорил и известный «парадокс лжеца»1 (решение кото-
рого и было целью теории Тарского).
В связи с этим были выдвинуты «три соперницы теории ис-
тины как соответствия фактам (корреспондентная теория ис-
тины. — А.Л.) — теория, когеренции, принимающая непротиво-
речивость за истинность, теория очевидности (self-evidency),
принимающая за «истину» понятие «известно в качестве исти-
ны», и прагматистская, или инструменталистская, теория, при-
нимающая за истину полезность, — все они являются субъекти-
вистскими... теориями истины в противоположность объектив-
ной теории Тарского [Тарский, 2000]», — говорит Поппер [Там
же, с. 339—340]. «Я хочу иметь возможность говорить, что целью
науки является истина в смысле соответствия фактам, или дей-
ствительности, — утверждает Поппер. — И я хочу также иметь
возможность говорить (вместе с Эйнштейном и другими учены-
ми), что теория относительности является... лучшим приближе-
нием к истине, чем теория Ньютона, точно так же как эта по-
следняя является лучшим приближением к истине, чем теория
Кеплера. И я хочу иметь возможность говорить это, не опаса-
ясь, что понятие близости к истине, или правдоподобности, ло-
гически некорректно, или «бессмысленно». Другими словами,
моя цель — реабилитация основанной на здравом смысле идеи,
которая нужна мне для описания целей науки и которая, утвер-
ждаю я, в качестве регулятивного принципа (пусть даже неосоз-
нанно и интуитивно) лежит в основе рациональности всех кри-
тических научных дискуссий» [Поппер, 2002, с. 65].
Поппер верил, что объективная истина существует и что раз-
витие науки приближает нас к ней, что последовательность
фальсификаций, которым подвергает природа наши теории, об-
рабатывает их (как море обтачивает гальку) так, что они изме-
1 «В изложении Евбулида из Милета (IV в. до н. э.) этот парадокс звучит так:
«Критянин Эпименид сказал: «Все критяне лжецы»; Эпименид сам критянин;
следовательно, он лжец. Но если Эпименид лгун, то его утверждение, что «все
Критяне лжецы» ложно; значит, критяне не лгуны; Эпименид сам критянин; сле-
довательно, он не лгун и его утверждение, что «все критяне лжецы», правильно»
[Кондаков, 1975, с. 284].
183
Философия науки
s % % s / •- •. . •. •. - V. -• •.•.. -.л AV.V / Л AW . ssw % г
няются в направлении приближения к истине'. Но в то же время
он констатирует отсутствие логических критериев для опреде-
ления того, приближается конкретная теория к истине или нет.
Поэтому истина для Поппера — это лишь регулятивный прин-
цип.
Аргументы Поппера в пользу реализма
Логика аргументов Поппера в пользу реализма напоминает
его логику защиты понятия объективной истины. «Реализм —
существенная черта здравого смысла, — говорит он. — Здравый
смысл различает видимость, или кажимость (appearance), и ре-
альность (reality)... Самый очевидный сорт — съедобные вещи (я
предполагаю, что именно они создают основу для чувства ре-
альности) или же объекты, оказывающие нам большое сопро-
тивление (objectum — то, что стоит на пути нашего действия),
такие, как камни, деревья или люди.
Выдвигаемый мной тезис состоит в том, что реализм нельзя
ни доказать, ни опровергнуть. Как и все, выходящее за пределы
логики и конечной арифметики, реализм недоказуем; при этом
эмпирические теории опровержимы, а реализм даже не опро-
вержим (он разделяет эту неопровержимость со многими други-
ми философскими, или «метафизическими», теориями, и осо-
бенно с идеализмом)... Никакое поддающееся описанию собы-
тие и никакой мыслимый опыт не могут рассматриваться как
эффективное опровержение реализма...
(Однако) мы не должны упускать из виду ее (науки) тесную
связь (relevance to) с реализмом, несмотря на тот факт, что есть
ученые, которые не являются реалистами, как, например, Эрнст
Мах...1 2 почти все, если не все физические, химические или био-
логические теории подразумевают реализм, в том смысле, что
1 Попперовское «приближение к истине» существенно отличается от хорошо
известных ленинских категорий относительной и абсолютной истины. Для Ле-
нина существовал критерий истины — общественная практика. Для логика Поп-
пера такого критерия не существует в принципе. Поэтому ленинская теория по-
знания близка к «наивному», или «метафизическому», реализму, критическое
обсуждение которого дано в п. 6.2.
2 Популярность Маха и конструктивизма вообще сильно коррелирует с пе-
риодом научных революций. Причину этой неслучайной связи мы рассмотрим
ниже.
184
Часть I. Глава 6
если они истинны, то и реализм тоже должен быть истинным.
Это одна из причин того, что люди говорят о «научном реализ-
ме», и это вполне основательная причина. Вместе с тем, по-
скольку реализм (по-видимому) непроверяем, сам я предпочи-
таю называть реализм не «научным», а «метафизическим». Как
бы на это ни смотреть, есть вполне достаточные причины ска-
зать, что в науке мы пытаемся описать и (насколько возможно)
объяснить действительность. Мы делаем это с помощью предпо-
ложительных теорий, т. е. теорий, как мы надеемся, истинных
(или близких к истине), но которые мы не можем принять... как
несомненные» [Там же, с. 45—47]. «Существует нечто, напоми-
нающее нам о том, что наши идеи могут быть ошибочными.
В этом реализм прав», — утверждает Поппер [Поппер, 2004,
с. 198]. Ведь согласно «принципу эмпиризма», играющему цен-
тральную роль в решении задачи демаркации, «только наблюде-
ния или эксперименты играют в науке решающую роль в при-
знании или отбрасывании научных высказываний, включая за-
коны и теории» [Там же, с. 97].
«Третий мир» К. Поппера
Что касается чрезвычайно важного для Поппера идеала объ-
ективности знания, то для его защиты он развивает свою кон-
цепцию «эпистемологии без познающего субъекта» в виде кон-
цепции «трех миров». В ней он, в пику Т. Куну, вводил «третий
мир» — мир объективного знания.
«Если использовать слова «мир» или «универсум» не в стро-
гом смысле, то мы, — говорит Поппер, — можем различить сле-
дующие три мира, или универсума: во-первых, мир физических
объектов или физических состояний', во-вторых, мир состояний
сознания, мыслительных (ментальных) состояний, и, возможно,
Предрасположений, диспозиций (dispositions) к действию (т. е.
субъективный мир нашего сознания. — А. Л.у, в-третьих, мир
объективного содержания мышления, прежде всего содержания
Научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства»
[Поппер, 2002 с. 108] (примерами утверждений, относимых Поп-
пером соответственно ко второму и третьему мирам, являются
Утверждения типа «Я знаю, что...» и «Известно, что...»).
185
Философия науки
Этот «третий мир» отчасти напоминает «мир идей» Платона.
Но если последний «божествен... неизменяем и, конечно, исти-
нен», то «мой третий мир создан человеком и изменяется, — го-
ворит Поппер. — Таким образом, существует огромнейшая про-
пасть между его и моим третьим миром» [Там же, с. 123].
Важнейшей чертой попперовского «третьего мира» является
то, что он автономен, т. е. независим от существования субъекта.
С другой стороны, третий мир порожден людьми. «Идея автоно-
мии, — говорит он, — является центральной в моей теории
третьего мира: хотя третий мир есть человеческий продукт, че-
ловеческое творение, он, в свою очередь, создает свою собствен-
ную область автономии» [Там же, с. 119].
Самое темное место концепции «трех миров» — сочетание
представлений о третьем мире как «человеческом творении» с
идеей о его «автономии». Поскольку Поппер, высказав концеп-
цию «третьего мира», избегал полемики по этому поводу, можно
предположить, что она им самим рассматривалась скорее как
предварительная идея, будящая мысль, чем как проработанная
концепция (во многом это утверждение можно отнести и к опи-
сываемой ниже его эволюционной эпистемологии).
Идею этой автономии Поппер иллюстрирует следующими
двумя мысленными экспериментами.
«Эксперимент 1. Предположим, что все наши машины и ору-
дия труда разрушены, а также уничтожены все наши субъектив-
ные знания, включая субъективные знания о машинах и орудиях
труда и умение пользоваться ими. Однако библиотеки и наша спо-
собность учиться, усваивать их содержание выжили. Понятно,
что после преодоления значительных трудностей наш мир может
начать развиваться снова.
Эксперимент 2. Как и прежде, машины и орудия труда разру-
шены, уничтожены также и наши субъективные знания, вклю-
чая субъективные знания о машинах и орудиях труда и умение
пользоваться ими. Однако на этот раз уничтожены и все библио-
теки, так что наша способность учиться, используя книги, ста-
новится невозможной...
Если вы поразмыслите над этими двумя экспериментами, то
реальность, значение и степень автономии третьего мира (также
как и его воздействие на второй и первый миры), возможно, сде-
лаются для вас немного более ясными», — говорит Поппер [ Там
же, с. 441]. «С нашими теориями, — говорит Поппер, — проис-
186
Часть I. Глава 6
ходит то же, что и с нашими детьми: они имеют склонность ста-
новиться в значительной степени независимыми от своих роди-
телей. И, как это случается с нашими детьми, мы можем полу-
чить от наших теорий больше знания, чем первоначально
вложили в них» [Поппер, 2002, с. 147].
Механизм «непреднамеренности» и автономности «третьего
мира» Поппер иллюстрирует также примерами из мира живот-
ных. «Каким образом возникают в джунглях тропы живот-
ных? — продолжает Поппер свои биологические аналогии. —
Некоторые животные прорываются через мелколесье, чтобы
достичь водопоя. Другие животные находят, что легче всего ис-
пользовать тот же самый путь. В результате использования этого
пути он может быть расширен и улучшен. Он не планируется, а
является непреднамеренным следствием потребности в легком и
быстром передвижении. Именно так первоначально создается
какая-нибудь тропа — возможно, также людьми, — и именно так
могли возникнуть язык и любые другие институты, оказываю-
щиеся полезными. И именно этому они обязаны своим сущест-
вованием и возрастанием своей полезности. Они не планируют-
ся и не предполагаются; более того, в них, возможно, нет необ-
ходимости, прежде чем они возникнут. Однако они могут
создавать новую потребность или новый ряд целей: структуры
целей животных или людей не являются «данными», они разви-
ваются с помощью некоторого рода механизма обратной связи
из ранее поставленных целей и из тех конечных результатов, к
которым стремятся. Таким образом, может возникнуть целый
новый универсум возможностей, или потенциальностей, — мир,
который в значительной степени является автономным» [Там
же, с. 118-119].
Поппер считает, что продукты деятельности животных (та-
кие, как «паутина пауков, гнезда, построенные осами или му-
равьями, норы барсуков, плотины, воздвигнутые бобрами, тро-
пы... и т. п.» [Там же, с. 114]) аналогичны «продуктам человече-
ской деятельности, таким, как дома, орудия труда или
Произведения искусства. Особенно важно для нас то, что они
Применимы и к тому, что мы называем «языком» и «наукой»
[Там же, с. 115].
«Автономия третьего мира и обратное воздействие третьего
Мира на второй и даже на первый миры представляют собой
°Дин из самых важных фактов роста знания» [ Там же, с. 119].
187
Философия науки
Хорошей иллюстрацией подобных отношений, как мне
представляется, является лингвистическая модель языка Ф. де
Соссюра (1857—1913) — отца современной лингвистики. В ней
различают «речь», автором которой является конкретный чело-
век, и язык как надындивидуальное образование, к которому че-
ловек (и человеческие группы) приобщается и которым пользу-
ется. Люди участвуют в развитии языка, но язык развивается по
своим законам. В некотором смысле люди выступают как сред-
ство его развития.
Но в своих работах Поппер не пользуется этими лингвисти-
ческими аналогиями. Он предпочитает аналогии из мира живот-
ных и его эволюции и уже от них идет к языку и науке. «Мир язы-
ка, предположений, теорий и рассуждений, короче — универсум
объективного знания является одним из самых важных универ-
сумов, созданных человеком и в то же время в значительной сте-
пени автономных...» [Там же, с. 119]. «Самыми важными творе-
ниями человеческой деятельности, — говорит Поппер, — явля-
ются высшие функции человеческого языка, прежде всего
дескриптивная и аргументативная (низшими функциями, общи-
ми с животными, являются «выражение» и «коммуникация». —
А.Л.)... Именно это развитие высших функций языка и привело к
формированию нашей человеческой природы, нашего разума,
ибо наша способность рассуждать есть не что иное, как способ-
ность критического аргументирования.
...В ходе эволюции аргументативной функции языка крити-
цизм становится главным инструментом дальнейшего роста этой
функции... Автономный мир высших функций языка делается
миром науки. И схема, первоначально значимая как для животно-
го мира, так и для примитивного человека (схема 1)... Pt —> IT ->
-> ЕЕ -> Р2 становится схемой роста знания путем устранения
ошибок посредством систематической рациональной критики.
Она делается схемой поиска истины и содержания путем рацио-
нального обсуждения. Эта схема описывает способ, которым мы
поднимаем себя за волосы. Она дает рациональное описание
эволюционной эмерджентности1, описание нашей самотранс-
цендентальности, выхода за собственные пределы посредством
'«Сформулированное Морганом понятие «эмерджентность» (от англ. t0
emerge — внезапно возникать) означало качественный скачок при возникновв'
нии нового уровня бытия» [Современная западная философия. Словарь. №•’
1991, с. 394].
188
Часть I. Глава 6
отбора и рациональной критики» [Там же, с. 121]. «Самое неверо-
ятное в жизни, эволюции и духовном росте и есть... эта взаимо-
связь между нашими действиями и их результатами, которые по-
зволяют нам постоянно превосходить самих себя, свои таланты,
свою одаренность. [Это]... является самым поразительным и
важным фактом всей нашей жизни и всей эволюции, в особен-
ности человеческой эволюции» [Там же, с. 147].
То, что можно назвать вторым миром — миром мышле-
ния, — становится, на человеческом уровне, во все большей и
большей степени связующим звеном между первым и третьим
мирами: «все наши действия в первом мире испытывают влия-
ние нашего понимания третьего мира средствами второго мира»
[Там же, с. 147—148]. Проблема соотношения первого и третьего
мира связана с проблемами истины и реализма, попперовское
решение которых было рассмотрено выше.
«В противоположность этому традиционная эпистемология
интересуется лишь вторым миром: знанием как определенным
видом мнения (belief) — оправданного мнения, такого, как мне-
ние, основанное на восприятии. По этой причине данный вид
философии мнения не может объяснить (и даже не пытается
объяснить) такое важнейшее явление, как критика учеными сво-
их теорий, которой они убивают эти теории» [Там же, с. 123].
Таково краткое описание направленной на рост объективно-
го знания «эпистемологии с объективной точки зрения» («эпи-
стемологии без познающего субъекта»), которая опирается на
концепцию «третьего мира».
6.3. Эволюционная эпистемология
К. Поппера и С. Тулмина
Концепция «третьего мира» используется Поппером при
описании развития науки в эволюционной эпистемологии, где в
Качестве базовой модели выступает сочетание попперовского
Принципа «критического аргументирования» и дарвиновской
Модели эволюции.
«Хотя данное описание характеризует рост третьего мира,
°но, однако, может быть интерпретировано и как описание био-
логической эволюции, — говорит Поппер. — Животные и даже
Растения — решатели проблем. И решают они свои проблемы ме-
189
Философия науки
тодом конкурирующих предварительных, пробных решений и уст-
ранения ошибок.
Пробные решения, которые животные и растения включают
в свою анатомию и в свое поведение, являются биологическими
аналогами теорий, и наоборот... Также как и теории, органы и их
функции являются временными приспособлениями к миру, в
котором мы живем. И так же как теории или инструменты, но-
вые органы и их функции, а также новые виды поведения оказы-
вают свое влияние на первый мир, который они, возможно, по-
могают изменить. (Новое пробное решение — теория, орган, но-
вый вид поведения — может открыть новую возможную
экологическую нишу и таким образом превратить возможную
нишу в фактическую.) Новое поведение или новые органы могут
также привести к появлению новых проблем. И таким путем они
влияют на дальнейший ход эволюции, включая возникновение
новых биологических ценностей» [Там же, с. 144—148].
В этой логике возникает знаменитое попперовское сравне-
ние Эйнштейна с амебой. «Наши усилия отличаются от усилий
животного или амебы лишь тем, — говорит Поппер, — что наша
веревка может найти зацепку в третьем мире критических дис-
куссий — мире языка, объективного знания. Это позволяет нам
отбросить некоторые из наших конкурирующих гипотез. Так
что, если нам повезет, мы сможем пережить некоторые из наших
ошибочных теорий (а большинство из них являются ошибочны-
ми), в то время как амеба погибает вместе со своей теорией, со
своими убеждениями и своими привычками» [Там же]. «Ученые
пытаются устранить свои ошибочные теории, они подвергают их
испытанию, чтобы позволить этим теориям умереть вместо себя»
[Там же, с. 123].
«Рассматриваемая в этом свете жизнь есть решение проблем и
свершение открытий — открытий новых фактов, новых возмож-
ностей путем опробования (trying out) возможностей, порождае-
мых в нашем воображении. На человеческом уровне это опробо-
вание производится почти всецело в третьем мире путем попы-
ток изобразить более или менее успешно в теориях этого
третьего мира наш первый мир и, возможно, наш второй мир,
путем стремления приблизиться к истине — к истине более пол-
ной, более совершенной, более интересной, логически более
строгой и более соответствующей (релевантной) нашим пробле-
мам [Там же, с. 148].
190
Часть I. Глава 6
Эта линия эволюционной эпистемологии, в основе которой
лежит аналогия с дарвиновской моделью биологической эволю-
ции, развивается Стивеном Тулминым (1922—1997). «Мы будем
готовы принять популяционный анализ органической эволюции
в качестве эталона или стандарта» при «анализе коллективного
аспекта применения понятий», — говорит он. Основными объ-
ектами его анализа являются «рациональные инициативы» в их
историческом развитии. Согласно Тулмину «интеллектуальное
содержание подобных инициатив образует «концептуальные по-
пуляции»... Развитие этих популяций... будет рассматриваться
как выражение равновесия между факторами двух видов: факто-
рами новообразования, ответственными за возникновение изме-
нений в соответствующей популяции, и факторами отбора, ко-
торые модифицируют ее постоянно, сохраняя варианты, имею-
щие определенные преимущества» [Тулмин, 1984, с. 142—143].
При этом «различные понятия и теории вводятся в науку не все
сразу в одно и то же время в виде единой логической системы... а
независимо друг от друга, в разное время и для разных целей...
Вся наука включает в себя «историческую популяцию» логически
независимых понятий и теорий, каждая из которых имеет свою
собственную, отличную от других историю, структуру и смысл»
[Там же, с. 140]. Эти понятия, теории, а также методы, являю-
щиеся единицами «нововведений» или «инициатив», организу-
ются в «дисциплины», которые Тулмин пытается выделить по-
средством «непрерывной генеалогии проблем». «Проблемы, на
которых концентрируется работа последующих поколений уче-
ных, образуют своего рода диалектическую последовательность1;
несмотря на все изменения актуальных для них понятий и мето-
дов, стоящие перед ними проблемы в своей совокупности обра-
зуют длительно существующее генеалогическое дерево... Имен-
но «генеалогия проблем»... лежит в основе всех иных генеалогий,
с помощью которых можно охарактеризовать развитие науки»
[Там же, с. 155]. Научные дисциплины, в согласии с линией
Поппера, определяются, по Тулмину, «не по типу объектов, а...
1 Тулмин ставит себе цель — «поиск непрерывности» [Тулмин, 1984, с. 155], и
ее, естественно, находит (поскольку результат зависит от применяемых
средств — если понятийные средства не предусматривают возможности качест-
венных скачков, то их и не будет).
191
Философия науки
по тем проблемам, которые возникают относительно этих объек-
тов» [Там же, с. 156].
В главе 8 будет оценена эффективность этой модели для опи-
сания развития физического знания.
6.4. Эмпиризм: «конструктивизм» против «реализма»
Существенно по-другому, чем у Поппера, темы реализма, ис-
тинности и объективности, затрагивающие онтологический во-
прос об отношении между теорией и «реальностью», представле-
ны в развернувшейся в конце XX в. дискуссии между логически
последовательным эмпиристом и конструктивистом Б. ван Фра-
ассеном и реалистами. Причем этот спор расколол стан реали-
стов на «метафизических» (или «наивных») реалистов (типа
М. Планка) и более утонченных реалистов-реформаторов (типа
«критических рационалистов»).
В результате возникает три позиции: 1) позиция «метафизиче-
ского» (или «наивного») реализма, 2) «эмпирического конструкти-
визма» Б. ван Фраассена и 3) «реформированных» форм реализма.
Первая из них является безусловным объектом критики двух дру-
гих. «Метафизический реализм в настоящее время занял место
позитивизма и прагматизма в качестве основной философии со-
временного сциентизма... одной из наиболее опасных (имея в ви-
ду ее неадекватность, но привлекательность для ученых в силу
своей простоты. — А.Л.) интеллектуальных тенденций современ-
ности. Критика его наиболее влиятельной формы — это долг фи-
лософа...» — заявил в ходе дискуссии 1982 г. представитель одной
из разновидностей «реформированного» реализма гарвардский
профессор X. Патнэм [Putnam, 1982, р. 147]. Этот «долг» выпол-
няют борющиеся между собой «конструктивисты» и «реали-
сты-реформаторы» (различных толков). При этом конструкти-
висты нападают на реализм, а реалисты-реформаторы, соглаша-
ясь со многими их аргументами, пытаются отстоять реализм в
той или иной форме. «Метафизический реализм» «в настоящее
время утратил своих сторонников». Против него выступают не
только инструменталисты, но и попперианцы, сторонники «ис-
торицистской» философии науки (Кун, Фейерабенд), современ-
ные прагматисты, сторонники «структуралистской» концепции
научных теорий (Дж. Снид, Штегмюллер), Селларс, Патнэм,
Хессе, — утверждает В. Порус [Малахов, Филатов, с. 196].
192
Часть I. Глава 6
Основной тезис «метафизического» («наивного») реализма —
верификация теоретических высказываний и теорий в целом де-
терминируется существующей независимо от нашего знания
«реальностью»; истинность таких высказываний и теорий — это
«соответствие с реальностью самой по себе». «В практике физи-
ческой науки, — говорит современный философ-реалист Хар-
ре, — мы [предполагаем... что нашему опыту противостоит не-
зависимый, большей частью ненаблюдаемый (в смысле, обсуж-
давшемся в гл. 5. — А.Л.) реальный мир. Проблема реализма —
может ли какая-нибудь из наших техник (способов) познания ми-
ра, как он проявляется в опыте, снабдить нас достоверным знани-
ем о ненаблюдаемой области реальности, существующей незави-
симо от нас?.. Потому что наше знание и реальный мир есть раз-
ные виды сущностей (beings)» [Harre, 1986, р. 34]. Реалистический
взгляд на сущности, которые фигурируют в естественных науках,
как на нечто данное и существующее независимо от процесса по-
знания в сочетании с эмпирическим взглядом на путь возникно-
вения научных теорий был всегда популярен среди ученых. Ис-
ключения составляли короткие периоды революционного броже-
ния, когда популярность феноменологизма и конструктивизма,
как это было во времена Маха, резко возрастала. Реалистическая
позиция весьма четко была высказана в начале XX в. выдающим-
ся физиком и сторонником реализма М. Планком (см. п. 3.2).
Однако, как уже было сказано выше, ахиллесовой пятой реа-
листического эмпиризма является проблема Юма, которая пе-
риодически всплывает на поверхность. В 1930-х и 1960-х гг. она
поднималась Поппером, в конце XX в. — Б. ван Фраассеном,
весьма известным и уважаемым на Западе философом.
В рамках позитивизма Конт, Мах и другие пытались обойти
эту проблему с помощью феноменологической установки: дело
науки — познавать не сущности, а только феномены. От фено-
менолистически-антиреалистической позиции Маха лежит пря-
мая дорога к «активистскому» взгляду, который «акцентирует
внимание на активности теоретического мышления»1, на невы-
|Этот характерный для «неклассического» периода конструктивистский
взгляд на науку, учитывающий активную роль человеческой культуры в научной
Картине мира природы, следует отличать от нередко встречающихся утвержде-
ний о включенности человека (или его сознания) в саму «неклассическую» науку
(в первую очередь в квантовой механике). Последнее утверждение, разумеется,
Неверно. Этот момент будет обсуждаться подробнее в связи с «парадоксами»
Квантовой механики в гл. 13.
Г Философия науки 193
Философия науки
водимости его непосредственно из опыта, который сам оказыва-
ется «теоретически нагруженным». «Активизм» в методологии
науки конца XIX — начала XX в. «выдвинул ряд новых важных
методологических и гносеологических проблем» [Хилл, 1965].
В том числе «именно в этот период была четко осознана пробле-
ма гносеологического статуса и методологических функций
идеализированных («идеальных». — А.Л.) объектов» [Швырев,
1977, с. 97—98] (типа идеального газа, атомов и др.).
Развитой формой активизма является конструктивизм, кото-
рый в противоположность всем формам реализма предполагает,
что ученые, создавая теории, делают изобретения, а не соверша-
ют открытия, соответственно теории тогда отбираются по крите-
рию эффективности, а не истинности.
В отличие от Поппера, который пытался как-то смягчить
проблемы сочетания эмпиризма и реализма, Б. ван Фраассен
занял позицию бескомпромиссного эмпиризма и конструкти-
визма.
«Метафизики претендовали на достижение объективной дос-
товерности (в утверждениях) о реальной действительности... —
говорит ван Фраассен, — но Юм доказал невозможность этого
раз и навсегда. Корректным ответом не будет ни безысходность
скептицизма, ни невозможный идеал эмпирически обоснован-
ной метафизики. Вместо этого мы должны представить эмпири-
стскую теорию знания и рациональных верований», которые мо-
гут быть подвержены ошибкам [Fraassen, 1980, р. 253]. Относя
себя к продолжателям линии У. Джеймса (одного из главных
представителей американского прагматизма) и Г. Рейхенбаха
(одного из видных представителей логического позитивизма),
ван Фраассен подхватывает тезис Джеймса, который «идентифи-
цировал как «ядро эмпиризма»', «опыт является легитимным и
единственным легитимным источником наших фактуальных
мнений (полстолетия позже, в 1947 г., Ганс Рейхенбах... характе-
ризовал свой собственный логический эмпиризм в подобных же
терминах)» [Ibid., р. 252]'.
1С этим сочеталось утверждение Джеймса о «подверженности ошибкам всех
человеческих притязаний на знание», поскольку «все заключения о реальной
действительности подвержены (подлежат) модификации в ходе будущего опы-
та». Подобные утверждения во многом близки «фаллибилизму» К. Поппера, ут-
верждавшего, что «люди подвержены ошибкам, и достоверность не является
прерогативой человечества» [Поппер, 1983, с. 386].
194
Часть I. Глава 6
Продолжая эту линию, ван Фраассен вводит критерий «эм-
пирической адекватности», под которым имеется в виду совпа-
дение эмпирических проявлений теоретической модели явле-
ния и самого явления, и утверждает, что «истинность теории,
взятой в целом, ставится под сомнение, как только опыт гово-
рит против любой части ее следствий» и «уязвимость теории по
отношению к будущему опыту состоит только в том, что уязви-
мы ее притязания на эмпирическую адекватность» [Ibid., р. 254].
У ван Фраассена, как и у конвенционалистов, теоретическая
модель носит инструментальный и условный характер и служит
лишь средством (инструментом) для «спасения явлений», т. е.
правильного описания проявлений некоторого неизвестного
источника — причины этого явления1.
Особенно ярко бескомпромиссность эмпиризма ван Фраас-
сена проявляется в решительном отказе от привлечения «широ-
ко распространенного и популярного» аргумента «лучшего объ-
яснения» как «дополнительного независимого основания для до-
верия (belief) к одной из... двух теорий, соответствующих
явлению одинаково хорошо»2 [Ibid., р. 254, 277, 286].
Неприемлемость его ван Фраассен обосновывает следующим
образом: то, что будет лучшим объяснением, зависит от того, ка-
кие теории мы в состоянии вообразить, а также... от наших инте-
ресов и других контекстуальных факторов, задающих конкретное
содержание «лучшего объяснения»... характеристик... совершен-
но независимых от того, чтб опыт открыл в соответствующем
явлении... Этот тезис оказывается в прямом противоречии с эм-
пиристским тезисом, согласно которому опыт является единст-
1 Термин «спасение явлений» восходит к древнегреческой астрономии. «Гре-
ческие астрономы, — пишет И.Д. Роханский, — имели дело лишь с видимыми
движениями небесных светил, иначе говоря, с проекциями движений на небес-
ную сферу. Размеры самой небесной сферы при этом оставались неизвестными:
она могла быть бесконечно большой, или совпадать со сферой неподвижных
звезд, или иметь какой-либо другой радиус: для теории этот вопрос оставался не-
существенным, поскольку абсолютные расстояния между светилами ни в каком
виде не входили в теорию, ставившую перед собой задачу «спасения явлений».
В этой теории речь могла идти лишь об изменениях во времени угловых величин,
характеризующих положения светил на небесной сфере» [Рожанский, 1986,
с. 255-256].
2 Соответственно он разделяет характерное для эмпирицистов утверждение,
Что «одно и то же множество данных наблюдения совместимо с очень разными и
взаимно несовместимыми теориями» [Фейерабенд, с. 53, 75].
7*
195
Философия науки
венным легитимным источником (научных знаний. — А.Л.)»
[Ibid., р. 286—287]. Критерии «сверх эмпирической адекватно-
сти» несовместимы с последовательным эмпиризмом. «Предполо-
жим, что мы приняли такие критерии в качестве основательных
аргументов для доверия (belief) к теории, — говорит он. — Тогда
мы идентифицировали нечто новое как легитимный источник
информации о мире. Но тогда, согласно принципу эмпиризма,
мы больше не будем эмпириками» [Ibid.]. «В философской
практике, — подчеркивает ван Фраассен, — разделительная ли-
ния между эмпириками и другими... появляется в связи с объяс-
нением» [Ibid.], т. е. тот, кто полагает, что теория должна объяс-
нять и искать причины1 явлений, не является настоящим после-
довательным эмпиристом.
В рамках этого последовательного эмпиризма ван Фраассен
провозглашает свой «конструктивный эмпиризм» — «взгляд, со-
гласно которому научная деятельность является скорее конст-
руированием, чем открытием', конструированием моделей, кото-
рые должны быть адекватны явлению, а не открытием истины,
имеющей отношение к ненаблюдаемому» (каковыми являются
теоретические сущности типа ньютоновской силы тяготения
или молекул в статистической (молекулярной) физике. — А.Л.)
[Ibid., р. 5]. «Цель науки — дать теории, которые являются эм-
пирически адекватными; и принятие теории включает веру
только в то, что она эмпирически адекватна» [Ibid., р. 12].
Свою позицию ван Фраассен противопоставляет позиции
«реалистического эмпиризма», в которой утверждается, что «кар-
тина мира, которую дает нам наука, является истинной карти-
ной мира, верной в своих деталях, и сущности, постулируемые в
науке, действительно существуют: наука продвигается посредст-
вом открытий, а не изобретений... Цель науки — дать нам ис-
тинную историю того, как выглядит мир; и принятие научной
теории включает веру в то, что это есть истина» [Ibid., р. 7—8].
Эту позицию, которая у ван Фраассена фигурирует под именем
«научного реализма», современные философы — защитники
1И вообще он утверждает, что «причинность в философской интерпретации
выступает как бог из машины» [Fraassen, 1980, р. 288] (имеется в виду популяр-
ный в пьесах XVII—XVIII вв. сценический прием, когда в конце пьесы сверху на
сценической машине спускается какой-нибудь античный бог и осуществляет
счастливую концовку пьесы, шедшей к трагической развязке).
196
Часть I. Глава 6
реализма отождествляют с описанной выше позицией «метафи-
зического», или «наивного», реализма. Ван Фраассен считает,
что «эмпиристская критика знания подрывает все основания у
научного реализма» [Ibid., р. 286]. Этот тезис в определенной
степени подтверждают и сами «реалисты»: «Я согласен с ван
Фраассеном, что форма научного реализма, которую он подвер-
гает сомнению, не выдерживает критики», — говорит Эллис
[Ibid., р. 48].
Спор реализма и конструктивизма имеет соответствующую
проекцию на вопрос об истинности: в конструктивизме для кри-
терия истины просто нет места — изобретения оцениваются с
точки зрения эффективности, а не истинности, а в реализме
есть простой критерий истины как соответствия факту, назы-
ваемый корреспондентной концепцией истины. «Наиболее уяз-
вимым местом критикуемого ван Фраассеном «метафизическо-
го реализма» является «корреспондентная теория истины» и
вытекающая из нее апелляция к «объективному миру», «транс-
цендентальной реальности», иначе говоря, «онтологии», кото-
рая не постулируется теорией, а предпосылается ей, — говорит
В.Н. Порус в обзоре, посвященном «научному реализму». —
Фактически метафизический реализм использует кантовское
понятие реальности как «вещи в себе», но пытается соединить
несоединимое: утверждает познаваемость того, что по самому
смыслу кантовского понятия является непознаваемым; отсюда
эклектичность и непоследовательность этой концепции... Лишь
немногие отваживаются на «метафизический реализм», требую-
щий защиты теории истины как «соответствия с реальностью»,
или «корреспондентной теории истины» [Порус, 1984, с. 11, 15].
«С моей точки зрения, — пишет представитель одной из раз-
новидностей «научного» (здесь — в смысле «реформированно-
го», «утонченного». — АЛ.) реализма X. Патнэм, — истина как
понятие не имеет иного содержания, кроме правильной приме-
нимости суждений... Истина так же плюралистична, неоднознач-
на и незамкнута, как и мы сами» [цит. по: Там же, с. 13]1. «Реа-
листы», в отличие от инструменталистов, — говорит представи-
1 Конструктивизм (и вынужденно идущий ему навстречу реформированный
Реализм) релятивизирует истину. Но проблема релятивизации истины может
Рассматриваться и вне конструктивизма. Существует и чисто скептический реля-
тивизм.
197
Философия науки
тель другого течения «научного реализма», ищут необходимую
связь между утверждениями науки и объективной реально-
стью. Но это лишь «цель и притязание» науки; само понятие
реальности — это просто «вера в возможность истинного по-
знания». «Реализм — это не собрание фактов о мире, а грань
нашего представления о мире ...[он] играет регулятивную
роль» [Там же].
Реалистический и конструктивный эмпиризм сегодня, как и
столетие назад, ищут себе опору соответственно в классической
и неклассической физике. «В то время, когда в теории домини-
ровали механистические теории, — говорит симпатизирующий
аргументам ван Фраассена представитель «прагматического реа-
лизма»1 Эллис, — было легко представлять, что цель науки со-
стоит в открытии и описании лежащих в основе мира механиз-
мов природы... Но образ науки сильно изменился с тех пор, и
доминирующие теории более не являются механистическими.
Подумайте теперь о квантовой механике или геометродинамике2.
Является ли научный реализм после этого все еще философией
науки, которую... действительно необходимо принять? Я пола-
гаю, — продолжает Эллис, — что многие физики, занимающиеся
теорией пространства-времени и квантовой механикой, будут
весьма удивлены предположением, что теории, которые они при-
нимают и с которыми работают, могут быть буквально истинны-
ми, так как они вовсе не имеют никакой ясной концепции о ре-
альности, которой эти теории должны соответствовать. И мне со-
вершенно ясно, что многие из них согласятся3 с ван Фраассеном,
1 «В противоположность ванфраассеновскому конструктивному эмпиризму
я, — говорит Эллис, — провозглашу прагматический тезис: цель науки — давать
наилучшие возможные объяснительные схемы (explanatory account) явлений
природы; принятие научной теории включает веру (belief) в то, что она принад-
лежит к такой схеме (account)» [Fraassen, 1980, р. 51].
2Довольно странное сочетание в одном ряду теорий, не сопоставимых по
своей обоснованности и развитости: геометродинамика — направление, разви-
ваемое небольшой группой ученых во главе с Дж. Уиллером, не вышедшее из
детского возраста, и квантовая механика — уже семьдесят лет являющаяся одним
из главных разделов физики.
3Мне представляется, что последнее утверждение неверно, многие физи-
ки-теоретики в области квантовой механики с этим тезисом не согласятся. Это
несогласие мне видится и в позиции одного из отцов квантовой механики,
В. Гейзенберга, когда он обсуждает проблему понимания в теоретической физи-
ке (см. п. 7.7.).
198
Часть I. Глава 6
АЧ-гг г '' г г * * г ' г ' •’•'• ww/' •* г ** s •* г ч гг ч ч г *-гг гч*ч ччч ч г чч ч ч гг г чччл гггглг-/ чг ч-г
что цель науки — только давать нам теории, которые являются
эмпирически адекватными» [Fraassen, 1980, р. 50].
Различные направления утонченного реализма в своей кри-
тике «метафизического реализма» временами сливаются с дру-
гим оппонентом — «конструктивным эмпиризмом», по-разному
ослабляя исходное реалистическое понимание истины.
Общим для защитников реализма является утверждение, что
то, против чего выступает ван Фраассен, — это «наивный», или
«метафизический», реализм (очень близкий реализму М. План-
ка). Современные реалисты эту позицию защищать не берутся
и, не принимая крайнего конструктивизма ван Фраассена,
предлагают различные варианты «реформированного» реализ-
ма. Ярким представителем последнего является «критический
рационализм» Поппера—Лакатоса1.
6.5. Модель науки Т. Куна
История... могла бы стать основой для
решительной перестройки тех представле-
ний о науке, которые сложились у нас к на-
стоящему времени.
Т. Кун
Ядро модели
Концепция Томаса Куна (1922—1995) вырастает в споре с
К. Поппером и его последователями (И. Лакатос и др.). Пафос
ее состоит в том, что ни верификационизм логических позити-
вистов, ни фальсификационизм Поппера не описывают реаль-
ной истории науки. «Вынесение приговора, которое приводит
ученого к отказу от ранее принятой теории, — говорит Кун, —
всегда основывается на чем-то большем, нежели сопоставление
теории с окружающим нас миром» [Кун, 2001, с. 112—113].
«Вряд ли когда-либо, — вторит ему П. Фейерабенд, — теории
непосредственно сопоставлялись с «фактами» или со «свиде-
1 Вообще многочисленность различных «реализмов», противопоставляющих
себя ван Фраассену, указывает на то, что «реалистическая» позиция является
обороняющейся, а ван Фраассен представляет атакующую сторону (поэтому
именно его позицию мы рассмотрели более подробно).
199
Философия науки
тельствами». Что является важным свидетельством, а что не яв-
ляется таковым, обычно определяет сама теория, а также дру-
гие дисциплины, которые можно назвать «вспомогательными
науками» [Фейерабенд, 1986, с. 118]. В основе историцистской
критики Т. Куном и логического позитивизма, и фальсифика-
ционизма К. Поппера лежит тезис об отсутствии в реальной
истории науки «решающего эксперимента» (т. е. такого, кото-
рый отличает правильную теорию от неправильной). Таковы-
ми их объявляют много позже, в учебниках. Поэтому Кун раз-
рабатывает свою модель развития науки, в которой он делает
акцент на наличии скачков-революций. Последние характери-
зуются такими понятиями, как несоизмеримость и некумуля-
тивность.
Основными элементами куновской модели являются четыре
понятия: научная парадигма, научное сообщество, нормальная
наука и научная революция. Взаимоотношение этих понятий, об-
разующих систему, составляет ядро куновской модели функ-
ционирования и развития науки. С этим ядром связаны такие
характеристики, как несоизмеримость теорий, принадлежащих
разным парадигмам, некумулятивный характер изменений, отве-
чающих «научной революции», в противоположность «кумуля-
тивному» характеру роста «нормальной науки», наличие у пара-
дигмы не выражаемых явно элементов.
Нормальная наука противопоставляется «научной революции».
«Нормальная наука» — это рост научного знания в рамках од-
ной парадигмы. Парадигма — центральное понятие куновской
модели — задает образцы, средства постановки и решения про-
блем в рамках нормальной науки. Научная революция — это
смена парадигмы и соответственно переход от одной «нормаль-
ной науки» к другой. Этот переход описывается с помощью па-
ры понятий парадигма — сообщество, где высвечивается другая
сторона понятия «парадигма» — как некоторого содержательно-
го центра, вокруг которого объединяется некоторое научное со-
общество. Согласно куновской модели в периоды революций
возникает конкурентная борьба пар «парадигма — сообщество»,
которая разворачивается между сообществами. Поэтому победа
в этой борьбе определяется в первую очередь социально-психо-
логическими, а не содержательно-научными факторами (это
200
Часть I. Глава 6
связано со свойством «несоизмеримости» теорий, порожденных
различными парадигмами).
Вот как эта система понятий задается Т. Куном в его. книге
«Структура научных революций» (1962).
«Термин «нормальная наука», — говорит Кун, — означает
исследование, прочно опирающееся на одно или несколько
прошлых научных достижений (как мы увидим позже, это и
есть «парадигма». — А.Л.) — достижений, которые в течение
некоторого времени признаются определенным научным сооб-
ществом как основа для его дальнейшей практической дея-
тельности. В наши дни такие достижения излагаются... учеб-
никами... До того как подобные учебники стали общераспро-
страненными, что произошло в начале XIX столетия...
аналогичную функцию выполняли знаменитые классические
труды ученых: «Физика» Аристотеля, «Альмагест» Птолемея,
«Начала» и «Оптика» Ньютона... Долгое время они неявно оп-
ределяли правомерность проблем и методов исследования ка-
ждой области науки для последующих поколений ученых. Это
было возможно благодаря двум существенным особенностям
этих трудов. Их создание было в достаточной степени беспре-
цедентным (т. е., как мы увидим позже, это «научные револю-
ции». — А.Л.), чтобы привлечь на длительное время группу
сторонников из конкурирующих направлений научных иссле-
дований (т. е. «научное сообщество». — АЛ.). В то же время
они были достаточно открытыми, чтобы новые поколения уче-
ных могли в их рамках найти для себя нерешенные проблемы
любого вида. Достижения, обладающие двумя этими характе-
ристиками, я, — говорит Кун, — буду далее называть парадиг-
мами, термином, тесно связанным с понятием нормальной науки
(здесь и далее выделение курсивом — мое, полужирным — Ку-
на. - АЛ.) [Кун, 2001, с. 34].
По сути, здесь дано весьма четкое определение системы ука-
занных четырех основных понятий. Как и во всякой системе,
главными здесь являются отношения между понятиями.
Отношение между «научной парадигмой» и «научным сооб-
ществом» состоит в том, что «парадигма — это то, что объединя-
ет членов научного сообщества, и, наоборот, научное сообщест-
во состоит из людей, признающих парадигму... Парадигмы яв-
ляют собой нечто такое, что принимается членами таких групп»
[Там же, с. 226]. То есть эти два центральных понятия, строго
201
Философия науки
говоря, определяются друг через друга1. К этому добавляются
два очень простых отношения-определения: нормальная наука —
это работа в рамках заданной парадигмы; научная революция —
это переход от одной парадигмы к другой. При этом «и нор-
мальная наука, и научные революции являются... видами дея-
тельности, основанными на существовании сообществ» [Там
же, с. 231].
В плане непосредственного сравнения «нормальной науки»
и научной революции как двух фаз развития науки следует от-
метить куновское «понимание революционных изменений как
противоположных кумулятивным» [Там же, с. 232], характер-
ным для нормальной науки. Согласно Куну предшествовавшая
ему позитивистская история науки исходила из кумулятивной
модели развития науки и рассматривала науку «как совокуп-
ность фактов, теорий и методов»... Развитие науки при таком
подходе — это постепенный процесс, в котором факты, теории
и методы слагаются во всевозрастающий запас достижений,
представляющих собой научную методологию и знание» [Там
же, с. 24]. Подобное кумулятивное развитие, по Куну, действи-
тельно имеет место, но лишь в рамках нормальной науки, это
одно из характерных ее свойств. «Нормальная наука... представ-
ляет собой в высшей степени кумулятивное предприятие, не-
обычайно успешное в достижении своей цели, т. е. в постоян-
ном расширении пределов научного знания и его уточнения»
1 Правда, сам Кун в дополнении, написанном в 1969 г., хочет уйти от такой
совместной формы определения понятий, характеризуя ее как «логический
круг», который «в данном случае является источником логических трудностей»,
и пытается определить понятие «научного сообщества» независимо от других по-
нятий: «Научные сообщества могут и должны быть выделены как объект без об-
ращения к парадигме; последняя может быть обнаружена затем путем тщатель-
ного изучения поведения членов данного сообщества» [Кун, 2001, с. 226]. Для
этого он предлагает опереться на то, что «научное сообщество состоит из иссле-
дователей с определенной научной специальностью... Они получили сходное об-
разование и профессиональные навыки; в процессе обучения они усвоили одну
и ту же учебную литературу и извлекли из нее одни и те же уроки...» [Там же,
с. 227—228]. Отсюда следует широкая программа исследований по социологии
науки, которая стала реализовываться после его книги. Однако это скорее спо-
соб нахождения конкретного сообщества (а заодно и связанной с ним парадиг-
мы), чем ее определение. В [Липкин, 2005] в качестве опоры для выявления сооб-
щества и парадигмы в некоторой узкой области физических исследований были
выбраны конференции, из материалов которых легко извлекались соответствую-
щие журналы, лаборатории и даже парадигма.
202
Часть I. Глава 6
[Там же, с. 83]'. При этом «три класса проблем — установление
значительных фактов, сопоставление фактов и теории, разра-
ботка теории — исчерпывают... поле нормальной науки, как эм-
пирической, так и теоретической» [Там же, с. 62].
Согласно Куну ученые в рамках нормальной науки заняты
тем, что «расширяют область и повышают точность применения
парадигмы» и «не стремятся к неожиданным новостям» [Там
же, с. 64], т. е. к тому, что не согласуется с принятой парадиг-
мой. «Нормальная наука, на развитие которой вынуждено тра-
тить почти все время большинство ученых, основывается на до-
пущении, что научное сообщество знает, каков окружающий
нас мир» [Там же, с. 28]. Большинство ученых в ходе их науч-
ной деятельности занято «наведением порядка». «Вот это и со-
ставляет то, — пишет Т. Кун, — что я называю здесь нормаль-
ной наукой. При ближайшем рассмотрении этой деятельности...
создается впечатление, будто бы природу пытаются «втиснуть»
в парадигму, как в заранее сколоченную и довольно тесную ко-
робку. Цель нормальной науки ни в коей мере не требует пред-
сказания новых видов явлений: явления, которые не вмещаются
в эту коробку, часто, в сущности, вообще упускаются из виду.
Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания
новых (в смысле выхода за границы парадигмы. — АЛ.) тео-
рий... Напротив, исследование в нормальной науке направлено
на разработку тех явлений и теорий, существование которых па-
радигма заведомо предполагает...» [Там же, с. 50—51].
Процессу кумулятивного «развития через накопления», ха-
рактерному для нормальной науки, Кун противопоставляет «на-
учные революции» (или «аномальные» фазы развития науки), суть
которых состоит в смене лидирующей парадигмы. «Усвоение но-
вой теории требует перестройки прежней и переоценки прежних
1 Кун связывает это с тем, что «...ученые концентрируют внимание на про-
блемах, решению которых им может помешать только недостаток собственной
изобретательности» [Кун, 2001, с. 66]. Речь идет об уподоблении «нормальной
науке» «решению головоломок» [Там же, с. 71]. Последние характеризуются нали-
чием «гарантированного решения» и жесткими «правилами решения», как в «со-
ставной фигуре-головоломке» или кроссворде [Там же, с. 65, 67]. Эту метафору
часто используют для характеристики нормальной науки и Кун, и его оппонен-
ты. В обсуждении куновского понятия нормальной науки она занимает непомер-
но большое место. В гл. 8 будет показано, что эта метафора неадекватна. Тем не
Менее это никак не подрывает куновскую модель, поскольку это уподобление не
входит в ее ядро.
203
Философия науки
•л>ч MW г г гггг г г гг г.г г г гг\г г г г г.г-. г.гггггг г г гг гг гъггггггг г гг г ггг ггг.г г •. г гг
фактов ... [а] не просто добавляет еще какое-то количество зна-
ния в мир ученых» [Там же, с. 30]. «Переход... к новой парадиг-
ме, от которой может родиться новая традиция нормальной нау-
ки, представляет собой процесс далеко не кумулятивный и не та-
кой, который мог бы быть осуществлен посредством более
четкой разработки или расширения старой парадигмы. Этот про-
цесс скорее напоминает реконструкцию области на новых осно-
ваниях» [Там же, с. 121] или «трактовку того же самого набора
данных, который был и раньше, но теперь их нужно разместить в
новой системе связей друг с другом, изменяя всю схему», — гово-
рит Кун [Там же, с. 122]. «Каждая научная революция меняет ис-
торическую перспективу для сообщества, которое переживает эту
революцию» [Там же, с. 121]. «Научные революции рассматрива-
ются здесь как такие некумулятивные эпизоды развития науки, во
время которых старая парадигма замещается целиком или частич-
но новой парадигмой, не совместимой со старой» [Там же, с. 18,
129]. Кун рассматривает «научную революцию как смену поня-
тийной сетки, через которую ученые рассматривают мир», и, «по-
скольку они (ученые) видят этот мир не иначе, как через призму
своих воззрений и дел, постольку у нас может возникнуть жела-
ние сказать, что после революции ученые имеют дело с иным ми-
ром». «Следующие друг за другом парадигмы по-разному характе-
ризуют элементы универсума и поведение этих элементов» [Там
же, с. 141, 142, 151]1.
Эта характеристика некумулятивного типа изменений при
научной революции тесно связана с тезисом Куна (и Фейерабен-
да) о несоизмеримости теорий, отвечающих разным парадигмам.
«Конкуренция между парадигмами не является видом борьбы,
которая может быть разрешена с помощью доводов... — говорит
Кун. — Вместе взятые, эти причины следовало бы описать как
несоизмеримость предреволюционных и послереволюционных
нормальных научных традиций... Прежде всего защитники кон-
курирующих парадигм часто не соглашаются с перечнем про-
блем, которые должны быть разрешены с помощью каждого
1 При этом «факт и теория, открытие и исследование не разделены категори-
чески и окончательно» [Кун, 2001, с. 99]. «Открытие нового вида явлений пред-
ставляет собой по необходимости сложное событие... С открытием неразрывно
связано не только наблюдение, но и концептуализация, обнаружение самого
факта и усвоение его теорией, тогда открытие есть процесс и должно быть дли-
тельным по времени» [Там же, с. 87].
204
Часть I. Глава 6
кандидата в парадигмы. Их стандарты или определения науки не
одинаковы» [Тал/ же, с. 193], переход между различными пара-
дигмами — это «переход между несовместимыми структурами»
[Там же, с. 196]. Другими словами, несоизмеримость теорий
возникает тогда, когда сторонники двух конкурирующих теорий
не могут логическими средствами доказать, что одна из теорий
является более истинной или более общей, чем другая1. В исто-
рии науки в революционные периоды такие случаи наблюдаются
часто.
Несоизмеримость парадигм обусловливает важнейшую черту
куновской модели научной революции, противопоставляющую
его модель модели «объективного знания» К. Поппера. Суть на-
учной революции, по Куну, состоит в переходе от одной пара-
дигмы (старой) к другой (новой): согласно Куну в силу несоиз-
меримости парадигм их конкуренция происходит как конкурен-
ция научных сообществ и победа определяется не столько
внутринаучными, сколько социокультурными или даже соци-
ально-психологическими процессами («многие из моих обобще-
ний касаются области социологии науки и психологии ученых», —
говорит Кун [Там же, с. 32]). «Сами по себе наблюдения и опыт
еще не могут определить специфического содержания науки, —
утверждает Кун. — Формообразующим ингредиентом убежде-
ний, которых придерживается данное научное сообщество в
данное время, всегда являются личные и исторические факторы»
[Там же, с. 27]. «Конкуренция между различными группами на-
учного сообщества (т. е. между научными сообществами. — А.Л.)
является единственным историческим процессом, который эф-
фективно приводит к отрицанию некоторой ранее принятой
теории» [Там же, с. 27, 31].
Подтверждением этого тезиса является приводимое Куном
высказывание Макса Планка: «Новая научная истина проклады-
вает дорогу к триумфу не посредством убеждения оппонентов и
принуждения их видеть мир в новом свете, но скорее потому, что
ее оппоненты рано или поздно умирают и вырастает новое поколе-
1 Более строгое определение выглядит так: «Концептуальные аппараты тео-
рий Т и Г таковы, что нельзя ни определить исходные дескриптивные термины
Г на базе основных дескриптивных терминов Т, ни установить корректных эм-
пирических отношений между терминами двух данных теорий... В этом случае
объяснение теории Т на базе Т или редукция Г кТ, очевидно, невозможны...
В общем использование Т сделает необходимым устранение концептуального
аппарата и законов теории Г» [Фейерабенд, 1986, с. 65].
205
Философия науки
ние, которое привыкло к ней» [Там же, с. 196—197]. Согласно Ку-
ну «некоторые ученые, особенно немолодые и более опытные,
могут сопротивляться сколь угодно долго... новой парадигме»
[Там же, с. 197—198]. «Подобно выбору между конкурирующи-
ми политическими институтами1, выбор между конкурирующи-
ми парадигмами оказывается выбором между несовместимыми
моделями жизни сообщества... каждая парадигма использует
свою собственную парадигму для аргументации в защиту этой же
парадигмы» [Там же, с. 131]. «Принятие решения такого типа
может быть основано только на вере» [Там же, с. 204].
Важной чертой куновской парадигмы яляется наличие у нее
неэксплицируемой (не выраженной явно) части, которая рас-
творена в образцах непосредственной профессиональной дея-
тельности2. «Вводя этот термин (парадигма. — А.Л.), я имел в ви-
1 Кун показывает неслучайность аналогии научной и политической револю-
ций: «Политические революции направлены на изменение политических инсти-
тутов способами, которые эти институты сами по себе запрещают... Когда... по-
ляризация произошла, политический выход из создавшегося положения оказыва-
ется невозможным...» [Кун, 2001, с. 130—131].
2 Схожие идеи несколько ранее были высказаны Майклом Полани (1891—1976)
в его книге «Личностное знание», в центре которой стоит концепция «неявного
знания». «Оригинальность подхода к науке, проведенного в книге, состоит преж-
де всего в последовательном отстаивании тезиса о том, что наука делается людь-
ми, овладевшими соответствующими навыками и умениями познавательной
деятельности, мастерством познания, которое не поддается исчерпывающему
описанию и выражению средствами языка, сколь бы развитым и мощным этот
язык ни был. Поэтому явно выраженное, артикулированное научное знание, в
частности то, которое представлено в текстах научных статей и учебниках, — это,
согласно Полани, лишь некоторая находящаяся в фокусе сознания часть знания.
Восприятие смысла всего этого невозможно вне контекста периферического, не-
явного знания... Смысл научных утверждений определяется неявным контекстом
скрытого (или молчаливого) знания, которое, по существу, имеет инструменталь-
ный характер «знания как», знания-умения, в своих глубинных основах задавае-
мого всей телесной организацией человека как живого существа. Тем самым
смысл научного высказывания (как и всякого другого высказывания), возникаю-
щий в процессе своеобразного опыта внутреннего «прочтения», формирующегося
текста «для себя» и усилий его артикуляции «вовне» посредством сотворенной че-
ловеком языковой системы, в которой он пребывает в данный момент, — этот
смысл принципиально неотделим от того инструментального знания, которое ос-
талось неартикулированным. Более того, он неотделим также и от той личностной
уверенности в истинности, которая вкладывается в провозглашаемое научное су-
ждение. Речь в данном случае идет не об обязательной невыразимости в языке ка-
кой-либо из сторон внутреннего человеческого опыта; речь идет о том, что про-
цесс «считывания» и артикуляции смысла, находящегося в фокусе осознания, не-
возможен без целостного, недетализируемого в данный момент, а потому
неартикулируемого контекста» [Аршинов, 1991, с. 159—160].
206
Часть I. Глава 6
ду, — говорит он, — что некоторые общепринятые примеры фак-
тической практики научных исследований — примеры, которые
включают закон, теорию, их практическое применение и необ-
ходимое оборудование, все в совокупности дают нам модели, из
которых возникают конкретные традиции научного исследова-
ния. Таковы традиции, которые историки науки описывают под
рубриками «астрономия Птолемея (или Коперника)», «аристоте-
левская (или ньютоновская) динамика», «корпускулярная (или
волновая) оптика» и т. д.» [Там же, с. 149]. «Изучение парадигм,
в том числе парадигм гораздо более специализированных, чем
названные мной здесь в целях иллюстрации, является тем, что
главным образом и подготавливает студента к членству в том или
ином научном сообществе, поскольку он присоединяется таким
образом к людям, которые изучали основы их научной области
на тех же самых конкретных моделях...» [Там же, с. 34—35]. «Ос-
ваивая парадигму, ученый овладевает сразу теорией, методами и
стандартами, которые обычно самым теснейшим образом пере-
плетаются между собой» [Том же, с. 149]. «Ряд повторяющихся и
типичных иллюстраций различных теорий в их концептуальном,
исследовательском и инструментальном применении... пред-
ставляют парадигмы того или иного научного сообщества, рас-
крывающиеся в его учебниках, лекциях и лабораторных работах.
Изучая и практически используя их, члены данного сообщества
овладевают навыками своей профессии» [Там же, с. 73]*. Пара-
дигма «располагает обоснованными ответами на вопросы, подоб-
ные следующим: каковы фундаментальные сущности, из которых
состоит универсум? Как они взаимодействуют друг с другом и с
органами чувств? Какие вопросы ученый имеет право ставить в
отношении таких сущностей и какие методы могут быть исполь-
зованы для их решения?» Все это вводится в сознание неофита
соответствующим научным сообществом в ходе получения про-
фессионального образования [Там же, с. 27]. Такое описание
процесса приобщения к парадигме, напоминающее обучение
мастерству в средневековых цехах, несколько гипертрофирова-
но. Оно не совсем адекватно реальному положению дел, хотя и
охватывает некоторые важные моменты. Критический анализ
куновского видения этого процесса представлен в гл. 8.
1 «Ученые исходят в своей работе из моделей, усвоенных в процессе обуче-
ния, и из последующего их изложения в литературе» [Кун, 2001, с. 76].
207
Философия науки
Так выглядит «ядро» куновской модели. Одно из важнейших
достижений этой модели состоит в том, что она делает явными
трудности внедрения принципиально новых (революционных)
идей и теорий. «В науке... — говорит Кун, — открытие всегда со-
провождается трудностями, встречает сопротивление, утвержда-
ется вопреки основным принципам, на которых основано ожи-
дание» [Там же, с. 97].
Дополнительные понятия
Наряду с описанными выше понятиями, при конкретизации
и применении этой модели к истории науки Кун вводит дополни-
тельные («надстроечные») пояснения и понятия, такие, как: ано-
малия, кризис и др. Это помогает понять, как реализуется в ис-
тории науки куновская модель функционирования и развития
науки, наполнить исходные понятия более конкретным содер-
жанием и сделать их более ясными. Некоторые из этих уточне-
ний и конкретизаций являются спорными (это частично обсуж-
дается в гл. 8), но это никак не перечеркивает основу куновской
модели, которая будет работать даже в случае, если любой из
этих дополнительных элементов надстройки будет оспорен1.
То же можно сказать и о его попытках конкретизировать по-
нятие парадигмы с помощью понятия дисциплинарной матрицы'.
«Что объединяет его (сообщества специалистов) членов?.. Уче-
ные сами обычно говорят, что они разделяют теорию или мно-
жество теорий... Однако, — справедливо замечает Кун, — тер-
мин «теория» в том смысле, в каком он обычно используется в
философии науки, означает структуру значительно более огра-
ниченную по ее природе и объему, чем структура, которая требу-
ется здесь... С этой целью я предлагаю термин «дисциплинарная
матрица»: «дисциплинарная», потому, что она учитывает обыч-
ную принадлежность ученых-исследователей к определенной
дисциплине; матрица — потому, что она составлена из упорядо-
ченных элементов различного рода... Все или большинство из
предписаний из той группы предписаний, которые я в первона-
чальном тексте называю парадигмой, частью парадигмы или как
•«Ряд критиков сомневался, предшествует ли кризис... революции... Ничего
существенного в моих аргументах не ставится в зависимость от той предпосыл-
ки, что революциям неизбежно предшествуют кризисы...» — справедливо отве-
чает критикам Кун [Кун, 2001, с. 232—233].
208
Часть I. Глава 6
имеющую парадигмальный характер, являются компонентами
дисциплинарной матрицы. В этом качестве они образуют единое
целое...» [Там же, с. 234]. Что же, с точки зрения Куна, представ-
ляют собой компоненты этой дисциплинарной матрицы?
Во-первых, это «символические обобщения», примерами которых
являются F = та, I = V/R, «действие равно противодействию».
Благодаря им ученые «могут применять мощный аппарат логи-
ческих и математических формул... Эти обобщения внешне на-
поминают законы природы». Могут они выступать и «в роли
определений... Второй тип компонентов, составляющих дисцип-
линарную матрицу... я называю «метафизическими парадигма-
ми»... Я здесь имею в виду общепризнанные предписания, такие,
как: тепло представляет собой кинетическую энергию частей...
как убеждения в специфических моделях... спектра концепту-
альных моделей, начиная от эвристических и кончая онтологи-
ческими моделями... В качестве третьего вида элементов дисци-
плинарной матрицы я рассматриваю ценности... Вероятно, наи-
более глубоко укоренившиеся ценности касаются предсказаний:
они должны быть точными... К четвертому типу компонентов
относится конкретное решение проблемы... Все физики, напри-
мер, начинают с изучения одних и тех же образцов: задачи — на-
клонная плоскость...» [Там же, с. 234—240].
Однако не в понятии дисциплинарной матрицы и попытке
описания ее компонентов суть и сила куновской модели. Повто-
рю еще раз: она состоит, во-первых, в системе четырех понятий,
составляющих «ядро» его концепции. Вторым достижением мо-
дели Куна является ее применение к анализу истории науки, ко-
торое наполняет ее конкретным материалом. Содержательное
наполнение этих понятий, и в первую очередь понятия парадиг-
мы, в разных случаях будет разным и с трудом поддается более
точному определению. Поэтому перейдем к описанию этого ис-
торического пояса куновской модели.
В истории любой науки Кун выделяет фазы или периоды: до-
парадигмальный, нормальной науки и научной революции. До-
парадигмальный период характеризуется «множеством противо-
борствующих школ1 и школок, большинство из которых придер-
живались той или другой... теории». «Каждый автор... выбирал
1 Понятие «школа» Кун не определяет, считая, по-видимому, его достаточно
ясным, — это сообщество ученых, объединяющееся вокруг лидера (учителя), а не
Парадигмы.
209
Философия науки
эксперименты и наблюдения в поддержку своих взглядов». «Ко-
гда в развитии естественной науки отдельный ученый или груп-
па исследователей впервые создают синтетическую теорию, спо-
собную привлечь большинство представителей следующего
поколения исследователей, прежние школы постепенно исчеза-
ют... С первым принятием парадигмы связаны создание специ-
альных журналов, организация научных обществ, требования о
выделении специального курса в академическом образовании»
[Там же, с. 37—38, 44—46].
«Формирование парадигмы... является признаком зрелости
развития любой научной дисциплины» — это период нормаль-
ной науки. «Успех парадигмы... вначале представляет собой в ос-
новном открывающуюся перспективу успеха в решении ряда
проблем... Нормальная наука состоит в реализации этой пер-
спективы» [Там же, с. 36, 50].
Как же происходит рождение новой парадигмы? Кун полага-
ет, что новая парадигма рождается из аномалии (эксперимен-
тальной или теоретической). Аномалия — это «явление, к вос-
приятию которого парадигма не подготовила исследователя», та-
ким образом, «аномалия появляется только на фоне парадигмы».
Осознание аномалии играет «главную роль в подготовке почвы
для понимания новшества» [Там же, с. 89, 98]. Кун приводит ряд
общих черт, «характеризующих открытие новых явлений. Эти
характеристики включают: предварительное осознание анома-
лии, постепенное или мгновенное ее признание — как опытное,
так и понятийное, и последующее изменение парадигмальных
категорий и процедур, которые часто встречают сопротивление»
[Там же, с. 95]L «Источник сопротивления лежит, с одной сто-
роны, в убежденности, что старая парадигма в конце концов
решит все проблемы» [Там же, с. 197]. С другой стороны, «уче-
ный, который прерывает свою работу для анализа каждой заме-
ченной им аномалии, редко добивается значительных успехов»,
более того, тогда «наука перестала бы существовать» [7Ьи же,
с. 118, 240].
1 Кун подчеркивает, что часто «новая парадигма... возникает сразу, иногда
среди ночи, в голове человека, глубоко втянутого в водоворот кризиса... Почти
всегда люди, которые успешно осуществляют фундаментальную разработку но-
вой парадигмы, были либо очень молодыми, либо новичками в той области, па-
радигму которой они преобразовали» [Кун, 2001, с. 127].
210
Часть I. Глава 6
На пути рождения новой парадигмы есть много препятствий.
Во-первых, нет четких критериев, по которым можно было бы
отличить аномалию от пока еще не решенной проблемы («голо-
воломки») в рамках имеющейся парадигмы (нормальной нау-
ки)1. Во-вторых, утверждает Кун, ученые «никогда не отказыва-
ются легко от парадигмы, которая ввергла их в кризис. Иными
словами, они не рассматривают аномалии как контрпримеры...
Достигнув однажды статуса парадигмы, научная теория объявля-
ется недействительной только в том случае, если альтернатив-
ный вариант пригоден к тому, чтобы занять ее место... Решение
отказаться от парадигмы всегда одновременно есть решение
принять другую парадигму... Отказ от какой-либо парадигмы без
одновременной замены ее другой означает отказ от науки вооб-
ще. Но этот акт отражается не на парадигме, а на ученом. Свои-
ми коллегами он неизбежно будет осужден как «плохой плотник,
который в своих неудачах винит инструменты»2 [Там же,
с. 112—114]. «Как и в производстве, в науке смена инструментов
(т. е. парадигмы. — А.Л.) — крайняя мера, к которой прибегают
лишь в случае действительной необходимости. Значение кризи-
сов заключается именно в том, что они говорят о своевременно-
сти смены инструментов» [Там же, с. 111]. Третье препятствие
вытекает из указанного выше тезиса о несоизмеримости теорий,
принадлежащих разным парадигмам.
Как же в таком случае происходит переход к новой парадиг-
ме? Логически последовательный «жесткий» вариант куновского
механизма появления новой пары «парадигма — сообщество»,
индифферентный к процессам, идущим в старой паре, относит-
ся к логическому «ядру» модели и описан выше. Но в «историче-
ской пристройке» Кун смягчает эту модель, добавляя идею о
том, что в реальной истории смене парадигмы предшествует
кризис, переживаемый старой парадигмой. Это существенно об-
легчает революционный момент смены парадигмы. «Возникно-
1 Мне представляется, что это не всегда так. Иногда аномалия имеет четкую
теоретическую формулировку, как это было с проблемой спектра теплового из-
лучения черного тела накануне создания «старой» квантовой теории и с корпус-
кулярно-волновым дуализмом накануне создания «новой» квантовой механи-
ки. - АЛ.
2 И действительно, «большинство аномалий разрешается нормальными
средствами; также и большинство заявок на новые теории оказываются беспоч-
венными» [Кун, 2001, с. 239].
211
Философия науки
вению новых теорий, — говорит он, — как правило, предшеству-
ет период резко выраженной профессиональной неуверенно-
сти... (т. е. кризиса. — А.Л.). Банкротство существующих правил
означает прелюдию к поиску новых» [Там же, с. 101]. Кун при-
водит три типичных, с его точки зрения, примера, в каждом из
которых «новая теория возникла только после резко выражен-
ных неудач в деятельности по нормальному решению про-
блем...» [Там же, с. 109]. Так, Кун приводит высказывание
А. Эйнштейна, характеризующее состояние умов накануне соз-
дания теории относительности: «Ощущение было такое, как ес-
ли бы из-под ног уходила земля, и нигде не было видно твердой
почвы, на которой можно было бы строить» [Там же, с. 120].
В результате «кризис ослабляет правила нормального решения
головоломок таким образом, что в конечном счете дает возмож-
ность возникнуть новой парадигме... Теперь становится все бо-
лее широко признанным в кругу профессионалов, что они име-
ют дело именно с аномалией как отступлением от путей нор-
мальной науки. Ей уделяется теперь все больше и больше
внимания со стороны все большего числа виднейших представи-
телей данной области исследования...». Это приводит к «увели-
чению конкурирующих вариантов, готовность опробовать
что-либо еще... — все это симптомы перехода от нормального
исследования к экстраординарному». «Новая теория, — по его
мнению, — предстает как непосредственная реакция на кризис»
[Там же, с. 109, 115, 119, 128]. Кризис способствует и тому, что
«большинство ученых так или иначе переходит к новой парадиг-
ме». «Это одна из причин, в силу которых предшествующий кри-
зис оказывается столь важным» [Там же, с. 198, 204]. Но с логи-
ческой точки зрения кризис старой парадигмы не является обя-
зательным для того, чтобы возникла новая.
Таковы основные и вспомогательные элементы куновской
модели развития науки. Наиболее бурные споры вызвал предло-
женный им способ выбора революционных альтернатив, т. е., на
языке Куна, выбор между парадигмами. Многие его оппоненты,
в том числе И. Лакатос, относили предлагаемые им основания
для выбора теорий к иррациональным, поскольку центр тяжести
этого выбора переносился с содержания теорий на психологию
сообщества. Однако Кун так не считал, он полагал, что его мо-
дель является тоже рациональной.
212
Часть I. Глава 6
6.6. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда
Обладавший бурным темпераментом мятежный ученик К. Поп-
пера и почитатель Л. Витгенштейна, Пол Фейерабенд (1924—1994)
был настроен более радикально, чем Т. Кун. Он довел критиче-
ские аргументы исторической постпозитивистской критики до
логического конца, что, с одной стороны, явилось мощным
средством разрушения устаревших догм, но, с другой стороны,
это, как известно, часто приводит к абсурду.
Позиция Фейерабенда, выражением которой стал принцип
«anythinggoes» (все дозволено), получила название «эпистемологи-
ческого анархизма». Целью Фейерабенда было «убедить читателя
в том, что всякая методология — даже наиболее очевидная — име-
ет свои пределы...» (здесь и далее курсив — мой, полужирный
шрифт — Фейерабенда. — А.Л.) [Фейерабенд, 1986, с. 164—165].
Позиция Фейерабенда логически вытекает из его критики
кумулятивной модели истории науки и двух его принципов: не-
соизмеримости и пролиферации.
Исходя из анализа истории науки, он, как и Кун, приходит к
выводу о неверности прежней кумулятивной модели развития
науки. История показывает, что часто старая теория не является
частным случаем новой и не выводится («дедуцируется») из нее.
Этой «дедуцируемости» не требует и последовательный принцип
эмпиризма, суть которого состоит в утверждении, что «именно
«опыт», «факты» или «экспериментальные результаты» служат
мерилом успеха наших теорий... Это правило является важным
элементом всех теорий подтверждения (confirmation) и подкреп-
ления (corroboration)» [Там же, с. 160]. Но если старая теория не
входит в новую, то они описывают факты с помощью терминов,
имеющих разные значения, ибо сама теория детерминирует зна-
чение всех дескриптивных терминов теории, включая термины
наблюдения, а также совокупность решаемых проблем и исполь-
зуемых методов. Тогда на смену прежнему принципу «инвари-
антности значений» должен прийти «тезис о несоизмеримости
теорий», утверждающий, что нет определенных однозначных ло-
гических и эмпирических критериев непредвзятой оценки кон-
курирующих теорий, с которой должны обязательно согласиться
сторонники как одной, так и другой альтернативы.
Другим важным принципом концепции развития науки
Фейерабенда является принцип теоретического и методологиче-
213
Философия науки
ского плюрализма, или «пролиферации» (proliferation — размно-
жение) теорий и идей, основанный на том, что «опровержение
(и подтверждение) теории необходимо связано с включением ее
в семейство взаимно несовместимых альтернатив».
Эта необходимость вызвана тем, что «свидетельство, способ-
ное опровергнуть некоторую теорию, часто может быть получе-
но только с помощью альтернативы, несовместимой с данной
теорией... Некоторые наиболее важные формальные свойства
теории также обнаруживаются благодаря контрасту, а не анали-
зу... Познание... — говорит Фейерабенд, — не есть ряд непроти-
воречивых теорий, приближающихся к некоторой идеальной
концепции. Оно не является постепенным приближением к ис-
тине, а скорее представляет собой увеличивающийся океан вза-
имно несовместимых1 (быть может, даже несоизмеримых) альтер-
натив, в котором каждая отдельная теория, сказка или миф явля-
ются частями одной совокупности, побуждающими друг друга к
более тщательной разработке; благодаря этому процессу конку-
ренции все они вносят свой вклад в развитие нашего сознания.
В этом всеобъемлющем процессе ничто не устанавливается на-
вечно и ничто не опускается» [Там же, с. 160—162]. Необходи-
мость «взаимно несовместимых альтернатив» для развития нау-
ки ведет к полезности «контриндукции», суть которой — разраба-
тывать гипотезы, не совместимые с хорошо обоснованными
теориями или фактами [Там же, с. 161]. Ведь «свидетельство,
способное опровергнуть некоторую теорию, часто может быть
получено только с помощью альтернативы, не совместимой с
данной теорией... Поэтому ученый... должен сравнивать идеи с
другими идеями, а не с «опытом» и пытаться улучшить те кон-
цепции, которые потерпели поражение в соревновании, а не от-
брасывать их» [Там же, с. 161]. Отсюда «обсуждение этих альтер-
натив приобретает первостепенное значение для методологии»
[ Там же, с. 76]. «Условие совместимости, согласно которому но-
вые гипотезы логически должны быть согласованы с ранее при-
знанными теориями, неразумно, поскольку оно сохраняет более
старую, а не лучшую теорию... Пролиферация теорий благотвор-
на для науки, в то время как их единообразие ослабляет ее кри-
тическую силу» [Там же, с. 166]. «Если верна мысль... о том, —
говорит он, — что многие факты можно получить только с помо-
1 Совместимость теорий Т| и Tj предполагает, что в Т| нет предложения, ко-
торое противоречило бы предложению из Т2.
214
Часть I. Глава 6
щью альтернатив, то отказ от их рассмотрения будет иметь
результатом устранение потенциально опровергающих фактов»
[Там же, с. 174].
Фейерабенд утверждает, что развитие науки идет не путем
сравнения теорий с эмпирическими фактами, а путем взаимной
критики несовместимых теорий, учитывающей имеющиеся фак-
ты. Поэтому методологический принцип «пролиферации» тео-
рий способствует развитию науки: «Мир, который мы хотим ис-
следовать, представляет собой в значительной степени неизвест-
ную сущность. Поэтому мы должны держать глаза открытыми и
не ограничивать себя заранее» [Тал/ же, с. 150].
Исходя из этого, он утверждает свой анархистский принцип:
«единственным принципом, не препятствующим прогрессу, яв-
ляется принцип «допустимо все» (anything goes)» [ Там же, с. 153].
С этой точки зрения оказываются бессмысленными методологи-
ческие критерии верификационизма и фальсификационизма, а
также принципы соответствия, недопустимости противоречия,
избегания гипотез ad hoc, простоты и пр. Этот «анархистский»
принцип, с точки зрения Фейерабенда, подтверждает история
науки, которая демонстрирует, «что не существует правила... ко-
торое в то или иное время не было бы нарушено... Такие наруше-
ния не случайны... Напротив, они необходимы для прогресса
науки» [Там же, с. 153].
Эти центральные моменты своей концепции Фейерабенд ил-
люстрирует на примере описания способа, «с помощью которого
Галилей справился с важным контраргументом против идеи вра-
щения Земли». Фейерабенд подчеркивает, что «справился», а не
«опроверг», ибо в этом случае мы имеем дело с изменением кон-
цептуальной системы (включающей «естественную интерпрета-
цию»1. — А.Л.), а также с несомненными попытками скрыть это
обстоятельство» [Там же, с. 203]. Согласно Фейерабенду, Гали-
лей меняет старую «естественную интерпретацию» на новую, ис-
пользуя внушение и пропагандистские уловки [Тамже, с. 213].
1 Фейерабенд утверждает, что «существует не два отдельных акта: один —
появление феномена, другой — выражение его с помощью подходящего высказы-
вания, а лишь один: произнесение в определенной ситуации наблюдения выска-
зывания... «камень падает по прямой линии». «Источник и влияние умственных
операций» он называет «естественными интерпретациями» [Фейерабенд, 1986,
с. 204—205]. Их можно рассматривать как форму «теоретической нагруженности»
опытных данных, о которой говорят все постпозитивисты.
215
Философия науки
Такова суть содержательной критики Фейерабендом предше-
ствующей позитивистской философии науки. Но на этом он не
останавливается и проводит свою логическую линию до конца,
приходя к абсурду. Из тезиса о несоизмеримости теорий он вы-
водит возможность защиты любой концепции от внешней кри-
тики, а отсюда равенство любых систем утверждений (характер-
ная черта постмодернизма — широкого философского течения
последней трети XX в.).
Из принципа пролиферации и гуманизма, понимаемого как
«бережное отношение к индивидуальности», ведущее к «плюра-
лизму теорий и метафизических воззрений»1, Фейерабенд выво-
дит равенство всех мировоззрений2 вообще и в том числе рацио-
нально-научного, иррационально-магического (мифологиче-
ского) и религиозного. Из этого для него следует вывод о
необходимости отделения рационально-научного мировоззре-
ния, подобно религиозному, от государства, что означает пре-
кращение обучения наукам в школе. Ибо наука, как показывает
критика постпозитивистов и его собственная, не имеет дела с
объективной истиной и потому подобна религии. Поэтому нет
оснований выделять ее по отношению к религиям и мифологи-
ческим традициям, включая в школьную программу3 4. Для Фейе-
рабенда все это (современная наука, античная мифология, ма-
гия, религия) лишь разные «исторические феномены» [Там же,
с. 139, 141,179—185, 456—457], разные формы упорядочения мира\
«Наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия
1 «Для объективного познания необходимо разнообразие мнений. И метод,
поощряющий такое разнообразие, является единственным, совместимым с гума-
нистической позицией» [Фейерабенд, 1986, с. 185, 166, 178].
2 «Свободное общество есть общество, в котором всем традициям предостав-
лены равные права и одинаковый доступ к центрам власти» [Там же, с. 517].
3 «Научное образование (как оно осуществляется в наших школах) несо-
вместимо с позицией гуманизма... Поскольку принятие или непринятие той или
иной идеологии следует предоставлять самому индивиду, постольку отсюда сле-
дует, что отделение государства от церкви должно быть дополнено отделением
государства от науки — этого наиболее современного, наиболее агрессивного и
наиболее догматического религиозного института. Такое отделение — наш един-
ственный шанс достичь того гуманизма, на который мы способны...» [Там же,
с. 150, 450].
4 Они тоже вводят представление о скрытом (тайном) как источнике
яв(лен)ного. Такими источниками являются: духи — в магии, античные боги — в
античной мифологии, единый и всемогущий Бог — в мировых религиях. В есте-
ственно-научной картине мира эту функцию выполняет естественно-научный
механизм.
216
Часть I. Глава 6
науки. Это одна из многих форм мышления, разработанных
людьми, и не обязательно самая лучшая» [Там же, с. 450].
Таким образом, из тезиса о несоизмеримости и принципа
пролиферации Фейерабенд выводит типичный анархистский (и
постмодернистский) тезис о том, что каждый делает то, что хо-
чет1, и эти «хотения» равны. Но по этой логике в данный список
равных надо включать и каннибалов, и фашистов, и сторонников
человеческих жертвоприношений. По этой логике надо предоста-
вить ребенку выбор родного языка до того, как начать обучать
языку. Этот абсурдный для нормального современного сознания
результат является следствием отбрасывания общественного ха-
рактера человеческой жизни, того, что отдельные люди и группы
включены в более широкие общности, что накладывает на их
свободу существенные ограничения.
Куновская модель как раз и учитывает это обстоятельство и
позволяет рассматривать не только научные революции, но и
сравнение упоминаемых Фейерабендом традиций, причем с уче-
том тезиса о несоизмеримости. Кстати, свободная дискуссия,
ради обеспечения которой Фейерабенд предлагает изъять науку
из школьного образования, логически невозможна в силу про-
возглашаемого им же тезиса о несоизмеримости (если это невоз-
можно для разных теорий внутри естественной науки, то тем бо-
лее невозможно для разных традиций мышления). Что же мы
получим, если попробуем применить подход Т. Куна к заявлен-
ному Фейерабендом равенству науки и мифа, науки и религии?
С точки зрения куновской модели «исторические феномены»
науки и мифа представляют собой разные сообщества со своими
парадигмами. В свое время эти сообщества не соприкасались и
жили своей «нормальной» жизнью. Так, для охотников и собира-
телей, наверное, магическая картина мира, мир, наполненный
Духами, мог быть вполне адекватен их образу жизни. Но история
последних столетий делает человечество все более взаимосвя-
занным. Это приводит к необходимости включать в свою жизнь
мир техники и связанной с ней естественной науки (или изоли-
роваться, если удается выпасть из этого мирового процесса).
Столкновение мифологических сообществ с технологическими
выводит первые из спокойного «нормального» в кризисное со-
1 «Каждый должен иметь возможность жить так, как ему нравится» [Фейера-
1986, с. 510]
217
Философия науки
стояние, в них возникает конкуренция парадигм и сообществ.
Развитие техники, порожденное научно-технической революци-
ей XX в., способствует тому, что сообщество сторонников науч-
но-технической парадигмы растет, а сообщество сторонников
магической и мифологической парадигмы убывает.
Хорошо это или плохо? Это уже другой вопрос. С точки зре-
ния Мартина Хайдеггера (1889—1976), развитие техники опасно
и может погубить цивилизацию. С начала XX в. это рассматрива-
ется как серьезная проблема (см. гл. 19). Хиросима и Чернобыль
показали другие опасности научно-технического развития. Но
изгнание науки из школ и уравнивание в правах с античным ми-
фами не является решением этой проблемы.
Фейерабенд выступает против вытеснения наукой1 практик
парапсихологии2 (известной у нас как экстрасенсорика) и астро-
логии, ссылаясь на успешность близкой им по духу восточной ме-
дицины. К этому же семейству практик можно добавить широко
культивирующиеся на Западе постфрейдистские психологические
практики, особенно с выходом в коллективное бессознательное
(обзор их содержится в [Гроф, 1993, гл. 3]). Содержащийся в прин-
ципе пролиферации Фейерабенда призыв «держать глаза откры-
тыми и не ограничивать себя заранее» и культивировать в куль-
туре разнообразие вполне здрав, но из него не следует, что надо
некритически верить всему, что говорят, и что степень обосно-
ванности, скажем, утверждений физики и астрологии равна.
Что касается различия между наукой и религией, то здесь
просматривается несколько иная линия, чем в различии между
наукой и мифом. Христианская религия, столкнувшись со сфе-
рой политической власти еще в Древнем Риме, изначально при-
няла принцип разделения: «Богу — богово, кесарю — кесарево».
Тот же принцип был применен в Новое время по отношению к
науке и технике: за религией осталась душа (внутренний мир че-
ловека), а в плане упорядочения мира природы (внешнего мира)
первенство было отдано естественной науке, соответствующие
1 Надо отметить, что критикуемый образ науки у него позитивистский и реа-
листический, отвечающий первой половине XX в., а не постпозитивистский Ку-
на и Лакатоса.
2 Парапсихология возникает в конце XIX в. как движение представителей
естественной науки, пытающихся проверить наличие паранормальных явлений
(телепатии, ясновидения и телекинеза), исходя из естественно-научных крите-
риев.
218
Часть I. Глава 6
же части Писания были переосмыслены как иносказания1. По
тому же пути пошла приводимая Фейерабендом в качестве при-
мера Япония, для которой европейская наука и техника были ти-
пичным историческим вызовом, на который надо было найти
ответ, чтобы выжить. Наука и техника сегодня составляют некую
общепризнанную данность (среду) в глобальном масштабе, но
не благодаря «пропагандистским и рекламным акциям» и не по-
тому, что «научный рационализм выше всех альтернативных
традиций» объективно (в рамках постпозитивизма нет места для
подобного утверждения). Ситуация здесь, следуя постпозити-
вистской логике Куна, аналогична спору между, скажем, теорией
относительности Эйнштейна и эфирными теориями. Сообщество
в XX в. выбрало теорию Эйнштейна. Сторонники альтернатив-
ных теорий находятся в абсолютном меньшинстве, но живы. Воз-
можно, в XXI в. что-то из их идей будет востребовано, но никаких
оснований, скажем, давать на государственном уровне равный ре-
сурс всем идеям нет. Ресурс общества ограничен. Можно обсуж-
дать минусы такой системы распределения ресурса, но нельзя
брать в качестве альтернативы анархистский принцип.
Фейерабенд не признавал модели Куна. Он критиковал ее,
исходя из принципов пролиферации и контриндукции. Фейера-
бенд полагал, что Куц ошибочно принял за два этапа две тенден-
ции: стремление к устойчивости и стремление к пролиферации,
которые сосуществуют одновременно. Особенно яро он высту-
пал против куновской модели нормальной науки (см. его работу
«Утешение для специалиста» в [Фейерабенд, 1986]: как и положе-
но анархисту, он призывал к перманентной революции в науке.
Однако анализ структуры и истории физики (см. гл. 7 и 8) под-
тверждает модель Куна, а не Фейерабенда — деление на «нор-
мальную» науку и «революцию» справедливо, хотя «нормальная»
наука и не сводится к решению головоломок (см. гл. 8), — пред-
мет критики Фейерабенда (правда, в открытии структуры
ДНК работа типа решения головоломки составляла существен-
ную часть). Таким образом, фейерабендовская критика Куна не-
адекватна. Что же касается критики предшествовавшего позити-
1 На Западе христианские религии по исходной идее связаны с внутренним
^Иром человека и конкурируют между собой на другом поле, на котором в Новое
®Ремя был провозглашен принцип плюрализма: сосуществование религиозных
сообществ, т. е. веротерпимость, что не исключает конкуренции.
219
Философия науки
визма с позиций антикумулятивизма и тезиса о несоизмеримо-
сти теорий, то он оказывается в одной компании с Куном.
В целом Фейерабенд ярко представил ряд проблем, хотя и в
гипертрофированном виде, и способствовал активизации рабо-
ты постпозитивистской мысли в различных направлениях. Это
видный представитель постпозитивизма. Критика Фейерабенда
расшатывает привычные представления во многом в том же на-
правлении, что и критика Куна. Но если Кун затем построил по-
зитивную модель развития науки, то Фейерабенд не ставил себе
целью создание новой концепции. «Всегда следует помнить о
том, — говорил он, — что... мои риторические упражнения не
выражают никаких «глубоких убеждений». Они лишь показыва-
ют, как легко рациональным образом водить людей за нос. Анар-
хист подобен секретному агенту, который играет в разумные иг-
ры для того, чтобы подорвать авторитет самого разума (Истины,
Честности, Справедливости и т. п.)» [Там же, с. 164—165].
Позиция Фейерабенда напоминает позицию древнегрече-
ских софистов. Последние указали на проблемы, которые затем
решались Сократом, Платоном и Аристотелем. Мне представля-
ется, что проблемы, высвеченные Фейерабендом, во многом бы-
ли решены концепцией Куна, суть которой составляет система
названных выше четырех взаимосвязанных понятий. В этом
смысле куновскую концепцию (критическая часть которой, во
многом совпадающая с критикой Фейерабенда, легла в основа-
ние постмодернизма) можно отнести к «постпостмодернизму»,
т. е. к позитивным концепциям, учитывающим проблемы, по-
ставленные постмодернистами.
6.7. Методология «исследовательских программ»
И. Лакатоса
Философия науки без истории науки
пуста; история науки без философии науки
слепа.
И. Лакатос
В результате постпозитивистской критики, особенно истори-
цистской критики Куна и Фейерабенда, «рационалисты»1 полу-
1 Имеется в ваду рационализм в широком смысле слова (включающий и Де-
карта, и Локка), в который включены те, кто выступает за рациональный крите-
рий истины как соответствия факту при отборе теорий.
220
Часть I. Глава 6
чили существенный уцар. «Раньше, — отмечает В. Ньютон-Смит, —
очень мало говорилось о нерационалистических моделях объ-
яснения перемен в науке...» [Печенкин, 1994, с. 168], ибо царили
рационалисты. Теперь ситуация кардинально изменилась. «Как
себя чувствует наш рационалист? — спрашивает он. — Затрав-
ленный, поверженный и побитый за то, что он едва ли может
принять, он тем не менее выжил» [Там же, с. 193]. Это выжива-
ние В. Ньютон-Смит связывает с программой «умеренного
рационализма» Поппера, продолженной Лакатосом, с отступле-
нием от классического понимания истины в сторону «прибли-
жения к истине», «возрастания правдоподобия», роста «предска-
зательной мощи».
Так, Лакатос неоднократно утверждает, что теории изобрета-
ются, а его критерий «прогрессивного сдвига проблем», по сути,
вводит конструктивистский критерий эффективности при отбо-
ре исследовательских программ. Однако вслед за Поппером он
провозглашает веру в то, что истина существует и научные тео-
рии к ней приближаются, опираясь на опыт, хотя у нас нет кри-
териев, с помощью которых мы могли бы утверждать, что данная
последовательность теорий движется к истине.
Основной единицей модели науки Имре Лакатоса (1922—1974)
является «исследовательская программа», состоящая из «жестко-
го ядра» и «защитного пояса». Модель науки И. Лакатоса (как и
модель Т. Куна) имеет два уровня: уровень конкретных теорий,
образующих меняющийся «защитный пояс» «исследовательской
программы», и уровень неизменного «жесткого ядра», которое
определяет лицо «исследовательской программы». Разные ис-
следовательские программы имеют разные «жесткие ядра», т. е.
между ними имеется взаимнооднозначное соответствие.
Появление этой модели обусловлено тем, что Лакатоса, с од-
ной стороны, не удовлетворяет куновское «сведение философии
науки к психологии науки». «С точки зрения Куна, — говорит
он, — изменение научного знания — от одной «парадигмы» к
Другой — мистическое преображение, у которого нет и не может
быть правил. Это предмет психологии (возможно, социальной
Психологии) открытия. [Такое] изменение научного знания по-
добно перемене религиозной веры» [Лакатос, 2001, с. 274—275].
Поэтому позицию Куна он относит к иррационализму.
С другой стороны, Лакатос поддерживает тезис Куна и Фей-
еРабенда об отсутствии «решающих экспериментов» как крите-
221
Философия цауки
рия выбора между теориями1. «Нет ничего такого, — говорит
он, — что можно было бы назвать решающими эксперимента-
ми, по крайней мере, если понимать под ними такие экспери-
менты, которые способны немедленно опрокидывать исследо-
вательскую программу (или куновскую парадигму. — А.Л.). На
самом деле, когда одна исследовательская программа терпит
поражение и ее вытесняет другая, можно — внимательно вгля-
девшись в прошлое — назвать эксперимент решающим, если
удастся увидеть в нем эффектный подтверждающий пример в
пользу победившей программы и очевидное доказательство
провала той программы, которая уже побеждена» (здесь и далее
полужирный шрифт — выделение Лакатоса; курсив — мое. —
А.Л.) [Там же, с. 368] «Решающие эксперименты признаются
таковыми лишь десятилетия спустя (задним числом)» [Там же,
с. 352] «Статус «решающего» эксперимента зависит от характера
теоретической конкуренции, в которую он вовлечен» [Там же,
с. 367]. Лакатос показывает это на примере эксперимента Май-
кельсона—Морли2 и ряде других [Там же, с. 353—359]. Ему бли-
зок и куновский тезис о том, что «отказ от какой-либо парадиг-
мы без замены ее другой означает отказ от науки вообще» [Кун,
2001, с. 107]. «Не может быть никакой фальсификации прежде,
чем появится лучшая теория», — говорит Лакатос [Лакатос,
2001, с. 307].
Поэтому Лакатос ставит своей целью развить тезис поппе-
ровского «критического рационализма» о рациональности из-
менений научного знания, «выйти из-под обстрела куновской
критики и рассматривать научные революции как рационально
конструируемый прогресс знания, а не как обращение в новую
'«Проверки, которые осуществляются... не путем сопоставления с опытом
отдельной теории, а посредством постановки решающих экспериментов, позво-
ляющих выбрать одну из нескольких теорий», в них «вовлечено несколько тео-
рий» [Фейерабенд, 1986, с. 72, 73, 74].
2 Переписка Майкельсона с Лоренцем напоминает игру в пинг-понг: письма
Майкельсона содержали описание очередного эксперимента и его результат,
письма Лоренца — теоретические возражения, требовавшие нового эксперимен-
та. В результате Майкельсон был обескуражен отсутствием должного внимания к
своим результатам со стороны научного сообщества настолько, что при получе-
нии Нобелевской премии за «создание прецизионных оптических приборов, а
также за спектроскопические и метрологические измерения, выполненные с их
помощью» даже не обмолвился об этом эксперименте.
222
'ЧаСть' Г.’ Глава 6
веру» [Там же, с. 275]. Для этого он разрабатывает свою методо-
логию «исследовательских программ» (ИП).
Каждая «исследовательская программа» содержит «твердое
ядро» и «защитный пояс». Утверждения, включенные в «твердое
ядро», защищаются от изменений «отрицательной эвристикой».
Вместо изменения элементов «твердого ядра» «мы должны... —
говорит Лакатос, — развивать «вспомогательные гипотезы», ко-
торые образуют защитный пояс вокруг этого ядра... Защитный
пояс должен выдержать главный удар со стороны проверок;
...он должен приспосабливаться, переделываться или даже пол-
ностью заменяться, если того требуют интересы обороны. Если
все это дает прогрессивный сдвиг проблем, исследовательская
программа может считаться успешной (классический пример
успешной исследовательской программы — теория тяготения
Ньютона)... Если исследовательская программа прогрессивно
объясняет больше, нежели конкурирующая, то она «вытесняет»
ее, и эта конкурирующая программа может быть устранена»
[Там же, с. 323, 473]1.
В «исследовательскую программу» Лакатоса входят «методо-
логические правила», руководящие изменениями «защитного
пояса». Эти правила делятся на две части: часть из них — это
правила, указывающие на то, каких путей исследования нужно
избегать (отрицательная эвристика); другая часть — это прави-
ла, указывающие на то, какие пути надо избирать и как по ним
идти (положительная эвристика) [Там же, с. 322].
«Идея «отрицательной эвристики» научной исследователь-
ской программы в значительной степени придает рациональ-
ный смысл классическому конвенционализму... Но наш подход
отличается от джастификационистского конвенционализма Пу-
анкаре тем, что мы предлагаем отказаться от твердого ядра в
том случае, если программа больше не позволяет предсказывать
Ранее неизвестные факты... (но если Дюгем видел только эсте-
тические причины (простота. — АЛ.)... разрушения ядра, то на-
Ша оценка зависит главным образом от логических и эмпириче-
ских критериев)» [Том же, с. 325].
1 Но «всегда следует помнить, что, даже если ваш оппонент сильно отстал,
°Н еще может догнать вас. Никакие преимущества одной из сторон нельзя рас-
сматривать как абсолютно решающие» [Лакатос, 2001, с. 475].
223
Философия науки
«Положительная эвристика складывается из ряда доводов,
более или менее ясных, и предположений, более или менее ве-
роятных, направленных на то... как модифицировать, уточнять
«опровержимый» защитный пояс... Внимание ученого сосредо-
точено на конструировании моделей, соответствующих тем ин-
струкциям, какие изложены в позитивной части его програм-
мы» [Там же, с. 326]. «Наши рассуждения показывают, — гово-
рит Лакатос, — что положительная эвристика играет первую
скрипку в развитии исследовательской программы при почти
полном игнорировании «опровержений»... Таким образом, ме-
тодология исследовательских программ объясняет относитель-
ную автономию теоретической науки... То, какие проблемы под-
лежат рациональному выбору ученых, работающих в-рамках
мощных исследовательских программ, зависит в большей степе-
ни от положительной эвристики программы, чем от психологи-
чески неприятных, но технически неизбежных аномалий» [ Там
же, с. 329].
В более поздней работе Лакатос вообще отождествляет по-
ложительную эвристику с защитным поясом. «В соответствии с
моей концепцией, — говорит он, — фундаментальной единицей
оценки должна быть не изолированная теория или совокуп-
ность теорий, а «исследовательская программа». Последняя
включает в себя конвенционально принятое (и поэтому неопро-
вержимое) «жесткое ядро» и «позитивную эвристику», которая
определяет проблемы для исследования, выделяет защитный
пояс вспомогательных гипотез, предвидит аномалии и победо-
носно превращает их в подтверждающие примеры, — все это в
соответствии с заранее разработанным планом... Не аномалии, а
позитивная эвристика его (ученого) программы — вот что в пер-
вую очередь диктует ему выбор проблем. И лишь тогда, когда ак-
тивная сила позитивной эвристики ослабевает, аномалиям мо-
жет быть уделено большее внимание. В результате методология
исследовательских программ может объяснить высокую степень
автономности теоретической науки, чего не может сделать не-
связная цепь предположений и опровержений... В результате
исчезают великие негативные решающие эксперименты Поппе-
ра: «решающий эксперимент» — это лишь почетный титул, ко-
торый... может быть пожалован определенной аномалии, но
только спустя долгое время после того, как одна программа бу-
дет вытеснена другой... Природа может крикнуть: «Нет!», но че-
224
Часть I. Глава 6
ловеческая изобретательность — в противоположность мне-
нию... Поппера — всегда способна крикнуть еще громче. При
достаточной находчивости и некоторой удаче можно на протя-
жении длительного времени «прогрессивно» защищать любую
теорию, даже если эта теория ложна. Таким образом, следует
отказаться от попперовской модели «предположений и опро-
вержений», т. е. модели, в которой за выдвижением пробной ги-
потезы следует эксперимент, показывающий ее ошибочность: ни
один эксперимент не является решающим в то время... когда он
провалится» [Там же, с. 471—472].
«Таким образом, научный прогресс выражается скорее в осу-
ществлении верификации дополнительного содержания теории,
чем в обнаружении фальсифицирующих примеров. Эмпириче-
ская «фальсификация» и реальный «отказ» от теории становятся
независимыми событиями» [Там же, с. 474].
«Непрерывность в науке, упорство в борьбе за выживание
некоторых теорий, оправданность некоторого догматизма —
все это можно объяснить только в том случае, если наука по-
нимается как поле борьбы исследовательских программ, а не от-
дельных теорий... Мой подход, — утверждает Лакатос, — пред-
полагает новый критерий демаркации между «зрелой наукой»,
состоящей из исследовательских программ, и «незрелой нау-
кой», работающей по затасканному образцу проб и ошибок...
Зрелая наука в отличие от скучной последовательности проб и
ошибок (Поппера. — А.Л.) обладает «эвристической силой»...
[которая] порождает автономию теоретической науки» [Там
же, с. 370].
6.8. «Внутренняя» и «внешняя» истории
Модель исследовательской программы, состоящей из «жест-
кого ядра» и «защитного пояса», частично проецируется Лака-
тосом на историю науки, порождая его деление истории науки
На «внутреннюю» и «внешнюю».
«Каждая рациональная реконструкция создает некоторую
характерную для нее модель рационального роста научного зна-
ния, — говорит он. — Однако все эти реконструкции должны
Дополняться эмпирическими теориями внешней истории для
в Философия науки
225
Философия науки
того, чтобы объяснить оставшиеся нерациональные факторы
(в эту сферу у Лакатоса и попадает куновская модель. — А.Л.).
Подлинная история науки всегда богаче рациональных рекон-
струкций. Однако рациональная реконструкция, или внутренняя
история, является первичной, а внешняя история — лишь вторич-
ной, так как наиболее важные проблемы внешней истории опреде-
ляются внутренней историей...1 Для любой внутренней истории
субъективные факторы не представляют интереса» [Таи же,
с. 483—484]. «Историк-интерналист» будет рассматривать... ис-
торический факт как факт «второго мира» (Поппера. — А.Л.),
являющийся только искажением своего аналога в «третьем ми-
ре». Почему возникают такие искажения — это не его дело, в
примечаниях он может передать на рассмотрение экстерйалиста
проблему выяснения того, почему некоторые ученые имеют
«ложные мнения» о том, что они делают (конечно, то, что в
данном контексте причисляется к «ложным мнениям»... зависит
от теории рациональности, которой руководствуется критика)
[Там же, с. 485].
«Именно внутренняя история, — утверждает Лакатос, — оп-
ределяет то, что историк будет искать в истории науки, на что
будет делать акцент и что будет игнорировать. «История без не-
которых теоретических «установок» невозможна, — говорит Ла-
катос. — Одни историки (позитивисты. — АЛ.) ищут открытий
несомненных фактов, индуктивных обобщений, другие (поппе-
рианцы. — АЛ.) — смелых теорий и решающих негативных экс-
периментов, третьи (Лакатос. — АЛ.) — значительных теорети-
ческих упрощений или прогрессивных и регрессивных сдвигов
проблем, при этом все они имеют некоторые теоретические ус-
тановки» [Там же, с. 487]. То есть эмпирический материал в ис-
тории, так же как и в физике, «теоретически нагружен».
«Внутренняя история для индуктивизма состоит, — по мне-
нию Лакатоса, — из признанных открытий несомненных фак-
тов и так называемых индуктивных обобщений. Внутренняя ис-
тория для конвенционализма складывается из фактуальных от-
1 «Внутренняя история» обычно определяется как духовная, интеллектуаль-
ная история, «внешняя история» — как социальная история... Данные мной оп-
ределения образуют жесткое ядро некоторой историографической исследова-
тельской программы, их оценка является неотъемлемой частью оценки плодо-
творности этой программы в целом» {Лакатос, 2001, с. 457—458].
226
Часть I. Глава 6
крытий, создания классифицирующих систем1 и их замены
более простыми системами.
Внутренняя история для фальсификационизма (попперовско-
го. — А.Л.) характеризуется обилием смелых предположений,
теоретических улучшений, имеющих всегда большее содержа-
ние, чем их предшественники, и прежде всего — наличием три-
умфальных «негативных решающих экспериментов».
И наконец, методология исследовательских программ говорит
о длительном теоретическом и эмпирическом соперничестве
главных исследовательских программ, прогрессивных и регрес-
сивных сдвигах проблем и о постепенно выявляющейся победе
одной программы над другой» [Там же, с. 483].
«У каждой историографии есть свои характерные для нее
образцовые парадигмы (в докуновском смысле). Главными па-
радигмами индуктивистской историографии являются кепле-
ровское обобщение тщательных наблюдений Тихо Браге; от-
крытие затем Ньютоном закона гравитации путем индуктивного
обобщения кеплеровских «феноменов» движения планет; от-
крытие Ампером закона электродинамики благодаря индуктив-
ному обобщению его же наблюдений над свойствами электри-
ческого тока...» [Там же, с. 460—461]. «Для конвенционалиста
образцовым примером научной революции была коперникан-
ская революция», а «главными научными открытиями являются
прежде всего изобретения новых более простых классификаци-
онных систем» [Там же, с. 464, 465]. «Излюбленными образца-
ми (парадигмами) великих фальсифицируемых теорий для поп-
перианцев являются теории Ньютона и Максвелла, формулы
излучения Релея—Джинса и Вина, революция Эйнштейна; их
излюбленные примеры решающих экспериментов — это экспе-
1 «Конвенционализм допускает возможность построения любой системы клас-
сификации, которая объединяет факты в некоторое связное целое... Подлинный
прогресс науки, согласно конвенционализму, является кумулятивным и осущест-
вляется на прочном фундаменте «доказанных» фактов, изменения же на теорети-
ческом уровне носят только инструментальный характер (...они различают «уро-
вень фактов», «уровень законов» (т. е. индуктивных обобщений «фактов») и
«Уровень теорий» (или классифицирующих систем), на котором классифициру-
ются и факты, и индуктивные законы... Конвенционализм — как он определен
Здесь — философски оправданная позиция; инструментализм является его выро-
жденным вариантом, в основе которого лежит простая философская неряшли-
вость, обусловленная отсутствием элементарной логической культуры» {Лака-
тос, 2001, с. 462-464].
8*
227
Философия науки
римент Майкельсона—Морли, эксперимент Эддингтона, свя-
занный с затмением Солнца». «Историк-попперианец ищет ве-
ликих, «смелых» фальсифицируемых теорий и великих отрица-
тельных решающих экспериментов» [Там же, с. 467]. Образцами
конкурирующих исследовательских программ могли бы, навер-
ное, служить различные варианты теории относительности
(эйнштейновский, эфирный и др. (см. [Визгин, 1985; Липкин,
2001, п. 5.2])'.
У каждой историографии есть свои характерные для нее про-
блемы. «Историк-индуктивист не может предложить рациональ-
ного «внутреннего» объяснения того, почему именно эти факты,
а не другие были выбраны в качестве предмета исследования.
Для него это нерациональная, эмпирическая, внешняя проблема»
[ Там же, с. 461]. «Конвенционалистская историография не мо-
жет рационально объяснить, почему определенные факты в
первую очередь подвергаются исследованию и почему опреде-
ленные классифицирующие системы анализируются раньше,
чем другие, в тот период, когда их сравнительные достоинства
еще неясны» [Там же, с. 465]. «Для историка-фальсификацио-
ниста особую проблему представляет «ложное сознание» —
«ложное», конечно, с точки зрения его теории рациональности.
Почему, например, некоторые ученые считают решающие экс-
перименты скорее позитивными и верифицирующими, чем не-
гативными и фальсифицирующими? Для решения этих проблем
именно фальсификационист Поппер разработал... концепцию о
расхождении объективного знания (в его «третьем мире») с ис-
каженными отображениями этого знания в индивидуальном
сознании» [Там же, с. 469—470]. Существует «основная эписте-
мологическая проблема» и для методологии научно-исследова-
тельских программ. «Подобно методологическому фальсифика-
ционизму Поппера, она (методология научно-исследователь-
ских программ) представляет собой весьма радикальный
вариант конвенционализма. И аналогично фальсификациониз-
му Поппера она нуждается в постулировании некоторого вне-
методологического (т. е. неконвенционалистского. — А.Л.)
принципа — для того чтобы... превратить науку из простой игры
1 При этом «не только «внутренний» успех или «внутреннее» поражение не-
которой программы, но часто даже ее содержание можно установить только рет-
роспективно» [Лакатос, 2001, с. 486].
228
Часть I. Глава 6
в эпистемологически рациональную деятельность... в нечто бо-
лее серьезное — в подверженное ошибкам отважное приближе-
ние к истинной картине мира» [Тал/ же, с. 476].
В ряду анализируемых (и сравниваемых) Лакатосом подхо-
дов в философии науки нет куновского, который выступает
только как объект критики. Тем не менее нам представляется,
что его можно было бы поместить в этот ряд, т. е. применить ла-
катосовскую историографическую методологию и к куновской
модели развития науки. Здесь во внутренней истории выделяют-
ся научные сообщества и конкуренция между ними, парадигмы,
фазы нормальной науки и научной революции. Здесь есть свои
образцы — в первую очередь коперниканский переворот, про-
анализированный самим Куном. Есть и свои проблемы (выделе-
ние парадигм и др.). Вообще говоря, и лакатосовскую, и кунов-
скую модели развития науки, по-видимому, можно приложить к
рассмотренным выше (включая куновский) направлениям в фи-
лософии науки XX в. Вполне можно говорить о куновской исто-
риографической исследовательской программе, которая порож-
дает мощный поток исследований по социологии науки.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аршинов В.И. Личностное знание // Современная западная философия:
Словарь. М.: Политиздат, 1991, с. 159, 160.
Визгин В.П. Единые теории поля в 1-й трети XX в. М.: Наука, 1985.
Гроф С. За пределами мозга. М.: Изд-во Трансперсонал, ин-та, 1993.
Кун Т. Структура научных революций. М.: ACT, 2001.
Кондаков И. И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975.
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских про-
грамм (с. 265—454); История науки и ее рациональные реконструкции
(с. 455—524). // Кун Т. Структура научных революций. М.: ACT, 2001.
Малахов В. С., Филатов В.П. (составители). Современная западная филосо-
фия: Словарь. М.: Политиздат, 1991.
Мах Э. Познание и заблуждение: Очерки по психологии исследования. М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.
Мах Э. Популярно-научные очерки. СПб.: Образование, 1909.
Печенкин А.А. Антиметафизическая философия второй половины XX в.:
конструктивный эмпиризм Баса ван Фраассена // Границы науки. М.: ИФРАН,
2000. С. 104-120, 110-111.
Печенкин А.А. (составитель). Современная философия науки: Хрестоматия.
(Сост., пер., вступ. статья и комм. А.А. Печенкина). М.: Наука, 1994.
Порус В.П. (ред.). «Научный реализм» и проблемы эволюции научного зна-
ния. М.: АН СССР, Ин-т философии, 1984.
Поппер К. Логика и рост научного знания: Избр. работы. М.: Прогресс,
1983.
229
Философия науки
Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: УРСС, 2002.
Поппер К. Предположения и опровержения. М.: ACT, 2004.
Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской им-
перии. М.: Наука, 1988.
Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. Биробид-
жан: Тривиум, 2000.
Тулмин Ст. Человеческое понимание. М.: Прогресс, 1984.
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986.
Философский энциклопедический словарь. М.: СЭ, 1986.
Хилл Т. Современные теории познания. М.: Прогресс, 1965.
Швырев В. С. Научное познание как деятельность. М.: Политиздат, 1984.
Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М.: Нау-
ка, 1977.
Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 1—4. М., 1965—1967.
Эйнштейновский сборник, 1972. М/ Наука, 1974.
Harre R. Varieties of realism. A rationale for the natural sciences. Oxf., 1986.
Putnam H. Why there isn’t a ready-made world // Synthese. 1982. Vol/51. № 2.
p. 141-167.
Tarski A. The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics
Philosophy and Phenomenological Research. 1943—1944. Vol. 4.
Van Fraassen Bas C. An Introduction to the Philosophy of Time and Space. N.Y.,
1970.
Van Fraassen Bas C. The Scientific Image. Oxf., 1980.
ВОПРОСЫ
1. Что такое принцип демаркации?
2. Что такое принцип фальсификации?
3. В чем суть «фаллибилизма»?
4. Какова попперовская модель развития науки?
5. В чем суть попперовской «эволюционной эпистемологии»?
6. Какова связь идеологии либерализма и эпистемологии?
7. В чем суть попперовской концепции «трех миров»?
8. Каков попперовский взгляд на проблему истинности научного
знания? Что такое критерий «правдоподобности»?
9. Каково отношение К. Поппера к классическому рационализму,
эмпиризму и реализму?
10. В чем различие между конструктивизмом и реализмом? Какими
парами понятий оно определяется?
11. Что такое «эмпирическая адекватность»?
12. Что такое «конструктивный эмпиризм»?
13. Что такое «наивный» и «реформированный» «реализмы»?
14. Каково отношение Т. Куна к «решающему эксперименту»?
15. Какова основная система понятий модели науки Т. Куна?
16. Что такое «тезис о несоизмеримости теорий»?
17. Что такое «нормальная наука» и «научная революция»?
18. Что такое «научная парадигма»?
230
Часть I. Глава 6
19. Что такое кумулятивный и некумулятивный пути развития нау-
ки? Как они соотносятся с куновскими понятиями «нормальной
науки» и «научной революции»?
20. Что такое «аномалия» и «кризис»?
21. Как происходит научная революция в куновской модели?
22. В чем суть принципа «пролиферации» П. Фейерабенда?
23. Что общего и различного в позициях Куна и Фейерабенда?
24. Каково отношение И. Лакатоса к модели Т. Куна?
25. Каково отношение Лакатоса к наличию решающих эксперимен-
тов?
26. Каковы основные элементы модели «исследовательской про-
граммы»?
27. Каково место в ней позитивной и отрицательной эвристики?
28. Что такое «прогрессивный сдвиг проблем»?
29. Что такое «внутренняя» и «внешняя» истории?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кун Т. Структура научных революций. (Любое издание.) М.: ACT, 2001.
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских про-
грамм (любое издание) (с. 265—454); История науки и ее рациональные реконст-
рукции (с. 455—524) // Кун Т. Структура научных революций. М.: ACT, 2001.
«Научный реализм» и проблемы эволюции научного знания. М.: АН СССР,
Ин-т философии, 1984.
Печенкин А.А. Антиметафизическая философия второй половины XX в.:
конструктивный эмпиризм Баса ван Фраассена // Границы науки. М.: ИФРАН,
2000. С. 104-120.
Поппер К Логика и рост научного знания: Избр. работы. М.: Прогресс,
1983.
Поппер К Объективное знание. Эволюционный подход. М.: УРСС, 2002.
Поппер К Предположения и опровержения. М.: ACT, 2004.
Современная западная философия: Словарь. М.: Политиздат, 1991.
Современная философия науки: Хрестоматия (сост., пер., вступ. статья,
комм. А.А. Печенкина). М.: Наука, 1994.
Глава 7
ОБЪЕКТНАЯ ТЕОРЕТИКО-ОПЕРАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ1
Предлагаемая в этой главе модель науки, в отличие от ку-
новской и лакатосовской, выведена не из истории науки, а из
анализа структуры физического знания, в первую очередь из
анализа структуры теоретической физики, сложившейся к нача-
лу XX в. Для Галилея и Ньютона главным предметом поиска
был закон движения, объект движения был очевиден. Ситуация
меняется в середине XIX в. в связи с появлением электродина-
мики и термодинамики, где вопрос стоял уже и о самом объек-
те. В результате в теоретической физике установилось представ-
ление о явлении как о процессе, описываемом как переход неко-
торого физического объекта (физической системы А) из одного
состояния (SA (1) в другое (SA (2). Таким образом, в центре вни-
мания физики теперь оказываются физическая система (объект)
и ее состояния, а закон движения (закон природы) превращает-
ся в характеристику физической системы, задающую связь меж-
ду состояниями, фиксируемую уравнением движения. Именно
теоретическая физика, включающая эксперимент, стала адек-
ватной формой построения новых физических сущностей2. Это
представление, в рамках которого происходит существенное ус-
1 Разработка тем, изложенных в главах 7, 8, 13, 14, происходила при под-
держке грантов РФФИ, РГНФ и Фулбрайта.
2 Отличие этого нового этапа в развитии физики сопровождается существен-
ной сменой установки. При создании новых разделов физики на предыдущих
этапах в центре внимания бьи поиск «законов природы», понимавшихся в рам-
ках реалистического и эмпиристского взгляда на физику. В конце XIX в.
конвенционалистские и конструктивистские мотивы, о которых говорилось в
главах 3 и 6, интенсивно проникают в физику. Этому сопутствует выдвижение на
первый план роли теоретика, так как активность теоретических построений ста-
новится все более зримой, а теоретические конструкции все более сложными.
232
Часть I. Глава 7
ложнение базовых понятий, и составляет суть формирования
новой теоретической физики1, где формируется структура фи-
зического знания, требующая особого рассмотрения.
7.1. «Вторичные» и «первичные» идеальные объекты
и «ядро раздела науки»
В физике, как и в геометрии, четко различаются «первич-
ные» и «вторичные» идеальные объекты. Вторичные идеальные
объекты (ВИО) строятся (определяются) с помощью первичных
идеальных объектов (ПИО). ВИО определяются явным образом
через ПИО, как в геометрии, фигуры (аналоги ВИО) строятся
(определяются) с помощью прямых и точек (аналогов ПИО).
Например: треугольник — это фигура, образованная пересече-
нием трех прямых. А в механике идеальный маятник — это то-
чечная массивная частица (ПИО), на которую действуют силы
тяжести и нити. Принципиальная разница между геометриче-
скими и физическими идеальными объектами состоит в том,
что физические идеальные объекты предполагают воплощае-
мость в материальные объекты, это их необходимая черта.
ВИО — это идеальная онтологическая объектная модель (мо-
дель-объект), из которой автоматически вытекает теория данного
объекта и его изменений (т. е. явления), подобно тому как из ме-
ханической модели Солнечной системы (планеты-частицы + си-
лы тяготения) вытекает теория движения планет. Этот «автома-
тизм» обусловлен тем, что теоретическое описание ПИО задано.
1 А. Пуанкаре делил историю «математической физики» (имея в виду пос-
леньютоновскую физику XVIII—XIX вв., активно использовавшую математику)
на три этапа: на первом этапе (XVIII в.) образцом является небесная механика,
основанная на законах Ньютона. Здесь теории строятся на основе моделей, со-
стоящих из точечных частиц и сил между ними. Второй этап (вторая половина
XIX в.) Пуанкаре определяет как «физику принципов», когда к природным объ-
ектам относятся как к сложным машинам с неизвестным внутренним строением
(«черные ящики»). Свое время (конец XIX — начало XX в.) он оценивал как кри-
зис «физики принципов», за которым должен последовать новый, третий этап
[Пуанкаре, 2001, с. 232 и далее]. Описываемая ниже «теоретическая физика»,
по-видимому, и является этим ожидавшимся Пуанкаре третьим этапом. Не слу-
чайно именно конец XIX в. ознаменован «появлением кафедр теоретической
Физики» [Визгин, 1995, с. 9].
233
Философия науки
Итак, ВИО определяются явным образом с помощью ПИО1.
Что касается самих ПИО, то они определяются совсем по-друго-
му. До середины XIX в. и в физике, и в математике ПИО рас-
сматривались как неопределимые, но интуитивно ясные (оче-
видные) понятия. Однако во второй половине XIX в. в связи с
появлением неевклидовых геометрий, а в физике — созданием
электродинамики Фарадея—Максвелла стали работать с более
сложными понятиями, которые нельзя получить простым абстра-
гированием из эмпирических объектов (как получали понятие
«материальная точка»). Поэтому опора на очевидность перестала
удовлетворять (среди первых, кто поставил в физике эти вопро-
сы, были Э. Мах и А. Пуанкаре). В результате возникла проблема
оснований в геометрии и в физике. Следствием этого стал так
называемый «гносеологический кризис в физике».
В геометрии выход был указан в 1899 г. великим математиком
Д. Гильбертом, который ввел для этого неявный тип определения
исходных понятий (ПИО) — точки, прямой и т. п. — через систе-
му аксиом геометрии. В результате система аксиом геометрии, в
которой в каждую аксиому входило несколько исходных понятий
(например, «через две точки всегда можно провести прямую, и
только одну»), стала использоваться не только для доказательства
теорем, но и для совместного неявного определения исходных
понятий геометрии. При этом неявный не значит нечеткий или
неясный, этот тип определения может очень четко и однозначно
определять все понятия, что и имеет место в геометрии.
Фактически тот же ход (но без должной рефлексии) был сде-
лан и в физике, которая ориентировалась на уровень строгости,
заданный в математике. В результате в физике произошли суще-
ственные изменения в построении структуры ее оснований, ко-
торая приобрела наиболее четкое выражение в рамках современ-
ной теоретической физики2.
При этом теоретическая физика естественным образом раз-
билась на разделы (классическая механика, электродинамика...),
в каждом из которых образовалась своя система понятий и по-
•При явном типе определения определяемые понятия выражаются через
другие понятия, которые, в свою очередь, выражаются через третьи и т. д. Но эта
цепочка должна на каких-то понятиях кончаться. ПИО и есть конечные понятия
этих цепочек, на которых все стоит.
2 Существовавшая к этому времени теоретическая или аналитическая меха-
ника имела другую структуру, которая требует отдельного рассмотрения.
234
I Часть I. Глава 7
стулатов, которая неявным образом определяет свою группу ис-
ходных понятий, включая первичные идеальные объекты (ПИО)
данного раздела. Эту систему понятий и постулатов будем назы-
вать «ядром раздела науки» — ЯРН (поскольку этот подход при-
меним не только к физике, то мы употребляем термин «ядро раз-
дела науки» наряду с термином «ядро раздела физики»). Таким
образом, ЯРН в физике выполняет роль, аналогичную той, кото-
рую у Гильберта выполняла система аксиом в геометрии. Посред-
ством ЯРН осуществлялся неявный тип определения ПИО. Струк-
тура ЯРН дана ниже, а ее конкретный вид представлен в гл. 13 на
примере одного из самых сложных разделов физики — кванто-
вой механики (примеры других разделов физики см. [Липкин,
2001]). ПИО затем используются при построении ВИО, из кото-
рых следуют теории, объясняющие известные или предсказы-
вающие новые явления.
ПИО являются основными понятиями любого раздела фи-
зики. Из этих «кирпичиков» строятся все физические модели
объектов и явлений природы (и соответствующие им теории).
Таким образом, мы различаем: 1) явление; 2) модель физичёской
системы (объекта) или ВИО, лежащую в основе явления;
3) ПИО, из которых эта модель построена; 4) теорию, вытекаю-
щую из пунктов 2) и 3). Примеры физических явлений суть дви-
жение планет, электрический разряд, спектр излучения атома,
сверхпроводимость. Моделью, или ВИО, будет соответствующая
физическая система (объект), состоящая из ПИО. Используе-
мые при этом ПИО — механическая частица (тело), заряженная
частица, «квантовая частица».
«Раздел науки (физики)» состоит из ЯРН и различных моде-
лей явлений и объектов (т. е. ВИО) и соответствующих им тео-
рий. Задания ЯРН достаточно для разворачивания всего осталь-
ного содержания раздела (ПИО и ВИО), поэтому ЯРН четко вы-
деляет, с одной стороны, то, что следует называть основаниями
раздела науки1, а с другой — сам раздел науки (в нашем случае
раздел физики) как целостную единицу, содержащую определен-
ные ПИО. Эти разделы четко прописаны в классических учеб-
никах по теоретической физике (например, в курсе «Теоретиче-
1 Здесь «основания» имеют тот же смысл, что в «Основаниях геометрии»
Д. Гильберта, в отличие от их понимания В.С. Степиным, который под основа-
ниями науки имеет в виду «научную картину мира», а также «идеалы, нормы и
Философские основания науки» [Степин, 2000].
235
Философия науки
ской физики» Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица [Ландау, Лифшиц}
дано одно из первых систематических изложений теоретической
физики, в которых в качестве центральных понятий выступают
физическая система и ее состояния и последовательно излагают-
ся основания каждого раздела, за это этот курс высоко ценят во
всем мире). Отметим, что если ПИО всегда принадлежат опреде-
ленному разделу физики, то ВИО могут строиться из ПИО, при-
надлежащих разным разделам физики (например, движение за-
ряженных тел в жидкости будет описываться ПИО из механики,
гидродинамики и электродинамики).
По этой логике можно ввести также понятие подраздела нау-
ки (физики) как области со своими квази-ПИО, но такими, ко-
торые определяются явным образом с помощью ПИО одного
объемлющего раздела науки (например, подраздел механиче-
ских колебаний в механике) или нескольких разных разделов
науки (например, магнитная гидродинамика, построенная на
ПИО гидродинамики и электродинамики). То есть некоторые
ВИО используются как квази-ПИО для построения других
ВИО в рамках подраздела науки.
Следует отметить, что наряду с классическим вариантом
сборки ВИО из ПИО в виде многочастичных физических систем
(моделей), характерным для классической механики, ВИО мо-
жет получаться как видоизменение некоторых свободных пара-
метров ПИО. В качестве последних могут выступать различные
варианты граничных условий (как в гидродинамике и электро-
динамике) или различные наборы измеримых величин (в кван-
товой механике, где из ПИО — квантовой частицы — получают-
ся различные микрочастицы — свободные электроны (со спи-
ном и без), протоны, электронные орбиты и т. п.). Но и в этих
случаях остается тот же принцип различения между ПИО и
ВИО: ПИО задаются (определяются) посредством ЯРН (исполь-
зуя неявный тип определения), а ВИО задаются (определяются)
через ПИО явным образом.
7.2. ВИО- и ПИО-типы работы и эксперимента в физике
Наличие двух типов идеальных объектов («первичных» и
«вторичных») ведет к наличию двух типов работы в естественных
науках: ВИО-тип работы по построению ВИО из существующих
ПИО и ПИО-тип работы по созданию новых ПИО (сх. 7.1).
236
Часть I. Глава 7
ЯРН
(ПИО)
> вио
Схема 7.1
Это различение фиксируется в предложенном Т. Куном деле-
нии на «нормальную» и «аномальную» (революционную) фазы
науки и в эйнштейновском различении на «конструктивные» и
«принципиальные» («фундаментальные») теории. Нам представ-
ляется, что в истории физики наличие указанных двух типов ра-
боты отражается в споре конца XIX в. о задаче физики: «объяс-
нять» или «описывать»? Но союз «или» здесь неверен, поскольку
речь шла о двух последовательных фазах: создании ПИО в
ПИО-типе работы и последующем его использовании в ВИО-ти-
пе работы. Нетрудно увидеть, что сторонники «объяснитель-
ной» версии занимались ВИО-типом работы. Творцы новых
разделов физики: классической механики (Галилей, Ньютон (в
«Математических началах натуральной философии», но не в
«Оптике»), электродинамики (Максвелл, Герц), специальной
теории относительности (ранний Эйнштейн, находившийся под
сильным влиянием Маха) — занимались ПИО-типом работы,
организованной по другим правилам. Этот тип работы не мог
ориентироваться на нормы первого типа работы, существовав-
шие под лозунгом «объяснения». Поэтому они образовали дру-
гой лагерь под лозунгом «описательной» установки. Это «развя-
зывало руки» для ПИО-типа работы, т. е. для создания нового
«строительного материала» — ПИО.
Есть еще третий тип работы в физике — эксперименталь-
ное исследование, в ходе которого из обобщения эмпирических
фактов (процедура, близкая бэконовской индукции (гл. 1) воз-
никают новые эмпирические явления (объекты или процессы)
и кандидаты в «экспериментальные законы» (рассуждения Дю-
гема и Карнапа про отличие экспериментальных и теоретиче-
ских законов см. в гл. 3 и 5). Примерами последних служат за-
коны идеального газа в термодинамике или домаксвелловские
законы электродинамики. Продукт подобного типа экспери-
ментальных исследований является исходным материалом для
Рассматриваемых в этой главе теоретических ПИО- и ВИО-ти-
пов работы.
237
Философия науки J
Этим типам работы отвечают соответствующие типы экспе-
римента. При этом следует различать ПИО-эксперимент в раз-
ках ПИО-типа работы в физике и ВИО-эксперимент в рамках
ВИО-типа работы в физике. Между этими двумя случаями есть
важное различие, для фиксации которого мы воспользуемся
введенным Е. Хаттеном [Hutten] различением двух типов моде-
лей: «модели ДЛЯ» (model for) чего-то еще не существующего и
«моделью ЧЕГО-ТО» (model of) уже существующего.
В ПИО-эксперименте исходным является теоретический объ-
ект — ПИО, а отвечающий ПИО эмпирический объект является
его приближением, т. е. ПИО является «моделью ДЛЯ» чего-то
еще не существующего. В ВИО-эксперименте ВИО является
приближением эмпирического объекта, т. е. ВИО является «моде-
лью ЧЕГО-ТО» уже существующего.
ВИО-эксперимент может существовать как в натуральной
(материальной), так и в мысленной форме. Возможность мыслен-
ного эксперимента обусловлена тем, что ВИО состоит из ПИО, а
для ПИО существует теоретическое описание, и его поведение
известно, поэтому, построив ВИО-модель из ПИО, можно пред-
сказать поведение ВИО. Этот тип работы скрывается за утверж-
дением: «Теоретик мыслит в экспериментах, но эксперименты
остаются по преимуществу мысленными» [Акутин, с. 4]1. При
этом если отвечающее ВИО уравнение движения оказывается
слишком сложным, то его решают численно на ЭВМ. Послед-
нее называется математическим моделированием или компьютер-
ным экспериментом2.
Суть ПИО-эксперимента — реализация ПИО, сложившего-
ся в теоретическом слое; этот процесс сложнее, чем идеализа-
ция того или иного предмета опыта. Понятие ПИО-эксперимен-
та, которое связано с понятием ПИО-типа работы по полу-
чению нового ПИО, является одним из основных понятий
1В известной работе А.В. Ахутина, посвященной истории развития физиче-
ского эксперимента, при рассмотрении эксперимента Нового времени отсутствует
различение указанных двух уровней идеальных объектов и не выделяется
ПИО-тип работы. Поэтому в центре оказывается ВИО-тип работы под именем
«исследовательского эксперимента». Но в ВИО-эксперименте ПИО фиксирова-
ны, поэтому в результате описываемого Ахутиным взаимодействия эксперимента
и теории меняется лишь набор ПИО и создаваемая из них конструкция — ВИО.
2 В который можно ввести и модель измерительных приборов. Но это не ме-
няет сути дела.
238
\ Часть I. Глава 7
данного подхода к структуре научного знания. Именно здесь
возникает сложное переплетение теоретических и нетеоретиче-
ских элементов, делающих стандартную позитивистскую дихо-
томию «эмпирическое — теоретическое» или «наблюдаемое —
ненаблюдаемое» неадекватной. Образец ПИО-типа работы был
задан еще Галилео Галилеем (1564—1642) при создании теории
падения тел. У него обнаруживается фактически противополож-
ная бэконовской схема.
Если обратиться к текстам «Бесед...» Г. Галилея, где он, ре-
шая доставшуюся ему в наследство от Аристотеля задачу об
описании падения тела, закладывает основы естественной нау-
ки Нового времени, то обнаружится, что основой его построе-
ний является не столько эмпирическое наблюдение, сколько
теоретическое убеждение, что природа «стремится применить
во всяких своих приспособлениях самые простые и легкие сред-
ства... Поэтому, когда я замечаю, — говорит он в своих «Бесе-
дах...» — что камень, выведенный из состояния покоя и падаю-
щий со значительной высоты, приобретает все новое и новое
приращение скорости, не должен ли я думать, что подобное
приращение происходит в самой простой и ясной для всякого
форме? Если мы внимательно всмотримся в дело, то найдем,
что нет приращения более простого, чем происходящее всегда
равномерно» [Галилей, 1964, с. 238]. Схема «физической» работы
Галилея, ярко продемонстрированная в решении задачи о бро-
шенном теле («4-й день»), такова: задается закон движения — те-
ла падают равноускоренно — и в результате мысленных физиче-
ских экспериментов происходит создание элементов физической
модели: тела, идеального движения в пустоте и мешающей этому
идеальному движению среды. Далее к созданному таким обра-
зом теоретическому построению Галилей подходит, как инже-
нер к проекту, т. е. ставит перед собой задачу воплотить в
материал определение-проект этой «пустоты», как это делает
инженер со своим проектом. Делает он это в ходе созданного
им физического эксперимента ПИО-типа с помощью операций
приготовления (<П|) («гладкие наклонные плоскости» (позже
эту функцию выполняют откачанные от воздуха трубки) и дру-
гие «конструктивные элементы» инженерной конструкции) и
операций измерения (|И>).
239
I
Философия науки
7.3. Сочетание рационализма, /
конструктивизма и реализма в объектном /
теоретико-операциональном подходе [
I
Важной чертой описанного галилеевского подхода являемся
то, что он, по своей сути, во-первых, является рационалистиче-
ским, ибо основное его утверждение — равноускоренность паде-
ния тела — постулат разума, а не обобщение опыта (из опыта бе-
рется только утверждение об ускоренном характере движения).
Во-вторых, он является конструктивистским, так как новый
ПИО реализуется в эмпирическом материале в результате
ПИО-эксперимента с помощью операций приготовления и из-
мерения, теоретическая часть порождает «модель для». Этот ход
постоянно применяется при определении ПИО. Так, в классиче-
ской механике аналогом пары «вакуум — среда» будут: пара
«прямолинейное равномерное движение — сила» — в первом за-
коне Ньютона и «сила и инерциальная система отсчета» — во
втором законе Ньютона. Ведь «инерциальная система отсчета»
определяется как такая, в которой этот закон верен. Она вводит-
ся постулативно, а задача ее нахождения решается конструктив-
но с помощью привязки ее к поверхности Земли, центру Солн-
ца, множеству удаленных звезд или реликтовому излучению1.
В силу этого конструктивизма природа оказывается «совокуп-
ным объектом естествознания («наук о природе») [Юдин, 1986,
с. 529]. Эта же мысль, как мне представляется, стоит за концеп-
цией X. Патнэма, утверждающего, что «сознание и мир совмест-
но составляют сознание и мир» [Патнэм, 2002, с. 11].
Но этот «рационалистический конструктивизм» существен-
но отличается от «эмпирического конструктивизма» ван Фраас-
сена. Во-первых, галилеевский «рационалистический конструк-
тивизм» относится к ПИО-типу работы. Во-вторых, ван Фраассен
требует лишь эмпирической адекватности теории (модели) и яв-
ления. У него, как и у конвенционалистов, сама модель носит ин-
струментальный и условный характер. В предлагаемом «объект-
ном теоретико-операциональном» подходе речь идет не только
'Альтернатива — уметь определять все силы независимо от законов
Ньютона, но появляются все новые и новые взаимодействия: гравитационные,
электромагнитные, сильные, слабые, и гарантии, что этот ряд не будет продол-
жен, нет.
240
Часть I. Глава 7
об эмпирической адекватности, но и об «онтологической адек-
ватности», ибо физическая модель строится из ПИО — элемен-
тов искусственных, но реальных (как кирпичи). Эта конструкти-
вистская искусственность принципиально отличается от того,
что предполагается в конвенционализме и инструментализме.
Здесь нет условности и договоренности. Физическая модель
(ВИО), составленная из ПИО, претендует на реальность. Хотя
ПИО трактуются как изобретения, т. е. конструктивистски, ВИО
рассматриваются реалистически — в явлении мы открываем
(т. е. совершаем открытие) определенные сочетания ПИО и про-
веряем их в эксперименте на истинность. ВИО состоят из реаль-
ных (но искусственных) ПИО. Так же как в домах и городах мы
окружены творениями рук человека, так и в восприятии и пости-
жении внешнего мира мы воспринимаем и постигаем его через
призму нашей культуры, элементами которой являются ПИО.
ПИО (классические или квантовые частицы, поля и т. д.) в рам-
ках ВИО-типа работы выступают как аналоги априорных форм
Кантах, но эти априорные формы имеют (как у неокантианцев в
гл. 2) культурное, а не биологическое происхождение (Кант свя-
зывал их с человечеством как видом). Иными словами, если тех-
ника создает мир «второй природы», то наука создает культур-
ные средства («очки» первичных идеальных объектов) для опи-
сания (а также для объяснения и предсказания поведения)
«первой природы». То, что мы увидим (выделим) в «первой при-
роде», зависит от этих культурных средств, но смотреть мы будем
на мир «первой» природы, лежащей перед нами, а не созданной
нами. Ни сама «первая природа», ни средства науки не являются
субъективными, хотя, по-видимому, имеет место зависимость
1 Подобное утверждение есть у П. Фейерабенда, который говорит, что «науч-
ная теория несет свой особый способ рассмотрения мира», а не есть лишь «удоб-
ная схема для упорядочения фактов... Можно даже сказать, — продолжает он, —
что «природа» в тот или иной период представляет собой наше собственное соз-
дание, в том смысле, что все свойства, приписываемые ей, сначала были изобре-
тены нами, затем использованы для упорядочения окружающей среды. Как хо-
рошо известно, этот всеохватывающий характер теоретических допущений наи-
более ярко был подчеркнут Кантом...», и далее он высказывает «мысль о том, что
наши теории полностью детерминируют наше представление о реальности»
{Фейерабенд, 1986, с. 31,43]. Важным аспектом этих «априорных форм» является
то, что в них участвуют и «органы чувств», и «органы действия» (включающие
технические приспособления). Нечто похожее можно увидеть в «функциональ-
ных циклах» И. Икскюля в применении к животным \Uexkull von J. Theoretical
Biology. L.; N.Y., 1926].
241
Философия науки
науки от культуры — «культурная нагруженность» «первой при-
роды» (впрочем, ПИО могут иметь не только конструктивист-
скую, но и реалистическую (в духе Платона) трактовку1). С точ-
ностью до этой «культурной нагруженности» «первой природ^!»,
данной нам как совокупность реальных объектов — материали-
зованных ПИО, можно говорить о реальности, объективности и
истине в рамках «нормальной науки». Никакой зависимости от
наблюдателя или растворения границы субъект/объект здесь не
возникает, причем и в классической, и в квантовой (см. гл. 13)
физике. Кроме того, история показывает, что у естественно-на-
учного сообщества есть тенденция сохранять глобальное единст-
во вне относительно непродолжительных революционных пе-
риодов. В содержательном плане это обеспечивается стратегией
согласования новых разделов науки со сложившимися старыми.
Это очень хорошо видно на примере физики, где раздел со сло-
жившимся ЯРН уже не исчезает. Появляющийся новый раздел
физики либо формирует независимую дополнительную область
(например, электрический заряд у механических частиц), либо
согласуется со старым разделом (например, через предельный
переход, как это имеет место в случае теории относительности и
квантовой механики). Это согласование обеспечивается широко
используемым в физике принципом соответствия. Такой тип
роста является в определенном смысле возрастающим, но не ку-
мулятивным (см. гл. 8).
Сохранение критериев реальности, объективности и истин-
ности в рамках «нормальной науки» предполагает отсутствие
многозначности теоретических моделей явления, полученной
в результате ВИО-типа работы. Это еще одно важное отличие
данного объектного теоретико-операционального подхода от «кон-
структивного эмпиризма» ван Фраассена.
1 Избежать «культурной нагруженности» можно в рамках платоновского реа-
лизма, предполагающего особый тип интуиции, позволяющей усматривать
ПИО непосредственно. Из двух пар понятий «рационализм — эмпиризм» и «реа-
лизм-конструктивизм» можно составить 4 варианта. Эмпирические реализм и
конструктивизм были рассмотрены ван Фраассеном (п. 6.2). Здесь говорится о
«рационалистическом конструктивизме». «Рационалистическому реализму» от-
вечает вариант платонизма, имеющий своих сторонников главным образом сре-
ди теоретиков, пытающихся развивать идеи общей теории относительности в
сторону «теории всего» (типичный пример — [Кулаков, 1992]). Автору ближе ра-
ционалистический конструктивизм, но «объектный теоретико-операциональ-
ный» подход можно развивать и на базе рационалистического реализма.
242
\ Часть I. Глава 7
: л. г.. г' ' . : г : ' . " ' , " ~ г , - -
\ В рамках феноменалистического подхода ван Фраассена
теории — это совокупность утверждений, среди которых особое
место занимают универсальные утверждения — законы, кото-
рый понимаются как результат соглашения. Эти теории не име-
ют физического (онтологического) значения и служат лишь ин-
струментами для правильного описания их проявлений, что мо-
жет не иметь отношения к источнику-причине этого явления.
Эта позиция в формулировке П. Фейерабенда выглядит следую-
щим образом. Совокупность утверждений теории сопоставляет-
ся с совокупностью эмпирических утверждений, описывающих
явление. Для некоторого пересечения этих двух совокупностей
утверждений {£} вводится критерий эмпирической адекватности
(под которой имеется в виду совпадение эмпирических проявле-
ний теоретической модели явления и самого явления). В силу
1) независимого происхождения этих двух совокупностей; 2) фик-
сации совокупности эмпирических утверждений и 3) отсутствия
ограничения на совокупность теоретических утверждений воз-
никает ситуация, когда «одно и то же множество данных наблю-
дения совместимо с очень разными и взаимно несовместимыми
теориями», состоящими из общих утверждений {£} и несовмес-
тимых частей {То;}. Из этого следует тезис о том, что «строгий
эмпири(ци)зм допускает существование теорий, которые факту-
ально адекватны и тем не менее взаимонесовместимы» [Фейера-
бенд, 1986, с. 53, 75].
В случае, когда в основе теории лежит объектная модель, со-
ставленная из небольшого числа ПИО, которые соответствуют
реальным объектам, а не условным утверждениям, дело обстоит
иначе. В силу реальности ПИО, обеспеченной операциями при-
готовления, реальными являются и объектные модели-ВИО.
Поскольку никаких других сущностей, кроме ПИО, для описа-
ния физических явлений не существует (в этом суть аналогии с
априорными формами Канта), то они, и только они, являются
онтологическими сущностями в физике, поэтому они должны
лежать в основе самого явления. Далее идет двусторонний про-
цесс сближения эмпирического объекта и ВИО: со стороны мо-
дели — путем ее изменения или усложнения, со стороны эмпи-
рического объекта — путем его «очищения», фиксируя опреде-
ленные операции приготовления (физическое явление должно
быть физически воспроизводимо, а химическое — химически
воспроизводимо). В силу немногочисленности ПИО различные
243
Философия науки
модели-ВИО довольно резко отличаются друг от друга по спек-
тру своих свойств. Поэтому совпадение набора проявлений для
разных моделей-ВИО (из которых следуют теории) — ситуация
непродолжительная. Длительное существование многозначно-
сти здесь возможно в рамках соперничающих исследователь-
ских программ, или парадигм, или описаний с помощью фено-
менальных законов, но это уже ситуация или «научной револю-
ции», или «незрелого» раздела физики (допарадигмальной
стадии, по Куну). История науки, демонстрирующая замену од-
ной теории другой, вполне вписывается в эту картину.
7.4. Физический эксперимент и естественная наука
как специфические сочетания математизированной
натурфилософии и технических операций
Очень важным для понимания естественной науки момен-
том является осознание принципиальной границы, проходящей
между исследуемым объектом и операциями приготовления и
измерения. Она оказалась смазанной в рефлексии квантовой ме-
ханики. Чтобы четче показать эту границу, обратимся к исто-
рии1. Это поможет показать и различие между умозрительной по
своей сути натурфилософией и пронизанной экспериментом ес-
тественной наукой.
Возникшую в XVII в. физику часто характеризуют как мате-
матизированную и экспериментальную науку. Это действитель-
но две важнейшие характеристики физики. Но что они означа-
ют? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся опять к галилеев-
ской теории падения тела, где эти черты уже в полной мере
проявляются. Именно здесь сливаются в новое целое — физику
Нового времени — три компоненты культуры, характерные еще
для Древней Греции: натурфилософия (философия природы),
математика и искусство инженера-механика. Натурфилософия
умозрительна и онтологична по своей сути. Она начинается в
Древней Греции с Фалеса, утверждавшего, что «все есть вода»;
образцом развитой натурфилософии можно считать атомизм
Левкипа—Демокрита. Образец математики в виде геометрии
1Я не претендую на серьезное историческое исследование, моя цель — лишь
прояснить суть этой границы.
244
\
Часть I. Глава 7
Евклида вырастает в древнегреческой философии в рамках пла-
тоно-пифагорейской линии. Эти две линии сливаются у Галилея
и Ньютона в математизированную натурфилософию в образе
«Книги Природы, написанной на языке математики» (естест-
венно, Богом). Физический эксперимент и физика как естествен-
ная наука рождаются на пересечении натурфилософского умозре-
ния и механического искусства, представлявших собой две разные
линии.
В Древней Греции науке о природе соответствовала натурфи-
лософия и сливавшаяся с ней физика, определенная Аристоте-
лем как наука о движении. При этом философия, натурфилосо-
фия и физика Аристотеля не имели ничего общего с техникой
(механикой машин), с помощью которой мастеру удавалось пе-
рехитрить природу. «Первая природа» дана человеку в виде явле-
ний природы, за которыми античная натурфилософия и физика,
как и наука Нового времени, искали доступные разуму онтоло-
гические модели и сущности (наряду с ними существовали и
чисто описательные науки, «спасавшие явления» (см. п. 6.4), но,
несмотря на утверждения позитивистов (см. гл. 3, 5) и ван Фра-
ассена (п. 6.4), большинство ученых считают, что они ищут он-
тологические модели и сущности). Техника — это «вторая при-
рода, за которой стоит управляющий ею человек, техника подра-
зумевает цели и функции, а не сущности. Со времен Древней
Греции до Нового времени господствовали представления, что
«область механики — область технической деятельности, тех
процессов, которые не протекают в природе как таковой без уча-
стия и вмешательства человека. Предмет механики — явления,
происходящие «вопреки природе», т. е. вопреки течению физи-
ческих процессов, на основе «искусства» (те/vri) или «ухищре-
ния» (pr]%avr|)... Механические проблемы... представляют само-
стоятельную область, а именно область операций с инструмента-
ми и машинами, область «искусства»... Под механикой
понимается некое «искусство», искусство делать орудия и при-
способления, помогающие одолеть природу... Во второй полови-
не XVII в. продолжало держаться старое представление о меха-
нике как теории машин, основанной на началах статики» [Гри-
горьян, Зубов, 1962, с. 9—11].
Поэтому математизированная натурфилософия Галилея и
Ньютона искала законы естественного движения — «законы
Природы», не зависящие от деятельности человека. Знаменитый
245
Философия науки
труд Ньютона называется «Математические начала натуральной
философии». Машины же создавались искусством инжене-
ров-механиков (порой с использованием механики-физики, как
это было у Гюйгенса при расчете механизма часов), их суть оп-
ределялась людьми и сводилась к заданным функциям. Дейст-
вия людей противопоставлялись природным явлениям, это бы-
ли две разные области — области «второй» и «первой» природы.
Кроме того, в XVII в. изменился тип натурфилософии. К XVII в.
сосуществовало три натурфилософские линии рассмотрения
«первой» природы: магическая, органическая и механическая
[Grim, 1982]. Физика Нового времени растет из последней, в ко-
торой природа рассматривается как очень сложная машина (ме-
ханизм, подобный сложным часам), созданная мастером-Богом
(позже существующая сама по себе)1. При познании этого меха-
низма применяется «физическая интуиция, определенная меха-
ническими искусствами... Идея физики как всеобщей механики
зарождалась в умах ученых с конца XVII в. и впервые была
обоснована Декартом» [Там же, с. 216]. Этому пониманию при-
роды («первой» природы) отвечает сложившаяся к концу XVII в.
механика как раздел физики. Наряду с этим сохраняется преж-
нее понимание механики как человеческого искусства.
У Галилея эти линии пересекаются и порождают физиче-
ский эксперимент и новую естественную науку — физику. Тео-
рия падения тела Галилея, содержащая пару «пустота — среда»,
нефальсифицируема (в смысле Поппера), ведь любое отклоне-
ние от «естественного» равноускоренного движения списыва-
ется на «среду», у которой нет независимого определения. Од-
нако Галилей к описанной выше теоретической модели паде-
ния тела подошел как инженер к проекту: он ввел технические
«конструктивные элементы» инженерной конструкции типа
наклонной плоскости, шарика и т. п. Эти действия масте-
ра-механика назовем «операциями приготовления» (<П|). Дру-
гой разновидностью действий мастера-механика являются
«операции измерения» (|И>), включающие в себя операции
сравнения с эталоном (и наличие эталона). В результате возни-
1 Ср. цель Коперника: «...объяснить ход мировой машины, созданной луч-
шим и любящим порядок Зодчим»; по [Ахутин, 1976, с. 185].
246
Часть I. Глава 7
<п|Х(Т)|и>
Схема 7.2
кает характерная структура физического (и есте-
ственно-научного) эксперимента1 2 (сх. 7.2).
Структура, представленная схемой 7.2, выде-
ляет, кроме эмпирического явления X и его тео-
рии Т, еще и операции приготовления (<П|) и измерения (|И>),
которые заимствованы из техники и имеют другую («вторую»)
природу1.
До включения операций приготовления и измерения галиле-
евская «пустота» и основанная на ней теория падения тела при-
надлежат еще натурфилософскому умозрению, т. е. математи-
зированной натурфилософии, а не естественной науке, включаю-
щей эксперимент.
В структуре схемы 7.2 средний член — принадлежащее «пер-
вой» природе явление, составляющее предмет исследования с по-
мощью физических (естественно-научных) понятийных средств,
а крайние члены — принадлежащие «второй» природе техниче-
ские средства, связанные с этими понятиями3.
Важнейшим моментом этой структуры является то, что ее
крайние части — не явления, а операции, действия человека, кото-
рые могли быть переданы машине (автомату), операциональная
часть состоит из операций и процедур, относимых к продуктам
деятельности человека, а не к явлениям природы. Включение
технических средств в структуру физического (естественно-на-
1 Такая структура эксперимента приведена для квантовой механики В.А. Фо-
ком [Фок, 1951, с. 6—7].
2 А.В. Ахутин указывает на связь «новой физики» с «экспериментальной вет-
вью прикладной механики» и справедливо отмечает, что экспериментальная дея-
тельность «имеет дело с орудиями и машинами (инструментальная техника)»,
которые применяются и «в практике материального производства», однако в фи-
зическом эксперименте их «отношение к предмету и... цель принципиально
иные» из-за «специальной точки зрения, определенной теоретической целью».
В результате «то же самое действие (что и в технике материального производст-
ва. — АЛ.) становится экспериментальным» [Ахутин, 1976, с. 12—13, 215].
3 Эксперимент, доставляющий «эмпирические факты», в рамках воззрений
Ф. Бэкона можно представить схемой <П| Х|И>, где X— нечто неизвестное. Веду-
ПШми здесь являются элементы <П| и |И>. Результат подобных экспериментов
Дает зависимости различных величин, которые обобщаются в эмпирические за-
коны. С этого начинаются многие науки (приблизительно по такой схеме накап-
ливались эмпирические законы об электрических зарядах и токах в электродина-
мике с начала XVII и до начала XIX в.). Иногда так открываются новые явления,
Примером чего служит история открытия космологического реликтового излуче-
ния. Но в развитой науке типичным является эксперимент по проверке или от-
работке теории, которая и диктует, что надо приготовлять и измерять.
247
Философия науки
учного) эксперимента отличает родившуюся в XVII в. естест-
венную науку (физику) от натурфилософии.
В XVIII в. в натурфилософских высказываниях Лапласа
(п. 1.1) эта разница забывается, и «вторая» природа растворяется
в «первой». Эта натурфилософия, которая, по сути, превращала
измерение (и приготовление) в явление, разрушая структуру
эксперимента, не имела серьезных последствий для физики того
времени, где по-прежнему царствовала структура, отраженная
на сх. 7.2, и никто всерьез не рассматривал вопрос об описании с
помощью уравнений Ньютона операции измерения длины стерж-
ня. Иная ситуация возникла в квантовой механике XX в. Здесь
И. Шрёдингер и многие другие физики, повторив рассуждение
Лапласа, с точностью до замены механики Ньютона на квантовую
механику, породили «проблему измерения в квантовой механике»
и связанный с этим классический набор «парадоксов»: «редукции
(коллапса) волновой функции», «кошки Шрёдингера», «Эйн-
штейна, Подольского, Розена» (см. гл. 13)1. Другая крайность,
характерная для постмодернистов типа П. Фейерабенда, — рас-
творение науки в технике, т. е. «первой» природы во «второй».
7.5. Естественная наука и натурфилософия
в Новое время и в XX в.
Выше было показано, как из симбиоза натурфилософии и
техники в XVII в. возникла естественная наука. Теперь посмот-
рим, что произошло с натурфилософией после рождения естест-
венной науки, которая вместо нее теперь стала отвечать на во-
прос, как устроены различные явления природы. Оказывается,
натурфилософские модели при этом не исчезли. Это следует
иметь в виду при рассмотрении так называемой «естествен-
1 То же происхождение имеет и обсуждение проблемы «необратимости вре-
мени» в термодинамике и статистической физике. В физике время — это изме-
римая величина, т. е. то, что измеряется часами. Поэтому обратимыми или необ-
ратимыми являются соответствующие процессы, а не время. Проблема необра-
тимости возникает при выводе термодинамики или статистической физики из
механики многочастичных систем (ансамблей частиц). Но такого вывода не су-
ществует. Термодинамика и статистическая физика — целостные разделы физи-
ки, рассматривающие немеханические явления, в основания которых входят по-
стулаты, отсутствующие в механике. Попытки вывести их из механики мотиви-
рованы лаплассионизмом.
248
Часть I. Глава 7
нр-научной картины мира» и современной космогонии (теории
происхождения Вселенной). Стоит вспонить, что Кант этот во-
прос относил к рациональной космологии и утверждал, что ее
построения не являются наукой (поскольку приводят к антино-
миям), но есть результат естественной склонности разума.
Наиболее известными натурфилософскими картинами мира
древности были платоно-пифагорейская (описанная в «Тимее»
Платона) и атомизм Демокрита. В Новое время эти натурфило-
софские картины мира сменяют естественно-научные. Первой в
этом ряду стоит механицистская картина мира Лапласа (п. 1.1),
использовавшая в качестве базового элемента механические час-
тицы ньютоновской механики. После появления электродина-
мики и представлений о том, что в основе меж- и внутримолеку-
лярных взаимодействий (и даже самого атома) лежат электромаг-
нитные взаимодействия, возникает «электромагнитная картина
мира». После создания квантовой механики, давшей новую тео-
рию атомов и молекул, и теории относительности стали говорить
о «релятивистско-квантовой картине мира». Перечисленные
картины мира — стационарные, говорящие только о структуре
мира. С появлением общей теории относительности возникает
новая нестационарная космология, существующая сегодня как
«сценарий Большого взрыва». К этому добавляется астрофизи-
ческая теория эволюции звезд, заполняющая пробел между ме-
тано-водородным газом и звездно-планетными системами с на-
бором веществ таблицы Менделеева и их комбинаций вплоть до
органических молекул. В результате нестационарная космология
превращается в «эволюционную физическую картину мира». До-
бавление к ней эволюционной концепции Дарвина расширяет
физическую нестационарную картину мира до «глобальной эво-
люционной картины мира». Надеются, что существующий разрыв
между мертвой неорганической материей и биосферой поможет
преодолеть синергетика (гл. 14). Такова современная естествен-
но-научная картина мира. Оставляя в стороне биологическую
часть этого построения (трудности перехода от неживого к жи-
вому до сих пор не преодолены (см. гл. 16), ограничимся его фи-
зической частью. Сравним современную естественно-научную
(в основе своей физическую) картину мира с древними натурфи-
лософиями. На первый взгляд отличие «естественно-научной»
Картины мира Лапласа, Шрёдингера и современной космологии
от натурфилософии Демокрита состоит в привлечении в качест-
ве первоэлементов ПИО физики вместо умозрительных «ато-
249
Философия науки
мов». То есть картина мира здесь строится как ВИО. Однако
проведенное выше различение между натурфилософией и есте-
ственной наукой высвечивает интересную особенность «физиче-
ской картины мира»1.
ПИО и порождающее его ЯРН оказываются здесь «первее»
картины мира2. ПИО предполагают наличие операций приго-
товления и измерения, без которых они теряют свой естествен-
но-научный статус и превращаются в элементы натурфилосо-
фии. В отличие от ВИО-типа моделей-теорий картина мира,
вообще говоря, не предполагает описания операций приготовле-
ния и измерения, процедур экспериментальных исследований и
их результатов (на что указывает и В.С. Степин [Степин, 2000,
с. 216]). Поэтому картина мира теряет черты, свойственные ес-
тественной науке, и возвращается к натурфилософии. Это сопро-
вождается тем, что составляющие ее элементы часто становятся
более расплывчатыми, чем ПИО, и превращаются в «принципы»
типа: «мир состоит из неделимых корпускул; их взаимодействие
осуществляется как мгновенная передача сил по прямой; корпус-
кулы и образованные из них тела перемещаются в абсолютном
пространстве с течением абсолютного времени» [Там же, с. 219].
Сценарий Большого взрыва выглядит как физическая тео-
рия, но все же следует внимательнее отнестись к упомянутому
выше предостережению Канта в отношении Вселенной и рацио-
нальной космологии. Может ли Вселенная рассматриваться про-
сто как ВИО (ведь сегодня она строится из ПИО, принадлежа-
щих ОТО, термодинамике, квантовой теории поля, предпола-
гающих при своем построении наличие границ)? Можно ли
продолжать построения ОТО в диапазон времени, где не могут
существовать атомы (по крайней мере заслуживает внимания во-
прос о пространственных и временных операциях измерения в
этом случае). Как там сконструировать часы и линейки?
В свете этого представляется, что рефлексия взаимодействия
современной натурфилософии и естественной науки и различе-
ние функционирования одних и тех же терминов в этих областях
1 Она отвечает третьему (отчасти и второму) типу во вводимой В.С. Степи-
ным типологии, где выделяются три типа «научных картин мира» разного уров-
ня: «общенаучная», «естественно-научная» и «дисциплинарная» [Степин, 2000,
с. 197].
2 У Степина это зафиксировано как случаи, где «теория начинает создавать^
ся до построения адекватной ей картине мира» [ Там же, с. 215], если под теорией
здесь иметь в виду создание нового ЯРН с новыми ПИО.
250
Часть I. Глава 7
очень важно. Сегодня натурфилософия существует как склад ар-
хетипических образов и моделей, к которым обращаются естест-
венные (и другие) науки для построения новых ПИО. В свое вре-
мя оттуда были взяты в физику архетипы моделей локальной час-
тицы (тела), сплошной (непрерывной) среды, атомов. В начале
XX в. на натурфилософский «склад» из физики поступил образ
поля и вероятностного поведения, во второй половине века — об-
раз голограммы, где часть равна целому (кусочек голограммы со-
держит то же изображение, что и вся голограмма, но с меньшей
четкостью), а в конце XX в. из синергетики — образы бифурка-
ции, динамического (детерминированного) хаоса и принципи-
ально непредсказуемого поведения (см. гл. 14). Из этого склада
они заимствуются другими науками, например социологией или
экологией. Это очень важная роль, но следует отдавать себе отчет
в том, что при поступлении на этот «склад» и превращении в на-
турфилософские образы естественно-научные понятия «демонти-
руются» и теряют свою естественно-научную обоснованность. То
есть надо понимать, что за одним словом в этих разных контек-
стах будут стоять разные сущности, живущие по своим законам.
Неучет этого будет приводить к созданию «паразитного шума» ти-
па «парадоксов» квантовой механики (см. гл. 13).
7.6. Структура ядра раздела науки в физике
Система понятий и постулатов, образующих ЯРН1 в физике,
имеет общую для всех разделов физики структуру теоретической
части (сх. 7.3). В этой структуре можно выделить два слоя2: ма-
тематический и модельный. Модельная часть содержит два глав-
1 Наше ЯРН похоже на структуру, которую приводит В.С. Степин, где мо-
дельному слою отвечает «фундаментальная теоретическая схема», математиче-
скому — ее «отображение» на «объекты математики», операциональному — ее
«отображение на ситуации реального опыта» [Степин, с. 110—111, 114—115]. Но
У В.С. Степина эти составляющие не образуют целостной единицы раздела науки
(единицей анализа у него скорее является физика в целом, что кардинально рас-
ходится с нашей концепцией) и нет четкой структуры, изображенной на схе-
ме 7.3. Поэтому в этих двух моделях науки есть как совпадающие, так и несовпа-
дающие утверждения.
2Эту двухслойность теоретической части можно найти уже в «Беседах...»
Г-Галилея [Галилей, 1964], где математическая часть была выделена в виде напи-
санного на латыни трактата, а физические модельные рассуждения («мысленные
эксперименты») представлены в виде живого диалога на итальянском языке.
251
Философия науки
ных понятия: физической системы (А) и ее состояний (SA(t)) в
данный момент времени t. С их помощью осуществляется теоре-
тическое описание обобщенного движения (процесса) как перехода
физической системы из одного состояния в другое (при этом если в
качестве физической системы выступает не ПИО — простейшая
физическая система данного раздела, а ВИО, то центральная
часть этой схемы выступает как схема теории ВИО).
Связь между состояниями задается с помощью математиче-
ского слоя (в этом его смысл и функция), содержащего соответ-
ствующие математические образы А и SA(t) (будем подчеркива-
нием обозначать принадлежность к математическому слою), а
также уравнение движения (УД) — центральный элемент матема-
тического слоя. Уравнение движения содержит, в том или ином
виде, математические образы физической системы А и внешнего
воздействия F(t) (оно не выписано в модельном слое, чтобы не
загромождать схему). Уравнение движения и задает в математи-
ческом слое связь между состояниями системы1 в различные мо-
менты времени.
Набор возможных состояний является важнейшей характе-
ристикой физической системы. Состояние — это понятие, опи-
сывающее изменение (движение) системы и дающее полную воз-
можную информацию о системе в данный момент времени, а по-
средством уравнения движения — ив другие моменты времени. Это
определяет понятие состояния физической системы, которое
тесно связано с другими элементами структуры, изображенной
на схеме 7.3. К таким другим элементам относятся понятия
внешнего воздействия и взаимодействия (при построении мно-
гочастичных систем), каковыми в классической механике явля-
ются силы.
Теоретическая часть (Т)
Математический: Зд^)- Xfl(A>F) —► Зд^)
t
Модельный: Зд(^)
SA(t2)
Схема 7.3
1 Из уравнения движения можно получить и набор (множество) состояний
(точнее, их математических образов), отвечающих данной физической системе.
252
Часть I. Глава 7
Кроме указанных элементов теоретической части, физиче-
ская система и ее исходное состояние должны иметь материаль-
ную эмпирическую реализацию, а измеримые величины (рас-
стояние, скорость, масса и т. п.), которые входят в физическую
модель системы и ее состояний, должны быть обеспечены в эм-
пирическом слое соответствующими эталонами и операциями
сравнения с эталоном. Это обеспечивают рассмотренные выше
операциональные элементы ЯРН — операции приготовления
(<П|) и измерения (|И>), составляющие «операциональную» часть.
Введение вместо расплывчатых позитивистских «наблюдаемых»
четких понятий «приготовляемой системы» в определенном сос-
тоянии (электрон «ненаблюдаем», но «приготовляем») и «из-
меримой величины» (заряд «ненаблюдаемы», но «измеряемы»)
снимает позитивистскую «проблему ненаблюдаемых». Соответ-
ственно, время, длина и «положение в пространстве» (как соче-
тание трех направленных длин) определяются как измеримые
величины, т. е. как показания часов и линеек. При этом в рамках
ЯРН речь идет об идеальных проектах приготовления и измере-
ния, которые реализуются в рамках конкретных материалов и
технических возможностей с определенной точностью. В резуль-
тате структура ЯРН является гетерогенной — она имеет теорети-
ческую и операциональные части. Отсюда и название — «теоре-
тико-операциональная» модель (подход).
Все понятия, зафиксированные в схеме 7.31, задаются совме-
стно и неявно в рамках ядра раздела науки (физики), подобно
тому как задаются основные понятия геометрии в рамках систе-
мы аксиом геометрии. Один раздел от другого отличается содер-
жательным наполнением элементов структуры ЯРН.
Так, вводятся понятия физики, возникшие начиная с элек-
тромагнитного поля Максвелла. Их нельзя адекватно воспри-
нять, не используя явно или неявно структуру базовой системы
исходных понятий и постулатов раздела физики (ЯРН), изобра-
женной на схеме 7.3, т.е. структуру оснований раздела физики,
которая возникает в теоретической физике. В рамках теоретиче-
ской физики параллельно таким же образом были строго пере-
1 Включая измеримые величины, которые иногда берутся в готовом виде,
Как это было с расстоянием и временем (отчасти и со скоростью), а иногда непо-
средственно при создании ЯРН, как это было с зарядом, спином и многими дру-
гими величинами.
253
Философия науки
определены с использованием неявного типа определения ос-
новные понятия и более ранних разделов физики (классической
механики и гидродинамики)1.
Используя схемы 7.1—7.3, задающие структуру физического
знания, можно выделить четыре уровня концептуальных изме-
нений (различий) в естественных науках. Первые два уровня от-
ражают иерархию между «первичными» (ПИО) и «вторичными»
(ВИО) идеальными объектами:
1) уровень различных теорий явлений, вытекающих из соот-
ветствующих моделей (ВИО). Сюда относится, например, тео-
рия сверхпроводимости, вытекающая из модели куперовских
пар, которые являются ВИО внутри раздела физики «квантовая
механика»;
2) уровень различных разделов одной науки (скажем, физи-
ки), с разными ПИО, отличающихся различным содержательным
наполнением функциональных мест, указанных на схеме 7.3;
3) над ними расположен третий уровень, отвечающий раз-
личным наукам (дисциплинам): физике, химии и т. п., отличаю-
щимся уже самой структурой теоретической части основной схе-
мы (см. гл. 14, 15);
4) четвертый уровень соответствует уровню научной револю-
ции XVII в., породившей исходную схему естественно-научного
эксперимента (см. сх. 7.2), а с ним и естественную науку вообще.
7.7. О месте физических моделей в физике
Наличие модельного слоя — одно из важнейших отличий
схемы 7.3 от позитивистских моделей научной теории — «стан-
дартного (общепринятого) взгляда», во многом остающегося ис-
ходным и в современной философии науки (п. 5.2) и разделяе-
мого многими физиками-теоретиками. Одна из распространен-
ных точек зрения на этот вопрос содержится в высказывании
известного отечественного физика-теоретика Л.И. Мандельшта-
ма, который в 1930-х гг. в своих «Лекциях по квантовой механи-
1В более ранних разделах физики (классическая механика, гидродинамика)
ПИО задавались не так строго и содержали неопределимые, но считавшиеся оче-
видными понятия. Но в конце XIX в. и они были переосмыслены в рамках теоре-
тической физики таким же образом и строго переопределены с использованием
неявного типа определения.
254
Часть I. Глава 7
ке...» говорил следующее: «Какова структура всякой физической
теории, всякого физического построения вообще? Немного схе-
матично... можно сказать, что всякая физическая теория состоит
из двух дополняющих друг друга частей... Это уравнения тео-
рии — уравнения Максвелла, уравнения Ньютона, уравнение
Шрёдингера и т.д. ... В эти уравнения входят некоторые симво-
лы: х, у, z и t, векторы Ей Ни т. д. ...На этом вторая часть закан-
чивается... Первую же часть физической теории составляет связь
этих символов (величин) с физическими объектами, связь, осу-
ществляемая по конкретным рецептам (конкретные вещи в ка-
честве эталонов и конкретные измерительные процессы — опре-
деление координат, времени и т. д. при помощи масштабов, часов
ит. д.)...» [Мандельштам, 1972, с. 326—327] (курсив мой. — А.Л.).
В центр такого представления физической теории ставится
уравнение, которое содержит математические объекты, принад-
лежащие соответствующим математическим структурам (геомет-
рии Римана, гильбертовскому функциональному пространству и
т. п.), а также символы, отвечающие измеримым величинам.
Физические объекты типа атома или электрона в этом представ-
лении в явном виде отсутствуют. Сложившиеся теории содержат
математику и определенные правила измерения. Здесь нет места
для модели. Есть хорошие уравнения, и они физически проин-
терпретированы, экспериментально проверены, и этого доста-
точно.
Такое представление о структуре физической теории очень
близко к сформировавшемуся приблизительно в то же время
«стандартному взгляду» (Received View) логических позитиви-
стов на структуру физической теории. «Термины... делятся на
три различных класса, называемых словарями: (а) логический
словарь, состоящий из логических констант (включающих ма-
тематические термины), (Ь) словарь наблюдаемых — Vo, содер-
жащий термины наблюдения', (с) теоретический словарь — VT, со-
держащий теоретические термины. Термины Ро интерпретиру-
ются как относящиеся к непосредственно наблюдаемым
физическим объектам или непосредственно наблюдаемым атри-
бутам физических объектов... Имеется ряд теоретических посту-
латов Е, чьи единственные нелогические термины принадлежат
К- Терминам в V? дается точное определение в терминах Fo по-
средством правил соответствия С... Так, если правило соответст-
вия определяет «массу» (теоретический термин) как результат
255
Философия науки
выполнения измерения М объекта при обстоятельствах S (где Af
и S устанавливаются, используя термины наблюдения), то этим
устанавливают эмпирическую процедуру для определения мас-
сы, определяют «массу» в терминах этих процедур и делают это
так, чтобы гарантировать познавательное значение термину
«масса» [Suppe, р. 3—4, 16—17].
Что касается физических объектов типа атома или электрона,
то они в этом представлении в явном виде отсутствуют, ибо не
попадают ни в категорию математических объектов (терминов),
ни в категорию измеримых величин (они растворяются в уравне-
нии теории). Из выделенных здесь мест видно, что под «теорети-
ческим термином» понимается скорее измеримая величина, чем
физический объект типа атома. Здесь «теоретические термины
являются лишь сокращениями для феноменальных описаний»
[Там же] и в центре внимания находятся тоже уравнения, а не
физические объекты. Практически все положения этой модели
подвергаются жесткой критике в докладе Ф. Суппе и в других
докладах той же значимой для становления постпозитивизма
конференции 1974 г., но, хотя из этой критики делается вывод о
неадекватности «стандартного взгляда» [Suppe, р. 3—4 и др.],
другой модели структуры физической теории предложено не бы-
ло (об этом уже говорилось в п. 5.2).
В «объектном теоретико-операциональном» подходе модель-
ный слой не только существует, но и является центральным1 2. Он
расположен между уравнением движения и входящими в него
математическими объектами, относящимися к определенным
математическим структурам (векторы, тензоры, операторы и
т. п.), с одной стороны, и измеримыми величинами — с другой.
Модельный слой содержит описание физической системы как
совокупности физических объектов — ПИО (частиц, полей и
т. п.). Под физическим объектом (системой) здесь понимается то,
что: 1) характеризуется набором состояний, определяющихся
набором измеримых величин, а поведение физического объекта
описывается как переход из одного состояния в другое; 2) может
быть приготовлено (т. е. реализовано в эмпирическом материа-
ле). Соответственно физическая модель1 — это конструкция, со-
1 Лакатос прав: «Внимание ученого сосредоточено на конструировании мо-
делей...» [Лакатос, 2001, с. 326].
2 Отметим, что в физике и логике (и математике) под «моделью» понимают
разные вещи [Вартофский, 1988, с. 32].
256
Часть I. Глава 7
стоящая из одного или нескольких физических объектов. Подоб-
ная объектная модель (ВИО) определяет соответствующее урав-
нение движения, т. е., имея модель, нетрудно составить это
уравнение, которое вытекает из сочетания ПИО, входящих в
ВИО. Законы природы в виде уравнений движения оказываются
элементами ЯРН, а через него — и ПИО, ведь ПИО определяет-
ся всем ЯРН и поэтому «несет его на себе» (так законы электро-
динамики являются свойствами заряженных частиц и электро-
магнитного поля).
Важным аргументом в пользу этой двухслойной структуры
теоретической части (сх. 7.3) с четко выраженным слоем физиче-
ской модели является характерная для физики практика исполь-
зования для решения одной и той же (по физической сущности)
задачи различных «математических представлений» (т. е. мате-
матических образов физической системы, ее состояний и соот-
ветствующих уравнений движения): Шрёдингера, Гейзенберга,
«взаимодействия» и др. — в квантовой механике; Ньютона, Ла-
гранжа, Гамильтона—Якоби — в классической механике. Ис-
пользование различных математических представлений напоми-
нает использование различных систем координат (декартовой,
сферической и др.) в аналитической геометрии. Физическая мо-
дель фиксирует определенную неизменную физическую сущность
(например, частицу в некотором силовом поле), которая не ме-
няется при изменении математического представления. В моде-
ли Мандельштама (и позитивистов), где математическое уравне-
ние составляет суть физической теории, ответ на вопрос, что же
остается неизменным при смене математического представле-
ния, вызывает затруднение. В их модели можно лишь доказы-
вать эквивалентность математических описаний.
Двухслойность теоретической части указывает на возмож-
ность двух стратегий в решении физических задач: математи-
ко-центрированной и модельно-центрированной. Примером
Реализации математико-центрированной стратегии является
производство серии преобразований уравнений, в результате ко-
торых решается некоторое сложное уравнение, или выявляется
относительная малость некоторых членов уравнения, или преоб-
разования в математическом слое наталкивают на новую модель
(типичный пример — переход от частиц к квазичастицам в кван-
товой механике, где вид математического образа системы (га-
мильтониана) диктует вид квазичастиц). Под модельно-центри-
9
Философия науки
257
Философия науки
рованной стратегией имеется в виду путь, когда сначала из физи-
ческих соображений строится модель (ВИО), которая, с одной
стороны, определяет ход соответствующего явления (т. е. модель
явления — это модель объектов, порождающих это явление), а с
другой, — описывается уравнением движения, которое, как уже
было отмечено, непосредственно вытекает из структуры ВИО.
Как правило, приходится сочетать эти две стратегии: уравнение
движения для данной системы часто оказывается слишком
сложным для решения, тогда начинают упрощать модель так,
чтобы, не потеряв физической сути, прийти к решаемым уравне-
ниям. Как описать в рамках мандельштамовской модели физи-
ческой теории модельно-центрированный тип работы, совер-
шенно непонятно.
Приведенное описание относится к построению теорий кон-
кретных физических явлений и объектов в рамках ВИО-типа ра-
боты, т. е. в рамках уже существующих разделов физики, что сле-
дует отличать от создания нового ее раздела. Очень часто оба
этих случая, не различая, называют «построением теории». Од-
нако это, как уже было показано в п. 7.2, два принципиально
разных уровня и типа работы. Так вот, если обратиться к уровню
создания новых разделов физики, то здесь работа идет и в мате-
матическом, и в модельном слое, которые, конечно же, связа-
ны — от уравнения движения зависит, чем будет определяться
состояние физической системы (то, что в классической механи-
ке состояние частицы задается ее положением и скоростью в не-
кий момент времени, связано с тем, что здесь уравнение движе-
ния — уравнение Ньютона — дифференциальное уравнение вто-
рого порядка). Более того, в математическом слое фиксируются
такие важные характеристики, как скалярность, векторность
или тензорность поля и т. п., т. е. обе работы необходимы. По-
рою их совершают разные люди, так модель электромагнитного
поля была заложена Фарадеем, а математический слой был раз-
работан Максвеллом1. Впечатление о первичности математики в
физике XX в. связано с тем, что наиболее явная и сложная рабо-
та при создании ОТО и квантовой механики проходила в мате-
матическом слое: Эйнштейн 10 лет искал уравнение движения
ОТО вместе с подходящими для него математическими структу-
1 Его аналоговые гидродинамические модели — про другое, это строитель-
ные леса для поиска уравнений движения.
258
Часть I. Глава 7
лл-£гЛ. лТХллл л^б/vftVVJwwvw? 'гг г г'г^гг г %' г г гг/ v/г г . zv . % гг*/"" Г * г л -л -.ггггг л ггг ггг г г -г -г v
рами, создание новой квантовой механики начиналось с матема-
тического представления (матричная механика В. Гейзенберга,
волновые функции Э. Шрёдингера)1. Однако, как показывает
анализ [Липкин, 2001; 2006], и в квантовой механике (гл. 13), и в
ОТО место и роль модельного слоя и модельно-центрированно-
го типа работы не меняются, хотя математика становится слож-
нее и требует больших усилий.
Весьма показательной для обсуждаемой темы является дис-
куссия В. Паули и В. Гейзенберга о проблеме понимания в со-
временной физике. «Если ты овладел математической схемой
теории, то это означает, что ты в состоянии для каждого данно-
го эксперимента рассчитать, что будет воспринимать или изме-
рять покоящийся наблюдатель и что — движущийся (речь шла
об эйнштейновской теории относительности. — А.Л.). Ты зна-
ешь также, что у всех нас есть основания ожидать от реального
эксперимента точно таких же результатов, какие предсказывает
расчет. Что тебе еще нужно?» — говорит Паули, воспроизводя,
по сути, позицию позитивистов. На это Гейзенберг отвечает:
«Мы хотим каким-то образом говорить о строении атома, а не
только о наблюдаемых явлениях, к которым относятся, напри-
мер... капли в камере Вильсона» [Гейзенберг, 1989, с. 112, 162].
Эти мотивы он развивает в статье «Что такое «понимание» в
теоретической физике?» [Гейзенберг, 1971, с. 75—77]. Ссылаясь
на пример теории Птолемея с ее высокой «предсказательной
ценностью», Гейзенберг подчеркивал, что, несмотря на это,
большинство физиков согласятся, что лишь после Ньютона уда-
лось добиться «реального понимания» динамики движения пла-
нет. «Мы поняли некоторую группу явлений, если мы нашли
корректные понятия (concepts) для описания этих явлений» или
«построили упрощенные модели, которые обнаруживают харак-
терные особенности наблюдаемых явлений». Эти примеры по-
казывают, что только после построения модели явления можно
говорить о действительном понимании физического явления,
только после этого у физиков возникает ощущение «понятно-
сти». Но именно эти модели, состоящие из физических объек-
тов (идеальных объектов теории), выпали из описания структу-
1С этим связано утверждение Мандельштама: «Теперь прежде всего пытают-
ся угадать математический аппарат, оперирующий величинами, о которых... за-
Ранее вообще неясно, что они обозначают» [Мандельштам, 1972, с. 329].
9*
259
Философия науки
ры физической теории в описании Л.И. Мандельштама и у ло-
гических позитивистов.
Именно типами моделей, с помощью которых естественные
науки (физика, химия и др.) описывают природу (внешний
мир), они отличаются друг от друга. Специфика физики задается
тем, что она описывает процессы как переход физической сис-
темы из одного состояния в другое1, и тем, что ее ПИО созда-
ются на основе двух базовых моделей: локальной частицы (об-
разцом развитой естественно-научной модели здесь выступает
механика Ньютона)2 и нелокальной сплошной среды (образцом
развитой естественно-научной модели здесь выступает гидроди-
намика идеальной жидкости Эйлера, а натурфилософским пра-
родителем — Декарт)3. Существует специфика «неклассиче-
ской» физики XX в. В XX в. новые ЯРН и ПИО рождались из
решения парадоксов, возникающих из столкновения новых и
старых разделов физики (столкновение классической механики
с электродинамикой порождает специальную теорию относи-
тельности, столкновение последней с теорией тяготения Нью-
тона ведет к общей теории относительности, столкновение вол-
нового и корпускулярного описаний приводит к современной
1У А. Пуанкаре эта общая для физики черта выражена как формирование
понятия динамического закона — закона как «постоянного соотношения между
тем, что происходит сегодня, и тем, что будет завтра; словом, это есть дифферен-
циальное уравнение. Такова идеальная форма физического закона; и впервые в
нее был облачен закон Ньютона» [Пуанкаре, 1983, с. 234].
2А. Пуанкаре писал: «Математическая физика родилась из небесной меха-
ники: эта последняя породила ее в конце XVIII в.». Ее основу составляет модель,
где «материальные точки, отделенные друг от друга расстояниями, огромными
сравнительно с их размерами, и описывающие орбиты согласно определенным
законам... они притягиваются или отталкиваются между собой, и это притяже-
ние или отталкивание, направленное по прямой, их соединяющей, зависит толь-
ко от расстояний... Такова первоначальная концепция... По этому образцу, на-
пример, Лаплас построил свою изящную теорию капиллярности... Между тео-
риями этой эпохи только одна представляет исключение — теория Фурье,
относящаяся к распространению тепла (т. е. к модели сплошной (непрерывной)
среды. — А.Л.)» [Пуанкаре, 1983, с. 233—234].
3 Основная черта сплошной (непрерывной) среды — измеримые величины,
которые характеризуют ее состояние, задаются во всем пространстве, занимае^
мом средой (это эквивалентно бесконечному числу степеней свободы). С этой
точки зрения силовые поля (электромагнитное, гравитационное) — варианты не-
прерывной среды. Волна является «надстройкой» над непрерывной средой (поД'
робнее см. [Липкин, 2001]).
260
Часть I. Глава 7
квантовой механике)1. Другая ее специфическая черта состоит в
том, что модели квантовой механики и теории относительности
активно используют модели классической физики, модифици-
руя их, а не создавая совершенно новые (см. п. 13.3 и [Липкин,
2001, 2006]).
7.8. Различие «фундаментальной» и «прикладной» науки
г v А*А •• г а* г мг а« г w •• % г/wv awawaw.-a
Представленная здесь картина относится к «фундаменталь-
ной» («академической») науке. Кроме того, мы отнесем к фунда-
ментальной науке отдельные задачи и целые подразделы физи-
ки, которые возникают на основе этих разделов физики вне за-
висимости от решения технических задач. Выделенная таким
образом фундаментальная наука развивается в ходе решения
возникающих внутри нее проблем2.
Действительно, если мы обратимся к истории физики
XIX—XX вв., то увидим, что существенное прямое влияние тех-
ники на формирование нового раздела физики имеет место
только в случае термодинамики, где такие фундаментальные для
нее элементы, как второй закон термодинамики, цикл Карно и
следующее из них понятие энтропии, вызваны развитием паро-
вых машин в ходе промышленной революции XIX в. Но это
исключение. Электродинамика, статистическая физика, специ-
альная и общая теории относительности, квантовая механика
1 Отметим, что в XVII—XVIII вв. новые ЯРН и ПИО рождались из решения
конкретных задач (описание падения тела у Галилея, вывод законов Кеплера у
Ньютона), а в XIX в. — при наведении порядка среди эмпирических законов
(электродинамика).
2 При этом речь идет не о психологической «мотивационной установке» уче-
ных, которая упоминается в [Пружинин, 1999, с. 162—163], а о содержательном
срезе. В физике фундаментальную науку и сообщество, на котором она живет,
Ио-видимому, можно выделить следующим образом. Взять соответствующий
Раздел физики (он выделяется легко, поскольку, как было сказано выше, имеет
Четкие основания в виде ЯРН) и выявить связанные с ним конференции, издания,
обзорные статьи, факультеты вузов и учебные курсы. В результате получится со-
держание и сообщество, отвечающее фундаментальной науке на базе исследуемо-
110 раздела физики. Там будет некоторая примесь прикладных исследований, но
основа получится достаточно четкой. Взяв РЖ «Физика» и проанализировав его
Рубрики, можно, наверное, выделить и подразделы физики (они вытекают из
Разделов физики, а не из технических приложений) и проделать с ними ту же
Процедуру.
261
Философия науки
рождаются из решения проблем, возникающих внутри «акаде-
мической» и «университетской» физики, не испытывая прямого
воздействия со стороны развития техники. Военно-промышлен-
ный интерес в Германии к спектроскопическим исследованиям,
конечно, дал богатый материал для становления квантовой ме-
ханики, но его нельзя рассматривать как принципиальное пря-
мое влияние. Проблемы спектра излучения черного тела, фото-
эффекта, неустойчивости электромагнитной версии планетар-
ной модели атома — три из четырех главных проблем, из
решения которых возникает старая квантовая теория, — рожда-
ются внутри фундаментальной физики. Внутри фундаменталь-
ной физики используется и материал спектроскопических ис-
следований. Не из технических задач возникают и «Математиче-
ские начала натуральной философии» Ньютона и теория
падения тел Галилея. (Галилей решал задачу, поставленную еще
Аристотелем, Ньютон строил теорию, объясняющую законы
движения планет Кеплера.)
Возникающие в ней ПИО и некоторые ВИО вовлекаются в
«прикладные исследования», образующиеся вокруг соответст-
вующих «технических» задач в инженерной практике. Эти при-
кладные исследования могут организоваться в «прикладную нау-
ку» (пример такого процесса дает формирование «физики маг-
нитных жидкостей», разобранное в [Липкин, 2005]). Этот про-
цесс типичен для эпохи научно-технической революции, где
плотность прикладных исследований резко возрастает1. Возмо-
жен и другой путь формирования прикладной науки, когда не-
который подраздел фундаментальной науки находит техниче-
ское применение (возможно, что такой пример дает упоминав-
шаяся выше магнитная гидродинамика, возникшая в 1940-х гг.
как результат пересечения гидродинамики и электродинамики, а
позже ставшая основой теории плазмы в рамках проекта разра-
ботки управляемой термоядерной реакции).
Главное отличие прикладных наук от фундаментальных со-
стоит в том, что первые формируются вокруг технических задач,
для решения которых используют достижения фундаментальной
1 Е.И. Пружинив указывает, что формирование прикладных наук — «собы-
тие достаточно недавнее», характерное для середины XX в. «Чем дальше в про-
шлое от середины столетия, тем более дробным и личностным становится про-
явление... дихотомии» фундаментальная/прикладная наука [Пружиним, 1999,
с. 165].
262
Часть I. Глава 7
науки, а вторые формируются вокруг собственных проблем.
Процессы, происходящие в технике, как и социально-политиче-
ские процессы, воздействуют на развитие фундаментальной нау-
ки, но не определяют ее развития. Яркими примерами такого
воздействия являются «атомный проект» [История...] и полити-
ческие репрессии сталинского периода в СССР. Политические
репрессии Сталина почти уничтожили отечественную школу ге-
нетики, бывшей в 1920-х гг. одной из ведущих в мире. Атомный
проект не только спас от подобного разгрома физику, но и дал ей
мощный импульс развития. Но все это с точки зрения развития
физики лишь воздействие внешних косвенных факторов. Да, в
результате последствий Второй мировой войны и гонки воору-
жений, в центре которой стоял атомный проект, центры фунда-
ментальных физических исследований сместились из Западной
Европы в США и СССР, но ни к каким революциям в физике,
сравнимым с таковыми в начале XX в., это не привело. Другой
пример — влияние на создание квантовой механики воен-
но-промышленного заказа в Германии на прикладные спектро-
скопические исследования. Порожденные этими достаточно до-
рогостоящими для того времени опытами данные дали важный
материал для постановки фундаментальных проблем, решение
которых стало одной из важных составляющих в создании кван-
товой механики. Но это был все-таки лишь материал, который
был вовлечен в развитие фундаментальной науки. То есть здесь
мы имеем пример сильного влияния внешнего фактора, пожа-
луй, более сильного, чем в предыдущем примере, но все-таки
этот фактор не был системообразующим для развития фунда-
ментальной («академической») физики.
Научно-техническая революция — это главным образом во-
влечение науки в процесс развития техники. Обратное воздейст-
вие через рост финансирования и престижа, рост числа ученых и
эмпирического материала велико, но не является определяю-
щим.
Взаимодействие техники (инженерии) с наукой-натурфило-
софией в XVI—XVII вв. породило физику и естественную науку
Нового времени, ставшую особым развивающимся целым. На-
личие в этой науке инженерной составляющей сделало возмож-
ным использование этой науки в технике, привело к научно-тех-
нической революции. Крупные проекты типа атомного способ-
ны непосредственно породить новые прикладные науки, но не
263
Философия науки
новые разделы фундаментальной науки. Анализ развития физи-
ки показывает, что физика как фундаментальная наука, создан-
ная в XVII в., развивается исходя из своих внутренних проблем.
Люди и институты, составляющие сообщество фундамен-
тальной науки, часто включены и в другие типы деятельности и
структуры, относящиеся к прикладной науке и к технике. Но не-
зависимо от того, занимаются ли они фундаментальной наукой в
основное рабочее время и какой вклад эта деятельность вносит в
их доход, сообщество ученых, занимающихся фундаментальной
наукой, существует, и суть фундаментальной науки осталась
прежней (хотя формы существования стали более коллективны-
ми, сегодня это, как правило, лаборатории, а не индивиды). Со-
циокультурный фактор в виде падения престижа науки й роста
престижа денег, конечно, сказывается на самочувствии фунда-
ментальной науки, но слухи о ее смерти явно преувеличены.
Фундаментальная наука, как и искусство, как и другие сферы
культуры, развивается в ходе решения собственных проблем.
Это естественный процесс с непредсказуемым ходом развития.
Поэтому попытки оценки ее «эффективности» наталкиваются
на принципиальные проблемы. Оценка эффективности при-
кладных исследований (и наук) тоже сталкивается со значитель-
ными трудностями, поскольку здесь часто идет речь о непред-
сказуемых нововведениях (инновациях). Эти проблемы трудно,
а может быть, и невозможно решить теоретически, но они реша-
ются практически путем образования инновационных (венчур-
ных) фирм, финансирующих соответствующие научно-техниче-
ские проекты. Стимулировать развитие фундаментальных наук
подобным образом не получится1. Фундаментальные науки (сю-
да следует включать и их содержание и соответствующее сооб-
щество) — это сфера культуры. Они, как и искусство, подобны
живым организмам, они требуют питания и подвержены внеш-
ним влияниям и внутренним болезням (с которыми организм
может справиться, а может и погибнуть). Фундаментальные нау-
ки — это важный орган общества, который включает и идеи, и
«людей, стремящихся исключительно к познанию природы»
1В 1934 г. в одном из своих писем Э. Резерфорд заметил: «У нас вечно пута-
ют чистую науку с прикладной... Разница [между] прикладной научной работой
и чисто научной [в] методах оценки... Чисто научная деятельность оценивается
куда труднее, и [эта оценка] доступна более узкому кругу людей» (цит. по: [Дру-
жинин, 1999, с. 166]).
264
Часть I. Глава 7
(А. Пуанкаре). Этот орган плохо поддается калькуляции. Соот-
ношение подобных органов (отраженных в распределении стро-
чек бюджета на армию, социальную поддержку, медицину, куль-
туру, фундаментальную науку и др.) во многом определяет лицо
общества1.
При этом, правда, следует помнить, что до естественной нау-
ки была натурфилософия, и в принципе при кардинальной куль-
турной трансформации, уровня той, что произошла при перехо-
де к Новому времени, место естественной науки может занять
нечто принципиально новое. Но вряд ли причиной этого сдвига
будет развитие техники — «второй» природы, предполагающей
«первую».
В заключение перечислим выявляемые «объектным теорети-
ко-операциональным подходом» основные моменты структуры
физического знания в «теоретической физике». В рефлексии
предшествовавшей ей «эмпирической физики» (преподаваемой
сегодня в курсах «общей физики» [Сивухин, 2005]) главенствова-
ла бэконовская идея выявления законов из эмпирических фак-
тов, поставляемых экспериментаторами. К этому добавлялось
основанное на механике Ньютона представление о единстве
природы, выраженное Лапласом (гл. 1). В формирующейся в
XIX в. «теоретической физике» лидерство переходит от экспери-
ментатора к теоретику, который работает с идеальными объекта-
ми. При этом «законы природы» низводятся до характеристик
этих объектов. Последние, как и в геометрии, делятся на «пер-
вичные» (ПИО) и строящиеся из них «вторичные» (ВИО) иде-
альные объекты. Это приводит к двум типам работы в физике и
двум типам физического эксперимента. При этом переход к бо-
лее сложным «первичным идеальным объектам» (ПИО) сопро-
вождается переходом к «неявному» типу определения, осуществ-
1В этом отношении весьма современно звучит мысль А. Пуанкаре, выска-
занная около века назад: «Для чего нужна математика?.. Люди практические тре-
буют от нас только способов наживы денег. Эти люди не заслуживают ответа.
Скорее следовало бы их спросить, для чего накапливают они богатства и нужно
ли тратить время на их приобретение и пренебрегать искусством и наукой, кото-
рые только и делают наш дух способным наслаждаться, и ради сохранения жиз-
ни утратить ее смысл. К тому же наука, созданная в прикладных целях, невоз-
можна; истины плодотворны только тогда, когда между ними есть внутренняя
связь. Если ищешь только тех истин, от которых можно ждать непосредственных
Результатов, то связующие звенья ускользают и цепь распадается».
265
Философия науки
ляемому с помощью особой системы постулатов, названной ав-
тором «ядром раздела науки» (ЯРН). В соответствии с этим
теоретическая физика разбивается на весьма независимые цело-
стные единицы — «разделы физики». Каждый из них имеет свое
ЯРН и свои ПИО. В результате прежнее, основанное на механи-
ке Ньютона единство природы, выраженное Лапласом, сменяет-
ся рассмотрением явлений природы сквозь призму дополняю-
щих друг друга ПИО, принадлежащих разным разделам физики
(например, к ПИО механики добавляются ПИО электродинами-
ки, подобно тому как добавляются различные качества (светлый,
соленый...) при описании вещей обыденной жизни). Основания
(в гильбертовском смысле) физики представляются как совокуп-
ность ЯРН — оснований разделов физики, каждый из которых
состоит из «теоретической» и «операциональной» частей. «Тео-
ретическая» часть содержит модель физической системы и ее ма-
тематическое описание. Построение модели физической систе-
мы — центральный продукт физической теории физического яв-
ления или объекта, без которого нельзя говорить о понимании
последних. «Мысленный эксперимент» — одна из форм этой
деятельности. Модель физической системы, с одной стороны,
имеет математическое описание, а с другой — возможность реа-
лизации в эмпирические объекты (материализацию) посредст-
вом «операциональной» части. «Операциональная» часть состо-
ит из операций «приготовления» (физической системы в некото-
ром состоянии) и «измерения» (суть которого составляет
сравнение с соответствующим эталоном). При этом операцио-
нальная часть состоит из операций и процедур, относимых к
продуктам деятельности человека, а не явлениям природы. На-
личие «операциональной» части отличает естественную науку от
умозрительной натурфилософии, обеспечивает «реальность»
ПИО и ВИО и онтологический характер физических моделей.
При этом функции построения онтологических картин природ-
ных явлений («первой» природы) переходят от натурфилософии
к естественной науке, которая дальше развивается параллельно
развитию техники и техническим наукам. То есть после включе-
ния в естественную науку операциональных технических эле-
ментов (приготовления и измерения) пути науки и техники не
сливаются, хотя технические науки используют понятия естест-
венных наук, а естественно-научный эксперимент использует
достижения техники.
266
Часть I. Глава 7
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента (от античности
до XVII в.). М.: Наука, 1976.
Вартофский М. Модели. Репрезентации и научное понимание. М., 1988.
Визгин В.П. Математика в классической физике // Физика XIX—XX вв. в
общенаучном и социокультурном контекстах. Физика XIX века. М.: Наука,
1995.
Галилей Галилео. Избранные труды. Т. II. М.: Наука, 1964.
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука, 1989. 400 с.
Гейзенберг В. Что такое «понимание» в теоретической физике // Природа.
1971. № 4. С. 75-77.
Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки развития основных понятий механики.
М.: Наука, 1962.
История советского атомного проекта. Документы, воспоминания, иссле-
дования. Вып. 1. М., 1998.
Кулаков Ю.И., Владимиров Ю.С., Карнаухов А. В. Введение в теорию физиче-
ских структур и бинарную геометрофизику. М.: Архимед, 1992.
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских про-
грамм (с. 265—454); История науки и ее рациональные реконструкции
(с. 455—524) // Кун Т. Структура научных революций. М.: ACT, 2001.
Ландау Л.Д., Лифшиц И.М. Теоретическая физика: В 10 т. М.: Наука,
1965-1987.
Левин В.Г. Курс теоретической физики: В 2 т. М.: Наука, 1969.
Липкин А.И. Место 4-мерного пространства-времени в теории относитель-
ности Эйнштейна. Методологический анализ // Актуальные вопросы современ-
ного естествознания. Нальчик, 2006. Вып 4. С. 19—26.
Липкин А.И. Основания современного естествознания. Модельный взгляд
на физику, синергетику, химию. М.: Вузовская книга, 2001.
Липкин А. И. Применение постпозитивистских моделей науки к анализу
подраздела физики // Труды XLVIII научной конференции МФТИ. Современ-
ные проблемы фундаментальных и прикладных наук. Ч. IX. Факультет гумани-
тарных наук. М.; Долгопрудный, 2005, С. 10—12.
Мандельштам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой
механике. М.: Наука, 1972.
Патнэм X. Разум, истина и история. М.: Праксис, 2002.
Пружинин Е.И. Фундаментальная наука и прикладные исследования: мето-
дологический аспект взаимодействия // Проблемы ценностного статуса науки
на рубеже XXI века. СПб.: РХГИ, 1999.
Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1983.
Сивухин Д.В. Общий курс физики: В 5 т. М.: Физматлит, 2005.
Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986.
Фок В.А. Критика взглядов Бора на квантовую механику // Успехи физичес-
ких наук, 1951. Т. 45. № 1. С. 3—14.
Юдин Э.Г. Природа // Философский энциклопедический словарь. М.: СЭ,
1986.
Hutten Е.Н. The Role of Models in Physics // British J. for the Phil, of Sci.,
1953-1954. Vol. 4. P. 285-301.
Grim P (Ed.). Philosophy of Science and the Occult. N.Y., 1982.
267
Философия науки
Suppe F. The Search for Philosophic Understanding of Scientific Theories // The
Structure of Scientific Theories (Edited with a Critical Introduction by Frederick
Suppe). Urbana, Chicago, London, 1974.
Van Fraassen Bas C. The Scientific Image. Oxf., 1980.
Uexkiill J. von. Theoretical Biology. L.; N.Y., 1926.
ВОПРОСЫ
1. Что такое ПИО и ВИО?
2. Что такое неявный тип определения?
3. Какова функция ЯРН и его структура?
4. Какова структура ЯРН в физике?
5. В чем суть двух типов работы в физике?
6. Каковы место и состав операциональной части?
7. Каково место моделей в физике?
8. Каковы три типа эксперимента в физике?
9. Что такое «рационалистический конструктивизм»?
10. Четыре уровня концептуальных изменений (различий) в естест-
венных науках.
11. В чем различие между фундаментальной и прикладной наукой?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Липкин А.И. Основания современного естествознания. Модельный взгляд
на физику, синергетику, химию. М.: Вузовская книга, 2001.
Глава 8
СРАВНЕНИЕ ПОСТПОЗИТИВИСТСКИХ
МОДЕЛЕЙ НАУКИ НА МАТЕРИАЛЕ ФИЗИКИ
Теперь, воспользовавшись «объектной теоретико-операцио-
нальной» моделью организации физического знания, представ-
ленной в предыдущей главе, сравним описанные выше постпо-
зитивистские модели на материале физики с целью выяснить,
насколько эффективно они работают и как они относятся друг
к другу: как взаимодополнительные или как взаимоисключаю-
щие? Кроме того, такое сравнение поможет уточнить некоторые
детали этих моделей. Хотя модели Куна, Лакатоса, Тулмина
предназначены для описания динамики изменения научного
знания, а объектная теоретико-операциональная модель — для
описания структуры физического знания, тем не менее струк-
турные (синхронические) и динамические (диахронические)
свойства не независимы, поэтому у всех этих моделей есть об-
щая область пересечения.
8.1. Сравнение моделей И. Лакатоса и Т. Куна
Начнем со сравнения приведенных выше моделей науки Ла-
катоса и Куна. Их собственные мнения по этому поводу ради-
кально расходятся. Лакатос соглашается с аналогией между его
«исследовательской программой» (правильнее, наверное, было
бы говорить о ее «ядре») и «парадигмой» Куна, но лишь в неко-
тором вырожденном, далеком, по его мнению, от реальной ис-
тории науки случае: «То, что он [Кун] называет «нормальной
наукой», на самом деле есть не что иное, как исследовательская
программа, захватившая монополию. В действительности же
Исследовательские программы пользуются полной монополией
очень редко, к тому же очень недолго» [Лакатос, 2001, с. 348].
269
философия науки
(Вопрос о справедливости этого утверждения в применении к
истории физики мы обсудим ниже.) Кроме того, он видит
принципиальные различия в критериях отбора, работающих в
ходе «революционных» изменений: иррациональных (социаль-
но-психологических) — у Куна и рациональных — у него.
Однако легко обнаружить некоторые важные структурные
аналогии. Обе модели выделяют два типа развития: 1) непре-
рывный, по сути, кумулятивный рост в рамках одной «парадиг-
мы» («нормальной науки» Куна) или «исследовательской про-
граммы» (Лакатоса)1, в котором теории «соизмеримы» и работает
«решающий эксперимент»2; и 2) некумулятивный скачкообраз-
ный переход от одной парадигмы или исследовательской про-
граммы к другой — «новой» («научная революция»). «Научные
революции состоят в том, что одна исследовательская програм-
ма (прогрессивно) вытесняет другую» — говорит Лакатос {Там
же, с. 470]. Возможность введения понятия научной революции
связано с тем, что обе модели имеют два уровня: «парадигму» и
продукцию «нормальной науки» — у Куна и «жесткое ядро» и
продукцию «позитивной эвристики» — у Лакатоса. В то время
как в индуктивистской и попперовской модели проб и ошибок
(как и в эволюционной эпистемологии) нет двух уровней и нет
места для революций.
Поэтому Кун справедливо говорит о глубинной общности
своей модели с лакатосовской [ Там же, с. 580—582]. Нам пред-
ставляется, что лакатосовский критерий «прогрессивного сдви-
га» может быть включен как один из важнейших факторов, уча-
ствующих в куновском процессе конкуренции сообществ. Лака-
тос, по сути, говорит о глобальных тенденциях, оставляя без
ответа вопрос о конкретном взаимодействии исследовательских
программ с конкретными научными сообществами и учеными,
о выборе, с которым они сталкиваются «здесь и теперь». Кун
рассматривает в первую очередь именно этот выбор, представ-
ленный им как процесс взаимодействия комплексов идей (будь
то парадигма или исследовательская программа) с научными
1 Развитие теорий в рамках одной исследовательской программы естествен-
но соотнести с «нормальной наукой» Куна.
2 «Внутри исследовательской программы «малые решающие эксперименты»,
призванные сделать выбор между последовательными вариантами (л-й и л+7-й
версией. — А.Л.), — дело обычное» [Там же, с. 351].
270
сообществами1. С этой главной для куновской модели сторо-
ны — со стороны проблемы внедрения нового — его модель до-
полняет модель Лакатоса, а не конкурирует с ней.
Эти две взаимодополнительные модели являются итогом
многих рассмотренных выше направлений позитивистской и
постпозитивистской философии науки.
8.2. Модель «исследовательских программ» и физика
Если сопоставить модель «исследовательской программы»
И. Лакатоса с объектной теоретико-операциональной моделью,
то видно, что разделы физики и соответствующие им «ядра раз-
делов науки» (ЯРН) обладают свойствами, которыми Лакатос
наделяет соответственно свои «исследовательские программы» и
их «жесткие ядра». Тогда модели-теории явлений или «вторич-
ные идеальные объекты» (ВИО) данного раздела физики отвеча-
ют продуктам «позитивной» и «отрицательной» эвристики ис-
следовательской программы уровня раздела физики.
Рассмотрим теперь приводимую Лакатосом в качестве ти-
пичного примера исследовательской программы ньютоновскую
программу для планетарной системы в виде линейной последо-
вательности решенных задач: «планетарной системы с фиксиро-
ванным точечным центром — Солнцем», системы, «в которой и
Солнце, и планеты вращались вокруг общего центра масс», сис-
темы «большого числа планет, так, как если бы существовали
только гелиоцентрические и не было никаких межпланетных
сил притяжения», системы, в которой «Солнце и планеты были
уже не точечными массами, а массивными сферами» [Лакатос,
2001, с. 326—327]. Этот пример он называет «ньютоновской про-
граммой», которую, по его мнению, можно изложить в такой
формуле: «Планеты — это вращающиеся волчки приблизительно
сферической формы, притягивающиеся друг к другу». Эта про-
грамма привязана к определенному явлению — движению пла-
1 Но модель Куна не дает исчерпывающих средств описания взаимодействия
Ученых и идей. Например, существуют такие социальные образования, как «на-
учные школы», состоящие из лидера-учителя и учеников, которые в своей исто-
рии могут менять парадигмы. С другой стороны, существуют «научные движе-
ния», которые связаны общностью предмета или метода исследования и могут
совмещать несколько парадигм одновременно (см. [Концепции самоорганизации:
Становление нового образа научного мышления (М., 1994), гл. 2]).
271
Философия науки У
нет вокруг Солнца. Попытки создать все более точную мо-
дель-теорию этого явления порождают линейную последова-
тельность теорий (вообще говоря, бесконечную), в которой, по
его мнению, «и+7-й вариант программы (т. е. модели-теории. —
АЛ.) является отрицанием n-го варианта» [Там же, с. 328].
В подходе гл. 7 теория тяготения Ньютона состоит из ЯРН
механики Ньютона, к которой добавлена сила тяготения, описы-
ваемая знаменитым законом всемирного тяготения. Из отвечаю-
щих такому разделу физики ПИО (механических частиц, обла-
дающих массой и действующих друг на друга согласно закону
всемирного тяготения) строятся различные модели-ВИО всевоз-
можных явлений и соответствующих им теорий. Порождение
этих моделей определяет рост данного раздела физики юотвеча-
ет позитивной эвристике Лакатоса, ответственной за успешные
предсказания, обеспечивающие «прогрессивный сдвиг про-
блем». При этом «классический пример успешной исследова-
тельской программы — теория тяготения Ньютона» [Там же,
с. 323] может содержать и другие последовательности теорий Ть
Т2, Т3... скажем, про Сатурн и его кольца. Еще больше подобных
линейных последовательностей содержит исследовательская
программа ньютоновской механики в целом.
Таким образом, крупная исследовательская программа уров-
ня раздела физики будет порождать не одну, а множество линей-
ных последовательностей теорий, каждую из которых можно
представить как более мелкую исследовательскую программу,
вложенную в эту более крупную. То есть исследовательская про-
грамма может состоять более чем из одной линейной последова-
тельности теорий (составлять не линию, а ветвящееся дерево).
Это — первое уточнение, следующее из сравнения указанных
двух моделей на материале физики.
Второе уточнение следует из анализа конкуренции исследо-
вательских программ уровня раздела физики. В этом случае мы
видим наличие соперничающих «исследовательских программ»
только в процессе научной революции или становления" раздела
физики (например, эйнштейновская и эфирная исследователь-
ские программы — в теории относительности или теплородная и
кинетическая — в термодинамике). Когда раздел вышел в зрелую
фазу (т. е. ЯРН оформилось), победившая исследовательская
программа становится монополистом. Поэтому из лакатосов-
ского утверждения: «То, что он (Кун) называет «нормальной
наукой», на самом деле есть не что иное, как исследовательская
272
Часть I. Глава 8
программа, захватившая монополию» [ Там же, с. 348] — следует,
что для уровня раздела физики куновскую «парадигму» можно
сопоставить с лакатосовской «исследовательской программой».
Что касается возражения Лакатоса, утверждавшего, что «в дейст-
вительности... исследовательские программы пользуются пол-
ной монополией очень редко, к тому же очень недолго» [ Там же,
с. 348], то для рассматриваемых случаев оно неверно. Лакатос ут-
верждал это, поскольку не проводил четкого различения между
исследовательской программой, представляющей семейство тео-
рий-моделей внутри раздела физики типа приведенного выше
примера, и исследовательской программой уровня раздела фи-
зики. Если брать такие крупные исследовательские программы,
как разделы физики, то на этом уровне, как правило, исследова-
тельские программы пользуются полной монополией, и кунов-
ская модель «нормальной науки», с приведенными выше замеча-
ниями, работает.
8.3. Уточнение описания «нормальной науки»
Теперь сравним объектную теоретико-операциональную мо-
дель с куновской моделью. В первой есть два типа идеальных
объектов: «первичных» (ПИО) и «вторичных» (ВИО), обуслов-
ливающие наличие двух типов работы (фаз развития) в науке: по
созданию новых ПИО (ПИО-тип) и по использованию уже
имеющихся ПИО при создании ВИО для моделирования-объяс-
нения и моделирования-предсказания различных явлений или
построения картины мира (ВИО-тип). Сравним эти две фазы с
куновскими определениями «научной революции» и «нормаль-
ной науки».
ВИО-фаза очень похожа на куновскую «более глубокую раз-
работку парадигмы», отвечающую нормальной науке. Поэтому
возникает естественное отождествление куновской нормальной
науки с ВИО-фазой развития раздела физики, а куновской пара-
дигмы — с ЯРН. При этом куновскому «впечатлению, будто бы
природу пытаются «втиснуть» в парадигму, как в заранее сколо-
ченную коробку... явления, которые не вмещаются в эту короб-
ку, часто, в сущности, вообще упускаются из виду» [Кун, 2001,
с. 50], следует сопоставить типичное для ВИО-типа работы огра-
ничение («втискивание») моделирования явления рамками су-
ществующих ПИО. В этом случае мы сопоставляем парадигму с
273
Философия науки
ядром раздела науки» (ЯРН) соответствующего раздела физики1
и соответственно можем четко описать парадигму (во всяком
случае, ее основную часть) для данного раздела физики.
Основываясь на этом сопоставлении, рассмотрим два весьма
ярких момента в дополнительном описании «нормальной нау-
ки», вызывающих естественное и справедливое неприятие у
многих представителей естественных наук.
Во-первых, это касается метафоры «решения головоломок»
для пояснения сути «нормальной науки». Следует указать на ее
неадекватность. Из теоретико-операциональной модели для фи-
зики (и химии) видно, что ученые занимаются не «решением го-
ловоломок» типа игры в восстановление разрезанных картинок
(детские игры в пазлы), имеющие «гарантированное решение»,
как утверждал Кун [ Там же, с. 65, 67], а составлением разнооб-
разных моделей явлений из ПИО (напоминающую детскую игру в
конструктор, где из небольшого набора элементов-деталей собира-
ются разнообразные конструкции). Результатом такого творчества
может быть создание существенно новых теорий, за которые при-
суждают Нобелевские премии. Например, построение теорий
сверхтекучести и сверхпроводимости в рамках квантовой механики
относится к такому типу теорий. Это весьма существенная поправ-
ка, но она не затрагивает сути куновской модели, ее ядра, образуе-
мого, как было сказано, системой четырех понятий: «парадигма»,
«сообщество», «нормальная наука», «научная революция».
Другим не вполне адекватным моментом является описание
процесса обучения и освоения профессии физика. Куновское
обучение по образцам, по-видимому, во многом отвечает струк-
туре университетского учебного курса «общей физики» [Сиву-
хин, 2005] и имеет место при обучении ВИО-типу работы — по-
строению моделей явлений из ПИО, поскольку требуемый для
этого навык схематизации явлений природы не формализован.
К этой части работы в зрелых разделах физики применим обсуж-
даемый Куном «способ уподоблять задачу тем, с которыми он
(ученый, студент. — А.Л.) уже встречался», «способность исполь-
зовать решение задачи в качестве образца для отыскания анало-
1 Правомерность подобного сопоставления подтверждает и то, что в этом
случае куновская парадигма включает как теоретические, так и нетеоретические
элементы — в нее входит «сеть предписаний», включающая инструментальные
предписания [Кун, 2001, с. 71], которые следует сопоставить с операциональной
частью ЯРН.
274
Часть I. Глава 8
гичных задач как объектов для применения одних и тех же науч-
ных законов и формул», «способ видения физических ситуаций»,
«неявное знание», которое приобретается скорее практическим
участием в научном исследовании, чем усвоением правил, регу-
лирующих научную деятельность» [Там же, с. 243—244]'.
Но в рамках теоретической физики (см. гл. 7) для случаев,
когда «парадигмы определяют большие области опыта» [Там же,
с. 171] типа теории относительности, т. е. раздела физики,
утверждение Куна, что основные понятия и законы для ученых
существуют лишь в единстве с примерами их применения [Там
же, с. 76—77], представляется неверным1 2. Основные понятия и
законы физики, содержащиеся в данном разделе физики, можно
выделить из анализа оснований данного раздела (т. е. ЯРН), а не
из примеров деятельности представителей соответствующего со-
общества. Так, при изложении и усвоении стандартных разделов
физики (в современных серьезных учебниках и монографиях по
теоретической физике) две фазы — изложение оснований и их
использование в виде построения моделей явлений — достаточ-
но разведены (и это разведение можно довести до конца, как в
[Липкин, 2001], где они выделены в ЯРН). В физике (и химии)
входящие в ЯРН понятия прописаны столь же четко, как в мате-
матике (геометрии), т. е. они усваиваются через определения
(с использованием неявного совместного типа определения не-
скольких понятий), а не через «примеры употребления».
8.4. «Научные революции» в физике и модель С. Тулмина
Теперь перейдем к анализу революционных изменений. Ввиду
наличия двух иерархических уровней в сравниваемых трех моде-
лях и выделенных выше соответствий для случая зрелого раздела
1 Нечто близкое куновской картине «работы по образцам» возникает, когда
Ученые натыкаются на интересное новое явление, описываемое в рамках сущест-
вующих разделов физики. Нередко его разработка превращается в решение ти-
повых задач, аналогичных первой решенной задаче.
2 Надо отметить, что и у Лакатоса, и у Куна (и у Фейерабенда) нет последо-
вательного различения иерархии уровней и четкого выделения уровня раздела
Науки (физики). Так, у Куна можно встретить как отождествление парадигмы с
Научной теорией: «Достигнув... статуса парадигмы, научная теория...» [Кун, 2001,
с-112], так и утверждение, что «парадигмы определяют большие области опыта
одновременно» [Там же, с. 171], охватывающие целые разделы науки (например,
Квантовую механику или теорию относительности).
275
Философия науки
физики между «парадигмой», «жестким ядром» (в случае «моно-
полии») и «ядром раздела науки» во всех них можно ввести по-
нятие «научная революция». Ей будет соответствовать появле-
ние новой парадигмы, установление господства нового «жестко-
го ядра» (и «исследовательской программы») Лакатоса или
создание нового «ядра раздела науки» в нашей модели.
Само понятие научной революции вызвало много споров.
Ярым противником этого понятия и критиком Куна выступал
С. Тулмин — продолжатель попперовской эволюционной эпи-
стемологии. Поэтому рассмотрим подробнее его (и Поппера)
концепцию в применении к физике.
Сравнив общие умозрительные положения Тулмина с конкрет-
ной структурой физического знания, мы выявляем почти полную
неадекватность эволюционной эпистемологии С. Тулмина.
Начнем с его критики модели Куна. Тулмин и другие,
во-первых, оспаривали тезис Куна, что в истории науки «непре-
рывный интеллектуальный прогресс прерывался «революция-
ми» [Тулмин, 1984, с. 124]. Тулмин утверждал, что «при более
близком рассмотрении... даже революции, произведенные Ко-
перником и Эйнштейном, были не совсем «революционными»
(в куновском смысле) [Там же}, не было, мол, стены непонима-
ния между ньютонианцами и эйнштейнианцами (однако Тул-
мин замалчивает тот факт, что сообщество физиков, включая
весьма известных, долго и с большим трудом принимало теорию
относительности Эйнштейна, что следовало бы истолковать в
пользу модели Куна), и что куновские исторические реконст-
рукции этих революций являются «карикатурами». В качестве
аргумента в свою пользу Тулмин приводил отступление перед
подобной критикой самого Куна, который после нее начал гово-
рить о постоянных «микрореволюциях». Действительно, Кун
был не до конца последователен и в ответ на критику предпри-
нял попытку уточнения понятий «парадигма» и «научная рево-
люция» отдельно друг от друга. Эти уточнения и критиковал
Тулмин, исходивший из того, что «два ключевых понятия в объ-
яснении Куна — «парадигма» и «революция» — в действительно-
сти разделены и независимы друг от друга и по своему смыслу, и
по своему историческому происхождению».
Однако на материале физики можно увидеть несостоятель-
ность критики Тулмина. Во-первых, куновские понятия «пара-
дигма» и «революция» нельзя рассматривать независимо — это
элементы системы из четырех понятий. Во-вторых, в физике,
276
~ % ....... ...........Часть I. Глава 8
как было сказано чуть выше, можно дать четкий образ парадиг-
мы. Это «ядро раздела науки» (ЯРН) для раздела физики. Тогда
«революции» отвечает создание нового раздела физики. Граница
между разделами очень четкая — разные ЯРН. Вопрос об исто-
рическом процессе создания нового ЯРН — центральный для
Тулмина — наш аппарат рассмотреть не позволяет. Но из конеч-
ного результата видно, что для двухуровневой иерархической
структуры, которую демонстрирует теоретическая физика (на
уровне зрелого раздела физики со сформированным ЯРН), в
противоположность тому, что утверждает Тулмин, имеется еди-
ная логическая система понятий — ЯРН, а следовательно, раздел
физики не является «исторической популяцией» логически незави-
симых понятий и теорий», полученных «независимо друг от дру-
га, в разное время и для разных целей», «каждая из которых име-
ет свою собственную, отличную от других историю, структуру и
смысл»1 [Там же, с. 140]. При этом базовые понятия (ПИО),
входящие в ЯРН, приобретают внутри него жесткое значение,
которое далее не меняется. То есть основные понятия ведут себя
1 Похожим недостатком — неучетом наличия иерархии двух уровней поня-
тий и связанными с этим скачками «научных революций» — обладает и весьма
интересная концепция Дж. Холтона, названная им «тематическим анализом» —
«термином, известным благодаря его использованию в антропологии, искусство-
ведении, теории музыки». «Мое отношение к задаче идентификации тематиче-
ских элементов научных дискуссий в чем-то аналогично подходам фольклориста
или антрополога, выслушивающих эпические предания с целью выявления глу-
бинных тематических структур и повторов». Его, как и Тулмина, интересует
«анализ той фазы работы ученого, в которой происходит зарождение новых идей», —
фазы, которая не рассматривается в моделях науки Куна, Лакатоса и Лией. Он
уделяет «особое внимание... тому, чтобы установить, в какой мере творческое во-
ображение ученого может в определенные решающие моменты его деятельности
Направляться его личной, возможно, даже неявной приверженности к некоторой
определенной теме». Его интересует «изучение глубинных предубеждений, на
которых основывается деятельность ученых». В качестве таких тем он выделяет
«темы простоты и необходимости» (у Коперника), симметрии, континуума и бо-
лее сложных. Он полагает, что «тематическую структуру научной деятельности
Можно считать в основном не зависимой от эмпирического или аналитического
содержания исследований». В ходе этого анализа он «старается рассматривать
Любой результат научной деятельности, опубликованный или неопубликован-
ный, в качестве некоторого «события», расположенного на пересечении... исто-
рических «траекторий», таких, как по преимуществу индивидуальные и осущест-
вляющиеся наедине с собой личные усилия ученого; «публичное» научное зна-
ние, разделяемое членами того сообщества, в которое входит этот ученый;
совокупность социологических факторов,, влияющих на развитие науки, и... об-
илий культурный контекст данного времени» [Холтон, с. 7, 8, 10, 12, 24, 26].
277
Философия науки
здесь не по Тулмину, а по Куну. Единицами в физике, как было
показано в гл. 7, являются система ЯРН, в которую входит
ПИО на первом уровне, и модели-теории явлений (ВИО) — на
втором, т. е. достаточно четкие единицы, а не расплывчатые «но-
вовведения».
Неадекватность концепции Тулмина в отношении физики, в
частности, связана с тем, что он знакомится с физикой по кур-
сам общей, а не теоретической физики, о чем свидетельствует
то, что он приводит примеры из «оптики» и «атомной физики» —
стандартные разделы курсов «общей физики», отсутствующие в
курсах теоретической физики, где они включаются соответст-
венно в электродинамику и квантовую механику — разделы фи-
зики со своими ЯРН.
Как же Тулмин выделяет общность-дисциплину под назва-
нием «атомная физика»? «В чем состоит основной отличитель-
ный признак, благодаря которому интеллектуальная деятельность
приобретает характер научной дисциплины?» — спрашивает он
[Там же, с. 152]. «Для того чтобы адекватно охарактеризовать нау-
ку (речь идет об атомной физике. — АЛ.), мы должны дать опре-
деление (т. е. определить критерии единства, последовательно-
сти и преемственности) в таких терминах, которые охватывают
идеи, распространенные среди физиков-атомщиков и в 1910-х, и
в 1930-х, и в 1950-х гг., кроме того, мы должны дать такое опре-
деление, которое показывает, как предмет этой науки связан с ее
предшественниками в общей физике 90-х гг. XIX в., а также и с
более специализированными и узкими дисциплинами, которые
выступили ее преемниками в 60—70-е гг. XX столетия...» [Там
же, с. 154].
Тулмин считает, что критерий, установленный в терминах
человеческой преемственности, обеспеченной самими физика-
ми-атомщиками («Атомная физика — это предмет, изобретен-
ный Дж.Дж. Томсоном, Эрнестом Резерфордом и Нильсом Бо-
ром и развитый их учениками и преемниками» [Там же, с. 154]),
не годится. Нет, с его точки зрения, и общности в терминологии,
ибо к 1930-м гг. из того, с чем имел дело Резерфорд, «вряд ли вы-
жило что-либо, кроме слов; понятия «электрон» и «ядро» карди-
нально изменились [Там же, с. 155]. Тулмин останавливается на
«.генеалогии проблем», но конкретного анализа в подтверждение
этой версии не приводится. Остаются без ответа и вопросы, на
каком основании он выделяет данный период, на каком основа-
278
Часть I- Глава 8
нии определяется принадлежность к «физикам-атомщикам». Он
хочет найти преемственность, и он ее находит, ибо с чем при-
дешь, то и найдешь. У каждого ученого можно найти учителя.
Абсолютные самоучки — большая редкость, к тому же на каком
основании можно опровергнуть, что некто, с кем ты говорил или
кого ты читал, не стал твоим учителем? Можно прорисовать и
последовательность объектов, а можно — последовательность
пррблем по поводу этих объектов (кстати, не совсем ясно, как
отличить одно от другого). То есть у Тулмина все расплывчато,
плохо определено и не фальсифицируемо в смысле Поппера.
Наоборот, со стороны квантовой механики как раздела тео-
ретической физики все очень четко (см. гл. 13): в 1925—1927 гг.
была создана четкая система понятий, составившая ЯРН для
квантовой механики, и эта система понятий с тех пор не меня-
лась. Этой научной революции в смысле Куна предшествовали
четверть века «старой квантовой теории», состоящей из набора
рецептов применения постоянной Планка, ей предшествовал
период возникновения «парадоксов» в различных разделах фи-
зики: спектр теплового излучения черного тела, фотоэффект, те-
плоемкость твердых тел при низких температурах, слабо связан-
ных с понятием атома, а также парадокс с планетарной моделью
атома Резерфорда и атомным спектром водорода, которые толь-
ко и приводит Тулмин. Все эти явления первоначально далеко
отстояли друг от друга и были совмещены только своим решени-
ем, использующим постоянную Планка. Мне представляется,
что эти события куда лучше описываются моделью Куна, чем
эволюционной эпистемологией Поппера—Тулмина1, носящей
умозрительный и нефальсифицированный характер2.
'То же можно сказать о других примерах, приводимых Тулминым. Так, его
Утверждения о переходе от натурфилософии к науке на примере Дальтона пред-
ставляются мне поверхностными и неадекватными [Тулиии, 1984, с. 162]. (см.
П. 15.1 — про рождение химии Дальтона—Лавуазье и п. 7.2—7.3 — про переход от
натурфилософии к естественной науке).
2 Сторонникам эволюционной эпистемологии можно было бы посоветовать
Использовать вместо дарвиновской более современную теорию биологической
эволюции, включающей «блочно-иерархический принцип» (см.: [Чайковский Ю.В.
Эволюция. М., 2003]), что позволит включить в эволюционную модель понятие
Научной революции. Но в этом случае прав будет не Тулмин, а Кун: революции
будут существовать, и им будет отвечать создание нового «блока».
279
Философия науки
8.5. Анализ понятий «несоизмеримость»
и «некумулятивность»
Критику модели Куна питают неточности и даже ошибки,
содержащиеся в ее описании в книгах «Структура научных рево-
люций» и «Дополнения 1969 г.», но они не проблематизируют
ядра его концепции. Часть из этих неточностей и ошибок, ка-
сающихся описания «нормальной науки», мы рассмотрели вы-
ше. Теперь обсудим два важных свойства куновской модели «на-
учной революции» — несоизмеримость и некумулятивность.
По отношению к различным разделам физики и их «ядрам»
справедливы основные утверждения Куна (и Фейерабенда), рас-
крывающие понятие «несоизмеримость»', в разных разделах фи-
зики разный перечень проблем, которые должны быть разреше-
ны, они содержат разные базовые определения, они отвечают
разным гештальтам1, отвечающие им теории оказываются несо-
измеримыми в смысле Фейерабенда. Однако некоторые формы
описания несоизмеримости у Куна требуют дополнительного
рассмотрения.
Так, одной из форм описания несоизмеримости у Куна явля-
ется аналогия конкурирующих теорий с разными языковыми со-
обществами и связанной с этим проблемой перевода, на кото-
рую указывал Куайн [Кун, 2001, с. 258—259]. Из сравнения язы-
ковых сообществ с разделами физики следует сомнительность
этой аналогии. Слова незнакомого языка (типа «кролика» или
«части кролика», на которых упражняется Куайн, или «стул»,
«лист», «игра» Витгенштейна [Там же, с. 75]), наверное, дейст-
вительно «усваиваются частично благодаря непосредственному
приложению их к образцам». Но в физике речь идет о различных
системах абстрактных понятий и идеальных объектов, которые
имеют другую природу, чем слова, обозначающие конкретные
вещи. Значение слов естественного языка зависит от контекста,
оно открыто по отношению к контексту, который постоянно ме-
няется (расширяется). Значение понятий в готовом разделе фи-
зики фиксируется с помощью жестких определений (явных или
неявных) и составляет замкнутую систему. Эти значения не за-
1 То есть целостным вйдениям, картинам; термин заимствован из гештальт-
психологии, классический пример — восприятие картинки, на которой можно
увидеть или утку, или зайца (рис. 4.2).
280
Часть I. Глава 8
висят от контекста, в качестве которого выступают ВИО. Эти аб-
страктные понятия, принадлежащие разным разделам физики (а
следовательно, разным парадигмам), задаются в рамках одного и
того же естественного языка с помощью определений (в том чис-
ле неявных посредством конструкций типа ЯРН). Поэтому фи-
зик-ньютонианец может понять эйнштейнианца, но не обяза-
тельно принять его взгляд на мир. Поэтому нельзя согласиться с
утверждением Куна, что «научное знание, подобно языку, по
своей внутренней сути является или общим свойством группы,
или ничем вообще» [Там же, с. 268].
Другой формой описания несоизмеримости у Куна является
сравнение перехода к новой парадигме с «переключением геш-
тальта»1, составляющего «сердцевину революционного процесса
в науке» [Там же, с. 262]. Причем Кун отличает этот процесс от
интерпретации явлений, отвечающих «нормальной науке».
Подчеркивая принципиальную разницу между «интерпрета-
цией» и «переключением гештальта», Кун, привлекая для объяс-
нения аналогию с маятником, говорит: «Галилей интерпретиро-
вал наблюдения над маятником, Аристотель — над падающими
камнями... но каждая из этих интерпретаций предполагала нали-
чие парадигмы. Эти интерпретации составляют элементы нор-
мальной науки... Нормальная наука в конце концов приводит
только к осознанию аномалий и кризисам. А последние разре-
шаются не в результате размышлений и интерпретаций, а благо-
даря... событию, подобному переключению гештальта. После
этого события ученые часто говорят о «пелене, спавшей с глаз»
или об «озарении»... Ни в одном обычном смысле термин «ин-
терпретация» не пригоден для того, чтобы выразить такие про-
блески интуиции» [Там же, с. 163—164]. Для Куна примерами
йовой парадигмы служат маятник Галилея, кислород Лавуазье,
атомы Дальтона, поскольку они по-новому организуют вйдение
Уже известного эмпирического материала. Сравнение с объект-
ным теоретико-операциональным подходом подтверждает это
Утверждение. Здесь ту же функцию выполняют ЯРН и его ПИО.
Они осуществляют преобразование эмпирического материала,
его структурирование в результате формирования нового ЯРН и
1 Похожее утверждение есть и у П. Фейерабенда: «Появление новой теории
Изменяет взгляд как на наблюдаемые, так и на ненаблюдаемые (т. е. описывае-
йЫе теорией. — АЛ.) свойства мира и вносит соответствующие изменения в зна-
еНйя даже наиболее «фундаментальных» терминов...» [Фейерабенд, 1986, с. 30].
281
Философия науки
ггггггггггг г г г г г г г.- г гг .-г.- .-.• г гггггггггг г гггг гг г г гг г г гггг гг г г г г г гггг гг г ггг г г гг ггг г г г гг ггг г г гггггг г г -гггггг ггг v г г гг г ^ггг^гг.гггггггггггггггг ггггг ггг^ '
соответствующих ему ПИО. При этом мы, правда, рассматрива-
ем более крупные единицы, чем теория маятника (из приведен-
ных Куном примеров только пример Дальтона отвечает уровню
ЯРН).
Другой смысл «переключения гештальта» для Куна состоит в
том, что разные теории «по-разному описывают и обобщают од-
но и то же явление» [Там же, с. 257]. Это можно сопоставить с
тем, что представители разных разделов физики по-разному
смотрят на одно и то же явление, выявляя в нем разные стороны,
которые фиксируют в моделях, отвечающих их разделам физики.
Но из этого не следует, что «сторонники несоизмеримых теорий
не могут общаться друг с другом вообще» [ Там же, с. 255]. Физи-
ки осознают эту разницу и вполне могут понимать друг друга, ес-
ли речь идет о разных готовых разделах физики. Но каждый раз-
дел физики определяется своей системой понятий, фиксируе-
мой ЯРН. В этом смысле каждый раздел физики — свой
замкнутый мир. Так, мир механики Ньютона и мир механики
Эйнштейна — самостоятельные миры со своими ЯРН. Однако
если это фиксировать и освоить эти два мира, то конфликта ме-
жду ними не возникнет, поскольку в качестве двух разных разде-
лов физики1 они имеют свои области приложения.
С тезисом о несоизмеримости тесно связан тезис о некумуля-
тивном характере роста знания при революционных нововведе-
ниях, который требует особого обсуждения. Как уже говорилось в
п. 5.3, кумулятивизм — методологическая установка философии
науки, согласно которой развитие знания происходит путем по-
степенного добавления новых положений к накопленной сумме
знаний... [Он] абсолютизирует момент непрерывности, исключа-
ет качественные изменения... [Касавин, с. 146]. «Любая историче-
ская последовательность научных теорий, — говорит М. Бун-
1 Классическая («ньютоновская») механика среди своих понятий имеет по-
нятие силы произвольной природы, что делает ее область применимости не сов-
падающей с областью применимости специальной теории относительности, где
существуют только столкновения частиц, электромагнитное взаимодействие и
гравитационное взаимодействие (в общей теории относительности). И хотя в
принципе на уровне современной картины мира все силы, с которыми имеет де-
ло классическая механика, сводятся к этим взаимодействиям, никто не буДеТ
сводить к ним действие пружины, нити и т. п. Для физиков и физики это два раз-
ных раздела физики, а там, где они пересекаются, существует известный пре-
дельный переход, определяемый параметром v/c (v — характерные скорости, с "
скорость света). То же можно сказать и об отношении между классической г*
квантовой механикой.
282
Часть I. Глава 8
re, — является возрастающей в том смысле, что каждая новая
теория включает... предшествующие теории. И в этом процессе
ничто и никогда не теряется; по существу, указанная точка зре-
ния предполагает непрерывный рост в виде аддитивной после-
довательности теорий, сходящихся к некоторому пределу, объе-
диняющему все теории в единое целое» [Мамчур, 1987, с. 81].
Кун же рассматривает «научные революции... как такие не-
кумулятивные эпизоды развития науки, во время которых старая
парадигма замещается целиком или частично новой парадиг-
мой, не совместимой со старой» [Кун, 2001, с. 129].
Посмотрим, как с этими определениями соотносится реаль-
ная история физики. Как было сказано, куновской парадигме
отвечает ЯРН, соответственно, замещению парадигмы в физике
должно отвечать замещение ЯРН. Однако конкуренция с после-
дующим вытеснением типична лишь для понятий «незрелой»
(«допарадигмальной») стадии развития раздела физики, до сло-
жившегося ЯРН1. Зрелый раздел физики уже не исчезает. В фи-
зике принципиальные нововведения образуют новый раздел, ко-
торый пристраивается к старым, а не отменяет их. Статистиче-
ская физика не отменяет термодинамики, а релятивистская и
квантовая механика не отменяют классической механики, но
лишь определяют границы области ее применимости.
Таким образом, в ходе революционных изменений в физике
на уровне зрелых разделов, с одной стороны, как правило, «ни-
что и никогда не теряется». Но, с другой стороны, здесь не вы-
полняется требование «аддитивной последовательности теорий,
сходящихся к некоторому пределу, объединяющему все теории в
единое целое». Что касается требования, что «каждая новая тео-
рия включает... предшествующие теории», то это условие не вы-
полняется не только на уровне разных разделов, но и внутри од-
ного раздела, где есть много совершенно разных теорий, кото-
рые в единую линейную последовательность не выстраиваются.
Из этого краткого анализа следует, что куновские тезисы о
Несоизмеримости и некумулятивности по отношению к револю-
ционным изменениям в принципе верны, но требуют уточнения
й, по-видимому, смягчения формулировок. Но это не сказывает-
ся на ядре куновской модели.
1 Конкуренция теплородной и кинетической теории тепла относится к не-
злой стадии развития термодинамики, до первого закона термодинамики.
283
Философия науки
В заключение проведенного в этой главе сравнения можно
добавить несколько важных общих замечаний.
Объектная теоретико-операциональная модель более конк-
ретна, более четко прописана, но область ее применимости ог-
раничена зрелыми разделами науки, т. е. #же, чем область при-
менимости куновской и лакатосовской моделей. Лакатосовскую
и куновскую модели развития науки, по-видимому, можно при-
ложить и к основным направлениям самой философии науки
XX в. (начиная с логического позитивизма 1930-х). Куновской
моделью конкуренции парадигм и сообществ можно, по-види-
мому, описать даже сопоставление и конкуренцию мифологии,
магии, религии и естественной науки, обсуждавшиеся П. Фейе-
рабендом (см. п. 6.6).
Подходы исследовательских программ Лакатоса, так же как
и объектный теоретико-операциональный подход автора, опи-
сывают процессы, происходящие в «рациональной» (особый
тип «внутренней») истории, а не в «реальной» истории, которую
делают конкретные ученые. Лакатос, по сути, говорит об общих
содержательных тенденциях, оставляя без ответа вопрос о кон-
кретном взаимодействии исследовательских программ с кон-
кретными научными сообществами и учеными, о выборе, с ко-
торым они сталкиваются «здесь и теперь». Кун рассматривает в
первую очередь именно этот выбор, представленный им как
процесс взаимодействия комплексов идей (будь то парадигма,
исследовательская программа или ЯРН) с научными сообщест-
вами. С этой главной для куновской модели стороны его модель
дополняет модель Лакатоса (и объектную теоретико-операцио-
нальную), а не конкурирует с ней. В этом плане Кун справедли-
во говорит о глубинной общности своей модели с лакатосовской
[Там же, с. 580—582] (для Куна «прогрессивный сдвиг проблем»
Лакатоса выступает как один из аргументов для ученых перейти в
соответствующее сообщество).
Итак, научное знание зависит от человеческой культуры, но
оно не является произвольным результатом фантазии индивида
или простым соглашением группы ученых. Научное знание яв-
ляется если не объективным, в смысле «наивных реалистов», то
по крайней мере интерсубъективным и образует даже нечто по-
добное «языку» Ф. де Соссюра или «третьему миру» К. Поппера-
Все они существуют и как основа, и как продукт человеческой
культуры. При этом Кун указывает механизм роста и обновле-
284
Часть I. Глава 8
ния элементов этого мира научного знания через «нормальную
науку» и «научные революции»1: «Сообщества данного вида —
это те элементарные структуры, которые... представлены как
основатели и зодчие научного знания», — говорит он [Там же,
с. 229]. Эти сообщества служат фильтром, который должно прой-
ти нововведение, созданное индивидом или небольшой группой
ученых (в науке, языке или «третьем мире»). Этот фильтр часто
является тормозом развития, но на нем основана необходимая
относительная устойчивость научного знания, без него бы воца-
рился хаос. Выявленный Куном фильтр показывает, что в науке
(так же как и в технике) мало создать нечто новое, его еще надо
внедрить. И это отдельная и сложная работа, которая тем слож-
нее, чем больше новизна. Правда, сложность этой работы зави-
сит и от состояния научного сообщества. В период кризиса со-
общество более восприимчиво к нововведениям2.
В целом рассмотренные три модели — «парадигм», «исследо-
вательских программ» и «объектная теоретико-операциональ-
ная» — оказываются взаимодополнительными и эффективными
для анализа структуры, функционирования и развития науки
Нового и Новейшего времени.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кун Т. Структура научных революций. М.: ACT, 2001.
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских
программ (с. 265—454); История науки и ее рациональные реконструкции
(с. 455—524) // Кун Т. Структура научных революций. М.: ACT, 2001.
Липкин А. И. Основания современного естествознания. Модельный взгляд
на физику, синергетику, химию. М.: Вузовская книга, 2001.
Малахов В. С., Филатов В.П. Современная западная философия: Словарь.
М.: Политиздат, 1991.
1В попперовской модели трех миров платоновского типа самым темным ме-
стом является взаимодействие этих миров. Кун предлагает модель этого взаимо-
действия.
2 Хорошей иллюстрацией к этому является восприятие идей К. Поппера: его
Концепция, опубликованная в 1930-х гг., когда в сообществе философов науки
Только-только воцарился «логический позитивизм», не произвела заметного
впечатления. Но та же книга, переизданная в 1959 г. в ситуации кризиса логиче-
ского позитивизма, была воспринята как революционная и положила начало
«Постпозитивизму» в философии науки. Подчеркну, для проблемы внедрения
Новой идеи существен язык, на котором она опубликована: оба раза книга
К. Поппера издавалась на главном языке философии науки и науки того време-
ни (в 1930-х гг. — на немецком, а в 1959 г. — на английском).
285
Философия науки
Мамчур Е.А. Проблемы социально-культурной детерминации научного зна-
ния. М.: Наука, 1987.
Мах Э. Познание и заблуждение: Очерки по психологии исследования. М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.
Сивухин Д.В. Общий курс физики: В 5 т. М.: Физматлит, 2005.
Тулмин Ст. Человеческое понимание. М., 1984.
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986.
ВОПРОСЫ
1. Какие уточнения следует сделать в модели нормальной науки
Т. Куна?
2. Какие уточнения следует сделать в понятиях «некумулятивности»
и «несоизмеримости» в модели научной революции Т. Куна?
3. Какие уточнения следует сделать по отношению к модели И. Ла-
катоса?
4. Каково соотношение областей применимости рассмотренных
трех моделей?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кун Т. Структура научных революций. М.: ACT, 2001.
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских про-
грамм (с. 265—454); История науки и ее рациональные реконструкции
(с. 455—524) // Кун Т. Структура научных революций М.: ACT, 2001.
Липкин А. И. Основания современного естествознания. Модельный взгляд
на физику, синергетику, химию. М.: Вузовская книга, 2001.
Липкин А.И. Парадигмы, исследовательские программы и ядро раздела нау-
ки в физике // Вопросы философии. 2006. № 6. С. 89—104.
Глава 9
СПЕЦИФИКА
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Специфика гуманитарных наук по сравнению с точным ес-
тествознанием очевидна. Любой физик или математик, сталки-
ваясь с историей, культурологией, литературоведением, сразу
ощущает, что эти дисциплины «какие-то не такие». Ему броса-
ется в глаза дефицит точности, проверяемости, объективности.
Но с чем это связано? Ответ на данный вопрос позволит дать
ответ и на другой вопрос: должны ли гуманитарные науки пере-
строиться и уподобиться точному естествознанию, или их осо-
бенность обусловлена самим их предметом и должна сохранять-
ся и впредь? Этот вопрос в XIX—XX вв. не раз становился те-
мой оживленных дискуссий. Позитивисты — от Конта до
Карнапа и Нейрата — утверждали, что есть только один образец
научности и только одна научная методология. Ее воплощением
является физика. Философия жизни, неокантианство, феноме-
нология, экзистенциализм, философская герменевтика защи-
щали особый характер гуманитарного познания, обусловлен-
ный самим его предметом.
Но что же является предметом гуманитарных наук? Часто
говорят, что гуманитарные науки — это науки о человеке. Одна-
Ко такое утверждение некорректно. Теоретическая медицина
Или физиология высшей нервной деятельности тоже изучают
Человека, однако относятся не к гуманитарным, а к естествен-
ном наукам. А гуманитарные науки изучают творения челове-
ческого духа. В немецкой философской традиции для них и ис-
пользовалось название «науки о духе».
287
Философия науки
К творениям человеческого духа относятся произведения ис-
кусства, язык, социальные институты и т. д.1 В то же время соци-
альные институты изучаются « социальными науками, такими,
как экономика и социология. Они отличаются от гуманитарных
наук и ориентируются на методологические стандарты научно-
сти, родственные стандартам точного естествознания: использу-
ют количественные показатели, математические модели, стре-
мятся делать обобщения и предсказания.
Пытаясь очертить сферу гуманитарных наук, мы должны
учесть, что грани между науками нечетки и, главное, меняются
на наших глазах. Например, психологию сейчас относят не к гу-
манитарным, а к естественным наукам. Однако в ней появляют-
ся направления, например гуманистическая психология, кото-
рые ближе к наукам гуманитарным. Языкознание является клас-
сическим примером гуманитарной науки, но математическая
лингвистика уже перестает быть таковой. Хотя социология сей-
час не является гуманитарной наукой, но такое направление, как
«понимающая социология», сознательно стремится вернуть со-
циологии гуманитарный характер. История науки долгое время
рассматривалась как вотчина профессиональных ученых; напри-
мер, история математики была специальностью внутри дисцип-
лины «математика», и то же относилось к другим наукам. Одна-
ко в последние десятилетия утверждается самостоятельный и гу-
манитарный статус истории науки.
Особенность гуманитарного познания попытаемся пояснить
на таком примере. Представим себе, что археолог при раскопках
захоронения находит косточку мелкого животного. Он может
приобщить ее к своим находкам, а может выбросить в отвал. Это
зависит от того, сочтет ли он появление в захоронении этой кос-
1 Творениями человеческого духа являются также мосты, авианосцы, компь-
ютеры, ускорители элементарных частиц и др. Следует ли отсюда, что они явля-
ются предметом гуманитарных наук? Да, как творения человеческого духа, они
окажутся предметами гуманитарного познания. Исследователь, который хочет
понять, почему, при каких условиях и с какой целью люди создавали эти ве-
щи, — гуманитарий-историк. Вполне возможно культурологическое исследова-
ние ускорителей элементарных частиц. Из него мы не узнали бы о физических
законах, но смогли бы узнать много интересного о профессиональном сообщест-
ве физиков и его социальном окружении. Можно сказать, что для культуролога
ускоритель элементарных частиц выступает как текст, в котором закодированы
убеждения и ожидания определенного сообщества. Культуролог будет пытаться
понять и объяснить читателям этот код.
288
Часть I. Глава 9
точки результатом сознательного поведения людей, осуществ-
лявших похоронный обряд, или решит, что ее затащил в погре-
бение какой-то грызун, прорывавший тут свои ходы. Для архео-
лога предметом исследования будет то, чтб можно рассматривать
как код, содержащий информацию об образе жизни и намерени-
ях людей далекого прошлого. Можно сказать, что предметы гу-
манитарной науки выступают как знаки. Исследователь должен
прочитать в них информацию о чем-то сугубо человеческом.
Надо подчеркнуть разницу между отношением знака к обо-
значаемому и отношением причины к следствию. Естественные
науки занимаются отношениями последнего типа. Они экспери-
ментально исследуют явление, чтобы вскрыть его причину. Но
отношение между знаком и обозначаемым носит совершенно
иной, нефизический характер. Обсуждая тему знака и значения
в контексте гуманитарного познания, мы не имеем в виду того,
что называют «естественными знаками» (дым — знак огня и
т. п.). Если археолог пытается понять, что означает охра, которой
осыпано погребение, то точное экспериментальное исследова-
ние свойств самой охры ему мало чем поможет. Он должен по-
нять, чтб означала охра для осуществлявших такой погребальный
обряд людей. Он может выдвинуть гипотезу, что охра символи-
зировала возрождение. Понятно, что связь между охрой и идеей
возрождения имеет совершенно иную природу, нежели связь ме-
жду причиной и следствием в природном мире.
Поэтому гуманитарные науки необходимым образом отлича-
ются от естественных наук.
9.1. Герменевтика и проблема «герменевтического круга»
Из сказанного следует, что парадигмальным объектом гума-
нитарной науки является текст. Как писал М.М. Бахтин,
«текст — первичная данность [реальность] и исходная точка вся-
кой гуманитарной дисциплины» [Бахтин, 1979, с. 292]. Текст
ожидает понимания. Поэтому не случайно, что вопрос о методо-
логической специфике гуманитарного познания оказался тесно
связан с герменевтикой. Происхождение этого понятия объясня-
ла именем древнегреческого бога Гермеса, который выполнял
Функцию посредника между богами и людьми. Он доводил до
людей волю богов, для чего должен был истолковывать ее и пе-
10 Философия науки 289
Философия науки
реводить на язык людей. Поэтому термин «герменевтика» озна-
чает теорию и методологию истолкования текстов. В Средние
века герменевтика развивалась как искусство истолкования
смысла библейских текстов. В эпоху Реформации, когда протес-
танты отвергли исключительный авторитет папы римского в ис-
толковании Священного Писания, когда Писание стало перево-
диться на национальные языки, она получила новые импульсы к
своему развитию.
Герменевтика превратилась в самостоятельную дисциплину
благодаря Фридриху Шлейермахеру (1768—1834), который был
одновременно протестантским теологом и классическим фило-
логом (т. е. специалистом по древним языкам). Не случайно, что
именно он поставил перед собой задачу построить универсаль-
ную методологию понимания и определил герменевтику как
«искусство понимания», которое должно «зависеть только от об-
щих принципов» [цит. по: Кузнецов, 1991, с. 42], а не от характера
текста, будь то сочинение античного автора или фрагмент Писа-
ния.
«Согласно мнению Шлейермахера предметом интерпрета-
ции являются главным образом... тексты, которые отделены от
интерпретатора культурной, языковой, исторической и времен-
нбй дистанциями» [Тал/ же, с. 42]. Нужда в герменевтическом
методе возникает всякий раз, когда перед исследователем оказы-
вается другая культура, другие духовно-душевные миры. В таком
случае велика опасность превратного толкования. Идея Шлей-
ермахера состояла в том, что уберечься от подобной опасности
можно, только вступив в своего рода диалог с интерпретируе-
мым текстом. Роль такого диалога призван сыграть так называе-
мый «герменевтический круг». Впрочем, о герменевтическом
круге как основной проблеме герменевтики стали говорить уже
после Шлейермахера; сам он называл эту ситуацию «мнимым
кругом», потому что видел в нем поступательное движение, ко-
торое приводит к достижению цели.
Посмотрим более внимательно, чтб представляет собой это
движение.
Вообще, в любом тексте есть то, чтб говорится, и то, как го-
ворится. Индивидуальность автора проявляется прежде всего в
последнем. Соответственно целью понимания текста является
именно это «как», за которым стоит внутренний мир и намере-
290
Часть I. Глава 9
ция его автора, то неповторимое, личностное, что он внес в свой
текст.
С подобной задачей понимания мы постоянно сталкиваемся
в повседневной жизни. Например, если близкий нам человек за-
мечает что-то вроде: «Сегодня отвратительная погода» или «Твой
друг безвкусно одевается», то наше понимание будет направлено
на настроение, в котором сказаны данные слова. Однако к внут-
реннему состоянию другого мы можем подойти только через
смысл произнесенных им слов. При этом мы будем отталкивать-
ся от общепринятого значения слов, но учтем также, какое зна-
чение они имеют в устах данного человека (например, что зна-
чит для него «безвкусно»). Мы все, худо-бедно, имеем подобный
опыт истолкования. Иногда нам удавалось «попадать в точку», а
иногда, напротив, мы попадали впросак. Понимание — процесс
сложный, неоднозначный. Подчас даже отец и мать по-разному
понимают собственного ребенка. Такие примеры показывают,
насколько нетривиальной проблемой является разработка науч-
ного метода понимания.
Разработанный Шлейермахером метод имел как бы два уров-
ня. На первом интерпретировался текст как таковой. Условием
понимания здесь являлось глубокое знание языка, на котором
говорили автор произведения и его современники. Понимание
текста требует понимания значений всей встречающейся в нем
лексики. Но, с другой стороны, значение слова зависит от кон-
текста, в который оно входит. «Задача интерпретатора — понять
целое произведения, но он может сделать это, лишь рассмотрев
сначала его части и из них собрав затем целое. Но как начинает
он свою работу? Читая отрывок произведения и желая понять
смысл этого отрывка, он исходит из определенной гипотезы от-
носительно смысла отдельных слов и выражений в этом отрыв-
ке, и эта гипотеза представляет собой его предварительное пони-
мание, без которого он не может сделать и первого шага в своем
Исследовании или переводе. Читая следующий отрывок произ-
ведения, исследователь корректирует свое первое, предваритель-
ное понимание, исправляет его, создавая тем самым некоторое
Новое, более адекватное предвосхищение смысла целого. И так
Продолжается в течение всей его работы над произведением,
всякий раз перед ним налицо два момента: с одной стороны, не-
которое более или менее адекватное предвосхищение смысла це-
лого и интерпретация, исходя из этого смысла, отдельных час-
10*
291
Философия науки
тей, т. е. движение от целого к его частям; с другой стороны, кор-
ректировка общего смысла, исходящая из анализа отдельных
частей, т. е. движение от частей к целому. Как видим, здесь на-
лицо круг, получивший название «герменевтического круга»: це-
лое определяется через части, а последние, в свою очередь, — че-
рез целое» [Гайденко, 1997, с. 394—395].
Однако для полного понимания произведения орбиту этого
кругового движения следует расширить. Текст должен быть по-
нят так же, как продукт мыслей и чувств его автора. Это требует
знания как внешних условий существования, так и внутренней
жизни автора произведения. Должно быть понято влияние сово-
купности этих факторов на замысел, сюжет, содержание и стиль
произведения. На этом уровне исследования мысль интерпрета-
тора тоже движется между угадыванием психологии автора и ис-
следованием исторических фактов его судьбы, и при этом одно
проверяется, исправляется и уточняется другим.
Только результаты обоих уровней — как семантического, так
и историко-психологического, — взятые вместе, ведут к понима-
нию. Поэтому результаты исследований на обоих уровнях долж-
ны согласовываться между собой. А это достигается опять-таки
«круговым» движением интерпретации от части к целому и об-
ратно, только теперь целым является единство автора и его тек-
ста, а частями — текст, замысел автора, его внутренняя жизнь и
т. п. Понимание внутренней жизни автора влияет на интерпре-
тацию написанного им текста, а интерпретация текста — на по-
нимание внутреннего мира его автора.
Таким образом, герменевтический метод выступает как воз-
вратно-поступательное движение между предварительным по-
ниманием целого и пониманием части (произведения или ситуа-
ции), в ходе которого устраняются несогласованности между тем
и другим.
Но есть ли гарантия, что это движение првдет к концу?
Шлейермахер полагал, что полное и адекватное понимание на
этом пути вполне достижимо. Правда, оно предполагает, что ав-
тор произведения и интерпретатор являются «родственными ду-
шами». Благодаря этому интерпретатор в конце концов как бы
перевоплощается в автора интерпретируемого произведения.
Однако такое перевоплощение происходит только в результате
кропотливой герменевтической работы. Но, коль скоро данная
работа проведена, интерпретатор может понять автора даже луч-
292
Часть I. Глава 9
ще, чем тот понимал себя сам. Таким образом, герменевтика —
это «искусство, которое помогает повторить творческий акт соз-
дателя текста. Но если в творчестве создателя бессознательное
начало преобладало над сознательным, то в творчестве интер-
претатора сознательное должно преобладать над бессознатель-
ным» [Гайденко, с. 394]. Например, автор мог не осознавать, что
на него влияют такие-то факторы его окружения, а исследова-
тель вскрывает это влияние.
Значительный вклад в обоснование гуманитарного знания на
основе герменевтики внес Вильгельм Дильтей (1833—1911), не-
мецкий философ и историк культуры.
Он противопоставлял «науки о природе» (естественные нау-
ки) и «науки о духе». Они, по его убеждению, различаются не
только методом, но и предметом познания. Природа — это объ-
ект, внешний человеку. Исследование природных явлений под-
чинено задаче формулирования общих законов. С их помощью
дается объяснение явлениям природы посредством подведения их
под общие законы (например, движение Луны может объяснять-
ся с помощью закона всемирного тяготения).
Гуманитарные науки — это науки о духе, отличающиеся от
наук о природе. Но разве, спросим мы, человек не является ча-
стью природы? Конечно, является. И Дильтей оговаривается,
что противопоставление наук относительно, ибо есть области
пограничные, где соединяются знания того и другого типа, и к
тому же науки о духе тоже пользуются обобщениями и объясне-
ниями через подведение под общий закон.
Тем не менее различие между науками существует. «Науки о
духе» изучают прежде всего индивидуальное событие в его цело-
стности и неповторимости. Они пользуются для этого не только
обычными рациональными средствами, но и непосредственным
переживанием и основанными на нем пониманием и истолкова-
нием. Природу мы объясняем, — говорит Дильтей, — духовную
жизнь мы понимаем. И если в естествознании всякое познание
законов возможно только через измеримое и вычислимое, то в
Науках о духе, как утверждает Дильтей, каждое абстрактное по-
ложение в конечном счете должно получить свое оправдание че-
рез связь с жизнью духа, которая может открыться только в пере-
живании и понимании.
Науки о духе исследуют всю сферу проявлений человеческо-
г° Духа — искусство, философию, право, социальные институты,
293
Философия науки
хозяйство, языки, религии. Можно сказать, что под духом Диль-
тей понимает культуру. Сам он говорит о том, что дух есть
жизнь.
Чтобы понять, что это значит, надо учесть, что Дильтей при-
надлежал к направлению «философии жизни». Общим для пред-
ставителей этого направления было убеждение в том, что жизнь
кардинально отличается от материи, как ее описывают точные
науки. Жизнь непредсказуема, ее невозможно уложить в рамки
однозначных каузальных детерминаций. Жизнь есть целост-
ность, свобода, развитие и творчество. При этом одни философы
видели жизнь в сфере биологических явлений, другие, и прежде
всего Дильтей, — в творчестве человеческого духа. «Жизнь, —
говорит Дильтей, — это взаимодействие, существующее' между
личностями в определенных внешних условиях, постигаемое не-
зависимо от изменений места и времени. Я использую выраже-
ние «Жизнь в науках о духе» лишь применительно к человече-
скому миру. ...Жизнь заключается во взаимодействии живых су-
ществ» [Дильтей, 1995].
Дух историчен по самой своей сути, и потому все науки о ду-
хе являются историческими. «По убеждению Дильтея, постиг-
нуть, что такое жизнь, можно только путем изучения истории»
[Гайденко, 1997, с. 396].
Категории, с помощью которых описывается жизнь, прин-
ципиально отличаются от понятий, работающих в науках о при-
роде. Это, например, смысл, цель, ценность, значимость. Понят-
но, что смысл или значимость некоторого события невозможно
исследовать методами точного экспериментального естествозна-
ния, и не потому, что гуманитарные науки «не доросли» до их
уровня, а потому, что их предмет отличается принципиальным
образом. Такие вещи, как смысл или ценность, по мнению
Дильтея, открываются в непосредственном переживании. При
этом воссоздается внутренний смысл внешних событий, т. е. ис-
следователь возрождает то значение, которое данные события
имели для их участников. Благодаря этому и возрождается исто-
рическое прошлое. Оно перестает быть сухой сводкой дат и дета-
лей, вновь становясь под пером исследователя самой жизнью.
Наиболее характерной формой исследований такого рода явля-
ется биография исторического деятеля, философа, писателя, в
которой исследователь как бы перевоплощается в своего героя и
заново переживает события его внешней и внутренней жизни.
294
Часть I. Глава 9
В то же время жизнь духа, подчеркнем это еще раз, объекти-
вируется, т. е. воплощается в культурных ценностях или соци-
альных системах. Жизнь прошлого, с его особыми формами со-
циальных институтов, права, религии, образует особые культур-
ные системы, замкнутые в себе, т. е. наполненные смыслами и
ценностями, отличными от тех, в которых живет современный
человек. Работа историка, т. е. его попытка проникнуть во внут-
ренний мир прошлого, расширяет наш кругозор новыми жиз-
ненными возможностями, которые только так и достижимы.
Историк оживляет для нас иные духовные миры, и это помогает
нам обогатить собственный мир. «Метод историка — понима-
ние, основа его науки — понимающая психология в отличие от
психологии естественно-научной, объясняющей. Понимающая
психология предполагает непосредственное постижение целост-
ности душевно-духовной жизни, проявлением которой будет
всякое действие, всякое отдельное выражение, запечатленное в
историческом тексте» [ Там же, с. 395—396].
Как уже было сказано, все, что создается духом, исторично.
Поэтому ключевой методологической проблемой всех наук о ду-
хе является вопрос о том, как возможно объективное историче-
ское знание? Где искать гарантию того, что историк воспроизвел
реальную прошлую жизнь, а не собственный внутренний мир?
Дильтей много размышляет над герменевтическим кругом.
Он согласен с тем, что историк постоянно движется в нем. Но на
каком основании можно быть уверенными в том, что это движе-
ние завершится объективным результатом? Дильтей ищет таких
гарантий в человеческой психологии. Он верит в общность чело-
веческой психики. Понимание может быть достигнуто, потому
что в науках о духе жизнь познает сама себя, т. е. человек познает
человека. Например, все люди понимают, что такое страх, наде-
жда, отчаяние и т. д.
В то же время надо подчеркнуть, что Дильтей не сводил зада-
чу историка только к вчувствованию и переживанию. Он искал
связь эмоционального и рационального в историческом позна-
нии. Поэтому он говорил, что задачей историка является пони-
мание, а оно, в отличие от переживания, должно быть выражено
в понятиях. «Только понимание, — говорил Дильтей, — снимает
ограничение, связанное с индивидуальным переживанием, так
Же как, с другой стороны, оно придает личным переживаниям
Характер жизненного опыта. Когда оно распространяется на все
295
Философия науки
большее число людей, духовные творения и сообщества, гори-
зонт единичной жизни расширяется, и в науках о духе открыва-
ется путь, ведущий через общее к всеобщему».
9.2. Специфика гуманитарного познания в учениях
баденской школы неокантианства
Неокантианцы баденской школы много размышляли о спе-
цифике и методах гуманитарного познания1. В центре их раз-
мышлений стояла культура (т. е. именно то, что Дильтей считал
предметом «наук о духе»). Однако их не устраивал психологизм
подхода Дильтея и других представителей «философии жизни».
Руководящую нить для осмысления культуры неокантианцы
находили в априоризме и трансцендентализме И. Канта. Кант
объяснял научное знание с помощью особой априорной синте-
зирующей деятельности рассудка и чувственности (см. гл. 2). Он
показывал, что результатом этой деятельности являются, с од-
ной стороны, мир опыта, природа, а с другой — научное знание
о ней.
В других частях своей философской системы Кант рассмат-
ривал этику и эстетику, доказывая, что в основе общезначимых
принципов этики и претендующих на общезначимость сужде-
ний вкуса тоже лежат априорные принципы. Наличие этих
принципов в разуме субъекта является ключом к пониманию че-
ловека, его достоинства и предназначения в мире.
Следуя Канту, неокантианцы баденской школы исходили из
убеждения, что вся человеческая культура обусловлена всеобщи-
ми априорными предпосылками разумной деятельности как тако-
вой, — некоего творческого априорного синтеза. «В сознании
творческого синтеза культура познала самое себя, ибо в глубо-
чайшей сущности она и есть не что иное, как этот творящий
синтез», — писал лидер баденской школы Вильгельм Виндель-
банд (1848-1915) [Виндельбанд, 1995, с. 14].
Виндельбанд утверждал, что все науки делятся на два класса:
науки о природе и науки о культуре. Он выступал против терми-
на «науки о духе», так как противопоставление природы и духа
казалось ему совсем не очевидным. Например, психология — это
10 неокантианстве марбургской школы см. п. 2.7.
296
Часть I. Глава 9
v ' ' ,v -- - - ' ..... г
опытная естественная наука и в то же время — наука о духе. По-
этому Виндельбанд предлагал классификацию, в основании ко-
торой находится не предмет, а метод наук. «Принципом деления
служит формальная сторона их познавательных целей: одни из
них ищут всеобщие законы, другие — частные исторические
факты... Таким образом, мы можем сказать, что эмпирические
науки ищут в познании действительности или общее, в форме
естественных законов, или же индивидуальное, в исторически
определенном образе; одна часть их затрагивает всегда остаю-
щуюся одинаковой форму, другая — однократное, определенное
в себе содержание действительных явлений» [Виндельбанд, 1901,
с. 10—11]. Для первого класса Виндельбанд предлагает термин
«номотетические» (т. е. формулирующие законы) науки, для вто-
рого — «идиографические» (т. е. описывающие своеобразие еди-
ничного) науки. «Для естествоиспытателя, — пишет Виндель-
банд, рисуя образы этих наук, — отдельный данный объект его
наблюдения никогда не имеет научной ценности сам по себе: он
нуждается в нем лишь постольку, поскольку может считать себя
вправе рассматривать его как тип, как специальный случай ро-
дового понятия, и развивать из него последнее; он обращает в
нем внимание лишь на те признаки, которые пригодны для ура-
зумения закономерного общего. Для историка же задача состоит
в том, чтобы вновь воскресить в форме идеальной действитель-
ности картину прошлого во всех ее индивидуальных чертах»
[Там же, с. 15].
Итак, Виндельбанд подчеркивает принципиальное отличие
исторических наук от естественных (хотя идиографические нау-
ки и используют отдельные общие положения и законы, кото-
рые заимствуют из номотетических наук). «Тот факт, что сила
естествознания лежит на стороне абстракции, а сила истории —
на стороне наглядности, станет еще очевиднее, если сравнить
результаты, добываемые исследованием в той и другой области.
Как бы ни была тонка работа над понятиями, в которой нужда-
ется историческая критика при переработке предания, все-таки
ее последняя цель всегда заключается в том, чтобы из массы ма-
териала извлечь подлинную, полную жизненной реальности
картину прошлого; то, что она дает, — это образы людей и чело-
веческой жизни со всем богатством их своеобразных форм, с со-
хранением всей их индивидуальной жизненности» [Там же,
с. 16-17].
297
Философия науки
Не имеет смысла вопрос о том, какие науки «научнее» или
«важнее». Оба типа наук необходимы для познания мира как це-
лого, потому что он включает не только общее, но и единичное.
Более того, «всякий интерес и критерий, всякая оценка связана у
человека с единичным и однократным... Все наши предпочтения
коренятся в однократности, несравненности объекта» [ Там же,
с. 20].
Уникальное и неповторимое заслуживает особого изучения в
силу его ценности. Например, культура эпохи Возрождения яв-
ляется объектом исследований в силу ее непреходящей эстетиче-
ской ценности. Но, развивая рассуждения Виндельбанда, мы
можем сказать, что и официальное искусство эпохи тоталита-
ризма тоже заслуживает изучения, и если не в силу его эстетиче-
ской ценности, то хотя бы в силу того, что в нем преломляется
уникальный опыт человеческого существования в условиях тота-
литаризма. И в этом его ценность, как и любого другого челове-
ческого опыта.
Ценность человеческого опыта связана с уникальностью и
неповторимостью каждой человеческой личности. Ведь человек
обладает свободой воли, и это делает невозможной историю как
номотетическую науку. Задачей истории остается воспроизведе-
ние неповторимого, хотя в индивидуальном и неповторимом
именно в силу человеческой свободы всегда остается нечто не-
определимое и невыразимое.
Другой известный представитель баденской школы, Генрих
Риккерт (1863—1936), развивая идеи Виндельбанда, выделял два
основных метода научного познания: генерализирующий (т. е.
обобщающий) и индивидуализирующий. Им соответствуют два ти-
па наук — естественные и исторические. История обращается к
тому уникальному, что представляет ценность именно как уни-
кальное. Таковы объекты культуры. Их характерная черта состо-
ит в том, что мы всегда воспринимаем их сквозь призму опреде-
ленных ценностей: например, как существенные, интересные,
важные, характерные и т. п. Можно сделать вывод, что для объ-
ектов гуманитарных наук характерна связь с ценностями, тогда
как природа существует без какого бы то ни было отнесения к
ценностям.
Ценности образуют особый мир, независимый и даже проти-
воположный действительности. Хотя они не существуют так, как
298
Часть I. Глава 9
существуют материальные объекты, они имеют значение для че-
ловека.
Поскольку объекты исторической науки обладают ценно-
стью, то и историческое изучение предполагает отнесение своих
объектов к определенным ценностям. Это ставит перед методо-
логией исторического познания самый роковой вопрос: «Если
ценности руководят всем историческим образованием понятий,
то можно и должно спросить, мыслимо ли когда-либо исклю-
чить произвол в исторических науках» [Риккерт, 1998, с. 122].
В самом деле, объективность исторического описания зависит,
таким образом, от того, признает или не признает ценности, на
которых основано это описание, круг людей, которые читают
исторические сочинения. «Итак, единство и объективность наук
о культуре обусловлены единством и объективностью нашего
понятия культуры, а последние, в свою очередь, — единством и
объективностью ценностей, устанавливаемых нами». Понятно,
что написание всемирной истории также должно опираться на
какую-то систему ценностей. В самом деле, как же иначе может
осуществляться отбор материала для нее, как не по некоторым
критериям важности, характерности, яркого проявления челове-
ческого величия ит. п.?
Риккерт не обсуждает вопрос о том, как будет выглядеть ис-
торическая наука, если в ней появятся курсы всемирной исто-
рии, опирающиеся на разные системы ценностей. Он живет во
времена безусловного европоцентризма в сфере теоретической
мысли. Однако он спрашивает себя, во что превратится совре-
менная — по предположению объективная — история, если ко-
гда-нибудь система ценностей, принимаемая человечеством, ра-
дикально изменится. Ответ его заключается в том, что, если слу-
чится подобное, невозможно будет говорить и об объективности
естествознания: «Ведь и естествознание представляет собою ис-
торический продукт культуры» [Там же, с. 128]; естествознание
опирается на признание теоретической ценности научной исти-
ны. А это признание и выработка понятия научной истины, пу-
тей ее достижения и обоснования являются продуктами истори-
ческого развития человеческой культуры. Поэтому, говорит
Риккерт, если само естествознание опирается на определенную
систему ценностей, которую оно считает объективной, то «по ка-
кому праву будет оно отрицать научное значение за историей
Других частей культуры? Естественно-научная точка зрения ско-
299
Философия науки
рее подчинена исторической и точке зрения наук о культуре, так
как последняя значительно шире первой. Не только естествозна-
ние является продуктом культурного человечества, но также и
сама «природа» в логическом смысле есть не что иное, как теоре-
тическое культурное благо...» [Там жё\.
Смысл этого утверждения заключается в том, что «природа»,
изучаемая естественными науками, также есть ценность, являю-
щаяся продуктом развития культуры и теоретического конструи-
рования1. Сейчас ее изучение представляется вполне объектив-
ным. Но представим себе, что когда-нибудь система ценностей
человечества радикально изменится (допустим, оно решит вер-
нуться к матери-природе или примет какую-то новую религию).
Тогда человечество с возмущением отвергнет все написанное ев-
ропейскими историками Нового времени как продукт их узости
и предрассудков. То есть субъективность всей исторической нау-
ки станет для них очевидна. Но в таком случае человечество
вполне может отвергнуть и результаты естественных наук, ус-
мотрев в них продукты столь же узкого и недалекого вйдения
природы, т. е. и естественные науки будут выступать для людей,
отвергающих основополагающие ценности новоевропейской
культуры, как сугубо субъективные. Таким образом, оказывает-
ся, что современные науки о культуре и естествознание «сидят в
одной лодке», зависят от одной системы ценностей, и потому ес-
тественные науки не вправе отрицать объективность историче-
ской науки из-за связи последней с ценностями.
Э. Кассирер, представитель марбургской школы неокантиан-
ства, рассуждая о методологии наук о культуре, критиковал про-
тивопоставление номотетического и идиографического методов.
С его точки зрения, объектами наук о культуре являются формы
и стили. Каждой культуре присущ свой неповторимый уникаль-
ный стиль, каждая облекает человеческое действие и его продук-
ты в определенные формы. Они выступают априорными основа-
ниями данной культуры и создаваемого ею мира. Культура создает
интерсубъективный мир, в котором участвуют отдельные инди-
виды, принадлежащие миру этой культуры. Благодаря этому ин-
дивиды объединяются в общем образе действий (типе поведе-
1 Разумеется, для неокантианца Риккерта природа не может выступать как
простая данность, не зависящая от априорных установок познающего субъекта-
См. подробнее: п. 2.5 и п. 2.7.
300
\ Часть I. Глава 9
ния). Поэтому историко-культурологическое исследование, изу-
чая различные проявления культуры, стремится подвести их под
общее понятие стиля и формы. Целью исследований культуры
является постижение совокупности форм, в которых протекает
человеческая жизнь. Сам Кассирер внес вклад в исполнение
данной задачи в обширном исследовании под названием «Фило-
софия символических форм».
9.3. Герменевтика как философское учение
о человеческом бытии
На дальнейшие дискуссии о герменевтике как методологии
гуманитарного познания оказали существенное влияние идеи
немецкого философа Мартина Хайдеггера (1889—1976), одного
из наиболее влиятельных философов XX в., заложившего осно-
вы учения экзистенциалистов.
Его учение перевернуло традиционные философские пред-
ставления о человеке и о познании1. Классическая философия
видела в человеке главным образом «познающего субъекта» и
отождествляла его с сознанием. Хайдеггер же говорит не о субъ-
екте и не о сознании, но о смертном (и в этом смысле конечном)
человеческом существе. Он выбирает термин Dasein, который
иногда переводят как «тут-бытие» или как «присутствие», что,
наверное, лучше. Выбор данного термина призван подчеркнуть,
что исходной характеристикой человека (мы бы даже сказали,
его судьбой) является то, что он есть «бытие-в-мире». Он «забро-
шен» в определенное место и время, в ситуацию. При этом речь
вовсе не идет о том, чтобы человек «подлаживался» к миру. Нет,
в изображении Хайдеггера человек бросает вызов ситуации, в
которую он заброшен, чтобы сбыться, обрести самого себя, не-
смотря ни на что.
Человек, чье существование является бытием-к-смерти и ко-
торый сознает это, задается вопросом о смысле бытия. Человек
ищет бытие, он открыт бытию, пытается услышать его зов, и эту
открытость Хайдеггер называет пониманием. Поэтому герме-
1 Конечно, сам он при этом выступал наследником достижений предшест-
вующей философской мысли, прежде всего феноменологии Э. Гуссерля и фило-
софии жизни.
301
Философия науки
невтика превращается у него и его последователей из методоло-
гической концепции в учение о человеческом бытии. Что же каса-
ется проблемы «герменевтического круга», то «Хайдеггер отме-
чает, что «круговой» структурой обладает не только
историческое, но и всякое познание вообще. И это по той при-
чине, говорит Хайдеггер, что понимание (герменевтика) состав-
ляет онтологический базис самого человеческого существова-
ния... Бытие есть круг, а потому и всякое познание тоже проте-
кает как движение в круге. Но к этому кругу Хайдеггер относится
иначе, чем Шлейермахер или Дильтей: он считает, что самое
главное — правильно войти в него, в то время как эти его пред-
шественники стремились решить задачу, как из этого круга вый-
ти. Что касается выхода из круга, то Хайдеггер склонен думать,
что такой выход невозможен, да и не нужен» [Гайденко, 1997,
с. 412-413].
Таким образом, понимание выступает не как результат, кото-
рого можно достичь и успокоиться. Оно возможно только как
постоянное усилие понять, т. е. сохранять открытость навстречу
понимаемому. Без такого усилия нет понимания.
В настоящее время герменевтика существует в двух ипоста-
сях. С одной стороны, сохраняется традиция, для которой герме-
невтика выступает методологией интерпретации текстов. С дру-
гой стороны, герменевтика стала влиятельным течением фило-
софии XX в. Самыми видными ее представителями являются
Ганс-Георг Гадамер (1900—2002) и Поль Рикёр (1913—2005). Для
обоих герменевтика есть нечто большее, чем методология истол-
кования текстов, потому что она является учением о человеке, его
отношении к миру и к другим людям. Это обусловлено тем, что че-
ловеческое существование неразрывно связано с языком. Чело-
век не просто говорит с помощью языка об окружающем его ми-
ре или общается с другими людьми. Дело в том, что мир и другие
люди даны человеку сквозь призму языка. «Человек, живущий в
мире, — говорит Гадамер, — не просто снабжен языком как не-
коей оснасткой — но на языке основано и в нем выражается то,
что для человека вообще есть мир. Для человека мир есть «тут» в
качестве мира; ни для какого другого живущего в мире существа
мир не обладает подобным тут-бытием. Однако это тут-бытие
мира есть бытие языка... Не только мир является миром лишь
постольку, поскольку он получает языковое выражение — но
подлинное бытие языка в том только и состоит, что в нем выра-
302
Часть I. Глава 9
жается мир» [Гадамер, 1988, с. 512—513]. Поэтому герменевтиче-
ская деятельность становится у Гадамера, как и у Хайдеггера,
способом человеческого существования.
Размышляя над проблемами исторической герменевтики,
Гадамер подчеркивает, что историк сам принадлежит истории и
некоторой культурной традиции. Поэтому, подходя к любому
историческому тексту, он неизбежно исходит из своего «предпо-
нимания», которое можно также назвать «предрассудком». По-
следнее слово, объясняет Гадамер, надо освободить от негатив-
ных ассоциаций, которые прочно связались с ним со времен
Просвещения. Оно на самом деле хорошо выражает то неизбеж-
ное обстоятельство, что любому акту рассудка предшествует
множество интерпретаций (пред-рассудков), которые рассуж-
дающий человек впитывает вместе с языком. Поэтому является
иллюзией упование на то, что историк может воспроизвести в
своем переживании мир людей прошлого. Историк должен осоз-
нать, сколь многое отделяет его от этого мира прошлого! В про-
цессе работы историк корректирует свое понимание, но никогда
не сможет освободиться от него полностью. Нет и не может быть
«чистого», свободного от предварительных интерпретаций и
предрассудков мышления, ибо это связано с самим бытием чело-
века — в истории, в языке, в традиции. Поэтому историческое по-
знание всегда протекает в круге, выйти из которого невозможно.
Поль Рикёр, подобно Гадамеру и Риккерту, тоже подчерки-
вает, что историк или культуролог истолковывает не внутренние
переживания других людей, а общезначимые смыслы. При этом он
подчеркивает, что исследователь социальных структур сам зани-
мает определенное место в этой структуре и усвоил систему ис-
торически сложившихся смыслов и интерпретаций. Не может
быть «чистого» восприятия социальных процессов и отношений
«как они есть сами по себе». Исследователь «понимает» их по-
средством усвоенных им — сознательно или неосознанно — ин-
терпретаций. Его работа будет требовать усилий по осознанию
собственных интерпретативных схем и критическому дистанци-
рованию от них. Но эта работа не может стать завершенной. По-
этому, говорит Рикёр, не может быть универсальной объясняю-
щей социальной теории, свободной от идеологии и от личной
Позиции сторонников этой теории.
303
Философия науки
—------ ;; г,........; , - ' - ; л- ......." ,
9.4. Структуралистское понимание методологии
гуманитарных и социальных наук
В середине XX в. идее, что гуманитарные науки связаны с гер-
меневтическими процедурами, был брошен вызов со стороны
структурализма. Структурализм — это широкое направление в фи-
лософии, культурологии, литературоведении, этнологии, лин-
гвистике, социологии и др. Общей основой служила методоло-
гия структурного анализа, которая была выработана в лингвис-
тике.
Родоначальником структурализма был швейцарский лин-
гвист Фердинацд де Соссюр (1857—1913), который стремился
сделать лингвистику строгой и точной наукой. Он ввел противо-
поставление языка и речи. Язык — это система языковых
средств, а речь является реализацией данной системы в индиви-
дуальных актах говорения и слушания. Конечно, язык и речь вза-
имно предполагают друг друга. Язык составляет условие того,
что речь возможна и понятна. Тем не менее, необходимо их раз-
личение, потому что речь есть нечто неустойчивое и однократное,
а язык — устойчивое и общее. Если речь зависит от индивида, яв-
ляется в какой-то мере его импровизацией, то язык от него неза-
висим и выступает по отношению к индивиду как самостоятель-
ная реальность (имеющая социальную природу), правилам кото-
рой он должен подчиняться.
До Соссюра среди лингвистов преобладало убеждение, что
изучение языка требует исторического подхода. Соссюр же про-
тивопоставил диахронический (изучение исторической эволю-
ции языковых форм) и синхронический (изучение языка как
системы, абстрагируясь от исторических изменений) подход.
Более того, он заявлял о первичности синхронических исследо-
ваний относительно диахронических.
Рассматривая язык как систему знаков, Соссюр подчеркивал
два момента: что связь знака с обозначаемым является произ-
вольной и что знаки как элементы языка взаимно определяют
друг друга. Это означает, что языковые знаки получают значения
только в системе языка. Данное положение Соссюра было раз-
вито в последующем структурализме в тезис о первичности
структуры относительно элементов.
Структурализм в лингвистике бурно развивался с 20-х гг.
XX в. (Н.С. Трубецкой, Р. Якобсон, Э. Бенвенист, Л. Ельмслев и
304
........... ........... Часть I. Глава 9
др.). Постепенно он захватывал литературоведение, этнологию и
другие социальные и гуманитарные дисциплины1.
На становление структурализма как философского направле-
ния и как общей методологии гуманитарных наук повлияли так-
же психоанализ и марксизм. Психоанализ учил об универсальных
психических структурах, скрытых от сознания людей, но опреде-
ляющих их психику и поведение. Марксизм рассматривал общест-
во как систему социальных отношений, в которой есть базис-
ный, определяющий элемент — производственные отношения.
Человек понимался как детерминированный этой системой и сво-
им местом в ней. При этом, поскольку человек осознает себя не
совокупностью общественных отношений, а уникальным инди-
видом, получалось, что индивида определяют ускользающие от
контроля сознания социальные структуры.
К 60-м гг. XX в. структурализм превратился в широкое дви-
жение, имевшее также и философскую составляющую. В фило-
софском плане структурализм явился реакцией на экзистенциа-
лизм. Экзистенциализм учил, что человек свободен, более того,
он «обречен на свободу» и не может отказаться от нее и от выте-
кающей из нее ответственности. Экзистенциализм говорил о
том, что человек сам выбирает и творит свою судьбу. А для
структурализма человек полностью определен безличными
структурами — языка, подсознания, социальными и иными, —
которые структуралисты и стремились выявить и исследовать.
В этом смысле надо понимать зазвучавший во французской фи-
лософской литературе того времени тезис о «смерти человека»:
человек перестал быть абсолютной точкой отсчета, превратив-
шись в элемент, определяемый структурой. Как выглядела в
этом свете методология гуманитарного познания, покажем на
примере работ Клода Леви-Строса (р. в 1908), этнолога, филосо-
фа, страстного пропагандиста структуралистского метода. Он за-
являл, что нет и не может быть двух типов наук, а есть один на-
стоящий научный подход, и его используют точные естествен-
ные науки. Гуманитарные науки, чтобы стать настоящими
науками, должны перестать быть гуманитарными. Для этого им
надо перейти от попыток понять человека и продукты его твор-
чества к изучению структур. Ссылаясь на достижения структур-
ам., например, интересную работу выдающегося отечественного филоло-
Га-фольклориста В.Я. Проппа (1895—1970) «Морфология сказки». Л., 1928.
305
Философия науки
; г , ' -- - , / , , г:/;',,, "г " , ,, ,- -
ной лингвистики, Леви-Строс утверждал: «Лишь она одна, без
сомнения, может претендовать на звание науки, потому что ей
удалось выработать позитивный метод и установить природу
изучаемых ею явлений» [Леви-Строс, 1985, с. 32].
Структуры, по убеждению Леви-Строса, характеризуются не
осознаваемыми людьми, но управляющими их поведением
принципами, прежде всего принципом бинарных оппозиций.
Поясним это на примере осуществленного Леви-Стросом ана-
лиза систем родства и мифов первобытных племен. Системы
родственных отношений (типа: «отец/сын», «дядя/племянник»,
«муж/жена», «брат/сестра») и связанные с ними обычаи и ритуа-
лы рассматриваются Леви-Стросом как образующие систему.
Система управляется бинарными оппозициями характеристик
«близкие, теплые/дистанцированные, холодные». Эти характе-
ристики распределяются таким образом, что у племен, в которых
отношение «отец/сын» является дистанцированным, отношение
«дядя с материнской стороны/племянник» оказывается, напро-
тив, близким, фамильярным. Если у некоторого народа принято,
чтобы отношение «брат/сестра» было очень близким и теплым,
то у них же дистанцированным (конфликтным, недоверитель-
ным) является отношение «муж/жена». Наоборот, если принято,
чтобы отношение «муж/жена» было очень теплым и задушев-
ным, то у тех же народов отношения братьев и сестер прохлад-
ные, дистанцированные [Там же, с. 37—51].
В таком же ключе Леви-Строс анализировал мифы. Он со-
брал и классифицировал огромное число мифов, чтобы выявить
структурные инварианты, подчиняющиеся той же логике бинар-
ных оппозиций (сырое/приготовленное, мужское/женское,
друг/враг, избыток/недостача и т. д.). Например, различные вер-
сии мифа об Эдипе организованы вокруг оппозиции: избыточ-
ная интенсификация родственных связей (женитьба на матери) /
недооценка родственных связей (убийство отца).
Смысл мифа, согласно структурализму, определяется не от-
дельными элементами содержания, а способом их комбинации.
Выделяя в мифах бинарные оппозиции, медиаторы1, устойчивые
схемы трансформаций и замещений объектов в определенных
'Медиаторы — посредники. Например, в случае оппозиции «небо/зеМ-
ля» роль медиатора часто играло мифологическое «мировое дерево», уходяШее
корнями в землю, а вершиной — в небо.
306
.........___.............. ..............Часть I. Глава 9
позициях другими объектами, Леви-Строс оказывается в состоя-
нии записывать структурные формулы мифов.
Бинарные оппозиции, которым подчинены мифы и социаль-
ные структуры первобытных племен, управляют мышлением че-
ловека (может быть, и современного), хотя человек не осознает
этого. «Говорящие субъекты, производящие и передающие ми-
фы, — разъясняет Леви-Строс, — если и осознают их структуры
и способ действия, то лишь частично и не непосредственно.
С мифами дело обстоит так же, как и с языком: говорящий субъ-
ект, который станет сознательно применять фонологические и
грамматические законы (при условии, что он обладает необхо-
димыми знаниями и навыками), почти тут же потеряет нить сво-
его рассуждения. Точно так же использование мифологического
мышления требует, чтобы его свойства оставались скрытыми...
Анализ мифов не направлен и не может быть направлен на то,
чтобы показать, как мыслят люди. ...Мы пытаемся показать не
то, как люди мыслят в мифах, а то, как мифы мыслят в людях без
их ведома. И может быть, стоит пойти еще дальше, абстрагиру-
ясь от всякого субъекта и рассматривая мифы как в известном
смысле мыслящие сами себя. Потому что речь здесь идет не
столько о том, что есть в мифах (не будучи при этом в сознании
людей), сколько о системе аксиом и постулатов, определяющих
наилучший возможный код, способный придать общее значение
бессознательным продуктам, являющимся фактами разумов, об-
ществ и культур, наиболее удаленных друг от друга» [Ле-
ви-Строс, 2000, с. 20—21].
Жан Лакан (1901—1981), французский психиатр, основатель
структурного психоанализа, исходя из характерной для структу-
рализма посылки о не осознаваемых субъектом структурах, де-
терминирующих сознание и поведение, рассматривал бессозна-
тельное как язык. То есть бессознательное, о котором говорит
психоанализ, объявлялось им системой взаимосвязанных и
взаимоопределяемых элементов. Исследуя метафорические и
Метонимические1 структуры языка, Лакан стремился открыть
структуру бессознательного.
•Метонимия — оборот речи, заменяющий одно слово другим в силу
сМежности понятий, например, «лес поет» вместо «в лесу поют птицы»; «зеленый
1вУм» вместо «шум зеленого леса».
307
Философия науки
Структуралисты-литературоведы (например, Р. Барт) подходи-
ли к анализу литературных текстов с целью выявить собственную
структуру текста, не зависимую от намерений его автора. Отсюда —
тезис о «смерти автора»: в тексте сами собой, помимо автора, реа-
лизуются принципы существования символических систем.
В рамках структурализма были проведены интересные иссле-
дования и достигнуты важные результаты в конкретных дисцип-
линах. Но в то же время обнаружились и пределы этого подхода.
Критики указывали на натянутость или произвольность многих
структуралистских объяснений. Разочарование в претензиях
структурализма привело к появлению постструктурализма. Мно-
гие его представители сами являются бывшими структуралиста-
ми (Ж. Деррида, Р. Барт, М. Фуко и др.). В центре внимания
постструктурализма оказываются несистемные, уникальные яв-
ления, разрушающие любые постулируемые структуры, или мо-
менты исторических модификаций структур.
Сейчас в методологии гуманитарного познания преобладает
более мягкий и гибкий подход. Используются и структуралист-
ский метод, и герменевтические процедуры; синхронические ис-
следования сочетаются с диахроническими.
Этому способствует и переосмысление статуса «структуры».
Так, У. Эко1 подчеркивает, что структуры, воссоздаваемые в ра-
ботах литературоведа, культуролога, историка искусств, являют-
ся лишь методологическим инструментом исследователя, и их не
следует отождествлять с самим исследуемым произведением
(литературы или искусства). Выявление структур в произведе-
нии оставляет для исследователя свободу выбора, ибо в любом
произведении можно выделять разные структуры. И в то же вре-
мя истинное произведение искусства всегда является отступле-
нием от норм (соответственно и от описанных исследователями
структур). Структуралистское исследование сохраняет за собой
все права, но остается открытым, потому что исследование
структур создает только фон для того, чтобы уловить самое уни-
кальное в произведении искусства.
'Умберто Эко (р. 1932) — выдающийся современный семиотик, эстетик,
культуролог, специалист по истории Средних веков. Свои идеи относительно
языка, культуры, истории он воплощал не только в теоретических работах, но и в
романах. Последние получили широкую известность и переведены на многие
языки, в том числе и на русский. Назовем «Имя розы», «Маятник Фуко», «Бауда-
лино».
308
Часть I. Глава 9
9.5. Мишель Фуко: «игры истины» и «власть—знание»
Одной из тенденций постструктурализма является рассмот-
рение вместо власти анонимных структур — реальных властных
отношений. Власть функционирует на всех уровнях отношений
в обществе. Именно она порождает те якобы анонимные струк-
туры, которые, оставаясь неосознанными, управляют текстами,
речью, поведением человека. Такова, например, позиция Мише-
ля Фуко (1926-1984).
В центре внимания Фуко находились науки о человеке. Это
не совсем то же, что гуманитарные науки, ибо науками о челове-
ке являются также медицина или психиатрия, однако идеи Фуко
наложили свой отпечаток и на методологию гуманитарного по-
знания.
Фуко принадлежит одна загадочная фраза о том, что в буду-
щем, когда изменится характер познания и культуры, «человек
исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»
[Фуко, 1977, с. 487]. Как нам понять столь экстравагантное ут-
верждение? Речь идет о том, что «человек» — это не «вещь сама
по себе», а то, что мы сейчас вкладываем в это понятие. Отсюда
мы сможем понять утверждение Фуко, что «человек» возник в
определенную историческую эпоху. А «гуманитарные науки по-
явились в тот момент, когда в западной культуре появился чело-
век...» [Там же, с. 440]. Соответственно, когда эта эпоха закон-
чится и сложится новая, «человек исчезнет».
Но почему мы должны думать, что эта эпоха закончится
исчезновением ее основных представлений? Не является ли ка-
ждая последующая эпоха в развитии человеческой мысли даль-
нейшей разработкой понятий и идей, которые удалось развить
предшествующей эпохе? С точки зрения Фуко дело обстоит со-
вершенно не так. Отдельные эпохи человеческой культуры обла-
дают своими собственными структурами, в рамках которых опре-
деляются все принадлежащие им понятия и представления. Эти
структуры каждый раз определяют условия возможности мне-
ний, учений, проблем и дискуссий.
Они возникают в истории и через некоторое время исчезают
без следа, уступая место другим структурам, в рамках которых те
*е слова (например, человек, язык, мышление, безумие и др.)
будут означать уже нечто иное.
309
Философия науки
Фуко является страстным защитником утверждения, что ис-
тория идей и знаний является дискретной (дисконтинуальной,
разрывной). В философии науки родственный подход представ-
лен, например, в книге Т. Куна «Структура научных революций»
(см. п. 6.3). У Куна история науки предстает не как непрерывное
развитие и приращение определенных традиций, но как смена
периодов кумулятивного развития и научных революций, в ходе
которых меняются теории, образцы решения проблем, преобра-
жаются методологические нормативы, картины мира и т. д.
Идею разрывной истории знания Фуко проиллюстрировал
значительным массивом собственных историко-научных иссле-
дований. Они были посвящены становлению различных дисцип-
лин, изучающих человека, — клинической медицины, психиат-
рии, сексологии, социологии. Все названные дисциплины сложи-
лись в XIX в. и вырабатывали определенный взгляд на человека.
Исследуя эти процессы, Фуко призывал историков познания как
можно осторожнее обращаться с понятиями типа «традиция»,
«влияние», «развитие» и т. п. Он подчеркивал значение таких по-
нятий, как «разрыв», «прерывность», «порог», «трансформация»,
для методологического багажа историка знания.
Фуко призывал освободиться от понятий, синтезирующих
многообразие исторических данных в континуалистских поня-
тиях. Все рассуждения, основанные на таких понятиях, надо по-
ставить под вопрос. Например, рассуждения о средневековой
политике или литературе, об аристотелевском понимании науки
и т. п. Действительно ли можно выделить в Средние века или в
Античности явления, к которым эти понятия приложимы столь
же успешно и на тех же основаниях, что и к современным поли-
тике, литературе, науке?
Или, предположим, исследуется история психиатрии и для
нее изыскиваются «истоки» в учениях средневековых или антич-
ных авторов. Но нельзя, твердит Фуко, назвать средневековое
рассуждение или рассуждение античного автора психиатриче-
ским. Фуко показывает, что психиатрия и понятие психического
заболевания конституировалось только в XIX в. Применение
данного термина для описания более ранних представлений не-
оправданно. В работе «История безумия в классическую эпоху»
Фуко показывал, как формировалась психиатрия и современное
понятие психической болезни. Для людей XVII—XVIII вв. не сУ'
ществовало эквивалента современного понятия психически
310
Часть I. Глава 9
больного. Существовало общее представление о неразумии, объ-
единяющее все виды отклоняющегося поведения: бродяжниче-
ство, попрошайничество, венерические болезни, колдовство и
т. д. Не ощущалось никакой необходимости разделить эту неоп-
ределенную массу девиантов на группы. Так что можно сказать,
что «психически больной» как определенная культурная реаль-
ность и медицинская данность есть продукт новейшего времени.
Если признать, что психиатрия и само понятие психического за-
болевания суть продукты XIX в., то встает очень тонкий вопрос:
как выделить и в каких понятиях описать, не впадая в анахро-
низм, предшествующие практики и типы знания, на базе кото-
рых сложилась психиатрия?
Фуко рассматривает историю западноевропейских знаний о
человеке как историю различных «игр истины». Он вводит это
понятие, чтобы подчеркнуть ту принципиальную установку сво-
ей методологии, что правила, нормы, стандарты, цели, критерии
познавательной деятельности, определение ею своего предмета
и представления о субъекте познания (т. е. о том, за кем и на ка-
ком основании признается право изрекать истину) в разные
мыслительные эпохи являются разными.
Историк знания должен специально исследовать, как, когда,
при каких конкретных условиях возникали и модифицировались
те или иные правила.
По мере того как расширялся круг исследований Фуко, для
него становилось все более очевидным, что в интересовавших
его «играх истины» важную роль играют отношения власти. На-
пример, в той «игре истины», каковой является современная ме-
дицина, субъектом познания признается врач, получивший про-
фессиональную подготовку. Только он способен знать истину о
состоянии больного; за больным или его близкими такая спо-
собность безусловно отрицается. Как обладающий знанием, врач
имеет власть над больным. В современной культуре сформиро-
валось представление о том, что человеческое тело должно быть
доступно для исследования (ср. устанавливаемые государством
Правила обязательных диспансеризаций). То есть человеческое
Тело существует как объект познания, но не для пребывающего в
этом теле «Я», а для обладающего определенным сертификатом
И облеченного соответствующим правом врача. Генезис этой по-
знавательной диспозиции Фуко прослеживал в работе «Рожде-
НИе клиники».
311
Философия науки
Исследования по истории психиатрии, медицины, пенитен-
циарной системы и представлений о человеческой сексуально-
сти приводили Фуко к выводу, что начиная с XIX в. складывает-
ся целый массив «игр истины» (Фуко также употребляет термин
«дискурсивные практики»), которые не просто делают человека
объектом познания, но воспитывают его определенным образом и
закладывают теоретические и методологические основы наук о
человеке. Эти практики неразрывно связаны с отношениями вла-
сти. Однако отношения власти претерпевают в истории мута-
ции, как и все остальное. Поэтому надо подчеркнуть, что гене-
зис современного «человека» Фуко связывает с вполне опреде-
ленными формами власти.
Фуко показывает, что в XVIII—XIX вв. в западном обществе
складывается особый тип власти, который он называет «власть
над жизнью (biopouvoir)». Такая власть функционирует как по-
стоянно действующий и стремящийся к максимальной эффектив-
ности механизм всеобъемлющего контроля. Новые технологии вла-
сти создавались постепенно и непреднамеренно сразу в разных
сферах общественной жизни. Подобной технологией власти была
«дисциплинарная власть», понятие о которой Фуко подробно раз-
вивает в книге «Надзирать и карать: рождение тюрьмы».
Одной из характерных черт этого типа власти является тен-
денция помещения индивидов в замкнутом пространстве, под-
чиненном определенной цели, в котором действуют определен-
ные законы и правила (пространства о «дисциплинарной моно-
тонности»). Это психиатрические больницы, работные дома для
бродяг и нищих, клиники, колледжи, казармы и т.п. Все эти
формы «заключения» возникают примерно'одновременно. Про-
странство внутри тюрьмы, казармы, больницы, психиатриче-
ской лечебницы, учебного заведения заполняется людьми, кото-
рым вменяется в обязанность — под страхом наказания того или
иного рода — подчиняться правилам внутреннего распорядка,
т. е. соблюдать требуемую данным учреждением дисциплину-
Человек во всех заведениях такого типа несвободен. Он — объ-
ект отношения власти, которое пронизывает все дисциплинар-
ное пространство.
Принципы этой дисциплины, в частности размещение лю-
дей в таких пространствах (что равнозначно их классификации),
воплощают представления властной инстанции о своих функци-
ях и своих объектах. Следовательно, здесь мы имеем дело уже не
312
Часть I. Глава 9
просто с властными отношениями, но с особым образованием,
для которого Фуко ввел термин «власть—знание». Это такая
власть, которая неразрывно связана со знанием (ср. власть врача
над пациентом). Это знание, но такое знание, которое существу-
ет только в контексте определенных властных отношений. Если
верно, что любое знание само формирует свой предмет, то же са-
мое делает и власть. Она изучает подчиненных ей людей не так,
как они есть сами по себе, а как они существуют в определенных
дисциплинарных институтах (ср., например, психология школь-
ного возраста; изучение преступников в тюрьмах; наблюдение за
сумасшедшими в лечебницах; изучение болезней в клиниках).
Но это не осознает ни сама власть, ни объекты ее изучения.
Власть—знание развивается и обогащается путем сбора инфор-
мации и наблюдений за людьми как объектами власти. Недаром
одной из важнейших функций всех дисциплинарных институтов
современного общества является сбор статистики и создание сво-
дов знаний о своих объектах — деятельность одновременно и по-
знавательная, и контролирующая. Власть—знание проявляет себя
в форме знания, включенного в существование и воспроизводст-
во властных структур.
Однако «власть над живым» реализуется не только в дисцип-
линарных институтах. В первом томе «Истории сексуальности»
(см. [Фуко, 1996]) Фуко описывает систему власти, вышедшую за
пределы любых дисциплинарных институтов и пронизывающую
все общество. Она выстраивается вокруг человеческой сексуаль-
ности. Вообще, утверждает Фуко, сексуальность — это изобрете-
ние XIX в., в том смысле, что данная эпоха породила совершен-
но уникальное представление о сексуальности как скрытом в
недрах человеческого существа угрожающем начале, пронизы-
вающем всю психику. Это представление послужило основой
Для формирования целого веера практик — медицинских, пси-
хиатрических, педагогических, которые оказались также и тех-
нологиями власти. Они охватывали все, что касается человечес-
кого тела.
Социальные и гуманитарные науки, утверждает Фуко, наря-
ДУ с другими науками о человеке во многом опираются на ин-
формацию, собранную в рамках дисциплинарных институтов, и,
более того, они не свободны от понимания человека, выработан-
ного в рамках «власти над живым».
313
Философия науки
9.6. Возвращение к вопросу об отличии
гуманитарного знания от естественно-научного
Мы начали эту главу с рассуждений о том, что гуманитарное
знание принципиально отличается от естественно-научного.
Мы рассмотрели искания в области методологии гуманитарных
наук. Теперь самое время вспомнить, что, пока они осуществля-
лись, изменилась и философия точного естествознания. Поэто-
му вопрос о специфике гуманитарного познания приобретает
новое звучание. Некогда требовалась защита права гуманитар-
ных наук на то, чтобы отличаться от естественных и тем не менее
быть науками, потому что, как считалось, естественные науки
владеют методами (экспериментирование, математическая обра-
ботка), которые делают их утверждения объективными и неоп-
ровержимыми, тогда как гуманитарные науки не пользуются
этими методами.
Однако выводы постпозитивистской философии науки по-
казывают, что, при всем принципиальном отличии их предмета,
гуманитарные науки не «хуже» и не «ниже» точного естествозна-
ния.
В самом деле, если процедура интерпретации, характерная
для гуманитарных наук, остается в герменевтическом круге, то
не остается ли естественно-научная теория в круге обоснования
гипотезы экспериментом, а эксперимента — гипотезой?
Если гуманитарное познание и понимание человека в ходе
истории претерпевают резкие исторические деформации и пере-
стройки, при которых меняется само понимание предмета, то
Т. Кун представляет развитие точных естественных наук как по-
следовательность несоизмеримых между собой парадигм.
Если позиция исследователя-гуманитария неизбежно «нагру-
жена» его «предпониманием», обусловленным его собственной
жизненной позицией, психологией, социальными интересами и
пристрастиями, то современная философия науки показывает,
что идеи ученых и решения научного сообщества испытывают
немалое влияние «предвзятых позиций», интересов, мировоззре-
ния. Например, Фейерабенд показывает, как мировоззрение
возрожденческого гуманизма подталкивает Галилея к призна-
нию истинности коперниканства еще до того, как у него оказы-
ваются свидетельства в пользу гелиоцентризма.
314
, ____ ........... ..................„„...... Часть I. Глава 9
Постпозитивистская философия науки показывает, что тео-
рии точного естествознания являются человеческими конструк-
циями, несущими печать той эпохи и той культуры, которая их
породила. Поэтому становится ясным, что естествознание и гу-
манитаристика должны существовать и развиваться бок о бок, не
Претендуя на приоритетность в плане объективности.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Барт Р. Избр. работы. М., 1989.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Виндельбанд В. История и естествознание: Речь при вступлении в ректор-
скую должность. М., 1901.
Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный идеализм //
Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. М., 1995.
Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.,
1988.
Гайденко ПЛ. Философская герменевтика. От Фр. Шлейермахера к Г. Гада-
меру // Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997. С. 391—447.
Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория лите-
ратуры XIX—XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987.
Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10.
Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1—3. М., 2002.
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 195—301.
Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991.
Леви-Строс К. Мифологики. Т. 1. Сырое и приготовленное. М.; СПб., 2000.
Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985.
Микешина Л.А. Философия науки. М., 2005.
Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002. Гл. 2, 5, 8.
Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995.
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.,
1996.
Фуко М. Рождение клиники. М., 1998.
Фуко М. Слова и вещи. М., 1977.
Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. М., 2004. Раз-
дел Г.
вопросы
1. Что является объектом изучения гуманитарных наук?
2. Что такое герменевтика и герменевтический круг?
3. Благодаря чему достижим выход из герменевтического круга, со-
гласно учениям Шлейермахера и Дильтея?
315
Философия науки
4. Как трактовали различия естественных и гуманитарных наук
неокантианцы баденской школы?
5. Как изменяется понятие герменевтики у Хайдеггера и его после-
дователей? Какие изменения претерпевает в связи с этим пред-
ставление о герменевтическом круге и возможности выхода из
него?
6. Как структурализм представляет себе предмет гуманитарного по-
знания?
7. Структуралистские исследования Леви-Строса.
8. Как изменяется у Фуко представление о том, что гуманитарные
науки — это науки о человеке?
9. Что значат понятия «игры истины», «власть—знание»?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гайденко П.П. Философская герменевтика. От Фр. Шлейермахера к Г. Гада-
меРУ // Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997. С. 391—447.
Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10.
Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991.
Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002. Гл. 2, 5, 8.
Часть II
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНИКИ
Глава 10
МЕСТО ФИЗИКИ В СИСТЕМЕ НАУК
10.1. Естественные науки и культура
По общему мнению, современная цивилизация носит техно-
генный характер. Это означает, что в системе этой цивилизации
наука занимает одно из ведущих мест. Бесспорным является ве-
дущая роль науки (прежде всего естествознания) в развитии ма-
териально-технического базиса современной цивилизации. Все,
что нас окружает, было бы невозможно без развитой системы
научного знания. В отличие от ремесленной техники античного и
средневекового общества современная техника была бы невоз-
можна вне ее научного фундамента. Даже несколько неловко
приводить аргументы в пользу этого тезиса: атомная промышлен-
ность и энергетика, современный транспорт, химическая про-
мышленность, электроника, биотехнология и медицина, телеви-
дение и Интернет и т. д. и т. п. — все это немыслимо без науки.
Признание ведущей роли науки в создании и функциониро-
вании материально-технического базиса цивилизации, по-види-
Мому, не должно вызывать возражений. Горячо обсуждается
(а часто и осуждается) тезис о месте науки в системе культуры.
Приходится встречаться с крайними утверждениями о том, что
Наука вообще чуть ли не враждебна культуре, что она нужна
лишь для функционирования материально-технического базиса
Цивилизации и не должна претендовать на какую-то общекуль-
турную роль.
Попробуем разобраться в этом. На наш взгляд, одним из воз-
можных ракурсов, под которым можно рассматривать развитие
Человечества, является рассмотрение этого развития под углом
3Рения доминирования в общей системе культуры тех или иных
317
Философия науки
мировоззренческих характеристик. На первых этапах такой до-
минантой являлась система религиозно-мифологических пред-
ставлений. Следующим этапом (во всяком случае, для европей-
ской ойкумены) явилась античная цивилизация, для которой та-
кой доминантой можно считать философию. Третий этап связан
с крушением античной цивилизации и наступлением эпохи
Средних веков. Здесь доминантой выступает религиозное (для
европейской ойкумены) христианское мировоззрение.
Уже здесь напрашивается возражение, связанное с обвине-
нием подобного подхода в так называемом европоцентризме: а
где же в этой схеме Древний Восток, Индия, Китай (а можно
еще добавить цивилизацию майи, инков, ацтеков)? Дело в том,
что изложенная выше схема носит, конечно, в достаточной сте-
пени искусственный характер. Это взгляд на предшествующую
историю с точки зрения сегодняшнего дня. С этой позиции со-
временная цивилизация является по своим доминирующим
характеристикам цивилизацией в определенном смысле евро-
пейской. Сказанное отнюдь не следует понимать в смысле отри-
цания самобытности и ценности исламской, китайской, индий-
ской цивилизаций, а лишь в том смысле, что все эти цивили-
зации усваивают и каждая по-своему преломляет ставшие
глобальными характеристики, возникшие и получившие разви-
тие в рамках европейской цивилизации.
Эти черты прежде всего связаны с феноменом новоевропей-
ской науки. Вопрос о том, когда возникла наука, часто является
предметом дискуссии. Своими корнями наука уходит в глубокую
древность. Бросая взгляд с позиций сегодняшнего дня, зачатки
науки можно обнаружить и на Древнем Востоке, и в Китае, и в
Индии1. Однако наука в том виде, в каком она существует сего-
дня, — это новоевропейская наука, возникшая в эпоху Галилея и
Ньютона. Великая научная революция XVII в. означала круп-
нейший общекультурный сдвиг. Б. Рассел особо выделяет в ис-
тории человечества именно XVII век, замечая, что в начале этого
века еще пылают костры, на которых сжигают ведьм, а в его кон-
це уже создается первая научная картина мира — выходят нью-
тоновские «Математические начала натуральной философии»-
1 Упомянем здесь широко известную книгу Б.Л. Ван денр Вардена «Пробуж-
дающаяся наука», излагающую математические знания древних египтян и вави-
лонян.
318
Часть II. Глава 10
рискнем допустить, что в рамках очерченной схемы общекуль-
турной доминантой цивилизации Нового времени является пре-
жде всего наука — «орудие высшей ориентировки, — по словам
И.П. Павлова, — человека в окружающем мире и в себе самом».
10.2. Физика как фундамент естествознания
По общепринятому мнению, физика образует фундамент ес-
тествознания. Постараемся раскрыть этот тезис, рассматривая
основные аспекты, в которых обычно употребляется термин
«фундаментальность», и попробуем выделить основные аспекты
фундаментальности физики.
Лингвистическая фундаментальность физики
Естественные науки являются эмпирическими в том смысле,
что их положения основываются на совокупности эмпирических
данных и проверяются путем сопоставления с ними. Следова-
тельно, для них фундаментальное значение имеют высказыва-
ния, описывающие эти данные. В обыденной жизни сообщения
о каком-либо факте суть описания чего-то непосредственно на-
блюдаемого. В физике отчет об экспериментальных фактах обя-
зательно предполагает совокупность теорий, дающих истолкова-
ние тому, что непосредственно констатируется. Еще в конце
XIX в. П. Дюгем отмечал: «Физический эксперимент есть точное
наблюдение группы явлений, связанное с истолкованием этих
явлений. Это истолкование заменяет конкретные данные, дейст-
вительно полученные наблюдением, абстрактными и символи-
ческими описаниями, соответствующими этим данным, на ос-
новании допущенных наблюдателем теорий»1.
Эта черта характеризует прежде всего и по преимуществу фи-
зический эксперимент (причем в сколько-нибудь сложных случа-
ях предполагается использование соответствующих приборов).
Большинство наблюдений, как в физике, так и в других науках,
Носит «приборный» характер, и поэтому не только осознание экс-
периментальных фактов и их связи друг с другом предполагают
Наличие соответствующей теории, но и простое описание того,
1 Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. СПб., 1910. С. 175.
319
Философия науки
что наблюдается, опирается на теоретические представления об
используемых приборах, позволяющее истолковать, например,
трек в камере Вильсона как след определенной элементарной
частицы.
Центральным в развиваемом взгляде является утверждение
существенно физического характера любых используемых при-
боров. Приборов биологических, физиологических, химических
и т. д. не бывает. Любой используемый ученым прибор есть всег-
да в своей основе физический объект и для истолкования своих
показаний требует соответствующих физических теорий. Это
обстоятельство делает язык физики неотъемлемым элементом
языка любой другой естественно-научной дисциплины и может
быть названо лингвистической (языковой) фундаментальностью
физики.
Эпистемологическая фундаментальность физики
(доктрина моно- и полифундаментальности)
Среди разнообразных значений слова «фундаментальность»
можно выделить еще один аспект, связанный с отношением фи-
зики к эмпирическим данным. Как известно, слово «фундамен-
тальность» применительно к науке, как правило, означает разли-
чение наук теоретических, ориентированных на раскрытие зако-
нов, описывающих изучаемый объект безотносительно к его
практическому использованию. В этом смысле справедливо го-
ворить о фундаментальном характере самых различных научных
концепций в физике, химии, биологии, геологии и т. д. На наш
взгляд, целесообразно ввести понятие так называемой эписте-
мологической фундаментальности.
Как уже отмечалось, естественные науки опираются на эм-
пирические данные. На первых этапах развития естествознания
в методологии естественных наук доминировал так называемый
индуктивистский подход, согласно которому наиболее общие
положения естественных наук непосредственно выводятся из
опытных данных путем прямых индуктивных обобщений. Этот
упрощенный взгляд отвергнут современной философией науки-
Это обстоятельство четко сформулировано в ставшем, по суще-
ству, афоризмом тезисе А. Эйнштейна: «Нет логического пути,
ведущего от опытных данных к теории». По выражению Эйн-
штейна, наиболее важные фундаментальные законы науки не
320
Часть II. Глава 10
выводятся из опытных данных, а в лучшем случае лишь «навева-
ются» ими (см. начало гл. 6. — А.Л.)
Рассматривая теперь систему естественно-научных дисцип-
лин, правомерно поставить вопрос: выводятся ли наиболее важ-
ные положения данной дисциплины из каких-либо других науч-
ных концепций, или их единственным оправданием является
ссылка на опытные данные? (Как сказали бы в XVIII в., выво-
дятся ли положения данной дисциплины из другой дисциплины
или выводятся непосредственно из опыта?)
Теперь в связи со сказанным можно ввести понятия моно-
фундаментальности и полифундаментальности. Тезис монофун-
даментальности утверждает, что есть лишь одна фундаменталь-
ная дисциплина, положения которой ни из каких других дисцип-
лин вывести нельзя — они обречены на фундаментальный (в
смысле ниоткуда не выводимый) характер. Концепция полифун-
даментальности предполагает наличие многих фундаменталь-
ных (в указанном смысле) наук.
В реальной истории естественных наук на фундаментальный
статус претендовали (даже лучше сказать не претендовали, а им
реально обладали) физика, химия, биология. Это означает, что
основные положения этих наук оправдывались ссылкой на опыт
и ниоткуда не могли быть выведены. Явно упрощая реальную
историю науки, можно сказать, что первой лишилась фундамен-
тального статуса химия. На сегодня основные особенности хи-
мии объясняются на базе квантовой физики. То, что в XIX в.
рассматривалось как сугубо специфическая особенность химии
(особая сила «химического сродства», валентность, периодиче-
ский закон Менделеева), сегодня получает точное квантово-ме-
ханическое обоснование, если угодно, выводится из квантовой
физики1.
Резюмировать изложенное можно так: химия лишилась фун-
даментального статуса (разумеется, только в указанном здесь
смысле), но приобрела глубокое теоретическое обоснование.
В этом смысле можно сказать, что физика обречена на фунда-
ментальный статус. Даже если допустить, что в будущем появит-
'В гл. 15 делается не столь однозначный вывод. Физика успешно применя-
йся к атомам и фрагментам химических молекул, но при конструировании
Ложных химических соединений химики исходят из своих нефизических сооб-
ражений. Будет ли и эта часть редуцирована к физике, покажет будущее. — При-
дание редактора.
Философия науки 321
Философия науки
ся некая наука, из которой можно будет теоретически вывести
современную физику, то эта гипотетическая наука и будет назы-
ваться новой физикой.
Следует заметить, что изложенное здесь решение вопроса о
статусе химии является дискуссионным, хотя возражения, на
наш взгляд, не носят достаточно убедительного характера.
Явно сложнее обстоит дело со статусом биологии. На сегодня
судьба биологии становится похожей на судьбу химии. В XX в.
произошли радикальные сдвиги в биологии: открытие двойной
спирали ДНК, создание молекулярной генетики, развитие не-
равновесной термодинамики и синергетики — все это позволяет
не просто говорить о важнейших жизненных феноменах на язы-
ке простого описания, а раскрывать их глубокую физико-хими-
ческую основу. Тем не менее вопрос о фундаментальности био-
логии на сегодня не может считаться решенным на уровне,
сопоставимом с химией. Грубо говоря, признание фундамен-
тальности биологии означает признание особого класса биоло-
гических законов, в принципе не могущих быть объясненными
на базе физико-химических законов. На наш взгляд, признание
таких (их иногда называют биотоническими) законов представ-
ляется не очень вероятным.
Подытоживая изложенное, можно сказать, что физика обла-
дает особой фундаментальностью, которую можно назвать эпи-
стемологической. Следует, правда, отметить одну экзотическую
возможность: признать тезис монофундаментальности и наде-
лить такой фундаментальностью не физику, а некую другую дис-
циплину. Скажем, можно настаивать на тех или иных вариантах
организмических концепций и приписывать монофундамен-
тальный статус биологии. Можно утверждать, что основные осо-
бенности любых наук могут быть выведены из неких философ-
ских установок. Все такие построения, конечно, возможны, но
они явно находятся за пределами науки.
10.3. Онтологическая фундаментальность физики
(оппозиция редукционизма и антиредукционизма)
По существу, положения, развитые в предыдущем разделе,
уже касались проблематики, которая будет рассматриваться в
настоящем разделе. Концепция монофундаментальности, о к°'
322
Часть II. Глава 10
торой шла речь, на несколько другом языке может быть названа
концепцией редукционизма, — различие здесь в ракурсе, под ко-
торым рассматривается проблема. В предыдущем разделе она
рассматривалась под эпистемологическим углом зрения, а здесь
будет рассматриваться как проблема онтологическая, т. е. как
проблема, касающаяся строения реальности, так сказать, уст-
ройства окружающего нас мира.
Прежде всего разберемся, чтб следует понимать под редук-
ционизмом. В советской философии эта проблема часто обсуж-
далась в связи с развитой Энгельсом концепцией форм движе-
ния материи. В концепции Энгельса, на наш взгляд, были как
верные моменты, так и неверные. Безусловно верным представ-
ляется тезис о движении как способе существования материи и
выделении различных структурных уровней организации мате-
рии (названных Энгельсом формами движения материи). В диа-
лектическом материализме советских времен основное внима-
ние акцентировалось на подчеркивании качественной специ-
фичности высших форм движения (биологической по
сравнению с химической, химической по сравнению с физиче-
ской). Подчеркивалось, что, скажем, в химической форме дви-
жения физическая форма играет побочную роль, а основное со-
держание поставляется химией. Стремление объяснить главные
особенности химических процессов на базе физических законов
клеймилось как редукционизм, т. е. сведение высшего к низше-
му, сложного к простому, целого к элементам и т. д. Для боль-
шей убедительности редукционизм еще клеймился как механи-
цизм, как сведение всего и вся к механике.
Разумеется, термин «редукционизм» имеет множество разно-
образных оттенков. Ну, скажем, редукционизмом объявлялось
объяснение феномена сознания материальными процессами го-
ловного мозга. Ряд авторов вообще ставил знак равенства между
редукционизмом и материализмом. Мы не будем здесь касаться
всего многообразия оттенков, связываемых в разных контекстах
со словом «редукционизм», а подчеркнем лишь следующее.
В дальнейшем изложении под редукционизмом никак не будет
Пониматься отрицание качественного своеобразия более высо-
ких уровней материальной организации по сравнению с нижеле-
^Щими (и в этом смысле более фундаментальными) уровнями,
вместе с тем редукционизм не довольствуется лишь описанием
этого качественного своеобразия, а ставит задачу его объяснения
и»
323
Философия науки
на основе законов нижележащего уровня. Разумеется, объект хи-
мии (атом и молекула) сложнее элементарных частиц, но его
функционирование объясняется на основе законов, описываю-
щих поведение элементарных частиц. Поэтому редукционизм —
это не отрицание качественного своеобразия, а требование его объ-
яснения. В основе так понятого редукционизма лежит, конечно,
определенная онтологическая предпосылка, а именно иерархи-
ческая структура реальности. Предельно упрощенно формули-
руя основной тезис редукционизма, можно сказать словами Р.
Фейнмана: «Все в мире состоит из атомов. Все может быть опи-
сано на языке движений, колебаний, покачиваний этих ато-
мов»1.
В заключение несколько слов об оппозиции редукционизма
и антиредукционизма (в частности, так называемого холизма).
На наш взгляд (безусловно, дискуссионный и спорный), анти-
редукционизм фиксирует некую целостность, некий качествен-
но своеобразный феномен и дает его первоначальное описание.
В этом его продуктивная роль. Редукционизм всегда требует ид-
ти глубже, попытаться понять целое на основе познания его
элементов — объяснить целостность, а не просто констатиро-
вать ее наличие.
ВОПРОСЫ
1. Каковы доминирующие мировоззренческие характеристики в
общей системе культуры на различных этапах развития человече-
ства?
2. В чем состоит лингвистическая фундаментальность физики?
3. В чем состоит эпистемологическая фундаментальность физики?
4. В чем состоит онтологическая фундаментальность физики?
5. Что такое редукционизм?
1В гл. 13 указывается, что безграничное расширение такой позиции ведет к
мнимым парадоксам квантовой механики. Во всяком случае человеческую ДвЯ'
тельность, и практическую, и мыслительную, не следует сводить к «покачива-
нию этих атомов». Впрочем, многие безгранично продолжаемые идеи ведут к аб-
сурду. В гл. 15 и 16 развивается иной взгляд на редукционизм. — Примечание ре'
доктора.
Глава 11
МАТЕМАТИЗАЦИЯ ФИЗИКИ1
г, л "- :/• ; А’ -с.'- ''" лл -г ” — —
Нередко под математизацией науки понимают «использова-
ние математического языка не только в физике, но и в других
науках о природе» [Овчинников, 1996, с. 83], а также внедрение
математических методов в области, ранее весьма далекие от их
влияния на экономику, медицину, педагогику, психологию,
лингвистику и даже теорию искусства. В настоящей главе мы
кратко рассмотрим математизацию именно физики и связанных
с ней наук, относящихся к точному естествознанию. Фактически
именно в этой сфере накоплен огромный материал, имеются бо-
гатая традиция, восходящая к Античности, и ряд фундаменталь-
ных философско-методологических проблем.
Математизацию науки мы будем понимать как применение
математики для теоретического представления научного знания.
При этом речь пойдет не только о вспомогательном, чисто вы-
числительном аспекте, но и о таком понимании роли математи-
ки, когда она является «главным источником представлений и
принципов, на основе которых зарождаются новые теории»
[Дайсон, 1967, с. 112].
В значительной степени наше рассмотрение проблемы мате-
матизации будет носить исторический характер: от Античности
До современности.
Первую математическую концепцию природы создали пифа-
горейцы («все вещи суть числа»). Платон продолжил пифагорей-
скую традицию, выдвинув на первый план геометрию («Бог всег-
да является геометром»). Теория материи Платона — это теория
Правильных многогранников. Аристотель не отрицал значения
Математики в познании природы, но полагал научные понятия
*В основу этого текста положена статья автора «Математизация науки»,
^писанная для подготавливаемой к изданию «Энциклопедии по философии
Иауки».
325
Философия науки
извлеченными из реального мира абстракциями, которые могут
быть полезными при описании явлений. Позже, в эллинистиче-
ский период, Евклид создал первую аксиоматико-дедуктивную
систему геометрии, ставшую основой математизации античных
оптики, статики и гидростатики (Евклид и Архимед) и астроно-
мии (Птолемей). Впрочем, геометрия «Начал» Евклида и сама по
себе была физической теорией, так как рассматривалась ее соз-
дателями как результат изучения реального пространства. Но
уже в трудах Архимеда по теории рычага и плаванию тел геомет-
рия используется как готовая математическая структура. По су-
ществу, с Архимеда пифагорейская максима «все есть число» за-
меняется на принцип «все есть геометрия» [Погребысский, 1970,
с. 26]. Античное наследие было сохранено и приумножено (в
плане математизации научного знания) арабскими учеными и
средневековыми мыслителями. Р. Бэкон, например, считал, что
в основе всех наук должна лежать математика. Наиболее впечат-
ляющим достижением математического подхода к астрономии
стала гелиоцентрическая система Н. Коперника. В Новое время
и корифеи точного естествознания (И. Кеплер, Г. Галилей,
X. Гюйгенс, И. Ньютон), и философы (Ф. Бэкон, Р. Декарт,
Г.В. Лейбниц) считали математику (геометрию) «прообразом
мира» (ср. с лейбницевским: «Cum Deus calculat, fit Mundus», т. e.
«Как Бог вычисляет, так мир и делает»). Однако развитие меха-
ники и гидростатики в XVI в. (особенно С. Стевином) и в XVII в.
(Г. Галилеем и Б. Паскалем) демонстрирует сохранение архиме-
довского типа математизации: евклидова геометрия продолжает
оставаться определяющей математической структурой.
Ньютон в «Математических началах натуральной филосо-
фии» говорил о «подчинении явлений законам математики», и,
хотя он использовал язык геометрии, для формулировки законов
механики ему пришлось создать дифференциальное и инте-
гральное исчисления. Впервые был осуществлен прорыв за пре-
делы евклидовой геометрии как математической структуры фи-
зики: благодаря усилиям Ньютона, Лейбница, К. Маклорена,
Л. Эйлера классическая механика предстала как теория обыкно-
венных дифференциальных уравнений второго порядка. ПрИ
этом важнейшую стимулирующую роль в возникновении и ра3'
витии математического анализа и теории дифференциальны^
уравнений сыграли задачи классической механики.
326
Часть II. Глава 11
В дальнейшем были выявлены и другие математические
Представления механики, положившие начало феномену анали-
тической механики (Ж.Л. Лагранж), нацеленному на изучение
математических структур классической механики [Визгин, 1986].
Оказалось, что ее можно сформулировать как вариационное ис-
числение (Эйлер, Лагранж, У.Р. Гамильтон, К.Г. Якоби, М.В. Ост-
роградский), как теорию дифференциальных уравнений с част-
ным производным первого порядка (Гамильтон, Якоби, С. Ли),
как риманову геометрию (Якоби, Р. Липшиц, Г. Дарбу, Г. Герц),
как симплектическую геометрию (Лагранж, Гамильтон, Остро-
градский, Ли). Эти отождествления оказали решающее воздейст-
вие на развитие математики в XIX в. и выявили структурно-ма-
тематическую мощь классической механики (в соответствии с
«математическим» критерием эффективности исследователь-
ской программы И. Лакатоса мощь программы определяется
степенью ее влияния на развитие математики; этот критерий
имеет родство с критерием «хорошей» теории Р. Фейнмана, со-
гласно которому качество теории определяется возможностью ее
представления на языке различных эквивалентных математиче-
ских формализмов). Лагранжев, гамильтонов и другие форма-
лизмы аналитической механики обнаружили удивительную жи-
вучесть, сыграв важную роль в создании квантовых и релятиви-
стских теорий XX в. Кстати говоря, аналитическая механика
стала первым образцом математической физики, которая, в от-
личие от теоретической физики, во главу угла ставит исследова-
ние математических структур физики.
Классико-механическая программа (и соответствующая кар-
тина мира) открыла описанный выше способ математизации
точного естествознания, который, несмотря на значительное ко-
личество приверженцев — от П.С. Лапласа до Г. Гельмгольца и
Дж. Максвелла, оказался весьма ограниченным. Физика (как
Наука о свете, теплоте, электричестве и магнетизме), которая, за
Небольшим исключением, до начала XIX в. не имела теоретиче-
ского оформления, подобного классической механике, потребо-
вала привлечения нового типа математизации. Решающим пово-
ротом стало интенсивное использование математического ана-
лиза для представления элементарных феноменологических
соотношений в теоретической форме, не сводящейся к класси-
ческой механике. На этом пути в первой четверти XIX в. были
сосаны (в основном усилиями французских ученых С.Д. Пуас-
327
Философия науки
сона, Ж.Б. Фурье, А.М. Ампера, О. Френеля, С. Карно и др.) ма-
тематическая электростатика, теория теплопроводности, эле-
менты термодинамики, электродинамика, волновая оптика
[Визгин, 1995].
В 1860—1870-х гг. создание классической физики, сопряжен-
ное с ее математизацией, в основном было завершено (теория
электромагнитного поля Максвелла, термодинамика В. Томсона
и Р. Клаузиуса, основы статистической механики Максвелла и
Л. Больцмана). Математический анализ, и прежде всего теория
дифференциальных уравнений с частными производными вто-
рого порядка, оставался основной математической структурой
классической физики. Но вместе с тем важными дополнитель-
ными инструментами ее математизации стали векторное исчис-
ление и теория вероятностей. В кристаллографии получила при-
менение теория групп. К концу XIX в. выявилась фундаменталь-
ная особенность основных дифференциальных уравнений
классической физики — их вариационная структура, т. е. воз-
можность их получения на основе вариационного исчисления
(из вариационных принципов, прежде всего принципа Гамиль-
тона). Забегая вперед, подчеркнем, что и фундаментальные диф-
ференциальные уравнения движения (поля), фигурирующие в
квантовой механике, общей теории относительности, квантовой
теории поля и элементарных частиц (т. е. уравнения Шрёдинге-
ра, Эйнштейна, Дирака и др.), как выяснилось впоследствии,
также выводимы из вариационного принципа. Вариационность
основных уравнений физики позволяет связать основные зако-
ны сохранения с симметриями (группами инвариантности) со-
ответствующих теорий в духе знаменитой теоремы Э. Нетер [По-
лак, 1960; Визгин, 1972].
Математизация других естественных наук осуществлялась
через посредство физики и классической механики (небесная
механика, астрофизика, некоторые разделы химии и др.). А. Пу-
анкаре на рубеже XIX и XX вв. связал математико-аналитиче-
скую (т. е. опирающуюся на математический анализ и диффе-
ренциальные уравнения) природу классической физики с ее
локальностью и однородностью. В результате знание элементар-
ного факта позволяло получить описание процесса посредством
дифференциальных уравнений, интегрирование которых вело к
описанию множества наблюдаемых явлений. Отсутствие в био-
логии характерных для физики локальности, однородности,
328
Часть II. Глава 11
простых элементарных соотношений, согласно Пуанкаре, пре-
пятствовало математизации биологических наук [Визгин, 1995].
Научная революция, произошедшая в физике в первой трети
XX в., существенно изменила взаимоотношения физики и мате-
матики. Кроме того, математика сыграла существенную роль в
самой этой революции [Визгин, 1997]. Прежде всего, при по-
строении теории относительности, особенно общей, и кванто-
вой механики в полной мере проявилась опережающая роль ма-
тематики. В отличие от классики, в которой математике (диффе-
ренциальным уравнениям) предшествовало установление связи
физических понятий с математическими величинами, при раз-
работке релятивистских и квантовых теорий отыскание адекват-
ной математической структуры опережало ее физическое осмыс-
ление. Так, при создании общей теории относительности снача-
ла была найдена риманова структура пространства-времени и
тензорно-геометрическая концепция гравитации и только после
этого была прояснена собственно физическая сторона дела. При
создании квантовой механики также сначала были установлены
математические основы теории (например, уравнение Шрёдин-
гера для волновой функции, физический смысл которой оста-
вался неясным) и только после этого была развита физическая
интерпретация теории (вероятностная трактовка волновой
функции, принципы неопределенности и дополнительности).
Именно эти достижения теоретической физики позволили гово-
рить о «предустановленной гармонии» между математикой и фи-
зикой (Г. Минковский, Ф. Клейн, Д. Гильберт, А. Эйнштейн и
др.) или о «непостижимой эффективности математики в естест-
венных науках» [Вигнер, 1971; Визгин, 1997]. В какой-то степени
это выглядело как возрождение пифагорейско-платоновской
концепции математизации научного знания или его более совре-
менного варианта — в духе Кеплера, Ньютона и Лейбница.
Если классическая физика выглядела с математической точ-
ки зрения прежде всего как теория дифференциальных уравне-
ний с частными производными второго порядка и соответственно
Математико-аналитическая структура была определяющей, то в
неклассической науке на передний план выдвинулись теория
групп преобразований и их инвариантов, дифференциально-гео-
метрические структуры и функциональный анализ. Важное зна-
чение сохраняли также теория дифференциальных уравнений и
вариационное исчисление, с помощью которых формулирова-
329
Философия науки
лись законы движения, а также теория вероятностей, позволяю-
щая корректно сформулировать понятие состояния в статисти-
ческой и квантовой механике. Теоретико-инвариантный подход,
ставший после создания специальной теории относительности
мощным и универсальным средством построения теории, озна-
чал распространение «Эрлангенской программы» Ф. Клейна на
физику, иначе говоря, вел к пониманию научных теорий прежде
всего как теорий инвариантов некоторых лежащих в их основе
фундаментальных групп симметрии [Визгин, 1975]. Общая тео-
рия относительности привела впервые к геометризации физиче-
ского взаимодействия (именно гравитации) на языке теории ри-
мановых искривленных пространств. Переход от классики к
квантам соответствовал переходу к бесконечномерному гйльбер-
тову пространству состояний и самосопряженным операторам,
т. е. переходу от обычного анализа к функциональному анализу.
Дальнейшее развитие во второй половине XX в. вводило в обо-
рот такие разделы, как геометрия расслоенных пространств, то-
пология, бесконечномерные алгебры Ли и т. д.
Триумфы интенсивной математизации в создании некласси-
ческой физики привели к такому пониманию роли математики,
когда она рассматривается не только как средство количествен-
ного описания явлений, но и как генератор фундаментальных
физических понятий и теоретических построений. Вплоть до на-
стоящего времени надежды на прорыв в фундаментальной физи-
ке теоретики связывают с поиском математических структур,
математических образов, ранее не связывавшихся с реальностью
[Манин, 1979]. По существу, это близко к методу математической
гипотезы, важность которого в неклассической физике подчер-
кивал еще С.И. Вавилов [Вавилов, 1965].
Несмотря на устойчивую традицию считать упомянутую вы-
ше «предустановленную гармонию» символом веры теоретиков
либо ключевым «эмпирическим законом эпистемологии» и по-
этому избегать поиска оснований этой гармонии, есть несколько
перспективных подходов к ее объяснению (истолкованию).
Первый — историко-научный — опирается на эстафетную мо-
дель развития физики (естествознания) и математики Д. Гильбер-
та, согласно которой эта эффективность основана «на... повто-
ряющейся и сменяющейся игре между мышлением и опытом»
[Гильберт, 1969, с. 17]; на том, что математические концепции в
своих истоках восходят к внешнему миру, физической реально-
330
Часть II. Глава П
сти, развиваясь затем относительно автономно до мощных абст-
рактных теорий, которые, в свою очередь, оказываются удиви-
тельно подходящими для описания новых пластов естествозна-
ния, как бы возвращая ему долг [Визгин, 1975]. Существует
подход, основанный на резонном замечании об определенном
родстве (или даже совпадении) некоторых основных методоло-
гических принципов физики и математики [Овчинников, 1996].
Таковыми, например, являются принципы симметрии (инвари-
антности), сохранения, соответствия и др. В «предустановлен-
ной гармонии» между физикой и математикой, конечно, присут-
ствует эстетический момент. Иногда даже полагают, что целесо-
образно ввести понятие «математическая красота» физических
теорий и что именно с ним связана эта гармония |Дмрак, 1965;
Вайнберг, 2004]. В процессе математизации происходит своего
рода «естественный отбор» эффективных структур, и именно с
ними ассоциируется понятие «математической красоты». С этим
отбором может быть связано стремление теоретиков выбирать
задачи, имеющие «красивые решения». Само понятие, или чув-
ство, «математической красоты» эволюционировало от законо-
мерностей целых чисел и правильных многогранников к евкли-
довой геометрии и от нее к математическому анализу и диффе-
ренциальным уравнениям, а затем от них к теории групп,
дифференциально-геометрическим структурам и функциональ-
ному анализу. Известны также попытки связать «предустанов-
ленную гармонию» между физикой и математикой с устройст-
вом нашего мозга, с физико-математической природой нашего
мышления (сознания) [Пенроуз и др., 2004; Шанже и др., 2004].
Конечно, возможна переоценка математического начала при
разработке научных теорий, когда надежды на «математическое
решение» научных проблем не оправдываются. Так произошло,
например, при попытках построения единой теории поля, осно-
ванных на использовании более общих геометрий, чем римано-
ва. Несмотря на элегантные и мощные геометрические методы,
Из-за отсутствия физических оснований для геометризации
Электромагнитного поля эти попытки оказались безуспешными
[Визгин, 1985].
При этом едва ли следует опасаться так называемого «пифа-
горейского синдрома» (выражение Р.А. Аронова), истолковы-
ваемого как неоправданное отождествление математических
Форм и теоретических структур с формами и структурами объек-
331
Философия науки
тивного мира [Аронов, 1996; Визгин, 2000]. Оправданием такого
отождествления является успех теории (так было при создании
общей теории относительности и квантовой механики). Если ото-
ждествление не ведет к успеху, соответствующая математическая
гипотеза отбрасывается. Однако не оправдавшиеся на данном
этапе математические структуры не только могут быть ценными
для математики, но оказаться полезными и при последующем
развитии физической теории. Таковыми, например, оказались
геометрия Вейля и пятимерное обобщение римановой геомет-
рии, не приведшие к успешному решению проблемы единой
теории поля, но ставшие источниками таких важных физиче-
ских концепций, как калибровочная трактовка поля и идея мно-
гомерного пространства [Визгин, 1985].
Научно-техническая революция 1940—1960-х гг., или пере-
ход к «большой науке» («big science»), связанная с освоением
ядерной энергии и космического пространства, созданием ком-
пьютеров, лазеров и т. п., привела к новой волне математизации
естественных и технических наук, внесшей в свою очередь зна-
чительный вклад в эту революцию. Ключевым достижением
здесь было создание электронных цифровых машин (компьюте-
ров) и концепции вычислительного эксперимента, радикально
расширивших масштабы математизации, включив в ее сферу не
только задачи управления и экономики, но отчасти и гуманитар-
ные науки.
На стыке различных наук во второй половине XX в. сформи-
ровалось новое синтетическое направление математизации нау-
ки, получившее название синергетики, или нелинейной дина-
мики, в котором центральное место заняли нелинейные задачи,
процессы самоорганизации и стохастизации динамики. С одной
стороны, в рамках этого направления удалось решить ряд важ-
ных задач физики и техники, а также математизировать важные
разделы химии, биологии и социальных наук; с другой — это
привело к новым импульсам для развития математики (нелиней-
ные дифференциальные уравнения, фрактальная геометрия,
теория особенностей дифференцируемых отображений и т. д )
[Трубецков, 2004].
Математизации физики сопутствует нередко обратный про-
цесс — физикализация математики. Это выражается, с одной
стороны, в содержательности и плодотворности математических
концепций, порожденных физикой [Арнольд, 1999]. С другой
332
Часть II. Глава 11
^тороны, теоретическая физика иногда побуждает математиков
к преобразованию даже оснований математики [Неструев, 2000].
Математизация научного знания внедряется и в методоло-
гию и философию науки. Интересным и важным примером та-
кого рода является подход Л.Д. Фаддеева к одному из основопо-
лагающих методологических принципов физики — принципу
соответствия, а также концепция научной революции. Исполь-
зуя язык математической теории деформации алгебраических
структур, каковыми, в частности, являются фундаментальные
группы физических теорий (скажем, группы Галилея—Ньютона
и группа Пуанкаре), а переходы между ними рассматривая как
деформации, он приходит к выводу, что переход от классики к
неклассике или «две главные революции в физике... с точки зре-
ния математики являются деформациями неустойчивых струк-
тур в устойчивые» [Фаддеев, 1989, с. 15]. При этом под устойчи-
вой, согласно Л.Д. Фаддееву, следует понимать такую структуру,
все близкие деформации которой ей эквивалентны. С этой точки
зрения классическая механика «дважды неустойчива» — по по-
стоянным скорости света и Планка, являющихся в данном слу-
чае параметрами деформаций.
Спорным является вопрос о том, считать ли математизацию
одним из методологических принципов физики, наряду с прин-
ципами симметрии, соответствия и др. [Акчурин, 1975; Овчинни-
ков, 1996], или рассматривать ее как отдельную общую черту тео-
ретизации научного знания [Визгин, 2003]. Независимо от ответа
на этот вопрос следует признать, что математизация всегда была
и продолжает оставаться главным и эффективнейшим средством
теоретизации научного знания, развитие которого оказывает
мощное воздействие на саму математику. При этом приходится
констатировать, что проблема математизации науки относится к
числу важнейших проблем методологии науки, требующих даль-
нейшего исследования.
В заключение хотелось бы в числе важных работ по рассматри-
ваемой проблеме, помимо уже цитированных, упомянуть работы
И.С. Алексеева, Л.Б. Баженова, С.В. Илларионова, С.В. Котиной,
А.А. Печенкина, Э.М. Чудинова, в разное время работавших или
Работающих и сейчас на кафедре философии МФТИ.
333
Философия науки
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Акчурин И.А. Математизация как принцип единства физических теорий //
Методологические принципы физики / Отв. ред. Н.Ф. Овчинников и Б.М. Кед-
ров. М.: Наука, 1975. С. 204-224.
Арнольд В. И, Математика и физика: родитель и дитя или сестра // Успехи
физических наук. 1999. № 12. С. 1311—1323.
Аронов Р.А. Пифагорейский синдром в науке и философии // Вопросы фи-
лософии. 1996. № 4. С. 134—146.
Баженов Л.Б. и др. Философия естествознания. Вып. 1. М.: Изд-во полит,
лит., 1966.
Блехман И.И., Мышкис А.Д., Пановко Н.Г. Прикладная математика: предмет,
логика, особенности подходов. Киев: Наукова думка, 1976.
Вавилов С.И. Старая и новая физика // История и методология естествен-
ных наук. Вып. III. Физика. М.: Изд-во МГУ, 1965. С. 3—12.
Вайнберг С. Мечты об окончательной теории: физика в поисках самых фун-
даментальных законов природы. М.: УРСС, 2004.
Вигнер Е. Этюды о симметрии. М.: Мир, 1971.
Визгин В.П. «Догмат веры» физика-теоретика: «предустановленная гармо-
ния между чистой математикой и физикой» // Проблема знания в истории нау-
ки и культуры / Отв. ред. Е.Н. Молодцова. СПб.: Алетейя, 2001. С. 123—141.
Визгин В.П. Единые теории в первой трети XX в. М.: Наука, 1985.
Визгин В.П. Математика в квантово-релятивистской революции // Физика
XIX—XX вв. в общенаучном и социокультурном контекстах: Физика XX в. М.:
Янус-К, 1997. С. 7-30.
Визгин В.П. Математика в классической физике // Физика XIX—XX вв. в
общенаучном и социокультурном контекстах: Физика XIX в. М.: Наука, 1995,
С. 6-72.
Визгин В.П. Между математикой и физикой: продолжающаяся дискусия //
Историко-математические исследования. Вторая серия. Вып. 5 (4). М.: Янус-К,
2000. С. 361-369.
Визгин В.П. Между механикой и математикой: аналитическая механика как
фактор развития математики (XIX в.) // Исследования по истории физики и ме-
ханики. 1986. М.: Наука, 1986. С. 49—62.
Визгин В.П. Развитие взаимосвязи принципов инвариантности с законами
сохранения в классической физике. М.: Наука, 1972. >
Визгин В.П. Размышления о методологических принципах физики // Фило-
софия науки в историческом контексте: Сборник статей в честь 85-летия
Н.Ф. Овчинникова. СПб.: РХГИ; ИД. СпбГУ, 2003. С. 293-311.
Визгин В.П. «Эрлангенская программа» и физика. М.: Наука, 1975 (см. так-
же: Визгин В.П. «Эрлангенская программа» Ф. Клейна и физика // Ученые за-
писки Академии образования. 1998. Вып. 2. С. 46—63).
Гильберт Д. Математические проблемы // Проблемы Гильберта / Под ред-
П.С. Александрова. М.: Наука, 1969. С. 11—64.
Дайсон Ф. Математика в физических науках // Математика в современном
мире / Под ред. В.А. Успенского. М.: Мир, 1967. С. 111—128.
Дирак П. Эволюция физической картины природы // Элементарные части-
цы. Над чем думают физики. М.: Физматгиз, 1965. Вып. 3. С. 123—139.
334
Часть II. Глава 11
....ii.-.-,,, z .... ;,, „, zzz 'z^
\ Клайн M. Математика. Поиск истины. M.: Мир, 1988.
\ Клайн М. Математика. Утрата определенности. М.: Мир, 1984.
\ Манин Ю.И. Математика и физика. М.: Знание, 1979.
| Математика и опыт / Под ред. А.Г. Барабашева. М.: 2002.
\ НеструевДж. Гладкие многообразия и наблюдаемые. М.: МЦНМО, 2000.
^Овчинников Н.Ф. Принципы теоретизации знания. М.: Агро-принт, 1996.
Пенроуз Р., Шимони А., Картрайт И., Хокинг С. Большое, малое и человече-
ский разум. М.: Мир, 2004.
Погребысский И.Б. Математические структуры и физические теории (От Ар-
химеда до Лагранжа) // Вопросы истории естествознания и техники. Вып. 2
(31). С. 24-29. 1970.
Погребысский И.Б. От Лагранжа к Эйнштейну. М.: Янус, 1996.
Полак Л. С. Вариационные принципы механики, их развитие и применение
в физике. М.: Физматгиз, 1960.
Стили в математике. Социокультурная философия математики / Под ред.
А.Г. Барабашева. СПб., 1999.
Трубецков Д.И. Введение в синергетику. Хаос и структуры. М.: УРСС, 2004.
Фаддеев Л.Д. Математический взгляд на эволюцию физики // Природа.
1989. № 5. С. 11-16.
Шанже Ж.-П, Конн А. Материя и мышление. М.; Ижевск: НИЦ «Регуляр-
ная и хаотичная динамика», 2004.
ВОПРОСЫ
1. Пифагорейская концепция естествознания. Платон и Аристотель
о роли математики в описании природы.
2. Формирование евклидовой геометрии. Геометрия как основа
теоретизации статики и гидростатики Архимеда.
3. Соотношение геометрии и математического анализа в «Началах»
И. Ньютона.
4. Феномен аналитической механики. Проблема эквивалентных
формализмов классической механики.
5. Роль математического анализа в формировании классической
физики. Физические теории как теории дифференциальных
уравнений.
6. Опережающая роль математики в квантово-релятивистской ре-
волюции.
7. Физические теории как теории инвариантов групп симметрии,
лежащих в их основе.
8. «Непостижимая эффективность математики в естественных нау-
ках» (Ю. Вигнер) и ее природа.
9. Математизация и методологические принципы физики.
10. Компьютерный этап математизации. Рождение вычислительной
физики.
335
Философия науки
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Акчурин И.А. Математизация как принцип единства физических теорий //
Методологические принципы физики / Отв. ред. Н.Ф. Овчинников и Б.М. Кед-
ров. М.: Наука. 1975. С. 204-224.
Баженов Л.Б. и др. Философия естествознания. Вып. 1. М.: Изд. полит, лит.,
1966. Гл. VI, VII.
Вигнер Е. Непостижимая эффективность математики в естественных нау-
ках // Вигнер Е. Этюды о симметрии. М.: Мир, 1971. С. 182—198.
Визгин В.П. Математика в квантово-релятивистской революции // Физика
XIX—XX вв. в общенаучном и социокультурном контекстах: Физика XX в. М.:
Янус-К. 1997. С. 7-30.
Визгин В.П. Математика в классической физике // Физика XIX—XX вв. в
общенаучном и социокультурном контекстах: Физика XIX в. М.: Наука, 1995.
С. 6-72.
Математика и опыт / Под ред. А.Г. Барабашева. М., 2002.
Стили в математике. Социокультурная философия математики / Под ред.
А.Г. Барабашева. СПб., 1999.
Глава 12
ПРОБЛЕМА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
12.1. Общая характеристика пространства
и времени и их основные свойства
Субстанциальная и реляционная концепция
пространства-времени
Исторически сложилось два подхода к пространству и време-
ни. Первый может быть назван субстанциальной концепцией.
Пространство и время понимаются здесь как нечто самостоя-
тельно существующее наряду с материей, как ее пустые вмести-
лища. Все объекты мыслятся существующими в пространстве и
во времени, причем последние имеют самостоятельное, незави-
симое от первых существование. Пространство — это чистая про-
тяженность и время — чистая длительность, в которые как бы
«погружены», «помещены» материальные объекты. Этот взгляд
одним из первых высказал Демокрит: «...в действительности же
существуют только атомы и пустота» [Маковельский, 1946, с. 224].
Здесь пустота (т. е. «чистое» пространство) наделяется субстанци-
альностью и мыслится наряду с атомами как единственно сущест-
вующее в действительности. Свое всестороннее развитие и завер-
шение субстанциальная концепция пространства и времени по-
лучила у Ньютона и в классической физике в целом.
Второй подход можно назвать реляционной1 концепцией
пространства и времени. Наметки ее можно обнаружить еще у
1 От relatio — отношение. Два соображения обусловили использование тер-
мина «реляционный» вместо принятого «релятивистский». Последний обычно
Употребляется в двух смыслах: философском и физическом. В философском он
Характеризует одно из идеалистических воззрений. Реляционная концепция не
является релятивистской в этом смысле. В физике «релятивистский» обозначает
«относящийся к теории относительности». Называть реляционную концепцию
Иространства-времени релятивистской в этом смысле значит допускать смеще-
ние исторической перспективы. Реляционная концепция возникла раньше тео-
рии относительности, и пространственно-временную концепцию последней (ре-
лятивистскую концепцию) можно считать естественно-научной конкретизацией
Реляционной точки зрения.
337
Философия науки
Аристотеля, но впервые со всей четкостью она сформулирована
Г. Лейбницем. «Говорят, — писал он, полемизируя с последова-
телем Ньютона С. Кларком, — что пространство не зависит, от
положения тел. На это я отвечаю, что оно, конечно, не зависит
от того или иного положения тел, тем не менее оно является та-
ким порядком, который делает возможным само расположение
тел и в силу которого они в своем существовании друг подле дру-
га обладают отношением расположения, подобно тому как вре-
мя представляет собой тот же порядок в смысле последователь-
ности их существования» [Полемика, 1960, с. 58]. И дальше:
«Я вовсе не говорю, что материя и пространство одно и то же, а
лишь утверждаю, что без материи нет и пространства, и что про-
странство само по себе не представляет собой абсолютной реаль-
ности» [Там же, с. 84].
С позиций реляционной концепции пространству и времени
можно дать следующее определение: «Пространство и время —
общие формы координации материальных объектов и их состоя-
ний. Пространство — это совокупность отношений, выражаю-
щих координацию сосуществующих объектов, их расположение
друг относительно друга и относительную величину (расстояния
и ориентация); время — совокупность отношений, выражающих
координацию сменяющих друг друга состояний (явлений), — их
последовательность и длительность» [ФЭС, т. 4, с. 227].
При этом субстанциальная и реляционная концепции не
связаны однозначно с материализмом и идеализмом. Здесь воз-
можны любые сочетания.
Объективность и всеобщность пространства-времени
В связи с этим в дополнение к реляционной концепции сле-
дует сформулировать основные положения, выражающие сущ-
ность материалистических (в противоположность идеалистиче-
ским) воззрений на пространство и время. Этих положений два:
1) объективность пространства и времени; 2) всеобщность про-
странства и времени. Остановимся коротко на них.
Объективность пространства-времени означает, что они су-
ществуют вне сознания как формы бытия, координации самих
материальных объектов. Непосредственно этот тезис направлен
против субъективистского подхода к проблеме. С точки зрения
338
Часть II. Глава 12
субъективного идеализма не человек с его сознанием и ощуще-
ниями существует в пространстве и времени, а, наоборот, про-
странство и время существуют в человеке как присущие ему спо-
собы воспринимать вещи. Объективность пространства и време-
ни как их независимость от познающего субъекта признает
наряду с материализмом и объективный идеализм. Однако мате-
риализм под объективностью понимает не только независимость
от сознания субъекта, но независимость от сознания вообще.
Поэтому пространство и время не могут зависеть от «мирового
сознания», «абсолютной идеи» и т. п.
Всеобщность пространства и времени означает, что ничто не
может существовать вне времени и вне пространства, которые
суть «коренные условия всякого бытия» (Фейербах), «основные
формы всякого бытия» (Энгельс).
Этот тезис материализма непосредственно направлен против
объективного идеализма, для которого пространственно-вре-
менной характер окружающего мира есть свидетельство его «не-
подлинности»; подлинная реальность носит духовный характер
и существует вне пространства и вне времени (точнее, обяза-
тельно вне пространства). Так, например, у Гегеля абсолютная
идея — единственная реальность, и она существует вне времени
и пространства; лишь производная от нее природа носит про-
странственный характер, в чем Гегель (и объективный идеализм
вообще) видит свидетельство ее «второсортности».
Основные свойства пространства и времени
Пространство и время как формы координации материаль-
ных объектов обладают свойствами, изучение которых сыграло
выдающуюся роль в развитии физики. Этими свойствами явля-
ются трехмерность пространства и одномерность и необрати-
мость времени, однородность и изотропность пространства и,
Наконец, однородность времени.
Трехмерность пространства представляет собой эмпириче-
ски констатируемое фундаментальное его свойство, которое вы-
ражается в том, что положение любого объекта может быть опре-
делено с помощью трех независимых величин. Здесь существен-
но наличие именно независимых величин, а не конкретный их
Характер, ибо последний зависит от выбираемого познающим
339
Философия науки
субъектом способа описания положения тел в пространстве
(проще говоря, от используемой системы координат). В прямо-
угольной декартовой системе координат это будут координаты X,
Y, Z, обычно называемые длиной, шириной и высотой; в сфери-
ческой системе координат это будут радиус-вектор г и углы <р и ъ;
в цилиндрической системе — высота Z, радиус-вектор г и угол <р
и т. д. Разумеется, если положение точки в пространстве задано в
одной системе координат, то по соответствующим формулам
можно всегда перейти к любой другой системе. Применение той
или иной системы координат есть лишь вопрос практического
удобства; объективным фактом является необходимость исполь-
зования трех независимых величин для характеристики лоложе-
ния тела в пространстве.
Наряду с понятием трехмерного пространства в науке широ-
ко используется понятие многомерного («-мерного) пространст-
ва, или «-мерного многообразия. И хотя в мало-мальски серьез-
ной литературе понимание действительного смысла этого поня-
тия не вызывает сколько-нибудь значительных затруднений, тем
не менее в околонаучной литературе нет недостатка в сомни-
тельных спекуляциях вокруг «-мерных пространств. За них, на-
пример, ухватилось одно из самых диких суеверий — спиритизм,
провозгласивший, что духи существуют в четвертом измерении и
оттуда проникают в наш мир.
На самом деле никакого четвертого, пятого и т. д. простран-
ственного измерения, разумеется, нет, реальное пространство
трехмерно, а понятие «-мерного пространства представляет со-
бой типичный пример математического обобщения1, «-мерные
пространства оказываются весьма полезными в математике, ибо
позволяют применить геометрический аппарат к таким ее облас-
тям, как, например, векторный анализ, функциональный анализ
и т. д. Совсем иначе обстоит дело с современными космологиче-
скими построениями, оперирующими понятиями 10- и/или
11-мерного пространства-времени, о чем пойдет речь далее.
1 Развитые в обычной трехмерной геометрии теоремы можно обобщить на
случай произвольного числа измерений и чисто формально построить п-мернуЮ
геометрию, которая будет изучать, например, поверхности п-1 измерения в
«-мерном пространстве, аналогично тому, как в обычной геометрии изучаются
поверхности двух измерений в трехмерном пространстве.
340
\ Часть II. Глава 12
W,V,'UV/A**WA М г'.'.угл/'ч/ ' ччАА ^WA w%*' А Л '"’* /%A"* •••••••••••*• w.-.WA.v /AW .• / -..AV.-..V,.V ZW.A’.- AVWWA
Понятие «-мерного пространства является математической
абстракцией, позволяющей применить ранее разработанный
геометрический аппарат к изучению новых сторон действитель-
ности. Это не пустая фикция, а тоже отражение действительно-
сти, но отражение не ее пространственных свойств, а самых раз-
нообразных иных свойств, которые в определенном отношении
оказываются как бы пространственно-подобными.
В отличие от пространства время одномерно и необратимо. Од-
номерность его означает, что для фиксации положения объекта
(события) во времени достаточно одной величины — промежут-
ка времени t, протекшего от некоторого начала отсчета t = 0.
Важнейшей чертой времени является его необратимость. Про-
странство «обратимо» в том смысле, что в любую его точку мож-
но попасть и дважды, и трижды и т. д. Во времени это невозмож-
но — оно необратимо течет от прошлого через настоящее к буду-
щему, в одну и ту же временною точку нельзя попасть дважды,
нельзя вернуться в прошлое и т. п.
Идея необратимости времени навязывается человеку непо-
средственным опытом его психической жизни. В своем созна-
нии каждый человек четко различает непосредственное пережи-
вание и воспоминание о чем-либо. То, что воспроизводится с
помощью памяти, образует прошлое, а непосредственно пере-
живаемое — настоящее. Отсюда рождается мысль вообще вывес-
ти направленность (необратимость) времени из особенностей
нашего сознания.
Материализм не может согласиться с такой трактовкой во-
проса. Исходя из объективности времени, и его необратимость
надо выводить не из сознания, а из свойств объективных про-
цессов. Весьма распространенной является точка зрения, со-
гласно которой необратимость времени выводится из причин-
ности. Причем обычно просто заявляют, что раз причина пред-
шествует действию во времени, то этим и определяется направление
времени. Но это неверно. Во-первых, в чисто механических про-
цессах существует «причинная связь явлений, находящая свое
выражение в действии законов природы», а именно в законах
Механики. Однако законы механики безразличны к знаку време-
ни, они одинаково справедливы и при положительном t, и при
замене t на т. е. при обращении направления времени.
^0-вторых, попытка использовать для определения направления
^Ремени факт предшествования причины действию уже предпо-
341
Философия науки
лагает данным это направление (ибо иначе теряет всякий смысл
фраза: «Причина предшествует действию»). Следовательно, эта
попытка содержит логический круг. Необратимость (однона-
правленность) времени представляет собой фундаментальное
свойство действительности, и попытка логической дедукции его
из принципа причинности дает, на наш взгляд, чисто иллюзор-
ное объяснение. Речь должна идти не о дедукции одной фило-
софской категории из другой (необратимости из причинности),
а о том, находит ли необратимость времени выражение в фунда-
ментальных естественно-научных законах, и если находит, то в
чем это раскрывается.
В противоположность субъективистским взглядам на время,
выводящим присущую ему необратимость из свойств нашего
сознания, наука в полном соответствии с материализмом рас-
крывает объективный характер необратимости времени. В мак-
роскопических процессах эта необратимость находит свое отра-
жение в законе возрастания энтропии. Этот закон, как мы зна-
ем, утверждает, что в любой замкнутой системе энтропия
никогда не убывает, она возрастает или в пределе остается по-
стоянной. Процессы, в которых энтропия увеличивается, назы-
ваются необратимыми, в которых она остается постоянной —
обратимыми. Первые не могут протекать в обратном направле-
нии, вторые могут. Однако последние «представляют собой, ра-
зумеется, идеальный предельный случай; реально происходящие
в природе процессы могут быть обратимыми лишь с большей
или меньшей степенью точности». Необратимость и обусловли-
вает (выражает) физическую неэквивалентность двух направле-
ний времени: прошлое и будущее различаются как состояния с
соответственно меньшей и большей энтропией. Для микромира
вопрос о необратимости времени должен решаться на основе
теории микропроцессов — квантовой механики. На первый
взгляд кажется, что здесь оба направления времени равноправ-
ны. Действительно, основное уравнение квантовой механики —
уравнение Шрёдингера симметрично по отношению к измене-
нию знака времени (как и основное уравнение классической ме-
ханики — второй закон Ньютона). Но, как указывают Л.Д. Лан-
дау и Е.М. Лифшиц, несмотря на эту симметрию, квантовая ме-
ханика содержит в себе физическую неэквивалентность двух
направлений времени, связанную с основным для нее процес-
сом взаимодействия квантового объекта с классическим объек-
342
Часть II. Глава 12
том (т. е. системой, с достаточной точностью подчиняющейся
классической механике). «...Если с данным квантовым объектом
последовательно происходят два процесса взаимодействия (на-
зовем их А и В), то утверждение, что вероятность того или иного
результата процесса В определяется результатом процесса А, мо-
лсет быть справедливо лишь в том случае, если процесс А имел
место раньше процесса В» [Ландау, Лифшиц, 1976, с. 48].
Отмеченное обстоятельство и делает взаимодействие кванто-
вого объекта с классическим необратимым, приводящим к появ-
лению различия между прошедшим и будущим. Л.Д. Ландау и
Е.М. Лифшиц идут дальше и выдвигают предположение, что,
возможно, вообще закон возрастания энтропии является своеоб-
разным «макроскопическим» выражением физической неэкви-
валентности обоих направлений времени в процессах взаимо-
действия квантовых объектов с классическими. Если это дейст-
вительно так, «то должно существовать содержащее квантовую
постоянную h неравенство, обеспечивающее справедливость
этого закона (возрастания энтропии. — Л.Б.) и удовлетворяю-
щееся в реальном мире» [Там же, с. 48—49].
Однородность пространства означает равноправие всех его
точек, отсутствие каких-либо выделенных точек; изотроп-
ность — равноправие всех возможных направлений; наконец,
однородность времени проявляется в равноправии всех момен-
тов времени.
Однородность пространства и времени и изотропность про-
странства выражают фундаментальные свойства мира и связа-
ны с важнейшими законами физики — законами сохранения.
В начале XX в. в работах ученых гёттингенской школы Давида
Гцльберта, Феликса Клейна и Эмми Нетер была сформулирова-
на так называемая теорема Нетер, гласящая, что если свойства
системы не меняются от какого-либо преобразования перемен-
ных, то этому соответствует некоторый закон сохранения. По-
скольку независимость свойств от преобразования переменных
означает наличие в системе симметрии относительно данного
преобразования, постольку теорема Нетер может быть сформу-
лирована как утверждение о том, что наличие в системе симмет-
рии обусловливает существование сохраняющейся для нее фи-
зической величины, и наоборот.
Однородность пространства и времени и изотропность про-
СтРанства как раз и означают инвариантность системы по отно-
343
Философия науки
шению к определенным преобразованиям переменных: одно-
родность времени — по отношению к сдвигам времени, т. е. к
изменению начала отсчета; однородность пространства — по от-
ношению к сдвигам в пространстве, т. е. к переносу начала коор-
динат; изотропность пространства — по отношению к повороту
осей системы координат в пространстве. Отсюда вытекают наи-
более фундаментальные законы сохранения: симметрии относи-
тельно сдвига времени (т. е. однородности времени) соответст-
вует закон сохранения энергии; симметрии относительно про-
странственного сдвига (т. е. однородности пространства) —
закон сохранения импульса; симметрии относительно поворота
координатных осей (т. е. изотропности пространства) — закон
сохранения момента импульса (углового момента). Теорема Не-
тер, таким образом, показывает, что пространство и время дей-
ствительно являются формами существования материи, их свой-
ства находят свое выражение в фундаментальных законах, опре-
деляющих течение материальных процессов.
Однородность и изотропность пространства и однородность
времени связаны не только с фундаментальными законами со-
хранения, они лежат и в основе галилеевского принципа относи-
тельности, и в основе специальной теории относительности.
12.2. Пространство и время в классической физике
Принцип относительности классической механики
Понятия пространства и времени, выработанные в классиче-
ской физике, представляют, с одной стороны, результат обобще-
ния повседневного опыта, с другой — следствие научного анали-
за простейших механических движений. Развитие механики по-
этому теснейшим образом связано с определенным пониманием
пространства и времени.
Основным законом классической механики является, как из-
вестно, второй закон Ньютона, связывающий силу, действую'
_ „ d2x
щую на тело, с приобретаемым телом ускорением: F= m-rr-
at
Для описания механического движения, следовательно, необхо-
димо измерение координат движущегося тела, что требует введе'
344
Часть II. Глава 12
лия понятия тела отсчета, с которым связывается система коор-
динат, образуя систему отсчета. Встает естественный вопрос: для
всякой ли системы отсчета будет справедлив основной закон ме-
ханики?
Системы отсчета могут находиться в различных состояниях:
они могут покоиться, двигаться равномерно и прямолинейно
или, наконец, двигаться ускоренно одна относительно другой.
Если две системы отсчета покоятся относительно друг друга, то
это означает, что они представляют физически одну и ту же сис-
тему; различие между ними сводится к чисто геометрическому
переносу начала координат. Поэтому остаются два физически
различных типа систем отсчета: инерциальные системы (движу-
щиеся равномерно, прямолинейно относительно друг друга) и
неинерциальные (движущиеся с ускорением).
Для последних приведенная формулировка второго закона
Ньютона не сохраняется. При переходе от одной системы от-
счета к другой, движущейся ускоренно по отношению к пер-
вой, появляются добавочные силы, так называемые силы инер-
ции.
Поэтому в инерциальных системах отсчета переход от одной
системы к другой не меняет вида второго закона Ньютона — он
справедлив для всех таких систем. Приведенное утверждение со-
ставляет содержание принципа относительности классической
механики, или принципа относительности Галилея. Этот прин-
цип утверждает, таким образом, физическую эквивалентность
всех инерциальных систем отсчета: состояние равномерного,
прямолинейного движения никак не сказывается на происходя-
щих в системе механических процессах, и никакими механиче-
скими экспериментами, проводимыми внутри системы, нельзя
определить, покоится она или движется равномерно и прямоли-
нейно. В современной физике законы классической механики и
Формулируются как справедливые для всего класса инерциаль-
ных систем. Но в период обоснования классической механики
Перед ее творцами неизбежно вставал вопрос: а существуют ли
вообще инерциальные системы? Ведь если дана хотя бы одна та-
кая система, то может существовать бесчисленное их множество,
Ибо любая система, движущаяся равномерно и прямолинейно
поносительно данной, тоже будет инерциальной. Но как найти
поу «хотя бы одну» инерциальную систему? Например, является
ИИ таковой система отсчета, связанная с Землей? Мы знаем, что
345
Философия науки
на Земле с достаточной степенью точности соблюдается прин-
цип инерции, и тем не менее Земля — система неинерциальная:
она вращается вокруг Солнца и вокруг собственной оси. Но мо-
жет быть, инерциальная система связана с Солнцем? Тоже, стро-
го говоря, нет, ибо Солнце вращается вокруг центра Галактики.
Но если ни одна реальная система отсчета не является строго
инерциальной, то не оказываются ли фикцией основные законы
механики?
Поиски ответа на этот вопрос и привели к понятию абсолют-
ного пространства. Оно представлялось совершенно неподвиж-
ным, а связанная с ним система отсчета — строго инерциальной.
Именно по отношению к абсолютному пространству законы ме-
ханики и выполняются совершенно строгим образом. Ярче всего
эти взгляды выразил И. Ньютон в своих «Математических нача-
лах натуральной философии»:
«I. Абсолютное, истинное математическое время само по се-
бе и по самой своей сущности, без всякого отношения к че-
му-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется
длительностью.
II. Абсолютное пространство по самой своей сущности без-
относительно к чему бы то ни было внешнему остается всегда
одинаковым и неподвижным» [Кудрявцев, 1948, т. 1, с. 230]!.
Ньютон отдавал себе при этом ясный отчет, что фактически вос-
принимаются всегда относительные пространство и время и от-
носительное движение. Однако это не опровергало в его глазах
наличия абсолютных пространства и времени, ибо невозмож-
ность их непосредственного обнаружения в эксперименте объ-
яснялась как раз принципом относительности Галилея.
1 Неподвижный мировой эфир было естественно связать с абсолютным про-
странством, и тогда, найдя разность между скоростью света в эфире и скоростью
света в данной системе отсчета, мы могли бы определить скорость движения
этой системы относительно эфира, т. е. абсолютную скорость в абсолютном про-
странстве. Эта идея и легла в основу знаменитого опыта Майкельсона—Морли,
ставившего целью обнаружить движение Земли по отношению к эфиру. Однак°
опыт Майкельсона (неоднократно и с большой тщательностью повторявшийся)
дал отрицательный результат. Согласно основной идее опыта должна была быть
обнаружена разница в скорости света в направлении движения Земли и перпен-
дикулярно к этому направлению. Но скорость света оказалась одной и той же я°
всех направлениях (см. гл. 17).
346
Часть II. Глава 12
Преобразования Галилея и пространственно-временные
представления классической физики
Принцип относительности Галилея, с одной стороны, опи-
рался, а с другой — требовал вполне определенных представле-
ний о пространстве и времени. Чтобы сделать это обстоятельство
вполне ясным, мы дадим сейчас более строгую формулировку
принципа относительности. Переход от одной инерциальной
системы к другой представляет собой некоторое преобразование
координат, получившее название преобразований Галилея, и
принцип относительности классической механики может быть
математически строго сформулирован как принцип ковариант-
ности1 законов механики относительно преобразований Гали-
лея.
Пусть мы имеем две системы отсчета К и К', движущиеся рав-
номерно и прямолинейно относительно друг друга. Примем, что
система К неподвижна, а система К' движется относительно К со
скоростью v. Оси координат в обеих системах можно считать па-
раллельными, а начала координат — совпадающими в началь-
ный момент времени t = 0 (если эти условия не выполнены, то
систему можно преобразовать чисто геометрически путем пово-
рота осей и переноса начала координат) (см. сх. 12.1).
Для простоты мы изображаем на чертеже лишь две оси. Вы-
разим координаты материальной точки А в системе К' через ее
v
К К’
*--------►
X X'
Схема 12.1
’Инвариантность — неизменность значений физических величин; к о -
аРиантность — неизменность вида, формы связей физических величин.
347
Философия науки
координаты в системе К. Из схемы непосредственно видно, что
координата у вообще не меняется: у' = у (то же относится и к
подразумеваемой координате z: z' = z). Что касается координаты
х', то х' = х - 00'.
Но 00' — это расстояние, пройденное системой К со скоро-
стью v за время t, протекшее с начального момента, когда О и О'
совпадали, т. е. 00' = vt. Следовательно, х'= (х — vt). К этим трем
уравнениям (уже в период возникновения теории относительно-
сти) было добавлено уравнение t' = t. У Галилея это уравнение
не фигурировало явно, ибо казалось настолько самоочевидным,
что формулировать его никому не приходило в голову.
Итак, полная система преобразований Галилея выглядит
следующим образом:
х' = х - vt; z' = z
у' = у; t' = t
(12.1)
По отношению к этим преобразованиям законы механики
ковариантны, в чем и находит выражение принцип относитель-
ности классической механики1.
Пространственные и временное координаты входят в урав-
нения неравноправным образом. Пространственная координата
в движущейся системе зависит и от пространственной, и от вре-
меннбй координаты в неподвижной системе <х' = х - vt). Вре-
менная координата в движущейся системе зависит только от
временнбй координаты в неподвижной системе и никак не свя-
зана с пространственными (/' = t). Таким образом, время мыс-
лится как нечто совершенно самостоятельное по отношению к
пространству.
1. Основными метрическими характеристиками пространст-
ва и времени являются расстояние между двумя точками в про-
странстве (длина) и расстояние между двумя событиями во вре-
мени (промежуток). В преобразованиях Галилея зафиксирован
абсолютный характер длины и промежутка. В отношении вре-
1 Возьмем основной закон механики. В системе К он имеет вид: F = т
»2 t J 2
„ а х а х . „
Поскольку (так v = const, а производная от постоянной равна нулю/’
то основной закон механики в системе А" имеет тот же вид, что и в системе К-
348
Часть II. Глава 12
меннбго промежутка это прямо видно из уравнения /' = t. Время
не зависит от системы отсчета, оно одно и то же во всех систе-
мах, везде и всюду течет совершенно равномерно и одинаково.
Короче, это именно ньютоновское абсолютное, истинное время.
Даже сама мысль о возможной зависимости времени от движе-
ния системы отсчета казалась настолько нелепой, что, как уже
говорилось, уравнение t' = t вообще явно не формулировалось
ввиду своей якобы непреложной очевидности и тривиальности.
Столь же абсолютный характер носит и основная простран-
ственная характеристика — длина. Покажем это.
Возьмем для простоты стержень АВ, параллельный оси X.
Координаты начала и конца стержня в системе К будут Х| и х2, а в
системе К' они будут х, и х2.
Длина стержня АВ в системе К будет (х, — х2), а в системе К'
она будет равна (х{ - х'2). Перейдем от системы К' к системе К:
(х, - х'2) = х2 - vt- (xi - vt)= х2 - X]. Мы видим, что длина стерж-
ня в движущейся системе равна его длине в покоящейся, т. е.
длина носит абсолютный характер и не зависит от движения сис-
темы отсчета. Этот результат представлялся само собой разумею-
щимся, и он математически зафиксирован в преобразованиях
Галилея.
Итак, классическая механика исходила из абсолютности вре-
мени (временнбго промежутка) и пространства (длины), их не-
зависимости друг от друга. К этому, естественно, добавлялась и
независимость пространственно-временных характеристик от
каких бы то ни было свойств материальных объектов. Простран-
ство и время везде и всюду одинаковы, свойства пространства
описываются евклидовой геометрией (единственной в то время
известной), которая тоже носит, таким образом, абсолютный ха-
рактер.
Кант завершил абсолютизацию пространства и времени,
окончательно оторвав их от реальных вещей и превратив в апри-
орные (доопытные) формы нашего созерцания. Имея в виду
Прежде всего Канта, Эйнштейн писал: «...философы оказали па-
губное влияние на развитие научной мысли, перенеся некоторые
Фундаментальные понятия из области опыта, где они находятся
ггод нашим контролем, на недосягаемые высоты априорности»
Эйнштейн, 1965, с. 8].
349
Философия науки
12.3. Пространство-время в специальной
теории относительности
Принцип относительности и принцип постоянства
скорости света
В классической механике пространственно-временное пред-
ставления нашли математическое выражение в принципе отно-
сительности, сформулированном как принцип ковариантности
законов механики относительно преобразований Галилея. При
распространении принципа относительности на электромагнит-
ные явления его математическая формулировка должна быть из-
менена. Уравнения Максвелла не ковариантны относительно
преобразований Галилея, следовательно, нужна иная группа
преобразований, согласно которым следует переходить от одной
инерциальной системы отсчета к другой так, чтобы уравнения
Максвелла при этом оставались ковариантными. Эта группа
преобразований была найдена в конце XIX в. Г. Лоренцем и по-
лучила название преобразований Лоренца, которые образуют
математическую основу специальной теории относительности.
Однако Лоренц не осознал глубокого физического смысла этих
преобразований, пытаясь совместить их с классическими пред-
ставлениями о пространстве и времени.
Мы не будем заниматься здесь выводом преобразований Ло-
ренца, а сразу выпишем их:
t ~ ~2Х
, x — vt , , , с2
х = I . ; у = у; z =z; t = .
V V
J1- — J1- —
А 2 А 1 2
V С \ С
(12.2)
Из преобразований Лоренца следуют важнейшие выводы об
относительности длины и временнбго промежутка. Возьмем для
простоты стержень, лежащий на оси X. Его длина в системе Сбу-
дет 1 = х2 ~ X], где %, и х2 — координаты начала и конца стержня-
Какова будет его длина в движущейся системе К'? Для этого вы-
разим координаты х2 и Xi в системе К' по формулам (12.2) и по-
лучим:
350
Часть II. Глава 12
Z" "f, ' ""гмг " '
х2 + Vt2 х’. + vt\
х2-х,= г—т--------- -
J1 - —
V с2
х'2 - х; +v(t'2 -1;)
Для того чтобы измерить длину стержня в системе, где стер-
жень покоится, мы можем произвести замеры координат его на-
чала и конца в любые моменты времени (например, в данный
момент замерить координату начала, а через полчаса — коорди-
нату конца). Но чтобы измерить длину стержня в системе, где он
движется, мы должны произвести замер координат его начала и
конца в один и тот же момент времени, т. е. t'2 и должны быть
равны друг другу. С учетом этого соображения получаем
х2 - X,
х2 - X,
или, так как х2 — Xj = /0 (длина стержня в системе, где он покоит-
ся, иначе — длина неподвижного стержня) и х2 - х, =1 (длина
стержня в системе, где он движется, иначе — длина движущегося
стержня), /0 =
/
Окончательно: I = 10 *
Итак, стержень имеет наибольшую длину Iq в системе, где он
покоится. Длина, измеренная в движущейся системе отсчета, со-
I v2
кращается в Л1 —г раз. Этот эффект называется релятивист-
V с
ским сокращением длины.
Теперь посмотрим, что происходит с промежутком времени.
Пусть в системе К имеются два события, происходящие в одной
11 той же точке (Х] = х2) в моменты времени t\ и /2. Промежуток
времени между этими двумя событиями будет Nt0= Найдем
Промежуток времени At = t'2 - t{ в движущейся системе, где со-
бытия происходят уже в разных точках пространства (понятно,
Пто раз система К' движется, то х2 * Xj):
351
Философия науки
/2 — ^1 2*(*^2 )
J1- —
V с2
Так как Х2 — хц имеем
^0
Окончательно: Д/ = -у--
.1-^
V С2
Итак, промежуток времени будет наименьшим в той системе,
где события происходят в одной и той же точке пространства,
т. е. как бы покоятся. Поэтому промежуток времени является
наименьшим в покоящейся системе, а в движущейся системе он
1
возрастает в ...... раз.
11-^-
\ с2
Это положение часто формулируется как тезис о замедлении
течения времени в движущейся системе отсчета, а сам эффект
называется релятивистским замедлением течения времени.
Для характеристики релятивистского эффекта замедления
времени обычно пользуются также понятием собственного вре-
мени. Собственным временем называют время, измеренное по
часам, движущимся вместе с системой отсчета, т. е. покоящимся
в ней. По отношению к часам неподвижной лаборатории проме-
жуток собственного времени будет всегда меньше промежутка
лабораторного времени и может быть найден по формуле
т = t 1 - —
N С2
Таким образом, релятивистские эффекты, фиксируемые пре*
образованиями Лоренца, приводят к тому, что длина и промежУ'
ток времени утрачивают свой абсолютный характер, какой онй
352
Часть II. Глава 12
.v гл-л\,-гк-/л л^'wZmwm
носили в классической механике. Длина и временной промежу-
ток перестают быть характеристиками объектов самих по себе,
они становятся относительными, выражающими отношение
объектов друг к другу.
Природа релятивистских эффектов
В вопросе о природе релятивистских эффектов сталкиваются
различные философские взгляды, и его решение занимает цен-
тральное место в философской интерпретации специальной тео-
рии относительности.
На наш взгляд, здесь существуют три наиболее общие кон-
цепции: 1) динамическая, 2) субъективистская и 3) релятивист-
ская, соответствующая действительному содержанию теории от-
носительности. Рассмотрим эти концепции.
Динамическая концепция исторически предшествует теории
относительности и берет начало от предложенной Лоренцем и
Фицджеральдом для объяснения отрицательного результата
опыта Майкельсона так называемой гипотезы сокращения. Ло-
ренц и Фицджеральд выдвинули предположение, что все тела в
L v2
направлении своего движения сокращаются в А1 —г раз; с чис-
V с
•го математической точки зрения это то же самое выражение, что
и в теории относительности. Однако физический смысл сокра-
щения Лоренца—Фицджеральда1 совершенно иной. Лоренцево
сокращение — это абсолютное изменение абсолютной длины,
оно вызвано динамическими причинами, силовыми воздейст-
виями на тело. Грубо говоря, оно носит такой же характер, как,
скажем, тепловое расширение тел, т. е. характеризует не свойст-
ва пространства, а силы, действующие на тела. В выражении
/ = /0 J1 - — по гипотезе Лоренца—Фицджеральда 10 — абсолют-
li С2
Ная длина тела, покоящегося по отношению к эфиру. При дви-
жении через эфир в результате взаимодействия составляющих
тело электронов с эфиром возникают электрические силы, кото-
1В дальнейшем мы для краткости будем называть это сокращение лоренце-
6ЧМ сокращением, но во избежание путаницы хотим предупредить, что в литера-
ТУРе иногда называют лоренцевым совпадающее с ним по математической фор-
релятивистское сокращение (сокращение Эйнштейна).
Философия науки
353
Философия науки
рые и вызывают сокращение. Сокращение носит абсолютный
характер и вместе с тем принципиально ненаблюдаемо. Оно ни в
чем себя не обнаруживает, кроме опыта Майкельсона, для объ-
яснения которого и было специально придумано.
Лоренц не осознал фундаментальной важности факта посто-
янства скорости света. Он считал, что фактически скорость света
непостоянна, но ее изменение в системах, движущихся в эфире,
компенсируется соответствующим «сжатием» всех линейных
размеров, так что фактически наблюдаемое явление регистриру-
ется как постоянство скорости света. Таким образом, наблюдае-
мый факт объяснялся как феноменологический результат двух
взаимнокомпенсирующих и принципиально ненаблюдаемых
эффектов: изменения скорости света и изменения линейных
размеров в направлении движения.
Хотя лоренцево сокращение и было предложено до появле-
ния теории относительности, но попытки истолковать реляти-
вистское сокращение в духе Лоренца не прекращались и в после-
дующий период в связи с попытками опровергнуть теорию отно-
сительности. В нашей литературе тоже нередки были заявления,
что теория относительности — это «схоластически-метафизиче-
ская интерпретация материалистических взглядов Лоренца», что
взамен теории относительности надо построить «материалисти-
ческую теорию быстрых движений».
Динамическое истолкование релятивистских эффектов с фи-
лософской точки зрения выполнено в духе механистического
материализма, поскольку связано с концепцией абсолютного
пространства и стремится сохранить абсолютность основной
метрической характеристики пространства — длины.
Jv2
1 —- как раз ут-
с2
верждает, что любое тело, как бы быстро по отношению к неко-
торой системе отсчета оно ни двигалось при измерении наблю-
дателем, покоящимся относительно этого тела, всегда будет
иметь одну и ту же длину /о, называемую собственной длиной-
Возьмем для наглядности космический корабль, находящийся
на стартовой площадке на Земле; его длина, измеренная перед
стартом, равна, скажем, 100 м. Стартовав, корабль разогнался Д°
околосветовой скорости, и его длина, измеренная наблюдателя-
ми с Земли, стала, допустим, 50 м. Это совсем не означает, что
корабль сократился вдвое, как может сократиться стержень поД
354
Часть II. Глава 12
действием приложенных к нему упругих сил. Длина корабля, из-
меренная находящимися на нем космонавтами, по-прежнему
остается 100 м (собственная длина, измеренная в системе, где те-
ло покоится, так как космонавты, измеряющие длину своего ко-
рабля, по отношению к нему находятся в покое).
Изложенное положение иногда формулируется таким обра-
зом, что на самом деле длина корабля осталась той же, и наблюда-
телям с Земли он лишь кажется со!фатившимся. Но что значит
«на самом деле»? Это выражение неявным образом вводит абсо-
лютную длину: собственная длина здесь объявляется абсолютной,
а все остальные (в других системах измеренные) — лишь кажущи-
мися. Иногда понятие длины вообще объявляется лишенным
объективного содержания и зависящим только от точки зрения
субъекта — наблюдателя. Так мы приходим ко второму истолко-
ванию релятивистских эффектов — субъективистскому.
Субъективистское истолкование основано на признании дли-
ны и временнбго промежутка зависящими от субъекта и им оп-
ределяемыми.
Первое обстоятельство, на котором базируется субъективи-
стское истолкование, — это «язык», на котором излагается тео-
рия относительности. В работах самого Эйнштейна и ряда круп-
ных физиков и особенно в работах бесчисленных популяризато-
ров теории относительности без нужды часто (для наглядности)
говорится о наблюдателях, измеряющих длины, массы, времен-
ное промежутки. На самом деле суть здесь не в наблюдателе, а в
системе отсчета, с которой он связан. И, строго говоря, напри-
мер, выражение «Длина космического корабля, с точки зрения
земного наблюдателя, — 50 м, а с точки зрения космонавта —
100 м» является неточным. Правильнее было бы сказать: «Длина
космического корабля в системе отсчета, связанной с Землей, —
50 м, а в системе отсчета, связанной с самим кораблем, — 100 м».
Система же отсчета отнюдь не есть нечто, порожденное субъек-
том, — это всегда некая объективная система координации со-
бытий, обязательно связанная с материальным (вещественным)
телом (даже электромагнитное поле не может быть системой от-
счета). Когда физик говорит о зависимости, например, длины от
точки зрения наблюдателя, то он фактически всегда имеет в виду
систему отсчета, с которой связан наблюдатель, а отнюдь не за-
висимость от наблюдателя как субъекта познания.
Второе обстоятельство, на котором базируется субъективист-
ское истолкование, — это отождествление относительного с
1г*
355
Философия науки
субъективным. Только абсолютному присваивается атрибут ре-
ального, относительное лишается такового. В действительности
это, конечно, не так. Относительные величины реальны не в
меньшей степени, чем абсолютные, — их отличие отнюдь не в
степени реальности. Мы фактически подошли к третьему истол-
кованию природы релятивистских эффектов, которое лучше
всего и назвать релятивистским.
Релятивистское истолкование исходит из того, что сокраще-
ние длины и замедление времени суть реальные, но относитель-
ные эффекты. Например, бессмыслен вопрос: какая длина на-
шего космического корабля — 100 или 50 м — реальна? В опре-
деленном смысле длина аналогична, например, скорости. Не
существует скорости тела самого по себе, это понятие выражает
отношение тела к системе отсчета, и одно и то же тело в разных
системах объективно имеет разные значения скорости. Подоб-
ное понимание скорости уже давно вошло в повседневный оби-
ход и не вызывает особых протестов, но с понятиями «длина» и
«промежуток времени» дело обстоит сложнее.
Длина не есть характеристика тела самого по себе, как счита-
ла классическая физика, она выражает отношение тела к систе-
ме отсчета и имеет смысл лишь в связи с той или иной системой
отсчета. Временной промежуток не есть свойство событий самих
по себе, а опять-таки выражает их отношение к системе отсчета
и только в ней имеет смысл. Причем эта зависимость становится
сколь-нибудь заметной лишь при околосветовых скоростях, и
поэтому нам так трудно освободиться от иллюзии абсолютной
длины и абсолютного времени1 * *.
1В физике длина и временной промежуток — измеримые величины, т. е.
время — это то, что мерят часами, расстояния — это то, что мерят линейками.
Процедуры измерения — это процедуры сравнения с эталоном. Основные кине-
матические эффекты специальной теории относительности (СТО) — относи-
тельность длины, промежутков времени и одновременности — вытекают из по-
стоянства скорости света. Это второй постулат Эйнштейна в СТО, который, по
сути, заменяет классический эталон твердого метра, длина которого не зависит
от скорости системы отсчета (из этого следуют преобразования Галилея), этало-
ном скорости света. Используя этот постулат и свет в измерительных процедура4
по определению времени (световые часы, где роль маятника выполняет луч све-
та, бегающий между двумя зеркалами) и одновременности, мы получим все ки-
нематические релятивистские эффекты, описываемые лоренцевыми сокраШе'
ниями длин и увеличениями интервалов времени, а также относительностью оД'
новременности (теперь все эти характеристики зависят от скорости) (сМ-
[Фейнман, 1965]). — Примечание редактора.
356
Часть II. Глава 12
Релятивистское замедление времени, как и сокращение
длин, не фикция, а реально существующий эффект, в принципе
доступный экспериментальной проверке. Проверка этого эф-
фекта на космонавтах является пока делом писателей-фанта-
стов, ибо достижение макроскопическими телами околосвето-
вых скоростей сегодня лишь абстрактная возможность, но она
возможна на микрообъектах1.
12.4. Пространство-время
в общей теории относительности
Гносеологические особенности возникновения
общей теории относительности
Чрезвычайно интересно и поучительно само возникновение
общей теории относительности. Оно свидетельствует об одной
достаточно общей закономерности развития естествознания, ко-
торая часто игнорируется в философских работах.
Общая теория относительности не была вызвана к жизни но-
вым экспериментальным материалом. Не было кричащих проти-
воречий между опытными данными и теоретической схемой, ко-
• торые привлекали бы всеобщее внимание ученого мира. В созда-
нии теории Эйнштейн исходил из ранее разработанной
специальной теории относительности и из уже 300 лет известно-
го физикам факта равенства инертной и гравитационной масс2.
Это последнее обстоятельство не получало объяснения в класси-
ческой физике, к нему привыкли и рассматривали его не как вы-
ражение фундаментальной закономерности, а как некое случай-
ное совпадение. Эйнштейн подверг глубокому логическому ана-
лизу равенство инертной и гравитационной масс и смог найти в
1 Но эффекты теории относительности сказываются в случаях не только
очень больших скоростей, но и очень больших точностей, которые сегодня тре-
буются в спутниковой навигации, когда с помощью спутников измеряются рас-
стояния на земле с точностью до десятков сантиметров. То есть уже несколько
Десятилетий эффекты теории относительности учитываются и проверяются в со-
временной технике. — Примечание редактора.
2 Кроме того, основной принцип СТО — ограничение скоростью света пере-
дачи воздействия на расстояние — был несовместим с принципом дальнодейст-
вия ньютоновской теории тяготения. — Примечание редактора.
357
Философия науки
нем ключ к дальнейшему обобщению специальной теории отно-
сительности.
В философской литературе приходится иногда встречаться с
тенденцией рассматривать противоречие между существующей
теорией и новыми опытными данными в качестве единственного
источника возникновения новых теоретических построений.
Это, безусловно, односторонняя точка зрения. В прогрессе нау-
ки важнейшую роль играет внутренняя логика развития теории,
стремление к максимально возможной общности, логической
стройности, принципиальной простоте. Даже в тех случаях, ко-
гда непосредственный стимул к появлению новой теории дает
противоречие между старой теорией и новыми опытными фак-
тами, решающим фактором в создании наиболее адёкватной
теории является умение ученого выявить в массе опытных дан-
ных узловые факты и подвергнуть их глубокому логическому
анализу. Тем более необходима эта способность, когда указан-
ное противоречие отсутствует и на поверхности теории царит
видимое благополучие.
На отмеченную сейчас важнейшую особенность научного
познания специально обратил внимание на сессии, посвящен-
ной 50-летию возникновения теории относительности, акаде-
мик И.Е. Тамм. Мы позволим себе привести довольно длинную
выдержку из его выступления: «Все научное творчество Эйнштей-
на с необычайной выпуклостью показывает, что коренные успехи
в познании природы достигаются глубоким логическим анализом
некоторых, немногих, основных, узловых опытных фактов и за-
кономерностей, которые нужно уметь выделить из колоссального
количества сведений и фактов, давящих своей огромной массой
на исследования в любой отрасли современной науки». И дальше
И.Е. Тамм говорит, что «поучительно противопоставить ее (пози-
цию Эйнштейна. — АЛ.) широко распространенной точке зре-
ния, что решению фундаментальных проблем науки необходимо
должно предшествовать накопление огромного количества экспе-
риментальных данных. В действительности пример как специ-
альной, так в особенности общей теории относительности пока-
зывает, что решающую роль для построения фундаментально
новой теории играет глубокий логический анализ узловых опыт-
ных фактов. Конечно, следствия из теории должны быть прове-
рены затем на максимально обширном опытном материал6*
[Эйнштейн и современная физика, 1965, с. 89—90].
358
Часть II. Глава 12
.A.....zz/.vz А* TTs'/v *" V '' *’ izwzz az z s z л / /wzziz •• z • z z z z.-z ’’’ ' ‘‘ ’ ’ 77s 77 z 7s777s ТыЛ 7s' 7 ' s г 777 ssssss z Z Z 7'7s7 7'*" ''"' ' avawzz zzzzazzz z zzzzz z
Принцип эквивалентности
Специальный принцип относительности утверждает, что во
всех инерциальных системах физические процессы протекают
одинаково и для формулировки законов физики можно пользо-
ваться любой из них. Встает вопрос: почему инерциальные сис-
темы находятся в столь привилегированном положении? Нельзя
ли попытаться обобщить принцип относительности на любые
системы отсчета, тем более что, как мы уже говорили, строго
инерциальных систем отсчета и не существует? На первый
взгляд кажется, что подобная задача неосуществима, ибо любая
неинерциальная система обнаруживает это свое свойство по
опытно проверяемым в ней эффектам. Следовательно, находясь
в замкнутой неинерциальной системе, физик может опытами,
проведенными внутри нее, установить движение этой системы.
Но может ли? Вот здесь и проявилась гениальная интуиция Эйн-
штейна, усмотревшего в давно известном равенстве инертной и
гравитационной масс ключ к решению стоявшей перед ним за-
дачи.
Рассмотрим следующий мысленный ^эксперимент. Возьмем в
качестве неинерциальной системы свободно падающий в поле
тяготения земли лифт (так называемый лифт Эйнштейна). Смо-
жет ли наблюдатель внутри лифта определить, что его система
отсчета ускоренно движется? Эйнштейн показывает, что ника-
кими экспериментами внутри лифта нельзя сделать выбор между
двумя утверждениями: 1) лифт ускоренно движется и исчезло
поле тяготения и 2) лифт покоится в поле тяготения.
Отправляясь от мысленного эксперимента с лифтом, Эйн-
штейн сформулировал принцип эквивалентности, утверждаю-
щий физическую неотличимость поля тяготения и поля, созда-
ваемого ускоренным движением. Этот принцип представляет
результат превращения случайного в классической физике ра-
венства инертной и гравитационной масс в фундаментальный
закон. Разумеется, принцип эквивалентности носит локальный
характер и строго справедлив лишь в бесконечно малых областях
пространства-времени.
Но для построения общей теории относительности как раз
вполне достаточно локальной справедливости принципа эквива-
лентности, что позволило Эйнштейну сформулировать общий
Принцип относительности, утверждающий ковариантность за-
конов природы в любых системах отсчета, как инерциальных,
359
Философия науки
так и неинерциальных. Это потребовало иной, более общей фор-
мулировки законов физики и оказалось связанным с необходи-
мостью дальнейшего изменения наших представлений о про-
странстве-времени. На этот раз речь шла о геометрии.
Геометрия и физика. Неразрывная связь
пространства-времени с материей
В рамках математики с единственностью евклидовой геомет-
рии было покончено в XIX в. благодаря работам Лобачевского,
Больяи, Гаусса и Римана. Оказалось, что логически возможны
одинаково стройные и непротиворечивые три системы геомет-
рии: Евклида, Лобачевского и Римана1.
Неевклидовы геометрии утвердились в качестве математиче-
ских теорий, но отношение их к реальному миру оставалось не-
ясным вплоть до создания общей теории относительности.
Правда, еще Лобачевский и Гаусс высказывали предположение,
что геометрия реального мира в больших масштабах является не-
евклидовой, и пытались определить отклонение от евклидовости
непосредственным измерением суммы углов треугольника. Од-
нако возможный дефект треугольника лежал в пределах неточ-
ности измерительных инструментов, и, как мы знаем теперь,
столь непосредственным путем установить неевклидовость ре-
ального пространства нельзя: она слишком мала. Неевклидова
геометрия уже как математическая теория имела огромное фи-
лософское значение: она нанесла смертельный удар идее апри-
орной достоверности и единственности геометрии. Заслуга об-
щей теории относительности состоит в «офизичивании» неевк-
лидовой геометрии, в создании (в дополнение к геометрии как
математике) геометрии как физики, как экспериментальной
науки, утверждения которой требуют опытной проверки.
1 Для пояснения их различия обычно прибегают к следующему приему. Вме-
сто пространства трех измерений берут пространство двух измерений, т. е. по-
верхность. В этом случае можно дать наглядное истолкование геометриям Лоба-
чевского и Римана. Соотношения геометрии Евклида осуществляются на плос-
кости. Риманова геометрия реализуется на поверхности сферы, где за прямую
линию берется отрезок дуги большого круга (т. е. круга, центр которого совпада-
ет с центром сферы). Здесь мы имеем дело с поверхностью положительной кри-
визны, в отличие от геометрии Евклида, где кривизна нулевая. Геометрия Лоба-
чевского реализуется на так называемой псевдосфере (напоминающей поверх;
ность лошадиного седла), которая является поверхностью отрицательной
кривизны.
360
Часть II. Глава 12
Уже из принципа эквивалентности следует возможность не-
евклидовой метрики пространства. В самом деле, пусть «лифт
Эйнштейна» покоится в отсутствии гравитационного поля. Через
отверстие А в стенке лифта в него попадает световой луч и падает
на противоположную стенку в точке В. Луч света — наилучшая
физическая реализация геометрического понятия прямой линии.
Мы, не задумываясь, скажем, что линяя АВ — прямая.
Пусть теперь лифт начал двигаться вверх с ускорением g. За
время, пока свет проходит расстояние между стенками, лифт ус-
певает сместиться вверх, и луч света попадает уже не в точку В, а
в точку S'. Но согласно принципу эквивалентности ускоренное
движение равнозначно наличию поля тяготения. Значит, в гра-
витационном поле траектория светового луча АВ' оказывается
искривленной. Линия АВ' сохраняет свойство, которым в евкли-
довой геометрии обладает прямая, — быть кратчайшим расстоя-
нием между двумя точками — и называется прямейшей, или гео-
дезической, линией.
Но гравитационные поля всегда имеются, а это значит, что
любые линии в реальном пространстве, которые можно физиче-
ски идентифицировать, не будут евклидовыми прямыми, и, сле-
довательно, метрика пространства неевклидова (см. [Эйнштейн,
1955, с. 55-57].
• Однако обнаружить неевклидовость в реальных эксперимен-
тах столь просто нельзя, она доказывается совпадением следст-
вий общей теории относительности с опытом. Мы постараемся
дать некоторое представление об этом. Специальная теория от-
носительности ввела понятие интервала как своеобразного рас-
стояния между событиями в пространстве-времени1. Элемент
интервала задавался выражением ds2 = dx2 + dy2 + dz2 — (ct)2. За-
данное таким образом расстояние как раз и выражает евклидов
характер метрики (точнее, псевдоевклидов, так как четвертая ко-
ордината (временная) входит со знаком «минус», но это сейчас
несущественно). С математической точки зрения приведенное
выражение представляет квадратичную форму от четырех пере-
менных. Но это частный случай квадратичной формы. В общем
1В СТО событие состоит в нахождении частицы в данный момент времени в
Данной точке трехмерного пространства и характеризуется соответствующей чет-
веркой чисел, интервал между событиями обладает важным свойством — его ве-
личина не зависит от системы отсчета, в то время как величина расстояний и
Промежутков времени — зависит.
361
Философия науки
случае она должна включать 16 членов, представляющих все воз-
можные произведения дифференциалов переменных. Введем
упрощающие обозначения. Будем координаты записывать одной
буквой с индексом внизу: хь х2, х2, х4 (соответствуют прежним х,
у, z, ct). Перед произведениями дифференциалов координат бу-
дем ставить соответствующие коэффициенты: перед dX\ • dxi
(т. е. dxf) поставим коэффициент gn, перед dx\ dx2 — gn и т. д.;
всего 16 коэффициентов gik, где / и к пробегают значения от 1 до
4. Теперь квадратичная форма запишется следующим образом:
ds2 = gn dx* + gndx\dx2 + gndx\dx + g^dx^dx^ +
+ g2ldx2dxi + g22 dx22 + ... + g^dxl.
С помощью знака суммирования 2 эту запись можно сокра-
тить: ds2 = 2 gikdxidxk, что означает, что берется сумма всех чле-
нов вида gikdXjdXk, когда ink пробегают значения от 1 до 4. По
предложению Эйнштейна договорились опускать знак 2 и счи-
тать, что по индексам, которые встречаются дважды, производит-
ся суммирование. В нашей квадратичной форме индексы / и к
встречаются дважды, это означает, что по ним производится
суммирование. Поэтому окончательно можем записать:
ds2 = gtkdxjdxk.
Если в этом выражении положить gik = 0, когда /V к и gik = 1,
когда i = к (с добавлением, что g44 = -1), то мы получаем выраже-
ние для интервала в специальной теории относительности. Но в
общем случае величины gik совсем не обязаны принимать столь
«простые» значения, они могут иметь произвольные, перемен-
ные значения, т. е. быть функциями от координат хь х2, х3, Х4.
Совокупность 16 коэффициентов gik образует особую математи-
ческую величину, называемую тензором, а коэффициенты пред-
ставляют собой компоненты этого тензора1 * * 4.
1 Мы не можем здесь объяснять, что такое тензор. Отметим лишь, что в из-
вестном смысле понятие тензора является обобщением понятия вектора. Вектор
может быть назван тензором первого ранга (в четырехмерном континууме имеет
4 компоненты), тензор gik является тензором второго ранга (16 компонент)-
Обычная величина (скаляр) может быть названа тензором нулевого ранга (одна
компонента — сам скаляр). А так называемый тензор кривизны Римана яв"
ляется тензором четвертого ранга и содержит 64 компоненты.
362
~............. , ... Часть II. Глава 12
Тензор gik носит специальное название фундаментального
метрического тензора, ибо значения его компонент как раз и оп-
ределяют характер метрики. В евклидовой геометрии компонен-
ты gik равны 1 при / = к и 0 в остальных случаях. В неевклидовой
геометрии компоненты gik принимают другие значения. Задать
значения компонент фундаментального метрического тензора —
значит определить элемент расстояния, а тем самым и характер
метрики.
То, что было ранее сказано о квадратичной форме, является
«чистой математикой». Эйнштейн показал, и в этом суть общей
теории относительности, что компоненты gik не только задают
метрику пространственно-временнбго континуума, но представ-
ляют собой также величины, аналогичные гравитационным по-
тенциалам. Значения компоненту определяются распределени-
ем материальных тел, они суть описание гравитационного поля.
В общей теории относительности гравитация и метрика оказы-
ваются, таким образом, в определенном отношении тождествен-
ными. Гравитационное поле может быть охарактеризовано как
отступление пространственно-временнбй метрики от евклидо-
вости (как «искривление» пространства-времени), и, наоборот,
метрика пространства-времени может быть представлена как
проявление гравитации.
Нам представляется малоплодотворным ведущийся иногда
спор о том, что чем определяется: гравитация метрикой или на-
оборот. Здесь нет отношения причинного предшествования.
Гравитация не есть нечто существующее вне метрики и ее опре-
деляющее, так же как и метрика не существует вне и до гравита-
ции. Гравитационное и метрическое поля — это два разных опи-
сания одной и той же реальной сущности, и друг без друга они не
существуют.
Так была решена вековая загадка тяготения, но решена со-
вершенно неожиданным, «диковинным» способом. До Эйн-
штейна это пытались сделать на путях раскрытия механизма
Действия той силы, которая обусловливает движение небесных
тел. Эйнштейн перевернул саму постановку проблемы. Силы тя-
готения, аналогичной силам, действующим в механике или
электродинамике, просто не существует. Движение тел в поле
Тяготения есть своеобразное движение по инерции, но в «ис-
Кривленном» пространстве, где место прямых линий занимают
прямейшие, или геодезические, мировые линии. Как в свое вре-
Мя Галилей показал, что равномерное, прямолинейное движе-
363
Философия науки
ние не вызывается каждый раз действием особых, приложенных
к телу сил, а представляет движение по инерции в евклидовом
пространстве, так и Эйнштейн показал, что движение в поле тя-
готения вызывается не действием особых гравитационных сил,
приложенных к движущимся телам, а является движением по
инерции, но в неевклидовом пространстве1.
Разумеется, столь неожиданное решение проблемы могло
быть принято лишь после очень солидного обоснования, и об-
щая теория относительности дала его, хотя оно тоже оказалось
неожиданным. Общая теория относительности заменяет ньюто-
нов закон тяготения новым уравнением тяготения, записанным
в тензорной форме. При развертке этого уравнения получаются
10 дифференциальных уравнений для 10 независимых- компо-
нент фундаментального метрического тензора &*2, которые заме-
няют одно дифференциальное уравнение в ньютоновой теории.
х Для стационарного (установившегося) движения и у Ньютона, и у Эйнштей-
на можно убрать силы инерции и гравитации, проведя динамическую геометриза-
цию путем выбора «естественного» движения для тела («динамического состоя-
ния» — обобщения движения по инерции), которое описывается параметриче-
ски с помощью геодезической кривой в 4-мерном пространстве-времени Римана
(что еще не означает «перемешивания» пространства и времени в том смысле,
который имел в виду Г. Минковский). Эта возможность связана с тем, что силы
инерции и тяготения действуют на все тела. Равенство инертной и тяжелой масс
(Ньютону это было необходимо для получения 3-го закона Кеплера) и локаль-
ных сил инерции и гравитации имеют место уже в динамике и теории тяготения
Ньютона. Качественное отличие между теориями тяготения Ньютона и Эйн-
штейна возникает при описании нестационарного процесса локального измене-
ния в «базовой совокупности тел» (определяющей соответствующую «динами-
ческую геометрию»). Это та ситуация, в которой теория тяготения Ньютона не
работает вообще, что выражается в противоречии ее с принципом СТО об отсут-
ствии мгновенного воздействия на расстоянии. Ради решения этой проблемы
Эйнштейн и создавал ОТО. Здесь уже речь идет об изменении «динамического
состояния», а следовательно, о силовом поле. Здесь, согласно развиваемому в
[Липкин, 2001; 2006] (см. литературу к гл. 7) подходу, 4-кривизна выступает как
математический образ поля тяготения, а геометрические аналогии Эйнштейна,
подобно гидродинамическим аналогиям Максвелла, указывают на рабочий путь
к адекватным уравнениям движения (Максвеллу его «аналогии» позволяли не
отрываться от моделей сплошной среды, а Эйнштейну — от особенности тяготе-
ния действовать на все тела), эти аналогии служат «рабочими лесами», а не фи-
зической моделью. Такая трактовка 4-мерия (не «по Минковскому») и геометри-
ческих аналогий Эйнштейна пока не является широко распространенной в фи-
лософском сообществе, но она высвечивает дополнительные ракурсы в
обсуждаемой проблеме. — Примечание редактора.
2 Всего gik, как мы писали, содержит 16 компонент, но из них независимыми
являются лишь 10 (такой тензор называется симметричным; у него компоненты
вида g]2, #24 и т.д. равны компонентам вида g2b #42 и т.д.).
364
Часть II. Глава 12
Ньютонов закон тяготения получается как предельный случай
эйнштейновских уравнений, т. е. общая теория относительности
удовлетворяет принципу соответствия. Кроме того, она позволя-
ет предсказать (или объяснить) ряд явлений, необъяснимых в
ньютоновой теории. Это — движение перигелия Меркурия, ис-
кривление светового луча в гравитационном поле и замедление
хода часов в гравитационном поле (или, что то же самое, смеще-
ние спектральных линий в гравитационном поле к красному
концу — гравитационное красное смещение1)- Все эти эффекты
получили экспериментальную проверку, особенно последний,
который был с фантастической точностью подтвержден в зем-
ных условиях на базе использования так называемого эффекта
Мёссбауэра.
Однако дело не только в опытных подтверждениях общей
теории относительности (хотя, разумеется, если бы опыт проти-
воречил следствиям теории, ее пришлось бы отбросить). Ее сила
в исключительной стройности и широте, в ликвидации пропасти
между инерцией и гравитацией, между гравитацией и простран-
ством-временем. Эйнштейн справедливо указывал, что, даже ес-
ли бы общая теория относительности не предсказала никаких
новых эффектов по сравнению с ньютоновой, ее все равно сле-
довало бы предпочесть последней именно по причине логиче-
ской стройности, широты и внутреннего совершенства. Общая
теория относительности дает чрезвычайно ценный гносеологи-
ческий урок. Она убедительнейшим образом свидетельствует о
той огромной роли, которую играют теоретическое мышление и
глубокий логический анализ основных понятий в современной
науке, заставляет нас с новой стороны подойти к привычному
понятию объяснения. Последнее может состоять в отказе объяс-
нять то, что традиционно считалось главным объектом изучения
(механизм действия гравитационных сил), и в переходе на со-
вершенно новый путь, предполагающий радикальное изменение
самой постановки проблемы.
Огромное значение общей теории относительности состоит в
Дальнейшем развитии взглядов на проблему пространства-вре-
мени. В классической физике пространство и время рассматри-
вались как абсолютные, ни от чего не зависящие сущности. Гер-
Ман Вейль удачно сравнивал пространство и время Ньютона с
1 Не путать с космологическим красным смещением.
365
Философия науки
J 'лч^Тг ч •" *г 4“ г \ s' s' s's г г г** ' % * ч- ч г ч ? ч ? «аУч ' ч «г. гг гг. г г ч*г г ч г. гг г. чгчмг. гг ч гг гггчггг -г. ггг г \
казармами, которые остаются сами собой вне зависимости от то-
го, находятся в них в настоящий момент солдаты или нет. Спе-
циальная теория относительности лишила пространство и время
абсолютного статута, связав их в единое целое — пространствен-
но-временной континуум1. Но «точно так же, как с ньютонов-
ской точки зрения оказалось необходимым ввести постулаты
tempus est absolutum, spatium est absolution (время абсолютно, про-
странство абсолютно. — А.Л.), так с точки зрения специальной
теории относительности мы должны объявить continuum spatii et
tempons est absolutum (пространственно-временной континуум
абсолютен. — А.Л.). В этом последнем утверждении absolutum
означает не только «физически реальный», но также «независи-
мый по своим физическим свойствам, оказывающий-физиче-
ское действие, но сам от физических условий не зависящий»
[Эйнштейн, 1965, с. 52]. Однако, продолжает Эйнштейн, «пред-
ставление о чем-то (пространственно-временной континуум),
что воздействует само, но на что нельзя воздействовать, проти-
воречит присущему науке методу мышления» [Там же, с. 53].
Общая теория относительности преодолевает эту ограничен-
ность. Не только пространство и время по отдельности, но и про-
странственно-временной континуум лишается абсолютности.
Призрак субстанциальности пространства и времени, веками ви-
тавший над наукой, окончательно изгоняется. Пространство-вре-
мя ничто без материи, формой бытия которой оно является. Мет-
рика пространства-времени, описываемая компонентами gik,
создается распределением материальных масс, пространст-
во-время является выражением наиболее общих отношений
материальных объектов и вне материи существовать не может.
Этот центральный тезис общей теории относительности в пони-
1 Здесь излагается классический взгляд на связь пространства-времени и
гравитации в теории относительности, исходящий из знаменитой фразы Г. Мин-
ковского: «Отныне пространство само по себе и время само по себе должно об-
ратиться в фикции, и лишь некоторый вид соединения обоих должен еще сохра-
нять самостоятельность». Но он не единственно возможный. Проведенный в
[Липкин, 2001; 2006] (см. литературу к гл. 7) анализ того, как работают физики,
как они вводят тензор энергии-импульса, который и приводит к искривлению
пространства-времени, как они пытаются регистрировать гравитационные вол-
ны, как описывают различные наблюдаемые явления, приводит к выводу, что в
ОТО 4-мерие используется лишь как математический аппарат, где кривизна про-
странства-времени является математическим образом гравитационного поля,
описываемого ускорениями, действующими на тело или электромагнитное поле,
и их пространственными производными. — Примечание редактора.
366
\ Часть II. Глава 12
\
мании природы пространства-времени образно сформулировал
Эйнштейн в беседе с корреспондентом американской газеты
«Нью-Йорк тайме» 3 апреля 1921 г. Отвечая на вопрос коррес-
пондента, какова суть теории относительности, Эйнштейн ска-
зал: «Суть такова: раньше считали, что если каким-нибудь чудом
все материальные вещи исчезли бы вдруг, то пространство и вре-
мя остались бы. Согласно же теории относительности вместе с
вещами исчезли бы и пространство, и время».
В этих словах прекрасно выражен основной философский
результат теории относительности: пространство и время не са-
мостоятельные субстанции, а способ существования единствен-
ной субстанции — материи.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кудрявцев П.С. История физики. Т. 1. М.: Учпедиз, 1948.
Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 5. Статистическая фи-
зика. Ч. 1. М.: Наука, 1976.
Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. Баку: АН АзССР. Ин-т фи-
лософии, 1946.
Полемика Г. Лейбница с С. Кларком. Л.: Изд-во ЛГУ, 1960.
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 2.
М.: Мир, 1965.
Физический энциклопедический словарь. М'., 1965.
Эйнштейн А. Сущность теории относительности. М.: ИЛ, 1955.
Эйнштейн и современная физика. Л.: Гостехиздат, 1965.
ВОПРОСЫ
1. Основные свойства пространства и времени.
2. Пространство и время в классической физике.
3. Пространство и время в специальной теории относительности.
4. Пространство и время в общей теории относительности.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Полемика Г. Лейбница с С. Кларком. Л.: Изд-во ЛГУ, 1960.
Эйнштейн А. Сущность теории относительности. М.: ИЛ, 1955.
Глава 13
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ
Если вы хотите кое-что выяснить у физи-
ков-теоретиков о методах, которые они при-
меняют, я советую вам твердо придержи-
ваться одного принципа: не слушайте, что
они говорят, а лучше изучайте их действия...
А. Эйнштейн. О методе
теоретической физики, 1933
13.1. «Старая» квантовая теория первой четверти XX в.
В ходе создания и осмысления современной квантовой меха-
ники в 1925—1927 гг. возникло несколько конкурирующих пара-
дигм (и соответствующих им сообществ)1, которые физики, а за
ними и философы назвали «интерпретациями». Спор между ни-
ми и сформулированные в ходе этого спора «парадоксы», обсуж-
дающиеся до сего дня [Клышко, 1988, 1994; DeWitt, 1970, 1971;
Ballentine, 1970, 1987; Stapp, 1972; Менский, 2000], и составляют
ядро «философских проблем квантовой механики».
Этому спору предшествовала так называемая «старая» кван-
товая теория периода 1900—1925 гг., которая представляла собой
совокупность теорий различных явлений, полученных путем
введения в соответствующие формулы постоянной Планка. Это
было особым искусством. Сами эти явления были выбраны из
накопленных физикой в конце XIX в. «аномалий». Наибольшее
значение имели три проблемы2: спектра теплового излучения
черного тела, фотоэффекта, спектра и строения атома. Решение
1В этой главе, а также в двух последующих главах того же автора широко ис-
пользуется понятийный аппарат, изложенный в п. 6.5. и гл. 7.
2 В качестве четвертой «аномалии» часто приводят проблему теплоемкости
твердых тел при низких температурах, которую Эйнштейн разрешил в рамках
старой квантовой теории. Это послужило еще одним веским доводом в пользу
необходимости развития квантовой механики, но ее роль была куда скромнее,
чем роль рассматриваемых ниже трех проблем.
368
Часть II. Глава 13
цервой из них привело к появлению в 1900 г. постоянной Планка
fi, как раз и ознаменовавшей рождение «старой» квантовой тео-
рии. Создание Эйнштейном в 1905 г. теории фотоэффекта ввело в
физику модель волны-частицы (фотона), подхваченную позже
Де Бройлем и ставшую затем базовой для новой квантовой меха-
ники. Проблема спектра и строения атома водорода стала основ-
ным: полигоном, на котором отрабатывались элементы как старой
(в виде теории атома Бора (1913), так и новой квантовой механики.
Парадокс теплового излучения абсолютно черного тела был
четко сформулирован Лоренцем на IV Международном матема-
тическом конгрессе в Риме в апреле 1908 г. в докладе «Распреде-
ление энергии между весомой материей и эфиром». «В докладе
подчеркивалось, что при использовании статистической механи-
ки, верной для любых систем, подчиняющихся уравнениям дви-
жения Гамильтона, получается формула Рэлея—Джинса... Полу-
ченная для длинных волн (или низких частот v. — А.Л.) [эта] фор-
мула всеобща... А поскольку эта формула противоречит фактам
(согласно этому закону с ростом частоты v энергия излучения
должна неограниченно расти (этот эффект получил название
«ультрафиолетовой катастрофы», что не подтверждается опытом,
который на высоких частотах описывается формулой Вина. —
А.Л.), существует некоторое противоречие» [Франкфорт, 1975,
с. 60]. Тем самым Лоренц констатировал, что эта проблема в
принципе не может быть решена в рамках существовавших в то
время разделов физики (т. е. речь идет об «аномалии», вызываю-
щей «кризис» в смысле Куна). Решение, предложенное в 1900 г.
немецким физиком Максом Планком, Лоренц рассматривал
лишь как один из возможных путей преодоления этого парадокса.
Тем не менее именно от формулы Планка и появившейся в ней
постоянной Планка h квантовая механика отсчитывает свою ис-
торию1. К ней стали относить все теории, использовавшие h.
1В декабре 1900 г. Планк нашел простую формулу для спектральной плотности
Теплового излучения, которая приводила в предельных случаях высоких и низких
Частот к известным формулам Вина и Рэлея—Джинса для спектра излучения черно-
тела. В письме'к американскому физику Р. Вуду в 1931 г. он писал: «Это было
Чисто формальное предположение, и я не размышлял особенно о нем; единствен-
4°, что меня волновало, — это любым способом получить положительный резуль-
Тат> чего бы это ни стоило» [Франкфорт, 1975, с. 52]. Затем он, приняв гипотезу о
Квантовании энергии электронного осциллятора (типа заряда на пружинке), вывел
формулу на основании электродинамики и статистической механики, построив
^Которую частную физическую модель, отвечающую этой формуле.
369
Философия науки
Еще один парадокс — парадокс устойчивости атома — состо-
ял в том, что результаты опытов Резерфорда о столкновении
а-частиц с атомами указывали на то, что атомы содержат ма-
ленькое положительное ядро, в поле которого движутся электро-
ны. Отсюда вытекала планетарная модель атома Резерфорда
(1911). Но согласно законам электродинамики подобное движе-
ние электрона являлось ускоренным, а следовательно, электрон
должен был излучать электромагнитные волны, терять энергию
и очень быстро (за 10-10 с.) упасть на ядро. Гипотеза квантов по-
зволила Бору объяснить этот парадокс, создав свою знаменитую
квантовую модель атома водорода (1913), в которой к планетар-
ной модели Резерфорда были добавлены идея дискретности ста-
ционарных орбит и правила перехода между ними: разница меж-
ду энергиями у-й и r-й орбитами (Ejr) приравнивалась величине
hvjn где Vjr — частота отвечающей этому переходу излученной
или поглощенной электромагнитной волны. Эта модель позво-
ляла объяснить также ряд обнаруженных к тому времени эмпи-
рических выражений, описывающих дискретные спектры из-
лучения различных атомов, — проблему, которая тоже находи-
лась в центре внимания физиков того времени, хотя, возможно,
и не воспринималась как серьезная «аномалия».
Важным нововведением стала корпускулярно-волновая мо-
дель света, предложенная Эйнштейном в его квантовой теории
фотоэффекта в 1905 г. Основные эмпирические закономерности
фотоэффекта были установлены к началу XX в.: «В тех случаях,
когда слабые ультрафиолетовые лучи оказывают действие, крас-
ные лучи огромной интенсивности никакого действия не оказы-
вают... С увеличением энергии лучей данной длины волны уве-
личивается число электронов, вылетающих в единицу времени с
единицы поверхности освещенного тела, но не меняется их ско-
рость... С точки зрения волновой теории главным фактором фо-
тоэффекта должна была бы быть энергия света, тогда как частота
была второстепенным фактором» [Там же, с. 47—48]. Это звуча-
ло как парадокс и было осознано физическим сообществом как
«аномалия», хотя и не такая важная, как первая. Впрочем, Эйн-
штейн констатировал, что эта проблема не может быть решена в
рамках существующих разделов физики. Строя теорию фотоэф'
фекта, он в статье «Об одной эвристической точке зрения, ка-
сающейся возникновения и превращения света» (1905) ввел
представление о свете, состоящем из квантов с энергией Е-№-
370
Часть II. Глава 13
Согласно этой модели один квант света выбивает один электрон,
для чего требуется энергия кванта E=hv больше энергии связи
электрона в атоме. Обсуждение гипотезы квантов как способа
решения этих парадоксов и особенно дискуссия Эйнштейна и
Доренца по поводу гипотезы квантов света — фотонов привели к
формулировке парадокса «волна-частица» для света: квант света
распространялся согласно волновой теории (это проявлялось в
явлениях интерференции и дифракции), а поглощался как час-
тица* 1.
«Дальнейшее доказательство корпускулярного характера све-
та было получено в 1922 г. американским физиком А. Компто-
ном, показавшим экспериментально, что рассеяние света свобод-
ными электронами происходит по законам упругого столкнове-
ния двух частиц — фотона и электрона (эффект Комптона)...
Таким образом, было доказано экспериментально, что наряду с
известными волновыми свойствами (проявляющимися, напри-
мер, в дифракции света) свет обладает и корпускулярными свой-
ствами: он состоит как бы из частиц — фотонов... Возникло фор-
мальное логическое противоречие: для объяснения одних явле-
ний необходимо было считать, что свет имеет волновую
природу, а для объяснения других — корпускулярную2. По суще-
ству, разрешение этого противоречия и привело к созданию физиче-
ских основ квантовой механики («новой». — АЛ.)», — пишет
В.Б. Берестецкий [Берестецкий, 1983, с. 253]. В начале 1920-х гг.
французский физик Луи де Бройль предположил, что и частицы
материи тоже распространяются как волны3, и в 1927 г. Дэвис-
сон и Джеммер получили от рассеяния пучка электронов на кри-
сталле картину, аналогичную рентгенограмме Лауэ, свидетельст-
вующую, что электроны, как и рентгеновские лучи, испытывают
характерную для волн дифракцию.
Эту двойственность поведения квантовых частиц, часто назы-
ваемую «корпускулярно-волновым дуализмом», хорошо иллюстри-
5
1 Эта гипотеза долго не принималась сообществом физиков, включая Бора.
'Даже после признания справедливости закона Эйнштейна для фотоэффекта
Практически никто, кроме него самого, не хотел принимать всерьез световые
Кванты. Все так и оставалось до начала 20-х годов» [Пайс, 1989, с. 366—370,371].
2Таким образом, спор Ньютона и Гюйгенса о природе света получает второе
Рождение, но в модифицированном виде.
п 3С частотой v=moc2//i (m0 — масса покоя частицы) [Франкфорт, 1975, с. 143;
Деммер, 1985, с. 239].
371
Философия науки
рует мысленный эксперимент по прохождению квантовой час-
тицы (электрона, фотона и др.) сквозь экран с двумя щелями
(«двущелевой эксперимент»), изображенный на схеме 13.1, где
Pi, Р2, Р12 изображают интенсивности поглощаемых потоков,
проходящих через 1-ю, 2-ю и обе щели соответственно.
Двойственность состоит в следующем. Если за экраном по-
ставить фотопластинку, то при однократном наблюдении мы
увидим локальную точку, как в случае частицы, но при много-
кратном повторении эксперимента с одной частицей мы увидим
на фотопластинке дифракционно-интерференционную картину,
характерную для волны, проходящей через обе щели одновре-
менно. При этом если мы каким-либо способом захотим под-
смотреть, через какую щель проходит каждый раз частица, то
интерференционная картина пропадет (подробнее см.: [Фейн-
ман, 1965, т. 8, гл. 1]).
13.2. Три парадигмы «новой» квантовой механики
Задача по преобразованию парадокса «корпускулярно-вол-
нового дуализма» в «новую» квантовую механику реализуется в
1925—1927 гг. Психологически «старая» и «новая» квантовые ме-
ханики тесно связаны, но логического перехода от первой ко
второй нет. Появление «новой» квантовой механики — это ска-
чок, «научная революция» в смысле Куна.
Как и положено научной революции, в ее ходе возникают
новые парадигмы и объединенные вокруг них сообщества, но в
372
Часть II. Глава 13
случае квантовой механики возникло сразу три парадигмы, ко-
торые будем называть «копенгагенской», «эйнштейновской» и
«теорфизической» (близкие тем, которые выделил К. Поппер
[Поппер, 1998]).
Правда, в истории квантовой механики они фигурировали
под именем «интерпретаций» и часто воспринимались как раз-
личные «интерпретации волновой функции» (по аналогии с «ве-
роятностной интерпретацией волновой функции» М. Борна).
Такому восприятию способствовали два обстоятельства.
Первое связано со спецификой истории формирования со-
временной «новой» квантовой механики. Формирование ее основ
началось с постулатов, задавших математическое представление
еще не сформировавшихся физических сущностей (математиче-
ский слой на схеме 7.3). Центральным элементом этого пред-
ставления была волновая функция (здесь и далее ограничимся
представлением Шрёдингера). Последующие этапы формирова-
ния квантовой механики воспринимались современниками как
поиск смысла, т. е. интерпретации волновой функции и ее ана-
логов.
Второе обстоятельство состояло в том, что такое представле-
ние находилось в полном соответствии с феноменалистической
установкой позитивистской философии науки. В «общеприня-
том взгляде» неопозитивистов (п. 5.2) и ряда физиков (ср. пред-
ставление Мандельштама в п. 7.7) теория представляла собой
математическое выражение (уравнение, выражающее закон при-
роды). Интерпретации здесь отвечало приписывание физических
значений некоторым элементам этих математических выражений.
Это представление отвечает стандартному представлению интер-
претации как установлению соответствия (установление гомо-
морфизма) между элементами формул и «наблюдаемыми» из-
меримыми величинами. Однако построение модели, особенно
«Модели для» типа ПИО, есть нечто большее, чем интерпрета-
ция. Кун сравнивал научную революцию, что в нашем случае от-
учает построению новых ПИО, со сменой гештальта, противо-
поставляя революцию изменению интерпретации1. На то, что
Мы имеем дело с тремя «парадигмами», а не с интерпретациями,
1В случае построения «модели объекта (явления)» ВИО-типа, в силу претен-
3»йвио на онтологическую адекватность, по-видимому, тоже следует говорить
0 Модели, а не об интерпретации.
373
Философия науки
указывает характерное для разных парадигм взаимное неприятие
аргументов друг друга представителями разных парадигм. Так,
Эйнштейн в 1949 г., после четверти века споров с Бором, писал,
что, «несмотря на многочисленные попытки», он «так и не смог...
уяснить» «точной формулировки» «боровского принципа допол-
нительности» [Einstein, 1949, р. 674]. С другой стороны, М. Борн
утверждает, что «взгляды Эйнштейна представляют собой фило-
софское убеждение, которое не может быть ни доказано, ни оп-
ровергнуто физическими аргументами. Единственное, что мож-
но сделать в плане возражения этой точке зрения — это форму-
лировать другое понятие реальности...» [Борн, с. 170].
В философии науки обсуждается главным образом первая
пара «интерпретаций» (парадигм), формировавшихся в споре
друг с другом. Этот спор концентрировался вокруг нескольких
основных вопросов: 1) Существует ли состояние квантовой сис-
темы объективно и независимо от измерения? 2) Полна ли «новая»
квантовая механика, или в ней существуют фундаментальные «па-
радоксы» вокруг измерения состояний квантовой частицы (микро-
частицы) ? 3) Является ли вероятностное описание отдельной мик-
рочастицы принципиальным фактом квантовой механики? При
этом ключевым являлся первый вопрос.
Эйнштейн и его соратники (Шрёдингер, Де Бройль и др.) на-
стаивали на положительном ответе на первый вопрос и отрица-
тельном ответе на два последних. Они утверждали, что сложив-
шаяся к 1927 г. формулировка квантовой механики не полна.
Свою позицию они выразили в виде ряда «парадоксов», якобы
возникающих в формулировке квантовой механики (классиче-
ский набор состоит из анализируемых ниже парадоксов «кошки
Шрёдингера», «редукции (коллапса) волновой функции» и мыс-
ленного эксперимента А. Эйнштейна, Б. Подольского, Н. Розена
(ЭПР)), говорящих, с их точки зрения, о ее неполноте и незакон-
ченности. С этой парадигмой тесно связаны позитивные иссле-
довательские программы построения альтернативной квантовой
механики типа теорий скрытых параметров (Д. Бом и др.) и
близких им по духу «статистических интерпретаций», согласно
которым результаты квантовой механики применимы не к от-
дельным частицам, а лишь к ансамблям частиц1 [Ballentine
'«Статистическая интерпретация... полностью открыта в отношении скрЫ'
тых переменных. Она не требует их, но делает их поиск всецело осмысленны1*1’
[Ballentine, 1970, р. 372].
374
........... .. _ ........................Часть II. Глава 13
1970], а также различные теоремы (Белла и др.), доказывающие
бесперспективность теорий со скрытыми параметрами.
Приверженцы «копенгагенской» парадигмы («интерпрета-
ции»), выдвинутой Бором, Гейзенбергом, Борном, считающейся
наиболее популярной (ее часто называют «ортодоксальной»),
наоборот, давали положительные ответы на два последних во-
проса и отрицательный на первый. Они полагали, что сложив-
шаяся к 1927 г. формулировка квантовой механики полна, счита-
ли, что вероятностные утверждения квантовой механики следует
относить к отдельному микрообъекту, исключали парадоксы,
провозглашая «неклассическую» трактовку отношения между
состоянием физической системы и измерением — до измерения
«нет состояния». Например, в устах копенгагенца Борна это зву-
чит так: «Физик должен иметь дело не с тем, что он может мыс-
лить (или представлять), а с тем, что он может наблюдать. С этой
точки зрения состояние системы в момент времени t, когда не
проделывается никаких наблюдений, не может служить предме-
том рассмотрения» [Борн, 1977, с. 173]. То есть Борн просто от-
брасывает (запрещает) сформулированные «реалистом» Эйн-
штейном вопросы.
Как уже было сказано в начале главы, философские пробле-
мы квантовой механики возникают в рамках спора групп Бора
и Эйнштейна вокруг «парадоксов», связанных с трактовкой из-
мерения. В философском плане эти две группы придерживают-
ся соответственно инструменталистски-феноменалистической
(конструктивистской) и реалистической позиций.
Дух первой из них весьма четко выразил В. Паули: «Появле-
ние в физике волновой или квантовой механики в 1927 г. пока-
зало, что можно избавиться от кажущихся неразрешимыми про-
тиворечий при использовании различных описаний, при усло-
вии отказа от традиционных идей и идеалов о причинности и
Реальности природы... Эйнштейн, однако, отстаивал более огра-
ниченную концепцию реальности, основанную на полном раз-
личии между объективно существующим физическим состояни-
ем и любым типом наблюдения... Я бы назвал это... идеалом изо-
лированного наблюдателя». Паули вторит Уиллер: «Кажется, что
Ий были вынуждены заявлять, что явление вовсе не является яв-
лением до тех пор... пока оно не становится наблюдаемым явле-
^Ием. Вселенная не существует где-то там, независимо от про-
цесса наблюдения. Напротив, в некотором странном смысле,
(О
375
Философия науки
она вселенная участника наблюдения» [Аккарди, 2004, с. 79, 81,
82]. Отсюда возникает общий философский вопрос: «Существу,
ет ли объективная реальность?.. Обладает ли электрон некото-
рыми характеристиками сам по себе... объективно, до того как
мы измеряем эти характеристики? Ортодоксальная копенгаген-
ская интерпретация не дает нам положительного ответа на этот
вопрос. Утверждается, что свойства электрона фактически поро-
ждаются процедурой взаимодействия с измерительным прибо-
ром», — говорит Аккарди, приводя в своей книге подборку вы-
сказываний физиков по этой проблеме [Там же, с. 7—8]. До-
вольно авторитетный автор книг и статей на эти темы Д’Эспанья
утверждает, что якобы «доктрина о том, что мир состоит из объ-
ектов, существование которых не зависит от сознания человека,
оказывается в противоречии с квантовой механикой и экспери-
ментально установленными фактами». Очень похожие высказы-
вания мы можем найти и у Бора: «Ограничение возможности го-
ворить о явлениях как объективно существующих, наложенных
на нас самой природой, находит свое выражение, насколько мы
можем наблюдать, именно в квантовой механике» [Там же,
с. 45-47].
С этим ограничением для «копенгагенцев» связан и «.принцип
дополнительности» Бора, который Гейзенберг тесно связывает с
проблемой понимания квантовой механики [Гейзенберг, 1989,
с. 112]. Иногда, в рамках «копенгагенской интерпретации», его
называют «методологическим фундаментом квантовой механи-
ки» [Алексеев, 1995, с. 123]. «Принцип дополнительности» Бора
был провозглашен им в 1927 г. сначала на Международном фи-
зическом конгрессе в Комо (а затем на Сольвеявском конгрес-
се). Много позже (в 1949 г.), с учетом длительной дискуссии с
Эйнштейном и попытками снять его обвинение квантовой меха-
ники в неполноте, он об этом говорил так: «В своем докладе я
развил тогда точку зрения, которую кратко можно охарактеризо-
вать словом «дополнительность»; эта точка зрения позволяет, с
одной стороны, охватить характерную для квантовых процессов
черту неделимости («явления». — А.Л.) и, с другой стороны»
разъяснить существующие в этой области особенности поста-
новки задачи о наблюдении» [Бор, т. 2, с. 406—407]. Связь «неД6'
лимости» и «наблюдения» обусловлена введением в «копенг3'
генской интерпретации» «принципиально неконтролируемо!"0
376
Часть II. Глава 13
взаимодействия между объектами и измерительными прибора-
ми!1» [Том же] или «квантового постулата», согласно которому «в
атомной физике всякое наблюдение системы сопряжено с ее
возмущением. Иными словами, система в процессе наблюдения
всегда является открытой» [Джеммер, 1985, с. 340, 336]. Соглас-
но М. Джеммеру «в своем докладе Бор не определил дополни-
тельность явным образом» (некоторые полагали, что «недогово-
ренность этого понятия является, вероятно, одной из причин его
плодотворности»), однако «боровская концепция дополнитель-
ности выросла из принятия дуализма волна—частица», который
Бор рассматривал как «исходный пункт интерпретации теории»
И связывал с дополнительностью пространственно-временного
й причинного (совпадающего у него с импульсно-энергетиче-
ским) описаний [Джеммер, 1985, с. 334, 336, 340—341, 343—344].
Таким образом, корпускулярно-волновую дополнительность
можно взять в качестве основной и наиболее адекватной форму-
лировки «принципа дополнительности» (кроме нее известны и
другие [Джеммер, 1985, с. 343—344, Алексеев, 1995, с. 122—210]).
При этом Бор и Борн исходили из учета обоих типов проявле-
ний, в то время как их молодые коллеги Гейзенберг и Шрёдин-
гер пытались свести дело к одной из сторон (соответственно
корпускулярной или волновой) [Данин, 1981]. Бор пытался этот
дуалистический подход использовать как новый тип определе-
ния для новых ненаглядных понятий, т. е. решить ту проблему,
которую в используемом нами «объектном теоретико-операцио-
нальном» подходе выполняет гильбертовский неявный тип оп-
ределения системы понятий (гл. 7). Ему казалось, что ему это
Удалось. Эйнштейну так не казалось, и он был прав. Боровского
Принципа дополнительности, идущего от эмпирических прояв-
лений квантовых объектов, явно недостаточно, чтобы четко оп-
ределить понятия квантовой механики.
В обеих парадигмах большие проблемы возникают с понима-
ем квантовой механики. Как уже говорилось в п. 7.7, для физи-
ке понимание связано с построением модели, а феноменалис-
тко-инструменталистский подход, провозглашенный Паули,
®°рном и многими «копенгагенцами», моделей не предполагает.
Реалисты же во главе с Эйнштейном порождали «парадоксы», а
Позитивные модели. На этом фоне показательна позиция но-
белевского лауреата в области квантовой механики Р. Фейнма-
377
Философия науки
на, который говорит не о неполноте, а о непонятности кванто.
вой механики: «Квантовую механику никто не понимает, хотя
многие считают, что в ней все «чисто» и очень хорошо» [Алексе-
ев, 1995, с. 168]’.
С нашей точки зрения, причина непонимания, о котором го-
ворит Р. Фейнман и др., заключается в применении неадекват-
ных для этого случая классических понятий. Так, непонятность,
даже парадоксальность «дуализма волна-частица» возникает при
попытке понять квантово-механическое явление (типа поведе-
ния электрона) в логике классических понятий, где понятия
«частицы» и «волны» являются альтернативными. Но с той же
ситуацией мы столкнемся, если в понятиях классической меха-
ники попытаемся описать электромагнитную волну (с ее попе-
речным характером колебаний, требующим чрезвычайно твер-
дого эфира, который мы почему-то не ощущаем) или поведение
тел, движущихся с околосветовыми скоростями. И это естест-
венно: если бы в старых понятиях можно было описать новые
явления, то не надо было бы создавать новые разделы физики.
«Непонятность» — это исходное состояние, которое в ходе
сложной работы преобразуется в новые «первичные идеальные
объекты» и разделы науки (гл. 7). Для квантовой механики такой
исходной непонятностью стал сформулированный А. Эйнштей-
ном, Луи де Бройлем и др. «корпускулярно-волновой дуализм»,
который в 1925—1927 гг. трудами Шрёдингера, Гейзенберга,
Борна, Бора, Дирака и др. был преобразован в новый ПИО —
квантовую частицу.
-Это происходит в рамках третьей парадигмы, которую мы
назвали «теорфизической». К. Поппер выделяет ее со стороны
сообщества, как третью группу физиков, работающих в кванто-
вой механике, которые не обращают внимания на споры первых
двух групп вокруг указанных «парадоксов» (они часто просто не
знают о них)1 2 *. Им часто приписывают так называемую «мини-
1 Из-за этого квантовую механику используют как «темный чулан», куДа
можно спрятать концы бредовых или недоделанных теоретических псевдонаУ4'
ных «теорий».
2 Проводившийся мной в 1990-х гг. ежегодный опрос аспирантов Моск0®'
ского физико-технического института показал, что половина из них о «параД0^
сах» не знала вовсе. Автор этих строк узнал о них после защиты физико-матеМ®
тической кандидатской диссертации по квантовой механике. И это типичная °
туация.
378
^£TbJ!- Глава 13
сальную» феноменалистическую интерпретацию, в которой ог-
раничиваются математическим формализмом и возможностью
вычислять результаты. Последнее неверно: физики в квантовой
механике сплошь и рядом работают с моделями, которым при-
писывают онтологический, а не феноменологический статус, и
обращаются с квантовыми частицами во многом аналогично об-
ращению с частицами в классической механике. Если следовать
завету Эйнштейна анализировать то, что физики-теоретики де-
лают, а не то, что они об этом говорят, то вырисовывается опи-
санная в п. 13.3 четкая парадигма, в которой отсутствуют «пара-
доксы».
В этой парадигме, как и в «копенгагенской», полагают, что
сформировавшаяся к 1927 г. «новая» квантовая механика полна и
свободна от «парадоксов», а ее принципиально вероятностное
описание состояния физической системы относится к отдельной
частице. Но в трактовке соотношения между состоянием физи-
ческой системы и измерением здесь придерживаются эйнштей-
новской позиции: существует четкая граница между физической
системой и измерительным прибором (в противоположность при-
веденному выше утверждению Бора), и состояние физической
системы существует независимо от наличия измерения, которое
лишь выявляет его.
13.3. Основания квантовой механики —
«теорфизическая» парадигма
Следуя объектному теоретико-операциональному подходу
(гл. 7), выделим «ядро раздела науки» (ЯРН) квантовой механи-
ки. Его составляют постулаты Шрёдингера1, Борна, «процедура
квантования затравочной классической системы» Гейзенберга —
Бора и «принцип тождественности» квантовых частиц для мно-
гочастичных систем. Они являются общепризнанными основа-
ниями современной «новой» квантовой механики, и с их помо-
щью наполняются конкретным содержанием обозначенные на
сХеме 7.3 функциональные места.
1 Мы будем пользоваться «представлением Шрёдингера».
379
Философия науки
Под постулатами Шрёдингера здесь имеются в виду 1) мате-
матический образ состояния квантовой системы в виде «волно-
вой функции» TA(t) (ее часто называют Ч'-функцией) и 2) уравне-
ние Шрёдингера в качестве уравнения движения, куда входит
оператор Гамильтона Нкв, являющийся математическим обра-
зом квантово-механической системы (включая внешние усло-
вия).
То есть в случае квантовой механики на схеме 7.3 математи-
ческим образом SA(tj) является 4'A(tj), а уравнением движения яв-
ляется уравнение Шрёдингера (ex. 13.2)1. В силу того что уравне-
ние Шрёдингера — это уравнение волнового типа, то его посту-
латы ответственны за волновые свойства движения квантовой
частицы. При этом связь состояний здесь, как и в классической
физике, абсолютно детерминистична. В постулаты Шрёдингера
следует включить и принцип суперпозиции, утверждающий, что
если есть два состояния, описываемые волновыми функциями
Ti и Ч^, то существуют состояния, описываемые волновыми
функциями (аЧ/] + t№i) с любыми коэффициентами а и Ь.
Постулаты Борна ответственны за появление в квантовой
механике вероятности и за сочетание корпускулярных и волно-
вых свойств. Это центральные постулаты квантовой механики.
Нечеткость их формулировки — одна из причин существования
множества «интерпретаций» квантовой механики. Предлагаемая
здесь формулировка звучит так: 1) в квантовой механике состоя-
ние физической системы определяется не значениями, а распре-
делениями вероятностей значений соответствующих измеримых
<П|
Теоретическая часть (Т) Математический: фдП -|) “ ХД(А»Н —► фд(12) t ; Модельный: Зд(^) 8д(Ц) |и>
Схема 13.2
Стационарное уравнение Шрёдингера вводит стационарные состояния,
которые соотносятся не с моментами времени, а со значениями соответствуй'
щих интегралов движения (энергии, орбитального момента и т. п.).
380
Часть II. Глава 13
величин1 2, т. е. состояние описывается случайными величинами1}
2) из этого следует, что одно измерение ничего не говорит о со-
стоянии системы (если оно не приготовлено в особом «собствен-
ном» состоянии), поскольку, чтобы определить распределение
вероятностей, требуется достаточно длинная серия измерений;
3) задаются правила, позволяющие по математическому образу
состояния 4^(0 определить распределения вероятностей соот-
ветствующих измеримых величин (для чего вводятся операторы
измеримых величин или отвечающие им функции-орты3 (како-
выми служат собственные функции этих операторов) в гильбер-
товом пространстве волновых функций)4. Постулаты Борна —
это последовательный путь введения вероятности в квантовую
механику, причем вероятности как природного качества, а не ре-
зультата незнания. Они ничего не говорят о том, чтб будет с сис-
темой или ее состоянием после измерения.
Постулаты Шрёдингера и Борна определяют основные свой-
ства квантовых систем: вероятностный тип поведения и корпуску-
1 Это весьма распространенное среди физиков представление, которое я вы-
нес из лекций и семинаров при обучении в МФТИ, редко четко формулируется в
учебниках.
2 Понятия «случайность» и «вероятность» вводились разными авторами
по-разному (см., например, [ Чайковский, 2001]. Наиболее адекватной квантовой
механике является, по-видимому, линия Мизеса—Колмогорова, где дается сле-
дующее определение вероятности Р(А) наступления события А: «Можно практи-
чески быть уверенным, что если комплекс условий 5 будет повторен большое
число п раз и если при этом через т обозначить число случаев, при которых со-
бытие А наступило, то отношение т/п будет мало отличаться от Р(А)» [Колмого-
ров, 1998, с. 5].
3Так, в математическом слое вводятся математические образы измеримых
величин, но не измерительных приборов, которые относятся к операциональ-
ной, а не к теоретической части.
4 Часто постулаты Борна сводят к этому третьему из перечисленных выше
пунктов. По Л.де Бройлю, чья формулировка «вероятностной интерпретации
волновой функции» Борна наиболее адекватна действиям современного физи-
ка-теоретика, она сводится к «принципу квантования» (не путать с «условиями
(правилами) квантования» в «старой квантовой теории») — «точное измерение
Какой-либо механической величины может дать в качестве значения этой вели-
чины лишь одно из собственных значений соответствующего оператора (изме-
римой величины. — АЛ.)», дополненному «принципом спектрального разложе-
ния», утверждающим, что «вероятности различных возможных значений некото-
рой механической величины, характеризующей частицу, полная Ч'-функция
Которой известна, пропорциональны квадратам (точнее, квадратам модуля. —
А>Л.) амплитуд соответствующих компонент спектрального разложения Ч'-функ-
по собственным функциям рассматриваемой величины» [Де Бройль, 1965,
с- 173—174].
381
Философия науки
лярно-волновой дуализм1. Сочетание корпускулярных и волновых
свойств здесь хорошо иллюстрируется примером описанного
выше двухщелевого эксперимента (сх. 13.1). В соответствии с
постулатами Борна каждое отдельное измерение дает локальную
точку на втором экране-фотопластинке (корпускулярное свойст-
во), но если провести достаточно много измерений, то проявится
соответствующее распределение вероятностей, отвечающее ди-
фракционно-интерференционной картине (волновые свойства)
прохождения волны через две щели (при этом вопрос «через ка-
кую щель проходит частица?» на самом деле оказывается неадек-
ватным: у микрочастицы, как и у волны, нет локализованной
траектории).
Однако постулатов Шрёдингера и Борна недостаточно. Что-
бы задать квантово-механическую систему, состоящую из од-
ной или многих квантовых частиц, надо указать способ по-
строения математического образа физической системы — кван-
тового оператора Гамильтона Якв, который входит в «уравнение
движения». Стандартную процедуру его построения можно
представить в виде «.процедуры квантования затравочной класси-
ческой системы».
Эта процедура состоит в следующем. Исходной точкой здесь
является классическая модель системы, например планетарная
модель атома. Для нее строится классический математический
образ (например, классический гамильтониан Н(х,р) в декарто-
вой системе координат, являющийся функцией от положений
(х) и импульсов (р) частиц). Затем проводится процедура кван-
тования в виде замены этого классического математического
образа соответствующим оператором (например, компоненту
импульса частицы рх меняют на оператор (-/й/4л)(Э/дх)).
В результате получают квантовый гамильтониан Якв2, т. е. мате-
матический образ квантовой системы, отвечающий кванто-
во-механической физической модели. Так получается кванто-
1В «старой» квантовой теории акцент делался на дискретность характер^'
стик (энергии, момента количества движения и др.) квантовых объектов (сйс'
тем), но квантовая система в «новой квантовой теории» может обладать и непре'
рывными характеристиками. Здесь дискретность превращается в «корпускуляр'
ность».
2 Эта процедура с обсуждением некоторых опущенных здесь тонкостей при
ведена А. Мессиа как «общее правило построения уравнения Шрёдингера Л
принципу соответствия» [Мессиа, 1978, с. 75—78].
382
Часть II. Глава 13
во-механическая модель атома с делокализованными состояния-
ми («орбитами») электронов в атоме1. «Метод затравочной клас-
сической модели» постоянно используется в современной физи-
ке. В такой форме, но без такого особого названия этот метод был
сформулирован в фундаментальных работах 1927—1930 гг. Джона
фон Неймана и Поля Дирака [Нейман, 1964; Дирак, 1979, с. 156].
По сути, он появляется уже в первых основополагающих ра-
ботах Гейзенберга (1925), а у Луи де Бройля он существует под
именем «автоматический вывод волнового уравнения» [Де Бройль,
1986, с. 45]. В 1949 г. Бор излагает дело так: «Гейзенберг (1925)
заложил основы рациональной квантовой механики, которая
получила быстрое развитие благодаря важным вкладам Борна и
Иордана, а также Дирака. Теория вводит формальный аппарат, в
котором кинематические и динамические переменные клас-
сической механики заменяются абстрактными символами, под-
чиняющимися некоммутативной алгебре» [Бор, 1971, т. 2,
с. 404—405]. Последние есть не что иное, как операторы (в со-
временной терминологии). При этом, по утверждению Джемме-
ра, «фундаментальной особенностью, характерной для подхода
Гейзенберга, был способ использования принципа соответствия
Бора... Гейзенберг... рассмотрел... возможность «угадать» — в со-
гласии с принципом соответствия — не решение частной кван-
тово-механической задачи, а математическую схему новой меха-
ники» [Джеммер, 1985, с. 199]. Поэтому рассматриваемую «про-
1 Эта процедура, которую мы назвали «квантованием затравочной классиче-
ской модели», может быть проведена с разной степенью полноты. Ею, в частно-
сти, определяется выбор квазиклассического или последовательного кванто-
во-механического описания электромагнитного поля или фильтров (типа экрана
с щелью). Так, часто некоторые явления описываются с помощью сочетания
«Первичных идеальных объектов» квантовой механики и классической электро-
динамики. В этом случае говорят о квазиклассическом приближении. По такой
схеме вводится спин квантовой частицы (в первую очередь у электрона) в нере-
Дятивистской квантовой механике: квантовой частице приписываются классиче-
ский механический и магнитный моменты, которым затем приписываются кван-
т°вые характеристики по аналогии с орбитальным моментом. Так поступают в
°Пыте Штерна и Герлаха и эффекте Зеемана, где сталкиваются со взаимодейст-
®Ием электрона с магнитным полем. Электрон со спином здесь не является но-
вЫм «первичным» идеальным объектом по сравнению с электроном без спина,
п°скольку здесь спин добавляется по квазиклассической схеме. Другое дело —
^Дсктрон со спином в последовательной релятивистской квантовой механике Ди-
1>ака. Там речь идет об электроне со спином как новом по сравнению с электро-
в нерелятивистской квантовой механике «первичном» идеальном объекте.
383
Философия науки
цедуру квантования затравочной классической системы» в
«новой квантовой теории» можно считать гейзенберговским обоб-
щением воровского «принципа соответствия» «старой квантовой
теории»1.
В предлагаемой «теорфизической» формулировке указанная
процедура «квантования» возводится в ранг теоретического по-
стулата, входящего в базовую систему исходных понятий и по-
стулатов квантовой механики (ее ЯРН), подобно тому как Бор
возводил в ранг «чисто теоретического закона» свой «принцип
соответствия» в «старой» квантовой теории [Бор, 1970, т. 1,
с. 505]. «Вследствие этого, — говорит Дирак о рассматриваемой
процедуре, — мы можем в большинстве случаев употреблять для
описания динамических систем в квантовой теории тот же язык,
что и в классической теории (например, можем говорить о час-
тицах с определенными массами, движущихся в заданном поле
сил), и если нам дана система в классической механике, то
обычно можно придать смысл понятию «той же самой» системы в
квантовой механике» [Дирак, 1979, с. 156]. Так, затравочной клас-
сической моделью квантовой частицы является классическая ме-
ханическая частица. Именно поэтому «первичным» идеальным
объектом квантовой механики является «квантовая частица», об-
ладающая и волновыми свойствами (а в квантовой теории поля —
квантованная волна, обладающая и корпускулярными свойства-
ми). Таким образом, благодаря процедуре квантования затравоч-
ной классической системы классическая физика оказалась встро-
енной в основания квантовой физики2. В этом состоит объяснение
вызывавшего недоумение факта, что термины классической ме-
ханики типа «положение», «скорость», «орбита» продолжали иг-
рать важную роль в изложении формализма, хотя все его разви-
тие основывалось на отказе от таких понятий [Джеммер, 1985,
с. 313-314].
1 «Принцип соответствия» Бора заключался в «требовании непосредственно-
го перехода квантово-теоретического описания в обычное в тех случаях, когда
можно пренебречь квантом действия» [Бор, 1970, т. 2, с. 66], например, для дал®'
ких атомных орбит. За счет этого определялись неизвестные параметры в формУ'
лах «старой» квантовой теории атома.
2 Квантовая механика, как и теория относительности, как бы надстраивается
над классической физикой, существенным образом используя ее физичесК^
модели, изменяя их. В более ранний, «классический» период этот прием не Ис
пользовался. Новые разделы физики создавали свои автономные модели.
384
Часть II. Глава 13
ч<ЛЛ‘-ал'-’ -7г ':' /'у z^v^Y^w?wv .•' ?/'• .- а.-. ” /.у/ '"‘,- -. w %V z •.'7Л^Л"Л ' " • *• ' wazavz z-.y. .-. -.-z.a WVA z z.y•y-yzzzA-w.•.-yz.yzzzA-zAy.-.yzzzz.yzz.v-а-лу.у.у.*
Из места «затравочной классической модели» в базовой сис-
теме исходных понятий и постулатов квантовой механики выте-
кает то, что в нерелятивистской квантовой механике фигуриру-
ют те же измеримые величины, что и в классической физике (то
же можно сказать и о «процедурах приготовления», которые то-
же предполагают «затравочную классическую модель»1). Именно
из этого использования «затравочной классической модели»
следует, что результаты наблюдения в нерелятивистской кванто-
вой механике «выражаются с помощью классических понятий»,
но никакого воровского «должны выражаться» [Бор, 1971, т. 2,
с. 57] здесь нет, могут появиться и неклассические измеримые
величины, например «очарование» или «цвет», в релятивистской
квантовой механике. Что касается «психологической сущности
наблюдения и языка», к которой апеллировал Бор, то человече-
ский язык способен выражать не только наглядные понятия.
В частности, обсуждавшийся в гл. 7 гильбертовский неявный
Тип определения, на котором основывается теоретическая физи-
ка, как раз это и позволяет делать.
Итак, «квантовая частица» — новый «первичный идеальный
объект», определяемый базовой системой исходных понятий и по-
стулатов квантовой механики (ее ЯРН), созданной в 1925—1927 гг.
Естественно, что свойства квантовой частицы существенно от-
личаются от свойств классической частицы.
Наиболее ярким ее отличием является «соотношение неопре-
деленностей» Гейзенберга, которое утверждает, что для двух
«взаимодополнительных» величин, относящихся к состоянию
физической системы (например, компонент положения х и им-
пульса рх), произведение их неопределенностей (квадратных
корней дисперсий соответствующих функций распределения)
отвечает условию Дх х Дрх > h/^n. «Взаимодополнительность» —
Новое для физики свойство, утверждающее, что измеримые ве-
ййчины, отвечающие состоянию «затравочной классической мо-
дели» системы, содержат пары взаимодополнительных величин.
Математическим выражением этого свойства является некомму-
ЧДтивность (т. е. ab ф Ьа) математических образов (так называе-
1 Приготовление частиц с определенным импульсом, состояния которых
описываются волновой функцией типа плоской волны, осуществляется с помо-
рю нагретой спирали, их излучающей, и соответствующего фильтра.
Философия науки 385
Философия науки
мых операторов) измеримых величин, а физическим выражением
свойства взаимодополнительности является само «соотношение не-
определенностей», которое представляет собой не дополнитель-
ный постулат (принцип), а следствие постулатов Шрёдингера и
Борна: оно теоретически выводится из них [Джеммер, 1985,
с. 324—325]. Состояние, полностью описываемое волновой
функцией, определяет распределение вероятностей для всех из-
меримых величин, включая взаимодополнительные.
Соответственно соотношение неопределенностей есть свой-
ство состояния, а не измерения типа «меря одну величину, воз-
мущаем другую», хотя часто можно встретить обратное утверж-
дение. При этом в качестве иллюстрации последнего приводят
известный мысленный эксперимент по измерению положения
электрона с помощью гамма-микроскопа Гейзенберга', чем точнее
хотим померить координату электрона, тем короче должна быть
длина волны гамма-кванта, сталкивающегося с электроном, но
тогда будет больше переданный электрону при их столкновении
импульс. На самом деле здесь демонстрируется лишь соотноше-
ние неопределенности для состояния самого гамма-кванта, и ни-
чего более (столкновение с электроном к этому ничего не добав-
ляет). Физику дела здесь выявляет другой мысленный экспе-
римент: состояние с заданным положением частицы можно
приготовить с помощью экрана с маленькой щелью, но в силу
дифракции после прохождения щели будет большая неопреде-
ленность по направлению импульса; расширяя щель, мы будем
увеличивать неопределенность положения и уменьшать неоп-
ределенность по импульсу за счет уменьшения эффекта ди-
фракции; состоянию частицы с определенным импульсом отве-
чает плоская волна, характеризующаяся полной нелокализо-
ванностью в пространстве. Соотношение неопределенностей
является следствием волновых свойств квантовых частиц (кор-
пускулярно-волновых, но с акцентом на последнем). Измере-
ние в квантовой механике, как и в других разделах физики
(по определению, по своему функциональному месту на схе-
ме 7.3), проявляет, а не создает существующее состояние (соз-
давать — это прерогатива процедур приготовления, используй'
щих фильтры и другие приборы).
«Соотношение неопределенностей» Гейзенберга, касаюшее'
ся взаимодополнительных величин, характеризующих состояние
386
Часть II. Глава 13
системы, необходимо отличать от так называемого «соотноше-
ния неопределенностей время-энергия», которое относится к
описанию не состояния, а процесса. Для процесса понятие «зна-
чение энергии» (в отличие от оператора Гамильтона) перестает
быть вполне определенным (в математическом слое это отвечает
неприменимости стационарного уравнения Шрёдингера, в кото-
ром значению энергии отвечало собственное значение операто-
ра Гамильтона). Но в рамках теории возмущений получают нера-
венство tj &Ej > h/2n, вводя понятия квазистационарного состоя-
ния с энергией Ej, неопределенности энергии этого состояния
&Ej (которую в случае атома называют «шириной уровня») и
«времени жизни» системы в данном состоянии (см. [Ландау,
Лифшиц, 1974, т. 3, п. 44]1). Если заменить «время жизни» Xj на Л?,
то получится выражение, по виду аналогичное «соотношению
неопределенностей» Гейзенберга2, но оно совсем по-другому
выводится (в рамках теории возмущений) и имеет другой смысл.
Этот другой смысл проявляется и в том, что время и энергия иг-
рают в квантовой механике совсем другую роль, чем величины,
характеризующие состояние системы, т. е. величины типа им-
пульса и положения частицы. Так, энергии отвечает оператор Га-
мильтона (гамильтониан), который в описанных выше постула-
тах квантовой механики играет роль математического образа фи-
зической системы, а не ее состояний. Особое место занимает и
время. В квантовой механике в математическом слое — это пара-
метр (а не оператор), входящий в «нестационарное» уравнение
движения. В модельном слое время остается временем, в кото-
ром происходят процессы, т. е. оно есть особый элемент описа-
ния процесса как перехода из одного состояния в другое, оно,
1 Но, как и выше, этот вывод мы относим к взаимодействию объектов (под-
систем) в ходе физического процесса, а не измерения. Кроме того, процесс изме-
рения энергии, т. е. описание соответствующего эталона и процедур сравнения с
Ним, требует особого рассмотрения, ибо обычно значение энергии выражается
через значения других величин, для которых эталон и процедуры сравнения с
Ним более очевидны.
23десь тоже можно подобрать волновую аналогию. Гармонической электро-
магнитной волне с частотой v отвечает энергия фотона hv, но если электромаг-
нитная волна конечна во времени и ее длительность характеризуется временем
т = Д/, то ей отвечает суперпозиция («пакет») гармонических волн разной часто-
ты, приводящая к неопределенности в частоте &v=l/2n.M. Откуда после умноже-
ния на h следует Д? Д£ = h/2n.
’з- 387
Философия науки
как и в классической динамике, нумерует состояния, а не опи-
сывает их; в случае стационарных состояний эта функция пере-
ходит к энергии (и другим «интегралам движения»), скажем, со-
стояния электрона в атоме нумеруются значениями их энергии, в
то время как описываются через распределение вероятностей
положений и импульсов.
В ЯРН входит также описание процедур построения ВИО из
ПИО. В квантовой механике модель физической системы, т. е.
ВИО, строится, во-первых, путем конкретизации измеримых ве-
личин, характеризующих квантовую частицу и ее состояния.
В результате этого квантовая частица превращается в электрон
со спином или без спина, протон, фотон и т. д. Во-вторых, в
квантовой механике, как и в классической, возможно построе-
ние многочастичных систем.
В последнем случае требуется добавить к перечисленным вы-
ше постулатам принцип тождественности квантовых частиц, ко-
торый определяет правила сборки многочастичных систем в
квантовой механике. Из него следует «принцип Паули» для за-
полнения орбит электронов в атоме. Из него также следует нали-
чие двух типов частиц — бозонов (фотоны) и фермионов (элек-
троны, протоны, нейтроны), обладающих разными коллектив-
ными свойствами («статистиками»). Это холистский (см. п. 1.1)
принцип, из-за которого система частиц не сводится к совокуп-
ности частиц. Без него нельзя описать явления сверхпроводимо-
сти и сверхтекучести при низких температурах, а также многие
другие квантовые эффекты.
13.4. «Парадоксы» квантовой механики
Теперь рассмотрим «парадоксы», лежащие в основе споров
между «копенгагенской» и «эйнштейновской» парадигмами и
составляющие ядро философских проблем квантовой механики.
Эти парадоксы порождены рассмотрением измерения в кванто-
вой механике. Анализируя проблемы, возникающие в связи с
процедурами измерения, известный физик В. Гайтлер, следуя
положениям «копенгагенской» интерпретации, приходит к за-
ключению, что «появляется наблюдатель как необходимая часть
всей структуры, причем наблюдатель со всей полнотой своих
388
Часть II. Глава 13
возможностей сознательного существа». Гайтлер утверждает,
что в связи с возникновением квантовой механики «нельзя бо-
дее поддерживать разделение мира на «объективную реальность
вне нас» и «нас», сознающих себя сторонних наблюдателей.
Субъект и объект становятся неотделимы друг от друга» [цит.
до: Поппер, 1998, с. 74]. «Мы должны быть благодарны Гайтле-
ру, — говорит К. Поппер, — за то, что он дает самую, по-види-
мому, четкую формулировку доктрины включения субъекта в
физический объект, доктрина, которая в той или иной форме
присутствует у Гейзенберга в «физических принципах кванто-
вой теории» и во многих других (в частности, у фон Неймана. —
А.Л.)...» [Там же].
Однако никаких подобных проблем в реальной работе фи-
зика, как уже было сказано, не возникает. В рамках представ-
ленной в п. 13.3 «теорфизической» «интерпретации» (парадиг-
мы) квантовая механика столь же объективна, как классическая
механика. С излагаемой здесь точки зрения все эти «парадок-
сы» следствие игнорирования наличия операциональной части
и следующей из этого неадекватной постановки вопросов. Все
они так или иначе связаны с указанным в гл. 7 неправомерным
растворением границы между операциями измерения и явлени-
ем, основанным на механицистской (физикалистской) редук-
ционистской натурфилософской картине мира в духе Лапласа
(п. 1.1).
Чтобы понять происхождение мифа об особой роли субъекта
и сознания в квантовой механике, рассмотрим два основных
«парадокса», связываемых с процессом измерения в квантовой
механике — «кошки Шрёдингера» и «редукции (коллапса) вол-
новой функции».
В известном мысленном эксперименте «кошки Шрёдингера»
кошка сидит на бомбе (или сосуде с синильной кислотой),
взрывное устройство которой запускается радиоактивным ато-
мом и счетчиком Гейгера. Описывая с помощью волновых
Функций не только радиоактивный атом, запускающий «адскую
Машину», но и всю систему, включая кошку, Шрёдингер прихо-
дит к парадоксу (см. [Леггетпт, 1986]). Парадокс состоит в том,
Что при применении ко всей системе, включая кошку, кванто-
До-механического описания, наряду с предполагаемыми «чис-
тыми» состояниями, отвечающими живой и мертвой кошке,
389
Философия науки
описываемыми соответственно волновыми функциями Тж и 'РМ)
согласно принципу суперпозиции что-то должно отвечать и су.
перпозиции волновых функций этих чистых состояний ¥ =
= аТж + Мм, т. е. состоянию, когда кошка «ни жива, ни мерт-
ва», что явно противоречит здравому смыслу.
Причина парадокса заключается в том, что здесь внутрь фи-
зической системы поместили весь измерительный прибор, со-
стоящий из счетчика Гейгера, взрывателя, динамита и кошки,
который нельзя описывать волновой функцией, поскольку он
относится к операциональной части1.
Для Шрёдингера его постановка задачи вытекает из убежде-
ния, что «наблюдение — такой же естественный процесс, как и
всякий другой, и сам по себе не может вызывать нарушения за-
кономерного течения естественных процессов» [Шрёдингер,
1971, с. 81]. Основой этого убеждения является философское по
своей сути утверждение Д. Бома и др., что «если квантовая тео-
рия способна дать полное описание всего, что может произойти
во Вселенной, то она должна иметь возможность описать также
сам процесс наблюдения через волновые функции измеритель-
ной аппаратуры и исследуемой системы. Кроме того, в принци-
пе квантовая теория должна описать и самого исследователя, на-
блюдающего явления при помощи соответствующей аппаратуры
и изучающего результаты эксперимента... через волновые функ-
ции различных атомов, составляющих этого исследователя»
[Бом, 1965, с. 668] (ср. приведенное в п. 1.1 изложение програм-
мы Лапаласа Махом). Отсюда возникают мифические проблемы
«проведения точной границы между объективным и субъектив-
ным» в квантовой механике [Де Бройль, 1965, с. 290].
Та же логика лежит в основании формулировки введенного
И. фон Нейманом «парадокса» (или проблемы) «редукции (коллап-
са) волновой функции», ради разрешения которого в основания
квантовой механики вводят наблюдателя и создают «квантовую
теорию измерений».
1 Кроме того, одно измерение, как было сказано выше, не определяет со-
стояние. Состоянию отвечает распределение вероятностей, измерение которог°
требует серии измерений. А тогда опять разрушается логика парадокса Шрёдин-
гера. Т. е. «парадокс» предполагает «копенгагенское» отношение к измерению'
390
Часть II. Глава 13
Фон Нейман в [Нейман, 1964], «руководствуясь статьей Бора
«О кванте действия и описании природы» (1929), — говорит
Джеммер, — развил свою идею о том, что в каждом квантово-ме-
ханическом измерении наличествует неанализируемый элемент.
Он постулировал, что волновая функция, помимо непрерывного
каузального изменения, подчиняющегося уравнению Шрёдин-
гера, при измерении претерпевает прерывное, акаузальное (т. е.
не подчиняющееся уравнению Шрёдингера. — АЛ.) и мгновен-
ное изменение, обусловленное вмешательством наблюдателя,
его воздействием на объект» [Джеммер, 1985, с. 357]. Последнее
есть не что иное, как так называемая проблема «редукции (кол-
лапса) волновой функции».
Для известного опыта с электроном, проходящим через две
щели (см. сх. 13.1), это «явление» выглядит следующим образом:
до измерения известна вероятность распределения возможных
положений поглощения электрона экраном (фотопластинкой), а
в результате измерения на экране (фотопластинке) появляется
«точка», т. е. становится известно, куда попал электрон. «Если
описывать состояние электрона после его взаимодействия с ато-
мами в фотопластинке с помощью волновой функции, то эта
функция будет, очевидно, отлична от первоначальной и, скажем,
локализована в «точке» на экране. Это и называют обычно ре-
дукцией волновой функции», — говорит В.Л. Гинзбург в преди-
словии к статье М.Б. Менского [Менский, 2005, с. 414].
Однако остановимся на этом «очевидно» и проанализируем,
что же за ним стоит. Что «очевидно»? Очевидно, что измерение —
это взаимодействие, это явление, которое можно теоретически
описать, причем все без остатка. Но так ли это? «Появилась точ-
ка» и «произошел «коллапс волновой функции» — не равнознач-
ные утверждения. Первое — экспериментальный факт, второе —
лишь возможная интерпретация этого факта. Поэтому проана-
лизируем эти утверждения, посмотрим, насколько они обосно-
Ьаны.
Для удобства анализа разобьем эту формулировку на следую-
щие утверждения:
утверждение 1: измерение есть явление, которое должно
описываться квантовой теорией;
утверждение 2: на языке квантовой теории это явление опи-
сывается как мгновенное изменение волновой функции (ВФ)
391
Философия науки
системы от 'P=Sjfcc* | Ьк) (в общем виде, в дираковских обозначе-
ниях) к | Ъ{) с вероятностью |ci|2 (в соответствии с правилами Бор-
на); этот скачок и называется «редукцией» или «коллапсом» вол-
новой функции;
утверждение 3: такой переход не описывается уравнением
Шрёдингера и поэтому оказывается «незаконным» с точки зре-
ния уравнений стандартной квантовой механики. Выводимая из
последнего утверждения (опирающегося на два первых) непол-
нота современной квантовой механики и необходимость допол-
нительного развития ее оснований и составляет суть того, что со
времен фон Неймана имеют в виду под «проблемой» «редукции
(коллапса) волновой функции».
Для решения этой «проблемы» прибегают к ссыпкам на осо-
бую роль наблюдателя и сознания или вводят такую экзотику
как многомировая интерпретация Эверетта—Уиллера—Де Вит-
та, где предполагается, что каждая компонента в суперпозиции
| Ьк) «соответствует отдельному миру. В каждом мире су-
ществует своя квантовая система и свой наблюдатель, причем
состояние системы и состояние наблюдателя скоррелированы.
Процесс же измерения можно назвать процессом ветвления вол-
новой функции или процессом «расщепления» миров. В каждом
из параллельных миров измеримая величина В имеет определен-
ное значение bh и именно это значение и видит наблюдатель,
«поселяющийся в этом мире» [Барвинский и др., 1988, с. 25]. Дру-
гими словами, в этой интерпретации считается, что «различные
члены суперпозиции соответствуют различным классическим
реальностям, или классическим мирам... Сознание наблюдателя
расслаивается, разделяется в соответствии с тем, как квантовый
мир расслаивается на множество альтернативных классических
миров» [Менский, 2005, с. 423—424]. Согласно М.Б. Менскому
при этом «никакой редукции при измерении не происходит, а
различные компоненты суперпозиции соответствуют различным
классическим мирам, одинаково реальным. Любой наблюдатель
тоже оказывается в состоянии суперпозиции, т. е. его сознание
«расщепляется» («возникает «квантовое расщепление» наблюда-
теля»), в каждом из миров оказывается «двойник», сознающий
то, что происходит в этом мире» («для наглядности можно счи-
тать, что каждый наблюдатель «расщепляется» на множество на-
блюдателей-двойников, по одному для каждого из эвереттовских
миров») [Менский, 2004] (такое расщепление сознания очень на-
392
_ Часть II. Глава 13
поминает то, что в психиатрии называется шизофренией (греч.
schizo — разделяю)1. М.Б. Менский и др. полагают, что путь через та-
кую интерпретацию и сознание — единственная альтернатива явле-
нию «редукции волновой функции». Но так ли это? Посмотрим, на-
сколько обоснованы утверждения, вводящие само это явление.
Уже первое из приведенных выше трех утверждение вызывает
сомнение. Так, В.А. Фок (в ходе полемики с Бором) утверждает,
что в структуре реального эксперимента в квантовой механике на-
до различать «три стадии: приготовление объекта (П), поведение объ-
екта в фиксированных внешних условиях, которое только и явля-
ется предметом описания квантово-механической теории Х(Т), и
собственно измерение (И)» [Фок, 1951, с. 6—7]2. Эта трехчленная
структура отражена на схеме 13.2 и совпадает (если ее центральную
часть, которая описывает поведение физической системы, обозна-
чить Х(Т)) со знакомой нам по гл. 7 структурой <П| Х(Т))|И>.
Граница между элементами этой структуры подвижна —
можно усложнить теоретическую часть за счет включения в нее
части измерительной составляющей. Этим занимается так назы-
ваемая «квантовая теория измерения», отцом которой является
фон Нейман. Она состоит в теоретическом рассмотрении со-
ставных систем, полученных путем последовательного «откалы-
вания» от прибора частей, и включение их в исследуемую систе-
му, т. е. в центральную часть структуры <П|Х(Т)|И> при после-
довательном смещении границы между элементами Х(Т) и |И>
вправо. Это приводит к усложнению теоретической части за счет
включения в нее элементов измерительной части. Но все это
1С чем приятнее жить: с простым сознанием вероятностного поведения кван-
товых объектов и операциональным характером измерения или с сознанием «ши-
зометрии» бесконечно расщепляющихся существований — наверное, дело вкуса,
но никакой логической стройности последняя ни к чему не добавляет, что под-
тверждает ее изложение в [Менский, 2000, 2005], кишащее многочисленными «есть
основания думать», «если принять эту гипотезу», «достаточно правдоподобной
представляется», «если отождествить», и т. п.,/которые скрывают множество про-
извольных ad hoc гипотез. Принципиальная непроверяемость («многомировая ин-
терпретация не может быть проверена экспериментально» [Менский, 2005]) данной
Конструкции говорит о ее чисто натурфилософском характере. Нет и связи много-
Мировой интерпретации с «квантовой криптографией» и «квантовым компьюте-
ром», которые используют не идеи многомировой интерпретации, а свойства «пе-
репутанных» состояний, введенных в знаменитой работе Эйнштейна, Подольско-
го, Розена, рассматриваемой далее.
2 Подобное членение можно найти и у Гейзенберга [Гейзенберг, 1989, с. 20], а
Также у Г. Маргенау [Margenau, 1963], но там оно трактуется по-другому.
393
Философия науки
рассматривается в рамках обычной квантовой механики. И здесь
нет проблем, принципиально неразрешимых в рамках стандарт-
ной квантовой механики. Но после этого в конце добавляется
скачок «коллапса волновой функции», как нечто очевидное, т. е.
«редукция волновой функции» как особое явление «приписывается
руками» как ad hoc гипотеза в конце1. Этот скачок обусловлен
тем, что всю измерительную часть включить в теорию принципи-
ально нельзя, поскольку она содержит нечто отличное от физи-
ческого явления2 — сравнение с эталоном, являющееся опера-
цией, актом деятельности людей, а не естественным природным
явлением, как это было отмечено в п. 7.4 (можно включить в
систему взаимодействие квантовой частицы с атомом фотопла-
стинки, но фиксация положения этого атома фотопластинки
производится каким-то прибором типа микрометра, и эта фик-
сация является операцией, которая не может рассматриваться
как естественное явление). Аналогичным качеством обладают и
процедуры приготовления. Это свойство крайних «операцио-
нальных» элементов в структурной формуле <П|Х(Т)|И> можно
назвать «нетеоретичностыо» (но не в позитивистском смысле
чистого «эмпирического факта», а в смысле принадлежности
техническим операциям)3.
1 Этот процесс в рамках механицистской редукции приводит к некоторо-
му логически бесконечному ряду. И сознание наблюдателя, как «Бог из маши-
ны» в пьесах XVII—XVIII вв., призвано оборвать эту бесконечность — на соз-
нание, как и на Бога, можно списать все (прием состоял в том, что когда
сюжет пьесы запутывался и его требовалось вывести на благополучное окон-
чание, на сценической машине с неба спускался античный бог и все благопо-
лучно разрешал).
2 Фон Нейман это фиксирует, но по-махистски — как неустранимость на-
блюдателя [Нейман, 1964, с. 307—308].
3 Есть принципиальная граница между теорией и процедурами приготов-
ления и измерения (сравнения с эталоном). Эта граница имеет логически не-
обходимый статус. Именно она скрывается за утверждением Бора, что «экспе-
риментальная установка и результаты наблюдений должны описываться одно-
значным образом на языке классической физики», «должны производиться на
обычном языке, дополненном терминологией классической физики» [Бор, т. 2,
с. 406—407, 392—393]. Но боровская форма их выявления неадекватна. Его
обоснование необходимости «классичности» приборов опирается на утвер-
ждение, что иначе нельзя бы было «рассказать, что мы сделали и что узнали в
итоге». Но что такое «обычный язык» и «классическая физика»? И язык, и фи-
зика развиваются. Новые понятия возникают вместе с новыми разделами фи-
зики. В конце XIX в. «неклассическим» и непонятным понятием было элек-
тромагнитное поле.
394
Часть II. Глава 13
В плане измерения ситуация в квантовой механике та же, что
Л в классической. В последней аналогом критикуемой здесь по-
зиции было бы требование описывать с помощью уравнений
Ньютона экспериментатора, прикладывающего метр при изме-
рении расстояния, пройденного, скажем, телом, двигающимся
ио гладкой наклонной плоскости. Подобное требование (как и
«утверждение 1») является безусловным лишь с позиции механи-
цистского редукционизма, согласно которой «поскольку все,
включая человека, состоит из атомов, а атомы описываются ме-
ханикой, то все, включая действия и мысли человека, можно
описать с помощью механических законов». Но это мировоз-
зренческий, а не физический довод. Ему можно противопоста-
вить тезис довольно популярного в XX в. системного подхода,
согласно которому система обладает свойствами, которые не
сводятся к свойствам ее элементов. Поэтому редукция всех явле-
ний к механическим (классическим, как у Лапласа, или кванто-
вым, как у Шрёдингера с его «кошкой») не является безусловно
необходимой. Более того, как было сказано в гл. 7, разделы фи-
зики представляют собой самостоятельные единицы, один раз-
дел нельзя вывести из другого. Поэтому лапласовский редукцио-
низм терпит крушение уже на материале электродинамики
(электромагнитное поле не раскладывается на атомы).
Если отбросить механицистскую натурфилософию, то в кван-
товой механике, как и в других разделах физики, измерения про-
являют, а не изменяют состояния. Язык волновых функций при-
меним лишь к описанию явлений в центральной части схе-
мы 13.2. Отсюда, в частности, следует, что один и тот же «экран с
Щелью» может выполнять различные функции, в зависимости от
своего положения в структуре на схеме 13.2. В области приготов-
ления он будет выполнять роль фильтра, приготавливающего ис-
ходное состояние. Он может быть и элементом измерительного
прибора. Но оба этих случая находятся вне области применимо-
сти языка волновых функций. Только находясь внутри иссле-
ДУемой системы, в рамках ее описания, экран с щелью будет
(в квазиклассическом приближении) описываться введенным
П. Дираком и И. фон Нейманом проекционным оператором,
Действующим на волновые функции.
Критика «утверждения 1» уже накладывает тень на безуслов-
ность «утверждения 2». Но мы подвергнем анализу и другие ос-
нования второго утверждения.
395
Философия науки
С самого начала были понятны две трудности в обсуждении
состояния квантовой системы после измерения. Во-первых, бы-
ло очевидно, что измерение может производиться так, что оно
разрушит не только состояние, но и саму систему (например, ре-
гистрация квантовых частиц фотодетектором), поэтому В. Паули
ввел деление измерений на измерения 1-го (неразрушающие) и
2-го (разрушающие состояние или даже систему) рода и ограни-
чил «утверждение 2» применением только к неразрушающим из-
мерениям.
Во-вторых, постулаты Борна ничего не говорят о состоянии
системы после измерения. Поэтому в качестве основного аргу-
мента в пользу «утверждения 2» приводится высказанный еще
фон Нейманом тезис о том, что если систему подвергнуть двум
непосредственно следующим друг за другом измерениям (1-го
рода), то результат второго измерения совпадет с результатом
первого. Он ссылался при этом на опыт Комптона—Симона
[Compton, Simon, 1925] по столкновению фотонов и электронов.
С тех пор его принято рассматривать как известный экспери-
ментальный факт, подтверждающий «утверждение 2». Но пра-
вильна ли подобная интерпретация этого опыта?
Корректная постановка задачи о повторном взаимодействии
в рамках стандартной квантовой механики, опирающейся на
уравнение Шрёдингера, рассмотрена Л. Шиффом [Шифф, 1957,
с. 242] как задача о вычислении распределения вероятностей
возбуждения двух атомов в камере Вильсона пролетающей быст-
рой квантовой частицей (электроном)1 *. Другими словами, экс-
периментальные результаты, обычно приводимые в подтвержде-
ние тезиса фон Неймана и «утверждения 2», корректно описы-
вать в рамках стандартной квантовой механики как задачу об
изменении состояния частицы в ходе двух повторных взаимодей-
ствий. Поэтому «утверждение 2» и основанное на нем «утверж-
дение 3» являются необоснованными. На сегодняшний день при
корректной постановке, по-видимому, все известные экспери-
1 Результат дает заметную вероятность только в случае, если направление
движения частицы почти параллельно как линии, соединяющей атомы, так и на-
правлению конечного импульса рассеянной частицы. То есть взаимодействие
движущейся частицы высокой энергии с другой частицей (которая может ис-
пользоваться как «пробное тело» в косвенном измерении) в случае малой перед3'
чи энергии слабо изменяет состояние этой частицы.
396
Часть II. Глава 13
менты количественно описываются стандартным формализмом
квантовой теории и постулатом Борна.
Место «утверждения 3» в приведенной в предыдущем пара-
графе формулировке квантовой механики занимают борновские
правила «вероятностной интерпретации волновой функции»
(ВИВФ), связывающие между собой математический образ не-
которого состояния системы (волновую функцию) и соответст-
вующие измерения, не имеющие отношения к изменению со-
стояний (последнее — прерогатива уравнения Шрёдингера (или
его аналога)). Так устроена квантовая механика. Аналогичная
структура имеет место и в классической механике: там тоже за
связь состояний отвечает уравнение движения, а процедура из-
мерения (сравнение с эталоном) выполняет другую функцию:
указывает, каково данное состояние. Поэтому нет в квантовой
механике «странного дуализма», состоящего в «предположении
наличия двух типов изменений вектора состояний», о котором
говорил Вигнер [Wigner, 1963, р. 7].
«Таким образом, — говорил известный специалист в кванто-
вой оптике Д.Н. Клышко, — мы приходим к выводу, что «про-
блема редукции волновой функции» является лишь некоторой
гипотезой (или постулатом), предложенной Дираком и фон
Нейманом (1932 г.), и представляет собой типичный пример
«порочного круга»: сперва принимается на веру, что волновая
функция по неизвестной причине уничтожается вне области ре-
гистрации (для измерения типа определения положения части-
цы), а потом это принимается за закон природы, согласно из-
вестному англоязычному выражению — «adopted by repetition»...
В ряде работ понятие редукции, его необходимость подвергается
сомнению1... В книге [Садбери, 1989] на с. 294 делается следую-
щее примечание: «...при проведении тщательного различия меж-
ду процедурой приготовления и процедурой измерения проек-
тивный постулат не нужен». Проекционный постулат фон Ней-
*См. Margenau Н. Ann. Phys. (N.Y.) 23, 469 (1963); Ноте D., Whitaker М. А. В.
Phys. Lett. A 128, 1 (1988); Ballentine L. E. Int. J. Theor. Phys. 27, 211 (1988); Namiki
M., Pascapo S., in Fundamental Problems in Quantum Theory (Eds. D. M.
Greenberger, A. Zeilinger) (Ann. N.Y. Acad. Sci. 755, 1995)], p. 335; Phys. Rev. A 44,
39 (1993); Quantum mechanics without reduction (Eds. M. Sini, J. Levy-Leblond)
(Bristol: Hilger, 1990), т. e., наряду с нашей, существуют и другие целостные и
Квалифицированные «интерпретации» квантовой механики, прекрасно обходя-
щееся без проблемы «редукции волновой функции».
397
Философия науки
мана—Дирака (в отличие от постулата Борна), по-видимому,
никогда не используется при количественном описании реаль-
ных экспериментов. Он, как и понятие частичной редукции, фи-
гурирует лишь в общих качественных натурфилософских рассу-
ждениях [Клышко, Липкин, 2000].
Итак, в основе парадоксов «редукции волновой функции»,
«кошки Шрёдингера» и т. п. лежат не физические, а натурфило-
софские (идеологические) аргументы — приверженность механи-
цистской редукции в духе Лапласа. Если отбросить эту натурфи-
лософию XVIII в. и вернуться к гетерогенной структуре (сх. 7.3 и
13.2), что и делается в «теорфизической» «интерпретации» (п.
13.3), то все проблемы измерения и парадоксы квантовой меха-
ники рассыпаются, «редукция волновой функции» превращает-
ся в произвольное предположение, а основания квантовой меха-
ники становятся столь же четкими, как и в других разделах фи-
зики.
Теперь рассмотрим третий из стандартного набора кванто-
во-механических «парадоксов» — «парадокс» Эйнштейна—По-
дольского—Розена (ЭПР), сформулированный для обоснования
тезиса о недостроенности (неполноте) здания квантовой меха-
ники. Он позволяет высветить еще ряд часто обсуждающихся
тем.
Суть предлагавшегося Эйнштейном, Подольским и Розеном
мысленного эксперимента, изображенного на схеме 13.3, до-
вольно проста (особенно в постановке Бома). Пусть разлетаются
две частицы со спином 1/2, образовывавшие синглетное (т. е. с
суммарным спином 5=0) состояние (например, рождение элек-
трон-позитронной пары [Садбери, 1989, с. 267]). Когда они раз-
летелись настолько далеко, что взаимодействием между ними
можно пренебречь, производится измерение проекции спина на
ось z 1-й частицы. До измерения мы знаем, что для каждой из
частиц вероятности значений проекций спинов на любую ось, в
том числе на ось z, равные +1/2 и —1/2 (на рисунке обозначены
соответственно стрелками <f| и <||), одинаковы. Но после того
как мы измерили это значение 5^ для 1-й частицы, мы сразу У3'
наем значение проекции 5^2) и для 2-й (их совместное состояние
остается синглетным, следовательно, сумма проекций спинов
398
Часть II. Глава 13
должна быть равна нулю). Далее сравниваются результаты изме-
рений некоммутирующих между собой величин, скажем, проек-
ций спина на ось z и на ось х. В квантовой механике состояния с
определенными значениями дополнительных (некоммутирую-
щих) измеримых величин — это разные состояния. На основа-
нии этого формулируется следующий парадокс: «В результате
двух различных измерений, произведенных над первой системой
(в рассмотренном примере — измерение проекций спина на ось
Z или х. — А.Л.), вторая система может оказаться в двух разных
состояниях, описываемых различными волновыми функциями.
С другой стороны, так как во время измерения эти две системы
уже не взаимодействуют, то в результате каких бы то ни было
операций над первой системой во второй системе уже не может
получиться никаких реальных изменений... Таким образом, од-
ной и той же реальности (вторая система после взаимодействия с
первой), — говорит Эйнштейн, — можно сопоставить две раз-
личные (волновые. — АЛ.) функции... Здесь реальность Р и Q
(результаты измерений двух некоммутирующих физических ве-
личин, произведенных над второй системой, в нашем примере —
S(2 или 5^*. — АЛ.) ставится в зависимость от процесса измере-
ния, производимого над первой системой, хотя этот процесс ни-
коим образом не влияет на вторую систему. Никакое разумное
определение реальности не должно, казалось бы, допускать это-
го» [Эйнштейн, 1966, т. 3, с. 607—610].
Этому ЭПР-парадоксу Бор противопоставляет свою форму-
лировку «принципа дополнительности», согласно которой «по-
ведение атомных объектов невозможно отграничить от их взаи-
399
Философия науки
модействия с измерительными приборами» [Бор, 1971, т. 2,
с. 406—407], вследствие чего два варианта измерений, присутст-
вующие в ЭПР-эксперименте, превращаются в два разных неза-
висимых явления. Однако для физиков, реально работающих в
ставшей «нормальной наукой» квантовой механике, нет пробле-
мы проведения границы между исследуемой системой и прибо-
ром, а есть лишь проблема точности измерения соответствую-
щих величин. Физики умеют приготовлять исходное состояние,
теоретически описывать его изменение с помощью волновой
функции и давать с ее помощью ответ на все осмысленные в
квантовой механике вопросы, в том числе и о распределении ве-
роятностей любой измеримой величины, имеющей отношение к
данной системе (в том числе и для «взаимодополнительных» ве-
личин). Поэтому указанная формулировка Бора, по-видимому,
неверна и не решает проблему, поставленную ЭПР-эксперимен-
том1.
Отсутствие парадокса, с нашей точки зрения, объясняется
следующим. В мысленном ЭПР-эксперименте рассматриваются
так называемые перепутанные состояния двухчастичных систем,
которые, в силу наличия описанного выше «принципа тождест-
венности (неразличимости) частиц» в многочастичных кванто-
вых системах, нельзя просто перевести на язык двух одночастич-
ных состояний, как это делает Эйнтштейн в утверждении: «вто-
рая система после взаимодействия с первой»2. В этом случае
двухчастичная система оказывается нелокальной, но не в смысле
часто обсуждаемой «квантовой нелокальное™» как мгновенном
'Что касается боровского утверждения, что «только совокупность разных
явлений может дать более полное представление о свойствах объекта», то если
слово «явлений» заменить на «измерений» и свести определение «свойств объек-
та» к измерению его состояния, то это будет отвечать положению дел в совре-
менных томографических методах измерения состояний в квантовой механике,
где для этого производят серии измерений взаимодополнительных величин (см-
[Dunn, 1995; Kurtsiefer, 1997] и другие работы, указанные у [Клышко, Липкин,
2000]).
2 Кроме того, если бы речь могла идти о независимых частицах, то, как было
уже сказано, одно измерение не определяет состояния, а если мы произведем дос-
таточно много измерений, то для каждой частицы получим весьма тривиальный
результат — состояние с равной вероятностью различных направлений спина
частицы. Добавим еще, что часто (но не всегда) формулировка этого «парадокса»
включает разобранное выше представление о мгновенной «редукции (коллапсе)
волновой функции» в результате измерения, приводящей к так называемой
«квантовой нелокальности».
400
Часть II. Глава 13
вменении чего-то, а в характерной для волн фазовой корреля-
ции: например, расщепив световую волну с помощью полупро-
зрачного зеркала и фазовой пластинки, мы получим расходя-
щиеся волны с фиксированным сдвигом фаз. В чем-то похожую
картину мы имеем и в случае «перепутанного» состояния: со-
стояние, отвечающее независимым частицам, описывается вол-
новой функцией типа произведения <+1|<-2|, а отвечающее
«перепутанному» двухчастичному состоянию — волновой функ-
цией типа (<+1|< -2| + < —1|<+2|) независимо от расстояния ме-
жду частями 1 и 2. Правильно поставленная ЭПР-задача — это
задача о корреляциях значений измерений в пространственно
удаленных точках для двухчастичной системы в «перепутанном»
состоянии. Она решается в рамках стандартной квантовой меха-
ники и никаких «парадоксов» не порождает (см. [Клышко, Лип-
кин, 2000]).
Отметим, что в последние годы возникла новая волна инте-
реса к ЭПР-эксперименту и его модификациям. Это связано с
переводом знаменитых «мысленных» экспериментов 1930-х гг.
в реальные. Так, в [Aspect, 1982] экспериментально показано на-
личие ЭПР-корреляции на больших расстояниях и для про-
странственноподобных событий (т. е. событий, которые не могут
быть связаны световым сигналом). Но, как справедливо отмеча-
ется в [Клышко, 1998; Fraassen, 1991 и др.], утверждение о мгно-
венном распространении информации в ЭПР-эксперименте
возникает лишь вследствие навязанной ему интерпретации. Ни-
чего выходящего за рамки стандартной квантовой механики
здесь на самом деле не происходит1 * * * * 6. Более того, существуют
классические аналоги ЭПР-корреляций [Клышко, 1996]. Все ре-
1 Передачи сигнала эксперимент Аспекта и др. [Aspect, 1982] не производит,
и все его результаты описываются стандартной квантовой механикой [Гриб, 1984,
с. 166]. То же можно сказать и об экспериментах по «телепортации фотона»
[Bouwmeester, 1997]. В отличие от [Aspect, 1982]..здесь используется трехчастичная
схема и речь идет о трехчастичной корреляции. Но измерения скорости передачи
сигнала и передачи сигнала вообще в этом эксперименте тоже не производилось.
Здесь тоже измерялись лишь корреляции. Как в ЭПР, когда речь идет о двойных
Корреляциях, так и при так называемой квантовой телепортации, когда речь идет
0 тройных корреляциях, принятая в [Boschi, 1998; Bennet, 1993; Weinfurter, 1994;
^ovidovich, 1994; Cirac, 1994; Brounstein, 1996; Bouwmeester, 1997] трактовка эф-
фекта — плод характерной для ЭПР-экспериментов сильно теоретически нагру-
женной интерпретации, включающей гипотезу типа «квантовой нелокальности»
6 Духе «коллапса волновой функции».
401
Философия науки
альные эффекты полностью количественно описываются стан-
дартной квантовой механикой (см. [Клышко, 1998])1.
Итак, после 1927 г. квантовая механика стала «нормальной
наукой» для множества работающих в ней физиков, с четко
сформулированными основаниями в виде приведенных выше
постулатов Шрёдингера, Борна, Гейзенберга—Бора. Они задают
соответствующее «ядро раздела науки» и образующуюся вокруг
него «теорфизическую» парадигму для «третьего» сообщества —
работающих в квантовой механике физиков, не интересующих-
ся «парадоксами», поскольку их нет. Параллельно существует
философское обсуждение этих «парадоксов», рожденных в спо-
ре «эйнштейнианцев» и «копенгагенцев». Наличие нескольких
конкурирующих парадигм — нормальное явление для периода
научной революции. Но наличие нескольких парадигм в стадии
«нормальной» науки не укладывается в куновскую схему (см.
п. 6.5). Однако проведенный анализ показывает, что «эйнштей-
новская» и «копенгагенская» парадигмы стали парадигмами в
философии квантовой механики, которая существует парал-
лельно физической квантовой механике, руководствовавшейся
своей «теорфизической» парадигмой, в которой по-прежнему
физическая система и ее состояния существуют независимо от
наблюдателя и его сознания, т. е. объективно, хотя эти состоя-
ния требуют принципиально вероятностного описания2. «Орто-
доксальная» «копенгагенская интерпретация» и связанная с ней
особая роль наблюдателя (как и противостоящие им «парадок-
сы»), как справедливо замечает Борн (в отношении Эйнштейна,
но то же применимо и к «копенгагенцам»), «представляют со-
бой философское убеждение, которое не может быть ни доказа-
но, ни опровергнуто физическими аргументами» [Борн, 1977, с.
170]. Это созданная физиками философия, а не физика. Поэто-
му распространенное среди философов науки отношение к «ко-
пенгагенской интерпретации» (или ее альтернативам) как ис-
1 На основе таких реальных ЭПР-корреляций исследуются перспективы но-
вых приложений в сфере кодирования, передачи и обработки информации, вве-
денных в ЭПР-эксперименте «перепутанных» состояний.
2 Если принять различения Е.А. Мамчур [Мамчур, 2004], то физическое зна-
ние и объектно, и реально, и квантовая механика здесь ничего не меняет. Но ана-
лиз физического знания требует двухуровневого подхода (ПИО- и ВИО-уровНИ,
или «аномальная» и «нормальная» наука).
402
< Часть II. Глава 13
^7** S " w " Г *7 "7 w" г : ?? mws * * .• '"’ \. ' '"' ' А W ЛЛ *'“" ' ' " ‘ ' ' '
ходкому материалу для философского анализа лишь на том ос-
новании, что это говорят физики, неверно. Надо исходить из
анализа работы физиков, а не из их философских высказыва-
ний, о чем и предупреждал А. Эйнштейн в вынесенном в эпи-
граф данной главы высказывании, и помнить предостережение
jvfaxa, что «всякий философ имеет свое домашнее естествозна-
ние, и всякий естествоиспытатель — свою домашнюю филосо-
фию. Но эти домашние науки бывают в большинстве случаев
несколько устаревшими, отсталыми» [Мах, 2003, с. 38].
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Алексеев И. С. Деятельностная концепция познания и реальности: Избран-
ные труды по методологии физики. М.: РУССО, 1995.
Аккарди Л. Диалоги о квантовой механике. М., 2004.
Барвинский А.О., Каменщик А.Ю., Пономарев В.Н. Фундаментальные про-
блемы интерпретации квантовой механики. Современный подход. М.: МГПИ,
1988.
Берестецкий В. Б. Квантовая механика // Физический энциклопедический
словарь. М.: СЭ, 1983. С. 252-262.
Бом Д. Квантовая теория. М.: Наука, 1965.
Бор Н. Избранные научные труды: В 2 т. М., 1970—1971.
Борн М. Размышления и воспоминания физика. М.: Наука, 1977.
Гейзенберг В, Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука, 1989.
Гриб А.А. Неравенства Белла и экспериментальная проверка квантовых кор-
реляций на макроскопических расстояниях // Успехи физических наук. 1984.
Т. 142. № 4. С. 619-634.
Данин Д. Вероятностный мир. М., 1981.
Де Бройль Л, Революция в физике (Новая физика и кванты). М.: Атомиздат,
1965.
Де Бройль Л. Соотношения неопределенностей Гейзенберга и вероятност-
ная интерпретация волновой механики. М.: Мир, 1986.
Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики. М.: Наука, 1985.
Дирак П. Принципы квантовой механики. М.: Наука, 1979.
Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М., 1998.
Клышко Д.Н. Квантовая оптика: квантовые, классические и метафизические
аспекты // Успехи физических наук. 1994. Т. 164. № 11. С. 1187—1214.
Клышко Д.Н. К теории и интерпретации эффекта «квантовой телепортации»
/4 Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1998. Т. 114. Вып. 4
00). с. 1171-1187.
Клышко Д.Н. Основные понятия квантовой физики с операциональной точ-
зрения // Успехи физических наук. 1998. Т. 168. № 9. С. 975—1015.
Клышко Д.Н., Евдокимов Н.В., Комолов В.П., Ярочкин В.А. Неравенства Бел-
и корреляции ЭПР-Бома: действующая классическая радиочастотная мо-
Аедь // Успехи физических наук. 1996. Т. 166. № 1. С. 91—107.
Клышко Д.Н., Липкин А.И. О «коллапсе волновой функции», «квантовой
^Рии измерений» и «непонимаемости» квантовой механики // Электронный
403
Философия науки
журнал «Исследовано в России». 2000. Т. 53. С. 736—785. http://zhumal.ape.re.
lam.ru/articles/2000/053.pdf
Ландау Л.Д., Лифшиц И.М. Теоретическая физика: В Ют. Т. 3. Квантовая
механика. М.: Наука, 1974.
Леггетт А.Дж. Шрёдингеровская кошка и ее лабораторные сородичи // Ус.
пехи физических наук. 1986. Т. 148. Вып. 4. С. 671—688.
Липкин А,И. Квантовая механика как раздел теоретической физики. Форму,
лировка системы исходных понятий и постулатов // Актуальные вопросы совре.
менного естествознания. 2005. Вып. 3. С. 31—43.
Липкин А. И. Основания современного естествознания. Модельный взгляд
на физику, синергетику, химию. М.: Вузовская книга, 2001.
Мамчур Е.А. Объективность науки и релятивизм. К дискуссиям в современ-
ной эпистемологии. М.: ИФРАН, 2004.
Менский М.Б. Квантовая механика: новые эксперименты, новые приложе-
ния и новые формулировки старых вопросов // Успехи физических наук. Т. 170
№ 6. С. 631-648. (2000).
Менский М.Б. Концепция сознания в контексте квантовой механики // Ус-
пехи физических наук. 2005. Т. 175. № 4. С. 413—435.
Мессиа А. Квантовая механика. Т. 1. М., 1978.
Нейман фон И. Математические основы квантовой механики. М.: Наука,
1964.
Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. М.: Наука,
1989.
Поппер К. Квантовая теория и раскол в физике. Из «Постскриптума» к «Ло-
гике научного открытия» / Пер. с англ., комм, и послесл. А.А. Печенкина. М.:
Логос, 1998.
Садбери А. Квантовая механика и физика элементарных частиц. М.: Мир,
1989.
Спасский Б.И., Московский А.В. О нелокальное™ в квантовой физике // Ус-
пехи физических наук. 1984. Т. 142. № 4. С. 599—632.
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике.
Т. 1-9. М.: Мир, 1965.
Фок В.А. Критика взглядов Бора на квантовую механику // Успехи физиче-
ских наук, 1951. Т. 45 № 1. С. 3—14.
Франкфорт У.И., Френк А.М. У истоков квантовой теории. М.: Наука, 1975.
Шифф Л. Квантовая механика. М.: Иностр, лит-ра, 1957.
Шрёдингер Э. Новые пути в физике: Статьи и речи. М.: Наука, 1971.
Чайковский Ю.В. О природе случайности. М., 2001.
Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 1—4. М.: Наука, 1965—1967.
Aspect A., Dalibard J., Roger G. Experimental Test of Bell’s Inequalities Using
Time-Varying Analyzers // Phys. Rev. Lett. 1982. Vol. 49. P. 1804.
Ballentine L.E. Resource letter IQM-2: Foundations of Quantum Mechanics since
the Bell Inequalities // Amer. J. of Physics. 1987. Vol. 55. № 9. P. 785—792.
Ballentine L.E. The Statistical Interpretation of Quantum Mechanics // ReV‘
Mod. Phys. 1970. Vol. 42. P. 358-381.
Bennett C.H., Brassard G., Crepeau C., Jozsa R., Peres A., and Wootters
Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein-Pod°l*
sky-Rosen Channels // Phys. Rev. Lett. 70. 1895 (1993).
404
Часть II. Глава 13
Boschi D., Branca S., De Martini F., Hardy L., and Popescu S. Experimental
Realisation of Teleporting an Unknown Pure Quantum State via Dual Classical and
Einstein-Podolsky-Rosen Channels //Phys. Rev. Lett. 80 1121 (1998).
Bouwmeester D., Pan J.-W., Mattle K., Elbl M., Weinfurter H, Zeilinger A.
Experimental quantum teleportation // Nature 390, 575 (1997). Nature. 1997. Vol. 390.
p. 575.
Braunstein S.L., Kimble H.J. Teleportation of Continuos Quantum Variables //
phys. Rev. Lett. 80, 869 (1998).
Braunstein S.L., Mann A. Measurement of the Bell operator and quantum
teleportation // Phys. Rev. A 51, R1727 (1995); 53 630(E) (1996).
Cirac J.I., Parkins A.S. Schemes for atomic-state teleportation // Phys. Rev. A 50,
R4441 (1994).
Compton A.H., Simon A. W. Directed Quanta of Scattered X-rays // Phys. Rev.
1925. Vol. 26. P. 289-299.
Davidovich L., Zagury N., Brune M., Raimond J.M., and Haroche S. Teleportation
of an atomic state between two cavities using nonlocate microwave fields // Phys. Rev.
A 50, R895 (1994).
DeWitt B.S. Quantum mechanics and reality // Physics Today. 1970. Vol. 23.
№ 9. P. 30-35.
Dunn T.J., Walmsley LA., Mukamel S. Experimental Determination of the
Quantum-Mechanical State of a Molecule Vibrational Mode Using Fluorescence
Tomography // Phys. Rev. Lett. 74 884 (1995).
Einstein A. Remarks Concerning the Essays Brought Together in this Co-operative
Volume // Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Evanson, 1949.
Kurtsiefer Ch., Ifau T., Mlynek J. Measurement of the Wigner function of an
ensemble of helium atoms // Nature. Vol. 386/13. P. 150—153. (1997).
Margenau H. Measurement in Quantum Mechanics // Annals of Physics (N.Y.),
1963. Vol. 23. P. 469-485.
Stapp HP. The Copenhagen Interpretation // Amer. J. of Physics. 1972. Vol. 40.
P. 1098-1116.
Van Fraassen Bas C. Quantum mechanics. An Empiricist View. Oxf., 1991.
Weinfurter H. Experimental Bell-State Analysis // Europhys. Lett. Vol. 25. P. 559
(1994).
Wigner E.P. The Problem of Measurement //Am. J. Phys. 1963. Vol. 31. P. 6—15.
ВОПРОСЫ
1. В чем разница между «старой» и «новой» квантовой механикой?
2. Из какого парадокса рождается «новая» квантовая механика?
• 3. Каковы основные «интерпретации» квантовой механики?
* 4. Что такое волновая функция?
5. Каково место вероятности в квантовой механике?
6. Каково место «соотношения неопределенностей» в квантовой ме-
ханике?
7. Каково место измерения в квантовой механике?
8. Каковы основные «парадоксы» квантовой механики и с чем они
связаны?
9. «ЭПР-парадокс» и «принцип дополнительности» Бора?
405
Философия науки
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аккарди Л. Диалоги о квантовой механике. Москва; Ижевск: Институт ком-
пьютерных исследований; НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004.
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука, 1989.
Клышко Д.Н., Липкин А.И. О «коллапсе волновой функции», «квантовой
теории измерений» и «непонимаемости» квантовой механики // Электронный
журнал «Исследовано в России». 2000. Т. 53. С. 736—785. http://zhur-
nal.ape.relam.ru/articles/2000/053.pdf
Липкин А.И. Квантовая механика как раздел теоретической физики. Форму-
лировка системы исходных понятий и постулатов // Актуальные вопросы совре-
менного естествознания. 2005. Вып. 3. С. 31—43.
Липкин А.И. Миф об особой роли сознания наблюдателя в квантовой меха-
нике // Актуальные вопросы современного естествознания. 2007. Вып. 5.
Липкин А.И. Основания современного естествознания. Модельный взгляд
на физику, синергетику, химию. М.: Вузовская книга, 2001.
Глава 14
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ,
НАДДИСЦИПАИНАРНАЯ
И НАТУРФИЛОСОФСКАЯ СТОРОНЫ
СИНЕРГЕТИКИ
fggssz- . -
Из-за наличия множества нечетко заданных парадигм и по-
зиций, исследовательских программ и школ бытует довольно по-
пулярное утверждение, что синергетике нельзя и не надо давать
более-менее четкого определения1, что в этом проявляется ее
«постнеклассичность» и что она определяется теми работами,
которые к ней относят: «Синергетику Хакена легко описать: все,
что о ней известно, содержится в множестве
Synergetics = {*,, х2, ... хп},
где Xj — i-й том выпускаемой издательством Шпрингера серии по си-
нергетике» [Данилов, Кадомцев, 1983].
То есть определение этой науки, которую назовем синерге-
тикой в широком смысле, дается через соответствующее сооб-
щество: синергетика — это то, чем занимаются синергетики
(такой тип определения применяется и для физики, и для мате-
матики, и для других наук (см. статьи в соответствующих энцик-
лопедиях)). Однако для физики в гл. 7 было дано более содержа-
тельное определение через типы моделей, используемые в физи-
ке (то же делается и для химии в следующей главе). Поэтому
попробуем разобраться и в синергетике, используя понятийный
аппарат 6-й и 7-й глав.
* 1В подтверждение приводится высказывание Л.И. Мандельштама: «Было бы
бесплодным педантизмом стараться точно определить, какими именно процес-
с®Ми занимается теория колебаний. Важно не это. Важно выделить руководящие
ачви, основные общие закономерности. В теории колебаний эти закономерно-
очень специфичны, очень своеобразны/ и их нужно не просто знать, а они
2?ЛЖны войти в плоть и кровь» [Мандельштам, 1995, с. 11, 13]. Часто говорят,
синергетика в широком смысле, или «наука о самоорганизации», до сих пор
^сдставляется как не вполне определенная область, как «научное движение»
концепции самоорганизации, 1994].
407
Философия науки
С точки зрения куновской модели мы констатируем здесь на-
личие множества зрелых и незрелых парадигм1 *, а также инфор-
мационного шума в виде «терминологической трескотни», за ко-
торой скрывается «абсолютная пустота» (С. Лем) [Данилов, 1997].
Среди этих парадигм есть натурфилософские, которые ис-
пользуют новые модельные понятия, такие, как «самоорганиза-
ция», «событие-бифуркация», «аттрактор», «непредсказуемость
поведения», «динамический хаос» и т. д., как новые умозритель-
ные образы. Сюда, по-видимому, следует отнести и применение
таких характеристик синергетики, как «метанаука», «междисцип-
линарное направление», характеризующееся «открытостью, готов-
ностью к диалогу», связываемому с «характером вопрошания при-
роды», приписывание синергетике «роли коммуникатора, поз-
воляющего оценить степень общности результатов, моделей и
методов отдельных наук... и перевести диалект конкретной науки
на высокую латынь междисциплинарного общения» [7iw же].
Есть среди различных позиций и естественно-научные парадигмы,
среди которых мы выделим «нелинейную динамику», «синергети-
ку» Г. Хакена и позицию И. Пригожина (представляющую собой
смесь естественно-научных и натурфилософских утверждений).
14.1. Парадигма «нелинейной динамики»
С точки зрения нелинейной динамики, выросшей из теории
нелинейных колебаний Пуанкаре, Андронова и др., во второй
половине XX в. произошли три важных открытия.
Во-первых, был открыт особый тип фазовых траекторий (т. е.
траекторий в математическом слое пространства состояний) —
«странные аттракторы». Движение механических систем, кото-
рые отвечали этим траекториям, нельзя было выразить на языке,
привычном для механики. «Странным аттракторам», играющим
роль предела, к которому стремятся фазовые траектории меха-
нических систем (т. е. математические образы состояний меха-
нических систем), отвечает сложное хаотическое движение, так
называемый динамический (или детерминированный) хаос. Та-
1В [Концепции самоорганизации, 1994] за основу берется выделение не пар3'
дигм, а исследовательских программ. Но выделение парадигм или исследователь^
ских программ в основном связано с ракурсом рассмотрения материала. Здесь
речь скорее о ведении сообщества, чем о программах исследования, поэтому no1®1
тие «парадигма», наверное, более адекватно анализируемому материалу.
408
Часть II. Глава 14
кре название связано с тем, что, с одной стороны, по виду это
движение неотличимо от хаотического, но возникнуть оно мо-
#ет уже в довольно простых механических системах, состоящих,
скажем, всего из трех тел1, которые описываются обычными точ-
ными уравнениями механики. Необычность этого типа движе-
ния состоит в том, что хаос и точное описание системы неболь-
шого числа тел считались несовместимыми. Причина же его су-
ществования — неустойчивость систем, в которых реализуется
этот тип движения2.
Во-вторых, появился новый тип объектов — так называемые
автоволны. В отличие от классических волн, связанных с обычной
средой, автоволны — порождение активных сред, т. е. сред, насы-
щенных энергией, которую автоволны могут черпать столько,
сколько им «надо». В консервативной системе или системе с дис-
сипацией все в конце концов успокоится и придет в стационар-
ное состояние. И там хорошо работают и энтропия, и другие
классические термодинамические понятия и законы. А вот в да-
лекой от равновесия химической системе это все неважно, там
энергии полно, и она может «гулять» по фазовому пространству
так, как ей заблагорассудится. Поэтому в отличие от классиче-
ской волны ее характеристики не меняются во времени, амплиту-
да волны всегда постоянна, она движется с постоянной скоро-
стью и не затухает. Для автоволн нет ни суперпозиции, ни закона
фаз. Пройти друг сквозь друга они не могут — при взаимодейст-
вии между собой они взаимоуничтожаются (аннигилируют).
Итак, появился новый объект — автоволны и новые среды,
которые назвали «активными средами». И парадигмальный образ
стал другим. Вместо гармонического осциллятора — маятника
(шарика на веревочке или грузика на пружинке) появился новый
образ — химический, который выглядит следующим образом.
В системе есть две компоненты. Одна из них называется актива-
тор, Другая — ингибитор. И эти переменные обладают чисто хи-
• 1 Первый пример такого рода дал А. Пуанкаре, рассматривая движение пла-
неты в поле двух солнц.
2 «Странные аттракторы представляют собой крайне необычные математи-
ческие объекты. С одной стороны, для их описания используются системы диф-
ференциальных уравнений, в которых все определено, детерминировано и не со-
держится никаких стохастических членов. А с другой стороны — и это в самом
^е чудо! — поведение решений такой системы уравнений на продолжительном
Ременнбм интервале приобретает хаотический, непредсказуемый (внутри об-
^сги аттрактора) характер» (С.П. Курдюмов в комментариях к [Пригожин, 1991]).
409
Философия науки
мическим свойством. Активатор умеет ускорять свое собственное
производство (в химии это называется автокатализом). Ингибц-
тор же может это все убивать. Это образ совсем не физический, а
чисто химический1, но он хорошо работает и в физических сис-
темах (например, фазовый переход в перегретой или переохлах-
денной жидкости), и в биологических, и в каких угодно других
системах довольно легко найти аналоги этому процессу.
Третьим важным открытием стало явление перехода актив-
ной среды из бесструктурного состояния в состояние, обладаю-
щее структурой. Это связано с возможностью возникновения
еще одного типа особенностей. Если вся среда находится в изо-
тропном состоянии, то при некоторых изменениях параметров
это состояние может перестать быть устойчивым. Тогда единст-
венным устойчивым состоянием для такой среды становится со-
стояние типа стоячей волны, когда в разных точках пространства
имеются разные концентрации2. Возникновение неоднородности
из однородности — вещь принципиальная для науки. Это явление
получило название самоорганизации.
Ярким примером этого рода является эффект Бенара, кото-
рый состоит в следующем. Пусть вязкая жидкость находится ме-
жду двумя горизонтальными плоскостями, поддерживаемыми
при разных температурах так, что температура снизу 7\ больше,
чем температура сверху Т2 (наличие поля тяжести существенно
для эффекта). Эта разность температур, играющая здесь роль
управляющего воздействия, порождает вертикальный поток теп-
ла. Если градиент температуры мал, то перенос тепла происхо-
дит на микроскопическом уровне, и никакого макроскопическо-
го движения жидкости не наблюдается. Возрастая, градиент тем-
пературы достигает критического (порогового) значения, и тогда
возникает установившееся макроскопическое движение, обра-
зующее четко выраженные структуры: на одних участках жид-
1 Наиболее естественные модели активной среды находятся в химии. Поэто-
му именно с ней они в первую очередь и ассоциируются. Если описать это явле-
ние на химическом языке, то классическая автоволна возникает так. Есть неко-
торый активатор — вещество, которое способно активировать свое собственно®
производство. Это создает внутреннюю неустойчивость и позволяет системе з
счет расхода энергии поднимать амплитуду автоволны до нужного уровН^
В результате волна, возникнув, будет распространяться без затухания с опт
мальной амплитудой.
2Такая модель впервые была описана в 50-х гг. XX в. Тьюрингом и полУч11Л
название модели Тьюринга.
410
Часть II. Глава 14
кость поднимается, охлаждается у верхней поверхности, на дру-
гих — опускается. В результате устанавливается упорядоченное
макроскопическое конвекционное движение, дающее в проек-
ции сверху структуру типа пчелиных сот. То есть в исходном со-
стоянии есть неструктурированное воздействие (однородные
температуры) и неструктурированная среда, и в ней возникает
структура, причем динамическая, т. е. образованная некоторым
движением, и эта динамическая структура определяется свойст-
вами системы (вязкостью, полем тяжести, геометрией). Это один
из классических примеров самоорганизации в физике [Хакен,
1985, с. 21-23; 2003, с. 48-61].
Таким образом, с точки зрения нелинейной динамики вторая
половина XX в. была связана с появлением: 1) хаотических сис-
тем; 2) активных сред и автоволн (и автоколебаний) в химиче-
ских системах; 3) пространственной самоорганизации1.
14.2. Динамические структуры синергетики Хакена
и их «наддисциплинарность»
Явление динамической пространственной самоорганизации
оказывается в центре синергетики Г. Хакена. С точки зрения
последней приведенный выше эффект Бенара как типичный для
синергетики процесс можно описать так.
Есть исходное состояние системы, в котором можно гово-
рить об относительно независимом поведении ее элемен-
тов-подсистем и об их состояниях. И есть переход из этого со-
стояния в новое динамическое макросостояние, где имеем дело
С сильно коррелированным поведением микроэлементов-под-
систем. Особенностью этого процесса является то, что исходные
факторы — среда-система, внешнее воздействие (накачка) — не
имеют структуры, а результат имеет структуру, которая диктует-
ся свойствами системы-среды. Поэтому этот процесс называется
самоорганизацией, в соответствии с чем Г. Хакен ввел для науки
®б этих системах название «синергетика» (от греч. synergetikos —
Совместный). При этом у Хакена просматривается достаточно
Четкая система понятий, образующая «ядро раздела науки»
1 Этот краткий обзор по нелинейной динамике второй половины XX в. опи-
рается на обзорную лекцию по нелинейной динамике профессора Ф.И. Атаулха-
Чова, прочитанную в МФТИ 12 апреля 2000 г.
411
Философия науки
(ЯРН) синергетики, в рамках которого определяются ее «пер-
вичные идеальные объекты» (ПИО) — простейшие «динамиче-
ские структуры», называемые у Хакена «модами»', или «парамет-
рами порядка», и способ построения из них «вторичных идеаль-
ных объектов» (ВИО) — различных динамических структур.
Центральным процессом здесь оказывается процесс изменения
(в том числе возникновения и исчезновения) динамических
структур М/ (аналогов состояний физической системы на
сх. 7.3) при изменении некоторого управляющего воздействия, ха-
рактеризуемого управляющим параметром X (аналог Fна сх. 7.3).
Динамические структуры характеризуются набором «измеримых
величин» т|7 (точнее — функций, поскольку элементом измере-
ния является движение определенной формы), составляющих
параметр порядка. Динамические структуры образуются согла-
сованным поведением (движением) элементов системы — нели-
нейной среды (А), свойства которой определяют характеристики
динамических структур — набор возможных мод1 2. Управляющее
воздействие поддерживает эту нелинейную среду в неравновесном
состоянии, т. е. эта среда составляет открытую (в нее постоянно
поступает энергия, или вещество, или что-то иное) и диссипа-
тивную (из нее постоянно отводится, возможно, в преобразован-
ной форме то, что поступает) систему. Динамические структуры
живут за счет прокачки чего-то через эту среду. Диссипация (по-
тери) играет важную стабилизирующую роль по отношению к
динамическим структурам, а неизбежные спутники диссипа-
ции — флуктуации играют важную роль в процессе изменения
динамических структур. В результате для ЯРН синергетики ана-
логом схемы 7.3 будет схема 14.13.
1 Хакен использует лазерную аналогию, где моды представляют собой стоя-
чие или бегущие волны в лазере, являющиеся «собственными» для данной систе-
мы и служащие аналогом орт, по которым раскладываются все прочие волны,
представляющие динамические структуры.
2«Порядок... выражается еще и в том, что возникать могут не какие угодно
структуры, а лишь их определенный набор, задаваемый собственными функция-
ми среды. Последние описывают идеальные формы реально возможных образо-
ваний и являются аттракторами, к которым только и может эволюционировать
рассматриваемый объект» (С.П. Курдюмов в комментариях к [Пригожин, 199U)-
3Сам Г. Хакен дает такое определение: «Синергетика занимается изучение^
систем, состоящих из многих подсистем различной природы... мы хотим РаС_
смотреть, каким образом взаимодействие таких подсистем приводит к возникло
вению пространственных, временных или пространственно-временнйх стрУ*3^
в макроскопических масштабах» [Хакен, 2000].
412
Часть II. Глава 14
<п|
Теоретическая часть (Т)
Математический: * ► ।
Модельный: Мд(Т||Ъ Xj)
мЛп|2д2>
|и>
Схема 14.1
Здесь, как и в любом разделе физики (включая квантовую
механику) и естественных науках вообще, наличествует опера-
циональная часть, включающая операции приготовления <П|
(нелинейной среды и управляющего воздействия, обеспечиваю-
щего ее неравновесность) и измерения |И> («параметра порядка»
t\i и «управляющего параметра» X, являющихся измеримыми ве-
личинами).
Математические представления синергетики с соответствую-
щими уравнениями движения вышли из теории нелинейных ко-
лебаний и ряда разделов математики. Математическими образ-
ами динамических структур являются аттракторы — предельные
для множества траекторий в фазовом пространстве множества то-
чек, образующих «фокусы», «предельные циклы», «странные»
аттракторы. Переход от одной динамической структуры к дру-
гой, т. е. возникновение новой динамической структуры, опре-
деляющейся соответствующими уравнениями движения, в кото-
рые входят управляющие параметры (математический образ
управляющего воздействия), может быть неоднозначным. Кроме
того, эти переходы часто происходят по упомянутой выше моде-
ли «динамического хаоса». Многовариантный переход называет-
ся бифуркацией.
Однако есть существенный момент, который делает синерге-
тику, как и одного из ее прародителей — теорию колебаний, над-
^чсциплинарной наукой (а не междисциплинарной, или метанау-
как ее часто характеризуют). Дело в том, что динамические
структуры (как и колебания) описывают форму движения и без-
различны к материалу среды (и связанному с ней конкретному
^Пу движения), на котором она осуществляется. Синергетика,
и теория колебаний, отличается от разделов физики, где
®ЙИсываются модели движения объектов (физических систем),
W, что она, по сути, рассматривает изменения формы движения,
'е- изменения качества (в классификации Аристотеля это дру-
413
Философия науки
гой тип движения, чем движение-перемещение). В синергетику
ПИО — не простейшие физические системы, а простейшие ди.
намические структуры, отвечающие отдельным параметрам по.
рядка (модам), математическими образами которых являются
соответствующие аттракторы. Из них состоят более сложные ди.
намические структуры — ВИО. Центральными ее объектами
оказываются не движение физических систем, а формы движе-
ний, которые можно обнаружить в разных разделах науки. Как и
в случае колебаний, форма движения, отвечающая той или иной
динамической структуре, может реализовываться на нелиней-
ных средах, принадлежащих разным разделам науки (механике,
электродинамике и др.) или даже разным наукам-дисциплинам
(физике, химии, биологии, социологии и др.). Соответственно
для синергетики важны не свойства элементов (как в статисти-
ческой физике), а характер связи между элементами, ответствен-
ный за характер нелинейности среды. В результате физические,
химические, биологические и другие типы движения играют
роль конкретного материала для динамических структур синер-
гетики. В этом суть ее (и теории колебаний) наддисциплинарно-
сти1. И это совсем иная наддисциплинарность, чем в математи-
ке, в силу наличия модельного слоя и операций приготовления
соответствующей неравновесной нелинейной среды и измере-
ния параметров порядка динамической структуры. Синергетика
1 Подчеркнем еще раз: аналогичная ситуация имеет место в теории колеба-
ний. Новая характерная черта, проявляющаяся у этого детища XX в., рожденно-
го в лоне классической механики в трудах наших соотечественников Л.И. Ман-
дельштама, Н.Д. Папалекси, А.А. Андронова, С.Э. Хайкина и др., состоит в том,
что предметом его рассмотрения становятся определенные формы движения,
выделяющие колебательное движение среди других. При этом, как скоро выяс-
няется, конкретный тип системы — носителя движения (механический, электрИ'
ческий, химический) оказывается несущественен для теории. Теория колебании
рассматривает колебательную форму любого по своему материалу движения или
процесса, обладающего той или иной степенью повторяемости во времени. Ос-
новными измеримыми величинами становятся амплитуда и фаза колебания,а
математическими образами колебаний становятся фазовые траектории, которь^
стремятся к фокусам, предельным циклам и другим особым математически
объектам в фазовом пространстве. Одновременно с появлением понятия фоР^ь
движения появляется целевая причинность (стремление к некоторой форме),
просы об устойчивости и переходы от одной формы колебаний к другой. Теор
колебаний усложняется, включая в себя теорию нелинейных колебаний (У
ков которой стояли А.А. Андронов и его коллеги [Андронов, 1959]), опиравШУ10
на математические труды А. Пуанкаре и А.М. Ляпунова.
414
Часть II. Глава 14
является естественной наукой, а не математикой1, но и не физи-
кой, что на схеме 14.1, проявляется в том, что «первичным иде-
альным объектом» здесь является мода Mj, которой на схеме 7.3,
отвечающей физике, соответствует не система, а состояние сис-
темы.
14.3. Проблема «необратимости времени» и «физика
неравновесных процессов» И. Пригожина
Интересное переплетение синергетики, математики, физики
и философии мы находим у И. Пригожина. Логика его собствен-
ного развития и исходная постановка проблем у него тесно связа-
ны с физикой, и сам он всячески избегает термина «синергетика».
Он называет создаваемую им науку «физикой неравновесных
процессов», считая ее «обобщением физики». Он рассматривает
ее как развитие физики, как обобщение квантовой механики и
космологии, как «взаимосвязь между двумя основными областя-
ми теоретической физики — динамикой и термодинамикой»,
которая «затрагивает смысл времени» [Пригожин, 1985, с. 160].
Однако наш анализ, использующий аппарат гл. 7, показыва-
ет, что он создает лишь новый раздел физики. Исходным момен-
том такой (ПИО-типа) деятельности часто является тот или
иной «конструктивный парадокс», который в итоге преобразует-
ся в новые «первичные идеальные объекты» (подобное преобра-
зование для случая квантовой механики было рассмотрено в
предыдущей главе). Для И. Пригожина таким «конструктивным
парадоксом» служит проблема необратимости времени. «Мотива-
цией нашей работы был парадокс времени», — говорит он [При-
гожин, 1994, с. 10].
' Обычно «необратимость времени» пытаются объяснить с по-
мощью механических («динамических» — на языке И. Пригожи-
# 1 Поскольку развитие синергетики в значительной степени было связано с
Развитием соответствующих разделов математики (так же как развитие классиче-
ской физики было тесно связано с развитием математического анализа), то авто-
ры зачастую не выделяют модельную часть и не различают математическую и
Собственно синергетическую стороны рассматриваемых ими задач. Структура
Синергетики, наличие в ней достаточно выраженного собственного модельного
Слоя указывает на то, что синергетика представляет собой особую фундаменталь-
но естественную науку, а не математику (и не «совокупность заимствований»
1,3 Математики, физики, теории систем и др., как о ней часто пишут).
415
Философия науки
на) первичных идеальных объектов (ПИО) в рамках ВИО-типа
работы, например, пытаются свести необратимость к явлению,
связанному, скажем, с тем или иным усреднением-огрублением
(как в известном методе Боголюбова [Боголюбов, 1946])*. Приго-
жин вслед за А. Бергсоном, Г. Рейхенбахом и др. исходит из того,
что необратимость — это принципиально немеханическое свойст-
во, и вводит его конструктивно как новый элемент нового ЯРН в
ходе ПИО-типа работы.
Делает он это следующим образом. Строя свою «неравновес-
ную физику», он исходит из сложившейся статистической физи-
ки (классической и квантовой). Он кладет в основание своего
математического представления широко используемое в стати-
стической физике представление функции распределения (плот-
ности вероятности или матрицы плотности соответственно в
классическом и квантовом случаях). Последняя определяется
выражением
= f Р(А 9)F(p, q)dpdq = Sp{p(f)Fm},
где FHa6jl — измеряемая макровеличина, F(p,q) — соответствующее ей
«микрозначение» (F°n — отвечающий ей оператор в квантовом слу-
чае), матрица плотности р является математическим образом со-
стояния системы. Изменение р(/) определяется уравнением движе-
ния, главным элементом которого является гамильтониан Н — ма-
тематический образ системы.
Отталкиваясь от этой структуры, Пригожин создает новое
математическое представление, вводя в математическом слое су-
пероператоры и операторы с комплексными собственными зна-
чениями в «оснащенных» пространствах. С их помощью путем
введения мнимой добавки того или иного знака в резонансном
знаменателе (или более общей процедуры комплексизации соб-
ственных значений) в математическом слое И. Пригожин осу-
ществляет центральную для себя процедуру хронологизации. Это
^опригожинская неравновесная статистическая физика через призму вве-
денной Боголюбовым последовательности шкал времени возрастающей груб0'
сти распадается на кинетику (после усреднения уравнения Лиувиля за вре*мЯ
порядка времени столкновения молекул (10 -12 с) все измеримые величины вы-
ражаются через одночастичные функции распределения) и гидродинамику (Ус'
реднение за время порядка 10 ~9 с, сопоставляемое с временем свободного пр0'
бега, превращает неравновесную термодинамику в обобщенную гидродинаМИ^
\Де Гроот, 1963] или в механику сплошных сред [Седов, 2004]).
416
Часть II. Глава 14
«в общем случае приводит к принципиально вероятностной эво-
люции с нарушенной симметрией во времени» и задает «стрелу
времени» (нарушающую симметрию во времени и обеспечиваю-
щую необратимость) и приводит к неустойчивости, хаотично-
сти, времени релаксации [Пригожин, 1994, с. 147, 194, 197, 202,
129].,'Так, через мнимую часть собственного значения оператора
В математическом слое И. Пригожин ввел в свою модель необра-
тимость — специфический термодинамический элемент физи-
ческой модели. По сути, И. Пригожин применяет тот же метод
Затравочной классической модели, который был проанализирован
при рассмотрении квантовой механики: берется «затравочная
модель» из известных разделов «динамической» физики (типич-
ный пример — система взаимодействующих частиц) и для нее
составляется гамильтониан, который вместе с функцией распре-
деления посредством определенных процедур переводят в новое
по сравнению с «затравочным» математическое представление с
новым уравнением движения, приводящим к новому типу пове-
дения. Такова типичная для «неклассической» физики XX в. схе-
ма, которой следует и Пригожин. Использование хорошо из-
вестной (в том или ином смысле «классической») «затравочной»
модели приводит к тому, что «динамическая механика» оказыва-
ется встроенной в саму структуру «статистической механики»
(как равновесной, так и неравновесной) по процедуре, а не как
частный случай (аналогично тому, как классическая механика
оказывается встроенной в квантовую).
, Таким образом, Пригожин разработал значительно более об-
щую, чем больцмановская, процедуру построения неравновес-
кой статистической физики1. Но созданная им неравновесная
физика не позволяет «слить в единое целое динамику, статисти-
ческую механику и термодинамику» [Там же, с. 178], которые
остаются разными разделами физики. Более того, он четко ука-
зывает границу между динамической и статистической
Механиками. В классическом случае это — деление на опреде-
ленные типы устойчивых и неустойчивых систем2. Точнее, при-
'Допригожинекая физическая кинетика в основном рассматривает различ-
ные модификации больцмановской модели слабонеидеального газа сталкиваю-
•Цйхся молекул (включая квазичастицы в твердом теле, плазме и др.), где необра-
тимость спрятана в так называемом «интеграле столкновений», который тоже
^Троится посредством «затравочной» модели.
2Это разграничение как принципиальное было введено еще Н.С. Крыловым
Крылов, 1950].
Философия науки 417
Философия науки
гожинская «неравновесная физика» рассматривает лишь так на-
зываемые большие системы Пуанкаре (БСП). В квантовом слу-
чае — системы с непрерывным неограниченным спектром типа
«частицы в поле». Для систем с дискретным спектром, для кото-
рых и на которых и создавалась квантовая механика, нельзя вве-
сти супероператор микроскопической энтропии1 [Пригожин,
1985, с. 274—275] — и, следовательно, их нельзя рассматривать в
рамках пригожинской «неравновесной физики», несмотря на то
что в математическом слое гильбертово пространство, исполь-
зуемое в квантовой механике, оказывается частным (вырожден-
ным) случаем «оснащенного» пространства пригожинской «не-
равновесной физики».
Исходя из этого анализа, рассмотрим приведенные выше ос-
новные заявления Пригожина. Начнем с центральной для него
постановки проблемы «необратимости времени». Он сводит ее к
ответу на вопрос: «Как возможно, что исходя из программы
(программа для ЭВМ является эквивалентом уравнения движе-
ния. — А.Л.), составленной на основе классической динамики,
мы получаем эволюцию с нарушенной симметрией во времени?»
[Пригожин, 1994, с. 128]. Это старый вопрос: «Как обратимые
по времени и «детерминистические» уравнения (законы) движе-
ния классической и квантовой механики (олицетворяемые для
И. Пригожина траекториями и волновыми функциями) перехо-
дят в необратимые по времени и «несводимо» вероятностные
описания в неравновесной термодинамике?» Этот вопрос возни-
кает при попытке вывода термодинамики или статистической
физики из механики многочастичных систем — ансамблей час-
тиц (при посредстве теоремы Лиувиля). Но такого вывода не су-
ществует. Термодинамика и статистическая физика — целост-
ные разделы физики, рассматривающие немеханические явле-
ния. В их основании лежат постулаты, отсутствующие в
механике. Попытки же вывести их из механики мотивированы
лаплассионизмом и отсутствием в рефлексии различения ПИО-
и ВИО-типов деятельности. И. Пригожин действительно по-
строил «мост» между динамикой и термодинамикой [ Там же]>
но не совсем в том смысле, как он говорил, — не в смысле обоб-
1 «Супероператор М (отличающий статистическую механику от динамичв'
ской. — А.Л.) не может существовать в двух следующих случаях: 1) Н (гамильт0'
ниан. — А.Л.) имеет чисто дискретный спектр; 2) Н имеет непрерывный, но огра'
ниченный спектр» [Пригожин, 1985, с. 274].
418
Часть II. Глава 14
щения-развития физики как «взаимосвязи между двумя основ-
ными областями теоретической физики — динамикой и термо-
динамикой», которая «затрагивает смысл времени» [Пригожин,
1985, с. 160]. Суть созданного им «моста» состоит в «методе за-
травочной модели», дающем не обобщение классической меха-
ники, а способ построения нового раздела физики. Его «физика
неравновесных процессов» — не «обобщение квантовой механи-
ки и космологии», а еще один раздел физики, являющийся обоб-
щением кинетической теории Больцмана.
Что же касается «квантового парадокса» (так И. Пригожин
называет проблему «редукции (коллапса) волновой функции»),
проанализированного выше, то никакого утверждаемого им
прорыва, как и принципиальной победы эйнштейновской ин-
терпретации квантовой механики, у него нет. Из того, что в ма-
тематическом слое математический образ пространства состоя-
ний в «динамической» физике оказывается частным (вырожден-
ным) случаем математического образа пространства состояний в
«неравновесной физике», не следует, что в слое физической мо-
дели эйнштейновские ансамбли (так называемая статистическая
интерпретация, к которой тяготеет И. Пригожин) получают пре-
имущество по сравнению с «копенгагенской интерпретацией».
Указанный им переход в математическом слое вполне соответст-
вует описанию модели отдельных частиц в модельном слое. Та-
ким образом, пригожинскую «брюссельскую» интерпретацию
квантовой механики можно рассматривать как разновидность
«статистической» интерпретации.
14.4. Бифуркации, неустойчивость и самоорганизация
в естественной науке и натурфилософии
Утверждая, что создаваемая им «новая наука — физика не-
равновесных процессов» «связана с такими понятиями, как са-
моорганизация и диссипативные структуры» [Пригожин, 1994,
с. 5], Пригожин выходит из области физики в синергетику. То
есть созданная им наука имеет две проекции: физическую и си-
нергетическую. Сам Пригожин никогда не использовал термин
«синергетика», но он нам нужен, чтобы выделить «надцисципли-
Нарную» составляющую его «физики неравновесных процес-
сов». Ситуация здесь во многом аналогична ситуации становле-
ц*
419
Философия науки
ния теории колебаний, рожденной в лоне классической механики.
В этом плане Пригожин разрабатывает «теорию диссипативных
структур», которая, по характеристике Хакена, «занималась изу-
чением физических, химических или биологических систем.
При этом целью исследования здесь является спонтанное фор-
мирование структур за пределами термодинамического равнове-
сия и в то же время при помощи процесса диссипации».
Здесь центральную роль в рассуждениях И. Пригожина игра-
ют резонансы Пуанкаре. С одной стороны, они являются причи-
ной того, что «большинство динамических систем неинтегри-
руемо, и взаимодействия (между составляющими системы. —
А.Л.) не могут быть исключены» [Там же, с. 14]. Резонансы при-
водят к «проблеме малых знаменателей» (т. е. к появлению бес-
конечностей) и вытекающему из теории КАМ (Колмогорова,
Арнольда и Мозера) делению траекторий на два типа: «траекто-
рии с «нормальным» поведением, знакомым нам по исследова-
нию двухтельного движения планет, и траектории со случайным
поведением» [Там жё\, а также к состояниям с положительным
показателем Ляпунова, соответствующим потере устойчивости.
В результате переструктурирования вокруг новых «первич-
ных идеальных объектов» — резонансов — пригожинская «физи-
ка» превращается в раздел синергетики, в котором резонансы
отвечают динамическим структурам Г. Хакена. Таким образом,
системы в пригожинской «физике неравновесных процессов»
являются открытыми и диссипативными. Новые черты, обозна-
ченные Пригожиным в названии его книги — «Порядок из хао-
са», — связаны с бифуркациями и непредсказуемостью.
Бифуркации — это точки, в которых ход процесса становится
неоднозначным: он может пойти разными путями, причем в си-
лу неустойчивости системы в этой точке выбор пути зависит от
флуктуаций — случайных событий — и потому принципиально
непредсказуем. В этой точке незначительные по энергии им-
пульсы приводят к выбору пути, который потом очень трудно
переиграть (вдали от точки бифуркации это требует больших за-
трат энергии). «Когда система, эволюционируя, достигает точки
бифуркации, — говорит Пригожин, — детерминистическое опи-
сание становится непригодным. Флуктуация вынуждает систему
выбрать ту ветвь, по которой будет происходить дальнейшая эво-
люция системы. Переход через бифуркацию — такой же случай-
ный процесс, как бросание монеты... В случае неравновесны^
420
Часть II. Глава 14
Процессов... флуктуации определяют глобальный исход эволю-
ции системы. Вместо того чтобы оставаться малыми поправками
к средним значениям, флуктуации существенно изменяют сред-
ние значения... Мы предлагаем назвать ситуацию, возникающую
после воздействия флуктуации на систему... — порядком через
флуктуацию» [Пригожин, 1986, с. 236—238]. Именно непредска-
зуемый выбор Пригожин и считает настоящим событием.
Другим важным новым понятием является «динамический ха-
ос» — тип динамических структур, связанных со «странными ат-
тракторами» (они тоже бывают разные, и здесь тоже имеют
место бифуркации). «В странном аттракторе система движется
от одной точки к другой детерминированным образом, но траек-
тория движения в конце концов настолько запутывается, что
предсказать движение системы в целом невозможно. И, что осо-
бенно удивительно, окружающая нас среда, климат, экология и,
между прочим, наша нервная система могут быть поняты только
в свете описанных представлений, учитывающих как стабиль-
ность, так и нестабильность. Это обстоятельство вызывает повы-
шенный интерес многих физиков, химиков, метеорологов, спе-
циалистов в области экологии. Указанные объекты детерминиро-
ваны странными аттракторами и, следовательно, своеобразной
смесью стабильности и нестабильности, что крайне затрудняет
предсказание их будущего поведения» [Пригожин, 1991].
На почве этой естественно-научной синергетики у Пригожи-
на (и у Хакена тоже) развивается натурфилософская синергетика.
Пафос этой стороны деятельности Пригожина ярко выражен в
его статье «Философия нестабильности». Здесь он делает акцент
на такие понятия, как события-бифуркации, нестабильность, не-
предсказуемость, аттракторы, флуктуации — существенно но-
вые по сравнению с механикой натурфилософские модели, ко-
торые обогащают модельную базу различных наук.
Эти натурфилософские образы расширяют возможности рас-
суждений во многих науках. «Порядок и беспорядок, таким об-
разом, оказываются тесно связанными — один включает в себя
, Другой. И эту констатацию мы можем оценить как главное изме-
нение, которое происходит в нашем восприятии универсума сего-
дня» [Там же]. Неустойчивость как бы пронизывает мироздание
сверху донизу, обеспечивая разный ход событий. Это позволяет
Формулировать важные новые мировоззренческие установки,
Например, в экологии: «Если природе,, в качестве сущностной
421
Философия науки
характеристики, присуща нестабильность, то человек просто
обязан более осторожно и деликатно относиться к окружающему
его миру, — хотя бы из-за неспособности однозначно предсказы-
вать то, что произойдет в будущем». В натурфилософских рассуж-
дениях появляется место для понятий «риск» и «ответственность»:
«В детерминистическом мире риск отсутствует, ибо риск есть
лишь там, где универсум открывается как нечто многовариант-
ное, подобное сфере человеческого бытия». Здесь появляется и
идея «неравновесности, ведущей не только к порядку и беспоряд-
ку, но открывающей также возможность для возникновения уни-
кальных событий, ибо спектр возможных способов существова-
ния объектов в этом случае значительно расширяется» [ Там же].
В.С. Степин видит в качестве наиболее перспективной об-
ласти применения этих понятий «сложные саморазвивающиеся
системы», причем «среди новых представлений, которые внесла
синергетика (динамика нелинейных систем) в понимание разви-
тия, — по его мнению, — особо следует выделить два связанных
между собой открытия. Во-первых, представление о кооператив-
ных эффектах... Во-вторых, концепцию динамического хаоса,
раскрывающего механизмы нового уровня организации, когда
случайные флуктуации в состоянии неустойчивости приводят к
формированию аттракторов в нелинейной среде и последующему
возникновению нового параметра порядка» [Степин, 2004, с. 64].
Понятие параметра порядка, одно из центральных у Хакена,
взято им из «парадигмы лазера», в котором «как только какая-то
световая волна побеждает в соревновании, она вынуждает все
атомы поставлять ей свою энергию». Параметры порядка — это
медленно меняющиеся переменные, которые подчиняют себе
множество быстро меняющихся переменных и определяют ход
макропроцесса, т. е. «динамическую структуру». Такие парамет-
ры порядка могут иметь весьма сложную временною и простран-
ственную форму.
Хакен распространяет это понятие на различные сферы-
Примерами параметров порядка являются: язык для человека,
национальный характер, ритуал, тип государственного устройст-
ва, мода (в одежде и проч.), общественное мнение (описываю*
щее давление группы на индивида), парадигма Т. Куна [Хакен,
2003, с. 116—119]. Применение к этим случаям понятия «пара*
метр порядка» выделяет в них коллективный эффект (Хакен счи-
тает, что очень важно «заставить людей осознавать коллектив-
422
Часть II. Глава 14
ные эффекты», которые являются «типичной причиной для раз-
вития нестабильности») и ту особенность, что параметр порядка
«не может быть изменен в результате действий индивида (под-
системы), но скорее посредством изменения внешних условий».
Существенные изменения (революции) возможны лишь в ситуа-
ции близкой к нестабильности, к которой приводят соответст-
вующие условия. Тогда то, какой путь будет реализован, зависит
от малых флуктуаций (типа действий индивидов). При этом,
«когда система дестабилизирована, мы не можем предсказать... в
каком новом состоянии она окажется» [Там же].
Конечно, такие новые натурфилософские образы пытаются
широко использовать в социальных и других науках. Так, в био-
логии стала популярной идея, что различные биологические
процессы: биохимические, физиологические, процессы морфо-
генеза (развитие организма из яйцеклетки) и биологической
эволюции — можно рассматривать как последовательное услож-
нение динамических структур и образования порядка (структур)
из хаоса. Однако, как говорит биофизик Ф.И. Атаулханов, «пока
до осуществления этой программы далеко, появляются даже со-
мнения в самой ее осуществимости». То есть принципиально но-
вых естественно-научных моделей синергетики, по-видимому,
недостаточно, чтобы перейти от неживой природы, изучаемой
физикой и химией, к живой природе (см. об этом также гл. 16).
Другой областью применения синергетических моделей явля-
ется социология, которая и прежде «получала теоретический им-
пульс и методологический каркас от естественных наук, точнее,
от тех теорий и концепций, в которых универсализировались те
или иные характеристики бытия (термодинамика, биология, не-
линейная физика). Синергетика, бесспорно, является очеред-
ным... этапом подобных универсалистских интенций естество-
знания», — утверждает В.В. Василькова [Василькова, с. 56—57].
Спектр таких применений весьма широк. «Я пытался пока-
зать, — говорит Хакен, — как одни и те же принципы могут при-
меняться в весьма разнообразных дисциплинах, имеющих дело с
Процессами самоорганизации в сложных системах. Изучаемые
системы простирались от физики до социологии». Иногда на
этой основе удается создавать и настоящие теории, которые, как
Утверждает Хакен, «были описаны в большом количестве томов
Шпрингеровской серии по синергетике» [Хакен, 2003, с. 121].
423
Философия науки
Однако наряду с расширяющимися возможностями новых
моделей синергетика, как до нее механика, порождает свой ва-
риант лаплассионизма (п. 1.1), в котором в очередной раз стира-
ется грань между природой и человеческой деятельностью и со-
ответственно между натурфилософией и естественной наукой.
Это часто вводит в заблуждение и порождает мифы. Синергети-
ка — это наддисциплинарная, но естественная наука, т. е. наука об
объектах, поэтому никаких оснований к тому, чтобы ожидать,
что из нее может вырасти наука о субъектах, каковыми занима-
ются гуманитарные науки, нет. Если ее удается применять, ска-
жем, в социологии, то только в случае, когда люди там выступа-
ют в качестве объектов. Ее надцисциплинарность носит тот же
характер, что и в теории колебаний, она не является ни «мостом»
между дисциплинами, ни «метанаукой».
Поэтому именно к мифотворчеству следует отнести выска-
зывания Пригожина о человеке: «Идея нестабильности не толь-
ко в каком-то смысле теоретически потеснила детерминизм,
она, кроме того, позволила включить в поле зрения естествозна-
ния человеческую деятельность... Нестабильность, непредсказуе-
мость и в конечном счете время как сущностная переменная ста-
ли играть теперь немаловажную роль в преодолении той разоб-
щенности, которая всегда существовала между социальными
исследованиями и науками о природе» (здесь и далее курсив мой. —
А. Л.). «Сегодня, когда физики пытаются конструктивно вклю-
чить нестабильность в картину универсума, наблюдается сбли-
жение внутреннего и внешнего миров (человека. — А.Л.)». Сюда же
следует отнести и многие рассуждения Пригожина о времени:
«Когда-то Валери совершенно правильно, на мой взгляд, отме-
тил, что «время — это конструкция». Действительно, время не
является чем-то готовым, предстающим в завершенных формах
перед гипотетическим сверхчеловеческим разумом. Нет! Вре-
мя — это нечто такое, что конструируется в каждый данный мо-
мент. И человечество может принять участие в процессе этого
конструирования». Эти поэтические рассуждения имеют слабое
отношение к естественным наукам, где время по-прежнему ос-
тается величиной1, измеряемой часами (понятия обратимости и
1 Исключение составляет программа «теории времени» Н.А. Козырева [К°'
зырев, 1982], но она внутренне непоследовательна и остается слабо разработан-
ной маргинальной исследовательской программой.
424
Часть II. Глава 14
необратимости применимы к процессам, но не времени, служа-
щему для описания процессов).
Другое дело — философская синергетика, в которой осозна-
ется, что синергетическую терминологию используют как некие
«конструктивные метафоры» для того, чтобы «наполнить новы-
ми содержаниями... уже имеющиеся понятия, характеризующие
онтологическое отношение к реальности... выработку нового ар-
сенала категорий, которые имманентным образом позволили бы
прикоснуться как к бытию, так и к становлению». Эта философ-
ская синергетика включает проблематику «неклассической»
постгегелевской философии (философии жизни, феноменоло-
гии, герменевтики, экзистенциализма, постмодернизма), в пер-
вую очередь «философское схватывание становления и самоорга-
низации» и снятие противопоставлений «субъект — объект»,
«естественное — искусственнное» и др., связываемое с «обще-
культурными сдвигами в понимании мира и положения челове-
ка в этом мире»1 [Свирский, 2001, с. 122—123]. Насколько про-
дуктивна такая философская синергетика — покажет время.
Возвращаясь к естественно-научной синергетике и подводя
некоторый итог, по-видимому, можно сказать о существовании
общей парадигмы и ЯРН (сх. 14.1). Эта парадигма объемлет три
рассмотренные выше позиции (и связанные с ними школы и ис-
следовательские программы). У всех них в той или иной форме
(иногда под разными названиями) присутствуют неравновесные
нелинейные среды и динамические структуры (автоволна, дис-
сипативные структуры Пригожина, состояния динамического
хаоса, пространственные (типа эффекта Бенара) и временные
(типа «режима с обострением» [Капица, Курдюмов, Малинецкий,
1997]) структуры и т. п.). Внутри всех этих направлений уже дав-
но развивается нормальная наука, и ни описание «брюсселятора»
Пригожина, ни описание лазера Хакена, ни какие-либо другие
1 Характерным примером такого рода является «Синергетика-2» В.И. Арши-
нова — «синергетика процессов познания как самоорганизующихся наблюде-
ний-коммуникаций», включающая «сюжет развития методологических принци-
пов синергетики, отправляясь от субъект-объектно интерпретируемых принци-
пов наблюдаемости, соответствия, дополнительности», «интерсубъективные
Принципы коммуникации, посредством которой и формируется синергетиче-
ская пространственность как человекомерная, телесно освоенная человеческая
среда» [Аршинов, 1999, с. 36]. «Синергетический подход... — это искусство орга-
низации условий для продуктивного диалрга «порядок-хаос», на границе которо-
го «кристаллизуется новый смысл» [Аршинов, 2003, с. 434].
425
Философия науки
конкретные научные результаты этих и других групп не подвер-
гаются взаимному отрицанию. Они отличаются в первую оче-
редь той научной областью, из которой выходят их авторы в над-
дисциплинарную область синергетики.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. М.: Физматгиз,
1959.
Аршинов В. Событие и смысл в синергетическом измерении // Событие и
смысл. Синергетический опыт языка. М.: ИФРАН, 1999.
Аршинов В.И., Савичева И.Г. Гражданское общество как проблема коммуни-
кативного действия // Синергетическая парадигма. Человек и общество в усло-
виях нестабильности. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
Боголюбов Н.Н. Проблемы динамической теории в статистической физике.
М.; Л.: Гостехиздат, 1946.
Василькова В. В. Синергетика и социологический эволюционизм // Синер-
гетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. М.: Про-
гресс-Традиция, 2003.
Данилов Ю.А. Роль и место синергетики в современной науке // Онтология
и эпистемология синергетики. М.: ИФРАН, 1997.
Данилов Ю.А., Кадомцев Б. Б. Что такое синергетика? // Данилов Ю.А., Ка-
домцев Б.Б. Нелинейные волны. Самоорганизация. М.: Наука, 1983.
Де Грот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. М.: Мир, 1963.
Капица СП, Курдюмов СП, Малинецкий Г Г. Синергетика и прогнозы бу-
дущего. М.: Наука, 1997.
Козырев Н.А. Время как физическое явление // Моделирование и прогнози-
рование в биоэкологии. Рига: ЛГУ, 1982. С. 50—72.
Концепции самоорганизации: становление нового образа научного мышле-
ния. М.: Наука, 1994.
Крылов Н.С. Работы по обоснованию статистической механики. М.; Л.: АН
СССР, 1950.
Мандельштам Л.И. Лекции по колебаниям. М.: Изд-во АН СССР, 1955.
Пригожин И. От существующего к возникающему. М.: Наука, 1985.
Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. 1989. № 8.
С. 3-19.
Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991-
№ 6. С. 46-57.
Пригожин И., Стенгере И. Время, хаос, квант. М.: Прогресс, 1994.
Пригожин И., Стенгере И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986.
Свирский Я. И. Самоорганизация смысла (опыт синергетической онтоло-
гии). М.: ИФРАН, 2001.
Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1—2. СПб.: Лань, 2004.
Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. М., 2000.
Степин В. С. Синергетика и системный анализ // Синергетическая парадиг-
ма. Когнитивно-коммуникативные горизонты синергетической парадигмы. М-:
Прогресс-Традиция, 2004.
Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980.
426
Часть II. Глава 14
Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся
системах. М.: Мир, 1985.
Хакен Г. Синергетика как мост между естественными и социальными нау-
ками (1996) // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях не-
стабильности. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 106—122.
Хакен Г. Синергетике — 30 лет: Интервью с проф. Г. Хакеном // Вопросы
философии. 2000. № 3. С. 53 (2000).
Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии. М.;
Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2003.
ВОПРОСЫ
1. В чем кардинальное отличие синергетики от термодинамики и
статистической физики?
2. Каковы три основных новых явления в нелинейной динамике?
3. Что такое «физика неравновесных процессов» И. Пригожина и ее
отношение к «синергетике»?
4. Каковы основные естественно-научные и натурфилософские по-
нятия синергетики?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Пригожин И. От существующего к возникающему. М.: Наука, 1985.
Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. 1989. № 8.
С. 3-19.
Пригожин И Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991.
№ 6. С. 46-57.
Пригожин И., Стенгере И. Время, хаос, квант. М., 1994.
Пригожин И., Стенгере И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986.
Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. М.: Про-
гресс-Традиция, 2000.
Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980.
Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся
системах. М.: Мир, 1985.
Хакен Г. Синергетика как мост между естественными и социальными нау-
ками (1996) // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях не-
стабильности. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 106—122.
Хакен Г. Синергетике — 30 лет: Интервью с проф. Г. Хакеном // Вопросы
философии. 2000. № 3. С. 53.
Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии. М.;
Ижевск: Институт компьютерных исследований; НИЦ «Регулярная и хаотиче-
ская динамика», 2003.
Глава 15
ПРОБЛЕМА РЕДУКЦИОНИЗМА:
СВОДИТСЯ ЛИ ХИМИЯ К ФИЗИКЕ?
Важным для осмысления химии моментом является соотно-
шение химии и физики, вопрос о том, является ли химия само-
стоятельной наукой? Последнее связано с тем, что б начале
1930-х гг. появилась квантовая химия, использующая созданные
в рамках квантовой механики физические теории атома и моле-
кулы. С их помощью объясняется Периодическая система эле-
ментов Менделеева и строятся физические теории химических
межатомной и межмолекулярной связей и молекулярной струк-
туры. Поскольку эти понятия лежат в основании химии, то воз-
никает впечатление о принципиально полном сведении (редук-
ции) химии к физике.
Чтобы разобраться с этим вопросом, выделим ЯРН для хи-
мии XIX в. и посмотрим, чтб происходит с ним после 1930 г.
Кроме того, мы получим возможность сравнить структуру ЯРН
для разных естественных наук: физики и химии. В случае химии
мы воспользуемся той же схемой 7.3, но с другим вариантом мо-
дельного слоя.
15.1. Химия Лавуазье и Дальтона
Для химии XIX в. (химии Лавуазье и Дальтона) группа поня-
тий, входящих в модельную часть теоретической части ее ЯРН,
существенно сложнее, чем в физике, — их существенно больше
и связи их многообразнее. Первая тройка состоит из понятий
химических атомов, химических связей и химических соедине-
ний, где химические соединения представляют собой ансамбли
определенным образом связанных между собой атомов (про-
стейший пример — химическая молекула, более сложные случаи
см. в [Зоркий, 1996]). К этим трем понятиям добавляется понятие
идеального «химического вещества», которое характеризуется нН'
428
___________________ Часть II, Глава 75
бором свойств произвольной природы. Химические вещества —
это гомогенные или гетерогенные (коллоиды и др.) вещества в
различных фазах, отличающиеся друг от друга разнообразными
химическими (способностью превращаться друг в друга) и нехи-
мическими свойствами. Спектр свойств весьма широк: от неоп-
ределенных, опирающихся на человеческие чувства вкуса и за-
паха (характерные для периода становления химии) до очень чет-
ко и точно количественно измеряемых физических свойств
(превалирующих сегодня). Список свойств открыт и постоянно
увеличивается. Эти свойства играют роль измеримых величин и
задаются операционально (они в основном внешне заданы по
отношению к теоретической части химии). Химия стремится к
установлению однозначного соответствия между набором свойств
химического вещества и системой химических атомов и связей,
определяющих химическое соединение (это отражают много-
мерные диаграммы состав — структура — свойства).
Связь между идеальными химическими веществами и отве-
чающими им соединениями вводится посредством еще двух
важных взаимоопределяемых понятий: простого и составного
вещества. Связь простого вещества с понятием химического ато-
ма, определяемого как минимальное количество простого веще-
ства, обладающего всеми свойствами этого вещества, осуществ-
ляется в рамках следующей схемы. Выделяется множество «про-
стых веществ (тел — body)», которые а) не разлагаются на другие
вещества, б) на которые разлагаются все прочие вещества. Веще-
ства подразделяют на элементарные (простые) вещества и соеди-
нения (в приводимой выше терминологии — составные, по-
скольку слово «соединение» у нас уже занято, это результат того,
что разные химики пользуются здесь разной терминологией, не
всегда четко разводя понятие соединения и вещества. — А. Л.).
«Вещество, которое можно разложить на два или несколько дру-
гих веществ, называют соединением. Вещество, которое нельзя
разложить, называют элементарным веществом (элементом)», —
пишет в современном учебнике химии дважды нобелевский лау-
реат Л. Полинг [Полинг, 1978, с. 17].
Определение элемента, или простого тела, дал еще Р. Бойль в
1661 г. Хотя он не назвал ни одного примера реального элемента
в новом понимании, его определение было постепенно призна-
ло многими химиками XVIII в. Во второй половине XVIII в. суть
этого понятия вполне адекватно изложена Макером: «Я поло-
429
Философия науки
жил, что будто бы все тела разрушены и приведены к самым про-
стейшим их началам, дабы, узнав главные свойства сих первых
начал, можно было по ним исследовать различные их соедине-
ния и иметь некоторое главное познание о свойствах сложенных
тел, которые из соединения оных происходят». В 1787 г. Лавуазье
высказал следующее определение понятия «простое тело». По
его мнению, следует называть «простыми все тела, которые мы
не можем разложить, которые мы получаем в последнем итоге
путем химического анализа. Несомненно, настанет день, когда
эти вещества, являющиеся для нас простыми, будут в свою оче-
редь разложены... Но наше воображение не должно опережать
факты» [Фигуровский, т. I, с. 361—362]. Дальтон приводит ряд
конкретных правил для выявления простых и составных тел
[цит. по: Фигуровский, т. II, с. 45]: «Следующие главные правила
могут быть приняты в качестве руководства во всех наших иссле-
дованиях, относящихся к химическому синтезу: 1. Если возмож-
но получить только одно соединение (combination) из двух ве-
ществ (bodies), можно предположить, что оно будет двойным,
если отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие о про-
тивном. 2. Если наблюдалось два соединения, следует предпола-
гать, что они двойные и тройные...»
Через понятия простого и составного вещества вводятся по-
нятия химического атома как минимальной порции простого ве-
щества и химической молекулы («составного атома» Дальтона)
как минимальной порции «составного» вещества (подобно тому,
как была введена минимальная порция электричества).
При этом Дальтон — отец химического атомизма — исходил
из модели «физического атомизма», он начинал с исследования
газовых смесей. Он утверждал, что «элементарные частицы
(ultimate particles) всех однородных тел (bodies) абсолютно подоб-
ны по весу, форме и т. д. Другими словами, любая частица воды
подобна другой частице воды, любая частица водорода подобна
другой частице водорода и т. д.» [Dalton, 1963, р. 113]. Кроме то-
го, он конструирует модели составных атомов (молекул) из про-
стых атомов, которые обозначает кружочками («1 атом сорта А +
1 атом сорта В = 1 атом сорта С, бинарного; 1 атом сорта А + 2
атома сорта В = 1 атом сорта D, тернарного...» [Ibid., р. 163-164])-
Так выглядит его теоретическая модель. Но он описывает и кон-
кретные эмпирические процедуры для воплощения этой хими-
ческой модели в эмпирический материал, т. е. способ распозна-
430
Часть II. Глава 15
вать химическими средствами простые и составные «химические
тела» [Ibid., р. 167]. В этой модели существенно, что атомы быва-
ют разных сортов (относятся к разным элементам). Следует
иметь в виду, что атомы одного сорта могут давать разные соеди-
нения за счет разного набора связей (типичный пример: алмаз и
графит). Одно и то же соединение может лежать в основе разных
веществ [Зоркий, 1996].
Следующим необходимым элементом исходной системы по-
нятий является понятие химического превращения одних химиче-
ских соединений (и веществ) в другие (химической реакции):
{соединения (вещества)} 1 —► {соединения (вещества)^
Схема 15.1
«Если определить химическую реакцию как процесс, в
результате которого одно химическое соединение превращается
в другое (или некоторая совокупность соединений переходит в
другую совокупность), то к числу важнейших систем базисных
химических индивидов целесообразно причислйть многообра-
зие химических реакций» [Там же]. Структура (15.1) играет в
химии роль, подобную структуре {ЛдОт) -> SA(t2)} в физике. Хи-
мические формулы составляют соответствующий математиче-
ский слой. Так выглядит теоретическая часть для химии, отве-
чающая схеме 7.3.
Через «химические вещества» происходит связь модельного
и эмпирического слоев в химии. В определение понятия идеаль-
ного химического вещества входит возможность его реализации
в виде эмпирического вещества. Эмпирические вещества в виде
жидкостей, газов или твердых тел, обладающих соответствую-
щими свойствами, являются эмпирической реализацией (мате-
риализацией) «химических веществ». Эмпирические вещества —
то, что «приготовляется» и «измеряется» в химии. Их приготов-
ление и измерение (т. е. отождествление эмпирического вещества
с определенным «химическим веществом» и отвечающим ему
. соединением) — дело аналитической химии, которая, согласно
одному из современных определений, является «научной дисци-
плиной, разрабатывающей и применяющей методы, инструмен-
ты и стратегии получения информации о составе (composition) и
Природе (nature) веществу в пространстве и времени» [Grosser-
bauer, 1997]. «Аналитическая химия — наука об определении хи-
431
Философия науки
мического состава и, в некоторой степени, химического строе-
ния соединений. Алхимики XIV—XVI вв. впервые применили
взвешивание и выполнили огромный объем экспериментальных
работ по изучению свойств веществ, положив начало химиче-
скому методу анализа. В XVI—XVII вв. появились новые хими-
ческие способы обнаружения веществ, основанные на реакциях
в растворе... Родоначальником научной аналитической химии
считают Р. Бойля, который ввел понятие «химического анали-
за»... До первой половины XIX в. аналитическая химия была ос-
новным разделом химии», — пишет в статье «Аналитическая хи-
мия» Ю.А. Золотов [Золотов, 1988]).
С помощью аналитической химии из «базового множества
химических веществ и их превращений» определяется набор
простых веществ, а через них — атомов и связей. В отличие от
атомов, число сортов которых достаточно быстро устоялось (в
химических соединениях присутствует не более 80 разных сор-
тов атомов), множество химических связей чрезвычайно велико
и продолжает расти1. Поскольку набор связей открыт, постольку
в принципе открыто и «базовое множество», но практически оно
в основном сформировалось уже к началу XIX в.2
В результате ЯРН химии образует следующая замкнутая система
совместно определяемых исходных химических понятий, отобра-
женная на схеме 15.2 (подчеркиванием обозначен математический
слой: «химические атомы» разных сортов, «химические связи», «хи-
мические соединения», «химические вещества», «простое» и «со-
ставное» вещество, изображенное горизонтальной стрелкой «хими-
ческое превращение» (химическая реакция) — в теоретической
части (Т), «эмпирические вещества» — в операциональной части
(ОП). Так выглядит ЯРН для химии Лавуазье—Дальтона — аналог
изображенного на схеме 7.3 ЯРН для физики. Сравнение этих двух
схем дает пример различий на уровне разных наук (дисциплин).
’Существует удобная, но грубая классификация, согласно которой связи
могут различаться качественно (ковалентные (большинство), ионные, металли-
ческие и к ним добавляют ван-дер-ваальсовы) и количественно (валентность
и др.).
2 Речь идет о простейшей «химии состава». В понятие «соединение» в орга-
нической химии добавляется структура (структурная химия), а в понятие хими-
ческой реакции вводится понятие скорости химической реакции (подробнее эти
и другие усложнения рассматриваются в [Кузнецов; Печенкин; Зоркий}). Но все
это не меняет вид структуры (15.2) и логики построения ЯРН в химии, хотя тре-
бует некоторого расширения «базового множества».
432
Часть II. Глава 15
{соединения}( -----► {соединения}
{соединения=атомы+связи{ 1
{химические вещества} {химические вещества} 2
(простые и составные) (простые и составные)
Схема 15.2
Затем, используя определенные в рамках ЯРН атомы и связи,
создается расширяющееся множество химических соединений и
соответствующее расширяющееся множество химических веществ
(это отвечает ВИО-типу работы). Как мы уже говорили выше, этот
процесс идет полуэмпирическим путем, но описывается с помо-
щью химических атомов, играющих роль ПИО химии. Имея ис-
ходный набор химических атомов и связей, можно строить разно-
образные химические соединения и изучать «не только химические
.реакции, но и «функциональные зависимости вида р=р(Х), где X—
по-прежнему химическое вещество, ар — какое-либо свойство.
Это может быть и такое «химическое» свойство, как реакционная
способность, и такое физическое свойство, как температура плав-
ления или электропроводность...» [Зоркий, 1996]1.
15.2. Химия XX в.
В XX в. ЯРН и парадигма химии существенно изменились.
В основе современных химических представлений лежат пред-
ставления квантовой химии, возникшей сразу вслед за формиро-
ванием современной квантовой механики в конце 1920-х гг. Она
возникает в результате совмещения «физических» и «химиче-
ских» атомов (и молекул). В результате все исходные представле-
1 При этом «функциональные зависимости вида р= р(Х)» или «свойства как
Функция природного вещества» П.М. Зоркий вообще кладет в основу определе-
ния химии как науки, как научного предмета [Зоркий, 1996]. Такой взгляд естест-
венен, если исходить из эмпиристской философии, для которой существует
Только ВИО-тип работы.
433
Философия науки
ния химии, введенные выше, начинают переопределяться явным
образом через физические ВИО-модели. В первую очередь это
касается атома. Химический атом замещается физико-химиче-
ским атомом, точнее, многоэлектронным атомом квантовой ме-
ханики, рассматриваемым в контексте структуры химического
соединения или превращения. Соответственно физические модели
кладутся в основание явного определения химических связей
(см. [Полинг, 1978]).
Первым триумфом физической квантовой химии стал вывод
Периодической системы элементов Менделеева из квантово-ме-
ханической теории атома. Следующим достижением стала физи-
ческая электронная модель межмолекулярного взаимодействия
и теория элементарных физико-химических связей (не всех), а
также физическая классификация типов химической связи (кова-
лентная связь, ее донорно-акцепторный механизм, ее свойства;
ионная связь; металлическая связь; водородная связь, мно-
гоатомная физико-химическая связь и др. [Зоркий, 1996]), начав-
шаяся еще до квантовой механики. Параллельно шло формиро-
вание и развитие физической аналитической химии (спектро-
скопия, рентгеноанализ и т. п.), т. е. нового типа эталонов и
измерительных процедур для определения химических соедине-
ний и их компонентов.
Сегодня атом в химии, по сути, является явно определенным,
более того, спектроскопические и рентгенографические методы,
разработанные для физических атомов и молекул, стали основны-
ми для определения состава химических веществ, вытеснив чисто
химические. Можно сказать, что появилась «физико-химическая
аналитическая химия» XX в., сменившая аналитическую химию
XIX в. Такое (по сути физическое) определение атома заменяет
прежнее химическое установление соответствия «простое вещест-
во — атом». Теперь главные ПИО химии — химические атомы —
определяются явным образом с помощью физических понятий.
С их помощью явным образом определяется понятие химическо-
го соединения (см. [Там же]). Вопрос, что такое атом, химиков
больше не волнует, что такое химическая связь — более животре-
пещущий вопрос, но со стороны создания теоретической (по сути
физической) модели различных связей или эмпирических и полу-
эмпирических законов, помогающих ориентироваться в неверо-
ятном множестве химических превращений.
Однако сама структура и основные понятия, введенные в XIX в.,
по-прежнему задают контекст и специфику химии. Физика здесь
434
Часть II. Глава 15
не заменяет химию, а встраивается в нее. Этот тип симбиоза отли-
чается от физической химии XIX в. тем, что он касается определе-
ния исходных понятий химии, а не добавок к ним.
Процесс совмещения «химического» и «физического» атома,
воспринимаемый сегодня и физиками, и химиками как очевид-
ный и не требующий обсуждения, не так прост. «Физическая» и
«химическая» атомистика происходят из близких источников: из
наложения атомистической натурфилософии на физические и
химические исследования разреженных газов. Этими двумя об-
ластями и занимался на рубеже XVIII и XIX вв. отец химической
атомистики Дальтон. И, как утверждается в [ Фигуровский, т. II, с.
15], «во второй половине XVIII в. основные идеи корпускуляр-
ных теорий считались среди ученых-естествоиспытателей само
собой разумеющимися», и в начале XIX в. они стали главенст-
вующими в химии. В физике дело обстояло сложнее. В связи с
успехами модели теплорода в середине XIX в. здесь произошел
отход от этих представлений, и атомно-молекулярные представ-
ления пробивали себе дорогу в статистической физике с боль-
шим трудом вплоть до начала XX в. Но к 1920-м гг. и далее ут-
верждение Н.А. Фигуровского опять вполне приложимо. В кван-
товой химии, как и во времена Дальтона, атомная
(молекулярная) химия и физика пересеклись (атом квантовой
механики происходит из атома в молекулярной статистической
физике Больцмана, исходящей из молекулярной модели разре-
женного газа). В результате образовался новый ПИО — физи-
ко-химический атом, который обладает свойствами атома в кван-
товой механике, но, кроме того, включен в химические соединения
и превращения. Последнее обусловливает то, что химия не сво-
дится к физике. Физика применяется к той или иной модели хи-
мического соединения, полученной не из физики1.
1 Похожая мысль развивается в [Печенкин, 1986], где выделяется линия «уг-
лубления традиционных химических представлений» в виде последовательности:
«теории состава, уходящие своими корнями еще в алхимические концепции,.,
химические структурные теории, возникшие в 60-х гг. XIX в.... кинетические
теории... которые в 30—40-х гг. XX в. начали теснить структурные теории... И на-
конец, это теории самоорганизации химических систем, возникшие в 60—70-х гг.»
[Гаи же, с. 158—159]. Там же более подробно, но с другой позиции рассматрива-
ется взаимодействие физики и химии. Кроме внедрения в химию квантовой ме-
ханики, там рассматриваются, в частности, более раннее внедрение в химию тер-
модинамики и более поздние «теории самоорганизации» И. Пригожина и др. Но
с Развиваемой в данной главе точки зрения наиболее принципиальным является
вНедрение в химию квантовой механики.
435
Философия науки
Так выглядит химия в рамках описанной в гл. 7 модели есте-
ственной науки1. Соответственно ответ на сакраментальный во-
прос «Что такое химия?» строится на базе описанной выше мо-
дели: химия — это наука, базовой моделью которой является мо-
дель химической реакции как взаимопревращения химических
веществ и соединений (ансамблей атомов) друг в друга. Но ПИО и
ВИО химии — атомы.и молекулы, став ВИО квантовой механи-
ки, порождают подраздел физики — квантовую химию.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Золотов Ю.А. Аналитическая химия // Химическая энциклопедия. Т. 1. М.:
Сов. энц., 1988.
Зоркий П.М. Критический взгляд на основные понятия химии // Журнал Рос-
сийского химического общества им. Д.И. Менделеева. 1996. Т. 40. № 3. С. 5—25.
Кузнецов В.И. Диалектика развития химии. От истории к теории развития
химии. М.: Наука, 1973.
Печенкин А.А. Взаимодействие физики и химии (Философско-методологи-
ческие проблемы). М.: Мысль, 1986.
Полинг Л., Полинг П. Химия. М.: Мир, 1978.
Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии. Т. I: От древнейших времен до
начала XIX в.; Т. II: Развитие классической химии в XIX столетии. М.: Наука, 1979.
Dalton J. New System of Chemical Philosophy. N.Y., 1963.
Grosserbauer M., Kelner R. Fechen//Journal ofAnalitical Chem. 1997. Vol. 357.
№ 2. P. 133.
ВОПРОСЫ
1. Каковы основные понятия химии?
2. Каков основной процесс в химии?
3. Что такое измерение в химии?
4. В чем разница химии XIX и XX вв.?
5. Из чего исходит позиция редукции химии к физике и насколько
она обоснованна?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Зоркий П.М. Критический взгляд на основные понятия химии // Журнал Рос-
сийского химического общества им. Д.И. Менделеева. 1996. Т. 40. № 3. С. 5—25.
Зоркий П.М. О фундаментальных понятиях химии // Соросовский образо-
вательный журнал. 1996. № 9. С. 47—56 (<I: Zorkiy.htm>).
Печенкин А.А. Взаимодействие физики и химии (Философско-методологи-
ческие проблемы). М.: Мысль, 1986.
1Для конкретного содержательного наполнения этой схемы необходимо
проанализировать под этим углом зрения конкретные разделы химии, описан-
ные в [Зоркий, 1996] и др.
Глава 16
РЕДУКЦИОНИЗМ
И АНТИРЕДУКЦИОНИЗМ В БИОЛОГИИ
Тематика философии биологии очень широка. К ней отно-
сятся такие общие проблемы, как сущность жизни в противо-
поставлении ее миру неживого, и более частные философские
проблемы, но связанные с чрезвычайно важными вопросами
Происхождения жизни и ее эволюции, соотношением между
психикой и физиологией и т. д. Предметом серьезных дискуссий
являются также биологические корни эстетики и нравственно-
сти. Важный аспект философии биологии представляет собой
чисто эпистемологическая проблематика: специфика биологи-
ческого знания, отличия биологии от других естественных наук,
особенности биологических теорий и экспериментов. Но в цент-
ре внимания философии биологии находятся так называемые
предельные для науки о живом вопросы, которые занимают и
биологов, и философов: в чем состоит сущность жизни, чем жи-
вое отличается от неживого? По отношению к ним существуют
разные философские подходы.
16.1. Основные философские подходы
к сущности жизни
Среди этих подходов можно выделить два полностью проти-
воположных: витализм и редукционизм. В самом широком по-
нимании витализм утверждает, что специфика живого определя-
ется наличием особого фактора, особого начала, которое несво-
.Димо к тем принципам, которые лежат в основе неживой
Природы. Согласно редукционизму жизнь можно полностью
объяснить ее физической и химической организацией.
Раньше всего появился витализм, его родоначальником яв-
ляется Аристотель, который утверждал, что основа живых орга-
низмов, их возникновения, развития и функционирования —
437
Философия науки
нематериальная душа (псюхе), являющаяся формой живого тела
[Аристотель]. Согласно Аристотелю, все вещи представляют со-
бой соединение формы и материи. Материя — то, из чего вещь
состоит, а форма — ее суть, то, что делает вещь именно тем, чем
она является. Материя — возможность, форма — действитель-
ность (по-гречески — энтелехия). Формы вечны, не возникают и
не разрушаются, существуют вне пространства и времени. По
Аристотелю, душа по отношению к живому организму является
одновременно формальной, движущей и целевой причиной. Ду-
ша есть образ и смысл живой организации; одновременно она
источник ее формирования, развития и деятельности, а также
цель, ради которой возникает телесная организация живого ор-
ганизма из неживой материи. Выступая в роли причин жизни,
душа управляет материальными процессами, посредством кото-
рых возникает и существует организм. Благодаря Аристотелю в
биологии укоренилось представление о целесообразности живо-
го, которое получило название «телеология» (от греческого слова
«телос» — цель).
В виталистической традиции, идущей от Аристотеля, осно-
вой жизни является нематериальное организующее начало (в
различных смыслах этого слова — невещественное, идеальное,
духовное и т. д.). Эта традиция господствовала в биологии
вплоть до эпохи Нового времени. В XVII в. возникает механи-
цизм. Механицисты уподобляли все организмы и тело человека
(душу человека они считали бессмертной и нематериальной) ма-
шинам, отличающимся особой тонкостью и сложностью мате-
риальной организации, которая сотворена в готовом виде Богом.
При этом, по мнению механицистов, функционирование живых
организмов можно полностью объяснить с помощью физики и
химии. Такой подход, по сути отрицающий фундаментальную,
не сводимую к чему-либо другому специфику жизни, позже по-
лучил название редукционизма. Среди биологов механицисты
преобладали до середины XVHI в.
В этом веке на арене вновь появилось мощное и разнообраз-
ное по взглядам виталистическое движение, стремившееся опре-
делить, в чем состоит специфика жизни и какова ее природа. Ви-
талистов объединяло убеждение, что формообразование живых
существ и их жизнедеятельность несводимы только к действию
физических и химических сил и законов, но обусловлены нали-
чием специфического жизненного фактора. Причем виталисты
438
Часть II. Глава 16
утверждали, что жизненное начало не нарушает законов физики
и химии, но лишь направляет их в нужную для себя сторону, ис-
пользуя их как инструменты при построении и функционирова-
нии биологической организации. Наряду с теми, кто считал жиз-
ненный фактор чем-то нематериальным или даже духовным,
было немало тех, кто рассматривал его как особый природный
фактор, аналогичный физическим силам и физической энергии,
но не сводимый к ним.
В XIX в. витализм продолжал существовать параллельно с ре-
дукционистским физико-химическим подходом к основам жиз-
ни, который, уходя от упрощенных механистических трактовок,
быстро набирал силу, в то время как витализм сдавал свои пози-
ции. Прогресс в области физики и химии, появление новых экс-
периментальных методик стремительно расширяли поле воз-
можностей для исследования физико-химических основ жизни.
Все это внушало мысль, что можно обойтись без постулирова-
ния особого жизненного начала.
Тем не менее фундаментальные «вечные» проблемы целост-
ности, формообразования, упорядоченности и целесообразности
живого продолжали оставаться нерешенными. Один из крупней-
ших физиологов XIX в., Клод Бернар, отрицая существование
какой-либо жизненной силы, оказывающей непосредственный
физический эффект, предположил, что если какой-то жизнен-
ный фактор может существовать, то он должен носить законода-
тельный, а не исполнительный характер [Бернар, 1903].
Именно в этом направлении стали разрабатываться концеп-
ции в рамках так называемого неовитализма, появившегося на
рубеже XIX—XX вв. Его лидерами стали эмбриолог Ганс Дриш и
физиолог Якоб фон Икскюлль. Оба они были кантианцами.
У Дриша жизненным началом выступала «энтелехия», которую
би рассматривал как одну из априорных категорий, добавляя к
Остальным кантовским априорным категориям — причинности,
субстанции и общности. В качестве таковой он определял энте-
лехию как «индивидуальность», объединяя в ее смысловом со-
держании понятия целого и цели [Дриш, 1915]. Для Икскюлля
Специфическим жизненным фактором был «план», которому
следует все в организме и живой природе в целом. План является
Активным началом, который Икскюлль также определяет как
*субъект». При этом план имеет статус фундаментального закона
Природы [Uexkiill, 1926]. Неовитализм не получил широкой по-
439
Философия науки
пулярности. Однако до сих пор среди биологов продолжают
встречаться ученые, стоящие на виталистических позициях.
Хотя к середине XX в. физико-химический подход в понима-
нии основ жизни утвердился в биологии, многих ученых, отвер-
гавших витализм, не устраивал и редукционизм. Уже в конце
XIX в. в философии биологии начал разрабатываться эмерд-
жентный подход (от англ, emerge — внезапно возникать). Соглас-
но этому подходу специфика жизни определяется особыми
свойствами, возникающими при появлении сложной физи-
ко-химической организации, но при этом они несводимы к
свойствам компонентов этой организации, а возникают в
результате качественного скачка. Первый такой скачок был свя-
зан с возникновением жизни, первых живых организмов, и в
дальнейшем биологическая эволюция сопровождалась новыми
качественными скачками, связанными с усложнением биологи-
ческой организации. Но для эмерджентного подхода существен-
но, что первопричина жизни кроется все-таки в специфической
физико-химической организации, и в этом его кардинальное от-
личие от витализма, для которого, наоборот, жизненное начало
и есть причина уникальности ее материальной организации.
Удивительная целостность живых организмов и их целесооб-
разное устройство всегда вызывают наибольшие трудности для
своего понимания. Пытаясь справиться с этой проблемой, в на-
чале XX в. возникает холистический подход, или холизм, в самом
широком его понимании (не отождествлять с конкретной кон-
цепцией Я. Сметса, который ввел термин «холизм»). Холистиче-
ский подход в биологии утверждает, что целостность живых орга-
низмов нельзя свести к свойствам их компонентов и отдельных
протекающих в них процессов. Холизм нередко отождествляют с
витализмом и противопоставляют редукционизму. Однако такое
понимание неточно. Холизму противостоит не редукционизм, а
элементаризм, объясняющий целое за счет свойств его частей.
Следует учесть, что редукционизм в свою очередь часто по сути
отождествляют с элементаризмом, а также с аналитическим под-
ходом. В этом нет ничего удивительного, так как редукционизм
часто сочетается с элементаризмом. Среди холистов всегда был°
много виталистов, считавших источником биологической цел0'
стности специфическое жизненное начало. Однако холизМ
вполне может быть редукционистским, рассматривающим л®1'
440
.......................... „ , Часть II. Глава 76
рой организм как целостную систему, полностью объяснимую в
рамках физики и химии.
Для невиталистически мыслящих ученых и философов холи-
стический подход получил серьезную поддержку благодаря по-
явлению в 1930-х гг. на научной сцене теории систем и киберне-
тики. Создатель теории систем Л. фон Берталанфи и его после-
дователи рассматривают биологические системы, используя
теоретический аппарат физики (прежде всего термодинамики) и
химии [Bertalanfy], В рамках этой теории изучаются формальные
свойства различных сложных систем независимо от того, какова
природа составляющих их компонентов и протекающих в них
процессов. Правда, в этом случае часто теряется специфика жи-
вых систем. К системному холистскому подходу близки по духу и
современные концепции самоорганизации, базирующиеся на
математическом аппарате теории динамического хаоса и нерав-
новесной термодинамики [Пригожин, Стенгере, 1986]. Привер-
женцы этих концепций надеются решить труднейшую для био-
логии проблему формообразования (используя выражение Ильи
Пригожина — возникновения порядка из хаоса), а также объяс-
нить особенности функционирования живых организмов. Нель-
зя не заметить, что здесь мы опять сталкиваемся с редукциониз-
мом.
Понимание целостности и целесообразности в биологии по-
лучило значительный импульс от кибернетики — науки «об
управлении и связи в машинах и живых организмах» согласно
определению Н. Винера, ее основателя [Винер, 1958]. Соседство
машин и организмов здесь оказалось неслучайным. Универсаль-
ной моделью кибернетической системы является механизм, не
конкретный механизм, конечно, а некая формальная конструк-
ция, взаимодействие компонентов которой создает функцио-
нальное единство. К настоящему времени излюбленной моде-
лью живого организма стал сложный компьютер с богатой пери-
ферией, робот. Благодаря кибернетике механицизм, по сути,
обрел новое дыхание. В кибернетике подчеркивается целост-
ность функционирующей системы, причем связи и взаимоотно-
шения между ее частями позволяют сохранять или направленно
Изменять ее параметры. Кибернетика реабилитировала понятие
Пели в науке, правда, постоянно подчеркивалось, что имеется в
ИЦЦу чисто операциональное определение цели, которое не сле-
ИУет отождествлять с идеалистической телеологией. Для того
441
Философия науки
чтобы это подчеркнуть, было предложено использовать вместо
слова «телеология» термин «телеономия». Следует заметить, что
механицизм в принципе не противоречит холизму. Само поня-
тие механизма подразумевает, что он представляет собой единую
конструкцию, особую организацию, призванную выполнять ка-
кие-то функции, а не набор частей. На базе теории систем и ки-
бернетики в биологии сформировался по сути общий теорети-
ко-системный подход.
Очень важный момент, внесенный кибернетикой в теорети-
ческую биологию и философию биологии, — понимание орга-
низма как системы, связанной с восприятием, переработкой,
хранением и использованием информации. Однако здесь возни-
кает серьезная проблема. Используемая в кибернетике теория
информации К. Шеннона была создана в связи с прикладными
техническими задачами и способна давать количественную
оценку только того, что исходно является именно информацией
и чье содержание заранее известно. Фактически она работает не
с информацией, а с ее кодировкой. Эта теория не в состоянии
отличить сложную осмысленную последовательность знаков от
случайной последовательности. Семантическая теория инфор-
мации, способная на формальном и количественном уровне
оценивать смысл, так и не была создана. Но именно такая тео-
рия необходима для биологии. Тем не менее широко распро-
странилось представление, что специфика живого связана как
раз с существованием в биологических системах информацион-
ных, знаковых процессов. В биологии сформировалось целое
теоретическое и философское направление — биосемиотика. Па-
радоксально, но такому по своей сути нередукционистскому
подходу оказалась созвучна молекулярная биология, поначалу
проникнутая исключительно редукционистским пафосом. Мо-
лекулярная генетика сформировалась в большой мере благодаря
включению в свою концептуальную схему таких понятий, как
«генетическая информация» и «генетический код».
Примерно с 1960-х гг. у целого ряда биологов-теоретиков
стало складываться представление, что путеводной нитью в по-
нимании сущности жизни может стать математика, которая СУ'
меет выявить и сформулировать на своем формальном язык6
специфику живых организмов и других биологических объект0®
(популяций, экологических систем). Особые надежды возлагя
лись на активно развивавшиеся в то время математическую т®0
442
Часть II. Глава 16
рию систем и теорию катастроф. Среди сторонников такого
взгляда на роль математики в биологии были и редукционисты,
й антиредукционисты. Так, эмбриолог К. Уоддингтон, убежден-
ный, что будущая теоретическая биология должна базироваться
не столько на физике и химии, сколько на математике, придер-
живался эмерджентного подхода [Уоддингтон, 1970]. А матема-
тик Р. Том, создатель математической теории катастроф и на ее
основе математической теории морфогенеза, считал, что витали-
стическая и механистическая позиции совместимы. Он согла-
шался с виталистами в том, что любое микроявление в развитии
и жизнедеятельности организма, в принципе сводимое к физи-
ческим и химическим явлениям, возникает в соответствии с гло-
бальным «планом» или «программой». Том думал, что необхо-
димо построить математическую модель, интерпретирующую
понятие о едином плане биологической организации и описы-
вающую механизм направленного процесса, идущего в соответ-
ствии с этим планом к предустановленному результату.
В начале XX в. появился еще один подход в философии био-
логии — органицизм, согласно которому именно целостная орга-
низация организма определяет всю его жизнедеятельность. Со-
ставляющие организм структуры и протекающие в нем процессы
’хотя и обеспечивают единство организма, но не создают его, де-
терминирующим фактором является здесь целое. К основопо-
ложникам органицизма относятся такие биологи, как У. Риттер
(W.E. Ritter), Э. Рассел (E.S. Russell), Дж. Вуджер (J.H. Woodger).
Так, У. Риттер в книге «Единство организма» (1919) кратко
сформулировал суть своего подхода, который он назвал «орга-
низмализмом», следующим образом: «Организм в своей тоталь-
ности является столь же существенным для объяснения своих
элементов, как и его элементы — для объяснения организма»
[Ritter, 1919, р. 24]. В органицизме обычно подчеркивается
иерархическое строение организма и утверждается, что явления
На уровне целого организма нельзя интерпретировать исключи-
тельно в понятиях физики и химии. Нельзя не заметить родство
органицизма и холизма. Иногда органицизм определяют как
Материалистический холизм. Органицизм возник как попытка
Уйти от редукционизма, не переходя в то же время на позиции
КИтализма. Но что может обеспечивать целостность организма,
Каков ее источник? Вышеназванные основоположники органи-
Чйзма не связывали целостность организма с особым фактором,
443
Философия науки
как это делали виталисты. Они просто постулировали, что орга-
низм — не сводимая ни к чему другому природная реальность
природное единство, которому неотъемлемо присущи его осо-
бые органические свойства, обеспечивающие взаимозависи-
мость его частей, их подчиненность целому и всю его целена-
правленную жизнедеятельность. У. Риттер и Э. Рассел считали
организмы такими же самостоятельными природными единст-
вами, как атомы и молекулы. Причем Рассел опирался на взгля-
ды философа А. Уайтхеда, рассматривавшего весь мир как
иерархию организмов разной степени сложности — от электро-
нов и атомов до многоклеточных животных. Хотя физико-хими-
ческие процессы в некотором роде и образуют основужизнедея-
тельности, фундаментальные функции живых организмов, по
убеждению Рассела, не сводимы к чему-либо другому и их нель-
зя рассматривать как физико-химические явления. Он подчер-
кивает, что более низкие уровни организации живого существа
обусловливают, ограничивают и делают возможными процессы
на более высоких уровнях, но не объясняют их полностью
[Russell, 1930]. Нередко сторонники органицизма, особенно со-
временные, так же как и многие холисты, пытаясь понять фено-
мен целого, прибегают к эмерджентному подходу. Органицисты
стремятся противопоставить свой подход механицизму, справед-
ливо рассматривая его как редукционистский. В своей книге
«Биологические принципы» (1929) Дж. Вуджер формулирует это
следующим образом:
«Организмы отличаются от машин в следующих отноше-
ниях:
(1) Они таковы, что их части отличаются по своим свойст-
вам, когда они отделены от целого и когда они находятся в це-
лом. Отсюда «быть частью живого целого» означает внутреннюю
организующую связь.
(2) Взаимные отношения частей в целом и последнего со сре-
дой таковы, что в типичной среде, в которой организм обычно
встречается, он продолжает существовать, «несмотря на» изме-
нения в среде «при помощи» изменений в самом себе.
(3) Не известны организмы, которые зависят в своем сущест-
вовании от какого-либо человеческого ума или от какого-либо
другого ума. Поэтому организм (в природе) не связан с человече-
скими потребностями, желаниями или целями совершенно
444
Часть II. Глава 16
gjiM же самым образом, как в случае с машинами, т. е. они не
^.деланы» человеком ради таких целей.
(4) Данный организм — результат эволюционного процесса в
биологическом смысле. (Интерпретации эволюции по аналогии
с так называемой эволюцией машин ставят телеГу впереди ло-
шади.)
(5) Организмы генетически родственны друг другу» [ Woodger,
1929, р. 451-452].
Хотя органицисты открещиваются от витализма, их постули-
рование целого как определяющего фактора в жизнедеятельно-
сти организма перекликается в ряде отношений с виталистиче-
скими концепциями Г. Дриша и Я. фон Икскюлля. Некоторые
современные последователи Икскюлля даже считают его не ви-
талистом, а органицистом.
Редукционистский подход многие считают неприемлемым
для понимания большинства биологических явлений, идет ли
речь о физиологии, поведении, взаимодействии организмов в
экосистеме, эмбриональном развитии или об эволюционных
процессах. В последнее время все больше антиредукционистски
настроенных биологов считают органицизм наиболее перспек-
тивной парадигмой в биологии (см., например: Воск, Goode,
1998; Gilbert, Sarkar, 1997; Mayr, 2000].
16.2. Философские аспекты биологических проблем:
происхождение жизни, эволюция, эмбриогенез,
молекулярные основы жизни
Для всех подходов в философии биологии, имплицитно или
эксплицитно подразумевающих важность целостной организа-
’Ции живых существ, будь то витализм, холизм, органицизм или
Даже механицизм, главной проблемой является источник этой
организации. Наиболее остро эта проблема встает в связи с воз-
никновением жизни, биологической эволюцией и процессом
эмбриогенеза. Как уже было сказано, витализм считает источни-
ком такой целостности специфическое жизненное начало, и по-
^тому даже проблема происхождения жизни не является для не-
Го слишком сложной.
Для остальных подходов это не так. Происхождение жизни
всегда было не только научным, но и философским вопросом.
445
Философия науки
Для религиозных мыслителей часто было достаточно ответа, со.
держащегося в Библии. Со второй половины XIX в. среди биоло.
гов все более укреплялась мысль, что возникновение жизни, а
также ее дальнейшая эволюция — природный, естественный
процесс. И для многих верующих ученых, считавших появление
жизни на Земле реализацией божественного Плана, было важно
понять, как этот план воплощался в природе. Возникновение
жизни — самый спекулятивный вопрос в биологии. Мы никогда
не были свидетелями абиогенеза — возникновения живого из
неживого. Недаром одним из ответов на этот вопрос была гипо-
теза панспермии: занесения жизни на Землю из космоса в виде
примитивных микроорганизмов. Сторонники этой гипотезы су-
ществуют до сих пор. Ее критики обычно замечают, что в этом
случае происхождение жизни остается непонятным. Наиболее
популярной является гипотеза химической эволюции, в резуль-
тате которой появились первые организмы. Прогресс в области
молекулярной биологии породил много спекуляций такого рода.
Однако, по оценкам химиков, физиков и математиков, случай-
ное, не направленное каким-то образом возникновение полиме-
ров, обладающих биологической активностью, и тем более их
системы обладает настолько ничтожной вероятностью, что для
этого потребовалось бы время, на много порядков превосходя-
щее возраст Вселенной. В связи с этим существует еще один
подход к этой проблеме: возникновение жизни на Земле — зако-
номерный, неизбежный процесс, подчиняющийся неким об-
щим мировым законам. Такой взгляд согласуется и с предложен-
ным не так давно «антропным принципом». Он утверждает, что
только при существующих значениях мировых физических по-
стоянных, определяющих все физические и химические законы,
возможно появление жизни земного типа и самого человека.
Любое их изменение, даже незначительное, сделало бы жизнь
невозможной.
Философские проблемы связаны и с пониманием биологиче-
ской эволюции, точнее, ее движущих факторов. Эволюция ДДЯ
любого здравомыслящего биолога — это бесспорный факт, по-
скольку существует палеонтологическая летопись. Главные во-
просы в области теории эволюции связаны с тем, каким образом
одни биологические формы сменяют другие, как происходит
возникновение новых, более сложных форм, каковы причины11
закономерности этих процессов. Но эволюция происходит в та'
446
Часть II. Глава 16
gjix масштабах времени и пространства, что здесь невозможно
наблюдение и эксперимент. Поэтому теоретические исследова-
ния в этой области высокоспекулятивны и основаны на базовых
натурфилософских предпосылках. И они могут быть разными.
Как до появления теории Ч. Дарвина, так и после существо-
вали телеологические концепции эволюции, которые можно на-
звать виталистическими. В них эволюция обычно мыслилась как
постепенное целенаправленное развертывание единого идеаль-
ного плана. Так, например, в первой половине XIX в. представ-
лял себе развитие жизни на Земле ботаник Александр Браун
(1805—1877), заявлявший, что эволюция направляется немате-
риальным духом, присутствующим во всех организмах. О том,
что биологическая эволюция следует определенному плану, ут-
верждал и Я. фон Икскюлль. И в настоящее время существуют
так называемые научные креационисты, которые считают, что
естественно-научное исследование биологической эволюции
вполне совместимо с верой в сотворение мира Богом.
Является ли эволюция направленным процессом или нет,
всегда было важным натурфилософским вопросом. Начиная с
конца XIX в. и вплоть до настоящего времени господствующей
теорией эволюции оставался дарвинизм. Его современный вари-
ант — синтетическая теория эволюции (возникшая в результате
синтеза дарвинизма и популяционной генетики) — утверждает,
что представление о естественном отборе случайных наследст-
венных изменений дает ключ к пониманию биологической эво-
люции. В этой теории естественный отбор признается единст-
венным формообразующим фактором, а процесс эволюции счи-
тается ненаправленным. Эта теория тяготеет к редукционизму.
Крайним вариантом такого редукционизма в элементаристской
форме является концепция «эгоистичного гена» Р. Докинза, ко-
торый предложил трактовку синтетической теории эволюции,
по выражению автора, «с точки зрения гена». Он считает, что все
Живые организмы — это «машины, создаваемые генами». Если,
согласно традиционному взгляду, гены служат организму для со-
хранения и передачи по наследству его признаков, то, по мне-
нию Докинза, все наоборот: организмы служат средством для
Размножения генов [Докинз, 1993].
Концепции, основанные на других исходных установках или
Хотя бы резко критикующие дарвинизм за концептуальную не-
полноту и противоречивость, до недавнего времени не имели
447
Философия науки
популярности и даже рассматривались как курьез или анахро^
низм.
В качестве примера глубоко разработанной недарвинистской
теории эволюции можно назвать номогенез — концепцию, соз-
данную в 1920-х гг. отечественным биологом и географом
Л.С. Бергом. Под номогенезом он понимал эволюцию на основе
закономерностей. Берг стремился доказать, что эволюция — на-
правленный процесс, при котором формообразование идет в со-
ответствии со строгими законами, основанными на внутренних
причинах. Такими причинами он считал «стереохимические
свойства белков». Согласно Бергу, естественный отбор не явля-
ется формообразующим фактором, его единственная роль — со-
хранять уже существующую норму. Берг постулирует изначаль-
ную целесообразность живого. Вопрос о происхождении целесо-
образности, по его мнению, является метафизическим и лежит
за пределами естествознания [Берг, 1977].
Исследования в области теории систем и кибернетики посте-
пенно наводили на мысль, что факторов, которыми оперирует
дарвинизм, для объяснения эволюции недостаточно. Молеку-
лярная биология также все больше накапливала данные, трудно
совместимые с дарвинизмом. В результате стали возникать эво-
люционные теории, отличные от дарвинизма. Наиболее попу-
лярны среди них теории, основанные на концепциях самоорга-
низации, которые используют аппарат теории динамического
хаоса, неравновесной динамики и теории катастроф. Сторонни-
ки этого подхода полагают, что эволюция происходит законо-
мерно и в определенном смысле направленно, вернее, канализо-
ванно, поскольку законы самоупорядочивания накладывают
ограничения на формообразование. Многие особенности орга-
низмов, прежде всего самые важные, по их мнению, созданы не
естественным отбором, а являются неизбежным следствием за-
кономерностей, действующих в самоорганизующихся системах.
Проблема возникновения целостной организации связана не
только с эволюцией, но и с процессом эмбриогенеза — форми-
рованием сложного многоклеточного организма из одной-един-
ственной клетки. Этот процесс всегда целенаправлен. Витали-
сты считали, что жизненное начало одновременно содержит в
себе образец будущего полностью развитого организма и являет-
ся движущим фактором эмбрионального развития путем ново-
образования. Большинство механицистов XVII—XVIII вв. не
могли помыслить возникновение организма как процесс ново'
448
__ Часть II. Глава 16
образования и поэтому предполагали, что в яйце или в сперма-
тозоиде уже содержится микроскопическая копия взрослого ор-
ганизма, которая в ходе эмбриогенеза и далее просто увеличива-
ется в размерах. Понимание эмбриогенеза как новообразования
было доказано в ходе дальнейших исследований, но объяснение
его причин остается серьезной проблемой.
На заре генетики предполагалось, что некие наследственные
единицы обеспечивают развитие отдельных признаков организ-
ма. Согласно общепринятому определению, которое приводится
в учебных руководствах, ген — это участок ДНК, ответственный
за синтез одного белка, чаще всего фермента, осуществляющего
некоторую биохимическую реакцию в клетке. Но от набора бел-
ков до формирования, дальнейшего развития и функционирова-
ния организма — дистанция огромного размера. В современной
биологии утверждается, что вся информация об организме и
программа его развития каким-то образом содержатся в ДНК.
Рднако наличие генетической программы, которая последова-
тельно «включает» и «выключает» те или иные группы генов, в
результате чего формируется зародыш, является только обще-
принятой гипотезой. Материальных носителей ее пока не обна-
ружено. Выявлены лишь некоторые биохимические и структур-
ные факторы, способствующие тем или иным этапам эмбриоге-
неза. В моделях, основанных на концепциях самоорганизации,
предполагается, что процессы эмбриогенеза, с одной сторо-
ны, подчиняются закономерностям самоорганизующихся фи-
зико-химических систем, не вытекающих непосредственно из
Свойств генотипа, а с другой — они есть результат работы регуля-
торной системы генетического аппарата, где существует слож-
нейшее переплетение обратных связей и других компенсаторных
Механизмов.
Органицисты часто говорят, что редукционизм применим
только на молекулярном уровне. Но и текущая жизнедеятель-
ность внутри каждой клетки организма создает сходные трудно-
Сти для понимания целостной организации живого и на его бо-
Нее высоких иерархических уровнях. Даже вышеприведенное
определение гена как участка ДНК, ответственного за синтез од-
ного белка, в настоящее время признано устаревшим. Молеку-
лярная биология вначале укрепила позиции редукционизма. Но
й Дальнейшем на молекулярном уровне организации живого ста-
открываться невообразимая ранее сложность явлений, пред-
ставляющих взаимосвязанное целое. Чтобы проиллюстрировать
М Философия науки 449
Философия науки
ее, приведем выдержку из статьи X. Атдана «Живая клетка как
образец сложной естественной системы»:
«Все структурные и функциональные паттерны не определя-
ются простым образом геномом, словно при выполнении компь-
ютерной программы. Скорее структуры ДНК больше похожи на
статичные данные, которые хранятся в памяти, передаются от
клетки к клетке и от одного поколения к следующему и обраба-
тываются остальной клеточной машинерией. Именно последняя
фактически выполняет эти функции. Даже эту метафору следует
поправить, заметив, что структура функциональной биохимиче-
ской сети клетки в данном состоянии видоизменяется, когда ме-
няется паттерн активности генов. Итоговая картина — это кар-
тина эволюционирующей сети, структура которой меняется в
результате ее активности. <...> Великий вызов сегодняшнего
дня — суметь справиться с огромным количеством эксперимен-
тальных данных по корреляциям молекулярных структур и взаи-
модействий с клеточными функциями, понимая все больше и
больше, что старое классическое представление об одном гене,
одном белке, одной функции — исключение, а не правило. Не
только один ген кодирует несколько белков и один белок зако-
дирован в разных последовательностях ДНК, принадлежащих
разным генам, иногда расположенным в геноме далеко друг от
друга. Один белок может также выполнять совершенно разные
функции в клетке, явно не связанные друг с другом, вероятнее
всего в зависимости от его локализации и его микроокружения»
[Allan, 2003, р. 2].
Таким образом, редукционистский элементаристский под-
ход даже на молекулярном уровне перестает быть руководящим
принципом или, по крайней мере, сталкивается с огромными
трудностями. В связи с этим можно вспомнить, как более 70 лет
назад органицист Э. Рассел, разбирая взаимоотношения в орга-
низме части и целого, писал: «Хромосомы... могут обусловливать
и модифицировать процесс развития организма, но нельзя их
действием в сколько-нибудь полной мере объяснить развитие и
наследственность» [Russell, 1930, р. 187].
Итак, биология постоянно снова и снова сталкивается с веч*
ными проблемами, на которые чисто научные исследования не
могут дать ответа. И главная задача философии биологии — ис'
кать ответы на такие вопросы, решение которых никогда не бУ
дет окончательным.
450
Часть II. Глава 16
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аристотель. О душе // Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1976. Т. 1. С. 369—448.
Берг Л.С. Труды по теории эволюции. Л.: Наука, Ленинград, отд., 1977.
Бернар К. Определение жизни и задача физиологии // Сущность жизни: Сбор-
ник статей / Под ред. В.А. Фаусека. СПб.: Брокгауз—Ефрон, 1903. С. 129—158.
Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. М.:
Советское радио, 1958.
Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Мир, 1993.
Дриш Г. Витализм. Его история и система. М.: Наука, 1915.
Пригожин И., Стенгере И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986.
Том Р. Динамическая теория морфогенеза // На пути к теоретической био-
логии. 1. Пролегомены. М.: Мир, 1970.
Уоддингтон К.Х. Основные биологические концепции // На пути к теорети-
ческой биологии. 1. Пролегомены. М.: Мир, 1970.
Atlan Н. The living cell as a paradigm for complex natural systems // ComPlexUs.
2003. Vol. 1. № 1. P. 1-3.
Bertalanfy L. von. Problems of Life. N. Y.: John Wiley and Sons, 1952.
Bock G.t Goode J. (Eds.).The Limits of Reductionism in Biology. N. Y.: John
Wiley & Sons, 1998.
Gilbert S.F., Sarkar S. Embracing complexity: Organicism for the 21st century //
Developmental Dynamics. 2000. Vol. 219. Issue 1. P. 1—9.
Mayr E. This is Biology: The Science of the Living World. Cambridge: The
Belknap Press of Harvard University Press, 1997.
Ritter W.E. The Unity of the Organism. 2 vols. Boston: Gorham Press, 1919.
Russell E.S. The Interpretation of Development and Heredity. Oxford: Clarendon
Press, 1930.
UexkUll J. von. Theoretical Biology. L.; N.Y., 1926.
Woodger J.H. Biological Principles. New York: Harcourt, Brace and Company,
1929.
ВОПРОСЫ
1. Назовите основные философские подходы к сущности жизни.
2. Что такое витализм?
3. Что такое механицизм?
4. Что такое редукционизм?
5. Что такое холизм?
6. Как соотносятся между собой механицизм и редукционизм?
7. В чем состоит кредо органицизма?
8. Какие подходы к пониманию жизни можно отнести к антиредук-
ционистским?
9. Какие философские проблемы связаны с трактовкой биологиче-
ской эволюции?
10. Какие принципиальные трудности возникают в связи с пробле-
мой формирования организма в ходе эмбриогенеза?
15*
451
Философия науки
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аристотель. О душе // Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1976. Т. 1. С. 369—448.
Дриш Г. Витализм. Его история и система. М.: Наука, 1915.
На пути к теоретической биологии. 1. Пролегомены. М: Мир, 1970.
Гороховская Е.А. Представление о самоорганизации в биологии: между ви~
тализмом и физикализмом // Концепции самоорганизации: Становление ново,
го образа научного мышления. М.: Наука, 1994. Глава VI. С. 127—148.
Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволюции. М.:
Т-во научных изданий КМК, 2006.
Назаров В.И. Эволюция не по Дарвину. М.: КомКнига, 2005.
Глава 17
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТИВЫ
ТЕОРИИ1
Сначала несколько предварительных соображений о методо-
логических регулятивах. Во-первых, нет строго фиксированного
и общепринятого их перечня, и то, что будет предложено ниже,
никак не претендует на создание такового. Я думаю, что это во-
обще невозможно, так как (и это второе предварительное заме-
чание) регулятивы по самой сути дела не допускают строго фор-
мальной характеристики. Их формулировка носит «неопреде-
ленный» характер в том смысле, в каком следует говорить о
«неопределенностном» характере философских утверждений. На
этом последнем стоит остановиться подробнее.
Обычно, характеризуя отличие философских категорий от
других понятий, обращают внимание лишь на их количественно
донятую всеобщность, т. е. на их предельно общий характер. Од-
нако эта черта должна быть дополнена еще одной характеристи-
кой, как раз связанной с некоторого рода неопределенностью,
внутренне присущей философским категориям.
1 Главы 17 и 18 представляют два варианта концепций методологических
принципов и регулятивов в физике, разрабатывавшихся в 70-х гг. в отечествен-
ной литературе. Исследования этого направления были весьма популярны на ка-
федре философии МФТИ. Свою версию разработки этих вопросов предложил
также С.В. Илларионов («Теория познания и философия науки» (М., 2007)) (к
Нашему великому сожалению, эти авторы недавно покинули этот мир, и нам
приходится здесь употреблять прошедшее время). В главе 17 представлена кон-
цепция Л.Б. Баженова, сформулированная им в написанной 30 лет назад, но ак-
туальной и сегодня книге «Строение и функции естественно-научной теории».
Кроме изложения самой концепции, эта глава интересна как образец строгого
Логического анализа, характерного для многих направлений философии науки
КХ в. В частности, здесь подробно анализируется природа и функции так назы-
®аемых ad hoc гипотез, широко распространенных при построении различных
Теорий. Глава 18 представляет оригинальный вариант концепции методологиче-
ских принципов и регулятивов С.В. Котиной, в центре которой лежит разраба-
тывавшийся ею «принцип красоты». — А. Л.
453
Философия науки
Философские категории представляют собой предельно об-
щие характеристики познаваемых объектов. Понятия конкрет-
ных наук прежде всего есть характеристики уже познанных сто-
рон реальности; отсюда и их меньшая общность и большая точ-
ность, определенность. Философские категории есть именно
глобальные характеристики «сущего». Они охватывают как ухе
познанное, так и еще непознанное. Разумеется, охват непознан-
ного может быть получен лишь путем экстраполяции уже из-
вестного, но эта экстраполяция неизбежно будет носить предва-
рительный, в достаточной степени неопределенный, «смутный»
(по выражению Н. Винера) характер. Кстати, в связи с послед-
ним термином уместно напомнить, что Н. Винер, говоря об от-
личии мышления человека и переработки информации совре-
менными компьютерами, связывает это отличие прежде всего с
умением человека оперировать недостаточно определенными,
«смутными» идеями. Наличие таких «смутных» идей (и способ-
ности оперировать ими), таким образом, не недостаток челове-
ка, а его преимущество перед современными вычислительными
машинами. Наиболее рельефно отмеченная черта обнаруживает-
ся как раз в философских категориях и принципах.
В абстракции завершенного знания нет места ничему неоп-
ределенному, но там нет места и философским категориям. В аб-
стракции завершенного знания есть знание, но нет познания.
В любом реальном (человеческом) познании всегда существует
непознанное, для предварительного охвата которого необходи-
мы ступеньки познания — философские категории. Именно в
этой незавершенности, неопределенности, «смутности» основ-
ное отличие философских категорий от конкретно-научных по-
нятий. Количественно понятая всеобщность, в отличие от каче-
ственно понятой всеобщности, под которой и следует понимать
принципиальную неопределенность философских категорий, их
нацеленность на неизвестное, представляется мне менее сущест-
венным и производным признаком.
Методологические регулятивы есть именно утверждения Фи'
лософского характера, и поэтому неопределенность, о которой
выше шла речь, у них «в крови».
И наконец, последнее (третье) замечание. МетодологичС'
ским регулятивам посвящена обширная литература, однако п®'
следующее изложение будет представлять не ее обзор, а скор66
454
Часть II. Глава 17
ггг -г г г-л- г г-г г чч г г г -г v .. пг \ гг -г ггг г?г. г' г г
попытку познакомить читателя с результатами собственных раз-
мышлений над темой.
В чисто методических целях (надо же принять какой-то по-
рядок изложения!) я предлагаю следующий список регулятивов:
1) принципиальная проверяемость;
2) максимальная общность;
3) предсказательная сила;
4) принципиальная простота;
5) системность.
17.1. Принципиальная проверяемость
Теория создается для объяснения некоторого исходного кру-
га фактов a\,...ah...an (где п — фиксировано). Как известно, для
объяснения фиксированной области фактов можно построить
произвольное число различных теорий, проверить которые мож-
но лишь путем вывода из них следствий, доступных опытному
обнаружению. Поэтому из гипотезы Т непременно должна быть
выводима некоторая совокупность эмпирически проверяемых
высказываний b\...bk (где к не фиксировано). Факты, описывае-
мые высказываниями Ь, должны быть отличными от а,, хотя и не
обязательно неизвестными в момент построения Т. Если множе-
ство {Z>j} пусто, то такая теория принципиально непроверяема.
На мой взгляд, уместно ввести представление о двух типах
принципиальной непроверяемое™1: а) непроверяемость (непо-
средственная непроверяемость), состоящая в том, что из гипоте-
зы нельзя вывести никаких новых следствий (множество {Z>j} пус-
то), и б) непроверяемость (усложненная непроверяемость), со-
стоящая в том, что из гипотезы выводятся новые следствия, но
они совместимы с любым исходом опыта.
Для пояснения смысла непроверяемое™ обычно вводят
представление о гипотезах ad hoc. В самом общем смысле гипо-
тезой ad hoc называется некоторое специальное допущение, вво-
От принципиальной непроверяемости следует отличать техническую не-
проверяемость, обусловленную возможностями экспериментального оборудова-
ния в данное время. В последующем речь будет все время идти о принципиаль-
ной непроверяемости, и поэтому для краткости эпитет «принципиальная» будем,
Как правило, опускать.
455
Философия науки _____
димое для объяснения данного случая (черты, обстоятельства,
факта или круга фактов и т. д.).
Чрезвычайно поучительной в плане отношения к требова-
нию принципиальной проверяемости была гипотеза Лорен-
ца-Фитцджеральда, выдвинутая для объяснения опыта Май-
кельсона. Майкельсон поставил задачу измерить скорость света
в направлении движения Земли и в направлении, перпендику-
лярном к движению Земли. Согласно принципу относительно-
сти Галилея значения скорости в этих двух взаимно перпендику-
лярных направлениях должны были получаться разные. В на-
правлении движения Земли скорость света в пустоте с должна
алгебраически суммироваться со скоростью Земли v, т. е. должна
быть равной с + v. В перпендикулярном направлении она долж-
на оставаться одной и той же — с. Это должно было приводить к
появлению разности хода в световых лучах, движущихся в ука-
занных направлениях, и, значит, к их интерференции, т. е. долж-
на была возникать интерференционная картина.
Принципиальная схема интерферометра Майкельсона, т. е.
прибора для обнаружения возникающей интерференции, пока-
зана на схеме 17.1.
Здесь вектор v показывает направление движения Земли. Из
точечного источника О посылается луч света, падающий на по-
лупрозрачное зеркало L, установленное под углом 45° к направ-
лению светового луча.
В А луч раздваивается на два: луч I и II; луч II отражается зер-
калом L и движется на неподвижное зеркало S2, отражается от
S2, проходит через L и попадает в точку наблюдения на экране Q-
Луч I проходит в А через L, достигает зеркала 5], отражается от
него, доходит до А и, отразившись от L, попадает в ту же точку
456
Часть II. Глава 17
на экране Q. Расстояния 1\ и 12, называемые плечами интерферо-
метра, геометрически равны. На участках О А и AQ оба луча дви-
жутся совместно, и никакой разности хода у них возникать не
должно.
Но на плечах интерферометра /] и /2 условия их движения
неодинаковы. Путь А луч I проходит дважды: в направлении,
совпадающем с движением Земли, т. е. со скоростью с — v, и в
противоположном направлении, т. е. со скоростью с + v. Время,
необходимое лучу для того, чтобы дважды пройти путь /ь следо-
вательно, будет
_ /] _/lc + /]V + /lc-/]Т _ 2Цс _ 2/]С 1
Д Л — /у . / . Л ““ Т V П •
((с - v)(c + V))
Итак.
Теперь найдем время Д^, необходимое для того, чтобы II луч
прошел путь от Л до Б и обратно. По этому пути луч туда и об-
ратно движется с одной и той же скоростью с, но так как за вре-
мя Д/2 его движения от А до В и обратно зеркало L сместится
вместе с Землей на расстояние АА' = v • Д?2 (см. сх. 17.2), то и
луч будет проходить расстояние не 2/г, а несколько большее.
Это расстояние нетрудно найти и из него определить &t2.
Схема 17.2
457
Философия науки
Путь, проходимый лучом: АВ + BA'= 2АВ; из треугольника
АВС имеем АВ2 = ВС2 + АС2, но ВС = 12, АС = ^ = и,
, „ с • Д/,
наконец, АВ = —
~ 1
Отсюда окончательно имеем Д/2 =-----,
С J1 - —
V с2
Итак, Д/] Д/2, т. е. хотя геометрически плечи интерферомет-
ра /] и /2 равны друг другу, но они не равны в оптическом отно-
шении: свет затрачивает разное время для их прохождения: Д/, и
Д/2. За счет этого при соединении лучей I и II в А между ними
должна возникать разность фаз, дающая интерференционную
картину на экране.
Однако опыт Майкельсона дал отрицательный результат,
т. е. никакой интерференции лучей I и II не возникало1. Опыт
показывал, что, следовательно, A/j и Д/2 равны друг другу. Это
обстоятельство требовало объяснения, и одной из попыток тако-
го объяснения и явилась гипотеза Лоренца—Фитцджеральда.
Авторы ее предложили считать, что все предыдущие рассужде-
ния правильны, что действительно должна была бы возникать
разность времен прохождения лучами I и II плеч интерферомет-
ра А и /2 (а следовательно, и разность фаз в этих лучах). Но этого
не происходит потому, что все тела в направлении своего движе-
[i
ния испытывают сокращение, уменьшаясь в , 1 —т- раз.
V с
Отрицательный результат опыта Майкельсона истолковы-
вался таким образом, что 1\ и /2 только кажутся равными друг
другу, а на самом деле плечо Д оказывается сократившимся, то-
гда как /2 остается неизменным. Причем сокращается именно
так, чтобы не возникало никакой разности между временем про-
хождения лучом I плеча 1\ и лучом II плеча /2, т. е. в соответствии
с опытом полагалось: Д/, = Д/2, или
1В тексте в целях упрощения была изложена лишь принципиальная сторона
опыта Майкельсона, а не его фактическое осуществление. В этом упрощенном
изложении отсутствие смещения интерференционных полос эквивалентно от-
сутствию интерференции I и II лучей.
458
\ „ Часть II. Глава 17
У\^^^7^7"7гггггггг " ' "" "" -‘ • »'* * ” "г » * •* 7^ г .- .- г .- ..-. г s г г ' ‘ ' г . 7 ' 7 ' ' "г г г г7 ** i г •• г м" ** " S 77'77 ** -• 7777 777'.
\ 21' 1 = 2/2 1
С V2 С I ^~'
i-p- J1-2^
с N с
Это равенство удовлетворяется в том, и только в том случае,
если положить
I V2
т. е. плечо /ь расположенное по направлению движения Земли,
I 'Т'
сокращается в Л1 —г раз по сравнению с плечом /2, остающим-
V с
ся неизменным. Но это сокращение, получившее название ло-
ренцева сокращения, по самой сути дела невозможно обнару-
жить, так как любой масштаб, которым мы будем мерить плечо
/ъ испытывает одновременно с ним сокращение точно во столь-
ко же раз, во сколько сокращается и само плечо 1\.
Таким образом, лоренцево сокращение мыслилось имеющим
место и в то же время принципиально не обнаруживающимся ни
в чем, кроме отсутствия интерференции световых лучей, для
объяснения какового оно и было специально придумано1.
Предшествующее обсуждение гипотезы Лоренца—Фитцдже-
ральда носило несколько упрощенный характер, необходимый
Для моих целей: показать на примере, в чем состоит непроверяе-
мость.
Однако следует отметить, что в литературе часто обсуждается
вопрос о том, была ли, и в каком смысле, гипотеза Лоренца—Фит-
цджеральда гипотезой ad hoc (см. [Баженов, 1978, с. 86—87]).
В отношении гипотезы Лоренца—Фитцджеральда все это оз-
начает вопрос о том, имеется ли независимый от опыта Май-
1 Чтобы у читателя не сложилось неверного впечатления, замечу, что совре-
менная физика признает наличие сокращения, математически тождественного
Лоренцевскому, но объясняет его совершенно иначе. У Лоренца это было изме-
нение абсолютной длины, которое хотя и имеет место, но не может быть обнару-
жено. В современной физике речь идет об относительном характере длины вооб-
•Че. Любой стержень имеет одну длину в системе отсчета, где он покоится, и в то
Же самое время другую длину — в системе, где он движется [см., например, Ру-
Рывкин, с. 24—34 и 52—62].
459
Философия науки
кельсона способ ее проверки. А. Грюнбаум утверждает, что есть,
имея в виду эксперимент Кеннеди—Торндайка 1932 г., который
он характеризует как эксперимент, существенно отличный от
эксперимента Майкельсона.
По этому поводу уместно заметить, что эксперимент Кенне-
ди-Торндайка был осуществлен почти полвека спустя после
выдвижения гипотезы Лоренца—Фитцджеральда. Поэтому в ре-
альной истории науки он не может учитываться при обсуждении
вопроса о том, являлась ли гипотеза Лоренца—Фитцджеральда
гипотезой ad hoc в науке начала XX столетия.
А. Грюнбаум характеризует такой подход как психологиче-
ский и пишет, «что обладание системным атрибутом возможно-
сти независимой проверки и непринадлежность гипотезы Н к
классу гипотез ad hoc в рамках теории Т никоим образом не за-
висит от того, осознают ли защитники Я-гипотезы возможность
такой независимой проверки» [Грюнбаум, 1969, с. 479]. Это со-
вершенно аналогично, продолжает он, тому, как если бы в оцен-
ке некоторого математического предположения как теоремы в
данной системе аксиом мы стали руководствоваться тем, осозна-
ет ли математик ее как теорему.
Однако если в данное время ни один математик не может вы-
вести данное предположение из данной системы аксиом, то яс-
но, что его и нельзя считать теоремой в данное время. И это не
психологический, а исторический факт. Конечно, когда для это-
го предложения будет установлено, что оно есть теорема, то это
будет означать, что оно было теоремой и раньше, но столь же
очевидно и то, что раньше этого не знали.
Но между «быть теоремой» и «быть гипотезой ad hoc» есть
определенное различие. «Быть теоремой» есть содержательная и
однозначная (для данной аксиоматической системы) характери-
стика. «Быть гипотезой ad hoc» есть эвристическая и неодно-
значная характеристика. Поэтому если для некоторого времени
гипотеза не имеет независимой проверки, то для этого времени
она совершенно справедливо будет эвристически оцениваться
как гипотеза ad hoc (в дальнейшем эта оценка может и изменить-
ся, как было, например, с гипотезой Планка). Поэтому нет, на
мой взгляд, оснований отказываться от исторической оценки ги-
потезы Лоренца—Фитцджеральда как гипотезы ad hoc в момент
ее выдвижения.
460
Часть II. Глава 17
\ Теперь посмотрим, как обстоит дело с ее ретроспективной
Оценкой. В такой оценке гипотеза Лоренца—Фитцджеральда,
Казалось бы, имеет независимую от опыта Майкельсона провер-
ку^ речь идет об эксперименте Кеннеди—Торндайка 1932 г. Я не
буду описывать здесь этот эксперимент, а отмечу лишь, что в не-
которых отношениях он действительно отличается от опыта
Майкельсона, в частности плечи интерферометра в нем брались
различными (А # /2).
Для разности времен А/, и ДА в эксперименте Кеннеди—Торн-
дайка получались разные значения для классической теории
эфира и для гипотезы Лоренца—Фитцджеральда. Для первой
разность времен прохождения светом плеч А и /2 будет
По гипотезе Лоренца—Фитцджеральда для разности ДА — ДА,
естественно, получается другое выражение, так как горизонталь-
I
ное плечо А сокращается в , 1 —Раз:
2
д/2 — д/, = . — 2 (/2 — /,).
Таким образом, эксперимент Кеннеди—Торндайка мог бы
привести к выбору между классической теорией эфира и гипоте-
зой Лоренца—Фитцджеральда. Однако и этот эксперимент не
Дал вообще никакого сдвига интерференционных полос. Но уж
если мы ввели сокращение Лоренца—Фитцджеральда, то можно
ввести и еще одну поправку — «расширение времени» Лорен-
ца—Лармора, гласящую, что скорость хода часов в движущейся
I
системе уменьшается в, 1 —Раз по сравнению с часами, по-
коящимися в эфире. «Согласно этому предположению о расши-
рении времени, — пишет А. Грюнбаум, — считается, что разница
Во времени ДА — ДЛ имеет постоянное значение ДА — ДА = 2/с
(h ~ А), которое не зависит от скорости аппарата по отношению
461
Философия науки
к эфиру, что и подтверждается нулевым исходом опыта Кеннет
ди—Торндайка. Таким образом, когда теория эфира подкрепле-
на гипотезой Лоренца—Фитцджеральда с гипотезой о расшире-
нии времени, она дает объяснение реального исхода опыта Кен-
неди-Торндайка» [Там же, с. 486] (обозначения величин в
цитате изменены).
А. Грюнбаум отстаивает тот тезис, что и гипотеза Лорен-
ца-Фитцджеральда (подправленная теория эфира), и соедине-
ние (конъюнкция) этой гипотезы с гипотезой Лоренца—Лармо-
ра (вдвойне подправленная теория эфира) не являются гипотеза-
ми ad hoc.
В отношении гипотезы Лоренца—Фитцджеральда это обос-
новывается тем, что она имеет независимую (от опыта Майкель-
сона) проверку в опыте Кеннеди—Торндайка (правда, дающего
отрицательный результат).
Вдвойне подправленная теория эфира тоже имеет независи-
мую проверку в так называемом квадратичном оптическом Доп-
лер-эффекте (т. е. преобразования Лоренца вдвойне подправ-
ленной теории эфира приводят к Доплер-эффекту, который в
количественном отношении отличен от эффекта, выводимого из
первоначальной теории эфира) [Там же, с. 486—487].
В итоге А. Грюнбаум приходит к выводу, что вдвойне под-
правленная теория эфира не является ad hoc гипотезой по отно-
шению к классической теории эфира, но является ad hoc гипо-
тезой по отношению к специальной теории относительности.
«Защита этих гипотез (Лоренца—Фитцджеральда и Лорен-
ца-Лармора. — Л.Б.) только с целью поддержки теории эфира и
отказа от специальной теории относительности представляет со-
бой операцию ad hoc в новом смысле» [Там же, с. 487].
Каково же резюме? На мой взгляд, по отношению к теории
относительности и отдельно взятые гипотезы Лоренца—Фитц-
джеральда и Лоренца—Лармора представляют гипотезы ad hoc,
так как являются специально вводимыми допущениями для объ-
яснения тех эффектов, которые теория относительности объяс-
няет, не прибегая ни к каким специальным допущениям.
Но они являются ad hoc гипотезами и по отношению к клас-
сической теории эфира. Гипотеза Лоренца—Фитцджеральда яв-
лялась гипотезой ad hoc до опыта Кеннеди—Торндайка, т. е. бы-
ла непосредственно непроверяемой. Она стала гипотезой ad hoc
в свете этого опыта, т. е. необходимость согласовать ее с отрииа'
462
\ Часть II. Глава 17
тыльным результатом и этого опыта достигалась путем введения
eine одной гипотезы ad hoc — гипотезы Лоренца—Лармора.
Д Иными словами, гипотеза Лоренца—Фитцджеральда после
опмта Кеннеди—Торндайка стала усложненно непроверяемой,
т. е. совмещаемой с любым результатом опыта путем нагромож-
дения новых ad hoc-утверждений.
Усложненная непроверяемость может быть иначе сформули-
рована как неопровергаемость (нефальсифицируемость) соот-
ветствующего теоретического построения. Точнее, и непосред-
ственная непроверяемость представляет вместе с тем неопровер-
жимость, но там эта последняя просто тривиальна: раз нет
никаких следствий, то ничего нельзя и опровергнуть. В случае
усложненной непроверяемости неопровержимость утрачивает
тривиальный характер. Теоретическое построение обрастает
специальными допущениями, согласующими его с любым воз-
можным исходом эксперимента, т. е. становится неопровержи-
мым.
Фальсифицируемость тесно связана с получением возможно
более строгих следствий, т. е. следствий, позволяющих выразить
результат в количественно точной форме. Это требование отли-
чает современные научные концепции от натурфилософских по-
строений. Гипотезы древних натурфилософов или гипотезы Де-
карта, как правило, вообще не вели ни к каким эмпирически
констатируемым следствиям либо указывали на такие следствия
лишь в очень общей качественной форме, не приводя к строгим
количественно определенным соотношениям. На современном
уровне развития естествознания гипотеза «приобретает права
гражданства» лишь в том случае, если ее основные положения
получают математическую формулировку, открывая тем самым
возможность выведения следствий, допускающих количествен-
ное сопоставление с экспериментом. Отличие натурфилософ-
ской атомистической гипотезы Демокрита от атомистической
гипотезы XIX в. прежде всего в том, что на основе последней
стало возможным получать строгие количественно определен-
ные следствия. Возможность получения количественно опреде-
ленных следствий представляет, таким образом, существенный
Момент принципиальной проверяемости теории во всякой дос-
таточно развитой области знания.
Теория, которая не ведет ни к каким количественно опреде-
ленным выводам, как правило, может быть совмещена с любыми
463
Философия науки
данными опыта, и это значит, что ее фактически невозможно
проверить. Поэтому проверяемость обязательно предполагает
получение следствий, допускающих опровержение опытом. То,
что не может быть опровергнуто никаким опытом, то, что может
быть согласовано с любым исходом опыта, тем самым и не мо-
жет быть проверено. Именно в этом смысле требование прове-
ряемости совпадает с требованием, чтобы любое научное по-
строение допускало возможность своего опровержения.
Подтверждение опытом следствий теории лишь в том случае
имеет ценность, если эти следствия могли быть опытом и опро-
вергнуты. «Подтверждение» же опытом следствий, о которых за-
ранее известно, что они никаким опытом не могут быть опро-
вергнуты, вообще не есть подтверждение. Можно согласиться с
К. Поппером, правильно отмечавшим, что недостаток теорий
типа теории Фрейда в том, что, претендуя на объяснение очень
многого, они не указывают никакого пути для их возможного
опровержения [Поппер, 1983, с. 241—244]. Такой же характер но-
сила, например, и пресловутая «теория» жизненности Т.Д. Лы-
сенко, не приводившая ни к одному количественно определен-
ному следствию и не указывавшая никаких путей своего возмож-
ного опровержения.
Трактовка проверяемости как прежде всего фальсифицируе-
мости теорий была впервые выдвинута К. Поппером1 и была на-
правлена против господствовавшей неопозитивистской точки
зрения, обращавшей основное внимание на подтверждение
опытом следствий теории. Поппер справедливо указал, что лю-
бое научное построение должно стремиться не к подтверждению
во что бы то ни стало, а должно прежде всего допускать возмож-
ность своего опровержения.
Возможность фальсификации — это условие, налагаемое на
теорию до ее фактической проверки. Разумеется, если теория не
согласуется с опытом, она должна быть перестроена (ранний
1 Немецкое издание его работы «Логика научного исследования» вышло в
свет в 1935 г. Точнее говоря, Поппер систематически развил эту трактовку. Сама
по себе важность того обстоятельства, что научные принципы, для того чтобы
быть содержательными, должны допускать возможность своего опровержения,
отчетливо осознавалась многими мыслителями и до Поппера. Например, А. Пу-
анкаре в 1904 г. писал, что принцип, который «не боялся бы никакого опровер-
жения», был бы совершенно бесполезен, так как «не смог бы ничему нас на-
учить» (Принцип относительности. М., 1973. С. 33).
464
l Часть II. Глава 17
Поппер полагал, что должна быть отброшена, но сейчас это не-
важно). Таким образом, требование фальсифицируемости не
должно пониматься как противоположное подтверждаемости
террин, претендующей на истинность. Выживающая теория, ко-
нечно же, должна подтверждаться.
Это обстоятельство не отвергается сегодня и попперианца-
ми. И. Лакатос отмечает как черту фальсификационизма, «дис-
сонирующую с действительной историей науки», тот тезис, что
«единственным важным для ученого результатом такого проти-
воборства (теории и опыта. — Л.Б.) является фальсификация:
настоящие открытия — опровержения» [Лакатос, с. 302]. «Одна-
ко, — продолжает он, — история науки показывает, нечто иное...
некоторые из наиболее интересных экспериментов дают скорее
подтверждение, чем опровержение» [Там же].
Но важность подтверждения нисколько не умаляет важности
фальсифицируемости как характеристики теории до осуществ-
ления эмпирической проверки.
Фальсифицируемость теории выражается, по Попперу, через
класс ее потенциальных фальсификаторов, т. е. через множество
запрещаемых ею «состояний дел» в реальном мире. Он даже пы-
тается разработать количественную оценку степеней подтверж-
даемости (или фальсифицируемости), посвящая этому специ-
альную главу [Поппер, 1983, с. 149—178]. Правда, дальше весьма
простых иллюстраций он не идет, но суть дела сейчас не в этом.
Фальсифицируемость действительно является весьма важ-
ной характеристикой, говорящей об информативности и содер-
жательности теории. Думается, связь между большей фальсифи-
цируемостью и большей информативностью как раз представля-
ется «интуитивно приемлемой для научного познания». Но здесь
необходимо одно разъяснение. Речь всегда должна идти о кон-
цепциях, не противоречащих уже известным эмпирическим дан-
ным и еще не подвергнутых новому испытанию.
Как бы легко ни была фальсифицируема концепция в свете
новых данных, которые еще предстоит получить, если она уже
несовместима с имеющимися, то она и не допускается к сорев-
нованию. С учетом этого обстоятельства ориентация на
бблыпую фальсифицируемость «не может привести к отбору
Концепций, посылки которой бедны и бессодержательны». Та-
кая концепция просто не сможет войти в игру, так как она ока-
465
Философия науки
жется несовместимой с какими-либо ранее известными данны-
ми и будет отклонена до новых испытаний.
Требование принципиальной проверяемости теоретических
построений является глубоко материалистическим по своему ду-
ху (хотя, конечно, и может подвергаться идеалистическим ис-
толкованиям), направленным против введения в науку таинст-
венных, неуловимых «вещей в себе», против внутреннего, не
имеющего внешних обнаружений.
С этой точки зрения принципиально непроверяемым тези-
сом оказывается (весьма часто) тезис об «уникальном» характере
человеческого мышления (в смысле невозможности искусствен-
ного воспроизведения функций мышления кибернетическими
устройствами)1. Этот уникальный характер часто обосновывается
следующим рассуждением. Что бы ни делала кибернетическая ма-
шина, результаты ее деятельности всегда будут лишь внешне сход-
ствовать с результатами мышления человека, а внутренние процес-
сы все равно будут различны [см., например, Кочергин, 1972], сход-
ство результатов (в любой, даже потенциально бесконечной
области) ничего не говорит о сходстве внутренних процессов.
Такая аргументация ведет к допущению таинственной неуло-
вимой вещи в себе. Она фактически превращает мышление в та-
кой внутренний процесс, который не имеет своих внешних об-
наружений. Все внешние обнаружения оказываются несущест-
венными для передачи специфики этого процесса. Если при
любом совпадении внешних обнаружений внутренние процессы
могут оказываться различными, то это означает, что сущность
внутреннего процесса не обнаруживается в его результатах. Но
тогда сам внутренний процесс превращается в метафизическую
абстракцию, в неуловимую вещь в себе, во внутреннее, лишен-
ное всяких внешних обнаружений.
С одной стороны, утверждается, что сходны лишь результаты
работы машины и человеческого мозга, внутренние же процессы
совершенно различны (чисто физические — в первом случае,
мышление — во втором).
С другой стороны, признается, что любое проявление мыш-
ления может быть в принципе моделировано на универсальной
вычислительной машине. Но соединение этих двух утверждений
1 Подробное обсуждение этого вопроса проведено мной в работе «Филосо-
фия естествознания». Вып. 1. М., 1966. Гл. IX.
466
Часть II. Глава 17
хЬиводит к выводу, что сходство результатов работы кибернети-
ческого устройства и мозга даже в потенциально безграничной
области все равно не будет означать сходство процессов, веду-
щих к этим результатам. А это означает, что мышление как внут-
ренний процесс деятельности мозга отрывается от своих прояв-
лений в поведении, превращается в неуловимое «нечто», в «чу-
довищное существо». Концепция, так понимающая мышление,
Принципиально непроверяема.
В связи с этим вспоминается чудесная сказка А. Волкова
«Волшебник Изумрудного города». Один из ее персонажей, на-
битый соломой Страшила, удручен тем, что у него нет мозгов.
Между тем его поведение является совершенно разумным, более
того, в компании своих друзей (девочки Элли, Железного Дро-
восека и др.) он справедливо приобретает репутацию наиболее
мудрого существа. Но это не устраивает Страшилу. Как некото-
рые реальные, а не только сказочные персонажи, он, очевидно,
считает, что сходство результатов его деятельности с результата-
ми деятельности людей еще ни о чем не говорит. Вся суть в той
штуке, которую люди называют «мозгами». И он обращается к
волшебнику Изумрудного города Гудвину (оказавшемуся просто
ловким обманщиком) с просьбой дать ему мозги. Естественно,
что дать ему настоящие мозги Гудвин не может, но в отличие от
Страшилы он отлично понимает, что в этом нет никакой нужды.
Он помещает в голову Страшиле смесь опилок с булавками, и
Страшила вполне удовлетворен.
Глубоко материалистический характер требования принци-
пиальной проверяемости ярко обнаруживается в обсуждении од-
ного из коренных постулатов материализма — тезиса о матери-
альном единстве мира, отрицающего наличие в мире каких бы то ни
было сверхъестественных, нематериальных агентов.
С принципиальной проверяемостью тесно связан тезис о
принципиальной наблюдаемости, часто выделяемый в самостоя-
тельный методологический регулятив — принцип наблюдаемости.
Поскольку я не претендую на жесткую классификацию, то я рас-
смотрю его в данном разделе. А так как в нем есть содержание,
Как совпадающее с общим требованием проверяемости, так и от-
личное от него, я остановлюсь преимущественно на последнем.
В самом общем приближении принцип проверяемости и
Принцип наблюдаемости говорят об одном и том же — об эмпи-
рической проверяемости следствий любых теоретических по-
467
Философия науки
строений: «В [замкнутой] физической теории допускаются толь-
ко такие утверждения, которые так или иначе обоснованы или
могут быть обоснованы на опыте (принципиальная наблюдае-
мость); те утверждения, которые не могут быть обоснованы опы-
том, из физической теории исключаются. Таково содержание
принципа наблюдаемости» [Омельяновский, 1973, с. 85]. И еще:
«Современная трактовка его (принципа наблюдаемости. — Л.Б.)
формулируется в виде требования эмпирической проверяемо-
сти, хотя бы следствий, вытекающих из теоретической системы»
[Илларионов, Мамчур, 1973, с. 369].
Однако с принципом наблюдаемости связано и определен-
ное специфическое содержание, дающее основание для выделе-
ния его в некоторый относительно самостоятельный регулятив.
Это специфическое содержание связано прежде всего с его
большей (по сравнению с принципом проверяемости) увязанно-
стью с вопросами о структуре научной теории вообще (и физи-
ческой теории в особенности). Принцип наблюдаемости ставит
вопрос о характере теоретических примитивов (исходных теоре-
тических конструктов), входящих в состав теории.
Особую популярность принцип наблюдаемости приобрел в
первой половине XX столетия, причем в это время ему часто да-
вались крайние формулировки в духе, например, требования
операционального определения всех без исключения понятий,
входящих в состав физической теории. Так, П. Бриджмен писал,
что вообще «физическое понятие синонимично соответствую-
щему классу операций», и, характеризуя, например, понятие
длины, говорил, что оно «включает в себя ровно столько, сколь-
ко включает ряд операций, с помощью которых длина определя-
ется» [Bridgman, 1927, р. 5]. О неудовлетворительности такой
трактовки я уже говорил [Баженов, 1978, гл. 1].
Еще большую популярность крайняя трактовка принципа
наблюдаемости приобрела в 30-х гг. в связи с построением кван-
товой механики (прежде всего в ее матричном варианте). Успех
теории приписывался тому обстоятельству, что она исключила
из употребления как принципиально ненаблюдаемые такие
понятия, как положение электрона на орбите и частоту его обра-
щения, заменив их измеримыми в опыте частотами и интенсив-
ностями спектральных линий. Формулировки, требующие ис-
ключения из теории любых понятий, не допускающих прямой
468
Часть II. Глава 17
V ' - : - —==
Эмпирической интерпретации, были широко распространены в
то время.
Одна из таких крайних формулировок по горячим следам да-
на Т.Н. Гамовым в 1927 г. [Гамов, 1927]: «Начало принципиальной
наблюдаемости гласит, при построении физической теории
можно пользоваться лишь величинами, принципиально наблю-
даемыми1. Если в теории обнаруживается присутствие принци-
пиально ненаблюдаемой величины, то теория должна быть пере-
строена на новых началах так, чтобы в новом виде она не содер-
жала этой величины».
Приведенная формулировка не соответствует основному со-
держанию даже квантовой механики (под влиянием которой она
и родилась), так как с этой точки зрения из последней должно
было быть устранено понятие волновой функции и оставлен
лишь ее матричный вариант. Причем даже матричный вариант
квантовой механики, хотя и дает некоторые основания для фор-
мулировок гамовского типа, создавался де-факто отнюдь не так
уж строго по этому канону. Я позволю себе привести длинную
выписку из М. Борна, прекрасно освещающего суть дела: «Часто
говорят, что Гейзенберга привела к принципу матричной меха-
ники метафизическая идея, и это положение используется теми,
кто верит в силу чистого разума, в качестве примера в свою поль-
зу. Так вот, если бы вы спросили самого Гейзенберга, он резко
.возразил бы против этого взгляда. Поскольку мы работали вме-
сте, я полагаю, что я знаю, что влияло на его мышление. В то
время все мы были убеждены в том, что новая механика должна
базироваться на новых понятиях, имеющих только слабую связь
с классическими понятиями, выраженную в боровском постула-
те соответствия. Гейзенберг считал, что величины, которые не
имеют непосредственной связи с экспериментом, должны быть
исключены. Он хотел обосновать новую механику как можно бо-
лее непосредственно на опытных данных. Если это и есть «мета-
физический» принцип, io, конечно, я не могу возражать; я толь-
ко хочу сказать, что это именно тот фундаментальный принцип
современной науки в целом, который отличает ее от схоластики
1 Принципиально наблюдаемым величинам Н. Гамов дает следующее опре-
деление: «Определенная физическая величина называется принципиально на-
блюдаемой, если можно указать такой метод, может быть, и невыполнимый при
современном состоянии техники, но физически возможный, при помощи кото-
рого наша величина может быть измерена» [Гамов, с. 388].
469
Философия науки
и догматических систем философии. Но если под этим принци-
пом разумеют (как это делают многие) исключение из теории
всех ненаблюдаемых, то это ведет к бессмыслице. Например,
волновая функция Шрёдингера 4х является такой ненаблюдае-
мой величиной, и, конечно, она позднее была принята Гейзен-
бергом как полезное понятие. Он установил не догматический, а
эвристический принцип. Он обнаружил с помощью научной ин-
туиции неадекватные понятия, которые должны быть исключе-
ны» [Борн, 1963, с. 149].
Но если крайние формулировки принципа наблюдаемости
несостоятельны, то в чем же тогда его специфическое содержа-
ние?1 Или, если поставить вопрос в формулировке М.Э. Омелья-
новского: «Почему в одних случаях ненаблюдаемые (траектория
электронов в атоме, например) надо исключить, а в других — не-
наблюдаемые (например, волновые функции) приходится допус-
кать; в одних случаях они (например, абсолютная одновремен-
ность) вредны, а в других (например, та же волновая функция) —
играют необходимую и положительную роль?» [Омелъяновский,
1973, с. 87].
В ответе на этот вопрос и выясняется действительно специ-
фическое содержание (и эвристическая ценность) принципа на-
блюдаемости. Он говорит не непосредственно об отношении
теории и опыта, а об отношении двух теорий — старой, утрачи-
вающей свою адекватность, и новой, формирующейся, — к опы-
ту. Именно в ходе создания новой теории, например специальной
теории относительности, была установлена ненаблюдаемость аб-
солютной одновременности, абсолютной длины, абсолютного
промежутка времени, абсолютного движения (движения по от-
ношению к эфиру).
В классической теории эфира все эти величины были наблю-
даемы.
Аналогично обстояло дело и в ходе создания квантовой меха-
ники. Одновременные значения координаты и импульса элек-
трона, а значит, и его орбита в атоме — наблюдаемые величины в
рамках концептуальной схемы классической механики. Нена-
блюдаемыми все эти вещи стали лишь в рамках новой концепту-
альной схемы.
'В крайних формулировках он этим содержанием, конечно, обладает, но
оно вряд ли приемлемо.
470
Часть II. Глава 17
Короче, именно «при рождении новой по своему принципи-
альному содержанию теории как раз и появляются ненаблюдае-
мые» [Там же, с. 99]. И дальше: «Установление ненаблюдаемо-
сти есть указание на то, что старая теория перестает быть эффек-
тивной в некотором отношении (применительно к новой сфере
явлений) и требуется создание новой теории» [ Там же, с. 100].
Таким образом, конкретное содержание принципа наблюдае-
мости тесно связано с отношением к той или иной определенной
теории. Об этом очень хорошо рассказывает В. Гейзенберг, вспо-
миная свою беседу с А. Эйнштейном в 1926 г. [Гейзенберг], после
сделанного им (В. Гейзенбергом) доклада. А. Эйнштейн выступал
против буквалистского понимания принципа наблюдаемости и
рассмеялся, когда молодой Гейзенберг пытался опереться на
практику самого Эйнштейна в период создания последним спе-
циальной теории относительности. Основное в позиции А. Эйн-
штейна — это отнесенность проблемы наблюдаемости к соответ-
ствующей теории. «Можно наблюдать данное явление или
нет, — говорил А. Эйнштейн, — зависит от вашей теории. Имен-
но теория должна установить, чтб можно наблюдать, а чтб нель-
зя» [Там же, с. 303]. И дальше А. Эйнштейн подчеркнул, что бу-
квалистское принятие наблюдаемости «даже опасно. Потому что
каждая разумная теория должна позволять измерять не только
прямо наблюдаемые величины, но и величины, наблюдаемые
косвенно» [Там же].
Последнее замечание А. Эйнштейна связано с его особым от-
ношением к квантовой механике и вызывает скептическое отно-
шение В. Гейзенберга, отмечающего, что «в квантовой механике
это означало бы, например, что доступными для наблюдения яв-
ляются не только частоты и амплитуды, но и... волны вероятно-
сти и т. д., которые, конечно же, представляют собой объекты
совершенно другой природы» [Там же, с. 304].
Однако первое, общее положение А. Эйнштейна по существу
принимается В. Гейзенбергом, когда он подчеркивает, что «при
Изобретении новой схемы решающим является вопрос: от каких
старых концепций вы можете по существу отказаться?» [Там
Же].
Итак, понятие принципиальной наблюдаемости оказывается
Релятивированным, оно имеет смысл не безотносительно к тео-
рии, а лишь в контексте соперничества старой и новой теорий.
471
Философия науки
Ответ на вопрос, почему одни ненаблюдаемые изгоняются, а
другие ненаблюдаемые допускаются, становится с этой точки
зрения достаточно ясным. Принцип наблюдаемости говорит от-
нюдь не о любых теоретических понятиях. Он относится к поня-
тиям, которые в старой концептуальной схеме имели операцио-
нальный смысл (хотя бы косвенный) и утрачивают его в новой
(абсолютная одновременность, эфир, одновременно точные
значения координаты и импульса, орбита в атоме и т. д.).
Этот принцип не запрещает введения в новую концептуаль-
ную схему таких конструктов (типа Т-функции или римановых
координат), которые с самого начала вводятся не операциональ-
но, а в качестве «промежуточных», т. е. таких, которые должны
получить не прямую, а лишь косвенную эмпирическую интер-
претацию.
Однако подчеркивание необходимости эмпирической интер-
претации (хотя бы и косвенной) не образует специфического со-
держания принципа наблюдаемости; оно входит в общий прин-
цип проверяемости. С этой точки зрения проблемы, которые за-
трагиваются принципом наблюдаемости, есть проблемы,
встающие в ходе отношения формирующихся теорий некласси-
ческой физики к теориям классической физики, и сам принцип
наблюдаемости есть дитя неклассической физики.
17.2. Максимальная общность
Общий смысл этого регулятива состоит в том, что из теорети-
ческого построения должны выводиться не только те явления,
для объяснения которых оно предлагается, но и возможно более
широкий класс явлений, непосредственно, казалось бы, не свя-
занный с первоначальными явлениями.
Это требование, как нетрудно видеть, теснейшим образом
связано с требованием принципиальной проверяемости. В са-
мом деле, непроверяемая конструкция — это как раз та, которая
специально подбирается для объяснения непосредственно на-
блюдаемых опытных фактов и ничего, кроме них, обосновать не
может; такое построение оказывается ограниченным исключи-
тельно теми явлениями, для которых оно специально и было вЫ'
двинуто. Это ярко иллюстрирует уже приводившийся пример ги-
потезы Лоренца—Фитцджеральда.
472
Часть II. Глава 17
В самом деле, время, необходимое лучу I для прохождения
плеча интерферометра Д туда и обратно, было А/ь время, необхо-
димое лучу II для прохождения плеча /2 туда и обратно, было At2.
Опыт показал, что никакой интерференционной картины не
возникает, т. е. А/2 = А/,. Это было непосредственно констатируе-
мым опытным фактом. Какое же объяснение ему предложила
разбираемая гипотеза? Было предложено сокращение длины,
специально подобранное так, чтобы А/] равнялась А/2. Понятно,
что лоренцово сокращение «объясняло» равенство времен про-
хождения лучами плеч интерферометра, раз оно с самого начала
подбиралось исходя из факта этого равенства. Но также понятно
и то, что это объяснение было только кажущимся, так как нуж-
давшийся в объяснении факт оно делало предпосылкой самого
этого объяснения. Оно было гипотезой ad hoc.
Гипотеза ad hoc может быть в этом плане названа теоретиче-
ским построением минимальной (если угодно, нулевой) степени
общности. Нулевой в том смысле, что она не ведет к обобщени-
ям, она ограничена тем же кругом явлений, для объяснения ко-
торых первоначально и была выдвинута. Научные гипотезы но-
сят совершенно другой характер. Создаваясь ближайшим обра-
зом для объяснения той или иной сравнительно узкой области
явлений, они выходят за ее пределы и должны быть в состоянии
объяснить новые стороны явлений, непосредственно не имев-
шиеся в виду при их создании. Иначе, научная теория всегда
стремится к достижению максимально возможной общности;
стремление к обобщениям — ее имманентная черта1.
Здесь следует сделать одну оговорку. Разумеется, не любое
теоретическое построение претендует на общность: могут быть,
и часто встречаются (особенно в исторических науках), построе-
ния, задача которыхобъяснить некоторое индивидуальное яв-
ление или некоторый узкий круг явлений. Возьмем в качестве
примера, скажем, исследование кометы Биела2. Она была впер-
вые замечена в 1826 г. В 1846 г. вместо одной уже наблюдались
Две близкие друг к другу кометы, а в 1852 г. — две более далекие
Кометы. В связи с этим была высказана гипотеза о неустойчиво-
сти кометы Биела и о возможности ее распадении в последую-
1 Подробнее о роли процессов обобщения в научном познании см., напри-
“ер: [Сачков, 1973, с. 421-446].
2Пример взят из книги [Навиль].
473
Философия науки
щем на ливень так называемых падающих звезд. Полгода спустя,
после того как Донати высказал это предположение в 1872 г.,
действительно на месте кометы Биела наблюдался ливень па-
дающих звезд.
Понятно, что для таких частных гипотез, не притязающих на
фундаментальную роль, обсуждаемое требование есть требова-
ние объяснения соответствующего круга явлений с помощью не-
которых «обычных» механизмов, общих с рядом других частных
областей. Частная гипотеза не должна постулировать наличие
неких совершенно необычных факторов, «уникальных» меха-
низмов, нигде за ее пределами не встречающихся, и должна вы-
двигать лишь некоторую модификацию, новую комбинацию и
т. д. этих факторов. Предполагаемый в ней механизм должен
быть по возможности ординарным, требование максимальной
общности для таких гипотез фактически означает требование
максимальной ординарности. Не могу удержаться, чтобы не за-
метить здесь, что широко популярная (среди некоторого круга
читателей и писателей) гипотеза космических пришельцев, вы-
двигаемая для объяснения некоторых непонятных (или кажу-
щихся непонятными) событий земной истории, явно нарушает
требование максимальной ординарности.
Вернемся теперь к условию общности и выясним, почему на-
учное познание пронизано стремлением к обобщению. Разумеется,
для этого стремления есть основания, коренящиеся в самой при-
роде мышления. Мышление всегда связано с наличием иерархии
уровней кодирования информации (подробнее см.: [Амосов]), и в
этом смысле тенденция к общности есть его имманентная черта.
Однако не менее важно подчеркнуть наличие объективных ос-
нований, коренящихся в структуре самой реальности.
Хорошо известно, что для любого явления объективного ми-
ра можно предположить не один, а множество механизмов, его
производящих. Гипотезы ad hoc это и делают. Но объективная
истина всегда одна. Как же ее нащупать?
Явления, предметы объективного мира не существуют изо-
лированно друг от друга; они связаны друг с другом и представ-
ляют члены каких-то широких и общих разрядов вещей, члены
более общих реальных классов явлений. Основа, предположен-
ная в гипотезе, не может поэтому объяснить только исключи-
тельно одно данное явление. Если в гипотезе есть объективное
содержание, оно непременно должно обнаруживать себя и Б
474
Часть II. Глава 17
объяснении многих других явлений, так или иначе связанных с
первоначальным. А такие другие явления всегда есть, так как не
может существовать абсолютно индивидуальных явлений, еди-
ничное существует «лишь в той связи, которая ведет к общему».
Таким образом, если теоретическое построение улавливает
какой-то момент объективной истины, то оно необходимо при-
обретает общее значение, оно не может являться только по-
строением ad hoc.
Для целей последующего изложения (и иллюстрации) мне
кажется уместным воспроизвести сейчас один изящный пример,
приводимый (правда, в несколько другой связи) Б. Расселом
[Рассел, 1957, с. 347].
Составим таблицу, где в левом столбце я буду фиксировать
номер такси, а в правом — момент времени (отсчитываемый от
какой-нибудь исходной точки), в который я беру эту машину.
Пусть я зафиксировал в своей таблице сначала 100 случаев, в ка-
ждом из которых значению N из левого столбца соответствует
значение t — из правого.
Математика ручается, что всегда можно подобрать формулу
вида N = f(t) (и даже не одну, а сколь угодно много), которая
представит номер взятого мной такси как некоторую функцию
времени, в которое я беру такси.
Этот пример можно взять в качестве модели, иллюстрирую-
щей характер методологических регулятивов (точнее, можно хо-
рошо иллюстрировать несоблюдение требований этих регуляти-
вов), и я буду использовать его и в дальнейшем, несколько моди-
фицируя модель в случае того или иного регулятива. Но сначала
об уже рассмотренных регулятивах.
Для иллюстрации принципиальной непроверяемости моди-
фицируем модель хотя бы так. Возьмем первые 90 случаев и по-
строим для них N =f(t), которая прекрасно «объяснит» первые 90
строк таблицы-формулы, ибо была придумана специально для
этого. Если мы попробуем применить ее к 91-му случаю, мы
почти наверняка получим осечку. Учтя 91-й случай, всегда мож-
но так модифицировать формулу, чтобы и этот (91-й) случай
«объяснялся» ею, но эта модификация будет носить явный ха-
рактер модификации ad hoc; она не будет охватывать ничего,
кроме этого добавочного случая, и любой новый случай почти
Наверняка не подпадет под нее.
475
Философия науки
Формула N = f(t) непроверяема в смысле (б) (см. с. 455 нас-
тоящего издания), ибо ее можно приспособить к новым данным,
лишь вводя в нее модификации ad hoc.
Столь же хорошо на этой модели можно проиллюстрировать
и нарушение требования общности. Формула, которую мы по-
строим для любого количества строк нашей таблицы, будет охва-
тывать эти, и только эти, строки1, т. е. будет характеризоваться
минимальной (нулевой) общностью.
Вернемся от иллюстративной модели к более реальным при-
мерам. Рассмотренная выше гипотеза Лоренца—Фитцджераль-
да, пытавшаяся объяснить опыт Майкельсона, была гипотезой
минимальной общности. Огромное преимущество специальной
теории относительности перед ней в рассматриваемом сейчас
плане состояло в том, что эта теория объясняла исключительно
широкий круг явлений, на первый взгляд, казалось, вообще не
связанных с явлением распространения света.
Другим примером такой исключительно плодотворной гипо-
тезы, содержащей в себе тенденции к чрезвычайно широкой
экспансии, является гипотеза квантов, выдвинутая в 1900 г.
М. Планком. В конце XIX в. физика столкнулась с проблемой
излучения так называемого абсолютно черного тела, т. е. тела,
поглощающего все падающее на него излучение и ничего не от-
ражающего. Надо было вывести общий закон для излучения аб-
солютно черного тела, в котором устанавливалась бы зависи-
мость между энергией, излучаемой телом, и частотой излучае-
мых электромагнитных волн. Дж. Рэлей и Дж. Джинс,
установившие такой закон, рассматривали излучающее абсо-
лютно черное тело как совокупность огромного числа элемен-
тарных атомных излучателей, так называемых осцилляторов.
Средняя энергия каждого осциллятора полагалась равной:
Ё = кТ,
(17.1)
где к — постоянная Больцмана, Т — абсолютная температура, е — сред-
няя энергия осциллятора.
'Конечно, возможно случайное угадывание результата какой-либо новой
строки, но вероятность такого угадывания настолько мала, что ее можно Ие
иметь в виду.
476
Часть II. Глава 17
Закон Рэлея—Джинса основывался на классических пред-
ставлениях о непрерывности излучения и, согласуясь с опытом
для малых частот излучения, приводил к абсурду для больших
частот. По этому закону энергия, излучаемая абсолютно черным
телом, при больших частотах, т. е. для ультрафиолетовых лучей,
получалась бесконечной, что физически совершенно бессмыс-
ленно. Эта ситуация получила название «ультрафиолетовой ка-
тастрофы».
Гипотеза квантов позволила Планку объяснить явление из-
лучения абсолютно черного тела для больших частот излучения,
а в области малых квантовое выражение совпадает с классиче-
ским.
На первый взгляд гипотеза Планка производит впечатление
гипотезы ad hoc. Речь идет об одном сравнительно частном явле-
нии — излучении абсолютно черного тела; для его объяснения
делается совершенно необычное с прежней точки зрения пред-
положение, специально подбираемое так, чтобы объяснить это
явление.
Если бы квантовая гипотеза оказалась в самом деле гипоте-
зой ad hoc, т. е. если бы она не объясняла ничего, кроме явления
излучения абсолютно черного тела, то она вряд ли долго продер-
жалась бы в науке.
Однако гипотеза квантов, при всей своей необычности и ка-
жущейся искусственности, верно схватывала чрезвычайно важ-
ный момент объективной истины. Именно поэтому она оказа-
лась способной к широкой экспансии. Уже в 1905 г. Эйнштейн,
впервые в истории науки серьезно отнесшийся к квантовой ги-
потезе, не как к ad hoc придуманному объяснению, а как к объ-
ективно значимой модели реального мира, смог на ее основе
дать разработку теории фотоэффекта. В 1911 г. Эйнштейн совме-
стно с Дебаем разработал на основе квантовых представлений
теорию удельных теплоемкостей многоатомных газов и твердых
тел (что долгое время не удавалось в рамках классической моле-
кулярно-кинетической теории). Когда же, наконец, в 1913 г.
Н. Бор построил на основе идеи о квантах теорию атома водоро-
да, стал окончательно ясным глубокий смысл этой идеи.
Квантовая гипотеза оказалась гипотезой, объясняющей из
одного основания чрезвычайно широкую область весьма различ-
ных явлений; следовательно, она — не произвольно придуман-
477
Философия науки
ное предположение ad hoc, а гипотеза, претендующая на макси-
мальную общность и объективную значимость.
Общность теоретической конструкции, ее приложимость «
возможно более широкому кругу явлений тесно связаны еще с
одной методологической характеристикой — инвариантностью.
Инвариантное означает неизменное, сохраняющееся при варьи-
ровании широкого круга условий. Общность теоретического по-
строения — это и есть инвариантность, сохраняемость этого по-
строения для широкого круга условий (явлений). Эту сторону
общности совершенно верно отмечает, например, Е.А. Мамчур;
«Содержание посылок, остающееся справедливым для возможно
большего круга явлений, в этом смысле оказывается инвариант-
ным. Именно инвариантность имеется в виду, когда "простоту
гипотез отождествляют с общностью посылок концептуальных
систем, с широтой поля их действия» [Мамчур, 1975, с. 160].
Общность, понятая как инвариантность, дает возможность
перейти и к некоторому специфицированному методологиче-
скому регулятиву — принципу инвариантности, который может
быть сформулирован для теорий, обладающих высокоразвитой
математической структурой. На сегодняшнем этапе развития
науки под такими теориями следует понимать теории физи-
ко-математического естествознания.
В таких теориях принцип инвариантности может быть понят
как некоторый вариант Эрлангенской программы Ф. Клейна
(сформулированной последним в области геометрии), распро-
страненный на область физики.
Ф. Клейн сформулировал сущность своей программы сле-
дующим образом: «Дано многообразие и в нем группы преобра-
зований, нужно исследовать свойства образов, принадлежащих
многообразию, которые не изменяются от преобразований груп-
пы» [Клейн, 1956, с. 402].
Итак, основная идея Эрлангенской программы — это идея
геометрии как теории инвариантов некоторой группы преобра-
зований.
Идея «Эрлангенского подхода» к физике широко входит в
сознание ученых — достаточно указать хотя бы на М. Борна,
Е. Вигнера, Р. Фейнмана, Ю.Б. Румера и многих других. Напри-
мер, М. Борн писал: «Использование математики сделало точ-
ным этот метод в физике, где инвариант преобразования являет-
ся точным понятием. Феликс Клейн в своей знаменитой ЭрлаН'
478
Часть II. Глава 17
wVA 'V лк S4 // .,.л.... г у", . '•.•".• *' ' “ s и г % чг г «л и г ч ч чл ч <ч г ..- s
генской программе классифицировал всю математику в
соответствии с этой идеей. Это же может быть проделано и для
физики» [Борн, 1973, с. 152].
Широко обсуждается принцип инвариантности и в методо-
логической литературе. Я не буду входить здесь в подробное об-
суждение (это задача специальных исследований) и остановлюсь
лишь, следуя Е. Вигнеру [Вигнер, 1971, с. 20—23, 35—38], на свя-
зи инвариантности со степенью общности.
В структуре физического знания можно выделить несколько
иерархических уровней, располагая их по степеням общности.
На первом, самом низком, уровне будут находиться отдель-
ные явления (знание об отдельных явлениях). Между явлениями
существуют определенные корреляции, не всякие их связи, со-
четания, последовательности возможны: на множество явлений
наложен ряд ограничений — законов природы.
Совокупность законов природы образует второй иерархический
уровень в структуре физического знания. Причем неважно, что
сами законы обладают различной степенью общности; важно,
что и более общие, и менее общие законы имеют дело с явления-
ми (событиями), выражая те или иные их корреляции. Если до-
пустить, что мы располагаем полной информацией обо всех со-
бытиях в любой точке пространства и в любой момент времени,
то ясно, что знание законов уже ничего к этой информации не
могло бы добавить, «законы физики, а в действительности и лю-
бой другой науки были бы нам не нужны» [Там же, с. 22].
Правда, даже в такой ситуации законы не были бы полно-
стью бесполезными. Не говоря уже о том, что «созерцание этих
закономерностей доставляло бы нам некоторое удовольствие и
развлечение даже в том случае, если бы они и не содержали но-
вой информации» [Там же, с. 22], здесь важно еще одно обстоя-
тельство. Появление у кого-нибудь иных данных о некоторых
событиях могло бы быть более эффективно опровергнуто пока-
зом не просто несоответствия этих данных уже имеющимся, а
показом их несовместимости с законами, управляющими этим
Кругом событий.
Разумеется, ситуация, предполагающая владение полной
информацией о всех событиях (а также разумное время выбор-
ки нужной информации из всей имеющейся), совершенно не-
реальна. Однако допущение такой ситуации полезно в качестве
479
Философия науки
гносеологического приема, позволяющего вскрыть важнейшую
функцию законов науки.
Центральный тезис Е. Вигнера состоит в том, что в структуре
научного знания есть еще один иерархический уровень, который
стоит к законам науки примерно в таком же отношении, в какох.
эти последние находятся к явлениям. Этот высший иерархиче-
ский уровень и есть принципы инвариантности, или принципы
симметрии1.
Подобно тому, как законы выявляют структуру множества
явлений, принципы инвариантности выявляют структуру мно-
жества законов. И также как в случае отношения «явления — за-
коны», и здесь можно сказать, что если бы мы знали все законы
(или один всеобъемлющий закон природы), то знание принци-
пов инвариантности (т. е. свойств инвариантности или симмет-
рии этих законов2) не добавило бы нам никакой новой информа-
ции о законах. Так же как и в отношенйи «явления — законы», и
здесь «созерцание симметрий могло бы доставить нам удоволь-
ствие и позабавить даже в том случае, если бы они и не содержа-
ли новой информации. Но если бы кто-нибудь предложил ка-
кой-то другой закон природы, то опровергать его мы могли бы
более эффективно, если бы он противоречил нашему принципу
инвариантности (разумеется, в предположении, что мы уверены
в правильности этого принципа инвариантности)» [Там же,
с. 22-23].
Однако на самом деле мы, конечно, не знаем (и никогда не
будем знать) всех законов природы, а это означает, что принци-
пы инвариантности играли и будут играть важнейшую познава-
тельную роль в исследовании законов, — роль, аналогичную той,
которую законы природы играют в исследовании явлений.
«...Функция, которую несут принципы симметрии, состоит в на-
делении структурой законов природы или установлении между
ними внутренней связи, так же как законы природы устанавли-
вают структуру или взаимосвязи в мире явлений» [ Там же, с. 23].
1 «Принципы симметрии... по существу, совпадают с принципами относи-
тельности и принципами инвариантности: фактически это разные названия од-
них и тех же принципов» [Визгин, 1975, с. 268].
2 «Известный математик Герман Вейль предложил прекрасное определение
симметрии, согласно которому симметричным называется такой предмет, кото
рый можно как-то изменять, получая в результате то же, с чего вы начали. Имени
в этом смысле говорят о симметрии законов физики» [Фейнман, 1968, с. 85—° г
480
Часть II. Глава 17
17.3. Предсказательная сила
Видное место среди методологических регулятивов занимает
регулятив, требующий от теории, чтобы она была способной
предсказывать и обладала предсказательной силой: «хорошая»
теория должна быть в состоянии предвидеть новые факты. Тео-
ретическое построение, ограничивающееся просто объяснением
уже известного материала, всегда вызывает подозрение в отно-
шении своего правдоподобия.
Это можно хорошо проиллюстрировать на «эксплуатируе-
мой» здесь расселовской «модели такси». «Теория», выражаемая
формулой N =f(t), «объясняет» те, и только те, случаи, для кото-
рых формула и была подобрана. Номер 101-го такси, которое я
буду брать завтра, наверняка будет отличаться от предсказывае-
мого формулой. Разумеется, если я добавлю этот новый случай в
таблицу, то смогу написать новую формулу: N = f'(t), которая
«объяснит» и его, но неверно «предскажет» 102-й номер, и т. д.
Такая «теория» будет лишена предсказательной силы, так же как
она была лишена и свойства проверяемости, и свойства общно-
сти.
На этой модели также видно, что все разбираемые регуляти-
вы тесно связаны друг с другом. Наша «теория» непроверяема в
смысле (б) (см. с. 455), так как без ad hoc-допущений не может
быть согласована с данными; обладает нулевой общностью и не
позволяет предсказывать новые факты.
Можно сказать, что рассмотренные регулятивы дают обсуж-
дение одних и тех же вопросов, но под разными углами зрения. Тре-
бование максимальной общности означает способность теории
быть распространенной на новую предметную область, но явле-
ния этой области как бы «извне» предлагаются теории с целью
их объяснения. Они известны независимо от теории, и от по-
следней требуется объяснить их (в смысле вывести из своих ос-
новных допущений). Чем лучше теория это делает, тем больше
ее объяснительная сила.
Но теория должна быть способна на большее. Она должна
предвидеть новые явления (до нее и без нее не существовавшие
Для познания), и чем лучше она это делает, тем большей предска-
зательной силой она обладает. Принципиальная проверяемость
тоже состояла в выведении из теории новых фактов, но там но-
визна этих фактов заключалась в том, что они не участвовали в
16 Философия науки
481
Философия науки
построении теории, и были ли они известны раньше или впер-
вые выведены из теории, было безразлично. Требование облада-
ния предсказательной силой акцентирует внимание именно на
способности теории предвидеть нечто ранее вообще неизвест-
ное. Наличие у теории предсказательной силы особенно ярко
показывает ее роль как формы развития научного знания.
В своей предсказательной функции теория делает осмыслен-
ным эксперимент, указывает пути движения эксперименталь-
ных исследований. Эксперимент крайне редко ставится случай-
но, без заранее намеченного плана. Он или направлен на про-
верку каких-то конкретных предсказаний теории (проверочный
эксперимент), или носит поисковый характер. В этом последнем
случае, хотя детальный ход эксперимента и не вытекает из тео-
рии, тем не менее его общее направление все равно обусловлено
определенными теоретическими соображениями (гипотезами,
идеями и т. д.). Иначе говоря, теория, делающая предсказания
(конкретные или поисковые), оказывается плодотворной, она
работает1.
Обладание предсказательной силой имеет особое значение в
деле «выживания» конкурирующих теорий (гипотез), и теория,
позволяющая получить новые следствия (следствия-предсказа-
ния), получает серьезные преимущества перед своими конку-
рентами.
В связи с этим необходимо остановиться на вопросе об осо-
бой роли новых следствий в утверждении теории (гипотезы), тем
более что эта особая роль часто оспаривается. Так, Милль, каса-
ясь этого вопроса, писал: «Однако существует мнение, что гипо-
теза такого характера вправе рассчитывать на более благоприят-
ный прием, если, объясняя все ранее известные факты, она, кро-
ме того, позволила предусмотреть и предсказать другие факты,
проверенные впоследствии на опыте... Подобные предсказания
и их исполнение способны производить сильное впечатление на
несведущих лиц, вера которых в науку основывается исключи-
тельно на таких совпадениях между научными пророчествами и
их последующим исполнением. Но странно, когда такому совпа-
1В этом смысле обсуждаемое требование можно было бы сформулировать
как требование к теории (гипотезе) быть рабочей. Но этого, пожалуй, лучше не
делать, так как термин «рабочая гипотеза» обычно употребляется в значении вре-
менно принимаемого предположения, не претендующего на объективную зна-
чимость.
482
Часть II. Глава 17
дению придают сколько-нибудь важное значение люди, обла-
дающие научным образованием» [Миллъ, 1899, с. 456]1.
В связи с вопросом о новых следствиях надо сделать одно
уточнение. С логической точки зрения действительно безразлич-
но, предсказывает ли гипотеза какой-либо ранее совершенно не-
известный эффект или дает объяснение уже и ранее известным
фактам, но которые совершенно не учитывались при установке
гипотезы, так как полагались не имеющими к ней сколько-ни-
будь прямого отношения. И в том, и в другом случае мы имеем
право говорить о новых следствиях, и они действительно логиче-
ски равнозначны. Например, общая теория относительности
предсказывает эффект, состоящий в том, что не только планета
обращается вокруг Солнца, но и эллипс, который она описыва-
ет, должен очень медленно вращаться относительно Солнца. Это
вращение эллипса выражает новый эффект общей теории отно-
сительности, тем больший, чем ближе планета к Солнцу. Для
всех планет, кроме Меркурия, он очень мал. Для ближайшей к
Солнцу планеты — Меркурия — это вращение эллипса хотя и
мало, но все же может быть обнаружено (эллипс Меркурия осу-
ществляет полное обращение за три миллиона лет). И оно дейст-
вительно было обнаружено астрономами задолго до Эйнштейна.
Однако вывод Эйнштейна все равно остается носящим характер
предсказания, и вот почему: «Отклонение орбиты планеты Мер-
курия от эллиптической было известно прежде, чем была сфор-
мулирована общая теория относительности, но никакого объяс-
нения этому нельзя было найти. С другой стороны, общая теория
относительности развивалась без всякого внимания к этим спе-
циальным проблемам. Заключение о вращении эллипса при дви-
жении планеты вокруг Солнца было сделано позднее из новых
гравитационных уравнений» [Эйнштейн, Инфелъд, 1967, с. 509].
Одна из причин недооценки роли новых следствий, предска-
зываемых теорией, состоит в том, что не понимают разницы ме-
жду ситуацией, когда гипотеза объясняет хотя и известные, но
далекие от нее факты, и ситуацией, когда гипотеза объясняет
факты, на базе которых она, собственно, и строилась.
Между свойствами явлений, лежащими в основе выдвигае-
мой гипотезы, и теми свойствами, которые, будучи выведены из
'Аналогичную позицию занимал и крупный русский логик XIX в. М.И. Ка-
ринский (Избранные труды русских логиков XIX века. М., 1956. С. 172).
16*
483
Философия науки
гипотезы, затем обнаруживаются в действительности, имеется
существенное логическое различие. На основе наблюдаемых яв-
лений можно высказать не одну, а ряд гипотез. Эти гипотезы не-
избежно будут в большей или меньшей степени носить характер
гипотез ad hoc, так как они, конечно, выдвигаются для объясне-
ния этих наблюдаемых свойств. Но если гипотеза верно схваты-
вает объективную суть дела, то она необходимо приведет к выво-
ду о некоторых новых, ранее не наблюдавшихся свойствах.
Одно дело, уже имея некоторую совокупность свойств, по-
добрать механизм, объясняющий их. Такой механизм может
быть подобран и в значительной степени произвольно, специ-
ально для этой совокупности. Другое дело, если механизм, пред-
ложенный для объяснения некоторой совокупности свойств,
оказывается объясняющим и совершенно иные эффекты, от-
нюдь не имевшиеся в виду при его создании. Это последнее воз-
можно только в том случае, когда выдвинутая гипотеза действи-
тельно содержит какой-то момент объективной истины.
Теория, обладающая объективной значимостью, обязательно
будет давать оправдывающиеся (подтверждающиеся) предсказа-
ния. Обратное, конечно, неверно. Многие в дальнейшем отверг-
нутые теории давали верные предсказания. Однако здесь надо
иметь в виду следующее. Ложное (оказавшееся ложным) теоре-
тическое построение дает оправдывающиеся предсказания либо
с помощью набора допущений ad hoc, либо за счет тех своих мо-
ментов, которые сохранили свою объективную ценность и в по-
следующем. Так, скажем, гипотеза теплорода тоже приводила к
ряду верных предсказаний, потому что между тепловыми про-
цессами и течением некоей невесомой жидкости, постулировав-
шейся гипотезой теплорода, действительно существует некото-
рое, хотя и ограниченное, сходство. Но круг верных предсказа-
ний ложной гипотезы всегда узок и ограничен, тогда как
истинная гипотеза приводит ко многим и разнообразным новым
следствиям.
Вопросы, связанные с ролью новых следствий, с анализом
предсказательных возможностей теоретических построений,
оживленно обсуждаются в современной методологической лите-
ратуре. Особое внимание уделяется им в школе К. Поппера. Для
Поппера и развиваемой им доктрины фальсификационизма (де-
лающей акцент не на подтверждении гипотез, а прежде всего на
484
Часть II. Глава 17
их опровергаемости) в центре внимания оказываются именно
предсказательные возможности.
И. Лакатос [Лакатос] вообще вводит новую демаркацион-
ную линию в философии: все прошлые методологические под-
ходы к научному знанию и стандартам «интеллектуальной чест-
ности» могут быть названы джастификационизмом («оправда-
тельской» точкой зрения); радикально новый подход дает
фальсификационистская точка зрения. Для моих целей сейчас
не важна оценка этой демаркации, а важно другое: фальсифи-
кационистский подход действительно акцентирует внимание на
предсказательных возможностях теоретических конструкций
(подробнее см. п. 6.1).
Действительно, в джастификационистских (если воспользо-
ваться термином И. Лакатоса) традициях вывод предсказаний не
является непременной чертой научного исследования. К уже
упоминавшимся Д.С. Миллю и М.И. Каринскому можно доба-
вить и современных авторов. И. Лакатос приводит очень харак-
терное заявление Дж. Кейнса: «Специфическое достоинство
предсказания является совершенно мнимым... предлагается ли
отдельная гипотеза на обсуждение до или после испытания (ее
примеров), совершенно не относится к делу» [Lakatos, р. 394].
Если все дело в том, чтобы установить, какова степень веро-
ятности гипотезы в свете всех могущих быть представленными
фактов, то действительно безразлично, получены эти факты до
или после выдвижения гипотезы. Иное дело, если акцент делает-
ся на фальсифицируемости гипотезы. Здесь совершенно необхо-
димо получение новых следствий, оно составляет имманентную
черту научного исследования.
Гипотеза должна оцениваться по ее способности быть опро-
вергнутой. И вместе с тем если она фактически опровергается,
то от нее должны отказываться1. В доктрине фальсификацио-
низма на щит поднимается не уже опровергнутая гипотеза, а ги-
потеза, обладающая способностью быть опровергнутой. Но спо-
собность быть опровергнутой (еще не будучи таковой в настоя-
щий момент) — это и есть просто другое наименование
способности делать предсказания, способности продуцировать
новые следствия, которые могут быть испытаны экспериментом.
В джастификационистской традиции продуцирование новых
1Я пока отвлекаюсь от тонких нюансов процедуры отказа.
485
Философия науки
следствий было привходящим для теоретической конструкции
моментом; в фальсификационистской традиции оно становится
ее (теоретической конструкции) внутренней и неотъемлемой
чертой.
В связи с этим уместно более подробно остановиться на ха-
рактеристике фальсификационизма (в контексте анализа пред-
сказательной силы теоретических конструкций).
Излагая (и уточняя) взгляды Поппера (и свои собственные),
И. Лакатос вводит несколько ступеней (градаций) приемлемости
теорий («включения теорий в тело науки»).
Приемлемость^ характеризует предварительную приемле-
мость теорий, приемлемость, предшествующую проверке1. За-
ключается она в том, что выдвигаемая теория (Т2) продуцирует
новые эмпирически проверяемые следствия по сравнению с
предшествовавшей «фоновой» {background) теорией — 7\ (т. е.
теорией, на фоне которой выдвинута новая теория — Т2)2. Эти
новые следствия образуют тем самым избыточное (по сравне-
нию с фоновой теорией) эмпирическое содержание (или просто
«избыточное содержание», или «избыточную информацию», или
«избыточную фальсифицируемость») [Ibid.].
Для более наглядной характеристики этой черты может быть
использовано также слово «смелость»: теория является тем более
смелой, чем большим избыточным содержанием она обладает
относительно фоновой теории. В позднее разработанной Лака-
тосом концепции методологии исследовательских программ эта
черта теорий получает название «теоретически прогрессивного
сдвига проблемы» (см. п. 6.4).
Приемлемость! связана с последующим эмпирическим испы-
танием теории, т. е. с опытной проверкой и подтверждением ра-
нее сделанных предсказаний. «Теория является «подтвержден-
ной», если она проваливает некоторую фальсифицирующую ги-
потезу, т. е. если некоторое следствие теории выдерживает
жесткую проверку. Тогда она становится «приемлемой^ для
науки» [Ibid., р. 371]. Причем «для приемлемости факты, кото-
1 «Мы можем называть приемлемость] предварительной приемлемостью, так
как она предшествует проверке» [Lakatos, р. 376].
2 «Фоновая теория могла не быть отчетливо сформулирована в то время, ко-
гда новая теория выдвигается, но в таких случаях она может быть легко реконст-
руирована» [Ibid., р. 375].
486
Часть II. Глава 17
рые теория выдвигает для объяснения (т. е. которые открыты до
осуществления проверки), не относятся к делу»1.
При этом Лакатос настаивает на том, что подтвержденное
следствие должно приниматься в зачет в том, и только в том слу-
чае, если оно продуцируется испытываемой теорией и не следует
из некоторой фоновой теории. Он пишет: «...для Поппера новая
проверка теории Эйнштейна может быть «строгой», даже если ее
результат подтверждает также и теорию Ньютона. В моей струк-
туре такая проверка есть «строгий» тест скорее теории Ньютона,
чем теории Эйнштейна» [Ibid., р. 382].
Мне это замечание представляется или тривиальным, или
слишком ригористичным. Если речь идет о новых следствиях (а
речь идет именно о них, так как вопрос о приемлемости встает
лишь для теорий приемлемых|), то это следствие не продуциро-
валось старой теорией до выдвижения новой. Если же после по-
лучения данного следствия из новой теории оно также может
быть получено и из старой (как правило, с какими-то добавле-
ниями ad hoc, а если даже и без них, то все равно по каким-то
путям, на которые впервые указала новая теория), то было бы
слишком ригористично рассматривать его подтверждение как
прежде всего подтверждение этой старой теории.
Итак, приемлемости связана с подтверждением предсказы-
ваемых теорией фактов: «точно так же как «приемлемость]» от-
носится к избыточному содержанию, «приемлемости» относит-
ся к избыточному подтверждению» [Ibid., р. 381]. В методологии
исследовательских программ она получает название «эмпириче-
ски прогрессивного сдвига проблем».
Реальный процесс оценки теорий, их принятия и отбрасыва-
ния является весьма сложным и многосторонним. Я хочу проил-
люстрировать эту сложность и возможность различных подхо-
дов, воспользовавшись примером — схемой И. Лакатоса [Ibid.,
р. 388—390] (с некоторыми изменениями обозначений и допол-
нениями).
l[Ibid., р. 391]. На мой взгляд, этот тезис сформулирован чересчур катего-
рично. В свете того, что я писал выше, разбирая пример с движением перигелия
Меркурия, важна не «абсолютная» новизна фактов, а их «невхождение» в круг
исходных фактов, принимающих непосредственное участие в построении тео-
рии.
487
Философия науки
1. Пусть есть некоторая исходная теория То, которая
приемлема2 (т. е. подтверждены некоторые ее эмпирические
предсказания). Теперь пусть она опровергается некоторыми
данными ё0 (т. е. То продуцировала е0, и ео не имеет места (ё0).
В «теле науки» допускаются То и ё0 (пока нет лучшей, чем То тео-
рии, наука сохраняет и То, и ё0, хотя бы они и противоречили
друг другу).
В символической нотации:
То -* <?о (1); е0; {То , во} (2)
(здесь «-»» означает дедуктивное следование, черта над буквой —
отрицание, а фигурные скобки — «включение в тело науки» в
смысле приемлемости2).
2. Предложена Д, которая приемлема! и позволяет вывести
все истинное содержание То (т. е. кроме результата е0), а также
результат е0, но ее избыточное содержание (еО не находит под-
тверждения (имеет место ё1).
Имеем
Г, -» То А ё0 л е, (3); ё,.
Что включать в «тело науки»? Лакатос разбирает две «моде-
ли» — Поппера и Агасси.
«Модель Поппера»:
{То, е0, в[} (4)
«Модель Агасси»:
{Ъ, е.} (4')
(здесь и дальше знак «л» символизирует конъюнкцию без проти-
воречия, а «,» просто сосуществование).
3. Предложена Т2. Она приемлема! и позволяет вывести все
истинное содержание Т\ (т. е. все, кроме результата е\), а также
ё], но ее избыточное содержание (е2) не подтверждается (имеет
место ё2). Имеем
Тг -» Т] Л ё, л е2 (5); ё2.
488
Часть II. Глава 17
Тогда в «модели Поппера»:
{То, ё0, ё2} (6)
в «модели Агасси»:
{Т2, ё2} (6')
Какую из этих «моделей» предпочесть?
В «модели Поппера» 7\ и Т2 не принимаются серьезно в рас-
чет, они представляют «конвенционалистские уловки» с целью
создать видимость теоретического благополучия там, где на са-
мом деле есть теория (То) и противоречащие ей факты (ё0, ё\, ё2).
Действительно, при более внимательном рассмотрении ясно,
что в формуле (3) выражение «То Л ё0» само по себе незаконно,
так как в силу формулы (17.1) То и ё0 несовместимы (аналогично
и в (5) в силу (3) незаконно выражение «7\ Л ё,»). Это происхо-
дит потому, что в состав Т\ входит некоторое специальное допу-
щение ho, делающее возможным согласование Тй с ё0 (а в Т2 вхо-
дит йь согласующее Т\ с ё]). Это означает, что мы вводим в
состав науки гипотезы ad hoc исключительно для целей согласо-
вания исходной теории с отрицательным результатом проверки.
Поэтому если развернуть формулы, выражающие «модель
Агасси», то мы получим
{То, Йо, ёД (4"),
так как Т\ есть фактически конъюнкция То и йо1;
{Го, Ао, Аь ё2} (6"),
так как Г2 есть фактически конъюнкция Т\ и Аь
1 Строго говоря, в этом утверждении, как и вообще в тезисе, что добавление
к теории (То) некоторой ad hoc гипотезы (/?о) позволяет избежать получаемого из
теории и противоречащего опыту результата (во), есть обычно незамечаемая ло-
гическая некорректность (на которую обратил внимание В.А. Смирнов). Дело в
том, что если из некоторой совокупности посылок (То) выводится следствие (во),
то оно тем более будет выводиться из конъюнкции То с чем угодно (в том числе и
с Ло)- Корректная формулировка обсуждаемого тезиса должна утверждать, что
Для получения следствия ёо ad hoc гипотеза (/?о) не просто добавляется к исход-
ной теории То, а должна «дезавуировать» в ней те положения (/i,..., 4) из числа
образующих теорию положений (/ь ..., ,..., tn), которые были «ответственны»
за получение результата ёд. Таким образом, во получается не из конъюнкции То и
Ао, а из конъюнкции части То (т. е. положений /к+1, . . ., tn) и ho.
489
Философия науки
Сравнение формулы (4") с формулой (4) и (6”) — с формулой
(17.6) показывает сходство «модели Агасси» с «моделью Поппе-
ра», только в первой вместо фактов (ё0 и ё}) стоят «объясняю-
щие» их гипотезы ad hoc (й0 и hi).
Однако в защиту «модели Агасси» можно привести следую-
щую аргументацию. Давайте представим, что вместо ряда То, Т},
Т2, где сменяющие друг друга теории не имеют никакого под-
твержденного избыточного содержания, мы возьмем ряд То, Т2,
где Т2 обладает относительно То и избыточным подтверждением,
так как она предсказывает и ё] и е2 (где ё{ подтверждается).
Лакатос, приводя этот аргумент, расценивает его «как сам по
себе интересный» [Lakatos, 1968, р. 391]. Мне кажется, что аргу-
ментацию Лакатоса против «модели Агасси» можно усилить, ис-
пользовав примененное мной «раскрытие фигурных скобок».
Действительно, с учетом (17.4") и (17.6") ясно, что Т2 может
предсказать подтверждаемый результат ёь только вводя в свой
состав гипотезу h\, не имеющую избыточного подтверждения.
А значит, избыточное подтверждение, которым якобы обладает
Т2, — лишь иллюзия. Хорошей иллюстрацией этих абстрактных
рассуждений может быть уже рассматривавшийся пример с «два-
жды подправленной теорией эфира» (см. п. 17.1).
Оценивая «модель Поппера», конечно, надо понимать, что
она рисует отнюдь не идеальную ситуацию. Ряд То, ё0, ё\, ё2, ко-
нечно, вызывает чувство, используя выражение Нагеля, «интел-
лектуального дискомфорта» и стремление выработать хорошую
новую теорию. Но пока такой теории нет, наука работает со ста-
рой теорией (То), до поры до времени «мирясь» с противореча-
щими ей данными ё0, ёь ё2. Хорошую иллюстрацию в связи с
этим дает И. Лакатос, и я позволю себе привести довольно длин-
ный отрывок.
«...Теории редко проходят строгую проверку своего нового
содержания с развевающимися знаменами; даже самые лучшие
теории никогда не могут получить «точного подтверждения»—
Теории, несмотря на то что они не удовлетворяют всем своим
проверкам количественно, часто проходят некоторые из них
«качественно»:'и если они ведут к новым фактам, тогда, согласно
нашему определению, они все еще могут быть «приемлемыг»-
Согласно определению подтверждаемости Поппера, теория или
подтверждается, или опровергается. Но даже наилучшие теории
не имеют возможности подтвердиться на базе строгих «точных»
490
Часть II. Глава 17
стандартов Поппера; действительно, большинство теорий рож-
дается опровергнутыми» [Ibid., р. 384—385].
Дальнейшим развитием изложенных идей явилась разрабо-
танная И. Лакатосом методология исследовательских программ.
17.4. Принципиальная простота
О простоте можно говорить в самых различных смыслах. Часто
выделяют три вида простоты: лингвистическая, или синтаксиче-
ская (связана с используемыми теорией языковыми средства-
ми), семантическая (связана со смыслом входящих в теорию
языковых выражений) и прагматическая (связана с использова-
нием теории). Наряду с этими видами говорят также о простоте
гносеологической, эвристической, индуктивной, принципиаль-
ной, имея в виду примерно одно и то же. Я буду пользоваться
преимущественно последним из этих терминов.
Конечно, верно, что признание теории есть «результат ком-
промисса», но факторы, участвующие в компромиссе, далеко не
равноценны. Это, однако, не означает, что простота «имеет вто-
ростепенное значение».
О простоте как важнейшем свойстве, характеризующем ги-
потезу или теорию (сейчас неважно их различие), неоднократно
писали многие крупнейшие мыслители и ученые. Я позволю се-
бе привести ряд ссылок.
В первом издании «Математических начал натуральной фи-
лософии» И. Ньютон формулирует основные правила философ-
ских (в принятом тогда в Англии смысле это означает: естествен-
но-научных) умозаключений. Первое правило гласит: «Не долж-
но требовать в природе других причин сверх тех, которые
истинны и достаточны для объяснения явлений. По этому пово-
ду философы утверждают, что природа ничего не делает напрас-
но, но было бы напрасным совершать многим то, что может
быть сделано меньшим. Природа проста и не роскошествует из-
лишними причинами вещей» (цит. по: [Вавилов, 1956, с. 386]).
Лаплас писал, что он постоянно разыскивал «ту прекрасную
Простоту, которая пленяет нас в средствах, употребляемых при-
родой» (цит. по: [Навиль, 1882, с. 176]).
Создатель волновой оптики, по единодушному признанию
Историков, один из талантливейших физиков мира, О. Френель,
491
Философия науки
отмечал, что природа как бы стремится «сделать многое малым
или через малое; это — принцип... который совершенствование
физических наук подкрепляет непрестанно новыми доказатель-
ствами» [Там же, с. 181].
Один из видных физиков-теоретиков XX в. Хидеки Юкава на
IX Международной конференции по физике высоких энергий в
1959 г. сказал: «Почти 30 лет тому назад я верил в простоту при-
роды. С тех пор природа доказала нам, что она намного сложнее
по содержанию, чем мы думали. Несмотря на это, я и сейчас
продолжаю верить, что природа в своей основе проста» [Баже-
нов, 1978, с. 125]. Этот список можно продолжать как угодно
долго. Но ясно и так, что на уровне «рефлексии естествоиспыта-
телей» принцип простоты находит широкое признание.
Встает вопрос: каков статус принципиальной простоты?
В чем источник простоты теорий и какова сама эта простота?
Принципиальная простота не связана непосредственно и жестко
ни с лингвистической, ни с семантической, ни с прагматиче-
ской. Под ней не следует понимать ни легкость выразительных
средств теории, ни легкость ее усвоения или интуитивную яс-
ность и наглядность. Но все это пока отрицательные характери-
стики: они говорят, чем принципиальная простота не является.
Для того чтобы дать позитивный ответ, рассмотрим некото-
рые примеры-иллюстрации. Обычно, говоря о простоте, берут в
качестве примера сравнение концепций Коперника и Птолемея.
И хотя в последнее время в историко-научной литературе выска-
зываются сомнения насчет действительной простоты концепции
Коперника (см., например, [Kuhn, 1957, р. 126]), они направле-
ны скорее против чрезмерно высокой оценки степени этой про-
стоты, чем против самого тезиса: теория Коперника проще (в це-
лом ряде отношений) теории Птолемея. Поэтому я рискну вос-
пользоваться этим примером, тем более что он мне нужен как
иллюстрация, а не с целью скрупулезного воспроизведения ре-
ального хода познания.
Итак, сопоставим друг с другом гелиоцентрическую и гео-
центрическую теории. По геоцентрической теории в центре пла-
нетной системы находится Земля, вокруг которой вращаются
Луна, Солнце и планеты. При сопоставлении этой теории с дан-
ными астрономических наблюдений стало, однако, обнаружИ'
ваться глубокое расхождение между наблюдаемыми путями пла-
нет и их теоретически предсказываемыми орбитами. Движения
492
Часть II. Глава 17
планет не были круговыми, а оказывались весьма запутанными,
зигзагообразными. Планета то двигалась вперед, то вдруг необъ-
яснимо повертывала назад, то начинала двигаться в сторону и т. д.
Для согласования геоцентрической системы с фактическим
материалом в нее было введено новое допущение. Было предпо-
ложено, что планеты не движутся непосредственно вокруг Зем-
ли, а обращаются по малому кругу (эпициклу) вокруг некоторой
точки, движущейся по большому кругу (деференту) вокруг Зем-
ли. Такое допущение давало возможность как-то объяснить ви-
димые попятные движения планет. Но оно вскоре оказалось не-
достаточным. Тогда к уже имеющемуся эпициклу добавили вто-
рой эпицикл. Планета движется по одному эпициклу вокруг
точки, движущейся по второму эпициклу вокруг новой точки,
движущейся по деференту вокруг Земли (см. сх. 17.3). Для неко-
торых планет число эпициклов достигало нескольких десятков, а
их радиусы (и все вообще размеры в системе) носили совершен-
но произвольный характер.
Столь произвольные и искусственные ухищрения, носящие
явный характер допущений ad hoc, создавали ничем не оправды-
ваемую сложность и, никак не вытекая из основного тезиса гео-
центрической теории, свидетельствовали о ее искусственности1.
С другой стороны, гелиоцентрическая теория Коперника,
поставив в центр Солнце, покончила с этими ухищрениями (ре-
альная история, конечно, сложнее этого схематичного примера.
Схема 17.3
1 Широко известен исторический анекдот, повествующий о том, что испан-
ский инфант (в дальнейшем король Альфонс X Мудрый), изучая систему Птоле-
мея, остроумно заметил, что если бы Господь Бог, создавая мир, посоветовался с
Ним, то он рекомендовал бы устроить мир попроще.
493
Философия науки
Коперник сохранил круговые орбиты планет и, правда в мень-
шем количестве, — эпициклы). В дальнейшем в теорию Копер-
ника, конечно, вносились изменения: отказались от эпициклов,
ввели эллиптические орбиты. Но это было развитием основного
ядра концепции Коперника, а не внесением допущений ad hoc.
Теперь «поэксплуатируем» еще раз (последний!) «расселов-
скую модель» N =f(t). Номер нового такси, только что взятого
мной, не будет укладываться в эту формулу, но, включая этот но-
мер и соответствующий момент времени в исходные данные,
можно так изменить функцию/ введя в нее какие-то поправоч-
ные коэффициенты, новые члены и т. д. (т. е. введя в нее гипоте-
зы ad hoc), чтобы опять имело место N =f '(t), и т. д. для каждого
нового номера. Принципиальная порочность этой процедуры
состоит как раз в том, что здесь мы каждый раз подгоняем фор-
мулу к имеющимся данным. Наша «теория» не способна пред-
сказать ни одного последующего случая, хотя и может быть пу-
тем математических ухищрений так изменена, что post factum
включит и этот случай.
На этой «модели» хорошо видна связь рассматриваемых ме-
тодологических регулятивов друг с другом. Наша «теория» имеет
нулевую общность, она не способна предсказать ни одного но-
вого случая и, для того чтобы быть согласованной с «данными
наблюдения», должна постоянно видоизменять свое исходное
уравнение, постоянно вводя в него все новые и новые произ-
вольные допущения, постоянно обрастая гипотезами ad hoc.
Теперь можно попробовать дать определение принципиаль-
ной простоты: принципиальная простота теории состоит в ее
способности, исходя из сравнительно немногих оснований и не
прибегая к произвольным допущениям ad hoc, объяснить наи-
возможно широкий круг явлений. Сложность теории, свидетель-
ствующая против нее, состоит в наличии многих искусственных
и произвольных допущений, никак не связанных с основными
ее положениями и превращающими теорию в целом в вычурное
и крайне громоздкое сооружение.
Под принципиальной простотой теории понимается именно
и только простота ее «ядра» (И.В. Кузнецов), «фундаментальной
теоретической схемы» (В.С. Степин), «класса фундаментальных
теоретических постулатов» (Э. Нагель) и т. д., простота в смысле
минимально возможного числа исходных постулатов, соотне-
сенных с максимально широким кругом приложений. В опреД6'
ленном смысле принципиальная простота теории оказывается
494
Часть II. Глава 17
необходимо сопряженной с ее сложностью (но, конечно, совсем
в другом смысле).
В каждой достаточно развитой теории имеется некоторой
длины логическая цепочка, ведущая от фундаментальных посту-
латов теории через разнообразные их спецификации к данным
наблюдения. Чем абстрактнее теория, тем длиннее эта логиче-
ская цепочка. Ее можно, используя термин М. Бунге [Bunge,
1963, р. 11], назвать эпистемологической глубиной теории. И хо-
тя эпистемологическая глубина может быть точно определена и
измерена, видимо, лишь в строго аксиоматизированных теори-
ях, представляется интуитивно оправданным связать ее с неко-
торой характеристикой теории, которую, вслед за Эйнштейном,
можно назвать формальной сложностью теории.
Эту диалектику принципиальной простоты и формальной
сложности теории проницательно отметили А. Эйнштейн и
Л. Инфельд, объясняя программу создания ОТО: «Новые труд-
ности, возникающие в процессе развития науки, вынуждают на-
шу теорию становиться все более и более абстрактной... К логи-
ческой цепи, связывающей теорию и наблюдение, прибавляются
новые звенья. Чтобы очистить путь, ведущий от теории к экспе-
рименту, от ненужных и искусственных допущений, чтобы охва-
тить все более обширную область фактов, мы должны делать
цепь все длиннее и длиннее. Чем проще и фундаментальнее ста-
новятся наши допущения, тем сложнее математическое орудие
нашего рассуждения; путь от теории к наблюдению становится
длиннее, тоньше и сложнее. Хотя это и звучит парадоксально, но
мы можем сказать: современная физика проще, чем старая физика,
и поэтому она кажется более трудной и запутанной» [Эйнштейн,
1967, с. 492—493]. «Уравнения новой теории с формальной точ-
ки зрения сложнее, но их предпосылки, с точки зрения основ-
ных принципов, гораздо проще» [Там же, с. 508].
Теперь рассмотрим вопрос об объективном статусе принци-
пиальной простоты. Своеобразную его трактовку дал Э. Мах сво-
им известным «принципом экономии мышления», рассматри-
вавшимся последним как краеугольный камень своих философ-
ских воззрений1 (см. также п. 3.2).
1 Насколько мне известно, одна из первых попыток в советской философ-
ской литературе «реабилитировать» принцип простоты, ранее неправильно ото-
ждествлявшийся с принципом экономии мышления Маха, была предпринята в
Моей работе [Баженов, 1961, с. 22—32].
495
Философия науки
В возникновении принципа экономии мышления можно
констатировать два источника. Один из них образовала вульгар-
ная аналогия с биологией и экономической наукой. Мах и сам
не скрывает этого [Мах, 1909, гл. XIII], говоря, что на мысль об
этом принципе его навели беседы с одним экономистом по во-
просам образцового ведения хозяйства. В чем секрет образцово
поставленного хозяйства, спрашивает Мах, и отвечает: в эко-
номном использовании всех тех средств, которые имеются. Не-
что подобное делает и наука. Она просто наиболее экономным
образом описывает множество фактов. Законы природы, по Ма-
ху, — это просто экономное описание фактов. Одно и то же, го-
ворит он, закон Галилея и таблица со значениями пути и време-
ни свободно падающего тела. «Вся загадочная мощь науки» сво-
дится к «экономическому упорядочиванию» [Там же, с. 160].
Вторым источником принципа экономии явилась действи-
тельно присущая научным теориям простота, абсолютизирован-
ная Махом. Простота теории из следствия ее истинности была
превращена в причину совершенно аналогично тому, как, на-
пример, прагматизм практическую значимость теории из следст-
вия ее истинности превращает в причину этой истинности.
Для материалиста1 та или иная концепция объективно ис-
тинна, и потому она доказывается практикой, оправдывается на
практике, приводит к успеху в практической деятельности. Для
прагматиста, наоборот, теория потому истинна, что она приво-
дит к успеху. Именно успех и делает теорию истинной.
То же самое происходит и с простотой теории. Для нас теория
потому обладает простотой, что она истинна. Для Маха, наобо-
рот, именно простота и делает теорию истинной. Даже больше
того: для Маха истинность теории сводится к ее простоте, послед-
няя просто замещает первую; из своеобразного «индикатора» ис-
тинности простота становится ее воплощением.
Если обратиться к рассмотренному выше сравнению теорий
Птолемея и Коперника, то позицию Маха можно представить
следующим образом.
Теория Коперника проста в сравнении со сложной и гро-
моздкой системой Птолемея. Для материалиста теория Копер-
ника потому проста, что она истинна. Для махиста же и теория
1 То же самое можно сказать и о позиции реалиста, впрочем, материалист
рсегда реалист. — Примечание редактора.
496
Часть II. Глава 17
Птолемея, и теория Коперника — в равной степени создания
ума для упорядочения фактов. Теория Птолемея делает это
слишком сложно, не экономно, поэтому мы отбрасываем ее.
Теория Коперника делает это проще, более экономным образом,
поэтому мы ее оставляем и считаем истинной, имея под этим в
виду ее простоту, и только.
Принцип экономии мышления — принцип явно субъективи-
стский. Согласно ему простота теории вытекает не из каких-ли-
бо объективных оснований, а исключительно из особенностей
субъекта.
В XVII—XVIII вв. среди естествоиспытателей господствовало
убеждение в абсолютной простоте природы, простоте в смысле
наличия неких последних и дальше ни на что не разложимых не-
многих сущностей, из которых все остальное может быть одно-
значно выведено. Это убеждение было явно метафизическим и,
как правило, находило свое выражение в вере в механический
характер всех происходящих явлений. Но к концу XIX в. это убе-
ждение в абсолютной простоте природы было существенно по-
колеблено, а вера во всеобщую значимость механики подорвана.
Так, А. Пуанкаре справедливо отмечал в конце XIX в.: «Пол-
века тому назад являлось общераспространенным убеждение,
что природа любит простоту. С тех по£ мы имели от нее много
Опровержений; ныне мы такого стремления уже не приписываем
ей» [Пуанкаре, 1904, с. 145].
Концепцию онтологической простоты, простоты, понимае-
мой как некая характеристика природы самой по себе, как некий
атрибут объективно сущего, — эту концепцию в наши дни мож-
но рассматривать как почти полностью утратившую доверие. Бо-
лее того, если в каком-то смысле применять характеристики
простоты и сложности к реальным процессам, то скорее следует
говорить об объективной сложности.
Достаточно в связи с этим указать хотя бы на кибернетику и
Теорию информации, рассматривающие сложность как некото-
рую объективную характеристику систем. Здесь уместно сослать-
ся на Дж. фон Неймана (см. [Нейман]), положившего понятие
сложности в основание теории автоматов и на его базе развивше-
го концепцию самовоспроизведения автоматов, или на У.Р. Эшби
(см. [Эшби]), охарактеризовавшего кибернетику как метод под-
хода к системам, которые «побивают нас своей сложностью».
В этом же принципиальном русле лежат и высказанные И.А. Ак-
497
Философия науки
чуриным (см. [Акчурин]) идеи о неизбежном возрастании инфор-
мационной емкости абстрактных математических пространств,
необходимых для описания возрастающей сложности объектов,
с которыми имеет дело познание.
Однако все это не означает, что и теория должна быть слож-
ной, если сложен ее предмет. Как раз наоборот — наши теорети-
ческие конструкции должны обладать такой гносеологической ха-
рактеристикой, как принципиальная простота, именно для того,
чтобы справиться со сложностью реального мира.
Принципиальная простота теоретических концепций, буду-
чи гносеологической характеристикой, конечно, имеет объек-
тивные основания, и, на мой взгляд, здесь можно выделить два
(связанных между собой) аспекта этих оснований. -
Первый аспект связан с тем тривиальным в материализме (но
игнорируемым в неопозитивистской традиции) обстоятельст-
вом, что теория несет в себе объективно-истинное содержание.
Проблема принципиальной простоты (в русле материалистиче-
ской традиции, конечно) должна анализироваться не в нарочи-
той изоляции от проблемы объективности истины, а в неразрыв-
ной связи с ней.
С этой точки зрения вопрос об источнике принципиальной
простоты теории становится совершенно ясным; источник, ос-
нование принципиальной простоты теории — ее объективная
истинность. Чем «ближе» теория к объективной истине, чем
больше она содержит ее моментов, тем «большей» принципиаль-
ной простотой она обладает.
Я отдаю себе отчет в том, что приведенная формулировка,
конечно же, упрощает ситуацию. Выражения «ближе», «боль-
шей» потому и взяты в кавычки, что они в этом контексте имеют
сугубо интуитивный смысл: степень «близости» теории к объек-
тивной истине или степень принципиальной простоты — каче-
ственные характеристики и не допускают количественного оп-
ределения. Теории не пассивные изображения реальности как
таковой, а свободные изобретения человеческого ума1. Все это
1 Однако небезынтересно отметить, что А. Эйнштейн, может быть, больше,
чем кто-либо другой, отстаивавший этот тезис, вместе с тем подчеркивал, что
«никто из тех, кто действительно углублялся в предмет, не станет отрицать, что
теоретическая система практически однозначно определяется миром наблюДе'
ний, хотя никакой логический путь не ведет от наблюдений к основным принци-
пам теории» [Эйнштейн, т. IV, с. 41].
498
Часть II. Глава 17
верно. И при всем при этом данная формулировка схватывает
главное, основное (наверное, ее можно выразить аккуратнее, но
это уже другой вопрос). Если позволить себе некоторую воль-
ность и использовать математическую аналогию, то можно ска-
зать, что она (обсужденная формулировка) образует первую гар-
монику «Фурье-разложения принципиальной простоты»: она
дает грубое, но зато первое и главное приближение.
Почему это так, становится понятным, если мы вспомним
определение принципиальной простоты. Неадекватная теория,
для того чтобы быть согласованной с данными наблюдения,
должна будет постоянно вводить в свой состав различные допу-
щения ad hoc, различные посторонние прибавления (и тем са-
мым утратит принципиальную простоту, которой, может быть, и
обладала вначале). Истинная теория дает (используя слова Ф. Эн-
гельса, правда, сказанные в другой связи) «просто понимание
природы такой, какова она есть, без всяких посторонних при-
бавлений...» [Маркс, 1955—1973, т. 20, с. 513]. В этом «без всяких
посторонних прибавлений» как раз и состоит принципиальная
Простота теории.
Второе объективное основание принципиальной простоты
связано с иерархической структурой реальности, состоящей в
том, что за многообразием явлений всегда лежит некоторая об-
щая их основа, находящая выражение в основных постулатах
теории1. Эти основные постулаты, выражающие законы, всегда
проще явлений хотя бы в том тривиальном (но тем не менее важ-
ном) смысле, что теория, которая давала бы просто полную за-
пись всех явлений, имела бы нулевую ценность. «Ценность тео-
рии заключается, очевидно, в ее свойстве быть более простой,
чем простая регистрация наблюдений» [Франк, 1960, с. 515].
Движение науки по ступеням иерархии постоянно обнару-
живает в основе сложного простое, а в основе простого — слож-
ное. При этом нет совсем никакой нужды отыскивать мнимую
последнюю инстанцию.
Итак, принципиальная простота теории вытекает не из на-
ших особенностей как субъектов познания, а обусловлена объ-
1 Мне сейчас неважно то, что об этой структуре мы знаем только через по-
средство наших теорий, что наши конкретные представления о ней есть, в неко-
тором смысле, результат «опрокидывания на реальность» иерархической струк-
туры теории.
499
Философия науки
ективной структурой мира, единством различных явлений, со-
стоящим в подчинении их некоторым общим для них законам.
В этом — второй аспект объективных оснований простоты науч-
ных концепций.
Мы видели, что принципиальная простота теории связана с
ее объективной истинностью, и потому учет этой связи чрезвы-
чайно важен при решении вопроса о природе простоты. Но при
решении другого не менее важного вопроса об эвристических и
критериальных функциях принципа простоты необходим другой
подход. Идти от объективной истинности теории к ее простоте
здесь просто бессмысленно, так как, если мы уже знаем, что тео-
рия истинна, нам незачем оценивать ее простоту. Но в том-то и
дело, что как в период построения теории, так и долгое время
спустя мы часто оказываемся не в состоянии решить вопрос о ее
истинности. В этих ситуациях важную роль призван играть
принцип простоты.
Предварительно необходимо заметить, что, во-первых,
принцип простоты никогда не применяется к какой-либо от-
дельно взятой теории — он всегда предполагает сравнительную
оценку нескольких конкурирующих (т. е. относящихся к одной и
той же предметной области) теорий. Даже в тех случаях, когда
кажется, что мы оцениваем принципиальную простоту отдель-
ной теории, все равно неявно присутствует ее отношение к неко-
торой фоновой теории (которая может быть при желании рекон-
струирована).
Во-вторых, сравниваемые по простоте теоретические по-
строения должны быть эмпирически эквивалентны. Я уже неод-
нократно подчеркивал, что согласие с опытом является conditio
sine qua non (совершенно необходимое условие). Без наложения
этого условия любая теория может быть сколь угодно простой
(ей не надо будет вводить никаких ad hoc гипотез, которые и вво-
дятся для ликвидации рассогласования с опытными данными)1.
Разумеется, требование эмпирической эквивалентности нельзя
1 Игнорирование требования эмпирической эквивалентности лежит в осно-
ве явных недоразумений, когда сравнивают неэквивалентные теории. Например,
берут Ньютонову теорию гравитации (в сфере ее компетенции) и ОТО (предмет-
ная область которой включает и Ньютонову сферу) и делают вывод, что первая
проще второй. Понятно, что такая процедура незаконна. Как только мы попр°"
буем распространить Ньютонову теорию на новую область, она сразу обрастет
лесом ad hoc гипотез.
500
Часть II. Глава 17
абсолютизировать; развивающиеся конкурирующие теории час-
то оказываются лишь приближенно эквивалентными (одна из
них может быть согласна с данными е\ и несогласна с е2, дру-
гая — наоборот). Но при всех оговорках сравниваться все же
должны эмпирически эквивалентные (хотя бы приближенно)
теории.
В-третьих, принципиальную простоту надо брать в развитии,
она носит не статический, а динамический характер. Тезис о ди-
намическом характере принципиальной простоты теории сам по
себе едва ли может быть признан новым и оригинальным — бо-
лее или менее вскользь он высказывался рядом авторов. Со-
шлюсь на двух.
«Если мы посмотрим, какие теории действительно предпо-
читались из-за их простоты, то найдем, что решающим основа-
нием для признания той или иной теории было не экономиче-
ское (сбережение времени и усилий. — Л.Б.) и не эстетическое
(красота, изящество. — Л.Б.), а скорее то, которое часто называ-
лось динамическим. Это значит, что предпочиталась та теория,
которая делала науку более динамичной, т. е. более пригодной
для экспансии в область неизвестного» [Франк, 1960, с. 513—514]
(курсив мой. — Л.Б.).
«Из двух теорий, объясняющих данный круг явлений, истин-
ная теория необходимо будет проще ложной. Ложная теория то-
же может объяснить тот или иной круг явлений, но для этого она
будет прибегать ко множеству произвольных допущений. Лож-
ная концепция статична: по мере открытия все новых и новых
сторон в объясняемой области она должна будет вводить все но-
вые и новые посторонние основания; она не сможет вывести их
(новые стороны) из своих исходных посылок. Напротив, истин-
ная теория динамична, способна к развитию; она объяснит но-
вые стороны ИЛИ ИЗ СВОИХ ИСХОДНЫХ ПОСЫПОК, или дополнит их
(исходные посылки) не посторонними допущениями, а уточ-
няющими коррективами» [Баженов, 1961, с. 24].
Аналогичные взгляды развивает Г. Шлезингер (см. [Schles-
inger, 1963, р. 8—44]). Приобретение в ходе развития одной из
первоначально одинаково простых гипотез большей простоты
по сравнению со своими конкурентами он удачно называет кри-
терием динамической простоты и формулирует эту концепцию,
Подвергая ее обстоятельному рассмотрению.
501
Философия науки
Суть динамической простоты может быть пояснена пример-
но следующим образом. Пусть есть две конкурирующие тео-
рии — 7) и Т2, в данный момент обладающие одинаковыми шан-
сами (одинаково подтвержденные и «одинаково» простые).
Пусть на следующей ступени получаются новые данные (е,), с
которыми согласуется Т\ и несовместима Т2. Для ликвидации
рассогласования сторонники Т2 введут в нее какое-то новое до-
пущение — h\. Следовательно, на этой второй ступени конкури-
ровать будут теории Т\ и T2h\. На третьей ступени новые данные
(е2) опять согласуются с 7) и несовместимы с T2h\. Новая моди-
фикация последней дает уже Т2 h2h\ и т. д. В ходе развития одна
теория (7)) сохраняет свою основную структуру; вторая (Т2) об-
растает лесом вспомогательных допущений, превращаясь в
Т2 h\h2,...,hn. Такое развитие означает, что Т2 утрачивает свою
первоначальную простоту и шансы на «выживание».
Таким образом, можно констатировать, что в ходе развития
знания из ряда первоначально более или менее одинаково про-
стых теорий выделится одна (7)), характеризующаяся наимень-
шим числом посторонних произвольных допущений и, следова-
тельно, обладающая наибольшей принципиальной простотой.
Бросая с этой ступени взгляд в будущее (когда одна из теорий
будет принята как истинная), можно сказать, что Т\ имеет наи-
большие шансы оказаться этой истинной теорией, так как она
является сейчас наиболее простой. Мысленно перенесясь в это
будущее и оттуда бросая ретроспективный взгляд на сложив-
шуюся ситуацию, мы скажем, что 7) содержит в наибольшей сте-
пени момент объективной истины и потому является более про-
стой.
С принципиальной простотой связан ряд более частных ре-
гулятивов, тесно к ней примыкающих. Прежде всего здесь может
быть назван принцип Рейхенбаха, или принцип элиминации универ-
сальных эффектов. Суть его может быть изложена следующим
образом1.
Надо различать дифференциальные эффекты и универсаль-
ные эффекты. «Если эффект является различным для различных
веществ, тогда он относится к дифференциальному эффекту. Ес-
ли он количественно остается тем же самым независимо от при-
1 Прекрасное изложение принципа Рейхенбаха дает Р. Карнап [Карнап, 1971>
с. 204-234].
502
Часть II. Глава 17
роды вещества, тогда он представляет универсальный эффект»
[Карнап, 1971, с. 230].
Примером дифференциального эффекта может служить теп-
ловое расширение стержня: / = /0 [1 + $(Т— То)].
Примером универсального эффекта может являться сокра-
щение стержня в гравитационном поле, создаваемом телом мас-
сы т, на расстоянии г.
1 = 1й
( т
- сI — cos
(г
где с — некоторая постоянная, а <р — угол между стержнем и прямой, со-
единяющей центр стержня и источник поля.
Универсальность этого эффекта в том, что постоянная с не
зависит от природы вещества, из которого сделан стержень, и в
формуле нет никаких параметров, которые учитывали бы эту
природу (р — коэффициент теплового расширения в первой
формуле — различен для различных веществ; если бы коэффи-
циент р был одинаков для всех веществ, тепловое расширение
было бы универсальным эффектом).
Свой принцип элиминации универсальных эффектов Г. Рей-
хенбах сформулировал, анализируя особенности общей теории
относительности в свете вопроса о выборе пути Эйнштейна (из-
менить геометрию, сохранив законы физики) и пути Пуанкаре
(сохранить геометрию, изменив законы физики).
Не входя в детали этой большой и сложной проблемы, суть де-
ла можно пояснить следующим примером [Там же, с. 205—206,
212—216], показанным на схеме 17.4.
Вообразим двумерный мир, в профиль изображенный по-
верхностью 5] (она представляет модель неевклидовой поверх-
Схема 17.4
503
Философия науки
ности). В этом мире живут двумерные существа, располагающие
твердыми стержнями, которые они могут перемещать по своей
поверхности. S2 изображает обычную евклидову плоскость. Ддя
описания движения твердого стержня из нештрихованного по-
ложения в штрихованное можно воспользоваться неевклидовым
языком Ту, принятым физиками в Sy, а можно взять евклидов
язык Т2, связанный с плоскостью S2. На Ту стержень, перемеща-
ясь из Ру в положение Р', не изменяет длины, но геометрия мира
неевклидова. На Т2 — мир евклидов, но стержень в положении
Р2' сократился (приведенная выше формула и выражала это со-
кращение). Физики могут выбрать язык Т2, и тогда они должны
изменить законы механики и оптики; они могут сохранить эти
законы и тогда должны заменить евклидов язык Т2 на неевкли-
дов язык Ту.
Выбор между этими альтернативами и осуществляется с по-
мощью принципа элиминации универсальных эффектов. По
этому пути пошел Эйнштейн: приняв соответствующую неевк-
лидову систему пространства-времени, он избавился от необхо-
димости говорить об универсальном эффекте сокращения и рас-
ширения тел в гравитационных полях.
Принципу Рейхенбаха может быть дана следующая формули-
ровка: «Всякий раз, когда имеется система физики, в которой ус-
танавливается некоторый универсальный эффект с помощью за-
кона, характеризующего, при каких условиях и какой величины
достигает этот эффект, эта теория должна быть преобразована
так, чтобы величина эффекта сводилась к нулю... Всякий раз, ко-
гда обнаруживаются универсальные эффекты в физике... их всег-
да можно элиминировать путем подходящего преобразования
теории. Такое преобразование должно быть сделано для того, что-
бы получить предельно простой результат» [Там же, с. 233].
Р. Карнап дает высокую оценку принципу Рейхенбаха, отме-
чая, что он может оказаться полезным и в новых ситуациях, «ко-
торые могут возникнуть в будущем, когда будут обнаружены
универсальные эффекты» [Там же, с. 234]. Эта оценка, по всей
видимости, не вызывает сомнения; она, кстати, принимается И
другими методологами1.
1 См., например, [Мамчур, с. 140—150]. Автор дает изложение принципа РеИ
хенбаха и приводит ряд примеров его действия.
504
Часть II. Глава 17
Другим важным регулятивом, который также, на мой взгляд,
связан со свойством принципиальной простоты теоретических
построений, является принцип, который я предлагаю назвать
Принципом Фейнмана, или принципом разнообразия эквивалент-
ных формулировок'. То обстоятельство, что Р. Фейнман неодно-
кратно обращается к этому принципу, свидетельствует, что это
це случайный каприз выдающегося физика и, как минимум, тре-
бует задуматься.
В основе формулировки принципа Фейнмана лежит хорошо
известный факт наличия в науке математически эквивалентных
формулировок многих фундаментальных законов и теорий. Ма-
тематически эквивалентны гейзенберговский (матричный),
трёдингеровский (волновой) и фейнмановский формализмы в
квантовой механике. Электродинамику можно построить на
основе дифференциальных уравнений Максвелла, на основе
различных принципов наименьшего действия без полей. Клас-
сическая механика допускает эквивалентные формулировки
Йьютона, Лагранжа и Якоби—Гамильтона. Закон всемирного
тяготения может быть записан в ньютоновской форме, в виде
уравнения Пуассона (локальная полевая формулировка) и через
Принцип минимума. '
* Есть ли в этом разнообразии формулировок какой-то «тай-
ный» смысл? Р. Фейнман показывает, что есть.
* Он начинает с характеристики некоторых особенностей раз-
вития физики, отмечая, что из двух путей — «вавилонского» (из-
вестны самые разные теоремы, многие связи между ними, но нет
Юдиной и единственной аксиоматической системы) и «греческо-
й>» (единая, с претензией на единственность система аксиом) —
|гя физики предпочтителен первый2. И вот почему.
т---------
S< *См.: [Фейнман, 1968, с. 55, 207, 230—231]. Проблема эквивалентных описа-
Йй широко обсуждалась Г. Рейхенбахом (Philosophical Foundations of Quantum
fyethanics, 1946) и анализировалась в нашей литературе (см., например: Фо-
Е.И, Проблема множественности эквивалентных описаний // Вопросы фи-
Фсофии и социологии. Вып. IV. Л., 1972; Золотарев В.К. К вопросу об эквива-
лентных описаниях в физике // Некоторые философские вопросы современного
жествознания. М., 1974). Как будет видно из дальнейшего, меня интересует
ВШь один аспект этой проблемы, и я не претендую на сколько-нибудь полное ее
усмотрение.
В 2О роли в физике аксиоматического метода см.: Омелъяновский М.Э. Диалек-
Jfca в современной физике, гл. X. Автор отмечает, что «соображения об аксио-
Жическом методе у... Фейнмана надо понимать cum grano salis» (с. 294).
505
Философия науки
Физика — наука существенно неполная. «В тот день, когда
физика станет полной и мы будем знать все ее законы, мы, веро-
ятно, сможем начинать с аксиом, и, несомненно, кто-нибудь
придумает, как их выбирать, чтобы из них получить все осталь-
ное» [Фейнман, 1968, с. 49]. Но пока этого нет, и важнейшая за-
дача физики — угадать новые, еще неизвестные законы. Вывести
их ниоткуда нельзя (у нас нет полной системы аксиом), о них
можно только догадаться, и в этом деле «угадывания» новых за-
конов исключительно важную роль играют различные эквива-
лентные формулировки уже известных законов.
Р. Фейнман разъясняет это обстоятельство на примере экви-
валентных формулировок закона тяготения. С точки зрения
опытных следствий они эквивалентны, «но психологически они
различны. Во-первых, они могут нравиться или не нравиться в
философском плане; эту болезнь можно вылечить только трени-
ровкой. Во-вторых, психологически (лучше сказать: эвристиче-
ски. — Л.Б.) различие между ними становится особенно важ-
ным, когда вы отправляетесь на поиски новых законов» [Там
же, с. 53]. Далее Р. Фейнман поясняет сказанное на примере
создания Эйнштейном ОТО, «где метод Ньютона безнадежно
слаб и чудовищно сложен, тогда как метод полей и принцип ми-
нимума точны и просты. Какой из двух предпочесть — мы до сих
пор не решили» [Там же, с. 54].
Наличие нескольких эквивалентных описаний гигантски
расширяет, таким образом, наши эвристические возможности.
Более того, разнообразие эквивалентных формулировок служит
своеобразной опознавательной меткой для подлинно фундамен-
тальных законов природы. В самом деле, если взять эквивалент-
ные формулировки закона тяготения (закон Ньютона, локаль-
ная формулировка, принцип минимума), то они обнаруживают
любопытное свойство. Если бы в законе Ньютона стоял не квад-
рат расстояния, то локальная формулировка была бы невозмож-
на; если бы сила была пропорциональна не ускорению, а, ска-
жем, скорости — был бы невозможен принцип минимума. Стоит
изменить известные законы — и число возможных формулирО'
вок резко сокращается.
Иными словами: «...правильные законы физики допускают -
огромное количество разных формулировок» [ Там же, с. 55]. Эт°
положение и можно, по-моему, рассматривать как принЦ^
Фейнмана, или принцип разнообразия эквивалентных формулир0'
506
Часть II. Глава 17
вок. Формулируя его, Р. Фейнман опирался и на свой богатый
личный опыт. В своей нобелевской лекции, рассказывая о пути,
Приведшем его к созданию квантовой электродинамики, он спе-
циально подчеркивает ту огромную роль, которую сыграло в
этом процессе использование принципа разнообразия эквива-
лентных формулировок.
Фейнман честно говорит, что не знает, в чем глубокое осно-
вание этого принципа: «Мне всегда казалось странным, что са-
мые фундаментальные законы физики, после того как они уже
открыты, все-таки допускают такое невероятное многообразие
формулировок» [Там же, с. '207—208]. Однако он высказывает
предположение, которое, на мой взгляд, не лишено оснований и
которое связывает принцип Фейнмана с понятием простоты.
«Мне думается, что здесь каким-то образом отражается простота
природы... Я не знаю, что должно означать это желание природы
выбирать такие любопытные формы, но, может быть, в этом и
состоит определение простоты. Может быть, вещь проста только
тогда, когда ее можно исчерпывающим образом охарактеризо-
вать несколькими различными способами, еще не зная, что на
самом деле ты говоришь об одном и том же» [ Там же, с. 208].
17.5. Системность
Последний методологический регулятив, который будет здесь
рассмотрен, я предлагаю назвать принципом системности, от-
четливо осознавая несовершенство этого названия.
* Дело в том, что слово «система» — одно из самых многознач-
ных1; выражение «принцип системности» прежде всего ассоции-
руется с системными исследованиями, системным методом, об-
щей теорией систем и т. д. Меньше всего мне хотелось бы таких
Ассоциаций, и поэтому я с самого начала попробую пояснить тот
^иысл, который буду вкладывать в выражение «принцип систем-
ности» (это будет не определение, а именно пояснение).
| Естествознание представляет собой некоторого рода систему
Котя бы в одном, а может быть, в нескольких из 40 смыслов,
Избираемых В.Н. Садовским). Хотя установление точных отно-
г 1 В.Н. Садовский дает типологический анализ около 40 различных определе-
ВД понятия «система» (см.: [Садовский, 1974, с. 92—102].
507
Философия науки
шений между отдельными компонентами этой системы (науч,
ными дисциплинами, науками, теориями и т. д.) вряд ли воз-
можно (во всяком случае, в настоящее время), не подлежит со-
мнению, что эти компоненты как-то связаны между собой, что
наука не представляет собой хаотического нагромождения от-
дельных теорий или групп теорий. Та или иная появляющаяся
теория, идея, концепция, для того чтобы быть включенной в со-
став науки, должна стать в какое-то отношение к наличным
компонентам, должна быть интегрирована в систему.
В достаточно развитых отраслях науки для радикально новых
фундаментальных теорий это включение в систему науки прежде
всего регулируется принципом соответствия (или каким-либо
его аналогом). Принцип соответствия регулирует, таким обра-
зом, интенсивный рост науки. Экстенсивный рост регулируется
механизмом куновских парадигм1. Парадигма выступает в роли
некоторого «защитного механизма» науки, некоторого рода
фильтра, не пропускающего в науку внепарадигмальные по-
строения2.
Как известно, термин «парадигма» весьма многозначен, но
при любом толковании парадигма включает обязательное нали-
чие некоторых стандартов, приобретенных той или иной дисци-
плиной в ходе длительного исторического развития. Все выпол-
ненное ниже этих стандартов просто не допускается к обсужде-
нию3. Деятельность по поддержанию уровня этих стандартов —
одна из важнейших компонент профессиональной научной ра-
боты, которой занято большинство ученых. «Вполне вероят-
но, — писал Н. Винер, — что 95% оригинальных научных работ
принадлежит меньше чем 5% профессиональных ученых, но
1Я отдаю отчет в том, что, с точки зрения ортодоксального последователя
Т. Куна, между двумя последними фразами есть некоторое несоответствие, так
как концепция парадигм противопоставляется кумулятивной точке зрения, наи-
более ярким выражением которой как раз и является принцип соответствия. Од-
нако я думаю, что это противоречие не неизбежно и термин «парадигма» допус-
кает толкование, не исключающее действия принципа соответствия.
2О роли парадигмы как защитного механизма науки хорошо писал В.В. На-
лимов.
3 Дать точную экспликацию этих стандартов для науки в целом — вещь, ви-
димо, невозможная, но в каждом конкретном случае ученые без труда устанавли-
вают их, не допуская к серьезному рассмотрению, например, «доказательства»
великой теоремы Ферма, выполненные в рамках элементарной математики, ил
«опровержения» второго начала термодинамики.
508
Часть II. Глава 17
ббльшая часть из них вообще не была бы написана, если бы
остальные 95% ученых не содействовали созданию общего дос-
таточно высокого уровня науки»1.
Кроме того, в науке существуют какие-то глобальные ее ха-
рактеристики, какие-то принятые в ней «правила игры», кото-
рые на данном этапе развития обязательны для участия в игре.
Короче, игра, называемая наукой, — это не «игра без правил»,
хотя задача выделения и четкой характеристики всех этих правил
представляется мне, как минимум, трудновыполнимой.
Два отмеченных сейчас момента и характеризуют тот смысл,
который я вкладываю в выражение «принцип системности».
Я мог бы также предложить называть его принципом респекта-
бельности [Баженов, 1974] (не будучи, впрочем, уверен, что это
название много лучше). Но так или иначе ясно, чтб я понимаю
под принципом системности (респектабельности): новые идеи,
концепции, теории, появляющиеся в науке, не могут быть лю-
быми, на них налагается ряд ограничений, а именно: 1) они
удовлетворяют некоторой парадигме (при экстенсивном росте)
или принципу соответствия (при интенсивном росте); 2) они
удовлетворяют существующим на данной стадии развития науки
некоторым общим «правилам игры».
Начнем рассмотрение со второго пункта.
При всех трудностях выполнения задачи — четко выделить
все правила игры, бесспорен факт их наличия и то обстоятель-
ство, что ученые де-факто руководствуются ими. В число этих
правил включаются прежде всего некоторые чрезвычайно общие
философские соображения относительно общего характера су-
щего и путей его познания, соображения, определяющие в це-
лом то, что может быть названо, например, стилем мышления2.
К такого рода правилам, безусловно, относятся и те регуля-
тивы, которые были рассмотрены выше. С этой точки зрения
1 [Винер, 1964, с. 344]. Ср. интересное замечание А. Тьюринга: «Большинство
Умов, по-видимому, являются «подкритическими», т. е. соответствуют, если
Пользоваться приведенным выше сравнением, подкритическим размерам атом-
ного реактора. Идея, ставшая достоянием такого ума, в среднем порождает ме-
нее одной идеи в ответ. Несравненно меньшую часть умов составляют умы над-
критические. Идея, ставшая достоянием такого ума, может породить целую «тео-
рию», состоящую из вторичных, третичных и еще более отдаленных идей»
{Тьюринг, с. 50].
2О стиле мышления подробнее см., например, [Сачков, 1968].
509
Философия науки
принцип системности выступает (во всяком случае, частью сво-
его содержания) как некоторого рода метарегулятив, говорящий
нечто (на более высоком языковом уровне) о других регулятивах-
допускаемые в науку построения должны в той или иной степе-
ни удовлетворять соображениям проверяемости, общности,
предсказательной мощи и простоты.
К числу общих правил игры, принятых в науке, относится
также, кроме названных, ряд максим, на двух из которых я хочу
коротко остановиться.
Первая максима касается общего характера эксперимента и
получаемых в нем результатов и кратко может быть сформулиро-
вана как требование объективной воспроизводимости эксперимен-
тальных данных. Результаты эксперимента не должны зависеть
от личности экспериментатора, эксперимент должен иметь чет-
ко зафиксированную методику его проведения, следуя которой
любой исследователь должен получить одинаковые результаты.
В науке не принимаются во внимание единичные данные экспе-
римента; все экспериментальные факты — это результаты, про-
шедшие сложную статистическую обработку (см., например,
[Ракитов]).
Максиму воспроизводимости мне хотелось бы сформулиро-
вать, может быть, не в самой точной, но зато в яркой форме, об-
ратившись за помощью к Фазилю Искандеру. В повести «Со-
звездие Козлотура» рассказывается, в частности, о том, что рабо-
ты по разведению козлотуров (гибрид козы и тура) были горячо
поддержаны «известным московским ученым», заявившим, что
разведение козлотуров целиком лежит в русле его опытов по соз-
данию гибридов ржи с пшеницей, картофеля с томатами и т. д.
Правда, замечает Ф. Искандер, опыты «московского ученого»
вызвали возражения у его коллег, которые пытались повторять
их и не получали результатов, о которых этот ученый сообщал.
На возражения коллег «известный ученый» отвечал, что в этом
нет ничего удивительного, так как он ставит «гениальные опы-
ты», и было бы странно, если бы его результаты мог получить
любой из его коллег. Неполучение его результатов у коллег как
раз и является, по мнению «известного ученого», доказатель-
ством гениальности, а значит, и особой ценности его опытов-
Используя сатиру Ф. Искандера, обсуждаемую максиму можно
сформулировать так: научный эксперимент не должен быть ге-
ниальным в смысле Фазиля Искандера.
510
Часть II. Глава 17
Вторая общая максима может быть передана афоризмом
д. Эйнштейна: «Бог изощрен, но не злонамерен». Н. Винер подроб-
но обсуждает этот афоризм в работе «Человеческое использова-
ние человеческих существ. Кибернетика и общество» (см. [Ви-
нер, 1958, с. 47—48, 193—196]), отмечая, что это «больше чем
афоризм» и в действительности является «положением, выра-
жающим основы научного метода» [Том же, с. 48].
Если представлять себе науку как некоторого рода игру (ра-
зумеется, в теоретико-игровом смысле) с природой, то она в од-
ном отношении радикально отличается от игры двух сознатель-
ных партнеров, где каждый из «игроков» может стремиться вве-
сти в заблуждение другого. Скажем, когда два полководца ведут
«игру», называемую войной, каждый из них, естественно, стре-
мится дезинформировать другого; он может построить, напри-
мер, фальшивые аэродромы, макеты ракетных установок и т. д.,
короче, проявить «злую волю». Природа («бог» Эйнштейна) ли-
шена злой воли; она коварна, т. е. скрывает свои тайны, но в иг-
ре с нами она не проявляет злого умысла, она не ставит себе це-
лью «водить нас за нос», она не «строит фальшивых аэродро-
мов».
Н. Винер, обсуждая эту методологическую максиму, вводит
понятия о дьяволе манихейцев как существе рафинированной
злобы, представляющем некоторую позитивную силу, стремя-
щуюся запутать нас, и о дьяволе августинцев, не представляю-
щем самом по себе силы, а лишь «показывающем меру нашей
слабости». В научной игре природа ведет себя так же, как «дья-
вол августинцев». Он «может потребовать для своего обнаруже-
ния всей нашей находчивости. Однако когда он обнаружен, мы,
в известном смысле^ произнесли над ним заклинание, и он не
изменит своей политики в уже решенном вопросе, руководству-
ясь простым намерением еще более запутать нас» [ Там же, с. 47].
«Природа оказывает сопротивление стремлению раскрыть ее
тайны, но она не проявляет изобретательности в нахождении но-
вых и не подлежащих расшифровке методов, с тем, чтобы за-
труднить нашу связь с внешним миром» [Там же, с. 48].
Максима «природа коварна, но не злонамеренна» не случай-
но характеризуется Н. Винером как положение, выражающее ос-
новы научного метода. Здесь в афористичной форме схвачена
самая суть науки как формы объективного освоения природы.
^Юбые концепции, претендующие на включение в науку, конеч-
511
Философия науки
но, должны удовлетворять тесту на «незлонамеренность приро-
ды». Если принять аналогию науки как информационно-развц-
вающейся системы с биологическими системами1, то можно
сказать, что те или иные нововведения в науке аналогичны мута-
циям в живых организмах. И так же, как бывают летальные му-
тации, связанные со слишком радикальной перестройкой гено-
типа, так же бывают и «летальные научные мутации», т. е. не
вписывающиеся в сложившийся генотип науки новообразова-
ния, включение которых просто вело бы к ликвидации науки как
исторически сложившейся системы знания.
Во вписывании того или иного нововведения в систему науч-
ного знания важную роль играют, как уже отмечалось, понятия
парадигмы и принципа соответствия. Если принять как более
или менее ясное (и во всяком случае прочно вошедшее в науч-
ный обиход) понятие парадигмы, то «защитный механизм нау-
ки» на стадиях ее экстенсивного роста становится достаточно
понятным. Однако интенсивный рост как раз предполагает сме-
ну существующей парадигмы и, следовательно, не может регули-
роваться ею. Здесь на авансцену выходит принцип соответствия.
При этом спешу оговориться, что направленность изложения
на анализ «защитных механизмов» никак не означает какого бы
то ни было сомнения в «сумасшедшем» (используя емкое выра-
жение Н. Бора) характере радикальных научных нововведений.
Требование «сумасшедшего» характера новых идей — требова-
ние, глубоко схватывающее диалектику познания мира челове-
ком. Но понятно, что «сумасшедший» характер — требование
необходимое, но недостаточное. Если угодно, «тривиально-су-
масшедшую» идею выдвинуть несложно — достаточно просто
взять отрицание какой-либо общепринятой концепции. Вся
трудность состоит как раз в генерировании не тривиально-сума-
сшедших идей. А для этого такая идея должна быть в каком-то
смысле продуктом уже достигнутой системы знания. Она, разу-
меется, не дедуцируется этой системой (тогда она не была бы су-
масшедшей), но она и не детальна для нее, она в нее вписывает-
ся прежде всего с помощью принципа соответствия.
Этому принципу посвящена обширная методологическая ли-
тература, и я не ставлю своей задачей дать здесь сколько-нибудь
полное освещение всех связанных с ним вопросов, а останов-
10 плодотворности этой аналогии см., например, [Налимов, 1970, с. 227—243]-
512
Часть II. Глава 17
дюсь лишь на тех, которые представляются мне непосредствен-
но связанными с моей основной темой1.
Прежде всего здесь встает вопрос о совместимости принципа со-
ответствия с концепцией парадигм Т. Куна. Дело в том, что Т. Кун и
его сторонники настойчиво подчеркивают антикумулятивный ха-
рактер развития науки, противопоставляя этот тезис кумулятивной
точке зрения, одним из наиболее ярких выражений которой обыч-
но считается принцип соответствия. Смена парадигм рассматрива-
ется как изменение способа видения мира, делающее несравнимы-
ми сменяющие друг друга теории. Развивая эти представления,
Т. Кун приходит к сомнению в «оцтологическом прогрессе» науч-
ного познания, но я не буду здесь касаться этого вопроса. Сейчас
меня интересует вопрос о том, действительно ли признание нали-
чия смены парадигм (в смысле наличия радикальных концептуаль-
ных перестроек) несовместимо с принципом соответствия?
На мой взгляд, такой несовместимости нет. Принцип соот-
ветствия в своем специфическом содержании относится не к
фундаментальным понятиям и идеям, входящим в состав сме-
няющих друг друга теорий, а к формулируемым в этих теориях
законам (это обстоятельство подчеркнуто и в приведенной фор-
мулировке И.В. Кузнецова). Общеизвестно, что фундаменталь-
ные концептуальные предпосылки, например, релятивистской и
классической физики или квантовой и классической физики не
только не соответствуют друг другу (в смысле принципа соответ-
ствия), но, напротив, исключают друг друга. Повторяю, это об-
щеизвестно, и подчеркивание этого момента Т. Куном можно
понять как протест против монотонно-кумулятивистского пред-
ставления развития науки, но нельзя принять как аргумент про-
тив наличия кумулятивной компоненты в знании, выражаемой
принципом соответствия.
1 Поскольку, видимо, надо дать общую характеристику принципа соответст-
вия, то я считаю разумным привести здесь формулировку И.В. Кузнецова: «Тео-
рии, справедливость которых установлена для той или иной предметной облас-
ти, с появлением новых, более общих теорий не устраняются как нечто ложное,
но сохраняют свое значение для прежней области как предельная форма и част-
ный случай новых теорий. Выводы новых теорий в той области, где была спра-
ведлива старая, «классическая» теория, переходят в выводы классической тео-
рии; математический аппарат (фундаментальные уравнения) новой теории, со-
держащий некий характеристический параметр, значения которого различны в
старой и новой предметной областях, при надлежащем значении характеристи-
ческого параметра асимптотически переходят в математический аппарат старой
теории» (Соответствия принцип. Философская энциклопедия. Т. 5.1970. С. 56).
17 Философия науки
513
Философия науки
Именно формулировка законов (фундаментальные уравне-
ния теории) подчиняется принципу соответствия, а не сами по
себе исходные теоретические понятия.
Этот момент стоит, как мне думается, особо подчеркнуть, так
как он не всегда достаточно осознается. Довольно часто можно
встретить в качестве примеров действия принципа соответствия,
скажем, развитие понятия числа или отношение понятия массы
в релятивистской и классической физике. Здесь явное недоразу-
мение.
Понятие числа есть понятие математическое, и, когда гово-
рят о расширении понятия числа, имеют в виду не изменение
содержания понятия об остающемся неизменным (одним и тем
же) объекте, а именно изменение самого объекта. Это изменение
объекта (конструирование нового объекта) действительно прово-
дится нами так, чтобы новый тип объектов (и описывающие его
«законы») включал как частный случай старый объект (и его «за-
коны»). В этом смысле переход от старой системы объектов к но-
вой подчинен некоторому аналогу принципа соответствия, так
называемому принципу перманентности Г. Ганкеля (О принципе
Ганкеля см., например, [Крымский]). Таким образом, в матема-
тике мы имеем дело не с развитием понятий как таковых, а с раз-
витием математических объектов, и в отношении соответствия
здесь стоят как раз теории (системы аксиом-постулатов), описы-
вающие эти объекты.
Что касается примеров физических понятий, якобы удовле-
творяющих принципу соответствия (например, понятие массы),
то здесь картина несколько иная. Понятие массы в классической
механике и понятие массы в релятивистской механике с логиче-
ской точки зрения несовместимы, ибо одна обладает свойством
«быть неизменной характеристикой тела», другая — «зависеть от
скорости движения тела»1. Поскольку, однако, эти понятия
1 Такое утверждение широко распространено среди философов (в частности,
у Куна) и физиков (особенно преподавателей), однако среди физиков-теорети-
ков в последнее время начинает преобладать мнение, что понятие массы, завися-
щей от скорости, с одной стороны, противоречит понятию массы как характери-
стики физического объекта, а не его состояния, а с другой стороны, излишне
[Окунь, 1989, с. 511]. Ценой такого последовательного определения массы явля-
ется то, что она перестает быть аддитивной (масса системы из двух тел не равна
сумме масс этих тел). Но для иллюстрации данного в тексте логического рассуЖ-
дения это не существенно. — А.Л.
514
Часть II. Глава 17
должны для совпадающих сфер компетенции релятивистской и
классической механики иметь общий референт, то у них, конеч-
но, должна быть и часть содержания, находящаяся в отношении
соответствия. Мы, конечно, могли бы дать релятивистской и
классической массам просто разные названия и считать их раз-
ными понятиями. Однако в силу черты, которую я предложил
назвать сохраняемостью или экстраполябильностью фундамен-
тальных понятий [Баженов, 1973, с. 380], мы обычно отказыва-
емся от этого пути и распространяем старое понятие на новую
область, меняя при этом его содержание. Понятно, что если мы
хотим, чтобы новое и старое приятия сохраняли какую-то связь,
то у них должно быть и какое-то общее содержание. В отноше-
нии соответствия (в смысле принципа соответствия) в этом слут
чае находится та часть содержания понятий, которая выражена в
математически формулируемых законах.
Таким образом, наличие радикальных изменений в концеп-
туальном аппарате сменяющих друг друга теорий (смена пара-
дигм) не отменяет действия принципа соответствия, фиксирую-
щего отношения законов (фундаментальных уравнений) этих
теорий. Принцип соответствия выполняет свою роль защитного
механизма науки в периоды интенсивного роста, формулируя
условия включения новых теоретических построений в систему
научного знания. Как уже отмечалось, этот принцип может быть
сформулирован лишь для дисциплин, достигших высокой степе-
ни зрелости и могущих поэтому придать формулируемым зако-
нам форму математических уравнений. В менее развитых облас-
тях знания аналогичную роль выполняет менее жесткое (и более
неопределенное) требование наличия преемственной связи новой
теории со сложившейся системой знания.
Принцип соответствия, рассматриваемый как элемент прин-
ципа системности, выступает как некоторого рода защитный ме-
ханизм науки. Это, однако, не означает, что это единственная
его функция. Не менее (а может быть, и более — это зависит от
угла рассмотрения) важной является его эвристическая функция
в процессе формирования новых теоретических построений.
Я кратко остановлюсь на ней, тем более что этот вопрос не всег-
да одинаково понимается.
На первый взгляд кажется, что принцип соответствия имеет
прежде всего ретроспективную направленность, оценивая ста-
17*
515
Философия науки
рую теорию с позиций новой. «Принцип соответствия в его
классической формулировке ретроспективен, он обращен в про-
шлое, рассматривая прежние теории с позиций новой теории.
В этом смысле его эвристические возможности существенно ог-
раниченны» [Илларионов, Мамчур, 1973, с. 353]. Однако авторы
еще резче формулируют эту мысль, говоря, что «принцип соот-
ветствия в его классической формулировке допускает только
проверку его выполнения post factum после создания новой тео-
рии» [Там же, с. 361].
На мой взгляд, подобная оценка принципа соответствия вряд
ли справедлива. Принцип соответствия отнюдь не обращен
только в прошлое. Даже в своей «защитной» функции он направ-
лен как раз против новых построений, летальных для системы
научного знания.
Еще заметнее обращенность принципа соответствия вперед
в его эвристической функции. Конечно, принцип соответствия
включает в себя наличие предельного перехода от новой (зна-
чит, уже построенной) теории к старой, но — «это вторичная,
возвратная функция принципа соответствия, когда мы приме-
няем его для логического оформления связи новой, уже создан-
ной теории, со старой и тем самым находим строгое логическое
обоснование тому методу распространения на новую область
некоторых старых представлений, который явился эвристиче-
ским средством построения новой теории. Главная же эвристи-
ческая ценность принципа соответствия состоит, — говорит
С.Б. Крымский, — в поисках нового путем экстраполяции ста-
рых методов на новую область» [Логика научного исследования,
с. 265].
Действительно, исследователь, опираясь именно на принцип
соответствия, стремится угадать законы новой предметной об-
ласти, руководствуясь тем соображением, что их математическая
формулировка должна при предельном переходе давать уравне-
ния старой теории. Как раз при создании (а никак не post factum)
и теории относительности, и квантовой теории их авторы широ-
ко использовали принцип соответствия (и, кстати, С.В. Илла-
рионов и Е.А. Мамчур хорошо пишут именно об этом в цитиро-
вавшейся статье).
Иллюзия ретроспективности принципа соответствия возни-
кает, по-моему, может быть, из-за названия этого принципа,
516
Часть II. Глава 17
подчеркивающего, что старая теория должна соответствовать
новой, образуя ее предельный случай. Но понятно, что название
никогда не покрывает содержания, и принцип соответствия не
составляет здесь исключения1.
* * *
Мы обсудили пять методологических регулятивов. В ходе
этого обсуждения был рассмотрен и ряд других регулятивов
(принцип наблюдаемости, принцип инвариантности, принцип
Рейхенбаха, принцип Фейнмана, принцип соответствия), неко-
торые из них (а может быть, и каждый) под другим углом рас-
смотрения могли бы претендовать и на самостоятельный статус.
Этим я хочу лишь подчеркнуть, что моей задачей было не созда-
ние «жесткой» классификации регулятивов (если таковая вооб-
ще возможна), а освещение того обстоятельства, что наука в сво-
ем развитии вырабатывает определенную систему внутренних
ценностей, находящую свое выражение в разнообразных методоло-
гических регулятивах.
В заключение уместно сказать несколько слов об общем ха-
рактере действия методологических регулятивов. Как мы виде-
ли, они выполняют определенную селективную функцию в науч-
ном познании: возникающие теории должны в определенной
мере удовлетворять требованиям общности, простоты, прове-
ряемости, системности и т. д. И тем не менее я бы возражал про-
тив названия «селективные принципы» вместо «методологиче-
ские регулятивы (принципы)». Конечно, в том или ином контек-
сте, наряду со вторым названием, может использоваться и
первое. Но если видеть в этом изменении названия глубокий
принципиальный смысл, то это, на мой взгляд, связано с чрез-
мерным «ужесточением» обсуждаемых принципов. Некоторые
из них действительно носят достаточно специфицированный и
«жесткий» характер (например, принципы соответствия или ин-
вариантности), однако другие более общи и значительно менее
определенны.
1 Ряд авторов (С.В. Илларионов, С.Б. Крымский) предлагали иные форму-
лировки и иные названия (принцип ограничений, принцип запретов), акценти-
рующие внимание на других сторонах обсуждаемого регулятива. Подробное рас-
смотрение этих предложений выходит за рамки настоящего изложения.
517
Философия науки
Как мне думается, требования, предъявляемые методологи-
ческими регулятивами, не носят характера жестких правил отбо-
ра и, как любые методологические рекомендации, по самой сути
являются «определенно-неопределенными».
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Акчурин И.А. Теория элементарных частиц и теория информации // Фило-
софские проблемы физики элементарных частиц. М., 1963.
Амосов Н.М. Искусственный разум. Киев: Наукова думка, 1969.
Баженов Л.Б. Главное — респектабельность // Знание — сила. 1974. № 1.
С. 16-17.
Баженов Л.Б. Основные вопросы теории гипотезы. М.: Высш, шк., 1961.
Баженов Л Б. Принцип детерминизма и законы сохранения // Современ-
ный детерминизм. Законы природы. М., 1973.
Баженов Л.Б. Строение и функции естественно-научной теории. М.: Наука,
1978.
Борн М. Моя жизнь и взгляды. М.: Прогресс, 1973.
Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963.
Вавилов С.И. Собрание сочинений: В 5 т. Т. III. М.: Изд-во АН СССР, 1956.
Вигнер Е. Этюды о симметрии. М.: Мир, 1971.
Визгин В.П. Принцип инвариантности // Методологические принципы фи-
зики. М.: ИИЕТ, 1975.
Визгин В.П. Развитие взаимосвязи принципов инвариантности с законами
сохранения в классической физике. М.: Наука, 1972.
Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Иностр, литература, 1958.
Винер Н. Я — математик. М., 1964.
Гамов Г.Н. Начало принципиальной наблюдаемости в современной физи-
ке // Успехи физических наук. 1927. Т. VII. С. 388.
Гейзенберг В. Теория, критика, философия // Успехи физических наук.
1970. Т. 102. Вып. 2.
Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. М.: Про-
гресс, 1969.
Илларионов С.В., Мамчур Е.А. Регулятивные принципы построения тео-
рии // Синтез современного научного знания. М., 1973.
Искандер Ф. Дерево детства. М.: Советский писатель, 1970.
Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971.
Клейн Ф. Сравнительное обозрение новейших геометрических исследова-
нии // Об основаниях геометрии. М., 1956.
Кочергин А.Н. Моделирование мышления. М.: Политиздат, 1972.
Крымский Б. С. Научное знание и принципы его трансформации. Киев,
1974.
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских про-
грамм // Кун Т. Структура научных революций М.: ACT, 2001. С. 265—454.
Логика научного исследования. М., 1965.
Мамчур Е.Н. Проблема выбора теории. М.: Наука, 1975.
Маркс К, Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1955—1973.
Мах Э. Популярно-научные очерки. СПб., 1909. Гл. XIII.
518
Часть II. Глава 17
Милль Дж. Ст. Система логики силлогистической и индуктивной: Изложе-
ние принципов доказательства в связи с методами научного исследования. М.,
1899.
Навиль Э. Логика гипотезы. СПб., 1882.
Налимов В.В., Мульченко З.М. Сравнительное изучение двух самооргани-
зующихся систем — науки и биосферы // Методологические проблемы кибер-
нетики (Материалы к Всесоюзной конференции). М.: ИФ АН СССР, 1970. Т. 2.
Нейман Дж. фон. Теория самовоспроизводящихся автоматов. М., 1971.
Окунь Л.Б. Понятие массы (Масса, энергия, относительность) // УФН.
1989. Т. 158. № 3.
Омельяновский М.Э. Диалектика в современной физике. М.: Наука, 1973.
Поппер К. Логика и рост научного знания: Избр. работы. М., 1983.
Пуанкаре А. Наука и гипотеза. СПб., 1904.
Ракитов А.И. Статистическая интерпретация факта и роль статистических
методов в построении эмпирического знания // Проблемы логики научного по-
знания. М., 1964.
Рассел Б. Человеческое познание. М.: Наука, 1957.
Ру мер Ю., Рывкин М.С. Теория относительности. М.: Учпедгиз, 1960.
Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М., 1974.
Сачков Ю.В. Процессы обобщения в синтезе знания // Синтез современно-
го научного знания. М.: Наука, 1973.
Сачков Ю.В. Эволюция стиля мышления в естествознании // Вопросы фи-
лософии. 1968. № 4.
Тьюринг А. Может ли машина мыслить? М., 1960.
Фейнман Р. Характер физических законов. М.: Мир, 1968.
Франк Ф. Философия науки. М.: Иностр, литература, 1960,
Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики // Эйнштейн А. Собрание науч-
ных трудов. Т. IV. М., 1967.
Эшби У.Р. Системы и информация // Вопросы философии. 1964. № 3.
Bridgman P.W. The Logic of Modem Physics. N.Y., 1927.
Bunge M. Myth of Simplicity. N.Y., 1963.
Kuhn T. The Copernican Revolution. N.Y., 1957.
Lakatos I. Changes in the Problem of Inductive Logic // Problem of Inductive
Logic, ed. Lakatos, North-Holland, Amsterdam, 1968.
Popper K. Philosophy of Science // Mace C.A. British Philosophy in the
Mid-Century. London, 1957.
Schlesinger G. Method in the Physical Sciences. L.; N.Y., 1963.
ВОПРОСЫ
1. Методологические принципы научного познания и их место в
общей теории познания.
2. Значение и функции методологических принципов в конкретном
научном познании. Обсуждение методологических принципов в
философии науки.
3. Совокупность методологических принципов как целостная взаи-
мосвязанная система. Открытый характер системы методологиче-
ских принципов и развитие этой системы в процессе развития на-
учного познания. Внутренняя структурированность системы мето-
519
Философия науки
дологических принципов и выделение в ней группы принципов,
регулирующих главным образом взаимоотношение теоретическо-
го и эмпирического уровней, и группы принципов, относящихся
главным образом к внутри- и межтеоретическим отношениям.
4. Принципы проверяемости (в узком смысле слова — подтверж-
даемости), опровергаемости и наблюдаемости в научном позна-
нии.
5. Принцип подтверждаемости и характерные требования, предъяв-
ляемые им к структуре и способу организации научного знания.
6. Принцип опровергаемости (фальсифицируемости), его содержа-
ние и взаимосвязь с принципом подтверждаемости.
7. Принцип простоты в истории развития познания. Различные ис-
торические трактовки содержания принципа простоты. Совре-
менная интерпретация принципа простоты и его взаимосвязь с
другими методологическими принципами.
8. Принцип соответствия в философии науки. Возникновение и раз-
витие принципа соответствия в процессе создания квантовой фи-
зики в XX в. Осмысление принципа соответствия как общего
принципа научного познания и «каноническая» формулировка
принципа соответствия. Более широкое понимание принципа со-
ответствия как выражения генетической преемственности в разви-
тии научных теорий (Принцип ограничений). Значение принципа
соответствия как критерия истинности научного знания.
9. Принцип инвариантности (симметрии) в научном познании
XIX—XX вв. Осмысление принципа инвариантности как общего
принципа существования и структурирования теоретического
уровня научного знания в работах Е. Вигнера и формулировка
принципа. Роль и функционирование принципа инвариантности
в современной физике микромира.
10. Принцип системности (согласованности) в научном познании и
его своеобразие во всей системе методологических принципов.
Характер требований, накладываемых принципом системности
на содержание и способ организации научного знания, — требо-
вания внешней и внутренней согласованности теории, требова-
ния согласованности между теориями. Связь принципа систем-
ности с другими методологическими принципами.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. М.: Наука,
1978.
Овчинников Н.Ф. Методологические принципы в истории научной мысли.
М., 1997.
Глава 18
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРИНЦИП КРАСОТЫ
18.1. История формирования
и суть принципа красоты
Методологический принцип красоты входит в состав прин-
ципов организации, построения и функционирования теорети-
ческого уровня научного знания вообще и физики в частности.
Он помогает увидеть более глубокую взаимосвязь физики с фи-
лософией, гуманитарными науками, искусством, стимулирует
развитие теоретического уровня знания. Его действие стало по-
нятным лишь с появлением неклассической теоретической
физики XX в. Одним из пионеров современной науки, рассмат-
ривающим «внутреннее совершенство» и красоту физических
теорий как критерий хороших теорий с позиций не психологиче-
ского, а рационального, логического обоснования, был А. Эйн-
штейн. После создания им специальной (СТО) и общей (ОТО)
теорий относительности на категории совершенства и красоты
стали смотреть несколько иными глазами. Ученые стали заме-
чать, что физические теории подчиняются целостной системе
методологических требований, среди которых важную роль иг-
рает принцип красоты. Попытаемся вкратце проанализировать
его природу (более детальное описание можно найти в работах
автора [Котина, 2004; 2002; Kotina, 1993].
К принципу красоты осознанно и неосознанно обращались
крупнейшие математики, астрономы, физики с древнейших вре-
мен — Пифагор, Аристотель, Евклид, Эвдокс, Птолемей, Архи-
мед, Ибн Сина (Авиценна) и многие другие. Однако научное
философское осмысление принципа красоты началось достаточ-
но поздно (поэтому-то он до сих пор входит в разряд «претен-
дентов» на статус методологического принципа). Принцип кра-
соты до начала XX в. существовал в основном как интуитивно
521
Философия науки
очевидный компонент культуры, к которому обращаются мате-
матики и естествоиспытатели в своей конкретно-научной дея-
тельности. Но сама практика развития научного знания вынуж-
дает исследователей обратиться к более пристальному и глубоко-
му анализу проблемы взаимоотношения науки и эстетических
критериев — красоты и принципа красоты. В связи с решением
ряда проблем в математике и физике, начиная со второй полови-
ны XIX в. и особенно в XX в., возрос интерес к анализу роли кра-
соты и принципа красоты в движении и росте научного знания.
Работы А. Пуанкаре, П. Дирака, А. Эйнштейна, Г. Вейля, В. Гей-
зенберга, А.Б. Мигдала и других математиков и физиков обрати-
ли внимание на роль красоты и принципа красоты в научном
творчестве, создании научной гипотезы, научной теории, а так-
же на их нетривиальное значение в выборе и сравнении научных
теорий.
Эйнштейн в результате глубоких размышлений приходит к
выводу о наличии всеобщего формального принципа: «Снова и
снова я разочаровывался в возможности открыть истинные зако-
ны с помощью конструктивных попыток, основанных на ис-
пользовании известных фактов. Чем дольше и чем отчаяннее я
пытался сделать это, тем более приходил к убеждению, что к на-
дежному результату нас может привести лишь открытие всеоб-
щего формального принципа» [Эйнштейн, 1967, с. 127—128]. Ос-
мелюсь предположить, что, помимо профессионально-темати-
ческих принципов — принципов относительности и постоянства
скорости света, он имел в виду и наличие всеобщего формально-
го принципа — принципа красоты, деятельность которого он
выразил в понятии «внутреннее совершенство теории». Он был
хорошо знаком с концепцией Пуанкаре, настоятельно обращав-
шего внимание на роль эстетических чувств и красоты в откры-
тии математических идей [Пуанкаре, 1970], а также с концепци-
ей Маха, обращавшего внимание на выполнение принципа эко-
номии мышления, простоты. Однако Эйнштейн пытался отойти
от психологического понимания простоты, совершенства и дать
их логико-рациональное объяснение.
При создании СТО и ОТО он вырабатывает два критерия хо-
рошей теории: «внешнего оправдания» и «внутреннего совер-
шенства». Вот что он пишет в письме к М. Соловину:
«Прежде чем приняться за критику механики как основы фи-
зики, нужно сначала высказать несколько общих положений о
522
Часть II. Глава 18
точках зрения, или критериях, с которых вообще можно крити-
ковать физические теории. Первый критерий очевиден: теория
не должна противоречить данным опыта. Но насколько очевид-
ным кажется это требование само по себе, настолько тонким
оказывается его применение. Дело в том, что часто, если не всег-
да, можно сохранить данную общую теоретическую основу, если
только приспособлять ее к фактам при помощи более или менее
искусственных дополнительных предположений. Во всяком слу-
чае в этом первом критерии речь идет о проверке теоретической
основы на имеющемся опытном материале. Во втором критерии
речь идет не об отношении к опытному материалу, а о предпо-
сылках самой теории, о том, что можно было бы кратко, хотя и
не вполне ясно, назвать «естественностью» или «логической
простотой» предпосылок (основных понятий и основных соот-
ношений между ними). Этот критерий, точная формулировка
которого представляет большие трудности, всегда играл боль-
шую роль при выборе между теориями и при их оценке. Речь
идет не просто о каком-то перечислении логически независимых
предпосылок (если таковое вообще возможно однозначным об-
разом), а о своего рода взвешивании и сравнении несоизмери-
мых качеств. Далее, из двух теорий с одинаково «простыми» ос-
новными положениями следует предпочесть ту, которая сильнее
ограничивает возможные априори качества систем (т. е. содер-
жит наиболее определенные утверждения). Относительно «об-
ласти применимости теорий мне можно здесь не говорить, по-
скольку мы рассматриваем только такие теории, предметом ко-
торых является вся совокупность физических явлений.
Второй критерий можно кратко характеризовать как крите-
рий «внутреннего совершенства» теории, тогда как первый отно-
сится к ее внешнему оправданию. К «внутреннему совершенст-
ву» теории я причисляю также и следующее: теория представля-
ется нам более ценной тогда, когда она не является логически
произвольным образом выбранной среди приблизительно рав-
ноценных и аналогично построенных теорий» [Эйнштейн, 1967,
с. 266-267].
В своих гносеологических установках Эйнштейн отошел от
психологического понимания эстетических категорий «совер-
шенства» и «красоты» — стал пионером рационального их ана-
лиза, включив критерий «внутреннего совершенства» теории в
523
Философия науки
качестве необходимого логико-теоретического критерия науч-
ного знания.
Эта линия была продолжена в трудах П. Дирака, А.Б. Мигдала,
В. Гейзенберга. Создавая нерелятивистскую квантовую механику,
Гейзенберг обращается не только к принципам наблюдаемости и
соответствия, но и к принципу красоты. Ему самому интересно по-
нять, почему при создании математического формализма кван-
товой механики он так много внимания уделял обращению к эс-
тетической стороне математики.
Пытаясь понять, какова природа эстетических представле-
ний математических знаний, В. Гейзенберг пишет блестящую
статью «Значение красоты в точных науках». Несмотря на ис-
пользование понятия принципа красоты, он его не анализирует
как методологический регулятив, чаще всего отождествляя по-
нятие красоты и принцип красоты, но его рассуждения интерес-
ны уже тем, что вслед за Эйнштейном он рассматривает понятие
красоты не в психологическом ключе, а пытается понять, какие
рациональные условия способствуют появлению красивых фор-
мул и совершенных математических теорий.
Для этого Гейзенберг довольно тщательно анализирует исто-
рию становления данной эстетической категории, фиксируя:
«Уже в Античности существовали две дефиниции красоты, в из-
вестном смысле противоположные друг другу. Контроверза меж-
ду этими дефинициями играла большую роль, в особенности в
эпоху Ренессанса. Одна определяла красоту как правильное со-
гласование частей друг с другом и с целым. Другая, восходящая к
Плотину, обходится вовсе без упоминания частей и называет
красотой вечное сияние «Единого», просвечивающего в матери-
альном явлении» [Гейзенберг, 1987, с. 269].
Неоплатоник Плотин (III в. н. э.) — ключевая фигура в исто-
рии представлений о том, что истинное бытие прекрасно и что
познание неразрывно связано с любовью к прекрасному, хотя он
выступал при этом наследником платоновско-пифагорейской
традиции. Для Плотина истинное бытие есть Ум, тогда как Еди-
ное выше бытия и мышления. В Уме содержатся идеи всех ве-
щей. Ум является мышлением, мыслящим эти идеи. Еще одним
важнейшим его определением является красота. «Да, Ум прекра-
сен! — восклицает Плотин, — он прекраснейшее из всего, что
есть; окруженный чистым светом и ослепительным блеском, он
охватывает природу всех существ. Наш вещественный мир, та-
524
\ Часть II. Глава 18
кор красивый, — не более чем его отражение и тень» [Адо, 1991,
с. 42—43]. Таким образом, красота принадлежит самому бытию.
Просвечивая в окружающих нас вещах и явлениях, красота удо-
стоверяет их причастность высшему, умопостигаемому началу.
Сияние красоты в материальном мире — это проявление истин-
ного, бытийственного, разумного в нем. Числа, согласно Плоти-
ну и его последователям, также пребывают в Уме.
Неоплатонизм, продолжая платоновско-пифагорейскую тра-
дицию, связывал просвечивающее в вещах начало истинного
бытия не только с красотой, но и с наличием математических
пропорций, выразимостью в понятиях математики. Причем
именно это бытийное начало, просвечивающее в вещах, делало
вещи разумными и осмысленными, т. е. открытыми для позна-
ния разумом.
Принцип красоты у Плотина предполагает определенный
способ художественного мышления, связанный с определенным
мироощущением и мировосприятием, способностью восприни-
мать и постигать сущность наблюдаемых явлений. Поэтому он
не бездеятелен и не пассивен, а предполагает творческий, дея-
тельностный, методологический характер. Вообще познание,
согласно неоплатонической традиции, есть постижение сораз-
мерности, полноты гармонии, согласованности частей и целого,
ритма, простоты и естественности взаимосвязей. Красота уста-
навливает сопричастность бытия субъекта бытию исследуемого
объекта, единству мира, гармонии с Вселенной.
Таким образом, Плотин показывает, что красота — это не
только субъективная оценка; он пытается разъяснить, что в этом
субъективном есть нечто всеобщее, носящее онтологический ха-
рактер. Это всеобщее связано с объективно-сущностным, ис-
тинным.
Благодаря этому мы можем выделить у Плотина, помимо по-
нятия красоты, еще и идею объективного, онтологического ее
значения. Опираясь на это различение, мы можем сформулиро-
вать принцип красоты, который связывает его не с эстетической
оценкой отдельных наблюдаемых объектов и событий, а принад-
лежит целостной системе знаний, претендующих на статус ис-
тинных.
Понятие красоты связано с индивидуальными оценками со-
бытий, в которых превалируют субъективные аспекты, а понятие
принципа красоты относится к целостной системе знаний, и в
525
Философия науки
нем, как в способе выражения активной деятельности, превали-
рует объективное содержание красоты, схватывающее саму глу-
бинную сущность бытия (см. подробнее: [Котина, 2004; 2002;
Kotina, 1993]).
Неоплатоническая традиция связывания красоты, математи-
ки и познания получила новую жизнь в эпоху Возрождения. Она
явилась одним из важнейших источников идеи, что «Книга При-
роды написана на языке математики» (Галилей).
Однако классическая наука в конце концов забыла об этом
своем источнике. Представления о реальности как причастной
красоте и разумности в течение XVIII—XIX вв. утратили права
гражданства в науке.
Тем важнее и значительнее обращение к теме красоты как
признака правильной научной теории, которое мы видим у твор-
цов научной революции XX в.
Принцип красоты проецирует через языковую форму опре-
деленный способ объяснения понятой сущности анализируемых
событий. Е. Вигнер справедливо отмечал: «Объяснение — это ус-
тановление нескольких простых принципов, описывающих
свойство того, чтб подлежит объяснению» [Вигнер, 2002, с. 45].
В духе этой формулировки мы попытаемся раскрыть принцип
красоты через четыре более простых принципа: требования
надындивидуального смысла, инвариантности, согласованности
и простоты.
Принцип красоты может быть предложен на рассмотрение в
двух формах.
В ослабленном виде он может выглядеть так: из нескольких
конкурирующих теоретических систем отдается предпочтение
той, которая опирается на аксиомы и постулаты, отражающие
гармоничную взаимосвязь полноты выражения требований: надын-
дивидуального смысла, инвариантности, согласованности (систем-
ности) и простоты.
В жесткой форме он формулируется так: знания, которые пре-
тендуют на статус научных, должны выполнять требование адек-
ватного описания сущности исследуемых явлений через гармонию
полноты воплощения совокупности требований надындивидуально-
го смысла, инвариантности (включающую симметрию как част-
ный случай), согласованности (системности) и простоты.
Ряд ученых прекрасно осознавали присутствующий в строя-
щейся и функционирующей научной теории эстетический
526
\ Часть II. Глава 18
7ZZ Z' ' " ' ' zzzzzzzz z z г * г z z ' г \wV" л ' / ,Z"Z ZZ Z zv ' z/ " /z z zzz 7 .. z V \ "TZZZZ " ' Z' z SV vZZZZZsZZ,ZZCZ'ZZZZ£7Z,Z'ZZ^^^
\
CNtbicn. Например, П.А.М. Дирак утверждал: «Я чувствую, что
теория, если она правильна, должна быть красивой (beautiful),
так как мы руководствуемся принципом красоты, когда устанав-
ливаем фундаментальные законы. Так, в исследованиях, опи-
рающихся на математику, мы часто руководствуемся требовани-
ем математической красоты. Если уравнения физики некрасивы
с математической точки зрения, то это означает, что они несо-
вершенны и что теория ущербна и нуждается в улучшении. Бы-
вают случаи, когда математической красоте должно отдаваться
предпочтение (по крайней мере временно) перед согласием с
экспериментом. Дело обстоит так, будто Бог создал Вселенную
на основе прекрасной математики, и мы сочли разумным пред-
положение, что основные идеи должны выражаться в терминах
прекрасной математики» [Дирак, 1965, с. 98].
А. Эйнштейн, пытавшийся раскрыть природу аксиом и фун-
даментальных принципов, писал, что ученый, мыслитель или
художник, для того чтобы скрыться от хаоса мира, образованно-
го опытом, создает «упрощенный и ясный образ этого мира», по-
мещая в него «центр тяжести своей эмоциональной жизни»
[Эйнштейн, 1967, с. 127]. В письме к Соловину в 1953 г. А. Эйн-
штейн поднимает сложную проблему перехода от чувственного
познания к логическому, понятийному процессу мышления:
«Понятия никогда нельзя логически вывести из опыта безупреч-
ным образом. Но для дидактических, а также эвристических це-
лей такая процедура неизбежна. Мораль — если не согрешить
против логики, то вообще нельзя ни к чему прийти. Иначе гово-
ря, нельзя построить ни дом, ни мост, не используя при этом ле-
са, которые не являются частью всей конструкции» [Там же,
с. 572].
Вводя понятие красоты и принцип красоты, я предлагаю не
«грешить против логики» и не рассматривать весь подготови-
тельный этап формирования понятий в качестве «строительных
лесов», от которых можно избавиться, а ввести логическую воз-
можность рационального понимания процесса становления по-
нятий. Предлагается вариант рационального подхода к анализу
формирования и становления логического понятия как процес-
са, преддверие которого связано с формированием художествен-
ного образа и появлением системы взаимоотношений, «пучка
связей», которые могут при определенной, конкретной фильтра-
ции подвести к формированию научной идеи, научной гипоте-
527
Философия науки
зы, логическому понятию. При этом у исследователей возника-
ют новые идеи, гипотезы, которые вызывают чувство огромного
удовольствия, свободы, ощущения прилива энергии и сил, со-
стояние волевого подъема. Однако возникающие гипотезы могут
лишь показаться красивыми, схватывающими сущность анали-
зируемых объектов. Исследователь может ошибаться, фантази-
ровать и, приходя в состояние эйфории, выдвигать необосно-
ванные идеи. Методологический принцип красоты вооружает
исследователя способами и приемами проверки, позволяющими
избежать этой ошибки.
Принцип красоты — это единая система способов и методов
деятельности, содержащая как минимум четыре требования:
1. Включение идеи в такую систему знания, которая Обладает
надындивидуальным смыслом и носит естественный характер,
опирающийся на научную традицию.
2. Система знаний, в которую включается красивая идея или
гипотеза, должна удовлетворять требованию устойчивости, ин-
вариантности.
3. Согласованность с создаваемой целостной системой зна-
ния, в которую включена идея.
4. Красивая идея, претендующая на статус истинностной,
должна входить в систему, удовлетворяющую требованию про-
стоты, т. е. быть способной объяснять с помощью малых средств
большое количество фактов.
Принцип красоты представляет собой целостную систему
требований, которые носят взаимосвязанный и взаимопрони-
кающий характер.
Если через возникающее чувство красоты исследователь
схватывает сущность события (до этого неизвестного), то через
выполнение требований принципа красоты происходит органи-
зация и построение логической формы выражения смыслового
содержания и перевод его через систему требований принципа
красоты на уровень достоверного знания, уровень науки, объек-
тивной истинности. Начинается практическое структурирова-
ние, логическое формирование смысла нового закона природы,
управляющего протеканием этих явлений, событий, отражая на
теоретическом уровне знания реально происходящие процессы.
Обладая спецификой и самостоятельностью, он, как и другие
методологические регулятивы научного познания, наиболее
полно проявляет себя в целостной, единой системе регулятивов
528
\ Часть II. Глава 18
науяного познания. В отличие от других методологических
принципов он обладает уникальным требованием — необходи-
мостью построения, функционирования и сравнения научного
знания через выполнение требования создания и присутствия
надындивидуального смысла, являющегося здесь системообра-
зующим. К его рассмотрению мы и переходим.
18.2. Надындивидуальный смысл принципа красоты
Требование надындивидуального смысла принципа красоты
определяет специфику данного принципа. Без него принцип
красоты не может существовать, поскольку он является научным
принципом, а не фиксацией субъективного эстетического пере-
живания.
Еще Платон открыл и пытался обосновать наличие надынди-
видуального смысла в научном знании, в арифметике и геомет-
рии, объясняя данный феномен присутствием мира объектив-
ных идеальных идей. Он же рассматривал Прекрасное как суще-
ствующее само по себе, а вовсе не как результат чьей-то
субъективной оценки. И мы, говоря о принципе красоты как о
методологическом принципе научного исследования, имеем в
виду не только и не столько индивидуальные эстетические пере-
живания. Отталкиваясь от таких переживаний, исследователь
движется в поле принятых научных сообществом проблем, аргу-
ментов, теорий, экспериментальных результатов.
Приведем для раскрытия этой мысли некоторые примеры.
В письме к М. Сол овину от 7 мая 1952 г. Эйнштейн предста-
вил модель развития научной теории, важнейшим элементом ко-
торой является представление о логическом скачке от эмпириче-
ского материала к исходным положениям (аксиомам) конструи-
руемой теории (см. гл. 6). Природа этого логического скачка до
сих пор неясна, в связи с чем и появился ряд моделей, интерпре-
тирующих данный феномен, среди которых присутствует и мо-
дель Дирака, связывающего этот скачок с красотой. В модели
Дж. Холтона данный логический скачок совершается на основе
тематических предпочтений исследователя, выступая своеобраз-
ным фильтром, пропускающим лишь такой скачок от эмпирии к
аксиомам, который отвечает ментальности субъекта. Анализи-
руя процесс становления СТО А. Эйнштейна, Холтон зафикси-
529
Философия науки
ровал его предпочтение использовать общие принципы физики,
а не модельно-механистический подход. Они-то, согласно Хол-
тону, и помогают проникнуть и понять индивидуальный меха-
низм творческого процесса [Холтон, с. 120—149]. С моей точки
зрения, данные тематические предпочтения исследователя, за-
фиксированные Холтоном, и вводят гипотезы в поле надынди-
видуального смысла строящегося и функционирующего научно-
го знания. Однако надындивидуальный смысл не сводится толь-
ко к ним, а включает ряд других параметров, выходящих в
систему действия целостной системы методологических регуля-
тивов и других параметров профессионального и социаль-
но-культурного характера, напрямую завязанных на действии
основных требований принципа красоты.
Речь идет о выходе в общезначимую проблемную ситуацию,
дискуссионное смысловое поле и присутствие в нем надындиви-
дуального смысла. По мере развития проблемной ситуации в ее
недрах может сформироваться дискуссионное смысловое поле.
В дискуссионном смысловом поле как формирующемся ядре
проблемной ситуации мифологические, религиозные, психоло-
гические, экзистенциально-личностные и другие типы отноше-
ний отойдут на «второй план». На первый план начинают выхо-
дить научные нормы и критерии — внимание исследователей,
решающих проблему, обусловленную социально-культурными
потребностями общества, будет сосредоточиваться вокруг науч-
ных ценностей и целей, которые ставит перед собой исследова-
тель.
18.3. Требование инвариантности
Помимо выполнения требования создания и присутствия в
научной теории надындивидуального смысла принцип красоты
включает и требование инвариантности.
Понятия гармонии, совершенства, красоты должны быть
связаны с переходом от безобразных, хаотических состояний к
устойчивым, художественно-образным состояниям, обладаю-
щим инвариантными, устойчивыми характеристиками. К. Поп-
пер отмечал, что опыт представляет собой активную деятель-
ность организма, активные поиски регулярностей, или инвари-
антов.
530
Часть II. Глава 18
В процессе познания человеческая деятельность выбирает из
бесконечного набора представших перед субъектом актуальных
признаков объекта или события только ограниченный подкласс
признаков, носящих устойчивый, согласованный и наиболее
простой характер. В ходе этой деятельности человек, перебирая
различного рода признаки, складывает их в пучки отношений.
Результатом этих сложных диалектических взаимоотношений,
сопоставлений, сравнений становится целостный образ (геш-
тальт). Первый этап формирования устойчивого образа носит,
по мнению ряда исследователей (Гельмгольца, Арнхэйма, Пуан-
каре, Кальотти и др.), художественно-образный характер, сопро-
вождаемый чувством красоты. Рефлексивное осознание его
субъектом связывают с понятием красоты. Инвариантность как
не изменяющаяся характеристика некоторых существенных для
системы отношений при ее определенных преобразованиях
должна быть связана с раскрытием устойчивого состояния, свя-
занного с красотой.
С инвариантностью связаны не только процессы неоргани-
ческой и органической природы, но и процесс выполнения ло-
гических, ментальных, теоретических построений. Этот процесс
наблюдается в области построения и функционирования не
только научного знания, но и ненаучного. В частности, если об-
ратиться к ранним теоретическим разработкам в школах оратор-
ского искусства, в области музыкальных и литературных по-
строений художественно-стилистических направлений, то здесь
мы обнаруживаем выполнение требования инвариантности для
достижения гармоничных, красивых произведений.
Если суммировать вышесказанное понимание инвариантно-
сти с античных времен до Нового времени, то большинство ис-
следователей, обращающихся к данному феномену, понимали
под инвариантом величину, остающуюся неизменной при тех
или иных преобразованиях, например, площадь какой-либо фи-
гуры, угол между двумя прямыми, инвариантность движения.
В самом широком смысле слова под инвариантностью понима-
ется то, что остается неизменным при каком-то изменении. Это
может быть переход от одной системы координат к другой, пре-
образование динамических переменных и т. п. Каждому типу из-
менений соответствует свое конкретное понимание инвариант-
ности, связанное с неизменностью какой-либо характеристики,
носящей общий характер при переходе от одного объекта, собы-
тия (либо класса объектов и событий) к другому.
531
Философия науки
В принципе относительности механического движения по-
степенно углубляется понятие об инвариантности относительно
изменений во времени, о сохранении характеристик объекта или
системы, которые обычно называют законами сохранения или
интегралами движения. Одной из важнейших форм инвариант-
ности является симметрия, в связи с которой инвариантность
достигает качественно иного уровня — возможности выражения
на математическом языке и в более строгой логической форме.
«Идея симметрии, без сомнения, одна из наиболее глубоких
и плодотворных во всем естествознании, — пишут П.И. Голод и
А.У. Климык в «Математических основах теории симметрии». —
Родившись в глубокой древности как учение о соизмеримости и
пропорциях, она незримо или явно присутствовала почти во всех
натурфилософских теориях Античности и Средневековья. Одна-
ко вплоть до XIX столетия учение о симметрии можно рассмат-
ривать лишь как философскую идею или мировоззренческий
принцип, а не как самостоятельную науку в современном пони-
мании. Ситуация изменилась после открытия Эваристом Галуа
роли групп перестановок в определении условий разрешимости
в радикалах алгебраических уравнений произвольных степеней,
а точнее, почти сорок лет спустя после опубликования Камил-
лом Жорданом книги под названием «Трактат по теории пере-
становок и алгебраических уравнений», в которой теория Галуа
была изложена с глубоким проникновением в суть проблемы и
многими примерами. Новая математическая теория привлекла
всеобщее внимание и очень быстро развилась в самостоятель-
ную научную дисциплину с множеством приложений» [Голод,
Климык, 2001, с. 5]. Следом идет построение симметрической
классификации различных геометрий [Клейн, 1872], вывод то-
чечных и пространственных кристаллографических групп (А.В.
Шубников (см. [Шубников, 2004]), а за ними и все другие извест-
ные в настоящее время группы. Обобщенное понятие симмет-
рии может быть использовано и в анализе симметрических ком-
позиций в поэзии и художественной литературе на различных
уровнях организации произведений искусства. Благодаря откры-
тию Галуа начинается эпоха применения в математической
практике построения научной теории с явно выраженной акцен-
тировкой на перерастание требования инвариантности в прин-
цип инвариантности. Обращаясь к принципу красоты, Галуа
продемонстрировал в яркой наглядной форме, на примере ста-
новления теории групп, эвристические возможности выполне-
532
Часть II. Глава 18
ния требований принципа красоты и наглядно показал возмож-
ности перехода его требований в принципы.
Перевод требования инвариантности на математический язык
фиксирует его новое, более глубокое качественное состояние,
приведшее со временем к выделению его как самостоятельного в
области физики, а затем и всего научного знания в качестве фи-
лософско-методологического принципа научного познания, за-
нимающего промежуточное положение между философскими и
конкретно-научными принципами. В физике этот процесс был
осознан благодаря работам Э. Нётер, которая органично связала
симметрию теории (она же инвариантность, она же в некотором
смысле и относительность), закон движения соответствующей
физической системы и присущие теории основные законы со-
хранения. Е. Вигнер в работе «Инвариантность и законы сохра-
нения» пишет: «...я хотел бы обсудить соотношение между тремя
категориями, играющими фундаментальную роль во всех естест-
венных науках: явлениями, служащими сырьем для второй кате-
гории — законов природы, законами природы и принципами
симметрии. Что же касается последних, то я склонен отстаивать
тезис о том, что для них сырьем служат законы природы» [Виг-
нер, 2002, с. 45]. Особенно подробно Вигнер исследует роль
принципов симметрии в физике, их значение для отбора, клас-
сификации и предсказания новых законов природы. Он считал
принцип симметрии «волшебной палочкой» и полагал, что по-
следний вполне может заменить все остальные методологиче-
ские принципы.
18.4. Требование согласованности
Следующее требование к построению, созданию, функциони-
рованию научного знания, в частности научной теории, которое
выдвигает принцип красоты, — требование согласованности.
К красоте как к правильному согласованию частей друг с
другом и с целым обращались еще античные представители ис-
кусства, философии и науки. Эта тенденция прослеживается и в
отечественной философской традиции. Много об этом пишут и
философы XIX — начала XX в.: В. Соловьев, П.Н. Флоренский.
Особенно интересны в этом отношении выдающиеся уче-
ные-мыслители, занимавшиеся проблемами становления и фор-
мирования конкретно-научного и математического знания:
533
Философия науки
А. Пуанкаре, П. Дюгем, П. Дирак, Г. Вейль, А. Эйнштейн,
А.Б. Мигдал, Д.И. Блохинцев и др.
В. Гейзенберг, выступая в 1970 г. в Мюнхене на заседании
Баварской академии изящных искусств, говоря о математике,
определял красоту «как правильное согласование частей друг с
другом и с целым... Частями являются в данном случае свойства
целых чисел, законы геометрических построений, а целым —
очевидно, лежащая в их основе система математических аксиом,
охватывающая арифметику и геометрию и обеспечивающая сво-
ей непротиворечивостью их единство. Мы видим, что отдельные
части целого согласуются друг с другом, что они действительно
складываются в эту целостность, и без особых размышлений
осознаем завершенность и простоту этой системы аксиом как
нечто прекрасное. Красота, стало быть, имеет отношение к древ-
нейшей проблеме «единого» и «многого», которая находилась в
центре ранней греческой философии и была тогда тесно связана
с проблемой бытия и становления» [Гейзенберг, 1987, с. 269].
Идеи согласованности частей друг с другом и с целым связа-
ны с необходимостью и поиском возможности познавать взаи-
мосвязи, черты и признаки родства элементов в целостной сис-
теме отношений. Они прежде всего связаны с построением логи-
ки процесса развития, отражаемой в языке науки, в характере
построения и существования научной теории как системы свя-
зей.
С первых шагов существования научных знаний одним из
требований, связывающим научные знания с выполнением воз-
можности достижения достоверности и истинности, было убеж-
дение в необходимости следования требованиям согласования
их построения и функционирования, подчинения их законам
формальной логики. Этому вопросу серьезное внимание уделя-
лось как в трудах Аристотеля, так и в более поздних разработках
исследователей, обращавших внимание на логику построения
языка.
Проблема истинности знаний тесно связана с необходимо-
стью построения согласованных, непротиворечивых знаний, ко-
торые затем проверяются на соответствие их действительности.
П. Дюгем полагал, что требование согласованности знаний
при описании физических фактов напрямую связано с систем-
ным характером физики, так как физика представляет собой не
набор изолированных гипотез, а систему взаимосвязанных по-
ложений. Поэтому он считал, что невозможно сепаратное опро-
534
Часть II. Глава 18
вержение или фальсификация отдельной гипотезы. Эти идеи
были подхвачены и дополнены в трудах Куайна.
О том, что новая, строящаяся теория должна формироваться
с опорой на согласованные идеи, как внутри ее, так и с другими
существующими теориями, соглашалось большинство предста-
вителей конкретно-научной мысли. Но как это реализовать на
практике, когда новые явления не вписываются в рамки старых
представлений?
В. Гейзенберг, вспоминая античное определение: «Красота
есть правильное согласование частей друг с другом и с целым»,
пишет: «Нет нужды объяснять, что этот критерий в высшей сте-
пени подходит к такому стройному зданию, каковым является
ньютоновская механика. Части суть отдельные механические
процессы — как те, которые мы тщательно изолируем с помо-
щью специальных устройств, так и те, которые протекают перед
нами в пестрой игре явлений и не могут быть распутаны. А це-
лое — единый формальный принцип, которому подчиняются
эти процессы и который был зафиксирован Ньютоном в виде
простой системы аксиом. Единство и простота — это, конечно,
не одно и то же. Но тот факт, что в подобной теории многому
противопоставляется единое, что многое в ней объединяется,
уже сам по себе приводит к тому, что теория — это воспринимае-
мая нами одновременно и как простая, и как прекрасная» [ Там
же, с. 275].
В работе «Часть и целое» (1957—1958) В. Гейзенберг защища-
ет перспективность «Единой теории поля». Он пишет о необхо-
димости анализа и учета требования согласованности во внутри-
научном формировании, организации и построении отдельной
теории, но обращает внимание создателей новой теории на глу-
бокое, методологическое вйдение требования согласованности
между теоретическими взаимосвязями.
18.5. Требование простоты
Методологический принцип красоты включает и выполне-
ние требования простоты. Над входом в физическую аудиторию
Гёттингенского университета большими золотыми буквами
по-латыни начертан девиз: «Simplex sigilium veri» («Простота —
печать истины»), а рядом с ним другой: «Pulchritudo splendor
veritatis» («Красота — сияние истины»). Взаимосвязь этих изре-
535
Философия науки
чений носит не случайный характер. Требования красоты и про-
стоты, связанные с необходимостью достижения истинного зна-
ния, отражают природу научного знания. В Античности возник-
ла натурфилософская, онтологическая интерпретация трактовки
простоты, согласно которой мир по своей структуре прост, а че-
ловек как часть его живет (либо должен жить) в гармоничном
сродстве с ним.
Впервые на методологический уровень вывел требование
простоты как условие формирования и функционирования ис-
тинного знания У. Оккам (1300—1349) — английский философ,
представитель позднего номинализма, выдвинувший против
схоластического реализма положение, получившее в современ-
ной интерпретации название «бритвы Оккама» или «принципа
бережливости», а именно: «Сущности не должны быть умножае-
мы сверх необходимости» (Entia non sunt miltiplicanda praeter
necessitatem), или (в ряде современных трактовок): «бесполезно
делать посредством многого то, что может быть сделано посред-
ством меньшего». Однако долгое время положение Оккама было
не ясно: о каких сущностях может идти речь? Как определить,
чтб значит необходимое, а чтб является не необходимым? И дру-
гие вопросы. Поэтому длительное время к высказыванию Окка-
ма относились довольно спокойно (если не с безразличием). Ме-
тодологическая эффективность принципа простоты стала на-
глядно проявляться только в начале Нового времени. И хотя сам
принцип простоты не подвергался методологическому анализу,
так как требование простоты казалось очевидным, но ученые-ес-
тествоиспытатели уже сознательно использовали его в своей на-
учной деятельности. И лишь спустя столетия, с середины XIX в.
стали понимать, что смысл понятия простоты неоднозначен и
требует специального анализа, что выполнение требования про-
стоты и принципа простоты носит важный методологический
характер в системе построения, организации, функционирова-
ния и сравнения как ненаучного, так и научного знания вообще
и научных теорий в частности.
А. Эйнштейн в 1916 г., будучи знаком с идеями Маха, призы-
вал к экономности и простоте. Цель построения хорошей теоре-
тической системы лежит прежде всего в «наиболее возможном
использовании логически независимых элементов (основных
понятий и аксиом)». «Основной целью всех теорий является соз-
дание этих несводимых элементов, которые, насколько это воз-
536
Часть II. Глава 18
можно, должны быть просты и немногочисленны» [Эйнштейн,
с. 132]. Эйнштейн утверждал: «Неудовлетворительной чертой
классической механики было то, что в ее фундаментальных за-
конах масса существовала в двух различных проявлениях: в виде
инертной массы — в законах движения, и в виде гравитационной
массы — в законе тяготения» [ Там же, с. 132]. Убеждение в экви-
валентности этих двух видов масс легло в основу общей теории
относительности. Он полагал, что нельзя теорию обременять до-
полнениями, которые, по его мнению, не присущи реальным яв-
лениям.
Эйнштейн связывал выполнение требования логической
простоты с внутренним совершенством теории. Понимая воз-
можность доуточнения этого положения, он пишет: «...речь идет
не об отношении к опытному материалу, а о предпосылках са-
мой теории, о том, что можно было бы кратко, хотя и не вполне
ясно, назвать «естественностью» или «логической простотой»
предпосылок (основных понятий и основных соотношений ме-
жду ними). Этот критерий, точная формулировка которого пред-
ставляет большие трудности, всегда играл большую роль при вы-
боре между теориями и при их оценке. Речь идет не просто о ка-
ком-то перечислении логически независимых предпосылок
(если таковое вообще возможно однозначным образом), а о сво-
его рода взвешивании и сравнении несоизмеримых качеств. Да-
лее, из двух теорий с одинаково «простыми» основными положе-
ниями следует предпочесть ту, которая сильнее ограничивает
возможные априори качества систем (т. е. содержит наиболее
определенные утверждения) [Там же, с. 266—267].
Итак, требование логической простоты рассматривается од-
ним из важнейших в построении, функционировании и сущест-
вовании критерия «внутреннего совершенства теории». При
этом гносеологическое требование простоты носит не субъек-
тивный, а онтологически нагруженный характер.
* * *
Принцип красоты представляет собой целостную систему
требований, которые носят взаимосвязанный и взаимопрони-
кающий характер. Через возникающее чувство красоты, благода-
ря системе взаимосвязей, включающей социально-культурные
ориентиры, формируется художественно-целостный образ вос-
537
Философия науки
приятия. Этот образ является фундаментом становления поня-
тия, научной идеи, гипотезы. Благодаря ему исследователь схва-
тывает сущность события (до этого неизвестного) и постигает
его смысл. Через выполнение требований принципа красоты
происходит опредмечивание смысла в логической понятийной
форме организации и построения научного знания. При, этом
идет становление структурной формы его организации и форми-
рование смысла нового закона природы, управляющего протека-
нием этих явлений. Принцип красоты отражает на теоретиче-
ском уровне знания реальные взаимосвязи системы событий.
Если принцип красоты действует как «начальная система отсче-
та», то вся система методологических принципов, актуализи-
рующаяся по мере необходимости, помогает довести до опреде-
ленного совершенства построение содержания нового знания,
новой научной теории.
Принцип красоты занимает место «начальной системы от-
счета» в «теоретической иерархии» знания в области физики и
других научных дисциплин. Редуцирование принципа красоты
к простой сумме выполнения четырех требований неверно и
ошибочно. Обладая собственной спецификой, формируя но-
вый, надындивидуальный смысл строящейся теории, он связан
с другими принципами научного познания через категории
объяснения, интерпретации, инвариантности, согласованности,
системности, простоты, способствуя развитию и действию цело-
стной системы методологических принципов.
Принцип красоты, с одной стороны, кажется тривиально
простым и интуитивно ясным. Но с другой стороны, он же явля-
ется наиболее сложным для исследования, так как по сравнению
с другими принципами он наименее нагляден, наиболее абст-
рактен и на первый взгляд наиболее субъективен.
Принцип красоты занимает важное место «начальной систе-
мы отсчета» в «теоретической иерархии» не только, как уже ска-
зано, знания в области физики и других научных дисциплин, но
и в области сравнения уже готовых, ставших теорий. Самая глав-
ная его функция заключается в том, что он создает и придает
смысл строящемуся и функционирующему знанию, создавая в
дальнейшем возможность понимать, интерпретировать и объяс-
нять данную научную теорию.
538
Часть II. Глава 18
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Адо П. Плотин, или простота взгляда. М.: Греко-латинский кабинет
Ю.А. Шичалина, 1991.
Вигнер Е. Инвариантность и законы сохранения. Этюды о симметрии. М.:
УРСС, 2002.
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М.: Прогресс, 1987.
Голод П.И., Климык А.У Математические основы теории симметрий. М.;
Ижевск: РХД, 2001.
Дирак П. Эволюция физической картины природы // Элементарные части-
цы. Вып. 3. 1965.
Кальотти Д. От восприятия к мысли. М.: Мир, 1998.
Котина С.В. Наука & Красота. М.: МФТИ, 2004.
Котина С. В. Поиск красоты. Роль эстетических ориентаций в формирую-
щейся научной теории. М.: Вестком, 2002.
Котина С.В. Web-сайт http://www.philosophy.fizteh.ru
Пуанкаре А. Математическое творчество // Адамар Ж. Исследование психо-
логии процесса изобретения в области математики. М.: Сов. радио, 1970.
С. 135-145.
Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., 1981.
Шубников А.В., Копцик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М.; Ижевск:
Институт компьютерных исследований, 2004.
Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. IV. М.: Наука, 1967.
Kotina S. Through the «semantic discussion field» and the principle of beauty to
the growth of scientific knowledge // Epistemological problems of science (in the
works of Russian philosophers. Moscow, 1993. P. 31—33).
ВОПРОСЫ
1. Методологические принципы как ядро научного метода. Эври-
стическая роль методологических регулятивов научного знания.
2. Методологический принцип красоты. Действие принципа красо-
ты в системе методологических регулятивов научного знания.
3. Системный характер научной теории. Тезис Дюгема—Куайна.
Проблема проверки научного знания. Выполнение требований
принципа красоты как повышение степени вероятности того, что
строящаяся теория может претендовать на статус научной.
4. Специфика действия принципа красоты. Красота как один из
этапов формирования гипотезы.
5. Красота как схватывание сущности «первого порядка» (Плотин).
6. Системный характер принципа красоты. Принцип красоты в
«жестком» изложении и в «слабом» виде.
7. Субъективные и надындивидуальные аспекты красоты. Выпол-
нение требования надындивидуального понимания при органи-
зации и построении научной теории как одного из условий дей-
ствия принципа красоты.
539
Философия науки
8. Выполнение требования инвариантности как одного из условий
действия принципа красоты в организации, становлении, функ-
ционировании научной теории.
9. Выполнение требования согласованности (системности) как од-
ного из условий действия принципа красоты в организации, ста-
новлении, функционировании научной теории.
10. Выполнение требования простоты как одного из условий дейст-
вия принципа красоты в организации, становлении, функциони-
ровании научной теории.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вейль Г. Симметрия. М.: УРСС, 2003.
Котина С.В. Наука & Красота. М.: МФТИ, 2004.
Котина С.В. Поиск красоты. Роль эстетических ориентаций в формирую-
щейся научной теории. М.: Вестком, 2002.
Глава 19
ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ
И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИТИ
19.1. Философия техники
как дисциплина и концепция
Привычный образ техники как орудий труда и машин уже
давно не может удовлетворить философов и ученых. Сегодня к
технике помимо указанных здесь традиционных технических
реалий относят и техническую среду, и сложные технические
системы, и технологию, и отчасти естественно-научные знания,
и даже, как мы увидим дальше, массовые популяции животных в
больших городах. Какое же понятие техники нам нужно, чтобы
включить все эти образования в технику, а также объяснить ее
развитие и влияние на прошлую и современную жизнь? Эта за-
дача и является одной из основных в философии техники.
В последние годы растет количество работ (как научных, так
и обращенных к широкой общественности), посвященных ос-
мыслению техники, ее влиянию на современную жизнь, анализу
кризиса техногенной цивилизации, поиску путей его преодоле-
ния. Если в 60—70-х гг. XX в. практическое отношение в этой
области ограничивалось прогнозированием научно-техническо-
го развития, то на рубеже XXI в. можно уже говорить о становле-
нии настоящей новой практики, включающей в себя институты
оценки техники и различные проекты, ориентированные на вы-
работку нового понимания и отношения к технике [Ефременко].
Еще один показатель возросшего интереса к общим проблемам
и осмыслению техники — увеличение в университетах Европы и
США спецкурсов, посвященных различным темам философии
техники.
Философское осмысление техники относится к концу XIX и
главным образом к XX столетию. Конечно, в истории филосо-
фии встречается рефлексия по поводу техники, но эта рефлексия
541
Философия науки
была, если можно так сказать, неспецифичной. Например, в ан-
тичной философии появляется понятие «техне», но оно означа-
ет, собственно, не технику, а всякое искусство делания вещей,
начиная от создания картин и скульптуры и заканчивая техниче-
скими изделиями, например военными машинами. Но Ф. Бэкон
уже обсуждает возможность изготовления машин и технических
изделий и пользу, которую они могут принести людям. Однако
это обсуждение не имеет в виду сам феномен и природу техники,
поскольку она еще не выделилась в сознании новоевропейского
человека в качестве самостоятельной и, главное, проблемной ре-
альности. Только в XIX столетии техника не только осознается
как самостоятельная реальность, но и появляются специфиче-
ские формы рефлексии этой реальности: сначала — в методоло-
гии технических наук, потом (или почти одновременно) — в фи-
лософии.
В наше время все больше признается влияние техники на все
стороны жизни человека, а также социальность (характер и каче-
ство социальной жизни, социальные отношения и т. п.), и посте-
пенно преодолевается оппозиция, характерная для первой поло-
вины XX в., а именно: техника — это счастье и благо или источ-
ник кризиса и гибели нашей цивилизации. Философы и ученые
приходят к пониманию, что техника — это очень сложное явле-
ние для научного исследования. Познание современной техники
должно соединить в себе взгляд на нее как на искусственный фе-
номен, ведь именно человек замышляет и создает технические
устройства (механизмы, машины, технические сооружения), и
на феномен естественный (техника как «постав», по М. Хайдег-
геру, как техноценоз, «техника как порождающая другую техни-
ку», по Б. Кудрину). Нужно связать взгляд на технику как мате-
риальное воплощение идей и проектов, как на знание и различные
формы осмысления техники (т. е. «концепты техники»), объеди-
нить трактовку техники как самостоятельной реальности и ре-
альности социальной («Технические и социальные изменения
идут вместе, «в пакете», и, если мы хотим понять каждое, мы
должны постараться понять оба», — пишут В. Бийкер и Д. Лоу;
«В основании происходящей перемены, — вторит им Д. Ефре-
менко, — лежит стремление анализировать развитие техники и
связанную с ними социальную динамику как единый, целост-
ный процесс» {Morison, 1986, р. 11; Ефременко, 2002, с. 168])-
542
......... .......... .......... _ Часть II. Глава 19
При этом уяснение природы техники — это не просто созер-
цание технической действительности, а вопрос б возможности
влиять на ее развитие. Так называемое чисто объективное, неза-
интересованное изучение техники сегодня малопродуктивно и
может лишь усугубить кризис, вызванный, конечно, не только
техникой, но и техникой в том числе. Напротив, изучение техни-
ки предполагает признание неблагополучия, кризиса культуры и
требование понять технику как момент этого неблагополучия.
В этом плане техника является неотъемлемой стороной совре-
менной цивилизации и культуры, органически связана с их цен-
ностями, идеалами, традициями, противоречиями. Но кризисы,
особенно глобальные, угрожающие жизни, необходимо преодо-
левать. Следовательно, изучение техники должно помочь в раз-
решении кризиса нашей культуры, должно исходить из идей ог-
раничения экстенсивного развития техники (или даже отказа от
традиционно понимаемого технического прогресса), трансфор-
мации технического мира, концепций создания принципиально
новой техники, т. е. такой, с которой может согласиться человек
и общество, которое обеспечивает их безопасное развитие.
Существует много концепций философии техники, но не все
они равноценны. Примерами плодотворных концепций филосо-
фии техники являются исследования М. Хайдеггера, Б.И. Куд-
рина, X. Сколимовски. Рассмотрим концепцию последнего, дос-
таточно точно изложенную в работе Д.В. Ефременко «Введение
в оценку техники». Центральным наблюдением Сколимовски
является факт трансформации реальности под влиянием техни-
ки. Анализируя процесс создания автомобиля, потянувший за
собой формирование новой техники, потребностей и среды,
Сколимовски сравнивает между собой представление о реально-
сти в науке и в технике.
«Философы нашего времени, — пишет Сколимовски, —
включая имеющих отношение к философии техники, еще не
осознали, что преобразующая сила феномена техники порожда-
ет беспрецедентные онтологические проблемы. Мы вновь выну-
ждены отвечать на извечный вопрос: что такое реальность? Ко-
гда Платон рассматривал парадоксы элейских философов, та-
ких, как Зенон и Парменид, он обнаружил, что задача
постижения реальности столь велика, что он был вынужден соз-
дать свою собственную онтологию — универсум постоянных
форм, которые являются корнем всего сущего. Метаморфозы
543
Философия науки
реальности посредством техники ставят нас перед тем же самым
вопросом, который преследовал Платона (и всех философов с
тех пор): что есть реальность? Адекватный ответ на этот вопрос
не может быть получен посредством перетасовки старых онтоло-
гических категорий. Те, кто жалуется, что философия закончи-
лась, поскольку нет более новых задач для рефлексии, просто иг-
норируют новые реалии — человеческие и онтологические, —
созданные благодаря современным науке и технике. Я исполь-
зую термин «созданные» преднамеренно, поскольку... идея о
том, что мы просто открываем реальность, есть устарелая кон-
цепция, которую мы должны отправить в архив истории» (цит.
по: [Ефременко, 2002, с. 80—81]).
Сравнивая концепцию Сколимовски с концепциями X. Ор-
тега-и-Гасета и М. Хайдеггера, Ефременко делает следующий
вывод: «Позиция X. Сколимовски представляется в каком-то
смысле более радикальной и синтезирующей подходы М. Хай-
деггера и Ортеги, поскольку он ведет речь о метаморфирующей
реальности (пусть даже человеческой реальности) в ходе техни-
ческой деятельности. В самом деле, техническая реальность,
реализация какого-либо проекта есть создание новой реально-
сти, в которой осуществляются некоторые потенции прежней
реальности. Форма же их воплощения выражает сущность чело-
века, не человека вообще, а человека в конкретных обстоятель-
ствах времени и места. Причем не одномоментный акт, но, как
показывает рассмотренный выше пример с автомобилем, исто-
рический процесс метаморфирования, на разных стадиях кото-
рого по-разному обнаруживает себя сущность человека».
«С точки зрения Сколимовски, — подчеркивает Д. Ефремен-
ко, — вся познанная реальность является искусственной, или
очеловеченной (man-made). Все существующее вне нашего зна-
ния не является для нас реальностью. При этом техника создает
собственное подмножество реалий. Таким образом, Сколимов-
ски формулирует особую эпистемологическую позицию, назы-
вая ее креационистской эпистемологией. Эта эпистемология
призвана дополнить и поддержать идею метаморфирующего
реализма».
Наконец, Д. Ефременко указывает еще на одну важную идею
Сколимовски. «Последний трактует технику как нормативную и
преобразующую форму знания. Ее преобразующая сила столь
громадна и ее возможности для изменения жизненного мира че-
544
Часть II. Глава 19
ловека столь значительны, что эти атрибуты делают технику бес-
прецедентным явлением в истории. Как следствие, Сколимов-
ски настаивает на том, что техника выступает фактором, обу-
словливающим социальную реальность. Из трактовки
технического знания и знания вообще как нормативного следу-
ет, что оценка техники должна быть нормативной, что она смо-
жет стать основой социальной философии» [ Там же, с. 80—8,6].
Все три центральные идеи Сколимовски — техника пред-
ставляет собой феномен метаморфирования реальности (т. е. ре-
альности, претерпевающей метаморфоз), предполагает новое
понимание как самой реальности, так и знания и по сути являет-
ся составляющей и детерминантом социальной реальности —
представляются мне крайне важными. Другое дело, что неясен
механизм всего этого. Впрочем, этот механизм не прояснен и
в других социально-детерминистических концепциях. В книге
Д. Ефременко мы находим много примеров этих концепций со
столь же интересными, как и у Сколимовски, утверждениями, с
которыми хотелось бы согласиться, но которые требуют раскры-
тия механизма связи техники с социальными реалиями. Напри-
мер, в 1982 г. на годичном заседании Союза немецких инженеров
прозвучала следующая мысль: «Когда принимается определен-
ная общественная цель и доказывается, что для ее достижения
необходима определенная техника, то такая техника также будет
принята. Техника при этом интерпретируется не просто как при-
кладная наука, но как ориентированная на деятельность полно-
ценная система знаний, эквивалентная другим подобным сис-
темам. Развитие техники рассматривается уже не как эволю-
ционное или квазиэволюционное, но скорее как социальная
конструкция или социальное формирование техники» [Ефремен-
ко, 2002, с. 111].
19.2. Сущность техники
Что представляет собой техника как реальность модернити?
Попробуем ответить на этот вопрос, характеризуя технику в ка-
тегориальном пространстве, заданном четырьмя основными ко-
ординатами.
1. Техника как артефакт. В отличие от явлений первой при-
роды технические изделия (орудия, механизмы, машины, соору-
18 Философия науки
545
Философия науки
жения, техническая среда), даже очень сложные, например го-
родские структуры или космические системы, являются искус-
ственными образованиями, т. е. артефактами. Определяя
технику как артефакт, обычно подчеркивают именно это: техни-
ка — не явление первой природы, она создана человеком. «При-
рода, — пишет К. Маркс, — не строит ни машин, ни локомоти-
вов, ни железных дорог, ни электрического телеграфа, ни сель-
фактов. Все это продукты человеческого труда, природный
материал, превращенный в органы человеческой воли, власт-
вующей над природой, или человеческой деятельности в приро-
де» [Маркс, Энгельс, т. 46, ч. 2, с. 215]. «Дарвин интересовался ис-
торией естественных технологий... образования растительных и
животных органов, которые играют роль орудий производства в
жизни растений и животных... но человеческая история тем и от-
личается от истории природы, что первая сделана нами, вторая
же сделана не нами» [ Там же, т. 23, с. 383]. Человек, вторит Мар-
ксу отец философии техники Э. Капп, в отличие от животного
обладает способностью к творению и артификации; в одном сло-
ве «артефакты» мы обнимаем всю систему механических при-
способлений [Капп, 1925, с. 97, 127].
Все это правильно, но затеняет два обстоятельства, а именно,
что техника не только сделана человеком, но и является своеоб-
разной природой (второй, третьей, социальной), а также что тех-
ника как артефакт сегодня воспринимается не только наравне с
первой природой, но даже как реальность более естественная и
непосредственная, чем явления первой природы. Действительно,
отдадим себе отчет: с явлениями первой природы современный
человек фактически уже дела не имеет. Вся наша среда искусст-
венная (температура, освещение, условия проживания и т. п.),
пища тоже; явления первой природы интересуют нас или как
сырье, т. е. опять как момент техники, или как экологические ус-
ловия, параметры которых мы должны поддерживать для жизни
человека, а следовательно, это тоже продукт нашей деятельно-
сти, или как эстетический феномен (пейзаж и прочее), то есть и в
данном случае мы имеем дело, как говорит Маркс, с «природой»,
сделанной нами. Действие и присутствие техники, начиная с
XX столетия, воспринимается как основная реальность, реаль-
ность по преимуществу, и, хотя техника сделана человеком,
именно она в настоящее время выступает в сознании обычного
человека как «естественное», а первая природа — скорее как «ис-
546
Часть II. Глава 19
кусственное», поскольку ее явления в одних случаях нужно ис-
пользовать по назначению, а в других сохранять.
Есть еще одно соображение. По привычке сущность челове-
ческого, да и социального существования мы относим к естест-
венному бытию, которое понимается как сакральное начало
(Бог, Разум, Интеллигенция) или как природа. Во всяком случае
как начало, не зависящее от человека, а, напротив, определяю-
щее его. Техника как артефакт заставляет нас видеть действи-
тельность иначе. Действительность столь же продукт иных на-
чал, сколько и нас самих, нашего творчества и понимания. Но
это означает, что сущность нашего бытия, как верно отмечал
М. Хайдеггер, заключается в технике; конечно, не только в ней,
но в ней в том числе.
2. Техника как концептуализация и искусство изготовления из-
делий. Сравнивая два понимания техники (характерное для ар-
хаической культуры и современное [Розин, 2001, с. 81—84,
130—140]), мы видим, что они различны (первое существует в
рамках анимистического, сакрального мироощущения, а вто-
рое — в рамках рационального, естественно-научного). Можно
предположить, что различие этих пониманий обусловлено раз-
личием культур. Как правило, в понимании техники (будем на-
зывать его «концептуализацией техники» или «технической реф-
лексией») можно различить два момента: осмысление того, что
собой представляет техника как феномен (действие духов или
богов, синергия действий человека и природы и т. п.), и объяс-
нение эффектов техники, т. е. того, почему техника позволяет
получить нужный результат (человек не может вызвать своей
мускульной силой какое-то явление, но, создав техническое из-
делие, вызывает это явление; он не может летать, но, сделав са-
молет, летит).
Концептуализация техники, вероятно, возникает вместе с
ней самой, поскольку в культуре каждое явление должно быть
осмыслено — понято и выражено в языке. Тем более техника,
создающая для человека реальность, по преимуществу позво-
ляющая ему выжить и успешно действовать. Понимание и выра-
жение техники в языке необходимо и для нащупывания пра-
вильных действий человека. Здесь возникает принципиальный
вопрос, который уже давно обсуждается в философии техники:
нужно ли считать искусство, порождающее технические арте-
факты, техникой? В «Философском словаре» 1991 г. читаем:
18’
547
Философия науки
«Техника (от греч. techne — искусство, навыки, мастерство) в ка-
честве понятия имеет два смысла. В первом обозначает орудия и
инструменты труда и любые искусственные устройства (арте-
факты), созданные человеком и используемые для преобразова-
ния окружающей среды... Во втором смысле обозначает систему
навыков, уровень мастерства в реализации того или иного вида
деятельности» [Философский словарь, с. 456—457].
А.В. Бондарь, обсуждая эти два смысла, которые он называет
соответственно «узким» и «широким», пишет следующее: «Если
дуалистические различия в определении техники как были пре-
жде, так и сохраняются сегодня, то нельзя не присоединиться к
тем исследователям, кто продолжает считать, что пока «данное
положение полностью не преодолевает свой дискуссионйый ха-
рактер, как в смысле методики, так и тематики». Если это так, то
приходится соглашаться с тем, что в методическом отношении
оно по-прежнему содержит в себе противоречия, то есть остает-
ся нерешенной проблема, где задача как раз состоит в том, чтобы
сделать очевидной взаимозависимость между узким и широким
аспектами техники» [Бондарь, 2001, с. 20].
С моей точки зрения, техника — это не только артефакты,
но и техническое искусство (техническая деятельность), приво-
дящее к данным артефактам, и различные концептуализации
техники, которые меняются под влиянием культуры. Нащупы-
вая и выстраивая действия, приводящие к нужным человеку ре-
зультатам и артефактам, техник одновременно создает и соот-
ветствующие концептуализации техники, именно как необходи-
мое условие разворачивания технического искусства. Например,
искусство (техника) подъема скульптурных изображений тотем-
ных духов на острове Пасха неотделимо от анимистического
объяснения этой техники («духи сами встают и идут», а действия
человека склоняют их это сделать [Розин, 2001, с. 81—84]). Исто-
рические наблюдения показывают, что часто именно неправиль-
ная концептуализация техники не позволяет решить новую тех-
ническую задачу и нащупать нужное техническое искусство. На-
пример, как в случае с созданием аппаратов тяжелее воздуха в
античной культуре и в эпоху Возрождения, которые не поднима-
лись в воздух, как птицы, а падали.
Одну из первых концептуализаций, способствовавших раз-
витию техники, как известно, наметил Аристотель, который раз-
личил, с одной стороны, «природу» и «естественное изменение»,
548
Часть II. Глава 19
с другой — «искусство» (в античном понимании — это всякое из-
готовление, включая техническое) и «деятельность». Искусство
и деятельность Аристотель связывает с достижением цели и спо-
собностью действовать в отношении определенного предмета.
Искусство, с точки зрения Аристотеля, опирается на опыт и на-
учные знания (знания «причин» и «начал»).
«Из различных родов изготовления, — пишет Аристотель в
«Метафизике», — естественное мы имеем у тех вещей, у которых
оно зависит от природы... природою в первом и основном смыс-
ле является сущность вещей, имеющих начало движения в самих
себе как таковых...» [Аристотель, 1934, с. 82, 123]. «Названием
способности прежде всего обозначается начало движения или
изменения, которое находится в другом, или поскольку оно —
другое, как, например, строительное искусство есть способ-
ность, которая не находится в том, что строится... Далее идет
способность совершать такое-то дело удачно или согласно выбо-
ру: ведь если люди только начали идти или сказали, но вышло
нехорошо или не так, как они наметили (т. е. речь идет о цели. —
В.Р.), — о таких людях мы иной раз не скажем, что они способны
говорить или идти» [Там же, с. 91—92].
Заметим, что природа и естественное понимались в Антич-
ности не так, как в культуре Нового времени. Естественное про-
сто противопоставлялось искусственному, т.е. сделанному или
рождающемуся самостоятельно. Природа понималась как один
из видов бытия, наряду с другими, а именно как такое «начало,
изменение которого лежит в нем самом». Природа не рассматри-
валась как источник законов природы, сил и энергий, как необ-
ходимое условие инженерного действия. В иерархии начал бы-
тия природе отводилась хотя и важная (источника изменений,
движения, самодвижения), но не главная роль. Устанавливая
связь действия и знания, Аристотель апеллировал не к устройст-
ву природы, а к сущности деятельности. В результате получен-
ные в античности знания и способы их использования, по Ари-
стотелю, только в некоторых случаях давали благоприятный, за-
планированный эффект.
Вероятно, поэтому гениальное открытие Аристотеля смогли
удачно освоить и использовать (да и то в отдельных областях)
только отдельные, исключительно талантливые ученые-инжене-
ры, например Эвдокс, Архит, Архимед, Гиппарх. (К тому же
многие из них всегда помнили наставления Платона, утверждав-
549
Философия науки
шего, что занятие техникой вообще уводит от идей и неба, за-
трудняя путь к бессмертию.) Подавляющая же масса античных
техников действовали по старинке, т. е. рецептурно, большин-
ство из них охотнее обращались не к философии, а к магическим
трактатам, в которых находили принципы, вдохновляющие их в
практической деятельности. Например, такие: «Одна стихия ра-
дуется другой», «Одна стихия правит другой», «Одна стихия по-
беждает другую», «Как зерно порождает зерно, а человек челове-
ка, так и золото приносит золото» [Дильс, 1934, с. 116, 127].
3. Техника как опосредование. Многие философы техники пи-
шут, что техника есть посредник между человеком и природой.
Но более важно, что техника есть посредник, точнее, опосредо-
вание, т. е. окольный путь и создание средств между техническим
замыслом и его реализацией. Вспомним историю с изобретени-
ем аэроплана. Сначала идея «полета человека» возникла в сфере
воображения и замышления. В мифах архаических народов че-
ловек превращается в птицу и летает. В Древней Греции был соз-
дан миф об Икаре, который, подобно ремесленнику, изготовил
из перьев и воска крылья, чтобы летать, и действительно поле-
тел. Но не реально, а в пространстве воображения. Причем, для
того чтобы подчеркнуть отличие замысла от реальности, невоз-
можность его реализации, авторы мифа предусмотрели печаль-
ный конец.
Вполне в аристотелевском духе полет человека концептуали-
зировался в следующем рассуждении: птица летает потому, что у
нее есть крылья, которыми она машет; если бы у человека были
крылья, то и он бы летал. То есть, двигаясь в мышлении, нашли
последнее звено — крылья, которые уже могли быть созданы че-
ловеком (техником), выяснившим причину полета. Сегодня мы
понимаем, что данная концептуализация неверна, поэтому и
практические усилия в этом направлении не могли привести к
успеху. Но еще Леонардо следует данной концептуализации и
тоже терпит неудачу.
«На протяжении всей своей жизни, — пишет К.В. Фролов, —
Леонардо работал над созданием летательных машин тяжелее
воздуха. Для этого он тщательно изучает полет птиц, каким об-
разом они взлетают и совершают посадку, анатомию их лета-
тельных органов, кинематику и динамику их полета. Далее он
переходит к изучению того, что сегодня мы называем бионикой:
движения крыла и хвоста у птиц, влияние расположения центра
550
Часть II. Глава 19
тяжести птицы на механику полета. Леонардо проектирует раз-
личные летательные аппараты, в частности махолеты. В дошед-
ших до нас эскизах и чертежах Леонардо содержатся разработан-
ные им различные конструкции крыльев, двигательные меха-
низмы, механизмы управления» [Фролов, 2003, с. 38—39].
Наконец, в конце XIX — начале XX столетия инженеры вы-
шли на идеи и расчеты подъемной силы крыла, винта и мотора,
что и позволило создать первые летающие аппараты. Как мы ви-
дим, замысел полета человека сложился задолго до того, как уда-
лось построить первый аэроплан. На пути к нему техники вы-
шли сначала на идею создания крыльев, затем аппарата тяжелее
воздуха (махолета), наконец, самолета. Иначе говоря, чтобы реа-
лизовать технический замысел (например, летать), необходимо
сначала создать определенное техническое устройство (крылья,
махолет, самолет).
Итак, техника может быть рассмотрена еще одним способом:
это опосредование, складывающееся при реализации сначала
культурного (мифологическая идея полета человека, литератур-
ная идея виртуальных систем в научной фантастике XX столетия
и т. д.), а потом технического замысла. Как опосредование тех-
ника связывает между собой замысел и реализацию и предполагает
создание технического устройства, обеспечивающего эту реализа-
цию. Правда, первоначально, в Древнем мире, идея создания
технического устройства сливалась с идеей технического искус-
ства, поскольку техника концептуализировалась сакрально, как
действие духов или богов. «Техники» того времени думали, что
создание изделий сводится к нахождению действий (т. е. мастер-
ству, искусству), склоняющих сакральные силы действовать так,
как это нужно человеку. Если же говорить об объективном про-
цессе, то характеристики технического изделия в Древнем мире
нащупывались в пространстве «смысла, опыта и эффективно-
сти». Как правило, ведущими были смысловые координаты (струк-
туры), которые затем корректировались на основе опыта и эф-
фективности. Например, архаическая идея лечения конституи-
ровалась представлением о том, что болезнь — это выход души
человека из его тела, поэтому, чтобы человек выздоровел, нужно
вернуть душу назад, в тело. Покидает же душа тело потому, что
ей стало или холодно, или жарко или она захотела есть и пошла
искать пищу; отсюда и «логика» лечения: в первом случае чело-
551
Философия науки
века нужно согреть, во втором — охладить, в третьем — предло-
жить еду.
В Античности техническое искусство как нащупывание пра-
вильных технических действий и технические действия, направ-
ленные на создание технического изделия, постепенно начина-
ют расходиться. Способствовала этому, в частности, оппозиция
аристотелевских категорий форма — материя — деятельность.
В Средние века оппозиция этих двух пониманий техники уже
сознательно обсуждается в философии. И вот почему. С точки
зрения средневекового мастера (техника), создание вещей есть
всего лишь подражание Творцу, который по слову мистически
творит вещи из ничего. Человек же только подготавливает
материал вещи, придавая ему форму произведения, необходи-
мую для божественного акта творения. Мастерство — это и при-
готовление такой формы (произведения), и действие через мас-
тера божественного акта творения, т. е. синергия человеческих и
божественных усилий-действий. Другими словами, вместе с иде-
ей приготовления формы вещей и необходимого для этого мас-
терства в технику начинает входить идея создания технического
изделия как необходимое условие реализации технического за-
мысла [Неретина, 1999, с. 192—195; 199—200].
Идеи эпохи Возрождения — «проекта» и «строя» — уже впол-
не приближаются к современным. Строй — это устройство ве-
щей, созданных по техническому замыслу (проекту), выражаю-
щее не материал, а вещь как произведение инженера. Осталось
только понять, какими свойствами нужно наделять форму, ка-
ким должен быть строй, чтобы реализовались не «божественный
жар», а силы и энергия природы. Если для Марсилия Фичина,
обсуждающего, что такое прекрасное, в строе прежде всего во-
площается божественная энергия («сияние»), во вторую оче-
редь — силы природы, то для Леонардо да Винчи — главным об-
разом природа. Тем не менее в объективном плане определение
характеристик технического изделия по-прежнему основыва-
лось преимущественно на опыте, что, например, видно из ана-
лиза работ Леонардо да Винчи. Хотя он использует математиче-
ские знания и эмпирические наблюдения природных явлений,
окончательные параметры технических изделий определяются
им в многочисленных опытах.
Чтобы понять, как конкретно эти идеи и представления пре-
ломлялись в инженерном творчестве Леонардо да Винчи, приве-
552
Часть II. Глава 19
п&м реконструкцию того, как могло состояться одно его изобре-
тение — парашют. Начинает Леонардо всегда с опытов, о чем он
пишет в своих тетрадях, а именно в данном случае — с наблюде-
ний за падающими телами. В результате ему удается получить
знание, которое он оформляет в математической форме: «тяже-
лые тела падают быстро, ускоренно, а легкие — медленно, рав-
номерно». Это знание подсказывает Леонардо идею инженерно-
го сооружения — парашюта. Вероятно, он рассуждал так: если
соединить (связать) тяжелое тело с легким и предоставить им
свободно падать с большой высоты, то скорость тяжелого тела
затормозится легким. Первое воплощение этого замысла Лео-
нардо осуществляет в графической форме, создавая наброски
парашютов. Заметим, что ответить на вопрос, с какой конкретно
скоростью будет падать парашют, Леонардо не мог. Чтобы опре-
делить эту скорость и понять, с какими именно легкими телами
нужно связать тяжелое тело, необходимо было ставить дополни-
тельные, часто многочисленные, опыты, т. е. создавать опытные
образцы парашюта (второе материальное воплощение замысла)
и проверять на них исходную инженерную идею.
Только в культуре Нового времени совместными усилиями
философов, ученых и техников удалось сформировать новый,
собственно инженерный способ создания технических изделий,
где реализация технического замысла опосредуется изучением
процессов природы и построением математических моделей этих
процессов. В отличие от Леонардо, творившего природу, Галилей
хочет заставить природу работать на человека. С его точки зре-
ния, природа «написана на языке математики», т. е. если к ней
прорваться, то человек увидит природные процессы, подчиняю-
щиеся математическим отношениям. На поверхности же приро-
да выступает иначе, скрывая свою подлинную сущность. Чтобы
заставить природу раскрыться, т. е. действовать так, как на это
указывает математический язык, Галилей превращает опыт в
эксперимент. В последнем природные процессы трансформиру-
ются с помощью технических средств таким образом, что начи-
нают вести себя по логике, предписываемой математической
теорией (математическими моделями). Но понимает Галилей
свою задачу как построение новой науки о природе, позволяю-
щей строить такие технические сооружения, которые действуют
на основе законов природы [Розин, 2001, с. 132—141].
553
Философия науки
Галилей не ставил своей специальной целью получение зна-
ний, необходимых для создания технических устройств, для оп-
ределения параметров реальных объектов, которые можно поло-
жить в основание таких устройств. Когда он в своей знаменитой
работе по механике вышел на идею использования наклонной
плоскости и далее определил ее параметры, то решал эту задачу
Галилей как одну из побочных в отношении основной — по-
строения новой науки, описывающей законы природы. Гюйгенс
же в качестве основной ставит задачу, которая по отношению к
галилеевской выступает как обратная. Если Галилей считал за-
данным определенный природный процесс (свободное падение
тела) и далее строил знание (теорию), описывающее закон про-
текания этого процесса, то Гюйгенс ставит перед собой обрат-
ную задачу: по заданному в теории знанию (соотношению пара-
метров идеального процесса) определить характеристики реаль-
ного природного процесса, отвечающего этому знанию.
На самом деле, как показывает анализ работы Гюйгенса, за-
дача, которую он решал, была более сложная: не только опреде-
лить характеристики природного процесса, описываемого за-
данным теоретическим знанием, но также получить в теории до-
полнительные знания, выдержать условия, обеспечивающие
отношение изоморфизма между параметрами математической
модели и характеристиками идеализированного природного
процесса, и определить параметры объекта, которые может регу-
лировать сам исследователь. Кроме того, выявленные параметры
нужно было конструктивно увязать с другими, определяемыми
на основе опытных соображений так, чтобы в целом получилось
действующее техническое устройство, в котором бы реализовал-
ся природный процесс, описываемый исходно заданным теоре-
тическим знанием. Другими словами, Гюйгенс пытается реали-
зовать мечту и замысел техников и ученых Нового времени: ис-
ходя из научных теоретических соображений запустить
реальный природный процесс, сделав его следствием человече-
ской деятельности. И надо сказать, это ему удалось [Там же,
2001].
С работ Гюйгенса естественно-научные знания (механика,
оптика и др.) начинают систематически использоваться для соз-
дания разнообразных технических устройств. Для этого в естест-
венной науке инженер-ученый выделяет или строит специаль-
ную группу теоретических знаний. При этом именно инженер-
554
Часть II. Глава 19
ные требования и характеристики создаваемого технического
устройства влияют на выбор таких знаний или формулирование
новых теоретических положений, которые нужно доказать в тео-
рии. Эти же требования и характеристики (в случае исследова-
ния Гюйгенса это было требование построить изохронный маят-
ник, а также технические характеристики создаваемых в то вре-
мя механических конструкций) показывают, какие физические
процессы и факторы необходимо рассмотреть (падение и подъем
тел, свойства циклоиды и ее развертки, падение весомого тела по
циклоиде), а какими можно пренебречь (сопротивлением возду-
ха, трением нити о поверхности). Наконец, исследование теории
позволяет перейти к первым образцам инженерного расчета
[Там же, 2001].
Расчет в данном случае, правда, предполагал не только при-
менение уже полученных в теории знаний механики, оптики,
гидравлики и т. д., но и, как правило, их предварительное по-
строение теоретическим путем. Расчет — это определение харак-
теристик технического устройства, исходя, с одной стороны, из
заданных технических параметров (т. е. таких, которые инженер
задавал сам и мог контролировать в существующей технологии),
а с другой — из теоретического описания физического процесса,
который нужно было реализовывать техническим путем. Описа-
ние физического процесса бралось из теории, затем определен-
ным характеристикам этого процесса придавались значения
технических параметров и, наконец, исходя из соотношений,
связывающих в теории характеристики физического процесса,
определялись те параметры, которые интересовали инженера.
В трактате о часах Гюйгенс провел несколько расчетов: длины
простого изохронного маятника, способа регулирования хода
часов, центров качания объемных тел.
Суммируем теперь, как выглядят в объективном плане этапы
нового, инженерного способа создания технического изделия.
1. Техническое действие в гипотетической плоскости сводит-
ся к определенному природному процессу (например, движению
по инерции и свободному падению снаряда при артиллерийской
стрельбе, как в случае Галилея, или делению ядер урана в ядерном
реакторе, что имело место в XX столетии).
2. В ходе естественно-научного изучения этого природного
процесса подбирается или специально строится математическая
модель, описывающая основные особенности исследуемого
555
Философия науки
процесса (оремовская модель в работе Галилея; уравнения, описы-
вающие деление ядер урана).
3. В эксперименте эта модель уточняется или перестраивает-
ся, с тем чтобы можно было описать особенности эксперимен-
тально сформированного идеализированного природного про-
цесса (свободного падения тела в безвоздушной среде; деления всех
ядер урана), а также факторы и условия, влияющие на него (со-
противление воздуха при падении тела; примеси в уране и величина
пробега осколков ядер в процессе их деления). Одновременно в экс-
перименте происходит практическое формирование такого
идеализированного процесса.
4. На основе построенной математической модели и резуль-
татов эксперимента инженер изобретает и рассчитывает конст-
рукцию, призванную реализовать идеализированный природ-
ный процесс уже в форме технического действия (создание Гюй-
генсом циклоидально изогнутой металлической полоски, по
которой должен падать маятник часов; очищение урана от приме-
сей и определение критической массы). Для расчета конструкции
он сводит ее параметры, с одной стороны, к характеристикам
идеализированного природного процесса, с другой — к факто-
рам и условиям, влияющим на этот процесс.
5. Опытным путем (при создании опытного образца) уточня-
ются и доводятся все характеристики технического изделия, и
инженер убеждается, что оно действительно работает, как было
запланировано и рассчитано.
Заметим, что в случае инженерной деятельности при созда-
нии технического изделия опыт уже не играет той роли, которую
он имел на предыдущих стадиях развития техники. Он, конечно,
частично сохраняется в форме эксперимента и на стадии созда-
ния опытного образца, но все же главным становится именно
инженерная деятельность и обеспечивающие ее исследования и
разработки.
Наконец, в XX столетии складывается еще один способ опо-
средования — технология. Технология — это область усилий че-
ловека и общества, направленных на создание новшеств (арте-
фактов). В качестве новшеств могут выступать самые разнооб-
разные «изделия»: машины, продукты потребления, техническая
среда, даже новая технология. Когда мы сегодня, например, го-
ворим о компьютерной и информационной технологии, то име-
ем в виду те новые возможности и даже целую научно-техниче-
556
Часть II. Глава 19
скую революцию, которую эта технология несет с собой. Наблю-
дения показали, что о технологии заговорили после того, как
люди отчасти научились управлять развитием производства и
техники, когда они заметили, что управляемое и контролируе-
мое развитие производства и техники позволяет решить ряд
сложных народнохозяйственных или военных проблем. «Необ-
ходима, — пишут, например, М. Щадов, Ю. Чернегов, Н. Черне-
гов, — выработка долговременной технологической политики
государства, с помощью которой оно бы активно вмешивалось и
управляло внедрением нововведений, распространением их по
отраслям» [Щадов, 1995, с. 128].
Чтобы охарактеризовать сущность технологии, рассмотрим
один пример. В газете «Сегодня» (от 23 января 1999 г. № 14) при-
водится замысел обсуждавшегося в то время в США нового ва-
рианта «Стратегической оборонной инициативы». «По словам
главы Пентагона Уильяма Коэна, новая программа националь-
ной противоракетной обороны предусматривает строительство
ракет, радарных центров слежения, а также других объектов ин-
фраструктуры, которые вместе составят систему антиракетной
защиты американской территории. Система ПРО в том виде, как
ее изложил шеф Пентагона, будет включать несколько компо-
нентов. Во-первых, специальные сенсоры на космических спут-
никах. Эти сенсоры обнаружат чужую ракету по остаткам сжи-
гаемого топлива сразу же после ее взлета. Во-вторых, высокочув-
ствительные наземные радары раннего обнаружения и
оповещения, расположенные на Аляске, в Калифорнии и в Мас-
сачусетсе. Они будут держать под наблюдением маршрут движе-
ния ракеты и одновременно обеспечивать точность действий
третьего компонента — ракет-перехватчиков. Двигаясь со скоро-
стью почти 40 тыс. км в час, перехватчик приблизится к враже-
ской ракете и выпустит десятки мелких снарядов для ее уничто-
жения».
Технологическая задача, как видим, сразу ставится в плоско-
сти технической реальности — создать сверхсложную техниче-
скую систему, обеспечивающую эффективный перехват и унич-
тожение вражеских ракет. Здесь нет, как в случае с инженерным
мышлением, выделенного инженером природного процесса
(процессов), обещающего практический эффект. И основное ре-
шение состоит не в том, чтобы создать конструкцию, обеспечи-
вающую запуск и управление этим природным процессом, а в
557
Философия науки
соорганизации и органическом соединении многих видов дея-
тельности и практик — научных исследований, инженерных раз-
работок, проектировании сложных систем и подсистем, органи-
зации ресурсов разного рода, политических действий и пр.
В свою очередь, чтобы сорганизовать на единой функцио-
нальной основе все эти разнообразные виды деятельности и
практики, необходимы дополнительные исследования, инже-
нерные и технологические разработки, дополнительные проек-
ты и ресурсы, и так до тех пор, пока не будет создана задуманная
система. Но технологический способ создания технических со-
оружений (систем), представляющий собой проектируемую и
управляемую организацию многих видов деятельности и практи-
ки, существенно зависит от социокультурных факторов. Дейст-
вительно, анализ показал, что цивилизационные завоевания,
достижение новых эффектов труда связаны не только с новой
техникой, но также с новыми формами кооперации, организа-
ции производства или деятельности, с возможностями концен-
трации ресурсов, с культурой труда, с накопленным научно-тех-
ническим и культурным потенциалом, с энергией и целеустрем-
ленностью усилий общества и государства и т. д. Постепенно
под технологией стали подразумевать сложную реальность, ко-
торая в функциональном отношении обеспечивает те или иные
цивилизационные завоевания (т. е. является механизмом нова-
ций и развития), а по сути представляет собой сферу целена-
правленных усилий (политики, управления, модернизации, ин-
теллектуального и ресурсного обеспечения и т. д.), существенно
детерминируемых рядом социокультурных факторов.
С того момента, как представление о технологии было обоб-
щено до более широкого, чем просто «новая техника», понима-
ния, стало очевидно, что технология — это одна из специализи-
рованных современных форм развития деятельности, что разви-
тие технологии определяется более общими механизмами
развития деятельности, в частности социальными и культурны-
ми. Можно согласиться, что деятельность — более широкая ка-
тегория, чем технология, но технология более конкретная, спе-
цифическая категория, поскольку с технологией связан ряд осо-
бых, современных механизмов развития деятельности —
отслеживание ее эффективности в цивилизационном плане,
контроль и управление за развитием, внимание к технологиче-
ской стороне дела и т. д.
558
Часть II. Глава 19
Итак, если говорить о технике как опосредовании, то нужно
различать три основных этапа ее развития и типа: развитие тех-
ники на основе технического опыта, соответственно можно вве-
сти представление об «опытной технике», инженерный этап раз-
вития (соответственно «инженерная техника») и технологиче-
ский этап («технология»). Во всех случаях, если речь идет о
технике как опосредовании, предполагается, что она, во-первых,
складывается как способ реализации технического замысла, т. е.
последний должен был сформироваться отдельно и заранее, а
потом лишь уточняться и видоизменяться; во-вторых, необходи-
мо создание технического изделия. В этом плане, например,
строительство первых захоронений египетских фараонов, когда
в течение многих десятков лет нащупывалась сама идея пирами-
ды, нельзя считать новой техникой. Но когда идея пирамиды
оформилась, как в смысловом, так и в техническом отношении,
и фараоны стали отдавать писцам приказы строить такие соору-
жения, строительство пирамид стало фактом новой техники.
С точки зрения понятия «опосредование», техникой являют-
ся многие вещи, которые мы обычно техникой не считаем, на-
пример счет, сознательное создание армии, суда, науки, выведе-
ние новых видов растений или новых пород домашних живот-
ных. Действительно, когда счет уже сложился, многие задачи мы
решаем, подсчитывая нужную нам предметную совокупность
(множество); при этом у нас есть «технический замысел» —
«подсчитать». Реализуя его, мы создаем «техническое изде-
лие» — число, выражающее количество предметов в подсчиты-
ваемом множестве; это число, безусловно, артефакт — и потому,
что оно создано человеком, и поскольку оказывает реальное воз-
действие на нашу жизнь (известно, что современная цивилиза-
ция не может существовать без счета и других действий с чис-
лами).
Аналогично, когда сложились идея и образцы армии или су-
да, что произошло в культуре древних царств и в Античности,
стало возможным сознательно их создавать. Армия (суд) — это
артефакты, обеспечивающие реальную социальную жизнь, их
создание предполагает организацию и обеспечение (т. е. созда-
ние технического изделия), прежде чем их строить, должно быть
принято соответствующее решение (технический замысел).
Соответственно и математика, после того как математиче-
ские теории и счисления стали разрабатываться сознательно, яв-
559
Философия науки
ляется своеобразной техникой. Математик создает свои объекты
как настоящие конструкции, приписывая им характеристики,
обеспечивающие не только описание эмпирических объектов и
возможность непротиворечивого математического объяснения,
но и сведение одних математических объектов к другим. Напри-
мер, геометрические фигуры «Начал» Евклида позволяют: опи-
сывать (моделировать) тела, имеющие правильную геометриче-
скую форму; доказывать геометрические положения (теоремы);
сводить в ходе доказательства одни фигуры к другим. Чтобы все
это стало возможным, Евклид наделяет фигуры рядом конструк-
тивных свойств, заданных в изображениях (чертежах) фигур, а
также с помощью определений («точка есть то, что не имеет час-
тей», «тупой угол больше прямого», «круг есть фигура, все радиу-
сы которого равны между собой» и т. д.), постулатов («от всякой
точки до всякой можно провести прямую», «все прямые углы
равны между собой»), общих понятий («равные одному и тому
же равны между собой», «целое больше части» и т. д.) [^Нача-
ла»... с. 11—15]. Эти технические изделия используются как в са-
мой античной геометрии (при доказательстве теорем и решении
проблем), так и в технике. «При устройстве лагерей, занятия ме-
стностей, — пишет Платон, — стягивания и развертывания войск
и различных других военных построениях, как во время сраже-
ния, так и в походах, конечно, скажется разница между знатоком
геометрии и тем, кто ее не знает» [Платон, 1994, с. 309].
Сознательное выведение культурных растений (пшеница,
ячмень, лен, яблони, цитрусовые и пр.), а также домашних жи-
вотных (лошадей, коров, коз, собак, кошек) тоже должно быть
отнесено к технической деятельности. Культурные растения и
домашние животные — настоящие технические изделия. Напри-
мер, чистые породы собак мы сегодня выводим, блокируя воз-
можность случайного спаривания, при этом кинологи добива-
ются, чтобы выведенные породы отвечали нужным человеку
функциональным требованиям. Наших собак мы кормим специ-
альной пищей (подобно тому как заправляем автомобиль нуж-
ной маркой бензина), следя, чтобы они не съели на улице
что-нибудь не то. Мы специально учим своих любимцев и управ-
ляем ими с помощью команд и поводка. Наконец, так же как и
на автомобиль, в больших городах на собаку заводится документ
(паспорт), где указаны все необходимые технические характери-
стики нашего «любимого изделия» (порода, родословная, имя,
560
Часть II. Глава 19
прививки, адрес хозяина). Возможное возражение: «но ведь со-
бака — это животное, мы их заводим, чтобы они нас или мы их
любили, часто собаки нас не слушаются» — не очень серьезное.
Автомобиль тоже — не только изделие, но и организованная на-
ми первая природа, любим мы его часто не меньше, чем свою со-
баку, и не всегда мы справляемся с управлением автомобилем, а
отсюда поломки и аварии.
Но тогда любой специалист — это тоже техническое изделие?
Безусловно, специалисты не растут, как грибы в лесу, их нужно
создать (обучить и подготовить), и, естественно, они определяют
функционирование производства и реальную жизнь в нашей
техногенной цивилизации, т. е. это артефакты. Каждый специа-
лист как техническое изделие должен соответствовать своему на-
значению, иметь нужные для дела способности. Одно из необхо-
димых требований к специалисту — они должны быть управляе-
мыми. Наконец, как и всякая другая техника, специалист
нуждается в обслуживании (ему должны быть созданы условия
для его работы, выплачиваться зарплата, он имеет право на лече-
ние).
4. Техника как условие и один из механизмов социальности. Для
технологии это достаточно очевидно. Если развитие и функцио-
нирование технологии существенно зависит от социокультурных
факторов, то получается, что технология — это один из аспектов
жизни современного социального организма. Например, техни-
ческий проект полета на Луну одновременно является и круп-
нейшим в XX в. социальным проектом, потребовавшим полити-
ческих решений, согласия американского общества, перерас-
пределения национальных ресурсов, развития ряда областей
науки и техники, приоритетного развития ракетной техники,
подготовки астронавтов и прочее.
Интересно, что подобные грандиозные «социотехнические»
проекты — не исключение из правил и достояние преимущест-
венно нашего времени, они появились уже в Древнем мире. Ре-
зультат их реализации — это так называемые «семь чудес света».
Одно из таких «чудес» — древнеегипетские пирамиды. Их созда-
ние, как известно, повлекло за собой настоящую техническую
революцию. Нужно было научиться обрабатывать монолиты кам-
ня, перемещать их на большую высоту, строить сами пирамиды,
изобрести новые инструменты и орудия производства, разрабо-
тать технику мумифицирования, развить искусство. Но почти
561
Философия науки
неизвестно, что «проект» создания пирамид был прежде всего
социокультурным проектом [Розин, 2001, с. 205—221]. Пирами-
да — продукт реализации культурного мироощущения древних
египтян, своеобразный культурный конфигуратор, связавший
мир людей и богов, вечную жизнь фараона на небе с его послес-
мертным очищением и поддержкой египетского народа. Именно
в рамках этого мироощущения параллельно с его становлением
складывались техника и технология, позволявшие создавать пи-
рамиды.
И наоборот, часто новая техника предопределяет на уровне
предпосылок формирование новой культуры. Действительно,
мы видим, что разделение труда и создание мегамашин — что,
без сомнения, есть новая техника — выступили предпосылкой
становления культуры древних царств. Но не похожий ли по ло-
гике процесс имеет место сегодня? Разве мы не живем при ста-
новлении новой цивилизации, где на место привычных культур
и национальных государств встают «метакультуры» и другие гло-
бальные социальные образования?
Действительно, начиная со второй половины XX в. можно
говорить о становлении суперорганизмов социальной жизни —
лагерей социализма и капитализма («политические метакульту-
ры»), экономических зон США, Общего рынка, Японии, Китая
и Юго-Восточной Азии («регионально-хозяйственные метакуль-
туры»), буддийского, мусульманского, христианского мира
(«конфессиональные метакультуры»), наконец, единого соци-
ального пространства Земли («планетарная метакультура»). Для
каждого из этих суперорганизмов характерно (в прошлом или в
настоящее время) постепенное формирование общих институ-
тов, становление единых условий хозяйственной и экономиче-
ской деятельности, сходных структур власти, принятие общих
политических деклараций, создание союзов и других политиче-
ских объединений. В некоторых случаях, как, например, для со-
циалистического лагеря, речь шла даже о единых базисном куль-
турном сценарии, хозяйстве и системе управления (власти).
К этому же фактически идет Общий рынок.
Становление метакультур современности было связано пре-
жде всего с новыми техническими возможностями, которые бы-
ли осознаны начиная со второй половины прошлого столетия.
Современные транспортные системы (прежде всего авиация,
быстроходные корабли, скоростные железные дороги), средства
562
Часть II. Глава 19
связи (радио, телевидение, электронная почта, мобильная связь,
Интернет), высокие технологии, новые экономические схемы и
системы, даже западное право в корне изменили многие соци-
альные процессы, позволив сблизить и объединить отдельные,
до того не связанные между собой территории и социальные
структуры. Под воздействием новых возможностей (к ним отно-
сятся даже ядерные войны или международный терроризм) ме-
няются и основные системы жизнеобеспечения культуры, на-
пример власть. Что такое власть в современных исторических ус-
ловиях? — спрашивает Эмануэль Кастельс в статье «Могущество
самобытности». Отвечает он так: «Власть больше не является
уделом институтов (капиталистических фирм) или носителей
символов (корпоративных средств информации и церкви). Она
распространяется по глобальным сетям богатства, власти, ин-
формации и имиджей, которые циркулируют и видоизменяются
в системе с эволюционирующей конфигурацией, не привязан-
ной к какому-то определенному географическому месту. ...Новая
власть заключается в информационных кодах, в представитель-
ских имиджах, на основе которых общество организует свои ин-
ституты, а люди строят свои жизни и принимают решения отно-
сительно своих поступков. Центрами такой власти становятся
умы людей» [Кастельс, 1999, с. 304].
Для уяснения сущности техники не менее важно то, что
именно культура и социум не только являются «зачинщиками»
новой техники, но и определяют направления и условия ее ста-
новления. Оказывается, что без технического воплощения куль-
тура как социальный организм существовать не может. Она не
может существовать без социальных институтов, без хозяйства,
без удостоверения своей реальности. Рассмотрим подробнее ка-
ждый из этих моментов.
Что такое социальный институт? Жан-Луи Бержель отмеча-
ет, что термином «институт» обозначают самые разные вещи —
государство, семью, собственность, общества и т. д.; в результате
это понятие остается расплывчатым и недостаточно ясным.
И вот почему. Институтом называется и целое, и его части, в
связи с этим говорят об иерархии институтов; институт — это и
главная институциональная идея (хартия), и правила, опреде-
ляющие институциональные процедуры, и организация, пред-
полагающая действие власти; наконец, институт — это устойчи-
вое, воспроизводящееся в культуре образование. Систематич-
563
Философия науки
ность институтов, пишет Бержель, «связана с устойчивостью их
организации», с «гибкостью» в плане адаптации институтов к
меняющимся социальным условиям, в институтах заложена оп-
ределенная перманентность, семья, предприятие, политические
институты укоренились в жизни человечества настолько, что
стало возможным следующее суждение: если люди, как правило,
меняются, то институт остается [Бержель, 2000, с. 311—336].
Б. Малиновский, говоря о социальных институтах, понимает
под этим особые типы организации систем деятельности, харак-
теризуемые «хартией», функцией, нормами (правилами), «лич-
ным составом» и «материальным окружением». При этом в по-
нятие института в той или иной мере входят и представления о
культуре, власти, хозяйстве, экономике, обществе, человеке
[Малиновский, 1998, с. 54—57].
Чтобы осмыслить в культурологическом ключе основные ха-
рактеристики института, обратим внимание, что устойчивость
институтов с устойчивостью культуры коррелируют как формы
социальной жизни и организма, институциональная идея (госу-
дарства, семьи, собственности и т. д.) — с представлениями
базисного культурного сценария (как правило, хартия является
одной из идей данного сценария или тесно с ними связана), пра-
вила могут быть поставлены в связь как с фрагментами органи-
зованной деятельности, так и с организациями, имеющими
место в культуре. Другими словами, я предполагаю, что в куль-
туре организация социальной жизни происходит таким образом,
что социальная жизнь структурируется и самоорганизуется в та-
кие целые, которые сохраняют основные особенности культуры, а
именно связь с базисными культурными сценариями, деятель-
ностью и социальной организацией. Эти целые и являются ин-
ститутами. Поэтому, например, не случайно, что во главе армии
(это типичный социальный институт) в культуре древних царств
стоят боги войны и царь, полководцы принимают свои решения,
прислушиваясь к жрецам, обеспечение армии понимается как
жертва богам войны, сражение с другими армиями — как борьба
собственных богов с богами других народов, служение в ар-
мии — как служение богам и т. п.
Мой анализ показывает, что социальные институты возник-
ли не ранее культуры древних царств, где складываются разделе-
ние труда и иерархические системы управления. В архаической
культуре институтов не существовало, мы институтами здесь (се-
564
Часть II. Глава 19
мьи, родо-племенной организации, шаманизма и т. п.) ретро-
спективно называем образования по материалу, напоминающие
таковые. В культуре же древних царств формируются целостно-
сти, обладающие всеми основными признаками социального
института: преемственностью, иерархичностью, артикулирован-
ными хартией и правилами.
На социальные институты можно посмотреть с двух пози-
ций: с одной стороны, это особая техника, с другой — «социаль-
ный орган». Когда мы говорим об институте, имея в виду функ-
ции, процедуры, заданные правилами, организацию института,
перед нами типичная техника (институты, безусловно, артефак-
ты, они концептуализированы, в качестве процедур и организа-
ции они ничем не отличаются от технологии и технических из-
делий). Но если речь идет об институте как таком целом, которое
гомогенно (родственно) с целым культуры (подобно тому, как
орган организма должен быть гомогенным с самим организ-
мом — входить в него как составная часть, выполнять в нем оп-
ределенные функции, удовлетворять основным особенностям
организма и т. д.), то в этом случае социальный институт — пол-
ноценный орган культуры. У животных, как мы знаем, есть по-
хожие образования — зубы, клыки, когти, панцири, яды, элек-
трошокеры и пр.; это и органы, и «орудия». Отличие, но сущест-
венное, в том, что в животном мире «орудия» сформированы в
ходе биологической эволюции, а в культуре орудия как техника
созданы человеком. Продолжая аналогию, можно сказать, что
культура как социальный организм выращивает для своего вы-
живания и существования посредством технического творчества
социальные органы — институты.
Но и на хозяйство можно посмотреть двояко: это особая тех-
ника и система жизнеобеспечения культуры как социального ор-
ганизма. Действительно, хозяйственная деятельность предпола-
гает целеполагание, планирование, создание орудий, сооруже-
ний, запасов, изобретение и отбор эффективных процедур, и в
этом отношении перед нами типичная техника. Одновременно
хозяйство — это одна из систем жизнеобеспечения культуры и
естественное образование. Например, в культуре древних царств
хозяйство обеспечивало эффективное действие основных соци-
альных институтов и власти (см. подробнее: [Розин, 2004]). Как
естественное образование хозяйство — это экономика.
565
Философия науки
Теперь о том, чтб я называю удостоверением культурной ре-
альности. Культурная реальность постоянно нуждается в удосто-
верении. Скажем, веру в существование и природы, и ее зако-
нов, что образует существенный момент нашей техногенной ци-
вилизации, мы удостоверяем, создавая машины и другие
технические сооружения, которые эффективно действуют, под-
тверждая тем самым открытые человеком законы природы. По-
лет человека в космос и на Луну удостоверяют не только откры-
тые задолго до этих полетов законы природы, но и свободу и де-
миургические претензии новоевропейского человека, который,
как говорили философы Возрождения, творит «вторые приро-
ды». Как писал гуманист Марсилио Фичино, человек может соз-
дать сам «светила, если бы имел орудия и небесный материал»
[Фичино, 1962, с. 468].
В культуре древних царств и в античной культуре религиоз-
но-мифологическая картина подтверждалась с помощью много-
численных сакральных практик. К ним относились и обычные
службы в храмах, посвященных различным богам, и мистерии,
например, посвященные Осирису и Исиде; в Античности — ор-
фико-дионисийские мистерии и жизнь эзотерических общин,
например пифагорейских. Нужно учесть, что в этих практиках
человек не только встречался с богами, или примеривал на себя
их одежды, или готовил себя к божественной жизни, но одно-
временно каждый раз убеждался в существовании соответствую-
щей реальности. В культуре древних царств пирамиды фараонов
лучше, чем что-нибудь другое, удостоверяли существование бо-
гов и необходимость подчиняться им.
Именно технические сооружения и достижения материально
подтверждают культурную реальность, какой бы странной и не-
обычной она ни была. Чтобы поверить в Бога, иногда достаточ-
но, чтобы статуя святого что-то прошептала, а божественный
лик иконы начал источать слезы. Достигаются эти эффекты про-
стыми техническими средствами.
19.3. Техника и социальность
В XVI—XVII вв. техника концептуализируется как условие
социальности культуры Нового времени; наиболее четко это вы-
разили Г. Галилей и Ф. Бэкон, утверждая, что новые науки и ис-
566
Часть II. Глава 19
кусства — необходимое условие могущества, благосостояния и
гражданского общества. В «Новом органоне», обсуждая, в чем за-
ключается различие между развитыми и «дикими» народами,
Ф. Бэкон пишет, что оно происходит «не от почвы и не от клима-
та, а прежде всего от наук» и искусств [Бэкон, 1935, с. 191—192].
Социальная жизнь все больше стала пониматься как изучение
законов природы (при этом и сам человек рассматривался как
принадлежащий природе), обнаружение ее практических эф-
фектов, создание в инженерии механизмов и машин, реализую-
щих законы природы, удовлетворение на основе достижений ес-
тественных наук и инженерии растущих потребностей человека.
Просвещение не только развивает это новое мировоззрение, но
и создает условия для его распространения. Известно, что объе-
диненные вокруг «Энциклопедии» передовые мыслители хотели
осуществить начертанный Ф. Бэконом план «великого восста-
новления наук», связывающий социальный прогресс с прогрес-
сом научным; исходными идеями для всех просветителей стали
понятия природы и воспитания; последнее должно было подго-
товить нового просвещенного, а по сути естественно-научно и
технически ориентированного человека [Длугач, 2001].
«Прогресс наук (пишет Кондорсэ в книге «Эскиз историче-
ской картины прогресса человеческого разума». — В.Р.) обеспе-
чивает прогресс промышленности, который сам затем ускоряет
научные успехи, и это взаимное влияние, действие которого бес-
престанно возобновляется, должно быть причислено к более
деятельным, наиболее могущественным причинам совершенст-
вования человеческого рода». С прогрессом наук Кондорсэ свя-
зывает увеличение массы продуктов, уменьшение сырьевых и
материальных затрат при выпуске продуктов промышленности,
уменьшение доли тяжелого труда, повышение целесообразности
и рациональности потребления, рост народонаселения и в ко-
нечном итоге устранение вредных воздействий работ, привычек
и климата, удлинение продолжительности человеческой жизни.
В последней главе, посвященной десятой эпохе, Кондорсэ наме-
чает основные линии будущего прогресса человеческого разума
и основанного на нем прогресса в социальной жизни: уничтоже-
ние неравенства между нациями, прогресс равенства между раз-
личными классами того же народа, социального равенства меж-
ду людьми, наконец, действительное совершенствование чело-
века [Огурцов, 1993, с. 149, 151—152].
567
Философия науки
Для нашего современного уха и сознания все эти декларации
и утверждения привычны, но они не были столь привычными
для людей того времени. К тому же я хочу обратить внимание на
момент вовсе не очевидный, а именно, что наше понимание со-
циальности — благополучия, счастья, безопасности, свободы и
пр. — в эпоху Просвещения было тесно связано с прогрессом
естественных наук и основанной на них технике и промышлен-
ности.
Однако известно, что развитие техники не только способст-
вует прогрессу и благополучию, но и изменяет деятельность, а
затем и образ жизни человека. Спрашивается, почему? В силу
сдвига на средства и условия. Так, для запуска ракет необходимо
было создать специальные пусковые установки, двигатели, кон-
струкции, материалы, топливо. В свою очередь для их создания
нужно было разработать другие конструкции и технические ком-
поненты. Необходимое условие и того и другого — осуществле-
ние исследований, инженерных разработок, проведение экспе-
риментов, лабораторных испытаний, строительство различных
сооружений, организация служб и т. д. и т. п. В результате созда-
ние ракет привело к развертыванию системы деятельностей, а
также сложнейшей инфраструктуры (были построены ракето-
дромы, где происходил запуск ракет и действовали различные
службы обеспечения). Другой пример — становление и развитие
электротехники. Изучение этой области человеческой деятель-
ности позволяет понять, как «техническое порождает техниче-
ское», показать, что становление электротехники (так же как и
других областей современной техники) предполагает исследова-
ние не только обычных природных процессов, но и процессов,
управляемых человеком, наконец, в общих чертах уяснить, каким
образом формируется «сфера электротехники».
Вообще говоря, техническое порождает техническое практи-
чески всегда. Действительно, изобретение лука и копья потребо-
вало в качестве защиты создать щит и шлем; изобретение железа
привело к быстрому вытеснению бронзы и т. д. и т. п. При этом
здесь нужно различать два разных момента. Во-первых, к созда-
нию новой техники ведут новые функциональные требования,
возникшие в связи с новыми изобретениями. Например, изобре-
тение паровоза привело к изобретению рельс, рельсы — шпал,
шпалы — насыпи. Во-вторых, необходимость новой техники
обусловливается взаимодействием и конкуренцией технических
568
Часть II. Глава 19
устройств, когда более эффективные, удобные и экономичные
вытесняют менее эффективные и дешевые. Но стоит обратить
внимание на то, что последнее решение все же принимает не са-
ма техника, а человек и, так сказать, социум. То есть техническое
порождает техническое в рамках социального и культурного
контекстов; одни контексты способствуют такому порождению,
а другие нет; одни способствуют таким-то определенным порож-
дениям, а другие — иным.
Известно, что одни электротехнические изобретения влекли
за собой другие: изобретение источников тока потребовало изо-
бретения проводников, изобретение генераторов тока и дина-
мо-машин позволило создать электрические лампы и электрохи-
мию, развитие и того и другого сделало необходимым изобрете-
ние приборов для измерения величины тока и напряжения и пр.
Не менее показательно, как шла конкуренция электрических
устройств, работающих на постоянном и переменном токе.
В этом соревновании, как известно, победил переменный ток,
что, в свою очередь, сделало необходимым и позволило разрабо-
тать системы передачи электрической энергии на большие рас-
стояния.
Понятно, что процессы «порождения электричества элек-
тричеством» на самом деле обусловлены множеством факторов:
действием тендема «изучение электрических явлений — созда-
ние новых электрических изделий», расширением области при-
менения электричества, формированием сферы потребления
электрической энергии, быстрым расширением этой сферы, по-
литикой государства и др.
Начиная со второй половины XX столетия, при наличии ус-
тойчивых условий (сформировавшейся сферы потребления,
массового производства электрических изделий, системы доку-
' ментов — проектных и эксплутационных, нормирующих произ-
водство и использование электрических изделий, ограниченных
ресурсах), складываются и электроценозы, т. е. своеобразные по-
пуляции электротехнических изделий, ведущих себя сходно с
биологическими популяциями (см. подробнее исследования и
разработки школы Б. Кудрина). В рамках электроценозов элек-
трическое порождает электрическое по законам технетики. Од-
нако понятно, что изменение социально-экономических усло-
вий, происходившее, например, в нашей стране в период пе-
рестройки, губительно для техноценозов: технические изделия
569
Философия науки
перестают вести себя как популяции со всеми вытекающими из
этого последствиями.
Если учесть, что социум представляет собой особую форму
социальной жизни, что отдельные культуры напоминают собой
организмы (имеют подсистемы жизнеобеспечения — это сфера
хозяйства и различные социальные институты; своеобразное
сознание и генетический код — это семиозис и картины мира,
сферы образования и культуры), то помимо понятия «техноце-
ноз» необходимо ввести понятие «техногенная основа» социума.
В качестве таковой выступают различные инфраструктуры и се-
ти, в частности электрические. Подобно тому как кровь и нерв-
ная система являются органическими подсистемами биологиче-
ского организма, техногенная основа выступает в качестве орга-
нической основы социума (о чем, правда, еще в конце XIX в.
писал создатель философии техники Э. Капп).
Но это означает, в частности, что электричество подчиняется
не столько законам второй природы, т. е. законам технетики,
сколько третьей, что оно является не только техническим и тех-
нологическим феноменом, но и социальным. На мой взгляд, и
технетика пытается рассмотреть электричество именно в этом
плане, но недостаточно радикально. Нужно учесть, что докумен-
ты и технологические условия, определяющие природу техноце-
нозов, обусловлены социокультурными факторами, поэтому
техника и технология в значительной мере живут по социальным
законам. Изучение техники и технологии как социального явле-
ния должно стать в нашем столетии основным.
Становление электротехники показывает, что в число глав-
ных ее объектов изучения входят электрические процессы и фе-
номены, связанные с функционированием электротехнических
устройств и их управлением (включением, выключением, пере-
распределением нагрузок и пр.). Другими словами, наряду с дру-
гими приходится исследовать, так сказать, искусственно-естест-
венные (природно-деятельностные) феномены.
Быстрое развитие электротехнической науки и промышлен-
ности уже в начале XX столетия приводит к формированию сфе-
ры электротехники, включающей не только собственно науку,
инженерию и промышленность, но и такие моменты, как фор-
мирование электротехнического сообщества, электротехниче-
ского образования, коммуникации и других структур, необходи-
мых для воспроизводства и развития этой области человеческой
570
Часть II. Глава 19
деятельности. Уже в конце XIX в., отмечает О.Д. Симоненко в
книге «Электротехническая наука в первой половине XX века»
(1988), на повестку дня встал вопрос о создании разветвленной
системы электротехнического образования; в конце 1870-х —
начале 1880-х гг. специализированные электротехнические жур-
налы появились почти одновременно в Англии, Франции, Рос-
сии, Германии; в это же время возникают первые электротехни-
ческие общества: «Берлинский электротехнический союз»,
1879 г.; (электротехнический) отдел Русского технического об-
щества, 1880 г.; «Американское общество инженеров-электри-
ков», 1884 г.; английское «Общество телеграфных электриков»
меняет название на «Общество телеграфных инженеров и элек-
триков»; важными каналами коммуникации в электротехнике
XIX в. стали международные электрические выставки и приуро-
ченные к ним электротехнические съезды, первый из которых
состоялся в 1881 г. в Париже, во время первой Международной
электрической выставки.
И это не все: в XX столетии происходит формирование замк-
нутой планетарной технической среды. Цепи изменений пара-
метров природной среды, деятельности, инфраструктур и усло-
вий жизни человека замыкаются друг на друга, а также на при-
родные материалы и человека.
В рамках современной технологии сложились и основные
«демиургические комплексы», включая и «планетарный», т. е.
воздействующий на природу нашей планеты. Именно в рамках
технологии техника все больше становится стихийной, некон-
тролируемой и во многом деструктивной силой и фактором. По-
становка технических задач определяется теперь не столько не-
обходимостью удовлетворить ближайшие человеческие желания
и потребности (в энергии, механизмах, машинах, сооружениях),
сколько имманентными возможностями становления техносфе-
ры и технологии, которые через социальные механизмы «фор-
мируют» соответствующие этим возможностям потребности, а
затем и «техногенные» качества и ценности самих людей.
В техногенной цивилизации и технических системах одни
параметры природной среды, деятельности и инфраструктур вы-
ступают как условия (или средства) для других. При этом кажет-
ся, что единственными нетехническими элементами остаются
природные сырьевые материалы (земля, минералы, уголь,
нефть, газ, воздух, вода и т. д.), а также человек. Но разве в рам-
571
Философия науки
ках современной техники и технологии человек и природа не
превратились в «постав», сами не стали ресурсами новой техни-
ки и производства? Но если это так, то неконтролируемое разви-
тие техники и технологии действительно ведет к непредсказуе-
мой и опасной трансформации как нашей планеты, так и самого
человека.
В целом сегодня приходится различать: «физическую реаль-
ность», законы которой описывают естественные науки (это то,
что всегда называлось «первой природой»); «экологическую ре-
альность», элементом которой является биологическая жизнь и
человек, и «социальную реальность», к которой принадлежит че-
ловеческая деятельность, социальные системы, инфраструктуры
и т. п. (обычно именно это относят ко «второй и третьей приро-
де»). В рамках так понимаемой «планетарной природы» уже не
действует формула, «природа написана на языке математики».
«Необходимым здесь, — пишет Д. Ефременко, — становится по-
нимание технического развития как процесса изменения техники,
сопряженного с изменениями в природе и обществе. Суть этого по-
нимания лаконично сформулирована Ж. Бодрийяром: «Люди и
техника, потребности и вещи взаимно структурируют друг дру-
га — к лучшему или худшему» [Ефременко, 2002, с. 72].
Можно обратить внимание еще на одно обстоятельство. Ин-
женер все чаще берется за разработку процессов, не описанных в
естественных и технических науках и, следовательно, не подле-
жащих расчету. Проектный фетишизм («все, что задумано в про-
екте, можно реализовать») разделяется сегодня не только проек-
тировщиками, но и многими инженерами. Проектный подход в
инженерии привел к резкому расширению области процессов и
изменений, не подлежащих расчету, не описанных в естествен-
ной или технической науке. Еще более значительное влияние на
неконтролируемое развитие инженерии, а также расширение об-
ласти ее потенциальных «ошибок», т. е. негативных последст-
вий, оказывает технология.
Заметим, что вплоть до XX столетия все основные влияния и
воздействия, которые создавала техника и которые становились
все более обширными и значимыми, не связывались с понятием
техники. И почему, спрашивается, проектируя какую-либо ма-
шину, инженер должен отвечать за качество воздушной среды,
потребности человека, дороги и т. п., ведь он не специалист в
этих областях? И не отвечал, и не анализировал последствия сво-
572
Часть II. Глава 19
ей более широкой научно-технической деятельности. Но в на-
стоящее время уже невозможно не учитывать и не анализиро-
вать, в связи с чем приходится все основные влияния и воздейст-
вия техники и технологии на природу, человека и окружающую
человека искусственную среду включать в понимание и техники,
и технологии. Для философа здесь несколько вопросов: как тех-
ника и технология влияют на существование и сущность челове-
ка (его свободу, безопасность, образ жизни, реальности созна-
ния, возможности) и что собой представляет наш техногенный
тип цивилизации, какова ее судьба, возможен ли другой, более
безопасный, тип цивилизации и что для этого нужно делать.
Но не забудем, что главное все же не сама техника, а тот осо-
бый тип цивилизации, который стал складываться, начиная с
XVII в., как условие реализации нового социального проекта,
связавшего социальную жизнь и благополучие с успехами техни-
ки. Финальный вклад в реализацию столь многообещающего со-
циального проекта был сделан во второй половине XIX — пер-
вой половине XX в., когда научная и инженерная практика, дос-
тигшие к тому времени эффективности, и основанное на них
индустриальное производство были повернуты на реализацию
следующего социального проекта — создание общества благосос-
тояния и обеспечение в связи с этим растущих потребностей насе-
ления. Успешное осуществление в развитых странах обоих ука-
занных проектов и знаменует собой рождение «техногенной ци-
вилизации». Стоит отметить, что мечты новоевропейского
человека никогда не удалось бы осуществить, если бы парал-
лельно (начиная с XVII столетия, завершился этот процесс толь-
ко в XX в.) не были созданы и новые социальные институты.
В абсурде нашей цивилизации часто упрекают технику, хотя де-
ло не в ней, а именно в социальных институтах и культуре Ново-
го времени.
Судя по всему, традиционная концептуализация техники,
прежде всего как идея инженерии, исчерпала себя. Сегодня при-
ходится формулировать идею инженерии заново. Основной во-
прос здесь следующий: как реализовать силы природы (и «пер-
вой», и «второй»), как использовать их для человека и общества,
согласуя это использование с целями и идеалами человечества?
Последнее, например, предполагает снижение деструктивных
процессов, безопасное развитие цивилизации, высвобождение
человека из-под власти техники, улучшение качества жизни и
573
Философия науки
др. Возникает, однако, проблема: совместимо ли это с необходи-
мостью обеспечивать приемлемый и достойный уровень сущест-
вования для миллиардов людей на планете и восстанавливать
природу планеты?
Другая проблема: как контролировать изменения, вызванные
современной инженерной деятельностью, проектированием и
технологией? Дело в том, что большинство таких изменений (из-
менение природных процессов, трансформация человека, не-
контролируемые изменения «второй» и «третьей» природы) под-
даются расчету только в ближайшей зоне. Например, уже на ре-
гиональном, а тем более планетарном уровне трудно или
невозможно просчитать и контролировать выбросы тепла, вред-
ных веществ и отходов, изменение грунтовых и подземных вод и
т. д. Не менее трудно получить адекватную картину региональ-
ных и планетарных изменений техники, инфраструктур, дея-
тельности или организаций. Трансформация образа жизни и по-
требностей человека, происходящая под воздействием техники,
также плохо поддается описанию и тем более точному прогнози-
рованию. Как же действовать в этой ситуации неопределенно-
сти?
Однозначного ответа здесь нет, можно лишь наметить один
из возможных сценариев. Все, что можно рассчитать и прогно-
зировать, нужно считать и прогнозировать. Нужно стремиться
сводить к минимуму отрицательные последствия технической
деятельности. Необходимо работать над минимизацией потреб-
ностей и их разумным развитием. Нужно отказаться от инженер-
ных действий (проектов), эффект и последствия которых невоз-
можно точно определить, но которые, однако, могут вести к эко-
номическим или антропологическим катастрофам. Важно
сменить традиционную научно-инженерную картину мира, за-
менив ее новыми представлениями о природе, технике, способах
решения задач, достойном существовании человека, науке.
Безусловно, должно измениться и само понимание техники.
Прежде всего необходимо преодолеть натуралистическое, инст-
рументалистское представление техники. Ему на смену должно
прийти понимание техники, с одной стороны, как проявления
сложных интеллектуальных и социокультурных процессов (по-
знания и исследования, инженерной и проектировочной дея-
тельности, развития технологий, сферы экономических и поли-
тических решений и т. д.), с другой — как особой среды обита-
574
Часть II. Глава 19
ния человека, - навязывающей ему средовые архетипы, ритмы
функционирования, эстетические образы и т. п.
Новые инженерия и техника предполагают иную научно-ин-
женерную картину мира. Такая картина уже не может строиться
на идее свободного использования сил, энергий и материалов
природы, идее творения. Плодотворные для своего времени
(эпохи Возрождения и XVI—XVII столетий), эти идеи помогли
сформулировать замысел и образы инженерии. Но сегодня они
уже не отвечают ситуации. Новые инженерия и техника — это
умение работать с разными природами («первой» и «второй»
природой и культурой), это внимательное выслушивание и себя,
и культуры. Выслушать — значит понять, с какой техникой мы
согласны, на какое ограничение своей свободы пойдем ради раз-
вития техники и технической цивилизации, какие ценности тех-
нического развития нам органичны, а какие несовместимы с на-
шим пониманием человека и его достоинства, с нашим понима-
нием культуры, истории и будущего.
Идея новой инженерии и техники чем-то напоминает совре-
менную идею психики и телесности человека. Последние деся-
тилетия в этой области принесли понимание того, что наше пси-
хическое и телесное развитие не просто происходит на основе
идей обучения и питания (эквивалент идей использования), а
предполагает работу по самосовершенствованию человека, ос-
мысление им ценностей и жизненного пути, выслушивание се-
бя, своей природы и в то же время конституирование своей при-
роды в диалоге и общении с другими. Не таковы ли должны быть
новые инженерия и техника? Не просто обособившиеся виды
практики, а органы человеческого развития, не имманентные
источники развития (науки, инженерии, техники), а осмыслен-
ный выбор и разумные ограничения, не созерцание и объектив-
ное изучение научно-технического прогресса, а выслушивание и
конституирование основных сил и условий, определяющих ха-
рактер такого прогресса. Но, конечно, все это — лишь образ и
замысел новых инженерии и техники. Будут ли они реализованы
и в каком виде, вопрос будущего и дальнейших размышлений,
исследований и практических действий.
Если вернуться к нашей концепции сущности техники, то
станет понятным, что отказаться от техники и технического раз-
вития просто невозможно. По сути техническую основу имеет
сама деятельность человека и культура. Нет в технике и какой-то
575
Философия науки
особой тайны. Наконец, сама по себе техника не теологична, и
приписывать ей, например, демонизм или зло не имеет смысла.
В то же время развитие индустриальной деятельности, техниче-
ской среды и технологии в XX столетии приняло угрожающий
для жизни человека характер. С этим человек уже не может не
считаться, несмотря на все блага, которые техника обещает. Во-
обще-то понятен и выход из создавшейся ситуации, хотя он, ко-
нечно, не прост.
Необходимо осознать как природу техники, так и последст-
вия технического развития и включить оба этих момента в саму
идею и концепции техники. В свою очередь, это означает, что
будет дана оценка этих последствий. «В своей книге «Герман-
ский социализм» (1934) Зомбарт писал: «Процесс внедрения то-
го или иного вида техники должен сопровождаться всесторон-
ним анализом тех ценностей, которые техника затрагивает. При
этом ведущей точкой зрения должно быть понимание того, что
техника играет служебную роль и ее применение должно способ-
ствовать достижению определенных целей».
Спустя без малого 40 лет, уже на волне обеспокоенности
проблемами исчерпания ресурсов, тенденциями и последствия-
ми технического развития, А. Тоффлер пришел к выводу о том,
что при введении новых технологий необходимо обязательно
принимать во внимание вторичные социальные и культурные
эффекты. «Мы должны попытаться заранее предвидеть, оценить
по мере возможности их природу, силу и длительность. Там, где
такие эффекты, по всей вероятности, сопряжены с серьезным
ущербом, мы должны быть готовы блокировать новые техноло-
гии» [Ефременко, 2002, с. 127; Toffler, 1971, р. 396].
На указанном пути пересмотра отношения к технике челове-
честву придется решать непростые задачи. Например, понять, с
какими особенностями и характеристиками современной техни-
ки и последствиями ее развития человек уже не может согла-
ситься; можно ли от них отказаться; можно ли изменить харак-
тер развития технико-производственной деятельности, техни-
ческой среды и технологии; если можно, то что для этого нужно
сделать? Кстати, может оказаться, что изменение характера раз-
вития техники потребует от человека столь больших изменений
(в области его ценностей, образа жизни, в самих практиках), что
это, по сути, будет означать постепенный уход от существующе-
го типа цивилизации и создание новой. Впрочем, подобные по-
576
Часть II. Глава 19
пытки уже предпринимаются, другое дело — как оценивать их
результаты. Эта новая будущая цивилизация, конечно, тоже бу-
дет основана на технике, но иной, может быть, с меньшими воз-
можностями, но, что важнее, новая техника будет более безопас-
ной для жизни и развития человечества. Вряд ли у человечества
есть другой путь, например ничего не менять или просто гумани-
зировать существующую технику. Ситуация слишком серьезна и
быстро меняется, чтобы можно было надеяться обойтись малой
кровью.
Итак, в каком направлении должны меняться наши пред-
ставления и наше вйдение, чтобы началось движение к новому
пониманию техники? Важно, чтобы все, от кого это зависит (фи-
лософы, ученые, инженеры, политики, журналисты и т. д.), уяс-
нили, что дело не в технике, а в том типе социальности, который
сложился в последние два-три столетия. До тех пор пока мы бу-
дем думать, что техника — это главное, что основные социаль-
ные проблемы решаются на ее основе, что благополучие челове-
чества непосредственным образом связано с развитием совре-
менных технологий, мы будем и дальше способствовать
углублению кризиса нашей цивилизации. Вероятно, нужно ра-
ботать над тем, чтобы развести понимание социальности и тех-
ники. Хотя в нашей техногенной цивилизации именно техника
играет колоссальную роль, с точки зрения перспектив развития
нужно способствовать пониманию того, что это вещи разные.
Сложившийся тип социальности нас больше не может удовле-
творять, убеждение, что основные социальные проблемы можно
решать на основе техники, все больше становится деструктив-
ным. Любой социум и культура предполагают технику, но не оп-
ределяются последней. В настоящее время мы вступили в период
активного обсуждения новых возможных типов социальности.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аристотель. Метафизика. М.; Л., 1934.
Бержель Ж. Общая теория права. М., 2000.
Бондарь А.В. Основоположения и главные проблемы социальной филосо-
фии техники инженериата. Хабаровск, 2001.
Бэкон Ф. Новый органон. Л., 1935.
Дильс Г. Античная техника. М.; Л., 1934.
Длугач Т.Б. Просвещение // Новая философская энциклопедия. М., 2001.
Ефременко Д.В. Введение в оценку техники. М., 2002.
19 Философия науки
577
Философия науки
Капп Э., Кунов Г., Нуаре Л., Эспинас А. Роль орудия в развитии человека. Л.,
1925.
Кастельс Э. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. М.,
1999.
Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 1998.
Маркс К, Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1960.
Начала Евклида. Кн. I—VI. М.; Л., 1950.
Неретина С. С. Марионетка из рая // Традиционная и современная техноло-
гия. М.: ИФ РАН, 1999.
Огурцов А.П. Философия науки эпохи Просвещения. М.: ИФРАН, 1993.
Платон. Государство // Платон. Сочинения. Т. 3. М., 1994.
Розин В.М. Философия техники. М., 2001.
Розин. В.М. Теория культуры. М., 2004.
Розин В.М. Право, власть, гражданское общество. Алматы, 2004.
Философский словарь. М., 1991.
Фичино М. Комментарий на пир Платона // История эстетики. Памятники
мировой эстетической мысли. Т. 1. М., 1962.
Фролов К.В. Роль Леонардо да Винчи в развитии механики // Творческое
наследие Леонардо да Винчи: Международная научная конференция 18—21 но-
ября 2002 г.: Избранные научные доклады. М., 2003.
Щадов М.И., Чернегов Ю.А., Чернегов Н.Ю. Методология инженерного твор-
чества в минерально-сырьевом комплексе. Т. 1. М., 1995.
Morison R. Illusions // Technology and the Future. N.Y., 1986.
Toffler A. Future Shock. London: Pan Books, 1971.
ВОПРОСЫ
1. Является ли философия техники разделом философии или меж-
дисциплинарной областью исследования?
2. Назовите основные подходы к изучению техники.
3. Техника как артефакт, концептуализация, опосредование, а так-
же механизм и условия социальности.
4. Охарактеризуйте различие техники и технологии.
5. Опытная техника, инженерия и технология.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ АИТЕРАТУРА
Розин В.М. Философия техники. М., 2001.
Розин В.М. Понятие и современные концепции техники. М.: ИФРАН, 2006.
Глава 20
НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
Моя задача — понять, как возможно бытование науки и на-
учного сообщества в наше время с «организационно-деятельно-
стной» точки зрения. Центральная проблема в данном случае
выглядит следующим образом: с одной стороны, ученый — пре-
дельно свободный человек, расширяющий границы познаваемо-
го мира. С другой стороны, он же в определенном смысле явля-
ется слугой «социальной машины» науки, работником фабрики
«по производству знаний». Противоречивость личной и профес-
сиональной ситуации ученого в современном мире является от-
правной точкой моей попытки представить свое вйдение соци-
альной природы и организационных перспектив деятельности
как отдельно взятого ученого, так и научного сообщества в це-
лом.
Итак, начнем с того, что общепринятым стал анализ самого
феномена научной деятельности в трех основных ракурсах или
по трем проблемным срезам. Во-первых, наука именно как оп-
ределенный тип деятельности, реализуемый в соответствии с ус-
тановленными нормами, правилами и методами. Во-вторых,
наука как часть и/или форма культуры, культуросообразная оп-
ределенной традиции или формирующая саму культурную тра-
дицию. И наконец, в-третьих, возможно и необходимо рассмот-
рение науки как специфического социального института или
системы институтов, различного типа социальных общностей,
непосредственно взаимодействующих со структурами социума
как такового. Анализ социальной природы науки сразу же выво-
дит нас на проблематику отношений ученого и власти, форми-
рования управленческих систем в научно-исследовательской
деятельности, проектирования «социального заказа» на резуль-
таты научной работы.
Очевидно, что любой ученый работает не в пустоте или на
необитаемом острове, а совместно с другими учеными, исполь-
19*
579
Философия науки
зуя при этом материальные, информационные, политические
или культурные ресурсы различных государственных и социаль-
ных структур. С другой стороны, сама система социально-поли-
тических и культурных факторов общественной жизни, тенден-
ции ее развития в значительной степени проблематизируют дея-
тельность отдельно взятого исследователя, вносят определенные
«искажения» в процесс реализации методологических стратегий
исследовательской деятельности.
Рассмотрим достаточно простой пример, который я условно
назову «парадоксом ученого». Смысл его заключается в том, что
любого студента и аспиранта, готовящегося к карьере ученого, в
стенах учебного заведения воспитывают как свободного мысли-
теля, для которого открыты все горизонты свободного научного
поиска. Его предназначение состоит в искании чистой научной
истины и собственном развитии. Именно такой взгляд на приро-
ду исследовательского труда (транслируемый старшим поколе-
нием) привлекает молодежь. Однако, «выучившись на ученого»,
молодой исследователь попадает в ситуацию реального науч-
но-исследовательского учреждения, в котором существует дос-
таточно жесткая иерархия властных отношений, детальное раз-
деление труда между различными группами и сотрудниками. Те-
перь его проблема заключается в том, чтобы «выполнять
совершенно конкретную задачу». Возможности свободного вы-
бора темы исследований и способов самой работы крайне огра-
ниченны. Молодой человек, фигурально выражаясь, «ставится к
станку» и вынужден «точить свою деталь»1. Все бы ничего, но в
опыте молодого исследователя еще живы представления о харак-
тере научной работы, сформированные процессом обучения. За-
частую, и особенно в наше время, осознание такого противоре-
чия приводит молодого человека к серьезному кризису, пе-
реоценке ценностей, а в перспективе — к отказу от
планировавшейся карьеры ученого-творца. Кстати, заметим, что
в прежние времена последствия таких кризисов были не столь
очевидны. Не наблюдался массовый уход молодых сотрудников
научно-исследовательских учреждений в другие сферы деятель-
ности. Почему? Всему ли виной мизерная заработная плата, как
1 Здесь в первую очередь имеется в виду организация современных сложных
экспериментальных работ. — А.Л.
580
Часть II. Глава 20
чаще всего объясняют сложившуюся ситуацию кадрового обес-
печения науки?
Я полагаю, что дело, по большей части, не в этом печальном
обстоятельстве. Ученому никогда не платили много. Да, были
недолгие времена, когда труд отдельных научных сообществ
(связанных, скажем, с разработкой ядерного проекта) оплачи-
вался очень хорошо. Всем, кто вспоминает о зарплате советского
профессора и сопоставляет ее с зарплатой советского министра,
нужно помнить, что профессором молодой исследователь стано-
вился далеко не сразу и путь к заветным «корочкам» был сопря-
жен со множеством препятствий. Мы говорим именно о начи-
нающем исследователе и об оплате его труда.
Так вот, на наш взгляд, принципиальное значение имеет не
столько сама заработная плата, сколько личная и социальная
значимость того, что делает исследователь. Результаты фунда-
ментальных исследований могут и не иметь непосредственной
социальной пользы, но сам исследователь должен быть убежден,
что его работа эффективна, приводит к появлению нового со-
держания. Причастность к процессу интенсивного появления
нового содержания является важнейшим мотивирующим факто-
ром. Для той науки, о которой я могу говорить предметно, — фи-
зики такое стремительное содержательное развитие было харак-
терно вплоть до 70-х гг. XX в. Впечатляющие открытия следова-
ли одно за другим. Возникали совершенно новые предметные
области работы. Одновременно шел непрерывный процесс фор-
мирования новых организационных структур: научно-исследо-
вательских институтов, кафедр, исследовательских центров, т. е.
рабочих мест для новых исследователей. Молодежь, вдохновляе-
мая успехами физических наук (и сопряженных с ними техноло-
гических дисциплин), с энтузиазмом вливалась в научные кол-
лективы. Работы и соответственно нового содержания, новых
результатов хватало на всех. Никто не чувствовал себя обделен-
ным.
Однако в дальнейшем ситуация стала меняться. Процесс по-
явления нового содержания в физике затормозился. Новых идей
и направлений работы становилось все меньше. Но с другой сто-
роны, организационная мощь науки оставалась прежней. Коли-
чество работающих в науке даже продолжало возрастать. Содер-
жательных ресурсов стало не хватать на всех. Молодежь остро
почувствовала свою зависимость от систем организации и сис-
581
Философия науки
тем управления ресурсами. Мотивирующие факторы и соответ-
ствующая активность молодых исследователей истощались.
В этой ситуации достаточно было проявиться дополнитель-
ным признакам кризиса, в том числе снижению уровня оплаты
труда, как на фоне появившихся новых возможностей (форми-
рование частного сектора экономики, новых политических сис-
тем) падение общего энтузиазма привело к резкому сокращению
числа молодых исследователей, снижению привлекательности
научно-исследовательской работы. Но, повторяю, на мой взгляд,
«задающим генератором» данного явления можно считать наме-
тившийся разрыв между скоростью роста нового содержания на-
учно-исследовательской деятельности и уровнем ее организаци-
онного развития.
Оптимальным для общего процесса развития науки является
некий баланс между двумя процессами: ростом содержания и
ростом организационного потенциала. Если этот баланс нару-
шается, то первый, кто «выходит из игры», — именно молодой
исследователь, еще не имеющий надежного доступа к управле-
нию ресурсами, к системе власти и управления в рамках иссле-
довательского учреждения или отдельного исследовательского
проекта. Существенное замедление скорости роста содержания
выводит на первый план различные формы «квазинаучной» дея-
тельности, направленные прежде всего на доступ и овладение
ограниченными ресурсами. Именно ограниченность содержа-
тельных, а не только материальных ресурсов способствует фор-
мированию в научной деятельности особых, вненаучных по сво-
ей сути структур и систем властных отношений. Категория вла-
сти, т. е. возможности управлять ограниченными ресурсами
различного типа, становится реально работающей. Хочу особо
отметить, что система организации и управления научной дея-
тельностью претерпевала значительные изменения в течение
достаточно долгого времени, а не только за последние десяти-
летия.
С момента своего «второго рождения» в эпоху Нового време-
ни и вплоть до середины XX в. научно-исследовательская дея-
тельность развивалась в организационных условиях, которые
можно сравнить со средневековым ремесленным производством.
Действительно, ученый-мастер вместе со своими ученика-
ми-подмастерьями трудился в отдельной мастерской-лаборато-
рии. В этой мастерской был организован процесс непосредст-
582
Часть II. Глава 20
венной передачи знаний и навыков, связанных с исследователь-
ской работой, от учителя к ученикам. В начале XIX в. в традиции
высшего образования возникает такой мощный феномен, как
университет В. фон Гумбольдта («Гумбольдтов университет»).
Отныне преподавателем мог стать только реально работающий
исследователь, имеющий научные труды и своих учеников. Об-
разование и научная деятельность тем самым были объединены
в единый процесс «обучения — вопроизводства знаний — обуче-
ния вновь полученным знаниям». В европейских университетах
в массовом порядке стали возникать отдельные исследователь-
ские лаборатории, во главе которых стояли крупные ученые. Од-
нако и эта система не изменила сущности «ремесленного произ-
водства» как организационной основы научной работы. Уче-
ный-мастер имел полное право называть своим собственным
именем изделия такой мастерской — теории, концепции, урав-
нения, формулы. Продукты научной деятельности носили сугу-
бо индивидуальный, авторский характер.
Но многое стало меняться именно в середине XX в., когда в
разных странах началась разработка того, что стали называть
ядерным проектом, проектом освоения энергии атомного ядра в
военных, а затем и в мирных целях. Значение ядерного проекта
заключается не только в том, что впервые физики получили воз-
можность посредством своего знания влиять на пути развития
цивилизации. Главный итог реализации ядерного проекта — ко-
ренное изменение форм организации научно-исследовательской
деятельности.
Произошло то, что в свое время случилось в истории разви-
тия капиталистического хозяйства. Тогда возникло мануфактур-
ное производство. Работники из своих мастерских были переме-
щены в одно производственное помещение. Было введено де-
тальное разделение труда. Каждый отныне выполнял одну
трудовую операцию, и само изделие навсегда потеряло автор-
ский характер. В экономике началась эра отчуждения результа-
тов труда от самого работника.
Нечто подобное, но с большим опозданием, на наш взгляд,
стало происходить в середине XX в. в рамках разработки ядерно-
го проекта. Ученые из своих мастерских-лабораторий перемес-
тились в огромные закрытые исследовательские центры. Их труд
оказался разделенным на множество отдельных фрагментов. Ка-
ждый занимался сугубо конкретной задачей, поставленной ру-
583
Философия науки
ководством. Только руководители обладали правом формирова-
ния конечного результата исследовательской деятельности,
только они обладали знанием о целях и смыслах отдельных ее
этапов и разделов. Научный труд в такой системе организации
утратил свой индивидуальный характер, его результаты также
стали отчуждаться от своих создателей.
Конечно, не стоит преувеличивать, так сказать, степень
влияния ядерного проекта на общий процесс развития научного
знания. Наука не потеряла возможности предоставить автору
право сказать свое слово, выполнить именно свою работу. Но
после ядерного проекта общество, властные структуры нако-
нец-то поняли, что можно делать с учеными. Разрушились пре-
грады между изолированным миром исследовательской деятель-
ности и едиными тенденциями социокультурного движения.
Ученый стал восприниматься (да и сам себя воспринимать) как
разновидность государственного служащего — хотя бы по спосо-
бам получения ресурсов, необходимых в работе. Сама природа
научной деятельности стала все больше приобретать социаль-
но-детерминированный, социально-сообразный характер. Од-
новременно не только ядерный проект, но и другие глобальные
инновационные проекты — ракетно-космический, компьютер-
ный, биотехнологический — сформировали новый вектор дви-
жения самой науки.
Суть его — проектирование нового мира, «светлого будуще-
го» всего человечества, проектирование новых форм биологиче-
ской и социальной жизни. Социокультурное проектирование
становится неотъемлемой частью общенаучного дискурса, смыс-
лообразующим пространством, объединяющим различные типы
и формы научно-исследовательской практики и обосновываю-
щим необходимость и смысл той или иной практики.
В настоящее время мы стоим на пороге перехода к следую-
щей стадии развития «научного производства». Речь идет о свое-
образном аналоге капиталистической фабрики, которая допол-
нила жесткое разделение труда машинным производством. Дело
в том, что современная экспериментальная, подчеркиваю —
именно экспериментальная, наука сделала вполне законной
формой экспериментальной практики компьютерный экспери-
мент, численное моделирование. Реальная работа, что называет-
ся, с «железом» все больше вытесняется процессом моделирова-
ния с помощью компьютерной техники. И это не простая при-
584
Часть II. Глава 20
хоть самих экспериментаторов или результат их нежелания
работать руками в лаборатории. Дело в том, что эксперименталь-
ная деятельность становится все более затратной, требующей
привлечения все большего объема материальных ресурсов. Про-
ведение экспериментальных исследований становится пробле-
матичным именно с экономической точки зрения, что и приво-
дит к интенсивной замене работы с приборами и инструментами
компьютерным экспериментом. Замечу, что возможные послед-
ствия такой замены для самой методологии науки, современных
форм научного дискурса еще не до конца понятны. Если к про-
цессу внедрения в практику исследовательской деятельности
компьютерного эксперимента добавить неизбежно возрастаю-
щую в наше время степень включенности исследователя в совре-
менную информационную среду, формируемую интернет-тех-
нологнями, то становятся очевидными коренные изменения са-
мого смыслового пространства научного труда, целей и способов
обоснования полученных результатов.
Значительную роль в сфере мотивации ученого начинает иг-
рать необходимость «присутствия» в информационной среде на-
учной деятельности, постоянного «предъявления» себя в качест-
ве реального субъекта исследовательской деятельности. Оста-
вить свои «метки», свои «знаки» в пространстве науки гораздо
важнее, чем добиться сколько-нибудь важных результатов. Ука-
занные тенденции приводят к существенным сдвигам в содержа-
нии и организации экспертной деятельности научного сообще-
ства. В рамках традиционной научной методологии экспертиза
результатов деятельности исследователя подтверждает общена-
учную ценность проделанной работы, а также место самого ис-
следователя в едином процессе обнаружения истины, его воз-
можности претендовать на роль «умеющего» открывать истину.
Однако в ситуации, когда присутствие в пространстве науки ста-
новится равносильным праву доступа к управлению различного
типа ресурсами, сообщество экспертов заинтересовано прежде
всего в сохранении именно этой конкретной возможности —
распределять ресурсы, необходимые для выживания научного
сообщества. При этом надеяться на приверженность самих экс-
пертов канонам классической научной методологии не прихо-
дится. В обыденном языке такое положение дел называется
«коррупцией».
585
Философия науки
Мы далеки от мысли обвинять современное научное сообще-
ство в коррупционных наклонностях. С другой стороны, хоте-
лось бы еще раз подчеркнуть прямую зависимость характера ор-
ганизационных форм научной деятельности от базовых тенден-
ций развития социокультурной среды.
Таких тенденций, на наш взгляд, две. Рассмотрим их подроб-
нее. Первая — процесс «глобализации» общественной жизни в
общецивилизационном масштабе. Что такое современная глоба-
лизация, вроде бы все представляют, но мало кто может ясно вы-
разить ее ключевые признаки. Глобализация, на наш взгляд, не
просто процесс унификации норм и правил экономической дея-
тельности. Для глобализации характерны три основных признака.
Во-первых, установление единых принципов и норм органи-
зации деятельности независимо от конкретной предметной об-
ласти, на которую направлена деятельность. Во-вторых, унифи-
кация правил и норм коммуникации между субъектами деятель-
ности, включая создание единой информационной среды,
сформированной интернет-технологиями (но не только Интер-
нет тому виной). И в-третьих, формирование единой системы
ценностей, которыми пользуется человек, пытающийся опреде-
лить достоверность своего действия.
Последний признак, т. е. поиск всеобщих критериев досто-
верности, или, другими словами, подлинности человеческого
действия, является принципиально важным и в каком-то смысле
первичным по отношению к другим составляющим глобализа-
ционного процесса. Если вспомнить, что история науки Нового
времени начиналась со знаменитого вопрошания Р. Декарта о
критериях достоверности знания, то становится ясно, что стра-
тегия глобализации на установление единых и окончательных
критериев достоверности во всех сферах социального бытия не
может не оказать хоть какое-нибудь влияние на содержание и
практику реализации традиционных методологических принци-
пов научной деятельности. Вполне возможно, что именно сейчас
возникает необходимость своеобразного повторения вопроса
Р. Декарта о критериях достоверности знания. Однако теперь
этот вопрос должен быть непосредственно связан с попыткой
определения границ и оснований сферы достоверного действия
в науке, понимаемой как социальный институт. С другой сторо-
ны, такое понимание выводит нас на анализ взаимосвязей прак-
586
.................................... ...........Часть II. Глава 20
л VA v % г ггг г гг. г г г-г г •• •• * •• ' л' г г % г гг гг г г % г.г.. ....-гг s г VAW w. v v ss гг,
тики исследовательской деятельности с иными типами социаль-
ных практик.
Вторая из указанных тенденций развития социокультурной
среды — формирование «постмодернистского мировоззрения».
Сам по себе феномен постмодернизма связан с огромной фи-
лософско-культурологической традицией попыток его осмыс-
ления. Позволю себе указать несколько ключевых признаков
постмодернизма, имеющих важное значение в контексте обсуж-
даемых проблем.
Первый. Постмодернизм есть форма мировоззрения, стремя-
щаяся подвергнуть сомнению возможность формирования и
реализации так называемых «метасценариев», т. е. единых стра-
тегий и программ освоения бытия и проектирования новых кар-
тин реальности. В этом аспекте постмодернизм противостоит
модернистскому проекту постепенного обнаружения подлинно-
го знания о мире и реконструкции самого мира на основе полу-
ченного знания. Постмодернисты настаивают на возможности
существования лишь отдельных «сценариев» развития социаль-
ного бытия, принципиально не сводимых друг к другу.
Ьторой. Непосредственно вытекающее из первого тезиса от-
рицание объективности и универсальности истины, причем
главным объектом критики постмодернистов является прежде
всего понятие универсальности истины. Любой субъект может
сформировать свое представление об истине для, так сказать,
«домашнего употребления». Но у него нет прав и возможностей
предъявлять свою истину другим субъектам деятельности в каче-
стве «руководства к действию». Свой тезис о невозможности уни-
версальной истины постмодернисты обосновывают ссылками на
особенности использования языка как формы представления са-
мой истины. В целом система коммуникаций для постмодерни-
стов является пространством своеобразной игры в. значении слов
и предложений. Правила такой игры (или игр) устанавливаются
субъектом деятельности в зависимости от первичных целевых
установок самой деятельности.
В конечном счете фундаментальная стратегия организации
коммуникативной деятельности заключается в наиболее эффек-
тивном доказательстве своего права на обладание и выражение
истины. И здесь начинает проявляться еще одна важнейшая осо-
бенность постмодернистского мировоззрения и постмодернист-
ского образа действий — право обладать истиной используется
587
Философия науки
субъектом с одной целью. Эта цель — достижение власти, досту-
па к управлению ресурсами в определенной социальной систе-
ме. В рамках такого подхода сама истина, а также способы ее по-
лучения становятся лишь средствами властвования. Все выше-
сказанное постмодернисты в полной мере относят к научной
деятельности и научной методологии, полагая одной из главных
целей научного сообщества сохранение и расширение господ-
ства над иными видами социальной практики. В концепциях
постмодернизма современная наука предстает озабоченной не
только увеличением своих собственных ресурсов и сохранением
своего собственного организационного и методологического по-
тенциала. Научное сообщество претендует на трансляцию своего
способа видения мира в окружающее социокультурное про-
странство. Наука навязывает свою методологию отношения к
любой проблеме обывателю, мешает ему формировать собствен-
ные стратегии. И в этом заключается ее опасность для «нормаль-
ного общества». Наука «общеобязательна», а потому опасна для
каждого отдельно взятого человека, стремящегося сохранить
собственную индивидуальность. В наиболее радикальных верси-
ях постмодернизма даже предлагаются различные проекты «раз-
рушения» научной деятельности в ее традиционных формах, а
также разрушение всего того, что поддерживает и сохраняет тра-
диционное представление о знании и методах его получения, на-
пример образовательная деятельность.
Нетрудно заметить, что две базовые тенденции развития со-
циокультурной среды — глобализация и постмодернизм — про-
тивостоят друг другу. Глобализация направлена на установление
единого и общеобязательного порядка, постмодернизм выступа-
ет против всякой унификации в использовании категорий исти-
ны и порядка. Ничего странного в такой «диалектике эпохи», на
наш взгляд, нет. Дело в том, что глобализация организует дея-
тельность сообществ, а постмодернизм — это форма и стиль со-
временного мышления. При этом постмодернизм появляется в
качестве вполне закономерного средства и результата компенса-
ции последствий глобализации в сознании интеллектуалов.
Мыслящие люди не могут примириться с торжеством единооб-
разия, диктуемого глобализацией, с Царством Всеобщности. Им
очень хочется хотя бы в самом мышлении сохранить свободу, со-
хранить возможность формировать собственные представления
и формы работы с информацией. Чем сильнее отдельный субъ-
588
Часть II. Глава 20
ект вынужден подчиняться единым нормам и технологиям орга-
низации деятельности, тем в большей степени проявляется его
стремление к свободе мысли. Если сконцентрировать внимание
на конкретной разновидности интеллектуалов — современном
ученом, то становится зримой вся глубина проблемной ситуа-
ции, в которой он пребывает, сдавленный с двух сторон жерно-
вами глобализации как ключевой формы организации деятель-
ности и постмодернизма как ключевой формы организации
мышления. Снова, как и в эпоху Нового времени, ученый при-
зван ответить на принципиальный вопрос о критериях достовер-
ности своего знания. Но теперь его специфическая научная дея-
тельность неразрывно связана со структурами деятельности все-
го социального бытия. Социальное бытие, различные системы
социальных практик включают в себя, «приватизируют» науку,
дают ей необходимые основания и соответствующее место в со-
циальном пространстве, но одновременно претендуют на управ-
ление формами и содержанием исследовательской деятельности.
В конечном счете сама наука и ее основной субъект — уче-
ный — становятся элементами, частями глобальной «социаль-
ной машины». Да, в качестве винтиков такой машины им гаран-
тировано определенное место, определенная доля ресурсов и
возможностей. Но только до тех пор, пока научная деятельность
не начинает выходить за установленные социальной машиной
границы, нарушать «правила игры». Формирование глобальных
«социальных машин», на наш взгляд, есть закономерный и неиз-
бежный результат взаимодействия двух тенденций развития со-
циокультурной среды, о которых уже шла речь, — глобализации
и постмодернизма. На их пересечении рождается глобальный
социальный механизм, поглощающий отдельно взятого челове-
ка. Теоретики постмодернизма уже давно говорят об «антропо-
логической катастрофе», об исчезновении сущности человека и
самого понятия «человек». Субъекту деятельности все труднее
сохранять свое собственное «Я», свое «человеческое». Причем
чем активнее человек включается в социальные системы, тем
быстрее идет процесс деформации и разрушения его субъектив-
ности. Расширение границ пространства коммуникаций и не-
прерывное усложнение коммуникативной системы приводят к
невозможности удержать смысл и назначение самих коммуника-
тивных действий в пределах сознания отдельно взятого челове-
ка. Все вышесказанное в полной мере относится к человеку нау-
589
Философия науки
ки. Ученые не могут отгородиться от процессов разрушения
субъективности непреодолимой преградой, состоящей из набора
классических принципов научной методологии. Однако пара-
докс заключается в том, что данное обстоятельство не лишает
эффективности машину по «производству научных знаний».
Тем не менее вопрос «что мы можем знать?» незаметно пре-
вращается в вопрос «как мы можем быть?». Вопрос об условиях,
границах и смыслах социального бытия отныне напрямую обра-
щен к фигуре ученого. Исследователь как составная часть соци-
ального мира вынужден заново определять условия, границы и
формы своего собственного существования в социальном мире.
Если раньше и были получены надежные методологические ре-
цепты организации научной деятельности как таковой, то в на-
ши дни только этих рецептов и правил оказывается явно недос-
таточно. При этом хочу особо подчеркнуть, что традиционная
методология науки отнюдь не потеряла своего значения, а даже
укрепила собственное влияние в рамках процесса глобализации.
Мне представляется, что в сложившейся ситуации перспективы
развития научной деятельности целиком связаны с разработкой
и реализацией новых стратегий и форм организации деятельно-
сти исследователя. Эти стратегии должны предоставить ученому
новые средства работы с ресурсами различного типа, новые воз-
можности формирования таких систем деятельности, в которых
субъект науки смог бы сохранить себя, свою позицию по отно-
шению к базовым социокультурным процессам и структурам.
Разработка новых систем организации научной деятельно-
сти, несомненно, является сложнейшей и многоплановой про-
блемой. В решении данной проблемы нельзя забывать об эпи-
стемологических основаниях любой конкретной организацион-
ной схемы. В связи с этим классические категории, темы и
проблемы эпистемологии требуют своего дальнейшего проду-
мывания.
Позволю себе заметить, что большинство рассуждений по
поводу теории познания в Новое время (и после завершения
эпохи Нового времени) исходят из некоторого очевидного раз-
личения эмпиризма и рационализма как двух главных направле-
ний в нововременной эпистемологии.
На самом деле данное различение трактуется слишком упро-
щенно: эмпиризм — все знание из чувственного опыта, рацио-
нализм — все (или по большей части) знание из разума. Эмпи-
590
Часть II. Глава 20
гггг г гггггггггггг ггг ^гггггггггггггггггггггг гггг
ризм — крайне сложная позиция, поскольку, с точки зрения эм-
пириков, не только само знание, но также средства и
механизмы, с помощью которых разум получает знание из чувст-
венного опыта, являются результатом воздействия на сам разум
чувственного опыта. Эмпирикам необходимо объяснить, как
вначале чувственный опыт( формирует средства и механизмы
собственной обработки, а затем в них же и обрабатывается.
В отличие от эмпириков рационалистам достаточно указать
на существование в самом разуме некоторого набора средств и
механизмов, не зависящего от свойств и структуры чувственного
опыта.
Между тем именно рационалисты, и прежде всего Декарт,
сформировали основную категориальную пару эпистемологии
Нового времени — «субъект» и «объект». Различив субстанцию
мышления и субстанцию протяженности, Декарт установил, что
субъект (мышление) способен к свободному, ничем и никем не
детерминированному исследованию объекта (протяженности).
Кроме того, субъект всегда сам контролирует поступление ин-
формации об объекте, по собственной воле организуя воздейст-
вие на объективный мир. Объект не может влиять на субъект до
тех пор, пока субъект этого не захочет. Но и субъект не может
влиять на объект незаметно для себя.
Наконец, различение Декартом субъекта и объекта позволи-
ло сформировать научную деятельность как культурную тради-
цию, основанную на передаче определенного научного метода,
того, как нужно познавать природу. «Ученый может не торо-
питься» — вот лозунг всей европейской науки после Декарта.
Вечные и неизменные законы природы никуда не денутся. Они
будут ждать момента, когда их обнаружит очередной исследова-
тель, вооруженный знанием научного метода. Рационалисты
столкнулись с рядом проблем. Во-первых, можно ли средствами
разума описывать средства и механизмы деятельности самого
разума? Во-вторых, как установить естественный предел реф-
лексивного процесса внутри отдельно взятого сознания? Хоро-
шо было Платону — у него существование абсолютных и неиз-
менных «эйдосов» позволяет постепенно приближаться к их
«воспоминанию» в разуме исследователя. В системе Аристотеля
роль естественной границы рефлексии играли схваченные в чув-
ственном опыте целевые причины отдельных вещей. С упразд-
нением целевых причин в окружающей природе сознание могло
591
Философия науки
полагаться только на себя. Но выход был найден — эксперимен-
тальная практика. Организуя экспериментальную ситуацию, ис-
следователь управляет своим чувственным опытом и постепен-
но, шаг за шагом, приводит в соответствие теоретическую мо-
дель, получаемую в результате рефлексивного анализа опыта, и
данные самого чувственного опыта.
В процессе поэтапного сближения теоретических представ-
лений и результатов экспериментальной практики происходит
формирование «эйдоса» определенного класса вещей в самом
сознании исследователя. При этом через эксперимент в природу
вновь вводятся целевые причины (пусть и в ограниченном лабо-
раторными условиями масштабе).
В XX в. было разработано большое число различных моделей
развития научного знания. При всех их достоинствах — это по-
пытка посмотреть на науку постфактум, дистиллировать некую
общую концептуальную схему из истории некогда живой науки.
Такой подход требует вначале провести одно действие — выде-
лить единицу анализа, различить внутри научного процесса оп-
ределенные фрагменты. Говоря современным языком, подверг-
нуть историю науки операции форматирования.
В результате выполнения форматирования утрачивается по-
нимание процессуальности научной традиции. Из поля зрения
исследователя выпадают механизмы, обеспечивающие связность
исследовательской традиции, трансляцию опыта от одного фраг-
мента научного процесса к другому. Если внимательно посмот-
реть на такие единицы анализа, как «парадигма» (Т. Кун), «эво-
люционный рост научного знания» (К. Поппер), «исследова-
тельская программа» (И. Лакатос), «тема в науке» (Дж. Холтон),
«стандарт рациональности и понимания» (С. Тулмин), «лично-
стное знание» (М. Полани), «сетчатая модель обоснования»
(Л. Лаудан), «глубинная и поверхностная информация» (Я. Хин-
тикка), то нетрудно заметить, что все перечисленные способы
форматирования научной традиции представляют собой некие
идеальные каркасы, «пустографки», в которые требуется вписать
правильные научные результаты, соответствующие типу данной
графы. Система и способ взаимосвязи отдельных граф задается
произвольно самим автором идеальной схемы. Такой «бухгал-
терский подход» является общим почти для всех методологов
науки, будь то позитивисты, постпозитивисты или исследовате-
ли «постнеклассической» науки. Однако проблемная ситуация,
592
Часть II. Глава 20
определяемая тем, что можно условно назвать «господство соци-
альных машин», на наш взгляд, требует иных смысловых коор-
динат в анализе природы научного знания и способов его полу-
чения. Такие координаты появляются в процессе расширения
проблемного поля философии научен. Каким образом можно
охарактеризовать такое расширение?
«Философия науки» как особая философская дисциплина
прошла несколько этапов своего развития, точкой отсчета кото-
рого можно условно полагать ее «позитивистское рождение», ко-
гда приобрела особую актуальность задача исследования мето-
дов, логики и языка точных наук.
На различных этапах акцент делался на существенно разных
темах и проблемах научного познания. Однако есть в этом дви-
жении определенная внутренняя логика, которую со всеми ого-
ворками можно представить следующим образом.
Первый этап. «Первый позитивизм». «Второй позитивизм».
«Неопозитивизм». Главная задача — понять сущность естествен-
но-научной теории как таковой, ее структуру, систему средств
формирования теоретического знания. В конечном счете на
этом этапе разговор ведется прежде всего о проблеме роста науч-
ного знания. Сама наука представляется неким «идеальным
предприятием» по производству совершенного знания. Уче-
ные — служители этого «предприятия», не подвластные никому
и ничему, за исключением научной методологии и непреодоли-
мого влечения к Истине.
Второй этап. «Постпозитивизм». Попытки подвергнуть все-
стороннему анализу влияние на процесс роста научного знания
различных так называемых «вненаучных» факторов — социаль-
ных, культурных, духовных, политических и т. д. Здесь наука
перестает существовать в качестве замкнутого на себе самом
вида деятельности, начинает активно взаимодействовать с
культурными традициями и социальной средой. Конечно, та-
кое взаимодействие всегда имело место, но теперь проблемати-
ка социокультурных измерений процесса научного познания
становится для философов науки интересной и «перспектив-
ной» темой.
Третий этап. Современная ситуация. Научное производство
неотделимо от процессов формирования и реализации государ-
ственной политики. Этому периоду, его проблематике уже дана
достаточно подробная характеристика, но хотелось бы еще раз
593
Философия науки
подчеркнуть, что проблемы формирования механизмов власти,
управления и организационной деятельности становятся в на-
стоящее время центральными проблемами, вне зависимости от
того, интересуются ими философы науки или нет.
Мне представляется, что в настоящее время философия нау-
ки призвана ответить — с методологической, культурологиче-
ской и иных точек зрения — на ряд принципиальных вопросов.
1. Критерии разграничения фундаментальной и прикладной
науки. Пока что, условно говоря, кто как хочет (естественно, в
своих интересах), тот так и разграничивает эти две области науч-
ной работы.
2. Критерии «эффективности» науки — как прикладной; так
и фундаментальной. Что такое эффективная наука в ее различ-
ных аспектах? Откуда брать такие критерии? Из практики какого
типа?
3. Проблема формирования инновационных циклов в науке.
Как построить реально работающую инновационную цепочку,
начиная от позиции Заказчика на результаты научно-исследова-
тельской деятельности и заканчивая снова тем же Заказчиком,
использующим научные результаты в практической деятельно-
сти?
4. Проблема образовательной подготовки современного ис-
следователя. Как научить его средствам и технологиям работы в
социокультурной среде, умению сопрягать различные типы ре-
сурсов с целью достижения эффективных результатов? Другими
словами, как вернуть исследователю активную позицию по от-
ношению к социальному бытию?
И это далеко не полный перечень тех проблемных вопросов,
которые должны стать предметом философско-методологиче-
ского дискурса — сегодня и в обозримом будущем. От степени
полноты ответов на эти вопросы во многом зависят перспективы
науки как уникальной формы свободного развития человека.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента: от Антично-
сти до XVII в. М., 1976.
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: становление и развитие первых
научных программ. М., 1980.
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII—XVIII вв.). М., 1987.
594
Часть II. Глава 20
Гайденко П.П. Античный и новоевропейский типы рациональности: физика
Аристотеля и механика Галилея // Рациональность на перепутье. Кн. 2. М.,
1999. С. 29-64.
Гусинский Э.Н, Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. М.:
Логос, 2000.
История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобыт-
ном обществе до конца XX века: Учебное пособие / Под ред. А.И. Пискунова.
М.: ТЦ Сфера, 2001.
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.
Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рационально-
сти. М., 1994.
Никифоров А.Л. От формальной логики к истории науки. М., 1983.
Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998.
От глиняной таблички — к университету: Образовательные системы Восто-
ка и Запада в эпоху Древности и Средневековья: Учебное пособие / Под ред.
Т.Н. Матулис. М.: Изд-во РУДН, 1998.
Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М.,
1985.
Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997.
Сапрыкин Д.Л. Regnum Hominis (Имперский проект Фрэнсиса Бэкона). М.,
2001.
Сокулер З.А. «Книга Природы написана на языке математики» // Научные
традиции в истории и современности. Вып. 1. М., 1997. С. 25—55.
Степин В. С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция. М.,
2000.
Тулмин Ст. Выдерживает ли критику различение нормальной и революци-
онной науки? // Философия науки. Вып. 5. М.: ИФ РАН, 1999.
Тулмин Ст. История, практика и «третий мир» (трудности методологии Ла-
катоса) // Философия науки. Вып. 5. М.: ИФ РАН, 1999.
Тулмин Ст. Человеческое понимание. М., 1984.
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., 1981.
Шичалин Ю.А. Институциональный аспект проблемы рациональности: раз-
витие образовательных и научных школ // Исторические типы рациональности.
Т. 2. М., 1996.
ВОПРОСЫ
1. В чем вы видите основные различия двух базовых социокультур-
ных процессов — глобализации и постмодернизма?
2. Как проявлялся или проявляется упомянутый «парадокс учено-
го» в вашей собственной исследовательской деятельности?
3. Что такое, с вашей точки зрения, прикладная наука?
4. Попытайтесь сформулировать критерии эффективности фунда-
ментальной и прикладной науки.
5. В чем, с вашей точки зрения, заключаются основные задачи по-
зиции «Менеджера» в системе научно-исследовательской дея-
тельности?
595
Философия науки
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Визгин В.П. Квалитативизм Аристотеля. М., 1982.
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII—XVIII вв.). М., 1987.
Дмитриев И. С. Неизвестный Ньютон. СПб., 1999.
Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997.
Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рационально-
сти. М., 1994.
Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997.
Шичалин Ю.А. Античность — Европа — История. М., 1999.
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
-- А1^;х,х : 'u^rxxu^;,'^
•• г% ч.... _ .„2771.— 77.7. - ... ..... л^ wa % VVMW.W .••v.v..- гг •• ггг
Аксиоматизация теории 153, 157
Активизм 170, 193, 194
— консервативный и революци-
онный 170, 171
Аналитические истины 22
Анархизм эпистемологический
213, 215
Аномалия 208, 210, 211, 369
Антиномия 59—62
Антропный принцип 446
Априорное познание 39—45,49—59,
63, 66, 68, 70, 296
Априорные синтетические сужде-
ния 39, 41, 45, 46
Априорные формы рассудка (кате-
гории) 50—56, 70, 241
Априорные формы чувственности
42-45, 47-49, 68
Артефакт 545
Атом Бора 369, 370
Аттрактор 413, 421
Бадейная теория сознания 65,
150, 151
Бенара эффект 410, 411
Бесконечность 60, 109, 111, 120,
124-127
Биосемиотика 442
Бифуркация 413, 420
Близость к истине 180
Венский кружок 144
Вера 96—98
Верификации принцип 146, 158
«Вещь в себе» 48, 49, 51, 53—55,
58, 63, 64, 70, 71,82, 466
Взаимодополнительность 385
«Вйдение в аспекте» 131, 132
Витализм 437—440, 443, 445
Врожденные идеи 19, 39, 76, 95
Вторичные идеальные объекты
(ВИО) 223, 265, 266, 412, 413,
433, 436
Гелиоцентрическая теория 492,
494
Геоцентрическая теория 492,493
Герменевтика 287, 289—293,
301-303
Герменевтический круг 290—292,
295, 302
Гештальт 280—282 (см. также
«вйдение в аспекте»)
Гипотеза ad hoc 394, 455,456,
459-463, 473-475, 477, 484,
489, 493, 494, 499
Гипотетико-дедуктивный метод
93, 156, 162, 165, 394
Гносеологический кризис в фи-
зике 82, 86
Гносеология 16
Головоломок решение 203, 219,
274
Дарвинизм 447, 448
«Две догмы эмпиризма» В. Куай-
на 163
Двухщелевой эксперимент 372,
382
597
Философия науки
Демаркация 164, 172, 176
Детерминизм 61
Джастификационизм 167, 168, 223,
485
Динамические структуры 412, 425
Динамический хаос 408, 409, 421,
425, 441, 448
Диссипативная структура 419, 420,
425
Дисциплинарная матрица 208, 209
Доказательство математическое
45-47, 111, 112-114, 115, 117,
118
Допарадигмальный период 209,
210
Дополнительности принцип 376,
377, 399, 400
Достаточного основания закон 23
Дюгема—Куайна тезис 91,158,163
Единообразия природы принцип
78, 79, 135-138
Естественные интерпретации 215
Законы природы 38, 50, 55, 61, 75,
79, 84, 86, 92, 93, 107, 496
— теоретические 90, 105—107,
155, 156
— экспериментальные (эмпири-
ческие) 90, 155, 156
Затравочная классическая система
(модель) 281, 382-385, 417
Защитный пояс 223
Идиографические науки 297, 300
Инвариантность 478—480
Индуктивизм 70, 77—81, 226
Индуктивного вывода методы 25,
77-81, 151, 152, 155,156, 159
Индукция (эмпирическая) 18, 38,
25,26,105,106,134-138,156,168
Индукция математическая 46
Инженерный этап развития 559
598
Инструментализм 182, 227
Интерпретация 281, 373
Интуиционизм 109, 116, 118
Интуиция 20, 46, 111, 119, 121
Исследовательская программа
221-225, 269-273
— ньютоновская 271, 272
Истина 19, 98, 138, 139, 158, 179,
182-184, 197, 299, 484, 496
«Истины разума» и «истины
факта» 22, 23
Истины теории (корреспондент-
ская (соответствия), когерен-
ции, очевидности, инструмен-
талистская) 183
История внутренняя и внешняя
225-229
Картезианство 36, 37
Картина мира 249—250
Качества первичные и вторич-
ные 29
Квантовая теория измерений
393-394
«Квантовый парадокс» 419
Квантовый постулат 377
Классификация 87, 88
Конвенционализм 85, 87, 89, 92,
106, 114, 170, 226-227
Конструктивизм
— в математике, 109, 118
— рационалистический 240
— эмпирический 86, 192—199,
240, 243
Контриндукция 214
Концептуализация 547
«Копенгагенская» парадигма («ин-
терпретация») 375—377, 379
«Коперниканский переворот»
38, 39
Корпускулярно-волновой дуализм
371, 378
Предметный указатель
Космология рациональная 250, 251
«Кошка Шрёдингера» 248, 389, 390
Кризис 208, 211, 212, 369
Критическая проверка террии
176, 178
Критический рационализм 164,
222
Кумулятивизм 156, 157, 174,
282-284
Логицизм 45, 46, 109
Логический атомизм 103, 145
Лоренца—Фитцджеральда сокра-
щение 353
Майкельсона опыт 456—459
Математика 20—21, 43—47,
112-123
Материя 20, 31—32, 36, 57
Метакультуры 562
Метафизика 16, 17, 41, 59, 74, 82,
128, 466, 469, 470
Механицизм 17, 73, 82, 95, 438,
441, 442, 444, 445
Микроскоп Гейзенберга 386
Мир как машина 20
Многомировая интерпретация
392-393
Модель (физическая) 27, 251,
254-261
Моды 412
Монада 22
Наблюдаемость (принципиаль-
ная) 467—472
«Наблюдаемые»/«ненаблюдаемые»
153-155, 193, 196, 239, 253
Наблюдатель (сознание) в кванто-
вой механике 242, 392, 393
Наблюдательные теории 172
«Наблюдения термины» 153
Наддисцилинарность 413, 414
Натурфилософия 244—251
Наука 12-14, 50, 56, 63, 107, 108,
318, 511
— как аксиоматизированная де-
дуктивная система 153, 177
Научная революция 200, 203—206,
270, 372
Научно-инженерная картина
мира 575
Научно-техническая революция
263, 332
Некумулятивность 200, 204,
282-284
Необратимость 341, 415—419
Неовитализм 439
Неокантианство 44, 62—71, 143,
287, 296-301
Неопределенностей соотноше-
ние 385, 386
Неопределенностей «время—энер-
гия» соотношение 387
Несоизмеримость теорий 200,
204, 205, 213, 280-282
«Нетеоретичность» 394
«Неявное знание» 206
Неявный и явный типы опреде-
ления 234, 253
Номогенез 448
Номотетические науки 297, 300
«Нормальная наука» 200—203,
242, 273-275, 281, 400, 425
Обектный теоретико-операцио-
нальный подход (модель)
232-260, 379,412-413,431-433
Общая теория относительности
367, 483, 503
«Общепринятый взгляд» (Recei-
ved View) на теории 153—154,
373
Объективная истина 181—184
Объективность 51, 66, 181—184,
185-189, 228, 299, 300
Объяснение 86—88, 156, 237
Объяснительная сила 180,195—196
599
Философия науки
Онтологическая адекватность 241
«Онтологической относительности»
тезис 163
Онтология 16, 97
Операции приготовления и изме-
рения 239, 246
Операциональная часть 253
Описание 86, 87, 237
Опосредование 550
Опыт 24
Опытная техника 559
Органицизм 18, 443—445
Основания математики 108—111
(а также см. формализм, интуи-
ционизм, логицизм, конструкти-
визм)
Относительности принцип 344—346
Парадигма 200-212, 372-376, 508,
512, 513 (см. Также Кун Т.)
Парадоксы квантовой механики
248, 374, 388-402
Параметр порядка 412—414, 422
Параметр управляющий 412
Первичные идеальные объекты
(ПИО) 233-244, 250-254, 256,
257, 260, 262, 266, 385, 412, 413,
436
«Перепутанные» состояния 400,401
ПИО- и ВИО-типы работы 236,237
ПИО- и ВИО-типы эксперимента
238, 239
Пирса принцип 96
Подкрепление (corroboration)
173, 174, 179, 180, 213 (см. также
«объяснительная сила»)
Позитивизм 36, 70, 287, 73—94,
143-159, 161-164, 167, 192, 193,
199, 219, 239, 284, 285, 373
Познание (интуитивное, демонст-
ративное и сенситивное) 28
Понимание 289—292 (см. герме-
невтика)
600
- в физике 259-260, 377-379
Постмодернизм 216, 217, 220,
248
Постпозитивизм 69, 70, 101, 141,
132, 152, 162-164, 314, 315
Постструктурализм 308—313
Правдоподобность теории
179-180
Прагматизм 95—99
Предсказание 156
Предсказательная сила 481—490
Предустановленной гармонии
принцип 23, 37
Преобразования Галилея 347—349
Преобразования Лоренца 350—353
— их истолкование 354—357
Приближение к истине 180
Привычка 34
Приемлемость теорий 486
Прикладная наука 262
Причинная связь 23, 34, 38, 53,
57, 58, 79, 107
Пробабилизм 168
Проверяемости принцип
455-472, 475, 481
Прогрессивный сдвиг проблем
174-175, 221, 272, 486, 487
Пролиферации принцип 214, 216
Простоты принцип 171, 491—507
— определение 494
Пространство и время 42—44,
48, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 399
— их связь 360—366
— свойства 338—344
— субстанциональная и реляци-
онная концепции 337—338,
366-367
Протокольные предложения
146-150
Развитие науки 176, 225
Раздел науки 234, 235
Рационализм 18, 36, 55507—510,
515
Рациональная критика 188
Рациональные инициативы 191
Реализм 85, 86, 87, 184, 185
— метафизический («наивный»,
«научный») 85, 86, 164, 184,
185, 192, 193, 197-199 '
— реформированный (утончен-
ный, прагматический, Поппе-
ра-Лакатоса) 164,192,197-199
Реалистический эмпиризм 196
Реальность 88, 98, 375, 376, 399,
389
Редукционизм 17, 437—441, 443,
445, 447, 449, 322-324
Редукция (коллапс) волновой фун-
кции 390—398
Рейхенбаха принцип 502—504
Релятивизм 95
Рефлексия 95
Самоорганизация 410, 411,
419-425, 441, 448-449
Сенсуализм 28, 30, 32, 102
Симплицизм 171
Сингулярные высказывания 165
Синергетика философская 421—424,
425
Системности принцип 507—510,
515
Скептицизм 95
Скрытых параметров теории 374
Сообщество (научное) 70, 200—212,
285, 373
Соответствия принцип 384, 508,
512-517
Социальность и техника 561,
566-577
«Спасение явления» 195
Статистическая интерпретация
(квантовой механики) 374, 419
Странный аттрактор 408—409,421
Структура теории 152—154,
251-254, 468
Предметный указатель
Структурализм 304—309
Структуралистический взгляд на
науку 154
Субстанция 19, 22, 29—30, 36
56, 57, 60
Суперпозиции принцип 380, 390
Сциентизм 73, 107
«Твердое ядро» 223
Телеология 438, 441—44
Телеономия 442
Теоретичесая физика 233, 234
Теоретическая нагруженность
91-93, 132, 152, 226
Теоретическая часть 251
«Теоретические термины» («не-
наблюдаемые») 153, 468, 472
Теория (физическая) 88—89, 153,
178
Теория катастроф 443, 448
Теория систем 441—443, 448
«Теорфизическая» парадигма («ин-
терпретация») квантовой меха-
ники 379—403
Техника 245-246, 541-577
Технологический этап 559
Техноценоз 542
Тождественности (неразличимо-
сти) частиц принцип 388, 400
Трех миров концепция 185—189,
285
Универсальные высказывания 165
Уровни концептуальных разли-
чий в естественной науке 254
Фаллибилизм 178
Фальсификации принцип 166,
463-465, 484-486,
Фальсификационизм 163—176
— догматический 168—170
— методологический 170—173,
227-228
— утонченный методологиче-
ский 173—176
601
Философия науки
Фейнмана принцип 505—507
Феноменологизм 75, 84, 85
Формализм 45, 109, 116
Фотоэффект 369, 370, 477
Фундаментальная наука (академи-
ческая) 261, 264, 265, 320-322
Холизм 18, 388,440, 442, 443, 445
Школа научная 209
Эволюционная эпистемология 76,
84, 189-191, 279
Эвристика отрицательная и поло-
жительная 223—224
Эйнштейна, Подольского, Розена
(ЭПР) эксперимент 398—401
«Эйнштейновская» парадигма
(«интерпретация») 373, 374
Эквивалентности принцип 359
Экономия мышления 85, 86, 90, 91,
495, 496
Эксперимент 25, 81, 239, 246, 247,
481, 510
— решающий 166, 200, 270
— мысленный 238, 266, 359, 372,
386, 248, 398, 401
Элементаризм 18, 440, 450
Элементы (нейтральные) 83, 84
Эмерджентность 188, 440, 444
Эмпиризм 18, 23, 32, 36, 38, 49,
55, 74,
Эмпиризм реалистический («на-
учный») 192, 193
«Эмпирическая адекватность»
195, 199, 240
Эмпирический базис (протоколь-
ные предложения) 146,167,169
Энциклопедизм 157, 158
Эпистемология без познающего
субъекта 185—189
Эрлангенская программа 67,
478, 479
Эффективности (успешности)
критерий 85, 99,194,197, 221
«Ядро раздела науки» (ЯРН)
235, 236, 266, 271, 379, 384, 385,
412, 428, 432, 433
«Языковая игра» 129
- правила 112, 113, 128, 133,
138-140
Языковой каркас 148, 149
ИМЕННОМ УКАЗАТЕЛЬ
Аристотель 437
Берг Л.С. 448
Беркли Дж. 30, 31
Бернар К. 439
Берталанфи (Bertalanffy) Людвиг
фон 441
Бодрийяр (Baudrillard) Жан 572
Бойль (Boyle) Р. 429
Больцман (Boltzman) Л. 419,
Бондарь А. В. 548
Бор (Bohr) Н. 375-379, 402, 477
Борн (Bom) М. 374, 377, 378,
380-382, 402, 469, 470, 478
Браун А. 447
Бройль (de Broglie) Л. де
Бунге (Bunge) М. 157, 495
Бэкон (Bacon) Ф. 18, 23—27
Виндельбанд (Windelband) В.
296-298
Винер (Wiener) Н. 441, 454
Витгенштейн (Wittgenstein) Л.
101-118, 124-141, 145,
Вуджер (Woodger ) Дж. 443, 444
Гадамер (Gadamer) Х.Г. 302—303
Галилей (Galilei) Г. 232, 239-240,
318, 326
Гедель (Godel) К. 120, 121
Гейзенберг (Heisenberg) В. 377,
378, 402, 469-471
Гемпель (Hempel) К.Г. 144
Гильберт (Gilbert) Д. 45, 234, 343
Дальтон (Dalton ) Дж. 428, 430,
432
Дарвин (Darwin) Ч. 447
Декарт (Descartes) Р. 18—21, 32,
36, 37, 39, 50
Джеймс (James) У. 99, 194
Дидро (Diderot) Д. 31, 32
Дильтей (Dilthey) В. 293-296,302
Докинз (Dawkins) Р. 447
Дриш (Driexch) X. 439, 445
Дьюи (Dewey) Дж. 99
Дюгем (Duhem) П. 86—92, 165,
171, 223, 319
Ефременко Д.В. 542
Икскюлль (Uexkiill) Я. Фон 439,
445, 447
Кант (Kant) И. 38-64, 70, 71,
101, 105, 121, 296, 349
Карнап (Carnap) Р. 45, 144, 148,
154-156, 287
Кассирер (Cassirer) Э. 55, 6,
67-69, 300, 301
Клейн (Klein) О. 67, 343, 478
Коген (Cohen) Г. 62-66, 68-70
Конт (Comte) О. 73-75, 287
Крафт (Kraft) В. 158
Куайн (Quine) У. 163
Кудрин Б.И. 542
Кун (Kuhn) Т. 132, 141, 173,
199-212, 217, 219, 220, 229,
310, 513
603
Философия науки
Лакатос (Lakatos) И. 164, 220—229,
465, 484, 486, 487, 490
Ламетри (Lamettrie) Ж. 31, 32
Лаплас (Laplace) П. 17,73,248,491
Леви-Строс (Levi-Strauss) К.
305-307
Лейбниц (Leibniz) Г.В. 18, 21—23,
37, 45, 337
Локк (Locke) Дж. 18, 27—30, 39
Max (Mach) Т. 82-86, 495, 496
Милль (Mill) Дж. 77-81, 485
Минковский (Minkowski) Г. 366
Натори (Natorp) П. 62
Нейман (Neumann) И. фон 383,
389, 391-398
Нейрат (Neurath) О. 144, 157—159,
287
Нетер (Neter) Э. 343
Ньютон (Newton) И. 37, 105, 106,
318, 326, 491,
Патнэм (Putnam) X. 197, 240
Пирс (Peirce) Ч.С. 95—98
Планк (Planck) М. 85, 86, 369, 476,
477
Полани (Polanyi) М. 173, 206,
Поппер (Popper) К. 65, 163—168,
171-174,176-190, 378, 464, 484,
486, 487, 490
Пригожин (Prigogine) И. 408,
415-421
Пуанкаре (Poincare) Ж.А. 46,
92-94, 165, 171, 233, 234, 408,
409, 464, 497. 503
Рассел (Russell) Э.С. 443,444,450
Рассел (Russell) Б. 45, 101, 116, 145,
475
Рейхенбах (Reichenbach) X. 144,194
Рикер (Ricoeur) П. 302, 303
Риккерт (Rickert) Г. 298—300,
303
Риттер (Ritter) Г. 443, 444
Сколимовски X. 543
Соссюр (Saussure) Ф. де 188, 285,
304
Спенсер (Spencer) Г. 75—77
Том (Thom) Р. 443
Тоффлер (Toffler) А. 576
Тулмин (Touhnin) С. 191,276—279
Уайтхед (Whitehead) А.Н. 145,
444
Фейерабенд (Feyerabend) П.К.
199, 213-220, 241, 248, 314
Фраассен ван (Fraassen van) Б.
192-196, 199, 240, 243. 284
Фреге (Frege) Г. 116
Фролов К.В. 550
Фуко (Foucault) М.П. 309—313
Хайдеггер (Heidegger) М. 218,
301-303,542,
Хакен (Haken) Г. 407, 408, 411,
422
Холтон (Holton) Д. 277
Шеннон К. 442
Шлейермахер (Schleiermacher) Ф.
290-293, 302
Шлик (Schlick) М. 144—148
Шрёдингер (Schrodinger) Э. 374,
377-380, 390, 402
Эйнштейн (Einstein) А. 161, 320,
349, 366, 370, 373, 374, 378,
402, 471, 477, 495, 498, 503,
504, 511
Юм (Hume) Д. 33, 34, 38, 53, 74,
77
Учебное издание
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Директор редакции И. Федосова
Ответственный редактор В. Щербакова
Редактор Е Жукова
Художественный редактор П. Ильин
Технический редактор Л. Зотова
Компьютерная верстка Н. Журавлева
Корректор Н. Друх
ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 41 Т-68-86, 956-39-21.
Home раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Подписано в печать 02.08.2007
Формат 60x90 1/1б- Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 38,0.
Тираж 3000 экз. Заказ № 5486
Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14