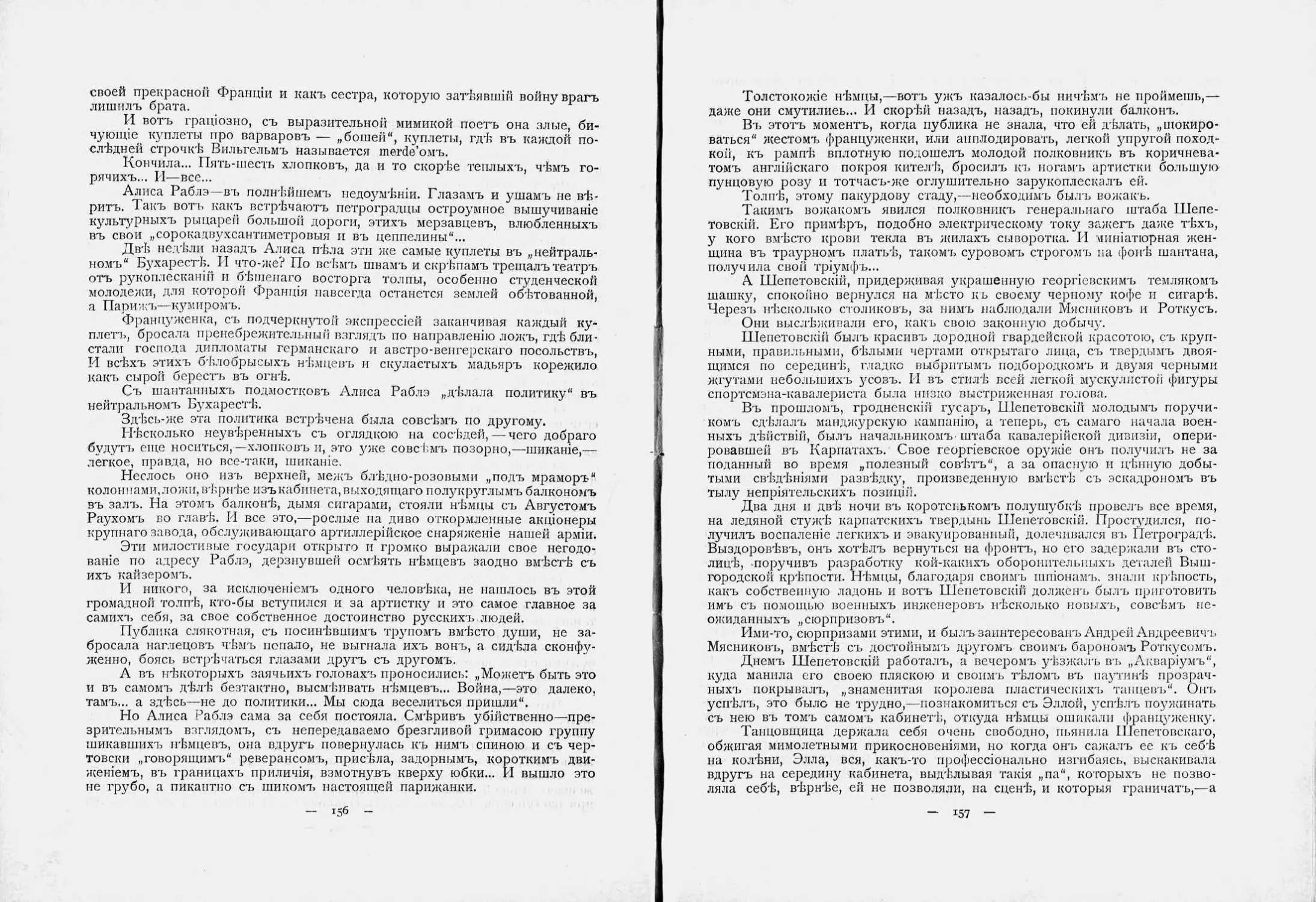Автор: Брешко-Брешковскіий Н.Н.
Теги: роман художественная литература классическая литература
Год: 1916
Текст
м- -І-т
Г,
Н- Н- Бреіико-Брешковскій.
ПРЕДАТЕЛИ
| №Ш'Я ,
ПЕТРОГРАДЪ.
1916.
Типографія т-ва .Общественная Польза-, Петроградъ, Большая Подъяческая, 39.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
1. Прекрасная банкиресса.
Этимъ яснымъ утромъ жена константинопольскаго банкира Агамем-
нона Сарифи получила письмо. Принесъ его албанецъ-кавасъ Кіамилль,
торчавшій всегда, такой дико-знушительный, декоративный, у подъѣзда
германскаго посольства.
Длинный, костистый, съ ястребинымъ профилемъ человѣкъ,увѣшанный
и утыканный оружіемъ, позвонилъ у банкирскаго особняка на Перѣ, молча
ткнулъ бритому, въ синемъ фракѣ съ металлическими пуговицами, лакею
письмо, буркнувъ одно только слово „ханумъ", т. е. госпожѣ, и удалился
беззвучной и легкой походкою хищника. И въ самомъ дѣлѣ, и эти дви-
женія и эта поступь, упругая, крадущаяся—больше ко двору, гдѣ-нибудь
въ горахъ Албаніи, чѣмъ на гладкой панели единственной, европейской,—
да и то съ грѣхомъ пополамъ,—улицы Константинополя.
„Прекрасная банкиресса",—ее называли такъ въ кружкахъ междуна-
роднаго мѣстнаго общества,—была одна. Мужъ, по обыкновенію, въ девять
утра уѣхалъ въ свой „Банкирскій домъ", а шестнадцатилѣтній сынъ Гер-
месъ — ушелъ въ американскій колледжъ, гдѣ съ малолѣтства получалъ
воспитаніе и образованіе.
Лакей, оставшись одинъ, въ прохладномъ, съ мраморными колоннами
вестибюлѣ и съ фантастическимъ цвѣтнымъ полумракомъ,—потому что всѣ
окна были цвѣтные, — повертѣлъ въ рукахъ плотный продолговатый кон-
вертъ. Адресъ написанъ по-нѣмецки мужскимъ почеркомъ, твердымъ и
крупнымъ.
Прекрасная банкиресса сидѣла въ своемъ будуарѣ передъ круглымъ
зеркаломъ туалета. А горничная, смуглая, хорошенькая, темная, глазастая
гречанка Ксида, родомъ изъ Митилены, расчесывала густые, длинные каш-
тановые волосы госпожи. Въ свои тридцать семь лѣтъ Бранка Сарифи
— т — т
имѣла видъ совсѣмъ, совсѣмъ молодой женщины,—такъ на диво сохрани-
лась ея красота. Высокая, съ покатыми плечами, съ гибкой, тонкой фигурою
и четкимъ профилемъ, Бранка напоминала тѣхъ воздушныхъ современныхъ
женщинъ одинаковой складки, — будь онѣ француженки, англичанки, аме-
риканки, польки, русскія,—которыхъ съ такимъ искусствомъ передаетъ на
своихъ портретахъ офранцузившійся итальянецъ Больдини.
Длинная фигура, длинныя, узкія руки съ тонкими пальцами, длинныя
ноги, чувствующіяся сквозь ткань моднаго обтянутаго платья,—таковъ типъ
Больдиніевыхъ моделей. Женщинъ вѣка, женщинъ безъ націи, безъ опре-
дѣленной расы, съ какой-то, общей для всѣхъ, модернизированной породи-
стостью. Къ такому типу женщинъ принадлежала и банкиресса. Никто не
сказалъ бы, что она сербка. Не было ничего въ ней южно-славянскаго.
Ничего, за исключеніемъ развѣ необыкновенной физической свѣжести,
которой дышала вся ея, по виду хрупкая, на самомъ дѣлѣ упругая и
сильная, безъ свойственной Болдиніевымъ женщинамъ усталой пресыщен-
ности, фигура.
Родину свою Бранка знала смутно, урывками наѣзжая на Бѣлградъ
на недѣлю-другую провѣдать живущихъ тамъ родственниковъ. Покойный
отецъ ея былъ дипломатъ, извѣстный въ свое время Драголюбъ Рашичъ.
Онъ былъ сербскимъ посланникомъ въ Римѣ, Лондонѣ, Парижѣ, Констан-
тинополѣ. И дѣти его кочевали за нимъ, получая международную шлифовку
въ большихъ европейскихъ центрахъ, отрываясь все болѣе и болѣе отъ
маленькой демократической Сербіи. Единственный сынъ Рашича-Миланъ,
тоже дипломатъ, занимавшій постъ уполномоченнаго въ дѣлахъ въ Кон-
стантинополѣ, воспитывался въ Англіи.
Отецъ, какъ и подобаетъ видному дипломату, жилъ широко, любилъ
внѣшній блескъ, пріемы. И это, въ концѣ-концовъ, расшатало его довольно
крупное состояніе. Подъ конецъ жизни, будучи представителемъ Сербіи
на берегахъ Босфора, онъ совсѣмъ запутался въ долгахъ. Спасти его могъ
лишь выгодный бракъ единственной красавицы дочери. Онъ внушилъ это
юной восемнадцатилѣтней Бранкѣ и на предложеніе влюбленнаго въ нее
банкира, она отвѣтила согласіемъ.
Сарифи называли финансовымъ геніемъ, „королемъ" константинополь-
ской биржи. Онъ стоялъ во главѣ нѣсколькихъ большихъ предпріятій.
Очень можетъ быть, что въ области разныхъ денежно-промышленныхъ
комбинацій, онъ дѣйствительно являлся человѣкомъ незауряднымъ. Но въ
обыкновенной, частной жизни, это былъ неумный и самовлюбленный пухлый
человѣкъ, съ водянистыми глазами на выкатѣ, съ бабьимъ безбородымъ
лицомъ, въ крупныхъ веснушкахъ и, къ довершенію всего — ярко, до не-
приличія рыжій. Короткія рѣсницы, брови—и тѣ были рыжія. Трудно пред-
ставить себѣ болѣе контрастную пару: высокая, царственно-красивая Бранка
и смѣшной, коротконогій банкиръ съ именемъ одного изъ царей класси-
ческой Трои. Но этотъ Агамемнонъ ворочалъ,—и еще какъ ворочалъ! —
милліонами. А милліоны способны скрасить какую-угодно невзрачную
внѣшность.
Горничная, ловко работая проворными пальцами и черепаховымъ
гребнемъ, приводила въ порядокъ буйныя, хаотическія волны густыхъ,
ароматныхъ волосъ Бранки. И при этомъ, по обыкновенію, съ повадкою
восточной рабыни, льстиво и наигранно восторгалась Ксида красотою своей
госпожи. Лесть была пріятна. Бранка снисходительно выслушивала ее.
2
Звонокъ внизу, повторенный дважды. Это лакей вызываетъ горничную.
— Поди, возвращайся скорѣе,—молвила Бранка.
Ксида на тяжеломъ, старой чеканки, серебряномъ подносѣ, съ выпук-
лыми всадниками въ тюрбанахъ, протянула госпожѣ письмо.
А сама уставилась южными черными глазами на Бранку: выдастъ
себя чѣмъ-нибудь, или нѣтъ? Блѣдное, съ чуть матовой, слегка розовѣющей
кожею и съ удлиненнымъ оваломъ, тонкое лицо хранило спокойное выра-
женіе. Но когда Бранка поднесла къ своимъ сѣро-голубымъ, слегка близо-
рукимъ,—это сообщало ея взгляду какую-то особенную обволакивающую
прелесть,—глазамъ, твердый, шаршавый конвертъ, она закусила губы. Рука,
бѣлая, гибкая, полуобнаженная, потянувшаяся къ маленькимъ туалетнымъ
ножницамъ, остановилась на полдорогѣ. Видимо, Бранка не спѣшила
вскрыть письмо. Не спѣшила ознакомиться съ его содержаніемъ. Вниманіе
Ксиды, не перестававшей причесывать госпожу, удвоилось.
Бранка, побѣдивъ свое колебаніе, взрѣзала конвертъ. Въ этихъ круп-
ныхъ четкихъ, слишкомъ четкихъ фразахъ, въ томъ, какъ онѣ были напи-
саны, угадывалось что-то властное, приказывающее. Да и все письмо
носило характеръ чуть-чуть затушеваннаго приказанія.
Милая Бранка!
„Простите, не совсѣмъ, быть можетъ, оффиціальное обращеніе. Но,
мнѣ кажется, я имѣю право позволить себѣ это... Мнѣ необходимо видѣть
васъ для одного, чрезвычайно серьезнаго и важнаго, разговора. Я прошу
немедленнаго свиданія. До часу дня, то-есть до того времени, какъ вашъ
почтенный супругъ возвращается домой къ завтраку, мы еще успѣемъ
увидѣться. Ровно въ одиннадцать я буду ждать васъ на мусульманскомъ
кладбищѣ, въ концѣ Золотого Рога. Вы подниметесь на самый верхъ, тамъ,
гдѣ группа кипарисовъ окружаетъ мраморный обелискъ, единственный по
своей высотѣ и размѣрамъ. Конечно, было бы гораздо проще сказать вамъ
все это по телефону, чѣмъ посылать каваса. Но у меня есть свои сообра-
женія относительно константинопольскихъ телефоновъ, которымъ нельзя
рѣшительно ничего довѣрять... Итакъ, жду. Вы будете!
Вашъ КЛ
Писалъ по-французски, съ грубыми ошибками въ оборотахъ и орѳогра-
фіи, германскій инструкторъ турецкой арміи капитанъ Куртъ фонъ-Раухъ.
Бранка прочла и вмѣстѣ съ письмомъ опустились на колѣни ея
нѣжныя руки. Сложное чувство охватило Бранку. Здѣсь и напоминаніе о
постыдномъ и темномъ, что хотѣлось забыть, забыть навсегда, и смутное
предчувствіе чего-то нехорошаго, не къ добру, и уязвленная женская гор-
дость и еще что-то неясное и туманное, однако, оставляющее липкій, тя-
гучій осадокъ...
Было желаніе остаться одной, совсѣмъ одной, вмѣстѣ съ письмомъ,
которое жгло пальцы.
— Уйди!
— Но, госпожа, я еще не уложила, какъ слѣдуетъ вашихъ прекрас-
ныхъ волосъ пѣнорожденной богини...
— Уйди!
Ксида, пожавъ недоумѣнно плечами, вышла изъ будуара, оглядываясь
украдкою.
3
А госпожа сидѣла съ опущенной головою. Лицо ея исказилось гнѣвной
судорогой и она скомкала письмо Курта...
Драголюбъ въ синемъ фракѣ и въ полосатомъ жилетѣ, открылъ
парадную дверь, выпустивъ Бланку на улицу. Его удивило, что госпожа
не велѣла подать себѣ автомобиля и, на худой конецъ, не сѣла въ извоз-
чичій экипажъ, а скоро-скоро, стуча по асфальту панели каблучками, зато-
ропилась вдоль Перы, внизъ, къ набережной.
Бранка такъ занята была своими мыслями—не замѣтила съ изысканной
любезностью приподнятыхъ цилиндровъ и шляпъ. Это кланялись ей зна-
комые дипломаты, кто верхомъ, кто въ коляскѣ, кто пѣшкомъ совершавшіе
утреннюю прогулку свою.
Бранка считалась самой красивой, самой изящной дамою европейской
колоніи Царьграда. И всѣ эти мужчины, холостые и женатые, молодые и
въ возрастѣ, всѣ одинаково лощеные, холеные, изысканно одѣтые,—уха-
живали за нею, въ надеждѣ пофлиртовать. А кто посмѣлѣе и посамона-
дѣяннѣй—мечтали и о большемъ... Объ романѣ съ этой прекрасной бан-
кирессой, женою пухлаго, огненно-рыжаго грека..
Пера съ ея магазинами, кафэ, витринами, эта улица, желавшая, во
чтобы то ни стало, принять обликъ настоящихъ культурныхъ городовъ,
смѣнялась другой, самой, что ни на есть, Азіей. Крутой спускъ, варварски
вымощенный гигантскимъ булыжникомъ. Сидя на камняхъ, выли протяжно
сѣдобородые слѣпые старики въ фескахъ. Грязь, удушливый запахъ пере-
горѣлаго оливковаго масла, которымъ дышали на улицу глубокіе, черные
зѣвы торгующихъ всякой дребеденью мусульманскихъ лавочекъ. Посрединѣ
улицы—хрупкіе навѣсы балаганчиковъ съ цѣлыми горами овощей и фрук-
товъ. Къ вечеру владѣльцы этихъ навѣсовъ тутъ же ставятъ свои низенькія
кровати, какъ дома, располагаясь къ ночлегу. Бредутъ вереницами худые,
покорные ослики, нагруженные мѣхами съ водою, корзинами со всякой
кладью, включительно, до песку и уличнаго сора. Слышенъ гортанный,
чужой и чуждый европейскому уху говоръ. Мелькаютъ пергаментныя лица,
блестятъ зубы и траурными тѣнями проходятъ женскія фигуры въ темномъ,
съ лицами, закрытыми чадрою.
Бранку всегда развлекалъ этотъ шумный красочный Востокъ. Но теперь
она ничего не видѣла. Она спустилась къ грохочущей набережной. Вмѣсто
мѣди, или никеля, сунула серебро человѣку съ сумочкою на груди, соби-
рающему дань съ тѣхъ, кто желаетъ перейти по мосту на азіатскій берегъ
Стамбула.
Но Бранка, не миновавъ и четверти длиннаго, за послѣдніе годы
заново отстроеннаго моста, по одной изъ боковыхъ деревянныхъ лѣстницъ
спустилась къ Босфору, гдѣ колыхались на сверкающей отъ солнца зыби
широкобедрые челны, феллуки съ балдахинами, каики, парусныя лодки.
Пергаментный, полуголый анатоліецъ въ засаленной фескѣ, придержалъ
багромъ свой ковровый челнъ, пока эта молодая, просто и со вкусомъ
одѣтая во все черное ханумъ садилась въ него.
2. Внукъ своего дѣда.
Анатоліецъ, одинъ изъ тѣхъ дикарей, что принимали такое дѣятель-
ное участіе въ кровавыхъ „армянскихъ баняхъ", инсценированныхъ Аб-
дулъ-Хамидомъ, скаля зубы, проворно заработалъ веслами, и лодка птицею
понеслась вдоль Золотого Рога, мимо шныряющихъ по всѣмъ направле-
ніямъ каиковъ, пароходовъ и узкихъ, длинныхъ англійскихъ гичекъ, съ
гребцами въ пестрыхъ фуфайкахъ.
И уплывали мимо два берега съ мечетями, грязными, ветхими, но жи-
вописными, какъ все на востокѣ, домами съ деревяннымъ выступомъ ви-
сячихъ балконовъ. Дальше—запущенные, неряшливые турецкіе доки, съ
какими-то обглоданными, полинявшими броненосцами, бъ ясномъ, про-
зрачномъ воздухѣ рѣзко слышался лязгъ желѣза...
Въ нѣсколько минутъ пройденъ весь путь. Лодка ударилась носомъ
о деревянную пристань. Бранка сунула пергаментному оборванцу сере-
бряную мелочь. Удивленный ея щедростью, онъ забормоталъ по-турецки,
предлагая подождать возвращенія ханумъ. Онъ, Ахметъ, первый лодочникт
на всемъ Босфорѣ и птицею доставитъ обратно ханумъ...
Но ханумъ была уже далеко. Стройная, гибкая фигура въ черномъ
и въ такой же черной, круглой, какъ черный цвѣтокъ, шляпѣ, мелькала
средь бѣлыхъ мраморныхъ колоннъ и плитъ поднимающагося уступами
въ гору кладбища.
Ничего нѣтъ безотраднѣй мусульманскаго кладбища на голомъ ров-
номъ мѣстѣ. Съ тоскливымъ однообразіемъ торчатъ и вертикально и вкось
мраморныя и каменныя плиты, иногда съ изображеніемъ фески. Но если
кругомъ растутъ кипарисы, и мѣстность холмистая, получается удиви-
тельно декоративное впечатлѣніе. Что-то нѣжное и меланхолическое въ
кипарисахъ, этихъ стройныхъ, густо-зеленыхъ деревьяхъ. На сѣверѣ клад-
бищенское дерево — скромная, застѣнчивая береза, на юго-востокѣ —
пышный, пирамидальный, Божьей свѣчей поднимающійся къ небесамъ, ки-
парисъ.
— И сколько глубины, бездонной, безконечной, — глазъ утонетъ,—
сколько нѣжно голубоватой сини въ этихъ мягкихъ небесахъ, подернутыхъ
бѣлыми, какъ тихо плывущія глыбы снѣга, тучками.
Бранка шла мимо желѣзныхъ рѣшетокъ, поднимаясь по гранитнымъ
ступенямъ, шла тропинкою, сѣрымъ зигзагомъ терявшейся въ густой
травѣ. Осыпались, шурша подъ ногами, круглые, словно граненые, сухіе
камешки.
Знакомая дорога...
Больше двухъ лѣтъ минуло съ тѣхъ поръ, какъ это кладбище было
мѣстомъ встрѣчъ Бранки съ барономъ Куртомъ. И отсюда любовались
они вдвоемъ изумительной панорамою сказочнаго по красотѣ города, бѣ-
гущимъ къ самой водѣ сумбурнымъ, хаотическимъ амфитеатромъ древнихъ
генуэзскихъ башенъ, дворцовъ, легкихъ, воздушныхъ, словно мраморныя
кружева игольчатыхъ минаретовъ и сплюснутыхъ, приземистыхъ куполовъ
гордыхъ, массивныхъ мечетей. И надъ каждымъ куполомъ—зеленымъ кос-
матымъ шатромъ раскинулись гигантскія пиніи. И вездѣ вода, вода, море
безъ конца-краю. Сквозь туманную дымку прозрачныхъ далей, въ ясную
погоду нѣжно, какъ во снѣ, намѣчались Принцевы острова. И въ золотѣ
солнца и въ пурпурѣ осеннихъ, кроваво-пепельныхъ закатовъ это было
зрѣлище неописуемаго,—часами любуйся,—очарованія.
И они любовались. Бранка искренно, онъ же дѣлалъ видъ, что лю-
буется. Холодный и сухой—такимъ она узнала его потомъ — онъ притво-
рялся. Восхищеніе его природою—было разсудочное, головное.
5
Какъ онъ овладѣлъ ея сердцемъ? Женщинѣ надо любить. Жизнь
безъ любви — не въ радость и не въ счастье. Какое-то однобокое, урод-
ливое—ни себѣ, никому, сиротство. Бракъ съ „банкирскимъ домомъ Ага-
мемнонъ Сарифи", именно съ банкирскимъ домомъ, былъ вынужденный.
Приходилось спасать семью отъ разоренія и всего тяжелаго, унизительнаго,
связаннаго съ тѣмъ, когда человѣкъ, привыкшій къ своему высокому по-
ложенію, къ своей роли въ обществѣ, вдругъ, въ одинъ совсѣмъ непре-
красный день, можетъ оказаться не только нищимъ, но и съ долгами
на шеѣ.
Итакъ, рыжій, лупоглазый, на коротенькихъ ножкахъ Сарифи не былъ
героемъ юной, только что вышедшей изъ монастыря, Бранки. Да и не могъ
быть таковымъ. Иные герои чудились ей, волнуя пылкое воображеніе,
стѣсненное сводчатыми дортуарами, похожими на общую келью. Да это и
были монастырскія кельи, и у изголовья каждой дѣвичьей постельки ви-
сѣло Распятіе.
Православная была Бранка. Но мать, родомъ изъ знатной хорватской
семьи по ту, венгерскую сторону Дуная, воспитала ее въ католическихъ
традиціяхъ. Однако, сербская кровь отца мѣшала ребенку стать экзальти-
рованной католичкой, и весь мистическій фанатизмъ, такъ сильно свой-
ственный подругамъ по монастырю „Сакръ-Кэръ", въ особенности испан-
камъ и итальянкамъ, по ней скользилъ, не задѣвая, легко.
Больше десяти лѣтъ была Бранка безупречной женой, рѣдкой ма-
терью своему сыну. И какъ-то пугливо, почти суевѣрно гнала отъ себя
всякій соблазнъ. А ихъ было такъ много—соблазновъ! Но всезнающая и
всюду проникающая сплетня, особенная константинопольская сплетня,
гдѣ горсточка европейцевъ на виду вся, не могла коснуться имени Бранки.
Не могла при всемъ желаніи, до тѣхъ поръ, пока не появился на бере-
гахъ Босфора капитанъ Куртъ фонъ-Раухъ, любимецъ и правая рука
Гольцъ-паши. Этотъ блестящій офицеръ изъ Берлина имѣлъ всѣ данныя,
чтобы европейская колонія охотно раскрыла передъ нимъ свои двери.
Онъ былъ красивъ, не шаблонной красотою выхоленнаго, бѣлобрысаго
прусскаго офицера, а красивъ по настоящему. Черты лица твердой и пра-
вильной чеканки, умные глаза, сѣрые, холодные. Брился какъ англичанинъ
начисто, не нося задорно торчащихъ Вильгельмовыхъ усовъ, которыми
такъ назойливо щеголяли товарищи его по военной миссіи. Онъ былъ на-
читанъ, образованъ, говорилъ не только о лошадяхъ и о женщинахъ,—
двѣ излюбленныя темы германскаго юнкера. Онъ умѣлъ носить и штат-
ское, и свою форму офицера генеральнаго штаба, появляясь въ ней на
парадныхъ обѣдахъ и пріемахъ, и болѣе скромную турецкую, полагав-
шуюся германскимъ инструкторамъ, во время учебныхъ занятій.
Куртъ увлекъ Бранку, заставивъ ее измѣнить мужу первой и по-
этому самой мучительной измѣною.
— Что, какимъ порывомъ, сухимъ и горячимъ, какъ дыханіе пустыни,
кинуло Бранку въ объятія капитана Рауха? Почему на немъ остановилось
ея вниманіе? Почему? Развѣ мало въ Константинополѣ интересныхъ муж-
чинъ, способныхъ вскружить голову?
Ему просто-на-просто выпало счастье. Выпало подойти близко къ
Бранкѣ въ тотъ острый психологическій моментъ любовнаго голода,
именно голода, женщины, которая еще не любила, но вся, и нѣжной оди-
нокой душою, и прекраснымъ тѣломъ своимъ, чувствуетъ, какъ уходитъ
6
молодость. Уходитъ, а нѣтъ ни любви, ни ласки, ни желанныхъ трепет-
ныхъ объятій.
Вмѣсто всѣхъ этихъ восторговъ, — „Банкирскій домъ, Агамемнонъ
Сарифи", толстенькій, маленькій, катящійся на коротенькихъ ножкахъ, съ
рыжими бровями, рѣсницами и съ вѣчно готовой пошлостью на толстыхъ,
пухлыхъ губахъ.
И вѣдь создастъ же Господь Богъ такое посмѣшище! И это мужчина?
Вдобавокъ еще къ тому же внукъ знаменитаго пирата Одиссея Сарифи,
прозваннаго „Страшнымъ Грекомъ". Дѣдъ безъ счету лилъ человѣческую
кровь, награбилъ крупное состояніе и много пустилъ ко дну моря бри-
гантинъ и феллукъ.
Лѣтъ шестьдесятъ назадъ Страшнаго Грека знали вездѣ. И у Леван-
тинскихъ береговъ, и въ Тунисѣ, и въ Египтѣ, и по всей Адріатикѣ. Су-
хой, оливковый, горбоносый, съ глазами ястреба и шрамомъ иа щекѣ,—
слѣдъ кинжала одного далматинца,—Одиссей Сарифи, не боясь ни полиціи,
ни таможенной стражи, отлично его знавшихъ, появлялся въ прибрежныхъ
кабачкахъ Смирны, Александріи, Портъ-Сайда, Бриндизи, Тріеста, Полы,
Гравозы. Никто изъ самыхъ завзятыхъ морскихъ волковъ не могъ пере-
пить этого человѣка. Онъ, какъ воду, лилъ въ себя самыя варварскія
смѣси, самыя адскія пойла, оставаясь трезвымъ, а круглые, немигающіе
глаза коршуна были все время на сторожѣ, и сухая, словно обтянутая
пергаментомъ рука лежала на поясѣ, за которымъ грозно торчали гро-
мадный „Кольтъ" съ барабаномъ величиною въ кокосовый орѣхъ, и кинжалъ.
Съ кѣмъ только онъ не водилъ компанію?
Собутыльниками его, въ зависимости отъ мѣста, были жирные три-
политанскіе евреи во всемъ бѣломъ, широкоплечіе, скуластые моряки изъ
венгерцевъ, шафранные левантинцы, голубоглазые хорваты, юркіе италь-
янцы и громадные, въ красныхъ фескахъ и бѣлыхъ коротенькихъ, точно
тюники нашихъ балеринъ, юбкахъ, эпироты.
Эти возліянія въ грязныхъ и липкихъ прибрежныхъ трущобахъ кон-
чались иногда ножевой расправою и вмѣшательствомъ, опять-таки въ за-
висимости отъ мѣста дѣйствія, либо турецкихъ заптіевъ, либо итальян-
скихъ карабинеровъ, либо австрійскихъ жандармовъ, либо англійскихъ
полисмэновъ въ тропическихъ пробковыхъ шлемахъ.
И кто бы могь повѣрить, что Агамемнонъ Сарифи былъ внукомъ
этого Страшнаго Грека? Однако, изъ пѣсни слова не выкинешь. Дѣйстви-
тельно, приходился самымъ законнѣйшимъ внукомъ.
Награбленное дѣдомъ за тридцать лѣтъ: ковры изъ Бруссы, золотая
и серебряная посуда художественной чеканки временъ генуэзскихъ дожей,
двадцатифранковыи монеты съ профилемъ Карло-Альберто и множество
всякихъ предметовъ и утвари, до венеціанскихъ зеркалъ, включительно,
все это, умноженное, претворенное въ деньги, хранилось теперь въ не-
сгораемыхъ кассахъ „Банкирскаго дома Агамемнонъ Сарифи", въ видѣ
прозаическихъ акцій, депозитокъ, турецкихъ, англійскихъ и египетскихъ
фунтовъ.
У дѣда была быстроходная бригантина съ тридцатью отчаянными го-
ловорѣзами. У внука—свой особнякъ въ Перѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ
отъ небольшого двухъ-этажнаго отеля, въ которомъ онъ самъ жилъ, особ-
някъ съ цѣлой арміей прилизанныхъ бухгалтеровъ, счетоводовъ, касси-
ровъ и клэрковъ, сидѣвшихъ и стоявшихъ за проволочными сѣтками.
7
Дѣдъ проливалъ человѣческую кровь, на каждомъ шагу рискуя своей
собственной оливковой шкурою. Внукъ гораздо больше высосалъ крови,
ничѣмъ не рискуя и сидя подъ защитою черногорцевъ-кавасовъ въ своемъ
кабинетѣ съ двумя телефонами и бронированнымъ шкапомъ, отпиравшимся
секретнымъ замкомъ.
Ахъ, эти кавасы...
Они были „пунктикомъ" трусливаго банкира. Ему всюд}' мерещились
покушенія и на его личную священную особу, и на сокровища его банка.
Ходилъ по Константинополю анекдотъ, впрочемъ, такой,—дай Богъ,
самой чистѣйшей правдѣ,—какъ Агамемнонъ Сарифи выбиралъ кавасовъ
для своего банкирскаго дома.
Онъ спросилъ свѣдущихъ людей:
— Кто самые высокіе люди на свѣтѣ?..
— Самые высокіе—патагонцы...
— Патагонцы? Это далеко?
— На самомъ югѣ южной Америки.
— Далеко! Не выпишешь. Да и сдерутъ. Ну, а послѣ патагонцевъ,
кто самые высокіе, здѣсь, поближе, въ Европѣ?
— Босняки и черногорцы.
- Ну, хорошо. Я возьму черногорцевъ. Они страшнѣе. Они самые
храбрые, послѣ грековъ, разумѣется. Нѣтъ храбрѣе народа, чѣмъ греки!
Если бы не они, въ эту войну—болгары и сербы шишъ съ масломъ пока-
зали бы туркамъ. Вотъ развѣ еще албанцы—недурные кавасы. Но чортъ
съ ними, съ албанцами! Разбойники! Еще, чего добраго, ограбятъ того,
кому служатъ...
Агамемнонъ Сарифи остановился на черногорцахъ. Нанялъ шесть
усачей-великановъ, одѣлъ ихъ въ расшитыя золотомъ, красныя куртки,
снабдилъ цѣлымъ арсеналомъ оружія и разставилъ по-парно. Двухъ у
главнаго подъѣзда, двухъ внутри банка и два самыхъ внушительныхъ ис-
полинскихъ страшилища—охраняли дверь въ Агамемноновъ кабинетъ.
Но оставимъ на время „отважнаго" банкира и послѣдуемъ за пре-
красной банкирессою.
3. „Рыцарь безъ страха и упрека".
Капитанъ Куртъ фонъ-Раухъ, не торопясь, поднесъ къ холоднымъ,
свѣтлымъ глазамъ своимъ кисть лѣвой руки съ плоскими часами въ ко-
жаномъ браслетѣ и такъ же медленно перевелъ глаза на Бранку.
— Вы опоздали на цѣлыхъ четверть часа... Теперь пятнадцать ми-
нутъ двѣнадцатаго...
Бранка смѣрила его недоумѣннымъ взглядомъ.
— Я васъ не понимаю, капитанъ. Вы сейчасъ откуда-нибудь, съ ма-
невровъ, или съ ученья? И на этомъ основаніи спутали меня съ однимъ
изъ турецкихъ солдатъ. По какому праву требуете вы отъ меня точности?..
— Я ничего не требую, милая Бранка. Ничего! Я только поставилъ
вамъ на видъ ваше опозданіе. Вотъ и все! Вы напрасно горячитесь. Вы
сами себя наэлектризовываете. А что я прямо сюда съ ученья,—это вѣрно.
Съ шести утра я гонялъ подъ Санъ-Стефано каваллерійскій полкъ. За-
мучилъ! Всѣ лошади въ мылѣ и всадники шатались въ сѣдлахъ. Турецкая
— 8 —
кавалерія никуда не годится! Надо ее заново создавать, какъ и все прочее.
Но не въ томъ дѣло. Это вамъ и не интересно, и не за этимъ пригласилъ
я васъ пожаловать сюда...
Алая феска съ темно-синей кисточкою вовсе не шла бритому блон-
дину. Куртъ былъ строенъ и даже изященъ въ свѣтло-коричневомъ одно-
бортномъ турецкомъ мундирѣ съ узенькими капитанскими погонами. Черезъ
плечо, вмѣстѣ съ биноклемъ, висѣла полевая сумка. У пояса—револьверъ.
Капитанъ опирался на прямой, съ гнутымъ эфесомъ, палашъ. Высокіе
сапоги—сѣрые отъ густого налета пыли. Видимо, и вправду онъ гонялъ
все утро полкъ. И лицо съ правильными рѣзкими чертами, и даже рѣс-
ницы—напудрены пылью.
Пруссакъ, въ формѣ турецкаго офицера, дѣятельно реорганизующій
армію полудикой страны, какимъ-то нелѣпымъ недоразумѣніемъ до сихъ
поръ еще уцѣпившейся за клочекъ Балканскаго полуострова.
Капитанъ Куртъ фонъ-Раухъ, какъ и главный патронъ его, Сандерсъ,
какъ и всѣ остальные инструкторы, былъ типичный кондотрьеръ, наемникъ,
хотя и болѣе утонченный, сообразно двадцатому вѣку, чѣмъ его грубые
средневѣковые предки ландскнехты, торговавшіе своими длинными, съ
зигзагообразнымъ клинкомъ, мечами,—кто дороже заплатитъ...
Наемникъ, получающій двойное жалованье у себя и на чужбинѣ. И
то и другое—звонкой золотой монетою.
Наемникъ... И этого человѣка любила Бранка. Или, по крайней мѣрѣ,
обманывала себя, что любитъ. И вотъ онъ позвалъ ее. Она пришла.
Пришла, чуя, что если-бъ не послушалась, — такіе, какъ Раухъ, не оста-
навливаются на полъ-пути. Развѣ не было въ его письмѣ замаскированной
угрозы?..
Она спросила:
— Зачѣмъ, зачѣмъ понадобилась вамъ эта... встрѣча?..
— Вы прежде не говорили такъ, Бранка...
— Забудьте, что было раньше. Оно умерло. Его никогда не было.
Для меня, по крайней мѣрѣ. Я все забыла!..
— Напрасно. Есть вещи, которыхъ ничѣмъ не вычеркнешь... Воспо-
минанія, о которыхъ—неизгладимы.
— Довольно, я ничего не хочу больше слушать... Зачѣмъ это сви-
даніе?..
— Зачѣмъ? Извольте. Чтобъ вмѣстѣ съ вами почувствовать всю
прелесть этой дивной панорамы. Нѣтъ, я шучу. Я слишкомъ для этого
мало сентименталенъ и дорожу своимъ и чужимъ временемъ.
А Бранка, забывъ на мгновеніе о близкомъ сосѣдствѣ этого человѣка,
и въ самомъ дѣлѣ подпала очарованію пестраго хаоса, потокомъ бѣгущаго
къ морю, хаоса минаретовъ, куполовъ, темно-зеленыхъ пиній, старыхъ
зубчатыхъ, мощно круглящихся башенъ, циклоническихъ стѣнъ, выведен-
ныхъ генуэзцами и тянущихся по гребнямъ холмовъ, какъ хребты до-
потопныхъ чудовищъ. Кружевные дворцы мраморными сказками древнихъ
мавровъ — глядѣлись въ глубокое зеркало Босфора. На томъ берегу —
страшная, таинственная, необъятная,—разметалась Азія. И море, море, бѣ-
гущее безъ конца краю, подъ яркимъ солнцемъ къ затуманеннымъ опа-
ловой дымкою далямъ...
А здѣсь, на кладбищѣ—тишина, глубокій покой. Розовѣютъ на солнцѣ
бѣло-мраморныя колонны. Задумчивые кипарисы шепчутся между собою
9
острыми верхушками своими. Доносится откуда-то снизу унылая, бѣдная
мотивомъ и словами, пѣсня кладбищенскаго сторожа.
Эти люди не знаютъ веселыхъ пѣсенъ.
Капитанъ Раухъ, не спѣша, закурилъ сигару. Голубоватыя струйки
дыма поплыли вверхъ. Капитанъ молвилъ:
— Прежде чѣмъ приступить къ дѣлу, дѣлу, въ которомъ мы, какъ
товарищи, должны идти рука объ руку, я хотѣлъ-бы выяснить, да, выяснить
эту непонятную для меня ненависть, которую вы обнаружили съ первыхъ-
же словъ... Прошлаго нѣтъ, говорите вы. Оно умерло. Вы первая столкнули
меня, меня, Курта фонъ-Раухъ, который самъ всегда до сихъ поръ бросалъ
женщинъ. Пусть такъ! Пусть два года назадъ, вы нанесли жестокій ударъ
моему самолюбію мужчины. Но это не мѣшаетъ намъ остаться друзьями?
Хорошими товарищами. Да, да, товарищами,—уже менѣе увѣренно повто-
рилъ капитанъ, видя, какъ мѣняется Бранка.
Съ высоко поднятой головою, эта красивая женщина, дышала однимъ
сплошнымъ негодующимъ изумленіемъ. А какое великолѣпное презрѣніе
въ сощуренныхъ, слегка близорукихъ, глазахъ!
Она была столь же прекрасная, сколь недоступная, чужая, далекая
ему. И онъ, противъ воли, зная, что никогда, никогда не повторятся
отгорѣвшіе поцѣлуи, объятія, залюбовался ею.
Она бросила ему сурово, какъ обвиненіе:
— Вы, вы предлагаете мнѣ дружбу? Теперь? Я не говорю о прошломъ,
вызывающемъ во мнѣ отвращеніе къ самой себѣ. Я говорю о настоящемъ.
Вы, вѣроятно, забыли господинъ Куртъ фонъ-Раухъ, что передъ вами —
сербка! Моя родина залита кровью; кровью, въ которой повинны вы, всѣ
вы, нѣмцы, подготовившіе и вызвавшіе эту войну...
— Это невѣрно. Это клевета!
— Молчите, это святая правда! Вы хотѣли погубить мою родину. Вы
приказали австрійцамъ напасть на Сербію. И послѣ этого вы смѣете
говорить о какой-то дружбѣ между нами. Межд}г мною и вами,—кровь и
ненависть! Только это. И ничего больше не можетъ быть!..
— Вы кончили, Бранка?.. Теперь дайте мнѣ сказать. Я удивляюсь...
Неужели у всѣхъ сербскихъ женщинъ такая горячая кровь, такой пла-
менный патріотизмъ? Женщина, въ особенности, какъ вы, должна огра-
ничиваться салонной политикой. Милая, дипломатическая болтовня, кое-
какія новости, не больше. Возьмите нашихъ германскихъ женщинъ...
— Вы не ставьте мнѣ въ примѣръ вашихъ женщинъ... — перебила
Бранка.—Ихъ идеалъ извѣстенъ: кухня, дѣти, церковь... Я оторвана отъ
своей родины. Я замужемъ за человѣкомъ другой страны, но была и
останусь сербкой!..
• - Не понимаю, рѣшительно не понимаю. Вы — съ вашимъ изяще-
ствомъ, воспитаніемъ, европеизмомъ и вы сочувствуете какимъ-то мужиц-
кимъ идеаламъ, мужицкой арміи?..
— Эта мужицкая армія, господинъ Раухъ, бьетъ австрійцевъ. Надѣюсь,
вамъ извѣстны подробности разгрома подъ Шабацомъ?
Раухъ пожалъ плечами.
— Да. Но что такое австрійцы? Господа привыкшіе сражаться въ
кофейняхъ съ веселыми женщинами. Но вотъ, когда имъ помогутъ гер-
манцы и германскіе корпуса хлынутъ въ Сербію...
— И наша армія будетъ ихъ бить! Слышите, бить и гнать...
ю
— Смѣшно слушать... Впрочемъ, это женская логика. Мы не будемъ
препираться на этой почвѣ... Время бѣжитъ. Вамъ надо вернуться къ часу,
да и я проголодался. Меня ждетъ товарищескій завтракъ въ Пера-паласѣ.
Поэтому буду кратокъ. Я долженъ заручиться вашимъ содѣйствіемъ. Да,
содѣйствіемъ...
Бранка молчала, плотно сжавъ губы. И въ этой сухой линіи рта
былъ явный протестъ. Но Куртъ продолжалъ:
— Ни для кого не секретъ,—эю секретъ полишинеля, объ этомъ
говорятъ вслухъ:—выступленіе Турціи противъ нашихъ общихъ враговъ.
Поэтому теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, мы должны быть въ курсѣ дѣла,
должны знать всю тайную работу въ здѣшнихъ посольствахъ, русскомъ,
французскомъ и англійскомъ. Нашъ министръ, его превосходительство,
господинъ фонъ-Вагенгеймъ, далъ мнѣ кое-какія порученія. Словомъ, я взялъ
на себя ^русское и французское посольство. Надѣюсь, вы меня понимаете?
— Ничего не понимаю...
— А вы попробуйте. Это ясно, какъ Божій день. За вами ухаживаютъ,
виконтъ де-Фоконье и князь Гантимуровъ. Вся европейская колонія гово-
ритъ въ одинъ голосъ, что оба эти дипломата влюблены въ васъ. Поте-
ряли головы. Это мнѣ, какъ нельзя болѣе, на руку. Я избралъ васъ ору-
діемъ. Съ вашей помощью я могу добывать свѣдѣнія, которыя насъ инте-
ресуютъ. Что вы скажете на все это? Вѣдь это-же вамъ ничего не стоитъ!
Маленькій флиртъ, пококетничать съ тѣмъ и съ другимъ—и оба растаютъ.
И по вашему желанію языки этихъ господъ развяжутся... Что-же касается
меня, я буду каждый разъ давать вамъ инструкціи. Ну, право, здѣсь ни-
чего такого... Небольшая услуга. Зачѣмъ дѣлать такое гнѣвное лицо?..
— Послушайте, господинъ Раухъ... Я знала, что вы способны весьма
и весьма на многое... Но дойти до такой низости! За свою ошибку, за то,
что такъ обманулась въ васъ, — я заплатила презрѣніемъ къ себѣ, какъ
къ женщинѣ. Теперь вы хотите, чтобъ я стала презирать себя, какъ чело-
вѣка, превратилась въ тварь...
— Богъ мой, зачѣмъ такія громкія слова!—воскликнулъ Раухъ, уси-
ленно дымя погасающей сигарой.—Къ чему такіе ужасы? Надо смотрѣть
гораздо проще...
— Уйдите!.. Уйдите отсюда... — вырвалось у нея съ какимъ - то
удушьемъ. — Уходите прочь! Или я уйду первая. Вы мнѣ внушаете такое
омерзѣніе...
— Вотъ она, сербская кровь,—заговорила! Но я не сержусь. Оскор-
бленіе въ устахъ женщины—не оскорбленіе. А теперь, прежде, чѣмъ мы оба
покинемъ это живописное кладбище — соблаговолите выслушать меня до
конца. До сихъ поръ я, шутя, снисходилъ къ вашимъ выходкамъ, къ вашей
нервности. А теперь, — говорю серьезно. Если вы заупрямитесь, отказав-
шись повиноваться мнѣ,—васъ ждутъ очень крупныя непріятности.
— Вы не остановитесь ни передъ какой гнусностью, я это знаю...
— Я не остановлюсь ни передъ чѣмъ, лишь-бы сломать ваше нелѣпое
упрямство. Или мы союзники, или—враги! Самые безпощадные! Выбирайте
одно изъ двухъ.
— Я выбираю второе, — твердо молвила Бранка, съ неподвижнымъ
лицомъ и бронею рѣшимости во всей фигурѣ.
— Второе! А вы подумайте хорошенько, на досугѣ, сама съ собою
и остановитесь на первомъ... Взвѣсьте хорошенько, что лучше? Внѣшній
іі
покой, или семейный адъ? У васъ мужъ и почти взрослый сынъ. Повто.
ряю, всѣ пути хороши, разъ они ведутъ къ цѣли... Въ случаѣ неповино-
венія, на васъ обрушится одинъ ударъ за другимъ. Воображаю, какъ
широко должны раскрыться глаза господина банкира, если онъ узнаетъ
изъ анонимнаго письма на пишущей машинѣ, что его жена... Господинъ
банкиръ—будетъ первымъ предостереженіемъ. Второе предостереженіе вы
получите въ лицѣ вашего сына. Вообразите, что въ благовоспитанный
американскій колледжъ приходятъ, одна за другою, на его имя открытки.
Прежде, чѣмъ дойти по назначенію, эти открытки гуляютъ по рукамъ
портье, классныхъ наставниковъ, директора... И только, въ концѣ-концовъ,
попадаютъ къ бѣдному юношѣ. Представьте, хоть на минуту, боль его
души, его психологію... Мать, на которую онъ молился, которую боготво-
рилъ,—а вѣдь онъ боготворитъ васъ я знаю...
Бѣшенство овладѣло Бранною. Изящную, культурную женщину, укра-
шавшую дипломатическіе салоны, какъ рукой сняло. Проснулась въ ней
сербка. Та самая сербка-повстанница, что вмѣстѣ съ усатыми гайдуками
рѣзала въ горахъ турокъ.
Раухъ, не кончивъ фразы, получилъ сильную пощечину.
— Негодяй!..
Первымъ движеніемъ Рауха было схватиться за револьверъ. Но онъ
удержалъ себя.
— Я могъ-бы застрѣлить васъ за оскорбленіе, нанесенное герман-
скому офицеру. Потому что это—уже оскорбленіе. Честь мундира—прежде
всего! Но я щажу васъ... Даю вамъ трехдневный срокъ на размышленія.
Если черезъ три дня, въ одиннадцать часовъ утра, васъ не будетъ здѣсь,
на этомъ-же самомъ мѣстѣ и я не услышу изъ вашихъ устъ согласія по-
виноваться мнѣ,—я оставляю за собою свободу дѣйствій...
Бранка не слышала. Закрывъ лицо руками въ бѣлыхъ, съ черными
„жилками", перчаткахъ, она рыдала. Конвульсивно вздрагивали узкія плечи...
Раухъ, улыбнувшись, глянулъ на Бранку и, придерживая палашъ,
сталъ спускаться внизъ по тропинкѣ, межъ могильныхъ колоннъ и плитъ.
Шурша осыпались подъ его запыленными сапогами камешки...
4. Зауръ-бей.
Зауръ-бей тосковалъ...
Не потому, что сидѣлъ на гауптвахтѣ. Нѣтъ! Гауптвахта была для
него дѣломъ привычнымъ. Настолько привычнымъ,—Зауръ-бей, сплошь да
рядомъ, смотрѣлъ на нее, какъ на свой рабочій кабинетъ.
Бездѣйствовать по цѣлымъ днямъ, слоняясь изъ угла въ уголъ, видя,
какъ назойливо мимо оконъ мелькаютъ взадъ и впередъ фигуры часовыхъ
въ бараньихъ коричневыхъ шапкахъ,—удовольствіе изъ небольшихъ.
Константинопольская гауптвахта, какъ напримѣръ сейчасъ,—это еще
туда-сюда. Окна выходятъ на Перу съ ея оживленіемъ и толпой, развле-
кается глазъ, можно обмѣняться поклономъ съ кѣмъ-нибудь изъ проѣз-
жающихъ, или фланирующихъ знакомыхъ.
Рядомъ—стоитъ пересѣчь небольшой корридоръ—комната дежурнаго
плацъ-адъютанта. И если онъ не формалистъ, а человѣкъ покладистый,
12
глядишь, на минуту-другую можно воспользоваться его телефономъ и по-
болтать съ кѣмъ-нибудь.
Раньше, отбывая наказаніе въ провинціальныхъ гарнизонахъ—одинъ
Аллахъ знаетъ какія ужасныя дыры, эти анатолійскія стоянки!—Зауръ-бей
изнывалъ отъ бездѣлья и скуки. И тогда гауптвахта превращалась для
него въ рабочій кабинетъ.
Сунувъ „бакшишъ" дневальному, Зауръ-бей покупалъ черезъ него
нѣсколько листовъ писчей бумаги, пузырекъ чернилъ, - писать арестован-
ному офицеру, а въ особенности при Абдулъ-Ламидѣ строго запреща-
лось,—и украдкою набрасывалъ очередную корреспонденцію въ одну изъ
большихъ русскихъ газетъ. Затѣмъ, съ помощью опять-таки всесильнаго
бакшиша, корреспонденція препровождалась въ Константинополь на бортъ
какого-нибудь русскаго парохода, идущаго къ нашимъ Черноморскимъ
берегамъ.
Если-бъ эти корреспонденціи, разъ, впрочемъ, такъ оно и было, —
очутились въ рукахъ начальства и оно съ помощью переводчика ознако-
милось бы съ ихъ содержаніемъ? Боже, какой переполохъ пошелъ бы по
всей линіи, вѣрнѣе по всей іерархической лѣстницѣ, начиная съ коман-
дира полка, бригаднаго, дивизіоннаго, корпуснаго и кончая великимъ
визиремъ и самимъ падишахомъ съ крашеной бородою. (Первыя коррес-
понденціи относились еще къ царствованію Абдулъ-Хамида).
Въ своихъ письмахъ въ русскую газету Зауръ-бей рисовалъ без-
отрадныя картины состоянія арміи и флота „могущественной" имперіи
османлисовъ.
Пѣхота упражняется на ученіяхъ деревянными ружьями и только
разъ въ годъ солдатъ получаетъ винтовку, чтобъ выпустить изъ нея три
„учебныхъ" патрона. Въ мирное время эскадронъ кавалеріи насчиты-
ваетъ самое большее десять-двѣнадцать коней. На броненосцахъ—орудія
съ вынутыми затворами, а иногда и просто деревянныя, выкрашенныя въ
аспидный цвѣтъ.
И много еще, безъ конца, въ такомъ же духѣ...
Турецкій офицеръ, пишущій обличительныя корреспонденціи въ рус-
скую газету,—не правда-ли, что-то дикое, невѣроятное съ перваго взгляда?
Но это покажется невѣроятнымъ и дикимъ тому, кто незнакомъ съ исторіей
Зауръ-бея. А исторія его—въ высшей степени любопытная. Если ее раз-
сказать съ документальной точностью, — герой живое, невымышленное
лицо,—всякій заподозритъ канву „романа съ приключеніемъ".
Нынѣшній Зауръ-бей,—потрепанный жизнью человѣкъ лѣтъ сорока.
Онъ высокъ, прямъ, силенъ, гибокъ и крупныя черты его, скорѣй черты
кавказскаго горца, чѣмъ турка. Да онъ и вправду кавказецъ — русскій
черкесъ.
Двадцатилѣтнимъ, смуглымъ, съ матовой кожею и съ большими тем-
ными, бѣгающими, какъ у тигренка глазами, юношей, Зауръ-бей, окончивъ
кавалерійское Елисаветградское юнкерское училище, вышелъ корнетомъ
въ одинъ изъ драгунскихъ полковъ, стоявшій въ Царствѣ Польскомъ на
прусской границѣ.
Молодежь полюбила его за удаль, за широкую товарищескую душу,
за лихое джигитское наѣздничество. Отецъ присылалъ ему съ Кавказа
сравнительно много денегъ и веселая, беззаботная жизнь сулила, если и
не вѣчный, то во всякомъ случаѣ, длительный праздникъ.
— із —
И вдругъ, все это рушилось такъ неожиданно, нелѣпо. И вмѣсто вѣч-
наго праздника—почти катастрофа. Да она и была катастрофою, зловѣщимъ,
все на своемъ пути сметающимъ губительнымъ смерчемъ.
И теперь, спустя двадцать лѣтъ, Зауръ-бей ярко, до ужаса ярко, пом-
нилъ весь этотъ день и все, что было потомъ...
Городской садъ. Иллюминація. Въ бесѣдкѣ, густо обвитой плюшемъ,
игралъ хоръ полковыхъ трубачей.
Ближе, чѣмъ съ другими товарищами, Зауръ-бей друженъ былъ съ
поручикомъ Вишневскимъ. Молодые Вишневскіе, жена и мужъ—это была
такая солнечная пара и такъ они любили другъ-друга! Пылкій горецъ
чувствовалъ себя необыкновенно хорошо и покойно у Вишневскихъ. Въ
отношеніи Зауръ-бея къ молодой женщинѣ, въ ихъ совмѣстныхъ прогул-
кахъ, не было и тѣни ухаживанья. Они были, какъ братъ и сестра, взаимно
повѣряя свои впечатлѣнія, свои души.
Въ этотъ вечеръ, когда городской садъ, по случаю тезоименитства
Императора Александра III горѣлъ огнями, Вишневскій былъ дежурнымъ
по полку. Зауръ-бея онъ просилъ быть кавалеромъ своей жены. И вотъ
они идутъ вдвоемъ по дорожкѣ, Зауръ-бей, высокій, гибкій, въ бѣломъ
кителѣ и Вишневская, такая нѣжная, милая блондинка, во всемъ свѣтломъ.
Поодаль стояла группа офицеровъ, съ подполковникомъ Андреевымъ
въ центрѣ. Андреевъ, курчавый, нервный, сухой человѣкъ, славился своимъ
невоздержаннымъ языкомъ. На этой почвѣ у него бывали непріятности.
Вообще, онъ имѣлъ свои причуды. Пилъ онъ водку изъ серебряной ча-
рочки, которую всегда носилъ въ карманѣ рейтузъ. Въ гости онъ ѣздилъ
на тройкѣ. Широкая тяжелая расписная дуга имѣла двѣ надписи. На ли-
цевой сторонѣ было:—„Радуйтесь дѣвицы, женихъ ѣдетъ!". На тыльной:
„Плачьте дѣвицы, женихъ уѣзжаетъ!".
Это у него осталась еще гусарская повадка. Полкъ, нѣсколько лѣтъ
назадъ, какъ и всѣ армейскіе полки былъ переформированъ изъ гусар-
скаго въ драгунскій, но традиціи гусарскія остались вмѣстѣ съ жизнью и
весельемъ въ широкихъ,—полная чаша,—рамкахъ.
Зауръ-бей и Вишневская проходили мимо.
Почудилось Зауръ-бею, или шепнула ему это его горячая кровь, но
только он ь клялся потомъ, что слышалъ собственными ушами кинутую
подполковникомъ фразу:
— Бѣдный Вишневскій... Онъ и не подозрѣваетъ, что за его спиной
Зауръ ставитъ ему рога...
Свѣту не взвидѣвшій Зауръ-бей тигромъ бросился на подполковника...
Товарищи схватили черкеса за руки... Онъ уже не помнилъ себя, весь
пылающій, коричнево-красный, съ безумными глазами. Громадные сине-
ватые бѣлки — закатились... Въ результатѣ—громкій скандалъ на виду у
всѣхъ, у публики...
Дамокловъ мечъ строгаго военнаго суда повисъ надъ корнетомъ...
На слѣдующій день,—одинъ Богъ знаетъ, какъ онъ провелъ ночь,—
Зауръ отправился къ полковому командиру доложить о случившемся. Пол-
ковой командиръ, видный, холеный, съ роскошной свѣтлой бородою фли-
гель-адъютантъ, завтракалъ. Онъ вышелъ къ корнету въ гостиную. Свѣтлые,
на выкатѣ глаза полковника радушно блестѣли. Его вызывали въ штабъ
корпуса и онъ только сегодня вернулся, ничего не зная. Адъютантъ не
успѣлъ ему доложить о скандалѣ.
и
— Въ чемъ дѣло, мой милый, „иррегулярный кавалеристъ?"...
Зауръ-бея называли въ полку „иррегулярнымъ кавалеристомъ". И
училище и служба въ строю не могли вытравить въ немъ кавказской по-
садки, съ малолѣтства привитой въ горахъ и собственнымъ темперамен-
томъ и темпераментомъ горячихъ, приплясывающихъ кабардинскихъ лоша-
докъ и восточнымъ сѣдломъ, съ высокой лукою и подушкой.
Зауръ-бей, волнуясь, сбивчиво разсказалъ происшедшее въ город-
скомъ саду. И по мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, мѣнялся полковой коман-
диръ. Мрачнѣе тучи опустился тяжело на диванъ.
— Какъ вы меня подвели... Какъ вы меня подвели...
Зауръ-бей, звякнувъ шпорами, вышелъ.
Ужасы одинъ другого страшнѣе мерещились ему. Судъ, лишеніе всего,
каторга... Что дѣлать? Его могутъ арестовать каждую минуту. Онъ рѣшилъ
бѣжать заграницу. До Торна—рукой подать.
Что будетъ съ нимъ дальше и какъ обернется его судьба, — онъ
не думалъ. Вѣрнѣе, боялся думать. Всѣмъ существомъ своимъ сосредо-
точился на побѣгѣ.
И онъ бѣжалъ. Безъ бумагъ, безъ паспорта, переодѣтый въ штатское,
съ нѣсколькими десятками рублей въ карманѣ.
Черезъ нашу границу ему удалось перейти счастливо, но не успѣлъ
вступить на прусскую землю, тотчасъ задержали его нѣмецкіе жандармы.
Повели къ коменданту.
Теперь, безъ всякой боли и почти даже безъ горечи вспоминаетъ
Зауръ-бей эту двадцатилѣтнюю давность. Все равно выбитъ человѣкъ изъ
колеи, изломано прошлое, искалѣчена молодость и какой, спрашивается
толкъ въ запоздалыхъ сожалѣніяхъ? Чтобъ растравлять успѣвшую затя-
нуться рану?..
И тому изъ русскихъ, съ кѣмъ сводилъ его случай и здѣсь, въ Кон-
стантинополѣ и въ шатаніяхъ по Европѣ, и къ кому у него лежала
душа,—Зауръ-бей спокойно и даже не безъ юмора описывалъ заключенія
своего бѣгства.
— Ведутъ меня къ коменданту два этакихъ упитанныхъ жандарма въ
каскахъ и съ обыкновенными человѣческими усами. Двадцать лѣтъ назадъ
Вильгельмъ былъ скромнѣе и не носилъ знаменитыхъ сверхъ-усовъ. Иду,
а голова мучительно работаетъ... Малѣйшій ложный шагъ и все погибло.
Вышлютъ назадъ самымъ унизительнымъ образомъ. А у меня былъ планъ,
если сойдетъ все благополучно, проберусь во Францію, оттуда въ сѣверную
Африку и поступлю въ иностранный легіонъ.
Вотъ уже открывается дверь въ кабинетъ коменданта, а я еще самъ
не знаю, что соврать ему о себѣ...
Вижу, сидитъ за столомъ сухой, лысый генералъ, „загримированный"
подъ Вильгельма I. Тогда еще старики военные въ Пруссіи подражали
сѣдымъ бакамъ покойнаго императора, идущимъ отъ висковъ къ угламъ рта.
— Кто вы такой?—спрашиваетъ меня комендантъ по-нѣмецки.—Без-
паспортный бродяга? Ваши бумаги?.. Кто вы такой?..
Вдругъ меня осѣнило. Назовусь туркомъ, бѣжавшимъ изъ Россіи
отъ воинской повинности... Глядитъ на меня комендантъ испытующимъ
окомъ.
— По типу вы дѣйствительно турокъ. А скажите нѣсколько фразъ
по-турецки?
— т5 -
Я на чемъ свѣтъ обругалъ его по-черкески. Все равно, ни черта не
пойметъ.
— Переведите?..
Тутъ я понесъ околесицу:
— Это значитъ, говорю, Аллахъ въ лицѣ одного изъ правовѣрныхъ
сыновъ своихъ шлетъ благословеніе свое великой германской имперіи.
Грубый балаганъ подѣйствовалъ. Генералъ „подъ Вильгельма Iй
облизнулся даже. Складка межъ бровей прояснилась и онъ уже совсѣмъ
милостиво спрашиваетъ:
— Вамъ чего, собственно, хотѣлось-бы?
Чего мнѣ хотѣлось бы? Извольте отвѣчать безъ всякой заминки.
Ну, была не была!
— Натурально, я хотѣлъ бы очутиться поскорѣе въ Турціи.
— А вы кого-нибудь знаете въ Константинополѣ?..
Мой мозгъ лопнуть готовъ отъ напряженія. Чувствую,—если удачно
совру,—спасенъ. И вспомнился мнѣ зарубежный черкесъ, кунакъ молодости
моего отца, Назимъ-паша. Я и выпали это имя.
— А чѣмъ онъ занимается?..
Тутъ уже я обнаглѣлъ.
— Какъ чѣмъ занимается? Неужели господинъ комендантъ не знаетъ,
какой высокій постъ занимаетъ Назимъ-паша при его величествѣ, султанѣ?
Генералъ пожевалъ губами.
— Конечно знаю. Я только хотѣлъ васъ провѣрить...
Ну, думаю, отпустишь ты душу мою на покаяніе, или нѣтъ?
И съ такимъ невиннымъ видомъ,—и откуда взялся у меня актерскій
талантъ,—спрашиваю:
— Такъ что господинъ комендантъ отпуститъ меня въ Константи-
нополь?..
Не тутъ-то было. Глянулъ на меня волкомъ.
— А вы такъ спѣшите? Или Константинополь ждетъ, не дождется
васъ? Погостите недѣлю - другую въ Торнѣ. Казематы у насъ весьма и
весьма комфортабельные. Въ этомъ вы убѣдитесь лично.
Эге, такой оборотъ мнѣ уже не нравится. Двѣ недѣли, шутка-ли ска-
зать! За это время комендантъ можетъ навести справки у Назима-паши. И
тотъ, не зная въ чемъ дѣло, сгубитъ меня своимъ показаніемъ.
Комендантъ нагнувшись лысымъ черепомъ, раскрылъ какую-то за-
писную книжечку.
— А вы по армянски говорите?..
— Говорю,—отвѣчаю. Хотя, на самомъ дѣлѣ,—ни слова, ни бельмеса...
— Отлично! Вы сейчасъ будете нашимъ переводчикомъ. Мы задержали
подозрительнаго армянина, ни на одномъ языкѣ не говорящаго, кромѣ
своего, армянскаго...
Комендантъ велѣлъ жандарму привести армянина...
5. Бѣглецъ.
Армянинъ оказался однимъ изъ тѣхъ „васточныхъ чилавэковъ", ко-
торыхъ изображали въ „Стрекозѣ". Настоящій кавказецъ! Черный, воло-
сатый, жирный. И все время клѣтчатымъ платкомъ вытираетъ вспотѣвшее
— іб —
лицо и лобъ. Потѣлъ неимовѣрно, хоть выжми! Тутъ и природная комп-
лекція и страхъ передъ тѣмъ, что ему готовитъ грядущее, въ лицѣ лысаго
коменданта.
Не до смѣху мнѣ было, совсѣмъ не до смѣху. А и то не могъ удер-
жаться отъ улыбки,—такую комическую фигуру являлъ собою этотъ за-
травленный армянинъ, безъ рѣчей. И жалко, и смѣшно. Безпомощность
полная!
Комендантъ,—лицомъ къ лицу насъ...
— Спросите его, кто онъ, откуда, и какъ очутился на прусской тер-
риторіи?..
Я—къ армянину по-черкесски. Онъ бормочетъ по-армянски. Нераз-
бериха полная.
— Ну, что онъ говоритъ, армянинъ?—торопитъ меня генералъ.
— Онъ говоритъ, господинъ комендантъ, что онъ—жертва армянской
рѣзни, учиненной турками въ ванскомъ вилайетѣ. И вотъ онъ бѣжалъ
черезъ Россію, не имѣя даже документовъ, а теперь пробирается въ Бер-
линъ и еще дальше, въ Парижъ...
— Такъ...—чиркнулъ что-то у себя въ записной книжкѣ комендантъ.—
Но почему у меня такое впечатлѣніе, словно вы говорите на двухъ раз-
ныхъ языкахъ?..
— Мы говоримъ на одномъ языкѣ, только нарѣчія разныя. Его на-
рѣчіе—турецко-армянское, мое—русско-армянское. Но это нисколько не
мѣшаетъ намъ отлично понимать другъ друга.
— Хорошо... спросите его слѣдующее...
Я задавалъ армянину вопросъ за вопросомъ и все—черкесской ско-
роговоркою.
Армянинъ, заподозривъ что-то неладное въ этой наглой комедіи,
сталъ выходить изъ себя, волноваться, осыпая потоками непонятныхъ
фразъ и меня и, въ концѣ концовъ, коменданта. Вы понимаете трагиче-
ское положеніе человѣка, желающаго много высказать и безсильнаго сдѣ-
лать это? Гласъ вопіющаго въ пустынѣ?
Комендантъ—ко мнѣ:
— Почему онъ такъ нервничаетъ? Успокойте его. Скажите, что ему
нечего особенно бояться...
Я сталъ „успокаивать0 армянина. Куда тутъ! Какъ бѣсноватый бро-
сался на меня чуть не съ кулаками. Пѣной весь такъ и брыжжетъ.
— Никакія убѣжденія не помогаютъ,—говорю мучителю нашему, ко-
менданту.—Никакія убѣжденія не помогаютъ. Выросшій и воспитанный въ
турецкихъ нравахъ, онъ не вѣритъ ни одному моему слову. Онъ увѣренъ,
что его либо посадятъ на колъ, либо на лучшій конецъ—повѣсятъ.
— Да онъ совершеннѣйшій идіотъ!—вспылилъ комендантъ.—Германія
не Турція. Мы не сажаемъ на колъ и не вѣшаемъ безпаспортныхъ бро-
дягъ. Этакій жирный оселъ! Спросите, есть ли у него деньги и сколько?
Ну, думаю, здѣсь я шлепнулся въ лужу вмѣстѣ съ моимъ армянскимъ
языкомъ. Какъ его спросишь? Не мимикой? Не вынимать же свой соб-
ственный кошелекъ... Да и то запуганный, затормошенный, все равно ни-
чего не пойметъ.
— Ну, что же?—подхлестывалъ меня комендантъ.
— Онъ боится назвать сумму. Онъ привыкъ, что у нихъ, у турец-
кихъ армянъ, полиція первымъ дѣломъ выворачиваетъ карманы.
м
17
— Да это папуасъ какой-то!..
Къ моему великому удовольствію, весь этотъ опереточный доги) о съ
конченъ. Армянина увели въ одинъ казематъ, меня—въ другой. Даль-
нѣйшая судьба бѣдняги неизвѣстна мнѣ. Впору было интересоваться своей
собственной судьбою. Черезъ двѣ недѣли я высланъ былъ въ Константи-
нополь. Мое приключеніе совпало съ медовымъ мѣсяцемъ дружбы Виль-
гельма съ Абдулъ-Хамидомъ. II въ моемъ лицѣ прусскія власти какъ бы
подносили султану нѣкоторый подарокъ.
И вотъ создалось положеніе: черкесъ по крови, русскій по духу, го-
рячо любящій Россію и русскую армію, я, по милости какого-то дикаго
случая, превращаюсь въ турецкаго офицера. Больше ничего не осталось.
Я ничего другого, кромѣ кавалерійской службы, не умѣлъ и не зналъ...
Зауръ-бей весь какъ-то раздваивается, раскалывается. Оффиціально,
съ внѣшней точки зрѣнія, онъ дезертиръ, бѣглецъ. Душа же его, помыслы,
симпатіи,—все это глубоко и навсегда осталось въ Россіи.
На фонѣ довольно-таки плачевной турецкой конницы, это былъ едва
ли не самый образцовый офицеръ, великолѣпный строевикъ и превос-
ходный ѣздокъ. Онъ могъ-бы сдѣлать блестящую карьеру, въ особенности,
при благоволеніи султана къ черкесамъ. Не неукротимый, горячій, а, глав-
ное, воспитанный въ другихъ воинскихъ традиціяхъ и въ другихъ поня-
тіяхъ о долгѣ и чести мундира, онъ никакъ не могъ примириться съ ца-
рившимъ въ турецкой арміи униженнымъ раболѣпствомъ младшихъ и
разнузданнымъ восточнымъ деспотизмомъ верховъ, даже самыхъ бли-
жайшихъ.
Кулачная расправа генераловъ съ поручиками, капитанами и даже
полковниками, на глазахъ солдатъ, передъ фронтомъ, считалась обычнымъ
явленіемъ въ турецкихъ войскахъ, никого не удивляя, не возмущая. Словно
это самое обыкновенное—явленіе въ порядкѣ вещей и не можетъ быть иначе.
Зауръ-бей, получившій въ двадцать одинъ годъ чинъ юсъ-баши (ка-
питана), вмѣстѣ съ эскадрономъ полка султанскихъ копьеносцевъ, въ пер-
вомъ же своемъ столкновеніи съ дивизіоннымъ генераломъ, такъ внуши-
тельно оскалилъ зубы, что поднятая для пощечины рука начальства опу-
стилась, и гроза дивизіи, надменный, откормленный паша, бочкомъ-бочкомъ,
скорѣй назадъ, отъ грѣха подальше...
Зауръ-бей создаль себѣ имя гордаго, безпокойнаго офипера, къ ко-
торому „отеческія внушенія" непримѣнимы. Вотъ почему стали его душить
гауптвахтой. Начальство побаивалось его, товарищи, забитые, впроголодь
живущіе, на грошевое, да и то не всегда исправно уплачиваемое, жало-
ванье, смотрѣли на этого черкеса-пришельца снизу вверхъ, и его смѣлость
была для нихъ вѣчнымъ предметомъ необъяснимаго, непонятнаго изумленія.
Офицерамъ строго-на-строго запрещалось не только водить компанію,
но даже вступать въ бесѣды съ европейцами, въ особенности, если это
былъ кто-нибудь изъ дипломатическаго корпуса.
Полиція, военная и гражданская, шпіонажъ тайный и явный, боялись,
какъ огня, чтобъ офицеры не сообщали знакомымъ „гяурамъ", скрытыхъ
для непосвященныхъ, пружинъ административно-воинской машины отто-
манской имперіи. Машины мертвой, заржавленной, вотъ-вотъ готовой раз-
сыпаться по всѣмъ скрѣпамъ и винтикамъ...
А Зауръ-бей, какъ на зло, проводилъ все свое свободное время въ
европейской колоніи Царьграда, въ особенности между русскими.
18
Это послѣднее ставилось ему на видъ начальствомъ. За каждымъ его
шагомъ слѣдили.
На другой день, или, бывало, въ тотъ же самый день, тучный диви-
зіонный паша, котораго Зауръ-бей „подцукнулъ" съ первыхъ же шаговъ,
самъ заявлялъ своему капитану:
— Сынъ мой, тебя видѣли вчера въ „Пти-шанъ" за однимъ столикомъ
съ первымъ секретаремъ русскаго посольства...
— Паша освѣдомленъ вполнѣ правильно. Да, я дѣйствительно былъ
вчера въ „Пти-Шанъ", да, я дѣйствительно сидѣлъ за однимъ столикомъ
съ первымъ секретаремъ русскаго посольства... Если паша желаетъ знать,
что было дальше, ибо начальнику подобаетъ интересоваться жизнью своихъ
подчиненныхъ, я могу удовлетворить законное любопытство паши: въ
томъ шантанѣ подвизается пребѣдовая француженка—Алиса Мартингалы
И вотъ я вмѣстѣ съ этой Алисой..
Балаганя въ такомъ же духѣ, Зауръ-бей издѣвался безъ зазрѣнія со-
вѣсти падъ пашею. Но тотъ либо не понималъ этого глумленія, либо при-
творялся непонимающимъ.
— Сынъ мой, твои любовныя утѣхи нисколько не касаются меня. Въ
твои годы только и думать объ этихъ наслажденіяхъ. Наслаждайся!.. И да
благословитъ тебя Пророкъ и да пошлетъ тебѣ красивѣйшихъ гурій
своихъ. Но вотъ что дурно! Зачѣмъ ты якшаешься съ гяурами изъ по-
сольства? Дипломаты — народъ хитрый. Они спятъ и видятъ, какъ бы
только что-нибудь про насъ вывѣдать... Подальше отъ нихъ! Ты же не
политикъ, а солдатъ, и легко можешь проболтаться. Дай мнѣ слово, что
не будешь знаться съ гяурами. Мало тебѣ развѣ своихъ?.. Дай слово...
— Нѣтъ, не дамъ слова, паша. Потому что, давши его, имѣю при-
вычку держать. Гяуры—народъ хорошій, интересные собесѣдники, и отъ
встрѣчъ съ ними я не вижу худого, какъ для себя, такъ и для мундира,
который ношу.
И съ тучнымъ пашею и съ другими пашами, потоньше, велись у
Зауръ-бея подобные разговоры. Но сломать своенравнаго черкеса было
не такъ-то легко. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ неотступной тѣнью слѣдить
за каждымъ его шагомъ.
И вотъ „неподобающія знакомства" вымещались придирками по
службѣ и отсюда,—продолженіе слѣдуетъ,- гауптвахта.
Однажды, на пути въ Святую Землю, задержался въ Константинополѣ
издатель большой русской газеты. Судьба свела его съ Зауръ-беемъ. Чер-
кесъ понравился умному старику, имѣвшему талантъ, помимо всѣхъ осталь-
ныхъ талантовъ, цѣнить и выбирать людей. Его плѣнилъ этотъ, болѣе
чѣмъ странный, турецкій капитанъ, плѣнилъ и всей колоритной фигурой
своею, и не менѣе колоритной способностью разсказывать образно и вы-
пукло. И вотъ Зауръ-бей — константинопольскій корреспондентъ русской
газеты. Его скромный офицерскій бюджетъ сразу увеличивается вдесятеро.
Въ кошелькѣ звенитъ золото. Онъ швыряетъ деньгами, кутитъ въ шан-
танахъ. Это не ускользаетъ отъ бдительнаго глаза начальства.
— Откуда у него завелись деньги? Ужъ не продаетъ ли своимъ гяу-
рамъ какія-нибудь секретныя свѣдѣнія?
За нимъ пуще прежняго начинаютъ слѣдить. Но Зауръ-бей чистъ,
какъ стеклышко. Даже на солнцѣ, пожалуй, больше пятенъ, чѣмъ на его
„политической" репутаціи.
х9
Дошло до того, даже самъ Абдулъ-Хамидъ вызывалъ его передъ
свои очи повелителя правовѣрныхъ.
Вызывалъ черезъ одного изъ своихъ флигель-адъютантовъ. Юный
полковникъ съ берлинской выправкою, затянутый въ сверкающій золотомъ
мундиръ, въ видѣ особой милости, лично передалъ приглашеніе султана и
при этомъ въ чрезвычайно лестной формѣ:
— Его величество цѣлуетъ твои глаза...
Абдулъ-Хамидъ, подозрительный, обрюзгшій, съ бѣгающимъ, какъ у
у рыси, взглядомъ, съ крупными армянскими чертами, погладилъ свою
выкрашенную въ огненный пвѣтъ бороду.
Глаза падишаха пронизали насквозь черкеса.
Зауръ-бей выдержалъ холодный взглядъ „кроваваго султана".
— Ты мнѣ нравишься,—замѣтилъ Абдулъ-Хамидъ.—Ты смѣлый и ни-
чего не боишься. А такіе люди рѣдко бываютъ предателями. Я позабочусь
о твоей дальнѣйшей карьерѣ.
Но подоспѣли такія времена, — султану въ самую пору было забо-
титься о сохраненіи собственной драгоцѣнной жизни. Эти дни совпали
какъ разъ съ младотурецкимъ переворотомъ.
Младотурки, до поры до времени, оставили Зауръ-бея въ покоѣ. Об-
щеніе съ гяурами уже не ставилось ему на видъ, такъ какъ сами младо-
турки заискивали въ Европѣ и европейцахъ.
Но надъ такой безпокойной головою всегда готова повиснуть какая-
нибудь новая бѣда. Начался у Зауръ-бея рядъ столкновеній съ офицерами
германской военно . .иссіи, прибравшей къ своимъ цѣпкимъ рукамъ Кон-
стантинополь... Настолько прибравшимъ, что стоявшіе во главѣ прави-
тельства младотурки даже такого калибра, какъ Энверъ-паша, преврати-
лись въ послушныхъ маріонетокъ. Маріонетокъ, покорно продѣлывавшихъ
всѣ тѣ механическія движенія, что властно диктовалъ имъ Берлинъ, дер-
гавшій за нитку игрушечныя фигурки въ алыхъ фескахъ. Вся эта банда
кондотьеровъ, вмѣстѣ съ главнымъ кондотьеромъ, сначала Гольцъ-пашею,
а затѣмъ генераломъ Сандерсомъ, вела себя въ Турціи, какъ въ завое-
ванной странѣ.
Бѣлобрысые лейтенанты нахально третировали старыхъ капитановъ—
полковниковъ и даже пашей. Всѣ офицеры гнули свои рабьи головы пе-
редъ, удержу не знающими, наемниками. Всѣ, за исключеніемъ Зауръ-бея...
6. На гауптвахтѣ.
Съ каждымъ днемъ распоясывались наемники все больше и больше.
Они ходили группами вдоль Перы, эти бѣлобрысые „турки" съ мо-
ноклями, сигарами въ зубахъ и въ красныхъ фескахъ.
Грубо, цинично приставали къ женщинамъ, требуя, чтобъ все и вся
очищало имъ дорогу.
Если на панеляхъ густилась мусульманская чернь, они пробивали
себѣ путь хлыстами. Какой-нибудь носильщикъ, погонщикъ ословъ, или
торговецъ, зазѣвавшись, не успѣвалъ посторониться, — ударъ хлыста по
чемъ попало, чаще всего по лицу, напоминалъ бѣдному турку о тріум-
фальномъ шествіи берлинскихъ кондотьеровъ.
20
Германская миссія смотрѣла на офицеровъ-турокъ съ высоты недо-
сягаемаго величія, считая ихъ какими-то жалкими паріями.
Въ приказѣ по арміи Энверъ-паша, до противнаго, лакействовавшій
передъ нѣмцами, обязалъ офицеровъ „дружески привѣтствовать своихъ
германскихъ товарищей".
Эти привѣтствія выходили крайне однобокими.
Можно было наблюдать сплошь-да рядомъ въ Константинополѣ такія
картинки:
Идетъ медленно старый, сѣдой, лѣтъ шестидесяти, маіоръ, участникъ
русско-турецкой войны. Одѣть бѣдно. Синій вылинявшій, словно изже-
ванный мундиръ, съ боевыми отличіями на груди. Парусиновые мятые
панталоны — куцы ему. Изъ-подъ нихъ выглядываютъ рыжія голенища
сапогъ, давно незнакомыхъ съ ваксой и щеткою.
Навстрѣчу, неся грудь колесомъ, выступаетъ одѣтый съ иголочки,
откормленный, выхоленный офицеръ миссіи. Монокль, хлыстъ, сигара, все
какъ слѣдуетъ быть.
Маіоръ подтянувшись, отдаетъ честь. Берлинскій молокососъ отвѣ-
чаетъ небрежнымъ чуть замѣтнымъ кивкомъ. А иногда и вовсе пройдетъ
мимо, глядя на стараго ветерана въ орденахъ и медаляхъ, какъ въ пустое
пространство.
Оскорбленіе, и еще какое, въ глазахъ мусульманина!
Иногда подъ пучками сѣдыхъ бровей вспыхнутъ большіе, темные
глаза и тотчасъ-же погаснутъ. Маіоръ, вспомнивъ, что у него отъ трехъ
женъ куча ребятъ, которыхъ надо кормить и одѣвать, съ глубокимъ вздо-
хомъ, схронивъ на днѣ души своей обиду, проходитъ мимо...
Сдѣлать замѣчаніе дерущему носъ мальчишкѣ,—самъ не радъ будешь.
И отъ него наглотаешься дерзостей, да еще отъ начальства влетитъ за
неуживчивость и отсутствіе „товарищескаго такта".
Вызывающее поведеніе наемниковъ будило сначала робкое, глухое, а
потомъ все болѣе и болѣе накипавшее недовольство въ офицерскихъ
кругахъ стараго, Абдулъ-Хамидовскаго режима. Младотурки дѣлали все,
лишь-бы скорѣй разогнать офицеровъ, въ свое время присягавшихъ отрек-
шемуся султану.
Тридцатидвухлѣтній военный министръ Энверъ, кичливо самъ себя
называвшій „турецкимъ Наполеономъ", однимъ росчеркомъ пера выгонялъ,
не удалялъ, а именно выгонялъ въ отставку десятки заслуженныхъ бое-
выхъ генераловъ.
Недовольные, обойденные, стали группироваться вокругъ знаменитаго
Шукри-паши, полгода героически защищавшаго Андріанополь отъ сильной
сербско-болгарской арміи, тѣснымъ кольцомъ обложившей эту перво-
классную крѣпость.
Послѣдніе дни, самые мучительные и самъ Шукри и его штабъ
питались сухими бобами. Гарнизонъ голодалъ. У солдатъ, превратившихся
въ человѣческія тѣни, валились изъ рукъ винтовки.
Не успѣлъ Шукри-паша вернуться изъ болгарскаго плѣна, военный
министръ уволилъ его въ отставку безъ мундира и пенсіи. „Андріанополь-
скій левъ" ходилъ по городу въ скромномъ штатскомъ сюртукѣ. Тѣ самые
германскіе офицеры, которые въ осажденной крѣпости почитали за боль-
шой фаворъ поймать на себѣ орлиный взглядъ командующаго обороною,
теперь не узнавали его, не замѣчали на улицѣ и въ кофейняхъ.
Настало время другихъ выскочекъ-генераловъ изъ младотурецкой
молодежи, прибитыхъ къ берегу власти той-же самой капризной волною,
что вынесла на себѣ Энвера и Талаата, двухъ самыхъ главныхъ прохо-
димцевъ.
Лучшіе элементы общества и арміи видѣли, что господство нѣмцевъ,
закупившихъ Энвера и Талаата, приведеть къ полному крушенію, къ
скорой гибели Турціи — и безъ того униженной послѣдней балканской
войною.
А тутъ еще нѣмцы задумали втравить ихъ въ борьбу съ Россіей,
борьбу, которая—можно-ли сомнѣваться? — будетъ фатальной для, и безъ
того трещащей по всѣмъ швамъ, имперіи оттомановъ.
Офицерская гауптвахта, угрюмое, сѣрое облупившееся зданіе,—выхо-
дила фасадомъ на Перу. Кромѣ часовыхъ, маячившихъ взадъ и впередъ,
навстрѣчу другъ-другу, стояли у главнаго подъѣзда, бравые, декоративные
жандармы въ бѣлыхъ нитяныхъ перчаткахъ, бараньихъ шапкахъ, при
саблѣ и револьверѣ.
Ясный осенній день угасалъ мягко и нѣжно. Сплошныя тѣни протя-
нулись вдоль улицы, но верхушка монументальной Галатской Башни еще
розовѣла въ трепетно млѣющихъ, предсмертныхъ лучахъ.
Смуглый, словно смазанный весь оливковымъ масломъ, левантинецъ-
рабаджи (извозчикъ) остановилъ свой дребежжащій по камнямъ экипажъ
у гауптвахты. Одинъ изъ жандармовъ, не ограничившись оффиціальнымъ
козыряньемъ, отвѣсилъ низкій селямъ подъѣхавшему „эффенди". Да, по
всему видно было, и по костюму, и осанкѣ, что это настоящій эффенди.
А между тѣмъ, турокъ съ громаднымъ носомъ и черепомъ,—сплющенной
тыквою,—на которой плотно сидѣла крохотная феска, былъ и некрасивъ,
и не высокъ ростомъ.
Но темный пиджачный костюмъ, видимо сшитый въ Европѣ, сидѣлъ
чудесно. Когда эффенди улыбался, сверкали спереди золотые зубы, тоже
несомнѣнно дѣло рукъ западнаго дантиста.
Чужими, совсѣмъ не къ мѣсту, казались на этомъ некрасивомъ лицѣ,
большіе, мечтательные, голубые глаза.
Эти глаза остановились на росломъ жандармѣ.
— Керимъ?..
— Такъ точно, эффенди.
Нѣсколько лѣтъ назадъ, Керимъ служилъ въ батальонѣ пѣшей сул-
танской гвардіи, которымъ командовалъ обладатель красивыхъ голубыхъ
глазъ.
Фуатъ-бей,—воспитанникъ Сенъ-Сирской школы, влюбленный во все
французское, могъ сдѣлать блестящую карьеру. Тѣмъ болѣе его отецъ
занималъ одно время постъ министра иностранныхъ дѣлъ. Но съ воцаре-
ніемъ господъ младотурокъ закатилась звѣзда Фуатъ-бея. Энверъ съ удо-
вольствіемъ вышвырнулъ его изъ списковъ арміи, создавъ такимъ обра-
зомъ лишняго врага себѣ. И врага—далеко не изъ послѣднихъ.
Фуатъ вошелъ въ невзрачную, голую, съ ободраннымъ клеенчатымъ
диваномъ комнату дежурнаго плацъ-адъютанта.
Плацъ-адъютантъ, кивая темно-зеленой кисточкою, довольно-таки
несвѣжей, засаленной фески, разговаривалъ съ кѣмъ-то по телефону.
Кончилъ и отодвинулъ отъ себя неуклюжій металлическій аппаратъ, на-
поминающій какого-то звѣрька, застывшаго на коротенькихъ ножкахъ.
— за —
Плацъ-адъютантъ не брился давно и синяя щетина густо покрывала
его подбородокъ и щеки.
Послѣ взаимныхъ привѣтствій, довольно цвѣтистыхъ, какъ и все на
этомъ яркомъ Востокѣ, онъ предложилъ Фуатъ-бею мѣсто на ободранномъ
клеенчатомъ диванѣ. Солдатъ грязный, немытый, принесъ двѣ чашечки
густого турецкаго кофе.
Временный хозяинъ и гость, прихлебывая горячую сладкую гущу,
говорили о политикѣ.
— Что новаго у франковъ?—спросилъ плацъ-адъютантъ.
— Франки вздули нѣмцевъ на Марнѣ! И какъ вздули!
Плацъ-адъютантъ, съежившись, коснулся губъ указательнымъ пальцемъ.
— Развѣ можно такъ говорить о нѣмцахъ! Еще не услышалъ-бы
кто-нибудь! Когда хочешь говорить о нѣмцахъ,—надѣвай замокъ молчанія.
— Послушай, Изетъ,—перебилъ гость,—что дѣлаетъ Зауръ-бей?
— Что всегда... Пишетъ... Я его спрашиваю, что ты пишешь, братъ
мой? А онъ въ отвѣтъ — „любовное посланіе". Вретъ, каналья! На шести
листахъ—любовное посланіе! И это послѣ того, какъ Америка выдумала
телефонъ... Маіоръ Изетъ человѣкъ хорошій и вдобавокъ — товарищъ. А
если-бы онъ былъ не товарищъ, онъ конфисковалъ-бы это „любовное
посланіе" и препроводилъ-бы куда слѣдуетъ. И—почемъ знать—быть мо-
жетъ послѣ этого, нашего Заура перевели-бы на другую казенную квар-
тиру болѣе...
— Вздоръ мелешь, Зауръ—отъявленный бабникъ! На политику ему
наплевать. А вотъ что... Мнѣ надо перекинуться съ нимъ парою словъ...
Изетъ развелъ руками.
— Не могу, братъ. При всей моей любви къ тебѣ—не могу. Ни подъ
какимъ видомъ! Ты знаешь, какія нынче строгости! Вообще, время пошло—
не запомню такого! Дороговизна страшная! Война отзывается. А что-жъ
это будетъ, когда еще мы завоюемъ?.. На рынкѣ такъ вздорожали про-
дукты—не подступайся.
— Ты пѣтуховъ любишь?—перебилъ Фуатъ.
— Съ чего это вдругъ о пѣтухахъ?—удивился Изетъ.—Если пѣтухъ
жиренъ и не особенно старъ, и если умѣючи приготовить сладкій соусъ...
— Такъ вотъ, я тебѣ дарю на память двухъ галльскихъ пѣтуховъ. Я,
кстати, былъ сегодня въ банкѣ этой греческой обезьяны Агамемнона
Сарифи. И, смѣю тебя завѣрить, деньги франковъ, не смотря на войну,—
по курсу цѣнятся очень высоко.
Улыбнувшись,—улыбка у него была и чарующая и отталкивающая:
непріятно оскаленный ротъ и веселые глаза, отъ которыхъ нельзя отор-
ваться,—Фуатъ вынулъ изъ жилетнаго кармана двѣ новенькихъ двадцати-
франковыхъ монеты.
— Изетъ, спрячь и вспоминай обо мнѣ...
Плацъ-адъютантъ съ жадностью вертѣлъ предъ глазами сверкающія
золотыя монеты.
— Шутникъ-же ты! И въ самомъ дѣлѣ, по пѣтуху на каждой. Твой
покойный отецъ,—навѣрное, Аллахъ по-царски обставилъ его въ раю,—
тоже отличался щедростью... Да, такъ ты хотѣлъ-бы перекинуться словеч-
комъ съ этимъ сумасшедшимъ Зауромъ? Повторяю, у насъ на этотъ счетъ
строго. Мѣста могу лишиться... Но, развѣ можно тебѣ отказать въ чемъ-
нибудь?..
э3
Черезъ минуту Фуатъ и Зауръ синѣли съ глазу на глазъ. Плацъ-
адъютантъ оставилъ ихъ вдвоемъ, пообѣщавъ предупредить на случай,
если-бъ заглянулъ кто-нибудь изъ высшаго начальства.
— Корреспонденія?—спросилъ Фуатъ, кивнувъ по направленію испи-
санныхъ листовъ бумаги.
Зауръ-бей пожалъ плечами.
— Надо-же чѣмъ-нибудь жить. Тебѣ хорошо, ты богатъ! А я за
восемь послѣднихъ мѣсяцевъ въ глаза не видѣлъ жалованья. Понимаешь,
ни одного медджита!..
•— Смотри, какъ-бы тебя не повѣсили...
— Я самъ удивляюсь, какъ это я до сихъ поръ цѣлъ и невредимъ...
Ахъ, милый Фуатъ, у меня тоска! Неужели эти два мерзавца втравятъ
полу издыхающую Турцію въ войну съ Россіей? Неужели?.. Я тогда сломаю
свою саблю и оба конца брошу въ самодовольную Энверову физіономію!
— Ты правъ...—Фуатъ понизилъ голосъ. —Войну необходимо предот-
вратить... Во чтобы то ни стало... Когда кончается срокъ твоего ареста?
— Послѣ завтра, въ полдень.
— Отлично! Послѣ завтра вечеромъ соберемся у Шукри-паши. Не-
премѣнно будь! Надо выяснить окончательный планъ. Единственное спа-
сеніе—Фуатъ осмотрѣлся и еще понизилъ шепотъ—единственное спасеніе:
это освободить Абдулъ-Гамида и отправить къ рыбамъ на дно Босфора
этихъ двухъ мерзавцевъ. Народъ, въ особенности чернь и солдаты изъ
малоазійскихъ вилайетовъ, жаждутъ вновь видѣть на престолѣ Гамида.
Онъ былъ деспотъ, звѣрь, но все-же лучше онъ, нежели этотъ выжившій
изъ ума кретинъ, послушная игрушка въ разбойничьихъ рукахъ Энвера,
Талаата и нѣмцевъ...
— Итакъ, послѣ-завтра выяснимъ все. Будь остороженъ. За домомъ
Шукри слѣдятъ шпіоны... Дай твою руку. Ты безумецъ, но у тебя золотая
душа и львиное сердце. Кстати, который разъ ты сидишь подъ арестомъ?..
— Тысячу первый.
— Нѣтъ, безъ шутокъ?..
— Безъ шутокъ, я потерялъ счетъ...
— А теперь за что,—въ послѣдній разъ?!.
— Не сдѣлалъ фронта Сандерсу. Сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ...
Буду я ему тянуться во фронтъ, когда онъ шелъ средь бѣла дня съ по-
слѣдней дѣвкой изъ шантана...
— Хорошъ, нечего сказать! Папаша взрослыхъ дочерей... И этотъ
господинъ распоряжается судьбою нашего отечества! Бѣдная Турція!.. Ну,
я пошелъ... А то Изетъ будетъ волноваться, какъ-бы ему не влетѣло.
Итакъ, послѣ завтра, въ десятомъ часу, на улицѣ Шишли?..
— Есть! Передай мой низкій селямъ одной изъ самыхъ очарователь-
ныхъ женщинъ столицы.
— Кому это?..
— Чудакъ!.. Притворяешься непонимающимъ. Конечно, супругѣ твоей
Лейли-ханумъ...
Польщенный Фуатъ улыбнулся. И опять эта улыбка вышла такая
странная,—отталкивающая и привлекательная въ одно и то же время...
— „Ему слѣдовало бы носить чадру, закрывающую всю нижнюю
часть лица. И тогда женщины безъ ума влюблялись-бы въ его глаза"..,—
подумалъ, оставшись одинъ, Зауръ-бей.
24
7. Семейный обѣдъ.
Обѣдали въ банкирскомъ особнякѣ поздно. Въ девять часовъ. А
иногда и въ началѣ десятаго садились за столъ.
Во-первыхъ, Агамемномъ Сарифи считалъ признакомъ хорошаго тона
обѣдать поздно, а, во-вторыхъ, какъ самъ банкиръ, полдня сидѣвшій у
себя въ конторѣ и другіе полдня носившійся въ своемъ автомобилѣ по
городу изъ коммиссіи въ коммиссію, изъ засѣданія въ засѣданіе, такъ и
Миланъ Рашичъ, сербскій уполномоченный въ дѣлахъ, братъ прекрасной
банкирессы,—лишь къ позднему вечеру уходилъ изъ миссіи, пріютившейся
по сосѣдству на одной изъ улицъ, впадающихъ въ Перу.
Агамемнонъ Сарифи, этотъ внукъ пирата, заботился всегда, чтобъ за
столомъ, если даже обѣдали только свои, домашніе, все было чинно и
строго, какъ у людей общества.
И это было смѣшно Милану и Бранкѣ, всю свою жизнь вращавшимся
въ томъ самомъ кругу, въ которомъ Агамемнонъ, не взирая на свои мил-
ліоны, считался выскочкой и гдѣ его только терпѣли — ради его жены.
Одѣвался банкиръ къ обѣду всегда въ смокингъ—этотъ вульгарный, ха-
моватый малый, катавшій за ѣдою своими короткими веснусчатыми паль-
цами хлѣбные шарики. Нужды — пѣтъ, что смокингъ надѣвался поверхъ
пиджачнаго жилета, а „продолженіемъ" являлись такіе-же сѣрые, или пе-
стрые, какъ и жилетъ, панталоны. Банкиръ напоминалъ собою кіевскихъ
и одесскихъ адвокатовъ, пріѣзжающихъ лѣтомъ въ судъ прямо съ дачи,
въ желтыхъ ботинкахъ, свѣтлыхъ штанахъ, и яркомъ галстукѣ. И къ до-
вершенію всего этого винигрета—черный фракъ.
Правда, подобный „винигретъ" Агамемнонъ разрѣшалъ себѣ только
въ тѣсномъ семейномъ кругу. Если же званы были чужіе, банкиръ, при-
налегши на свой туалетъ, надѣвалъ смокингъ черное „продолженіе" и
лакированныя туфли.
Призрачный свѣтъ угасающаго вечера лился въ цвѣтныя стекла
узкихъ, напоминающихъ вытянутыя готическія арки, оконъ. Драголюбъ,
вмѣстѣ съ Ксидой, служилъ за столомъ. Ксида въ черномъ платьѣ, бѣломъ
передникѣ и бѣломъ чепчикѣ, поджимая губы и лицемѣрно опуская южные
глаза лукавой мителенки, неусыпно слѣдила за своей госпожей.
Одѣтая просто изысканно и со вкусомъ, съ букетомъ ароматныхъ
фіалокъ у пояса, въ большой темной шляпѣ легкаго и свободнаго ри-
сунка,—въ ней она дѣлала визиты, — Бранка, блѣдная, притворялась, что
ѣстъ, на самомъ дѣлѣ ни къ чему не прикоснулась даже.
Она похудѣла за эти три дня.
Черты лица, лица изысканныхъ Болдиніеныхъ портретовъ, стали еще
тоньше, одухотвореннѣй, прекраснѣй.
Сынъ залюбовался матерью.
— Мама, ты словно сошла къ намъ со старой англійской гравюры,—
шепнулъ онъ восторженно.
Бранка отвѣтила ему слабой и грустной улыбкой.
Миланъ, полный для своихъ тридцати восьми лѣтъ, успѣвшій слегка
обрюзгнуть, по все еще интересный мужчина, лицомъ похожій на сестру,
одѣтый въ безукоризненную парижскую визитку, съ красной ленточкой
почетнаго легіона въ петличкѣ, былъ тоже не въ духѣ и обѣдалъ вовсе
не съ обычнымъ своимъ аппетитомъ рослаго, крупнаго человѣка.
25
Зато банкиръ уплеталъ за всѣхъ. Онъ съ такимъ жаромъ накинулся
на миніатюрныя бараньи котлетки, что перепачкалъ соусомъ твердый,
какъ панцирь пластронъ сорочки, застегнутой сверкающими брилліанто-
выми запонками.
Банкиръ не смолкалъ ни на минуту. Даже, когда у него былъ полонъ
ротъ пищи, даже тогда умудрялся говорить, хотя окружающіе понимали
его съ трудомъ. Обыкновенно Бранку это коробило, но сейчасъ не до
эстетики было ей.
Она кидала на мужа пытливые взгляды своихъ полуприщуренныхъ
близорукихъ глазъ.
Агамемнонъ веселъ, естественно веселъ, — онъ не умѣетъ скрывать
своихъ чувствъ, притворяться. Значитъ Раухъ не успѣлъ еще отправить
ему письма на пишущей машинкѣ. Значитъ, негодяй медлитъ еще со своимъ
„первымъ предостереженіемъ".
Сегодня, въ одиннадцать утра, ушелъ послѣдній срокъ, данный Рау-
хомъ Бранкѣ. Несмотря на его обѣщаніе забросать мужа и сына письмами
и открытками, она не явилась на свиданіе и этимъ бросила ему перчатку,
вызовъ.
Все это время она мучилась, терзалась и днемъ, и въ томительныя
ночи безъ сна и отдыха. Она страшилась подлыхъ угрозъ, передъ кото-
рыми Раухъ, конечно, не остановится. Но ни на одинъ мигъ не задума-
лась Бранка о томъ, чтобъ ему покориться. Лучше смерть, чѣмъ такое
паденіе...
Мужа она никогда не любила, а уважать перестала съ первыхъ-же
дней брака. И если онъ узнаетъ объ ея измѣнѣ—пусть!.. Она сама готова
пойти ему навстрѣчу, готова открыть все... Но, Гермесъ, Гермесъ...
Съ какимъ обожаніемъ смотритъ онъ на нее. Вотъ и сейчасъ юная
чистая улыбка его такъ и свѣтится вся восторгомъ. Въ его глазахъ мать—
недосягаемая, заоблачная, святая.
И вдругъ—открытки, циничныя, оскорбительныя, гдѣ каждое слово,
какъ ударъ кнутомъ палача. Всю грязь своей темной, низкой души вло-
житъ Раухъ въ эти письма...
Бранка вспомнила его послѣднія слова. Изболѣвшее, измученное во-
ображеніе нарисовало картину... Открытка, гулявшая по рукамъ, начиная
съ портье, все выше и выше, попадаетъ къ бритому сѣдому директору съ
внѣшностью пастора, или большого трагическаго актера на покоѣ.
Директоръ читаетъ, брезгливо морщится, даетъ звонокъ, требуя,
чтобъ ему позвали Гермеса... Дальше Бранка не хочетъ думать... Физи-
чески заставляетъ себя не думать... Силъ нѣтъ... И она чувствуетъ сла-
бость, удушье... Какая-то темная пелена застилаетъ глаза. И она судо-
рожно пробуетъ улыбнуться.
— Мама, тебѣ худо, выпей!
Гермесъ льетъ въ стаканъ шипящій иглами апполинарисъ.
— Нѣтъ, милый, ничего... такъ. Легкое головокруженіе. Опьянилъ
воздухъ... Я много была на воздухѣ...
— Вообще, ты много ходишь пѣшкомъ,—подхватилъ мужъ.—Это не-
удобно. Къ твоимъ услугамъ автомобиль, коляска. Неудобно, чтобы моя
жена ходила пѣшкомъ. Твой отецъ былъ посланникомъ. Неправда-ли, Ми-
ланъ, это неудобно?...
Миланъ отвѣтилъ ему сумрачнымъ взглядомъ.
— аб —
— Что съ тобою, Миланъ? И ты не въ духѣ? Господа, это, въ концѣ
концовъ, не обѣдъ, а похороны. Похороны,—это сказано. Итакъ, что тебя
огорчило Миланъ?
Братъ, глядя на сестру, молвилъ:
— Будешь не въ духѣ! Сегодня арестовано девять сербовъ... По по-
дозрѣнію яко-бы въ шпіонствѣ. Обыкновенные селяки, явившіеся на зара-
ботокъ, чтобъ на своей спинѣ разгружать пароходы... Это зловѣщій симп-
томъ. Явный показатель, что не сегодня-завтра турки должны выступить.
Вѣрнѣе, ихъ заставятъ...
Бранка сдѣлала надъ собою усиліе, чтобъ понять слова Милана, такъ
далека, была въ мысляхъ.
— Ты хлопоталъ за нихъ, дядя?—спросилъ Гермесъ.
— Еще бы... Узнавъ, сію же минуту позвонилъ Талаату. Онъ раз-
сыпался въ сахарныхъ любезностяхъ, сказалъ, что это недоразумѣніе и
онъ тотчасъ же ихъ выпуститъ. Но развѣ можно имъ вѣрить? Во всякомъ
случаѣ, я пригрозилъ, что если арестованныхъ сегодня же не освободятъ,
я немедленно уѣзжаю въ Сербію.
— Какой ты горячій, Миланъ!—вмѣшался банкиръ.—Дипломатъ дол-
женъ быть спокоенъ. Непроницаемъ. Именно непроницаемъ! Изъ - за
какихъ-то девяти мужиковъ...
Агамемнонъ осѣкся подъ уничтожающимъ взглядомъ Милана.
— Конечно, мужиковъ...—повторилъ банкиръ уже менѣе увѣренно,
и мигая водянистыми, въ красныхъ жилкахъ, безъ рѣсницъ, глазами.
Миланъ выпилъ узенькую рюмочку золотистаго коньяку. Выпилъ,
ударивъ широкой ладонью о скатерть...
— Ты говоришь глупости! Самъ того не желая, по привычкѣ молоть
всякую чепуху, оскорбляешь меня, а, главное, свою жену. Тебѣ пора
знать, — ты безъ малаго двадцать лѣтъ женатъ на сербкѣ, — что у насъ
нѣтъ ни мужиковъ, ни дворянъ и что у насъ всѣ равны. Я одинаково
принимаю близко интересы всякаго серба, будь онъ селякъ—хлѣбопашецъ,
министръ, или посланникъ. И въ этомъ равенствѣ, въ этомъ демократи-
ческомъ строѣ,—наша гордость и наша сила! Понялъ?.. Эти мужики громять
швабскіе корпуса. Всѣ какъ одинъ встали на защиту Сербіи.
Банкиръ пожалъ плечами. Онъ вовсе не круглый невѣжда и кое-чему
успѣлъ научиться у своихъ аѳинскихъ профессоровъ. Сербы — хорошіе
солдаты, онъ этого не отрицаетъ, но строй демократическій никогда не
былъ ему по душѣ. Онъ поборникъ дѣленія на бѣлую и черную кость, на
красную и голубую кровь. Чтобы тамъ ни говорили всякіе тамъ соціа-
листы, но раса—великое дѣло...
Иронически морщась, Миланъ успѣлъ налить и выпить еще рюмку.
— Послушать тебя—можно подумать, что ты не банкиръ, а принцъ
самой чопорной въ Европѣ династіи, вродѣ Габсбургской...
— Да, я банкиръ! Но я могу тебѣ указать многихъ аристократовъ,
занимающихся финансовыми операціями. Я—Сарифи! Нашъ родъ сыгралъ
далеко не послѣднюю роль въ дѣлѣ священной борьбы за освобожденіе
Греціи. Мой дѣдъ первый поднялъ знамя на своей... на своей...
— Разбойничьей бригантинѣ, которая грабила купцовъ?—подхватилъ
Миланъ.
— Папа, дядя...—вмѣшался Гермесъ.
а?
— Агамемнонъ!.. Миланъ!—повторила за нимъ, успѣвшая оправиться,
Бранка.
— Я ничего. Это онъ, это Миланъ первый начинаетъ. Развѣ я его
трогалъ? Онъ всегда первый...—по-дѣтски оправдывался банкиръ.
Миланъ сидѣлъ хмурый. Онъ потянулся къ графину съ коньякомъ,
но умоляющее движеніе Ьранки остановило его.
— Не надо больше, Миланъ... Опять будешь жаловаться на сердце...
— Да, да, конечно, ты права. Не надо!—Ночью у меня былъ маленькій
перебой. Но я не виноватъ, что твой Агамемнонъ дѣйствуетъ мнѣ на
нервы...
— Агамемнонъ, всегда виноватъ... Агамемнонъ... Ты никогда не мо-
жешь спокойно спорить съ Агамемнономъ, а еще дипломатъ,—ясно и четко,
съ видимымъ удовольствіемъ повторялъ свое звучное имя банкиръ. — Не
надо волноваться и спорить въ концѣ обѣда. Это нехорошо для пищева-
ренія. Закурить лучше по доброй сигарѣ. Этотъ Драголюбъ никогда не
подаетъ сигаръ, если ему не напомнить. Надо будетъ взять лакея француза,
или еще лучше,—итальянца. Признаться, я не люблю славянской прислуги...
Ну, ну, не буду, умолкаю. Въ этомъ домѣ нельзя критиковать ничего сла-
вянскаго...
Драголюбъ принесъ ящикъ крупныхъ гаванскихъ сигаръ, и тяжелую,
продолговатую гильотинку, отдѣланную перламутромъ.
Поднявшись на своихъ коротенькихъ ножкахъ, банкиръ съ сигарой
въ зубахъ потянулся къ свѣчѣ высокаго, изъ стараго серебра канделябра.
Эти два, неизмѣнно украшавшіе столъ канделябра тонкой, художе-
ственной работы съ цѣлыми каскадами женскихъ фигуръ, воиновъ, мона-
ховъ и рыцарей, были кровавымъ наслѣдіемъ Страшнаго Грека. Кто
знаетъ, быть можетъ самъ божественный Бенвенутто годами работалъ
надъ лѣпкою и отливкой этихъ чудныхъ произведеній, гдѣ такъ искусно
переплетались въ артистическомъ хаосѣ стволы деревьевъ, дубовые листья,
люди, животныя, птицы и звѣри.
Сложная богатая, богаче любой человѣческой жизни, исторія этихъ
канделябровъ. Быть можетъ прежде, чѣмъ попасть въ цѣпкія руки морского
пирата, они кочевали по дворцамъ итальянскихъ монарховъ и князей
церкви. Кто только не пировалъ при свѣтѣ ихъ?.. Герцоги въ миланскихъ
латахъ, венеціанскіе дожи въ горностаяхъ, кардиналы въ пурпурѣ своихъ
мантій...
При гостяхъ банкиръ называлъ эти канделябры „фамильными" рас-
цвѣтая весь, когда знатоки любовались ими.
Онъ повторялъ:
— Да, наши предки, наши отцы и дѣды умѣли жить. Умѣли окру-
жать себя хорошими вещами...
Гдѣ-то въ глубинѣ затрещалъ звонокъ.
— На парадной! Кто-бы это могъ? Кажется, никого не ждемъ къ
вечеру—замѣтилъ банкиръ.
Бранка, вздрогнувъ, похолодѣла вся.
Блѣдная-блѣдная, застыла не шелохнувшись.
Неужели... Неужели письмо?..
И въ цѣлую, мучительную вѣчность превратилась минута ожиданія.
А изъ вестибюля съ мраморными колоннами, доносился чей-то громкій
голосъ..
28
8. Шесть черногорцевъ.
На массивномъ подносѣ, съ мчащимися куда-то всадниками въ тюр-
банахъ, Драголюбъ протянулъ банкиру письмо.
— Листъ за господина... Кавасъ зъ немечка посланьства принесъ.
— Кавасъ изъ посольства? Это звучитъ! Посмотримъ, что тамъ
такое... Драголюбъ, ножницы!
Пока Драголюбъ ходилъ за ножницами, Бранка была сама не своя...
То вспыхнетъ вся горячимъ румянцемъ, то—ни кровинки. Глотнула воды.
Неужели... неужели началось?.. И мужъ, скомкавъ это письмо, —съ него
хватитъ,—броситъ ей въ лицо, вмѣстѣ съ обвиненіемъ... Тутъ же, въ при-
сутствіи сына броситъ... Сына, полный обожанія взглядъ котораго она
ловитъ на себѣ ежеминутно... Теперь къ этому обожанію присоединилось
еще заботливое участіе... Что съ ней, съ мамой?..
Гермесъ былъ цѣликомъ въ Бранку. И такъ же не походилъ па отца,
какъ самъ отецъ, рыжій, толстый, коротконогій,—на своего дѣда, сухого,
пергаментнаго „Страшнаго Грека".
Для своихъ шестнадцати лѣтъ Гермесъ былъ высокъ и силенъ. Въ
этомъ сказалась въ немъ славянская порода матери. Рѣзкія, красивыя
черты. Благородный, открытый лобъ. Лѣнились надъ нимъ густые, кур-
чавые волосы темнаго блондина. Въ этихъ крутыхъ завиткахъ, да и во
всей „маскѣ" свѣжаго, румянаго лица было что-то напоминающее энер-
гичнаго эллинскаго божка, имя котораго дано было мальчику при кре-
щеніи.
Въ движеніяхъ Гермесъ былъ отчетливъ, порывистъ. Въ этомъ ска-
зывался американскій колледжъ, съ его воспитаніемъ, такъ много удѣляю-
щимъ спорту и физическому развитію. Гермесъ считался въ своемъ кол-
леджѣ однимъ изъ первыхъ футболистовъ, и когда полуобнаженный, мус-
кулистый, въ коротенькихъ трусикахъ и гимнастеркѣ гонялся по „полю"
за ускользающимъ кожанымъ мячомъ,—напоминалъ молодого атлета.
Спортъ вмѣстѣ съ врожденной чистотою души спасали его до поры,
до времени,—за будущее нельзя поручиться,—отъ мимолетныхъ связей съ
покупными женщинами, которыми хвастались мальчики богатыхъ семей,
дѣлавшіе украдкою запретныя вылазки въ кривые трущобные кварталы
ужасной Галаты, съ ея по восточному безстыдно - откровенной прости-
туціей.
Агамемнонъ взрѣзалъ, наконецъ, письмо и, осѣдлавъ пухлый носъ
дымчатымъ пенснэ, пробѣгалъ четкія, на пишущей машинѣ, строки.
Лицо его расплылось въ такую широкую улыбку, что пенснэ, не
удержавшись на переносицѣ, упало на скатерть.
У Бранки, слѣдившей за каждымъ мускуломъ, каждой веснушкой его
лица,—отлегло...
Банкиръ обвелъ всѣхъ торжествующимъ взглядомъ побѣдителя. Можно
было подумать, что это не /Коффръ выигралъ бой на Марнѣ, а онъ,
именно онъ, банкиръ Сарифи.
— Моя жена, мой сынъ и мой бо-фрэръ... Поздравьте меня!
— Съ чѣмъ, папа?—спросилъ Гермесъ.
— Я представленъ къ ордену! Его превосходительство старшій со-
вѣтникъ германскаго посольства, баронъ Раушъ-фонъ-Траубенбергъ из-
— 29 —
вѣщаетъ меня объ этомъ оффиціально... Я оказалъ нѣмцамъ кое-какія фи-
нансовыя услуги, и вотъ—результаты!.. Что же вы меня не поздравляете?..
Но никто не спѣшилъ съ поздравленіемъ. Наоборотъ, въ спокойныхъ
лицахъ Бранки, Гермеса и Милана, въ ихъ молчаніи, банкиръ почувство-
валъ скорѣе какое-то враждебное осужденіе...
Миланъ высказался первый:
— Я не только не поздравляю тебя, а искренно сожалѣю, что мужъ
моей единственной любимой сестры гоняется за нѣмецкой „декораціей".
— Я тебя не понимаю...—замигалъ водянистыми, въ красныхъ жил-
кахъ, глаззами банкиръ.
— И никогда не поймешь! Не поймешь, что теперь, именно теперь,
безтактно украшать свою грудь нѣмецкимъ орденомъ, полученнымъ за
„финансовыя услуги". Зачѣмъ это тебѣ?.. Лишней побрякушкой больше?
У тебя и такъ орденовъ и медалей, какъ у странствующаго фокусника...
— Ну, вотъ!—обидѣлся банкиръ, готовый захныкать.—Благодарю по-
корно! Такъ я—странствующій фокусникъ? Жена, сынъ, поддержите же
меня, наконецъ?
Но и жена, и сынъ молчали.
— Такъ вы всѣ единомышленники? Хорошо же, я это запомню! Я
тружусь, не покладаючи рукъ. Моя единственная забота о васъ, и вотъ—
результаты!..
Миланъ мѣтко сравнилъ Агамемнона съ заѣзжимъ фокусникомъ. У
Сарифи была страсть къ орденамъ, такая характерная у банкировъ, из-
дателей газетъ и негоціантовъ.
Какихъ только знаковъ отличія не успѣлъ понахватать Сарифи? Ту-
рецкія и персидскія звѣзды. Румынскіе и греческіе ордена чередовались
съ декораціями экзотическихъ южно-американскихъ республикъ. И вотъ
онъ представленъ къ первому настоящему серьезному ордену великой
державы и, вмѣсто ликованья, видитъ вокругъ себя какія-то похоронныя
лица... Его не цѣнятъ здѣсь, въ этомъ домѣ, не понимаютъ и никогда не
поймутъ... Онъ одинокъ!..
Сарифи хотѣлось заплакать,—такую почувствовалъ обиду и такъ по-
жалѣлъ самъ себя. За минуту сигара казалась ему ароматной и вкусной,
теперь онъ почувствовалъ въ ней запахъ паленой шерсти и съ размаху
расплющилъ ее, ткнувъ зажженнымъ концомъ въ блюдечко. Онъ уже хо-
тѣлъ встать и уйти къ себѣ въ кабинетъ, оскорбленный въ своихъ луч-
шихъ чувствахъ, всѣми обиженный кругомъ, но вошелъ Драголюбъ и до-
ложилъ о приходѣ шести черногорцевъ-кавасовъ. Они хотятъ говорить
съ господиномъ.
— Но я не расположенъ говорить съ ними! Чего они отъ меня хо-
тятъ? Дармоѣды! Утромъ въ банкѣ я всегда къ ихъ услугамъ, а теперь
я, кажется, могу отдохнуть въ немногіе свободные часы моей личной
жизни. Кажется, имѣю на это полное право? Никакихъ разговоровъ се-
годня. Завтра! Скажи имъ, завтра, въ банкѣ!..
Драголюбъ не уходилъ. Кавасы, единовѣрцы, сородичи его по серб-
ской крови, потому что черногорецъ тотъ же сербъ,—видимо, заручились
его протекціей.
Драголюбъ рѣшительно заявилъ:
— Заутра не можно, господинъ. Надобно ихъ сегодня принять. За-
утра они будутъ уже далеко.
з°
— Часъ отъ часу не легче!—воскликнулъ банкиръ ударивъ себя по
колѣнямъ.—Недоставало, чтобъ мои слуги руководили моими поступками!..
Ну, конечно, разъ Драголюбъ велитъ мнѣ, я же не смѣю ослушаться? Я,
хоть тресни, долженъ принять этихъ разбойниковъ! И что имъ приспи-
чило?.. Ну, хорошо. Я выйду къ нимъ. Впрочемъ, нѣтъ. Позови ихъ сюда.
Миланъ, ты не откажешь, надѣюсь, быть переводчикомъ? — обратился, съ
грѣхомъ пополамъ, знавшій по-сербски, пятое черезъ десятое, Агамемнонъ
къ брату жены.
Миланъ молча кивнулъ головой, думая что-то свое и машинально
чертя по скатерти указательнымъ пальцемъ.
Шесть великановъ, одинъ за другимъ, вошли и стали въ рядъ, съ
легкимъ общимъ поклономъ. Они были такіе странные здѣсь, въ этой вы-
сокой, сумрачной столовой, съ мраморнымъ каминомъ, рѣзнымъ буфетомъ
и щегольской сервировкою стола, эти дикаго, воинственнаго вида молодцы
въ своихъ красивыхъ, живописныхъ, почти оперныхъ костюмахъ съ ору-
жіемъ у пояса.
На макушкахъ головъ чуть сидѣли сдвинутыя на бокъ небольшія,
круглыя, черныя шапочки съ краснымъ въ золотѣ донышкомъ. Куртки до
пояса—тоже красныя и расшитыя золотомъ. Бѣлыя, верблюжьей шерсти,
панталоны, широченныя вверху, суживались у колѣнъ и дальше плотпо
охватывали ногу до самой щиколки. Своеобразный восточный фасонъ.
Такъ ходятъ и македонцы, и турки, и сербы, и албанцы, и болгары и
курды.
Маленькій, толстенькій, на коротенькихъ ножкахъ, такой потѣшный
въ своемъ смокингѣ, стоялъ банкиръ передъ этими богатырями.
Думая, что они легче поймутъ его, если онъ будетъ свой и безъ
того бѣдный запасъ сербскихъ словъ коверкать, елико возможно, Сарифи
обратился къ нимъ:
— Чего волите отъ мене, юнаци?
Кавасы переглянулись между собою.
— Пусть говоритъ Вуко Джуровичъ.
Выступилъ впередъ Вуко Джуровичъ, сѣдоусый и сѣдовласый ста-
рикъ, высушенный, какъ дубъ, обвѣтренный и солнцемъ, и непогодою.
Этотъ Вуко бывалъ въ передѣлкахъ, — есть чѣмъ помянуть молодость.
Мальчишкою дрался съ турками и въ боснійскомъ возстаніи и позже на
Черной Горѣ. Шрамъ у него,—слѣдъ ятагана,—тянется черезъ весь лобъ
къ виску.
И самъ Вуко и остальные кавасы проигрывали здѣсь, освѣщенные
электричествомъ, какъ проигрываетъ все и вся въ чужой и чуждой обста-
новкѣ. Зато, какими эффектными пятнами должны рисоваться эти юнаки
тамъ, у себя, на фонѣ голыхъ темно-сѣрыхъ скалъ и ущелій!..
— Отпусти насъ, господине... Волимъ завтра ѣхать въ Солунь.
— Куда и зачѣмъ?—спросилъ банкиръ, взглядомъ взывая къ помощи
Милана.
— Стыдно здѣсь сидѣть, сложа руки, когда наши братья дерутся со
швабами! Убыль на Черной Горѣ—большая. Теперь тамъ каждая винтовка
на счету. Отпусти насъ, господине. Душа болитъ... Не можемъ здѣсь
оставаться...
— Какія глупости! Подумаешь, безъ васъ война не окончится! Нужны
вы тамъ очень? Миланъ, что же ты молчишь? Говори, убѣждай! Кажется,
зі
имъ не худо у меня здѣсь. Не могу же я остаться безъ кавасовъ? А но-
выхъ теперь не найдешь. Время надвигается тревожное. Необходимо съ
особенной тщательностью охранять банкъ. Что же ты молчишь, Миланъ?
Говори, убѣждай! Этимъ головорѣзамъ не сидится на мѣстѣ. Чуть запахло
кровью и порохомъ, — уже ихъ тянетъ! Я готовъ удвоить жалованье.
Сколько вы получачи въ мѣсяцъ?
— Три турскихъ фунта, господине.
— Я дамъ шесть. Согласны?..
— За шестьдесятъ не останемся, господине... Стыдно...
— Миланъ? — совсѣмъ обмякъ сбитый съ толку, потерявшій всякую
способность соображать, банкиръ.
Миланъ весь былъ подхваченъ какой-то умилительной, горячей
волною... Этотъ дипломатъ и бонвиванъ въ парижской визиткѣ, успѣвшій
растерять въ своихъ заграничныхъ скитаніяхъ много сербскихъ словъ,
потому что больше приходилось говорить по-англійски и по-французски,
вновь съ удивительной силою почувствовалъ себя тѣмъ внукомъ хлѣбо-
пашца, тѣмъ сербскимъ мужикомъ, котораго такъ презиралъ банкиръ за
обѣдомъ... И въ этомъ Вукѣ Джуровичѣ и въ остальныхъ усачахъ было
такъ много родного ему, близкаго...
— Миланъ, убѣждай?
Миланъ, тяжелый и грузный, чуть прихрамывая, — онъ былъ раненъ
въ болгарской войнѣ,—съ заблестѣвшими на рѣсницахъ слезами подошелъ
къ Вукѣ Джуровичу, крѣпко обнялъ его и расцѣловалъ.
— Счастливаго пути вамъ, дорогіе побратимы, бейте швабовъ и ма-
дьяръ, какъ бьютъ ихъ всѣ наши черногорцы и сербы! Живіо!..
— Живіо!—подхватили кавасы, бросая къ потолку свои шапочки.
И у Бранки, и у Гермеса были влажныя отъ слезъ вѣки. Подъемъ
захватилъ и растрогалъ ихъ, какъ трогаетъ все безкорыстное, благородное
и святое.
Одинъ банкиръ жевалъ въ досадѣ свои пухлыя губы. Онъ знаетъ
одно: его банкъ остался безъ кавасовъ. Миланъ тоже хорошъ, — нечего
сказать! Поступилъ по-предательски! Съ такимъ адвокатомъ недалеко
уѣдешь...
А Миланъ скомандовалъ Драголюбу, хлопнувъ его по плечу:
— Краснаго вина и большія чаши! Пожелаемъ нашимъ черногорцамъ
удачи!
Степенно разглаживая свои гайдучьи усы, кавасы пили вино, вытирая
губы узкимъ, туго стянутымъ у запястья, расшитымъ золотомъ, рукавомъ.
Слышались возгласы:
— Да погибнутъ швабы!
— Да будетъ живъ руськи Царъ Никола, краль Петаръ и нашъ
господарь Никита.
— Да будетъ велика Сърбія!
— Да будетъ наши Босна—Херцеговина!—подхватилъ Миланъ, чокаясь.
Банкиръ, заткнувъ уши, бросился къ себѣ въ кабинетъ. Онъ былъ
въ отчаяніи. Онъ думалъ, что завтра же вѣсть объ этой сербо-черногор-
ской демонстраціи разнесется по всему Константинополю, скомпрометти-
руетъ его въ германско-турецкихъ кругахъ, и тогда—прощай орденъ!..
— Миланъ-то, Миланъ хорошъ! Развѣ такъ подобаетъ себя вести
дипломату? Обнимается съ этими разбойниками. Амикошонство!..
32
Съ полдороги Агамемнонъ вернулся, что-то вспомнивъ. Отвелъ Ми-
лана въ сторону и по-французски:
— Послушай, мой другъ... Они уходятъ... Они у меня въ авансѣ,—
Богъ съ ними! Пусть!.. Но они увезутъ мои револьверы. Я имъ купилъ
шесть превосходныхъ „Смитъ и Вессенъ". Мнѣ придется вооружать но-
выхъ кавасовъ. Значитъ,—опять покупай?
Миланъ выдернулъ свой локоть изъ короткихъ, веснушчатыхъ паль-
цевъ банкира.
— Стыдись, милліонеръ! Какъ у тебя повернулся языкъ? Люди ѣдутъ
умирать, а ты хочешь лишить ихъ оружія... Если ты такъ жаденъ, я тебѣ
заплачу стоимость револьверовъ. Сколько?
И Миланъ вынулъ изъ жилетнаго кармана нѣсколько золотыхъ монетъ.
Банкиръ сконфузился.
— Ты съ ума сошелъ! Какія глупости! Я пошутилъ. Ты же самъ
знаешь, какая у меня широкая натура... Это я просто съ досады, зачѣмъ
они меня покидаютъ...
9. Заговорщики.
Недаромъ его называли „Сумасшедшимъ черкесомъ".
Дѣйствительно, по мнѣнію всякаго благоразумнаго турка, чистѣйшимъ
безуміемъ было-бы рискнуть,—къ тому-же еще въ офицерской формѣ, —
войти въ домъ опальнаго Шукри-паши... Настолько опальнаго, что вмѣстѣ
съ нимъ и зять его, и весь штабъ уволены были въ отставку.
Но Зауръ-бею, какъ съ гуся вода?.. Ему все—ни по чемъ. И когда
онъ ѣхалъ въ трамваѣ, убѣжденъ былъ, что сидѣвшій наискосокъ, лос-
нящійся, потный, неряшливо одѣтый субъектъ — сыщикъ, приставленный
къ нему.
Субъектъ притворился всецѣло ушедшимъ въ газету, хотя врядъ-ли
можно было что нибудь прочесть при тускломъ освѣщеніи вагона.
Зауръ-бей не сводилъ насмѣшливыхъ глазъ съ этого, поминутпо
вытирающаго грязнымъ платкомъ вспотѣвшій лобъ, человѣка. Зауръ-бей
такъ привыкъ къ постоянной за нимъ слѣжкѣ, что ему было бы не по
себѣ скучно идти, или ѣхать безъ собственной тѣни, въ лицѣ одного изъ
подобныхъ этому прохвостовъ.
Шумная Пера смѣнилась другими, болѣе пустыными, тихими кварта-
лами. Мѣнялись улицы, мѣнялись кондуктора, мѣнялась публика,—армяне,
турки, евреи, греки, женщины вь чадрахъ, женщины, одѣтыя по евро-
пейски,— а трамвай все мчался и мчался впередъ съ гудѣніемъ... И все
читалъ и читалъ измятую газету потный субъектъ съ липнущимъ къ давно
немытой шеѣ, размякшимъ воротникомъ. "
Мелькнулъ цвѣтными огнями, и остался позади кинематографъ... Это
уже улица Шишли, ведущая за городъ... Первая остановка,—въ нѣсколь-
кихъ шагахъ отъ дома Шукри-паши... Зауръ-бей, въ короткомъ плащѣ,
гремя кавалерійской саблей, шелъ по узкой панели мимо желѣзной ограды,
охватившей виллу „Андріанопольскаго льва", льва на покоѣ. Вонъ въ
тѣни, бросаемой фонарнымъ столбомъ,—фигура, до сихъ поръ еще мнущая
въ рукахъ газету.
— На здоровье, — усмѣхнулся кавалеристъ, и тотчасъ-же увидѣлъ
33
з
другого сыщика въ засаленной фескѣ и съ бѣльмомъ во весь глазъ. Онъ
шелъ медленно, покачиваясь, останавливаясь на каждомъ шагу, и такъ
осматриваясь кругомъ, словно впервые очутился въ этихъ мѣстахъ.
знакома была Зауру, примелькалась давно харя этого „бѣльмача".
Ожидался гдѣ-нибудь проѣздъ Энвера, — бѣльмачъ, тутъ какъ тутъ, сло-
няется въ толпѣ, нацѣливаясь куда-то своимъ единственнымъ глазомъ.
Утромъ черкесъ видѣлъ его сквозь рѣшетчатое окно гауптвахты. Бѣльмачъ
на другой сторонѣ улицы сосалъ окурокъ папиросы въ тотъ самый мо-
ментъ, когда подъѣхалъ Фуатъ-бей.
„Постой-же, я тебя угощу, милѣйшій!"
Поровнявшись съ бѣльмачемъ. Зауръ-бей сдѣлалъ видъ, что спо-
ткнулся, и такъ хватилъ плечомъ шпіона, что тотъ кубаремъ вынесся на
средину улицы, до самыхъ трамвайныхъ рельсъ, и, потерявъ равновѣсіе,
шлепнулся на мостовую.
А Зауръ-бей, какъ ни въ чемъ не бывало, дернулъ звонокъ у же-
лѣзной калитки.
Вышелъ румяный блондинъ въ пиджакѣ и въ фескѣ, съ военной вы-
правкою. Это былъ Хусейнъ-Авни, мужъ единственной дочери Шукри,
знатный турокъ изъ Эльбасана, капитанъ генеральнаго штаба, въ одинъ
и тотъ-же день вмѣстѣ со своимъ знаменитымъ тестемъ, волей-неволей,
промѣнявшій военный мундиръ на штатское.
— Фуатъ здѣсь?
— Здѣсь, только что пріѣхалъ.
— А еще кто?
— Больше никого... Мы ждали Эмина-пашу, но онъ захворалъ. Въ са-
момъ дѣлѣ, захворалъ,—повторилъ Хусейнъ Авни, встрѣтивъ взглядъ Заура.
Шукри-паіпа жилъ по европейски. Во всякомъ случаѣ, тѣ комнаты,
куда допускались чужіе, носили отпечатокъ обще-европейскаго убранства.
Свѣтлая, небольшая квадратная гостинная казалась еще свѣтлѣе, — вгя
мебель, диваны и кресла, были покрыты бѣлыми чехлами. Трюмо чернаго
дерева отражало висѣвшую у потолка венеціанскую люстру. На стѣнахъ—
портреты. Большая, увеличенная фотографія самого Шукри-паши въ ранней
молодости. Безбородый, съ удлиненнымъ оваломъ лица, съ пышными
усами, красавецъ въ мундирѣ артиллерійскаго офицера, Шукри снялся
тотчасъ-же по заключеніи Санъ-Стефанскаго мира. А передъ этимъ на
одномъ изъ фортовъ Плевны онъ провелъ всѣ долгіе мѣсяцы осады этой
крѣпости русскими.
Вотъ олеографическія изображенія двухъ султановъ, Абдулъ-Азиса
и Абдулъ-Хамида. Это все. Ни гравюръ, ни картинъ, ничего. На черномъ
шестигранномъ арабскомъ табуретѣ съ перламутровыми инкрустаціями,
лежала груда французскихъ и англійскихъ журналовъ, съ несмѣтнымъ
количествомъ всевозможныхъ снимковъ хозяина дома въ періодъ балкан-
ской войны. И въ медальонномъ овалѣ крупная, характерная голова въ
фескѣ, и Шукри на позиціяхъ со своимъ штабомъ, и въ бесѣдѣ съ жите-
лями осажденнаго города, и вмѣстѣ съ болгарскимъ генераломъ Ивано-
вымъ, неуклюжимъ и толстымъ, напоминающимъ мясника.
Все это, увы —остатки прежняго величія. Тогда Шукри-паша прико-
вывалъ къ себѣ взоры цѣлой Егропы и весь мусульманскій міръ съ гор-
дое ью повторялъ его имя. Это было такъ недавно. А теперь—онъ опаль-
ный, никому ненужный, всѣми позабытый генералъ.
34
Но сколько еще энергіи и силы сохранилось въ этсмъ старикѣ! Мо-
лодые, черные, большіе глаза, съ темной окраскою вѣкъ, оттѣняемые
серебристой сѣдиною усовъ и густой, плотной, какъ одна компактная
масса бороды, кажутся еще моложе, чернѣе и больше.
Ему семьдесятъ два года. Но онъ прямъ, строенъ, и вся фигура его,
невысокая, хорошаго склада, затянутая въ черный сюртукъ — одна сталь-
ная пружина.
Всѣ, кому приходилось видѣть Шукри, говорить съ нимъ, не замѣ-
чали его роста. И онъ казался высокимъ, величественнымъ, настолько
всецѣло овладѣвала вниманіемъ эта львиная голова, съ крупными чертами
и горбатымъ носомъ, носомъ, говорившимъ о тысячелѣтней породѣ осман-
лисовъ.
Шукри угощалъ Заура и Фуата неизмѣннымъ турецкимъ кофе и
душистыми папиросами. Такими душистыми, что сладкій ароматъ ихъ могъ
вскружить непривычную голову.
Говорилъ Шукри. Говорили гости. Румяный Хусейнъ-Авни молчалъ,
не спуская восторженно-благоговѣйнаго взгляда со своего тестя, каждое
слово котораго жадно ловилъ.
Фуатъ и Зауръ оба въ одинъ голосъ твердили, что своимъ посѣще-
ніемъ подвергаютъ опасности особу почтеннаго хозяина дома.
Шукри-паша, затянувшись душистой папироскою, улыбнулся. И что*
то мягкое, чарующее было въ этой улыбкѣ. И не хотѣлось вѣрить, что
этотъ самый Шукри умѣлъ быть желѣзнымъ главнокомандующимъ и что
это онъ приказалъ растрѣлять весь, до единаго, взбунтовавшійся во время
осады полкъ.
— О какихъ опасностяхъ можетъ быть рѣчь? Развѣ наша судьба не
начертана заранѣе Аллахомъ? Въ его всемогущихъ рукахъ, въ его безко-
нечной волѣ, мы — жалкія песчинки. Всѣ, начиная съ халифа и кончая
послѣднимъ оборвышемъ немаломъ (носильщикомъ), таскающимъ на своей
спинѣ громадныя тяжести. Мнѣ за семьдесятъ лѣтъ. И надо же когда-
нибудь переселиться въ иной міръ, гдѣ всѣ мы снова помолодѣемъ. Опас-
ность? Она и такъ виситъ надо мною. Каждый вечеръ я выхожу на улицу
немного подышать воздухомъ. И каждый разъ я могу получить ударъ
ножемъ въ спину. Энверу мало выгнать меня. Ему еще хотѣлось бы меня
уничтожить. У стараго Шукри есть маленькія заслуги въ прошломъ. И
есть еще люди, которые эти заслуги цѣнятъ и помнятъ... И такъ, не все
ли равно, въ концѣ-концовъ? Годомъ позже, въ собсі венной постели,
закрыть глаза, или принять подлый предательскій ударъ изъ-за угла, или,
по обвиненію въ „государственной измѣнѣ", быть растрѣляннымъ тѣми
солдатами, которыхъ я посылалъ въ бой?
Шукри умолкъ и отхлебнулъ кофе изъ крохотной чашечки.
Зауръ и Фуатъ, не говоря уже о Хусейнѣ, дивились философском}7
спокойствію хозяина.
Шукри продолжалъ, скользнувъ глазами по портрету Абдулъ-Хамида:
— У него было много недостатковъ. Даже грѣховъ! Но у него была
одна большая добродѣтель: онъ любилъ Турцію, любитъ ее и теперь. И
не продавалъ никому. Онъ, который на протяженіе тридцати лѣтъ водилъ
за носъ всю Европу. Кто же теперь у власти? Мальчишки, проходимцы,
которые ваксятъ сапоги Вильгельму, да что Вильгельму,—Сандерсу!—и
за лишній милліонъ марокъ готовы продать и Турцію и самихъ сѳбя, хотя
35
цѣна имъ — полпіастра. Какіе у Эн пера таланты, кромѣ таланта убивать
почтенныхъ людей вродѣ Махмутъ-Шевкетъ-паши? да еще таланта—схва-
тить окровавленными руками портфель сераскира (военнаго министра)?
Что онъ сдѣлалъ въ Триполитаніи? А его дессантъ въ Булаирѣ? Онъ
окружаетъ себя бездарностями, чтобы ярче оттѣняться на ихъ фонѣ, и
чѣмъ больше они были въ грязи, тѣмъ выше онъ ихъ возноситъ. Что
такое Талаатъ? Самодовольный, отъѣвшійся, награбившій колоссальное
состояніе въ два три года? Восемь лѣтъ назадъ я командовалъ корпусомъ
въ Салоникахъ. Талаатъ былъ ничтожнымъ писцомъ на почтѣ. Онъ самъ
приносилъ корреспонденцію въ русское консульство. И когда ему пред-
лагали сѣсть, онъ не смѣлъ опуститься на кончикъ стула. Помню, однажды
вмѣстѣ со своимъ адъютантомъ я подъѣхалъ верхомъ къ почтѣ. Когда
мы садились на лошадей, выбѣжавшій Талаатъ держалъ мнѣ стремя. Я
сунулъ ему два медджита, онъ поцѣловалъ мнѣ руку. И все время, пока
мы не скрылись за поворотомъ, онъ долбилъ своей головой низкій селямъ.
А теперь онъ министръ внутреннихъ дѣлъ. Вчера я встрѣтилъ его на
Перѣ. Онъ мчался, развалившись на автомобилѣ и, узнавъ меня, отвер
нулся... Кисьметъ (судьба)!
— Я съ наслажденіемъ отхлесталъ-бы его по этой самодовольной
рожѣ!..—воскликнулъ пылкій Зауръ.
— Не горячись, сынъ мой! Всему свое время... Не надо растрачивать
себя по пустякамъ. Месть, да и не только месть, а возмездіе — блюдо, ко-
торое только тогда бываетъ вкуснымъ, если его разогрѣвать исподоволь...
Хотя насталъ часъ дѣйствовать. Я узналъ черезъ вѣрныхъ людей, что
къ выступленію Турціи все готово; то есть почти ничего не готово, въ
смыслѣ снаряженія арміи. Но нѣмцы спѣшатъ бросить подъ огонь враговъ
своихъ, пушечнымъ мясомъ, наши турецкіе дивизіи и корпуса. Они думаютъ
оттянуть, такимъ образомъ, часть русскихъ силъ съ германскаго фронта...
Пріѣхалъ болгарскій министръ. Мнѣ называли его имя,—забылъ! У всѣхъ
у нихъ такія простыя, плебейскія имена... Такъ вотъ онъ предлагаетъ отъ
Болгаріи сто тысячъ винтовокъ, тѣхъ самыхъ винтовокъ, что въ минувшую
балканскую войну русскіе подарили болгарамъ.
— Какая низость!.. Какія рабьи, неблагодарныя души!—вырвалось у
Заура.
Шукри усмѣхнулся.
— Такъ было всегда... Сорокъ лѣтъ назадъ, передъ войною, русскіе
дарили болгарскимъ четникамъ винтовки. А четники приносили ихъ намъ,
и за каждую получали два фунта... Но не въ этомъ дѣло. Не въ болгарахъ,
которымъ я хорошо знаю цѣну, и которые, забывъ унизительное отнятіе
Андріанополя, готовы служить намъ, потому что это выгодно нѣмцамъ...
Весь успѣхъ нашего предпріятія зависитъ всецѣло отъ одного, это—убѣдить
Абдулъ-Хамида снова вернуться къ власти, и если онъ согласится, риск-
нетъ,—увезти его до поры, до времени въ такое мѣсто, куда-бы не могли
дотянуться длинныя разбойничьи руки Энвера и его нѣмцевъ.
— Трудно,—молвилъ, покачавъ головою Фуатъ-бей.
— Сынъ мой, трудно, еще не значитъ — невозможно. Младотурецкій
переворотъ былъ тоже нелегкой задачей. Однако, ее рѣшили. И кто-же?
Господа, не Богъ вѣсть какого крупнаго калибра. Да поможетъ намъ
пророкъ, и да покроетъ плащемъ своимъ, чтобъ сдѣлать насъ неви-
димыми...
— зб -
— И да пошлетъ Аллахъ куриную слѣпоту на враговъ нашихъ! Пусть
никогда не будетъ имъ исцѣленія,—подхватилъ Фуатъ-бей, этотъ французъ
по воспитанію, и фанатикъ мусульманинъ по духу.
И оба они, Шукри и Фуатъ, простирая руки, подняли вдохновенно
глаза.
Зауръ никогда не отличался избыткомъ вѣры, никогда не пламенѣлъ
особенной религіозностью и гораздо охотнѣе, чаще ходилъ по шантанамъ
и по кофейнямъ, чѣмъ заглядывалъ въ сосѣднюю съ его казармой воен-
ную мечеть. Но и его захватилъ подъемъ обоихъ заговорщиковъ. И онъ
сидѣлъ молча, опершись подбородкомъ на эфесъ длинной сабли своей и
боясь вспугнуть настроеніе.
Хуссейнъ, простоватый, румяный Хуссейнъ, весь былъ одно сплошное
умиленіе.
Помолчавъ перешли къ дальнѣйшему обсужденію дерзкаго, до безумія
дерзкаго плана. Въ первую очередь, — вопросъ денежный. Безъ подкупа,
безъ необходимой тамъ и сямъ „смазки“—шагу не сдѣлаешь. Необходимо,
по крайней мѣрѣ, тысячъ двѣсти, триста франковъ. Шукри былъ бѣденъ,
хотя могъ нажиться, занимая рядъ высокихъ положеній. Хуссейнъ, богатъ
съ обывательской точки зрѣнія, имѣетъ сравнительно пустяки. У Заура—
кромѣ долговъ ничего нѣтъ. И единственно у кого—у Фуата милліонное
состояніе.
— Если понадобится, онъ готовъ рискнуть даже пятьюстами тысячъ
франковъ. Готовъ! Онъ слишкомъ любитъ свою родину, чтобъ желать ей
погибели и въ такой же самой мѣрѣ жгуче ненавидитъ кучку стоящихъ
у власти младотурокъ, чтобъ желать имъ успѣха и дальнѣйшаго обогащенія
германскимъ золотомъ.
Разговоры кончены. Надо переходить отъ словъ къ дѣлу. Каждый
часъ дорогъ.
Аодулъ-Хамидъ ждетъ... Еще какъ ждетъ! Онъ лишь притворяется
отупѣвшимъ, безразличнымъ ко всему, чуть-ли не впавшимъ въ тихое
помѣшательство. Притворяется, эта старая лукавая пантера. На время за-
таила свои острые когти, чтобъ выпустить, когда пробьетъ часъ...
Часъ пробилъ...
10. Все новыя и новыя лица...
— Я не солдатъ, я—художникъ... Я не ощушалъ никогда въ себѣ
воинственнаго пыла... Моя шпага—кисть, мой щитъ — палитра... Я не вы-
ношу вида крови... Когда я выдавливаю изъ флакона алый вермиліонъ,
меня порою охватываетъ какая-то странная дрожь... Я не могу отдать себѣ
яснаго отчета — что это?.. Дряблость человѣка двадцатаго вѣка, нервы,
излишекъ сентиментальности? Какъ художникъ, силою творчества своего
призванный создавать и только создавать,—я ненавижу войну, этотъ сим-
волъ разрушенія. Говорятъ, послѣ войны, да оно такъ и въ дѣйствитель-
ности, народъ обновляется. Жизнь клокочетъ, бьетъ усиленнымъ темпомъ.
Наступаетъ повышенное оплодотвореніе во всемъ... Пусть такъ!.. Ну, а
сокровища искусства? Ихъ не вернешь! Попробуйте возстановить Реймскій
соборъ, собрать, листикъ за листикомъ, томъ за томомъ, библіотеку Лу-
вена? Я не знаю буду ли я чѣмъ нибудь полезенъ тамъ у себя, дома, но
37
меня тянетъ неудержимо въ Россію... Я ее люблю, не отдавая себѣ отчета
въ этой любви... Такъ цвѣтущій человѣкъ любитъ свое здоровье. Но те-
перь я чувствую себя связаннымъ съ Россіей тысячами нитей. Тысячи
какихъ-то властныхъ голосовъ зовутъ меня: „Возвращайся"!.. Мнѣ было
стыдно писать этюды на морскомъ берегу Италіи, стыдно, сознавая, что
родина охвачена вся войною. И мнѣ казалось, я читалъ презрѣніе въ тем-
ныхъ глазенкахъ тѣхъ декоративно оборванныхъ мальчишекъ, которыхъ
я зарисовывалъ подъ яркимъ неаполитанскимъ солнцемъ... И вотъ я пови-
нуюсь этимъ зовамъ и ѣду... Что будетъ со мною, въ какой формѣ и какъ
проявится мой патріотизмъ, — я самъ не знаю... Можетъ быть я буду ва-
ляться на диванѣ въ своей мастерской, съ нетерпѣніемъ ожидая выхода
газетъ... Можетъ быть, я надѣну сѣрую шинель санитара и на полѣ сра-
женія буду подбирать нашихъ раненыхъ... А можетъ--быть заберусь куда-
нибудь подальше, въ глушь, гдѣ все сонно и тихо, и куда не достигаютъ
отблески кроваваго зарева... Я ничего не знаю...
Такъ говорилъ, стоя на палубѣ парохода, лѣтъ тридцати пяти моло-
дой человѣкъ, одѣтый въ бѣлый холстъ и въ мягкую панаму, поля которой
загнуты были съ артистической небрежностью. Въ лицѣ художника, въ
мягкихъ некрупныхъ чертахъ, въ линіи губъ, свѣжихъ и сочныхъ, было
что-то женственное. Холеная, свѣтлая бородка, лопаточкою, подстрижена
ровно и тщательно, волосокъ къ волоску.
Собесѣдникъ, внимательно слушавшій французскую рѣчь художника,
былъ мужчина совсѣмъ другого типа. На всемъ обликѣ его угадывалась
сразу спортсменская складка вѣчнаго перекати-поля, внѣ времени и про-
странства. Бритый, съ хорошо сколоченнымъ тѣломъ, энергичнымъ лицомъ,
онъ курилъ маленькую трубочку и соленый, дышущій морской прохладою
вѣтерокъ, относилъ куда-то за бортъ синеватый дымъ... Мягкая, плоская
дорожная каскетка прикрывала выстриженную, почти выбритую голову.
Куртка англійскаго военнаго покроя. На широкомъ кожаномъ поясѣ —
револьверъ въ мягкомъ желтомъ кобурѣ. Черезъ плечо—бинокль. Бритый
человѣкъ держалъ его въ рукѣ,—передъ этимъ онъ вглядывался въ мор-
скія дали. Короткія панталоны переходили внизъ отъ колѣнъ въ темно-
сѣрыя суконныя „колоніальныя" гетры, спиральнымъ бинтомъ охватываю-
щія сильныя мускулистыя икры. Темно-желтые шнурованные, на толстой,
подбитой гвоздями подошвѣ американскіе ботинки дополняли стильный
костюмъ уроженца Канады Шарля Аммана...
Вотъ ужъ дѣйствительно два непохожихъ другъ на друга человѣка!
А между тѣмъ, или вѣрнѣе именно поэтому, они успѣли сойтись и сдру-
житься за какихъ-нибудь тридцать шесть часовъ пути отъ Салоникъ до
Константинополя. До Константинополя потому что пароходъ былъ уже
всего километрахъ въ двадцати отъ устья Босфора.
Беркутовъ, художникъ и художникъ талантливый, былъ немного лѣ-
нивъ, немного, пожалуй, безволенъ и очень много мечтателенъ. Онъ, какъ
импрессіонистъ, отдавался настроенію, хотя живопись его лишь съ большой
натяжкою могла бы назваться импрессіонистической.
Беркутовъ самъ не могъ отдать себѣ яснаго отчета, куда его тянетъ,
какіе его идеалы; самые завѣтны?, сокровенные и гдѣ грань, тѣмъ или
другимъ, стремленіямъ?..
— Кто такой, или вѣрнѣе даже, что такое Шарль Амманъ?..
_ 38 -
Беркутовъ, влюбленный во все яркое, заинтересовался судьбою своего
случайнаго товарища по каютѣ перваго класса.
— Что такое Шарль Амманъ?..
Вопросъ легокъ, отвѣть—сложенъ.
Попробуйте нѣсколькими словами охарактеризовать этого человѣка.
Право, не найти ни словъ, ни образовъ, а главное, рамокъ, въ которыхъ
все это могло бы стройно улечься.
Гражданинъ Канады, Шарль Амманъ, въ семьѣ котораго сохранился
французскій языкъ, выступалъ на аренѣ кулачнымъ бойцомъ. Но профес-
сіональнымъ боксеромъ никогда не былъ. А, просто, въ тѣ дни, когда
нечего было ѣсть, онъ вспоминалъ, что природа, вмѣстѣ съ Господомъ
Богомъ наградила его большей физической силою, мускулами и тяжелыми,
стальными кулаками...
Въ Парижѣ Шарль Амманъ игралъ для кинематографа особенныя
„героическія“ роли съ такъ называемыми „трюками". Онъ прыгалъ съ
моста на крышу вагона внизу проходящаго поѣзда. Несясь на всемъ скаку
верхомъ, затягивалъ на шеѣ убѣгающаго всадника лассо, съ цѣпкостью
обезьяны взбирался на верхушки деревьевъ и откатывалъ еще многое
множество такихъ же головоломныхъ трюковъ.
При всемъ этомъ Шарль Амманъ не былъ ни артистомъ, ни акроба-
томъ, ни наѣздникомъ. Но, подоспѣла „минута жизни трудная"; и онъ
рѣшилъ использовать опытъ юности своей, когда оберегая стада отъ хищ-
наго звѣря и бродячихъ индѣйцевъ, онъ буйнымъ вѣтромъ носился на
маленькомъ, горячемъ мустангѣ и ловилъ своимъ лассо,—у него ихъ было
два: канадское и мексиканское,—другихъ мустанговъ, дикихъ, свободныхъ,
не знавшихъ на своей спинѣ всадника.
Шарль Амманъ рисовалъ въ журналахъ каррикатуры. Однако, онъ
удивился-бы, еслибъ кто нибудь назвалъ его каррикатуристомъ. Онъ писалъ
въ газетахъ. Вотъ и сейчасъ онъ ѣхалъ на выгодныхъ условіяхъ въ Кон-
стантинополь корреспондентомъ парижской газеты. Но ему въ голову не
пришло бы именовать себя заправскимъ журналистомъ.
Сказаннаго далеко недостаточно для полной біографіи Шарля Аммана.
Полная біографія его - неисчерпаема. Ее хватило бы съ избыткомъ, по
крайней мѣрѣ, на двадцать обыкновенныхъ человѣческихъ жизней.
Это былъ искатель приключенія въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Не
авантюристъ, не хищникъ, а именно искатель приключеній,—ради нихъ
самихъ, ради опасности, риска и переживаній, связанныхъ со всѣмъ этимъ.
Не смотря на весь хаотическій лабиринтъ его жизни, въ самой ранней
юности, онъ смотрѣлъ на вещи удивительно ясно, спокойно и просто. Это
не былъ цинизмъ, это не была бравада: „меня ничѣмъ не удивишь, молъ"...
Это было міросозерцаніе здороваго, сильнаго тѣломъ и духомъ человѣка,
неспособнаго растеряться, или обмякнуть передъ какими угодно условіями,
для другихъ ужасными, безвыходными, неотвратимыми...
И такъ же спокойно дрался онъ, вынужденный къ тому... Дрался
кулакомъ, кастетомъ, тростью, рукояткой револьвера. Чѣмъ попало...
Въ Танжерѣ одинъ германскій матросъ со знаменитой „Пантеры"
проломилъ ему голову бутылкой, самъ заплативъ за это удовольствіе
жизнью. Въ Сайгонѣ китайскій пиратъ всадилъ ему ножъ въ бокъ. И были
еще разныя кровавыя памятки...
Онъ выслушалъ Беркутова, молча, не перебивая, и, по своей заокеан’
39
ской привычкѣ, сплевывая упругимъ и мѣткимъ плевкомъ куда-то за
бортъ.
А Беркутовъ, ища у него сочувствія взглядомъ синеватыхъ, добрыхъ
и кроткихъ, какъ у дѣвушки глазъ, спросилъ:
— Вы меня понимаете, милый Амманъ?
— И да и нѣтъ... Для васъ самихъ, для такого, какъ вы есть,—по-
нимаю. Другимъ вы не можете быть... Для себя же лично — нѣтъ!.. Я
всегда, въ каждый любой моментъ знаю, чего я хочу...
— Вы—натура сильная. Такихъ, какъ вы людей,—выковываетъ Аме-
рика... Но, что за волшебная панорама!.. Дайте-ка мнѣ на моментъ вашъ
бинокль...
Панорама была дѣйствительно волшебная...
Навстрѣчу пароходу какимъ-то чуднымъ видѣніемъ, ожившей вдругъ
восточной сказкою, поднимались изъ воды берега Босфора, нѣжно и мягко
затушеванные дымкою далей. Причудливой грезою, такой же хаотической,
какъ греза, острыми иглами намѣчались испещренные мавританскимъ узо-
ромъ минареты, бѣлые, подошедшіе къ морю дворцы, кладбища съ кипа-
рисами, черепичныя крыши ветхихъ, купающихся въ водѣ домовъ. И по-
всюду паруса и мачты феллукъ и барокъ, — словно опустившееся стадо
гигантскихъ птицъ. И всѣ путники залюбовались этой картиною и вся
палуба отгородилась кругомъ живымъ человѣческимъ бортомъ.
На каждомъ шагу, повсюду—русская рѣчь. Пароходъ былъ биткомъ
набитъ русскими, спѣшившими вернуться домой кружнымъ путемъ изъ
чужихъ и не только чужихъ, а еще къ тому же сугубо враждебныхъ
странъ, какъ воюющія съ нами Германія и Австрія.
Повсюду,—ступени общественной лѣстницы, такъ и здѣсь,—верхняя
и нижняя палуба. Наверху — сановники, генералы, помѣщики, московскіе
купцы, жены которыхъ разукрасились горящими на утреннемъ солнцѣ
чудовищными брилліантами. Внизу — интеллигентная, привыкшая каждое
лѣто путешествовать на гроши,—богема. Теперь въ виду плѣна, изъ кото-
раго лишь удалось съ трудомъ избавиться, и длительнаго пути, гроши
экономно скопленные, растаяли давнымъ давно и вся эта публика—курси-
стки, учителя городскихъ школъ, жены чиновниковъ, исхудавшіе, изму-
ченные тѣснотою, питались впроголодь, только бы добраться, ожесточен-
ные, проклинали на ч мъ свѣтъ и войну, и свой плѣнъ, и этотъ мучи-
тельный двухнедѣльный путь въ варварской духотѣ переполненныхъ
вагоновъ третьяго класса и на палубѣ, гдѣ приходилось спать, скрючив-
шись, плечемъ къ плечу, вповалку.
Этимъ бѣднягамъ, въ заношенномъ бѣльѣ и немытымъ, сидящимъ на
водѣ и хлѣбѣ, а то и совсѣмъ безъ хлѣба, — не до красивой панорамы
было. Наоборотъ, поднявшійся изъ воды призрачнымъ маревомъ Констан-
тинополь, здѣсь, внизу, вмѣсто восхищенія, вызывалъ одно лишь озлобленіе.
Надвинулся вплотную Босфоръ, шумный, горящій нестерпимо зной-
ными красками. Цѣлые плавучіе города пароходовъ, греческихъ, румын-
скихъ, итальянскихъ, австрійскихъ. Внушительными, аспиднаго цвѣта
исполинскими утюгами поднимаются надъ водою крейсера и броненосцы
и еще внушительнѣй сверлятъ пространства жерла длинныхъ, такого же
аспиднаго цвѣта, орудій.
Пароходъ пришвартовался вплотную къ гранитному молу француз-
ской набережной. Внизу густилась толпа кишащимъ человѣческимъ мѣси-
4°
вомъ. Поднялись на бортъ санитарно-полицейскія власти. За ними, придер-
живая сабли, — нарядные кавасы русскаго посольства. Они встрѣчаютъ
князя Гантимурова. Онъ совершилъ дипломатическое путешествіе въ Римъ,
Нишъ и Аѳины и вернулся на свой постъ, на берега Босфора.
Толпа, живущая исключительно интересами пристани., жадная, хищная
толпа полуголыхъ носильщиковъ, воришекъ, гидовъ, проводниковъ, ком-
миссіонеровъ съ бляхами гостиницъ на кэпи, — все это безпорядочнымъ,
галдящимъ потокомъ, снизу вверхъ, устремилась на палубу. Нѣкоторые
оборванцы, чтобъ сократить время и путь, цѣпляясь за канаты, якорныя
цѣни, за малѣйшій выступъ,—взбирались на бортъ съ ловкостью обезьянъ.
И, право, отъ всего этого столпотворенія вавилонскаго фуражекъ, фесокъ,
кудластыхъ, ничѣмъ не покрытыхъ головъ, отъ всевозможныхъ оттѣнковъ,
кожи, включительно, до лоснящихся черныхъ, какъ вакса, плосконосыхъ
лицъ гигантовъ нубійцевъ и разноячной шайки бросившихся на абордажъ
пиратовъ.
Но по всѣмъ этимъ лицамъ, кофейнымъ, оливковымъ, бронзовымъ
шафраннымъ, замолотилъ безъ церемоніи гибкій камышевый стэкъ. Это
капитанъ Раухъ прокладывалъ себѣ путь вдоль палубы русскаго парохода.
Онъ былъ великолѣпенъ въ синей, съ маленькой круглой кокардой фу-
ражкѣ и въ синемъ, съ обильно выстеганной ватою грудью, сюртукѣ, съ
плоскими пуговицами.
Вотъ и предметъ его изысканій,—женщина съ подведенными глазами,
вся въ кружевахъ, въ яркой шляпѣ, надушенная какими-то пряными ду-
хами, улыбающаяся... Она красива горячей, экзотической красотою, которая
еще издали овладѣваетъ вниманіемъ.
Это—„королева пластическихъ танцевъ" Элла-Стэлла, пріѣхавшая на
гастроли въ Царьградъ.
Раухъ, оттопыривъ локоть, долго трясъ унизанную кольцами руку
артистки. Въ отвѣтъ она вся какъ-то изгибаясь, играла подведенными
глазами. Сверкали въ улыбкѣ ровные, бѣлые зубы...
Капитанъ хватилъ стэкомъ по спинѣ бронзоваго кемаля (носильщика).
— Эффенди!—съ готовностью вытянулся немалъ.
Черезъ минуту Раухъ велъ артистку къ поджидавшему ихъ ивтомо-
билю, а за ними пыхтя, шелъ немалъ, въ три погибели согнувшійся подъ
бременемъ цѣлой пирамиды кожаныхъ сундуковъ и чемодановъ, облѣп-
ленныхъ ярлыками всевозможныхъ отелей.
Сошелъ на берегъ князь Гантимуровъ, съ блѣдно-восковымъ лицомъ
и съ умными, холодными рыбьими глазами. Два каваса, ежеминутно гото-
вые выхватить изъ-за пояса револьверы, свирѣпо вращая бѣлками,—однимъ
своимъ‘страшнымъ видомъ прокладывали въ толпѣ широкую дорогу.
Беркутовъ и Шарль Амманъ сѣли въ омнибусъ Пера-Паласъ—Отеля.
11. О Драголюбѣ, кавасахъ и господинѣ Шлейферѣ.
Закрывъ дверь за уѣхавшими, какъ на пиръ, воевать черногорцами,
Драголюбъ не могъ успокоиться. Вся эта сцена въ столовой, сцена про-
щанія и напутствія, взбудоражила весь удобный и спокойный укладъ его
лакейской жизни.
Онъ здѣсь блаженствуетъ въ своемъ синемъ фракѣ, потому что,—
какая же, въ концѣ-концовъ, его работа? А тамъ...
И ворочаясь съ боку на бокъ на постели въ своей комнаткѣ, Дра-
голюбъ переносился въ это далекое и грозное „тамъ"... Ему вспомнился
цвѣтущій, весь въ садахъ, пріютившійся межъ горъ, покрытыхъ дубами,
Сталачъ. Кто знаетъ, можетъ быть, скоро тамъ будутъ хозяйничать
швабы, въ этомъ родномъ гнѣздѣ Драголюба?
Мутный разсвѣтъ, пока еще несмѣло и робко, уже выхватывалъ изъ
блѣднѣющаго сумрака то одно, то другое. И какимъ-то укоромъ висѣлъ
на спинкѣ стула фракъ съ металлическими пуговицами. Теперь въ немъ
было что-то унизительное для Драголюба и, чтобъ не видѣть, онъ отвер-
нулся къ стѣнѣ.
А оттуда съ „пощенской карты" (съ открытки) глядѣлъ на него ко-
роль Петръ, и почудилась Драголюбу тихая, нѣмая укоризна въ сухихъ,
рѣзкихъ чертахъ...
Словомъ, Драголюбъ встрѣтилъ день вполнѣ сложившимся, опредѣ-
дѣленнымъ рѣшеніемъ. И это свое рѣшеніе онъ высказалъ банкиру, по-
давая ему, какъ всегда, въ восемь часовъ утренній кофе.
Агамемнонъ казался затеряннымъ въ громадной столовой, у длиннаго,
широкаго стола, гдѣ на краюшкѣ былъ сервированъ ему легкій утренній
завтракъ. Этотъ завтракъ банкиръ съѣдалъ и выпивалъ въ одиночествѣ.
Гермесъ уходилъ въ коллежъ получасомъ раньше, Миланъ спускался
внизъ часомъ позже, а Бранка и совсѣмъ не выходила по утрамъ въ
столовую.
Хмурый, невыспавшійся Драголюбъ служилъ кое-какъ. Мало что не
швырялся посудою, уронилъ молочникъ, благо пустой, и сдѣлалъ еще
цѣлый рядъ непростительныхъ для вышколеннаго слуги промаховъ.
Сарифи, все еще не въ духѣ послѣ вчерашняго, накинулся на Дра-
голюба:
— Ты что же это? Въ какомъ-нибудь трущобномъ кафанѣ служишь,
гдѣ посѣтители не даютъ ни гроша на выпивку? Избаловался на легкомъ
хлѣбѣ! Всѣхъ васъ портитъ служба въ хорошихъ господскихъ домахъ...
Вотъ выгоню,—будешь знать...
Драголюбъ стоялъ передъ банкиромъ, сложивъ на груди руки.
— Я и самъ уйду... Не надо и выгонять.
— Что... что такое?—выпучилъ удивленный банкиръ свои, въ крас
ныхъ жилкахъ, водянистые глаза.
— Самъ уйду, говорю. Отпустите меня!..
— То есть, какъ это отпустить? Ты недоволенъ, тебя морили голо-
домъ? Ты не получалъ жалованья? Съ тебя высчитывали за каждую раз-
битую бездѣлицу? Ты нашелъ лучшее мѣсто?
— Я ничего не нашелъ. Я всѣмъ доволенъ. И вами, и госпожей. А
только не могу оставаться больше. Поѣду за Сербію. Я молодъ, здоровъ,
грѣшно не быть въ войскѣ.
— Такъ вотъ оно что!—протянулъ Сарифи.—Это вчерашніе голово-
рѣзы смутили тебя, дурака! Что жъ, ступай, пожалуйста. Шесть лѣтъ слу-
жилъ. Тебя кругомъ облагодѣтельствовали. Скопилъ на черный день кое-
что... А теперь,—отчего же? Теперь и наплевать можно. Если бы ты на-
шелъ что-нибудь лучшее,—это я понимаю. Ну, хорошо тебѣ будетъ, если
вернешься безъ ноги? А то и совсѣмъ не вернешься...
4а
— Можетъ быть, и не вернусь... А только грѣшно сидѣть въ Цари-
градѣ,—стоялъ на своемъ Драголюбъ.
— Ну, и съ Богомъ! Васъ вѣдь не переубѣдишь, славянъ. Упрямство
раньше васъ самихъ родилось. Но только ты не убѣгай сейчасъ же. Ты
не имѣешь права! Дай время найти на гвое мѣсто другого.
— Господинъ скоро найдетъ. Пить, ѣсть,—кому не охота...
— Господинъ не будетъ же рыскать по Константинополю искать
себѣ лакея. Надо найти честнаго человѣка, расторопнаго, умѣлаго. Глупо,
Драголюбъ, очень глупо. Жалѣть будешь... И я къ тебѣ привыкъ, и
госпожа...
— А я развѣ нѣтъ, не привыкъ? Если бы не война,—жилъ бы да жилъ!..
— Ну, Богъ съ тобой... Шляпу и трость! Автомобиль поданъ?..
Уже въ прохладномъ вестибюлѣ, громко стуча по мраморнымъ пли-
тамъ высокими каблуками,—онъ скрашивалъ ими свой маленькій ростъ,—
банкиръ хотѣлъ подняться къ Милану и посѣтовать на Драголюба. Но
махнулъ рукой. Вотъ ужъ не по адресу, искать сочувствія у Милана! Ко-
нечно, онъ будетъ всецѣло на сторонѣ этого упрямаго дурака... Еще, чего
добраго, вздумаетъ чествовать его краснымъ виномъ, какъ тѣхъ... Глупо,
весьма и весьма глупо...
Автомобиль банкира, громадный, фисташковаго цвѣта, извѣстный
всему городу „металуржикъ", остановился у банка. Увы, куда дѣвались
декоративно-мужественные черногорцы, живыми каріатидами охранявшіе
лѣстницу?..
Усѣвшись въ своемъ кабинетѣ, банкиръ вызвалъ господина Шлей-
фера, исполнявшаго обязанности не то личнаго секретаря, не то чиновника
особыхъ порученій, не то адъютанта при особѣ Агамемнона Сарифи.
Этотъ высокій, съ военной выправкою, молочно-розовый нѣмецъ
былъ, какъ говорится, на всѣ руки. Черезъ него банкиръ зналъ всю под-
ноготную всей многочисленной арміи служащихъ своихъ. Шлейферъ оди-
наково интересовался домашней интимной стороною жизни, какъ главныхъ
кассировъ и счетоводовъ, такъ и клерковъ помельче,—включительно до
артельщиковъ, сторожей и маленькихъ „шассеровъ", одѣтыхъ по формѣ
въ круглыя шапочки на самой макушкѣ и въ расшитыя галунами куртки.
Господинъ Шлейферъ завѣдывалъ ремонтомъ автомобилей своего
патрона, нанималъ и увольнялъ шофферовъ, и нѣсколько разъ въ году
ѣздилъ въ Парижъ, Вѣну, Берлинъ и даже Лондонъ, когда экстренно
надо было купить для особняка въ Перѣ что нибудь такое, чего не до-
станешь въ Константинополѣ ни за какія коврижки...
Банкиръ подвинулъ къ себѣ продолговатый и узкій, въ видѣ шка-
тулки полированнаго дерева, предметъ. Вдоль крышки двумя рядами тя-
нулись бѣлыя, кругленькія кнопки. Каждая была подъ номеромъ и каждой
соотвѣтствовалъ человѣкъ. Сарифи нажалъ кнопку номеръ 8. Черезъ ми-
нуту вошелъ въ кабинетъ розовый, глянцевитый весь, господинъ Шлей-
феръ, наполовину сине-шевіотовый, наполовину бѣло-фланелевый.
— Вы знаете, мой милый, я лишился кавасовъ... Эти бездѣльники
покинули меня самымъ нахальнымъ образомъ и хоть бы звукъ благодар-
ности.
— Захотѣли вы благодарности, господинъ патронъ, отъ этихъ гряз-
ныхъ славянскихъ свиней... Пушечное мясо для австрійскихъ пулеметовъ...
Туда имъ и дорога!
43
— Ну, вы что-то слишкомъ суровы сегодня, господинъ Шлейферъ.
Я имѣю больше основанія сердиться на нихъ. Но не желаю имъ никакого
зла. Не въ моемъ характерѣ. Я добръ...
— И даже слишкомъ, господинъ патронъ, — подхватилъ личный сек-
ретарь, знавшій слабость Агамемнона рисоваться своимъ, безъ конца-краю,
мягкосердечіемъ.
— Доброта никогда не бываетъ чрезмѣрной, — наставителвно-мило-
стиво отвѣтилъ польщенный банкиръ. — Но какъ же намъ быть съ кава-
сами? Теперь во всемъ Константинополѣ съ фонаремъ не сыщешь ни од-
ного черногорца.
Шлейферъ пожалъ плечами.
— Зачѣмъ непремѣнно черногорцы?
— Ну, а кто же? Я съ удовольствіемъ взялъ бы нѣсколько грековъ
изъ Эпира. На подборъ великаны... Эти юбочки ихъ производятъ впечат-
лѣніе... Думайте, думайте, господинъ Шлейферъ...
— Есть, господинъ патронъ... Я могу сегодня же нанять шесть ма-
кедонскихъ четниковъ-болгаръ.
Сарифи поморщился.
— Нѣтъ, Богъ съ ними! Не люблю я болгаръ! Неряхи они всѣ,
грязные. Я не видѣлъ ни одного болгарина, чисто выбритаго. И потомъ,
четники-македонцы, это не такъ внушительно. Проза!
— Если господинъ патронъ ищетъ поэзіи, то я могу предложить ал-
банцевъ.
— Албанцевъ? Это уже нѣчто! Это другой разговоръ, — оживился
банкиръ.—Но откуда вы ихъ возьмете, албанцевъ?..
— Вчера пріѣхалъ съ большой свитою владѣтельный Миридитскій
князь Бибъ-Дода—Пренкъ-паша. Можно было бы съ нимъ сойтись... Нѣ-
сколькихъ людей онъ уступитъ съ удовольствіемъ.
— Попробуйте! Какой вы молодецъ, Шлейферъ! Все знаете, въ курсѣ
всѣхъ дѣлъ! Кстати, мнѣ нуженъ лакей...
— А что, развѣ и сербъ стосковался по австрійскимъ пулеметамъ?
— Я тамъ уже не знаю, стосковался или нѣтъ, но самымъ рѣши-
тельнымъ образомъ подалъ въ отставку. Я насилу вымолилъ у него трех-
дневный срокъ...
— Напрасно! Сегодня же гоните его въ шею, господинъ патронъ.
Къ вечеру у васъ будетъ новый лакей, превосходно вышколенный, гово-
рящій на пяти съ половиною языкахъ.
— Неужели на пяти?
— Нѣмецкій, англійскій, французскій, итальянскій, турецкій... Кое-
какъ съ грѣхомъ пополамъ объясняется еще и по-гречески.
— Давайте его сюда!.. Приличенъ на видъ?..
— Верхъ корректности.
— Отлично. Я беру вашего полиглота. А кто онъ по національности?..
— Кто... я затрудняюсь даже сказать, господинъ патронъ. Да вѣдь
это и не важно. Главное, чтобъ онъ былъ на своемъ мѣстѣ.
— Пусть будетъ такъ! Я, хотя убѣжденный грекъ и внукъ великаго
греческаго патріота, но относительно прислуги—космополитъ. Дѣйствуйте,
мой милый Шлейферъ... Да, вы можете меня поздравить...
— Поздравляю и жажду скорѣе увидѣть на груди моего патрона...
— А вы почему знаете?
44
Молочно-розовый Шлейферъ улыбнулся съ простоватой хитрецою.
— Такъ... доходятъ иногда кое-какія вѣсти...
Въ часъ дня Сарифи вернулся домой къ завтраку. Въ гостиной, въ
обществѣ Милана и Бранки, онъ засталъ новаго для себя гостя. Это былъ
русскій художникъ Беркутовъ, познакомившійся съ Миланомъ въ Парижѣ.
Сербъ звалъ его на Босфоръ, обѣщая показать Константинополь.
Тогда, нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, Беркутовъ и не подозрѣвалъ,
что волею судьбы ему придется держать путь въ Россію черезъ Царь-
градъ. Вспомнивъ Милана, художникъ рѣшилъ отдохнуть дня три-четыре
въ Константинополѣ.
Беркутовъ заѣхалъ въ отель, оставилъ вещи,—его комната была ря-
домъ съ Амманомъ,—переодѣлся въ визитку и черезъ полчаса звонилъ у
дверей особняка въ Перѣ.
Миланъ обрадовался ему. Вдвойнѣ обрадовался. Какъ симпатичному
человѣку, и къ тому же еще—русскому. Что-то свое, родное, славянское...
Миланъ занималъ двѣ небольшія комнаты верхняго этажа. Было
тѣсно, было много мягкой мебели, драпировокъ, нарядныхъ подушечекъ,
салфетокъ, расшитыхъ золотомъ и напоминающихъ византійскую парчу.
Мохнатые ковры изъ Бруссы глушили звукъ шаговъ.
Со стѣнъ глядѣли изъ рамокъ фотографическіе портреты короля
Петра, престолонаслѣдника Александра и королевича Георгія. Всѣ три—
съ автографами.
Миланъ встрѣтилъ гостя въ ночномъ, бѣломъ, въ розовыхъ полос-
кахъ костюмѣ.
— Извиняюсь...
— Пустяки, вѣдь я художникъ, артистъ. Не все ли мнѣ равно, въ
чемъ вы?.. Наоборотъ, ваша крупная голова такъ выгодно оттѣняется
свѣтлымъ фономъ этого, ужъ не знаю какъ назвать, матинэ, что ли... Я
съ большимъ удовольствіемъ набросалъ бы вашъ этюдъ... И вы повѣсили
бы его здѣсь на память обо мнѣ... Какъ поживаете? Что война?.. Вотъ
кошмаръ!.. Сильно даетъ себя знать здѣсь?..
— А вы откуда, изъ Рима?..
— И какъ всегда въ такихъ случаяхъ, каждый сыпалъ вопросами,
не дожидаясь отвѣта.
Миланъ, еще разъ попросивъ гостя извинить его, занялся туалетомъ.
Художникъ слышалъ изъ сосѣдней комнаты аппетитное фырканье умыва-
ющагося Милана. Люди крупные всегда умываются отфыркиваясь, напо-
миная этимъ большихъ, рѣзвящихся въ водѣ животныхъ.
Миланъ испросилъ у Бранки разрѣшенія представить ей Беркутова,
съ тѣмъ, что она пригласитъ его къ завтраку.
— Я его не знаю... Чужой человѣкъ... Я не въ настроеніи.
— Ты увидишь, какой онъ милый! Съ нимъ такъ просто чувствуешь
себя, словно знакомъ десятки лѣтъ... Онъ—знаменитость... Въ Салонахъ
его картины имѣли успѣхъ...
Бранка согласилась.
И дѣйствительно, съ первой же встрѣчи, съ первыхъ же словъ, ей
было хорошо и уютно въ обществѣ Беркутова. И, странная вещь, и самъ
художникъ и его ясные, свѣтлые глаза дѣйствовали на нее успокаивающе.
Ей почудилось, что даже гнетъ всѣхъ этихъ послѣднихъ мучительныхъ
дней какъ будто сталъ легче, немного разсѣялся.
45
Появленіе Агамемнона было, какъ всегда, крикливое, шумное.
— Очень радъ васъ видѣть! Друзья Милана — мои друзья! Портре-
тистъ? Портреты пишете, значитъ — портретистъ! Гдѣ выставляете? Въ
Салонѣ Марсова поля?.. Отлично! Тамъ, кажется, имена все! Три-четыре
дня? Жаль!.. Мнѣ пришла мысль заказать большой портретъ моей жены.
По рукамъ! Относительно цѣны сговоримся.
Беркутовъ молчалъ, ошеломленный этимъ потокомъ словъ. Молчалъ,
думая одно: „Неужели этотъ ходячій шаржъ — супругъ этой одухотво-
ренной, гибкой и тонкой красавицы?.. “
12. Ревнивый банкиръ.
Художникъ, воспитавшій себя на формахъ и линіяхъ, не сводилъ
очарованнаго взгляда съ Бранки.
Онъ всегда наблюдалъ женщинъ во время ѣды. И немногія оставались
граціозными, пластическими, въ то же время вполнѣ естественныя, безъ
всякаго манерничанья. Бранка съ честью выдержала этотъ экзаменъ.
Какіе плавные изгибы, когда она, чуть близорукая, склоняется къ
своей тарелкѣ. И бѣлѣетъ нѣжная линія затылка, переходящаго въ строй-
ную шею. И руки съ длинными пальцами, узкія руки, такъ проворно,
безъ педантической дѣловитости женщинъ, для которыхъ ѣда- наслажде-
ніе,—справляются съ ножомъ, вилкою и хлѣбомъ. Хлѣбъ какъ-то особенно
хруститъ въ этихъ пальцахъ.
Беркутовъ наблюдалъ, какъ она маленькими глотками пьетъ воду,
какъ при этомъ мѣняется лицо, приподнятое въ раккурсѣ, мѣняются тѣни,
скользящія съ неуловимой нѣжностью по этимъ прекраснымъ чертамъ.
И — этотъ огненно-красный банкиръ, съ внѣшностью бывшаго клоуна—
ея мужъ! Онъ цѣлуетъ эти гордыя, такого изысканнаго рисунка губы...
Вѣдь это-же кощунство, которому нѣтъ названія!
И подъ маскою безукоризненнаго свѣтскаго человѣка, — онъ ужи-
вался въ Беркутовѣ съ артистической богемою, — клокотало бѣшенство.
Жена банкира! И какого банкира!.. Извольте придумать болѣе чудовищную
гримасу жизни...
Онъ представлялъ ее въ своемъ ателье, гдѣ-бъ она царила среди
восточныхъ тканей, тигровыхъ шкуръ и висящихъ на стѣнахъ персидскихъ
кольчугъ, падуанскихъ панцырей и шлемовъ багдадской чеканки...
Она позируетъ ему то строгой цѣломудренной Діаною, то догарессою
въ черномъ бархатѣ съ золотой сѣткой па волосахъ, то инфантой въ
жемчугахъ и въ тяжеломъ, затканномъ золотомъ и твердомъ, какъ
кираса лифѣ.
Агамемнонъ, уплетая омлетъ за обѣ щеки, — онѣ вздувались, какъ
одержимыя флюсомъ,—не унимался.
— Да, вы напишете портретъ моей жены! И когда кончится война,
мы его повеземъ въ Парижъ и выставимъ въ Салонѣ. Надо будетъ за-
казать богатую раму и внизу бронзовая планшетка: „Супруга банкира
Агамемнона Сарифи. Писалъ такой-том... Ужасно трудныя эти русскія
фамиліи. Бер... Бер... Беркутовъ? А сколько вы съ меня возьмете?..
Художникъ смутился.
— Право, не знаю... Успѣю ли написать... Я тороплюсь домой... Я
- 4б -
разсчитывалъ пробыть здѣсь какихъ-нибудь три, самое большее че-
тыре дня.
Онъ говорилъ, а на самомъ дѣлѣ уже потерялъ власть надъ своимъ
временемъ, и надъ собой.
— Но если я попрошу васъ остаться? Это удобный случай. Хорошіе
художники почти не заглядываютъ въ Константинополь. А тѣ, которые
живутъ—мазилки!.. Мы его повѣсимъ въ бѣломъ залѣ. Надо, чтобъ это
былъ декоративный портретъ. Знаете, мраморная лѣстница, колоннада...
Моя жена во весь ростъ и пышный трэнъ спускается по мраморнымъ
ступенямъ. Такъ изображаютъ королевъ, герцогинь. А моя жена, чѣмъ
не герцогиня? И если уже на то пошло, развѣ нельзя купить какой-угодно
титулъ? Правда, моя милая Бранка?..
Бранка молчала. Ей было стыдно за мужа, какъ всегда, передъ
каждымъ новымъ свѣжимъ человѣкомъ.
Миланъ пилъ коньякъ, морщась точно отъ зубной боли.
— Я помню, — продолжалъ банкиръ, — это было лѣтъ двадцать пять
назадъ. Я былъ тогда молодымъ человѣкомъ, который веселится... И вотъ
я видѣлъ въ Парижѣ на выставкѣ портретъ королевы Викторіи, работы
какой-то знаменитости... Двойная фамилія. Вы не помните, мосье Беркутовъ,
какъ его зовутъ?
— Быть можетъ Бенжаменъ Конетанъ?..
— Нѣтъ, что-то другое...
— Каролюсъ-Дюранъ?
— Вотъ, вотъ! Каролюсъ-Дюранъ. Такъ мнѣ говорили, что портретъ
обошелся въ сто тысячъ франковъ. Но я не королева Викторія. Я Ага-
мемнонъ Сарифи. И могу вамъ предложить десятую часть этой суммы. Что
вы на это скажете?..
Беркутовъ сквозь землю былъ готовъ провалиться.
— Мы поговоримъ потомъ... о цѣнѣ... Потомъ... Главное, чтобъ пор-
третъ былъ удаченъ.
— Ну, какъ хотите. Я ловлю васъ на словѣ. Портретъ заказанъ! А
что вы скажете про эти канделябры? Фамильные! Въ нашей семьѣ они
переходятъ изъ поколѣнія въ поколѣніе уже двѣсти лѣтъ... Что тамъ еще?
Письмо? Давай!..
Банкиръ взялъ съ подноса, протянутаго Драголюбомъ, письмо.
— Ножницы!
Краска стыда за мужа отхлынула. Бранка сидѣла—блѣдная.
Сарифи углубился въ письмо. Его рыжія, рѣденькія брови сдвигались,
хмурились. Дрожало пенснэ на кончикѣ носа. Агамемнонъ прочелъ письмо,
отложилъ и долго смотрѣлъ на Бранку водянистыми, налившимися кровью
глазами. Потомъ перевелъ взглядъ на Беркутова.
— Мы, пожалуй, не будемъ писать портретъ...
Художникъ молча наклонилъ голову. Онъ отказывался понясь что-
либо во всемъ этомъ.
Банкиръ самымъ энергичнымъ образомъ отодвинулъ тарелку, ерзая
на стулѣ, гримасничая, и хмуря безволосыя брови.
Было тихо... Солнечный свѣтъ вливался въ готическія арки цвѣтныхъ
оконъ.
Завтракъ, шумный, говорливый вначалѣ, скомканъ былъ въ тяжеломъ,
непріятномъ безмолвіи.
47
Почуявъ что-то неладное, Рашичъ увелъ Беркутова къ себѣ. Ага-
мемнонъ и Бранка остались вдвоемъ.
— Ну-съ, что вы мнѣ скажете на это письмо?
— Чье?.. Какое?—чуть слышно спросила Бранка.
— А развѣ я знаю, чье! Здѣсь не подписано!..
— Значитъ, анонимное. Анонимныя письма посылаются негодяями.
Ихъ швыряютъ обыкновенно въ корзину.
— Ага! Такъ вы знаете содержаніе?
— Я ничего не знаю...
— Такъ я вамъ скажу! Здѣсь надо мною смѣются. Понимаете, надо
мною! Надъ Агамемномъ Сарифи. Говорятъ, что я ношу рога, что вы мнѣ
измѣняете... Это безобразіе! Вы кладете пятно на всю мою репутацію. До-
пустимъ, я не могу внушить пылкаго чувства, я далеко не Апполонъ
Бельведерскій. Но съ моими милліонами я имѣю право не быть патенто-
ваннымъ красавцемъ, имѣю право требовать, чтобъ моя собственная жена
не измѣняла мнѣ. Вспомните, при какихъ обстоятельствахъ...
— Довольно! Я уже слышала, не разъ слышала, что вы нашъ благо-
дѣтель, что вы спасли отца отъ разоренія, что если бы не вы... и такъ
далѣе... Но, выходя за васъ, я не лгала. Вспомните, я открыто сказала
вамъ, что не люблю васъ...
— Ну, конечно, конечно! Вы принесли себя въ жертву. Вы—страда-
лица. Надѣюсь, я вправѣ узнать, кто этотъ негодяй, соблазнившій васъ?
Его имя? Давайте мнѣ его имя?—и, сдѣлавъ свирѣпое лицо, Агамемнонъ
вытянулъ руки со скрюченными пальцами.
— Зачѣмъ вамъ его имя?
— Какъ, зачѣмъ? Странный вопросъ... Зачѣмъ? Чтобъ достойно рас-
правиться съ этимъ хищникомъ, посягнувшимъ на мою честь, этимъ во-
ромъ, тайно похитившимъ... Чтобъ надавать ему пощечинъ, плюнуть ему
въ физіономію и... Я тамъ еще не знаю, что...
— Вы этого не сдѣлаете... Къ сожалѣнію, вы этого не сдѣлаете.
— Я не сдѣлаю! Плохо же вы меня знаете за восемнадцать лѣтъ
супружества. Въ моихъ жилахъ течетъ горячая кровь моего дѣда, который
былъ великій патріотъ... Бранка, я презираю васъ, слышите!..
— Я сама себя презираю. II повѣрьте, это мнѣ гораздо больнѣе. Но
презираю не за то, что измѣнила вамъ, а за то, что обманулась, принявъ
мерзавца за порядочнаго человѣка.
— Кто же этотъ мерзавецъ? Назовите его? Назовите, чтобы я зналъ,
кого я долженъ отхлестать по физіономіи?
Улыбка судорогою пробѣжала по лицу Бранки.
— Хорошо. Я назову его. Но вы даете мнѣ слово отомстить? Ему,
который пишетъ гнусныя, подметныя письма?..
— Богъ мой, но вѣдь я же сказалъ. Этому человѣку не сдобровать!
Скорѣе, скорѣе, говорите.
— Раухъ!..
— Кто такой?
— Раухъ... Капитанъ Куртъ фонъ-Раухъ... Ну, что-же вы молчите?
Куда-же дѣвался весь вашъ воинственный пылъ?
Банкиръ сидѣлъ неподвижный, обмякшій. Онъ долго не моі ъ придти
въ себя. И когда пришелъ, къ нему вернулся даръ слова.
— Такъ вотъ кто! Раухъ! Я, признаться, ожидалъ услышать другое
- 48 -
имя. Мнѣ почему-то казалось, что это вертлявый французикъ де-Фоконье.
Такъ это Раухъ?
— Когда же вы пошлете къ нему своихъ секундатовъ? — спросила
Бранка иронически, уже успѣвшая овладѣть собою.
— И не подумаю! Я, солидный человѣкъ, финансистъ и вдругъ выйду
къ барьеру, какъ легкомысленный офицерикъ! И, наконецъ, я вовсе не
желаю портить отношенія съ германской колоніей. Этотъ капитанъ, хотя
онъ пока всего лишь капитанъ, пользуется большимъ кредитомъ и въ по-
сольствѣ и въ военной миссіи. Я всегда говорилъ,.про него: „Этотъ пой-
детъ далеко". О, Раухъ чувствуетъ подъ собою твердую почву!
Бранка знала цѣну своему Агамемнону, однако же, и ее онъ сейчасъ
поразилъ. Она смотрѣла на него съ уничтожающимъ презрѣніемъ, сощу-
ривъ глаза, съ такими длинными рѣсницами.
— Гдѣ же ваше слово—отомстить? Вы поете диффирамбы человѣку,
съ которымъ я измѣнила вамъ... Капитанъ Раухъ настолько высоко стоитъ
въ вашихъ глазахъ, что вы, пожалуй, ничего не имѣли бы противъ возоб-
новленія нашего романа?..
— Возобновленіе—это черезчуръ! Но легкій флиртъ, невинное кокет-
ство. Я же вамъ говорю, этотъ человѣкъ большая фигура въ посольствѣ,
а теперь, когда я ожидаю со дня на день „декорацію". Вѣдь, въ концѣ кон-
цовъ, будемъ откровенны, ваша спальня, Бранка, для меня закрыта давно.
Это для меня какое-то священное табу. Такъ не все-ли равно? Зачѣмъ
изображать изъ себя собаку, завладѣвшую сѣномъ. Ни себѣ, ни другимъ.
А если тѣ, другіе люди, вліятельные и полезные... Что такое, слезы?..
Бранка, закрывъ лицо скомканнымъ платкомъ, беззвучно плакала.
Плечи и голова вздрагивали короткими, порывистыми движеніями.
— Чего же вы плачете? Мнѣ крайне тяжело видѣть ваши слезы.
Вѣдь я же ничего, я не сержусь больше...
Отнявъ платокъ отъ влажныхъ, затуманенныхъ глазъ, Бранка гнѣвно,
задыхающимся голосомъ бросила ему:
— Я себя оплакиваю, себя! Жалкая, дрянная. Быть женою такого
ничтожества!
— Будетъ, довольно, сейчасъ войдетъ кто-нибудь. Во-первыхъ, я не
ничтожество, а затѣмъ... Но будетъ! Вопросъ исчерпанъ. Я не сержусь.
Совѣтую вамъ успокоиться. Я пройду наверхъ къ Милану.
Поднявшись къ Милану, банкиръ заявилъ Беркутову:
— Дѣло наше съ портретомъ- налажено. И теперь — окончательно.
Десять тысячъ франковъ остаются въ прежней силѣ. Но главное условіе—
декоративность. Колоннада, мраморныя ступени, длинный трэнъ... по
рукамъ?..
— Но съ однимъ условіемъ. Это условіе я ставлю всегда. Я лишь въ
тѣхъ случаяхъ приступаю къ заказу, если мнѣ даютъ полную свободу
дѣйствій. Поза модели, туалетъ, околичности,—за все это отвѣчаетъ мой
собственный вкусъ. Иначе я не могу работать. Даже, если-бы мнѣ пред-
ложили гонораръ, полученный Каролюсомъ-Дюранъ отъ британской ко-
ролевы.
Подумавъ, банкиръ согласился.
— Хорошо! пусть будетъ такъ! Я вѣрю вашему вкусу. Но ради Бога!
Пусть портретъ будетъ большой? Иначе его могутъ не замѣтить...
А высохшіе глаза Бранки уже блестѣли рѣшимостью... Вслѣдъ за
49
4
первымъ „предостереженіемъ",— будетъ второе. Самое опасное. Не сегодня-
завтра, капитанъ Раухъ начнетъ забрасывать подлыми открытками своими
Гермеса. Это уже не фарсъ, вродѣ сейчасъ разыгравшагося... Это можетъ
кончиться драмой. Вотъ чего боялась Бранка. Вотъ, что хотѣла предотвра-
тить цѣною какихъ угодно испытаній.
Надо сейчасъ же поѣхать въ колледжъ. Директоръ съ внѣшностью
пастора, бритый, сѣдой мистеръ Меллеръ, судя по нѣсколькимъ дѣловымъ
бесѣдамъ, производитъ пріятное впечатлѣніе. Надо поговорить съ нимъ,
въ такомъ духѣ, что ее собираются шантажировать путемъ воздѣйствія
на сына клеветническими письмами. Мистеръ Меллеръ долженъ пойти ей
навстрѣчу...
Бранка, попудривъ красныя отъ слезъ вѣки и позвонивъ Ксиду, ве-
лѣла приготовить выходное платье.
13. Въ константинопольскомъ шантанѣ.
— Однако, вашъ бо-фрэръ экспансивенъ,—замѣтилъ художникъ Ми-
лану, когда банкиръ, такъ же внезапно покинувшій ихъ, какъ и явившійся,
уже мячикомъ скатывался внизъ по винтовой лѣстницѣ, чтобъ поскорѣе
плюхнуться въ автомобиль и, стремглавъ, летѣть на какое-то, конечно, фи-
нансоваго характера, засѣданіе.
Миланъ остановился передъ Беркутовымъ, пожавъ широкими плечами
своими, въ которыя уходила его большая голова съ полнымъ, открытымъ
лицомъ.
— Экспансивенъ! Другъ мой, по свойственной вамъ деликатности,
вы чрезвычайно осторожны въ своихъ выраженіяхъ. Мы съ вами знакомы
недавно и мало, но у меня къ вамъ довѣріе. Этотъ бо-фрэръ вотъ гдѣ
сидитъ...
И Миланъ ударилъ себя по могучему, крутому затылку.
— Вы успѣли убѣдиться, какая неподходящая пара—этотъ человѣкъ
и моя сестра...
— Мадамъ Сарифи, она такъ прекрасна! И такая дивная душа чув-
ствуется за этимъ совершенствомъ законченныхъ линій!
— Да! Она стоитъ лучшаго мужа. Умна, образована, и какое во
всемъ благородство! Когда-нибудь я разскажу вамъ обо всемъ подробно...
какъ это случилось... Когда-нибудь... А теперь,—что мы дѣлаемъ?.. Я дол-
женъ сходить въ нашу сербскую миссію... Чувствую, доживаемъ послѣдніе
дни... Надо будетъ укладывать чемоданы...
— Развѣ?
— Еще бы. Турецкое выступленіе противъ васъ — уже рѣшеный во-
просъ. Все зависитъ,—когда? Сегодня, или завтра? Объявивъ войну Россіи,
они объявляютъ ее и намъ, вашимъ союзникамъ, сербамъ! Фактически
воевать за отсутствіемъ границъ,—насъ раздѣляютъ Болгарія и Греція,—
нельзя. Но въ принципѣ мы будемъ въ состояніи войны...
— Еще новые ужасы, новые потоки крови... Война — гипнозъ, охва-
тываетъ повальнымъ безуміемъ.
— Въ данномъ случаѣ,—гипнозъ денегъ. Энверъ, именующій себя
турецкимъ Наполеономъ, закупленъ германцами. Онъ, какъ черту, запро-
далъ имъ и себя, и свою душу, если только она имѣется у него, у этого
5°
маленькаго авантюриста, очутившагося на неожиданной высотѣ, отъ ко-
торой онъ страдаетъ хроническимъ головокруженіемъ... Итакъ, я пробуду
въ миссіи часовъ до семи. А вы тѣмъ временемъ познакомьтесь съ горо-
домъ. Но—будьте осторожны. Ничего не фотографируйте, не зарисовы-
вайте въ альбомъ... А то васъ мигомъ обвинятъ въ шпіонствѣ, и пока
русское посольство васъ выручитъ, вы вдоволь покормите своимъ тѣломъ
громадныхъ клоповъ, населяющихъ въ изобиліи мѣстныя тюрьмы. Ихъ
такъ и зовутъ клоповниками...
— Перспектива не изъ пріятныхъ, — молвилъ художникъ, невольно
вздрогнувъ.
— А затѣмъ, — продолжалъ Миланъ, — мы пообѣдаемъ съ вами въ
Пера-Паласѣ. Прихватимъ за компанію вашего спутника. Что же касается
вечера... вечеромъ здѣсь, кромѣ двухъ-трехъ поганенькихъ щантановъ, да
развѣ еще кинематографа, дѣваться некуда. Но кинематографы—повсюду
одинаковы. А познакомиться съ мѣстными шантанами—слѣдуетъ... Для
перваго раза отправимся въ „Пти-Шанъ“. Это „Пти-Шанъ" громадный, не-
уклюжій сарай. Впрочемъ, увидите сами.
— Не знаю, какъ и благодарить васъ, мосье Рашичъ... Вы такъ вни-
мательны ко мнѣ...
На самомъ дѣлѣ его охватило легкое разочарованіе. Сегодня онъ
больше не увидитъ Бранки... А ему такъ хотѣлось еще говорить съ нею,
любоваться ея тонкой, породистой красотою. Въ ней какой-то надломъ.
Она прячетъ какое-то горе, и это придаетъ ей особенное, глубокое оча-
рованіе.
Онъ ухватился за мысль о портретѣ. Сеансы, много сеансовъ,—онъ
постарается ихъ растянуть,—сулили ему одиночество съ Бранкой.
Онъ спросилъ:
— Какъ вы думаете, когда можно будетъ приступить къ портрету
мадамъ Сарифи?.. Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Каждый день дорогъ.
— А вотъ я спрошу... Извиняюсь, оставлю васъ на минутку...
Беркутовъ занялся фотографіями, висѣвшими на стѣнахъ полу-каби-
нета, полу-гостиной, съ коврами и низенькой мягкой мебелью, такой не-
подходящей къ Милану, высокому, крупному.
Художникъ смотрѣлъ на короля, на престолонаслѣдника Александра,
королевича Георгія, на солиднаго господина во фракѣ съ дипломатической
внѣшностью, — по сходству — отецъ Милана и Бранки. Смотрѣлъ на вы-
цвѣтшую фотографію стараго горбоносаго гайдука съ пучками сѣдыхъ
бровей и длинными, сѣдыми усищами. Смотрѣлъ и высказалъ свое впе-
чатлѣніе вернувшемуся Милану:
— Я теперь понимаю васъ, сербовъ, отчего вы такія сильныя, цѣльныя
натуры. Эти лица, эти черты... Лишь въ долгой вѣковой, кровавой борьбѣ
закаляются и вырабатываются такіе характеры и типы... И все это об-
вѣяно и вскормлено демократическимъ духомъ. Вы, сербы, напоминаете
молодой республиканскій Римъ,, съ его патріотическими и гражданскими
доблестями... А этотъ, воинственнаго вида, старикъ въ національномъ ко-
стюмѣ и съ пистолетомъ за поясомъ?
— Это мой дѣдъ, — съ гордостью молвилъ Миланъ. — Я его смутно
помню. Онъ умеръ на сто восьмомъ году. Въ ранней молодости онъ па-
халъ землю, торговалъ сливами. А потомъ, вмѣстѣ съ Карагеоргіемъ, дѣ-
домъ короля Петра, пошелъ въ горы гайдучить противъ турокъ... Уже
- 51 - *
глубокимъ старикомъ, за восемьдесятъ, онъ принималъ участіе въ герце-
говинскомъ возстаніи, сдѣлалъ всѣ походы съ Черняевымъ... Онъ такъ и
умеръ, не зная грамоты. Но мой отецъ, получившій образованіе въ Па-
рижѣ, докторъ юридическихъ наукъ, дипломатъ, посланникъ, цѣловалъ у
него почтительно руку и никогда не садился въ присутствіи дѣда, безъ
его разрѣшенія...
— Это красиво! Вообще, въ патріархальности съ ея традиціями такъ
много своеобразной красоты. Въ наше время гимназистъ-мальчишка пус-
каетъ дымъ своей папиросой чуть ли не въ физіономію отцу и матери...
Но что вамъ сказала мадамъ Сарифи относительно перваго сеанса?..
— Сейчасъ она торопится куда-то по дѣлу. Проситъ пожаловать
завтра къ одиннадцати утра. Это не будетъ рано для васъ?..
— Ничуть. Я встаю въ девять...
Беркутовъ ощутилъ въ душѣ расцвѣтающій праздникъ. Завтра...
Завтра онъ увидитъ ее... Никто не помѣшаетъ любоваться ею... Утро су-
лило ему какое-то тихое, съ тихими восторгами, блаженство.
Миланъ сказалъ вѣрно. Увеселительное учрежденіе „Пти-Шанъ" пред-
ставляло собою громадный баракъ, напоминающій скорѣе манежъ, чѣмъ
шантанъ. Ложи грубыя, деревянныя, безъ малѣйшаго намека на самую
скромную отдѣлку, на желаніе хоть какими-нибудь скромными драпиров-
ками замаскировать ихъ убожество. Стулья, самые разношерстные, съ
бору да съ сосенки, тянулись рядами, кривыми, неровными, отъ задней
стѣны до средины „зрительнаго зала".
Это для плебса. Для публики дешевой. Для болѣе блестящихъ же
посѣтителей, вплоть до барьера, за которымъ находился оркестръ, раз-
ставлены были тамъ и сямъ круглые столики, съ плетеными, дачно-курорт-
ными полукреслами. Сидя за кофе, ликеромъ, коньякомъ и всевозможными
прохладительными, куря трубки, сигары и папиросы, публика могла, ни
въ чемъ себя не стѣсняя, перекидываясь фразами и даже громко болтая,
слѣдить за программой. Сегодня шантанъ, въ виду первой гастроли „ко-
ролевы пластическихъ танцевъ", былъ переполненъ весь. Ни одного сво-
боднаго мѣста, ни въ ложахъ, ни въ рядахъ, ни за столиками.
Сизый табачный дымъ густымъ облакомъ повисъ надъ шумной, гал-
дящей толпою разныхъ костюмовъ, оттѣнковъ кожи, разныхъ племенъ и
нарѣчій.
Турецкіе офицеры скромно ютились въ заднихъ рядахъ, и лишь одна
группа ихъ вмѣстѣ съ Зауръ-беемъ густо облѣпила пару сдвинутыхъ
столиковъ .. Фески, бѣлые и цвѣтные тюрбаны, чалмы, косматыя бараньи
шапки, панамы, сплюснутыя каскетки, цилиндры, котелки и просто ничѣмъ
не покрытыя головы нубійцевъ-негровъ, съ густой, какъ войлокъ сбитой,
курчавой шерстью. Все это шевелилось какой-то живой человѣческой мо
заикой, на фонѣ пропитаннаго алкоголемъ, дымомъ и человѣческимъ по-
томъ удушья.
Было много нѣмцевъ. И военныхъ, и штатскихъ. Повсюду слышалась
ихъ громкая, самодовольная рѣчь, съ еще болѣе громкимъ, самодоволь-
нымъ хохотомъ. Они чувствовали себя хозяевами шантана. Да и, вообще,
весь Константинополь былъ въ ихъ власти. На турокъ они смотрѣли,
какъ на рабовъ своихъ, какъ на паріевъ.
Совершенно случайно въ близкомъ сосѣдствѣ очутились двѣ группы:
нѣсколько турецкихъ кавалеристовъ съ Зауръ-беемъ и кучка германцевъ
52
съ капитаномъ Раухомъ и княземъ Турнъ-и-Таксисъ. Отпрыскъ владѣ-
тельнаго рода, теперь уже только на бумагѣ, такъ какъ Бисмаркъ уни-
чтожилъ самое княжество, Турнъ-и-Таксисъ являлъ собою чудесный об-
разчикъ типичнаго вырожденца. Онъ былъ высокъ ростомъ и даже не
высокъ, а длиненъ. Такихъ называютъ дылдами. Подъ стать фигурѣ— вы-
тянутое лошадиное лицо съ гнилыми зубами и тяжелымъ подбородкомъ.
Бритый, съ жиденькими, бѣлесоватыми усиками, князь Турнъ-и-Таксисъ
ржалъ поминутно, вправляя въ плоскую орбиту глаза монокль, упорно не
хотѣвшій держаться.
Блистательнымъ офицерамъ германской миссіи, поглощавшимъ не-
смѣтное количество пива, не нравилось близкое сосѣдство турокъ, тѣмъ
болѣе, что вмѣсто пива у нихъ—шампанское. Это Зауръ-бей, получившій
гонораръ за свои корреспонденціи, шикарилъ, желая по уцѣлѣвшей въ
немъ гусарской привычкѣ „утереть носъ" нѣмцамъ.
Нѣмцы вызывающе, свысока поглядывали на турокъ. Это смущало
забитыхъ офицеровъ оттоманской имперіи. Всѣ эти смуглые, волосатые
маіоры и капитаны виновато и робко совѣщались между собою:
— Не уйти ли лучше намъ?.. А то, чего добраго, можетъ выйти
скандалъ...
Заэдуь-бей шипѣлъ:
— Трусы, канальи!.. На грошъ у васъ нѣтъ самолюбія!.. Сидите на
своихъ мѣстахъ... Сидите, иначе эта бутылка загуляетъ по вашимъ глу-
пымъ черепамъ...
— Тебѣ хорошо говорить. Тебѣ—море по колѣно, сумасшедшій чер-
кесъ... А у насъ жены и дѣти... Мы существуемъ жалованьемъ.
— Котораго не получаете. Вы не турки, а негры...
— Ну, а если они прикажутъ намъ уйти?
— Что такое? Хотѣлъ бы я видѣть, кто въ моемъ присутствіи, въ
моемъ, слышите, осмѣлился бы это сдѣлать? И пусть это будетъ самъ
Сандерсъ, я ему дамъ такой урокъ... Молчите, пейте ваше вино и мол-
чите... Это гораздо лучше, нежели болтать глупости...
Собутыльники, растерянно переглядываясь, машинально подносили
къ губамъ стаканы... Нѣтъ, не къ добру все это. И дернула же нелегкая
связаться съ бѣшенымъ Зауромъ, польстившись на его шампанское...
Именно, польстившись... Для этихъ бѣдныхъ людей, живущихъ впроголодь,
шампанское являлось какимъ-то недосягаемымъ напиткомъ боговъ...
Миланъ, успѣвшій изучить мѣстные нравы, говорилъ художнику и
Амману:
— Видите зти двѣ группы: германскіе и турецкіе офицеры. Это со-
сѣдство хорошимъ не кончится! Нѣмцы дошли до того въ своей наглости,
что сплошь да рядомъ выгоняютъ турокъ изъ кафэ. Бывали примѣры... И
турки обыкновенно уходятъ. Но сейчасъ среди нихъ Зауръ-бей. По вос-
питанію онъ русскій офицеръ, и поэтому самолюбивъ, по происхо-
жденію—черкесъ, и поэтому гордъ... Онъ славится своимъ бѣшенымъ
нравомъ...
Миланъ, Беркутовъ и канадецъ сидѣли поодаль втроемъ. Художникъ
пилъ кофе, Рашичъ и канадецъ—сода-виски.
Амманъ, видавшій на своемъ вѣку арабскія кофейни Портъ-Сайда и
Каира, бродившій вдоволь по настоящему Востоку со всей его жгучей яр-
костью, спокойно сосалъ свою коротенькую трубочку, набитую „капора-
53
лемъ". Зато художника всего зажигало острымъ, волнующимъ любопыт-
ствомъ.
— Какія головы, какіе типы!—восхищался онъ,—какая очаровательная
смѣсь костюмовъ, красокъ... Этотъ арабъ, съ длинной сѣдой бородой, весь
въ бѣломъ? Навѣрное, какой-нибудь шейхъ... А эта дама въ ложѣ, съ
матовымъ румянцемъ и узкимъ разрѣзомъ миндалевидныхъ глазъ... Евро-
пейскій туалетъ непривыченъ ей. Онъ связываетъ ее. Чувствуется что-то
гаремное... Ей было бы свободнѣе и легче въ просторныхъ одеждахъ тур-
чанки. Кстати, кто она, вы не знаете, мосье Рашичъ?
— Знаю... Это жена одного изъ убійцъ Махмудъ-Шевкетъ-паши...
— Жена одного изъ убійцъ Махмудъ-Шевкетъ-паши! — повторилъ
художникъ.—Это великолѣпно! Это дьявольски характерно! Попробуйте
услышать въ другой европейской столицѣ такое своеобразное опредѣленіе
соціальнаго положенія человѣка? И навѣрное этотъ, „одинъ изъ этихъ
убійцъ Махмудъ-Шевнетъ паши",—не въ тюрьмѣ, не въ кандалахъ, не въ
ссылкѣ, а на свободѣ.
— И даже очень. Онъ фаворитъ Энвера и самый близкій, вліятельный
изъ его адъютантовъ.
Программа еще не начиналась. Но уже близилось начало. Уже ор-
кестръ изъ потныхъ черномазыхъ людей въ заношенномъ бѣльѣ въ разладъ
настраивалъ скрипки. Визгливо вырывалась одинокая нота флейты. Уже
чей-то любопытный глазъ приникъ къ дырочкѣ въ измятомъ, линючемъ и
облупившемся занавѣсѣ, изображавшемъ какое-то аллегорическое шествіе
женскихъ фигуръ въ пустынѣ съ гребнемъ скалъ на горизонтѣ.
Занавѣсъ вдругъ заходилъ весь волнами, подъ звуки мелодичнаго, ве-
селаго и легкомысленнаго штраусовскаго вальса.
Офицеры германской миссіи заявили энергичный протестъ. Топотъ
ногъ, стукъ сабель, звонъ стакановъ и крики:
— Ѵасііі ат Вііѳіп!
Штраусовскій вальсъ продолжался.
Тогда князь Турнъ-и-Таксисъ, поднявшись во всю длину свою, не
совсѣмъ увѣреннымъ шагомъ,—пиво оказало свое дѣйствіе,—подошелъ къ
дирижеру, брюнету „обще-утвержденнаго румынскаго образца", и, дернувъ
его за фалдочку фрака, надъ самымъ ухомъ гаркнулъ:
— ѴасЫ ат ВЬеіп! Слышишь?..
Дирижеръ съежился въ комочекъ, ожидая затрещины. Сіятельная
дылда не разъ угощала его тумаками длинныхъ рычаговъ своихъ. Въ ре-
зультатѣ—вальсъ тотчасъ же смѣнился „Стражею на Рейнѣ".
Турнъ-и-Таксисъ, довольный произведеннымъ эффектомъ, съ видомъ
побѣдителя двинулся назадъ цѣпляющейся походкой и при этомъ умыш-
ленно задѣлъ стулъ одного изъ товарищей Заура, полнаго, маленькаго
капитана. Капитанъ поспѣшилъ отодвинуться... Зауръ бросилъ вызыва-
ющій взглядъ на князя, вотъ-вотъ готовый въ него вцѣпиться. Но турки
съ мольбою вцѣпились въ черкеса.
— Опомнись!.. Ты погубишь и себя, и насъ...
Облупившійся, съ аллегорическими фигурами занавѣсъ толчками под-
нялся... Программа началась исполнительницею итальянскикъ канцонеттъ,
тощей, голоднаго вида, особою въ черномъ платьѣ, съ черными усиками
и съ плоской декольтированной грудью...
54
14. Скандалъ.
Въ константинопольскіе вертепики сбывались весь хламъ, вся заваль,
весь „бракъ" настоящихъ европейскихъ шантановъ, варьете и кафе-кон-
цертовъ.
„Старая гвардія" всевозможныхъ „легкихъ" подмостковъ прежде, чѣмъ
окончательно уйти на покой, записаться въ инвалиды и гдѣ-нибудь глухо,
унизительно доживать свой вѣкъ, всѣ эти охрипшія обезголосившія Эммы,
Алисы, Гизелы, всѣ эти матчишницы, кэкъ-укоистки, серпантинщицы,
увядшія, растерявшія вмѣстѣ съ зубами, щедрыхъ поклонниковъ—устремля-
лись въ Константинополь.
Константинополь, да еще Смирна, Александрія, Каиръ, всѣ эти экзо-
тическіе уголки были послѣднимъ этапомъ кафешантанной карьеры.
Правда, эта истрепанная, помятая, старая гвардія расцвѣчивалась
иногда какой-нибудь яркой блестящей звѣздочкой въ области шансонетки,
танца, или акробатики. Но не условія ангажемента влекли звѣздочекъ на
берега Босфора. Какія тамъ условія, разъ импрессарію всѣхъ этихъ вер-
тепиковъ—тѣ же хищники и грабители, стершіеся, какъ мѣдная монета въ
своемъ происхожденіи, рабовладѣльческой жадностью своею напоминали
торговцевъ живымъ товаромъ и содержателей института безъ древнихъ
языковъ, что въ сущности — одно и то же. Первые торгуютъ оптомъ,
вторые—въ розницу. У первыхъ склады, у вторыхъ—магазины.
Звѣздочекъ въ полномъ блескѣ славы, успѣха и молодости, золотымъ
дождемъ Зевеса, константинопольскаго Зевеса, въ видѣ богатаго паши,
греческаго, или армянскаго милліонера, манитъ призракъ молніеносной
наживы. Однимъ ударомъ сдѣлать себѣ состояніе!
Въ воображеніе, въ особенности — невѣжественномъ, Константино-
поль—продолжаетъ оставаться какимъ-то сказочнымъ городомъ, гдѣ тучный
паша, или банкиръ-армянинъ только тѣмъ и занимаются въ свободное
время, что запустивъ свои коричневыя, волосатыя руки въ шкатулку съ
брилліантами съ жемчугомъ, или изумрудами, наслаждаются переливчатой
игрою всѣхъ этихъ драгоцѣнностей.
Вотъ почему „королева пластическихъ танцевъ" Элла-Стэлла, подви-
завшаяся съ успѣхомъ и въ петроградскомъ Акваріумѣ, и въ берлинскомъ
Винтергартенѣ, и въ парижскомъ Амбассадэръ, снизошла къ мольбамъ
директора „Пти-Шанъ", осчастливить его заведеніе гастролями, хотя бы
въ продолженіе всего пятнадцати дней. Но кромѣ заманчиво рисовавшихся
воображенію шкатулокъ съ брилліантами и жемчугомъ, была еще одна
причина появленія Эллы въ Константинополѣ, вообще, и на подмосткахъ
манежеподобнаго „Пти-Шанъ", въ частности. Эта причина, капитанъ Куртъ
фонъ-Раухъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ, еще не будучи въ генеральномъ
штабѣ, гаухчэ служилъ лейтенантомъ въ гвардейскомъ Второмъ Кирасир-
скомъ полку Маріи Луизы. Элла-Стелла культивировала свои пластическіе
танцы на громадной, вертящейся сценѣ Винтергартена. Она влюбилась въ
красиваго лейтенанта. Влюбилась настолько, что когда онъ проигралъ въ
карты нѣсколько тысячъ марокъ и не могъ уплатить этого „долга чести",
Элла-Стэлла заложила ради него часть своихъ драгоцѣнностей.
Послѣ этого блистательный кирасиръ часто бывалъ при деньгахъ,
но выкупить брильянты влюбленной въ него танцовщицы — такъ и не
собрался. Она сама это сдѣлала. Однако, все же осталось у нея къ Рауху
нѣжное чувство. И только благодаря его настоянію, его нѣсколькимъ
телеграммамъ, да перспективѣ основательно обработать какого-нибудь
восточнаго милліонера, согласилась королева пластическихъ танцевъ под-
писать контрактъ въ „Пти-Шанъ".
И вотъ Раухъ собралъ своихъ товарищей по военной миссіи, чтобъ
подобающимъ образомъ привѣтствовать первый дебютъ Эллы-Стэтлы.
Но какъ всѣ боевые номера, выходъ Эллы-Стэллы напослѣдокъ при-
берегался, къ концу. А пока, программа, номеръ за номеромъ—эти номера
чернымъ по бѣлому вставлялись въ желѣзную рамку у лѣвой кулисы—шла
своимъ чередомъ.
Плоскогрудую пѣвицу, жалобно завывавшую итальянскія канцонетты,
смѣнили клоуны-акробаты, въ громадныхъ, клѣчатыхъ, не по росту, визит-
кахъ, въ рыжихъ парикахъ и съ идіотски размалеванными физіономіями.
Акробатъ въ классическомъ трико, въ кирасѣ изъ сверкающихъ стекля-
русовъ—давнымъ давно отжилъ. На смѣну ему явился акробатъ въ смо-
кингѣ, въ рубищахъ, или нъ нелѣпой, до пятъ, визиткѣ, какъ эти двое
съ вытянутыми, прыгающими фигурами,—какая-то странная декаденщина.
Потомъ вышла монументальная, съ колыхающейся жирной грудью и
съ толстыми ногами-обрубками, неуклюжая нѣмка. Тараща подведенные
глаза, она пѣла самыя отчаянныя скабрезности съ повадкою невинной,
сентиментальной дѣвченки. Нѣмцы устроили въ ея честь патріотическую
манифестацію, поднимали свои стаканы, какъ бы чокаясь, кричали: бисъ,
нохъ, хохъ, прозитъ!.. и бабище въ коротенькой юбочкѣ выбѣгала разъ
шесть.
Въ послѣдній разъ она спѣла что-то тягучее, длинное и „злобо-
дневное". О томъ, какъ раненый германскій солдатъ, вернувшись въ роди-
тельскій домъ съ фронта, съ желѣзнымъ крестомъ на груди, со слезами
объяснялся въ любви кайзеру передъ его портретомъ.
Успѣхъ получился ошеломляющій. Нѣмцы ржали отъ восторга, вдре-
безги летѣли на полъ стаканы, а князь Турнъ-и-Таксисъ, выхвативъ
саблю, хотѣлъ броситься къ ложѣ, въ которой сидѣла дипломатическая
молодежь русскаго, французскаго и англійскаго посольства.
Раухъ насилу удержалъ воинственнаго потомка грабителей купече-
скихъ каравановъ и большихъ дорогъ.
Турнъ-и-Таксисъ не могъ успокоиться. Бунтующіе въ немъ пивные
пары, затуманившіе и безъ того не Богъ-вѣсть какого высокаго качества
мозгъ, искали выхода. И протянувъ длинныя ноги въ ботфортахъ со шпо-
рами, откинувшись на спинку стула, дымя сигарой, онъ все нахальнѣй и
нахальнѣй посматривалъ на компанію турокъ, во главѣ съ Зауръ-беемъ.
— Надо ихъ проучить!.. Какъ они смѣли такъ забыться? Цѣлый
вечеръ сидятъ рядомъ съ нами, болтаютъ на своемъ дикомъ языкѣ и мы
это терпимъ! Я ихъ выгоню вонъ! Скажу, чтобъ сейчасъ-же убирались
ко всѣмъ чертямъ!..
— Турнъ, брось, — успокаивалъ его Раухъ. — Неудобно затѣвать
скандалъ. Видишь, сколько сидитъ въ ложахъ народу изъ посольствъ и
миссій, намъ враждебныхъ. Имъ только дай матеріалъ!.. Да и кромѣ того
здѣсь корреспонденты. А, самое главное, не будь съ ними этого сумасшед-
шаго черкеса! Тогда разговоръ былъ бы простой. Убирайтесь вонъ и
кончено! Ушли бы, еще, пожалуй, извинившись за смѣлость очутиться
~ 56 -
рядомъ съ нашей компаніей. Ну, а съ черкесомъ такимъ языкомъ не по-
говоришь... Вообще, надо будетъ, какъ-нибудь потомъ сократить этого
господина...
Аттестація, выданная Раухомъ черкесу не успокоила, а наоборотъ,
еще болѣе раззадорила потомка владѣтельныхъ князей — расправиться по
своему съ турками, осмѣлившимся забыть свое мѣсто. Чтобъ какой-то
полудикій черкесъ, хотя и довольно свирѣпой внѣшности, всмѣлился воз-
ражать ему, князю Турнъ-и-Таксисъ, ведущему свою родословную, не
болѣе, не менѣе, какъ отъ вторыхъ крестовыхъ походовъ— этого длинный
оберъ-лейтенантъ съ лошадиной челюстью, никакъ не допускалъ... И сь
настойчивостью маніака повторялъ бубнящимъ голосомъ:
— Надо ихъ проучить!
— Турнъ, ты даешь мнѣ слово? — взялъ его за рукавъ сюртука,
фонъ-Раухъ.
Князь съ хитростью пьянаго человѣка посмотрѣлъ на него безсмыс-
леннымъ взглядомъ. Хмыкнулъ и, ничего не отвѣтивъ, сталъ раскуривать
погасшую сигару.
— Онъ уже готовъ. И тѣмъ лучше... — прошепталъ Раухъ полному,
выхоленному маіору Притвицъ-Лауницъ.
Турнъ слышалъ это и, смакуя сюрпризецъ, который онъ поднесетъ
имъ подумалъ:
„Вотъ вы увидите, какъ я „готовъ"!
Долго ли? Всталъ, подошелъ и... Но какая-то холодная тяжесть въ
ногахъ, мѣшала... Князь сталъ искусственно взвинчивать себя. Онъ принялъ
еще болѣе наглую позу, еще дальше вытянулъ ноги, растегнулъ новенькій
съ иголочки сюртукъ. Сверкнулъ бѣлый, ослѣпительно-бѣлый жилетъ.
Князь тотчасъ же закапалъ его пивомъ. Онъ кидалъ по направленію
турокъ все болѣе и болѣе презрительно-уничтожающіе взгляды.
— Уйдемъ, слышишь!.. Заклинаемъ тебя Пророкомъ,—молили турки
Зауръ-бея.
— Сидите... Сидите, иначе я устрою вамъ втесятеро большій скан-
далъ, чѣмъ тотъ, котораго вы ожидаете со стороны нѣмцевъ.
Черкесъ былъ безпощаденъ. Товарищи съ ужасомъ видѣли, что самъ
онъ, разгоряченный шампанскимъ, жаждетъ столкновенія... Бѣдные турки
сидѣли, какъ приговоренные, а кругленькій, маленькій капитанъ беззвучно
шевеля губами, взывалъ къ Аллаху, чтобы заступился и пронесъ бѣду
надъ головами.
А бѣда надвигалась...
Мужчина въ красномъ фракѣ и дама въ блесткахъ, исполнили
„музыкальный номеръ" на стаканахъ, на висящихъ рядами бубен-
чикахъ, еще на чемъ - то и скрылись за кулисами подъ жиденькіе
апплодисменты и подъ громкое мяуканье сидѣвшей въ рядахъ итальян-
ской молодежи.
— Сейчасъ выходъ „королевы пластическихъ позъ"... Господа, при-
готовьте ваши ладоши,- скомандовалъ Раухъ.
И всѣ подтянулись, а тѣ, у кого на лѣвой рукѣ была перчатка, по-
спѣшили стащить ее...
Подъ тягучую восточную мелодію оркестра поднялся занавѣсъ надъ
пустой сценою съ двумя курильницами. Курильницы—это слишкомъ громко.
Ііросто-на-просто два круглыхъ желѣзныхъ „мангала", какіе можно встрѣ-
57
тить во всякомъ турецкомъ домѣ, гдѣ никогда не топятъ печей и гдѣ
осенью и зимою бываетъ адски холодно.
Уголья этихъ „мангаловъ" посыпаны какимъ-то ароматическимъ веще-
ствомъ. По всему „залу" потянуло чѣмъ-то душистымъ и прянымъ... И
когда настроеніе создалось, медленно вышла изъ-за кулисъ Элла-Стэлла,
полуобнаженная, чуть прикрытая легкимъ газомъ. Линіи груди, ногъ и
бедеръ, упругаго живота, ясно, безъ полутоновъ намѣчались сквозь про-
зрачную паутину. И что-то зловѣщее было въ знойной красотѣ танцов-
щицы съ алыми, словно кровью вымазанными, какъ у вампира, губами.
Громъ апплодисментовъ заглушилъ восточную мелодію. Германскіе
офицеры, вдохновленные Раушемъ, пивомъ и откровенными прелестями
танцовщицы, бѣсновались отъ восторга. Негръ въ униформѣ съ позумен-
тами, передалъ изъ оркестра танцовщицѣ громадный букетъ розъ. Элла-
Стэлла, играя подведенными глазами въ публику, медленно, профессіонально
изгибаясь всѣмъ тѣломъ, сначала поднесла букетъ къ губамъ, а затѣмъ
кокетливо прильнула щекою къ сочнымъ, пышно распустившимся розамъ.
Этимъ моментомъ, когда все вниманіе собутыльниковъ, а главное.
Рауха, сосредоточилось на дебютапкѣ и воспользовался князь Турнъ-и-
Таксисъ. Незамѣтно отдѣлившись отъ своихъ, онъ, попыхивая сигарой,
заложилъ руки въ карманы рейтузъ, цѣпляющейся походкой подошелъ къ
столику турецкихъ офицеровъ.
Зауръ-бей рѣзко повернулся къ нему... Остальные сидѣли ни живые,
ни мертвые, похолодѣвшіе, съ опущенными головами, желая провалиться
сквозь землю, или, по крайней мѣрѣ, чтобъ Пророкъ защитилъ ихъ сво-
имъ плащемъ, послѣ чего они превратятся въ невидимокъ для глазъ этихъ
невѣрныхъ гяуровъ.
Остановившись передъ Зауромъ, князь Турнъ сказалъ наставительно:
— Вы что-то здѣсь говорили по своему на нашъ счетъ!..
Первымъ движеніемъ черкеса было смазать хорошенько по этой ло-
шадиной физіономіи, съ торчащей между гнилыми зубами сигарой... Но,
вспомнивъ мольбы товарищей, дрожащихъ, орошенныхъ холоднымъ потомъ,
онъ сдержалъ себя.
— Успокойтесь... Мы и не думали говорить о васъ...
— Нѣтъ, говорили. И поэтому...
Маленькій капитанъ дернулъ подъ столомъ черкеса за фалду его
коричневаго мундира...
— Нѣтъ, говорили!—дѣлался Турнъ все настойчивѣе, убѣждаясь, что
этотъ сумасшедшій черкесъ вовсе не такъ уже страшенъ, если ему извѣ-
стно, кто именно его отчитываетъ.
— Даю вамъ слово офицера, что о васъ и вашихъ товарищахъ между
нами не было и рѣчи...
— Плевать я хотѣлъ на слово турецкаго офицера,—обнаглѣлъ окон-
чательно Турнъ.
Тогда Зауръ-бей медленно, спокойно распружинплся во весь ростъ...
Смуглое рѣзкое лицо черкеса стало блѣднымъ-блѣднымъ и только глаза
горѣли, какъ у тигра.
Онъ подошелъ вплотную къ нѣмцу.
— Повторите, что вы сказали?..
— Я сказалъ... я сказалъ, что плюю... на честное слово,., турецкаго
офицера...
5®
— Ахъ, вотъ какъ! Такъ я тебя научу!.. Когда ты разговариваешь
съ людьми, носящими офицерскій мундиръ, ты долженъ вынуть руки свои
прочь изъ кармановъ!.. Это первое. Во-вторыхъ, долой сигару!—Зауръ не
давъ опомниться, выхватилъ у Турна изъ зубовъ сигару и бросилъ ее на
полъ...—А, въ третьихъ, получай!
И не торопясь, особенно оскорбительнымъ, сильнымъ, прицѣливаю-
щимся ударомъ, онъ закатилъ ему въ ритмъ двѣ пощечины, справа и слѣва...
Лошадиная голова князя, какъ-то нелѣпо мотнулась, да и самъ онъ
длинный, дылдистый зашатался, потерявъ, и безъ того не особенное устой-
чивое, равновѣсіе...
15. Въ овечьей шкурѣ.
— Ксида, узнайте, поданъ-ли экипажъ?
Горничная вышла, вернулась.
— Лошади стоятъ у подъѣзда, госпожа... Если кто-нибудь спроситъ
по телефону, что сказать?
— Скажите, что меня нѣтъ дома, вотъ и все!
— Слушаю...—Ксида лукаво потупилась.
Американскій колледжъ помѣщался на краю города, въ концѣ той
самой улицы Шиіпли, гдѣ жилъ Шукри-паша.
Колледжъ раскинулся на весь кварталъ. Вѣрнѣй, это была цѣлая
усадьба съ громаднымъ, въ чистотѣ содержимымъ дворомъ, за чугунной
оградою, съ четырехъ-этажнымъ особнякомъ, ровнымъ „полемъ" для фут-
бола и паркомъ изъ гигантскихъ платановъ и кипарисовъ.
Бранка, моложавая, гибкая, въ скромномъ, гладкомъ, отлично сидя-
щемъ парижскомъ выходномъ платьѣ сѣро-стального цвѣта, вышла изъ
коляски. Бритый, внушительный швейцаръ, кинулся къ дамѣ, которая
пріѣхала въ такой солидной собственной запряжкѣ.
Швейцаръ зналъ жену банкира.
— Госпожа Сарифи желаетъ видѣть своего сына?.. Придется обо-
ждать немного. Черезъ десять минутъ въ ихъ классѣ кончится урокъ
нѣмецкой литературы.
— Я хочу видѣть мистера Меллера,—отвѣтила Бранка.
На это—„урокъ нѣмецкой литературы", она не обратила бы вниманія
прежде. Но сейчасъ ей было непріятно... Чѣмъ-то враждебнымъ, колючимъ
повѣяло...
— Мистеръ Меллеръ сейчасъ у себя въ кабинетѣ. Я велю доложить.
Вѣроятно, онъ васъ сейчасъ-же и приметъ.
Бранка вошла въ обширный, съ верхнимъ свѣтомъ, вестибюль. Все
здѣсь сверкало чистотой и порядкомъ. Носило чинный, пожалуй, чопорный
характеръ.
Швейцаръ проводилъ Бранку въ пріемную. Бранкѣ была хорошо
знакома эта квадратная, съ тяжелой мебелью комната, съ круглымъ сто-
ломъ, гдѣ по радіусамъ лежали англійскіе и нѣмецкіе журналы. Но теперь
она лишь впервые обратила вниманіе на большой портретъ Вильгельма.
Тяжелый портретъ въ широкой золотой рамѣ, висѣвшій въ простѣнкѣ.
Ей показалось страннымъ, зачѣмъ это въ американскомъ колледжѣ кра-
суется портретъ германскаго императора?
59
Зачѣмъ? Если ужъ вѣшать чье-нибудь изображеніе, такъ это Руз-
вельта, или, кто тамъ у нихъ президентъ? Но никакъ не монарха чужой,
даже не говорящей по-англійски, страны.
Лакей въ черномъ фракѣ, личный лакей директора, объявилъ:
— Мистеръ Меллеръ проситъ пожаловать...
Мистеръ Меллеръ, высокій, плотный и бритый, съ густой шапкою
сѣдыхъ волосъ и съ большимъ румянымъ лицомъ шестидесятилѣтняго
здоровяка, затянутаго въ черный сюртукъ, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ на-
встрѣчу Бранкѣ изъ глубины своего кабинета, уставленнаго книжными
шкапами и увѣшаннаго географическими картами.
— Очень радъ васъ видѣть, госпожа Сарифи... Очень радъ,—загово-
рилъ онъ по англійски.—Что подѣлываетъ господинъ банкиръ? Какъ его
здоровье?.. Человѣкъ поразительной энергіи!.. Столько хлопотъ, крупныхъ
дѣлъ и, всегда ясная, свѣтлая голова. Всегда веселъ, въ отличномъ распо-
ложеніи духа... Право, завидно вчужѣ...
— Благодарю васъ, мистеръ Меллеръ; онъ чувствуетъ себя велико-
лѣпно...
— Я такъ и думалъ... Почтеннѣйшій человѣкъ!.. Симпатичнѣйшій!..
Очаровательнѣйшій!.. Вы, вѣроятно, пожаловали узнать лично отъ меня
объ успѣхахъ Гермеса? Прошу покорно садиться... Гермесъ продолжаетъ
быть однимъ изъ образцовѣйшихъ воспитанниковъ колледжа... Физическое
развитіе, вмѣстѣ съ духовнымъ, прекрасно идутъ у него рука объ руку...
Вамъ угодно, госпожа Сарифи, повидать вашего сына?.. Вы такая нѣжная,
любящая мать...
— Онъ скоро будетъ дома,--уклончиво отвѣтила Бранка.
— Ахъ, вѣрно, вѣдь онъ-же приходящій... Я и забылъ... Отцу безъ
малаго трехсотъ сыновей простительно иногда спутать ихъ... Но, несмотря
на это, они всѣ одинаково дороги мнѣ и я люблю ихъ въ равной степени...
Увы, холостяку, мнѣ не дано имѣть своихъ дѣтей и все свое неудовлетво-
ренное отцовское чувство...
Мистеръ Меллеръ чуть-чуть, на сколько позволяла его выдержанность,
откинулся на спинку кресла у своего громаднаго письменнаго стола и,
обнаживъ въ любезно-свѣтлой улыбкѣ великолѣпные вставные зубы, во-
прошающе смотрѣлъ на посѣтительницу.
Бранка медлила, не зная, какъ приступить къ цѣли своего визита.
Мистеръ Меллеръ ждалъ... Разумѣется, необходима крайняя преду-
предительность по отношенію къ первой красавицѣ города, мужъ которой
легче-легкаго ворочаетъ милліонами, цѣлыми десятками ихъ, но, въ то же
время, въ свои дѣловые часы онъ принимаетъ только по дѣламъ колледжа.
Бранка видѣла, — пауза становится неудобной, продолжительной и,
такъ, или иначе, необходимо высказать все то, щекотливое и непріятное,
что не даетъ ей покоя, гнететъ бременемъ душу.
— Мистеръ Меллеръ... Прежде, чѣмъ начать, я обращаюсь къ вашему
такту, къ вашему доброму сердцу, о которомъ слышала очень много...
Это предисловіе своею интимностью заставило директора слегка на-
сторожиться. И, подавшись впередъ, онъ уменьшилъ разстояніе между
собой и Бранкой.
— Госпожа Сарифи, я польщенъ такимъ о себѣ лестнымъ мнѣніемъ...
Постараюсь всячески оправдать... Я весь слухъ и вниманіе...
Я могу быть вполнѣ откровенной съ вами?
— Ьо —
— Вполнѣ!.. Директоръ учебнаго заведенія—лицо, которому родители
несутъ свои печали и радости, — тотъ-же духовникъ, адвокатъ, врачъ...
Повѣрьте, госпожа Сарифи, эти самыя стѣны слышали много, очень много
признаній! Слышали, но ни одно изъ нихъ не перешагнуло туда, за порогъ
моего кабинета... Никогда!..
И, сдерживая нетерпѣніе услышать интересное что-нибудь тайное, а
можетъ быть, и грѣховное, мистеръ Меллеръ не спускалъ своихъ, немного
холодныхъ, немного свѣтлыхъ, немного жесткихъ глазъ съ лица Бранки.
А она опустила глаза такъ низко, что отъ длинныхъ рѣсницъ упали
мягкія тѣни...
Гордость открыться во всемъ передъ этимъ чужимъ человѣкомъ бо-
ролась въ ней съ мучительной жаждою сохранить любовь и уваженіе сына.
— Я не бѵду васъ посвящать во всѣ подробности, мистеръ Меллеръ...
Это лишнее... Я скажу въ общихъ чертахъ. Вы прожили не мало на свѣтѣ,
вы сами знаете, что въ жизни каждаго человѣка бываютъ ошибки... увле-
ченія... бываютъ мгновенія, о которыхъ приходится потомъ горько жалѣть...
— Богъ мой, а развѣ солнце безъ пятенъ? — съ участіемъ молвилъ
директоръ, желая ободрить свою собесѣдницу.—Повторяю, я—духовникъ,
госпожа Сарифи. Смотрите на меня, какъ на вашего духовника...
Она опустила голову' какимъ-то покаяннымъ движеніемъ.
„И почему она не смотритъ мнѣ въ глаза", — думалъ директоръ съ
досадою, словно Бранка этимъ лишала его особеннаго жестокаго удо-
вольствія.
— Одинъ человѣкъ... Я обманулась въ немъ... Онъ оказался подлымъ,
низкимъ, безъ чести... И вотъ теперь за то, что я отказалась помогать
его гнуснымъ планамъ, негодяй началъ меня шантажировать... Этотъ сортъ
людей ни передъ чѣмъ не останавливается... Онъ угрожалъ написать ка-
кое-то разоблаченіе моему мужу... И написалъ!.. Но это еще не все. Онъ
обѣщалъ, — и онъ это сдѣлаетъ, — забросать открытками моего Гермеса,
моего сына... Мальчикъ любитъ меня до обожанія. Онъ,—скажу безъ пре-
увеличенія, молится на меня... И если-бъ дѣйствительно въ его руки по-
пали эти письма, я... я не знаю, что со мною было-бы!.. Гермесъ для меня—
все. Я имъ живу, этимъ чуднымъ, чистымъ ребенкомъ. Онъ уже юноша,—
одного роста со мною,—но для меня онъ останется навсегда ребенкомъ...
Мистеръ Меллеръ?.. Вы поймете душу матери. Помогите мнѣ; умоляю васъ,
помогите какъ-нибудь оградить сына отъ этихъ писемъ?
Она рѣшилась поднять глаза. Въ этихъ кроткихъ, просящихъ глазахъ
блестѣли крупныя слезы.
Директоръ сдѣлалъ негодующій жестъ.
— Я васъ понимаю, госпожа Сарифи. Я васъ вполнѣ понимаю. Я
всецѣло на вашей сторонѣ... Человѣкъ, желающій мстить такимъ страш-
нымъ образомъ, мстить женщинѣ, отравляя чистую душу ребенка,—него-
дяй, которому нѣтъ названія!.. Все, что въ моихъ силахъ, въ моей власти,
все будетъ направлено къ тому, дабы оградить Гермеса отъ этихъ кле-
ветническихъ открытокъ. Зачѣмъ разбивать свѣтлыя иллюзіи юноши?..
Развѣ можно?.. Это было-бы величайшимъ грѣхомъ!.. Я вашъ вѣрный
сообщникъ, госпожа Сарифи. Можете смѣло на меня положиться...
— Да?.. Вы сочувствуете мнѣ, мистеръ Меллеръ?.. Вы поняли мое
материнское сердце?.. Я буду вашей вѣчной, вѣчной неоплатной должни-
цею... Я не знаю, какъ...
— бі —
— Но съ однимъ условіемъ,—перебилъ директоръ.—Съ однимъ усло-
віемъ! Я долженъ знать имя этого человѣка... этого негодяя... Я настолько
возмущенъ, настолько сочувствую вамъ, что при томъ положеніи, которое
занимаю,—почемъ знать,—мог}' незамѣтно и въ то же время весьма осяза-
тельно дать заслуженный урокъ мерзавцу... Словомъ, это необходимо.
— Мистеръ Меллеръ... Вы такъ окрылили меня, я такъ вамъ вѣрю,
что не буду скрывать. Этотъ человѣкъ—офицеръ германской миссіи капи-
танъ Куртъ фонъ Раухъ.
— Капитанъ Куртъ-фонъ-Раухъ!—воскликнулъ директоръ.
У Бранки что-то сжалось въ груди, — такую рѣзкую перемѣну уви-
дѣла она въ этомъ сѣдомъ, бритомъ старикѣ. Предъ нею сидѣлъ другой
человѣкъ, замкнувшійся, похолодѣвшій, какъ ледъ. И теперь уже не со-
чувствіе въ его глазахъ, а осужденіе.
— Извините меня, госпожа Сарифи, но я отказываюсь вѣрить... Ка-
питанъ Куртъ-фонъ-Раухъ лично извѣстенъ мнѣ. Я знаю его какъ талант-
ливаго офицера, безукоризненной репутаціи, съ блестящимъ будущимъ на
которое онъ имѣетъ полное право разсчитывать... Капитанъ Куртъ-фонъ-
Раухъ неспособенъ писать анонимныя письма... Я этого не допускаю. Слы-
шите, не до-пу-ска-ю!..
Это было произнесено сухо, рѣзко, почти приказывающе. Куда дѣ-
вался учтивый, приторно-любезный мистеръ Меллеръ, восхищавшійся до-
бродѣтелями „господина банкира".
Но и у Бранки, въ свою очередь, какъ рукою сняло покаянную
слабость. Она довѣрилась этому іезуиту, — иначе не назовешь его, — онъ
выпыталъ все, обернулся волкомъ въ овечьей шкурѣ, и—вотъ результатъ!..
Онъ обвиняетъ ее во лжи?!.
Горячая кровь гайдука-дѣда, рѣзавшаго въ горахъ турокъ, броси-
лась въ лицо Бранкѣ. И гордо поднявъ голову, она молвила гнѣвно:
— Мистеръ Меллеръ! Вы не имѣете права говорить со мною та-
кимъ тономъ! Если я приписываю всю эту грязь упомянутому чело-
вѣку, — значитъ это дѣйствительно такъ!.. И не можетъ быть никакихъ
сомнѣній!..
— Довольно, госпожа Сарифи. Я ничего не хочу больше слушать.
Я—педагогъ, наставникъ юношества и желаю быть только имъ. Романы и
пикантныя исторіи матерей моихъ питомцевъ- -это уже область, отъ кото-
рой я хочу быть подальше. Я идейный поборникъ того, чтобъ отцы и
матери воспитывающихся у меня мальчиковъ были внѣ всякихъ подозрѣ-
ній... Яблоко отъ яблони...
— Молчите!..
Взглядъ Бранки случайно упалъ на кабинетный портретъ Вильгельма,
портретъ съ автографомъ, красовавшійся въ широкой рамѣ на видномъ
мѣстѣ письменнаго стола. Бранка вспомнила портретъ кайзера въ пріем-
ной, вспомнила не совсѣмъ чистое англійское произношеніе директора,
вспомнила, какъ онъ сбросилъ лицемѣрную маску при одномъ имени Рауха,
и сознаніе, что передъ нею вовсе не мистеръ Меллеръ, а герръ Мюллеръ,
одинъ изъ нѣсколькихъ милліоновъ, живущихъ въ Америкѣ Мюллеровъ,—
обожгло ее вихремъ. Уходя, она такъ и сказала:
— До свиданья, герръ Мюллеръ!.. Теперь я понимаю, почему вы взяли
такъ горячо сторону капитана Рауха... Понимаю... Онъ вашъ компатріотъ...
Герръ Мюллеръ, я умѣю быть слабой, но и умѣю быть сильной... Если
&2
на то пошло, я возьму своего сына изъ вашего... вашего... американскаго
колледжа, гдѣ повсюду имѣются портреты кайзера Вильгельма...
Багровый весь, съ трясущимся подбородкомъ, герръ Мюллеръ покло-
нился, шипя гадюкою...
— Имѣю честь кланяться, госпожа Сарифи... Имѣю честь кланяться...
16. Инфанта въ черномъ
— Неужели они всѣ такіе, художники?..
Когда они остались вдвоемъ въ бѣломъ съ мраморными колоннами
залѣ, обыкновенно холодномъ и мрачномъ, а теперь согрѣтомъ теплыми,
розоватыми потоками утренняго солнца, Беркутовъ попросилъ Бранку:
— Мадамъ Сарифи, я буду стоять здѣсь, а вы медленно пройдете
мимо меня, шагахъ въ десяти... Такъ... Еще медленнѣй... Остановитесь!..
Идите прямо на меня... Вотъ такъ!.. Довольно... Стойте на мѣстѣ. Вы не
въ духѣ?.. Вамъ грустно?.. Не по себѣ?.. Это хорошо... Хорошо потому,
что какъ разъ именно то, чего я ищу...
Бранка смотрѣла, недоумѣвая. И хотя послѣ вчерашней бесѣды съ
герръ Мюллеромъ у нея остался тягучій, непріятный, гнетущій осадокъ,
она не могла сдержать легкой, какъ погасающій лучъ, улыбки.
— Вамъ странно?.. И для перваго впечатлѣнія, — пожалуй, смѣню.
„Пройдите, станьте... Повернитесь"... Но я не могу иначе. Это ремеслен-
ники сажаютъ модель и начинаютъ сразу писать. Это не искусство, не
творчество. Это фотографія!.. Такъ работать—нудно. Я не могу... Въ порт-
ретѣ всегда должно быть движеніе. И поэтому я изучаю свою натуру сна-
чала въ движеніи. У васъ много плавности... Какая-то глубокая пѣвучесть
линій... У васъ есть черное, совсѣмъ черное платье?..
— Есть...
— Будьте добры переодѣться... Вамъ пойдетъ строгая, черная гамма...
Пойдетъ очень! И это на фонѣ бѣлаго зала и бѣлыхъ колоннъ должно
быть чрезвычайно эффектно...
— Хорошо...—покорно согласилась Бранка.- А вы не пройдете ли къ
Милану, пока я переодѣнусь?
— Миланъ еще спитъ. Я поднимался къ нему. Мы оба засидѣлись
вчера. Сначала были въ „Пти-Шанъ". Вотъ учрежденіе!.. Тамъ вышелъ
грандіозный скандалъ, и мы перекочевали потомъ въ кафэ Пера-Паласъ.
Бранка вернулась въ строгомъ, черномъ, глухомъ платьѣ. Дѣйстви-
тельно, вся фигура получалась такимъ величественно-суровымъ пятномъ
на свѣтломъ фонѣ околичностей. И такъ въ стилѣ съ этой черной гаммою
было блѣдное, съ удлиненнымъ оваломъ и съ тонкими чертами лицо.
— Великолѣпно!.. Великолѣпно!.. — восхищался художникъ, всматри-
ваясь въ Бранку, поперемѣнно прищуривая то одинъ, то другой глазъ...—
Великолѣпно!.. Современный туалетъ мы упразднимъ... Черезъ десять лѣтъ
это будетъ вышедшій изъ моды анахронизмъ. Переходящія моды недавняго
прошлаго—всегда немного смѣшны. А портретъ долженъ быть вѣченъ. Я
изображу васъ Кастильской инфантой. Такое же платье, черное, но еще
болѣе глухое, длинное, съ пышными буфами на рукавахъ... Это должно
быть мрачно. Клерикальная Испанія не знала яркихъ цвѣтовъ. При дворѣ—
въ особенности. Испанскіе Бурбоны и Габсбурги ходили почти всегда во
— 6з
всемъ черномъ. Вспомните веласкезовскіе портреты?.. Я дамъ одинокую
вашу фигуру на фонѣ парка... Въ видѣ контраста съ черной гаммой—
бѣлый мраморъ фонтана... Надо будетъ показать осень... Первое дуновеніе
осени... И на фонѣ ея—тоскующую инфанту...
— Я стара для инфанты, — молвила тихо Бранка, заинтересованная
этимъ небанальнымъ замысломъ...
— Ничуть! Правда, онѣ выходили замужъ пятнадцатилѣтними... Но
бывали исключенія... Какой-нибудь рыцарь, дерущійся съ маврами подъ
стѣнами Гренады или уѣхавшій въ Америку вмѣстѣ съ конквистадорами
за счастьемъ, кровавыми подвигами и золотомъ, овладѣлъ ея помыслами,
ея сердцемъ, и вотъ, она ждетъ... его возвращенія... Тоскуетъ... Одинокая,
гордая... Вамъ нравится?..
— Очень. Это уже не портретъ, а цѣлая картина...
— Тѣмъ лучше!.. Изъ Италіи я привезъ съ собою этюды старинныхъ
фонтановъ... Можно будетъ выбрать самый стильный, самый живописный...
Кой-гдѣ проросъ влажно-серебристый, зеленоватый мохъ... печать вѣковъ...
Ахъ, я весь полонъ этимъ портретомъ! Я не встрѣчалъ болѣе благородной
модели... Никогда еще съ такимъ подъемомъ, съ такимъ волненіемъ не
приступалъ ни къ одному портрету... Никогда!..
Свѣтлые дѣвичьи глаза художника, такъ не идущіе къ его аккуратно
подстриженной бородѣ, вспыхнули восторгомъ, смутившимъ Бранку... Ей
было пріятно, что этотъ извѣстный художникъ восхищается ею, восхи-
щается искренно, и, въ то же время, какое-то другое, жуткое чувство на-
полняло душу холодкомъ и тревогою...
— Зачѣмъ, зачѣмъ „это" все? — мелькало у нея... Если-бы спросить
Бранку, что она разумѣетъ подъ туманнымъ неопредѣленнымъ „это",—
сама не сказала бы. „Это"—можно угадать, смутно ощутить, — слова же
безсильны и бѣдны.
Оба не замѣтили, какъ на своихъ коротенькихъ ножкахъ, перевали -
ваясь жирнымъ торсомъ, вкатился пухлый, огненно-красный банкиръ.
— Я умираю отъ голода!.. Сегодня, вопреки вѣчнымъ разъѣздамъ,
я прогулялся пѣшкомъ... Встрѣтилъ старшаго совѣтника германскаго по-
сольства, барона Рауша-фонъ-Траубенбергъ... Минутъ десять мы очень
мило болтали съ нимъ... Оказывается, движеніе германской арміи на вос-
токъ и на западъ превратилось въ тріумфальное шествіе. Да, да!.. Занятъ
Парижъ, занятъ Петербургъ...
— Чья это нелѣпая фантазія расписала вамъ такіе подвиги нѣмецкой
арміи?—насмѣшливо спросилъ Беркутовъ, убѣдившійся со вчерашняго дня,
что банкиръ, несмотря на свои милліоны,—„юмористическій элементъ", съ
которымъ церемониться особенно нечего.
Агамемнонъ, — какъ съ гуся вода, — словно не было между нимъ и
Бранкою непріятнаго объясненія, галантно разлетѣлся къ ручкѣ жены. И,
цѣлуя нѣсколько разъ съ причмокиваніемъ эту руку, съ длинными, кра-
сивыми пальцами, которую хотѣли отъ него выдернуть, бросалъ на лету
художнику:
— Это не фантазія!., (чмокъ...). Это подвиги настоящіе... (чмокъ...).
Дипломаты не сочиняютъ... (чмокъ...). Это мнѣ сказалъ самъ баронъ...
(чмокъ...).
— Будетъ, довольно!.. — прошептала Бранка, выдернувъ, наконецъ,
руку изъ-подъ этихъ липнущихъ, слюнявыхъ, шутовскихъ поцѣлуевъ.
— 64 —
— Ого!.. Тебѣ не нравится мое вниманіе?.. Ужъ не хочешь ли ты
превратить меня изъ Агамемнона въ Менелая?.. Изъ Агамемнона въ Ме-
нелая,—это сказано!.. — И банкиръ самъ разсмѣялся собственному остро-
умію - А вотъ и Миланъ!.. Миланъ, ты навѣрное былъ вчера въ Пти-Шаиъ
и, натурально, былъ свидѣтелемъ безобразнаго скандала, учиненнаго
этимъ сумасшедшимъ черкесомъ?..
— Мы были вдвоемъ съ мосье Беркутовымъ. II все это произошло
въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насъ. Могу тебя увѣрить, что сумасшедшій
черкесъ—не виноватъ.
— Какъ не виноватъ?.. Мнѣ говорили...
— Кто говорилъ? Совѣтникъ германскаго посольства, за длинными
шагами котораго ты едва поспѣвалъ?
— А ты почемъ знаешь?--просіялъ банкиръ, довольный, что Миланъ
видѣлъ его вдвоемъ съ такой почтенной особою.
— Я любовался этой трогательной картиной изъ окна своей миссіи...
А если ты хочешь знать подробности, безъ тенденціозной окраски, — из-
воль!.. Нѣмцы все время держали себя вызывающе, особенно эта под-
гнившая спаржа—Турнъ-и-Таксисъ... Онъ былъ пьянъ и до послѣдней
степени наглъ... Выхватилъ даже саблю... Затѣмъ онъ подошелъ къ сто-
лику турецкихъ офицеровъ, подошелъ съ сигарой въ зубахъ, руки въ кар-
манахъ. Онъ придрался къ Зауръ-бсю, и мы слышали, какъ онъ сказалъ
ему вь концѣ-концовъ:—„Я плюю на честное слово турецкаго офицера"...—
Послѣ этого сумасшедшій черкеса» угостилъ его двумя великолѣпными
оплеухами... Это было сдѣлано такъ методически, спокойно, профессорски,
что будь я частнымъ лицомъ, а не представителемъ Сербіи, я охотно ему
поаплодировалъ бы... Но за меня и за себя это сдѣлалъ корреспондентъ
Г* „Фигаро", Шарль-Аманъ.
— Что было дальше?..
— Дальше, Турнъ-и-Таксисъ, помотавшись длиннымъ тѣломъ своимъ,
вдругъ растянулся... Нѣмцы вскочили, выхватили револьверы. Противъ
нихъ остался одинъ черкесъ... Собутыльники, весь вечеръ угощавшіеся его
шампанскимъ, разбѣжались самымъ позорнымъ образомъ... Но это не
обезкуражило черкеса. Онъ крикнулъ нѣмцамъ, что уложитъ на мѣстѣ
перваго, кто сдѣлаетъ хоть малѣйшее движеніе... Однако, это не предо-
твратило свалки. Нѣмцы бросились къ Зауру. Онъ отбивался рукояткою
револьвера. На помощь къ нему кинулся этотъ несравненный Шарль Ам-
манъ, боксеръ и силачъ. Бѣдная гастролерша Элла-Стэлла обратилась на
— сценѣ въ вопросительный знакъ. Никто не догадался опустить занавѣсъ...
Публика застыла... Банда штатскихъ нѣмцевъ бросилась на помощь къ
своимъ офицерамъ... Въ этотъ моментъ погасло вдругъ электричество и
воцарился кромѣшный мракъ. Свалка продолжалась въ темнотѣ. Слыша-
лись крики, удары, съ трескомъ летѣли столы... Нѣмцы рычали... Только
минуты черезъ двѣ вспыхнуло опять электричество. Мы увидѣли картину,
достойную кисти лучшаго баталиста... Полный разгромъ!.. Нѣсколько нѣ-
мецкихъ тушъ лежало на полу. Капитанъ Куртъ фонъ-Раухъ успѣлъ
скрыться, уведя съ собой двухъ-трехъ товарищей. А Шарль Амманъ, какъ
ни въ чемъ не бывало, уже сидѣлъ вмѣстѣ съ нами, улыбаясь невиннѣй-
шимъ образомъ и хвастаясь нѣсколькими разбитыми физіономіями... Во-
ображаю... Отъ такихъ кулаковъ, какъ у него,—не поздоровится!.. Но эф-
фектенъ финалъ... Во время этой перепалки Турнъ успѣлъ наполовину
65
5
придти въ себя... Встать у него не хватало силъ, и онъ остался сидѣть
на полу, качая головою, какъ китайскій болванчикъ... Зауръ протянулъ
ему свою карточку. Турнъ машинально взялъ ее, безсмысленно разсма-
тривалъ... А черкесъ, придерживая саблю, ушелъ медленной, эластической
походкою горца. Это было великолѣпно!..
— Такъ ли это было?—усумнилея банкиръ.
- Именно такъ! А если не вѣришь мнѣ, вотъ тебѣ живой свидѣ-
тель... указалъ Рашичъ на Беркутова.
Эпизодъ, воспроизведенный мосье Рашичемъ, документально точ-
ный,—подтвердилъ Беркутовъ.
Агамемнонъ покачалъ головою.
Безобразіе!.. Послѣ этого нельзя никуда ходить... Того и гляди,
нарвешься на скандалъ... Но чѣмъ же это все кончится? Старшій совѣт-
никъ говорилъ мнѣ, что будетъ произведено самое строгое разслѣдованіе
и на этотъ разъ сумасшедшему черкесу влетитъ самымъ основательнымъ
образомъ...
— Что и говорить,- проклятые нѣмцы здѣсь въ силѣ. Энверъ, лакей-
ствуя передъ ними, обвинитъ, пожалуй, во всемъ Заура... Но этотъ мо-
лодчикъ сумѣетъ постоять за себя!.. Любопытно, пошлетъ ли ему Турнъ
своихъ секундантовъ? Пари готовъ держать, что не пошлетъ.
— Я думаю то же самое...—замѣтилъ художникъ.
И я,—присоединилась Бранка.
Дуэль?—поморщился банкиръ,—глупо!
Глупо?—передразнилъ его Миланъ.—А какъ бы ты поступилъ на
его мѣстѣ, расписавшись въ полученіи двухъ пощечинъ?..
- Для этого существуетъ судъ... Мало ли что...
- Это съ точки зрѣнія глубоко-штатскаго банкира. Но вѣдь Турнъ—
офицеръ, потомокъ владѣтельныхъ князей... Носитъ мундиръ...
А кто мѣшаетъ ему ходить въ штатскомъ? Въ особенности по
этакимъ заведеніямъ, какъ Пти-Шанъ...
— Ну, съ тобой не сговоришься...
И, повернувшись къ банкир)^ своей широкой спиною, Миланъ спро-
силъ художника:
На чемъ же вы остановились? Каковъ будетъ портретъ?
Беркутовъ нѣсколькими словами, образно, красиво набросалъ идею
портрета картины.
- Поэтично... Весьма поэтично...—одобрилъ Миланъ.
Неправда ли?—подхватила Бранка.—Меня захватило...
Въ водянистыхъ, съ красными жилками, глазахъ банкира — полное
разочарованіе.
— А гдѣ же мраморныя колонны, мраморная лѣстница?.. Гдѣ трэнъ?..
- Ихъ не будетъ,—скрѣпилъ Беркутовъ.—Развѣ не утѣшаетъ васъ
мраморный фонтанъ? Это стоитъ колоннъ и лѣстницъ... И не такъ трафаретно.
— Вы думаете?..
Увѣренъ!..
— Что-жъ, пусть будетъ по вашему... Мое дѣло — платить! Я дово-
ленъ, что моя жена будетъ въ костюмѣ инфанты... Однако, господа, мы
заболтались, насъ ждетъ завтракъ... Сегодня будетъ служить новый лакей.
Я голоденъ адски!.. Я никогда не хожу пѣшкомъ и, вотъ, благодаря
встрѣчѣ...
66
Со старшимъ совѣтникомъ посольства, барономъ съ трудно про-
износимой фамиліей, и такъ далѣе —мы это слышали... Идемъ!..
И Миланъ подтолкнулъ банкира по направленію столовой...
17. Каждый по своему.
Вѣсть о побоищѣ въ Пти-Шанъ разнеслась по город}’ съ удивитель-
ной быстротою. Заговорили повсюду объ этомъ. Заговорили на другое-
же утро.
Въ мусульманскихъ кварталахъ замѣчалось повышенное ожи-
вленіе.
Торговцы крытаго деревомъ, напоминающаго лабиринтъ, „безистана"
(рынка), въ которомъ можно было легко запутаться, сидя на корточкахъ,
потягивая кальянъ, радовались:
— Наконецъ-то нашъ офицеръ посбавилъ спѣси у .этихъ обнаглѣв-
шихъ гяуровъ!..
Шушукались между собою, офицеры... Шушукались многозначительно.
Правда, они всѣ были увѣрены, что сумасшедшій черкесъ, въ концѣ-кон-
цовъ, сломаетъ себѣ на нѣмцахъ шею. II теперь ему не сносить головы.
Но про себя они торжествовали...
Зауръ-бей отомстилъ... Одинъ за всѣхъ, отомстилъ за тѣ униженія,
что повсюду и вездѣ подвергались турки со стороны свопхъ-же наемни-
ковъ. Разумѣется, наемниковъ, ибо эти бѣлобрысые пришельцы съ выпя-
ченною грудью, получаютъ жалованье и какое жалованье!--изъ кошелька
Блистательной Порты.
Въ глупомъ и непріятномъ положеніи очутился генералъ Лиманъ
фонъ-Сандерсъ, начальникъ военной миссіи. Это уже второй скандалъ за
его кратковременное пребываніе на „голубомъ" Босфорѣ.
Первый случился за нѣсколько мѣсяцевъ,—а можетъ быть и больше,
до войны.
Нѣсколько офицеровъ миссіи, вмѣстѣ съ двумя дочерьми Сандерса,
поѣхали кавалькадою по направленію къ Санъ Стефано. Дорогой встрѣ-
тилась имъ кучка турецкихъ аскеровъ. Германскіе офицеры, воспитывавшіе
своихъ солдатъ въ желѣзной муштрѣ, разсердились, что турки плохо и
небрежно отдали имъ честь. Позабывъ, что имѣютъ дѣло съ мусульманами,
и что это не берлинская казарма-застѣнокъ, нѣмцы давай вразумлять
аскеровъ стэками и хлыстами изъ гиппопотамовой кожи. Такое обращеніе
не понравилось туркамъ. Они атаковали нѣмцевъ, стащили ихъ съ сѣделъ,—
заодно сволокли и обѣихъ дѣвицъ,—и всю эту компанію жестоко избили
прикладами.
Русская, французская и англійская печать правдиво описала въ свое
время этотъ „скверный анекдотъ" во всей его красѣ. Генералъ Сандерсъ
гонялся съ револьверомъ за корреспондентомъ газеты „Матэнъ". Но дикая
юнкерская выходка эта лишь подлила масла въ огонь и скандалъ значи-
тельно округлился, обогатившись новой пикантной подробностью.
Солдатъ судили полевымъ судомъ, избитые германскіе офицеры ото-
сланы были „нахъ-фатерландъ", и самъ начальникъ ихъ едва-едва уцѣлѣлъ
на мѣстѣ.
А теперь, не угодно-ли, второй скандалъ, болѣе громкій, такъ какъ
б7
разыгрался передъ нѣсколькими сотнями зрителей. II, главное, когда? На-
канунѣ выступленія Турціи!..
Сандерсъ пришелъ въ неистовство. Ранехонькпмъ утромъ, въ семь
часовъ, онъ потребовалъ къ себѣ, князя Турна. Сіятельный скандалистъ
спалъ ѵ себя въ Пера-Паласѣ мертвецки-пьянымъ сномъ. Насилу добуди-
лись! Прямо съ постели, онъ какъ встрепанный бросился подъ холодный
душъ н .минутъ десять упругая струя студеной воды возвращала ему со-
знаніе и человѣческій обликъ. Турнъ спѣшилъ. Его колотило двойной
дрожью... Во-первыхъ,—съ похмѣлья, а, во-вторыхъ, отъ сознанія грозя-
щей головомойки. Деньщикъ, одѣвавшій своего господина, получилъ нѣ-
сколько, чрезвычайно осязательныхъ, зуботычинъ.
Наконецъ, умытый, съ невысохшими рѣденькими волосами, затянутый
въ мундиръ, предсталъ набѣдокурившій лейтенантъ предъ грозныя гене-
ральскія очи. Дѣйствительно, грозныя... Полинялые, выцвѣтшіе, съ перла-
мутровыми бѣлками, глаза Сандерса готовы были выскочить, метали молніи...
Все лицо, потасканное, четырехъугольное, съ дряблыми щеками— одинъ
сплошной гнѣвъ. Свинцово-сѣдые усы съ большими густыми подусниками,—
ходуномъ ходили, какъ живые...
Съ мѣста въ карьеръ—Сандерсъ огрѣлъ вытянувшагося передъ нимъ
офицера:
Что вьі надѣлали, чортъ васъ подери!.. Нечего сказать, хорошо
блюдете престижъ германскаго офицера! Въ публичномъ мѣстѣ, на гла-
захъ враждебныхъ намъ дипломатовъ и журналистовъ, вамъ набили морду...
Какъ послѣднему прохвосту какому-нибудь...
— Ваше превосходительство, я не...
— Молчать!—ударилъ кулакомъ по столу генералъ.—Я говорю, а не
вы!.. Какое безобразіе!.. Потомка владѣтельныхъ князей, который своимъ
титуломъ долженъ украшать миссію, отлестали по щекамъ... А онъ, вмѣсто
того, чтобъ застрѣлить обидчика, хватить его по черепу саблей, растя-
нулся во весь свой дурацкій ростъ. Зачѣмъ вы полѣзли къ туркамъ?..
Зачѣмъ, спрашивается?..
— Ваше превосходительство, они первые стали пасъ задѣвать...
— Неправда! Не лгите!.. И Раухъ, и Притвицъ-Лауницъ—они были
твезвѣе васъ, — показываютъ другое. Какой-то бѣсъ все время толкалъ
васъ затѣять скандалъ. Раухъ останавливалъ васъ?
— Можетъ быть... не помню...
— Вы ничего не помните... Вы напиваетесь, какъ свинья...
— Виноватъ, ваше превосходительство... Я, кажется, дѣйствительно,
увлекся...
— Онъ „кажется, дѣйствительно, увлекся"... Какой толкъ въ вашихъ
извиненіяхъ?.. Теперь вы — посмѣшище! Теперь вы немыслимы здѣсь, съ
вашей битой физіономіей... Что вы думаете предпринять?
— Не знаю. Я еще не подумалъ объ этомъ...
Не знаете! А безобразничать знаете? Единственный выходъ, хотя
это въ сущности, вовсе не выходъ—поединокъ! Это хоть немного можетъ
скрасить эту глупую и постыдную...
При словѣ, „поединокъ" у Турна задрожали колѣни. Храбрый лейте-
нантъ слышалъ, что черкесъ превосходный стрѣлокъ, а на сабляхъ дерет-
ся и того лучше.
68
Генералъ презрительнымъ взглядомъ смѣрила» всего Турна, всего —
съ головы и до кончиковъ лакированныяі> ботинокъ.
Посмоірѣли-бы на себя въ зеркало?.. Того п г.ъли, хватить васъ
медвѣжья, болѣзнь... Если вы теперь трусите, то подъ дуломъ пистолета
уже, навѣрное, перепачкаете свои рейтузы .. Итакъ, дуэль отпадаетъ. Она
не подниметъ вашу репутацію, а, наоборотъ, окончательно ее уронитъ.
Что мнѣ дѣлать съ этимъ болваномъ?., хрустѣлъ пальцами Сандерсъ, ища
выхода... Выхода не было...
— Самое лучшее для васъ, — укладывайте ваши чемоданы и берите
билетъ прямого сообщенія до Берлина... Я посылаю васъ курьеромъ къ
военному министру... Кстати, накопилось нѣсколько срочныхъ бумагъ... А
тамъ васъ куда-нибудь сплавятъ. Пошлютъ на фронтъ, что-ли. Здѣсь оста-
ваться - нельзя! Ни одной минуты!.. Я могъ-бы принудить васъ послать
ему секундантовъ... Но, повторяю, изъ этого, кромѣ срама, ничего не
выйдетъ. И если-бъ этотъ сумасшедшій черкесъ прострѣлилъ вашъ мѣд-
ный лобъ,—это дало-бы ему лишніе лавры, что вовсе не въ моихъ инте-
ресахъ... Ступайте!.. Соберитесь! Поѣздъ уходить въ часъ дня. Черезъ
сорокъ минутъ вамъ будетъ присланъ пакетъ на имя военнаго министра...
Князь Турнъ-и-Таксисъ, звякнувъ шпорами, сдѣлалъ полный оборотъ
въ три темпа и вышелъ.
Во всякомъ случаѣ, онъ дешево отдѣлался. Правда, онъ потерялъ
честь, но за то сберегъ жизнь. Жизнь дороже! Въ концѣ-концовъ, гене-
ралъ, хотя и былъ грубъ, какъ солдатъ, но до нѣкоторой степени „спасъ
положеніе". Спасъ мундиръ. Въ другихъ арміяхъ битые офицеры, не по-
требовавшіе удовлетворенія,—уходятъ въ отставку.
„Все хорошо, что хорошо кончается", - утѣшилъ себя напослѣдокъ
сіятельный отпрыскъ владѣтельнаго рода, украшающій именемъ своимъ
страницы „Готскаго альмаха".
Что и говорить.. Онъ попал ь въ скверную исторію, затормозится,
пожалуй, карьера; но судьба,—ничего не подѣлаешь...
Прослуживъ на Востокѣ два съ половиною мѣсяца, князь Турнъ-и-
Таксисъ успѣлъ сдѣлаться убѣжденнымъ фаталистомъ...
Зауръ-бей жилъ въ кавалерійскихъ казармахъ.
Младотурки, охваченные реорганизаціоннымъ пыломъ въ области
военнаго дѣла и военной техники, настроили за послѣдніе годы много
новыхъ казармъ, большая часть которыхъ, послѣ воины, досталась гре-
камъ, болгарамъ и сербамъ.
Но казармы полка, гдѣ Зауръ-бей командовалъ эскадрономъ, распо-
ложенныя среди кварталовъ Скутарійскаго берега, были типичныя ту-
рецкія казармы эпохи Абдулъ-Азиса, строившаго дворцы сказочнаго вели-
колѣпія, но пальцемъ не шевельнувшаго для арміи.
Запущенныя, облупившіяся, кое-гдѣ даже треснувшія зданія, вѣрнѣе,
цѣлый рядъ корпусовъ, флигелей и конюшенъ, опоясывали квадратный
дворъ, во всѣ времена года исполняющій обязанности манежа.
У воротъ — двѣ круглыя глинобитныя, съ кровлею въ видѣ купола,
башенки. II у каждой -по часовому.
Нехотя, лѣниво молодой офицеръ Эминъ, щеголеватый берлинскій
воспитанникъ, гонялъ вокругъ двора „смѣну". Смуглые, разбойничьяго
в ’да всадники, на худыхъ, отощавшихъ отъ хронической безкормицы ло-
шадяхъ, мѣрно приподнимаясь на строевой рыси, болтали между собою
— 69 —
Эскадронъ почти наполовину состоялъ изъ черкесовъ, преданныхъ
своему командиру Зауръ-бею особенной мусульманской преданностью,
способной толкнуть на самыя безумныя выходки.
Солдаты знали о происшествіи минувшаго вечера, знали, что военное
начальство, желая угодить нѣмцамъ, не задумается передъ < амымъ стро-
гимъ взысканіемъ. На худой конецъ, Зауръ бея посадятъ въ крѣпость, на
лучшій,—переведутъ въ одинъ изъ глухихъ мессопотамскихъ гарнизоновъ.
Солдаты рѣшили ни за что не дать въ обиду своего командира. И, если
на то пошло, и его арестуютъ, они готовы отбить его силою. И съ утра
заряжены были карабины боевыми патронами...
Высокій, съ виду настоящій абрекъ, взводный унтеръ-офицеръ Хас-
санъ постучался къ Зауръ-бею:
— Пусть эффенди не безпокоится. Ни одинъ волосъ не долженъ
упасть съ его головы... А случись, не дай Аллахъ, что либо,—мы зальемъ
кровью, если не половину Стамбула, то по крайней мѣрѣ четверть... Пер-
яый эскадронъ всему голова! Къ намъ примкнутъ и остальные. Будетъ
потѣха!.. Ни одинъ изъ нѣмецкихъ гяуровъ не уйдетъ живымъ. Всѣ кля-
немся на этомъ именемъ Пророка!..
Зауръ-бей зналъ, что любятъ его солдаты. Но такой преданности,
готовой на всякія жертвы, до разстрѣла, включительно, этого онъ никакъ
не ожидалъ. И это глубоко его тронуло...
Онъ хлопнулъ унтеръ-офицера по плечу и щекою коснулся его ще-
щи,—такъ цѣлуются кавказскіе мусульмане, считающіе зазорнымъ цѣло-
ваться въ губы.
- Благодарю, Хассанъ!.. И тебя, и весь эскадронъ. Думаю, что врядъ-
ли со мною случится худое... Бывалъ и не въ такихъ передѣлкахъ... Но,—
береженаго Богъ бережетъ... Мнѣ весело и пріятно сознавать, что за моей
спиною шестьдесятъ паръ твердыхъ рукъ держатъ шестьдесятъ заряжен-
ныхъ карабиновъ... Въ другой столицѣ — это смѣшная угроза. Но здѣсь,
въ Стамбулѣ,—съ этимъ нельзя не считаться...
Не снимая руки своей съ Хассанова плеча, Зауръ-бей задумался, на-
морщивъ лобъ и теребя черный, уже сѣдѣющій, усъ.
Слушай, Хассанъ, вотъ что... Я видѣлъ въ окно... Эминъ гоняетъ
смѣну?..
Точно такъ, эффенди...
— Отставить! Скажи Эмину, что я приказалъ... Выстроиться эскад-
рону справа по шести... Сто пятьдесятъ боевыхъ патроновъ на человѣка...
Зарядить карабины.
Они заряжены, эффенди.
— Тѣмъ лучше... Я желаю сдѣлать съ вами небольшой кавалерійскій
пробѣгъ,—улыбнулся Зауръ-бей.
Хассанъ отвѣтилъ ему лукавой усмѣшкой головорѣза • абрека, и
отдавъ честь, вышелъ исполнять приказаніе.
„Съ такими людьми не страшно",—подумалъ „Сумасшедшій черкесъ".
Онъ, вообще, ничего не боялся...
Въ ожиданіи, Зауръ-бей сталъ измѣрять шагами по діагонали, взадъ
и впередъ, свою комнату, все убранство которой заключалось въ коврахъ
и въ низенькой оттоманкѣ; со смятымъ одѣяломъ и постельнымъ
бѣльемъ.
Онъ ждалъ, что его позовутъ въ полковую канцелярію, къ телефону.
70
Но его не позвали къ телефону. Къ нему лично пріѣхалъ старшій
адъютантъ военнаго министра, полковника Джеллаэдинъ-эффенди, супругъ
той самой дамы съ миндалевидными глазами, что сидѣла вчера въ ложѣ,
когда Беркутовъ, заинтересованный ею, спросилъ, кто она такая, а Миланъ
отвѣтилъ:
— Это жена одного изъ убійцъ Махмудъ-Шевкетъ паши.
И въ самомъ дѣлѣ, внѣшностью своею Джеллаэдинъ - зффен ди напо-
миналъ палача. Плотный, коренастый, безъ намека на шею, съ малень-
кими свирѣпыми глазками, массивнымъ лицомъ, тяжелымъ подбородкомъ
и громаднымъ, чуть не до ушей ртомъ,—лучшаго грима не придумать для
наемнаго убійцы.
Грудь „убійцы" украшена была вся орденами, включительно до звѣзды
Османіе, полученной имъ „за Махмудъ-Шевкетъ-пашу".
18. Справа по шести...
Джеллаэдинъ-эффенди, превратившись изъ обыкновеннаго артиллерій-
скаго офицера въ старшаго адъютанта всесильнаго военнаго министра,
весьма и весьма возгордился...
Это выражалось у него въ медлительности, и безъ того тяжелой,
крѣпко сколоченной туши и,—это уже совсѣмъ своеобразно,—въ сомнѣньи...
Онъ сопѣлъ, поводя громаднымъ, мясистымъ носомъ. Онъ думалъ
свысока отчитать Заура, прежде, чѣмъ объявить требованье министра.
— Что ты надѣлалъ, безумецъ! Когда ты, наконецъ, угомонишься?
Или тебя исправитъ одна только развѣ могила?..
Черкесъ теперь не могъ наставленій. Онъ подошелъ вплотную къ
увѣшанному орденами полковнику.
— Чего тебѣ хотѣлось-бы?.. Чего? Чтобъ я подставилъ нѣмцамъ свою
физіономію и ту часть тѣла, въ которую ударяютъ колѣномъ. Слуга по-
корный!.. Я предпочитаю самъ бить!.. Ну, а теперь, въ чемъ дѣло? Меня
требуетъ Энверъ?
— Тебя требуютъ Энверъ паша и Талаатъ-бей... Дѣло слишкомъ
серьезное...
— Такъ что распутывать его будутъ цѣлыхъ два министра. Чудесно,
я готовъ!.. Впрочемъ, не совсѣмъ... Одну минуточку... Можешь присѣсть,
можешь курить. Папиросы лежатъ на столѣ.
Любимцу Энвера не понравилось такое свободное обращеніе строе-
вого офицера, да еще къ тому-же въ чинѣ ротмистра. Джеллаэдинъ уже
былъ отравленъ заискиваньемъ и лестью. Онъ засопѣлъ пуще прежняго,
увидѣвъ, что Зауръ снаряжается совсѣмъ какъ въ походъ. Стянувъ свою
гибкую, тонкую талію кавказца широкимъ поясомъ, черкесъ пристегнулъ
къ нему кожаный кобуръ съ автоматическимъ десятизаряднымъ пистоле-
томъ. Къ другому поясу, подъ мундиромъ, онъ прицѣпилъ саблю, надѣлъ
черезъ плечо полевой бинокль.
— Что это значитъ?—спросилъ полковникъ.
— Ничего!.. Со вчерашняго дня еще, я объявилъ на сегодня эскад-
рону небольшой кавалерійскій пробѣгъ. Вотъ мы и соединимъ непріятное
съ полезнымъ. Согласись, что выговоръ начальства—перспектива не осо-
бенно изъ пріятныхъ?..
- 7і —
Самъ вѣроломный и низкій, воспитанный въ предательскихъ интри-
гахъ тайниковъ кровавой политики Востока, Джеллаэдинъ-эффенди сразу
почуялъ что-то неладное.
Маленькіе глазки тревожно забѣгали на мясистомъ, грубомъ и топор-
номъ лицѣ.
Какіе тамъ еще пробѣги!.. Мнѣ велѣно доставить тебя сейчасъ-же...
Начинаются обычные твои фокусы. Но у меня это не будетъ имѣть
успѣха... Внизу ждетъ автомобиль, въ которомъ я долженъ тебя доставить...
— Джеллаэдинъ, не говори глупостей... Зауръ-бея нельзя „доставить".
Онъ предметъ одушевленный... Что-же касается способа передвиженія, то
я его самъ выбралъ...
Джеллаэдинъ помоталъ головою, какъ медвѣдь, вставшій на заднія
лапы у своей, оцѣпленной охотниками, берлоги.
— Въ такомъ случаѣ, я пойду въ канцелярію, къ телефону...
— Телефонъ испорченъ!..
— Я желаю въ этомъ самъ убѣдиться...
Полковникъ шагнулъ къ двери, но на его пути уже стоялъ Зауръ-
бей съ перекошеннымъ лицомъ и гнѣвно округлившимися глазами.
— Телефонъ испорченъ, говорятъ тебѣ!.. II ты долженъ вѣрить!.. Не
суетись... Выйдемъ вмѣстѣ...
Старшій адъютантъ военнаго министра багрово покраснѣлъ отъ
злости. Рука скользнула гдѣ-то за спиною, въ задній карманъ формен-
ныхъ красныхъ панталонъ съ черными широкими лампасами.
Но Зауръ уже успѣлъ вынуть свой автоматическій пистолетъ.
— Ты —неуклюжъ! Я проворнѣй тебя. Вынь руку!.. Забудь про Мах-
мудъ-Шевкетъ пашу... Это не всегда удается... Ступай впереди меня!..
Оба офицера вышли, спустились на двор. , гдѣ полковника ждалъ
автомобиль, а Заура- его вороной конь Кара-Мустафа.
Эскадронъ стоялъ готовой колонною, справа по шести. Вскочивъ па
лошадь однимъ упругимъ, цѣпкимъ прыжкомъ и, уже сидя въ сѣдлѣ, при-
вычнымъ движеніемъ ногъ поймавъ стремена, Зауръ-бей сказалъ подъ-
ѣхавшему Эмину:
— Ты свободенъ... Я самъ поведу эскадронъ... Ступай на Перу, от-
пусти саблю пониже... Пусть волочится, какъ распустившійся хвостъ пав-
лина... Выбери себѣ какую-нибудь красотку... по вкусу... Женщины утромъ
всегда интереснѣй... Онѣ какъ-то особенно стучатъ по панели каблучками
и выглядятъ бодрѣй, вымытыя, свѣжія... Это чертовски пикантно...
Эминъ молча, весь недоумѣнный, коснулся рукою алой новенькой
фески.
— А ты,—обратился черкесъ къ адъютанту,—поѣзжай на своей ма-
шинѣ впереди эскадрона... II... не особенно удаляйся. Мы пойдемъ на
крупныхъ рысяхъ. Мы должны прибыть съ тобой одновременно. Если же
ты вздумаешь торопиться...
Массивный полковникъ утратилъ на время даръ слова, утратилъ спо-
собность думать... Онъ могъ только повиноваться,- такъ загипнотизиро-
валъ его „Сумасшедшій черкесъ", своей дерзостью ударившій его по во-
ображенію. А между тѣмъ, удивить Джеллаэдина было трудно. Чего-чего
онъ только не видѣлъ?.. На его глазахъ убивали министровъ, во время
засѣданія совѣта, и даже онъ самъ убивалъ...
Несуразное, хаотическое зданіе министерства внутреннихъ дѣлъ по-
72
мѣшалось на глухой, въ гору идущей улицѣ. У воротъ часовые. Авто-
мобиль въѣхалъ во дворъ, выѵощенный крупнымъ булыжникомъ, неровный
дворъ, и вслѣдъ, стройной и живой, какъ одно гармоничное существо,
колонною всадниковъ съ винтовками за спиною, влился, именно влился,
эскадронъ.
Зауръ-бей приказалъ своимъ людямъ спѣшиться и держать лошадей
въ поводу.
А черкесу Хассану шепнулъ:
— Кабинетъ министра находится гамъ... Видишь? Три окна... Если
я выстрѣлю въ окно, это будетъ сигналомъ. Оставивъ пять-шесть коно-
водовъ, бросайтесь туда всѣ...
Джеллаэдинъ-эффенди съ трудомъ вылѣзъ изъ автомобиля, скованный
какимъ-ко знобящимъ оцѣпенѣніемъ. Зауръ-бсю пришлось ободрять его.
— Пойдемъ, дрз^жище. То все спѣшилъ, а теперь отстаешь. Пой-
демъ!..—и онъ крѣпко взялъ его подъ руку. Пусть вся эта сволочь ду-
маетъ, что мы съ тобой закадычные друзья...
Дѣйствительно, (ресокъ высыпало па дворъ видимо-невидимо. Вся че-
лядь, всѣ тунеядцы, вся чиновничья мелкота, въ изобиліи слоняющаяся по
темнымъ, запутаннымъ коридорамъ министерства, хлынула изъ нѣсколь-
кихъ подъѣздовъ, привлеченная страннымъ зрѣлищемъ... Эскадронъ кава-
леріи ни съ того, ни съ чего, очутился во дворѣ министерства внутрен-
нихъ дѣлъ. Именно, какъ разъ въ то время, когда въ кабинетѣ Талаата
находился еще и Энверъ. И, главное, привелъ этотъ эскадронъ за собою
„Сумасшедшій черкесъ", вызванный для расправы за свое вчерашнее раз-
бойное поведеніе... Чиновники, писцы, тунеядцы, уличные адвокаты и пи-
саки прошеній и кляузъ, блѣдные, въ заношенныхъ воротничкахъ, шушу-
кались между собою...
А сверху надъ ними къ стекламъ одного и того же окна прильнули
головы двухъ министровъ. И если вся тѣснившаяся внизу мелкота и ме-
люзга лишь недоумѣвала, то оба сановника струхнули не на шутку. Во
всякомъ случаѣ, тотъ олимпійски-суровый разносъ, что готовъ былъ об*
рушиться на забубенную голову черкеса, утратилъ и свой эффектъ, и свою
силу, охлажденный „душемъ" изъ шестидесяти спѣшенныхъ кавалеристовъ.
Зауръ бей . налъ, на что идетъ. Онъ учелъ авантюристическую пси
хологію обоихъ министровъ, схватившихъ свои портфели руками съ не-
высохшей кровью. Такіе господа сами вѣчно ждутъ нападенія, балансируя
на тоненькой жердочкѣ, протянутой надъ бездной...
Вдвоемъ, какъ два брата, вошли Зауръ съ адъютантомъ въ большую
пріемную, гдѣ за столомъ сидѣлъ молодой дежурный чиновникъ въ сюр-
тукѣ съ иголочки, съ моноклемъ и въ фескѣ.
Наконецъ-то обрѣлъ Джеллаэдинъ даръ слова и обратился къ де-
журному чиновнику:
— Доложите его превосходительству, господину военному министру,
что я доставилъ капитана конно-карабинернаго полка Зауръ-бея.
Это „я доставилъ", нелѣпое и смѣшное послѣ всего, что было и въ
казармахъ, и на пути — вызвало у черкеса веселую усмѣшку.
Чиновникъ скрылся за тяжелой, съ массивной бронзовой ручкой,
дверью. Черезъ минуту вышелъ.
— Можно войти!..
Талаатъ-бей, этотъ выскочка рагѵѳпи, ошалѣвшій отъ иежданно-нега-
73
данно свалившихся на него власти и денегъ, эта вчерашняя мелкая сошка
Салоникскаго почтамта, закатилъ себѣ умопомрачительный въ смыслѣ
тяжелой аляповатой безвкусицы кабинетъ. Да и самъ онъ тяжелый, аля-
повый, не по годамъ тучный, съ бѣлымъ, круглымъ лицомъ—очень мало
похожъ на турка. Обыкновенно сытаго, спѣсиваго выраженія — какъ не
бывало. Талаату большого труда стоило замаскировать овладѣвшій имъ
животный страхъ Сидя въ креслѣ, пухлыми, бѣлыми руками, плебейскими
руками безъ „костей" и суставовъ, онъ поправлялъ феску... На лбу вы-
ступила легкая царапина.
Энверъ-паша держалъ себя куда съ большимъ достоинствомъ. Иска-
тель приключеній съ ногъ до головы, вся карьера котораго была цѣпью
удачныхъ, кровавыхъ случаевъ, онъ и самъ былъ готовъ ко всевозмож-
нымъ случайностямъ.
И когда Зауръ-бей вошелъ въ кабинетъ, военный министръ, занявшій
позицію у одного изъ оконъ, „игралъ"- какъ бы взвѣшивая на ладони,—
браунингомъ.
Энверъ-паша невысокъ, пропорціонально сложенъ. За миніатюрно-
стью его стройной фигуры чувствуется сила. Онъ красивъ, смазливой,
приторной красотою нашихъ ялтинскихъ проводниковъ—татаръ. Усы, за-
дорно торчащіе вверхъ,—слишкомъ явное подражаніе усамъ Вильгельма.
Зауръ-бей отдалъ честь спокойно, пожалуй, даже очень спокойно, съ
достоинствомъ.
Джеллаэдинъ-эффенди, глотая аршинъ, вынеся впередъ тяжелый, гру-
бой плотничьей работы, подбородокъ, отрапортовалъ на весь кабинетъ:
— Господинъ министръ, имѣю честь донести, что согласно возложен-
ному на меня порученію, доставилъ ротмистра конно-карабинерскаго полка
Зауръ-бея.
Черкесъ насмѣшливо скосила, углы глазъ на полковника. Джеллаэдинъ-
эффенди, отрапортовавъ, засопѣлъ... Военный министръ, кивнувъ его пре-
зрительно-ласково, жестомъ велѣлъ опустить руку.
— Что это такое?—спросилъ Энверъ черкеса, указывая въ окно по
направленію спѣшенныхъ, развернутыхъ всадниковъ.
— Мой эскадронъ, господинъ министръ.
— Я вижу, что это вашъ эскадронъ. Я не слѣпой! Но развѣ я его
вызывалъ вмѣстѣ съ вами.
— Никакъ нѣтъ... Но я его взялъ вмѣстѣ съ собой. Отсюда я намѣ-
ренъ сдѣлать съ моими людьми небольшой пробѣгъ.
— Откуда у васъ такое служебное рвеніе. Зауръ-бей?
— Я всегда считался хорошимъ строевымъ офицеромъ, господинъ
министръ.
— Вы говорите,—отсюда. Какъ вы можете знать, что съ вами будетъ.
И куда васъ отправятъ „отсюда". Въ особенности, послѣ вчерашняго.
Можетъ быть, я отошлю васъ „отсюда" подъ конвоемъ прямо въ крѣпость!..
Понимаете, въ крѣпость!.. Чтобы вы понесли суровое наказаніе, огуломъ,
за все... И за дикую драку въ шантанѣ, переполнившую чашу моего без-
конечнаго терпѣнія...
— Господинъ министръ этого не сдѣлаетъ.
— Почему?..—вспыхнулъ Энверъ.—Ужъ не думаете ли вы, черкесы...
Люди, непризнающіе никакихъ законовъ...
— За то люди, отлично владѣющіе оружіемъ, если... если на нихъ не
74
нападаютъ предательски, какъ это было съ Назимъ-пашою...—подхватилъ
Зауръ.
Энверъ закусилъ губы... Ладонь, на которой онъ подбрасывалъ не-
большой, напоминающій стальной портсигаръ браунингъ, задрожала...
Министръ и офицеръ обмѣнялись долгимъ и тяжелымъ, до острой
боли въ зрачкахъ, взглядомъ...
Въ тишинѣ, напряженной, тягучей, слышно было, какъ сопитъ пол-
ковникъ Джеллаэдинъ.
Энверъ-паша первый опустилъ глаза, какъ-то вкось, вѣрнѣе отвелъ...
19. Тріумфъ и отчаяніе.
Отдать справедливость,—гимнастическій залъ оборудованъ былъ въ
американскомъ колледжѣ на славу. Получилось впечатлѣніе спортивнаго
клуба, особеннаго, цѣломудреннаго клуба юношей, гдѣ не пьютъ, не ку-
рятъ, не играютъ въ карты и, если говорятъ о женщинахъ, то украдкою,
гдѣ-нибудь въ углу, тихимъ шепотомъ.
Къ главному залу съ параллельными брусьями, кольцами, трампли-
нами, вертикальными шестами и лѣстницами, примыкали другіе, поменьше,
фехтовальный, атлетическій, — съ цѣлыми пирамидами штангъ и разнаго
вѣса гантелей и, наконецъ, квадратный, для борьбы, съ мягкимъ ковромъ
и такой-же обивкою стѣнъ, до высоты человѣческаго роста.
Въ свободные отъ классныхъ занятіи часы, здѣсь всегда полно... Звонъ
мальчишескихъ голосовъ, мелькаютъ въ воздухѣ полуобнаженныя тѣла юно
шей и, еще совсѣмъ пока не сложившихся дѣтей и ясно и четко продѣлываютъ
самыя трудныя упражненія сильные, крѣпкіе юноши въ томъ переходномъ
возрастѣ, когда подростокъ незамѣтно уже формируется въ молодого
человѣка.
Въ смыслѣ наибольшаго тяготѣнія къ тому, или другому спорту,
сказывалась раса, угадывалось безошибочно происхожденіе воспитанниковъ.
Французовъ, скорѣй мелкихъ, чѣмъ крупныхъ, порывистыхъ, уверт-
ливыхъ, больше всего тянуло въ фетховальный залъ. И тамъ въ кожаныхъ
шлемахъ, переходившихъ въ сѣтчатыя маски, они дрались на рапирахъ и
эспадронахъ. Стремительные выпады и броски тѣлъ смѣнялись сухими
ударами и лязгомъ. Нѣмцы,- они преобладали въ колледжѣ,—увлекались
атлетикой, главнымъ образомъ, тяжелой. Рыхлые, бѣлотѣлые, съ твердыми
выстриженными затылками нѣмцы часами ставили рекорды выжиманія,
выбрасыванья, выталкиванья, „вырыванія".
Съ чисто нѣмецкимъ терпѣніемъ они часами потѣли и пыхтѣли, ра-
ботая увѣсистыми, — его увеличивали съ каждымъ днемъ, вѣсъ, — штан-
гами.
Идеаломъ этихъ юношей было нагулять внѣшность профессіональ-
ныхъ, подвизающихся на аренахъ и эстрадахъ „королей гирь и желѣза".
Они взапуски тренировались, нагуливали бицепсы, предплечьи, спинные и
грудные мускулы, другъ передъ другомъ ревниво щеголяя бычачьими, съ
каждымъ днемъ раздувавшимися шеями.
Они съ удовольствіемъ замѣчали, какъ, по мѣрѣ тренировки, стано-
вятся узкими воротнички и взамѣнъ уже негодныхъ, тѣсныхъ, покупались
новые, пошире на два, три сантиметра.
75
Смуглыхъ, бронзовыхъ итальянцевъ интересовала больше всего акро-
батика. Въ этой области они въ колледжѣ не знали себѣ соперниковъ.
Многіе достигли такого совершенства въ прыжкахъ съ трамплина, въ двой-
ныхъ сальтомортале, въ легкой работѣ на кольцахъ и на трапеціи, что
хоть сейчасъ на арену заправскаго цирка.
Сложены они были правильнѣй, граціознѣй и гармоничнѣй воспитан-
ковъ всѣхъ другихъ націй.
Англичане и американцы, — этихъ вторыхъ было меньше всего въ
„американскомъ" келледжѣ, почти никогда не выходила изъ синяковъ,
царапинъ и кровоподтековъ и горделиво носили на своихъ лицахъ весь
этотъ результатъ чрезмѣрнаго увлеченія боксомъ.
Наименѣе спортивнымъ элементомъ были зачатые въ нѣгѣ и лѣни
Востока турки, армяне и греки.
Нужно-ли говорить, что въ колледжѣ процвѣтало соревнованіе къ
физической силѣ. И тѣми, кто имѣлъ на это право, оспаривалось званіе
чэмпіона. Оспаривалось двояко,—либо въ состязаніяхъ въ атлетикѣ,—кто
больше выжметъ, подыметъ, либо во французской борьбѣ, кто первымъ
ляжетъ на обѣ лопатки.
Воспитанники,—спортсмэны,—они всѣ были, такъ или иначе, спорт-
смэны, давно хотѣли стравить въ борьбѣ двухъ товарищей нѣмца Фур-
мана и Гермеса. Первый былъ гордостью седьмого, послѣдняго класса.
Гермесъ—шестого. И в..>тъ, наконецъ, поединокъ этихъ двухъ „чэмпіоновъ"
состоялся.
Фурманъ былъ серьезный и даже опасный противникъ Гермесу.
Когда ихъ взвѣсили, Фурманъ оказался тяжелѣе Гермеса на цѣлыхъ во-
семнадцать килло. И немудрено. Фурманъ былъ значительно плотнѣе и
выше ростомъ на четверть головы. Да и мускулатура его, хотя и значи-
тельно уступала пластической мускулатурѣ Гермеса, за то была массив-
нѣй, тверже, мощнѣе.
Воспитанники, шутя, называли предстоящую борьбу „схваткою двухъ
милліонеровъ". Отецъ Фурмана, имѣвшій нѣсколько солидныхъ торгово-
промышленныхъ предпріятій, и въ самомъ Константинополѣ, и въ Малой
Азіи, былъ, пожалуй, богаче банкира Агамемнона Сарифи.
ГІ вотъ соперники очутились другъ противъ друга, въ маленькихъ
трусикахъ, съ обнаженными торсами и ногами. Кругомъ толпился цѣли-
комъ весь шестой и седьмой классъ. Особнякомъ,—выбранные судьи. Ар-
битръ—„нейтральный" итальянецъ Альбертинелли, сухой, какъ струда, смуг-
лый, ходитъ по ковру со свисткомъ наготовѣ.
Между американцами и англичанами уже завязываются пари. Охот-
ники ставить за Фурмана преобладаютъ, потому что большинство увѣрено
въ его побѣдѣ.
Въ самомъ дѣлѣ, съ перваго взгляда на сторонѣ его много шансовъ.
Крупный для своихъ лѣтъ, Гермесъ кажется рядомъ съ нимъ хрупкимъ и
жиденькимъ, не смотря на свою пластику юнаго, античнаго борца. Благо-
родная рѣзкость чертъ. Крутые завитки волосъ пружинятся надъ чистымъ
лбомъ.
Казалось,—Фурманъ въ первую-же минуту раздавитъ, сломаетъ всей
своей тяжестью противника. Самъ Фурманъ въ этомъ не сомнѣвался. И
стоялъ увѣренный въ себѣ, неподвижный, какъ гранитная глыба.
Съ повадкою настоящаго профессіональнаго борца, чуть коснувшись
— 76 —
протянутой руки Гермеса, онъ вдругъ обрушился на него тяжеловѣсными
атаками. Отъ могучихъ толчковъ Фурмана, Гермесъ леталъ по всем}’
ковру, самъ не нападая и заботясь объ одномъ лишь, — только-бы про-
держаться, пока противникъ начнетъ уставать.
Нѣсколько разъ до потери дыханія замиралъ шестой классъ, видя съ
ужасомъ, что его репутація на волоскѣ. Нѣсколько разъ Фурманъ ставилъ
Гермеса въ отчаянное, даже безвыходное положеніе. Въ особенности,
когда изловчившись, схватилъ его на прямой поясъ и высоко взметнулъ
вверхъ, въ чаяніи положить эффектнымъ броскомъ.
Но Гермесъ затрепеталъ, отчаяннымъ движеніемъ рванулся впередъ
и Фурманъ, потерявъ равновѣсіе, упалъ на коверъ вмѣстѣ со своею ношею.
мигъ назадъ седьмой классъ рукоплескалъ, торжествуя несомнѣнную
побѣду своего чэмпіона. Теперь, шестой разразился громомъ апплодис-
ментовъ.
Альбертинелли пронзительно свиснулъ, увидѣвъ, что клубокъ изъ
двухъ тѣлъ расплелся и борцы откатились другъ отъ друга.
— Опять въ стойкѣ!.. Фурманъ- борьба строго любительская, джеп-
тсльмэнская... Ударные пріемы недопустимы... Это не циркъ...
Первыя десять минутъ Гермесъ сознательно выматывалъ Фурмана,
только-только защищаясь, лишь-бы уйти невредимымъ отъ его могучихъ
захватовъ.
Но когда Фурманъ уходился немного и заботливо, какъ слѣдуетъ
вытертый во время перерыва мохнатымъ полотенцемъ одного изъ судей,
вновь обильно вспотѣлъ—Гермесъ, сухой и свѣжій, только съ покраснѣв-
шимъ отъ ударовъ и грубыхъ захватовъ противника тѣломъ, перешелъ
въ наступленіе.
Но и уставшій Фурманъ все-же безъ особеннаго труда отбивалъ всѣ»
его стремительные наскоки, имѣвшіе цѣлью поймать перваго силача седь-
мого класса на какой-нибудь неожиданный пріемъ.
Опи тѣснили другъ друга, пядь за пядью, сплетались въ цѣпкихъ
объятіяхъ, работали въ партерѣ, беря поперемѣнно верхъ.
Уже и Гермесъ началъ дышать тяжело. Еще нѣсколько минутъ и
онъ въ свою очередь вымотается... И если Фурманъ его не броситъ,
схватка можетъ затянуться ни въ чью.
Зрителей, да еще такъ жгуче заинтересованныхъ финаломъ, разби-
рало нетерпѣніе.
Разгоряченная, азартная, съ блестящими глазами, толпа молодежи гу-
дѣла. Судьямъ поминутно приходилось осаживать назадъ увлекшихся,
зарвавшихся впередъ зрителей.
— Господа, нельзя-же такъ... Надо расширить кругъ... А вы его
суживаете!..
— Не мѣшайте людямъ бороться...
Кто-то изъ седьмого класса закричалъ:
— Сарифи убѣгаетъ... Нельзя убѣгать!.. А если не хватаетъ силъ,
тебѣ запишутъ пораженіе...
— Это не бѣгъ взапуски подхватилъ тучный краснощекій нѣмецъ.
Дѣйствительно, Гермесъ, отбивъ съ трудомъ яростную аттаку Фур-
мана, желавшаго ущемить его на передній поясъ,—нѣмецъ не отличался бо-
гатствомъ пріемовъ,--бросился бѣжать по кругу. Фурманъ за нимъ... Гер-
месъ неожиданно остановился. Фурманъ налетѣлъ вплотную, готовый
— 77 —
облапить его мертвой хваткой. Гермесъ неуловимо быстрымъ движеніемъ
откинулъ назадъ руки, схватилъ Фурмана за голову и стремительно упалъ
на одно колѣно... Большой и тяжелый Фурманъ, по инерціи, мелькнувъ
ногами, описалъ всѣмъ тѣломъ дугу... И не успѣлъ опомниться, затрепы-
хаться, какъ Гермесъ налегь на чего грудью, вдавливая широкую Фурма-
нову спину въ коверъ.
Побѣда вышла столь-же для всѣхъ неожиданной, сколь и блестящей.
Седьмой классъ встрѣтилъ ее недовольнымъ, разочарованнымъ гуломъ,
шестой — криками восторга. А свистокъ арбитра низалъ, какъ лезвіемъ
остраго ножа весь этотъ хаотическій шумъ.
Фурманъ вскочилъ, взбѣшенный, красный и, совсѣмъ уже какъ ярма-
рочный атлетъ, полѣзъ на судей чуть-лп не въ драку, съ поднятыми ку-
лаками.
— Это неправильно! Я себя не считаю побѣжденнымъ!.. Мошенниче-
скій пріемъ... Это швиндель... Я требую продолженія схватки...
— Правильно. Самый законный туръ-де-тэтъ...
— И вдобавокъ великолѣпный, классическій!..
Гермесъ, по джентльмэнскимъ правиламъ борьбы, довѣрчиво протя-
гивалъ Фурману руку.
- Пошелъ ко всѣмъ чертямъ! окрысился Фурманъ. И съ повадкою
опять-таки балаганнаго силача, вмѣсто руки, протянулъ побѣдителю свою
голую, крѣпкую ногу въ мягкомъ шнурованномъ башмакѣ.
Долой!.. Хамство!.. Фурманъ хамитъ по обыкновенію!..
Шестиклассники, поднявъ своего тріумфатора десятками рукъ, тор-
жественно понесли его въ громадную уборную, напоминающую термы, съ
нѣсколькими ваннами, бассейномъ для плаванья, твердыми кушетками для
массажа и разными системами душей.
Гермесъ, такъ высоко поднявшій знамя своего класса, остылъ не
много, принялъ холодный, освѣжающій душъ. Весь онъ былъ такой бод-
рый, ликующій! Онъ одѣвался, едва успѣвая отвѣчать на вопросы возбу-
жденныхъ, вспотѣвшихъ, словно они сами боролись, товарищей.
Ему сказали, что былъ телефонный звонокъ изъ директорскаго каби-
нета въ гимнастическій залъ... Мистеръ Меллеръ требуетъ его къ себѣ.
Гермесъ вошелъ въ кабинетъ мистера Меллера. Вошелъ весь во
власти только-что пережитаго,—борьбы, трудной, наполняющей гордостью
побѣды, и душа, отъ котораго такъ пріятно горѣла вся кожа...
Директоръ не отвѣтивъ на его поклонъ, сухо спросилъ:
— Чем}’ вы радуетесь?
Гермесъ молчалъ, удивленный этимъ вступленіемъ... Онъ привыкъ къ
другому отношенію мистера Меллера, всегда ласковаго, обходительнаго...
Встрѣтивъ его гдѣ-нибудь на корридорѣ, мистеръ Меллеръ ободряюще
трепалъ по плечу, интересуясь здоровьемъ отца, прося передать поклонъ.
И это было всего лишь два дня назадъ. А теперь,—такой ледяной пріемъ.
Между тѣмъ, за эти два дня Гермесъ ни въ чемъ не успѣлъ провиниться...
— Чему вы радуетесь? — повторилъ еще болѣе враждебно и сухо
директоръ. Во всякомъ случаѣ, я думаю, ваше настроеніе значительно
понизится... На ваше имя получилось какое-то открытое письмо. Соблаго-
волите ознакомиться съ его содержаніемъ... Что это такое?.. Въ моемъ
колледжѣ это первый случай... Вотъ...
И мистеръ Меллеръ почти швырнулъ Гермесу открытку.
- 78 -
Юноша сталъ читать... Съ первыхъ-же словъ, первыхъ-же строкъ,—
похолодѣвшій, пораженный... И когда прочелъ, наполовину, смутно овла-
дѣвъ смысломъ этихъ циничныхъ намековъ на чуждую сму грязь грубыхъ
животныхъ человѣческихъ отношеній,—онъ опустилъ руки съ дрожащей
въ пальцахъ открыткой... II былъ блѣденъ и погасли за минуту сверкаю-
щіе огнемъ веселые глаза юноши. Ему почудилось, что изъ него уходить
вся жизнь и внутри его и кругомъ, удушливая пустота и мракъ...
А розовый, бритый, въ густыхъ напоминающихъ парикъ сѣдинахъ,
мистеръ Меллеръ улыбался, оскаливъ обѣ вставныя челюсти...
20. Тучи сгущаются...
Беркутовъ забылъ о томъ, какъ его тянуло въ Россію, забылъ, какъ
на теплыхъ берегахъ Неаполитанскаго залива тосковалъ по своей далекой,
необъятной родинѣ, охваченной кровавымъ заревомъ.
Канадецъ напомнилъ ему:
А вы и не собираетесь домой! И не думаете объ отъѣздѣ...
Странно! Какъ поэтически говорили вы тогда на палубѣ о томъ, что
Россія зоветъ насъ тысячами властныхъ зововъ и, повинуясь имъ,—вы
спѣшите...
— Дорогой! Не бросайте въ меня камнемъ осужденія!—съ какой-то
подкупающей кротостью въ дѣвичьихъ глазахъ своихъ просилъ Берку-
товъ.—Увѣряю васъ, въ любой данный моментъ я всегда искрененъ... Я
художникъ, существо настроеній и впечатлѣній. И насколько искренно
хотѣлось мнѣ домой, чтобъ какъ-нибудь пріобщиться къ великой войнѣ,
вы совершенно вѣрно вспомнили мою исповѣдь тогда на палубѣ, настолько
я теперь искрененъ въ своемъ желаніи остаться... У меня душа мимозы...
Не сочтите, Бога ради, это сравненіе претенціознымъ кокетничаньемъ...
Еще тогда я позавидовалъ вашей цѣльной и сильной натурѣ, которая
знаетъ, чего она хочетъ, чего добивается... Вотъ, вы весь день въ хлопо-
тахъ, въ самой напряженной работѣ. Но у васъ всегда найдется часокъ,
другой посидѣть въ кафэ за стаканомъ вина...
Шарль Амманъ дѣйствительно не терялъ понапрасну своего драго-
цѣннаго времени, щедро оплачиваемаго богатой парижской газетою.
Онъ широко понималъ свою роль военнаго корреспондента. Пони-
малъ ее на американскій ладъ, не ограничиваясь однимъ только „выгоня-
ніемъ строкъ" по поводу текущихъ событій.
Онъ самъ окунулся съ головою въ водоворотъ событій.
Съ трубочкой въ зубахъ въ своемъ спортсмэнскомъ костюмѣ, съ
головы до ногь „человѣкъ страны долларовъ", канадецъ бродилъ по на-
бережной съ повадкою Шерлока-Холмса, высматривая и вынюхивая...
Это онъ, Шарль Амманъ, раньше всѣхъ дипломатическихъ агентовъ
узналъ, что Германія прислала черезъ Румынію и Болгарію туркамъ два-
дцать восемь „скорострѣлокъ" Гочкиса.
Изучая нравы трущобъ Галаты, Амманъ успѣлъ свести знакомство
съ темными личностями. Онъ давалъ деньги, а они платили ему высмо-
трѣннымъ и подслушаннымъ. Эти оборванцы нанимались по разгрузкѣ,
съ каждымъ днемъ все больше и больше прибывающей контрабанды, и
79
Амманъ получалъ самыя точныя цифры количества винтовокъ, снарядовъ,
пулеметовъ, орудій, патронныхъ ящиковъ.
Во французскомъ, англійскомъ и отчасти въ русскомъ посольствахъ
Амманъ съ первыхъ же дней сталъ незамѣнимымъ человѣкомъ. Еще бы!
Платная развѣдка профессіональныхъ агентовъ поблѣднѣла, утратила
всякій интересъ съ появленіемъ на константинопольскомъ горизонтѣ этого
бритаго, отчаяннаго молодца, поспѣвавшаго вездѣ и повсюду.
Для трущобныхъ отбросовъ, потерявшихъ человѣческій обликъ,
этихъ людей—будемъ ихъ называть людьми,—ножа, пьянаго скандала и
горсти монетъ, какой угодно цѣною добытыхъ—для нихъ Шарль-Амманъ
сталъ кумиромъ. Въ темныя души этой рвани, этого хулиганья, онъ все-
лялъ какую-то разбойничью преданность.
Да и не могло быть иначе! Онъ такъ плѣнительно презиралъ опас-
ность и такъ однажды основательно искалѣчилъ своими желѣзными ку-
лаками кинувшагося на него съ ножомъ забіяку Седуха, считавшагося
грозою Галаты, что грубыя, одичалыя, давно проросшія плѣсенью и мо-
хомъ сердца воспылали какой-то идолопоклоннической нѣжностью къ
этому канадцу, который жилъ въ первоклассномъ отелѣ, въ карманахъ
котораго всегда звенѣли „наполеоны" и который не боялся ходить въ
любое время ночью по такимъ подозрительнымъ, липкимъ и грязнымъ
притонамъ, куда не смѣли годами заглядывать турецкіе заитіи и жандармы.
Черезъ этихъ, служившихъ ему собачьей преданностью, людей, Амманъ
узналъ, что въ германскомъ и австрійскомъ посольствахъ тайно органи-
зуется набѣгъ македонцевъ-болгаръ на сербскую территорію съ главной
цѣлью прервать желѣзнодорожное сообщеніе Салоники—Нишъ, другими
словами, отрѣзать Сербію не только отъ союзниковъ, но и отъ всего
внѣшняго міра. ,
Помимо болгаръ, въ эти „четы" вербовалась,—кто во что гораздъ,—
всякая сволочь. Амманъ и подсылалъ своихъ „рыцарей чужого кошелька"
въ австрійское посольство, гдѣ всѣхъ „добровольцевъ" принимали съ
распростертыми объятіями, снабжая ихъ оружіемъ и деньгами.
На константинопольскихъ улицахъ появились „македонскіе войводы",
грязные, нечесанные люди, кто въ пиджакѣ, кто въ болѣе живописномъ
„обще-балканскомъ" костюмѣ. Войводы, желая придать, себѣ елико воз-
можно воинственный видъ, таскали за собою повсюду „манлихеръ", а за
поясомъ, или въ кобурѣ, каждый имѣлъ по большому револьверу.
Все это жадное воронье, идущее за тѣмъ, кто больше и щедрѣе
платитъ, всѣ эти длинноволосые, дикаго вида „наемные убійцы" слетѣлись
въ Царьградъ, какъ въ штабъ-квартиру австро-германской развѣдки на
Балканахъ,—въ чаяніи поживиться...
Одного изъ этихъ вой водъ Беркутовъ хотѣлъ зарисовать въ альбомъ.
Узнавъ, что художникъ- русскій, бородатый, весь утыканный патро-
нами Ангелъ Іовчсвъ посмотрѣлъ па него далеко неблагожелательнымъ
взглядомъ и спросилъ:
- А колико ты мнѣ плятишь?..
Это вышло довольно мерзко. Художникъ поспѣшилъ разстаться съ
македонскимъ войводою. Беркутовъ никогда не зналъ счета деньгамъ...
Но его покоробила безцеремонность неумытаго балканскаго разбойника...
Беркутовъ разсказалъ объ этой встрѣчѣ Милану.
Миланъ отъ души смѣялся.
8о
— До чего это похоже на болгаръ!.. Эти люди шагу не ступятъ да-
ромъ!.. Помните первую балканскую войну? Мы перевозили изъ-подъ
Адріанополя на родину кости и прахъ павшихъ за болгарское дѣло на-
шихъ солдатъ и офицеровъ... Софійское правительство взыскало съ насъ
по тарифу нѣсколько тысячъ франковъ. Дѣло не въ этой бездѣлицѣ, а
въ лишней черточкѣ, весьма характерной для нашихъ „союзниковъ"! Ви-
дѣть не могу этихъ войеводъ! Заплатите имъ франкомъ дороже, и они съ
удовольствіемъ вырѣжутъ свое-же собственное болгарское правительство.
Слава Богу, эти грязные типы не будутъ больше мозолить мнѣ глаза...
Я со дня на день жду назначенія въ Петроградъ старшимъ секретаремъ
посольства.
— Какъ, вы уѣзжаете?
Миланъ значительно посмотрѣлъ на него.
— Другъ мой, если-бъ я не получилъ назначенія въ Петроградъ,—
все равно уѣхалъ бы въ Сербію. Вы художникъ, витаете въ облакахъ и
не видите, что дѣлается кругомъ. Съ каждымъ днемъ все сгущаются
тучи... Турки ждутъ изъ Берлина сигналъ къ выступленію. Уже на нашей
кавказской границѣ сосредоточено семь, или восемь турецкихъ корпусовъ...
Каждый часъ можно смѣло ожидать начала военныхъ дѣйствій... И тогда...
тогда не поздоровится всѣмъ, застрявшимъ въ Турціи: англичанамъ, рус-
скимъ, французамъ, бельгійцамъ и сербамъ!.. Нѣмецкіе агенты взбунтуютъ
пригорошнями серебра турецкую чернь и начнутся поджоги, убійства, вар-
варскія массовыя избіенія... Вы не имѣете понятія, что такое разгоряченная
толпа фанатиковъ-мусульманъ? Для нея мѣтъ „психологическихъ момен-
товъ", мгновеннаго отрезвленія, по волѣ одного человѣка. Она идетъ
слѣпо, какъ судьба, какъ стихія, гудитъ, постъ протяжно, какъ бунтующее
море, и тогда нѣтъ никому пощады...
Ужасъ отразился въ свѣтлыхъ, дѣвичьихъ глазахъ Беркутова. Но
не за себя испугался, нѣтъ. Воображеніе, думающее красками и пятнами,
нарисовало ему картину... Толпа черни въ яркихъ лохмотьяхъ и въ крас-
ныхъ фескахъ... Тѣсно запрудили всю улицу, отъ края до края. И на этомъ
фонѣ, рѣзкимъ, чернымъ силуэтомъ, безпомощно, съ побѣлѣвшимъ какъ
мраморъ лицомъ,—Бранка...
Онъ спросилъ дрожащимъ отъ волненія голосомъ:
А какъ же сестра ваша, мадамъ Сарифи? Неужели останется
здѣсь? Кто порукою, что домъ вашего бо-фрера не подвергнется
нападенію? Господинъ Сарифи хотя и турокъ, но женатъ на сербкѣ
и, кромѣ того, есть негодяи въ прусскихъ мундирахъ, интригующіе про-
тивъ вашей сестры... Мало ли что... Ее могутъ оскорбить на улицѣ...
могутъ...
Миланъ задумался, уронивъ на грудь свою крупную голову.
Я самъ имѣлъ это въ виду, самъ тревожился... Вы стали намъ
близкимъ, роднымъ... Отношенія между супругами, за послѣднее время
обострившіяся,—не секретъ... Развѣ это жизнь для Бранки?.. Она мучится,
бѣдная. Мнѣ мелькала мысль и ее взять съ собой въ Петроградъ... Со-
гласится ли?.. А вдругъ этотъ гороховый шутъ Агамемнонъ заартачится
и не отпуститъ вмѣстѣ съ нею сына. Безъ Гермеса же она не уѣдетъ...
Семейная жизнь сплетаетъ иногда мудреные узлы, которые вовсе не такъ
легко распутать...
Миланъ былъ правъ. Семейный узелъ въ банкирскомъ особнякѣ на
81
6
Перу сплетался—въ Гордіевъ узелъ. Либо не развязать совсѣмъ, либо надо
разсѣчь, однимъ взмахомъ. Другого нѣтъ выбора.
Въ этотъ вечеръ, когда Гермесъ, послѣ борьбы съ Фишеромъ, дол-
женъ былъ вернуться къ обѣду, Бранка была сама не своя. Инстинктъ, осо-
бенный, материнскій инстинктъ, иногда близкій къ ясновидчснскимъ откро-
веніямъ, подсказалъ ей какую-то глухую тревогу. II она ждала Гермеса,
ждала съ нетерпѣніемъ и въ то же время такъ хотѣлось отдалить
встрѣчу!..
Онъ пришелъ подавленный весь, съ блѣдно-желтымъ лицомъ, онъ,
такой обыкновенно цвѣтущій, розовый...
И, цѣлуя руку матери, не могъ поднять глазъ. Бранка не смѣла спро-
сить, что съ нимъ? Не смѣла, хотя не было никакихъ сомнѣній... Мел-
леръ отомстилъ ей... Онъ показалъ Гермесу письмо*... И навѣрное еще
издѣвался надъ мальчикомъ... Подлый, весь пропитанный лицемѣріемъ
іезуитъ!..
Отецъ, мало обращавшій вниманіе на Гермеса, не замѣтилъ въ немъ
перемѣны. Банкиръ плоско и громко шутилъ, каталъ хлѣбные шарики.
Милану бросилось, что племянникъ молча, какъ приговоренный, си-
тидъ за столомъ, ничего не ѣстъ.
Онъ спросилъ:
— Что съ тобою, Гермесъ? Ты нездоровъ, потерялъ аппетитъ?..
— Да, милый дядя... что-то голова разболѣлась... Я съ утра чувствую
себя не важно...—солгалъ мальчикъ, не глядя на Милана.
Бранка старалась не дышать. Ей казалось, что глубокій вздохъ, ко-
торому было тѣсно въ груди, выдастъ ее.
Нарушилъ тягостное молчаніе мужъ:
— Да, странно... Гермесъ что-то непохожъ на лауреата... Между
тѣмъ, его сегодня вѣнчали лаврами!.. Послѣ такого моціона, аппетитъ
долженъ быть волчій. Уже въ городѣ говорятъ о нашей борьбѣ, тамъ,
въ колледжѣ... Гермесъ положилъ Фурмана, перваго силача седьмого
класса. Я гордъ! Это въ тебѣ моя греческая кровь заговорила!.. Благо-
родная эллинская кровь... Олимпійскія игры и все такое... Но, съ другой
стороны, лучше-бъ этого не было. Право... Зачѣмъ вооружать противъ
себя нѣмецкую партію? Она не забудетъ пораженія Фурмана... Я встрѣ-
тилъ его отца въ правленіи Багдадской желѣзной дороги... Всегда такой
обходительный и милый, онъ еле-еле поздоровался со мною. Мелочно,
глупо, а все-таки...
И сыну, и матери обѣдъ безконечнымъ казался. А тутъ еще новый
лакей, смѣнившій Драголюба, черный, прилизанный человѣкъ со стран-
нымъ именемъ—Пачифико. Сквозь притворную угодливость угадывался
наглецъ въ немъ...
Этотъ Пачифико дѣйствовалъ Бранкѣ на и безъ того больные нервы,
съ перваго же дня своего появленія въ домѣ.
Вотъ и сейчасъ онъ какъ-то влипающе-настойчиво лѣзъ, предлагая
кофе. Бранка, схвативъ съ подноса чашку, почти бросила ее на скатерть.
Чашка опрокинулась, заливъ чернымъ горячимъ пятномъ скатерть.
Бранка вдругъ порывисто ушла къ себѣ и, опустившись на диванъ,
въ отчаяніи ломала руки. Спустя минуту, вслѣдъ за нею пришелъ Гер-
месъ. Онъ упалъ передъ матерью на колѣни и, покрывая поцѣлуями
руки, прижавшись лицомъ къ ея груди, зарыдалъ.
82
— Мамочка... дорогая... славная... Какая подлость... какая низость...
И всѣ они подлые! Всѣ... Меллеръ... Я не вѣрю... Ничему не вѣрю, ни
одному слову, ты святая, прекрасная!..
Бранка нѣжно и сильно, всю свою душу отдавая, цѣловала сына въ
губы, въ щеки, въ глаза, лобъ, въ голову, плакала, увлажняя эти мате-
ринскіе поцѣлуи крупными, теплыми слезами.
— Ты не разлюбилъ свою маму?..
— Мамочка, я боготворю тебя!.. Если бъ я зналъ, кто этотъ клевет-
никъ, я задушилъ бы его!.. Я не вернусь больше туда... Не хочу... въ
колледжъ... Какіе они всѣ гады!..
— Ты больше не вернешься туда,—тихо молвила Бранка.
КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.
»з
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
1. Братъ своего брата.
Петроградъ уже вторую недѣлю цѣпенѣлъ, ежился и кутался подъ
гнилымъ и сырымъ дыханіемъ этой нудной, способной расшатать самые,
крѣпкіе нервы, осени.
Цѣлыми днями, ночами, падалъ снѣгъ, похожій на дождь, и шелъ
дождь, напоминающій снѣгъ. Надъ Невою, надъ площадями, заглядывая во
всѣ улицы и переулки, носился колючій, холодный вѣтеръ.
Старый, почернѣвшій, ноздреватый снѣгъ какими-то обледенѣвшими
колдобоинами покрывалъ улицы. И ломались рессоры, подбрасывало сѣдо-
ковъ на отчаянныхъ ухабахъ... И люди, на чемъ свѣтъ стоить, проклинали
этотъ городъ, построенный на болотѣ, подъ вѣчно слезящимся небомъ.
А грязно-дымчатыя облака, спустившіяся такъ низко, что какъ въ
густомъ туманѣ, скрывались въ нихъ адмиралтейскій шпицъ и кресть
Йсаакія, плакали поперемѣнно то дождемъ, то снѣгомъ.
Для средняго обывателя, передвиженіе въ такую адскую погоду—
сущая каторга. Пѣшеходовъ сносилъ со скользкихъ панелей бьющей всякой
слякотной дрянью въ лицо вѣтеръ. Въ трамваяхъ мокрымъ стадомъ кучились
другъ къ дружкѣ озлобленные, готовые вцѣпиться другъ въ друга пасса-
жиры. Извозчики, жалуясь на дороговизну овса, запрашивали анафемскія,
прямо дикія цѣны. Но и эти ныряющія среди ухабовъ извозчичьи пролетки,
съ глупѣйшими фордеками, не спасали отъ прелестей чухонской осени
оживлявшихся, забравшихся въ самую глубь сѣдоковъ.
Но господинъ, съ большимъ лицомъ, крупнымъ носомъ и съ подстри-
женными на англійскій ладъ усами, запахивавшійся въ дорогую шубу,
чувствовалъ себя великолѣпно. Еще-бы,—развалился въ просторномъ купэ
автомобиля—что ему осень, и холодъ, и слякоть, когда тутъ-же передъ нимъ
въ продолговатой хрустальной вазочкѣ благоухаютъ свѣжія розы. Стоитъ
лишь протянуть къ висѣвшему у дверцы кожаному мѣшечку-портфелю руку,
и тамъ къ его услугамъ цѣлый ассортиментъ гребней, щеточекъ, напиль-
никовъ, ножничекъ, замшевыхъ подушечекъ для холи ногтей и пальцевъ.
И господинъ въ шубѣ, по дорогѣ на Знаменскую, куда мчала его
сильная, удобная машина, занялся мягкими, плоскими ногтями своими, что
вѣчно ломались, требуя постояннаго ремонта.
84
Вотъ и Знаменская. Вотъ и угловой домъ, гдѣ на двѣ улицы квар-
тира бэль-этажа выходитъ сплошными зеркальными окнами.
Шофферъ, въ мѣховой шапкѣ съ наушниками и въ длинной широкой
дохѣ, напоминалъ путешественника полярныхъ странъ, собравшагося на-
встрѣчу самымъ лютымъ морозамъ.
Господинъ въ шубѣ на чистомъ нѣмецкомъ языкѣ велѣлъ пріѣхать
за собою черезъ два часа.
Іоганнъ молча кивнулъ головой. Автомобиль, гудя, скрылся въ холод-
ной и мокрой, шевелящейся мглѣ...
Открыла дверь худая, высохшая,—такъ и запахло старой дѣвой,—
горничная съ прилизанными волосами и въ бѣломъ чепцѣ. Во всей плоской
фигурѣ и въ лицѣ, въ заостренномъ кончикѣ носа, въ тонкихъ, поджатыхъ
губахъ, было что-то колючее.
При видѣ высокаго господина въ шубѣ, губы-ниточки горничной раз-
двинулись въ подобіе улыбки, тусклой и мертвой.
Здравствуйте, Паша... Марія Сергѣевна дома?—спросила шуба по
русски также чисто, какъ за минуту назадъ чисто говорила съ шофферомъ
по-нѣмецки.
— Еще-бы не дома! Въ этакую то погоду, прости Господи, носу на
улицу не покажешь! Съ утра изъ капота не выходили... Ну. опять васъ,
Августъ Рудольфовичъ, къ завтрак}' ждутъ-не дождутся...
— Ужъ и не дождутся... Пріѣхалъ, кажется, во время,—къ часу...
Августъ Рудольфовичъ побаивался Паши, непривѣтливой и такъ под-
жимающей сухія, безкровныя губы свои, словно и Господь-Богъ, и при-
рода, и все человѣчество на вѣки вѣчные обидѣли ее самымъ безпощад-
нѣйшимъ образомъ.
Она повѣсила длинную, достигающую пола, шубу. Августъ Рудоль-
фовичъ сунулъ въ ея руку съ узловатыми пальцами—золотой. Счастливый
человѣкъ Августъ Рудольфовичъ! Счастливый человѣкъ, у котораго въ
самый разгаръ войны звенѣло въ карманахъ золото...
Въ гостиной, буржуазно - богатой, хотя не лишенной вкуса, съ тум-
бами палисандроваго дерева, на которыхъ бѣлѣли мраморныя фигуры и
бюсты, съ каминными часами,—бронза, старая клодіоновская бронза подъ
колпакомъ,—съ венеціанскимъ мавромъ, въ круглыхъ серьгахъ, скалившимъ
зубы и ослѣпительно сверкавшими бѣлками на фонѣ своего плосконосаго
лица изъ чернаго дерева,—все это было знакомо Августу Рудольфовичу
уже третій годъ.
Громадный, сутуловатый, засунувъ большіе пальцы въ проймы жи-
лета, словно собираясь плясать канканъ, а на самомъ дѣлѣ, съ тяжелымъ,
неподвижнымъ лицомъ, ожидалъ онъ появленія Маріи Сергѣевны.
Она вышла къ нему крупная, стройная, красивая, очень красивая
блондинка, съ темными вѣками и нѣжной поволокою глазъ. Онъ обнялъ
ее и сразу хмѣльной отъ прикосновенія къ упругому, надушенному тѣлу,
такому свободному и послушному сквозь мягкую ткань пеньюара съ кистями,
широко разставивъ ноги, чтобы быть на одномъ уровнѣ съ нею, началъ
жадно ее цѣловать въ свѣжія, развѣ самую малость, подведенныя, губы.
Она сдѣлала попытку освободиться, уперлась въ его грудь.
— Довольно!.. Странные вы, мужчины... Вы всегда можете цѣло-
ваться...
— Когда я голоденъ, я съ удовольствіемъ ѣмъ. У меня жажда,—я пью.
85
А когда я тебя вижу, я испытываю и голодъ, и жажду. И хочу тебя цѣло-
вать... Вкусная!..
— Какой ненасытный!—усмѣхнулась Марія Сергѣевна.—Мы сейчасъ
будемъ завтракать.
— А вино?
— Нѣтъ вина... Нигдѣ нельзя купить...
— Нигдѣ нельзя купить?.. Глупости!.. Дѣтскіе разговоры...
Августъ Рудольфовичъ позвонилъ.
— Паша, соедините меня съ Воробьевымъ...
Онъ подошелъ къ телефону.
— Алло... Магазинъ Воробьева?.. Говоритъ Августъ Рудольфовичъ...
Пришлите сію-же минуту на извозчикѣ, или еще лучше, на моторѣ, двѣ
бутылки кордонъ-веръ... Да вмѣстѣ со льдомъ... Поскорѣе...
— Сейчасъ у насъ будетъ вино...—плотоядно и весело потирая руки,
довольный вернулся въ гостиную Августъ Рудольфовичъ фонъ-Раухъ.
Августъ Рудольфовичъ—родной братъ капитана генеральнаго штаба
Курта фонъ-Рауха, съ которымъ мы имѣли удовольствіе познакомиться
на берегахъ Босфора.
Авастъ былъ старше лѣтъ на пять. Онъ воспитывался и жилъ въ
Россіи. Отецъ прислалъ его изъ Берлина въ Петроградъ къ своему7 брату,
стоявшему во главѣ какого-то желѣзодѣлательнаго завода. Братья Куртъ
и Августъ пошли разными путями, хотя въ концѣ-концовъ къ одной и
той-же цѣли—служеніи своему „фатерлянду".
Куртъ избралъ военную карьеру. Августъ—частно-гражданскую. Дя-
дюшка опредѣлилъ его въ Петеръ-шуле. Окончивъ школу, Августъ на-
чалъ службу въ одномъ изъ нѣмецкихъ банковъ, которыми Петроградъ
кишмя-кишитъ. Недолго сидѣлъ высокій, сутуловатый молодой человѣкъ
за металлической сѣткою, ворочая тяжелыми гроссбухами. Скоро, очень
скоро удалось выплыть ему на болѣе широкую дорогу: Во-первыхъ, по-
могла женитьба на скучной, кислой, бѣлотѣлой нѣмкѣ, принесшей ему
тысячъ двѣсти. А тамъ пошла удачная игра на биржѣ, быстро округлившая
двѣсти тысячъ—въ милліонъ.
Къ тридцати пяти годамъ Августъ Рудольфовичъ представлялъ собою
видную фигуру, считаясь уже заправскимъ тузомъ въ промышленно - фи-
нансовыхъ кругахъ столицы. Онъ былъ директоромъ двухъ солидныхъ
банковъ и замѣтнымъ вліятельнымъ воротилою нѣсколькихъ заводовъ,
обслуживающихъ снаряженіе арміи. Доходъ его, постепенно возроставшій,
достигалъ нѣсколькихъ сотъ тысячъ въ годъ. Щедро жертвуя на благо-
творительность, онъ получалъ ордена и чины и мы застаемъ его уже
статскимъ совѣтникомъ.
Скучная нѣмка—съ годами совсѣмъ раскисла. И подаривъ мужу трехъ
дѣтей, утратила всякую привлекательность. Августъ Рудольфовичъ не ту-
жилъ объ этомъ. Онъ давно утѣшался на сторонѣ и послѣднимъ его
„утѣшеніемъ“ была Марія Сергѣевна. Онъ успѣлъ привязаться къ ней,
какъ только могъ и умѣлъ привязаться къ женщинѣ этотъ практическій
человѣкъ дѣла и цифръ, весь день-деньской метавшійся изъ банка въ банкъ,
изъ одного правленія въ другое...
Онъ обезпечилъ Марію Сергѣевну, положивъ на ея имя триста тысячъ.
Да ежегодно она получала отъ него двадцать четыре, кромѣ цѣнныхъ по-
дарковъ, кромѣ автомобиля, лошадей и квартиры.
86
Но Августъ Рудольфовичъ былъ честолюбивъ. Его смущалъ паспортъ
Маріи Сергѣевны, гдѣ она значилась колпинской мѣщанкой.
Правда, Марія Сергѣевна и внѣшностью своею и знаніемъ языковъ,
манерою держатъ себя скромно, съ положительнымъ вкусомъ одѣваться,—
не только не напоминала ничѣмъ мѣщанку, да къ тому-же колпинскую,
а еще многія свѣтскія дамы рядомъ съ нею казались кричаще одѣтыми
вульгарными бабами.
Все это вѣрно. Все это сознавалъ и самъ Августъ Рудольфовичъ.
Но,—изъ пѣсни слова не выкинешь.—Паспортъ оставался паспортомъ.
А какъ хорошо, если-бы Марія Сергѣевна сдѣлалась княгиней, или
графинею, или даже на худой конецъ—баронессой?..
Эта мысль не давала ему покоя. Онъ и сейчасъ, сидя противъ своей
любовницы за квадратнымъ столомъ и попивая холодное въ иглахъ шам-
панское, развивалъ эту мысль.
— Надо, милая Маруся, надо!.. Сейчасъ-же можно будетъ поставить
гербы на дверцахъ автомобиля, кареты... А кончится война, хотя она не
скоро кончится, поѣдемъ за-границу. Тамъ это импонируетъ... Княгиня
такая-то, или графиня такая-то...
— Я ничего не имѣю противъ. Мнѣ самой давно хотѣлось,—молвила
мягкимъ, груднымъ голосомъ Марія Сергѣевна, глядя на своего покрови-
теля свѣтлыми, съ поволокой глазами изъ-подъ томныхъ, съ длинными,
пушистыми рѣсницами, вѣкъ.
— Вотъ видишь... Сама понимаешь... Умница!.. Надо объ этомъ по-
заботиться. И возможно скорѣе. У меня твердый... характеръ...—онъ хо-
тѣлъ сказать „нѣмецкій", но только подумалъ, а не сказалъ.—Я не люблю
ничего откладывать. Задумано—исполнено. Я встрѣтила въ Семирамисъ-
отелѣ своего стараго друга, съ которымъ уже много лѣтъ не видался,
итальянскій маркизъ Санъ-Діонисіо... И какъ съ другомъ, посовѣтовался
насчетъ тебя. Онъ вполнѣ одобряетъ мой планъ, только просилъ не осо-
бенно торопиться. Говоритъ, у него есть кое-кто на примѣтѣ...
— Воображаю!..
И по точеному лицу этой безъ малаго сорокалѣтней женщины, ко-
торой можно было дать лѣтъ двадцать семь,—пробѣжала легкая гримаса.
— Воображаю!.. Какой-нибудь подзаборный князь съ Горячаго поля,
котораго надо мыть въ семи баняхъ и отъ котораго пахнетъ уже не
водкой,—теперь ее не достать,—а денатуратомъ...
— Какое тебѣ дѣло, гдѣ его надо мыть и чѣмъ отъ него воняетъ?..
Вѣдь ты-же цѣловаться не будешь съ нимъ... И въ кровать не ляжете вмѣстѣ...
— А все-таки, противно!.. Одно сознаніе, что стоишь подъ вѣнцомъ
полчаса съ этимъ типомъ, которому швырнули двухъ-трехъ-тысячную по-
дачку... Нѣсколько лѣтъ назадъ мнѣ предлагали такую-же комбинацію...
Князь, древняго рода, Рюриковичъ... Конечно, спившійся, потерянный
субъектъ... Я отказалась... Брезгливое чувство мѣшало...
— Кто предлагалъ?
— Не все ли равно, кто?.. Предлагали!..
—- Успокойся. Въ данномъ случаѣ, совсѣмъ нѣчто другое. Санъ-
Діонисіо не открылъ мнѣ своихъ картъ, но все-же намекнулъ, какъ о
чемъ-то интересномъ, изъ ряду вонъ выходящемъ. Я весьма положитель-
ный человѣкъ, а между тѣмъ, и я заинтригованъ .. Это выяснится на бли-
жайшихъ дняхъ. Нѣтъ, нѣтъ, необходимъ титулъ!..
- 87 -
— Не мѣшаетъ... Признаться, мнѣ самой надоѣло быть колпинской
мѣщанкой и дочерью кондуктора Николаевской желѣзной дороги. И если-
бы еще „обера", а то самаго обыкновеннаго... Публика перваго и второго
класса безъ церемоніи „тыкала"...
Марія Сергѣевна усмѣхнулась и дрогнули тонкія ноздри красиво про-
рисованнаго носа съ горбинкою...
2. Письмо сообщника.
Маркизъ санъ-Діонисіо проснулся у себя въ своемъ номерѣ „Семи-
рамисъ отеля", большомъ номерѣ изъ двухъ комнатъ съ ванною.
Проснулся въ отличнѣйшемъ настроеніи.
Во первыхъ, чудесная погода. Только въ Петроградѣ такъ рѣзко
мѣняется погода.
Вчера и слякоть, и дождь пополамъ съ мокрымъ снѣгомъ, и холодъ,
и вѣтеръ. Всѣ сразу напасти!
А сегодня сплошное ликованіе солнца, не по осеннему ярко брызнув-
шаго снопомъ розоватыхъ лучей въ окно маркизовой спальни и, если вы-
глянуть изъ этого окна, празднично сверкающаго па куполѣ монументаль-
наго, гордо поднимающагося къ небесамъ всей своей гранитно-мраморной
громадою, Исаакія.
Даже по глянцевитой лысинѣ маркиза Санъ-Діонисіо, — а лысина у
него круглилась билліарднымъ шаромъ во всю,—шаловливымъ зайчикомъ
скользнулъ одинокій лучъ.
Погода своимъ порядкомъ, но у маркиза была еще одна причина ра-
доваться и встрѣтить наступающій день бодро и весело.
Эта причина—длинное предлинное на восьми страницахъ письмо, по-
лученное изъ Константинополя и подписанное капитаномъ Куртомъ фонъ-
Раухъ. Начиналось оно:
Милый баронъ!..
Почему баронъ?—втупикъ станутъ многіе. Почему баронъ, если Санъ-
Діонисіо,—маркизъ? Странно, по меньшей мѣрѣ...
Господи, мало-ли непонятнаго, страннаго совершается въ эти мятежные
и кровавые дни, какъ на всей нашей планетѣ, вообще, такъ и въ Петро-
градѣ,—въ частности?
И если для многихъ Санъ-Діонисіо маркизъ, а для своего друга ка-
питана Рауха, баронъ, слѣдовательно, истину необходимо искать гдѣ-то
совсѣмъ близко. 11 поэтому оставивъ па время въ покоѣ маркиза-барона,
который подобно опереточному органисту одновременно и Целестинъ и
Флоридоръ, заглянемъ черезъ плечо этого лысаго, потасканнаго съ ястре-
бинымъ профилемъ и большими кавалерійскими усами человѣка... И вмѣстѣ
съ нимъ ознакомимся съ содержаніемъ письма.
Милый баронъ!..
Наконецъ-то я могу поболтать съ вами по человѣчески, не прибѣгая
ни къ шифру, ни къ „символикѣ", одинаково мѣшающимъ развернуться.
Поневолѣ приходилось ограничиваться сжатой телеграфной формой. Это-же
письмо вы получите черезъ курьера, командированнаго въ турецкое по-
сольство въ Петроградѣ. Послѣдній курьеръ!.. Онъ покинетъ берега Невы
вмѣстѣ съ Феррадинъ-беемъ, который, какъ несомнѣнно, вы лучше меня
88
знаете, уже навѣрное сидитъ на уложенныхъ чемоданахъ, что не мѣшаетъ
ему до самой послѣдней минуты давать русскимъ дипломатамъ самые уклон-
чивые отвѣты по поводу выступленія Турціи...
Милый баронъ, возможно скорѣе повидайте моего брата... Скажите
ему, что мы не имѣемъ до сихъ поръ плановъ Вышгородской крѣпости.
А въ виду ближайшихъ надвигающихся событій, это необходимо. Я уже
получилъ срочную депешу изъ Берлина. Братъ Августъ не нуждается въ
директивахъ. Онъ великолѣпно знаетъ всѣ тайныя пружины, которыя не-
обходимы, тѣмъ или инымъ способомъ, надавить. Что-же касается плановъ
Вышгородской крѣпости, то здѣсь надо орудовать черезъ Лихолѣтьеву.
Только черезъ нее! Самъ Лихолѣтьевъ, хотя и не уменъ и больше всего
на свѣтѣ любитъ неприличные анекдоты, но человѣкъ не способный тор-
говать своей родиной. А вотъ мадамъ, эта ради кругленькой суммы пой-
детъ на что угодно! Итакъ, планы... Затѣмъ, скажите брагу, что мы хо-
тѣли-бы имѣть болѣе точные цифры относительно изготовляемыхъ въ
Петроградѣ, да и не только въ одномъ Петроградѣ, снарядовъ. А ему
съ его связями, съ его личнымъ, такимъ виднымъ участіемъ въ нѣкото-
рыхъ соотвѣтствующихъ предпріятіяхъ, какъ говорится, и книги въ руки...
Да скажите Мясникову,- давно мы не имѣли отъ него никакихъ повѣстей...
Ахъ, этотъ Мясниковъ,—дорого онъ обходится нашему казначейству...
У насъ кипитъ работа. Цѣлую недѣлю возились мы съ константино-
польской чернью, лодочниками, носильщиками и, главнымъ образомъ, съ
дервишами, этими полуфанатиками, полушарлатанами, имѣющими вліяніе
на низшіе классы. Надо было „вдохновить" деньгами всю эту сволочь для
организаціи погрома оставшихся въ городѣ русскихъ, англичанъ и фран-
цузовъ... Затѣмъ подъ предводительствомъ нашихъ, австрійскихъ, турец-
кихъ и болгарскихъ офицеровъ, мы послали македонскія четы, съ нѣсколь-
кими конно саперными командами взорвать желѣзнодорожные мосты на
пути изъ Салоникъ въ Сербію...
Ну, вотъ... О дѣлахъ пока довольно. Впрочемъ, нѣтъ... Еще два слова.
Милый баронъ, вы какъ никто, пожалуй, въ курсѣ дѣлъ Черногоріи и
Албаніи... Вы жили въ тѣхъ мѣстахъ, знаете все! Необходимо искуссно
инсценировать новое возстаніе, новую какую-нибудь смуту, непохожую,
однако, на тѣ дѣтскія выступленія полудикихъ албанскихъ князьковъ, ко-
торыя инсценировались нсумѣло и глупо. Если нужны деньги, братъ Августъ
откроетъ вамъ неограниченный кредитъ. Всѣ эти суммы будутъ покрыты
переводами черезъ Швецію...
А теперь, опишу вамъ презабавную исторію. Сплошной анекдотъ!
Анекдотъ, возможный лишь въ Турціи... Вы, конечно, знаете о приклю-
ченіи въ Пти-Шанъ бѣднаго глупенькаго Турна?.. Какъ я ни удерживалъ
его, онъ полѣзъ на скандалъ и, Богъ мой, какія это были громкія поще-
чины! Генералъ тотчасъ-же сплавилъ этого болвана въ Берлинъ... Что-же
касается другого виновника Зауръ-бея... Отчаянная голова! Я люблю та-
кихъ безумцевъ...
Энверъ, по настоянію генерала, думалъ истолочь этого буйнаго чер-
кеса въ порошокъ, посадить его въ крѣпость, или сплавить въ какой-ни-
будь глухой гарнизонъ, гдѣ пара наемныхъ убійцъ потихоньку спрова-
дила-бы его на тотъ свѣтъ. Обычная манера въ Турціи расправляться
съ „безпокойнымъ элементомъ"... Но вышло иначе. Зауръ-бей пріѣхалъ
объясняться съ военнымъ министромъ не въ единственномъ числѣ, а съ
- 89 -
цѣлымъ эскадрономъ головорѣзовъ, преданныхъ ему безгранично. Энверъ
струсилъ!.. И вмѣсто того, чтобъ приказывать, вступилъ съ черкесомъ въ
переговоры.
Желаете, я вамъ дамъ въ Мессопотаміи кавалерійскій полкъ?..
— Нѣтъ, не желаю...
— Желаете, я поручу вамъ общее командованіе македонскими четами,
идущими въ Сербію?..
— Нѣтъ, не желаю.
— Чего-же вы хотите?
— Я хочу остаться здѣсь, такъ какъ не чувствую за собою никакой
вины.
Энверъ покорился. Между нимъ и генераломъ произошла бурная сцена.
Генералъ топалъ на Энвера ногами, требуя самой крутой расправы. Энверъ
умолялъ не настаивать, доказывая, что взбунтовавшійся полкъ можетъ ока-
зать деморализующее дѣйствіе на транспорты войскъ, посылаемыхъ на
русскую границу.
Въ концѣ концовъ, оба пошли на компромиссъ. Пусть Зауръ, для
успокоенія умовъ, останется. Но съ тѣмъ лишь, чтобъ черезъ нѣсколько
дней безслѣдно исчезнуть... И навсегда... Босфоръ глубокъ...
Но черкесъ оказался умнѣе, чѣмъ объ немъ думали.
На якорѣ стоялъ большой итальянскій пароходъ „Герцогъ Абруццкій".
На немъ покидали Константинополь многіе бѣглецы. И что-жъ вы ду-
маете... Въ послѣднюю минуту, когда пароходъ снялся уже съ якоря, ту-
рецкая жандармерія, всегда опаздывая какъ оффенбаховскіе карабиранеры.
донесла, что „Герцогъ Абруццкій" увозитъ на своемъ борту черкеса...
Этотъ Зауръ-бей, переодѣтый въ штатское, какъ-то незамѣтно проскольз-
нулъ и никто не успѣлъ его задержать... Турки всполошились...
— Что дѣлать?
Полицейскіе пароходики встревоженной стаей кружились вокругъ
парохода, требуя остановиться и выдать бѣглеца-дезертира. Конечно, все
зависѣло отъ капитана. Какъ на бѣду, капитанъ оказался малымъ изъ
непокладистыхъ. Бывшій военный морякъ, участвовавшій въ дессантѣ на
Родосѣ. Этакій смуглый, рѣшительный парень, по фамикіи Карпанетто.
- Пользуясь правомъ экстерриторіальности моего судна, я никого
не желаю выдавать и турецкихъ властей на бортъ къ себѣ не пущу ни
подъ какимъ видомъ.
Понимаете, ситуація осложняется. Аттаковать пароходъ силою и силою
извлечь Зауръ-бея,—это былъ-бы уже настоящій конфликтъ. А конфликтъ
съ Италіей—менѣе всего желателенъ.
А между тѣмъ, капитанъ Карпанетто надумалъ дѣйствовать самымъ
рѣшительнымъ образомъ. Собралъ всю команду, вооружилъ ее караби-
нами и револьверами. Да и среди пассажировъ набралось любителей силь-
ныхъ ощущеній. И они примкнули. Былъ десятокъ, другой англійскихъ и
русскихъ офицеровъ,—у кого поганъ, у кого парабеллумъ, у кого браунингъ...
Вотъ былъ спектакль!..
Весь Босфоръ въ смятеніи... Набережная запрудилась тысячной толпою.
Все время телефонная связь между Энверомъ и начальникомъ береговой
полиціи.
А электричество все накопляется, накопляется... Того и гляди, вспых-
нетъ перестрѣлка...
90
А дождь льетъ, какъ изъ ведра и уже дѣло къ вечеру...
Наконецъ, послѣ цѣлаго совѣщанія кабинета министровъ,—да, да, я
не шучу, экстренно созвали совѣтъ министровъ, — рѣшено было послать
парламентера, который убѣдилъ бы черкеса добровольно оставить бортъ
гостепріимнаго парохода и вернуться въ полкъ... по своей охотѣ... Да, упу-
стилъ еще подробность. Человѣкъ двадцать пять самыхъ отчаянныхъ изъ
эскадрона Сумасшедшаго черкеса, осѣдлавъ коней, примчались къ набе-
режной и вмѣстѣ съ лошадьми хотѣли броситься вплавь на выручку своего
командира. Ихъ кое какъ оттѣснили, успокоили, заявивъ, что ему не угро-
жаетъ никакая опасность.
Въ парламентеры избранъ былъ Ахметъ-паша... Старая, лукавая лиса,
дипломатъ въ восточномъ духѣ...
И вотъ онъ въ непромокаемой накидкѣ вмѣстѣ со своимъ адъютантомъ
подъѣзжаетъ къ пароходу на моторной лодкѣ, вступаетъ въ переговоры.
Капитанъ Карпанетто разрѣшилъ пашѣ подняться, только одному,
безъ адъютанта.
— Я хотѣлъ-бы видѣть ротмистра Зауръ-бея?..
— Я сначала спрошу его, желаетъ-ли онъ этого свиданія...
Капитанъ спустился внизъ въ каюту перваго класса, гдѣ онъ соб-
ственноручно заперъ черкеса на ключъ, и спросилъ его, хочетъ-ли онъ
говорить съ Ахметъ-пашей?
— Пусть войдетъ!..
Ахметъ-паша въ мокромъ плащѣ спустился въ каюту. Первой фразой
этой сѣдобородой лисы было:
— Военный министръ Энверъ-паша цѣлуетъ твои глаза сынъ мой...
— Я отвѣчаю ему тѣмъ-же,—усмѣхнулся Зауръ-бей.
— Сынъ мой... Быть можетъ ты вернешься добровольно?.. Не захочешь
огорчить всѣхъ насъ?..
— Не имѣю ни малѣйшаго желанія!..
— Напрасно!., клянусь бородою Пророка, ни одинъ волосъ не упа-
детъ съ твоей головы.
— При чемъ здѣсь волоса, если меня удавятъ намыленной веревкой?..
— Сынъ мой, ты все шутишь... Ты всегда былъ шутникъ... Увѣряю
тебя,—все забыто!.. Энверъ простилъ тебѣ великодушно и не таитъ даже
и тѣни зла... Тебя ждетъ райская жизнь!.. Тебя оставятъ здѣсь въ Стам-
булѣ, и еще дадутъ полкъ. Подумай,—полкъ!.. Въ два-три года ты сдѣ-
лаешься богатымъ человѣкомъ.
— Я не хочу богатства, отецъ мой... Хочу одного лишь, чтобъ меня
оставили въ покоѣ. И пусть не тратитъ паша своего краснорѣчія по на-
прасну. Я не уйду изъ этой каюты! Если-же вздумаютъ взять меня силой,
я себя дешево не отдамъ. Уложу человѣкъ пятнадцать, а послѣднюю
пулю—въ свой собственный високъ...
— Напрасно, напрасно, дорогой сынъ мой. Узнаю твою горячую
черкесскую кровь. А ты подумай... Подумай хорошенько... Я терпѣливъ,—
подожду...
— Напрасно потеряете время, паша... Кромѣ того, мы задерживаемъ
тысячу съ лишнимъ человѣкъ. Пассажиры начинаютъ роптать. Я уже
сказалъ свое послѣднее слово, и ничего другого вы не дождетесь отъ меня...
— Жаль, очень жаль!.. Такой опрометчивый шагъ... Но нельзя-ль, по
крайней мѣрѣ, узнать, куда ты держишь свой путь?..
91
— Далеко, паша... Очень далеко...
— Въ Россію?
Къ чему этотъ допросъ? Не все-ли равно, куда...
— Въ Россіи тебя не погладятъ по головкѣ. Не забудь что ты —
дезертиръ!..
— Паша, я очень извиняюсь за мою рѣзкость съ такимъ почтеннымъ,
уважаемымъ человѣкомъ, но я прошу немедленно оставить, какъ меня
самого, такъ и мою каюту...
Ахметъ, волей-неволей поднявшись, вздохнулъ съ глубокимъ со-
жалѣніемъ.
— Какъ хочешь!.. Аллахъ да благословитъ дорогу твою... Обидно,
что ты уходишь о’гъ насъ, какъ еслн-бъ мы желали тебѣ недоброе... Мы
всѣ такъ любимъ тебя, такъ любимъ...
Капитанъ Карпанетто прервалъ эти сожалѣнія стукомъ въ дверь.
Довольно... Или быть можетъ паша желаетъ ѣхать съ нами до
Салоникъ?..
Но Ахметъ вовсе не желалъ совершить эту далекую морскую про-
гулку. Черезъ минуту онъ покинулъ бортъ „Герцога Абруццкаго", спу-
стился къ себѣ въ моторную лодку. Итальянскій пароходъ на всѣхъ па-
рахъ двинулся къ Мраморному морю, желая наверстать цѣлыхъ два по-
терянныхъ часа... Нѣкоторое время полицейскіе пароходики шли за нимъ
по пятамъ, но вскорѣ отстали.
Какъ вамъ нравится, милый баронъ, весь этотъ эпизодецъ? Нужно
было слышать разсказъ Ахметъ-паши, говорившаго на уморительномъ
нѣмецкомъ языкѣ... Слушая приведенный мною выше діалогъ въ лицахъ,
мы помирали со смѣху... А все-таки досадно, что черкесъ ускользнулъ.
За оскорбленіе германскаго офицера слѣдовало его вздернуть гдѣ-нибудь
въ одномъ изъ укромныхъ казематовъ. Если онъ появится въ Петро-
градѣ,—жаль, нѣтъ его фотографической карточки,—послѣдите за нимъ...
И въ случаѣ чего,—легкій доносецъ властямъ... Можно будетъ обвинять
его въ шпіонствѣ. Почва во всякомъ случаѣ, благодарная...
3. „Его высочество".
Какъ описать Марлявчевича?
Это былъ во всѣхъ отношеніяхъ средній, молодой человѣкъ. Молодой,
ибо мужчина въ тридцать шесть лѣтъ,—скорѣй молодой, чѣмъ на возрастѣ.
Въ паспортахъ пишутъ: „ростъ средній, глаза сѣрые, носъ умѣренный".
Такъ и Марлявчевичъ: ростъ средній, глаза сѣрые, носъ умѣренный.
Не большой и не маленькій, а именно—умѣренный.
Прибавимъ къ этому маленькіе усики и весьма благопристойную
бородку. Если не особенно холеную, то, во всякомъ случаѣ, содержимую
въ аккуратѣ.
Мы не будемъ подробно останавливаться, какъ живетъ Марлявчевичъ,
какъ онъ одѣвается. Въ самомъ дѣлѣ, какъ можетъ одѣваться и жить
при петроградской дороговизнѣ чиновникъ, получающій сто двадцать пять
рублей въ мѣсяцъ, и пи какихъ кромѣ жалованья, „безгрѣшныхъ дохо-
довъ" не имѣющій?
Разумѣется, меблированная комната, разумѣется, дешевый портной,
92
въ разсрочку, каждаго двадцатаго числа самъ являющійся въ казенное
учрежденіе, дабы получить съ другихъ чиновниковъ и съ Марлявчевича,—
съ кого десять, съ кого пятнадцать рублей.
Марлявчевичъ не пилъ вина. Совсѣмъ не пилъ. Даже на товарище-
скихъ обѣдахъ, во время тоста чуть-чуть для виду пригубитъ. Онъ курила»,
но не по мужски, не по настоящему. За день, — пять-шесть папиросъ.
Какое-же это куреніе?..
За женщинами не бѣгалъ по Невскому, подобно нѣкоторымъ изъ
своихъ товарищей, этимъ уличнымъ донъ-Жуанамъ, у которыхъ день
считается пропащимъ, если не наклюнулось какое-нибудь случайное „пи-
кантное" знакомство.
Но было-бы идеализаціей Марлявчевича записывать его въ какія-то
безплотные, пещерные аскеты. У него бывали романы, и сейчасъ былъ,
съ одной миніатюрной птичкою, получавшей сорокъ пять рублей въ упра-
вленіи желѣзной дороги.
Марлявчевичъ былъ единственнымъ носителемъ своей фамиліи,—без-
спорно сербскаго происхожденія. Больше онъ никого не зналъ Марляв-
чевичей, съ тѣхъ поръ, какъ сошли другъ за другомъ въ могилу его отецъ
и мать.
Послѣдній въ родѣ...
Отецъ, помѣщикъ хуторянинъ, говорилъ, что родъ Марлявчевичей
древній и существуетъ на бѣломъ свѣтѣ, по крайней мѣрѣ, лѣтъ восемь-
сотъ. Когда-то, очень давно въ XIV вѣкѣ Марлявчевичи были въ знат-
ности и почетѣ. Но отецъ самъ, видимо, зналъ весьма туманно и смутно,
въ чемъ-же именно заключались и эта „знатность", и этотъ „почетъ"...
А сынъ Иванъ Марлявчевичъ, не взирая на все свое уваженіе къ
памяти покойнаго отца, такъ и остался навсегда „при особомъ мнѣніи",
что старикъ фантазировалъ, желая скрасить тусклую жизнь мелкопомѣст-
наго, по уши въ долгахъ дворянина, какими-то легендарными воспомина-
ніями о миѳическомъ прошломъ...
Иванъ Марлявчевичъ кое-какъ преодолѣлъ гимназическій курсъ.
Кое-какъ, потому что къ наукамъ ни особенныхъ склонностей, ни особен-
ныхъ способностей не имѣлъ. Легче всего давались ему новые языки, и
онъ усвоилъ ихъ довольно сносно, въ скудномъ объемѣ среднихъ учеб-
ныхъ заведеній.
Дальше—служба въ канцеляріи, чинъ титулярнаго совѣтника на трид-
цать шестомъ году, маленькая меблированная комната и портной со Сред-
ней Подъяческой, съ десяти-рублевыми взносами.
Такъ шла его жизнь, Ивана Марлявчевича. Не катилась быстро, не
плелась ползкомъ, а именно шла.
Былъ-ли онъ доволенъ ею?
Если-бъ его спросили, онъ весьма резонно отвѣтилъ-бы:
— А кто-же доволенъ своей жизнью?..
Во всякомъ случаѣ, ничего остраго, мучительнаго не было въ недо-
вольствѣ нашего новаго героя своимъ настоящимъ. Онъ мирился съ нимъ,
но порою хотѣлъ большаго.
Иногда на улицѣ, или у театра онъ видѣлъ, какъ отворялась дверца
кареты, или сверкающаго мотора и высовывалась маленькая изящно обутая
ножка, дразня воображеніе, а вслѣдъ за нею показывалась и ея хоро-
шенькая обладательница.
93
Марлявчевичъ, вздохнувъ, проходилъ мимо. Онъ думалъ:
„Хорошо-бы съ такой женщиной прокатиться на автомобилѣ, на
острова, а потомъ поужинать у Фолисьена, или у Эрнеста". Въ одномъ
изъ этихъ двухъ ресторановъ, съ которыми онъ былъ знакомъ только
„въ приглядку", да по наслышкѣ.
Обошлось бы это удовольствіе, вымолвить страшно, рублей... рублей
въ шестьдесятъ.
И охвачанный ужасомъ, ошеломленный суммою, истраченной въ нѣ-
сколько часовъ, Марлявчевичъ шелъ на Екатерининскую къ Федорову,
гдѣ за сорокъ пять копѣекъ онъ имѣлъ бокалъ пива, бутербродъ и от-
бивную котлету.
Это—взамѣнъ Фелисьена. А вмѣсто обладательницы изящной ножки,
онъ ласкалъ миніатюрную дѣвушку изъ правленія желѣзной дороги, при-
ходившую въ восторгъ отъ двухъ-трехъ пунцовыхъ розъ, или полутора-
фунтовой коробки конфетъ,—посильныя подношенія скромнаго поклонника.
Такъ все шло тихо, мирно и гладко, безъ особенныхъ радостей и
особенныхъ печалей у титулярнаго совѣтника Ивана Марлявчевича.
Послѣднее время онъ все чаще и чаще мечталъ о прибавкѣ. Съ
войною все вздорожало. Все!.. Онъ не хотѣлъ много. Лишній четвертной
билетъ къ ста двадцатипяти рублямъ въ мѣсяцъ удовлетворилъ-бы его
вполнѣ.
Марлявчевичъ зашелъ въ кинематографъ.
Онъ нѣсколько разъ въ мѣсяцъ баловалъ себя кинематографомъ.
Дешево, интересно, и такъ быстро мелькаютъ другъ за другомъ „сильно
комическія", драмы, хроника міровыхъ событій.
Вотъ и сейчасъ отсюда, съ Невскаго, видитъ Марлявчевичъ стройно
марширующихъ на позиціи мужественныхъ бронзовыхъ туркасовъ, съ
большими тюрбанами, видитъ бельгійскую конницу въ мохнатыхъ шапкахъ.
Ихъ смѣняютъ бритоголовые зуавы, французскіе драгуны, и вслѣдъ за
этимъ, на экранѣ вспыхнула, разсыпавшаяся лавою, сотня лихихъ нашихъ
кавказцевъ.
Во Франціи, въ Италіи, въ Англіи, при видѣ своихъ и союзныхъ
войскъ, толпа разразилась-бы оваціями... Какая угодно толпа, кромѣ пет-
роградской. Ни одного хлопка. Ни одного возгласа. Тупое, равнодушное
ко всему, кромѣ своихъ маленькихъ мелкихъ интересовъ—молчаніе...
Ни подъема, ни патріотизма... Вмѣсто крови, какая-то холодная, сизая
сыворотка въ жилахъ течетъ.
Даже Марлявчевичъ, уже на что средній обыватель,—и ему вздума-
лось похлопать слегка. Но конфузъ остановилъ. А вдругъ никто не под-
держитъ и онъ останется въ одиночествѣ? Правда, полумракъ, не раз-
глядишь, кто, а все таки неудобно...
Потомъ была драма чудной постановки съ живописной природою,
красавицами въ бальныхъ платьяхъ и элегантными мужчинами во фракахъ.
Герцоги, графы, графини, коварство, политическія интриги... Словомъ,
далекій, плѣнительный міръ для титулярнаго совѣтника изъ меблированной
комнаты,—пять шаговъ въ ширину и семь въ длину.
Марлявчевичъ вернулся домой. Въ полутемномъ корридорѣ кривая на
одинъ глазъ, прислуга Луша объявила жильцу, съ замѣтнымъ новгород-
скимъ „оканьемъ":
- Ужо васъ баринъ какой-то спрашивалъ... Впервой вижу!.. Усища,
94
что у твоего таракана... Только изъ себя очень аккуратный... По нашему
болбочетъ, а не разберешь толкомъ... Когда будете дома, пыталъ... Ну,
я и говорю:
— Баринъ, молъ, паинька у насъ, завсегда къ десяти уже дома, а
въ двѣнадцатомъ и на боковую, баинки...
— Вѣчно вы съ вашей болтовней, Луша!.. Кто васъ за языкъ тянулъ?
Дома,—дома, нѣтъ—нѣтъ. Когда будетъ — не знаю, или на оборотъ,—
знаю... Вотъ и весь вашъ разговоръ. А вы пускаетесь во всѣ нелегкіе...
— Ну, извините, баринъ, не буду больше... Извините растяпу дере-
венскую... Не обтесалась еще по вашему, по питерски...
Откуда-то изъ боковой двери выскочила со смѣхомъ дѣвица, пли
дама, а можетъ быть, не дѣвица, и не дама, бросилась къ телефону и
звонко, на весь корридоръ тараторя, висѣла на немъ безъ конца...
Марлявчевичъ прошелъ къ себѣ. Зажегъ лампочку-грушу, скупо и
тускло вспыхнувшую у самаго потолка, думалъ снять пиджакъ и просмо-
трѣть на свободѣ передъ сномъ вечрнія газеты, наполненныя описаніями
военныхъ событій на всѣхъ фронтахъ. Не успѣлъ Марлявчевичъ выру-
гаться какъ слѣдуетъ, по адресу выступившихъ турокъ, — туда-же еще
сунулись, рвань!—какъ открылась дверь и вошла кривоглазая Луша.
— Луша!.. Сколько я васъ училъ? Надо сперва постучать...
— Ладно, чего ужъ тамъ... Этотъ самый пришелъ акк^-ратный-то ба-
ринъ. Видѣть, говоритъ, вашего барина безпремѣнно хочу.
— Странно... кто-бы могъ быть... Всѣ мои знакомые на перечетъ.
Да я никого и не жду... Но, во всякомъ случаѣ, просите...
Съ котелкомъ въ рукѣ и на заграничный ладъ, въ пальто, столь-же
модномъ, сколь и дорогомъ, вошелъ костистый, сухощавый господинъ, съ
полированной и пахнувшей чѣмъ-то душистымъ лысиною во всю голову...
Онъ поклонился нѣсколько театральнымъ, быть можетъ даже слиш-
комъ учтивымъ поклономъ по отношенію къ живущему въ этой маленькой
комнатѣ маленькому чиновнику.
— Я имѣю честь видѣть передъ собою господина Марлявчевича? Не-
правда-ли? — началъ незнакомецъ, хотя и по-русски, но съ замѣтнымъ
акцентомъ. Говорятъ такъ по русски уроженцы южно-славянскихъ земель
Австріи. Что-то пѣвучее, растянутое и съ забавными, скорѣй пріятными
для слуха удареніями.
— Да, это я, — отвѣтилъ недоумѣвающій титулярный совѣтникъ. —
Прошу садиться. Вотъ стулъ!.. Или сюда, — онъ указалъ на крохотный,
шатающійся и зыбкій диванчикъ съ потрепанной, загрязнившейся обивкой.
Лысый господинъ съ такимъ рѣзкимъ, ястребинымъ профилемъ сѣлъ,
обнаруживъ отмѣнное умѣнье держаться.
Онъ разгладилъ усы холеной рукою въ солидныхъ, именно солид-
ныхъ перстняхъ, не кричащихъ и не особенно скромныхъ, и вонзивъ въ
онѣмѣвшаго на время отъ всѣхъ этихъ неожиданностнй Марлявчевича рѣ-
шительный взглядъ, молвилъ:
— Я очень извиняюсь, что за отсутствіемъ лица, которое могло-бы
меня представить вашему высочеству, я вынужденъ это сдѣлать самолично...
Холодная оторопь какой-то цѣпенѣющей жутыо охватила Марлявче-
вича. Медленно, тягуче заползла ему подъ черепъ мысль, что передъ нимъ
какой-нибудь сумасшедшій маніакъ... И вдругъ, послѣ этого дикаго всту-
пленія, онъ возьметъ да схватитъ его за горло, начнетъ душить...
95
Ястребиные глаза незнакомца перехватили выраженіе страха у бѣд-
наго Марлявчевича. Незнакомецъ почтительно улыбнулся.
Пари готовъ держать, что ваше высочество изволили счесть меня
по меньшей мѣрѣ субъектомъ, сбѣжавшимъ изъ психіатрической лечеб-
ницы... Смѣю завѣрить, ваше высочество, что мозги мои работаютъ, дай
Богъ всякому!..
— Но, позвольте... Въ такомъ случаѣ, на какомъ-же основаніи?..
— На какомъ основаніи я васъ именую вашимъ высочествомъ? —
подхватилъ незнакомецъ.—Я имѣю на это полное юридическое, логическое
и фактическое основаніе, ибо лицо, которое для всѣхъ въ Петроградѣ
титулярный совѣтники Иванъ Марлявчевичъ на самомъ дѣлѣ — принцъ
крови!..
„Принцъ крови" близокъ былъ, чтобъ превратиться въ соляной
столбъ. Ошеломленный, онъ утратилъ всякую способность думать, разсу-
ждать, и сидѣлъ неподвижный, испытывая какую-то дрожь въ похолодѣв-
шихъ пальцахъ. И если-бы подъ этими пальцами очутилось вдругъ блю-
дечко, оно, повинуясь гипнотической силѣ, судорожно пошло-бы писать
невѣдомые іероглифы...
— Я понимаю психологію вашего высочества, — вкрадчиво и мягко
продолжалъ незнакомецъ.—Вы ошеломлены, поражены... Въ самомъ дѣлѣ,
точно въ сказкѣ! Но если ваше высочество дастъ себѣ трудъ внимательно
меня выслушать, то удивленіе разсѣется... Я сдѣлаю маленькую экскурсію
въ область исторіи... Это знаютъ немногіе, потому что это въ сторонѣ
отъ большихъ европейскихъ дорогъ, по которымъ катилась общеизвѣстная
исторія, заполняющая страницы школьныхъ учебниковъ... Это—въ сторонѣ
отъ большихъ дорогъ... На Балканахъ. Вслѣдъ за Коссовской битвой,
послѣ которой Сербія утратила свою самостоятельность, часть сербовъ, не
желавшая подчиняться турецкому владычеству, бѣжала въ горы, извѣст-
ныя въ географіи подъ именемъ Албанскихъ. И тамъ, въ свою очередь,
бѣглецы раскололись на двое. Изъ одной части образовалось впослѣдствіи
княжество Черно:орское, изъ другой—княжество, впослѣдствіи королев-
ство — Зеты. По имени рѣки Зеты, впадающей въ Скутарійское озеро.
Основателемъ династіи Зетскихъ королей былъ Вукашинъ Марлявчевичъ,
предокъ вашего высочества... Въ тысячу четыреста пятьдесятъ первомъ
году династія Марлявчевичей прекратилась... Прекратилась, но не угасла...
Я обращаю на это вниманіе вашего высочества!.. Зетское королевство сли-
лось съ Черногоріей, а родъ Марлявчевичей, насильственно лишенный пре-
стола, вынужденъ былъ покинуть Зету и свой старый замокъ Шеблякъ
на берегу Скутарійскаго озера... Этотъ самый замокъ, или лучше сказать,
руина его, поросшая мохомъ, сохранилась и по сей день... Я буду кра-
токъ... Моя цѣль вернуть вашему высочеству, увы, утраченную нѣсколько
вѣковъ тому назадъ вашимъ родомъ славную корону Зеты...
Незнакомецъ умолкъ, думая услышать что-нибудь отъ его высоче-
ства. Но „его высочество" все еще пребывало въ состояніи соляного
столба... Незнакомецъ продолжалъ:
— Я не хочу быть голословнымъ. Я человѣкъ дѣла, фактовъ и до-
кументовъ, я имѣлъ доступъ къ архивамъ города Скутари, гдѣ и нашелъ
всѣ бумаги и документы, подтверждающіе историческія права Марлявче-
вичей на корону Зеты. Если только ваше высочество ничего не имѣетъ
противъ, мы общими силами займемся реставраціей древняго королевства...
— 96 -
Къ нашимъ услугамъ все... Неограниченный кредитъ, сплоченная дружба,
партія единомышленниковъ, какъ здѣсь въ Петроградѣ, такъ и въ дале-
кихъ горахъ, сомкнувшихся кольцомъ вокругъ Скутарійскаго озера...
Завтра я буду имѣть честь подробно ознакомить ваше высочество со
всѣми документами... Послѣ чего не будетъ мѣста никакимъ, рѣшительно
никакимъ сомнѣніямъ... Ье гоі езі тогі, ѵіѵе 1ѳ гоі!.. — воскликнулъ вдругъ
маркизъ Санъ-Діонисіо, поднимаясь и салютуя котелкомъ „его высочеству".
4. Между сномъ и явью.
Но кто же такой въ самомъ дѣлѣ этотъ маркизъ Санъ-Діонисіо, какъ
очутился на берегахъ Невы и почему капитанъ Раухъ называлъ его „ми-
лымъ барономъ"?
Маркизъ Санъ-Діонисіо — псевдонимъ, вмѣстѣ съ фальшивымъ пас-
портомъ сфабрикованный. Это давало право и возможность маркизу, какъ
гражданину, если пока и не союзной, то во всякомъ случаѣ, нейтральной
Италіи, путешествовать по Россіи, какъ говорится, вдоль и поперекъ.
Но ему нуженъ былъ Петроградъ и въ немъ онъ обосновался.
Усача звали барономъ Тугутомъ. Онъ былъ потомкомъ, прославив-
шагося своей бездарностью въ эпоху Суворова, австрійскаго генерала
Ту гута.
Потомокъ его, задрапировавшійся впослѣдствіи въ плащъ маркиза
Санъ-Діонисіо, вышелъ офицеромъ въ кавалерійскій полкъ. Но, странное
дѣло, баронъ Тугутъ не могъ тамъ долго удержаться. Его переводили
изъ одной части въ другую, изъ полка въ полкъ, изъ Галиціи въ Боснію,
изъ Босніи въ Грацъ, и такъ далѣе, до того знаменательнаго дня, когда
барону Тугуту пришлось уже на вѣки вѣчные разстаться съ мундиромъ
австрійскаго офицера.
За что свалилась на него такая бѣда, — никто не могъ сказать въ
точности. По одной версіи Тугутъ плутовалъ въ карты и это, въ концѣ
концовъ, разоблачено было скандальнымъ и шумнымъ образомъ въ пол-
ковомъ казино.
По словамъ другихъ, замѣшалось какое-то грязное дѣло съ вексе-
лями, подъ которыми этотъ кавалерійскій лейтенантъ умудрился на диво
скопировать подпись извѣстнаго магната-милліонера князя Шварценберга.
Такъ-ли, нѣтъ-ли,—кто его разберетъ... Превратившись въ штатскаго
джентльмэна, Тугутъ жилъ толчками, неровно. То швыряя деньгами, то
нуждаясь.
Такъ какъ почти отъ каждаго австрійскаго офицера требуется зна-
ніе, по крайней мѣрѣ, двухъ славянскихъ языковъ, то въ Галиціи баронъ
Тугутъ изучилъ русскій языкъ, въ Босніи сербскій.
Это пригодилось ему, когда онъ очутился на службѣ въ тайномъ
развѣдочномъ бюро при вѣнскомъ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Тамъ
никому не было дѣла до его прошлаго. Наоборотъ, чѣмъ темнѣе и гряз-
нѣй прошлое,—тѣмъ лучше. Агенту съ подмоченной репутаціей закрыты
всѣ двери, некуда больше дѣваться. И онъ, хочетъ, не хочетъ, будетъ
служить вѣрой и правдою.
Баронъ Тугутъ получалъ неоднократныя командировки на Балканы,
вообще, и въ Сербію въ частности.
97
7
Онъ бороздилъ по всей Адріатикѣ, посылали его полушпіономъ, по-
луэмисаромъ въ Албанію укрѣплять черезъ патеровъ и монаховъ австрій-
ское вліяніе и ослаблять итальянское.
А тутъ какъ разъ подоспѣла опереточная эпопея коронованія принца
Вида короною Скандербека.
Скороспѣлая стряпня новаго княжества съ принцемъ-дегенератомъ
во главѣ, сопровождалась такимъ-же лихорадочнымъ „возсозданіемъ" чи-
новъ двора и высшихъ должностей.
Германскіе и австрійскіе проходимцы и авантюристы, вышвырнутые
за всякіе грѣхи изъ своихъ собственныхъ отечествъ, кинулись въ Алба-
нію, въ чаяніи наживы и теплыхъ мѣстечекъ.
Понравился ли баронъ Тугутъ своей дипломатической лысиною и
ястребинымъ профилемъ вновь испеченной владѣтельной особѣ, или дру-
гого выбора не было, но только выгнанный австрійскій офицеръ сдѣланъ
былъ первымъ и единственнымъ гофмаршаломъ „фюрста" Вида Албанскаго.
Тугутъ сшилъ себѣ въ Тріестѣ, имъ же самимъ сочиненный фанта-
стическій гофмаршальскій мундиръ и зажилъ припѣваючи, напиваясь и
наѣдаясь всласть за княжескимъ столомъ, куря княжескія сигары и завѣ-
дуя несложнымъ хозяйствомъ маленькаго двухэтажнаго дома важно вели-
чаемаго Палэ-Роял мъ.
Баронъ Тугутъ возомнилъ себя настоящимъ придворнымъ сановни-
комъ, усвоилъ величавыя манеры и въ свободное время училъ ѣздить
верхомъ на маленькихъ пони дѣтей новаго своего монарха.
Но эта очаровательная идиллія на берегу Дураццкаго залива продол-
жалась недолго. Подобно карточному домику рухнуло опереточное кня-
жество и длинный, вѣчно улыбающіеся Видъ бѣжалъ на германскомъ
крейсерѣ... II разсыпалсл весь его дворъ... Гофмаршалъ остался не у дѣлъ,
сохранивъ фантастическій мундиръ, какъ воспоминаніе о своемъ призрач-
номъ кратковременномъ величіи.
Въ одномъ чемоданѣ съ мундиромъ онъ, профессіональный сыщикъ,
увезъ кипу выкраденныхъ „на всякій случай", изъ скутарійскаго архива
бумагъ и док ментовъ.
Разбираясь на досугѣ въ этихъ пожелтѣвшихъ отъ времени, съ во-
сковыми печатями листахъ и пергаментахъ, баронъ Тугутъ напалъ на
слѣдъ исчезнувшей династіи Марлявчевичей, королей Зеты.
Очутившись вновь иа службѣ у австрійцевъ по тайной развѣдкѣ,
баронъ Тугутъ съ фальшивымъ паспортомъ, сфабрикованнымъ для него
министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, удостоился видной командировки въ
Петроградъ на все время войны.
Онъ зналъ, что слѣды исчезнувшихъ Марлявчевичей надо искать въ
Россіи. Онъ рѣшилъ найти хоть какого-нибудь, пусть даже самаго захуда-
лаго потомка, нѣкогда славнаго королевскаго рода. Потомокъ былъ ну-
женъ Тугуту, какъ орудіе, какъ новая приманка, на которую пошла бы
часть скутарійскихъ албанцевъ-католиковъ и,—кто знаетъ,—быть можетъ
примкнули бы еще и тѣ черногорскіе элементы, которые недовольны пра-
вительствомъ своего короля Николая. Ослабленіе Черногоріи входило
весьма и весьма въ австрійскіе интересы.
И вотъ баронъ Тугутъ, для Петрограда маркизъ Санъ Діонисіо,
отыскалъ титулярнаго совѣтника Марлявчевича, явился къ нему и сразу
огорошилъ бѣднаго молодого человѣка „ваші мъ высочествомъ".
- 9« -
Не огорошилъ, нѣтъ.., Мало того,—ошеломилъ! Перевернулъ все
вверхъ дномъ, и какъ перевернулъ, въ безмятежномъ укладѣ, тусклой
жизни этого человѣка и даже не человѣка, а человѣчка двадцатаго числа.
Маркизъ Санъ-Діонисіо,—уходя онъ назвалъ себя, скрылся съ глу-
бокимъ придворнымъ поклономъ, оставивъ Марлявчевича неподвижнымъ,
растеряннымъ, все еще охваченнымъ деревенящимъ столбнякомъ.
Онъ такъ не принадлежалъ самъ себѣ, такъ ушли куда-то послѣдніе
остатки физической воли, что онъ даже не нашелся протянуть маркизу
на прощанье руку, не сдѣлалъ нѣсколькихъ шаговъ проводить его.
Какое тамъ... Гдѣ ужъ!..
Руки безжизненно опустились,какъ двѣ плети, а къ ногамъ привѣсилась
неимовѣрная тяжесть,—гирями стопудовыми, -съ мѣста не сдвинуться.
Онъ такъ и не сомкнулъ глазъ... Не до сна было. За всю свою жизнь
Марлявчевичъ столько не передумалъ, какъ за эту долгую, осеннюю
петроградскую ночь...
Это не были думы. Это были скачущіе зигзаги воспаленной мысли..
Это были кошмары между легкимъ забытьемъ и дѣйствительностью. Че-
ловѣкъ съ ястребинымъ профилемъ заводилъ какой-то механизмъ и ми-
ніатюрные, кукольные короли, принцессы и принцы въ горностаяхъ и
длинныхъ мантіяхъ танцовали кадриль на шахматной доскѣ... Почему на
шахматной?..
Моментами казалось чиновнику, что этотъ маркизъ Санъ-Діонисіо,—
фантомъ, созданный воображеніемъ послѣ кинематографической драмы „изъ
придворно-великосвѣтской жизни".'..
Но фантомы не оставляютъ послѣ себя никакихъ слѣдовъ. А между
тѣмъ Марлявчевичъ слышалъ явственно запахъ душистой эссенціи, исхо-
дившей отъ сверкающей лысины маркиза и такъ основательно пропи-
тавшей воздухъ этой крохотной комнатки.
Да и завтрашній день совсѣмъ не за горами. Этотъ нежданно, не-
гаданно свалившійся откуда-то демонъ-искуситель пригласилъ Марлявче-
вича къ себѣ въ „Семирамисъ-отель" завтракать... Дабы не было никакихъ
сомнѣній, маркизъ обѣщалъ познакомить его со всѣми, касательно правъ
на корону Зеты, документами.
Молчавшій все время титулярный совѣтникъ выдавилъ, однако изъ
себя:
— Вы приглашаете меня къ часу... Но я же не могу отлучиться са-
мовольно въ служебные часы... Пожалуй, столоначальникъ сдѣлаетъ вы-
говоръ. Формалистъ. Педантъ! Петръ Петровичъ Гутковъ... Чуть опоз-
даешь немного, такимъ волкомъ глянетъ...
Маркизъ Санъ-Діонисіо, при всей своей внѣшней формѣ глубокаго
почтенія къ претенденту на древній престолъ Зеты, не могъ удержаться
отъ улыбки.
— Ваше высочество, что теперь ваша служба вмѣстѣ съ какимъ-то
господиномъ Гутковымъ? Службу надо немедленно оставить! Завтра же я
буду имѣть честь вручить вашему высочеству нѣкоторую сумму золо-
томъ... На первое время... Здѣсь, въ этихъ комнатахъ неудобно оставаться
будущему королю Зеты. Завтра же ваше высочество соблаговолитъ пере-
ѣхать въ мой отель... Рядомъ со мною имѣется свободный, прелестный
компартиманъ изъ трехъ уютныхъ комнатъ. Вернувшись домой, я тот-
часъ же велю дирекціи оставить это помѣщеніе за собою... Конечно,
99
можно было бы снять особнякъ, но—не имѣетъ смысла. Пройдетъ мѣсяцъ-
другой и мы двинемся съ вашимъ высочествомъ туда, къ албанско-черно-
горской границѣ, чтобы спустя шесть вѣковъ, Зета вновь увидѣла своего
законнаго государя.
Всю ночь раскаленнымъ желѣзомъ пылалъ мозгъ Марлявчевича въ
непосильной, нечеловѣческой работѣ. Недаромъ же самъ маркизъ ска-
залъ: „Точно въ сказкѣ"...
И слушай послѣ этого говорящихъ, что въ жизни такъ никогда не
бываетъ какъ въ романахъ... А вѣдь это любому „роману съ приключе-
ніями"—носъ утретъ. Иванъ Антоновичъ Марлявчевичъ, титулярный со-
вѣтникъ, родившійся на глухомъ черниговскомъ хуторѣ, оказывается
вдругъ законнымъ претендентомъ на затерянный въ какихъ-то далекихъ
Балканскихъ горахъ,—онъ и самъ не знаетъ, гдѣ это на картѣ,—престолъ.
Марлявчевичъ уже не владѣлъ собою, загипнотизированный этимъ
маркизомъ, давшимъ такую непосильную, сумасшедшую работу его во-
ображенію.
Ни на минуту не сомкнувъ глазъ, утромъ Марлявчевичъ посмотрѣлъ
въ зеркало. На него глянула оттуда собственная тѣнь... Лицо пожел-
тѣвшее, ввалились глаза, то погасающіе, то воспаленные и набухли подъ
ними какіе-то мѣшки... Словно послѣ кутежа..,
Да развѣ не была кутежемъ вся эта ночь кошмаровъ, сомнѣній, бе-
зумныхъ вспышекъ радости, фантасмагорій?..
— Нельзя такъ... Необходимо похмѣлье... Отрезвить голову, освѣ-
житься...
Онъ позвонилъ кривоглазую Лушу.
Несуразная фигура наивной деревенщины выросла на порогѣ.
— Паво?
— Во-первыхъ, не „чаво", а что угодно?.. Или, что изволите прика-
зать?.. А, во-вторыхъ, спросите хозяйку, сколько будетъ стоить холодная
ванна? Изъ-подъ крана, безъ горячей... Горячая стоитъ шестьдесятъ я знаю...
За тридцать копѣекъ Марлявчевичъ принялъ холодную ванну и, освѣ-
жившійся, бодрый, сѣлъ писать прошеніе объ отставкѣ. Сѣлъ не безъ
колебаній... А вдругъ все это мыльный пузырь, миѳъ, и онъ останется на
бобахъ?..
Но гипнозъ разсѣялъ по вѣтру всѣ колебанія, и прошеніе, выве-
денное четкимъ канцелярскимъ почеркомъ, было готово. Марлявчевичъ
сложилъ его вчетверо и сунулъ въ боковой карманъ.
Онъ хотѣлъ произвести эффектъ и нарочно тянулъ время, чтобъ
опоздать на цѣлый часъ.
Товарищи уже сидѣли на мѣстахъ, уже успѣли накуриться, напол-
нить свои желудки сладкимъ, жиденькимъ казеннымъ чаемъ, успѣли по-
работать и посудачить... Онъ вошелъ въ отдѣленіе, загадочный, непрони-
цаемый.
Товарищи многозначительно переглядывались, ожидая чреватую по-
слѣдствіями головомойку такъ дерзко, на битый цѣлехонькій часъ опоз-
давшему Марлявчевичу.
Гутковъ, хлыщеватый блондинъ въ золотомъ пенснэ, только и ждалъ
его, чтобъ накинуться своимъ визгливымъ теноркомъ.
— Это безобразіе!.. Какъ вы смѣли опоздать, господинъ Марлявче-
впчъ?.. Вы отлично знаете, что этого я у себя не допускаю. Понимаете,
не до-пу-скаю!.. Кто не хочетъ служить, предпочитая гранить мостовыя,
пусть убирается вонъ... Зарубите это себѣ на носу, господинъ Марлявче-
вичъ!.. Зарубите!..
Марлявчевичу не разъ приходилось выслушивать и проглатывать по-
добные окрики, грубые, рѣзкіе. И онъ копилъ ихъ въ своей душѣ, тер-
пѣливо, безропотно, молча.
Теперь же, теперь онъ можетъ себѣ позволить роскошь огрызнуться.
И онъ смотрѣлъ на Гуткова безъ вызова, но и безъ волненія.
— Что вы на меня уставились? Терпѣть не могу, когда молчатъ...
Говорите же, оправдывайтесь, чортъ побери?..
— Я и не намѣренъ оправдываться.
— Что-о? Что такое? Дерзости!.. Да я васъ...
Вчера еще Марлявчевичъ завидовалъ Гуткову, его власти, его тремъ
тысячамъ рублей въ годъ, его умѣнью одѣваться... А теперь... теперь онъ
его презиралъ.
— Вы не кричите, я не глухой. И, вообще, оставьте вашъ хамскій
тонъ...
Всѣ въ изумленіи подняли головы. Самъ Гутковъ опѣшилъ, блѣдный,
съ трясущимся пенснэ. А Марлявчевичъ добилъ его окончательно:
— Я не желаю больше служить съ такимъ господиномъ, какъ вы!
Не желаю!.. Вотъ мое прошеніе объ отставкѣ!
И онъ почти швырнулъ Гуткову вчетверо сложенный листъ... Гла-
замъ не повѣривши, Гутковъ сразу вдругъ измѣнился.
— Вы напрасно горячитесь, Йванъ Антоновичъ... Напрасно... Между
товарищами - сослуживцами, мало ли что... нельзя же всякое лыко въ
строку... Я, вѣдь, самъ человѣкъ маленькій, съ меня тоже спрашиваютъ...
Неужели уходите? Совсѣмъ, или куда-нибудь?.. Получили наслѣдство?..
— Да, и очень большое!..
— Поздравляю. Отъ души! Руку вашу!.. Иванъ Антоновичъ! Дай
вамъ Богъ!.. Милости просимъ.. Заходите иногда провѣдать по старой
памяти... Я всегда къ вамъ хорошо относился... Всегда за васъ горой
стоялъ...
Гутковъ говорилъ, говорилъ, съ каждымъ словомъ все унижаясь и
унижаясь. Онъ былъ противенъ Марлявчевичу, этотъ всегда надменный,
заносчивый, франтоватый столоначальникъ.
„Если-бъ онъ зналъ... если-бъ только всѣ они знали!--думалъ торже-
ствующій принцъ Зеты...
5. Предатели.
Мясниковъ пріѣхалъ по обыкновенію раньше всѣхъ. Это уже заве-
дено было разъ навсегда. Такъ полагалось. На немъ лежала „хозяй-
ственная" часть всѣхъ этихъ товарищескихъ обѣдовъ и ужиновъ. Вѣрнѣе,
обѣдовъ-ужиновъ, такъ какъ обыкновенно компанія, собравшись часамъ
къ семи, расходилась изъ „Мясниковскаго кабинета" лишь на разсвѣтѣ,
а иногда и бѣлымъ днемъ.
Подвижной, даже черезъ-чуръ подвижной, вѣчно исчезающій изъ
Петрограда, и такъ же внезапно возвращающійся изъ своихъ таинствен-
ныхъ отлучекъ, Мясниковъ любилъ кабацкую атмосферу.
ІОІ
Ему нравилось валяться на широкихъ диванахъ, дышать немного
затхлымъ воздухомъ непровѣтреннаго кабинета, видѣть передъ собою
угодливое, безстрастное лицо метръ д’отеля, закуривать сигары о свѣчи
аляповатыхъ бронзовыхъ канделябровъ.
А дальше... дальше разгулъ, когда на смѣну? самой условной азбучной
сдержанности, является распоясанность во всю... Люди наѣлись до отвала
и такъ напились, что вино потеряло свой вкусъ и его пьютъ, какъ воду,
пьютъ потому, что надо же въ себя что-нибудь вливать... Иначе кутежъ, -
не кутежъ...
Руки мужчинъ, цинично, грубо, по хамски, мнутъ разгоряченное,
потное женское тѣло въ дорогихъ, залитыхъ виномъ и ликеромъ круже-
вахъ и тряпкахъ...
Дальше... съ топотомъ и гиканьемъ пестрой, смуглой ордою ввали-
вается хоръ цыганъ...
Летятъ сторублевки, пригоршни золотыхъ монетъ... Оргія продол-
жается въ винныхъ парахъ, въ сизомъ туманѣ сигарнаго дыма...
Итакъ, Мясниковъ явился прежде всѣхъ. Онъ развалился на диванѣ,
большой, крѣпкій, плечистый, грѣясь у пылающаго камина.
Плотно спущены шторы оконъ, выходящихъ въ громадный общій
залъ. Горитъ электричество.
Коротко остриженный, полный, во фракѣ, татаринъ съ обрюзгшимъ,
зеленоватымъ лицомъ, не знающимъ ни моціона, ни свѣжаго воздуха, ко-
мандуетъ нѣсколькими татарчатами, звенящими посудой.
Метръ-д’отель, славящійся тѣмъ, что похожъ, какъ двѣ капли воды,
на молодого чиновника, весьма элегантнаго департамента, стоитъ, изогнув-
шись, надъ Мясниковымъ.
Громкимъ, хрипловатымъ голосомъ Андрей Андреевичъ Мясниковъ
отдаетъ послѣднее распоряженіе:
— Потомъ зернистая икра въ жбанѣ со льдомъ... Какъ всегда...
Прошлый разъ, мосье Герье, бѣлорыбица была не на высотѣ... Такую
надо мягкую и жирную, чтобы ее можно было ѣсть чайной ложечкой...
Горячая закуска хороша... Только не умѣютъ у васъ приготовлять аму-
ретокъ...
Мосье Герье вопросительно приподнялъ свои черныя, густыя у пере-
носицы брови.
— Амуретки!.. Прожаренныя, понимаете, въ маслѣ?.. Черный хлѣбъ,
нарѣзанный этакими ромбиками и въ каждомъ ромбикѣ — ямочка. А въ
этихъ ямочкахъ—запечены мозги. Такая закуска подъ водку—одно обп я-
деніе!.. Пальчики оближешь... Понимаете?.. Нѣтъ, вы не понимаете... По
глазамъ вижу!.. Немного погодя самъ пройду на кухню.
Мясниковъ былъ высокій, сильный мужчина, лѣтъ пятидесяти, съ
краснымъ, помятымъ лицомъ. Онъ какъ-то странно подбривалъ усы, и
поэтому они начинались не сразу? надъ верхней губою, а шла надъ нею
синеватая пробритая полоска. Брезгливая, непріятная складка, всегда, въ
какомъ бы ни былъ Андрей Андреевичъ настроеніи, кривила губы... И
при этомъ, холодное, жесткое выраженіе сѣро-зеленыхъ кошачьихъ глазъ.
Метръ-д’отель ушелъ, пятясь съ поклономъ къ дверямъ. Нельзя иначе.
Необходимо особенное профессіональное искательство по отношенію къ
гостю, оставляющему? въ этомъ кабинетѣ, въ среднемъ, около трехъ-че-
тырехъ тысячъ въ мѣсяцъ.
102
Андрей Андреевичъ взглянулъ на часы, золотые, массивные, усыпан-
ные брилліантами, съ чернымъ одноглавымъ орломъ на крышкѣ—личный
подарокъ германскаго императора Вильгельма.
Одиннадцать съ минутами. Есть еще время. Остальные съѣдутся не
раньше полуночи. Андрей Андреевичъ знакомой дорогою отправился на
кухню, чтобъ своими глазами послѣдить за изготовленіемъ вкусныхъ аму-
ретокъ.
Вернувшись, Мясниковъ уже засталъ въ кабинетѣ Рауха и маркиза
Санъ-Діонисіо, съѣхавшихся почти одновременно.
— А баронъ Ротку съ?..
— Роткусъ просилъ не ждать... Онъ будетъ значительно позже.
— Августъ, почему ты не взялъ съ собою Марію Сергѣевну?—спро-
силъ Мясниковъ Рауха.
— Неудобно!.. У насъ здѣсь всегда развязываются языки, а я не хочу
открывать передъ нею всѣ наши карты. Зачѣмъ?.. Видишь ли, я ее очень
люблю, но не могу вполнѣ довѣриться... Такъ лучше... Политика—поли-
тикой, постель—постелью!.. Смѣшивать то и другое—не всегда бываетъ
удобнымъ.
— Какъ на чей вкусъ!..—возразилъ Мясниковъ.—Я съ моей Бертой
отлично примиряю и то, и другое...
— • Ты забываешь, мой другъ, Берта нѣмка,—это во-первыхъ, и твоя
вѣрная сообщница,—во-вторыхъ... Вы вмѣстѣ дѣлаете ваши общія дѣла.
Что же касается моей Маріи Сергѣевны, то она приходитъ въ телячій
восторгъ, если русскіе бьютъ нѣмцевъ, и ноетъ, когда нѣмцы бьютъ рус-
скихъ... Самъ согласись?..
— Да?.. Въ такомъ случаѣ, разумѣется... Ну, друзья мои, прошу са-
диться... Берту не будемъ ждать, подъѣдетъ съ минуты на минуту. Что же
касается Эллы-Стэллы, она кончитъ номеръ въ „Акваріумѣ" не раньше
половины второго. А слѣдовательно, будетъ здѣсь только къ двумъ...
— Аппетитная баба! Пользуется сумасшедшимъ успѣхомъ,—замѣтилъ
Раухъ.—Ты видѣлъ, какъ у нея ходитъ животъ?.. Честное слово, усидѣть
невозможно!..
— Да, эта умѣетъ!..—плотоядно шевельнулись тараканьи усы барона
Тугутъ,—онъ же маркизъ Санъ-Діонисіо.
— Она была у меня съ письмомъ отъ брата... У нихъ вѣдь давниш-
няя гм... гм... близость...—молвилъ Раухъ.—Братъ пишетъ, что она прошла
его школу...
— 1 вой Куртъ патентованный развратникъ!.. Я вѣдь хорошо его
знаю... по Берлину... подхватилъ Мясниковъ.
— Онъ у меня молодецъ по этой части!..—ухмыльнулся Раухъ.—Но
въ данный моментъ я имѣю въ виду нѣчто другое. Она можетъ содѣй-
ствовать нашимъ цѣлямъ. Надо использовать ея красоту, къ слову сказать,
чертовски соблазнительную... Да, вотъ кстати... Вчера ты говорилъ мнѣ
о планахъ Вышгородской крѣпости- обратился Раухт> къ Тугуту. - Вчера,
какъ разъ, вечеромъ, я съ компаніей моихъ акціонеровъ по Бѣлозерскому
судостроительному заводу былъ въ Акваріумѣ... За сосѣднимъ столикомъ
сидѣлъ полковникъ Шепетовскій... Надо было его видѣть во время тан-
цевъ Эллы-Стэллы... Весь загорѣлся!...
- Ничего не выйдетъ, — перебилъ Мясниковъ.—Я прекрасно знаю
Шепетовскаго. Его не купишь ни за какіе милліоны...
— юз —
— Погоди, дай кончить... Я самъ не хуже тебя знаю Шепетовскаго.
О подкупѣ не можетъ быть и рѣчи. Но, чего нельзя купить, то иногда
можно, при извѣстной удачѣ, выкрасть. Важно, чтобъ Элла Стелла про-
никла къ Шепетовскому... А это не трудно. Онъ бонъ-виванъ, холостякъ,
и, это самое главное для насъ, у него временно хранятся планы Вышго-
родской крѣпости... Почему-бы этой плясуньѣ, буде она воспользуется слу-
чаемъ, не скопировать то, самое важное и существенное, что насъ инте-
ресуетъ?.. Братъ Куртъ нѣсколько мѣсяцевъ занимался съ нею. Подъ его
руководствомъ она великолѣпно усвоила искусство черченія и въ особен-
ности калькированія... Намъ важно что?... Калечка!..
— Ты правъ,—согласился Андрей Андреевичъ.—Но объ этомъ послѣ.
Обмозгуемъ сообща вмѣстѣ съ этой гастролершей, а теперь—пить и ѣсть!..
'Ѣсть и пить!.. Жрать адово хочется!.. Посмотри, какъ соблазнительно вспо-
тѣлъ графинчикъ съ холодной водкой? Сейчасъ намъ подадутъ амуретки...
Татарва суетливо забѣгала вокругъ стола, привычной рукою наливая
рюмки, ловко м іневрируя тарелками и тарелочками со всякой всячиной.
— Господа, усиленно рекомендую бѣлорыбицу!.. Наконецъ-то мусье
Герье оказался на высотѣ... Вмѣсто вилки ее можно ѣсть чайными ло-
жечками... Таетъ, блеститъ... А во рту—вкусъ жирныхъ сливокъ..
— Вотъ и баронъ!..
Роткуса, весьма корректно одѣтаго во все черное, во все, отъ визитки
до перчатокъ включительно, всѣмъ своимъ видомъ напоминающаго какую-то
черную, зловѣщую птицу, сообщники тогда лишь замѣтили, когда онъ по-
дошелъ къ нимъ вплотную.
Брюнетъ, скорѣй южнаго, чѣмъ прибалтійскаго типа, хотя былъ чи-
стокровный остзейскій баронъ, Роткусъ съ перваго-же взгляда обращалъ
вниманіе своимъ неподвижнымъ и соннымъ лицомъ. И глаза неподвижные,
сонные, тусклые, безъ игры и безъ блеска...
Эта окаменѣлость всего внѣшняго облика мѣшала барону быть кра-
сивымъ мужчиной. А между тѣмъ, если всмотрѣться въ его четкія, породистыя
черты, каждая въ отдѣльности была несомнѣнно красива. Въ отдѣльности!..
А въ общемъ,—какой-то ходячій гальванизированный трупъ, съ глухимъ
замогильнымъ голосомъ. Совсѣмъ недавно еще баронъ Роткусъ занималъ
видное мѣсто, и даже не мѣсто, а скорѣе постъ, въ одномъ изъ вліятель-
ныхъ вѣдающихъ тайники и глубины внутренней политики, учрежденій.
Онъ сажалъ угодныхъ ему консервативныхъ губернаторовъ, а не-
Йгодныхъ, заподозрѣнныхъ въ самомъ невинномъ либерализмѣ, смѣщалъ.
I такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока въ одинъ прекрасный день,—
для барона онъ вовсе не былъ такимъ ужъ прекраснымъ, — Роткуса са-
мого смѣстили.
Онъ остался не у дѣлъ, причисленный къ министерству.
Неизвѣстно, что творилось въ его душѣ,—не докопаешься,—но внѣшне
баронъ остался прежнимъ такимъ, какъ и былъ, въ своемъ хроническомъ
состояніи мертвенной окаменѣлости.
Онъ и кутилъ всегда, какъ если-бъ сидѣлъ за поминальнымъ сто-
ломъ. Вливая въ себя уйму всякихъ, въ самомъ прямомъ значеніи слова,
сногсшибательныхъ напитковъ, онъ никода не хмѣлѣлъ, и никогда не за-
горались его тусклые глаза.
Вотъ и сейчасъ, подсѣвъ къ ожидавшему его прибору и методически
снявъ черныя перчатки, Роткусъ принялся молча глушить водку. Именно
104
глушить... Угрюмо, спокойно, съ точными промежутками, до секунды тач-
ными,—отъ одной рюмки до слѣдующей.
Мясниковъ думалъ удивить Роткуса амуретками.
— Попробуй!.. Да сначала мозги посоли. Это я здѣсь культиви-
рую...
Рукою съ вылощенными твердыми ногтями, баронъ отодвинулъ блюдо,
не взглянувъ даже на Мясникова.
— Не хочу. Я предпочитаю соленую закуску. А это подавалось
на обѣдахъ у... и Роткусъ назвалъ бывшаго министра внутреннихъ
дѣлъ.
— Что новаго?—спросилъ Раухъ человѣка съ неподвижнымъ лицомъ,
по старой памяти имѣвшаго крупныя бюрократическія связи. Продолжая
цѣпляться за эти связи, Роткусъ зналъ многое такое, чего не знаютъ
обыкновенные смертные.
Глухимъ, замогильнымъ голосомъ чревовѣщателя онъ сталъ дѣлиться
послѣдними новостями.
— Только что случайно поймалъ интересную новость. Въ Берлинѣ
она вызоветъ ликованіе. Надо сегодня же въ ночь сообщить въ Стокгольмъ,
даже лучше въ Копенгагенъ аллегорической гелеграммой... Выступленіе
Румыніи вмѣстѣ съ союзниками висѣло на волоскѣ. И теперь этотъ во-
лосокъ оборвался...
— Почему?
— Имъ хотѣлось заполучить кусокъ Бессарабіи, а предлагали Банатъ.
Это крупная дипломатическая гаффа. Вы представляете себѣ, лѣвое
крыло русскихъ, усиленное свѣжей, перволинейной четырехсотысяч-
ной арміей?.. И пока спохватились бы нѣмцы,— прямой цуть на Буда-
пештъ...
- Браво, Роткусъ, браво...
— Надо скорѣе телеграфировать... Нашъ радіо-телеграфъ на вер-
хушкѣ Семирамиса бездѣйствуетъ, къ сожалѣнію. Что-то испортилось.
Ремонтъ займетъ двое сутокъ.
Потребовали чернилъ, телеграфныхъ бланковъ и сообща, запретивъ
прислугѣ входить, занялись редактированіемъ аллегорической телеграммы
въ Копенгагенъ на имя какого-то Жиберти. Это былъ условный псевдо-
нимъ германскаго посланника въ Даніи фонъ Луціуса.
Текстъ депеши самый невинный:
„Спѣшимъ увѣдомить васъ, что большая партія бессарабскаго вина,
которую вы имѣли въ виду, никоимъ образомъ продана быть не можетъ.
Вино останется на мѣстѣ для нуждъ страны".
— Чикъ, и готово!., громко, раскатисто усмѣхнулся Андрей Андрее-
вичъ, весело потирая свои большія, сильныя руки.—Надо немедленно отпра-
вить срочно. Кто это сдѣлаетъ?
— Мой шофферъ, — отозвался Раухъ.—Мигомъ слетаетъ. Я сейчасъ
велю его позвать.
На сцену появился Іоганнъ въ своей полярной дохѣ, такой странной
средь этой кабинетной обстановки. Онъ выпилъ поднесенную громадную
рюмку коньяку и взявъ деньги и телеграфный бланкъ, исчезъ вмѣстѣ со
своей дохою...
Лакей распахнулъ дверь... Раздался визгливый, женскій смѣхъ, и, за-
кутанная въ ротонду и капоръ, вошла Берта.
- іо5 -
6. Двадцать лѣтъ спустя.
У него это давно уже началось...
Вѣрнѣе, никогда не проходила мучительная тоска по Россіи. На свой
постылый мундиръ турецкаго офицера, мундиръ, который ему же еще при-
ходилось защищать отъ унизительныхъ оскорбленій, онъ смотрѣлъ, какъ
на покаянныя вериги какія-то, вериги, надѣтыя двадцать лѣтъ назадъ,—
жестокая расплата за мальчишескую горячность, которую одни называютъ
рыцарствомъ, другіе оскорбленіемъ командира, въ запальчивости и раз-
драженіи. Лишь только вспыхнула война между русскими и австро-гер-
манцами, Зауръ-бей хотѣлъ вернуться съ повинной' Будь, что будетъ! Не-
ужели вспомнятъ грѣхъ его далекой молодости? Такой далекой, что воспо-
минанія стерлись, потускнѣли и развѣ лишь какіе-нибудь отдѣльные мо-
менты вспыхиваютъ сквозь туманную пелену забвенія, съ ослѣпительной
яркостью..,
Неужели двадцать лѣтъ подневольнаго изгнанія, двадцать лѣтъ жизни
турецкаго офицера, когда онъ, Зауръ-бей, весь—русскій, весь, и душою
и помыслами,—неужели все это было для него слабымъ, недостаточнымъ
наказаніемъ?..
Онъ умолялъ бы дать ему возможность поѣхать на фронтъ, пусть
даже въ сѣрой шинели рядового солдата. И онъ, который не боится ни-
чего, одинаково презираетъ и опасность, и смерть, онъ либо искупилъ-бы
свой дисциплинарный грѣхъ цѣлымъ рядомъ подвиговъ, либо сложилъ-бы
свою буйную, мятежную голову, — другое, самое тяжкое, самое великое
искупленіе...
Думалъ объ этомъ Зауръ-бей, думалъ, ночей не спалъ, обуреваемый
пылкими порывами, одинъ другого, благороднѣй, одинъ другого пре-
краснѣй...
И онъ пьянѣлъ, такъ чудно, такъ романтически, какъ никогда не
пьянѣлъ отъ вина... И слезы, вдохновенныя слезы туманили его большіе
орлиные глаза и онъ не стыдился этихъ слезъ, потому что никто ихъ не
видѣлъ...
Но всѣ порывы эти отравлялись ядомъ сомнѣнія. А что, если его
ждетъ разочарованіе? Что, если его накажутъ вдвойнѣ, и за проступокъ,
и за дезертирство, и вмѣсто позицій, ушлютъ безправнымъ арестантомъ
куда-нибудь въ Сибирь, на край свѣта?..
Вѣдь онъ съ кипучей натурой своею, жаждою безудержнаго про-
стора, —зачахнетъ въ неволѣ.
Если такъ, и вмѣсто солдатской шинели его ждетъ арестантскій ха-
латъ,—прощай всѣ мечты!..
Голова работала напряженно и страстно, работала, ища выхода.
Есть выходъ... Единственный... Вернуться въ Россію подъ чужимъ
именемъ, съ чужимъ паспортомъ... Двадцать лѣтъ минуло... Врядъ-ли его
помнятъ... Да и за это время онъ такъ успѣлъ измѣниться...
Гдѣ-то на. днѣ чемодана, какъ блѣдный отзвукъ былыхъ воспомина-
ній, валялся выцвѣтшій фотографическій снимокъ... Зауръ-бей, тотчасъ-же
по производствѣ въ корнеты. Даже отецъ, увы, покойный, еслибъ всталъ
изъ могилы, не узналъ-бы своего сына въ теперешнемъ Заурѣ, облысѣв-
шемъ, въ рѣзкихъ морщинахъ, этой глубокой печати пережитаго.
- іоб —
Чужой паспортъ далъ-бы ему возможность поступить добровольцемъ
въ одинъ изъ кавалерійскихъ полковъ. И тогда, Господи, какія захваты-
вающія, героическія картины рисовались его пламенѣющему воображенію...
Такъ шелъ день за днемъ, то въ горькихъ сомнѣніяхъ, то въ приз-
рачныхъ восторгахъ.
Убѣдившись, что выступленіе Турціи неминуемо, Зауръ-бей уже
твердо, безъ всякихъ колебаній, рѣшилъ бѣжать... Другого выбора не
было. Оно скорѣй разможжитъ себѣ черепъ, нежели двинется съ полкомъ
на русскую границу... А его полкъ, вмѣстѣ съ отборнымъ константинополь-
скимъ корпусомъ, должны были бросить въ первую очередь.
Случай помогъ Зауру...
Капитанъ Куртъ фонъ-Раухъ недаромъ хвасталъ въ своемъ письмѣ къ
„милому барону", что нѣмцы успѣшно подкупаютъ фанатическую чернь, наусь-
кивая ее на застрявшихъ въ Стамбулѣ англичанъ, французовъ и русскихъ...
Повсюду, и въ мусульманскихъ кварталахъ, и даже на Перѣ, нача-
лись избіенія всѣхъ европейцевъ, „воюющихъ" съ Германіей. Нѣмецкіе
агенты руководили этими избіеніями при благосклонном ъ содѣйствіи мѣст-
ной полиціи, тоже сплошь закупленной.
И вотъ, на другой-же день послѣ своего объясненія съ Энверомъ,
черкесъ былъ свидѣтелемъ такой картины:
Шелъ по панели человѣкъ среднихъ лѣтъ, съ характернымъ лицом ъ
равниннаго русака, со свѣтлой бородкою и въ чечунчовомъ костюмѣ.
Шелъ, не спѣша, останавливаясь у магазинныхъ витринъ. Вдругъ, откуда
ни возьмись, высыпала изъ сосѣдняго переулка горсть оборванцевъ, въ
лохмотьяхъ, въ сползающихъ, обмотанныхъ у низкой таліи, широкимъ
поясомъ, „балканскихъ" штанахъ. Черномазыя, шафраннаго цвѣта озвѣрѣ-
лыя лица подъ засаленными фесками... Дико горятъ горятъ глаза. Этой
бандой, вооруженной дубинами и обломками веселъ, предводительствовалъ
субъектъ въ котелкѣ,—ярко выраженнаго тевтонскаго типа.
Онъ подошелъ къ человѣку въ чечунчовомъ костюмѣ, нахально за-
глянулъ ему прямо въ лицо, и мигнулъ своимъ оборванцамъ. Тѣ, съ гор-
танными криками „урусъ... урусъ!..", накинулись всѣмъ скопомъ на обла-
дателя свѣтлой бородки. Удары дубинъ посыпались на его голову, спину,
плечи... Онъ упалъ... Наемныя убійцы топтали его ногами...
Субъектъ тевтонскаго происхожденія, какъ ни въ чемъ не бывало,-
въ нѣсколькихъ шагахъ,—оставался спокойнымъ созерцателемъ...
На перекресткѣ,—всего рукой подать,—полицейскій, въ желтой ба-
раньей папахѣ и въ нитяныхъ перчаткахъ, отвернувшись, внимательно
разглядывалъ хорошо знакомую вывѣску французскаго магазина.
Двери этого магазина, да и сосѣднихъ, спѣшно захлопывались. Къ
витринамъ и окнамъ приникли смертельно перепуганныя лица хозяевъ и
приказчиковъ, убѣжденныхъ, что это лишь сигналъ къ всеобщему погрому
на Перѣ...
Крики палачей, стоны окровавленной, взывающей откуда-то снизу о
пощадѣ жертвы. Зауръ-бей пошелъ прямо на этотъ клубокъ дергающихся
тѣлъ съ мельканіемъ рукъ, толстыхъ дубинъ и ногъ, звѣрски топчущихъ
что-то живое еще пока, но уже истерзанное, превращенное въ человѣче-
скія лохмотья.
И поразилъ черкеса, окатилъ съ головы до ногъ холодною струею
отчаянный вопль:
107
Убиваютъ... Спасите... Спасите, кто въ Бога вѣруетъ!..
Зауръ-бей, выхватилъ саблю, налетѣлъ на разбойниковъ и, давай ко-
лотить ихъ плашмя по головамъ... Осатанѣвшая рвань сначала опѣшила,
потомъ хотѣла броситься на непрошеннаго защитника, но внушительный
видъ офицера, своего, турецкаго офицера, охладилъ воинственный пылъ
уличныхъ баши-бузуковъ... II пятясь назадъ, они очистили поле битвы,
почесывая кто спину, кто голову, и оставивъ на панели избитаго, истер-
заннаго человѣка...
Онъ тихо стоналъ. Лицо, борода и ротъ были въ крови. Одинъ глазъ,
чудовищно вздувшійся багровой опухолью, ничего не видѣлъ.
Зауръ бей, наклонившись надъ этимъ несчасснымъ, уже терявшимъ
сознаніе, еле-еле добился услышать его адресъ.
Поманивъ проѣзжавшаго мимо рабаджи, черкесъ свезъ искалѣченнаго
русскаго въ одну изъ второстепенныхъ гостинницъ, гдѣ онъ занималъ номеръ.
Вызванный по телефону докторъ-еврей тщательно осмотрѣлъ бѣднягу.
Выстукивалъ, выслушивалъ, промылъ и забинтовалъ пораненія.
*— Ой-ой-й.*. Ой, горитъ!.. Ой, горитъ все внутри... — слабо стоналъ
человѣкъ.
Зауръ-бей потомъ спросилъ доктора:
— Ну, что?
Докторъ безнадежно развелъ руками:
— Ему осталось жить нѣсколько часовъ... Самое большее день-два.
Ему нечѣмъ жить... Понимаете,—нечѣмъ!.. Отбиты легкія, отбиты почки...
внутреннее кровоизліяніе.
Такъ дико и нелѣпо кончилъ свою жизнь курскій дворянинъ Обнор-
скій, застигнутый войною въ Италіи, возвращавшійся на родину черезъ
Константинополь, гдѣ не въ добрый часъ, на свою же голову, остановился
на нѣсколько дней.
Забытье смѣнялось у Обнорскаго горячешнымъ бредомъ. Въ минуты
просвѣтленія онъ съ трудомъ говорилъ прерывающимся голосомъ съ си-
дѣвшимъ у его изголовья Зауръ-беемъ.
— Дастъ Богъ поправитесь... Вотъ, и докторъ говорилъ...
— Зачѣмъ это... вы обманываете меня... Самъ чувствую... Конецъ
близокъ... И за что, за что, главное?.. Я шелъ, никого не трогалъ... Ой,
болитъ... Умираю... Что-жъ, пусть, — плакать некому... Одинъ-одинеше-
некъ... бобыль...
Сердце Заура болѣло острой жалостью...
— Можетъ быть переслать какія-нибудь вещи кому-нибудь?.. Письма?..
Я могу написать...
Обнорскій посмотрѣлъ на него здоровымъ глазомъ, уже затуманен-
нымъ чѣмъ-то нездѣшнимъ...
— Ничего... Спасибо, родной... Никакихъ вещей, писемъ*.. Чемоданъ...
тамъ бѣлье, грязное... Вотъ паспортъ... Зачѣмъ онъ мнѣ?.. На томъ свѣтѣ
развѣ... — и онъ попробовалъ улыбнуться и, вмѣсто улыбки, страшной
гримасою исказилось ужасное, обезображенное лицо...
Паспортъ... Это слово молніей опалило Зауръ-бея..*
Вотъ она, лежитъ на тумбочкѣ, у кровати,—плоская, черная тетрадка...
Развернулъ дрожащими пальцами: „Дворянинъ Владиміръ Никитичъ
Обнорскій. Родился въ 1872 году...". Никакихъ помѣтокъ, нигдѣ не слу-
жилъ...
108
Странное совпаденіе... И умирающій Обнорскій, и Зауръ, которому
такъ хочется жить,—однолѣтки.
Черная тетрадка, лишняя теперь, ненужная этому забинтованному,
хрипящему предсмертнымъ хрипомъ человѣку, — выросла для Заура во
что-то громадное, фатальное, способное рѣшить его судьбу...
Въ этотъ же день Обнорскій скончался въ безпамятствѣ.
А еще черезъ два дня произошла на Босфорѣ суматоха, вызвавшая
экстренное засѣданіе кабинета министровъ. Зауръ бѣжалъ на итальян-
скомъ пароходѣ „Герцогъ Абруццкій".
Бѣжалъ въ Россію, кружнымъ путемъ черезъ Салоники.
Къ гостепріимному трапу онъ подплылъ вмѣстѣ съ корреспонден-
томъ Амманомъ. Черкесъ и канадецъ успѣли сдружиться послѣ знамени-
таго побоища въ Пти Шанъ.
На прощанье канадецъ крѣпко жалъ ему руку.
— До свиданья въ Петроградѣ! Мой директоръ командируетъ меня
съ тѣмъ, чтобъ я проѣхалъ оттуда въ русскую армію. Здѣсь больше не-
чего дѣлать... И такъ на меня косятся нѣмцы, а съ выступленіемъ Турціи,
могутъ арестовать и повѣсить. До скораго, мой другъ!.. 51 убѣжденъ,—
мы еще съ вами повоюемъ... У насъ будетъ немало забавныхъ приклю-
ченій...
Зауръ-бей посвятилъ въ свое „перерожденіе" и Аммана и Беркутова.
— Зауръ-бея нѣтъ больше. Есть курскій дворянинъ Обнорскій, хотя
п очень мало похожій на равниннаго помѣщика. Я увѣренъ, простится
мнѣ этотъ чужой, никому ненужный паспортъ, если только съ его помощью
я стану въ ряды защитниковъ Россіи...
— Гдѣ вы думаете жить въ Петроградѣ?—спросилъ Беркутовъ.
— Почемъ я знаю. Въ Петроградѣ отродясь не бывалъ...
— Остановитесь у меня. Все равно, и квартира и мастерская пу-
стуютъ... А черезъ нѣсколько дней и я самъ подъѣду...
— А вы не боитесь пріютить человѣка, съ фальшивымъ паспортомъ?..
— Вздоръ какой,—усмѣхнулся Беркутовъ,—надо быть крайне мало-
душнымъ...
— Нѣтъ, я не рѣшусь подводить васъ... Реалы кой-какіе у меня есть.
По крайней мѣрѣ, на первое время, а поступлю въ полкъ, надѣну солдат-
скую шинель,—тамъ и совсѣмъ не надо будетъ денегъ...
Художникъ, увлеченный Бранкою, отъѣздъ свой до послѣдняго оттяги-
валъ. Онъ былъ на седьмомъ небѣ, узнавъ, что Бранка вмѣстѣ съ сыномъ
и братомъ уѣзжаетъ въ Петроградъ, оставляя мужа навсегда.
Послѣ долгихъ мытарствъ безконечнаго, томительнаго кружнаго пути,
Зауръ-бей добрался, наконецъ до Петрограда.
Онъ, этотъ сильный духомъ и тѣломъ человѣкъ, закаленный во вся-
кихъ передѣлкахъ, нервничалъ, готовъ былъ плакать слезами умиленія отъ
блаженства—вновь, спустя двадцать лѣтъ, очутиться въ Россіи.
Онъ шелъ по Невскому, чужой и чуждый мимо снующей толпѣ...
Навстрѣчу ему—преземистый, съ круглымъ, пожившимъ лицомъ, кавале-
рійскій генералъ. И съ перваго-же взгляда Зауръ-бей, — въ жаръ и въ
холодъ кинуло,—узналъ въ немъ своего эскадроннаго командира Велья-
шева, двадпать лѣтъ тому назадъ ломавшаго двугривенные, красавца...
Генералъ машинально посмотрѣлъ на высокаго брюнета въ штатскомъ
и черномъ котелкѣ... Посмотрѣлъ, и отвелъ взглядъ...
109
У Заура отлегло...
Не узналъ... Да и никто теперь не узнаетъ...
И они разминулись... А Зауру такъ хотѣлось броситься къ Вилья -
шеву, расцѣловать его... Это онъ, Вельяшевъ, первый окрестилъ Заура
въ полку „иррегулярной кавалеріей"...
Заура?.. Его нѣтъ, онъ умеръ... Есть дворянинъ Обнорскій...
7. Пьяные раки.
Лихо, съ какой-то гусарской повадкою пила Берта коньякъ. И что-то
жуткое было въ запрокидываніяхъ головы этой худой, сплошь цѣликомъ
намазанной и накрашенной женщины, съ пышными, неестественнаго цвѣта,
огненно-темными волосами.
Мясниковъ жилъ съ нею лѣтъ пять и всѣ эти пять лѣтъ она пила,
угрожая превратиться въ концѣ-концовъ въ заправскую алкоголичку.
Даже густой слой кармина не могъ скрыть фіолетоваго тона всегда
горячихъ губъ много пьющей, больной порокомъ сердца, истерички.
Вотъ и сейчасъ за ужиномъ она смѣялась громко, взвизгивающе, безъ
всякой видимой причины.
Глаза съ густо подведенными рѣсницами и вѣками, порою останав-
ливались, въ одну точку безсмысленно устремленные, то вдругъ начинали
мигать...
Ей не сидѣлось на мѣстѣ. Худое, гибкое тѣло съ плоской грудью
какъ-то извивалось и трепетало подъ широкими складками дорогого, яркаго,
на спѣхъ надѣтаго и кое-какъ застегнутаго платья.
Берта никогда не была красивой. Но вся лживая и развратная, вся,
начиная отъ самыхъ невинныхъ, казалось-бы, движеній и кончая большимъ,
порочнымъ ртомъ, она влекла къ себѣ мужчинъ, тѣхъ, которые легко
становятся рабами чувственности...
Было время, пока не завладѣлъ ею Мясниковъ, ради нея мужчины
бросали красивыхъ, очаровательныхъ женъ, а одинъ видный чиновникъ,
изъ котораго Берта, какъ вампиръ, высосала и честь, и доброе имя, и
состояніе, покончилъ съ собою.
Мясниковъ, мужъ своей жены и отецъ своихъ дѣтей, большую часть
времени проводилъ у Берты, въ ея большой, хаотической квартирѣ. Тамъ
у него были двѣ комнаты съ отдѣльнымъ ходомъ, запиравшимся особен-
нымъ секретнымъ замкомъ. Тамъ у него стоялъ несгораемый шкапъ, гдѣ
хранилось много золотой монеты, русской, германской, австрійской, и еще,
и еще, до англійскихъ и турецкихъ фунтовъ и французскихъ „наполео-
новъ", включительно.
Здѣсь у Берты онъ принималъ чуть-ли не ежедневно разныхъ таин-
ственныхъ посѣтителей.
Была у него еще квартира въ уединенномъ, старомъ домѣ, въ пу-
стынной части Мойки. И тамъ былъ несгораемый шкапъ. И туда приходили
къ нему, но уже совсѣмъ не таинственные посѣтители. На собственныхъ
автомобиляхъ подкатывали и статскій совѣтникъ Раухъ и дѣйствительный
статскій совѣтникъ баронъ Максимиліанъ Адольфовичъ Роткусъ.
Пріѣзжали еще другіе бароны, высокіе здоровые, съ красными об-
вѣтренными лицами и въ охотничьихъ шляпахъ съ перомъ. Такъ и видно
тто
помѣщиковъ-охотниковъ, жителей деревенскаго простора. Да это и были
помѣщики изъ-подъ Риги, Митавы, Либавы, Ревеля, Гольдингена, Туккума,
Газенпота и Пернова.
Этихъ аристократическихъ, съ громкими титулами феодаловъ, смѣняли
другіе нѣмцы-плебеи. Крѣпко сколоченные, неуклюжіе, въ суконныхъ пид-
жакахъ, а зимою съ красными вязанными напульсниками, дымящіе воню-
чими сигарами колонисты, въ изобиліи населяющіе вдоль и поперекъ весь
Прибалтійскій край...
Берта пила шампанское. Въ ея худыхъ, бѣлыхъ, сверкающихъ круп-
ными брилліантами пальцахъ вздрагивалъ узенькій стаканъ, съ блѣдно-
золотистымъ лѣнящимся виномъ. II отъ него были влажны губы накрашен-
ной женщины, и она облизывала ихъ кончикомъ остраго, какъ жало языка...
Сѣро-зелеными жесткими глазами Андрей Андреевичъ наблюдалъ
Берту, а брезгливыя складки угловъ рта медленно растягивались въ улыбку,
обнажавшую испорченные зубы...
Роткусъ, весь черный, зловѣщій, храня свой обычный замогильный
видъ, посматривалъ на часы. Опъ ждалъ съ нетерпѣніемъ, насколько, во-
обще, нетерпѣніе свойственно было его натурѣ, пріѣзда Эллы-Стеллы, о
которой много слышалъ, но которой еще не удосужился посмотрѣть.
Маркизъ Санъ-Діонисіо и Раухъ, покинувъ столъ, перебрались на
широкій диванъ. И подогнувъ колѣни, полулежа и сблизившись своими
лицами, одинъ сухимъ, ястребинымъ, другой крупнымъ мясистымъ, гово-
рили о чемъ-то своемъ, поперемѣнно кивая и соглашаясь.
— И ты думаешь, этотъ бракъ возможенъ?..
— Думаю-ли я!.. Не сомнѣваюсь ни на одну минуту!.. Ни на одну
секунду! Понимаешь, Августъ, другъ мой, это дьявольски пикантно... Твоя
содержанка, нѣмка съ ногъ до головы, съ болѣе чѣмъ скромнымъ пас-
портомъ, превращается не въ графиню и даже не въ княгиню, а въ прин-
цессу Зеты.
— Звучитъ какъ-то ужъ очень экзотически...—Усумнился Раухъ.
— Ничего не значитъ! Принцесса, все-же остается принцессой! Ты,
ради Бога, не подумай, что это какой-нибудь швиндель. Документы всѣ
налицо! Чернымъ по бѣлому!
— Ну, а если этотъ дуракъ не захочетъ жениться?..
— Посмотрѣлъ-бы я, какъ онъ не захочетъ? Во-первыхъ, онъ весь
охваченъ какимъ-то сладостнымъ гипнозомъ... Я ошеломилъ его, поразилъ,
и это надолго. Во-вторыхъ, я не смотря на мое внѣшнее къ нему почтеніе,
на „ваше высочество0, которымъ я его величаю разъ двадцать въ день,
онъ не столько-же глупъ, чтобы не понимать всю свою зависимость отъ
меня?.. А затѣмъ, твоя Холодцова слишкомъ интересная, шикарная и кра-
сивая женщина, чтобъ онь, этотъ пробавлявшійся модистками, молодой
человѣкъ, не подпалъ ея чарамъ... Онъ слышалъ о ней, навѣрное, чи-
талъ въ газетахъ, видѣлъ, какъ она мчится въ коляскѣ, такая недося-
гаемая для него...
— Вотъ это именно меня и пугаетъ,—перебилъ Раухъ.—Она слишкомъ
популярна и въ этой популярности нѣтъ ничего добродѣтельнаго. Онъ
можетъ сказать: „Позвольте, вы предлагаете мнѣ корону вмѣстѣ съ женою,
которую знаетъ весь веселящійся Петербургъ0! Что скажетъ мой народъ0?!
— Вздоръ какой!—усмѣхнулся Тугутъ.—Менѣе всего пугаетъ меня
это. А если-бъ даже и такъ, если-бъ онъ возразилъ что-нибудь въ такомъ
духѣ, я живо успокоилъ-бы его, сославшись на крайнюю демократичность
народа, во главѣ котораго суждено ему стать.
— А моя Марія Сергѣевна сумѣла-бы носить корону... — молвилъ,
размечтавшись, Раухъ.—Вотъ тебѣ, дочь простого кондуктора! Росла Богъ
знаетъ въ какой нищетѣ... А какое умѣнье держать себя! Любой прин-
цессѣ крови не уступитъ...
— Что принцессѣ крови,—фыркнулъ Тугутъ,—будучи гофмаршаломъ
двора князя Вида Албанскаго, я изо дня въ день близко наблюдалъ его
супругу... Выдра! Цапля носатая какая-то!.. Да, было время... Заглянешь
ко мнѣ, я покажу тебѣ мой гофмаршальскій мундиръ. Весь красный, весь
въ золотѣ! Виду онъ обошелся въ двѣ съ половиною тысячи кронъ... Ахъ,
вотъ умора была. Я показалъ этотъ мундиръ Марлявчевичу... „Ради Бога,
надѣньте"—проситъ. Я облачился весь... Мундиръ, треуголка съ краснымъ
пѣтушинымъ султаномъ и фисташковаго цвѣта панталоны, съ тройнымъ
золотымъ лампасомъ... Такъ „принцъ" чуть въ обморокъ не упалъ, по-
раженный моимъ величіемъ! Вообще, забавный субъектъ... Снялъ ему въ
Семирамисѣ номеръ изъ трехъ комнатъ... Обалдѣлъ отъ этой роскоши!
„А тамъ у меня во дворцѣ будетъ такъ-же богато?"—спращиваетъ.
— II ты дѣйствительно, повезешь его на Балканы?
— Натурально, повезу! Онъ необходимъ намъ, какъ орудіе смуты...
А затѣмъ... затѣмъ его можно будетъ какъ-нибудь сплавить... И твоя со-
держанка останется вдовствующей принцессою Зеты... Шикарно?..
— И даже очень,—облизнулся Раухъ,—Что-жъ, нечего терять время
понапрасну... Надо свести ихъ, познакомить...
— Это мы сдѣлаемъ на ближайшихъ дняхъ. Я его подготовлю. Ты
не можешь себѣ представить, какъ мнѣ весело съ нимъ... Сплошной анек-
дотъ! Когда я вручилъ ему на расходы первую тысячу, онъ глазамъ не
вѣрилъ... Но золотомъ побоялся взять... „А вдругъ меня арестуютъ и от-
нимутъ?.. Война,,... Пришлось дать бумажками. Погоди, еще не то будетъ...
На дняхъ пріѣзжаетъ сюда нѣсколько албанцевъ. Я ему представлю ихъ,
какъ его вѣрноподданныхъ... Нѣчто вродѣ депутаціи... Однако, мы забол-
тались. Что она тамъ дѣлаетъ, Берта?..
II пріятели, покинувъ диванъ, пошли къ столу.
По требованію Берты, самъ великолѣпный мосье Герье принесъ ей
на блюдѣ нѣсколько черныхъ, влажно блестящихъ при свѣтѣ электриче-
ства своей панцырной чешуею, раковъ. Шевеля тонкими длинными усами,
раки, двигаясь клешнями, пытались ползать по гладкому блюду.
А Берта сверху поливала ихъ коньякомъ изъ бутылки.
— Я хочу, чтобъ они были пьяные!.. Хочу!..
Черезъ минуту раки плавали въ золотистой жидкости, а еще черезъ
минуту все слабѣе и слабѣе двигались клешни. Раки уснули какими-то
черными безобразными трупиками, уснули средь винъ, закусокъ и таре-
локъ съ объѣдками.
— Вотъ они уже пьяные!—воскликнула Берта, захлопавъ въ ла-
доши.
И вдругъ съ какимъ-то жестокимъ, безумнымъ выраженіемъ глазъ
и всего лица, стала обламывать ракамъ клешни.
— Больно имъ, или не больно?..
Закусивъ губы, она продолжала свою работу и коньякъ холодной
жиденькой кровью стекалъ по ея худымъ бѣлымъ пальцамъ...
Роткусъ невозмутимо наблюдалъ это варварство своими тусклыми,
вѣчно погасшими глазами. На Мясникова эта картина подѣйствовала иначе...
Онъ не спускалъ жесткихъ, сѣро-зеленыхъ глазъ съ лица Берты... тяжело
дыша, побагровѣвшій, ходуномъ заходили ноздри, онъ спѣшно поднялся,
опрокинувъ стулъ и, схвативъ Берту, обнявъ, тиская ея худое, гибкое,
хрупкое тѣло своими сильными руками, началъ ее цѣловать, откровенно
и жадно, какъ если-бъ они были только вдвоемъ... И она дрожала под-
стрѣленной птицею съ ушедшими подъ лобъ глазами; истерически при-
жимаясь, отвѣчала на его поцѣлуи...
Тугутъ и Раухъ апплодпровали. Роткусъ застылъ въ своемъ, ко
всему и ко всякому, безразличіи. Онъ соображалъ въ это время, когда полу-
читъ въ Копенгагенѣ фонъ-Луціусъ его „аллегорическую" телеграмму.
А на порогѣ кабинета незамѣтно появилась брюнетка, ослѣпительно
яркая, въ малиновой ротондѣ, съ пышнымъ бѣлымъ воротникомъ; изъ
ангорскихъ козъ. И оттѣняемая этимъ бѣлымъ фономъ, „королева пла-
стическихъ танцевъ" казалась еще ослѣпительнѣе, ярче.
Маркизъ Санъ-Діонисіо и Раухъ кинулись къ ней галлантными ка-
валерами.
Но Элла-Стэлла предупредила ихъ. Ротонда безшумно и мягко упала
на коверъ. Танцовщица, съ горделивымъ блескомъ въ большихъ, южныхъ
глазахъ, стояла соблазнительная, почти нагая въ паутинѣ легкаго про-
зрачнаго газа, въ которомъ только что выступала передъ восхищенной
толпою.
— Такъ спѣшила, такъ спѣшила... Даже не было времени переодѣться...
— Браво, Элла-Стелла, браво!
— Браво—потомъ! А теперь я голодна... Накормите меня...
И гости и лакеи засуетились во ?лѣ этой женщины, прикрытой газомъ.
Громко смѣясь, отвѣчая на вопросы, она съ аппетитомъ принялась
ужинать.
Роткусъ очутился рядомъ съ нею. Бывшій сановникъ, храня мертвое
выраженіе лица своего, раздѣвалъ тусклымъ взглядомъ и безъ того раз-
дѣтую Эллу, все время пуская въ ходъ подъ столомъ колѣни и руки...
А она, какъ ни въ чемъ не бывало, за обѣ щеки уплетала икру, балыкъ,
шипящіе грибочки въ сметанѣ, не чувствуя своего назойливаго сосѣда,
но и не отодвигая своей теплой, такихъ красивыхъ линій сквозь паутину
газа, ноги...
Берта, успѣвшая искалѣчить дюжину раковъ, сжавшись недовольнымъ
комочкомъ, затерялась въ уголкѣ громаднаго, широкаго дивана. Сума-
сшедшіе, подведенные глаза бѣгали, какъ у звѣреныша... Берта не выно-
сила соперницъ... А тутъ еще она перехватила нѣсколько плотоядныхъ
взглядовъ, брошенныхъ Мясниковымъ на Стэллу.
— Интересная программа? — равнодушно спросилъ Роткусъ, больно
ущипнувъ Эллу.
На этотъ разъ она отодвинулась съ гримасой. Но все-же отвѣтила:
Очень!.. Вы бы налили мнѣ вина, баронъ... Это наилучшее при-
мѣненіе, которое вы можете дать вашимъ рукамъ... Программа интересная.
Особенно хорошъ стрѣлокъ...
— Что такое, стрѣлокъ?—подхватилъ Раухъ.—Вотъ вамъ стрѣлокъ!
Это нашъ Вильгельмъ Телль! — указалъ онъ на Мясникова. — Не усту-
питъ любому профессіоналу...
- ііз ~ 8
— Да?—недовѣрчиво протянула танцовщица.
— Да!..- въ тонъ отвѣтилъ задѣтый за живое Мясниковъ. Ему хо-
тѣлось блеснуть передъ этой волновавшей его плясуньей.
— Сейчасъ мой шофферъ слетаетъ ко мнѣ домой за пистолетами
монте-кристо.
— Вотъ будетъ номеръ!—обрадовался Августъ фонъ-Раухъ.
— Я обѣщаю прострѣлить маленькое яблоко на головѣ Берты...
Берта продолжавшая дуться комочкомъ, отмахнулась какимъ-то цѣп-
кимъ, обезьяньимъ жестомъ...
— Не желаю вовсе...
Замѣнить Берту вызвалась Элла.
— Я за себя ручаюсь,—молвилъ Мясниковъ,—хотя я и много выпилъ,
но рука у меня твердая... Черезъ десять минутъ вы убѣдитесь въ этомъ...
8. „Содержанка”.
Дѣтство Маріи Сергѣевны Холодцовой было суровое, голодное дѣтство.
Очаровательный, изумительной красоты ребенокъ, она жила въ тру-
щобной комнатенкѣ грязнаго третьяго двора па Лиговкѣ.
Отецъ -сизоносый кондукторъ, съ двумя пучками жесткихъ усовъ,
пилъ мертвую. Пилъ отъ склонности къ вину, пилъ отъ безсонныхъ ночей
своей каторжной, не знающей ни покоя, ни отдыха, службы.
Мать, восковая, блѣдно-зеленая, чахла и къ тридцати пяти годамъ
была старуха.
„Манька" бѣгала въ городское училище.
Къ четырнадцати годамъ это былъ стройный, прелестный, какъ-то
слишкомъ быстро для нашего чухонскаго сѣвера распустившійся въ дѣ-
вушку подростокъ.
Откуда взялись и тонкая красота лица, большіе, миндалевидные
глаза съ поволокою, и гибкая стройность нѣжнаго тѣла?..
Откуда?
Отецъ—грубый, съ сизымъ носомъ-картошкою, мать,—забитое, жалкое
существо... Сырая каморка литовскихъ задворокъ, съ выгребной ямою по
сосѣдству...
Такъ иногда, средь какого-нибудь пустыря, изъ мусорной кучи, ра-
спускается пышный, благоуханный, сказочныхъ красокъ и переливовъ
цвѣтокъ.
Дѣвушка, уже Маруся, а не Манька, поступила продавщицею въ та-
бачный магазинъ крупнаго оптовика, разъѣзжавшаго но Петербургу въ
цилиндрѣ, и съ сигарою въ зубахъ. Про этого громаднаго мужика въ сѣ-
дыхъ кудряхъ и съ такой-же сѣдой бородкою клиномъ, ходила молва, что
всѣ продавщицы и кассирши его разбросанныхъ по городу магазиновъ и
оптовыхъ складовъ,—его гаремъ.
Маруся Холодцова въ первый-же день своей службы сдѣлалась ода-
лискою своего хозяина.
Изнасиловавъ ее, онъ спокойно заявилъ:
— Какъ угодно... Вздумаешь жаловаться,—кукишъ съ масломъ полу-
чишь, а будешь мнѣ угождать, всякое довольство полное предоставлю.
Квартиру наймемъ и меблировка будетъ самая первѣющая...
ы4
Такъ и пошло.
Табачникъ въ цилиндрѣ былъ первыми этапомъ. Его смѣнилъ одинъ
изъ тузовъ Калашниковской биржи. Человѣкъ съ большимъ размахомъ,
этотъ не жалѣлъ денегъ. Бель-этажъ, лошади, дорогіе туалеты, бѣшеные
кутежи...
Калашниковскій царекъ повезъ Марію Сергѣевну іи» Парижъ, оста-
вилъ ее тамъ на цѣлый годъ.
— Чтобъ научилась хорошо говорить по-французски!..
Самъ онъ, знавшій только два слова: „пардонъ“ и „мерси", радовался
успѣхамъ своей содержанки, которую успѣлъ навѣстить за годъ разъ восемь
въ ея уютной, со вкусомъ отдѣланной квартирѣ, на бульварѣ Мальзербъ.
Однажды, во время засѣданія биржевого комитета, „благодѣтеля"
хватила кондрашка. Но Марія Сергѣевна больше не нуждалась въ немъ.
Передъ нею уже открылась блестящая карьера.
Это былъ расцвѣтъ ея красоты. Вернувшись изъ Парижа, она стала
самой модной, самой шикарной женщиной Петрограда. Все, что было въ
столицѣ богатаго, знатнаго, искало ея близости. Свѣтскія дамы подра-
жали ея туалетамъ, всегда скромнымъ, всегда изящнымъ.
Всюду и вездѣ она появлялась съ принцемъ, настоящимъ принцемъ
Наполеоновскаго дома.
Онъ обѣщалъ ей, что если будетъ у власти, и республика смѣнится
третьей имперіей, она получитъ титулъ герцогини.
Но самого принца смѣнилъ вскорѣ молодой красавецъ - генералъ,
близкій къ придворнымъ кругамъ. Его не на шутку захватила Марія Сер-
гѣевна и такъ влюбила въ себя, что онъ хотѣлъ жениться на ней. Объ
этомъ заговорили. Въ обществѣ, въ которомъ вращался генералъ,—фор-
менный переполохъ!.. Вотъ-вотъ, казалось, готовъ свершиться ужасный
мезальянсъ, и это повергло многихъ въ паническій трепетъ.
Но „скандальному" браку не суждено было осуществиться. Генералъ
получилъ отставку. Не по службѣ, нѣтъ. По службѣ онъ преуспѣвалъ.
А у Маріи Сергѣевны. Она сама, на этотъ разъ, увлеклась извѣстными»
актеромъ Бельведерскимъ. Онъ бралъ у нея деньги и ѣздилъ кататься на
Стрѣлку въ ея коляскѣ. Вообще, она никогда не была акулой, никогда
никого не грабила, а если на нее разорялись,—это уже не ея вина...
Когда Марія Сергѣевна сама влюблялась, всѣ. матеріальныя сообра-
женія отходили прочь. Такъ было и съ Бельведерскимъ, и съ другими,
такъ было и съ опереточнымъ артистомъ Чернецовымъ. До тѣхъ поръ,
пока не переполнилась чаша терпѣнія Холодцовой.
Опереточный герой, выбившійся чуть-ли не изъ балаганныхъ гармо-
нистовъ, закусилъ удила и потерялъ всякое чувство мѣры.
Растягивая свое гуттаперчевое лицо въ торжествующую улыбку, онъ
говорилъ:
— Зазналась!.. Принцы, да генералы прикладывались къ ручкѣ... Я
не изъ такихъ... Я тебѣ покажу!..
И онъ билъ ее туго свернутымъ изъ полотенца жгутомъ, и это тѣ-
шило самолюбіе зазнавшагося хаменка...
Но всему бываетъ предѣлъ. Въ одно прекрасное утро онъ турманомъ
вылетѣлъ изъ спальни Маріи Сергѣевны и уже больше не появлялся въ
ней. Марія Сергѣевна проплакала недѣлю. Не Чернецова жаль было.
Нѣтъ!.. Она оплакивала свои разбитыя иллюзіи.
— 115 — *
Неужели нѣть любви? Неужели нѣтъ настоящаго чувства?..
Или надо махнуть рукою на все и думать о старости, когда вслѣдъ
за увядшимъ лицомъ, увянетъ и прекрасное тѣло и мужчины уже не бу-
дутъ сходить съ ума по ней?..
Овладѣло тупое ко всему равнодушіе.
И когда Раухъ, давнымъ-давно „охотившійся" за Марьей Сергѣевной,—
такъ какъ жить съ нею считалось „маркой",—съ чисто негоціанскимъ ци-
низмомъ предложилъ ей свои „условія", она какъ-то машинально согласилась.
Но это было показное равнодушіе, въ которомъ она сама себя пыта-
лась убѣдить. А внутри ее грызъ червь неудовлетворенности.
Съ годами, все чаще и чаще, приходили сомнѣнія, неотступные, на-
вязчивые вопросы.
И хотя съ виду вся ея такая нарядная жизнь казалась однимъ тріум-
фальнымъ шествіемъ, хотя мужчины—и какіе мужчины! — пресмыкались
передъ нею, а все-же, въ концѣ-концовъ, она была для нихъ игрушкой,
предметомъ наслажденій и, пожалуй, самое главное, классной „высокой
марки" женщиной, вмѣстѣ съ которою имъ, пустымъ и тщеславнымъ,
лестно показаться гдѣ-нибудь въ ложѣ балета, на скачкахъ, въ ресторанѣ.
„Все это совсѣмъ, совсѣмъ не то"...—думала и повторяла себѣ Хо-
лодно ва.
И все навязчивѣй и навязчивѣй вставалъ вопросъ:
„Ну, а что-же дальше?.. Дальше что?.. Неужели такъ и будетъ"?
Продажа, хотя и маскированная, и себя, и своего тѣла, пока ее не за-
пишутъ въ „старую гвардію", и она вдругъ очутится одна-одинешенька...
Пустота кругомъ... Или, вмѣстѣ съ какимъ-нибудь молодымъ человѣкомъ
„безъ предразсудковъ",—потому что нужна-же вѣдь какая-нибудь привя-
занность,—которому она будетъ давать на портного и на перчатки.
Нѣсколько лѣтъ назадъ Марія Сергѣевна хотѣла съѣздить въ Ясную
Поляну, къ Толстому. Но такъ и не собралась. Толстой на разстояніи
давилъ ее своимъ величіемъ, и она представить себѣ не могла бесѣду о
своихъ исканіяхъ и сомнѣніяхъ, лицомъ къ лицу, съ этимъ величайшимъ
на землѣ человѣкомъ.
Въ послѣднее время настойчиво и упорно появилась и засіяла на
петроградскомъ горизонтѣ загадочная странная фигура „старца" Максима
Шелапутина.
Самые разнорѣчивые толки пестрымъ хаосомъ окутывали мужицкое,
въ поддевкѣ, рубахѣ и косовороткѣ, обличье этого человѣка.
Въ великосвѣтскихъ гостиныхъ ему воздавались такія почести, которыя
никогда и не снились даже первѣйшимъ князьямъ церкви, и о которыхъ
мечтать не смѣлъ Іоанна» Кронштадтскій въ самый расцвѣтъ своей по-
пулярности.
Дамы „политическихъ" салоновъ на рукахъ носили старца Максима,
и цѣловали ему руки, экзальтированно именуя его пророкомъ, и чуть-ли
не святымъ. Ходили цѣлыя легенды о его чудодѣйственной силѣ, о томъ,
какъ однимъ словомъ и взглядомъ этотъ, обладающій ясновидческимъ про-
никновеніемъ сердцевѣдъ врачуетъ больныя души, открывая новые, свѣтлые
горизонты, погашая и исцѣляя тревожныя сомнѣнія, способствуя перерожде-
нію тѣхъ, кто вѣритъ въ его простую, наивную, чудодѣйственную мудрость...
Заинтересовавшаяся старцемъ, Марія Сергѣевна распрашивала о немъ
своихъ знакомыхъ.
ііб
Здѣсь мнѣнія расходились довольно рѣзко. Мужчины круга, души не
чаявшаго въ старцѣ Максимѣ, генералы и сановники, втихомолку цѣло-
вавшіе въ засосъ ручки Маріи Сергѣевны, либо отмалчивались дипломати-
чески, либо восхищались этимъ человѣкомъ, который, по желанію,—
шутка-ли сказать?—можетъ свалить любого министра...
Люди средняго общества, повседневные, Холодцова встрѣчала ихъ
на каждомъ шагу, относились къ Шелапутину въ большинствѣ отрица-
тельно, называли его,—одни юродивымъ, другіе—шарлатаномъ, третьи—
лукавымъ, себѣ на умѣ, мужичонкою. Но и первые, и вторые, и третьи
сходились безъ разногласія въ одномъ, что, вѣроятно, таится-же въ немъ
какое-нибудь обаяніе, разъ онъ многихъ сильныхъ міра съумѣлъ такъ
ловко обвести вокругъ своего коряваго пальца...
Вѣдь съ первымъ встрѣчнымъ свѣтскія, внѣшне такія чопорныя, дамы
не пойдутъ же въ баню? А съ Шелапутинымъ ходятъ... Ходятъ, ибо
этимъ омовеніямъ придается характеръ какихъ-то религіозно- мистиче-
скихъ радѣній...
Словомъ, этотъ загадочный еле подписывающій свое имя человѣкъ,
въ пріемной котораго густая толчея сенаторскихъ, генеральскихъ, камер-
герскихъ и всякихъ иныхъ, не менѣе блестящихъ мундировъ,—заинтере-
совалъ Марію Сергѣевну.
Почемъ знать?.. Быть можетъ именно этотъ „старецъ" облечетъ въ
осязательное „нѣчто" ея смутные исканія и порывы?..
Желанія одного мало. Надо технически осуществить свою встрѣчу съ
Шелапутинымъ. А какъ это сдѣлать? Его адресъ и телефонъ оберегаютъ.
Да и самого старца окружаетъ добрая свора всевозможныхъ церберовъ,
не подпускающихъ на пистолетный выстрѣлъ къ нему чужихъ и „непо-
священныхъ".
Старецъ теперь не въ прежней силѣ, а все же звѣзда его не по-
меркла, и его безграмотныя каракули-записочки къ сановникамъ и мини-
страмъ еще не утратили своей магической силы...
Марія Сергѣевна все-таки раздобыла адресъ и телефонъ Шелапу-
тина, жившаго на Загородномъ, у Пяти Угловъ.
Звонила, звонила,—ни отвѣта, ни привѣта. Никто не подходилъ. По-
звонила еще. И сразу наткнулась на какой-то непріятный, колючій жен-
скій голосъ.
— Вамъ, собственно, что угодно?..
Будьте добры, попросите къ телефону Максима Евстигнѣевича...
А кто спрашиваетъ?
— Не все-ли равно... Максимъ Евстигнѣевичъ не знаетъ меня...
А по какому дѣлу?—донимаетъ Марію Сергѣевну колючій голосъ.
— По личному... Я хотѣла-бы спросить кой о чемъ Максима Евсти-
гнѣевича...
— Ихъ нѣтъ дома!..
И повѣсила трубку.
Холодцова ругнула обладательницу колючаго голоса „подлой бабой",
но неудача по обезкуражила ее. Наоборотъ, еще больше взвинтила желаніе
бесѣды со знаменитымъ старцемъ.
Она звонила и утромъ, и днемъ, и вечеромъ. Въ отвѣтъ—женскіе
голоса, и все разные. Холодцова, бросивъ: „Ахъ, я ошиблась!",—тотчасъ-
же вѣшала трубку.
- Ы7 -
Наконецъ вознаградилось долготерпѣніе ея. Наконецъ-то услышала
мужской голосъ.
— Чевой-то!..
„Онъ"—обрадовалась Марія Сергѣевна...
Я хотѣла-бы говорить съ Максимомъ Евстигнѣевичемъ..
— А ты кто така будешь?..
— Меня зовутъ Марія Сергѣевна Холодцова...
— Бѣлая такая изъ себя, да больно красивая?—зажегся вдругъ крѣпко
налегающій на „о" старецъ—пріѣзжай... Благословлю!.. Ты хорошая...
Марія Сергѣевна усмѣхнулась мягкимъ груднымъ смѣхомъ своимъ.
— Я тебя знаю... Бабецъ!.. Когда хоть пріѣзжай... Благословлю!.. Ты
хорошая... Чтой-то у насъ сядни?.. Суббота?.. Погоди... Заутра я къ обѣднѣ,
честь честью... къ полудню назадъ... Ты къ полудню и приходи... Чайку
попьемъ... Хорошая, бѣлая... Приходи.
— Завтра, въ двѣнадцать ровно, я буду у васъ, Максимъ Евсти-
гнѣевичъ...
—- Уже-тко, ладно, хорошая, бѣлая... Жду, гостьей будешь...
И старецъ хихикнулъ немного блудливымъ, немного лукавымъ
смѣшкомъ...
9. У „старца".
При одномъ имени Шелапутина, швейцаръ, какъ одержимый, сор-
вался...
— Маскимъ Евстигнѣевичъ? Здѣся!.. Здѣся!.. Пожалуйте, барыня,
черезъ дворъ... Вонъ въ ту парадную!..
Въ „той парадной" встрѣтилъ Холодцову другой швейцаръ. И этотъ
готовъ былъ распластаться.
— Пожалуйте во второй этажъ! Максимъ Евстигнѣевичъ только что
отъ обѣдни вернуться изволили.. Чай кушаютъ... Наказали принять васъ...
Вотъ и дверь. Послѣдняя перегородка между Маріей Сергѣевной и
этимъ легендарнымъ „старцемъ".
Она умѣла владѣть собой и въ жизни своей видѣла много разныхъ
людей. Но какое-то жуткое чувство охватило ее.
Позвонила... Прошло съ полминуты... Наконецъ, дверь какъ-то не-
хотя пріоткрылась на цѣпочкѣ... Глянула женщина въ платкѣ, съ внѣш-
ностью сестры милосердія, или какой то засушенной келейницы.
Нездоровое, сѣроземлистое лицо и два темныхъ, колючихъ глаза не-
привѣтно буравятъ Марію Сергѣевну. Съ головы до ногъ пронизываютъ.
П губы,—тонкими, злыми ниточками, совсѣмъ, какъ у Даши.
— Что вамъ будетъ угодно?—спросилъ тотъ самый, такой же, какъ
и глаза, колючій голосъ, что „осаживалъ" Марію Сергѣевну по телефону.
— Мнѣ назначено Максимомъ Евстигнѣевичемъ,..
Дѣлать нечего... Церберъ, въ видѣ не то келейницы, не то сестры
милосердія, съ неохотою снялъ цѣпочку. Марія Сергѣевна вошла въ
обыкновенную переднюю съ обыкновеннымъ зеркаломъ вч> желтой оправѣ
и съ желтой вѣшалкою. Много мѣста занималъ громадный, кованый
жестью, сундукъ. Трое бѣлыхъ дверей. Однѣ—въ крохотный кабинетахъ,
другія—въ совсѣмъ пустую комнату, и третьи въ оголенную столовую,
118
гдѣ за длиннымъ, узкимъ „кухмистерскимъ" столомъ сидѣли двое. Ста-
рецъ, въ шелковой малиновой рубахѣ и какая до дама. Крупная, видная,
величественная.
Съ перваго взгляда во всемъ сказывалось отсутствіе уюта. Ни ма-
лѣйшей домовитости. Здѣсь приткнулись, кое-какъ, „на тычкѣ". Вре-
менный бивуакъ. Сегодня здѣсь, а завтра... завтра Богъ знаетъ гдѣ мо-
жетъ очутиться модный старецъ...
Максимъ Евстигнѣевичъ проворно вскочилъ и легкой, немного семе-
нящей походкою сильнаго, крѣпкаго человѣка, бросился въ переднюю, къ
Маріи Сергѣевнѣ. Онъ завладѣлъ ея руками и къ ея гордому, прекрас-
ному лицу, почти вплотную, приблизилъ свою волосатую голову, съ круп-
ными,—плотничьимъ топоромъ рубила ихъ мать-природа,—чертами, съ
мягкой, пушистой бородою. А глаза, нащупывающіе, лукавые, искусственно
дурашливые, бѣгали двумя безпокойными живчиками...
— Вотъ какая ты... Бѣлая... хорошая...
И старецъ Максимъ терся объ Марію Сергѣевну своей малиновой
рубахой, своими штанами, заправленными въ грубые сапоги, терся, ка-
саясь щекочущей бородою лица...
Отъ этой пушистой бороды исходило какое-то успокаивающее, и въ
то же время волнующее, электричество... Въ темнотѣ она должна сіять
фосфорическимъ свѣтомъ, подобно черной, густой шерсти большихъ, сч»
изумрудными зрачками, котовъ...
Марія Сергѣевна отодвинулась. Ей было немного страшно, и немного
стыдно... Келейница неподвижнымъ солянымъ столбомъ—въ двухъ шагахъ,
застыла... А оттуда, черезъ весь длинный „кухмистерскій" столъ, важная,
красивая сытой и холеной красотою дама лорнировала, надменно прищу-
рившись, Марію Сергѣевну...
Максимъ Евстигнѣевичъ засеменилъ, игриво приплясывая.
— Ну, пойдемъ, пойдемъ... Чайку хошь... съ просфорою?..
Только у Шелапутина, для котораго никакіе законы не писаны, могъ
выйти такой анекдотъ... Лишь у него могли очутиться за однимъ столомъ
извѣстная демимонденка и не менѣе извѣстная свѣтская дама, княгиня
Тохтомышева, жена блестящаго генерала.
Старецъ предупредилъ княгиню, кто будетъ у него къ чаю. Она
хотѣла уѣхать, просила:
— Отецъ, вы отпустите меня? Отпустите?.. Мнѣ неудобно оставаться
въ одной комнатѣ, дышать однимъ воздухомъ съ этой... съ этой особой...
Старецъ махнулъ рукою:
— Чего тамъ еще, сиди!
— Отецъ?
— Сиди... Тебѣ говорю, аль нѣтъ... дура!..
И княгиня осталась, рѣшивъ, что разъ старецъ велитъ, значитъ такъ
надо. Старецъ наложилъ на нее крестъ, и она смиренно понесетъ его...
Марія Сергѣевна сдѣлала легкій поклонъ въ сторону княгини.
Нельзя же не поклониться, разъ входишь первой. Княгиня, поджавъ свои
губы, полныя, чувственныя, вспомнивъ про „свой крестъ", чуть отвѣтила
движеніемъ глазъ.
И вотъ, онѣ очутились за однимъ столомъ, въ трехъ шагахъ другъ
отъ друга -переходившая изъ однѣхъ рукъ въ другія содержанка, и дама
большого свѣта... Но если бы кто-нибудь посторонній взглянулъ, онъ по
1Г9
внѣшнему виду принял ь бы этихъ двухъ женщинъ, какъ разъ наоборотъ.
Марія Сергѣевна показалась бы аристократкою, княгиня же—кокоткой. У
первой—ни малѣйшаго грима. У второй- весьма, и весьма основательный.
Марія Сергѣевна стильно и скромно одѣта была во все черное.
Черное гладкое платье, небольшая черная шляпа, наполеоновскою тре-
уголкою, съ бѣлыми тесемками и корсетной шнуровкой сходящихся
угловъ. На княгинѣ—платье вишневаго цвѣта и громадная, мохнатая ли-
ловая шляпа, съ большимъ паради, при малѣйшемъ движеніи вздрагиваю-
щимъ, какъ султанъ.
И это далеко не единственный примѣръ въ нашей столицѣ, гдѣ ко-
котки стремятся походить туалетомъ своимъ на знатныхъ парижанокъ, а
многія дамы общества одѣваются крикливо и нескромно, какъ шансо-
нетныя пѣвицы.
— Леконидушка... Плесни чаю барынѣ...
Особа, въ полумонашескомъ одѣяніи, съ видомъ оскорбленнаго сми-
ренія на сѣро-землистомъ лицѣ, бросивъ на княгиню взглядъ сообщницы,
подала Маріи Сергѣевнѣ чай. А старецъ, видимо желая покуражиться въ
присутствіи новой гостьи надъ княгинею, кинулъ ей:
— Что-жъ ты молчишь, павой веницейской?.. Тараторила-тараторила
безъ умолку... Я, чай, думалъ клепало у тебя задервенѣетъ... А теперь,
какъ въ ротъ воды набрамши...
Княгиня вспыхнула. Обращеніе старца было ей не въ диковину. Но
зачѣмъ онъ мальтретируетъ ее предъ „этой тварью"? Надо побороть
себя... Тяжелый крестъ, имъ налагаемый, долженъ быть легокъ и пріятенъ.
И съ видомъ робкой ученицы, чувствующей, что если будетъ мол-
чать, на нее обрушится гнѣвъ учителя, она спросила:
— Отецъ, когда же кончится несносная война?..
— Война... война... Да, пора бы кончиться... И впрямь... чего вое-
вать-то? Чего дѣлить-то?. Надо по хорошему... по Божески... Всѣ люди,
какъ люди .. И нѣмцы... Народъ хорошій... Сурьезный... Нѣмцы,—во!.. Съ
ними надо жить ладкомъ... Хорошій народъ...
— Звѣрства?.. Чего тамъ звѣрства!.. Ты видѣла, какъ малые маль-
чишки дерутся?.. Ну, вотъ... А когда мальчишки перестанутъ драться, и
звѣрства не будетъ... Войны не будетъ... Понимаешь?.. Будетъ все по
хорошему... По Божески... Сколько разъ говорилъ: не надо воевать! Не
надо... А нѣмцевъ бранить зря нечего... Нѣмцы,—нѣмцы они и есть... Каж-
дому, небось, жрать хочется. А тебѣ не хочется?.. Мнѣ не хочется?..
Тварь Божья лопаетъ... питаніе любитъ... Утроба... Надо все тишкомъ,
да ладкомъ.. Раненые опять же... Вчерась въ лазаретѣ былъ... Видѣлъ...
Штыками другъ дружку исколютъ... Живопырня!.. Чего тамъ... Пони-
маешь?.. Вотъ, когда мальчишки перестанутъ драться... Видѣла, какъ другъ
дружку за волосья таскаютъ?..
Княгиня во всѣ глаза, именно во всѣ глаза, внимала безсвязнымъ,
какъ и подобаетъ быть словамъ оракула, словамъ старца Максима.
А онъ, поглаживая свою шелковистую „электрическую" бороду, съ
простецко-дурашливой повадкою и съ умными, хитрыми искорками въ
углубленныхъ гдѣ-то подъ бровями глазахъ, отрывисто кидалъ короткія
фразы, никакой другъ съ другомъ связи не имѣющія.
Видя, что княгиня вся такъ и млѣетъ восторгомъ, Марія Сергѣевна
диву давалась... Что это такое?..
120
Направляясь къ старцу, она приготовилась ко многому, необычному,
странному... Еще бы!.. Всѣ уши ей прожужжали о томъ, какъ раболѣп-
ствуютъ передъ Максимомъ Евстигнѣевичемъ его высокорожденныя и
высокопоставленныя поклонницы... Одно слышать, совсѣмъ другое — на-
блюдать самой...
Неужели эта самая княгиня въ жизни своей никогда не слышала
мало-мальски здравыхъ человѣческихъ рѣчей, разъ эта приправленная
шарлатанскимъ глубокомысліемъ белиберда кажется откровеніемъ свыше?..
И не одна княгиня... Ихъ много, княгинь, графинь и баронессъ...
Онѣ задыхаются и отъ собственной, и отъ окружающей пустоты и скуки,
отъ бездѣлья, ничтожности мелкихъ интересовъ... Имъ надоѣли лощенные
любовники въ мундирахъ и въ смокингахъ... И вотъ, онѣ скопомъ набро-
сились на этого здоровеннаго, какъ быкъ, „старца", сдѣлали себѣ изъ
него оракула... А онъ, знай себѣ, не дуракъ, измывается надъ ними
власть!
Все это пронеслось у Маріи Сергѣевны. Шелапутинъ перебилъ ея
мысли.
— Ты что же это молчишь? Разсѣлась китайской богородицей, ду-
маешь, бѣлая да гладкая, такъ и того...
— Я васъ послушать пришла, Максимъ Евстигнѣевичъ...
— Что слушать то... Слово Божіе—простое слово... У всѣхъ одина-
ково... Ну, пытай?.. Коли вдомекъ будетъ, отвѣчу.
— Я хотѣла бы задать вамъ два-три вопроса наединѣ,—молвила
Марія Сергѣевна, вспыхнувъ почему-то...
Она успѣла разочароваться въ „откровеніяхъ'4 старца, но не ухо-
дить же съ пустыми руками и пустымъ сердцемъ... Почемъ знать, быть
можетъ онъ, хоть случайно обронивъ какое-нибудь цѣнное слово, освѣ-
титъ гаснущія потомки ея души...
— Это, значитъ, какъ бы промежъ двоихъ... Что-жъ, коли исповѣдь,
я не тае... можно... Исповѣдь хорошее дѣло... Хорошее...—оживился вдругъ
старецъ и бросилъ выразительный,—„проваливай, молъ!'4,—взглядъ на
княгиню.
Та покорно поднялась, высокая, холено-красивая, съ трясущимся отъ
волненія бѣлымъ, полнымъ подбородкомъ.
— Идешь ко дворамъ?.. Ну, ладно, ступай.. Ступай...
И не глядя, привычнымъ движеніемъ, Максимъ ткнулъ княгинѣ свою
коричневую, жилистую, съ узловатыми пальцами и траурными ногтями
руку... Княгиня своими бѣлыми, пухлыми, надушенными руками, сложенными,
какъ если-бъ она шла за благословеніемъ, подхватила эту мужицкую руку
и поцѣловала...
— Отецъ, мы ждемъ васъ завтра, къ обѣду... Я пришлю за вами
автомобиль... Будутъ новыя лица, которыя жаждутъ увидѣть и услышать
васъ... Въ особенности, мой двоюродный братъ. Онъ заочный вашъ го-
рячій поклонникъ...
— Ладно, ужот-ко! Въ „вицахъ" засидѣлся. Въ губернаторы охота..
Отчего?.. Сдѣлаемъ!.. Всѣ люди-человѣки. Къ Маклецову съ своей запиской
пошлю... Пущай сходитъ. Живо въ губернаторы спроворимъ!.. Ладно,
ступай... А машину не забудь, пришли... Къ вамъ переть свѣтъ не близкій!..
Такса поганая всѣ кишки взбаламутитъ, пока доберешься... Да еще дай
ему пятитку...
121
Въ передней княгиня шепталась о чемъ-то съ тонкогубой колюче-
глазой келейницей. Но и келейница получила свою порцію нагоняя:
— Леконидушка!.. Подь туды, на кухню... Надо будетъ—кликну!..
Марію Сергѣевну старецъ ввелъ въ крохотный кабинетикъ, съ пись-
меннымъ столомъ и диваномъ. Притворилъ дверь.
— Выкладывай. Исповѣдь-то...
Но не дожидаясь „исповѣди", Максимъ Евстигнѣевичъ, облапивъ
Марію Сергѣевну и прильнувъ къ ея нѣжному, тонкому лицу пушистой
бородой своею, потащилъ ее къ дивану...
Она вырвалась, оттолкнула его, гнѣвная, оскорбленная, пунцовая вся...
Въ миндалевидныхъ свѣтлыхъ глазахъ съ поволокою двумя алмазинками
блестѣли слезы...
— Вы съ ума сошли...
Старецъ опѣшилъ... Руками развелъ...
— Не хошь... не надо... Я, чай, не силкомъ... Я по хорошему... Дура,
тебѣ же въ прокъ... Благодати сподобилась бы... А коли фордыбачишься,
не надо. Я по хорошему...
— Я не за этой благодатью пришла къ вамъ... Откройте дверь!..
• Да ты че ерепенься... Не хошь, не надо... И почище тебя, а не
кочевряжатся... Видѣла княгиню?.. Товарки ейныя—пальцемъ мигну, бровью
шевельну... Да и не надо, на кой прахъ... Сами лѣзутъ..! По горло... Чуд-
ная, право... Въ баньку пошли бы, бѣлая ты моя, хорошая...
— Пустите меня...
- Да ты куда?.. Погоди. Не хошь, не надо, кончено... А я думалъ,
ты ко мнѣ по хорошему, честь-честью... Барчука, поди, хочется... Думаешь,
мужикъ... грязный... Смердитъ... А вотъ имъ, княгинямъ, обрыдли свои
кобели, деколонами всякими тамъ мытые... Мужика захотѣлось... Ихніе
кобели въ ручку цмокъ, а мужикъ самъ имъ свою лапу тычетъ... Цѣлуй,
дурища!.. Ну, и цѣлуютъ... Послѣ аглицкихъ, да французскихъ мармела-
дныхъ словъ я имъ такое загибаю, хоть повѣсь топоръ... Терпятъ... Ну,
коли такъ, иди, ступай, не держу... А я хотѣлъ такъ... по хорошему... Въ
баньку сводилъ бы... Ей Богу... А коли гнушаешься,—твоя воля...
Старецъ открылъ дверь.
— Леконидушка, а Леконидушка... Барыню проводи-ка...
10. „Вильгельмъ Телль".
Мясниковъ недаромъ былъ такъ увѣренъ въ себѣ. Онъ считался, да
и вполнѣ заслуженно, однимъ изъ лучшихъ стрѣлковъ Петрограда.
Его „мишени" ходили по рукамъ любителей. Печатались въ спортив-
ныхъ журналахъ.
Изо-дня въ день, уже много лѣтъ, каждое утро, въ какой бы изъ его
трехъ квартиръ ни застало его это утро. Мясниковъ дѣлалъ нѣсколько
тренировочныхъ выстрѣловъ изъ пистолета монте-кристо.
Это было его утреннимъ стаканомъ чая.
На пятнадцать шаговъ, онъ безъ промаха, много разъ подрядъ са-
жалъ пульку за пулькою въ любое очко игральной карты. Разрѣзалъ
надвое тоненькую дамскую папиросу и продѣлывалъ еще немало въ та-
комъ же родѣ трюковъ, что по плечу развѣ только профессіоналамъ, под-
визающимся въ шантанахъ и циркахъ.
122
Соперникомъ его по стрѣльбѣ, и едва-ли не счастливѣйшимъ, былъ
извѣстный общественный дѣятель, одна изъ крупнѣйшихъ и обаятельнѣй-
шихъ фигуръ современности нашей,—Иванъ Александровичъ Кучковъ.
Сплетеніе красивыхъ странностей, еще ярче оттѣняло весь обликъ
этого общественнаго дѣятеля. Сынъ старообрядца и матери француженки,
Иванъ Александровичъ совмѣщалъ въ себѣ русскую силу, ширь и мощь
необъятную стихійныхъ замысловъ,—уголъ непочатый, и все это, вмѣстѣ
съ тонкой духовной культурою государственнаго и политическаго чело-
вѣка, западной складки...
На западѣ карьера его была бы головокружительной...
Въ эту годину лихолѣтья, съ войною и намѣчавшимися кое-гдѣ не-
урядицами и промахами общегосударственнаго механизма, многіе лучшіе
элементы общества взирали съ надеждою на Кучкова, называя его буду-
щимъ россійскимъ Гамбеттою.
Во время трансваальской войны Кучковъ, этотъ большой человѣкъ
мятежной, вѣчно благороднымъ огнемъ пламенѣющей души, ѣздилъ къ
бурамъ, и даже эти знаменитые „охотники за черепами", безъ промаха
бьющіе носорога въ его маленькій, лѣнивый, заплывшій глазъ, даже они
удивлялись поразительной мѣткости русскаго пришельца. Мѣткости, изъ
чего-бъ ни стрѣлялъ онъ... Винтовки ли, охотничьяго штуцера, пистолета,
револьвера...
И вотъ подите-жъ, случай, его величество случай, поставилъ у барьера,
другъ противъ друга, двухъ такихъ первоклассныхъ стрѣлковъ, кака.
Андрей Андреевичъ Мясниковъ и Иванъ Александровичъ.
Кучкопъ честной и смѣлой рукою попытался приподнять завѣсу надъ,
по меньшей мѣрѣ, подозрительной дѣятельностью человѣка, долго служив-
шаго на прусской границѣ, „охотившагося" съ императоромъ Вильгель-
момъ, якшавшагося съ агентами австро германской развѣдки и, Богъ вѣсть
изъ какихъ источниковъ, тратившаго громадныя деньги...
Словомъ, въ печати, Мясникову, не называя его имени, брошено было
обвиненіе въ предательствѣ.
Мясниковъ, носившій тогда мундиръ, хотя и съ отставнымъ зигзагомъ
на погонахъ, однако, все же мундиръ, забилъ въ набатъ, драпируясь въ
тогу оскорбленной невинности.
Онъ вопилъ на всѣхъ перекресткахъ о томъ, что онъ выше всякихъ
подозрѣній и не остановится ни передъ чѣмъ, — лишь бы смыть комья
грязи, которыми „клеветники" хотѣли забросать его честное, незапятнан-
ное имя.
Свою „реабилитацію" началъ Мясниковъ съ грубаго и хамскаго на-
паденія въ публичномъ мѣстѣ на редактора газеты, имѣвшаго мужество
наполовину сдернутъ,—въ то время большаго сдѣлать нельзя было—маску
съ измятой физіономіи Андрея Андреевича.
Послѣ нападенія на редактора, нападенія, никому ничего не разъяс-
нившаго и не показавшаго, Мясниковъ закусилъ удила.
Онъ послалъ своихъ секундантовъ Кучкову, полагая въ немъ глав-
наго вдохновителя газетной противъ себя кампаніи.
Конечно, Кучковъ могъ отклонить вызовъ. „Я, молъ, не дерусь съ
господами, надъ которыми тяготѣетъ обвиненіе въ гнусномъ предательствѣ
и въ государственной измѣнѣ...
Не дерусь съ господами съ подмоченной репутаціей и безъ чести'4.
123
Но Кучковъ согласился...
И вотъ, и безъ того каждый день упражняющійся въ стрѣльбѣ, Мяс-
никовъ доводитъ свою тренировку до крайняго предѣла. Не ограничиваясь
комнатной стрѣльбою, онъ ѣздитъ въ частный манежъ, выпуская изъ
дуэльныхъ пистолетовъ цѣлую сотню пуль. Просился пустить его въ
манежъ одного изъ кавалерійскихъ полковъ, но тамъ его отшили, съ
изрядной прохладцей...
Онъ былъ охваченъ страстнымъ желаніемъ разъ навсегда покончить
съ „опаснымъ" для него человѣкомъ. Его друзья уже заранѣе отпѣвали
Кучкова...
Поединокъ состоялся въ окрестностяхъ Петрограда, тоіда еще Пе-
тербурга, а не Петрограда, въ одинъ изъ мерзѣйшихъ осеннихъ дней съ
холоднымъ вѣтромъ, слякотью и какими-то мокрыми,—не то дождь, не то
снѣгъ,—отрубями, валомъ валившими съ небесъ, если только можно было
назвать небесами спустившіяся до самой земли облака.
Нѣсколько журналистовъ, въ погонѣ за сенсаціей, помчались на
автомобиляхъ къ мѣсту дуэли,
Противники стояли,—двадцать шаговъ раздѣляло ихъ,—лицомъ къ лицу.
Въ свѣтлыхъ, чистыхъ и ясныхъ глазахъ Кучкова читалось спокой-
ное презрѣніе... Сѣро зеленые, кошачьи глаза Мясникова горѣли злобой,
ненавистью.
Кучковъ, думая о чемъ-то своемъ, умышленно далъ возможность про-
тивнику стрѣлять первымъ.
Мясниковъ использовалъ эту возможность. Долго, долго и тщательно
цѣлился... Весь ушелъ... Пуля его пролетѣла въ нѣсколькихъ линіяхъ
всего отъ виска Ивана Александровича...
Кучковъ медленно улыбнулся, медленно поднялъ свой пистолетъ
вверхъ, и выстрѣлилъ въ грязно-сѣрыя, низко нависшія, облака... И, не
глядя на противника, взбѣшеннаго этой нравственной пощечиною, дви-
нулся къ своему автомобилю...
Петроградъ нѣсколько дней говорилъ объ этой дуэли. Говорилъ, а
потомъ ее смѣнила какая то другая сенсаціонная новинка.
Андрей Андреевичъ Мясниковъ спѣшно укатилъ въ Берлинъ, вече-
ромъ же, послѣ дуэли.
Сейчасъ въ отдѣльномъ кабинетѣ, въ ожиданіи, пока его шофферъ
привезетъ пистолеты, онъ, вспомнилъ осенній день, опушку березовой
рощицы, вспомнилъ уничтожающій его выстрѣлъ въ облака... И большіе
пальцы сильныхъ рукъ его сжались сведенные судорогою злого безсилія..
Только-бъ встрѣтиться ему гдѣ-нибудь на узенькой дорожкѣ съ Куч-
ковымъ... Только-бъ встрѣтиться...
Съ какимъ наслажденіемъ внился-бы онъ зубами въ горло этого
спокойнаго человѣка, съ круглой, свинцовой сѣдины бородкою и съ го-
ловою какой-то умной птицы, далекихъ теплыхъ береговъ!..
Даже Роткусъ, ушедшій, казалось, цѣликомъ, въ „прикосновенія" съ
съ обиднымъ для его мужскаго самолюбія равнодушіемъ встѣчающей ихъ
Эллы-Стэллы, даже онъ обратилъ вниманіе.
— Что съ тобой, Андрей?.. Тебѣ, какъ будто, не по себѣ?..
— Ничего, пустяки... Берта бѣситъ меня своими дикими выходками...—
солгалъ Мясниковъ.—Напьется, удержу нѣтъ!.. Погоди, она еще выкинетъ
какую-нибудь штуку...
124
Мясниковъ зналъ хорошо свою Берту. Продолжавшая сидѣть копя-
щимъ пьяную злобу истерически надутымъ комочкомъ, изъ тоненькаго
худого тѣла и цвѣтныхъ тряпокъ, Берта напоминала живую ,,лейденскую
банку". Вотъ-вотъ, мало-мальски сгустится воздухъ и такія пойдутъ элек-
трическія вспышки и разряженія,—упаси Богъ!..
Веселый, задорный, горловой смѣхъ танцовщицы, успѣвшей затума-
ниться шампанскимъ, раздражалъ Берту...
Вотъ и ящикъ съ пистолетами.
Маркизъ Санъ-Діонисіо, какъ бывшій офицеръ, съ видомъ знатока
осматривалъ „спускъ" и граненый стволъ съ маленькимъ дуломъ.
Вошелъ озабоченный мосье Герье.
— Я боюсь, какъ-бы не услышали выстрѣлъ въ общемъ залѣ... Теперь
такое тревожное время... По сосѣдству, правда, никого нѣтъ... Но въ
общемъ залѣ?..
— Пустяки!.. Выстрѣлъ, — не громче дѣтской хлопушки. Да и въ
общемъ залѣ, навѣрное, осталось два съ половиною человѣка,—успокаи-
валъ Мясниковъ метръ-д’отеля.
Раухъ подошелъ къ окну и, отодвинувъ портьеру, выглянулъ.
Дѣйствительно, два съ половиною человѣка. Уже румынскій оркестръ
покинулъ свою эстраду. И тамъ, гдѣ тягуче ныли скрипки черномазыхъ,
усатыхъ людей, въ опереточныхъ „національныхъ" костюмахъ, тамъ теперь
густились безпорядочною толпой стулья.
Померкло электричество и дали громаднаго, съ краснымъ ковромъ
во весь полъ зала терялись въ сумеркахъ. Уходили правильными, бѣлыми
квадратами ряды опустѣвшихъ столиковъ. И лишь кое-гдѣ, сиротливыми
оазисами,—поздно засидѣвшіяся парочки, безъ оживленія, по ночному ин-
тимно и говорившія тихо что-то свое. Мишурный блескъ исчезъ вмѣстѣ
съ нарядной толпою, вмѣстѣ съ яркимъ электричествомъ плафона, съ пѣ-
вучими скрипками смуглыхъ дѣтей выжженной солнцемъ Валахіи.
— Можно!—рѣшилъ Раухъ.
— Можно,—согласился осмотрительный дипломатъ мосье Герье.
Андрей Андреевичъ зарядилъ пистолетъ миніатюрнымъ патрономъ.
Танцовщицею овладѣло нервное возбужденіе. Жуткое сознаніе риска—
было дня нея вторымъ шампанскимъ. Высокій, сутуловатый Раухъ, нагнув-
шись крупнымъ носомъ своимъ къ вазѣ съ фруктами, выбиралъ яблоко.
Здѣсь все большіе, надо поменьше,—молвилъ Мясниковъ.
— Маленькихъ мы не держимъ,—отвѣтилъ съ достоинствомъ Герье.—
Маленькихъ не достать.—Магазины еще не открыты...
— Именно, еще не открыты,—улыбнулся Роткусъ. Первый разъ за
весь вечеръ улыбнулся.—Уже седьмой часъ. Откроютъ въ девять...
Онъ улыбался механически, сокращеніемъ лицевыхъ мускуловъ. И,
несмотря на улыбку, красивыя порознь и вмѣстѣ — отталкивающія черты
хранили деревянное выраженіе.
Пришлось волей-неволей удовлетвориться большимъ, румянымъ
яблокомъ.
Эллу поставили вплотную къ дверямъ, запретивъ лакеямъ входить.
Яблоко отказывалось держаться на черныхъ, густыхъ волосахъ танцов-
щицы. Скатывалось.
— Придерживайте вверху пальцемъ,—посовѣтовалъ Мясниковъ.
Маркизъ Санъ-Діонисіо отмѣрилъ десять крупныхъ шаговъ.
- 125 -
Комочекъ Берты рас пружинился. Она вскочила.
— Андрэ, я хочу!.. Слышишь?.. У меня не свалится... Андрэ!..
— Ты-же не хотѣла...
— А теперь хочу!..
Теперь поздно...
— Я тебѣ не дамъ стрѣлять!.. Я тебя искусаю!.. Я не знаю, что тебѣ
сдѣлаю!..
— Попробуй!..
— Вотъ увидишь... Брошусь и помѣшаю!
Мясниковъ, уже съ пистолетомъ въ рукѣ, подошелъ къ Бертѣ вплот-
ную, звѣрски закусивъ нижнюю губу.
— Послушай!.. Если ты не бросишь свои фокусы, я тебя тутъ-же
при всѣхъ, изобью... Въ кровь...
— Что-жъ, бей... палачъ!.. Мало я натерпѣлась...
Порывъ Берты угасъ. Жалобно захныкавъ, она отошла прибитой
собаченкою.
А Элла, гордая своей полуприкрытой наготою, нетерпѣливо каприз-
ничая, постукивала каблучками.
— Скорѣе!..
Мясниковъ прицѣлился...
Всѣ притихли, застыли... Еще-бы... Малѣйшій промахъ, и...
Пистолетъ замеръ въ согнутой въ локтѣ рукѣ Андрея Андреевича.
Какъ завинченный въ станокъ замеръ...
Сухо щелкнулъ легонькій выстрѣлъ.
Танцовщица сдѣлала пируэтъ, держа надъ головою яблоко.
— Ѵоііа!..
Въ розовой, туго натянутой кожицѣ, — какъ-бы, маленькая червото-
точинка. Пронизавъ яблоко, пулька другой червоточинкою ушла въ дверь.
Яблоко ходило по рукамъ. Всѣ разсматривали...
— Браво, браво!..
Настоящій Вильгельмъ-Телль!..
А „Вильгельмъ-Телль“ думалъ въ этотъ моментъ:
— Ахъ, если-бъ тогда... Почему я тогда промахнулся?..
Берта, съ ногами забравшись на диванъ, одна не раздѣляла тріумфа
своего властелина. Упершись подбородкомъ въ худыя колѣни, она раска-
чивалась, хныкая не то больными, не то дѣтскими, не то пьяненькими слезами.
И онѣ текли и текли, размазывая гримъ густо подведенныхъ глазъ
и накрашеннаго лица...
11. Въ мастерской художника.
Зима какъ-то вдругъ, въ одинъ день, смѣнила ставшую въ послѣднее
время сухою петроградскую осень.
Снѣгъ падалъ, падалъ, застилая мутно-молочной пеленою все кругомъ
и къ вечеру, при свѣтѣ огней, бѣлыя фигуры въ этой снѣжной мглѣ ка-
зались рождественскими фантомами, хотя до Рождества было еще далеко.
Видимо-невидимо намело сугробовъ. Извозчики и сѣдоки радовались
первопутку. Цѣлая армія трамвайной прислуги расчищала путь своимъ
желто-краснымъ вагонамъ.
— 126 —
Отъ обилія снѣга повсюду какъ то особенно хорошо дышалось и
воздухъ чистый, упругій, звенящій, вдругъ получилъ свой зимній „вкусъ".
На другой день все сіяло, искрилось инеемъ и серебромъ.
Конецъ, по крайности, хоть на время, тусклымъ, подслѣповатыми
днямъ, съ ихъ вѣчными потемками. Радовался обыватель и еще больше
радовался художникъ. Писать можно. Сгинула сѣрая, однотонная муть.
Видишь натуру, видишь краски.
Беркутовъ, довольный цѣлымъ океаномъ свѣта, вливавшагося въ гро-
мадное верхнее окно его студіи, поджидалъ Бранку...
Начатый въ Константинополѣ громадный обстановочный портреть,—
инфанта средь осенняго парка съ фонтаномъ,—прншлссь отложить. Едва
успѣлъ Беркутовъ начать его, какъ холстъ, спѣшно свернутый въ трубку,
вѣрнѣе въ цѣлую трубу, совершилъ длительный, кружной путь до Петро-
града. Художникъ покинулъ берега Босфора, вмѣстѣ съ Миланомъ, Бран-
ною и Гермесомъ. Миланъ ѣхалъ въ Петроградъ, назначенный въ серб-
скую миссію первымъ секретаремъ и, заодно съ нимъ, оставили банкир-
скій особнякъ на Перѣ сестра и племянникъ.
Этотъ разрывъ, разрывъ навсегда, не особенно огорчила, Агамемнона
Сарифи. Онъ почти охотно отпустилъ жену и, менѣе охотно, безъ осо-
беннаго, впрочемъ, отеческаго сожалѣнія, сына.
Теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, хотѣлось банкиру наладить добрыя
и прочныя отношенія съ оффиціальной Германіей, бросившей такой осно-
вательный якорь на Босфорѣ. Онъ чаялъ орденовъ, почестей и, кромѣ
того, окончательно спаяли его съ нѣмцами дѣла финансоваго и торгово-
промышленнаго характера.
Жена — сербка, да еще, вдобавокъ, съумѣвшая вооружить противъ
себя и почтеннаго „мистера" Меллера и капитана Рауха, а черезъ нихъ
всю германскую колонію,—являлась досадной, чему-то мѣшающей, тормо-
зящей что-то обузою.
Когда Бранка заявила ему, что нѣтъ силъ у нея больше жить съ
нимъ, и она хочетъ уѣхать вмѣстѣ съ братомъ въ Россію, Агамемнонъ
ощутилъ даже приливъ какой-то легкой радости.
Но, такъ какъ высказать ее было бы неприлично, банкиръ для виду
посовѣтовалъ со свойственной ему шутовской повадкою.
Ну, конечно! Жизнь со мною — каторга! Я тюремщикъ, палачъ,
инквизиторъ! Я запиралъ васъ на замокъ, лишалъ васъ свободы, тянулъ изъ
васъ жилы!.. Послѣ двадцати лѣтъ сплошныхъ ужасовъ, страданій, чаша
терпѣнія ваша переполнилась и вы не только покидаете меня сами, но еше
лишаете нѣжно любимаго сына. Конечно, будь я дѣйствительно палачъ, я
не отдалъ бы вамъ Гермеса ни подъ какимъ видомъ. Но я великодушенъ
и добръ...
— Агамемнонъ, зачѣмъ вы говорите все это?—сдерживая себя, тихо,
безъ упрека, молвила Бранка.
— А почему бы не говорить? Кажется, я воленъ въ своихъ словахъ.
Мало вамъ, что вы меня покидаете? Вамъ еще хотѣлось бы запечатать
мнѣ ротъ. Не удастся!.. Еще не изобрѣтенъ такой сургучъ... Но, довольно
словъ,—къ дѣлу!.. Я, прежде всего, человѣкъ тѣла. Я не изъ числа архи-
текторовъ, занимающихся постройкою воздушныхъ замковъ. Мы живемъ
на землѣ, а не въ облакахъ... Это надо помнить... Я еще крѣпокъ, здоровъ,
не собираюсь умирать и намѣрена, жить долго... Умру, Гермесъ является
127
моимъ наслѣдникомъ. Это—въ далекомъ будущемъ!.. А пока я рѣшилъ
обезпечить его и васъ—милліономъ франковъ. Процентовъ съ этого ка-
питала вполнѣ довольно, чтобъ жить не только не нуждаясь, но и съ ком-
фортомъ... Я думаю, меня трудно упрекнуть, при всемъ желаніи? Я вели-
кодушенъ и даже вы, Бранка, мой врагъ, потому что вы—мой врагъ, не
рискнете отрицать...
- Вы слишкомъ много и часто говорите о собственномъ великоду-
шіи... Лично за себя я готова отказаться отъ всякаго обезпеченія.
— Вотъ какъ!.. Желаніе красиваго жеста? А на что же вы будете су-
ществовать? Правда, съ вашей внѣшностью вы могли бы выгодно выйти
замужъ еще разъ. Но я изъ принципа не дамъ вамъ развода. Изъ прин-
ципа! Миланъ—нищій. Что такое нѣсколько тысячъ жалованья при доро-
говизнѣ Петрограда, теперь, во время войны, въ особенности?..
Скрѣпя сердце, Бранка согласилась, въ концѣ концовъ, на это „обез-
печеніе". Миланъ уговорилъ ее:
— Къ чему игра въ благородство, котораго этотъ господинъ, все
равно, не пойметъ и не оцѣнитъ? Онъ взялъ твою молодость, лучшіе годы
жизни, а взамѣнъ, что ты имѣла отъ него? Пошлаго, неумнаго, непріят-
наго уродца, которому ты принесла себя въ жертву ради семьи?.. Я всегда
считалъ этотъ бракъ глубокой ошибкою, оставшейся на совѣсти у покой-
наго отца...
И вотъ съ теплыхъ береговъ Константинополя, всѣ трое перекоче-
вали на холодные, суровые, гранитные берега Невы, какъ сестра и пле-
мянникъ поселились у Таврическаго сада, вблизи сербскаго посольства, гдѣ
Миланъ пропадалъ цѣлыми днями за нервной и спѣшной работой. Онъ
такъ втянулся въ нее, такъ проникся интересами своей маленькой герои-
ческой родины, переживающей великую трагедію, что даже пересталъ пить
коньякъ, пересталъ къ несказанному удовольствію Бранки.
Въ трехъ, четырехъ минутахъ, на Сергіевской, жилъ Беркутовъ.
Они видѣлись почти каждый день. Одинокій, холостой, не державшій
своей кухни, Беркутовъ часто обѣдалъ и завтракалъ у Милана и Бранки.
Ничто такъ не сближаетъ людей, какъ совмѣстное путешествіе.
За двухнедѣльный, — морями, желѣзными дорогами, автомобилями и
лошадьми, путь, Беркутовъ и Бранка успѣли сблизиться хорошей и чи-
стой дружбою. А художникъ успѣлъ влюбиться. Впрочемъ, влюбился онъ
въ Бранку съ первой-же встрѣчи, когда въ бѣломъ залѣ съ колоннами
такъ поэтически грезилъ на яву портретомъ инфангы...
Но человѣкъ деликатный и чуткій, онъ держалъ себя въ рукахъ, былъ
на чеку, проявляя свое вниманіе весьма и весьма осторожно. Онъ боялся
вспугнуть довѣрчивую дружбу прекрасной банкирессы.
Пусть пройдетъ время, пусть она оправится отъ своей драмы, вѣрнѣе,
отъ нѣсколькихъ драмъ, которыми еще ныла большая измученная душа...
Пусть!.. А тамъ видно будетъ,- дрогнетъ ли желаннымъ откликомъ ея
сердце...
Модный художникъ-портретистъ, съ большимъ именемъ, красивый блон-
динъ, много бывавшій въ обществѣ, Беркутовъ пользовался успѣхомъ у
женщинъ. Вечерами „на огонекъ" залетали къ нему иногда тѣ самыя дамы,
которыхъ онъ писалъ утромъ. Уютная, артистически обставленная студія
живописца казалась имъ „пикантнымъ" фономъ для грѣха... Болѣе пикант-
нымъ, чѣмъ успѣвшіе надоѣсть отдѣльные кабинеты ресторановъ и „гнѣз.
128
дышко любви0 въ Волынскомъ переулкѣ, содержимое отставной увядшей
кокоткой.
Насчетъ этихъ легкихъ романовъ Беркутовъ не тѣшилъ себя ника-
кими иллюзіями. Вчера,—какой-нибудь вылощенный корректный чиновникъ,
сегодня, онъ, Беркутовъ, черезъ мѣсяцъ—смуглый, съ матовымъ румян-
цемъ, кирасиръ, лихо и „чисто" берущій препятствія въ Михайловскомъ
манежѣ...
11 онъ отдавалъ себя въ такой-же мѣрѣ, какъ и бралъ самъ. Легкіе,
удобные романы безъ потрясеній, безъ особенно сильныхъ переживаній.
Теперь же... теперь совсѣмъ другое. Онъ весь захваченъ, весь цѣли-
комъ, этимъ новымъ и свѣжимъ чувствомъ...
Вотъ онъ усадилъ ее въ тяжелое, величественное, напоминающее
тронъ, кожаное кресло, съ прямой, высокой спинкою и рѣзными завитуш-
ками орѣховаго дерева, кресло въ стилѣ испанскаго возрожденія. И на
фонѣ этого кресла, говорящаго о чемъ-то давно-давно минувшемъ, о ка-
стильскихъ рыцаряхъ, о веласкезовскпхъ Бурбонахъ и Габсбургахъ, съ
тяжелымъ подбородкомъ и выпяченной нижней губой,—на этомъ фонѣ такъ
нѣжно, мечтательно рисуется тонкое, блѣдное, породистое лицо... II онъ
весь ушелъ въ созерцаніе,—высмотрѣть изысканную игру линій въ ея пѣ-
вучемъ сочетаніи съ неуловимымъ общимъ тономъ лица...
Неуловимымъ... Его надо почувствовать и перенести на полотно. Это
первый сеансъ. Пока еще ничего нѣтъ... Пока, лишь твердо намѣченный
углемъ контуръ съ жиденькой—холстъ сквозитъ—подмалевкою.
Бранка была здѣсь около недѣли назадъ съ Миланомъ, потомъ Бер-
кутовъ рисовалъ ее, и вотъ она уже третій разъ въ мастерской. Третій,
а между тѣмъ,—ощущеніе новизны...
Еіі вновѣ этотъ артистическій хаосъ, не безпорядокъ, а именно хаосъ,
гдѣ такъ много рѣдкостей, предметовъ художественной старины и, въ
то же время, это не антикварный магазинъ, не уголокъ музея, а студія
живописца и только студія.
Здѣсь все въ неожиданныхъ сочетаніяхъ, въ дерзкомъ сосѣдствѣ, въ
комбинаціяхъ тоновъ драпировокъ, то брошенныхъ на тубаретъ тяжелой
злототканноіі нарчею, то собранныхъ пышнымъ пурпуромъ складокъ.
Бѣлѣютъ мраморные бюсты боговъ и богинь, тускло сіяютъ заржа-
вленной чешуею персидскія кольчуги. Круглый арабскій шлемъ, весь тон-
чайшей чеканкою покрытый, надѣтъ на голову длиннаго манекена, съ рас-
крашеннымъ „подъ натуру" лицомъ. За спиною манекена — колчанъ съ
малай скими стрѣлам и.
Это дѣло рукъ барышни-рѣзвушки, дочери бывшаго генералъ-губер-
натора,—опа учится у Беркутова живописи.
— О чемъ вы думаете, Бранка?—спросилъ художникъ, выдавливая на
большую, оваломъ, палитру, какъ сметана густыя, свинцовыя бѣлила.
— О чемъ я думаю?—слабой, застѣнчивой улыбкой отвѣтила Бранка.—
Я думаю о томъ, какъ хорошо у васъ!.. Легко, понимаете, легко здѣсь...
И непохоже, на всѣ эти гостиныя, гдѣ мнѣ приходилось бывать... Гостиная,
будь она чопорно-свѣтская, или буржуазная, все равно, — „обязываетъ".
Обязываетъ думать въ извѣстномъ направленіи, большей частью шаблонно.
Во всякомъ случаѣ, настраиваетъ скорѣй банально, чѣмъ — какъ-нибудь
по другому... Попробуйте въ гостиной увѣнчать этимъ шлемомъ голову
какого-нибудь бюста./. Выйдетъ... выйдетъ не то!.. Получится какая-то не-
129
9
ряшливость... Безпорядокъ, за который хозяйка сдѣлаетъ выговоръ лакею.,.
А въ мастерской—это идетъ... Это даже красиво!.. И мысли должны за-
рождаться въ такой атмосферѣ, особенныя, красивыя мысли... Я не знаю,
такъ-ли выразила... Понимаете-ли вы меня?
— Мнѣ ли васъ не понять, Бранка?.. Я по своей спеціальности пор-
третиста,—это, вульгарно выражаясь, мой хлѣбъ,—волей-неволей долженъ
вращаться въ самыхъ разнообразныхъ кругахъ. Во время зимняго сезона,
чуть ли не каждый вечеръ во фракѣ... II, увѣряю васъ, это для меня пытка.
Только здѣсь, дома, я чувствую себя хорошо. Здѣсь, въ этомъ хаосѣ,
вижу я мнѣ понятный, гармоничный порядокъ и гдѣ все, рѣшительно все,
до мелочей, одухотворено и живетъ своей странной жизнью, которой
другіе не почувствуютъ, не замѣтятъ... Говорить каждая вещь, каждая
драпировка нашептываетъ свою,—надо только умѣть слушать,—исторію...
Видите, рядомъ съ лукомъ сингалезца, виситъ бархатное платье знатной
французской дамы конца восемнадцатаго вѣка?.. Увы, оно побывало въ
чисткѣ, потому что если-бъ вы знали, въ какой оно было грязи!..
Нѣсколько лѣтъ назадъ, у меня явилось желаніе написать картину
изъ эпохи французской революціи... Много писалось въ этомъ направленіи...
Съ кровью, ужасомъ, озвѣреніемъ, десятками изступленныхъ фигуръ... Я
не охотникъ ходить по чужимъ дорогамъ... Я всегда, прежде всего, ищу
главнаго пятна... Найти пятно, по моему,—въ картинѣ все!.. И вотъ я за-
казалъ костюмеру это бархатное платье... Было осенью... Въ проливной
дождь я поѣхалъ за городъ, выбрала, проселочную, не шоссейную, дорогу
и прямо въ грязь бросилъ это платье. Вы чувствуете контрастъ: грязь и
дорогой, въ мягкихъ, ласкающихъ переливахъ, бархатъ... Я почувствовалъ
пятно... Черезъ мѣсяцъ я написалъ картину... Подъ дождемъ и въ грязи
лежитъ, разметалась съ распущенными въ безпорядкѣ волосами, въ бар-
хатномъ платьѣ, блѣдная и сама по себѣ, и отъ дыханія смерти,—маркиза...
Вдали, на второмъ планѣ, вглубь туманной завѣсы дождя, уходитъ мед-
ленно толпа санкюлотовъ съ косами и вилами. Толпа — аксесуаръ. Вся
сила въ трагическомъ пятнѣ...
— Какой прекрасный замысель!-~воскликнула Бранка.—Гдѣ эта кар-
тина? Я хотѣла-бы ее видѣть...
— Къ сожалѣнію, далеко... Тамъ сейчасъ тепло, хорошо... Ее купилъ
у меня въ Парижѣ па выставкѣ Салона Марсова поля, одинъ русскій вель-
можа... Теперь она въ его флорентійскомъ палаццо. Но фотографію съ нея
могу вамъ показать. Она у меня гдѣ-то въ одной изъ этихъ папокъ...
Положивъ на высокій табуретъ палитру съ кистями, Беркутовъ дви-
нулся къ цѣлой грудѣ тяжелыхъ матерчатыхъ папокъ. Но его отвлекъ
задребезжавшій телефонъ въ сосѣдней, полутемной комнатѣ, куда нужно
было подняться по узенькой деревянной лѣстницѣ.
— Забылъ снять трубку... Телефонъ не во время,—это орудіе пытки!..
А звонокъ все дребезжалъ, дребезжалъ властно и рѣзко.
— У телефона... Кто говоритъ?..
— Леонидъ Константиновичъ?..
— Да, это я... Кто говоритъ?...
— Вы не узнаете моего голоса...
— Нѣтъ, не узнаю, кто говоритъ?..
— Александра Николаевна Тохтамышева...
— Ахъ, это вы, княгиня!.. Здравія желаю...
із°
— Давно вернулись, маэстро, изъ дальнихъ странствій?.. Васъ не
потопили?..
— Славу Богу, нѣтъ... Мой путь лежалъ внѣ сферы дѣйствія под-
водныхъ лодокъ этихъ мерзавцевъ.
— Уже и мерзавцевъ!.. Какъ сильно!.. Послушайте, маэстро, у васъ
цѣлый океанъ интересныхъ впечатлѣній?.. Вы должны все разсказать, слы-
шите! Мнѣ уже кое-что насплетничали... Правда, что вы похитили какую-то
прекрасную банкирессу и, вообще, это все адски романтично...
— Какой вздоръ... Я не думалъ никого похищать... Это такъ мало
на меня похоже...
— Разсказывайте!.. Прикидывается тихоней, а самъ... Хотите — на-
зову имена...
— Нѣтъ, ради Бога, княгиня, увольте... Никакихъ именъ...
— Браво!.. Это дѣлаетъ вамъ честь... Вы рыцарь безъ страха и упрека...
Рыцарь, гдѣ вы послѣ завтра обѣдаете?..
— Не знаю...
— Не знаете... Въ такомъ случаѣ, ждемъ васъ къ семи... Увидите
одного замѣчательнаго человѣка... Геній!..
— Даже геній!.. Вы меня заинтересовали, княгиня... У насъ былъ одинъ
геній... Толстой... Его ужъ нѣтъ.
— Ну, вы съ вашимъ Толстымъ! Безбожникъ, анархистъ и, вообще...
Нѣтъ, настоящій геній!..
— Сгораю отъ нетерпѣнія услышать его имя?..
— Вотъ, недогадливый... Ну, такъ и быть, скажу... Перестану му-
чить... Максимъ Евстигнѣевичъ!..
— Это еще что такое?..
— Не что такое, а кто такой?.. Надеру вамъ уши... Какъ не стыдно ,
не знать!.. Шелапутинъ, Максимъ Евстигнѣевичъ Ше лапу тинъ...
— Ааа...
— Бее-е... За одно это „а", я готова васъ прибить... Неужели васъ
не интересуетъ?
— Взглянуть поближе на это сокровище? Ничего не имѣю противъ,—
занятно...
— Не смѣйте говорить объ немъ такимъ тономъ... Я увѣрена, съ
перваго-же вгляда вы подпадете его обаянію.. Вотъ, что милый маэстро,
необходимо написать его большой портретъ... Мы, группа его...
— Поклонницъ?—подхватилъ Беркутовъ.
— Ученицъ, — поправила княгиня...—Да, ученицъ. Потому что онъ
учитъ насъ жить... Это человѣкъ неизсякаемой мудрости!. Поняли, Ѳома
невѣрный!.. Да, такъ вотъ мы рѣшили вамъ заказать,.. Мы упросимъ Мак-
сима Евстигнѣевича, чтобъ онъ вамъ позировалъ... Вы понимаете?.. Пи-
сать его,—для васъ это... это карьера...
— Мерси, княгиня,—иронически поблагодарилъ Беркутовъ. — Я уже
сдѣлалъ карьеру. И дѣлать вторичную черезъ ващего геніальнаго Мак-
сима Евстигнѣевича,—не собираюсь..
— Дерзкій!.. Но мы васъ обратимъ на путь истины... Художники, вы
не признаете никакихъ авторитетовъ..
— Наоборотъ, мы воспитываемся на авторитетахъ...
— Некогда мнѣ съ вами... заболталась... Итакъ, до завтра?..
— До завтра...
— 131 — ♦
12. Вокругъ турецкаго посольства.
Наканунѣ разрыва дипломатическихъ отношеній между Босфоромъ и
Новою, положеніе турецкаго посла въ Петроградѣ, Феррадинъ-бея, было
отчаянное.
Сгинули безвозвратно тѣ далекіе, прекрасные „дни Аранжуэца", когда
турецкій посолъ ослѣплялъ все и вся кругомъ восточной роскошью своихъ
пріемовъ и выѣздовъ.
Красный особнякъ, выходившій фасадомъ къ Набережной,—одно только
воспоминаніе. А былъ когда-то во всемъ величіи блеска. Теперь же онъ—
уцѣлѣвшія, кое-какъ сохранившіяся одежды, подъ которыми, жалкія, рваныя
лохмотья.
Кошелекъ „Блистательной“ Порты, видимо, отощалъ неимовѣрно.
И посолъ, и секретари, весь пітать, начиная съ Феррадинъ-бея и
кончая драгоманомъ и „кавасомъ",—вотъ уже два мѣсяца сидѣлъ безъ
гроша, не получая изъ Стамбула ни одного піастра.
Посолъ телеграммами, одна другой отчаяннѣй, бомбардировалъ свое
министерство.
Умолялъ хоть что-нибудь прислать.
Ему отвѣчали шифромъ.
— Потерпите еще... Вотъ, объявимъ русскимъ войну, захватимъ весь
Крымъ, Кавказъ, отрѣжемъ Одессу, сдеремъ чудовищную контрибуцію, и
тогда вы будете купаться въ золотѣ...
Феррадинъ-бей предпочелъ-бы, какъ говорится, имѣть въ рукахъ
синицу, чѣмъ слѣдить за полетомъ журавля въ небесахъ.
Что ему въ этомъ купаньѣ въ золотѣ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ,
когда посольство задолжало кругомъ? И такъ мелко задолжало! Мяснику,
булочнику, въ молочной. Уже не отпускали продуктовъ, уже въ посольскомъ
особнякѣ вечеромъ все погружалось во мракъ, потому что керосиновыя
лампы,—какое-жс это освѣщеніе? А электрическій токъ былъ пріостано-
влена», опять-таки за неплатежъ.
И вотъ, наконецъ, выступленіе рѣшено, дипломатическіе представи-
тели отозваны. Феррадинъ-бей собирается въ путь-дорогу.
Казалось-бы, настроеніе посла оттоманской имперіи въ Петроградѣ,
хотя и сложившаго свои высокія полномочія и получившаго ввѣрительныя
грамоты, должно было быть ликующее.
Въ самомъ дѣлѣ: война объявлена, турецкіе корпуса перейдутъ границу,
и все ближе и ближе тѣ плѣнительные дни, когда Феррадинъ-бей будетъ
„купаться въ золотѣ“.
Но что ему въ этихъ золотыхъ грезахъ будущаго, да и будущаго-ли?—
когда въ обширномъ и строго-мрачномъ вестибюлѣ посольства, гдѣ во
время оно дремали, поджидая своихъ господъ, выѣздные лакеи въ мед-
вѣжьихъ воротникахъ и въ красныхъ, съ пелеринами мантіяхъ, —толпится
теперь совсѣмъ не посольская публика.
Румяный мужикъ, остриженный въ скобку, и въ окровавленномъ фар-
тукѣ,—подручный изъ мясной. Рядомъ съ нимъ—толстая прачка. Ухмы-
ляется, осматриваясь довольно развязно, мальчишка изъ молочной... И еще
вътакомъ-же духѣ—мало-почетные для элегантныхъ должниковъ кредиторы...
— 132 —
Посольскій егерь, старый, приземистый болгаринъ, съ давно небритой
сѣдой щетиною,—сочувствуетъ сѣрой толпѣ. Онъ самъ не видѣлъ своего
собственнаго жалованья вотъ уже девятый мѣсяцъ. И, вѣроятно, никогда
не увидитъ...
А Феррадинъ-бей, въ несвѣжемъ сюртукѣ и фескѣ, съ трясущейся
отъ волненія бородою, собственноручно укладывалъ свои чемоданы при
свѣтѣ керосиновой лампы. Кругомъ все тонуло во мракѣ.
И сквозь этотъ мракъ изъ тускло сіяющей, дешевенькой багетной
рамы, пухлымъ затекшимъ лицомъ своимъ смотрѣлъ повелитель правовѣр-
ныхъ, царь-царей, султанъ Махмудъ.
Тупой, равнодушный взглядъ.
Ему, какъ съ гуся вода, этому коронованному кретину, что его посолъ
не можетъ заплатить фалангѣ осадившихъ его людей какихъ-нибудь сто
съ небольшимъ рублей, въ общей сложности.
И самъ Феррадинъ-бей, скрипнувъ крупными, желтыми зубами, погро-
зилъ кулакомъ султанскому портрету.
Вотъ онъ, младотурецкій режимъ... При Абдулъ-Хамидѣ этого не
могло быть... Абдулъ-Хамидъ грабилъ кого угодно, тамъ, у себя,—свои
люди, сочтемся. Но его послы при европейскихъ столицахъ высоко дер-
жали свой престижъ.
Часъ отъ часу не легче...
Надъ раскрытымъ чемоданомъ выросла вдругъ фигура высокаго,
длиннаго драгомана Чуйкевича.
Феррадинъ-бей поднялъ голову.
— Ахъ, это вы!...
Но это вовсе не было у него восклицаніемъ радости.
— Да, это я!—отвѣтилъ Чуйкевичъ въ тонъ бывшему послу.—Вотъ
что, Феррадинъ-бей, мнѣ слѣдуетъ съ васъ получить сорокъ пять
рублей...
— Какіе сорокъ пять рублей?
— Такіе!.. Недоплаченнаго жалованья...
Феррадинъ-бей выпрямился.
— Вы ихъ получите...
Чуйкевичъ сдѣлалъ характерное движеніе пальцами:
„Давай, молъ, только этого и жду—не дождусь..."
— Вы ихъ получите... но не въ Петроградѣ, а въ... Одессѣ.
— Почему въ Одессѣ?—не понялъ Чуйкевичъ.
— Это ясно, какъ Божій день... Мы займемъ Одессу, обложимъ ее
контрибуціей и тогда, милости просимъ.
— Ахъ, ты мерзавецъ!..
И не успѣлъ Феррадинъ-бей опомниться, отпрянуть, какъ Чуйкевичъ
хватилъ его по лицу. Турокъ, слегка ошеломленный сначала, взъерепенился
и самъ хотѣлъ атаковать своего бывшаго драгомана. Другая пощечина,
болѣе увѣсистая, чѣмъ первая, охладила его воинственный пылъ. Онъ
ударился въ бѣгство.
Но Чуйкевичъ, знавшій всѣ ходы и выходы въ посольствѣ, прегра-
дилъ ему путь.
— Если ты сейчасъ-же, сію-же минуту, не разсчитаешься со мною,
я тебя изобью, какъ собаку! Не выпущу отсюда!..
Надъ этимъ стоило призадуматься...
— *зз —
Феррадинъ-бей съ пылающими ланитами безъ, фески,—онъ обронилъ
ее въ суматохѣ,—дрожащими пальцами открылъ бумажникъ. Не густо было
тамъ... Совсѣмъ не густо... Феррадинъ-бей наскребъ, однако, сорокъ пять
рублей замусленными бумажками и вручилъ ихъ драгоману.
— Теперь, надѣюсь, вы не имѣете ко мнѣ никакихъ претензій?..
— Теперь—никакихъ... А за наглую выходку насчетъ Одессы ты уже
получилъ, и мы квиты...
Чуйкевичъ ушелъ съ торжествующимъ видомъ, оставивъ Феррадинъ-
бея наединѣ съ его чемоданомъ.
Съ Чуйкевичемъ онъ поладилъ... Но тамъ... въ вестибюлѣ... Тамъ
„эти мерзавцы" устроили настоящее сбложеніе, сквозь которое не прор-
ваться.
Ахъ, если-бы можно было улизнуть чернымъ ходомъ?..
II съ горечью подумалъ Феррадинъ-бей о союзникахъ, австро-нѣм-
цахъ. Сколько онъ встрѣчалъ ихъ здѣсь и встрѣчаетъ на каждомъ шагу,
сытыхъ, богатыхъ, швыряющихъ деньги. Они ѣздили къ нему для тайныхъ
переговоровъ, эти великолѣпно чувствующіе себя въ Петроградѣ шпіоны,
даже не потрудившіеся перемѣнить подданство.
А теперь, теперь онъ имъ не нуженъ, и они забыли объ его суще-
ствованіи. Его, турецкаго посла Фсррадинъ-бея оскорбляетъ изъ-за какихъ-
то несчастныхъ сорока пяти рублей драгоманъ и тамъ, на парадной, его
ждутъ еще новыя оскорбленія, отъ этихъ грязныхъ мужиковъ...
Дѣлать нечего... Надо испить чашу до самаго дна...
Кое-какъ удовлетворилъ Феррадпнъ-бей своихъ кредиторовъ и лишь
тогда пропустили они его къ ветхой извозчичьей каретѣ, запряженной
двумя разбитыми клячами, сѣрой—поменьше, и гнѣдою—побольше.
Такъ покинулъ русскую столицу посолі» Блистательной Порты.
Черезъ недѣлю Беркутовъ заглянулъ въ Семирамись-отель къ Зауръ-
бею, теперь.дворянин}7 Обнорскому, провѣдать его. Они вмѣстѣ завтра-
кали внизу въ ресторанѣ, а потомъ,—благо стоялъ чудесный зимній день,—
въ мѣру холодный, въ мѣру солнечный,—они отправились гулять по На-
бережной.
Красный особнякъ нелюдимо стоялъ, уже заколоченный весь. Уже
подъѣздъ и большія зеркальныя окна— забиты досками.
Словомъ, участь германскаго и австрійскаго посольствъ постигла,
наконецъ, и турецкое.
— Какъ странно,—замѣтилъ художникъ.—Годами здѣсь текла своя
собственная жизнь, въ этихъ стѣнахъ расшифровывали секретныя теле-
граммы, интриговали, волновались, дѣлая политику. И я увѣренъ, здѣсь уже
знали о томъ, что въ Россіи долженъ будетъ появиться дезертиръ- бѣглецъ.
— Разумѣется, знали... Что, что, а сыскъ въ Турціи поставленъ
хорошо... Въ особенности политическій... Грабителямъ, ворамъ и убійцамъ—
раздолье въ Турціи!.. Но чуть замѣшана политика, васъ разыщутъ на
днѣ морскомъ... Нѣтъ, я засидѣлся въ Петроградѣ. Вы замѣтили, черезъ
два столика, завтракалъ этакій усатый господинъ лысый, какъ колѣно,
типичный австріецъ... И судя по манерамъ,—бывшій офицеръ. Онъ живетъ
въ одномъ корридорѣ со мною. Видно, продувная бестія!.. Пари готовъ
держать—шпіонъ!.. Оффиціально значится маркизомъ Сапъ-Діописіо. Но
онъ такой-же итальянецъ, какъ я, ну, не знаю, бразилецъ, что-ли... Этотъ
господинъ интересуется мною больше, чѣмъ слѣдуетъ...
т34
— Это вамъ кажется, Зауръ-бей.. Мнительность!..
— Во-первыхъ, не называйте меня Зауръ-бей... Его нѣтъ. Есть Об-
норскій.
— Но вѣдь мы-же вдвоемъ...
— Все равно!.. Необходимо, чтобъ это вошло въ привычку. Похоро-
ните разъ на всегда Зауръ-бея... А, во-вторыхъ.—нѣтъ, не мнительность!
У меня, какъ у человѣка вынужденнаго прятать свои слѣды, сталъ разви-
ваться инстинктъ самосохраненія. Какой-то особенный инстинктъ, свой-
ственный, вѣроятно, преступникамъ... Да я и преступникъ,—съ полицей-
ской точки зрѣнія. Вообще, это все странно... Я, мѣсяцъ назадъ командо-
вавшій эскадрономъ въ Турціи, явился съ этимъ эскадрономъ въ министер-
ство внутреннихъ дѣлъ, вызвалъ переполохъ, затѣмъ еще большій пере-
полохъ — своимъ бѣгствомъ и вотъ, сжегши свои корабли, до пере-
мѣны фамиліи, включительно, я иду по Набережной, кругомъ снѣгъ,
иду мимо турецкаго посольства... Нѣтъ, надо отсюда скорѣй... Туда, въ
армію, чтобъ, слившись съ пятимилліонной солдатской массою, окончательно
замести свои слѣды. Раствориться въ этихъ милліопнахъ сѣрыхъ шппелеіі.
— Кстати, я и забылъ спросить... Какъ-же подвигается ваше зачи-
сленіе куда-нибудь?..
— А я не говорилъ вамъ? Тоже хорошъ!... Забылъ похвастаться...
Дѣло почти готово... Сначала меня постигла неудача... Съ самаго утра я
обивалъ пороги штабовъ, канцелярій... Не клеилось. Косились па мой
возрастъ... Тѣмъ болѣе, я выгляжу значительно старше своихъ сорока
двухъ лѣтъ... Только и слышу: „Намъ нужны молодыя силы. А главное,—
вы не обучены... Дѣйствующая армія, не военное училище. Тамъ нужны
готовые бойцы"... Не могъ же я пмь сказать, что я кавалеристъ и по
рожденію, и по воспитанію, п по службѣ своей. Вѣрите?, такая злоба охва-
тывала порою!.. Человѣкъ предлагаетъ себя всего. „Берите!.. Въ такое
время, когда па счету каждая винтовка, каждая сабля... Берите и дѣлайте
со мною, что угодно"... Такъ нѣтъ, -выдумываютъ предлоги... Я совсѣмъ
опустилъ носъ... II вотъ, случайно познакомился въ отелѣ съ принцемъ
Неаполитанскимъ, полковникомъ конной туземной кавказской дивизіи...
Молодчина, хорошій солдатъ, забубенная голова! Но у него въ Карпатахъ
разыгралась подагра. И вотъ онъ пріѣхалъ отдохнуть, полечиться... Раз-
говорились. Я давай жаловаться. Такъ, молъ и этакъ... А онъ и предла-
гаете»...
— Хотите, устрою васъ въ нашу дивизію „всадникомъ"?..
Я свѣта не взвидѣлъ отъ радости.
— Хочу и весьма, ваше высочество... Жажду!..
— А вы ѣздите верхомъ? —спрашиваетъ.—Необходимо „сидѣть въ
сѣдлѣ",—знать рубку...
— Тутъ я ему сказалъ, что ѣзжу недурно, а что касается рубки, -
дѣло, наживное... Если-бъ онъ только зналъ, что у себя на Кавказѣ я,
пятнадцати лѣтнимъ мальчишкой, отхватывалъ чисто шашкою голов}’ самымъ
жирнымъ бараномъ... А потомъ, и въ училищѣ, и въ полку считался
первымъ по рубкѣ... Словомъ, принцъ обѣщалъ на-дняхъ снабдить меня
цѣлой пачкой писемъ... И къ начальнику штаба дивизіи, и къ одному изъ
бригадныхъ, генералу Красносельскому, и къ командиру Черкескаго полка...
Послѣднее, признаться, меня смутило... Хотя, даже отецъ родной, будь
онъ живъ, не узналъ бы меня теперь... Итакъ, на будущей недѣлѣ, въ
г35
путь—догонять въ Карпатахъ дивизію... Сегодня-же за бока портного, чтобъ
экстренно шилъ обмундированье: черкеску и все остальное... Вѣрите,
дорогой, на седьмомъ небѣ я!..
— Еще-бы! Я васъ понимаю. —Отъ души поздравляю. Не забудьте же
проститься...
— Какъ вамъ не стыдно!.. Конечно, заѣду!.. Въ черкескѣ, и въ пол-
номъ снаряженіи. Только безъ погонъ. Погоны тамъ пришью...
Беркутовъ, элегантный въ своей шубкѣ съ бобровымъ воротникомъ,
и въ мягкой котиковой шапочкѣ съ подстриженной, волосокъ къ волоску,
бородою, что-то соображалъ.
— Милый, не возьмете-ли вы вмѣстѣ съ собою...
— Кого, или что?..
— Въ данномъ случаѣ, кого... Это славный юноша Гермесъ... Вы его
знаете... Рвется на войну... Это сынъ мадамъ Сарифи, племянникъ Милана
Рашича. Онъ силенъ, крѣпокъ, спортсмэнъ и гимнастъ. Ѣздитъ верхомъ.
Что-же касается языка, за этотъ мѣсяцъ уже, представьте, кое какъ бол-
таетъ по-русски... И, наконецъ, офицерскій составъ дивизіи, все это. на-
сколько я знаю, въ большинствѣ, люди общества, гвардейцы, говорящіе
сплошь по-французски, а нѣкоторые и по-англійски. Этими двумя языками
Гермесъ владѣетъ въ совершенствѣ... Мнѣ было-бы пріятно знать, что
юноша находится подъ вашей опекой... Вы не отказались бы ого поберечь?...
— Что за вопросъ? Конечно! Какъ самого себя... Даже гораздо
больше... Потому что себя я навѣрное не буду беречь... Но какъ его туда
устроить, вашего мальчика?..
— Это ужъ наша забота... II сербскій посланникъ за него похлопо-
четъ, и нѣкоторые изъ моихъ генераловъ... Я говорю „моихъ" потому,
что написалъ, по крайней мѣрѣ, тридцать-сорокъ генеральскихъ портретовъ.
•— А мать отпускаетъ?..
— Грѣшно не отпустить... Мальчикъ весь охваченъ такимъ благо-
роднымъ порывомъ... А въ жилахъ матери течетъ кровь воинственнаго
сербскаго народа... Этимъ все сказано...
— Да, сербы—молодцы,—молвилъ Зауръ-бей.
Пообѣщавъ созвониться, пріятели разстались. Беркутовъ уѣхалъ къ
себѣ, на Сергіевскую, а „дворянинъ Обнорскій" отправился къ портному,
единственному въ Петроградѣ портному, шьющему черкески...
13. Да здравствуетъ принцесса Зеты!
Утро Тимофеенки товарищи его, братья-писатели, называли шутя
„пробужденіемъ льва"...
Дѣйствительно, было что-то шумное, бунтующее въ переходѣ этого
крупнаго, сильнаго, здороваго мужчины, отъ сна къ бодрствованію, отъ
временнаго небытія къ жизни, яркой, солнечной жизни, солнечной, не-
смотря ни па какую погоду. Этотъ баловень успѣха, къ тридцати годамъ
сдѣлавшій громкое литературное имя, зарабатывавшій въ годъ не меньше
старыхъ газетныхъ „гвоздачей"-рекордсмэновъ, жегъ свою жизнь съ че-
тырехъ концовъ.
Жегъ и никакъ не могъ уходиться. Съ богатырской натуры его—
все, какъ съ гуся вода...
— 136 —
Бритый, съ актерскимъ, но безъ актерской пошлости, лицомъ, Тимо-
фсенко, проснувшись, нажималъ кнопку звонка, не отпуская ее до тѣхъ
поръ, пока не влетала въ спальню свѣтловолосая горничная Надя.
— Милая вы моя, а что же ванна?..
— Сію минуту будетъ готова, Евгеній Васильевичъ...
— Ладно, поставьте „китаянку", и съ Богомъ!..
Надя заводила въ сосѣдней комнатѣ граммофонъ. Тимофеенко, пле-
чистый, грудастый, курчаво-густоволосый, хваталъ тяжелыя тридцатифун-
товыя гантели, и подъ задорный мотивъ „китаянки", начиналъ продѣлы-
вать гимнастику, любуясь въ зеркальную дверцу шкапа упругой мускула-
турою своего большого тѣла. II словно танцуя подъ „китаянку", перели-
вались живчиками бицепсы подъ гладкой полированной кожею хорошо
упитаннаго, ежедневно берущаго ванны, человѣка.
Вотъ она шумитъ, ванна и потокомъ вливается вода.
Черезъ нѣсколько минутъ свѣжій, розовый, Тимофеенко въ бархатной
курткѣ, отпивая небольшими глотками чай, близорукимъ взглядомъ умно-
лѣнивыхъ медвѣжьихъ глазъ просматриваетъ черезъ пенсію газеты и
почту. Вотъ пухлый конвертъ со штемпелемъ „Бюро газетныхъ вырѣ-
зокъ". Бритое лицо, предвкушая забавный матеріалъ, медленно растяги-
гивается въ улыбку.
„...Одноактная пьеска Евгенія Тимофсенки „Трепетная лань" прошла
у насъ въ Тьмутаракани съ большим и успѣхомъ. Даже присутствовавшіе
въ театрѣ высшіе сановники города изволили смѣяться... въ особенно
смѣшныхъ мѣстахъ ".
Мимо.
„Мы привѣтствуемъ появленіе новой книги Тимофеенки „Грибы въ
сметанѣ". По сравненію со знаменитымъ Маркомъ Твэномъ...
— Дуракъ!..
„Мы слышали, что Тимофеенко зарабатываетъ большія деньги... Это
развратъ".
Тимофеенко, пожавъ плечами, отложилъ вырѣзку.
Но вотъ цѣлый столбецъ, привлекшій вниманіе.
Въ какомъ-то южномъ листкѣ, какой-то принцъ Гамлетъ „разносилъ"
Евгенія Васильевича въ пухъ и прахъ.
„Это писатель новѣйшей формаціи. Онъ одѣвается, навѣрное, у луч-
шаго портного и количествомъ своихъ галстуковъ желаетъ перещеголять
пресловутаго Габріэля д’Аннунціо. Чего добраго, носитъ шелковые носки?
Вотъ развѣ Тургеневъ. Хотя врядъ ли носилъ и Тургеневъ"...
И такъ дальше, белиберда въ такомъ же духѣ, строкъ па двѣсти.
Рѣшивъ, что „Принцъ Гамлетъ" псевдонимъ какого-нибудь лакея, Тимо-
феепко и эту вырѣзку отложилъ.
Съ парадной звонокъ. Еще...
Входитъ Надя.
— Евгеній Васильевичъ, „поклонницы" пришли...
— Сколько?
— Двѣ...
— Мало!.. Пусть поднакопится еще... Тогда я ихъ всѣхъ гуртомъ
приму.
Задребезжалъ телефонъ.
— Надя!..
*37
Надя хорошо знала свое дѣло. Поднесла къ уху трубку.
— Ллё... А кто спрашиваетъ?..
И выразительно глядя на своего барина, горничная повторила:—„Марія
Сергѣевна?"
Тимофеенко поспѣшно кивнулъ.
— Они дома... Сейчасъ подойдутъ...
— Здравствуйте, Маруся...
— Здравствуйте, Жеппчка... Хотѣла бы васъ повидать, Жеиичка...
— Это вамъ всегда приходятъ по утрамъ такія хорошія мысли въ
голову?..
— Нѣтъ, серьезно...
— Я самымъ серьезнымъ образомъ...
— Хочу поговорить по душамъ, посовѣтоваться кое о чемъ... Вѣдь
вы мнѣ другъ?.. Правда?..
11 если бы вы еще знали,—какой!.. Вотъ что, пріѣзжайте ко мнѣ
завтракать къ часу...
— Хорошо!.. Есть!..
Какъ таковой, вообще, Тимофеенко былъ отчаянный бабникъ. Ему
везло. Женщины интересовались этимъ бритымъ писателемъ, что привезъ
вмѣстѣ съ собою съ теплаго харьковскаго юга какую-то .мягкую ласко-
вость и уголъ непочатый силъ, которыхъ ему никакъ не удавалось рас-
тратить при всемъ желаніи...
Онъ умѣлъ ,.подойти" къ женщинѣ, и въ буквальномъ, и перенос-
номъ значеніи слова. Подходилъ съ какой-то небрежно-лѣнивой, товари-
щеской ухваткою, тихо мурлыча, этакъ вкрадчиво, ласково, понемногу
влипалъ въ свою собесѣдницу, чуть не касаясь полными, вывороченными,
какъ у мулата, губами ея уха, шеи, груди, если собесѣдница была деколь-
тированная.
А па другой день, они уже мчатся вмѣстѣ на автомобилѣ, куда-нибудь
ужинать, или обѣдать.
Актрисъ, опереточныхъ дивъ и просто „поклонницъ" Тимофеенко мѣ-
нялъ гораздо чаще, нежели галстухи, большую коллекцію которыхъ ставилъ
ему на видъ ригористическій „Принцъ", вѣрнѣе „прписцъ" Гамлетъ.
Звонокъ... Горничная отпираетъ дверь...
Тимофеенко вспомнилъ свой коротенькій разговоръ съ Маріей Сер-
гѣевной, и самъ удивился. Почему это и на какомъ основаніи до сихъ
поръ не было у него романа съ этой красавицей?.. Почему какъ-то неза-
мѣтно установились между ними товарищескія отношенія, только товари-
щескія, не больше?..
Тимофеенко не успѣлъ углубиться въ этотъ вопросъ. Его прервала Надя:
— Евгеній Васильевичъ, комплектъ!..
— Какъ, уже?..
— Уже,—весело кивнула Надя.
— Ну, что-жъ... Дѣлать нечего...
II Тимофеенко вошелъ въ гостиную къ своимъ поклонницамъ. Во-
шелъ, какъ добродушный, снисходительный министръ къ одолѣвающимъ
его просителямъ.
Ихъ было пять. Всѣ разныя, и всѣ не смотрѣли другъ па друга, не-
много стѣсняясь и охваченныя какимъ-то смутнымъ взаимнымъ соперни-
чествомъ...
138
Курсистка въ шапочкѣ изъ поддѣльнаго барашка, со вздернутымъ но-
сикомъ. Рядомъ съ нею бойкая, развеселая дама, съ птицей па шляпѣ.
Вспыхнула почему-то румянцемъ красивая, смуглая еврейка съ большими
влажными глазами, воспитанница консерваторіи. Сидѣли на тычкѣ двѣ
какія-то совершенно неопредѣленныя особы, унылыя, скучныя, весьма
схожія, по всей видимости, родныя сестры.
Вошелъ Тимофеенко, крупный, высокій, въ бархатной курткѣ. Начался
опросъ.
— Хотѣли бы имѣть вашъ автографъ въ альбомъ,—смущенно отвѣ-
тили разомъ унылыя сестры.
— Подарите мнѣ зашъ портретъ съ надписью, только съ хорошей?—
бойко щсбстнула развязная дама.
Курсистка принесла томикъ „Грибы въ сметанѣ".
— Напишите что-нибудь... отъ автора...
Одна консерваторка явилась съ пустыми руками.
— 51 хотѣла увидать васъ, и больше ничего...
Да,—протянулъ Евгеній Васильевичъ,—всматриваясь въ ея свѣжія
губы...—Такъ вотъ что... Вы свободны вечеркомъ.. Зайдите на огонекъ,
поболтаемъ...
Четыре пары глазъ вспыхнули ревностью.
Спровадивъ поклонницъ, Тимофеенко вызвалъ по телефону парикма-
хера, который брилъ ого ежедневно.
А къ часу подъѣхала Марія Сергѣевна.
— Здравствуйте, бѣлая, хорошая...
— II вы?..
— Ничего не подѣлаешь... Въ старцы хочу, Маруся... Житье!..
— Ну, голубчикъ. Вамъ, кажется, гнѣвить Бога нечѣмъ... II завидо-
вать некому... Катаетесь, какъ сыръ въ маслѣ...
— Уже, и какъ сыръ...
— А то нѣтъ развѣ?.. Скоро Собинова догоните числомъ поклон-
ницъ...
Не хочу въ Собиновы, хочу въ старцы,- твердилъ Тимофеенко.
— Будетъ вамъ!.. А вотъ что не видно васъ давно съ Ашкенази?..
Прежде водой не разольешь, бывало...
А теперь разольешь... Коньякъ, Маруся, у меня!.. Въ особенности
по нынѣшнему „безвинному" времени. Недурное шабли, которымъ мы за-
пьемъ съ вами устрицы. Словомъ, еще можно жить на свѣтѣ...
Завтракая, болтали о всякой всячинѣ. Прихлебывая кофе, Тимофеенко
спросилъ:
— Ну, другъ мой, какое же у васъ горе?.. Выкладывайте душу...
— Съ чего вы взяли, что у меня горе?..
— А мнѣ показалось... Такъ уже заведено, чтобъ къ друзьямъ прихо-
дили въ горестныя минуты.
— Посовѣтоваться хочу... Выходить мнѣ замужъ, или нѣтъ?
— Это еще какихъ благодатей ради?
— Ради титула, Женичка... Хочу быть принцессой!..
— Принцессой,—повторилъ Евгеній Васильевичъ, ничуть не удивив-
шись.—Да вы и такъ давно уже королева... Что же это, изъ поповъ да въ
дьяконы?.. Или, примѣнительно къ женскому роду, изъ попііссъ въ діа-
конисы?..
і39
— Балаганъ, Женичка!.. Я вѣдь серьезно.
— Что же это, какое-нибудь подзаборное сокровище, утратившее
всякій человѣческій обликъ?..
— Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ! О такой человѣческой рвани и сля-
коти не думаютъ. Выбросила ему за титулъ тысченку-другую, и—до сви-
данья!.. А это скромный, молодой человѣкъ, очутившійся въ такомъ пере-
плетѣ, котораго и самъ не понимаетъ, бѣдняга... Такого пожалѣешь... II
мнѣ его жаль, и не знаю, какъ быть...
— Отвлеченно!.. Побольше фактовъ, Маруся!..
Фактовъ, извольте...
И Марія Сергѣевна разсказала все, что ей было извѣстно про Мар-
лявчевича.
— Да, это занятно... Я все болѣе п болѣе убѣждаюсь, что жизнь—
самый лучшій бульварный романистъ. Маленькій чиновникъ, титулярный
совѣтникъ, и вдругъ просыпается принцемъ Зеты! Это почище Байрона,
проснувшагося знаменитостью. Вы увѣрены, что это не мистификація?
— Видѣла всѣ бумаги, документы... Собственными глазами видѣла...
Чудны дѣла Твои, Господи! Что-жъ, попробуйте... Надо-жъ когда-
нибудь выйти... Женихи принцы,—рѣдкій товаръ. Любая американка съ
многомилліоннымъ приданымъ позавидуетъ.. Что-жъ, вы поѣдете туда, въ
эти горы царствовать въ древнемъ замкѣ, на берегу Скутарійскаго
озера?..
— Сохрани и помилуй!.. На Знаменской куда лучше... Да и ему не
видать короны... Это авантюра, въ которой я еще не успѣла разобраться...
— Авантюра—вещь опасная... Будьте осторожны... Вашу рюмку, Ма-
руся!.. Выпьемъ бенедектину... Итакъ, да здравствуетъ принцесса Зеты!..
Марія Сергѣевна съ улыбкою чокнулась.
•— Только смотрите, бѣлая, хорошая,—уговоръ. Не забывайте насъ,
простыхъ, смертныхъ... Отъ нихъ же первый есмь азъ... А мнѣ вашего
принца вы по старой дружбѣ, покажите... Занятно...
14. Утро дѣловыхъ людей.
Мясниковъ и Роткусъ умѣли кутить до зари, но умѣли и работать.
А чтобъ работать со свѣжей и ясной головою, пріятели, усадивъ, и отпра-
вивъ по домамъ Берту и Эллу, сами поѣхали въ Казачій переулокъ.
Позвонили у „матовой" двери. Открылъ ихъ недовольный, заспанный
швейцаръ. Но увидѣвъ такой внушительный автомобиль, а главное, обо-
ихъ сѣдоковъ, знакомыхъ ему и въ лицо и по фамиліямъ, исполнился
мигомъ самой что ни на есть холопской почтительности.
Пріятели очутились въ раздѣвальной, напоминающей громадный
вагонъ съ диванами и купэ. На одномъ изъ этихъ парусиною крытыхъ
дивановъ они раздѣлись и черезъ минуту бултыхнулись въ квадратный
мраморный бассейнъ.
Студеный обжогъ воды подѣйствовалъ на нихъ электризующе. Хмѣль-
ной, безсонной ночи,—какъ не бывало.
Изъ бани поспѣшили въ глухую часть Мойки, гдѣ у Андрея Андрее-
вича имѣлось его третье логово. Открылъ парадную собственнымъ клю-
немъ и—-ходъ прямо въ квартиру.
— 40 —
Изъ первой комнаты, носившей характеръ кабинета, это, впрочемъ, и
былъ кабинетъ,—Андрей Андреевичъ вызвонилъ появившагося откуда- то
изъ глубины хмураго старика, съ твердой, сѣдой щетиной на подбородкѣ
и въ круглыхъ, томныхъ очкахъ, сообщавшихъ ему сходство съ филиномъ.
— Звонилъ кто-нибудь?..
— Штоссъ звонилъ, Рахманъ, Седухъ, баронъ Цумъ-Тейфель. Этотъ
пще вчера звонилъ...
— Хорошо, ступай. Начнется пріемъ, каждаго сажай въ отдѣльной
комнатѣ, по обыкновенію... Чтобъ другъ друга не видѣли... Игпоочередно,.
сюда—въ кабинетъ.
Нежилое впечатлѣніе производилъ кабинетъ. И хотя мебель, кожаная,
солидная п столъ „министерскій", но всюду пыль, неуютно. Несгораемый
шкафъ у стѣны прочно ввинтился въ полъ своими желѣзными короткими
ножками.
Баронъ позвонилъ, приказалъ „филину":
— Чаю, да покрѣпче... II свѣжія газеты...
Мясниковъ и Роткусъ углубились въ просмотръ газетъ, время отъ
времени дѣлясь замѣчаніями и вслухъ прочитывая другъ другу интересныя
для нихъ замѣтки и телеграммы.
Первою ласточкою пріема былъ Седухъ. Носатый человѣкъ восточ-
наго типа, съ крупной головою и весьма основательнымъ шрамомъ у
виска. „Филинъ" ввелъ его въ кабинетъ за собою. Новое драповое пальто
въ обтяжку, сидѣло, какъ сюртукъ на Седухѣ. Въ рукѣ—фуражка съ
бархатнымъ околышемъ и съ кокардою, хотя Седухъ, человѣкъ либе-
ральной профессіи, нигдѣ не служилъ теперь.
Свой шрамъ нѣсколько лѣтъ назадъ онъ получилъ на ярмаркѣ въ
Меджибожѣ. Это угостилъ его подсвѣчникомъ кавалеристъ-ремонтеръ,
обыгранный Седухомъ въ пухъ и прахъ и,—это самое главное,—навѣр-
няка обыгранный.
Профессіональный шуллеръ, Седухъ ѣздилъ по ярмаркамъ южныхъ
городовъ и мѣстечекъ. Онъ гастролировалъ довольно успѣшно. До тѣхъ
поръ, пока основательный ударъ тяжелымъ шандаломъ не вывелъ его на-
долго изъ строя... Пожалуй навсегда...
Убѣдившись, что профессія шуллера, какъ и медаль, имѣетъ свою
обратную сторону, Седухъ рѣшилъ сдѣлаться „честнымъ человѣкомъ" и
поступилъ въ сыскную полицію одного изъ губернскихъ городовъ юго-
западнаго края.
Ревизуя подвѣдомственныя ему учрежденія, Роткусъ обратилъ вни-
маніе на Седуха, чѣмъ-то ему угодившаго... Но вскорѣ случился такой
превеликій конфузъ, что даже высокое покровительство барона Роткуса
не могло спасти эксъ-шуллера. Съ трескучимъ скандаломъ обнаружилось,
что Седухъ былъ заодно съ шапкою воровъ, дерзко и неуловимо подви-
завшейся въ краѣ. Седуха выгнали вонъ, а вскорѣ вслѣдъ за нимъ лишился
поста своего и баронъ Роткусъ.
И вотъ разъ какъ-то на Невскомъ, гдѣ самымъ нежданнымъ-нега-
даннымъ образомъ встрѣчаются люди со всѣхъ концовъ Россіи, столкну-
лись носомъ къ носу и Седухъ съ барономъ.
Выглядѣлъ Седухъ обтрепанно и полиняло. Несмѣло подошелъ онъ
къ своему элегантному покровителю, увѣренный, что баронъ отошлетъ,
его ко всѣмъ чертямъ.
- 141 -
Но, противъ ожиданія, баронъ узналъ Седуха, милостиво отвѣтилъ
на его поклонъ и только свернулъ съ нимъ въ одну изъ боковыхъ
улицъ, чтобы не шокировать ссбя на людяхъ обществомъ дурно одѣтаго
субъекта.
Короче, Седухъ, представленный своимъ покровителемъ Андрею
Андреевичу Мясникову, принятъ былъ на службу... Ему давали команди-
ровки. Завелись деньги и онъ могъ щеголять въ новенькомъ драповомъ
пальто, на манеръ длиннаго теплаго сюртука. Онъ давно мечталъ о та-
комъ пальто...
— Что новаго?..—глядя на Седуха сѣро-зелеными кошачьими гла-
зами, спросилъ Мясниковъ, не подавая ему руки и не указывая на стулъ.
— Я жду отъ васъ новаго. Жду инструкцій для командировки. Вы
что-то говорили о Варшавѣ...
— Да, да... Но это по жидовскому департаменту. А жидовскимъ
департаментомъ вѣдаетъ баронъ... Баронъ, потолкуйте съ нимъ въ сосѣд-
ней комнатѣ...
Роткусъ п Седуха» удалились въ небольшую комнату, гдѣ только и
было всего мебели, что столъ, да вѣнскій стулъ. Баронъ, обмахнувъ плат-
комъ столъ, сѣлъ на него... Глядя на кончики лакированныхъ ботинокъ
своихъ, давала» инструкціи Седуху:
— Вотъ что, милѣйшій... Вы возьмете съ собою кипу германскихъ
прокламацій къ населенію Варшавы, вообще, и къ евреямъ въ частности...
Надо будетъ устроить маленькій погромъ. Это сейчасъ же въ сильно пре-
увеличенномъ видѣ появится въ нѣмецкихъ газетахъ... Необходимо внести
побольше смуты, національной розни... Какъ это сдѣлать, я васъ не буду
учить... Сами знаете, старый погромщикъ... Наймите лобузовъ, пусть они
разсуютъ эти прокламаціи въ жидовскихъ кварталахъ, по частнымъ квар-
тирамъ и такъ дальше... Подстройте обыскъ... Дѣйствуйте!.. Сегодня же
вечеромъ поѣзжайте... Прокламаціи и деньги вы получите сію минуту...
Чѣмъ громче вы раздуете всю зту исторію, тѣмъ лучше для васъ...—за-
кончилъ Роткусъ съ неподвижными-» каменнымъ лицомъ, продолжая со-
зерцать кончики своихъ лакированныхъ ботинокъ.
Задребезжалъ по всей квартирѣ звонокъ.
— Останьтесь здѣсь. II сидите, пока я васъ не позову.
Баронъ вышелъ въ кабинетъ, плотно притворивъ за собою дверь.
Наединѣ со своей собственной персоною, эксъ-шуллеръ, вспомнивъ
„стараго погромщика", обидѣлся почему то.
Тебѣ хорошо, бѣлоручка!.. Твои же директивы исполнялъ, — по-
думалъ вслѣдъ скрывшемуся барону Седухъ.
А баронъ вмѣстѣ съ Мясниковымъ встрѣтилъ Штосса.
Штоссъ,—видный и полный, бритый молодой человѣкъ, съ громкимъ
смѣхомъ, рѣшительной манерою держаться и съ лицомъ хорошо упитан-
наго артиста кинематографа, щеголяющаго отлично сшитыми визитками.
Штоссъ зналъ себѣ» цѣпу. Этотъ не дожидался, позволятъ-ли ему
сѣсть. Схвативъ подвернувшійся стулъ, онъ игриво его осѣдлалъ, вы-
тянувъ ноги, раскачиваясь и самодовольно улыбаясь.
— Итакъ, господа патроны мои, жду отъ васъ предначертаній? —
молвилъ онъ тономъ играющаго въ подчиненіе.
Ни Мясникову, ни Роткусу не нравилась эта независимая манера
Штосса. Забывается молодой человѣкъ! А имъ хотѣлось быть генералами
142
австро-германскаго шпіонажа въ Россіи. Да они и были генералами. Они
имѣли въ своемъ распоряженіи около шестисотъ агентовъ, разсѣянныхъ
по всему необъятно-обширному липу Родины, которую они продавали,
продавали оптомъ и въ розницу,—отъ западнаго рубежа, до Тихаго океана
и отъ Архангельска, до Батума.
Еще недавно Штоссъ въ одномъ, если и не сплошь нѣмецкомъ, то,
во всякомъ случаѣ, нѣмецствующемъ банкѣ Петрограда служилъ, „за-
граничнымъ корреспондентомъ", получая триста рублей въ мѣсяцъ. Но
для человѣка, желающаго посѣщать балетные воскресники, тереться въ
дорогихъ кабакахъ и одѣваться, какъ Максъ Линдеръ, триста рублей—
пустякъ иикудышный!..
А теперь Штоссъ тратитъ деньги пригоршнями. Онч, толковый,
энергичный работникъ и за эти качества „генералы" прощаютъ ему и
независимый смѣхъ, и манеру садиться верхомъ на стулъ, какъ это дѣ-
лаютъ „баловни экрана".
Милый Штоссъ, вы въ настроеніи быть внимательнымъ?..
— Я весь—одно сплошное вниманіе.
— Въ такомъ случаѣ, бросьте балансировать и нельзя ли минуточку
спокойствія? Во-первыхъ, вы можете шлепнуться, а во-вторыхъ, это мель-
каніе мѣшаетъ мнѣ сосредоточиться...
— Слушаю, Андрей Андреевичъ, слушаю...
И оставивъ раскачиванье свое, Штоссъ полнымъ, бритымъ лицомъ
выражалъ самую настойчивую готовность.
Мясниковъ разложилъ передъ собою карту Россійской имперіи.
— Мы возлагаемъ на васъ тонкую политическую миссію. Здѣсь нѣтъ
опредѣленныхъ директивъ. Здѣсь все зависитъ отъ вашего личнаго такта
и чутья. Въ томъ, что вы обладаете достаточнымъ запасомъ того и другого,
мы съ барономъ не сомнѣваемся ни на минуту...
— Польщенъ, -склонилъ Штоссъ голову, съ напаккуратнѣйшимъ
боковымъ проборомъ.
— Вамъ предстоитъ пересѣчь всю Россію, начиная, приблизительно,
отъ Кіева, и кончая Владивостокомъ. II не по прямой линіи, а дѣлая
крутые скачки и зигзаги. Эта командировка займетъ полгода, мѣсяцевъ
семь, а то и больше... Вы въ совершенствѣ владѣете англійскимъ язы-
комъ. Поэтому будете путешествовать подъ видомъ представителя одной
изъ американскихъ фирмъ. Вы займетесь, главнымъ образомъ,—это самое
важное для насъ,—„обрабатываніемъ общественнаго мнѣнія" военноплѣн-
ныхъ славянъ. Вы должны ихъ, по мѣрѣ возможности, распропагандиро-
вать. Гдѣ удобно и безопасно—путемъ личныхъ бесѣдъ, а гдѣ нельзя —
черезъ плѣнныхъ-жс венгеровъ и нѣмцевъ... Необходимо, чтобы тѣ безъ
малаго восемьсотъ тысячъ славянъ, что находятся въ русскомъ плѣну,
впослѣдствіи, при ликвидаціи войны,—вернулись назадъ къ себѣ разоча-
рованными... Надо разсѣять этотъ гипнозъ, этотъ призракъ, манящій ихъ
оттуда, изъ Австріи, призракъ великой славянской Освободительніщы-
Россіи... Вы получите на эту командировку сто тысячъ. Не жалѣйте де-
негъ!.. Подкупайте мелкихъ административныхъ сошекъ, чтобы суровѣй
относились къ плѣннымъ славянамъ, чтобы паралельнос хорошее отно-
шеніе къ нѣмцамъ и венграмъ вызывало у славянъ чувство обиды и
горечи... Слѣдуетъ сѣять также и въ пародѣ, въ массахъ недружелюбное
чувство къ славянамъ... Чего, молъ, ожидать отъ людей, которые, измѣ-
— 143 -
нивъ присягѣ и своему императору, сами цѣлыми частями добровольно
шли, хотя и въ русскій, но все же непріятельскій, плѣнъ?.. Надо прово-
цировать... Хорошо бы въ двухъ-трехъ пунктахъ вызвать бунты плѣнныхъ
славянъ... Затѣмъ, общеніе съ самими славянами... Надо, капля за каплею,
вливать ядъ въ ихъ души. Сербамъ надо говорить приблизительно слѣдующее:
— Вотъ вы добровольно сами цѣлыми ротами, баталіонами и даже
полками отыскивали русскія части и по своей охотѣ сдавались... И вотъ
вы въ плѣну... Цѣлыя тысячи, десятки тысячъ въ плѣну, а въ это время
тамъ, въ Сербіи, ваши братья изнемогаютъ въ тяжелой, непосильной
борьбѣ со своимъ лютымъ врагомъ... Отчего васъ не пошлютъ въ Сербію,
гдѣ каждый солдатъ па такомъ драгоцѣнномъ счету?.. II еще что-нибудь
въ такомъ же духѣ. На мѣстѣ фантазія ваша разыграется...
Теперь относительно поляковъ...
Полякамъ надо говорить, что они сдѣлали крупную ошибку, отказы-
ваясь драться противъ русскихъ. Австрія и Германія только и мечтали,
молъ, о томъ, какъ бы возсоздать польское королевство въ былыхъ его
границахъ, подъ самымъ неощутимымъ протекторатомъ двухъ коронъ:
1 абсбургской и Гогенцоллеровъ.
Будьте Мефистофелемъ, отравляйте сомнѣніемъ, разжигайте разными
химерическими иллюзіями...
Кто еще изъ славянъ,— русины и чехи? Чехамъ пообѣщайте королев-
ство изъ рукъ австро-германцевъ, если они возьмутъ верхъ, и Пражскую
губернію,—если побѣдятъ русскіе. Чехи упрямы, отличаются пламеннымъ
патріотизмомъ п это произведетъ на нихъ ошеломляющее впечатлѣніе...
Русины?.. Этимъ навыдумайте съ три короба всяческихъ ужасовъ,
яко-бы совершаемыхъ русскими въ Галиціи.
Во имя чего, молъ, вы, глупые, сдавались? Да знаете ли вы, что всѣ
дороги какъ телеграфными столбами „украшены" висѣлицами, на которыхъ
болтаются уніаты, не пожелавшіе перейти въ православіе...
— Это ужъ слишкомъ,—вырвалось у Штосса.—Не повѣрятъ...
— Другъ мой, если на сто человѣкъ повѣритъ одинъ,—и это уже
успѣхъ. И это уже завоеваніе... Здѣсь надо бить по психологіи! Люди,
оторванные отъ оставшейся далеко позади родины, почти лишенныя об-
щенія съ внѣшнимъ міромъ, становятся легковѣрными. Имъ можно плести
какія угодно небылицы и они будутъ слушать, разинувши ротъ... Вотъ
вамъ программа... Не спѣшите перелетать изъ города въ городъ. Въ круп-
ныхъ центрахъ, въ смыслѣ количества плѣнныхъ, засиживайтесь подольше.
Не швыряйте попусту денегъ. Но и не особенно экономьте... Угощайте,
подкупайте, давайте взятки. Во всякомъ случаѣ, на полгода вамъ этихъ
ста тысячъ за глаза хватитъ. А затѣмъ вы получите еще, въ зависимости
отъ общаго успѣха командировки.
— Я не сомнѣваюсь въ успѣхѣ.
— Тѣмъ лучше! Сейчасъ я вамъ выдамъ обѣщанную сумму...
Мясниковъ, поднявшись изъ-за письменнаго стола во весь свой гро-
мадный ростъ, двинулся къ несгораемой кассѣ.
Новый звонокъ. Вошелъ „филинъ" въ темныхъ, круглыхъ очкахъ.
— Попросите подождать въ маленькой, темной гостиной, да закройте
тамъ дверь.
Роткусъ и Мясниковъ пожелали Штоссу успѣха. Онъ ушелъ. Кар-
маны его оттопыривались, набитые пачками сторублевокъ и пятисотенныхъ...
44
15. „Тысячи невидимыхъ нитей".
Вслѣдъ за Штоссомъ отпущенъ былъ наконецъ, и Седухъ, полу-
чившій по сравненію съ одѣвающимся „по Максу Линдеруи~ молодымъ
человѣкомъ, сумму ничтожную.
Но—большому кораблю большое и плаванье.
Говорятъ еще иначе:
— По Сенькѣ и шапка...
А вотъ и баронъ Цумъ-Тейфель.
Въ каждомъ человѣкѣ, за исключеніемъ развѣ самыхъ безцвѣтныхъ
людей,—всегда что-нибудь бросается въ глаза, перво-на-перво, самое для
нихъ яркое, характерное.
Баронъ Цумъ-Тейфель сразу обращалъ на себя вниманіе, необыковен-
ной длиною своей. Не высокимъ ростомъ, нѣтъ, а именно длиною.
На ходу баронъ Цумъ-Тейфель гнулся, какъ стебель во всѣ стороны,
колеблемый вѣтромъ. Казалось, онъ могъ вдругъ взять и сложиться со-
всѣмъ вдвое, какъ перочинный ножикъ.
Вотъ и сейчасъ, бросивъ длинное, тощее тѣло свое въ кожаное
кресло, баронъ, того и гляди, сломится перочиннымъ ножикомъ.
Онъ запустилъ безконечно длинную руку въ ящикъ съ сигарами и,
откусивъ крѣпкими лошадинными зубами кончикъ ароматной и крѣпкой
„Моралесъ", задымилъ на весь кабинетъ.
Мясниковъ, молча, брезгливо улыбаясь вѣчными складками угловъ
рта, съ пытливой загадочностью смотрѣлъ на Цумъ-Тейфеля.
— Что вы на меня такъ смотрите, Андрей Андреевичъ? Вы какъ
будто мѣрку снимаете...
— А и въ самомъ дѣлѣ—мѣрку!.. Экій-же вы длинный какой!.. Я
вообразилъ почему-то васъ на висѣлицѣ... Смѣшная должна была-бы по-
лучиться фигура...
— Да, вы находите?—обидѣлся баронъ, оскаливъ зубы.—Я на висѣ-
лицу не собираюсь... Я любезно готовъ уступить вамъ дорогу... Стар-
шимъ—всегда преимущество...
Въ сѣро-зеленыхъ, кошачьихъ глазахъ Мясникова что то жесткое и
злобное вспыхнуло. Онъ ударилъ по столу своей громадной и сильной
рукою, съ такими чудовищными пальцами, что сквозь обручальное кольцо
свободно прошелъ бы серебряный полтинникъ.
— Довольно!.. Это уже не баронскій юморъ, а какой-то висѣльни-
ческій...
— Позвольте, Андрей Андреевичъ... Вѣдь не я же первый началъ,
а вы!.. И хотя вы мой патронъ, а оскорблять себя я не позволю... У меня
есть амбиція... Нашъ родъ Цумъ-Ъ йфелей существуетъ...
— Знаю, знаю, восемьсотъ лѣтъ... Я уже слышалъ!
— А если слышали, такъ зачѣмъ же вы...
— Будетъ вамъ, господа „энералы"!.. Не ссорьтесь!..—изрекъ вдругъ
молчавшій, чернымъ зловѣщимъ истуканомъ, Роткусъ.
Хотя на неподвижномъ лицѣ его нельзя было прочесть рѣшительно
ничего, однако, сочувствіе Роткуса было на сторонѣ Цумъ-Тейфеля. Какъ
никакъ—своя же „прибалтійская кровь"...
И онъ выступилъ примирителемъ.
— 145 —
- Къ дѣлу, друзья мои, къ дѣлу... Время бѣжитъ, не за горами
адмиральскій часъ и, хотя мы будемъ принимать пищу въ двухъ шагахъ
отсюда, въ гостепріимномъ низкѣ, на углу Кирпичнаго и Морской, но
намъ необходимо не только покончить съ милѣйшимъ барономъ, а на
очереди еще два-три человѣка... Итакъ, къ дѣлу..
Андрей Андреевичъ занялся съ длиннымъ Цумъ-Тейфелсмъ, такъ же
поглядывая па карту Россійской имперіи, какъ назадъ нѣсколько минутъ,
онъ занимался со Штоссомъ, вѣроятно, теперь укладывающимъ свои че-
моданы въ длинный предлинный путь.
— Раннимъ лѣтомъ, пожалуй, въ маѣ начнется наступленіе герман-
ской арміи въ Остзейскій край. Первый этапъ — занятіе Либавы. И уже
отъ этой опорной точки, лучами, какъ радіусы, двинутся отряды вглубь
страны. Будетъ оперировать, вначалѣ, по крайней мѣрѣ, конница. Поэтому
надо заблаговременно позаботиться о фуражѣ. Запасъ овса и сѣна дол-
женъ быть изрядный. Отъ моего имени вы должны объѣхать всѣхъ по-
мѣщиковъ, тѣхъ, которымъ я безусловно довѣряю... А такихъ, во всякомъ
случаѣ, -большинство. У нѣкоторыхъ имѣются великолѣпные подземные
склады, выложенные бетономъ... Черезъ нѣсколько минутъ я набросаю
вамъ точный списокъ, — гдѣ п у кого... П вотъ пусть они заготовятъ
обильный фуражъ. И понадежнѣе его припрячутъ... „Своимъ" германцы
будутъ платить наличными. Выгода прямая!.. Ни о какихъ реквизиціонныхъ
распискахъ не можетъ быть и рѣчи... Такимъ образомъ, русская конница
вынуждена будетъ пользоваться либо ничтожными запасами латышей, либо
подвозомъ съ тыла... Ахъ, эти мнѣ латыши!.. Я очень радъ, что мнѣ уда-
лось повліять на полное ихъ разоруженіе... Иначе эти господа при ихъ
отвагѣ и ненависти ко всему германскому, надѣлали бы своими партизан-
скими выступленіями немало хлопотъ... Спасибо Кривобокову, — поста-
рался!.. Въ первую голову побывайте у него, слышите!.. Затѣмъ, вотъ
еще... Необходимо все предвидѣть... Съ первымъ вступленіемъ русскихъ
войскъ въ этотъ край, начнется братанье съ латышами... Начнутся вос-
поминанія о 1905 годѣ. II здѣсь-то выяснится десятилѣтнее недоразумѣніе.
Выяснится, что латышско-эстонская революція была исключительно аграр-
нымъ движеніемъ противъ помѣщиковъ-бароновъ, а не соціальной рево-
люціей... Доказательства, въ любомъ латышскомъ домѣ, на любой мызѣ
вы найдете портреты Высочайшихъ Особъ. Портреты, висящіе на стѣнахъ
десять—пятнадцать и больше лѣтъ... Это видно... Отъ времени они успѣли
выцвѣсти... Документальныя доказательства, что въ 1905 г. латыши подняли
оружіе противъ бароновъ, и только противъ бароновъ. Вы помните, что
въ виду надвигающихся событій эти портреты-документы намъ нежела-
тельны вовсе!.. Необходимо,—по виду это пустякъ, но все, въ концѣ-кон-
цовъ, состоитъ изъ пустяковъ,— необходимо сдѣлать повсемѣстную выемку
этихъ портретовъ.
— Но какъ это сдѣлать? Подъ какимъ предлогомъ? Вопросъ болѣе,
чѣмъ щекотливый...
— II даже очень. Посовѣтуйтесь съ Кривобоковымъ. Я думаю такъ...
Портреты, молъ, устарѣвшіе, являются анахронизмомъ и будутъ безплатно,
въ виду патріотическихъ чувствъ латышей, замѣнены новыми. Это даже
красиво... Безплатная разсылка и все такое... Съ „выемкой" надо будетъ
поспѣшить, а съ безплатной разсылкой новыхъ—повременить... Повреме-
нить,—улыбнулся Мясниковъ,—до появленія въ краѣ нѣмецкихъ авангар-
— 146 —
довъ, которые сами поспѣшатъ насильно украсить латышскіе мызы пор-
третами кайзера Вильгельма.
Баронъ Цумъ-Тейфель въ восторгѣ обнажилъ свои зубы-клавиши,
хлопнувъ себя по худымъ острымъ колѣнкамъ.
— Вы носите на своихъ плечахъ, Андрей Андреевичъ, министерскую
голову!.. Сначала и мнѣ показалось—пустякъ!.. А между тѣмъ, это имѣетъ
политическое значеніе...
Польщенный Мясниковъ снисходительно улыбнулся.
— А вы думаете, легко держать въ своихъ рукахъ тысячи невиди-
мыхъ, тайныхъ нитей? И это на протяженіи безъ малаго двадцати лѣтъ!..
И за все это время—ни одной фальшивой ноты!.. Ни разу не сорваться!..
Это чего-нибудь да стоитъ... Надо быть великимъ артистомъ... Я вѣрю въ
свою звѣзду... Но, какая вѣчная работа нервами... Даже мой желѣзный
организмъ и тотъ начинаетъ сдавать... Кончится война, и я поставлю круп-
ную, сочную, какъ вишня, точку... Уѣду на лазурные берега Ривьеры, и
подобно большинству сановниковъ, займусь писаніемъ мемуаровъ... О, у
меня будетъ что вспомнить!.. Но это уже лиризмъ... Отвлеченіе... Вер-
немся къ настоящему... Сегодня зайдите еще ко мнѣ, сейчасъ я вамъ
скажу, когда... около семи... Зайдите туда, на Конногвардейскій бульвара»
къ Бертѣ... Къ тому времени я еще успѣю повидаться кое-съ кѣмъ, и вы
получите нѣсколько новыхъ инструкцій... А завтра дамъ вамъ денегъ, и
въ путь-дорогу...
На смѣну Цумъ-Тейфеля явился Рахманъ. Въ его жилахъ не текла
„голубая" баронская кровь. Это уже нѣмецъ плебей, приземистый, не-
уклюжій, съ заплывшими свиными глазками и въ красныхъ напульсникахъ.
Рахманъ былъ спеціалистъ по сахарному дѣлу. Нѣсколько лѣтъ былъ онъ
довѣреннымъ одного изъ крупнѣйшихъ заводовъ на югѣ.
Рахманъ вошелъ, дымя дешевой сигарой.
— Опять вы провоняете мнѣ весь кабинетъ?—встрѣтилъ его Мясни-
ковъ.—Отъ вашихъ сигаръ несетъ паленой шерстью!
— Самъ цезарь Францъ-Іозефъ куритъ „трабукосъ",—двадцать Хел-
леровъ штукаЗ
— Но вы же еще не Францъ-Іосифъ... Вы пока только всего на
всего—Рахманъ... Поэтому можете запустить вашу красную лапу въ ящикъ
и— не отравляйте мнѣ воздухъ... А теперь слушайте... Увидѣвъ, что рус-
скіе заняли Галицію и уже пронизываютъ Карпаты, Румынія шибко зако-
лебалась. Желаніе выступленія заодно съ союзниками и мечты о Траи-
сильвапіи и Банатѣ не даютъ себѣ покоя... II въ то же время она имѣетъ
зубъ противъ русскихъ... Этотъ зубъ—сахарный голодъ... У румынъ нѣтъ
сахара, а мы имъ не посылаемъ, думая, что нашъ сахаръ пойдетъ въ
Австрію... На самомъ же дѣлѣ Румынія, лишенная чудеснаго русскаго
сахара, вынуждена пользоваться отвратительнымъ австрійскимъ. Мягкій,
желтый, не растаиваетъ весь и на днѣ чашки, всегда этакій паточный
осадокъ... За послѣднее время, насколько я слышалъ отъ тенденціи пойти
Румыніи навстрѣчу, въ смыслѣ снабженія сахаромъ... Опять, съ виду
пустякъ—досадный, и его ликвидація можетъ подвинуть и ускорить вы-
ступленіе противъ Австріи... Поэтому, не медля, займитесь обработкою
сахарозаводчиковъ, большинство которыхъ — нѣмцы... Это значительно
облегчитъ намъ задачу... Лозунгъ—ни одного фунта, ни одной осьмушки
сахару въ Румынію!.. Я имѣю основаніе утверждать, что послѣ этого Бра-
47
тіано полѣзетъ на стѣну... А Братіано, въ румынской политикѣ — все!..
Онъ личный другъ и товарищъ дѣтскихъ игръ короля... Король и страна
пойдутъ за нимъ туда, куда ихъ поведетъ Братіано... Поняли?..
— Натурально, понялъ... Сдѣлаю все, какъ по писаному...—отвѣтилъ
Рахманъ, съуживая свои голубенькіе, свиные глазки и наслаждаясь Мясни-
ковской сигарой.
— Это еще не все, относительно Румыніи, но это уже по твоей
части... —обратился Андрей Андреевичъ къ Роткусу.—Тебѣ придется еле-
тать въ Кишиневъ п Одессу и тряхнуть старыми знакомствами и свя-
зями... Дѣло въ томъ, что Братіано озабоченъ судьбою нѣсколькихъ име-
нитыхъ румынъ, заподозрѣнныхъ въ шпіонажѣ, — подѣломъ, или нѣтъ,
это другой вопросъ, это меня не касается,—и задержанныхъ въ Россіи...
Чѣмъ дольше проморятъ ихъ здѣсь,— тѣмъ лучше... Румынское правитель-
ство этого не забудетъ и учтетъ по своему... Нѣсколько дней назадъ ру-
мынскій министръ полиціи Понайтеску довольно горячо бесѣдовалъ на
эту тему съ однимъ, проѣзжавшимъ черезъ Бухарестъ, княземъ... И такъ
какъ этотъ князь—пламенный сторонникъ возможно скорѣйшаго высту-
пленія Румыніи заодно съ Россіей, то намъ, вѣроятно, придется обратить
особое вниманіе на этого господина...
А въ полутемной гостиной дожидался терпѣливо своей очереди не-
молодой и весьма потертый человѣкъ. Трудно сказать, что болѣе изно-
шено въ немъ: его костюмъ, или его лицо посѣдѣвшаго коршуна, бывав-
шаго во всякихъ передѣлкахъ и па своей бурной и темной дорогѣ немало
растерявшаго перьевъ...
Это былъ извѣстный провокаторъ и кличка ему была: „товарищъ
Филипъ".
Товарищъ Филипъ имѣлъ свое строго опредѣленное амплуа, — въ
многочисленной труппѣ Андрея Андреевича и Роткуса, труппѣ,—шутка ли
сказать!—изъ шестисотъ артистовъ и артистокъ.
Здѣсь были трагики, благородные отцы, комики, простаки, первые и
вторые любовники, убійцы, отравители, фальшивомонетчики, содомисты,
академики по части секретныхъ замковъ и, кого-кого только не было?..
Не меньшимъ разнообразіемъ отличался и женскій персоналъ труппы,
хотя и подавляюще уступалъ мужскому въ смыслѣ количественномъ.
Были постоянныя артистки на жалованіи, обольстительницы дгаікіез йатез,
кокотки, пнженюшки,—были дорого оплачиваемыя гастролерши въ родѣ
Эллы-Стеллы.
Товарищъ Филипъ считался непревзойденнымъ спеціалистомъ по
органп аціи всевозможныхъ забастовокъ.
Сегодня Мясниковъ торжественно, какъ Наполеонъ у пирамидъ
Каиро, передъ боемъ съ мамелюками,—да проститъ намъ великая тѣнь
это кощунственное сравненіе, — заявилъ коршуну съ повыщипанными
перьями:
— Товарищъ Филипъ, вы должны превзойти самого себя! Знайте,
что на васъ обращены взоры трехъ міровыхъ столицъ: Берлина, Кон-
стантинополя и Вѣны. Хоть тресните, хоть вывернитесь на изнанку, не
жалѣйте ни себя, ни денегъ, а только чтобъ на ближайшихъ дняхъ вы
подарили мнѣ хоть парочку добрыхъ забастовокъ на фабрикахъ и заво-
дахъ, обслуживающихъ снаряженіе арміи!
Коршунъ задумался.
148
— Трудно... Трудно преодолѣть патріотическое настроеніе рабочихъ.
— Чортъ васъ подери!..—вспылилъ Мясниковъ,—я знать ничего не
знаю!.. Трудно?.. А деньги получать не трудно?.. Проваливайте!.. Обду-
мать планъ, и утромъ сюда же ко мнѣ въ это же самое время, а теперь,—
до свиданія!.. Баронъ, идемъ завтракать...
Позднимъ вечеромъ Андрей Андреевичъ поѣхалъ съ Роткусомъ въ „Ак-
варіумъ". Онъ зналъ, что тамъ навѣрное будетъ полковникъ Шепетовскій.
Необходимо, чтобъ этой же ночью Элла-Стслпа очутилась у него
на квартирѣ...
Необходимо... Планы Вышгородской крѣпости не давали покоя
Мясникову...
Онъ съ удовольствіемъ вспоминалъ, что Куртъ-фонъ-Раухъ обучилъ
танцовщицу искусству калькированія.
И, почемъ знать, быть можетъ, завтра же утромъ... Почемъ знать?..
16. Въ миражахъ.
Марлявчевичъ былъ весь въ миражахъ.
Одна изъ волшебныхъ сказокъ Шехерезады... Совсѣмъ, „тысяча и
одна ночь". Подхватила его, скромнаго титулярнаго совѣтника, и понесла
съ головокружительной быстротой па коврѣ-самолетѣ...
Чѣмъ не коверъ-самолетъ?..
Летишь, летишь, а сердце то замираетъ въ груди, то шибко, шибко
бьется. А тамъ, подъ ногами, одинъ Богъ знаетъ на какой низинѣ, каш-
марами грезятся дивной красоты города, лѣса, моря, дворцы, колокольни
и много еще чего-то страннаго, фантастическаго, чему бѣдный человѣ-
ческій языкъ не придумалъ еще названія, но что мерещится всегда, въ
жаркихъ, безпокойныхъ снахъ...
И Марлявчевичъ, весь охваченный сладостнымъ гипнозомъ, утратилъ
всякую способность уловленія грани между сномъ и трезвой правдою дѣй-
ствительности.
Гдѣ кончаются воздушные замки, порожденные средь знойныхъ пе-
сковъ пустыни, и гдѣ начинается жизнь?..
И то и другое переплелось неотдѣлимо.
Съ утра начиналось...
Лакей во фракѣ, предварительно постучавшись, входилъ съ громад-
нымъ подносомъ, на которомъ щегольски и обильно для непривыкшаго къ
такому комфорту Марлявчевича, сервированъ былъ утренній кофе. Жир-
ныя сливки, масло плоскими кружечками съ влажными слезинками—только
что изъ холодной воды вынутое. Сандвичи, яйца, аппетитно хрустящіе на
зубахъ поджареные гренки.
Вышколенный лакей не болтливъ, отвѣчаетъ лишь на вопросы, не-
измѣнно прибавляя:
— Ваше высочество...
Ахъ, это „ваше высочество"! Сколько разъ слышалъ онъ въ день по
своему адресу, а ухо никакъ не могло привыкнуть, словно не Марлявче-
вича, а рядомъ кого-то другого называютъ.
Не „вѣрилъ", нутромъ не вѣрилъ, потому что головою, разсудкомъ
уже не сомнѣвался больше въ своемъ происхожденіи. Документы не лгутъ,
49
да еще такіе старинные пергаменты,—эти желтыя, съ восковыми печатями
сербскія грамоты, написанныя, теперь отъ дыханія нѣсколькихъ вѣковъ,
выцвѣтшими, поблѣднѣвшими чернилами, съ такимъ характернымъ нажи-
момъ гусиныхъ перьевъ...
Такъ не сфабрикуешь, не поддѣлаешь. Да и зачѣмъ?..
Будь документы фальшивые, эти люди не нуждались бы именно въ
немъ.
Марлявчевичъ не могъ не чувствовать вокругъ себя обступившей его
отовсюду загадки. Это-ли не загадка?..
Кому понадобилось извлечь его изъ меблированныхъ комнатъ, изъ
департамента, гдѣ онъ тихо и мирно получалъ свои сто двадцать пять
рублей въ мѣсяцъ и швырнуть въ цѣнящійся водоворотъ событій, куда
онъ погрузился весь съ головою? Кому и зачѣмъ?
— Не спроста-же все это?
Пробовалъ Марлявчевичъ, такъ и этакъ, прямо и окольными путями
спрашивать маркиза Санъ - Діонисіо, не дастъ-ли онъ ему ключъ къ
разгадкѣ?..
Но маркизъ Санъ-Діонисіо отдѣлывался приблизительно слѣдующимъ:
— Ваше высочество, къ моему великому сожалѣнію, какъ это ни
прискорбно мнѣ, до поры до времени, я лишенъ права и возможности
раскрыть передъ вами большую политическую тайну. Одно скажу, все,
что дѣлается, — дѣлается во имя торжества высокой, глубоко идейной,
высшей справедливости. Когда съ Божьей и человѣческой помощью ва-
шему высочеству удастся вернуть много вѣковъ назадъ утраченную ва-
шими предками корону Зеты, многое теперь неясное, станетъ яснымъ,
логически понятнымъ... Откроется необъятной шпроты горизонтъ! Какія
перспективы, какія богатыя перспективы!..
Такими напыщенно туманными фразами спѣшилъ пресѣчь любопытство
опекаемаго имъ принца бывшій гофмаршалъ князя Вида Албанскаго.
Гипнозъ начиналъ дѣйствовать.
Первые дни своего волшебнаго превращенія—еще туда сюда... Ни-
какой ощутительной перемѣны, кромѣ чисто внѣшней. Но чѣмъ дальше,
тѣмъ ядовитѣй отравлялъ вновь испеченнаго принца этотъ сладостный
гипнозъ.
Онъ смотрѣлъ въ зеркало и уже казалось ему, что оттуда глядитъ
на него совсѣмъ другое лицо. Какой-то другой „исправленный и допол-
ненный" Марлявчевичъ. И этотъ новый Марлявчевичъ слегка презиралъ
того, далекаго, чужого, оставшагося гдѣ-то въ бѣдной и тусклой не-
извѣстности.
Есть время, а главное матеріальная возможность ухаживать за собою,
за своимъ тѣломъ. Въ какихъ нибудь двѣ-три недѣли, кожа лица пріобрѣла
особенную глянцевитость, какъ у людей обезпеченныхъ, живущихъ въ до-
статкѣ и заботахъ о собственной персонѣ, у людей, которымъ некуда
спѣшить въ погонѣ за рублемъ.
Почти ежедневно—парикмахеръ французъ. И безукоризненному про-
бору Ивана Марлявчевича могъ бы смѣло позавидовать самъ великолѣп-
ный Штоссъ, а подстриженной, вымытой и пахнувшей душистыми эссен-
ціями бородкою Марлявчевичъ могъ-бы конкурировать съ Беркутовымъ.
И даже затмить художника, чрезвычайно лелѣявшаго свою бороду, такъ
это было для него стильно.
- Т50 —
Какая-то самоувѣренность появилась и во взглядѣ, и въ манерахъ,
въ движеніяхъ, въ рѣчи. До чего преображаетъ костюмъ, въ особенности
человѣка, за собою никакихъ особенныхъ духовныхъ и умственныхъ цѣн-
ностей не знающаго.
Для такихъ внѣшность, если даже и не все, то во всякомъ случаѣ,—
многое.
Съ иголочки одѣтый у лучшаго портного, Марлявчевичъ носилъ тонкое
сверкающее бѣлье и такіе дорогіе галстухи, о которыхъ мѣсяцъ назадъ
могъ лишь вздыхать самымъ безнадежнымъ образомъ, такъ адски драз-
нили они его сквозь витрину, недосягаемые, нарядные,—-страшно вымол-
вить,—шести и семи рублевые...
И такъ во всемъ.
Воспитанный на кухмистерскихъ и па „Федоровѣ", гдѣ за полтин-
никъ и сытъ и пьянъ,—прежде врядъ-ли отважплся-бы войти въ какой-ни-
будь шикарный кабакъ.
„Гдѣ ужъ, молъ, куда ужъ... Пальцемъ будутъ показывать. Опять же
и костюмъ не подходящій"...
II связанный преслѣдующей мыслью о своемъ несоотвѣтствующемъ
костюмѣ, онъ терзался-бы. Теперь, онъ смѣло, непринужденно, какъ свой,
какъ равный, да онъ и былъ теперь и своимъ и равнымъ здѣсь,—спускался
въ общій залъ „Семирамисъ-отеля", гдѣ среди тропической зелени, подъ
звуки оркестра насыщалась такая праздничная лощенная международная
публика, дипломаты, редакціонныя и театральныя знаменитости, дамы,
кокотки, и гдѣ тамъ и сямъ поблескивали генеральскіе и гвардейскіе, съ
вензелями погоны.
Вечеромъ какъ то маркизъ Санъ-Діонисіо, неожиданно для Марляв-
чевича и весьма ожиданію для себя, повезъ принца Зеты къ Маріѣ Сер-
гѣевнѣ.
Августъ фонъ-Раухъ отсутствовалъ, и не случайно, а такъ рѣшено
было—не „отпугивать" Марлявчевича его высокой, сутзтлоп фигурой... Тѣмъ
болѣе, у Августа фонъ-Рауха не хватило бы такта какъ-нибудь стуше-
ваться. Наоборотъ, собственникъ чувствовался-бы во всемъ...
Холодцова, маскируя свое любопытство, во всѣ глаза, прекрасные
глаза съ поволокою, смотрѣла на гостя, котораго встрѣтила такимъ при-
дворнымъ реверансомъ,—сама княгиня Тэхтамышсва навѣрно позеленѣла
бы ОТЪ злости.
„И откуда, спрашивается, у этой кондукторской дочери такое плав-
ное благородство манеръ герцогини крови"?..
— Откуда?—приставала-бы ко всѣмъ княгиня Тохтамышсва.
Первый экзаменъ, первое впечатлѣніе—въ пользу Марлявчевича. Даже
избалованная Марія Сергѣевна,—ужъ она-ль не видала мужчинъ въ своей
жизни?—нашла Марлявчевича вполнѣ приличнымъ, приличнымъ во всѣхъ
отношеніяхъ.
„Чистенькій мальчикъ",—охарактеризовала она его про себя.
Скроменъ, не робокъ, а именно скроменъ. И если не хватаетъ звѣздъ
съ неба,—это не многимъ, охъ, какъ не многимъ дано, то во всякомъ
случаѣ, не говоритъ глупостей. А это уже плюсъ далеко не изъ послѣд-
нихъ. Лицо пріятное. Какая-то симпатичная умѣренность. Визитка сидитъ
на немъ—дай Богъ всякому. Въ мѣру высокъ, въ мѣру строенъ. Чего же
еще, спрашивается?.. Довольно...
- 151 -
Вечеръ пролетѣлъ незамѣтно. Марія Сергѣевна, пріятно разочаровав-
шаяся, ожидала значительно худшаго,—такъ вся и зажглась искреннимъ
весельемъ. Была говорлива, смѣялась груднымъ смѣхомъ своимъ, разска-
зывала о томъ, какъ изящно и солнечно жилось ей въ Парижѣ, какъ она
проиграла въ Монте-Карло въ одинъ вечеръ сто двадцать тысячъ фран-
ковъ и,—это особенно понравилось Марлявчевичу,—какъ однажды на про-
гулкѣ въ Карлсбадѣ покойный король Эдуардъ, не смотря на свою ком-
плекцію, галантно поднялъ обороненный ею пакетикъ.
Это былъ король среди джентльмэновъ и джентльмэнъ среди королей.
Принцъ, весь зачарованный, слушалъ... II еслибъ у него вмѣсто одной
пары ушей, было ихъ цѣлыхъ десять, онъ одинаково жадно упивался бы
нѣжной музыкою сочнаго грудного голоса.
И какой былъ свѣжій, душистый чай,—сама наливала,—онъ отродясь
не пилъ такого.
II опять таки—сила превращенія.
Мѣсяцъ назадъ, попади онъ въ гостиную этой „львицы", онъ сидѣлъ
бы па тычкѣ, истуканъ-истуканомъ, смущенный, не знающій куда дѣвать
руки, и развѣ только инквизиторскими щипцами можно было бы, какъ
жилы, вытягивать у него слово за словомъ. Онъ думалъ бы о своемъ
дешевенькомъ сюртучкѣ, о рукахъ, которыхъ никуда не приткнешь, о
грубыхъ ботинкахъ, обо всѣхъ остальныхъ недочетахъ своего костюма и
навѣрное казался бы дуракъ-дуракомъ, вызывающимъ снисходительную
улыбку...
А теперь...
А теперь если онъ и волнуется, то однимъ лишь жуткимъ, съ головы
до ногъ, всего оканчивающимъ волненіемъ—сознанія близости этой бѣлой,
холеной красавицы, о которой интересно и много пишутъ въ газетахъ,
которая кружила самыя сильныя головы, и которую зоветъ молва одною
изъ элегантнѣйшихъ женщинъ Петрограда.
Маркизъ Санъ Діонисіо, сверкая подъ электрической люстрой лыси-
ной своею, молча наблюдалъ, шевеля жучьими усами и гася въ глазахъ
шельмовскія довольныя искорки. Онъ ожидалъ почему-то шероховатостей,
треній, а между тѣмъ все, какъ по маслу...
Клюетъ... Положительно клюетъ...
А хоть бы даже и не клевало, онъ убѣдитъ Марлявчевича, а если
не убѣдитъ, имѣется въ запасѣ одно чрезвычайно побудительное сред-
ство, называемое у русскихъ „бараньимъ рогомъ".
Результаты системы „бараньяго рога" бываютъ иногда поистинѣ
чудодѣйственные.
Перспектива послѣ всей этой роскоши вновь очутиться у разбитаго
корыта, врядъ ли особенно соблазнительна Марлявчевичу. Именно, у раз-
битаго корыта. Бывшій австрійскій офицеръ, изучалъ русскій языкъ, или,
какъ говорятъ швабы,—„рутенскій" и „Сказку о рыбакѣ и рыбкѣ" читалъ
въ подлинникѣ».
Во всякомъ случаѣ, маркизъ Санъ-Діонисіо не теряя ни минуты драго-
цѣннаго времени, какъ только, уйдя отъ Маріи Сергѣевны, они сѣли въ
автомобиль, спросилъ:
Ваше высочество, какое произвела на васъ впечатлѣніе госпожа
Холодцова?.. Не правда-ли, обворожительное существо? Я видывалъ на
своемъ вѣку женщинъ, но эта!.. Не правда-ли?..
'52
— Я нахожу ее прелестной, скромна удивительно, тактична, и въ то
же время умѣетъ соблюдать,—я не подберу слова, — что-то въ самомъ
дѣлѣ... ну, товарищеское... Я признаться, былъ о ней другого мнѣнія...—худ-
шаго... вы знаете людей,—всегда охотнѣе скажутъ дурное, чѣмъ хорошее...
Маркизъ Санъ-Діонисіо бросилъ косой, испытующій взглядъ на ярко
освѣщеннаго на фисташковомъ фонѣ „купэ“ Марлявчевича.
— Вы не находите, ваше высочество, что корона Зсты весьма и
весьма была бы въ гармоніи съ царственной внѣшностью особы, отъ ко-
торой мы сейчасъ возвращаемся?.. При этой фигурѣ, пышныхъ волосахъ,
а какой профиль!.. Точеный...
— Я не совсѣмъ васъ понимаю, маркизъ, что вы хотите сказать?..
— 51 хочу сказать, не болѣе и не менѣе, что искреннее, благожела-
тельное и, прибавлю, безповоротное рѣшеніе могущественныхъ покрови-
телей вашего высочества, желающихъ до поры до времени остаться въ
тѣни, это чтобы госпожа Холодцева стала супругою принца Зеты.
— Другими словами, они хотятъ, мои таинственные покровители, въ
могуществѣ которыхъ я ни на минуту не сомнѣваюсь, чтобы я женился
на Маріи Сергѣевнѣ?..
— Натурально!.. Это ясно, какъ свѣтлый день, потому что принцъ
Зеты одинъ-едипственный на цѣломъ свѣтѣ, и это именно вы, ваше вы-
сочество. Другого нѣтъ принца Зеты. Нигдѣ!.. Ни па наш й планетѣ, ни
на другихъ...
— Но позвольте... Вы все шутите, а это вовсе не шутки...
— Выше высочество, убѣдительно прошу, разрѣшите пожалуйста до-
полнить, округлить и окончить мнѣ мою мысль... На первый взглядъ такая
комбинаціи можетъ, дѣйствительно, показаться болѣе чѣмъ странной, даже
дикой. Скажу больше, не будемъ бояться словъ—даже чудовищныхъ... Но
только на первый взглядъ... Согласитесь, что вамъ трудно, скажемъ, не-
возможно сочетаться бракомъ съ особою какого-нибудь владѣтельнаго
дома. Я этимъ ничуть не умаляю несомнѣнныхъ достоинствъ и солидныхъ
добродѣтельныхъ качествъ, свойственныхъ и присущихъ вашему высоче-
ству... Все это такъ... Но согласитесь, что превращеніе тридцатишестилѣт-
няго титулярнаго совѣтника въ принца крови совершилось очень ужъ
скоропалительно. По мановенію волшебной палочки добраго волшебника.
Принцы рождаются въ изгнаніи, это бывало, это есть и это будетъ
до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать принцы, но уже съ колыбели
всѣ знаютъ ихъ принцами...
Уже съ колыбели попадаютъ они на страницы „Готскаго альманаха"...
Итакъ, особа владѣтельнаго дома, самаго захудалаго, живущаго впрого-
лодь,—отпадаетъ. А разъ такъ,—не все ли равно... Для полудикихъ гор-
цевъ, подданныхъ вашего высочества,—женщина, восхищавшая васъ, по-
кажется прямо небесной королевою... Феей горъ, явившейся облагодѣтель-
ствовать цѣлый пастушескій народъ...
Маркизъ умолкъ, не выпуская профиля Марлявчевича изъ поля своего
зрѣнія. Молчалъ и принцъ. Освѣщенный, какъ фонарь, автомобиль, гудя
и содрогаясь, низалъ ослѣпительными лучами прожекторовъ своихъ мракъ
улицы.
— Я согласенъ...—молвилъ послѣ продолжительнаго раздумья принцъ,—
но согласна ли Марія Сергѣевна?.. А можетъ быть я, произвелъ на нее отри-
цательное впечатлѣніе?..
т53
— Искренно жму руку вашего высочества, поздравляю отъ всего пе-
реполненнаго сердца. Это будетъ блестящая партія. Во всѣхъ отношеніяхъ
блестящая на рѣдкость... За нею- милліонъ, болѣе чѣмъ достаточно, дабы
съ честью позолотить древнюю, одну изъ самыхъ древнѣйшихъ въ Европѣ
корону Зеты... Да, да... >1 ни минуты не сомнѣваюсь въ самомъ пламен-
номъ согласіи госпожи Холодцевой... Тѣмъ болѣе... ахъ, эти женщины!
Хитры, коварны, а скрывать своихъ чувствъ не умѣютъ... Безъ всякихъ
шутокъ, — шутки были бы въ такомъ серьезномъ вопросѣ неумѣстны,-я
замѣтилъ, что вы произвели на госпожу Холодцеву чрезвычайно выгодное
впечатлѣніе, ваше высочество... Она вся такъ оживилась... До чего за-
дорно и весело блестѣли ея глаза...
Браво, браво, побѣда несомнѣнная...
— Развѣ?—Не думаю... Кстати, кто сейчасъ ея покровитель?.. Вы
же понимаете, маркизъ, па содержанкѣ мнѣ ни въ какомъ случаѣ не-
удобно... Если же опа поставила на своемъ прошломъ крестъ,—это мѣ-
няетъ дѣло... Если грѣхъ забытъ, онъ уже не грѣхъ, пли только вполо-
вину...
Тысячи крестовъ, сотни тысячъ крестовъ, такихъ же солидныхъ,
чугунныхъ, что заказала предъ этой войною предусмотрительная Германія ..
Послѣднее время госпожа Холодцева смѣло могла бы получить премію
за добродѣтель. Она свободна, какъ воздухъ, какъ вѣтеръ, бьющій въ
стекла вашего купи. Въ противномъ случаѣ, развѣ я посмѣлъ бы высту-
пить въ роли свата?.. Я весьма счастливъ, что все такъ удачно склады-
вается. Смѣю завѣрить, что интересы вашего высочества у меня на пер-
вомъ планѣ... Больше, чѣмъ свои собственные... Я тряхну стариной и
вспомню свои гофмаршальскія обязанности... Вотъ будетъ бракосочетаніе!..
Фотографическіе снимки въ газетахъ и журналахъ, замѣтки въ свѣтской
хроникѣ. II хотя вниманіе петроградскаго общества поглощено всецѣло
войною, однако объ этой свадьбѣ заговорятъ, и еще какъ!.. Даю честное
слово маркиза Санъ-Діонисіо... Кстати, уже время запяться обмундировкой
вашего высочества. Необходимо торопиться и торопиться. Вся форма
должна быть красивая и бросающаяся въ глаза. Я приглашу художника
и онъ подъ моимъ руководствомъ набросаетъ нѣсколько эскизовъ, изъ
которыхъ мы вмѣстѣ» съ вашимъ высочествомъ выберемъ что-нибудь наи-
болѣе подходящее. Вы не думайте, задача вовсе не такая легкая!.. Необхо-
димо совмѣстить общеевропейскую форму съ основнымъ принципомъ обще-
балканской одежды. Все это должно быть готово въ нѣсколько дней. Пусть
портной сдеретъ вчетверо, но лишь бы только поспѣлъ. Пусть рабо-
таютъ днемъ и ночью!.. Тѣмъ болѣе черезъ недѣлю, — я уже полу-
чилъ телеграмму,—прибудетъ въ Петроградъ небольшая депутація для
принесенія вашему высочеству своихъ вѣрноподданническихъ чувствъ...
Я уже рисую себѣ заранѣе, какая это будетъ величавая и трога-
тельная картина,—первое сліяніе будущаго монарха со своими поддан-
ными...
Принцъ молчалъ, не смѣя дышать... Подхватившій его „коверъ-са-
молетъ", головокружительной сказкою, сказкою жизни, уносилъ его въ
какую-то волшебную даль...
Онъ очнулся, когда они пріѣхали домой и гудящая машина, укро-
щеннымъ, содрогающимся звѣремъ, остановилась у гигантскихъ стеклян-
ныхъ дверей „Семирамисъ-отеля".
154
17. Въ „Нкваріумѣ".
Негръ, вмѣстѣ съ „блѣднолицой"женщиной, плясали танго. Негръ
©дѣтъ былъ съ чисто кафешантанной, переигранной утрировкою.
Фракъ, навѣрное сшитый въ Лондонѣ, сидитъ какъ облитой, но фалды
почти до самыхъ пятъ. Бѣлые зубы, ослѣпительная сорочка и бѣлыя гетры,—
чуть ли не во весь ботинокъ. Можно подумать, что негръ танцуетъ въ
бѣлыхъ носкахъ.
Тягучіе, сладострастные, пропитанные зноемъ далекой экзотики, томные
звуки и такая же медленная, истомная, доводящая до „бѣлаго каленія"
чувственность,—“Во всемъ, въ движеніяхъ всего тѣла, головы, въ бьющихъ
по нервамъ прикосновеніяхъ, во взглядахъ, такъ грѣшно желающихъ другъ
друга.
Бьющимъ по нервамъ, когда эти нервы взвинчены шампанскимъ...
А теперь—вмѣсто бутылокъ, въ мельхіоровыхъ ведрахъ и вазахъ—скромные
стеклянные кувшины съ хлѣбнымъ и сухарнымъ квасомъ.
Вчерашній плебейскій напитокъ теперь, волею судебъ военнаго вре-
мени, получилъ самое широкое право гражданства даже въ тѣхъ кругахъ
и у тѣхъ людей, которые исповѣдывалн „квасной патріотизмъ", но сами
кваса никогда не пили.
О настоящемъ весельи, трезвомъ, петроградецъ не имѣетъ понятія,
если не затуманенъ его мозгъ и хмѣль не бродитъ по всему его существу...
Какое же это веселье... И молча, словно коченѣющія осеннія мухи, си-
дятъ они за столиками со своими дамами, зѣвая и зеленѣя отъ скуки.
Отъ скуки, не потому, что дѣйствительно скучно, а потому, что не-
чѣмъ веселиться, потому что душа пустая и холодная, какъ посинѣвшій
трупъ.
Эту взращенную чухонскимъ болотомъ публику рѣшительно ничѣмъ
не проймешь... Ничѣмъ... Вы не думайте, что господинъ петроградецъ рав-
нодушенъ развѣ лишь къ танго п всѣмъ остальнымъ номерамъ открытой
сцены.
Танго—Господь съ нимъ!..
Но когда взятъ былъ Львовъ, онъ также кисло сидѣлъ... Хотя бы
тѣнь радости, патріотическаго самосознанія, гордости. Въ началѣ войны
не повезло намъ у Сольдау... Человѣческая слякоть, безъ физіономіи, безъ
темперамента, равнодушно пожимала плечами.
— Вотъ видите...
Этихъ людей не возмущали звѣрства германцевъ. Опп попугаями съ
чужихъ словъ повторяли, что звѣрства раздуты, преувеличены.
— Панасюкъ, что жъ, онъ самъ себѣ языкъ вырѣзалъ?..
— Нѣтъ... почему же самъ... А, можетъ быть, ему снарядъ попалъ?..
Что такое это, кретинизмъ, или подлость, или то и другое, или нако-
нецъ,—это, пожалуй, вѣрнѣе—постыдное равнодушіе ко всему, что внѣ
узкихъ эгоистическихъ дѣлъ и дѣлишекъ.
Единственный такимъ господамъ отвѣтъ, — другого нѣтъ и не мо-
жетъ быть,—плевокъ. Но,—плевковъ не хватило бы.
Танго смѣнилось миніатюрной, изящной, вся въ черномъ, францу-
женкою Алисой Раблэ. Опа въ траурѣ, у нея братъ погибъ въ Эльзасѣ
при наступленіи. Она ненавидитъ германцевъ. Ненавидитъ, какъ патріотка
^55
своей прекрасной Франціи и какъ сестра, которую затѣявшій войну врагъ
лишилъ брата.
И вотъ граціозно, съ выразительной мимикой поетъ она злые, би-
чующіе куплеты про варваровъ — „бошей", куплеты, гдѣ въ каждой по-
слѣдней строчкѣ Вильгельмъ называется тѳпіе’омъ.
Кончила... Пять-шесть хлопковъ, да и то скорѣе теплыхъ, чѣмъ го-
рячихъ... И—все...
Алиса Раблэ—въ полнѣйшемъ недоумѣніи. Глазамъ и ушамъ не вѣ-
ритъ. Такъ вотъ какъ встрѣчаютъ петроградцы остроумное вышучиваніе
культурныхъ рыцарей большой дороги, этихъ мерзавцевъ, влюбленныхъ
въ свои „сорокадвухсантиметровыя и въ цеппелины"...
Двѣ недѣли назадъ Алиса пѣла эти же самые куплеты въ „нейтраль-
номъ" Бухарестѣ. II что-же? По всѣмъ швамъ и скрѣпамъ трещалъ театръ
отъ рукоплесканій и бѣшенаго восторга толпы, особенно студенческой
молодежи, для которой Франція навсегда останется землей обѣтованной,
а Парижъ—кумиромъ.
Француженка, съ подчеркнутой экспрессіей закапчивая каждый ку-
плета,, бросала пренебрежительный взглядъ по направленію ложъ, гдѣ бли-
стали господа дипломаты германскаго и австро-венгерскаго посольствъ,
И всѣхъ этихъ бѣлобрысыхъ нѣмцевъ и скуластыхъ мадьяръ корежило
какъ сырой берестъ въ огнѣ.
Съ шантанныхъ подмостковъ Алиса Раблэ „дѣлала политику" въ
нейтральномъ Бухарестѣ.
Здѣсь-же эта политика встрѣчена была совсѣмъ по другому.
Нѣсколько неувѣренныхъ съ оглядкою на сосѣдей, — чего добраго
будутъ еще носиться,—хлопковъ и, это уже совсѣмъ позорно,—шиканіе,—
легкое, правда, но все-таки, шиканіе.
Неслось оно изъ верхней, межъ блѣдно-розовыми „подъ мраморъ"
колоннами, ложи, вѣрнѣе изъ кабинета, выходящаго полукруглымъ балкономъ
въ залъ. На этомъ балконѣ, дымя сигарами, стояли нѣмцы съ Августомъ
Раухомъ во главѣ. И все это,—рослые на диво откормленные акціонеры
крупнаго завода, обслуживающаго артиллерійское снаряженіе нашей арміи.
Эти милостивые государи открыто и громко выражали свое негодо-
ваніе по адресу Раблэ, дерзнувшей осмѣять нѣмцевъ заодно вмѣстѣ съ
ихъ кайзеромъ.
И никого, за исключеніемъ одного человѣка, не нашлось въ этой
громадной толпѣ, кто-бы вступился и за артистку и это самое главное за
самихъ себя, за свое собственное достоинство русскихъ людей.
Публика слякотная, съ посинѣвшимъ трупомъ вмѣсто души, не за-
бросала наглецовъ чѣмъ попало, не выгнала ихъ вонъ, а сидѣла сконфу-
женно, боясь встрѣчаться глазами другъ съ другомъ.
А въ нѣкоторыхъ заячьихъ головахъ проносились: „Можетъ быть это
и въ самомъ дѣлѣ безтактно, высмѣивать нѣмцевъ... Война,—это далеко,
тамъ... а здѣсь—не до политики... Мы сюда веселиться пришли".
Но Алиса Раблэ сама за себя постояла. Смѣривъ убійственно—пре-
зрительнымъ взглядомъ, съ непередаваемо брезгливой гримасою группу
шикавшихъ нѣмцевъ, она вдругъ повернулась къ нимъ спиною и съ чер-
товски „говорящимъ" реверансомъ, присѣла, задорнымъ, короткимъ дви-
женіемъ, въ границахъ приличія, взмотнувъ кверху юбки... И вышло это
не грубо, а пикантно съ шикомъ настоящей парижанки.
— 156 -
Толстокожіе нѣмцы,—вотъ ужъ казалось-бы ничѣмъ не проймешь,—
даже они смутилиеь... И скорѣй назадъ, назадъ, покинули балконъ.
Въ этотъ моментъ, когда публика не знала, что ей дѣлать, „шокиро-
ваться" жестомъ француженки, или апплодировать, легкой упругой поход-
кой, къ рампѣ вплотную подошелъ молодой полковникъ въ коричнева-
томъ англійскаго покроя кителѣ, бросилъ къ ногамъ артистки большую
пунцовую розу и тотчасъ-же оглушительно зарукоплескалъ ей.
Толпѣ, этому пакурдову стаду,—необходимъ былъ вожакъ.
Такимъ вожакомъ явился полковникъ генеральнаго штаба Шепе-
товскій. Его примѣръ, подобно электрическому току зажегъ даже тѣхъ,
у кого вмѣсто крови текла въ жилахъ сыворотка. И миніатюрная жен-
щина въ траурномъ платьѣ, такомъ суровомъ строгомъ па фонѣ шантана,
получила свой тріумфъ...
А Шепетовскій, придерживая украшенную георгіевскимъ темлякомъ
шашку, спокойно вернулся на мѣсто къ своему черному кофе и сигарѣ.
Черезъ нѣсколько столиковъ, за нимъ наблюдали Мясниковъ и Роткусъ.
Они выслѣживали его, какъ свою законную добычу.
Шепетовскій былъ красивъ дородной гвардейской красотою, съ круп-
ными, правильными, бѣлыми чертами открытаго лица, съ твердымъ двоя-
щимся по серединѣ, гладко выбритымъ подбородкомъ и двумя черными
жгутами небольшихъ усовъ. II въ стилѣ всей легкой мускулистой фигуры
спортсмэна-кавалериста была низко выстриженная голова.
Въ прошломъ, гродненскій гусаръ, Шепетовскій молодымъ поручи-
комъ сдѣлалъ манджурскую кампанію, а теперь, съ самаго начала воен-
ныхъ дѣйствій, былъ начальникомъ штаба кавалерійской дивизіи, опери-
ровавшей въ Карпатахъ. Свое георгіевское оружіе онъ получилъ не за
поданный во время „полезный совѣтъ", а за опасную и цѣнную добы-
тыми свѣдѣніями развѣдку, произведенную вмѣстѣ съ эскадрономъ въ
тылу непріятельскихъ позицій.
~ Два дня и двѣ ночи въ коротенькомъ полушубкѣ провелъ все время,
на ледяной стужѣ карпатскихъ твердынь Шепетовскій. Простудился, по-
лучилъ воспаленіе легкихъ и эвакуированный, долечнвался въ Петроградѣ.
Выздоровѣвъ, онъ хотѣлъ вернуться на фронтъ, но его задержали въ сто-
лицѣ, поручивъ разработку кой-какихъ оборонительныхъ деталей Выш-
городской крѣпости. Нѣмцы, благодаря своимъ шпіонамъ, знали крѣпость,
какъ собственную ладонь и вотъ Шепетовскій долженъ былъ приготовить
имъ съ помощью военныхъ инженеровъ нѣсколько новыхъ, совсѣмъ не-
ожиданныхъ „сюрпризовъ".
Ими-то, сюрпризами этими, и былъ заинтересованъ Андрей Андреевичъ
Мясниковъ, вмѣстѣ съ достойнымъ другомъ своимъ барономъ Роткусомъ.
Днемъ Шепетовскій работалъ, а вечеромъ уѣзжалъ въ „Акваріумъ",
куда манила его своею пляскою и своимъ тѣломъ въ паутинѣ прозрач-
ныхъ покрывалъ, „знаменитая королева пластическихъ танцевъ". Онъ
успѣлъ, это было не трудно,—познакомиться съ Эллой, успѣлъ поужинать
съ нею въ томъ самомъ кабинетѣ, откуда нѣмцы ошикали француженку.
Танцовщица держала себя очень свободно, пьянила Шепетовскаго,
обжигая мимолетными прикосновеніями, но когда онъ сажалъ ее къ себѣ
на колѣни, Элла, вся, какъ-то профессіонально изгибаясь, выскакивала
вдругъ на середину кабинета, выдѣлывая такія „па", которыхъ не позво-
ляла себѣ, вѣрнѣе, ей не позволяли, па сценѣ, и которыя граничатъ,—а
і57
можетъ быть и переходятъ границы, оскорбленія общественной нрав-
ственности.
Онъ звалъ се къ себѣ пить чай. Звалъ, какъ она есть, въ этихъ
самыхъ легкихъ одеждахъ... Онъ заботливо закутаетъ ее въ ротонду. От-
сюда-всего пять минутъ... Они промчатся черезъ Троицкій мостъ и, въ
нѣсколькихъ шагахъ, па Дворцовой набережной,—его холостая квартира.
Но Элла, отрицательно, качая головой, помахала указательнымъ паль-
чикомъ у самаго носа, породистаго, съ горбинкою полковничьяго носа, и
бросивч» ему:
— До завтра... можетъ быть...—завтра...
Исчезла, оставивъ какой-то крѣпкій и пряный ароматъ, еще болѣе
дразнившій жажду неудовлетвореннаго обладанія...
До завтра...
Это завтра—будетъ сегодня... Должно быть!..
Если лгутъ „обѣщающіе" взгляды, улыбки и на лету оброненные,—
только бы отвязался!—поцѣлуи, то, во всякомъ случаѣ, гораздо менѣе
лгутъ записочки...
Помощникъ режиссера, изогнувъ не безъ манерности свой вихляющій
станъ, положилъ па скатерть возлѣ» Шепетовскаго незапечатанный синій
конвертъ съ фирмою „заведенія"... Внутри, на клочкѣ бумаги, — каранда-
шемъ по-французски:
„Ждите меня въ моторѣ у артистическаго подъѣзда тотъ часъ-же
по окончаніи программы"...
И вотъ ончэ ждалъ ее, ждалъ съ нетерпѣніемъ, но не въ моторѣ, а
возлѣ мотора, вглядываясь, ища знакомую фигуру среди всѣхъ этихъ вы-
холившихъ на расцвѣченный электричествомъ холодный мракъ, закутан-
ныхъ въ мѣха пѣвичекъ, акробатокъ, танцовщицъ. Дверь на блокѣ съ
визгомъ и шумомъ захлопывалась за вереницей этихъ женщинъ открытой
сцены разныхъ націй, странъ и оттѣнковъ кожи. Однѣхъ встрѣчали по-
клонники, другія, уморительно выговаривая по-русски, торгуясь, нанимали
извозчиковъ.
Выходили мужчины, тоже такіе разномастные въ цилиндрахъ и мѣ-
ховыхъ шапкахъ, съ бритыми, какъ гутаперча растягивающимися лицами.
Хохочетъ во всю, оскаливъ звѣриные зубы громаднаго роста негръ
и на его рукѣ, съ видомъ собственницы повисла его подруга, — подруга
по мучительно-сладострастному танго и по такимъ-же мучительнымъ
ласкамъ ревнивой истерички...
Шепетовскій въ грубой солдатской шинели, съ тонкими пришитыми
къ плечамъ серебряными погонами, ждетъ... Ждетъ рѣзко выдавливая свои
слѣды, спрессовывая на одномъ мѣстѣ и безъ того твердый хрустящій снѣгъ.
Вотъ и она, въ пышныхъ бѣлыхъ ангорскихъ козахъ...
И вотъ они мчатся... Какъ днемъ свѣтло въ купэ. Шепетовскій гаситъ
огонь и сразу вдругъ окутываетъ ихъ сумеречный уютъ.
Полковникъ не теряетъ времени понапрасну... Его развѣдка столь-же
стрѣмительна, какъ и та, въ далекихъ, занесенныхъ сугробами скалахъ,
когда оііъ двое сутокъ пропадалъ безъ вѣсти въ непріятельскомъ тылу.
„Королева пластическихъ танцевъ" кокетничая, дразня его, соору-
дила барьеръ между своими губами, и губами Шепетовскаго. Этотъ
барьеръ—модный редикюль, черный, шелковый, расшитый бисеромъ...
— Ты прячешь тамъ любовныя записочки?.. Дай мнѣ!..
- Т58 -
Но ридикюль быстро исчезъ гдѣ-то въ мягкихъ складкахъ ротонды,
между пушистымъ мѣхомъ и теплымъ, упругимъ тѣломъ безъ корсета...
И желая отвлечь мысли Шепетовскаго отъ рсдикюля, Элла сама по-
тянулась къ нему раскрытыми губками...
— Поцѣлуй разокъ и... довольно... чтобы ты хотѣлъ меня... цѣлая
ночь впереди!..—сулила она ему блаженство, зная, какъ это дѣйствуетъ
на воображеніе...
Конечно полковникъ забылъ про шелковый редикюль, забылъ про
все, кромѣ этихъ губъ, которыя его жгли...
А тамъ въ этой сумочкѣ, вмѣстѣ съ губной помадою, золотой пуд-
реницей и разными другими пустяками туалетнаго обихода реставриру-
ющей себя красавицы, лежала, пакетикомъ; тончайшая, тоньше папиросной
бумаги,—въ то-же время плотная, прозрачная, глянцевая калька берлин-
скаго происхожденія. Германскій штабъ снабжаетъ ею своихъ шпіоновъ
„спеціалистовъ по крѣпостямъ".
И вмѣстѣ съ калькою, еще крохотный пузырекъ...
Если-бы зналъ Шепетовскій... Если-бы онъ только зналъ...
Мигомъ остыли-бы поцѣлуи и, на ходу распахнувъ дверцу, онъ вы-
швырнулъ бы прямо въ снѣгъ Эллу-Стэллу...
18. Новое о старыхъ герояхъ.
Беркутовъ, какъ былъ въ шубѣ* и шапкѣ, остановился посрединѣ
своей мастерской.
Горѣла единственная лампочка въ видѣ какого-то чудовищнаго, зло-
вѣщаго цвѣтка и багровый свѣтъ не въ силахъ былъ проникнуть во всѣ
углы, и тихо шевелились нѣмыя, исполинскія тѣни мраморныхъ боговъ
и богинь, манекеновъ, застывшихъ въ одеревенѣлыхъ позахъ и съ воско-
выми, бездушной правильности, лицами. Кольчуги, шлемы, страдальческія
античныя маски, свирѣпыя гримасы японскихъ и китайскихъ уродцевъ,
все это казалось загадочнымъ, фантастическимъ, совсѣмъ по другому,
чѣмъ днемъ...
Мальчикъ слуга Петя, ждалъ за спиною своего барина, желая снять
съ него шубу. Но художникъ забылъ и про шубу и про Петю и стоялъ,
глядя куда-то во мракъ затаившихся среди холстовъ п драпировокъ,
тѣней...
И это было долго, нѣсколько минутъ. Петя, которому наскучило
ждать, зазѣвался. Беркутовъ, думая, что мальчикъ наготовѣ, или вѣрнѣе,
совсѣмъ не думая объ немъ, самъ спустилъ съ плеча и рукавовъ шубу,
и остался въ смокингѣ.
Онъ вернулся отъ княгини Тохтамышевой, гдѣ обѣдалъ въ обще-
ствѣ Максима Евстигнѣевича, нѣсколькихъ дамъ, генераловъ, чиновни-
ковъ, дѣлающихъ карьеру, и одного бюрократическаго туза.
Это былъ первый выходъ Беркутова въ общество, первый по воз-
вращеніи его изъ Константинополя.
Тамъ, на этомъ тепломъ далекомъ югѣ, рисовались ему другія кар-
тины... Иначе представлялъ онъ себѣ петроградскія настроенія .. Ему каза-
лось, что все и вся захвачено войною, дышетъ ею, скорбитъ ея печалями,
радуется ея успѣхами...
і59
Такъ онъ думалъ, такъ хотѣлъ думать...
Словъ нѣтъ, грѣхъ было бы произнести поголовное осужденіе. Есть
и такіе, мало ихъ, но изъ этого дома, откуда онъ только что пріѣхалъ,
Беркутовъ увезъ съ собою тяжелое впечатлѣніе.
Ъ войнѣ говорилось глухо, вскользь какъ-то, словно гдѣ-то за три-
девять земель, что то безконечно чужое и чуждое происходитъ...
Княгиня-хозяйка такъ разволновалась, красивое, дородное лицо ея
пошло пятнами... Спичку приложить—сразу вспыхнетъ...
Дѣло въ томъ, что лишь къ серединѣ обѣда получено было красное
вино. Коньякъ, шампанское—этого добра въ изобиліи. А вотъ, какъ на
грѣхъ, именно, того самаго краснаго вина, которое предпочтительно жа-
луеіъ Максимъ Евстигнѣевичъ—не было.
И княгиня въ своихъ пылающихъ пятнахъ, сама не своя, не въ по-
падъ отвѣчала на вопросы гостей.
До того-ли ей—вся, какъ па угольяхъ горячихъ...
Художникъ, воспитанный въ созвучіяхъ линіи формъ и тоновъ, на-
рисовавшій въ достиженіяхъ анатомической грамотности не одну сотню
череповъ, всегда съ какой-то пытливой остротою глаза „нащупывалъ“
новыя головы новыхъ ему людей.
Беркутовъ мысленно „зарисовалъ" въ альбомъ строеніе черепа кузена
Тахтамышевой, вице-губернаторствуюшаго гдѣ-то въ нашей равнинной
глуши. Непомѣрно громаденъ и вмѣстѣ съ тѣмъ безнадежно плоскій и
узкій лобъ. Форма всей головы—усѣченный конусъ, конусъ прикрытый
сверху жиденько чахлыми, рѣдкими, цвѣта пакли, волосами.
Обладатель этого черепа, криво улыбаясь, какъ дегенератъ и шепе-
лявя, убѣждалъ стараго генерала, что лучшій секретъ успѣшнаго упра-
вленія губерніей—хорошій поваръ.
И это нравилось не только самому вице-губернатору, но и окружаю-
щимъ. Находили остроумнымъ, смѣялись.
Беркутовъ пожалѣлъ отъ души ту губернію, куда княгининъ кузенъ
явится на свое кормленіе—воеводство.
А ужъ явится--какъ пить дать, явится. Этотъ обѣдъ рѣшилъ его
судьбу въ положительномъ смыслѣ.
Беркутовъ охотно пошелъ навстрѣчу дамамъ въ смыслѣ исполненія
портрета Максима Евстигнѣевича. Онъ видѣлъ въ этомъ рѣшеніи инте-
ресной живописной задачи.
Много такого характернаго въ крупныхъ чертахъ... Уловить и пере-
дать угнѣздившіяся подъ массивными подбровными дугами эти бѣгающіе
буравчиками-живчиками глаза,—здѣсь придется и „поискать", и поработать
не мало...
Былъ баронъ Роткусъ, вмѣстѣ съ маркизомъ Санъ-Діонисіо, кото-
раго онъ вводилъ въ петроградское общество.
Маркиза художникъ видѣлъ впервые...
Этотъ лысый, вкрадчивый, съ большими усами, человѣкъ подсѣлъ къ
Беркутову въ гостиной, послѣ обѣда.
— Я слышалъ, вы говорили объ Италіи, слышалъ, и жму вамъ руку,
вы такъ красиво поэтизировали мою родину!.. Скажите, развѣ можно быть
не влюбленнымъ въ Италію?.. Я не допускаю?..
Беркутовъ согласился.
Маркизъ продолжалъ:
— ібо —
— У меня есть къ вамъ маленькое дѣло... небольшой заказъ; когда
можно заѣхать къ вамъ, въ студію?
•— Портретъ?..
— Не совсѣмъ... Желательно нѣсколько эскизовъ военнаго обмунди-
рованія... Если позволите, я привезу съ собою матеріалы...
Отчего вамъ пе обратиться къ баталисту?..
У васъ большое имя. Повѣрьте, мосье Беркутовъ, мы пе посто-
имъ за гонораромъ... Съ вашимъ вкусомъ—это будетъ шедевръ!..
Что-же это за форма? полюбопытствовалъ художникъ.
- Пока это секретъ строжайшій!—улыбнулся подъ своими жучыіми
усами „итальянскій патріотъ0.—Секретъ—до поры до времени. Такъ вы
разрѣшите?..
— Пожалуйста...
Высидѣвъ, сколько полагалось приличіемъ, чтобъ не спасаться бѣг-
ствомъ прямо изъ-за стола, художникъ поспѣшилъ домой.
И вотъ, вспомнивъ въ затаившихся мистическихъ потемкахъ своей
мастерской и этотъ обѣдъ, и этихъ шаблонныхъ людей, онъ исходя изъ
своей теоріи „впечатлѣнія пятенъ'4, рѣшилъ, что самымъ интереснымъ и
колоритнымъ пятномъ среди всѣхъ этихъ людей, шаблонныхъ, какъ за-
водныя маріонетки, былъ человѣкъ въ шелковой малиновой рубахѣ и
высокихъ сапогахъ, „тыкавшій" всѣхъ и- -неожиданно сплясавшій трепака,
чѣмъ привелъ дамъ въ умиленіе и восторгъ...
Очнувшись, да, очнувшись, потому что это было какое-то забытье,
хотя и легкое, но все-же забытье, художникъ глянулъ на часы.
Одиннадцать съ минутами... Еще не такъ поздно...
Что тамъ у Рашичей? Что Бранка?.. II онъ видѣлъ тонкій, съ такой
четкостью прорисованный профиль, склонившійся надъ книгою...
Бранка почти никуда не выѣзжала, кромѣ совмѣстныхъ прогулокъ
съ Гермесомъ и Беркутовымъ. Они ѣздили на острова, подышать чистымъ,
морознымъ, звенящимъ воздухомъ, походить среди наметенныхъ сугро-
бовъ, изъ которыхъ черными стволами поднимались мощныя деревья, съ
голыми вѣтками.
Миланъ въ этихъ прогулкахъ не участвовалъ. Во-первыхъ, въ по-
сольствѣ работы было видимо-невидимо, а во-вторыхъ, много ходить не
позволяли ему больное сердце и нога, раненая болгарской пулею въ
памятную Брегальницкую ночь.
Беркутовъ позвонилъ въ телефонъ къ Рашичамъ. Ему такъ хотѣлось
услышать голосъ Бранки!.. Въ послѣднее время вышло распоряженіе воен-
ныхъ властей разговаривать по телефону только исключительно по-русски.
И Бранкѣ, волей-неволей, приходилось отвѣчать на этомъ языкѣ. Худож-
никъ пользовался каждымъ случаемъ, чтобъ съ помощью „барышни" соеди-
ниться съ квартирой Милана. Ему доставляло безконечное удовольствіе вслу-
шиваться въ забавное перевираніе Бранкою удареній, слова, и фразъ, пере-
вираніе, казавшееся ему очаровательнымъ. Да оно и было очаровательнымъ...
Бранка вся съ головы до ногъ была для него кумиромъ трепетныхъ
и прекрасныхъ восторговъ. Онъ чувствовалъ, сознавалъ глубоко внутри
себя, что если когда-нибудь женится, то женою его будетъ Бранка, только
лишь она, и никто другая.
Никто другая,—легко сказать!.. Вѣдь этотъ-же рыжеогненный, весь
до бровей п рѣсницъ включительно, банкиръ съ лицомъ клоуна, торже-
гбі
ственно заявилъ, что развода Бранкѣ онъ, слуга покорный, не дастъ ни
подъ какимъ видомъ...
И странное дѣло, Беркутовъ, человѣкъ либеральной профессіи съ
его смѣлымъ артистическимъ взглядомъ на жизнь и любовь,—его ни разу
даже и концами крыльевъ своихъ не обвѣяла мысль о романѣ, обыкно-
венномъ романѣ, хотя-бы красивомъ и поэтическомъ, съ Бранкой.
Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ...
Это значило бы оскорбить божество...
Но почему?- спрашивалъ онъ себя, самъ не понимая, и что-то смутное,
неуловимое, побѣждало трезвую логику.
А время бѣжало, еще какъ бѣжало! Уносило, сметало его этимъ
стремительнымъ вихремъ событій.
Уже пахнуло весною, уже длиннѣе и прозрачнѣе стали теплые дни.
Уже уѣхалъ въ Карпаты Зауръ-бей, — онъ-же дворянинъ Обнорскій.
Уѣхалъ и увезъ съ собою Гермеса...
Тяжела была матери эта разлука. Тяжела невыносимо! Душа болѣла
неизвѣстностью, хаосомъ такихъ мучительныхъ сомнѣній, — вернется-ли
къ материнскимъ поцѣлуямъ и ласкамъ этотъ красивый юноша-атлетъ, въ
упругихъ кольцахъ кудрей античнаго полубога г..
Бранка, высушивъ свои слезы, простилась съ Гермесомъ какъ на-
стоящая орлица снѣжныхъ вершинъ Копальника и Шаръ-Планины, этихъ
горъ своей славной героической родины.
— Иди, сынъ мой, дорогой и любимый, единственный!.. Бей швабовъ,
и да сохранитъ тебя Господь... И если тамъ, въ долинѣ Пешта, сойдешься
съ нашими Сербами, обними перваго-же юнака и за себя, и за твою мать,
и братскимъ поцѣлуемъ этимъ передай привѣтъ всему народу Серб-
скому...
И то-жс самое сказалъ племяннику Миланъ. И, снявъ съ груди своей
образокъ святого Саввы, возложилъ его на шею Гермеса.
— Да будетъ онъ тебѣ щитомъ отъ швабскихъ и мадьярскихъ
пуль...
Этотъ образокъ Миланъ впервые надѣлъ на себя больше двухъ лѣтъ
назадъ, въ Грегальницкомъ монастырѣ, когда вмѣстѣ съ дивизіей генерала
Миловановпча занялъ Коссово поле, выгнавъ турокъ, полтысячи лѣтъ
владѣвшихъ этой народной святынею, этой Голгофою Сербовъ.
Дни бѣжали.
Какъ-то утромъ Беркутовъ пробѣгалъ газеты, глазамъ не повѣрилъ,
вчитался, нѣсколько разъ прочелъ. Это была обширная телеграмма изъ
Салоникъ, описывавшая погромъ въ Константинополѣ, учиненный всѣмъ
христіанамъ, всѣмъ, за исключеніемъ, разумѣется нѣмцевъ, фанатической
мусульманской чернью, въ отмѣстку за неудачи и громадныя потери въ
Дарданеллахъ.
Одной изъ жертвъ палъ банкиръ Агаменнонъ Сарифи, убитый сво-
ими-же к а васа м и - а л банцам и.
Кавасы успѣли разграбить часть золотой наличности банка.
Были поджоги. Цѣлые кварталы Перы до тла выгорѣли. Особнякъ,
Сарифи тоже сгорѣлъ.
Бѣдный Агамемнонъ, суетный, тщеславный банкиръ, такъ и не успѣлъ
украсить свою грудь германскимъ орденомъ, къ которому былъ пред-
ставленъ...
— 162 —
19. „Вѣрноподданные".
На улицахъ весенняго Петрограда появилась диковинная фигура. И
не только одна, а еще въ сопровожденіи двухъ, куда болѣе странныхъ,
особенно здѣсь въ этомъ городѣ шаблона и тусклой средины, гдѣ чужой
и пестрый подъ хмурымъ сѣвернымъ небомъ халатъ заѣзжаго бухарца,
или хивинца, производитъ настоящій фуроръ, едва ли не останавливая
уличное движеніе.
И вотъ, днемъ отъ трехъ до пяти, на Морской и на Невскомъ, можно
было видѣть слѣдующую картину:
Въ грубой коричневой сутанѣ съ капюшономъ и въ круглой ша-
почкѣ, скромно потупивъ глаза, движется медленно католическій монахъ,
подпоясанный бѣлымъ шнуромъ.
Сѣдые, жесткіе, подстриженные усы закрываютъ сухія и тонкія губы.
Круглое, уже немолодое лицо—выбрито. Поступь неслышная, мягкая.
Это аббатъ Прима-Доччи.
Духовный глава албанцевъ-католиковъ племени миридитовъ, племени
когда-то входившаго въ составъ древняго королевства Зеты.
Аббатъ никого не видѣлъ, никого не замѣчалъ или, по крайней
мѣрѣ, притворялся такой удивительной святошею.
Иногда онъ гулялъ вмѣстѣ съ маркизомъ Санъ-Діонисіо. Аббатъ
слушалъ, поджимая губы и перебирая крупныя янтарныя четки. Маркизъ
Санъ-Діонисіо говорилъ за двоихъ, говорила» по-итальянски,—единствен-
ный европейскій языкъ, которымъ Прима-Доччи, воспитанникъ римской
духовной академіи—владѣла» въ совершенствѣ.
Говорилъ онъ и по французски, и по-нѣмецки. Но только одинаково
плохо.
А по пятамъ этого аббата въ коричневой сутанѣ, неотступной тѣнью
слѣдовали его тѣлохранители, два громадныхъ албанца въ бѣлыхъ вой-
лочныхъ шапочкахъ, въ живописныхъ „балканскихъ" костюмахъ и съ
неизмѣнными револьверами за мягкимъ, широкимъ поясомъ, разъ десять
обхватывающимъ тонкій, упругій станъ двухъ горцевъ съ хищными, ястре-
биными лицами.
Аббатъ Прима-Доччи вмѣстѣ съ парою тѣлохранителей и былъ той
„вѣрноподданнической" депутаціей, которую имѣлъ въ виду маркизъ Санъ-
Діонисіо.
Оповѣщенный депешою, Санъ-Діонисіо ѣздилъ на вокзалъ встрѣчать
депутацію, совершавшую длинный предлинный путь изъ Дураццо черезъ
Бриндизи, Корфу, Салоники, Сербію и Румынію.
Марлявчевича Санъ-Діонисіо подготовилъ къ встрѣчѣ съ духовнымъ
главою миридитовъ. Маркизъ, вспомнивъ свои гофмаршальскія обязанности,
пра „дураццкомъ" Видѣ, выработалъ церемоніалъ встрѣчи будущаго свѣт-
скаго монарха съ княземъ церкви монсеньоромъ Прима-Доччи.
Маркизъ долго ломалъ свою плѣшивую голову, прежде чѣмъ остано-
вился на слѣдующемъ:
Оба должны одновременно поцѣловать въ руку одинъ другого. Этимъ
подчеркнется символическое сліяніе на одинаковыхъ, равныхъ началахъ
власти свѣтской съ властью духовною.
Недаромъ маркизъ и въ хвостъ, и въ гриву торопилъ портного съ
окончаніемъ форменнаго платья принца Зеты. Беркутовъ отказался на-
— ібз — *
бросать эскизы, ссылаясь на недосугъ п Санъ-Діонисіо, хочешь не хо-
чешь, рѣшилъ ограничиться своимъ собственнымъ вкусомъ.
Блѣдно-кирпично-красный военнаго покроя двухбортный фракъ съ
твердыми золотыми эполетами и золотымъ аксельбантомъ. На кованныхъ,
чешуйчатыхъ эполетахъ—вензеля „И. 1.“:—Иванъ Первый. Въ этомъ что-
то демократическое, подъ стать наполовину пастушьему племени, которому
суждено управляться возродившейся спустя нѣсколько вѣковъ династіей
Марлявчевичей. -
Бѣлыя суконныя панталоны со штрипками съ двойнымъ, золотой
парчи, лампасомъ и лакированныя ботинки со шпорами. Дальше творче-
ская фантазія лысой канальи не простиралась. Мы забыли еще упомянуть
красную треуголку съ громадной золотой пряжкою и бѣлымъ султаномъ.
Получалось опереточное впечатлѣніе. По развѣ вся затѣя маркиза Санъ-
Діонисіо не была опереточной?.. Принцъ Зеты въ полной парадной формѣ
своей могъ смѣло сойти за шталмейстера одного изъ богатыхъ цирковъ.
Вотъ только цирковымъ шталмейстерамъ не полагаются шпаги, а у Мар-
лявчевича была шпага въ новенькихъ лакированныхъ ножнахъ и съ вну-
шительнымъ эфесомъ.
Въ это знаменательное утро принцъ Зеты съ помощью лакея и подъ
неусыпнымъ наблюденіемъ Санъ-Діонисіо впервые, какъ слѣдуетъ, облекся
въ новую форму.
Санъ-Діонисіо подвелъ его къ зеркалу.
— Взгляните, ваше высочество... Форма хоть куда!.. Видъ у васъ
чрезвы ч ай но и м п озан тны й!..
II вправду, бывшій титулярный совѣтникъ Иванъ Марлярчевичъ, те-
перь Иванъ Первый, хоть куда выглядѣлъ! Совсѣмъ преобразился моло-
дой человѣкъ. Опереточный костюмъ шелъ ему, красилъ всю фигуру,
кидая розовый отсвѣтъ на благообразно холеное лицо. Только вотъ съ
непривычки на первыхъ порахъ было неудобно, да вицъ-мундиръ, сшитый
у лучшаго военнаго портного, какъ будто немного жалъ подъ мышкой...
Санъ-Діонисіо прочь выслалъ величественнымъ жестомъ лакея.
Ваше высочество... Мы съ вами прорепетируемъ встрѣчу... Вы
стойте посрединѣ комнаіы. Вотъ такъ... Я—аббатъ Прима-Доччи... Вхожу...
Вообразите, за мною двухъ албанцевъ... Начинаемъ... Дѣлаемъ видъ, что
цѣлуемъ руки другъ друга. Албанцы, преклонивъ колѣно, подносить къ
губамъ фалды вашего мундира... Аббатъ Прима-Доччи на французскомъ
языкѣ, на которомъ онъ говоритъ не важно, обращается къ вамъ съ при-
вѣтственнымъ словомъ. Онъ значительно глаже сказалъ бы по-итальянски,
но по-итальянски вы не понимаете... Въ отвѣтъ вы говорите пару-другую
французскихъ фразъ, что вы счастливы вновь занять престолъ вашихъ
славныхъ предковъ... и оффиціальная часть кончена... Прорепетируемъ еще
разъ и я поспѣшу на вокзалъ, чтобы не опоздать къ прибытію поѣзда...
Маркизъ уѣхалъ. IІринцъ остался наединѣ со своимъ великолѣпнымъ
отраженіемъ въ зеркалѣ.
Онъ, успѣвшій освоиться со своей ролью, теперь опять почувствовалъ
себя смутно п глупо въ этой формѣ Чинизелліева шталмейстера передъ
этой депутаціей, которая съ минуты на минуту явится. Что же это въ
самомъ дѣлѣ такое?.. Умъ за разумъ заходитъ...
И было,—минуту было, потомъ прошло, — желаніе, какъ у гоголев-
скаго Подколеспна, выпрыгнуть въ окно и скрыться. Но въ окно,—физи-
— 164 —
чески невозможно. Сальто-морталэ внизъ головою съ четвертаго этажа.—
благодарю покорно!..
И махнувъ рукой,--будь что будетъ,—принцъ-Подколесинъ остался.
Все равно,—вотъ уже второй мѣсяцъ на исходѣ,- онъ отдалъ себя плыть
по теченію и куда прибьетъ его капризъ невѣдомой волны, — не все ли
равно, въ концѣ-концовъ?.. Хуже не будетъ... Наоборотъ, лучше... Глаза
съ поволокою, прекрасные глаза Маріи Сергѣевны, которые онъ вдругъ
увидѣлъ такъ близко-близко, что самъ зажмурился, —были порукою ему,
что будетъ лучше...
И потому, что время тянулось медленно, оно промелькнуло, какъ
метеоръ.
Широко распахнулась дверь... Маркизъ Санъ-Діонисіо съ плавнымъ
жестомъ пропустилъ аббата съ двумя дикаго, воинственнаго вида албан-
цами, за поясами которыхъ внушительно торчало по громадном}7 револь-
веру.
Благодаря нѣсколькимъ репетиціямъ, все сошло чрезвычайно гладко.
Церемоніалъ,—-безъ сучка, безъ задоринки. Маркизъ Санъ-Діонисіо лиш-
ній разъ убѣдился въ своемъ гофмаршальскомъ талантѣ, увы, лишенномъ
достойнаго себѣ примѣненія...
Съ аббатомъ Прима-Доччи Иванъ Первый кое-какъ еще объяснился,
послѣ взаимнаго, въ одинъ темпъ и ритмъ, поцѣлуя рукъ. Съ „ вѣрнопод-
данными и албанцами дѣло обстояло хотя и нѣсколько хуже, по все же—
честь-честью... Они преклонили колѣно, коснулись губами краснаго вицъ-
му н дира.
Свою вѣрноподданность они выразили мимикой колѣнопреклоненія,
еще проведя ребромъ ладони но собственному горлу.
— Ты, молл», воленъ и въ нашей жизни, и въ нашей смерти...
Мимикой же постарался Марлявчевичъ изобразить свое благоволеніе
новаго монарха... Онъ принесетъ вмѣстѣ съ собой радость, отеческую
любовь и счастье... Маркизъ Санъ-Діонисіо, какъ довольный своей инсце-
нировкою режиссеръ, одобрительно кивалъ голымъ черепомъ, крутя усы.
Оставивъ принца Зеты вдвоемъ съ аббатомъ, Санъ-Діонисіо увелъ
албанцевъ въ отведенную имъ комнату, одну изъ тѣхъ, гдѣ помѣщается
прислуга постояльцевъ, избалованныхъ лакеями и горничными’
Высокіе, сухощавые горцы въ овечьихъ, шерстью наружу, безрукав-
кахъ, и въ бѣлыхъ, расшитыхъ черными шнурами „балканскихъ шарова-
рахъ “, производили сенсацію въ Семирамисъ-отелѣ, затмивъ собою всѣхъ
когда-либо появлявшихся въ этихъ корридорахъ и вестибюляхъ залетныхъ,
съ яркимъ опереніемъ, экзотическихъ птицъ.
Санъ-Діонисіо, распорядившись, чтобъ албанцевъ накормили, самъ
вернулся въ номеръ принца Зеты и въ ожиданіи, пока подадутъ завтракъ,
бесѣда продолжалась вдвоемъ.
Аббатъ Прима-Доччи, лукавый, избѣгающій! смотрѣть на собесѣд-
ника, описывалъ обрушившіеся на его голову злоключенія въ эпоху
Абдулъ-Хамида:
— Онъ считалъ меня политически вреднымъ... Онъ думалъ, что,
пользуясь вліяніемъ среди своей паствы, я агитирую противъ турецкихъ
властей и турецкаго режима... Пятнадцать лѣтъ я провелъ въ изгнаніи...
Я проповѣдывалъ слово Божіе дикарямъ Южной Америки. Я обратилъ
въ христіанство нѣсколько даякскихъ деревень на Цейлонѣ...
— 165 -
Если аббатъ Прима-Доччи и уклонялся отъ истины, то развѣ самую
малость. Онъ и вправду много лѣтъ мыкался по бѣлу-свѣту, Новому и
Старому. Его сандаліи немало грѣшной земли истоптали. Это былъ ти-
пичный балканскій авантюристъ, въ коричневой сутанѣ монаха.
Зачѣмъ онъ пріѣхалъ въ Петроградъ,—объ этомъ знали только двое,
онъ, да маркизъ Санъ-Діонисіо. Знакомство съ будущимъ королемъ Зеты
Иваномъ Первымъ тоже входило въ программу, но какъ элементъ побоч-
ный, второстепенный...
Было бы смѣшно сдѣлать нѣсколько тысячъ верстъ нудными зигза-
гами, да еще въ такое время, для того лишь, чтобъ приложиться къ ручкѣ
эксъ-титулярнаго совѣтника Марлявчевича.
По странной случайности, въ это же самое время, когда троимъ со-
бесѣдникамъ поданъ былъ завтракъ и Санъ-Діонисіо провозгласилъ тостъ
въ честь принца Зеты и аббата, оказавшагося служителемъ не только
Христа, но и Бахуса, въ это же самое время завтракали въ общемъ залѣ
ресторана Холодцова и Тимофеенко... Плотоядно глотая устрицы, Тимо-
феенко запивалъ ихъ шабли.
— Такъ-то, Маруся... Чтобы тамъ ни говорили, а жизнь — вещь
пріятная... Да, ну что, какъ романъ?.. Когда свадьба?.. Смотрите же, не-
премѣнно меня въ шаферы. Вдѣну въ петличку этакую громадную орхи-
дею и, клянусь, не дрогнетъ рука цѣлый битый часъ держать надъ вашей
царственной головою тяжелый вѣнецъ...
— Будетъ вамъ, Женичка, — улыбнулась хорошей улыбкою Марья
Сергѣевна.—Будетъ... Я сама начинаю пугаться...
— Чего?..
— Какъ чего? Вся эта исторія, мой другъ, всплываетъ далеко не
такъ, какъ думалось.
— Ну?—лѣниво насторожился Тимофеенко.
— Получается довольно сложный переплетъ... Планъ былъ таковъ:
изъ-подъ вѣнца—онъ направо, а я налѣво.
— А вамъ, что-же... захотѣлось вмѣстѣ съ нимъ направо, по одной
дорожкѣ?.. Съ купленнымъ мужемъ?..
— Въ томъ-то и дѣло, что не съ купленнымъ... Вообще, здѣсь что-то
непонятное совершается. Вы понимаете, Женичка... Я видѣла его два
раза. Это милый, милый мальчикъ...
— Сколько-же ему, шестнадцать лѣтъ?..
— Опять балаганъ!.. За тридцать!.. Но душа у него—ребячья... И
это мнѣ страсть, какъ нравится въ немъ... Понимаете, Женичка... Я мало
видѣла вокругъ себя чистыхъ душою мужчинъ... Совсѣмъ не видѣла...
А онъ, этотъ нелѣпый принцъ, потому что, согласитесь, все это, въ
концѣ-концовъ, нелѣпо,—онъ чистый! И располагаетъ къ себѣ... Словомъ,
я не встрѣчала такихъ... Встрѣчала блестящихъ, порочныхъ, развратни-
ковъ, циниковъ... А такого—впервые...
Тимофеенко отодвинулъ свой стаканъ.
— Хорошая моя, вы это серьезно?..
— Совершенно серьезно.
— Поздравляю, Марія Сергѣевна!.. Достукались!.. Вы влюблены!..
— Нѣтъ, Женичка, не влюблена. Не то слово, — просто молвила
Марія Сергѣевна.—Не влюблена. А жаль мнѣ его... и тянетъ къ нему.
По хорошему такъ, сердцемъ тянетъ...
ібб
— И вотъ, за это хорошее ваше чувство я пью съ большой, большой
радостью вашего искренняго друга... Берите жизнь, вгрызайтесь въ нее
зубами, какъ это дѣлалъ и дѣлаетъ вашъ покорный слуга... Гоните въ
шею эту нѣмецкую орясину, чтобъ духомъ его не пахло!.. Берите вашего
„очаровательнаго принца", очаровательнаго своей дѣтскостью и простотою...
Берите не въ качествѣ подкупного мужа, а настоящаго!..
Она посмотрѣла на него во всѣ глаза вдумчиво, даже строго.
— Это вы... на самомъ дѣлѣ?..
— Безъ всякихъ шутокъ, Маруся!..
Она молча опустила томныя влажныя, съ длинными рѣсницами вѣки,
смущенно рисуя по скатерти указательнымъ пальцемъ какіе-то іероглифы.
— Быть можетъ, іероглифы своей судьбы?.. Ей самой невѣдомые?..
20. На мѣстѣ преступленія.
Холостая квартира полковника Шепетовскаго изъ трехъ, скорѣй
маленькихъ, чѣмъ большихъ комнатъ, обыкновенно такая нарядная гар-
соньерка, являла теперь собою какой-то бивуачный хаосъ.
Еще-бы не хаосъ!
Человѣка» все время тамъ, въ арміи, а здѣсь очутился случайнымъ
налетомъ, благо,—хотя это совсѣмъ не благо,—захворалъ.
Повсюду и вездѣ, куда ни глянешь, разбросаны привезенные Шепе-
товскимъ трофеи.
Каски, пѣхотныя кожаныя и кирасирскія, мѣдныя палаши, кивера
австрійскихъ уланъ. На диванѣ въ гостиной разлеглось вдругъ новенькое
венгерское сѣдло. И тутъ-же прислонился къ стѣнѣ миніатюрный кава-
лерійскій „манлихеръ". На громадномъ письменномъ, вѣрнѣе, чертежномъ
столѣ кабинета, среди линеекъ, готоваленъ и тарелочекъ съ акварель-
ными красками, очутилось пышное „оголовье", снятое полковникомъ съ
лошади, которую онъ убилъ подъ германскимъ кавалеристомъ.
Тамъ и сямъ—обоймы съ патронами германскихъ и австрійскихъ
винтовокъ. Были и съ разрывными пулями.
Осколокъ шрапнельнаго стакана замѣнялъ пепельницу, и на днѣ—
сигарные окурки.
Деньщикъ Шепетовскаго, бойкій, на всѣ руки парень, Митрохинъ,
обдергивая на ходу защитный китель съ барскаго плеча, отправился на
кухню готовить чай. Элла, пока еще въ ротондѣ и въ мохнатомъ розо-
вомъ капорѣ, напоминавшая вся какой-то пряный, дурманящій, восточный
цвѣтокъ, заинтерисовалась трофеями.
Съ какимъ-то жуткимъ любопытствомъ трогала она пальцами эти
грязные, тяжелые предметы, говорящіе о чемъ-то жестокомъ, о страшныхъ
переживаніяхъ далекихъ отсюда полей смерти.
II загадочно было это, мѣстами кровавой ржавчиною покрытое же-
лѣзо, хранившее какія-то свои собственныя тайны...
И главное, здѣсь, среди красивыхъ женщинъ, улыбавшихся изъ ра-
мокъ, смотрѣвшихъ со стѣнъ, средь этой мягкой, будуарнаго типа мебели
гостиной...
Нетерпѣливо, дрожащими отъ волненія руками, освободилъ Шепе-
товскій свою желанную гостью отъ ротонды, отъ капора, и она осталась
— 167 —
въ темномъ, гладкомъ домашнемъ платьѣ. Исчезло, пропало сходство съ
прянымъ цвѣткомъ. Но красота Эллы нисколько не потеряла. Наоборотъ,
еще рельефнѣе и ярче выступила.
— Погодите... Успѣете... Ахъ, какой онъ... Потомъ...—увертывалась
Элла отъ сыпавшихся на нее ласкъ.
Ей такъ все это вновѣ! Она видѣла мирное оружіе, съ такой акку-
ратной симметріей красующееся въ окнахъ магазиновъ. А это... это со-
всѣмъ другое.
— Почему у нихъ такія головки? — спрашивала она, вертя передъ
глазами обойму.
— Это разрывныя пули. Австрійцы сплошь да рядомъ стрѣляютъ по
нашимъ войскамъ разрывными пулями.
— А этого нельзя дѣлать?—наивно спросила танцовщица.
— Конечно, вѣдь это-жс варварство!..
Но перепархивающая съ предмета на предметъ Элла забыла уже о
разрывныхъ пуляхъ. Ея вниманіе привлекъ рабочій столъ.
При видѣ громадныхъ картоновъ съ чертежами, она не могла пога-
сить своихъ большихъ темныхъ глазъ какого-то страннаго блеска. Потъ
Шепетовскаго не укрылся этотъ блескъ. Такъ смотрятъ на предметы хо-
рошо, очень хорошо знакомые.
Элла поспѣшила спросить, сдѣлавъ невинное лицо:
— Это зачѣмъ... такъ много твердой бумаги?.. Вы рисуете?..
— Да, рисую...
— Ахъ, милый полковникъ,—спохватилась Элла,—можно у васъ по-
мыть руки?.. 51 такъ спѣшила...
Пожалуйста, я вамъ покажу.
Въ уборной, гдѣ все сверкало и бѣлѣло чистотою и гдѣ на плетеное
кресло возлѣ ванны брошена была мохнатая простыня, Шепетовскій ука-
залъ ей полотенце, мыло, большой граненый флаконъ съ туалетной водою,
и вышелъ.
Вышелъ съ какимъ-то смутнымъ, едва ощутимымъ подозрѣніемъ.
Онъ не могъ забыть „краснорѣчивый“ взглядъ, брошенный Эллою на
чертежи... II потомъ, что за странная вдругъ перемѣна?.. То слышать не
хотѣла ничего, а на завтра сама напросилась къ нему?.. Внезапный ка-
призъ, прихоть, — это на нее непохоже... Слишкомъ разсудочна... П
предположеніе, что онъ могъ-бы осыпать ее золотымъ дождемъ, — само
собою отпадаетъ. Онъ человѣкъ небогатый. Искушенная, опытная тан-
цовщица могла убѣдиться въ этомъ.
Другой на мѣстѣ Шепетовскаго прошелъ-бы мимо этихъ подо-
зрѣній.
Вѣрнѣе сказать, они-бы не коснулись его. Но полковникъ генераль-
наго штаба самъ прошелъ довольно основательную школу. Нѣсколько
лѣтъ назадъ онъ, подъ видомъ „друцяжа", торговца мышеловками и всякой
проволочной дрянью успѣлъ основательно познакомиться съ фортами Пе-
ремышля и Кракова.
А наканунѣ войны, передъ самымъ ея объявленіемъ, командированный
въ пограничныя польскія губерніи, Шепетовскій удачно распуталъ клубокъ
германскаго шпіонажа, клубокъ, въ которомъ сплелись въ одну предатель-
скую неразбериху и нѣмецкіе помѣщики, и колонисты, и даже кой-кто
изъ нашей администраціи.
168
Ему приходилось допрашивать элегантныхъ женщинъ, оказавшихся
профессіональными шпіонками. Онъ арестовалъ шансонетную пѣвичку,
помпадуршу мѣстнаго губернатора, барона Кнехта, Эмму Феіімаиъ, у ко
торой найдена была болѣе, чѣмъ подозрительная переписка.
Вотъ почему онъ и теперь слегка насторожился... Вотъ почему,
увидѣвъ забытый Эллою въ гостиной на столикѣ черный шелковый ре-
дпкюль, онъ поспѣшно взглянулъ въ него, чутко прислушиваясь въ то-же
время къ шуму воды въ уборной.
Ага... Вотъ, вотъ калька... пузырекъ съ чѣмъ-то... карандаши...
Шепетовскій едва успѣлъ закрыть реднкюль, едва успѣлъ отпрянуть
въ сосѣдній, рядомъ кабинетъ... 11 когда Элла вошла, торопливо-безпо-
койная, тревожно ища глазами реднкюль, Шепетовскій был ь весь погру-
женъ въ свои чертежи. Выдвинувъ ящикъ стола, онъ извлекъ еще новые
бумаги п картоны, раскладывая ихъ на столѣ какъ приманку.
А вода съ бурлящимъ шумомъ лилась изъ крана. Испуганная отсут-
ствіемъ рсдикюля, танцовщица забыла закрыть. Скорѣй заспѣшила...
Но убѣдившись, что реднкюль на мѣстѣ, а Шепетовскій занять дѣ-
ломъ, успокоилась.. Отлегло...
Теперь уже цѣпко держа черный, бисеромъ расшитый плоскій мѣ-
шечекъ, она приблизилась къ Шепетовскому и легла ему па плечо под-
бородкомъ, съ искусственною ласкою.
— Бѣдный, много работы... Ученые офицеры всегда много заняты...
— Почему вы думаете, что я ученый офицера»?
— А это?... — улыбаясь молвила она, теребя кончики серебряныхъ
аксельбантовъ.
— Другъ мой, вы, оказывается, сильны не въ одной только хорс-
графіи,—замѣтилъ Шепетовскій.
— Я много видѣла, много встрѣчала людей...
Какая-то холодная непріязнь къ этой женщинѣ, минуту назадъ бѣ-
шено, до потери сознанія, волновавшей его, густо накапливалась у I ІІе-
пстовскаго. Но,—Боже сохрани выдать себя рѣзкой отчужденностью!..
Надо играть, какъ играетъ опа... II кто кого, и за кѣмъ останется
побѣда?..
11 Іумъ падающей воды—умолкъ. Вѣроятно Митрохинъ привернулъ кранъ.
Было тихо. Выпрямившійся офицеръ, сдѣлавъ своей фигурою барьеръ
между столомъ и Эллой, обнялъ се и словно медленнымъ-медленнымъ
„па“ какого-то танца отходилъ вмѣстѣ съ нею.
Элла прижималась къ нему коварной, упругой хищницей, черной
пантерой, которая, прежде чѣмъ укусить, нашалится, натѣшится вволю со
своей жертвою.
11 она старалась обжечь его и теплымъ тѣломъ своимъ и дыханіемъ...
И шептала въ самое ухо щекочущимъ, горячими шепотомъ:
— Ты меня любишь?.. Я сегодня твоя, вся твоя... заласкаю, замучаю...
Я буду твоей вакханкой, твоей баядеркой. И потомъ, вся нагая, спляшу
тебѣ такой танецъ живота, что всѣ плясуньи, арабки и суданески, отъ
зависти стали-бы сѣрыми... Хочешь?..
— Хочу-ли я?..
И странно боролось въ немъ двойственное ощущеніе.
Разсудокъ, обвѣянный холодомъ, подсказывалъ быть на чеку, слѣдить
за этой змѣей, въ медовомъ поцѣлуѣ которой -укусъ ядовитаго жала.
— 169 —
А зовы бунтующей плоти, одурманенной пряной близостью острыхъ
прикосновеній, манили къ этому изгибавшемуся тѣлу вакханки, играющей
свою роль, или-же, и вправду, захваченной его близостью, красиваго муж-
чины-спортсмэна... Не все-ли равно...
Сквозь горячій туманъ Шепетовскій замѣтилъ, что редикюль куда-то
исчезъ вдругъ... Но куда именно положила, вѣрнѣе спрятала его Элла,
это,—отдать ей справедливость,—продѣлано было съ ловкостью фокусника.
Оба отпрянули другъ отъ друга. Мѣрные солдатскіе шаги Митрохина.
— Чай готовъ ужъ, ваше высокоблагородіе...
Чай сервированъ былъ съ закуской, холодными рябчиками. Въ шаро-
образномъ графинчикѣ жидкимъ золотомъ поблескивалъ коньякъ.
Но ни та, ни другая сторона ни къ чему не прикоснулась. Какой-то
жуткій азартъ былъ въ этой взаимной настороженности... А пальцы и
взгляды переплетались и оба тѣла изнывали мелкой непрерывной дрожью.
Элла украдкою глянула на часы—изящный золотой обручикъ лѣваго
запястья.
— Какъ поздно... Хотя—куда намъ спѣшить?.. Ночь наша... И никто
се не отыметъ у насъ... Правда, милый?..
Она сама увлекла его въ спальню.
Онъ смотрѣлъ, какъ она раздѣвалась и нетерпѣливо разбрасывались
вокругъ части одежды. Н вскорѣ Шепетовскій убѣдился, что арабки и
суданески могли-бы позавидовать не только „пляскѣ живота" Эллы, но и
кое-чему другому...
Она затмила этихъ жрицъ восточной любви, не знающихъ удержу
въ своемъ наивномъ безстыдствѣ.
И не успѣли отгорѣть первыя буйныя ласки, она уже вновь стала
его мучить...
А онъ, притворяясь изнеможеннымъ, въ конецъ сгорѣвшимъ, лежалъ
ничкомъ и, плотно спрятавъ лицо свое въ мякоть подушки, уснулъ. Такъ,
по крайней мѣрѣ, казалось ей...
Она звала его сладострастными именами, тормошила... Никакого
отвѣта... Никакого движенія...
Приподнявшись на локтѣ, затаивъ дыханіе, Элла ждала. Медленно
уходили нѣмыя, долгія минуты.
Элла съ полураскрытыми губами, остановившимся взглядомъ и рас-
пустившейся копною черныхъ, густыхъ волосъ, напоминала „Саломею"
кисти Реньо. Саломею послѣ знаменитой пляски, но передъ тѣмъ, какъ
ей принесли на блюдѣ голову Іоакима.
Еще двѣ-три попытки разбудить Шепетовскаго, вѣрнѣе убѣдиться въ
томъ, что онъ спитъ.
Да, онъ спитъ... Крѣпко спитъ, измученный, заласканный... Ровное,
какъ часовой механизмъ, дыханіе...
Копчики пальцевъ ноги, высунувшись изъ-подъ простыни, коснулись
ковра.
Элла постояла надъ спящимъ. Крѣпкая грудь вздымалась подъ тон-
кимъ батистомъ. Въ кружевахъ, четырехугольными капельками крови,
то появлялась, то исчезала красная ленточка.
Похолодѣли стынущія ноги... Отъ сдерживаемаго волненія стынущія...
И съ опасливой оглядкою отходила Элла къ дверямъ.
Не человѣкъ, а трупъ,—до того уснулъ крѣпко.
170
А въ кабинетѣ, словно все готово было для нея. Электрическая
лампочка ярко освѣшала столъ, весь утопавшій подъ разграфленными и
расчерченными листами „ватманской" бумаги.
Танцовщица сѣла на стулъ, поджимая зябнущія ноги. На колѣняхъ
очутился редикюль и плоскимъ ртомъ, двумя беззубыми челюстями рас-
крылось отверстіе и оттуда выползъ пакетикъ съ калькою, выползли ка-
рандаши...
Элла, не теряя ни минуты, принялась за работу. Августъ фонъ-Раухъ
успѣлъ познакомить ее во всѣхъ подробностяхъ съ планомъ старой крѣ-
пости Вышгорода. И теперь она ясно видѣла, что ей нужно. Видѣла новые,
искусно замаскированные форты, новыя скрытыя батареи.
Топографическіе уроки блестящаго капитана Курта пошли какъ
нельзя болѣе впрокъ.
Вотъ здѣсь, здѣсь и еще здѣсь наложить кальку... И острый каран-
дашъ сослужитъ свою вѣрную службу.
Элла ушла вся въ работу, скорѣй торопясь окончить. Такъ ушла,
что нуженъ былъ сильный толчекъ по нервамъ, заставившій ее обер-
нуться...
И она съежилась и карандашъ выскользнулъ изъ ходуномъ заходив-
шихъ пальцевъ.
Передъ нею стоялъ Шепетовскій...
КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.
171
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
1. Опять Куртъ-фонъ-Раухъ.
' — Да здравствуетъ Россія!..
-- Да здравствуетъ славная русская армія, плечомъ къ плечу съ
которой наши доблестные солдаты брали Плевну...
— Да здравствуетъ!..
Словомъ, это была шумная манифестація въ честь Россіи. По крайней
мѣрѣ, двѣсти южныхъ „темпераментныхъ" глотокъ надрывались въ своемъ
усердіи до потери голоса, до хрипоты.
Румыны, и безъ того горячій народъ, манифестируя, забываютъ все
; и вся па свѣтѣ.
і! Потныя, разгоряченныя лица, съѣхавшія на затылокъ шляпы; свер-
кающіе влажнымъ блескомъ темные, какъ ночь, кровью налитые глаза.
Манифестанты собрались у кафе „Кариаццп". Даже не собрались,
нѣтъ. Кто-то началъ говорить, что пора, наконецъ, и Румыніи освободить
своихъ братьевъ, стонущихъ подъ мадьярской пятою.
Теперь, пли никогда. Пробилъ знаменательный часъ. Русская армія
переваливаетъ черезъ Карпаты, сидитъ въ древнемъ Перемышлѣ и въ
не менѣе древнемъ Львовѣ. И если десять румынскихъ корпусовъ хлы-
нутъ въ Трансильванію, чтобъ соединиться съ русской арміей...
Оратора подхватили. Вокругъ него образовалась сначала кучка, по-
томъ выросла цѣлая человѣческая гуща, наэлектризованная патріотиче-
скимъ кличемъ, въ этотъ яркій солнечный день, обвѣвающій листву вы-
сокихъ и мощныхъ платановъ бульвара.
Энтузіазмъ росъ и лавиной ширился, захватывая самыхъ равнодуш-
ныхъ, если только горячая румынская кровь и равнодушіе совмѣстимы
хоть на мгновеніе.
И слышалось оглушительное:
— Въ Карпаты!.. Въ Карпаты!..
— Да здравствуетъ Россія!.
Чей-то голосъ не въ добрый часъ обмолвился:
- 172 —
— Да здравствуетъ 1 ерманія!..
Бѣлобрысый господинъ въ котелкѣ, виновникъ этого одиноко-сирот-
ливаго возгласа, черезъ минуту явился живой иллюстраціей непопуляр-
ности нѣмцевъ и всего нѣмецкаго въ румынской толпѣ.
Иллюстраціей довольно жалкой. Чей-то кулакъ опу стился на твердую,
новенькую шляпу. Чей-то другой кулакъ далъ нѣмцу по шеѣ и чье-то
колѣно, какъ тараномъ, хватило германскаго манифестанта значительно
пониже. И выброшенный изъ толпы, въ помятомъ, истерзанномъ видѣ,
онъ очутился посрединѣ бульвара. Вагона, трамвая чуть не переѣхалъ его.
А вслѣдъ ему неслось:
— Нѣмецкій шпіонъ!..
— Долой провокатора!..
Студентъ, забравшись на фонарный столбъ, кричалъ оттуда:
— Товарищи!.. Идемъ бить окна редакцій, закупленныхъ нѣмцами.
Покажемъ этимъ продажнымъ рептиліямъ!..
Манифестація разбилась на два отряда. Одинъ, поменьше, двинулся
громить редакціи нѣмецствующихъ газетъ, другой, побольше, направился
къ русской миссіи.
А навстрѣчу катилась легкая, нарядная, шумная жизнь „балканскаго
Парижа". Сидѣли, развалясь въ коляскахъ, нѣмецкія кокотки, одѣтыя съ
дорогой и кричащей безвкусицей. Группами двигались, поддерживая сабли,
щеголеватые румынскіе офицеры въ голубыхъ мундирахъ, затянутые въ
корсетъ, напудренные.
Мелькали алыя турецкія фески, живописные оперные костюмы гре-
ковъ изъ Эпира. Шафранные левантинцы сталкивались на узкой панели
съ небритыми, скуластыми болгарами. Словомъ, настоящее смѣшеніе язы-
ковъ, возможное въ эти дни міровой войны лишь въ „нейтральной", ни
съ кѣмъ не воюющей столицѣ.
А вотъ и красивый германскій офицеръ, блондинъ, съ правильнымъ,
черезчуръ правильнымъ лицомъ и холодными глазами. Синій сюртукъ съ
плоскими пуговицами словно родился вмѣстѣ съ нимъ, такъ ловко, безъ
единой морщинки охватываетъ фигуру.
Это нашъ старый знакомый капитанъ Куртъ-фонъ-Раухъ, откоманди-
рованный изъ Константинополя въ Бухарестъ, безъ опредѣленной миссіи,
въ распоряженіе посольства. Вѣрнѣе, Куртъ-фонъ-Раухъ, несмотря на свой
скромный капитанскій чинъ, какъ хотѣлъ, распоряжался въ посольствѣ, чутко
слѣдя за „политической погодою" и направляя ее по своем)’ усмотрѣнію.
Рядомъ съ нимъ—свѣжая, хорошенькая блондинка, просто и со вку-
сомъ одѣтая, въ скромной соломенной шляпѣ. Это австрійская полька
Теофиля Быковская, въ недавнемъ прошломъ своемъ бонна дѣтей графа
Тарковскаго, посланника Габсбургской монархіи въ Софіи. А теперь,
теперь Ядвига Быковская, любовница капитана Рауха, въ которой онъ,
по своему обыкновенію, соединяетъ пріятное съ полезнымъ. Любовь—
любовью, шпіонажъ шпіонажемъ. Этакія розовыя, свѣжія мордочки весьма
и весьма нравятся немолодымъ, пресытившимся дипломатамъ...
Съ первой-же встрѣчи Теофиля Быковская сдѣлалась послушнымъ
орудіемъ въ опытныхъ рукахъ своего кумира и властелина, покорившаго
и слѣпо подчинившаго ее своему деспотическому вліянію.
Манифестанты запрудили всю улицу отъ края до края. Остановилось
движеніе. Встрѣчное, по крайней мѣрѣ. А попутное — двигалось медлен-
на
нымъ шагомъ. Извощики,—скопцы въ бархатныхъ кафтанахъ и картузахъ
съ дряблыми, желтыми безволосыми лицами, сдерживали горячившихся
лошадей.
Куртъ фонъ-Раухъ былъ вдвойнѣ обозленъ. Во-первыхъ, эта дурацкая
манифестація замедляетъ ему путь. Толкотня кругомъ адская! А, во-вто-
рыхъ, и это самое главное,—манифестація дружественной Россіи и вра-
ждебной Германіи,—чего капитанъ не допускалъ ни подъ какимъ видомъ.
И онъ мысленно выругалъ этихъ „парижанъ Балканскаго полу-
острова" римскими каторжниками. Въ самомъ дѣлѣ, носятся съ ними, какъ
съ писаной торбой, ублажаютъ и деньгами, и чѣмъ угодно, а они такъ
и норовятъ ощетиниться противъ своихъ благодѣтелей...
Спутницу Рауха толкали со всѣхъ сторонъ. Все сильнѣе и гуще
встрѣчная толпа.
— Я не могу... Тѣсно и душно мнѣ...—жаловалась Теофиля.
Капитанъ крѣпко взялъ ее подъ локоть.
Возьми себя въ руки... Никакихъ головокруженій, слышишь!.. По
близости нѣтъ аптеки, да и я не сестра милосердія... Повернемъ назадъ.
Кстати, любопытно, чѣмъ все это кончится у этихъ болвановъ?.. Ихъ дѣло
пиликать на скрипкахъ въ шантанахъ, а не заниматься политикой...
Манифестація хлынула во дворъ, въ глубинѣ котораго покоемъ стоялъ
большой двухъэтажный особнякъ,—мощный корпусъ, съ двумя „крыльями".
Особнякъ русскаго посольства.
Манифестанты запрудили дворъ. Неистовые крики въ честь и во
славу Россіи сопровождались бросаніемъ высоко вверхъ шляпъ и фуражекъ.
— Въ Карпаты!..
— Въ Карпаты, вмѣстѣ съ вами, русскіе!..
Особнякъ молчалъ. Ни отвѣта, ни привѣта. Никто не выходилъ къ
манифестантамъ. И уже понемногу охлаждался энтузіазмъ южной толпы,
требующей поощренія, какъ огонь растопки.
Чье-то лицо, скорѣй испуганное, чѣмъ радостное, прильнуло къ одному
изъ оконъ верхняго этажа и скрылось.
Двое русскихъ, занесенныхъ по доброй волѣ манифсстующимъ пото-
комъ во дворъ миссіи, готовы были сгорѣть отъ стыда.
— Вѣрите!.. Лучше-бъ мнѣ пощечину дали!..
— Да... По крайней мѣрѣ вы одинъ росписались-бы въ полученіи...
А тутъ...
— Смотрите, толпа уже начинаетъ недоумѣвать. Еще минута и недо-
умѣніе смѣнится чѣмъ-нибудь похуже... Какъ-никакъ оскорбленіе.
— Погодите... Я попытаюсь...
И одинъ изъ русскихъ постарше, съ внѣшностью помѣщика-интел-
лигента, бросился въ подъѣздъ.
— Вамъ что угодно?—сталъ на его пути человѣкъ въ обшитой позу-
ментомъ фуражкѣ.
— Послушай!.. Неужели никого нѣтъ въ миссіи?.. Необходимо, чтобъ
кто нибудь вышелъ...
— А вы не очень-то здѣсь распоряжайтесь... А то я сейчасъ „ажана"
позову...
— Плевать мнѣ и на тебя, и на твоего ажана... А все-таки пошелъ
и сказалъ-бы, кому слѣдуетъ, что такъ неудобно... И если некому выйти,
выйди хоть ты, перемѣнивъ свою фуражку на котелокъ...
174
Подѣйствовало...
Минутъ черезъ пять на балконѣ появился корректнаго вида молодой
человѣкъ. Онъ тихо произнесъ нѣсколько французскихъ словъ и вдругъ,
къ всеобщему удивленію, перекрестилъ густившуюся внизу толпу.
Это вышло—послѣ ужина—горчица. Красивый, дышащій сильнымъ
подъемомъ энтузіазмъ смѣнился юмористическимъ настроеніемъ. Впечатли-
тельная румынская толпа рѣзко отходчива и перемѣнчива.
Манифестація была „сорвана"...
Это обстоятельство капитанъ Куртъ фонъ-Раухъ, съ улицы, изъ-за
чугунной рѣшетки, наблюдавшій сцену передъ особнякомъ, учелъ и от-
мѣтилъ съ особеннымъ удовольствіемъ.
— Больше ихъ сюда не заманишь! Пѣтъ! Получили по носу... И на
здоровье... Наблюдай и учись, моя милая Теофилія. Сплошь - да-рядомъ
наши враги, сами того не подозрѣвая, становятся лучшими нашими союз-
никами... Маленькая небрежность, безтактность или, выражаясь дипломати-
ческимъ языкомъ, „гаффа", влечетъ за собою иногда серьезныя послѣд-
ствія... Однако, поспѣшимъ... Тебѣ осталось всего лишь нѣсколько часовъ
до отъѣзда. Билетъ уже купленъ. Ты имѣешь отдѣльное купэ въ спаль-
номъ вагонѣ до Яссъ...
Въ связи съ цѣлымъ ураганомъ очень важныхъ, быстро-быстро на-
двигающихся военныхъ операцій. Курту необходимо было снестись воз-
можно скорѣе и самымъ секретнымъ образомъ, какъ съ Мясниковымъ,
такъ и съ братомъ своимъ Августомъ. Почтѣ довѣриться—немыслимо.
Каждое письмо, каждый пакетъ подвергаются въ Россіи тщательному
„ознакомленію14. Прибѣгнуть къ шифру—безполезно. Такое письмо ни-
когда не дойдетъ по назначенію.
И вотъ капитанъ Раухъ надумалъ командировать въ Петроградъ
Теофилю Быховскую, „загримировавъ ее русской полькой, бѣжавшей изъ
австрійскаго плѣна.
— А какъ-же съ документомъ?.. Вѣдь у меня австрійскій паспортъ... -
недоумѣвала хорошенькая полька, еще пока что,—невинный младенецъ въ
шпіонскихъ ухищреніяхъ и уловкахъ...
— У тебя будетъ русскій паспортъ!..
— Какимъ-же образомъ?
— А вотъ какимъ: Я дамъ телеграмму въ Яссы и на вокзалѣ тебя
встрѣтитъ нѣкій Блюменталь, коммиссіонеръ и агентъ германскаго кон-
сульства... Этотъ Блюменталь и снабдитъ тебя русскимъ паспортомъ...
Какъ,—это уже его дѣло...
Съ манифестаціи Куртъ увезъ Быковскую къ себѣ въ „Континен-
таль". Здѣсь, въ этомъ комфортабельномъ номерѣ съ плюшемъ, бронзою,
бархатомъ и коврами, капитанъ соединялъ „пріятное съ полезнымъ", вос-
питывая въ дѣвушкѣ любовницу и шпіонку.
Онъ добылъ изъ кожаннаго сундука нѣсколько паръ дамскихъ бо-
тинокъ.
— Примѣрь, Теофиля... Которыя изъ нихъ придутся тебѣ по ногѣ?..
— Зачѣмъ?..
— Не спрашивай, дѣлай, что говорятъ...
Быковская, покорно снявъ туфельку съ маленькой, съ крутымъ
подъемомъ ножки, являлась примѣрной.
— Эти будутъ мнѣ какъ разъ впору.
175
— Отлично... Теперь сними!..
Теофиля съ изумленіемъ наблюдала, какъ Раухъ отвинчивалъ каб-
луки у щегольскихъ новенькихъ ботинокъ. Каждый каблукъ- новый, вну-
три и тамъ можно кое-что спрятать...
— Видишь?.. Я привинчиваю вновь и—никакого слѣда!.. Въ случаѣ
самаго тщательнаго обыска, ты гарантирована вполнѣ. Лучшимъ русскимъ
Шерлокамъ-Холмсамъ не придетъ въ голову заняться изслѣдованіемъ
твоихъ каблуковъ. А между тѣмъ, въ каждомъ изъ этихъ высокихъ каб-
луковъ, будетъ по громадному дипломатическому и военному секрету.
ІІомнп это!.. Береги ботинки... II въ гостинницѣ не выставляй ихъ за
двери для чистки!.. Ни подъ какимъ видомъ!..
Вечеромъ Куртъ фонъ-Раухъ отвезъ Быковскую на законченный
весь Бухарестскій вокзалъ, усадилъ се въ купэ международнаго спальнаго
вагона, и роковая, свѣженькая Теофиля помчалась въ 5Іссы, гдѣ ее встрѣ-
титъ Блюменталь, этотъ магъ и волшебникъ по паспортной части...
2. Гермесъ на войнѣ.
„Моя дорогая, моя прекрасная мама!..
Пишу тебѣ въ лѣсу... I устой, буковый лѣсъ на берегу Днѣстра.
День жаркій, а здѣсь, на травѣ, вз, тѣни, такъ прохладно... Тишина и
покой. Изрѣдка пронесется вверху, надъ головою, артиллерійскій снарядъ,
и опять снова тихо...
Отвратительный, металлическій визгъ... Съ трудомъ привыкаешь.
Словно какой-то чудовищный змѣй, шипя и гудя, проносится надъ лѣсомъ,
невидимый, неуязвимый...
Что тебѣ сказать о нашемъ житьѣ-бытьѣ?.. Теперь мы прямо въ
райскихъ условіяхъ. Стоимъ бъ деревняхъ вдоль берега Днѣстра, ютимся
въ хатахъ, чистенькихъ хатахъ русиновъ. Цѣлый день на воздухѣ, да н
ночью, когда наша сотня на сторожевкѣ. Никакой курортъ, никакая дача
не могутъ сравниться съ этимъ очарованіемъ... Сколько непередаваемаго
величія въ этой простотѣ!..
Дивные лѣтніе дни, чарующая природа Галиціи. Какіе мощные лѣса,
пересѣченные дорогами!.. Въ долинахъ, стиснутыхъ крутыми зелеными
холмами, звенятъ ручьи... И, смотришь, гдѣ-нибудь по скату горы, птичь-
имъ гнѣздомъ прилѣпился наблюдательный пунктъ и тамъ, внутри этой
крохотной землянки гудитъ телефонъ. Стройнымъ силуэтомъ вырисовы-
вается фигура въ черкескѣ и папахѣ, жадно всматривающаяся въ бинокль.
Фигура на сторожевомъ посту...
Вообще, къ этой горной мѣстности такъ „идутъ" наши кавказцы. II
когда видишь пробирающихся на днѣ оврага всадниковъ, съ тонкими та-
ліями, съ цвѣтными башлыками, развѣвающимися по вѣтру, мнѣ стано-
вится жаль, что нѣтъ со мною нашего друга, Беркутова... Онъ могъ бы
написать великолѣпный жанръ... Какъ былъ бы кстати здѣсь талантливый
баталистъ. Матеріалу—не оберешься на каждомъ шагу!..
Въ послѣднемъ письмѣ ты спрашиваешь, какъ я себя чувствую и
физически, и духовно?..
Отвѣть у меня одинъ, мама. Отвѣтъ совершенно искренній. Не только
потому, чтобы тебя успокоить.
Прекрасно, прекрасно, прекрасно!..
Къ концу дня, долгаго, непрерывнаго дня на воздухѣ, овладѣетъ
такая опьяняющая усталость, — засыпаешь, какъ убитый!.. Эта боевая
жизнь — по мнѣ. Я думаю, что я рожденъ быть солдатомъ. Въ самомъ
дѣлѣ, съ твоей стороны во мнѣ течетъ кровь сербскихъ гайдуковъ... Со
стороны же отца... Бѣдный папа, какъ онъ былъ увѣренъ, что проживетъ
еще цѣлые десятки лѣтъ... Со стороны его я, вѣроятно, унаслѣдовалъ ча-
стицу духа морского пирата, прадѣда моего, „Страшнаго I река"...
Но нѣтъ во мнѣ кровожадныхъ мыслей, желаній... Хотя, въ концѣ-
концовъ, невольно, самъ того не замѣчая, звѣрѣешь... Въ особенности въ
рукопашномъ бою... Мѣсяцъ назадъ въ Карпатахъ насъ тѣснили—мы были
въ пѣшемъ строю—тирольскіе стрѣлки. И вотъ на меня лѣзъ, напиралъ
громадный горецъ. Я видѣлъ,—онъ съ наслажденіемъ всадитъ въ меня
свой плоскій штыкъ. Я хватилъ его прикладомъ по головѣ. Онъ заша-
тался съ выпученными глазами. Въ этотъ моментъ подоспѣлъ мой ангелъ-
хранитель, Обнорскій, и этакимъ „профессорскимъ6 ударомъ шашки, чи-
сто-на-чисто, снесъ голову тирольцу. И страшно было видѣть медленно
и грузно падающее тѣло безъ головы.
Ахъ, война! Какія она даетъ впечатлѣнія!..
Обнорскій получилъ георгіевскій крестъ и уже представленъ ко вто-
рому... Какой молодецъ!..
Мы съ нимъ, ты уже знаешь, въ одной сотнѣ. Даже наши черкесы
ужъ на что, казалось бы, отважные бойцы, даже ихъ удивляетъ бѣшеная
храбрость Обнорскаго. Никто не хочетъ вѣрить, что онъ—русскій. Такъ
умѣетъ онъ носить черкеску и папаху, такъ ѣздитъ верхомъ и владѣетъ
шашкой. Перваго Георгія онъ получилъ за взятіе австрійскаго пулемета.
Полѣзъ одинъ-одинешенекъ, изрубилъ команду изъ пяти человѣкъ и спо-
койно вернулся съ пулеметомъ на плечахъ. А вѣдь въ нашемъ три съ
половиною пуда, австрійскій же—еще тяжелѣе.
За мною онъ слѣдитъ неусыпно. Бережетъ!.. Иногда это меня безко-
нечно трогаетъ. А иногда—бываетъ скучно.
Гувернантка въ черкескѣ, да и только. Мнѣ вспоминается мое ран-
нее дѣтство и тайапіѳ Алланъ, не отпускавшая меня отъ себя ни на
шагъ...
Я уже писалъ тебѣ о нашемъ полковомъ командирѣ, князѣ Цаца-
вадзе... Это свѣтскій человѣкъ, рыцарь, обаятельный товарищъ. Мы всѣ
его любимъ. Для каждаго простого всадника найдется у него всегда ласко-
вое, хорошее слово...
Хорошо, мамочка, ахъ, какъ хорошо!.. Если бъ ты видѣла, какое нѣж
ное, ясное, чистое небо раскинулось надо мною!.. Хочется весь міръ лю-
бить. И все такъ прекрасно...
Ну, пока до свиданья. Вернусь, посмотрю, что дѣлается въ окопахъ.
Мы окопались на крутомъ, лѣсистомъ берегу Днѣстра. Это мысъ, и рѣка
омываетъ его дугою. А на томъ берегу австрійцы, такъ мы и стоимъ
другъ противъ друга уже третью недѣлю.
Цѣлую тебя тысячу разъ... Цѣлую твои ручки... Обними дядю Ми-
лана. Скажи ему, что недѣлю назадъ намъ сдалась въ плѣнъ, переплывъ
Днѣстръ подъ австрійскимъ огнемъ, полурота боснійскихъ сербовъ. Какіе
это молодцы!.. Красивые, рослые! Явились они къ намъ, промокшіе до нитки.
Вода съ нихъ текла ручьями. Я говорилъ съ ними... Жаждутъ, чтобъ ихъ
т77
12
переслали въ Сербію помогать королевской арміи бить швабовъ. И, пред-
ставь, только двое, или трое похоронили на днѣ рѣки свои винтовки...
Ахъ, чего только здѣсь не насмотришься!..
Привѣтъ милому Беркутову. Какъ подвигается твой портретъ? Пиши
мнѣ попрежнему: отправь письмо на Галерную, а оттуда, вмѣстѣ со всей
остальной почтою для дивизіи, привезетъ его къ намъ курьеръ. Мы, вѣро-
ятно, простоимъ еще здѣсь долго. Пожалуй, весь іюнь... Цѣлую"...
Твой сынъ Гермесъ...
Даже, не говоря о чужихъ, родная мать съ трудомъ узнала бы своего
Гермеса въ этомъ загорѣвшемъ подъ галиційскимъ вѣтромъ и солнцемъ,
возмужавшемъ мальчикѣ. Какое, тамъ еще, мальчика не было въ поминѣ!
Былъ крѣпкій и сильный молодой человѣкъ въ сѣрой черкескѣ и въ ко-
сматой папахѣ. Куда дѣвались кудри античнаго полубога!.. Гермесъ безъ
сожалѣнія разстался съ ними, чтобъ гладко обритой головою походить
на заправскаго настоящаго кавказца.
Онъ писалъ, лежа писалъ химическимъ карандашемъ на тоненькихъ
листикахъ почтовой бумаги. А вмѣсто бювара служила ему истрепанная
книга, Богъ вѣсть какъ попавшая сюда,—томикъ Тургенева...
Запечатавъ письмо и вложивъ его въ книгу, „всадникъ первой сотни
черкесскаго полка, Гермесъ Сарифи", легъ на спину, съ папахою, вмѣсто по-
душки, и, щурясь отъ жаркаго солнца, смотрѣлъ вверхъ надъ собою. Сквозь
кружево буковой листвы, по ясному небу скользили, мѣняя на своемъ
пути очертанія, бѣлые „барашки" облаковъ.
Разнѣженный согрѣвающей истомою, Гермесъ перенесся въ оставшійся
далеко на сѣверѣ Петроградъ, въ уютную квартиру у Таврическаго сада.
И до жуткаго реально „почувствовалъ" онъ и увидѣлъ свою мать. Она
вся въ думахъ объ немъ!.. Вся!.. Какой тревогою дышитъ каждое ея письмо!
Живъ ли онъ, здоровъ ли онъ, не раненъ-ли? И въ то же время ея душа,
душа сербской женщины, полна гордостью за своего сына,—солдата и
воина...
И Гермесъ ощутилъ приливъ необыкновенно мягкаго и нѣжнаго чув-
ства къ матери. Отца онъ никогда не любилъ. Онъ только внушалъ себѣ,
что грѣшно не имѣть ничего въ душѣ къ этому человѣку. Но откуда-же
возьмешь,—разъ нѣтъ ничего... Пустота!..
И вѣсть о нежданной-негаданной трагической смерти банкира сынъ
встрѣтилъ почти равнодушно...
Хрустятъ подъ ногами сухія вѣтки. И голосъ, пріятный, звенящій
теноръ поетъ:
Плыви мой челнъ
По волѣ волнъ...
Надъ Гермесомъ вдругъ выросъ жгучаго вида кавказецъ, съ черной,
какъ смоль, бородкою Радамеса и съ крупными, оливковой смуглости чер-
тами лица. Онъ держалъ въ рукѣ папаху, а на плечахъ его разстегнутой
защитной рубахи блестѣли серебряные, съ синей дорожкою, поручичьи
погоны.
Гермесъ хотѣлъ вскочить.
— Лежите, лежите, юноша,—остановилъ его этотъ, радамесовской
внѣшности, поручикъ-грузинъ Чяуловъ.—Лежите! А я—за вами. Пойдемъ
чай пить...,Чуетъ мое сердце, будутъ насъ австріяки здорово „чемоданить"...
— 178 —
И какъ бы въ подтвержденіе его словъ,—тягучій, длительный, съ пе-
репѣвами, противно-металлическій визгъ надъ головою, и черезъ секунду,—
въ тылу гдѣ-то послышался разрывъ.
Еще и еще...
— Вотъ, видите!.. Чиновники, чортъ бы ихъ побралъ!.. У нихъ все по
минутамъ... Напились кофе, позавтракали и давай долбить...
Плыви мой челнъ
По волѣ волнъ...
И странно было слышать мотивъ изъ „Корневильскихъ колоколовъ"
здѣсь, въ буковомъ лѣсу Приднѣстровья, подъ аккомпониментъ вражьихъ
снарядовъ...
Чяуловъ командовалъ временно сотнею ингушскаго полка. Сотней,
которая вмѣстѣ съ черкесами несла сторожевку въ окопахъ, охраняю-
щихъ этотъ выдвинутый мысокъ.
Чяуловъ, тифлисскій грузинъ, получилъ военное воспитаніе и службу
свою началъ въ пѣхотѣ. Обладатель красиваго, мягкаго тенора, онъ всегда
мечталъ о сценѣ и, выйдя въ запасъ, промѣнялъ свой пѣхотный мундиръ
на опереточные подмостки. Онъ имѣлъ большой успѣхъ въ провинціи,
кочуя со своей труппою по югу Россіи, по Кавказу и по Сибири.
Жестоко простудившись гдѣ-то въ Иркутскѣ, онъ лишился временно
голоса, пріѣхалъ въ Петроградъ и поступилъ въ полицію. Вчерашній
премьеръ, исполнявшій роли экзотическихъ маркизовъ и принцевъ, теперь,
въ новенькомъ съ иголочки сиреневомъ пальто, очутился на углу Мор-
ской и Невскаго, руководя движеніемъ колясокъ, пролетокъ и автомоби-
лей, въ самые людные часы, отъ трехъ до пяти.
Но вспыхнула война, и Чяулова потянуло въ дѣйствующую армію.
Онъ поступаетъ въ кавказскую дивизію.
Хорошій, толковый офицеръ, онъ соединялъ въ себѣ еще и хозяй-
ственныя способности. При самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, когда
маковой росинки нельзя было добыть нигдѣ, и даже кусокъ хлѣба являлся
завиднымъ лакомствомъ, онъ умѣлъ устроить на позиціяхъ вкусный, аппе-
титный чай, завтракъ, обѣдъ. Какъ по волшебству появлялись—холодная
баранина, тонкими ломтиками нарѣзанная, консервы, масло, печенье, все,
что было угодно. Появлялась жестянка съ готовымъ кофе и стоило распу-
стить его мягкую, паточную гущу въ кипяткѣ.—не надо ни сахару, ни
сливокъ... Тамъ уже есть и сахаръ, и сливки.
Чяуловъ, съ его метаніемъ изъ полка въ оперетку, изъ оперетки въ
полицію, изъ полиціи на войну, былъ однимъ изъ типичнѣйшихъ офице-
ровъ кавказской дивизіи, гдѣ въ случайномъ хаосѣ перемѣшались инте-
ресные люди съ богатымъ и яркимъ прошлымъ, гдѣ полками, сотнями и
взводами командовали принцы крови, грузинскіе, кабардинскіе, черкесскіе
князья и ветераны всѣхъ войнъ и послѣдняго двадцатилѣтія, отъ бурской
и абиссинской—до балканскихъ, включительно.
3. „Дворянинъ Обнорскій".
— Вотъ уже, дѣйствительно, съ гордостью могу сказать про своихъ
черкесовъ, не полкъ, а конфетка! Какіе среди нихъ джигиты! И не только
179
между туземцами. Взять, напримѣръ, скажемъ, Обнорскаго. Вы три дня,
какъ пріѣхали, но вы его видѣли?
— Видѣлъ, видѣлъ, какъ же, ваше сіятельство!.. Пожилой человѣкъ.
Но ходитъ этакимъ тигромъ. По-горски... Скользитъ на носкахъ.
— А и вправду скользитъ. И вотъ подите же... Курскій помѣщикъ...
— Развѣ онъ курскій помѣщикъ?
— По бумагамъ, да. Я его представилъ ко второму Георгію. Пер-
вый—за взятіе пулемета, а ко второму,—это было съ мѣсяцъ назадъ, еще
въ Карпатахъ. Необходимо было какою угодно цѣною разбить и смять
венгерскую пѣхоту, сидѣвшую въ окопахъ. Я приказалъ двумъ сотнямъ
атаковать ее въ конномъ строю. Лихая была атака! Многихъ порубили.
Но все же пришлось отступить. Подоспѣли къ венгерцамъ изъ резерв-
ныхъ окоповъ... Мои всадники умчались назадъ. Многихъ и черкесы не
досчитались. Въ томъ числѣ и прапорщика Гассанбекова. Молоденькій,
мальчишка совсѣмъ. Онъ теперь эвакуированъ. И лошадь подъ нимъ
убили, и самъ лежалъ раненый шагахъ въ двухстахъ отъ венгерскихъ
окоповъ... Такъ что же вы думаете: Обнорскій вызвался спасти его...
Человѣкъ на вѣрную смерть пошелъ!.. Вылетаетъ на своемъ кабардинцѣ.
У него такая горячая, строгая лошадка, -и маршъ-маршъ прямо на вен-
герцевъ. Тѣ сначала обалдѣли. А потомъ затрещали пачками... Никакого
вниманія!.. Подлетаетъ прямо къ Гассанбекову, мгновенно спѣшивается,
кладетъ прапорщика поперекъ сѣдла и—уже опять на своемъ кабардинцѣ...
И медленно, шагомъ возвращается назадъ... Эту великолѣпную сцену я
наблюдалъ въ бинокль, въ полуверстѣ, съ опушки лѣса, гдѣ мы спѣши-
лись, отославъ коноводовъ съ лошадьми вглубь чащи... Такъ что же вы
думаете? Восхищенные такимъ великолѣпнымъ безстрашіемъ, венгерцы
проводили Обнорскаго апплодисментами. Въ самомъ дѣлѣ,—рѣдкое зрѣ-
лище... Награда наградой, но я хотѣлъ еще ему подарить изъ своихъ де-
негъ сто рублей. Конечно, деликатно замаскировавъ.. Дворянинъ, по-
мѣщикъ, хотя и прогорѣвшій... А, главное, предлогъ нашелся удачный. И
его черкеску и бешметъ изрѣшетило въ нѣсколькихъ мѣстахъ пулями.
Я ему, говорю:
— Вотъ вамъ, Обнорскій... Можеть быть вы съѣздите въ Кіевъ,
обошьетесь?
Поблагодарилъ, отказался.
— Ваше сіятельство, я только исполнилъ свой долгъ. А что касается
этихъ прорѣхъ, сдѣланныхъ австрійскими пулями,—онѣ почетныя!
Такъ и не взялъ.
— Да, интересный человѣкъ... Я его видѣлъ мелькомъ, а весь онъ
такъ и врѣзался мнѣ... И :чаете, ваше сіятельство, кого онъ мнѣ на-
помнилъ?
— Кого?..
— Конечно, это вздоръ... Но—бываетъ иногда... Вдругъ осѣниитъ
какое-то далекое-далекое воспоминаніе... Въ Елисаветградскомъ училищѣ
былъ у меня товарищъ, черкесъ Зауръ-бей. Потомъ вмѣстѣ съ нимъ
вышли мы въ А.х—скій драгунскій полкъ эстандартами и въ одинъ и
тотъ же день были произведены въ корнеты... Ротмистръ Вельяшевъ по-
стоянно дразнилъ его „иррегулярной кавалеріей0, за кавказскую посадку
и манеру ѣздить. II вѣдь вотъ, ваше сіятельство: вы сами старый кава-
леристъ... Вы меня поймете. Можетъ пройти много лѣтъ, можно забыть
— і8о —
человѣка. Онъ можетъ перемѣниться до неузнаваемости, но вы его
почти всегда узнаете по тому, какъ онъ садится на лошадь. У
всякаго это очень по-своему, индивидуально. И вотъ, когда третьяго
дня сотня строилась на сторожевку, я видѣлъ, какъ этотъ Обнорскій са-
дился. Вѣрите... Такъ сквозь двадцать лѣтъ и всталъ у меня передъ гла-
зами весь этотъ Зауръ-бей! Запомнилось, какъ онъ ловко и въ то же время
высоко переносилъ правую ногу надъ задней лукою сѣдла. И тогда, въ
полку, при строевомъ сѣдлѣ у него осталась эта кавказская повадка. Вы
не обратили вниманія, ваше сіятельство?..
— Да, да... Этого ничѣмъ пе вытравишь. Вообще, онъ весь какой-
то загадочный... А какая же дальнѣйшая судьба вашего Зауръ-бея?..
— Судьба довольно авантюристическая. У него вышло столкновеніе
съ подполковникомъ Антоновымъ. Онъ сгоряча поднялъ на него руку,
бѣжалъ за-границу. Потомъ, говорятъ, что онъ очутился въ Турціи, слу-
жилъ тамъ въ конницѣ. А потомз—объ немъ уже ни слуху, ни духу...
— И вы думаете, что нашъ Обнорскій и Зауръ-бей, пожалуй, одно и
то же лицо?
— Этого я не думаю, ваше сіятельство... Слишкомъ невѣроятное
предположеніе. Но что, во всякомъ случаѣ, эта фигура не совсѣмъ обык-
новенная, въ этомъ я съ вами согласенъ.
Такъ говорили между собою командиръ черкесскаго полка князь
Цацавадзе и на-дняхъ прибывшій подполковникъ Якимовъ.
Оба въ сѣрыхъ черкескахъ, оба тонкіе, стройные. Цацавадзе по-
ниже, Якимовъ—повыше ростомъ. Князь—съ красивымъ грузинскимъ, но
безъ особенно рѣзко выраженнаго типа, лицомъ и съ умнымъ взглядомъ
карихъ, мягкихъ глазъ. У Якимова открытый, продолговатый овалъ и
небольшіе свѣтлые усики уже начинающаго сѣдѣть блондина.
Они стояли у деревянныхъ, покосившихся воротъ галиційской ха-
лупы. Тутъ же рѣзвились бѣлоголовые русинскіе ребятишки, въ грубомъ
домотканномъ бѣльѣ.
По кривой, съ невысохшими лужами грязи улицѣ и въ одиночку, и
группами и ведя лошадей въ поводу, проходили мимо смуглые, горбоно-
сые черкесы въ желтыхъ, косматыхъ папахахъ и въ коричневыхъ бешме-
тахъ.
Медленно, беззвучно шевеля губами и перебирая четки, прошелъ
весь въ черномъ старый, сѣдобородый мулла. Поровнявшись съ офице-
рами, онъ сдѣлалъ имъ исполненный достоинства и въ то же время по-
чтительный селямъ.
— А вотъ и онъ!.. Легокъ на поминѣ!—прошепталъ князю Яки-
мовъ.
Опустивъ голову, задумавшись о чемъ-то, шелъ Обнорскій, въ солдат-
скихъ погонахъ, отороченныхъ пестрымъ шнуркомъ вольноопредѣляюща-
гося. На его груди, подъ „газырями", серебрился георгіевскій крестикъ.
Проходя мимо командира. Обнорскій, ставъ во фронтъ и получивъ въ
отвѣтъ ласковый знакъ рукою продолжать свой путь, двинулся дальше.
Цацавадзе окликнулъ его:
— Опустите руку, Обнорскій... Скажите, вы никогда не были на
Кавказѣ?..
— Такъ точно, ваше сіятельство, былъ,—на группахъ.
— Группы—не Кавказъ,—улыбнулся князь.—Нѣтъ, а въ горахъ?..
— і8і —
— Въ горахъ не былъ, ваше сіятельство.
— Откуда-же у васъ такая посадка, горская?..
— Не могу знать, ваше сіятельство....
Темные глаза смотрѣли прямо и ясно изъ-подъ надвинутой по самыя
брови папахи. Зауръ-бей носилъ умышленно свою папаху, нахлобучивая,
а не по-кавказски—на самомъ затылкѣ.
— Обнорскій, вы будете произведены въ вахмистры, вмѣсто ВоЙти-
ченка... Войтиченко боленъ и я на-дняхъ его эвакуирую.
— Покорнѣйше благодарю, ваше сіятельство, радъ стараться!
Отпустивъ Обнорскаго, Цацавадзе молвилъ Якимову:
— Странный человѣкъ... Воля ваша, онъ мало похожъ на курскаго
помѣщика...
— И даже очень мало! А взгляните, ваше сіятельство, какая у него
талія, и какъ сидитъ на немъ черкеска? Но, во всякомъ случаѣ, это не
Зауръ-бей... Онъ, если и уцѣлѣлъ до сихъ поръ, то навѣрное воюетъ гдѣ-
нибудь на кавказскомъ фронтѣ. Не съ нами, конечно, и противъ насъ...
Долгій, лѣтній день, напоминающій малороссійскій югъ въ этой де-
ревнѣ съ бѣлыми, крытыми соломою мазанками, смѣнился мягкимъ теплымъ
вечеромъ.
На лугу, у самой околицы, гаснущими сумерками, выстраивается
сотня. Рѣзкія очертанія всадниковъ, тихій гортанный говоръ. Лѣсомъ тон-
кихъ, прямыхъ пикъ ощетинилась лихая, черкесская сотня. Всадники спѣ-
шились, держатъ въ поводу своихъ маленькихъ, сухощавыхъ головодеровъ.
Съ минуты на минуту подойдетъ другая сотня, чтобъ вмѣстѣ дви-
нуться на сторожевку.
Нѣкоторые горцы, оставивъ придержать лошадей товарищамъ, неза-
мѣтно уходятъ на лугъ. И въ призрачныхъ сумеркахъ,—тамъ и сямъ за-
стывшія на молитвѣ, обращенныя лицомъ къ востоку фигуры. И черными
силуэтами, легкими призрачными намѣчаются во мглѣ стройные, съ тон-
кими дѣвичьими таліями джигиты.
И затаилось все кругомъ средь торжественнаго вечерняго безмолвія.
Одинъ мигъ и всѣ фигуры—уже колѣнопреклоненныя. Цѣлый рядъ
земныхъ поклоновъ и опять замерли неподвижно, въ послѣдній разъ.
Возвращаются къ своимъ лошадямъ съ вдохновенно просвѣтленными
лицами.
Какой чудесный матеріалъ для батальнаго живописца, эта молитва
мусульманскихъ воиновъ.
Недаромъ жалѣлъ Гермесъ объ отсутствіи Беркутова.
А Зауръ-бей, словно конная статуя, застылъ весь вмѣстѣ со своимъ
кабардинцемъ. По морщинистому, обвѣтренному лицу всадника крупныя
слезы катились... Въ темнотѣ ихъ никто не видѣлъ.
Обыкновенно глубоко равнодушный къ своей религіи, да и къ рели-
гіи вообще, Зауръ-бей, никогда не ходившій въ мечеть, высмѣивавшій
муллъ и ходжей, теперь не могъ безъ волненія наблюдать мусульманской
молитвы. Не могъ, потому что не смѣлъ присоединиться къ этимъ черке?
самъ, глядѣвшимъ на востокъ и опускавшимся на колѣни...
Онъ долженъ былъ скрывать и таить про себя, что онъ мусульма-
нинъ...
Бѣгло привѣтствовалъ сотню, мимо промчался бригадный генералъ
въ бѣлой черкескѣ, окруженный своимъ штабомъ.
182
Сотня рядами растягивается въ ленту и головная часть ея таетъ во мракѣ.
Осталось позади поле, остался угнѣздившійся на холмѣ древній за-
мокъ польскаго магната.
Сотня движется лѣсомъ. Темно, хоть глазъ выколи. Здѣсь недавно
шелъ дождь и лѣсъ дышитъ чѣмъ-то сырымъ и влажнымъ.
Ароматъ деревьевъ, острый и крѣпкій, пріятно кружитъ голову. Мираі-
дами брилліантовъ, крупныхъ, чудовищныхъ, горятъ свѣтлячки.
Горятъ по обѣимъ сторонамъ чащи. Горятъ по обочинамъ дороги.
Вспыхиваютъ звѣздочками, летая въ воздухѣ.
Всадники ловятъ ихъ папахами и получается свѣтъ электрическаго
фонарика. Можно смѣло читать любое, карандашемъ написанное, донесеніе.
Но вотъ и свѣтлячки сгинули. Потянулось ущелье. Такая темень, что
всадники ушей своихъ собственныхъ коней не видятъ.
Напряженное безмолвіе.
Ясно слышится звякнувшее въ хвостѣ колонны стремя.
Тихая команда:
— Бросить папиросы, не зажигать спичекъ!..
Съ того берега Днѣпра—на пятьсотъ шаговъ прямой выстрѣлъ. На
томъ берегу затаился непріятель, теперь такой загадочный и невѣдомый
этой густой, тихой ночью.
Вновь со всѣхъ сторонъ подступившій лѣсъ охватываетъ сотню.
Перекликаются шепотомъ голоса.
Всадники спѣшились, отдаютъ лошадей коноводамъ.
Углубляются въ чашу.
Сотенный командиръ пропускаетъ мимо себя взводы, отправляя
однихъ въ окопы, другихъ въ передовыя цѣпи сторожевыхъ охраненій.
А тамъ дальше въ лѣсу, какъ-то затерянно слышится грассирующій
голосъ:
— Прапорщикъ Гудіевъ... Прапорщикъ Гуліевъ...
Это князь Монтвиллъ, помѣщикъ громадныхъ имѣній въ трехъ импе-
ріяхъ, бывшій офицеръ германской службы, ищетъ своего прапорщика.
Пахнуло свѣжимъ соннымъ дыханіемъ рѣки. И вотъ она сама, тусклой
сталью чудится гдѣ-то внизу межъ деревьями.
Сдавленный, гортанный непонятный говоръ...
Промелькнувшіе и сгинувшіе силуэты...
Тишина...
Внизу гдѣ-то грянулъ винтовочный выстрѣлъ... Еще и еще...
И пошло раскатистыми перекликами средь крутыхъ береговъ...
Австрійцы отвѣтили...
Заговорили и та, и другая сторона...
4. Баронъ Роткусъ встревоженъ.
Банковскій воротила, директоръ нѣсколькихъ чудовищныхъ заводовъ,
статскій совѣтникъ, благотворитель и кавалеръ самыхъ разнообразныхъ
орденовъ, Августъ фонъ-Раухъ угодилъ въ одну изъ сѣверныхъ губерній.
Ему деликатно предложили уѣхать въ этотъ суровый край, и жить
спокойно и тихо, ничѣмъ не напоминая о себѣ. До поры, до времени, пока
„это" не забудется, какъ забывается все на свѣтѣ.
- І»з -
Словомъ, нѣчто вродѣ ссылки...
Раухъ долженъ былъ днемъ и ночью Бога молить, что удалось ему
такъ дешево отдѣлаться и выйти изъ всей этой исторіи, если не су-
химъ, то, во всякомъ случаѣ, далеко не въ такой степени мокрымъ, какъ
онъ этого заслужилъ.
Все шло весьма и весьма гладко, безъ сучка—задоринки.
Сыпалось золото пригоршнями. Объ кутежахъ вмѣстѣ съ Мяснико-
вымъ и Роткусомъ неприличныхъ, недопустимыхъ по военному времени
кутежахъ, говорилъ весь городъ. И,—это болѣе всего странно,—говорилъ
скорѣе съ завистливой похвалою, чѣмъ въ осужденіе...
— Молодцы!.. Вотъ розмахъ!.. Эти умѣютъ!.. Теперь бутылку самаго
завалящаго вина—достать сколько хлопотъ... А у нихъ попрежнему льется
рѣкою шампанское!..
„Погубилъ" Августа Рауха случай, оказавшійся нежданнымъ-негадан-
нымъ обыскомъ, обыскомъ у танцовщицы Эллы. Хотя,—почему погубилъ?
Скажемъ, „подвелъ"... Подвелъ!.. Это будетъ болѣе умѣстное слово.
Живется Рауху на ближнемъ сѣверѣ—дай Богъ всякому... лучшему
гражданину земли русской... Семью онъ оставилъ въ Петроградѣ, и под-
визается въ „ссылкѣ" вдовцомъ соломеннымъ. Разъѣзжаетъ на собствен-
номъ автомобилѣ, водитъ компанію съ военноплѣнными германскими офи-
церами и такими же „ссыльными" нѣмцами, какъ и онъ самъ.
Эти нѣмцы пьянствуютъ въ мѣстномъ клубѣ, и въ день занятія Пе-
ремышля германцами устроили, и даже не устроили, а трескуче и съ пом-
пою закатили шумный банкетъ.
Словомъ, не такой уже скверной показалась Августу Рауху его „ссылка".
О чемъ Раухъ особенно жалѣлъ,—Марія Сергѣевна отказалась раз-
дѣлить его „изгнаніе".
Отказалась, несмотря на всѣ просьбы, и даже мольбы, наирѣшитель-
нѣйшимъ образомъ отказалась.
— Никуда я съ вами не поѣду... Вы мнѣ и здѣсь успѣли надоѣсть...
Довольно съ меня!..
— Но почему? Кажется, я всегда шелъ навстрѣчу!..
— Потому, что мнѣ хочется свободы,—это разъ!.. Потому, что я рѣ-
шила выйти за Марлявчевича, не маргариновымъ бракомъ выйти, а по
настоящему... И, въ третьихъ, вы замѣшаны въ какой-то грязной исторіи,
направленной совсѣмъ не въ пользу Россіи... А меня зовутъ, — Марія
Сергѣевна Холодцова. И въ душѣ я осталась Холодцовой. Политикой
никогда особенно не интересовалась... Но ваша политика — не по душѣ
мнѣ... Противна!.. Вотъ вамъ и весь сказъ...
Но, позвольте... Я тратилъ на васъ большія деньги... Я накупилъ
вамъ столько дорогихъ брилліантовъ... Мнѣ кажется, я вправѣ требовать...
— Требовать?!.
Спокойная, величаво - медлительная Марія Сергѣевна неузнаваема
стала... Весь лоскъ внѣшній, тотъ лоскъ, благодаря которому она могла
сойти за любую свѣтскую женщину, вдобавокъ, утонченную,—какъ рукой
сняло!..
Вспыхнула вся... Прекрасные глаза съ поволою загорѣлись искрами
огненными.
— Требовать? Что ты можешь отъ меня требовать, нѣмчура, пога-
ный!.. Что, ты, благотворительностью занимался?.. Тѣло мое тебя тѣшило!..
184
Навязывалась я тебѣ?.. Искала твоего покровительства... Самъ приползъ...
Всякіе турусы на колесахъ обѣщалъ, влюбленнаго разыгрывалъ!.. А что
до брилліантовъ... Этимъ меня попрекаешь? Возьми ихъ... Сейчасъ же
возьми все... Подавись... И чтобъ духу твоего здѣсь не было, мерзавецъ!..
Громадный, сутулый Раухъ, бочкомъ-бочкомъ, скорѣе унести бы ноги,
такъ сократило его гнѣвное великолѣпіе Маріи Сергѣевны.
Ключъ ко всей этой неразберихѣ шумной и хлопотливой, надо было
искать въ холостой квартирѣ Шепетовскаго.
Поймавъ Эллу на мѣстѣ преступленія, когда босикомъ, еле прикры-
тая прозрачнымъ батистомъ, она калькировала его чертежи, опъ бросился
на нее съ кулаками, и, не помѣшай брезгливое чувство, сознаніе, что она
хоть и тварь, но все таки женщина,—онъ избилъ бы ее смертнымъ боемъ.
Но мгновенно взявъ себя въ руки, велѣлъ ей, жалкой, трепещущей,
зубъ на зубъ не попадающей, одѣваться, а самъ позвонилъ, куда слѣ-
дуетъ.
Черезъ четверть часа Эллу арестовали у него на квартирѣ, и одно-
временно былъ произведенъ самый тщательный обыскъ у нея на Каменно-
островскомъ, въ двухъ шикарныхъ, меблированныхъ комнатахъ, въ но-
вомъ домѣ съ гранитнымъ „скандинавскимъ" фасадомъ.
Особеннаго ничего не нашли, но и то, что было найдено, являлось
довольно вѣской уликою. II противъ самой Эллы, и противъ Августа
Рауха. Подгадило компрометирующее письмо брата, капитана Курта,
письмо къ танцовщицѣ, гдѣ онъ подробно и откровенно развивалъ ту
роль, выгодную для германской освѣдомленности, которую можетъ сыграть
Августъ въ Петроградѣ, при его положеніи, знакомствахъ и связяхъ.
Арестъ „королевы пластическихъ танцевъ" явился злобою дня въ
столицѣ... Еще бы, такой сенсаціонный трюкъ, который ловкими перьями
можно превратить въ довольно-таки зазвонистый „бумъ"!..
Но, увы, надъ ловкими перьями висѣла дамокловымъ мечемъ военная
цензура, и вмѣсто „бума", получились коротенькія, глухія замѣтки, съ
бѣлыми лысинами, да и то какъ-то контрабандно проскользнувшія.
Но зато не обобраться было разговоровъ... Судили и рядили, вкось
и вкривь... Вокругъ экзотической танцовщицы сплетался какой-то зага-
дочно-шпіонскій романъ, одинъ изъ тѣхъ, на которые наша изнервничав-
шаяся, изволновавшаяся, подозрительная публика стала такъ охоча!..
Угадывалась какая-то стройная, прочная организація—въ связи съ
этимъ арестомъ, обрисовавшаяся изъ чего-то неощутимаго, смутнаго въ
нѣчто жуткое, страшное. .
По одной ниточкѣ хотѣли добраться до самой, что называется, серд-
цевины, тѣсно и хитро сплетеннаго клубка.
На допросахъ Элла была неуязвима. То-есть сама-то она была уязвима,
и даже очень. На мѣстѣ преступленія поймана... Чего ужъ тамъ!.. Но про
сообщниковъ своихъ молчала упорно, стараясь убѣдить всѣхъ, что „рабо-
тала" въ одиночку за свой собственный рискъ и страхъ.
Единственное, чего она не могла отрицать, при всемъ желаніи, это
сношеній своихъ съ капитаномъ Куртомъ фонъ-Раухъ.
По происхожденію своему, казалось, такъ прочно стертому вѣчными
скитаніями, наложившими на нее отпечатокъ международнаго шаблона,—
Элла оказалась итальянкою австрійскаго Тироля. Итальянкой, сильно онѣ-
меченной, въ цѣломъ рядѣ поколѣній.
185
Такимъ образомъ по милости упорныхъ, — клещами слова не выта-
щишь,—запирательствъ, кромѣ самой Эллы, жертвою оказался еще одинъ
лишь Августъ фонъ-Раухъ. Да и то не Эллою оговоренный, а перепискою,
которую она, вмѣсто того, чтобы сжечь, хранила на свою же голову...
Ёо Франціи, или въ Англіи, распустившійся такимъ „цвѣткомъ махро-
вымъ", Августъ фонъ Раухъ несомнѣнно вырванъ былъ бы „съ корнемъ".
А здѣсь, у насъ, къ нему отнеслись далеко не съ такой похвальной су-
ровостью, заставивъ всего-на всего прогуляться на ближній сѣверъ.
Но и тамъ, на с кверѣ, этотъ господинъ, безпрепятственно встрѣчая
нѣмецкихъ агентовъ, разумѣется, не игралъ въ молчанку съ ними, а съ
превеликимъ удовольствіемъ посвящалъ ихъ во всѣ тайны и секреты сна-
ряженія нашей арміи, ему, Августу Рауху, доподлинно извѣстные.
„Политическій" скандалъ вокругъ имени Эллы, съ его послѣдствіями,
встревожилъ не на шутку блистательнаго барона Роткуса. Всего знобя-
щимъ холодкомъ такъ и обвѣяло...
И, быть можетъ, впервые измѣнилъ онъ своему деревянно-застывшему
выраженію .. Неподвижныя черты заплясали судорогою животнаго страха...
Онъ сталъ убѣждаться, что ремесло шпіона-предатсля, даже шпіона-
генерала, по-королевски оплачиваемаго, имѣетъ, къ сожалѣнію, и свои
тѣневыя стороны... Къ сожалѣнію...
Онъ посѣтовалъ на свое настоящее и позавидовалъ недавнему про-
шлому, когда получалъ много меньше, но за то безъ всякаго риска для соб-
ственной шкуры. Устраивать еврейскіе погромы было куда безопаснѣе и
легче, нежели культивировать германскій шпіонажъ въ своемъ собствен-
номъ отечествѣ, если только было оно у Роткуса,—отечество...
Случившееся ночью, вѣрнѣе, уже подъ утро, у полковника Шепетов-
скаго, стало извѣстнымъ Роткусу черезъ какихъ-нибудь два часа.
Невыспавшійся, блѣдный, съ красными отъ безсонницы глазами, при-
мчался онъ, ни свѣтъ, ни заря, къ Мясникову, ночевавшему у Берты.
Разбуженный Андрей Андреевичъ, запахивая широкій бухарскій халатъ
па громадной волосатой груди, вышелъ къ нему съ папиросою въ зубахъ.
Одутловатое лицо, красное, немытое, особеннаго удовольствія не выра-
жало. Сѣро-зелеными кошачьими глазами Андрей Андреевичъ непривѣтно
окинулъ всю корректную фигуру въ черной визиткѣ сообщника своего.
— Сорвался въ такую рань, добрыхъ людей только зря будишь!..
— Ты слышалъ?..
— Слышалъ!.. Знаю!.*
— ГІ ничего? Это тебя не безпокоитъ, не тревожитъ?..
— Ни капельки!.. Другъ мой, въ такомъ громадномъ и сложномъ ме-
ханизмѣ, въ особенности человѣческомъ, всегда портятся и отпадаютъ какіе-
нибудь второстепенные колесики и винтики. Это неизбѣжно!.. Нельзя же
требовать, чтобъ все, рѣшительно все шло безъ сучка, безъ задоринки.
Если эта плясунья влопалась, я не вижу еще причины, чтобы спокойный,
уравновѣшенный баронъ Роткусъ влеталъ ко мнѣ, сломя голову, и выво-
лакивалъ изъ теплой постели.
— Ты безумецъ, вмѣстѣ съ своимъ хладнокровіемъ!.. Подумай'только:
вдругъ она ляпнетъ па допросѣ лишнее, и скомпрометируетъ насъ, меня и тебя?
— Вздоръ какой!.. Гдѣ же улики, документы? Что мы кутили вмѣстѣ
съ нею?.. Это ничего не доказываетъ... Коротать время въ обществѣ шан-
танныхъ артистокъ—самое благонамѣренное занятіе.
і86
— Но если одна изъ этихъ артистокъ разоблачена?..
— И пускай, на здоровье!.. Приглашая къ себѣ въ кабинетъ веселя-
щихся женщинъ, я не обязанъ требовать ихъ политическій паспортъ...
Нѣтъ, мой другъ... Я не изъ пугливыхъ!.. Я желѣзный человѣкъ. Л, главное,
вѣрю въ свою звѣзду. И вотъ тебѣ добрый совѣтъ—успокойся, къ тебѣ
такъ идетъ невозмутимый, непроницаемый видъ. Отъ души желаю, пусть
онъ снова вернется къ тебѣ, и уже не покидаетъ больше... Опасности
нѣтъ... Вѣрь моему инстинкту... А теперь—проваливай!.. Я еще сосну ча-
сокъ, другой, и къ десяти буду на Мойкѣ. Милости просимъ. Кой-кого
надо будетъ принять и, навѣрное, поднакопилась интересная почта.
Мясниковъ не ошибся. Почта, дѣйствительно, „поднакопилась" инте-
ресная, Оставалось потирать отъ удовольствія руки...
Особенно порадовалъ Штоссъ, этотъ человѣкъ съ кинематографиче-
ской внѣшностью.
Взрѣзавъ конвертъ, помѣченный штемпелемъ большого южнаго го-
рода, Мясниковъ безъ всякаго удивленія вынулъ нѣсколько листиковъ чи-
стой, бѣлой почтовой бумаги. Но, смазавъ все это влажной губкою, напи-
танной особымъ химическимъ составомъ, Андрей Андреевичъ могъ ясно
прочесть подробное, обстоятельное донесеніе.
Онъ улыбался, обнажая свои гнилые зубы.
Вѣсти и вправду были чрезвычайно утѣшительнаго характера.
Штоссъ работаетъ во-всю. Иллюзіи плѣнныхъ славянъ гаснутъ одна
за дву гою. На смѣну этимъ растоптаннымъ иллюзіямъ являются разочаро-
ваніе и ненависть. Было нѣсколько случаевъ столкновеній, перешедшихъ
въ побоище, между сербами съ одной стороны и нѣмцами и венграми съ
другой. Первыхъ наказывали, вторые, во всемъ виноватые, благодаря Штоссу,
пустившему въ ходъ все, что только можно было, выходили изъ воды
сухими.
И такъ далѣе, все въ такомъ же духѣ.
Рахманъ сообщалъ, что ему удалось задержать болошой транспортъ
сахару, уже приготовленный для отсылки въ Румынію.
Явившійся „старый провокаторъ" клятвенно увѣрялъ, что со дня на
день должны вспыхнуть забастовки на двухъ, обслуживающихъ снаряженіе
арміи заводахъ, а на третьемъ—ожидается чудовищный взрывъ.
Мясниковъ съ укоризной выговаривалъ Ротку су:
— Видишь, все идетъ какъ по маслу... Какая организація!.. Нѣтъ, я
вѣрю въ свою звѣзду!.. Еще поработать годикъ, а тамъ и на покой, на
Ривьеру... Какіе мемуарчики можно будетъ написать!..
5. Каблучки панны Теофили.
Юркій, подвижной Блюменталь, самъ себя величавшій „первымъ чело-
вѣкомъ въ германскомъ консульствѣ" въ Яссахъ, дѣйствительно оказался
магомъ и волшебникомъ по паспортной части.
Хотя онъ и въ глаза никогда не видалъ панну Теофилю Быковскую,
но лишь только раннимъ утромъ поѣздъ, пришедшій изъ Букареста, за-
медлилъ ходъ у платформы Ясскаго вокзала, Блюменталь, очутившійся у
спальнаго вагона, безошибочно узналъ хорошенькую, розовую польку и
галантно помогъ ей сойти.
187
Мало этого, къ великому удовольствію панны Теофили, заговорилъ
на ея родномъ языкѣ:
— Гдѣ паньски жечи? Чшеба зоставицъ ихъ въ депо и вътейхвиліи
поѣдаемы до мяста...
И вотъ замелькалъ клѣтчатый пиджачекъ Блюменталя. Небольшой
багажъ, -Быковская ѣхала налегкѣ,—сданъ черезъ окошечко на храненіе.
Панна Теофиля направилась со спутникомъ своимъ черезъ вокзалъ во
дворъ, гдѣ стояло много парныхъ извозчиковъ скопцовъ.
— Може, кавы?—вспомнилъ Блюменталь.
II дѣйствительно, панна Теофиля вспомнила, что чашка бѣлаго кофе,
да еще съ мягкой булочкой,—совсѣмъ уже не такъ плохо. Бѣдняжка въ
своей новой опасной роли такъ волновалась, что забыла и про аппетитъ
и про сонъ.
II хотя въ купэ ѣхала одна-одинешенька и такъ пріятно охлаждалось
молодое тѣло мягкими, свѣжими простынями, однако всю ночь не могла
сомкнуть глазъ.
И пугающе, суля какіе-то смутные ужасы, чудилась ей незнакомая
Россія... А Петроградъ такимъ далекимъ-далекимъ казался, — не доѣхать,
пожалуй, никогда.
Раздѣлась панна Теофиля какъ слѣдуетъ, но чулокъ и ботинокъ такъ
и не сняла. Боялась! Подъ утро, сквозь тревожную дрему снилось ей, что
къ ногамъ привѣшены чудовищной тяжести гири... Эти гири увлекаютъ
ее въ глубокую, бездонную пропасть.
Если бъ она такъ не любила своего Курта, ни за что не поѣхала бы!..
Наскоро выпитъ вокзальный кофе, и панна Теофиля сидитъ рядомъ
съ Блюменталемъ въ экипажѣ.
Полосатый пиджачекъ восхищается красотою Яссъ, — дѣйствительно
живописный городъ, восхищается памятниками на площади, памятниками
изъ желтаго мрамора, воздвигнутыми благодарнымъ потомствомъ вели-
кимъ мужамъ, прославившимъ на вѣки-вѣковъ скромныя Яссы.
Навстрѣчу, такая же парная коляска, съ такимъ же безусымъ и без-
бородымъ скопцомъ въ бархатномъ кафтанѣ, на козлахъ. Сидѣла въ
коляскѣ блѣдная матовой блѣдностью брюнетка, съ глазами, какъ черно-
сливъ. Эта скромно одѣтая дама обнаружила по отношенію къ паннѣ Бы-
ковской чрезмѣрное любопытство, Блюменталю совсѣмъ не понравившееся.
Вообще, онъ весь какъ-то съежился, встрѣтившись съ глазами-черносливами.
— Это Рутковска!.. Опа служитъ на таможнѣ въ Унгенахъ-гусськихъ...
И чего се носитъ сюда? Ей-Богу, не понимаю! Вотъ увидите, она поѣдетъ
въ одномъ съ вами поѣздѣ...
— Ну такъ что же?—молвила панна Теофиля.
— Совсѣмъ это лишнее, таскаться по Яссамъ. Сидѣла бы, да стро-
чила у себя на таможнѣ!..
Очевидно, „полосатый пиджачекъ" имѣлъ давнишній зубъ противъ
этой госпожи Рутковской.
Подъѣхавъ къ германскому консульству, Блюменталь юркнулъ въ
желѣзную калитку, а панна Теофиля минутъ двадцать поджидала его въ
коляскѣ. Тронулись дальше подъ утреннимъ солнцемъ, вдоль чистыхъ
европейскихъ асфальтовыхъ улицъ. Опять остановка минутъ на десять.
Послѣ этого Блюменталь, вручивъ Быковской паспортъ на имя Брони-
славы Свенторжецкой, уроженки Сувалкской губерніи, пояснилъ:
188
— Вы теперь Бронислава Свенторжецкая, изъ Сувалкской губерніи.
Вы проходили свой курсъ леченія въ Карлсбадѣ, васъ продержали нѣ-
сколько мѣсяцевъ въ плѣну, и вотъ вы теперь возвращаетесь домой черезъ
Румынію. Такъ и скажите въ Унгенахъ жандармскому ротмистру. Блон-
динъ такой, съ усами... Очень вѣжливый, свѣтлые, голубые глаза. Фамилія
его Кантаржи... Поняли?..
— Поняла...
Она понимала одно: все ближе и ближе надвигается какая-то не-
вѣдомая опасность. И бѣдная Теофиля Быковская уже каялась въ своей
трудной миссіи... Зачѣмъ она поѣхала? Но развѣ она могла отказать „ему"?
Блюменталь усадилъ ее въ вагонъ, пожелавъ счастливаго пути.
Теофиля смотрѣла въ окно. Уплывала назадъ средь яснаго дня панорама
большого города съ колокольнями, храмами, нарядными большими домами.
Съ каждымъ оборотомъ колеса, все ближе и ближе къ границѣ...
Панна Теофиля сѣла на узенькій, неудобный диванъ и чуть не вскри-
кнула, встрѣтивъ взглядъ темныхъ, какъ два влажныхъ чернослива, глазъ...
Противъ нея сидѣла Рутковская, стиснутая справа п слѣ.ва картонками н
пакетами.
Обѣ молчали. Панна Теофиля упорно думала о своей сосѣдкѣ и о
своихъ каблучкахъ.
Медленно ползетъ поѣздъ, останавливаясь на каждой маленькой
станціи. Вотъ и пересадка. До границы -рукой подать!.. Загрохоталъ
мостъ и внизу блеститъ рѣка въ глинистыхъ берегахъ, и тотъ, дальній
берегъ,—уже русскій.
Прощайте опереточные жандармы, прощайте черномазые, потные
кондуктора, прощайте крохотные вагончики...
Навстрѣчу тянулась невѣдомая, необъятная Россія. Длинное одно-
этажное зданіе вокзала.
Это—Унгены-Русскіе. И здѣсь начинается такая же мучительная
волокита съ паспортами, какая была нѣсколько минутъ назадъ въ Унге-
нахъ-Румынскихъ.
Артельщики съ бляхами атакуютъ вагоны, и вся живая и мертвая
„движимость", люди со своимъ багажемь, все это вмѣстѣ переливается
изъ вагоновъ прямо въ таможенный залъ съ квадратнымъ барьеромъ,
куда кладутся чемоданы, узлы, сундуки, нессесеры.
Въ центрѣ квадрата группа таможенныхъ чиновниковъ Панна
Теофиля всматривается въ незнакомую форму, въ незнакомый обыва-
тельскій типъ русскихъ чиновниковъ, крупныхъ, мѣшковатыхъ, медли-
тельныхъ, которымъ некуда спѣшить на этой глухой и скучной станціи...
Но,—это уже совсѣмъ не понравилось Теофилѣ: блѣдная матовой
блѣдностью брюнетка подошла къ стройному жандармскому офицеру и
что-то говоритъ ему, говоритъ... И хотя Рутковская стоить къ паннѣ
Теофилѣ спиною, затылкомъ, но Быковская всѣм ь существомъ своимъ
угадываетъ, что рѣчь идетъ объ ней, именно объ ней и ни о чемъ, и ни
о комъ другомъ больше.
II медленно, медленно, поворачивается въ ея сторону голова офи-
цера съ пушистыми, свѣтлыми усами... Голубые глаза съ мягкой об-
волакивающей доброжелательностью, свойственной хорошо воспитаннымъ
жандармамъ, задерживаются на вспыхнувшемъ маковымъ цвѣтомъ свѣ-
женькомъ личикѣ панны Теофили.
- 189 -
.
И душа у Быковской ушла отъ этого взгляда въ пятки. И даже не
въ пятки, а въ каблучки...
Таможенные чинятъ досмотръ. Однихъ пассажировъ они выклики-
ваютъ по ихъ паспортамъ,—„гдѣ, молъ, ваши вещи"? — по отношенію къ
другимъ—система обратная: подходятъ къ багажу, роются въ немъ и тогда
только спрашиваютъ,—„кто такой"?..
Къ паннѣ Теофилѣ и къ ея двумъ щегольскимъ чемоданчикамъ, ни
тотъ, ни другой способъ досмотра и „выясненія личности" не былъ при-
мѣненъ. Голубоглазый ротмистръ шепнулъ что-то пожилому, бородатому
чиновнику, взялъ у него паспортъ и, приблизившись къ Быковской, съ
учтивымъ поклономъ, отдавъ честь, молвилъ:
— Сударыня, соблаговолите слѣдовать за мною...
Панна Теофиля, ни живая, ни мертвая,—повиновалась.
И вотъ они вдвоемъ съ глаз}' на глазъ въ большой, высокой, ка-
зеннаго типа, комнатѣ. Столъ съ изрѣзанной клеенкой. На немъ пахнущіе
керосиномъ лампы. Пахнетъ еще чѣмъ-то кислымъ. Заплеванный грязный
полъ—въ окуркахъ.
Тихо. Чирикаютъ воробьи подъ открытымъ окномъ и слышно, какъ
бѣлыми крѣпкими пальцами перелистываетъ офицеръ, страничка за стра-
ничкою, паспортъ...
— Садитесь, сударыня... Вотъ стулъ!.. Извиняюсь, что вынужденъ
принимать васъ въ этой не совсѣмъ комфортабельной обстановкѣ... Вы
говорите по-русски?
— Бардзо зле, пане пулковнику...
„Пане пулковнику", недавно только произведенный въ ротмистры,
улыбнулся подъ свѣтлыми, пушистыми усами.
— Вы собственно откуда изволите ѣхать, сударыня?..
— Съ Букарешту...
— Прекрасно... Въ такомъ случаѣ, не будете-ли вы добры объяснить,
почему паспортъ выданъ вамъ въ Яссахъ, разъ вы направляетесь сюда
изъ Бухареста?..
— Такъ мнѣ говорили...
— Кто вамъ говорилъ?..
— Въ Букарешту... Въ русскомъ посланьствѣ...
— Вы ошибаетесь, сударыня... Въ русскомъ посольствѣ ничего по-
добнаго не могли вамъ говорить... Но въ Яссахъ-то, въ Яссахъ, кто вамъ
выдалъ паспортъ?.. Русское консульство?..
— Такъ, такъ...—закивала бѣдная Теофиля, на всякій случай.
— И здѣсь вы путаете, сударыня. Вы получили паспортъ не въ кон-
сульствѣ, а отъ нѣкоего Блюменталя. Будьте-же откровенны?..
Пунцовая вся, Быковская потупилась и даже кончикъ вздернутаго
носика горячо покраснѣлъ.
— Вотъ видите, вы не можете лгать!.. У васъ слишкомъ прямая и
честная натура. Какъ васъ зовутъ? Ваше имя и фамилія?.. Быковская,
Пани Теофиля Быковская, не правда-ли?..
— Не, естемъ Бронислава Свянторжецка...
— Полноте, къ чему этотъ маскарадъ?.. Теперь слушайте, госпожа
Быковская. Слушайте внимательно...—обволакивающее выраженіе голубыхъ
глазъ смѣнилось чѣмъ-то холоднымъ, стальнымъ,—если вы будете про-
должать запираться, я долженъ буду сурово поступить съ вами по за-
— ідо —
кону.., Васъ ожидаетъ цѣлый рядъ строгихъ наказаній... Если-жевы чисто-
сердечно признаетесь во всемъ, ваша участь будетъ смягчена, въ пре-
дѣлахъ возможности... Я знаю, что вы везете изъ Бухареста въ Петро-
градъ тайные документы. Знаю, что они находятся при васъ... Дабы не
подвергать васъ унизительному процессу' обыска, соблаговолите сами пред-
ставить въ мое распоряженіе весь вашъ секретный матеріалъ.
— У меня ничего нѣтъ съ собою... ничего...— расплакалась вдругъ
панна Теофиля, чувствуя себя на самомъ краю какой-то черной зловѣщей
бездны...
— Успокойтесь! Незачѣмъ понапрасну плакать. Я вижу, что вы сами
жертва, слѣпое орудіе въ рукахъ столь-же опытныхъ и ловкихъ, сколь и
дурныхъ людей... Утрите ваши глазки и—поскорѣе документы?.. Гдѣ они?
Повторяю, еще разъ. Я не хотѣлъ-бы звать сюда женщину, которая обы-
щетъ васъ съ головы до ногъ... Вашъ багажъ очевидно не заключаетъ въ
себѣ ничего подозрительнаго, ибо онъ уже осмотрѣнъ весь до нитки и
случись что-нибудь, мнѣ дали-бы знать, сію-же минуту... Итакъ, я жду,
госпожа Быковская?..
Панна Теофиля колебалась, хрустя пальцами, ломая руки, а мило-
видное личико, влажное отъ слезъ, мучимое судорогою безвыходнаго от-
чаянія, вызвало сожалѣніе даже у ротмистра, ко всѣмъ видамъ горя и
печали притерпѣвшагося...
Ему искренно было жаль эту глупенькую, наивную дѣвушку.
— Торопитесь-же! Завѣряю вась моимъ словомъ, что въ случаѣ
чистосердечнаго признанія, вы понесете самую ничтожную кару... Только
одной формальности ради... Госпожа Быковская, гдѣ спрятаны у васъ до-
ку менты?...
Черезъ минуту голубоглазый ротмистръ, опустившись на одно ко-
лѣно передъ сидѣвшей Теофилей,—она беззвучно плакала, закрывь лицо
руками,—отвинчивалъ высокіе, лакированные каблучки новенькихъ, щеголь-
скихъ ботинокъ...
Кликнувъ унтеръ офицера и приказавъ ему остаться вмѣстѣ съ Бы-
ковской, ротмистръ удалился въ свой кабинетъ и, вооружившись Лупою,
сталъ знакомиться съ вынутыми изъ каблучковъ бумагами. И, по мѣрѣ
чтенія, кидало въ жаръ и въ холодъ этого уравновѣшеннаго человѣка
и сухо было во рту, а голова кружилась, какъ у пьянаго...
Это были разоблаченія исключительно ошеломляющей политической
важности...
И заработала, безъ устали заработала телеграфная проволока, соеди-
няющая глухую пограничную станцію съ гранитнымъ, величественными
Петроградомъ...
6. „Охотники за черепами".
— Пгапогщикъ Гудіевъ... пгапогщикъ Гудіевъ...—тщетно звалъ корнетъ
князь Монтвиллъ мягкимъ, грассирующимъ голосомъ прапорщика своего,
Гудіевъ какъ сквозь землю провалился въ этой густой, хоть выколи
глазъ, тьмѣ кромѣшной буковаго лѣса.
Да и въ прямомъ смыслѣ слова можно было бы на каждомъ шагу,
того и гляди, выколоть глазъ, наткнувшись на сухой сучекъ или вѣтку.
- 191 —
Гудіевъ, этотъ маленькій, сухощавый осетинъ съ Георгіемъ еще за
японскую войну, взявъ съ собою полувзводъ „всадниковъ", повелъ ихъ
внизъ къ самому берегу, чтобъ разсыпать сторожевой цѣпью.
И, несмотря на черный, какъ сажа, мракъ, каждый зналъ свое мѣсто,
зналъ, куда и по какой тропинкѣ надо спуститься и какіе именно окопы
занять...
И тихо перекликались голоса, и еще тише безвучно скользили тѣни,
сливаясь съ черной тьмою, тѣни горцевъ, видѣвшихъ ночью, какъ днемъ.
Ночью... Это была одна изъ тѣхъ великолѣпныхъ южныхъ ночей,
когда небо такъ густо усѣяно яркимъ миганьемъ звѣздъ, что, кажется, весь
темный бархатный куполъ—сплошная парча, холодными блестками горящая.
Два шалаша рядомъ. Телефониста и офицерскій. Непріятно жужжаще
загудѣлъ телефонъ. Загудѣлъ и умолкъ въ ожиданіи отвѣта.
Телефонистъ подошелъ къ отверстію офицерскаго шалаша, такъ
пріятно пахнущаго сухими листьями.
— Изъ штаба ротмистра Султанъ-Чингиза къ телефону просятъ...
Что-то зашуршало, и выросъ фантастическій силуэтъ въ папахѣ и
широченной буркѣ.
Султанъ-Чингизъ поднесъ къ уху трубку.
— Алло...
— Чингизъ, ты?..
— Я...
— Вотъ, что, милый другъ, какъ у васъ тамъ? Спокойно?
— Маленькая перестрѣлка была, по положенію...
— Вотъ что, бригадный просилъ тебѣ передать, чтобы ты перебро-
силъ на тотъ берегъ нѣсколькихъ „охотниковъ за черепами". Пусть сдѣ-
лаютъ развѣдку. А самое главное, и это задача не легкая, пусть добудутъ
плѣннаго, чтобъ его можно было бы разспросить толкомъ... Самъ знаешь,
къ намъ въ штабъ ежедневно шатаются добровольцы-русины со всякими
свѣдѣніями. Но они врутъ все! Не потому, что хотятъ врать, а сами ни
чорта не смыслятъ... Такъ вотъ... Займись этимъ. И спокойной ночи, если
васъ только не будутъ „чемоданить", какъ въ позапрошлую сторожевку.
Султанъ-Чингизъ повѣсилъ трубку.
— Эй, кто здѣсь? Вахмистра ко мнѣ!..
Черезъ минуту-другую передъ сотеннымъ командиромъ стоялъ вах-
мистръ Джафаръ, черкесъ, говорящій по русски. Этотъ Джафаръ нѣсколько
лѣтъ назадъ командовалъ въ Персіи всей сухопутной арміей и если не
командовалъ морскими сіг іми шахскаго величества, то развѣ потому
лишь, что въ Персіи пѣтъ ота.
Султанъ запалилъ авто ическим*.ъ зажигателемъ свою погасшую
трубочку, и красный огонекъ плылъ отсвѣтомъ выхватилъ изъ мрака
рѣзкій, костистый, соколиный профиль Чингиза. На бритой головѣ его
какимъ-то чудомъ держалась папаха, съѣхавшая на самый затылокъ. Ни-
кто во всемъ полку не умѣлъ носить папахи съ такимъ особеннымъ гор-
скимъ щегольствомъ, какъ Султанъ-Чингизъ.
Трубочка вспыхивая освѣщала густую крашеную бороду Джафара,
освѣщала глубокій шрамъ отъ виска черезъ всю щеку, дорожкою исче-
завшій въ бородѣ, все носатое, разбойничье лицо освѣщала.
Султанъ заговорилъ съ нимъ по-черкесски. И, когда кончилъ, послы-
шался голосъ изъ мрака:
192
Ваша свѣтлость, разрѣшите мнѣ попробовать?.. Я постараюсь до-
быть плѣннаго...
Кто говоритъ, подойди ближе...
— Всадникъ Обнорскій, ваша свѣтлость...
— Ахъ, это вы, Обнорскій, я не узналъ вашего голоса!.. А развѣ вы
понимаете по черкесски?
— Немного смекаю... Пятое черезъ десятое. Какъ-никакъ четвертый
мѣсяцъ пошелъ, что я среди черкесовъ... Разрѣшите, ваша свѣтлость?..
— Ничего не имѣю противъ. Вы, Обнорскій, именно такой человѣкъ,
которому смѣло можно довѣрить такую трудную, опасную развѣдку.
Сколько вы намѣрены взять съ собой человѣкъ?..
— Двухъ совершенно достаточно, ваша свѣтлость. Дѣло не въ коли-
чествѣ.
- А въ качествѣ!—подхватилъ Чингизъ.—Совершенно вѣрно! Будь
у меня въ порядкѣ моя рука, я это самъ продѣлалъ бы вмѣстѣ съ вами...
Нѣсколько недѣль назадъ Чингизъ былъ раненъ пулею въ кисть
правой руки. Князь Цацавадзе почти насильно эвакуировалъ его. Но не
выдержалъ Чингизъ, стало скучно и вернулся въ полкъ недолечившійся
и носилъ руку на черной перевязи. Полу черкесъ, полутатаринъ, лихой
кавалеристъ, онъ былъ человѣкомъ исключительно-безумной отваги...
— Хорошо, Обнорскій, съ Богомъ! Никакихъ совѣтовъ, никакихъ
указаній вамъ не даю. Ученаго учить, только портить, Желаю вамъ
успѣха!..
Чингизъ, отпустивъ Обнорскаго и вахмистра съ огненной бородою,
вернулся въ шалашъ, гдѣ на разостланной поверхъ сухихъ листьевъ буркѣ
поджидалъ его корнетъ князь Монтвиллъ.
Монтвиллъ грассирующимъ голосомъ своимъ разсказывалъ о сокро-
вищахъ Ватикана, изумительныхъ сокровищахъ, которыя могутъ только
видѣть лица посвященныя и которыми удалось ему любоваться потому
лпшь, что дядя его былъ кардиналъ.
Кардиналъ, завѣдывавшій миссіонерами. И въ дѣтствѣ своемъ князь
Монтвиллъ,—это всегда останется въ памяти,— былъ свидѣтелемъ пріема
въ одной изъ безчисленныхъ ватиканскихъ капеллъ кардиналомъ Монтвил-
ломъ съѣхавшихся со всѣхъ концовъ свѣта миссіонеровъ. На самыхъ
отдаленныхъ точкахъ земного шара, пламенно, рискуя жизнью, проповѣ-
дывали они варварамъ и дикарямъ слово Божіе.
Они напоминали гонцовъ раскинувшей свой фронтъ по всей землѣ
Христовой арміи, эти бородатые люди въ грубыхъ сутанахъ, босые, под-
поясанные веревками, опаленные экваторіальнымъ солнцемъ. У нѣкоторыхъ
сквозь волосатую гущу заросшаго лица одиноко и вдохновенно сверкалъ
единственный глазъ. Другой, былъ съѣденъ вождемъ кровожаднаго, пи-
тающагося человѣческимъ мясомъ племени какихъ-нибудь острововъ, забы-
тыхъ не только Богомъ и людьми, но и географическою картою.
Были миссіонеры съ обрубленными ушами и плоскимъ треугольни-
комъ вмѣсто носа. Были начисто скальпированные вымирающими племе-
нами индѣйцевъ.
Но никакія увѣчья и пытки не могли сломить духгі этой арміи, съ
крестомъ вмѣсто меча и въ мундирѣ-сутанѣ изъ верблюжьей шерсти.
И тутъ же рядомъ съ ними „новообращенные0. Шафранные малайцы
съ косымъ разрѣзомъ узкихъ глазъ, полуобнаженные островитяне, съ воло-
193
із
сами до плечъ, съ кабаньимъ клыкомъ въ носу и съ чудовищными трех-
фунтовыми „серьгами" въ ушахъ, дикари, несмотря на свое „обращеніе",
не могли отдѣлаться отъ языческихъ привычекъ и амулетовъ.
И были еще и еще какіе-то невѣдомые, страшные люди, которыхъ
племянникъ кардинала никогда не встрѣчалъ ни въ одномъ изъ посвящен-
ныхъ человѣковѣденію атласовъ.
Увлекателенъ былъ разсказъ князя Монтвилла, говорившаго не сво-
бодно по-русски, сплошь да рядомъ перебѣгавшаго на французскій языкъ.
Бывшій германскій подданный, онъ служилъ въ ганноверскихъ ула-
нахъ и, хотя его дѣдъ женатъ былъ на принцессѣ Прусской, а слѣдова-
тельно породнился съ Гогенцоллернами, несмотря на это, германскіе
офицеры подъ маскою холодной вѣжливости относились къ Монтвиллу
непріязненно потому лишь, что онъ былъ полякъ...
А сквозь листву шалаша глядѣли оттуда, съ недосягаемыхъ высей
трепещущія холодными переливчатыми огоньками звѣзды. И подъ этими
звѣздами, въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ австрійцевъ, на разостланной
буркѣ сошлись въ интимной бесѣдѣ потомокъ хановъ Золотой Орды и
послѣдній отпрыскъ владѣтельныхъ князей литовскихъ. И оба въ черкес-
кахъ и папахахъ, съ кинжалами у пояса... Одинъ чуть ли не вчерашній
ганноверскій уланъ, мягкій, женственный, другой джигитъ, сломя голову
носившійся верхомъ въ своихъ горахъ, еше не умѣя ни читать, ни писать,—
і иестилѣтнпмъ ребенкомъ.
И вотъ они въ душистыхъ потомкахъ шалаша коротаютъ свою „аван-
постную" ночь.
Судьба, случай... Случай, возможный только развѣ на войнѣ, потому что
она вся-сплошное диковинное сплетеніе самыхъ невѣроятныхъ случаевъ...
А въ двухстахъ шагахъ Гермесъ умолялъ Зауръ-бея:
— Обнорскій, заклинаю васъ, возьмите меня съ собою’..
— Гермесъ, не приставайте ко мнѣ съ глупостями!..
— Ради Бога... Я обѣщаю во всемъ, во всемъ слушаться. Я такъ
хочу вмѣстѣ съ вами!.. Мнѣ скучно сидѣть въ окопѣ... Обнорскій, вы такъ
хорошо ко мнѣ относитесь...
— Поэтому именно я и не беру васъ...
— Ахъ, вотъ какъ!.. Вы думаете, что я трусъ, никуда не гожусь!..
Что меня надо опекать. Обнорскій, вы же меня оскорбляете!.. Вы говорите,—
опасно. Я потому и хочу. Ахъ, Обнорскій! За что вы меня обижаете? Вы
дали мамѣ слово, я знаю...
Зауръ-бей крѣпко взялъ чуть не плачущаго,—въ голосѣ его дрожали
слезы,—Гермеса за руки, выше локтя.
— Успокойтесь, сумасшедшій юноша!.. Поймите же вы, что я васъ не
потому не беру, что далъ какое-то слово вашей матушкѣ, а потому, что
мнѣ нужны другіе люди. Надо ползти незамѣтно ползкомъ, надо впитать
въ себя съ молокомъ матери хищническій партизанскій способъ воевать
въ одиночку. Надо владѣть кинжаломъ лучше, нежели опытный цируль-
никъ—своей бритвой... Я уже остановился... Изъ всей сотни я выбралъ
двухъ лучшихъ абрековъ. У каждаго изъ нихъ на душѣ по доброму де-
сятку7 „честныхъ" и не особенно честныхъ убійствъ. Такіе люди пойдутъ
за мною, сдѣлаютъ, что я прикажу, а главное, будутъ мнѣ полезны. До-
вольно съ васъ?.. Тороплюсь, некогда мнѣ съ вами! Ступайте въ вашъ
окопъ,—это будетъ самое лучшее...
Т94
Оставивъ опечаленнаго, съ поникшей головою, Гермеса, Обнорскій
вернулся къ офицерскому шалашу.
— Ваша свѣтлость?..
— Вы еще не на дѣлѣ, Обнорскій?..
— Такъ точно... Я хотѣлъ предупредить вашу свѣтлость. Черезъ нѣ-
сколько минутъ австрійцы обстрѣляютъ рѣку. Это нужно, чтобы отвлечь
ихъ вниманіе...
— Хорошо! Передайте Джафару, чтобы черкесы не отвѣчали и не
тратили зря патроновъ.
У самой воды Зауръ-бей копошился надъ чѣмъ-то съ двумя „всадни-
ками". Этимъ „чѣмъ-то" оказался маленькій, наскоро связанный бичев-
ками плотъ изъ нѣсколькихъ досокъ и вѣтвей. Было грубое подобіе двухъ-
трехъ фигуръ, сидѣвшихъ на плоту и смастеренныхь изъ палокъ и тряпокъ.
Черезъ минуту плотъ очутился на водѣ, уже достигъ середины и
поплылъ внизъ по теченію.
А еще спустя минуту, австрійцы въ передовыхъ окопахъ своихъ,
убѣжденные, что врагъ пытается достигнуть ихъ берега, подняли ружей-
ную трескотню.
Плоть скользилъ себѣ, да скользилъ черной массою, отдавшись те-
ченію, какъ ни въ чемъ не бывало
Зауръ-бей хотѣлъ отвлечь вниманіе австрійцевъ и достигъ этого.
А самъ вмѣстѣ съ двумя головорѣзами, повыше, безъ малаго въ полу-
верстѣ, готовилъ уже настоящую переправу.
Еще днемъ высмотрѣлъ онъ удобный, заросшій кустарникомъ, „тотъ
австрійскій берегъ", лиоо совсѣмъ неохраняемый, либо чуть-чуть охраня-
емый, такъ какъ параллельныя русскія цѣпи на другой сторонѣ уже не
доходили до этихъ мѣстъ.
Винтовки, шашки, черкески, все это мѣшало бы. Все это оставлено
„всадниками" на берегу. Всѣ трое—въ легонькихъ, короткихъ бешметахъ,
съ кинжалами и револьверами у пояса.
Борется съ теченіемъ маленькій плоскодонный челнъ. Малѣйшее дви-
женіе, и онъ перевернется. Зауръ-бей, стоя на колѣняхъ, гребетъ. Абреки
его, чтобы не колебать равновѣсія, плашмя лежатъ на мокромъ, воду про-
сачивающемъ днѣ.
Тихо, такъ тихо,—весло не всплеснетъ. Громадою темной все ближе
и ближе надвигается крутой берегъ. Челнъ съ мягкимъ, какъ шопотъ во
снѣ потревоженнаго, шелестомъ врѣзался въ гущу ивовыхъ кустовъ.
Три тѣни ползутъ, распластываясь, втискиваясь въ траву... Медленно
ползутъ, высматривая, замирая.
Абреки очутились въ тылу непріятельскихъ окоповъ. Моментами
вспыхивали свѣтящіяся ракеты и отъ синихъ и красныхъ огней становилось
до боли въ глазахъ свѣтло. А тамъ, гдѣ втискивались въ землю три тѣни,
тамъ густой мракъ.
Это лишь начало. Задача Обнорскаго проникнуть въ тылъ возможно
глубже, чтобъ опредѣлить „плясировку" непріятельскихъ батарей.
Но слышенъ нѣмецкій говоръ, и двѣ фигуры идутъ прямо на чер-
кесовъ... Зауръ-бей и его спутники, съ которыми онъ, забывъ про свое
„курское дворянство", говорилъ все время на чистѣйшемъ туземномъ на-
рѣчіи, отползли... А тѣ двое идутъ прямо на нихъ. И знакомъ, удивительно
знакомъ Зауру голосъ высокаго, очень высокаго офицера...
г95
7. „Волшебный принцъ".
Аббатъ Прима-Дочи, вмѣстѣ съ тѣлохранителями своими албанцами,
исчезъ съ береговъ Невы такъ же внезапно, какъ и появился.
Наканунѣ рѣшили обѣдать на другой день вмѣстѣ, втроемъ: аббатъ,
Марлявчевичъ и Санъ-Діонисіо. Но вотъ подоспѣло время... Ни маркиза,
ни аббата Прима-Дочи,—нѣтъ и въ поминѣ.
Подождавъ, принцъ Зеты спустился въ ресторанъ и, хочешь-не-хо-
чешь,—обѣдалъ въ единственномъ числѣ. Этотъ недавній, рѣшительно
никому невѣдомый скромный канцелярскій чиновникъ теперь однимъ по-
явленіемъ своимъ производилъ сенсацію.
Маркизъ Санъ-Діонисіо, совмѣщавшій въ себѣ гофмаршальскія спо-
собности съ талантомъ импрессаріо, успѣлъ разрекламировать принца
Зеты, гдѣ только можно было: въ журналахъ, газетахъ, на конфектныхъ
коробкахъ, на заборахъ и даже на свѣтящихся электрическихъ вывѣс-
кахъ, вспыхивающихъ ночью средь мрака, словно огненное „Манэ-факелъ-
фаресъ".
Мудрено ли, что какъ только Марлявчевичъ входилъ въ ресторанъ,
въ кинематографъ, театръ,—онъ становился центромъ всеобщаго внима-
нія. Кругомъ шушукались. Дамы лорнировали „интереснаго" принца.
Многіе, всѣми правдами и неправдами, стремились познакомиться съ „его
высочествомъ".
Падкій ко всему титулованному банкиръ Ольгердъ Фердинандовичъ
Пенебельскій мечталъ уже о томъ, какъ принцъ Зеты украситъ своей
собственной персоною готическую столовую его великолѣпнаго особняка
на Сергіевской.
Пенебельскій имѣлъ честь кормить многихъ сіятельствъ, превосхо-
дительствъ и даже высокопревосходительствъ. Но „высочество", хотя бы
даже и экзотическое, еще ни разу не украшало его обѣдовъ и завтра-
ковъ. Онъ всегда мучительно, до сосущей боли подъ ложечкой, завидовалъ
банкирамъ Парижа и Лондона, которыхъ удостаиваютъ своимъ посѣще-
ніемъ принцы крови.
Былъ еще и другой умыселъ у Пенебельскаго, слабаго до всяческихъ
орденовъ, слабаго въ такой же самой безудержной мѣрѣ, какъ и его
константинопольскій коллега, увы, покойный, Агамемнонъ Сарифи.
Пенебельскій не сомнѣвался, что, какъ только принцъ Зеты увѣн-
чаетъ себя короною предковъ, онъ первымъ дѣломъ учредитъ орденъ.
И воч ь высшую степень ордена съ лентой и звѣздою банкиръ полу-
чилъ бы съ превеликимъ удовольствіемъ... Орденъ Зеты. Это даже пи-
кантно!..
Правда, Пенебельскій имѣлъ болгарскую лепту. Но какой же поря-
дочный, уважающій себя русскій человѣкъ надѣнетъ болгарскую „деко-
рацію" въ эти дни, когда Болгарія такъ вѣроломно помогаетъ нѣмцамъ,
австрійцамъ и туркамъ въ борьбѣ съ четвернымъ согласіемъ, вообще,
и съ Освободительницей-Россіей, въ частности.
Итакъ, Марлявчевичъ обѣдалъ одинъ. Появившійся вдругъ изъ-за
тропическихъ растеній, мрачный и кислый маркизъ Санъ-Діонисіо под-
сѣлъ къ принцу, когда тотъ пилъ уже кофе.
— Гдѣ же это вы пропадали, маркизъ? Почему я не вижу аббата?..
— 196 —
Санъ-Діонисіо сдѣлалъ неопредѣленный жестъ, не лишенный однако
достоинства.
— Гдѣ я пропадалъ?.. Аббатъ Прима-Дочи велѣлъ вамъ кланяться...
— Развѣ онъ уѣхалъ?
— Только что!.. Я проводилъ его и сію же минуту вернулся съ вок-
зала. Онъ получилъ срочную телеграмму отъ владѣтельнаго князя мери-
дитовъ Бобъ-Доды, съ просьбою немедленно вернуться... Вообще, мнѣ
надо поговорить съ вами на чистоту,—молвилъ Санъ-Діонисіо. понижая
голосъ, хотя крутомъ не было близко сосѣдей, да и оркестръ способенъ
былъ заглушить самую громкую рѣчь.—Надо поговорить... Многія обстоя-
тельства измѣнились и весьма круто... Измѣнилось и отношеніе къ вамъ,
не лично къ вамъ, а къ вопросу будущаго королевства Зеты, вашихъ мо-
гущественныхъ покровителей...
— Почему?
— Какъ это почему? — недовольно шевельнулъ усами эксъ-гофмар-
шалъ Вида Албанскаго... Развѣ я могу, развѣ я вправѣ посвящать васъ
въ политическіе секреты?..
Санъ-Діонисіо понемногу сбрасывалъ маску, показывая настоящее
лицо свое. Онъ уже не величалъ своего собесѣдника „высочествомъ", и
куда дѣвалась такая предусмотрительная во всемъ готовность?..
Ларчикъ открывался просто. Во-первыхъ, Августь Раухъ, сосланный
на ближній сѣверъ и выгнанный Маріей Сергѣевной, не субсидировалъ
больше „представительство" жениха своей недавней подруги, а, во-вторыхъ,
Санъ-Діонисіо получилъ неутѣшительное извѣстіе съ Адріатическаго по-
бережья... Черногорцы проявили такую готовность умереть за единство
страны своей, и за своего короля, и такъ дружно отбросили, съ помощью
сербовъ, мятежныя племена албанцевъ, что всякая мечта внести смуту
обѣщаніемъ возстановленія Зеты, съ законнымъ монархомъ ея во главѣ,
разсѣялась, какъ дымъ...
А слѣдовательно и Марлявчевичъ со своей парадной формою штал-
мейстера отъ Чинизелли, былъ теперь не нужнымъ и лишнимъ интригану
Санъ-Діонисіо, разъ сама авантюра оказалась ненужной, лишней.
Маркизъ такъ и объявилъ Марлявчевичу:
— Съ сегодняшняго дня всѣ мои обязательства по отношенію васъ,—
кончились!.. Я самъ, быть можетъ, завтра, быть можетъ, послѣзавтра, не знаю
въ точности, долженъ покинуть Петроградъ. Ваша дальнѣйшая судьба
меня не касается. Да вы не ребенокъ, чтобъ нуждаться въ постоянной
нянькѣ. Я васъ поставилъ на рельсы, чего же больше?.. Теперь вамъ
легко устроить свою судьбу. Вы принцъ, принцъ несомнѣнный и этого
никто не отыметъ у васъ. Я вамъ сдѣлалъ рекламу на всю Россію. До-
рога открыта. Вы можете подхватить милліонное приданое, можете полу-
чить выгодное мѣсто. Банкиръ Пенебельскій съ наслажденіемъ выброситъ
десять-двѣнадцать тысячъ въ годъ за удовольствіе называть принца Зеты
своимъ личнымъ секретаремъ... Вы получили отъ меня въ разное время
немало денегъ. Сколько осталось у васъ?
— Тысячъ, тысячъ семь восемь, — не сразу, машинально отвѣтилъ
Марлявчевичъ, пораженный этимъ внезапнымъ спускомъ съ заоблачныхъ
высей на землю.
— Прекрасно!.. Я уѣзжаю, ликвидирую свои дѣла и мнѣ нужны
деньги. За пять тысячъ я готовъ, въ видъ любезности, пожалуй, уступить
197
вамъ часть документовъ и бумагъ, подтверждающихъ, кто вы и что вы?..
За пять тысячъ...
У васъ останется нѣкоторый хвостикъ, на первое обзаведеніе. Что же
касается костюмовъ, экипировки, — вамъ смѣло хватитъ на нѣсколько
лѣтъ...
Итакъ, „мигъ и нѣтъ волшебной сказки"!.. Иванъ Марлявчевичъ,
уже протянувшій руку къ манящей коронѣ Зеты, очутился вновь у раз-
битаго корыта.
Правда, не совсѣмъ разбитаго. Дѣйствительность не такъ ужъ пе-
чальна. Дудки, онъ не вернется больше къ прозябанію въ меблирашкахъ
на сто двадцать пять рублей въ мѣсяцъ! Довольно!..
И если-бъ этотъ мошенникъ,—теперь Марлявчевичъ называлъ его
мошенникомъ, — потребовалъ за бумаги и документы всѣ до копѣйки
„сбереженія" предендента на зетскій престолъ,—онъ ихъ получилъ бы.
За эти нѣсколько мѣсяцевъ Марлявчевичъ прошелъ недурной жи-
тейскій университетъ, убѣдившись, до чего велико обаяніе титула для
пустыхъ и тщеславныхъ людей. А развѣ подавляющее большинство ихъ—
не пустые и не тщеславные?..
Нѣтъ, довольно быть кроткой овечкой! За эти полгода у него успѣли
отростп зубы. Настолько острые и крѣпкіе, что онъ сумѣетъ вцѣпиться
мертвой хваткою въ жизнь, чтобъ откусить отъ нея лучшій кусокъ...
Маркизъ Санъ-Діонисіо уѣхалъ, увезя съ собою пять тысячъ и
оставивъ Марлявчевичу, взамѣнъ, нѣсколько пожелтѣвшихъ, мелко испи-
санныхъ гусинымъ перомъ бумагъ, съ восковыми печатями...
А принцъ Зеты, нисколько не мѣняя своего размаха, жилъ да жилъ
въ „Семирамисѣ", въ своихъ трехъ комнатахъ, обходившихся, съ гро-
мадной скидкою—въ двадцать рублей въ день.
И хотя у Марлявчевича осталось всего на всего отъ прежняго вели-
чія и блеска четыре пятисотрублевки, съ ничтожными какими-то пустя-
ками,—но, Боже сохрани, упасть духомъ, съежиться и переѣхать куда-
нибудь—поскромнѣе и подешевле!.. Боже сохрани!..
Наоборотъ, — послѣдняя копѣйка ребромъ, — но все должно быть,
какъ раньше, безъ перемѣны. И тогда только возможенъ успѣхъ!..
Вдохновляла и окрыляла новой, неизвѣданной смѣлостью,—любовь...
Да, любовь, потому что Марлявчевичъ съ первой же встрѣчи былъ весь,
цѣликомъ весь, очарованъ Маріей Сергѣевной... И такъ неожиданно оча-
рованъ.
Полагалъ увидѣть надменную львицу, которая свысока заморозитъ
его однимъ взглядомъ гордыхъ очей своихъ. А на самомъ дѣлѣ онъ
провелъ въ обществѣ славной, сердечной женщины, которая смѣялась, съ
такими мягкими, глубокими нотами, смѣхомъ.
Потомъ они видѣлись еще и еще и незамѣтно росло между ними
что-то такое свое, прекрасное, недоговоренное, поэтическое.
И когда Марія Сергѣевна говорила Тимофеенкѣ, что ей жалко
принца Зеты, что онъ добрый и чистый, она уже любила его.
Но самъ принцъ не вѣрилъ въ ея любовь, не вѣрилъ потому, что
самъ любилъ. А кто любитъ,—всегда сомнѣвается.
И вдругъ эта рѣзкая перемѣна. Это мгновенное — съ облаковъ на
землю. И маркизъ Санъ-Діонисіо, сгинувшій невѣдомо куда, и аббатъ
Прима-Доччи, исчезнувшій нѣсколькими днями раньше съ „вѣрноподдан-
— 198 —
ными" головорѣзами, и мечты, близкія къ осуществленію — поѣхать на
берегъ Адріатики добыть корону,—все это почудилось теперь отгорѣв-
шимъ миражемъ.
”И остались отъ этого миража лишь древніе четырнадцатаго вѣка
документы, желтосиніе, полуистлѣвшіе на сгибахъ, да красный вицъ-
му ндиръ съ бѣлыми панталонами и красной треуголкой.
И эта форма, недѣлю назадъ тѣшившая тщеславіе принца, казалась
ему теперь какой то жалкой опереточной гримасою...
Марія Сергѣевна позвонила ему въ телефонъ, прося заѣхать.
Дорогою онъ волновался. Теперь, пожалуй, онъ утратилъ для нея
всякій интересъ— нищій принцъ!.. Она объяснится съ нимъ и они разой-
дутся, чтобъ никогда больше не встрѣтить другъ друга. Зачѣмъ онъ ей,
разъ онъ не украситъ ея царственной головки древней короною Зеты?
Но принцъ ошибся. Встрѣтила его Марія Сергѣевна теплѣй и заду-
шевнѣе, чѣмъ всегда. И въ глазахъ съ поволокою онъ читалъ,—сразу же
прочелъ,—такое благоволеніе богини къ смертному, что поплыло все пе-
редъ нимъ въ дурманящемъ, сладкомъ туманѣ и сквозь этотъ хаосъ —
обворожительная, кроткой мягкостью своею, улыбка.
— Ахъ, вы не знаете, Марія Сергѣевна...
— Милый, я все знаю!..
И вы не гоните меня?
— Смѣшной! Ничуть! Ни капельки не гоню... Совсѣмъ даже наобо-
ротъ. Хочу васъ пришить къ себѣ крѣпко-крѣпко, чтобъ нельзя было
оторвать... Нѣтъ, безъ шутокъ, милый, хотя я вовсе не шучу... Надоѣлъ
мнѣ этотъ маскарадъ! Чортъ съ пей, съ этой короной, получить которую
можно было,—да еще можно-ли, большущій вопросительный знакъ, -по
милости какихъ-то темныхъ господъ... Вашъ этотъ удравшій Санъ-Діонисіо
прохвостъ первостатейный!.. Видимо раскрылась какая-нибудь грязная
исторія. Вотъ онъ и давай Богъ ноги. Довольно!.. Я сама за себя рада,
что избавилась отъ одного... человѣка и теперь совсѣмъ-совсѣмъ свободна!..
И никто у меня не торчитъ здѣсь. И никому я не обязана ни въ какихъ
отчетахъ... Весело, хорошо. Ахъ, какъ хорошо!.. Теперь садитесь, будьте
умникомъ и слушайте...
И она посадила его противъ себя и смотрѣла на него важно и строго
и недавней улыбки нѣтъ и въ поминѣ...
— Слушайте, принцъ, мой волшебный принцъ, волшебный, потому
что вы явились ко мнѣ, словно изъ какой-го фееріи... Явились и околдо-
вали меня. И такимъ хорошимъ, спокойнымъ, сознательнымъ колдовствомъ...
Видите,—это признаніе. Шаблонъ требуетъ, чтобы мужчина первый ска-
залъ о своемъ чувствѣ. Но я терпѣть не могу никакихъ шаблоновъ. Да
не сидите-же вы истуканомъ... Ноги поставилъ параллельно, руки поло-
жилъ на колѣни, замеръ и въ самомъ дѣлѣ думаетъ, что каріатида еги-
петская...
И опять озарилось прекрасное лицо улыбкой.
А Марлявчевичъ подъ наплывомъ счастья, подъ впечатлѣніемъ этихъ
словъ—музыки, въ самомъ дѣлѣ, готовъ былъ превратиться въ одно изъ
гранитныхъ фараоновыхъ изображеній.
А голосъ Маріи Сергѣевны поетъ райскую пѣснь:
— Милый, вы не думайте, что я потому, что вы принцъ... Каюсь,
раньше хотѣла... Гербы, корона и все такое... Раньше, а теперь,—нѣтъ...
199
Теперь я люблю... Понялъ, дурачекъ?.. Понялъ? Ну иди же, иди ко мнѣ?
Довольно тебѣ истуканомъ каменѣть!..
И послушный, въ гипнозѣ какомъ-то, очутился онъ передъ нею на
колѣняхъ и чувствовалъ ее всю, теплую, бѣлую, пышную и встрѣтилъ
горячія губы, увидѣлъ близко страдальческую истому глазъ, полузакры-
тыхъ, миндалевидныхъ, затуманенныхъ поволокою и блаженствомъ...
II его охватило это ударившее по нервамъ блаженство...
А сверху, надъ ними, съ палисандровой тумбы, черный, какъ сапогъ,
венеціанскій мавръ скалилъ свои ослѣпительно бѣлые зубы...
8. Плѣнникъ.
— Чортъ побери, мнѣ это ужъ надоѣло!.. Я люблю наступать, на-
ступать и наступать!.. А вы уже вотъ около мѣсяца уперлись въ этотъ бе-
регъ и пи съ мѣста... Нѣтъ, вы, австрійцы, Н} ль безъ насъ, круглый нуль!..
— Мы дѣлаемъ все, что можемъ... Но вѣдь эти дьяволы въ красныхъ
башлыкахъ, это не солдаты, не воины, а какіе-то демоны, ваша свѣтлость!..
Однимъ своимъ видомъ способны вселить страхъ и ужасъ...
— Въ кого угодно, но только не въ германцевъ!..—перебилъ высо-
кій офицеръ собесѣдника своего,—значительно пониже.
Высокій говорилъ по-нѣмецки съ типичнымъ бранденбургскимъ акцен-
томъ, громко, рѣзко и немилосердно картавя. Говорилъ съ апломбомъ,
какъ власть имущій. Отвѣчалъ ему подобострастный, какъ-бы извиняясь,
пѣвучій, такой характерный для вѣнца, тоненькій голосъ.
Высокій былъ въ каскѣ, удлинявшей и безъ того необыкновенно
длинную фигуру. Другой, пониже — въ мягкомъ австрійскомъ походномъ
колпакѣ, съ маленькимъ козырькомъ.
Все это ясно видѣли затаившіеся горцы, видѣли, какъ днемъ, средь
ночи, въ двухъ-трехъ шагахъ отъ себя.
Длинный, щеголя своимъ бранденбургскимъ, акцентомъ, какъ если-бъ
кого-нибудь на чемъ свѣтъ стоитъ распекалъ и бранилъ, продолжалъ:
— Погодите, милѣйшій маіоръ, погодите!.. Завтра пойдетъ баталіонъ
пруссаковъ, и ситуація измѣнится сразу. Вы увидите, какъ доблестные сол-
даты, переправившись па тотъ берегъ, погонятъ, какъ зайцевъ, этихъ кав-
казскихъ дикарей...
Маіоръ виновато молчалъ... Можетъ быть онъ и хотѣлъ отвѣтить
что-нибудь строгому собесѣднику своему, но сдержался и только чуть
слышно вздохнулъ...
Гдѣ-то далеко грянулъ раскатистый орудійный выстрѣлъ, эхомъ ото-
звался по равнинѣ, пошелъ перекликами межъ холмовъ, и черезъ секунду
пронесся надъ головами снарядъ съ металлическимъ, протяжнымъ визгомъ...
Высокій офицеръ согнулся въ три погибели.
- Чортъ-бы ихъ побралъ!.. Они насъ обстрѣливаютъ... Подальше
отсюда...
II онъ, бѣгомъ-бѣгомъ, хотѣлъ перенести свою особу куда-нибудь
въ болѣе надежное мѣсто, гдѣ не пролетаютъ надъ головою снаряды, хотя
и рвущіеся далеко позади въ тылу. Но этотъ храбрый на словахъ и да-
леко не такой храбрый па дѣлѣ офицеръ никуда не убѣжалъ. Да и спут-
никъ его остался на мѣстѣ. Остался навсегда, заколотый кинжаломъ...
200
Три тѣни, словно изъ-подъ земли выросшія, мгновенно распружини-
вшись, кинулись одна къ австрійцу, другія двѣ—къ длинному офицеру въ
каскѣ. Австріецъ повалился оезъ малѣйшаго звука, безъ стона. А гер-
манецъ лежалъ съ тряпкою во рту, и два человѣка закопошились надъ
нимъ, скручивая ему за спиною руки.
Зауръ-бей срѣзалъ у маіора погоны, и вмѣстѣ съ его мягкимъ голов-
нымъ уборомъ сунулъ себѣ въ карманъ бешмета.
Одинъ изъ абрековъ добрымъ тумакомъ заставилъ нѣмца подняться
на ноги. Схвативъ за шиворотъ, поволокъ за собою къ берегу туда, гдѣ
чернѣли купою заросли.
Нѣмецъ, вздумавшій было упрямиться, ощутивъ пониже затылка
острое, холодное, колющее прикосновеніе кинжала, мигомъ сдѣлался шелко-
вымъ и покорно побрелъ за этими страшными людьми въ косматыхъ шап-
кахъ... Непостижимо откуда появившимися людьми, которыхъ минуту
назадъ онъ такъ самоувѣренно презиралъ.
Тихими, отрывистыми, гортанными звуками, Зауръ-бей руководилъ
своими абреками, изъ которыхъ каждый, по его словамъ, имѣлъ на своей
душѣ по десятку „честныхъ" и „не совсѣмъ честныхъ" убійствъ.
Маленькій челнъ не могъ выдержать четырехъ „пассажировъ". Сдѣ-
лали такъ: нѣмца, спеленавъ по рукамъ и по ногамъ бичевками, словно
мумію, положили на дно. Зауръ-бей по прежнему гребъ, стоя на колѣняхъ,
а его джигиты бросились черезъ Днѣстръ вплавь, придерживаясь лѣвой
рукою бортовъ челна...
И только когда маленькая флотилія благополучно прибыла во свояси,
„разгрузилась", и абреки повели вверхъ по тропинкѣ дрожащаго осино-
вымъ листомъ плѣнника, только тогда австрійцы, видимо, хвативши ъ
одного исчезнувшаго офицера и убитаго маіора, залпами обстрѣляли не-
пріятельскій берегъ.
И сквозь эти залпы доносило вѣтеркомъ, сквозь мракъ холодѣющей
къ утру ночи, крики безсильнаго бѣшенства... И въ этихъ горловыхъ
крикахъ угадывались венгерцы.
Но ни запоздавшимъ обстрѣломъ, ни тѣмъ болѣе криками,—не по-
можешь... Безумно дерзкій налетъ остался безнаказаннымъ... Хотя не со-
всѣмъ безнаказаннымъ... Изъ австрійскихъ окоповъ дано было знать въ
тылъ по телефону тяжелой батареѣ, и она, въ видѣ репрессіи, усердно
стала „чемоданить" лѣсистый, бугорчатый мысокъ, съ затаившейся на
немъ сотнею...
Но австрійцы не могли пристрѣляться, все время давая перелеты, и
Богъ знаетъ, гдѣ разрывались чудовищные снаряды. Ближайшій угодилъ
въ коновязи, въ полуверстѣ за спиною окоповъ, и за отважную выходку
всадника Обнорскаго поплатились нѣсколько убитыхъ лошадей и два
тяжело раненыхъ коновода.
Князь Монтвиллъ и Чингизъ, наговорившись вдоволь, откровенно,
по душѣ,—такъ довѣрчиво, интимно говорятъ лишь развѣ въ вагонѣ, да
на позиціяхъ, крѣпко спали, утомленные непрерывнымъ движеніемъ цѣ-
лаго дня и безъ малаго цѣлой ночи. Спали въ душистомъ, тѣсномъ
шалашѣ, на прикрытыхъ буркою сухихъ листьяхъ. И не нарушилъ глу-
бокаго, крѣпкаго сна грохотъ артиллерійскаго обстрѣла... Грохотъ, отъ
котораго, казалось, черныя, горящія яркими звѣздами небеса готовы разо-
рваться, и вотъ-вотъ рухнетъ па землю ихъ величавый куполъ...
201
Обнорскій, просунувшись наполовину въ шалашъ, и угадавъ Чингиза
въ непроглядной тьмѣ лишь по тонкимъ и мягкимъ чувякамъ, которые
нащупалъ,—Чингизъ носилъ ихъ, какъ истый кавказецъ, вмѣсто обыч-
ныхъ кавалерійскихъ сапогъ, — сталъ будить своего сотеннаго командира.
— Ваша свѣтлость, а ваша свѣтлость?..
Чингизъ вскочилъ однимъ цѣпкимъ движеніемъ, уже бодрый, уже
совсѣмъ наяву, безъ всякихъ переходовъ отъ сна къ дѣйствительности.
— Что такое?
— Языка добыли, ваша свѣтлость...
— Нижній чинъ, австріецъ?..
— Никакъ нѣтъ!.. Германскій офицеръ...
— Вотъ какъ!.. Это уже гораздо лучше... Поздравляю, Обнорскій!..
Давайте его сюда...
Чингизъ растолкалъ князя Монтвилла, и оба покинули шалашъ, во-
оруженные электрическими фонариками.
Два яркихъ, ослѣпительно нижущихъ мракъ, снопа скрестились на
высокой фигурѣ офицера въ каскѣ и помятомъ мундирѣ... Онъ стоялъ въ
наполеоновской позѣ, сложивъ на груди руки... Но эта поза не шла ему,
длинному, тонкому, и кромѣ того, онъ стучалъ зубами въ страхѣ передъ
невѣдомой дальнѣйшей судьбою своей...
А по бокамъ его—два, дикаго вида абрека, въ мокрыхъ, хоть выжми,
сапогахъ и бешметахъ... Лица горбоносыхъ чертей сіяли сознаніемъ
удачной охоты на человѣка.
Обнорскій, державшійся въ тѣни, сдѣлалъ надъ собою усиліе, чтобы
не вскрикнуть... И еще глубже отошелъ въ тѣнь...
Въ освѣщенномъ офицерѣ онъ узналъ „крестника" своего, князя
Турнъ-и-Таксисъ, котораго онъ отхлесталъ по физіономіи нѣсколько мѣ-
сяцевъ назадъ въ Константинопольскомъ Пти-Шанъ.
И вотъ надо-жъ, такая превратность судьбы! Здѣсь, на Галиційскихъ
поляхъ, онъ вторично подвергъ униженію этого потомка владѣтельныхъ
князей.
Но ни одинъ лишь Зауръ-бей узналъ плѣннаго германскаго офицера...
Узналъ Турна и князь Монтвиллъ, бывшій сослуживецъ его по ганно-
верскимъ уланамъ.
Но до поры, до времени, Монтвиллъ воздержался отъ признанія. Пусть
Турнъ самъ назоветъ себя...
Султанъ-Чингизъ держалъ плѣнника въ лучахъ своего фонаря, въ
лучахъ, отъ которыхъ длинный офицеръ жмурился.
— Кто вы?..
— Я—ротмистръ императорской гвардіи...
— Я вижу, что вы ротмистръ, вижу по вашимъ погонамъ... Но какъ
ваша фамилія?
Плѣнникъ, облизнувъ, пересохшія губы, молчалъ.
— Какъ ваша фамилія?—нетерпѣливо и строго спросилъ Султанъ.
— Я... я такъ взволнованъ, потрясенъ... Я не помню...
— А вы попробуйте вспомнить?..
На продолговатомъ, лошадиномъ лицѣ, какъ-то нелѣпо и глупо вра-
щались бѣлые глаза на выкатѣ, съ бѣлыми рѣсницами.
— Въ такомъ случаѣ, постараюсь освѣжить вашу память... — вмѣ-
шался Монтвиллъ,—вы князь Турнъ-и-Таксисъ?..
202
Плѣнникъ, и безъ того находившійся въ обалдѣломъ состояніи, пре-
вратился въ соляной столбъ... Онъ такъ былъ далекъ отъ мысли, что
этотъ невысокій, безбородый офицеръ въ черкескѣ и папахѣ тотъ самый
князь Монтвиллъ, котораго онъ, князь Турнъ-и-Таксисъ, презиралъ въ
полку ганноверскихъ уланъ за его польское происхожденіе. Турнъ давалъ
общій тонъ этому недружелюбному отношенію ко всѣмъ полякамъ... Было
человѣкъ пять - шесть въ полку, и они держались замкнуто гордымъ
кружкомъ.
Монтвиллъ съ улыбкою назвалъ себя.
Турнъ совсѣмъ упалъ духомъ. Теперь все кончено!.. Этотъ полякъ
отомститъ ему за все...
Но Монтвиллъ и не думалъ о мести... Ему былъ жалокъ этотъ фан-
фаронъ, всегда такой заносчивый, а теперь чуть-ли не спятившій отъ на-
вязчивой мысли, что его разстрѣляютъ, или повѣсятъ...
Султанъ допрашивалъ Турна... Надѣясь чистосердечной откровен-
ностью облегчить свою воображаемую плохую участь, — потомокъ владѣ-
тельныхъ князей все выложилъ на чистоту... И какія, и когда ожидаются
подкрѣпленія, и гдѣ расположены батареи, какія именно части находятся
и въ передовыхъ окопахъ, и въ резервныхъ...
— Обнорскій!.. Доставьте его въ штабъ... Тамъ его передопросятъ и
отправятъ, куда слѣдуетъ... Сегодня-же утромъ я доложу въ реляціи по
начальству объ вашемъ подвигѣ...
Обнорскій, продолжая оставаться подъ прикрытіемъ рамка, ушелъ
всѣми помыслами своими въ одно: какъ-бы не узналъ его Турнъ-и-Так-
сисъ? Узнаетъ, отпереться будетъ не легко, и тогда,—все на смарку!..
А головорѣзы-абреки, насѣдая на Чингиза, требовали себѣ по георгіев-
скому кресту... Сейчасъ вотъ, хоть вынь, а подай!..
Насилу успокоилъ ихъ ротмистръ. Сегодня-же представить обоихъ, и
на ближайшихъ дняхъ грудь ихъ украсится боевымъ отличіемъ.
И они, какъ дѣти, поощряя другъ друга гортанными криками,
тутъ-же пустились въ лезгинку, а вода струйками сбѣгала съ промокшихъ
насквозь бешметовъ...
9. Что въ себѣ таили каблучки панны Быковской?
„Мой любезный Мясниковъ!
Вы, русскіе, вообще народъ суевѣрный. II вотъ вы говорите, что если
кого-нибудь похоронятъ заживо, тому еще много много лѣтъ суждено гу-
лять по бѣлу-свѣту...
Представьте, за короткій промежутокъ времени васъ похоронили,
успѣли похоронить дважды. Помните поѣздку въ Петроградъ француз-
скаго генерала По? Вѣдь, серьезно прошелъ слухъ, будто онъ везетъ съ
собою какіе-то чрезвычайно компрометирующіе васъ документы. А доку-
менты эти будто-бы найдены въ архивѣ штаба-германской дивизіи, взятой
въ плѣнъ на западномъ фронтѣ.
Вообще, визитъ въ Россію однорукаго генерала вовсе не входилъ въ
наши планы... Вамъ, вѣроятно, приходилось читать въ газетахъ о неудав-
шихся, къ сожалѣнію, попыткахъ взорвать поѣздъ, вмѣстѣ съ этимъ по-
чтеннымъ героемъ семидесятаго года. Увѣряю васъ, милый Мясниковъ, что
— 203 —
главная причина была— это одна лишь возможность, одно предположеніе,
что По везетъ какіе-нибудь, разоблачающіе вашу драгоцѣнную особу, до-
кументы...
Вы такъ много сдѣлали и, надѣюсь, еще сдѣлаете для интересовъ
Германіи, что преждевременно лишиться васъ, было бы громадной по-
терей! Я человѣкъ далеко не сентиментальный, вы это знаете... Но, кля-
нусь, мнѣ стало не по себѣ, когда пронесся слухъ, что васъ, — простите
мое энергичное выраженіе, — вздернули! II тѣмъ пріятнѣй было разоча-
рованіе...
Потомъ еще другая нѣсколько дней гуляла по Бухаресту легенда.
Богъ мой, какихъ только фантастическихъ слуховъ не порождаетъ война!
Хотя, признаться, это сочинено было совсѣмъ не такъ ужъ плохо...
Молодой русскій офицеръ очутился въ плѣну германцевъ. Штабъ
дивизіи, пли корпуса,—это не важно,—допрашивая плѣнника, убѣждается,
что это умный, богатыхъ способностей, офицеръ. И вотъ ему предлагаютъ
„работать” въ пользу Германіи, суля за это щедрое вознагражденіе. Плѣн-
никъ притворяется готовымъ измѣнить своей родинѣ. Ему симулируютъ
бѣгство и за инструкціями и указаніями направляютъ якобы къ вамъ. Да,
къ вамъ, дорогой Мясниковъ! Офицеръ, едва очутившись въ предѣлахъ
Россіи, спѣшить выдать васъ цѣликомъ съ головою и вашу милость вы-
черкиваютъ изъ списка живыхъ...
Такимъ образомъ пе прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ вы были по-
хоронены дважды... Не есть ли это показатель, что васъ ожидаетъ по
меньшей мѣрѣ маѳусаиловъ вѣкъ? Живите на здоровье! Сколько вы еще
пользы сможете намъ принести! Напрасно въ одномъ изъ писемъ вашихъ,
вы мечтаете о продолжительномъ отдыхѣ послѣ войны. Отдыхѣ на берету
лазоревыхъ волнъ. Нѣтъ, дорогой Мясниковъ! II послѣ войны, какъ бы
она ни кончилась для насъ, вамъ будетъ работы по горло. II куда болѣе
напряженной и трудной, чѣмъ до войны, потому что теперь вся ванта
страна, взявшись, наконецъ, за умъ, бросила перчатку такъ называемому
„нѣмецкому засилью". Правда, русскій народъ отходчивъ и мягокъ. Кон-
чится война, угаснутъ страсти и славный, символическій Михель опять
приберетъ къ рукамъ и лучшія русскія земли, и торговлю и промышлен-
ность, и многое другое... Но я пе сомнѣваюсь, — будутъ непримиримые
элементы. И вотъ съ этими элементами и предстоитъ вамъ тонкая, умная
и хитюая борьба.
Вотъ мы и побесѣдовали съ вами о постороннемъ. А теперь перей-
демъ къ текущимъ дѣламъ. Да, кстати, на-дняхъ пріѣзжалъ въ Констан-
тинополь нашъ посолъ Вагсльгеймъ. Онъ говорилъ мнѣ о вашей послѣд-
ней аудіенціи въ Подстамѣ у императора. Его величество горячо хвалилъ
васъ послу,—такъ вы угодили ему вашимъ подробнымъ освѣдомленнымъ
докладомъ о внутреннемъ положеніи теперешней Россіи. Имѣйте въ виду,
что васъ ожидаютъ большія милости...
Однако, я разболтался. Психологически это понятно. Мы такъ боимся
всегда за нашу корреспонденцію, такъ часто прибѣгаемъ къ шифру, сим-
воликѣ, локонизму, что когда представляется возможность побесѣдовать
по-человѣчески, напоминаешь изголодавшагося субъекта, который жадно
набросился на цѣлый столъ разныхъ вкусныхъ вещей.
Это письмо ѣдетъ къ вамъ въ каблучкѣ одной хорошенькой, моло-
денькой польки. Сознайтесь, вы старый, опытный волкъ, что даже для
204
васъ такой способъ корреспондировать—откровеніе. Вотъ вы, русскіе, го-
ворите, что нѣмецъ выдумалъ обезьяну. А вѣдь это изобрѣтеніе полкового
сапожника Шлемма, — онъ въ девятомъ померанскомъ уланскомъ, -не
уступитъ „обезьянѣ"... И вотъ какая чистая работа!
Я живо представляю себя васъ, Мясниковъ, жуира и бабника, вы на
этотъ счетъ бѣдовый! какъ вы, опустившись на колѣни, передъ малень-
кими ножками, тяжело сопя, отвинчиваете высокія каблучки... Пальцы
ваши дѣйствуютъ во всю, переходя границы „дозволеннаго", а ноздри хо-
дятъ, какъ у породистой арабской лошади... Желаю вамъ успѣха! На
здоровье! Этакое свѣжее созданіе. Упругій, не ущипнешь,—кусочекъ мяса...
Я не ревнивъ...
А теперь къ очереднымъ дѣламъ и уже безъ всякихъ отступленій.
За „сахарную авантюру" шлю вамъ благодарность. Она проведена блестяще.
Ни одно кило вашего сахару не перешло границы. Румыны пробавляются
гнусной венгерской патокой п на чемъ свѣтъ клянутъ вашихъ сахароза-
водчиковъ... Милѣйшій баронъ Роткусь тоже оказался на высотѣ. Этотъ
корчащій изъ себя римскаго трибуна въ бѣломъ фланелевомъ пиджачкѣ
Братіано, сопровождаемый на улицѣ своими поклонниками и друзьями,
рветъ и мечетъ, что до сихъ поръ не освобождены изъ-подъ ареста его
знакомые компатріоты, до сихъ поръ испытывающіе прелесть тюремнаго
режима нѣкоторыхъ южныхъ городовъ вашихъ...
Въ Бухарестѣ дѣла идутъ прекрасно. Это уголъ Берлина. Все моби-
лизовано. Кокотки съ Фридрихштрассе дѣлаютъ политику. Право, все эти
Берты, Алисы и Эммы незамѣнимый народъ! Отъ этихъ особъ получаются
иногда цѣнныя свѣдѣнія... Вчера въ театрѣ одна изъ нихъ весело хваста-
лась другой:
— Сегодня, говоритъ, былъ у меня С.; былъ пьянъ, какъ картошка.
Вы понимаете, это уже нѣчто!...
А напримѣръ П? Колоссально юмористическая фигура. Палецъ о
палецъ не ударитъ. Нигдѣ его не видно. А если и поймаютъ, наконецъ,
за фалду, отмахивается:
— Я ничего не знаю, ничего не знаю! Всѣ дѣла ведетъ французскій
посланникъ. Обращайтесь къ нему!.. Мы сидимъ тихо, смирно, только-бы
насъ не выгнали.
„Только-бы ихъ не выгнали",—вѣдь это-же пирамидально!..
Получивъ это письмо, немедленно командируйте опытныхъ, надеж-
ныхъ и ловкихъ людей въ Севастополь и Одессу. Желательно знакомство
съ военно-морскимъ дѣломъ. Поручите имъ оборудовать секретную сиг-
нализацію. Пусть за какія угодно деньги снимутъ въ полное распоряженіе
свое и даже купятъ прибрежную дачу на Большомъ фонтанъ въ Одессѣ.
Въ особенности будетъ удобна, говорили мнѣ, вилла художника Б. съ
высокой башней.
Дѣло въ томъ, что вскорѣ выступитъ Болгарія. Почва подготовлена
великолѣпно. Этотъ носатый Кобургъ весь въ нашихъ рукахъ. А онъ,
въ свою очередь, вертитъ всѣмъ кабинетомъ. Болгарскимъ мужикамъ, на-
ходящимся у власти, импонируетъ, что внукъ Луи Филиппа даетъ имъ
цѣловать свою маленькую, бѣлую, пухлую руку..’.
Одиннадцать подводныхъ лодокъ уже доставлены въ разобранномъ
видѣ въ Бургасъ и Варну и со дня на день будутъ спущены. Вотъ почему
я тороплю васъ наивозмежно скорѣе оборудовать сигнализаціонные пункты.
205
Одиннадцать субмаринъ—эта грозная, невидимая флотилія, удачно пере-
говариваясь съ непріятельскимъ берегомъ, можетъ причинить немало хло-
потъ... Итакъ, дѣйствуйте и да поможетъ вамъ Богъ!
А теперь нѣсколько словъ о Прибалтійскомъ краѣ"...
Такова первая половина письма капитана Курта къ Мясникову, письма,
перехваченнаго голубоглазымъ ротмистромъ въ Унгенахъ—Русскихъ. Не-
жданно, негаданно, этотъ заброшенный на глухую станцію жандармскій
офицеръ заполучилъ нити важной шпіонской организаціи. Мудрено-ли,
послѣ этого, что его голову жегъ раскаленный обручъ и ему не малаго
труда стоило вернуть обычное самообладаніе и взять себя въ руки.
И прежде чѣмъ уяснить точный смыслъ, онъ нѣсколько разъ пере-
читалъ мелкимъ бисеромъ написанный, ошеломляющій документъ и
буквы плясали въ горячемъ туманѣ, какъ пьяныя, какъ въ буйномъ
хмѣлю...
Въ каблучкахъ панны Теофили, безутѣшно рыдавшей въ сосѣдней
комнатѣ, неуютной и грязной, таилась судьба Мясникова, Роткуса, Штосса,
барона Цумъ-Тейфеля, Рахмана и цѣлой арміи въ шестьсотъ человѣкъ
шпіоновъ, и предателей, уже второго и третьяго сорта.
Крохотные каблучки панны Теофили Быковской, оказались фаталь-
ными...
10. „Воздушная почта".
Недаромъ объ этой дивизіи разсказывались чудеса. Недаромъ ходили
о ней по Петрограду и, не только по одному Петрограду, цвѣтистыя ле-
генды, а кто-то весьма удачно и кстати назвалъ ее „дивизіей изъ волшеб-
ной сказки".
Да и впрямь изъ волшебной сказки!..
Здѣсь все такъ загадочно, маняще и странно, такъ ни на что не-
похоже...
Не угодно-ли: въ одномъ полку, въ одной сотнѣ и даже въ одномъ
взводѣ, бьются бокъ-о-бокъ цѣлыхъ три поколѣнія.
Дѣдъ восьмидесятишестилѣтній старикъ, сподвижникъ Шамиля и
Хаджи-Мурата, его сыновья въ медаляхъ, крестахъ и шрамахъ, герои
Карса и Плевны и, наконецъ, юные внуки стройнаго, сухощаваго патрі-
арха. Молодая грудь ихъ успѣла украситься новенькими Георгіями за под-
виги въ Карпатахъ и на Днѣстрѣ.
Вотъ „всадникъ", нашъ знакомецъ вахмистръ Джафаръ, съ внѣш-
ностью Абдулъ Хамида. Борода, выкрашенная въ огненный цвѣтъ, усугу-
бляетъ сходство съ „кровавымъ" султаномъ.
Прошлое всадника?..
Мы уже коснулись этого прошлаго.
Совсѣмъ недавно этотъ персидскій „фельдмаршалъ" разбитъ былъ
на голову нашимъ генераломъ княземъ В., а теперь князь В. командуетъ
бригадою той самой, гдѣ служитъ вахмистръ, обладатель огненной бо-
роды, державшій въ своихъ рукахъ всю „военную мощь" Персіи.
Подъ стать своимъ всадникамъ и командный офицерскій составъ. Все
это отчаянныя головы, беззавѣтные храбрецы, по доброй охотѣ и волѣ
устремившіеся въ кавказскую дивизію.
2Об
Кто влюбленъ въ войну, какъ въ любовницу, кому не дорога жизнь,
въ комъ таится ищущая партизанскихъ приключеній мятежная душа кон-
квистадора,—всѣ бросились жадно сюда.
Такой блестящій подборъ именъ и титуловъ—кавалергардскому полку
не уступитъ.
Принцы крови Бурбонскаго и Бонапартскаго дома, владѣтельные
князья, султаны и польскіе магнаты, ханы, потомки древнихъ династій,
русское столбовое дворянство до Рюриковичей, включительно.
И тутъ же богатыри кубанскаго казачества. Люди страшенной силы,
гигантскаго роста и хохочущіе такъ, что дрожатъ стекла...
И все это на фонѣ старыхъ замковъ польской знати, на фонѣ живо-
писныхъ деревень съ ослѣпительно бѣлыми днемъ и блѣдно-зеленоватыми
въ лунную ночь, мазанками.
Въ часы отдыха и покоя отъ боевой страды живутъ весело, а въ
черкесскомъ полку, даже и красиво, поэтически красиво.
Давалъ тонъ всему этому укладу обаятельный князь Цацавадзе, свѣтскій
человѣкъ и солдатъ, много видѣвшій на своемъ вѣку, влюбленный въ кра-
соты античнаго Рима.
Часъ дня. Время обѣда.
Длинный столъ накрытъ въ саду подъ голубымъ небомъ, въ тѣни
старыхъ гигантскихъ яблонь. И пахнетъ въ воздухѣ свѣжимъ яблокомъ
и такъ живописно маняще намѣчаются за крышами сосѣднихъ мазанокъ
прозрачныя дали.
И если-бъ не шальные снаряды, время отъ времени залетающіе въ штабъ
полка, право, это скорѣе напоминало бы пикникъ, чѣмъ боевыя позиціи.
Поодаль, шагахъ въ восьмидесяти отъ офицерской столовой, купа
густыхъ деревьевъ скрываетъ хоръ трубачей.
Въ ясномъ воздухѣ упруго, нѣжно и чисто несутся звуки духовыхъ
инструментовъ. Что-то нарядное и праздничное и въ этой музыкѣ и въ
этихъ бодрыхъ мотивахъ.
На почетномъ хозяйскомъ мѣстѣ сидитъ князь Цацавадзе.
А кругомъ, въ сѣрыхъ черкескахъ и пожилые ветераны японской
войны въ орденахъ, и безусая молодежь, всего нѣсколько мѣсяцевъ на-
задъ на школьной скамьѣ, грезившая этой дивизіей.
И что за интересные типы!
Бритая голова. Соколиный профиль и папаху носитъ, какъ никто.
Прострѣленная рука на черной перевязи.
Это султанъ Чингизъ.
Рядомъ—финляндскій баронъ, человѣкъ смѣлый и твердой воли, плохо
говорящій по-русски.
Онъ въ этомъ отношеніи не одинокъ. Сильно грассируя и съ тру-
домъ складывая фразы, мысленно переводя ихъ съ польскаго и француз-
скаго, разсказываетъ князь Монтвиллъ про свою недавнюю встрѣчу съ
княземъ Турнъ-и-Таксисъ.
Турна—поминай, какъ звали!..
Изъ штаба дивизіи онъ отправленъ на жительство далеко вглубь
куда-то, чуть ли не въ Ташкентъ.
Обнорскій за плѣненіе этого долговязаго потомка владѣтельныхъ
князей, шатавшагося но австрійскому фронту и дошатавшагося—произве-
денъ въ вахмистры.
— 207 —-
Неподвижно сидитъ за столомъ важно молчаливый, безстрастный
мулла, весь въ черномъ. Когда спѣшенные всадники лежатъ въ цѣпи и
эта цѣпь обстрѣливается немилосердно, мулла чернымъ изваяніемъ стоитъ
во весь ростъ и лишь губы его шепчутъ молитву корана, да пальцы пере-
бираютъ крупные янтарные четки...
Подъ конецч» обѣда забавнымъ юмористическимъ элементомъ явился
тучный и смуглый поваръ грузинъ съ неподражаемой наивностью разска-
завшій какъ обстрѣляла его, именно его, Косту Пурцуладзе тяжелая ав-
стрійская артиллерія, когда онъ несъ обѣдъ своему командиру къ наблю-
дательной вышкѣ.
— Она вэрпо думалъ, что я офыцэръ,—поясняетъ Коста, всегда и
вездѣ весь въ своей бѣлой поварской одеждѣ.
Умолкъ хоръ трубачей, смѣнившись лезгинкою.
Восьмидесятичетырехлѣтній зурначъ еще подъ Карсомъ былъ раненъ
и поэтому у него одна нога короче другой.
И тамъ плясали подъ его зурну славные горцы, какъ они пляшутъ
теперь на этой галиційской лужайкѣ.
Совсѣмъ, совсѣмъ пахнуло Кавказомъ...
Завертѣлись стройно и плавно гибкія фигуры въ черкескахъ. Крино-
линомъ вздуваются „юбки".
Работа ногъ въ мягкихъ чувякахъ—виртуозная. Есть джигиты, сколь-
зящіе па одномъ большомъ пальцѣ и вся фигура напрягается струною.
Медлительныя движенія смѣняются бѣшенымъ темпомъ. Танцоръ пре-
вращается въ одно сплошное мельканіе, вмѣстѣ съ такимъ же сплошнымъ
кругомъ, горизонтально описываемымъ шашкой.
Примѣръ молодежи подзадариваетъ стариковъ. Начинается соревно-
ваніе. Старые абреки,—не знаешь, чего больше у нихъ—медалей, крестовъ
на груди, или на Мужественномъ лицѣ шрамовъ,—пускаются въ плясъ.
И чуждъ и страненъ здѣсь, издалека занесенный рѣзкій, дребежжащій
голосъ зурны,—такъ много въ немъ восточнаго и Востока...
Но вдругъ оборвалась пляска, умолкъ зурначъ и всѣ головы, какъ
по командѣ, головы сплошь въ косматыхъ папахахъ, поднялись вверхъ.
Гудя пролеталъ бѣлой птицею, розовѣющій на солнцѣ, австрійскій
„этрпхъ", вольно распластавъ свои крылья такого фигурнаго замысловатаго
рисунка.
Аэропланъ кружился надъ деревнею Торске, словно высматривая
добычу или, по крайней мѣрѣ желая съ наивозможною мѣткостью угодить
двумя-тремя бомбами прямо въ штабъ полка.
Но вмѣсто бомбъ тамъ, далеко наверху, па высотѣ тысячи съ неболь-
шимъ метромъ медленно, чуть уловимо для глаза отдѣлился отъ птицы съ
узорными фантастическими крылами какой-то предметъ и полетѣлъ внизъ.
По всей деревнѣ ружейная трескотня. И тѣ, кто минуту назадъ пля-
салъ лезгинку, и черкесы дремавшіе на солнцепекѣ и всадники, выскочив-
шіе изъ хатъ,— всѣ, похватавъ скорѣе винтовки, спѣшили разрядить свои
обоймы въ азартной охотѣ по неуловимо пылающей на солнцѣ жаръ-
птицѣ.
А тѣ, у кого не было подъ рукою винтовки, по горячему кавказскому
темпераменту своему палили,—это ужъ совсѣмъ таки ни къ чему,—изъ
револьверовъ.
Очевидно было нѣсколько попаданій.
208
Плавно парившій „этрихъ" вздрогнулъ весь и его стало трепать и
какъ-то бокомъ, постепенно снижаясь, взрѣзывая лѣвымъ крыломъ воздухъ,
аэропланъ поспѣшилъ скорѣе назадъ къ Днѣстру, во свояси.
То-ли ранило летчика, то-ли угодила шальная пуля въ хрупкую часть
механизма—неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ, произошло что-то не совсѣмъ
ладное.
А нѣсколько всадниковъ, пригибаясь къ сѣдламъ и „посылая" своихъ
маленькихъ лошадокъ нагайками, помчались вдоль улицы по тому напра-
вленію, гдѣ долженъ былъ упасть сброшенный „этрихомъ" предметъ.
Минутъ черезъ двадцать „предметъ", оказавшійся довольно тяжелымъ,
зашитымъ въ клеенку, тюкомъ, доставленъ былъ князю Цацавадзе и лежалъ
передъ нимъ на травѣ возлѣ стола, за которыми офицеры допивали свой
кофе, прерванный появленіемъ „этриха".
Тюкъ взрѣзанъ былъ—береженаго Богъ бережетъ,—съ предосторож-
ностями. Оказалась въ немъ кипа обычныхъ прокламацій, сбрасываемыхъ
австро-германскими летчиками надъ русскими позиціями.
Уморительно безграмотнымъ языкомъ непріятель предлагалъ сдаваться,
обѣщая въ плѣну едва ли не райское житье...
Вначалѣ эти прокламаціи вызывали негодованіе, а потомъ привыкли
къ нимъ и негодованіе смѣнилось полнѣйшимъ, обиднымъ для австріяковъ
и нѣмцевъ, презрительнымъ равнодушіемъ.
— Коста, унеси этотъ хламъ на кухню къ себѣ на растопку,—велѣлъ
князь Цацавадзе повару.
Этотъ забавный человѣкъ въ бѣломъ колпакѣ началъ сгребать про-
кламаціи въ одну кучу. Вдругъ изъ середины кипы выпалъ большой
конвертъ.
— Ваше сыятельство... Австрыйскій гэнералъ тебэ пысмо съ воздуш-
нымъ почтамъ прыслалъ...
Цацавадзе нетерпѣливо разорвавъ конвертъ, пробѣжалъ строки, напи-
санныя, какъ это ни удивительно, русскимъ машиннымъ шрифтомъ.
Князь вчитался и чѣмъ дальше, тѣмъ озабоченнѣй становилось его
смуглое, энергичное лицо съ острой бородкою.
Сдвигались у переносицы густыя, темныя брови.
— Господа офицеры... Попрошу васъ ко мнѣ... поближе...
И всѣ, подполковники, ротмистры, поручики и корнеты, всѣ молодые,
пожилые и старые, тѣснымъ кругомъ своихъ сѣрыхъ черкесокъ, обсту-
пили полкового командира.
Князь Цацавадзе прочелъ вслухъ.
Доводимъ до свѣдѣнія кавказской дивизіи, вообще, и вашего полка
въ частности, что въ вашихъ рядахъ находится дезертиръ, убійца и шпіонъ
Зауръ-бей. Исторію этого господина мы не будемъ воскрешать. Ее и безъ
того знаютъ многіе офицеры русской конницы. Этотъ зауръ-бей, оскор-
бивъ дѣйствіемъ въ Ах-ск жъ полку штабъ-офицера, бѣжалъ въ Турцію.
Передъ войною онъ, убивъ помѣщика Обнорскаго, воспользовался его
паспортомъ и подъ чужимъ именемъ сталъ въ ряды вашей арміи, будучи
турецкимъ шпіономъ. Сообщая это, просимъ принять къ свѣдѣнію и судить
Обнорскаго, Зауръ-бея военно-полевымъ судомъ, уличеннаго въ тройномъ
преступленіи".
Князь Цацавадзе, опустивъ письмо, обвела, офицеровъ полнымъ стро-
гаго недоумѣнія взглядомъ.
209
Ч
II было тихо-тихо... II отовсюду смотрѣли на полкового командира
блѣдныя отъ волненія лица...
— Прапорщикъ Гудіевъ, возьмите съ собою двухъ всадниковъ п
немедленно доставьте мнѣ сюда вахмистра Обнорскаго...
11. Страничка прошлаго.
Съ двоякимъ чувствомъ, вся въ колебаніяхъ, встрѣтила Бранка вѣсть
о внезапной смерти мужа.
Съ одной стороны, она его жалѣла, правда, какимъ то оскорбитель-
нымъ для покойника сожалѣніемъ,— хотя не все ли равно ему теперь?—съ
другой, пе могла не отрѣшиться отъ эгоистическаго сознанія собственной
свободы. Никѣмъ и ничѣмъ незатемненной.
Теперь она свободна...
Сгинула даже та призрачная, хотя порою и осязательная власть, —
хвасталъ же онъ, что не дастъ ей развода, — которую имѣлъ надъ нею
Агамемнонъ Сарифи, этотъ рыжій человѣкъ, съ пухлымъ гримасничаю-
щимъ лицомъ клоуна...
Теперь нѣтъ ея, этой власти, потому что нѣтъ самого Агамемнона...
Да, нѣтъ... Онъ ушелъ изъ ея жизни, этотъ мужъ-банкиръ, мужъ-
негоціантъ, купившій лучшіе годы ея молодости, самую чистую, самую
прекрасную пору взявшій..
Какъ это и глупо, и гадко... Зачѣмъ, зачѣмъ такъ нелѣпо и равно-
душно подла жизнь?..
И вотъ теперь, съ наступленіемъ „вечера", вечера, потому, что под-
катывается уже къ сорока годамъ, теперь она свободна, богата, очень
богата, хотя во время погрома похищено и разграблено было немало де-
негъ, и въ бумагахъ, и въ золотѣ.
Бранка прочь отъ себя гнала кровавую картину убійства мужа.
Гнала съ какой-то брезгливой сожалительной дрожью, но трудно было
отдѣлаться отъ навязчиво встающихъ предъ глазами образовъ...
И почему-то вспоминалась при этомъ Бранкѣ смерть Мешантъ.
Это было лѣтъ десять назадъ. Французскій посолъ въ Константино-
полѣ, виконтъ де-Синьякъ, ухаживалъ за Бранной. Ухаживалъ въ старо-
свѣтской манерѣ галантныхъ людовиковскихъ петиметровъ.
Да и самъ опъ былъ старикъ лѣтъ за шестьдесятъ, со вставными
зубами и въ парикѣ, правда, не въ бѣломъ, пудреномъ парикѣ версаль-
скихъ маркизовъ, а въ обыкновенномъ, темномъ, съ безукоризненнымъ
проборомъ, въ одномъ изъ тѣхъ, что носятъ лысые щеголи, вовсе не
желающіе выставлять напоказъ свою плѣшь.
Виконтъ занималъ раньше видный административный постъ въ Индо-
Китаѣ. Онъ привезъ оттуда съ собою нѣсколько обезьянъ и одну поднесъ
Бранкѣ. Банкиресса дала ей кличку Мешантъ за ея злой и строптивый
нравъ.
Появленіе Мешантъ въ особнякѣ на Перѣ было сущимъ наказаніемъ
Божьимъ! Эта небольшая, съ голымъ задомъ обезьяна, вѣчно скалившая
зубы, гримасничавшая, носилась по всему дом}' какой-то вѣчно неугомон-
ной четвероногой каверзою. Все и вся портившей, ломавшей, грязнившей,
царапавшей...
210
И къ довершенію всѣхъ этихъ прелестей — Мешантъ держала себя
крайне неряшливо.
Смотри, да смотри въ оба за нею.
Драголюбъ, неоднократно выведенный изъ самаго покладистаго, ла-
кейскаго терпѣнія своего, хотѣлъ бросить изъ-за этой шкотливой обезьяны
выгодное, насиженное мѣсто...
— Силъ моихъ нѣтъ съ этой подлюгой!..
Но приходилось терпѣть. И ему, и всѣмъ въ домѣ. Ничего не по-
дѣлаешь. Избавиться отъ Мешантъ было трудно. Избавить могъ случай.
А тѣмъ временемъ, въ ожиданіи случая, который, въ концѣ-концовъ,
подоспѣлътаки, Мешантъ испакостила немало вещей, перепортила ногтями
своими обивку дивановъ и креселъ, на двѣ-три комнаты смѣло хватило бы.
Доставалось и Гермесу. Мальчику шелъ тогда восьмой годъ. У него
были длинныя кудри до плечъ. Эти густые локоны не давали покоя
обезьянѣ. Растреплетъ ихъ, растеребитъ, а если не въ духѣ,—то и цѣлый
клокъ вырветъ.
Это была вѣчная, непримиримая война между Гермесомъ и обезья-
ной. Въ ней принялъ участіе и громадный сенъ-бернаръ „Атилла". Кличка
эта была совсѣмъ, какъ говорится, не по шерсти. Наоборотъ. Слишкомъ
большая честь для кровожаднаго звѣря гунновыхъ ордъ.
Собака эта, величиною съ добраго теленка, — являла собою одно
невозмутимое добродушіе.
Любимымъ занятіемъ „Атиллы" — лежать на мраморныхъ плитахъ
вестибюля, грѣясь на солнцѣ, проникавшемъ цвѣтной фантастикою лучей
своихъ въ красныя, синія и зеленыя стекла.
Еще банкиръ высказывалъ опасеніе:
— „Атилла" вѣчно валяется на холодныхъ плитахъ. Какъ бы не
нагулялъ себѣ ишіасъ?..
Дружба, самая трогательная, безоблачная между собакою и Герме-
сомъ процвѣтала,—водой не разольешь.
Гермесъ ѣздилъ на ней верхомъ и даже поднимался по винтовой
лѣстницѣ, крѣпко обхватывая при этомъ ручонками сильную Атиллову шею.
И вотъ, появилась Мешантъ.
Долгое время собака оставалась невозмутимой. Но у нея что-то,
видимо, понемногу накипало противъ обезьяны. Въ лѣнивыхъ, умныхъ,
пивного цвѣта глазахъ сенъ-бернара читался медленно крѣпнувшій
протестъ.
Нужна была только искра, чтобъ порохъ вспыхнулъ.
А продѣлки Мешантъ со дня на день—становились изъ рукъ вонъ.
Обезьяна даже не пощадила въ своихъ проказахъ самого виконта, и
однажды какъ-то разъ, когда посолъ говорилъ, сидя въ гостиной, очаро-
вательной хозяйкѣ любезности, говорилъ ихъ тѣмъ отмѣннымъ, красивымъ
и звучнымъ языкомъ, который мало-по малу забывается республиканской
демократической Франціей, въ этотъ самый-же моментъ попутала нечи-
стая сила обезьяну, подкравшись тихонько, сорвать съ дипломатической
головы, въ сущности славнаго и милаго старика, его дивной работы па-
рикъ, и—поминай, какъ звали!..
Добрыхъ минутъ двадцать носился Драголюбъ за Мешантъ по всѣмъ
комнатамъ, пока не удалось ему настигнуть ее и спасти виконтовъ па-
рикъ, вѣрнѣе, жалкіе истерзанные остатки его.
— 211 — *
Съ бѣднягою чуть ударъ не приключился.
Это стоило ему всей дальнѣйшей карьеры. Самолюбивый и гордый
старикъ глубоко,—глубже, чѣмъ слѣдовало, — пережилъ этотъ маленькій
скандалъ, и вышелъ въ отставку.
Вотъ ужъ дѣйствительно, на свою-же собственную голову вывезъ
онъ изъ Тонкина эту проклятую обезьяну!..
Однако и для Мешантъ подоспѣлъ часъ расплаты.
Подъ вечеръ, зимнимъ днемъ вернулась Бранка домой, сдѣлавъ нѣ-
сколько обязательныхъ визитовъ нѣкоторымъ дамамъ дипломатическаго
корпуса. Не успѣлъ Драголюбъ снять съ плечъ своей госпожи длинную
шубу, донесся изъ бѣлоколоннаго зала пронзительный дѣтскій крикъ и,
тотчасъ-же, — глухое, съ грозными раскатами рычанье. II пошла возня,
что-то металось, опрокидывая мебель, уронивъ тумбу съ вазой, оглуши-
тельно разбившуюся.
Бранка материнской душой своею чуя что-то неладное, внѣ себя вся,
поспѣшила въ залъ.
Собака терзала Мешантъ... Два три удара мощной лапы, сомкнулись
въ мертвой хваткѣ чудовищные клыки и съ перекушеннымъ горломъ жалкая
обезьяна корчилась на паркетѣ, доживая послѣднія, агонійныя минуты.
Какой-то карающей, тяжелой массою стоялъ сенъ-бернаръ надъ худень-
кимъ, сжавшимся въ комочекъ, изуродованнымъ тѣльцемъ... въ которомъ
теперь, именно теперь, было что-то человѣческое...
А въ двухъ шагахъ отъ этой картины линчеванія, топоча ножками,
плакалъ въ изступленіи Гермесъ. Личико его все было исцарапано и онъ
размазывалъ пальцами кровь, пополамъ съ горючими дѣтскими слезами...
И вотъ, когда передъ Бранкою вставала смерть мужа, убитаго кава-
сами, ей вспоминался почему-то конецъ обезьяны, въ дымкѣ гаснущаго
зимняго дня, на холодномъ паркетѣ бѣлоколоннаго зала.
И- такое-же чувство.
Жаль было истерзанный, весь въ крови, этотъ обезьяній комочекъ и,
въ то-же время,—невольный вздохъ облегченія. Конецъ! Не будетъ больше
въ домѣ пакостей и гадкихъ проказъ, и Гермесъ избавится отъ царапинъ
во всю щеку.
Вмѣстѣ съ неожиданной катастрофою, въ первую голову тотчасъ-же
возникъ вопросъ о приведеніи въ порядокъ наслѣдства. Вопросъ запу-
танный, а по случаю войны—до безконечности сложный и трудный.
Ѣхать самой Бранкѣ въ Константинополь,—опасностей не обобраться.
А главное, къ тому-же, въ финансовыхъ дѣлахъ она понимала очень не-
много, да и то, выражаясь мягко—немного. Совсѣмъ ничего не понимала...
Выходъ нашелъ Миланъ, отыскавъ солиднаго и честнаго дѣльца,—
поскольку дѣлецъ, вообще, можетъ быть честнымъ,—гражданина весьма и
весьма нейтральной страны, находящейся въ самомъ основательномъ да-
лекѣ отъ всеобщаго кроваваго пожарища.
Онъ-то и командированъ былъ въ Константинополь на выгодныхъ
условіяхъ, для полной ликвидаціи и банка, и всѣхъ предпріятій, связан-
ныхъ съ именемъ покойнаго Сарифи.
Еще недавно, всего мѣсяцъ-другой назадъ, вѣрила Бранка, сама себѣ
вѣрила, что сердечные вопросы кончились для нея. Кончились разъ на-
всегда. Сынъ, и только сынъ, и ему отдастъ она себя, и всѣ свои по-
мыслы.
212
Она не закрывала глазъ на чувство къ ней Беркутова. Чувство, ко-
торое не могла не видѣть, при всемъ рыцарственно-бережномъ отношеніи
Беркутова, скрывавшаго въ словахъ и дѣйствіяхъ, что онъ любитъ ее.
Но для этого не надо ни словъ, ни дѣйствій. Это угадывается даже
схороненное подъ семью замками.
Угадывается во всемъ: какъ говоритъ человѣкъ, смотритъ, цѣлуетъ
руку. Въ томъ, какъ жадно ловитъ по телефону звуки дорогого ему голоса.
И не вѣря сама себѣ, успокаивала Бранка свои собственные зовы къ
личному счастью.
— Это ничего... если онъ и влюбленъ, — пройдетъ!... Мы будемъ
друзьями... Хорошими друзьями, и только ..
Самообманъ.
Бранка сама незамѣтно для себя успѣла полюбить художника... Успѣла...
Это было ея первое чувство. Первое, потому что мужъ никогда не вну-
шалъ ей ничего, кромѣ отвращенія, а капитанъ Куртъ?—она думала, что
увлекшись имъ, скрасить, заполнить холодную пустоту души своей.
Но вышло иначе. Получилось отвращеніе и къ Рауху, и къ самой
себѣ, а душа загрязнилась чѣмъ-то постыднымъ и унизительнымъ.
Вмѣсто согрѣвающихъ лучей солнца—чадъ мишурной, въ мигъ отго-
рѣвшей иллюминаціи. Чадъ бенгальскихъ огней захолустнаго цирка...
Чадъ, который долго не могъ разсѣяться.
12. Онъ вѣритъ въ свою звѣзду...
Затерянной душою нераскаяннаго грѣшника затихъ средь этой бѣлой
ночи протяжный свистокъ пароходика, бѣжавшаго плоской вытянутой
черепахою межъ гранитныхъ береговъ Мойки.
Да, черепахою...
Такое впечатлѣніе было, если смотрѣть изъ окна внизъ туда, гдѣ
тускло блестѣла гладь неподвижной мертвой воды, слегка взбаломученной,
исчезнувшимъ пароходикомъ.
Въ комнатѣ горѣло электричество. Шелъ двѣнадцатый часъ. У окна,
въ которое глядѣла душная, блѣдная ночь, стояли Мясниковъ и Роткусъ.
Перегнувшись черезъ подоконникъ, Роткусъ обшаривалъ глазами
часть прилегающей улицы съ чугунной рѣшеткою набережной, панелью
и отвратительной, въ колдобинахъ мостовой.
— Ты потерялъ что-нибудь?—насмѣшливо, обнажая въ улыбкѣ гнилые
зубы, спросилъ Мясниковъ.
— Смотри, какъ-бы не потерялъ чего-нибудь такого, чего никогда
не найдешь, — отвѣтилъ баронъ съ неудовольствіемъ. — Дошутишься ты
когда-нибудь! Я тебѣ серьезно говорю, Андрей, очень серьезно... Или намъ
необходимо уѣхать, замести на время слѣды, или... я ужъ не знаю что...
— Или закрыть лавочку?..
— Понимай какъ хочешь, выражайся, какъ тебѣ угодно, а только—
говорю тебѣ вполнѣ опредѣленно... Вполнѣ!.. За нами слѣдятъ... Я это
вижу, чувствую... Во-первыхъ, у меня есть какой-то профессіональный
инстинктъ. Человѣкъ, который долго былъ охотникомъ, превращаясь самъ
въ дичь, которую выслѣживаютъ, и такъ далѣе... Ты меня понимаешь?
А, во-вторыхъ, память на лица у меня рѣдкая. II вчера, и сегодня у подъ-
213
ѣзда моей квартиры попадались мнѣ фланирующіе субъекты, физіономіи
которыхъ мнѣ знакомы весьма и весьма. Когда я служилъ, эти самые
субъекты охраняли мою особу... А теперь, когда я, совершенно частный
человѣкъ, не нуждаюсь ни въ какой охранѣ, я имѣю полное основаніе
думать, что роль этихъ полупочтенныхъ нѣсколько иная... Да, да, не
смотри на меня такъ,—молвилъ Роткусъ подъ скептическимъ взглядомъ
сѣро-зеленыхъ кошачьихъ глазъ Мясникова.—Не смотри... Я говорю дѣло...
— Ты несешь вздоръ, милый мой,—оборвалъ Мясниковъ. Субъекты
фланирующіе какіе-то... Излишняя подозрительность. Совершенно из-
лишняя... Дружище, мы съ тобою одного поля ягоды. Не только въ на-
шемъ настоящемъ, но и въ прошломъ... Однимъ и тѣмъ-же богамъ, если
такъ можно выразиться, молились... Знаемъ кое-что, слава тебѣ Господи.
И нужно-ли мнѣ тебѣ напоминать, что здѣсь, у насъ, внутренняя поли-
тика „есть вещь, а прочее все—гниль". Откуда это? Уже не помню, то ли
изъ Грибоѣдова, то-ли изъ кого-нибудь другого...
— Но не въ этомъ суть... Главное, не занимайся внутренней политикой.
Не подрывай „основъ". А тамъ, — хоть трава не расти. Можешь быть
шуллеромъ, аферистомъ, шантажистомъ, какимъ-угодно „истомъ", шпіономъ
другой державы, какъ мы съ тобою грѣшные, никому до тебя нѣтъ дѣла,
никому ты не нуженъ. Такъ вѣдь, старый драбантъ?..
— Такъ-то оно такъ,—усумнился Роткусъ,—а все-же инстинктъ ни-
когда не обманываетъ меня... За мною слѣдятъ... Слѣдятъ со вчерашняго дня.
— Глупости, этакъ, пожалуй, скоро начнешь галлюцинировать. Съ
меня бери примѣръ. Никакихъ сомнѣній! Вѣрю, твердо вѣрю въ свою
звѣзду и шабашъ... Никакихъ гвоздей!..
Видя, что Роткусъ продолжаетъ оставаться мрачнымъ, Мясниковъ
ободряюще хлопнулъ его по плечу. Такъ хлопнулъ своей громадной рукою,
что баронъ слегка присѣлъ даже.
— „Что-жъ ты, Емеля, невеселъ стоишь, весь какъ истерзанъ, въ
землю глядишь"? Слышалъ такую пѣсню? Хотя гдѣ тебѣ въ вашей При-
балтикѣ! Это меня въ дѣтствѣ нашъ кучеръ Михей училъ... Такъ вотъ,
Емеля, нечего зря носъ вѣшать. Мы-ли съ тобою, дружище, не старые-ли,
опытные волки? Мы ли не проведемъ кого угодно вокругъ нашего пальца?..
Однако, будетъ нюни разводить! Я терпѣливъ, но и я, въ концѣ концовъ,
разсержусь. Что за малодушіе такое? Бронированная внѣшность, взглянуть
на тебя,—превосходительный фантомасъ какой-то въ черной визиткѣ... А
душа заячья! Ну, довольно. Улыбнись, возьми себя въ руки и прежде,
чѣмъ ѣхать въ „Андалузію", гдѣ намъ въ этакихъ кофейныхъ кувшин-
чикахъ подадутъ славный, пятьдесятъ шестого года, коньякъ, мы повесе-
лимся. Отдохнемъ послѣ трудовъ праведныхъ. Кромѣ того, съ минуты на
минуту долженъ подойти Шлиманъ. Я приказалъ ему быть здѣсь ровно
безъ четверти двѣнадцать. Ну, сдѣлай веселое лицо, какъ говорятъ
фотографы.
Но Роткусъ не сдѣлалъ веселаго лица, продолжая оставаться груст-
нымъ.
— Тебѣ хорошо говорить... Ты ничѣмъ не рискуешь...
— То-есть, какъ это ничѣмъ не рискую?
- Такъ... Если-бъ даже что-нибудь и случилось. А для меня съ
моимъ положеніемъ въ обществѣ, съ моей прошлой служебной карьерой
это было-бы ужасно. Это былъ-бы такой позоръ...
24
— Ахъ, ты, паршивецъ!—вскипѣлъ вдругъ Мясниковъ. - Съ его по-
ложеніемъ, съ его карьерой! Что жъ ты думаешь, дуракъ суконный, изъ
другого тѣста вылѣпленъ, чѣмъ я? Подумаешь! Нѣмчура, баронишко не-
счастный! Чѣмъ кичиться вздумалъ? Что предки твои на большихъ доро-
гахъ купцовъ грабили? Разбойнымъ дѣломъ занимались? Скажите, пожа-
луйста!.. Я, Андрей Андреевичъ Мясниковъ, столбовый дворянинъ, въ
шестую книгу записанъ и пращуръ мой въ Куликовской битвѣ просла-
вился... Вотъ, мнѣ дѣйствительно было-бы большимъ позоромъ, если-бъ
меня „разъяснили". Понялъ, дурья голова? Человѣкъ, за плечами котораго
шестисотлѣтнее россійское дворянство,—оптомъ и въ розницу продастъ
свое отечество. Есть чему ужаснуться! А ты, баронишко, остзейскій? Что
съ васъ спрашивать? Всегда виляли хвостомъ. И какъ васъ, волковъ, ни
кормили, вы всегда устремляли ваши взоры къ прусской границѣ. Измѣн-
ники, мерзавцы, предатели!..
Въ этомъ неожиданномъ наскокѣ, наскокѣ, встрѣченномъ гробовымъ
молчаніемъ, любопытнѣе всего было, что Мясниковъ искренно вполнѣ
вошелъ въ свою обличительную, бичующую роль. II не менѣе искренно го-
ворилъ, что Роткусъ и ему подобные „баронишки" за свое вилянье волчь-
имъ хвостомъ и за жадно устремленные къ прусской границѣ взоры—
достойны самаго, что ни на есть клеймящаго презрѣнія! И въ этотъ мо-
ментъ Андрей Андреевичъ вполнѣ чистосердечно, какимъ-то безсозна-
тельнымъ нутромъ русской души своей, хотя и загрязненной и темной,
столь-же ненавидѣлъ нѣмцевъ, сколь и гордился шестью вѣками столбо-
ваго дворянства своего и пращуромъ, колотившимъ Мамаевы орды на
Куликовомъ полѣ.
— Ахъ ты, паршивецъ!—уже спокойно и безъ всякой злобы повто-
рилъ Мясниковъ въ видѣ заключительнаго аккорда.
Человѣкъ съ неподвижнымъ лицомъ, неподвижнымъ и на этотъ
разъ—молчалъ. Молчалъ, какъ всегда, во время грубыхъ, оскорбительныхъ
выходокъ Мясникова по своему адресу. Андреи Андреевичъ былъ сильнѣе
его, сильнѣе во всѣхъ отношеніяхъ, и баронъ подчинялся ему, зная, что
безъ Мясникова, самъ по себѣ, онъ круглый нуль и цѣна ему — грошъ
мѣдный въ базарный день!
И когда Андрей Андреевичъ протянулъ свою чудовищную лапу, въ
коТорой потонула небольшая холеная рука барона, примиреніе состоялось.
Роткусъ вполнѣ искренно отвѣтилъ на пожатіе, правда, поморщившись
отъ боли.
— Опять всѣ пальцы слиплись! Я никогда не имѣлъ удовольствія
раскланиваться съ гориллой. Но полагаю, что именно у гориллы такое-же
крѣпкое пожатіе...
— Ты думаешь? — спросилъ Мясниковъ, сжимая и разжимая свои
длинные, толстые пальцы.—Да, любого человѣка задушить берусь...
Звонокъ, разбѣжавшійся по всей квартирѣ.
Вздрогнувшій баронъ поблѣднѣлъ, схватившись за сердце.
— Какъ бьется... У меня инстинктъ... Недаромъ я видѣлъ этихъ субъ-
ектовъ...
Сіяя самодовольной улыбкой, вошелъ, тяжело переваливаясь, широко-
плечій и широколицый инженеръ Шлиманъ.
Этотъ Шлиманъ четвертый годъ былъ на службѣ у Мясникова. Дѣя-
тельность Шлимана—строго отмежеванная.
2'5
Подъ видомъ благодѣтеля и филантропа, заботящагося о процвѣтаніи
сельско-хозяйственныхъ польскихъ мужиковъ, Шлиманъ буквально за
гроши сооружалъ въ окрестныхъ подъ Варшавою деревняхъ въ овинахъ,
или, по-мѣстному, стодолахъ, бетонные помосты для молотьбы, чтобъ ни
одно зерно не пропало зря.
Но „не въ молотьбѣ была тутъ сила".
Пункты для бетонныхъ площадокъ выбиралъ вмѣстѣ съ инженеромъ
его помощникъ, якобы,—офицеръ прусскаго генеральнаго штаба.
II вотъ Шлиманъ, какъ талантливый живописецъ, закончившій боль-
шую картину, бросивши на холстъ послѣдній мазокъ, явился къ патрону
своему съ горделивымъ отчетомъ.
— Вы понимаете, „генералъ", болѣе добросовѣстно нельзя было
выполнить! Такъ добросовѣстно можетъ работать только патріотъ и нѣ-
мецъ. Заготовлено двадцать площадокъ. Шесть метровъ на десять и пол-
тора метра въ глубину. II если-бъ Круппъ выдумалъ, послѣ своихъ
„Бертъ", еще болѣе тяжелыя орудія,—площадки инженера Шлимана съ
честью выдержали-бы какую угодно тяжесть...
Мясниковъ одобрительно кивнулъ.
— Вы молодецъ, Шлиманъ! Однако, я хотѣлъ васъ спроситъ. Какъ-же
эти стодолы? Не будутъ мѣшать?
— Ничуть, дорогой генералъ, ничуть!.. Наши саперы, да и простые
солдаты въ полчаса разберутъ стѣны и орудіе устанавливается на совер-
шенно открытой площадкѣ. Такимъ образомъ, послѣднее ина этотъ разъ
окончательное наступленіе на Варшаву обезпечено вполнѣ. Артиллеристами
заранѣе чуть-ли не съ математической точностью вымѣрено необходимое
разстояніе для того, чтобъ каждое попаданіе снаряда было наивозможно
убійственнымъ...
— Ловко... Очень ловко! — одобрилъ Мясниковъ. Ай да системочка!
Ну, а скажите, вѣдь вы работали надъ этими площадками еще задолго до
войны... Неужели никому не бросалось въ глаза, никто не чинилъ пре-
пятствій?
Шлиманъ съ торжествующей улыбкою пожалъ плечами.
— Мой генералъ, вы забываете, что какъ и вашъ покорный слуга,
такъ его помощникъ, всѣ мы находились подъ высокимъ покрови-
тельствомъ его превосходительства германскаго консула. А долженъ-ли я
пояснять вамъ, и вы, и баронъ это знаете безъ меня, какую онъ игралъ
роль и какъ громадно было его значеніе въ краѣ?.. Фактически онъ пра-
вилъ краемъ. Онъ цензуровалъ польскіе учебники для школъ и если ем>г
что-либо не нравилось, онъ вычеркивалъ. Тоже самое и въ области театра.
Если польская пьеса заключала въ себѣ что-нибудь германофобское, кон-
чено! Пьеса не могла увидѣть свѣтъ рамны... То же самое и съ купле-
тами. Допустимъ, куплеты, въ которыхъ вышучивалась Германія, испол-
нялись въ первый день... Консулъ посылалъ въ театръ своего чиновника
и на другой день куплеты снимались. О, за спиною этого человѣка можно
было работать! Консульство было штабъ-квартирой нашей развѣдки во
всемъ краѣ. Богъ мой, кому-же я говорю это? Вы-же сами, генералъ,
пять-шесть разъ въ годъ привозили въ Варшав}' отчетность консулу. По -
мйите, какъ оберегалось консульство? Нарядъ полиціи, тишина. Никто не
смѣлъ ѣздить мимо рысью. Да, если-бъ не война, въ сущности, напрасно
затѣянная кайзеромъ, если-бъ не война—мы еще глубже пустили бы свои
2іб
корни, мирнымъ путемъ прибравши все къ своимъ рукамъ... Но, Богемой, что
тамъ такое? Баронъ Роткусъ, пожалуй, упадетъ па мостовую и разобьется...
Дѣйствительно Роткусъ, елико возможно, высунулся изъ окна и при-
липъ, и не могъ оторваться, какъ загипнотизированный...
— Что тамъ такое? Опять померещилась какая-нибудь чепуха?..
Оставивъ Шлимана, Мясниковъ подошелъ къ окну, глянулъ и—куда
дѣвалось его обычное самообладаніе? Онъ увидѣлъ внизу цѣпь городо-
выхъ и жандармовъ. Мелькали какія-то фугуры въ штатскомъ. Тусклый
блескъ серебряныхъ офицерскихъ потоповъ...
Мясниковъ насильно, за фалду визитки, оттащилъ Роткуса на сре-
дину комнаты.
— Что такое, что такое?—спрашивалъ, бѣгая глазами, Шлиманъ.
— Черезъ двѣ минуты насъ арестуютъ...
— Арестуютъ? Но вѣдь я-же семейный! У меня четверо дѣтей!
воскликнулъ въ отчаяніи Шлиманъ, побѣлѣвшій, какъ полотно.
Роткусъ не могъ стоять на ногахъ. Колѣни его подгибались и онъ,
какъ-то бокомъ, скользнувши, упалъ въ кресло, въ полномъ обезсилен-
номъ изнеможеніи...
Мясниковъ медленно вынулъ изъ задняго кармана панталонъ браунингъ.
Блеснула вороненая сталь.
— Чикъ и готово!..
„Чикъ и готово“! Именно этими словами подумалъ Андрей Андрее-
вичъ. Но послѣ нѣкотораго колебанія, закусивъ губы, сунулъ револьверъ
назадъ въ карманъ.
— Малодушіе! Пусть приходятъ. Черезъ нѣсколько дней, я буду опять
на свободѣ. Я вѣрю въ свою звѣзду...
А звонокъ, настойчивый, властный, длительный, трескуче низалъ ти-
шину, суля что-то страшное, неотвратимое и отъ сухихъ, дребезжа-
щихъ звуковъ этихъ у Роткуса и Шлимана холодомъ цѣпенѣлъ мозгъ.
13. Между полевымъ судомъ и арестантской шинелью.
Диву давался Гермесъ.
Вотъ ужъ дѣйствительно, бросокъ за броскомъ, судьбы.
Послѣ холодной роскоши банкирскаго особняка на Перѣ, — эта ру-
синская хата, гдѣ сидя подъ образами, онъ пишетъ письмо своей дорогой
мамѣ. Пишетъ на грубо сколоченномъ изъ досокъ столѣ.
Подъ образами...
У православныхъ—иконамъ обыкновенно отводится почетный уголъ.
А здѣсь, по уніанскому обычаю, образа висятъ у потолка вдоль всѣхъ
четырехъ стѣнъ.
Чисто въ хатѣ. Глинобитный полъ. Широченная деревянная кровать.
На ней спятъ Обнорскій съ Гермесомъ. Хозяева, потѣснившись, переко-
чевали на другую, черную половину.
Имъ былъ на руку этотъ постой. Всадники щедро платили двойной
и даже тройной цѣною за молоко, масло, за медъ и всякіе иные деревен-
скіе продукты.
На фонѣ хаты, съ грубыми, незамысловатыми предметами, какими-то
залетными гостями другого, наряднаго міра казались англійскіе чемоданы,
217
сверкающіе металлической отдѣлкою, и всѣ эти дорогія вещи обихода
избалованныхъ комфортомъ людей. Но вмѣстѣ съ этой роскошью,—что-то
суровое, боевое, походное: сѣдла, шашки, полевыя сумки, сапоги, облѣп-
ленные высохшей грязью...
Гермесъ восторженно описывалъ матери послѣдній подвигъ Обнор-
скаго, горько сѣтуя, что Обнорскій самымъ рѣшительнымъ образомъ вос-
претилъ ему слѣдовать за собою въ эту опасную, правда, но дьявольски
интересную развѣдку.
„Помнишь Турнъ-и-Таксиса? Онъ былъ еще однажды у насъ съ ви-
зитомъ. Ты не вышла къ нему и папа былъ очень недоволенъ. Онъ долго
вспоминалъ потомъ, что Турнъ изъ владѣтельныхъ князей. Такъ вотъ
этого самаго Турна и взялъ въ плѣнъ Обнорскій... И это тѣмъ болѣе пи-
кантно... Подробности при встрѣчѣ. Меня скоро отпустятъ недѣльки на
двѣ въ Петроградъ. Вотъ когда наговоримся вволю"...
А въ это самое вр^мя Обнорскій, сидя на буркѣ, подъ деревяннымъ
навѣсомъ, „провѣрялъ'4 отчетность своей шашки. Вырвавъ изъ головы
собственный волосъ, онъ держа его за кончики, выпускалъ изъ пальцевъ
въ какихъ-нибудь двухъ-трехъ вершкахъ надъ лезвіемъ. II волосъ „тя-
жестью" своею, касаясь острія, разсѣкался на двое.
Это обычная манора всѣхъ кавказскихъ горцевъ „экзаменовать"
готовность кинжаловъ своихъ и шашекъ. И выходило у Обнорскаго съ
такимъ знаніемъ дѣла, что столпившіеся вокругъ него черкесы лишь
головами покачивали.
— Вотъ вамъ и русскій!.. А сноровка у него такая,—любому абреку
носъ утретъ.
Подошелъ съ бѣлоголовымъ внукомъ старый, наполовину слѣпенькій
дѣдъ, въ короткомъ полушубочкѣ. Дивенъ и вновь былъ этимъ галича-
намъ укладъ жизни воинственныхъ постояльцевъ, такъ влюбленныхъ въ
свое оружіе.
— Оде шабля!—воскликнулъ внукъ съ удивленіемъ.
— А ты видѣлъ раньше когда-нибудь военныхъ?—спросилъ Обнор-
скій мальчугана.
— Отъ, якъ булы манэвры, то шло до біса австріяцкихъ воякъ черезъ
наше село...
Обнорскій, этотъ перекати-поле, холостякъ, авантюристъ, — любилъ
дѣтей. Его всегда къ нимъ тянуло. И съ этимъ бѣлоголовымъ Опанасомъ
онъ успѣлъ довольно тѣсно сдружиться.
Дѣдъ жаловался на внука. Вѣрнѣе, на русскихъ чиновниковъ, за-
крывшихъ украинскія школы въ Галиціи.
— Отъ винъ и забувъ читаты!..
Обнорскій въ свободное время, улегшись подъ навѣсомъ, заставилъ
Опанаса читать хрестоматію. И хлопецъ, водя пальцемъ, монотонно раз-
биралъ по складамъ...
А слѣповатый дѣдъ укоризненно качалъ своей остриженной въ кругъ,
на шляхетно-казацкій манеръ былыхъ временъ, головой,
— Оце, школы позакрывалы, то винъ и забувъ!..
Черезъ нѣсколько хатъ съ огородами, выходящими въ поле, доно-
сился отъ штаба полка хоръ трубачей и волнами разбѣгались празднич-
ные звуки. Потомъ нежданно-негаданно прилетѣлъ, жужжа, аэропланъ.
Обнорскій и другіе черкесы обстрѣляли его изъ винтовокъ.
2Т8
А затѣмъ явился съ двумя всадниками прапорщикъ Гудіевъ.
-- Обнорскій, хады за мной... Его сыятельство командиръ требуетъ...
- Зачѣмъ!—спросилъ Обнорскій, поблѣднѣвъ, и чуя что-то неладное
въ этомъ оффиціальномъ полуконвоѣ изъ трехъ человѣкъ.
— ЬЬ знаю. Аропланъ какой-то бумага бросалъ... Командиръ читалъ,
офицерамъ читалъ... Тэбэ велѣлъ приводить...
Ничего не понималъ Обнорскій. И въ то же время понималъ одно:
стряслось вдругъ что-то жуткое и страшное, чего онъ все время боялся.
Все шло такъ гладко. Не надо лучше! Онъ дважды георгіевскій кавалеръ.
Съ позавчерашняго дня—уже вахмистръ. И вотъ, пожалуйте... Гудіевъ съ
двумя всадниками, успѣвшими захватить въ дорогѣ винтовки.
— Паскарэй, паскарэй!—торопилъ Гудіевъ.
— Чего паскарэй,—передразнилъ его Обнорскій. -Не могу же явиться
къ полковому командиру въ бешметѣ.
И нарочно оттягивая каждую секунду, Зауръ-бей медленно пошелъ
въ хату, долго застегивалъ черкеску, — ничуть, однако, не дрожавшими
пальцами. Онъ взялъ себя въ руки и былъ какъ-то странно спокоенъ.
Садъ, крестьянскій садъ, безъ дорожекъ, весь какъ изумруднымъ
ковромъ поросшій густой травой. Длинный столъ бѣлой скатертью кры-
тый. Задумчиво-одиноко сидѣлъ князь Цацавадзе. Всѣ офицеры столпи-
лись поодаль, окруживъ стараго зурнача.
— Честь имѣю явиться, ваше сіятельство!—вытянулся Обнорскій.
— Опустите руку... Гудіевъ, оставьте насъ вдвоемъ...
Полковой командиръ,—съ глазу на глазъ съ вахмистромъ.
Князь молчалъ, собираясь съ духомъ. Ему тяжело было предстоящее
объясненіе. Не говоря ни слова, протянулъ Обнорскому бумагу. Обнор-
скій читалъ, а князь, темно-карими глазами своими, слѣдилъ за его кости-
стымъ, обвѣтреннымъ лицомъ.
И безмолвно стояли въ нѣсколькихъ десятковъ шаговъ офицеры.
Чувствовалось напряженіе во всей ихъ группѣ. И каждый зналъ, что сію
минуту рѣшается что-то большое и важное...
Вахмистръ, прочитавъ бумагу, перевелъ взглядъ своихъ большихъ
темныхъ, полныхъ безконечной грусти глазъ на полкового командира.
— Это правда?—тихо вымолвилъ князь.
— Правда,—такъ же тихо отвѣтилъ Обнорскій. — Правда,- -наполо-
вину, ваше сіятельство...
— Ну, конечно, конечно, — подхватилъ Цацавадзе. — Во-первыхъ,
отпадаетъ нелѣпое обвиненіе въ шпіонствѣ, а во-вторыхъ, я никогда не
повѣрю, чтобы вы убили человѣка, желая воспользоваться его паспортомъ...
Никогда не повѣрю...
— Я глубоко тронутъ лестнымъ для себя мнѣніемъ вашего сіятель-
ства... Разумѣется, я не шпіонъ, разумѣется, я никого не убилъ. Что-же
касается части этого доноса, я ничего не могу возразить... Считаю недо-
стойнымъ для себя всякія запирательства... Да, я дѣйствительно корнетъ
Ах—скаго драгунскаго полка, Зауръ-бей. Да, я дѣйствительно оскорбилъ
штабъ-офицера и, послѣ этого безумнаго поступка, — бѣжалъ... Я не
чувствовалъ въ себѣ силы воли понести и перенести наказаніе... Мнѣ
грозило нѣсколько лѣтъ арестантскихъ ротъ. А я былъ молодъ, ваше
сіятельство!.. Во мнѣ кипѣла черкеская кровь, и я хотѣлъ жить, жить на
свободѣ какою угодно цѣною, хотя бы цѣною бѣгства... И вотъ—я сдѣ-
219
дался дезертиромъ... Но клян}тсь вамъ, эти двадцать лѣтъ службы въ ту-
рецкой арміи были для меня пыткою, куда болѣе горшей, нежели аре-
стантскія роты!.. Все это время я не переставалъ любить Россію... Меня
тянуло неудержимо! Не разъ приходило въ голову, будь, что будетъ,
вернуться съ повинной... Но опять эта проклятая неугасимая жажда жизни
мѣшала. Но когда я совсѣмъ обезумѣлъ, это въ началѣ войны. Я не спалъ
ночей, думая объ одномъ: только бы вернуться какъ-нибудь назадъ, въ
Россію, попасть въ дѣйствующую армію и жизнью искупить свой двадца-
тилѣтній грѣхъ. II самымъ лучшимъ искупленіемъ было, въ моихъ гла-
захъ,—сдѣлать побольше того, что дѣлаетъ каждый солдатъ, у котораго
не дрожитъ ни рука, ни сердце... II вотъ, ваше сіятельство, я весь на
виду... Я взялъ пулеметъ и за эти нѣсколько мѣсяцевъ лично изрубилъ
восемнадцать человѣкъ. Я принесъ погоны австрійскаго маіора и взялъ
въ плѣнъ Турка, за котораго нѣмцы предложатъ въ обмѣнъ любого
нашего генерала... Я весь передъ вами, ваще сіятельство...
Словъ нѣтъ, Обнорскій... Всѣ мои симпатіи на вашей сторонѣ.
Рѣшительно всѣ! Тѣмъ, что вы сдѣлали и тѣмъ, что, съ Божьей помощью,
предстояло бы вамъ еще, вы съ лихвой искупили ваше преступленіе. Но,—
это съ моей точки зрѣнія, точки зрѣнія солдата и человѣка. Увы, есть
еще другая точка зрѣнія,- юридическая. Она по своему разбирается, безъ
участія сердца и житейской логики, въ такихъ мудреныхъ житейскихъ
лабиринтахъ. До чего все это грустно, тяжело!.. Вы понимаете отлично,
полкъ не можетъ оставить безъ вниманія этотъ подлый доносъ... Мы обя-
заны дать ему законный ходъ. Какъ это ужасно!.. Да, Обнорскій, скажите,
(странно какъ-то прозвучало это „Обнорскій", послѣ того, какъ съ Зауръ -
бея снята была маска). Скажите мнѣ, пожалуйста, я ни на минуту не по-
вѣрилъ, говорю вамъ искренно вполнѣ, однако же, паспортъ, по которому
вы прибыли, какъ онъ у васъ очутился?..
— Обнорскій умеръ на моихъ глазахъ, ваше сіятельство. Я вырвалъ
его искалѣченнаго изъ рукъ озвѣрѣвшей толпы. Паспортъ былъ совер-
шенно ненуженъ, никому не нуженъ, кромѣ меня, рѣшившаго имъ вос-
пользоваться. Онъ былъ совершенно одинокій бобыль, Обнорскій. Ни
семьи, ни близкихъ, никого! А что все произошло именно такъ, какъ я
вашему сіятельству докладываю, на это у меня имѣется рядъ свидѣтелей.
Разумѣется, я не могу назвать ихъ, такъ какъ молчаніемъ своимъ они
явились бы по закону соучастниками моего... преступленія... Я все ска-
залъ, ваше сіятельство. Все! Больше прибавлять нечего. Я готов ь ко всему.
У меня есть одно сознаніе. Я все-таки успѣлъ повоевать и хоть маленькій,
крохотный, а все же нанести вредъ непріятелю... А дальше,—суди меня
Богъ и Государь...
При послѣди ихъ словахъ голосъ Зауръ-бея дрогнулъ и потрясенный,
измученный этой покаянной пыткою, онъ не могъ удержать слезъ. Онъ
до боли закусилъ губы, напрягая нечеловѣческимъ усиліемъ мускулы лица,
чтобы не разрыдаться.
Князь сидѣлъ, опустивъ голову и нервно передвигая по скатерти
чашечку съ недопитымъ, остывшимъ кофе.
Послѣ длительной паузы, онъ молвилъ съ какой-то особенной заду-
шевной теплотою:
— Вѣрьте мнѣ, Зауръ-бей... Я сдѣлаю все зависящее отъ меня, чтобъ
спасти васъ. По моему внутреннему глубокому убѣжденію гораздо по-
220
лезнѣе, чтобы вы остались на фронтѣ, нежели понесли наказаніе, будь
это арестантская шинель, или еще хуже, военно-полевой судъ... Я
сію же минуту велю подать себѣ автомобиль и—въ штабъ дивизіи.
Нашъ генералъ человѣкъ высокой души и необычайнаго рыцарскаго
благородства. Онъ пойметъ, все пойметъ.’.. Единственное спасеніе, другого
нѣтъ,—милость Монарха. Онъ, только Онъ одинъ и никто больше... Я не
сомнѣваюсь, генералъ не откажетъ послать самую обстоятельную, самую
смягчающую телеграмму... Ѣду сію же минуту. А вы,—вы будете взяты
подъ стражу.
— Ваше сіятельство, я не знаю, какъ и благодарить.
— Не благодарите, Зауръ-бей. Не надо, это плохая примѣта... Упо-
вайте на Бога и на милость Монарха.
II уже громче, другимъ, оффиціальнымъ голосомъ, князь приказалъ:
— Прапорщикъ Гудіевъ, потрудитесь взять вахмистра Обнорскаго
подъ стражу и поставить у халупы двухъ всадниковъ съ винтовками...
14. Успѣхъ,—кругомъ успѣхъ.
Вы приносите мнѣ счастье! Вы моя Маскогта!—говорилъ Беркутовъ.
Бранка въ отвѣтъ улыбалась мягко и нѣжно, своей чуточку застѣн-
чивой улыбкою, что выходила у нея такая неотразимо прекрасная.
— Да... развѣ?.. Мнѣ кажется, вашимъ успѣхомъ вы обязаны прежде
всего вашему таланту, который успѣлъ расцвѣсти такъ пышно...
— Вы скромничаете, Бранка, вы несправедливы къ себѣ. Вы почему-
то умаляете вашу роль въ моей жизни... Какъ другъ, какъ чуткая душа
и вообще, какъ чарующее явленіе, гармоничный образъ,—вы вошли въ
мою жизнь, властно, вошли навсегда!.. И пусть даже такъ... Пусть мое
дарованіе расцвѣло, какъ вы говорите, кому я обязанъ этимъ?.. Вамъ,
вамъ, и только вамъ... Вдохновляли меня вы, Бранка, вы окрыляли мою
фантазію. И чтобъ вызвать у васъ улыбку одобренія, я готовъ былъ бро-
ситься сломя голову на преодоленіе самыхъ невѣроятныхъ трудностей...
Безъ васъ, безъ вашего участія, вашихъ совѣтовъ, развѣ я написалъ-бы
„Воронье слетѣлось"?
Эта картина въ академіи на весенней выставкѣ имѣла громадный,
ошеломляющій успѣхъ, такъ выгодно оттѣняя своей вдумчивой епмволи
кою всѣ остальные, тамъ и сямъ разбросанные по выставочнымъ заламъ
реалистическіе ужасы войны съ бѣженцами, перевязочными пунктами и
озвѣрѣвшими пруссаками, творящими всевозможныя безчинства въ разо-
ренныхъ усадьбахъ...
„Воронье слетѣлось"...
Гдѣ-то далеко далеко, пепельно-кровавой полосою рдѣлъ страшный,
зловѣщій закатъ. Осенью такъ бываетъ въ природѣ. А можетъ быть,
никогда не бываетъ. И заслуга художника именно въ томъ, что онъ вызвалъ
на полотнѣ своемъ такой фантастическій, ужасы и бѣды сулящій, закатъ.
И на фонѣ его—безплотно-призрачнымъ силуэтомъ движется фигура,
вся въ черныхъ складкахъ... Движется по мертвенной пустынѣ. II съ
жуткимъ шелестомъ крыльевъ поспѣваетъ за нею голодное воронье... Обго-
няютъ другъ-друга и низко-низко летятъ... Передніе уже опустились, цара-
пая крѣпкими когтями твердый камень, въ чаяніи лакомой человѣчины..
22 г
И не было ни разгрома кругомъ, ни изуродованныхъ лафетовъ, ни
лошадиныхъ труповъ. Ничего не было изъ этой шаблонной бутафоріи и
тѣмъ сильнѣй, сгущеннѣй создавалось настроеніе...
Это лишь первый этапъ. Воронье слетѣлось на добычу; но кровавый
пиръ его,—тамъ, дальше, впереди еще...
11 хотя картина символическая и полный просторъ художнику отходитъ
всѣми имѣющимися у него техническими средствами отъ дѣйствительности,
однако, никто не сказалъ-бы, что его воронье, плоскіе, безформенные
силуэты, кое-какъ нашлепанные... Ничуть!.. Наоборотъ,—онъ подготовлялся
десятками этюдовъ, написанныхъ съ настоящаго воронья, добытаго съ
превеликимъ трудомъ изъ Псковской губерніи, потому что, если всегда
легче-легкаго заполучить обыкновенную ворону, то крупнаго, породи-
стаго ворона,—днемъ съ огнемъ врядъ-ли сыщешь,—такая онъ рѣд-
кость.
Кромѣ того, Беркутовъ изучалъ японскихъ анималистовъ, оставшихся
до сихъ поръ непревзойденными по части изображенія птицъ.
Картина была „гвоздемъ" всего выставочнаго сезона. Объ ней гово-
рили, писали, спорили. И въ концѣ-концовъ ее пріобрѣлъ, за пятнадцать
тысячъ, одинъ московскій любитель.
II здѣсь, какъ и во всѣхъ своихъ картинахъ, Беркутовъ исходилъ
изъ такой, свойственной его личному творчеству, „теоріи пятна".
Онъ кончалъ портретъ Бранки осеннимъ днемъ, какъ-то незамѣтно
перелившимся въ сумерки. Это было нѣсколько дней спустя, какъ Гермесъ
уѣхалъ на войну. Любя мать, Беркутовъ полюбилъ и сына. Гермееъбылъ
дорогъ ему, потому что онъ былъ дорогъ Бранкѣ.
И они говорили о юношѣ, вспоминали его... Уже Беркутовъ отложилъ
палитру и кисть, уже мастерская заволоклась призрачно-серебристымъ
полумракомъ.
Бранка неподвижно, вся въ полутонахъ, сидѣла въ глубокомъ, вели-
чественномъ креслѣ, съ такой высокой спинкою.
Умолкла... И Берк}’товъ молчалъ ушедшій въ какія-то свои, суме-
речныя грезы.
Потомъ онъ вдругъ порывисто бросился въ тотъ уголъ мастерской,
гдѣ висѣли костюмы, драпировки, экзотическія и старинныя одежды.
Выхвативъ первый попавшійся кусокъ темной матеріи, онъ вернулся
къ Бранкѣ, и сказалъ ей:
— Встаньте!..
II она повиновалась и онъ, какъ плащемъ покрылъ ея стройную
фигуру широкими складками. И опять сказалъ:
— Идите!..
И она двигалась медленно и тихо, какъ призракъ, а онъ, отступая,
наблюдалъ, весь ушелъ,—движеніе этой мистической фигуры средь мисти-
ческихъ сумерекъ.
И вотъ онъ увидѣлъ главное пятно, „увидѣлъ" всю картину, и на
слѣдующій день принялся писать эскизъ.
А черезъ два мѣсяца въ академіи на выставкѣ возлѣ его картины
изо-дня въ день густилась толпа.
Художественные критики взапуски шумѣли, разбирая во всѣхъ под-
робностяхъ ее. Одни, пылко восторгаясь, другіе хвалили менѣе горячо,
третьи разносили съ пѣной у рта „Воронье слетѣлось".
222
Въ первый-же день открытія Беркутовъ сталъ самымъ моднымъ чело-
вѣкомъ въ Петроградѣ. Повсюду, рѣшительно повсюду, начиная съ двор-
цовъ и салоновъ, кончая буржуазными гостинными и студенческими клѣ-
тушками,—вездѣ заговорили объ немъ.
Вмѣстѣ съ картиною художникъ выставилъ большой, во весь ростъ,
портретъ Максима Евстигнѣевича.
Княгиня Тохтамышева была на седьмомъ небѣ и ходячей газетою
прославляла художника въ обществѣ:
— Ахъ, какой талантъ!.. Настоящій, Богомъ данный талантъ!.. Въ
немъ горитъ... понимаете, горитъ!.. Я непремѣнно буду у него сниматься!..
И княгиня не только сама поспѣшила „сняться", но еще и привлекла къ
этому цѣлую пачку дамъ, старыхъ и молодыхъ, красивыхъ и некрасивыхъ.
Беркутовъ засыпанъ, въ буквальномъ смыслѣ слова, былъ множествомъ
чрезвычайно выгодныхъ портретныхъ заказовъ. Къ нему чуть-ли не запи-
сывались въ длинную очередь, какъ это бывало у Маккарта и у Констан-
тина Маковскаго, въ золотую пору его расцвѣта.
Беркутовъ, неглупый, никогда не принадлежавшій къ числу художни-
ковъ самовлюбленныхъ, смотрѣлъ на свой успѣхъ именно тѣми глазами,
какъ это надо было.
Картина—особая статья. Въ картинѣ, дѣйст вительно, сказался артистъ,
большой мастеръ. Что-же касается портретовъ, вѣрнѣе, портретной вакха-
наліи какой-то, вокругъ него заплясавшей, то нисколько не самообольщаясь,
онъ видѣлъ въ этомъ лишь успѣхъ матеріальный.
И наперекоръ всякимъ представленіямъ о трудности военнаго времени,
когда деньги стали дороже, они, эти самыя деньги, посыпались на него,
какъ изъ рога изобилія.
Беркутовъ никогда не былъ матеріалистомъ. Никогда!.. Но этотъ
притокъ денегъ, притокъ,—ему пока не было видно конца-краю,—весьма
и весьма радовалъ его именно вотъ съ какой стороны:
Онъ можетъ смѣлѣй заговорить съ Бранкою о томъ, что вотъ уже
нѣсколько мѣсяцевъ поглощаетъ его и волнуетъ. Волнуетъ и поглощаетъ...
Онъ можетъ просить ея руки.
Онъ давно хотѣлъ это сдѣлать, давно... И всякій разъ останавливала
одна и та-же опаска:
— А что, если у нея хоть на мгновеніе промелькнетъ мысль, что
онъ заинтересованъ не только ею, Бранкой, но и крупнымъ богатствомъ,
послѣ мужа къ ней перешедшимъ?
И въ трепетъ, и въ холодъ кидало Беркутова, и готовое сорваться
признаніе, и вслѣдъ за нимъ сейчасъ-же предложеніе, замерзали у него
на губахъ...
Такъ было раньше, недавно...
А теперь, теперь онъ чувствовалъ подъ собою почву. Теперь его
средній, отъ восьми до двѣнадцати тысячъ заработокъ, принялъ какіе-то
чудовищные размѣры.
Не корысти ради, а словно издѣваясь надъ этимъ папурговымъ ста-
домъ титулованныхъ, богатыхъ и знатныхъ женщинъ, хлынувшихъ въ
его мастерскую, изъ какого-то удалого озорства, назначалъ онъ самыя
невѣроятныя цѣны, цѣны, даже покойному Сѣрову не снившіяся.
За поясной портретъ онъ спрашивалъ семь-восемь тысячъ, за—во
весь ростъ — пятнадцать. И охотно и покорно платили, „записываясь въ
223
очередь“ и ожидая терпѣливо телефоннаго звонка, что графиня, или княгиня
такая-то можетъ тогда-то, въ указанный день и часъ, пріѣхать на сеансъ.
Узнавъ отъ сестры объ успѣхѣ Беркутова, Миланъ сказалъ, съ
доброжелательной на своемъ крупномъ и полномъ, отъ усиленной работы,
однако похудѣвшемъ лицѣ, улыбкою:
— Это лучше, нежели быть посломъ Великой СиЖГ...
II вотъ, они объяснились, наконецъ.
Однажды, вечеромъ,—это было въ двухъ шагахъ отъ Сергіевской,—
они отправились въ Таврическій садъ. Садъ, однимъ изъ уголковъ своихъ,
вечеромъ, когда гаснутъ и скрадываются дали, напоминающій что-то да-
лекое, деревенское внѣ города, съ его шумной сутолокой.
Недвижнымъ зеркаломъ блеститъ вода. За нею, — ровный лугъ съ
уходящими рядами скирдъ скошеннаго сѣна. И пахнетъ свѣжею травою
и въ молочномъ туманѣ мягко стушевываются скирды, напоминая какой-то
фантастическій лагерь. И слышится рѣзкій, отрывистый, захлебывающійся
звукъ перепела.
Они сидѣли на скамейкѣ у самой воды и опрокидывались въ ея не-
подвижной глади деревья, подошедшія къ берегу.
И хотя онъ долго и мучительно готовился къ этому вопросу, но
вылился онъ удивительно просто:
— Хотите быть моей женою, Бранка?..
II она нисколько не удивилась, и такъ-же просто молвила:
— Хочу-ли я?.. Но вѣдь я, по сравненію съ вами, старуха?.. Черезъ
нѣсколько лѣтъ вы меня разлюбите...
Молчите, Бранка... Молчите, не кощунствуйте!.. Вы прекрасны, и
останетесь вѣчно такою..
— Увы, нѣтъ ничего вѣчнаго на землѣ...
— Есть! Вы для меня,—вѣчная!.. Слышите, я такъ люблю васъ... Очаро-
ваніе ваше никогда не исчезнетъ... Никогда!..
Н онъ поднесъ къ губамъ ея руку, въ первый разъ поднесъ,—не
здороваясь и не прощаясь,—а въ видѣ ласки...
11 она не отнимала руки. Что-то дрогнуло въ красивомъ и тонкомъ
лицѣ, и какъ-то совсѣмъ неожиданно заблестѣли на рѣсницахъ теплыя слезы.
И помолчавъ, она спросила:
— А вы... будете любить... Гермеса!..
Буду-ли?- съ жаромъ подхватилъ онъ.—Я люблю его, люблю, какъ
младшаго брата!..
На другой день получилась телеграмма, что Гермесъ раненъ во время
конной атаки на венгерскихъ гусаръ подъ Тарнополемъ. Это было три
недѣли спустя послѣ того, какъ Зауръ-бея взяли подъ стражу.
Беркутовъ, бросивъ свои заказы всѣ, сломя голову помчался въ
Галицію, чтобъ лично доставить юношу въ Петроградъ убивающейся не-
извѣстностью и горемъ Бранкѣ.
15. „Его величество—случай".
Его величество случай,—всегда, вездѣ и во всемъ.
Крохотный, по первому взгляду такой никудышный случай заводитъ
сплошь да рядомъ Богъ знаетъ куда и лавиной выростаютъ послѣдствія,
громадной, порою катастрофической важности.
224
Чаще-же всего,—цѣлый рядъ случаевъ является звеньями одной и
той-же цѣпи.
Напрасно говорилъ Мясниковъ, опьяненный вѣрою въ себя и въ
свою звѣзду, что порча какого-нибудь второстепеннаго винтика не можетъ
повліять па правильное „кровообращеніе" какого-нибудь очень сложнаго,
могучаго механизма.
Можетъ, и еще какъ можетъ!..
Сѣтью покрывшая всю Россію шпіонско-предательская организація,
около двадцати лѣтъ благополучно процвѣтавшая подъ главенствомъ
Андрея Андреевича Мясникова, вдругъ, въ одинъ день была обнаружена
и раскрыта.
Если не во всѣхъ своихъ тайникахъ,—добираться до тайниковъ надо
время,—то все-же раскрыта.
А почему?.. Какимъ образомъ?..
Вотъ здѣсь-то и начинается сцѣпленіе случаевъ.
Опытный въ дипломатическихъ интригахъ, Куртъ фонъ-Раухъ, этотъ
великолѣпный шпіонъ въ офицерскомъ мундирѣ, настолько вѣрилъ въ
геніальное изобрѣтеніе полкового сапожника Шлемма, что его ни на
минуту не смутила наивность молоденькой панны Теофили Быковской.
Что ему до наивности этой розовой дѣвушки, если онъ такъ не-
зыблемо вѣритъ въ ея искусно привинченные каблучки?..
Дальше:
Совершенная случайность, что госпожа Рутковская встрѣтила въ
Яссахъ панну Теофилю въ обществѣ Блюменталя, пользовавшагося въ
глазахъ Рутковской, въ этихъ, какъ два чернослива, глазахъ, совершенно
опредѣленной репутаціей. И заподозривъ Блюменталя, она заподозрила
и панну Теофилю Быковскую.
И вотъ, въ Уигенахъ-гусскихъ, во время таможеннаго осмотра, кра-
сивая блѣднолицая женщина спѣшитъ подѣлиться подозрѣніями своими
съ голубоглазымъ ротмистромъ.
Ротмистръ, не теряя драгоцѣннаго времени, — сейчасъ-же панну
Теофилю Быковскую на цугундеръ.
— Такъ, молъ, и такъ, сударыня!.. Что за документы вы съ собою
везете?..
Будь панна Теофиля менѣе наивна и болѣе опытна въ жизни, она
отпиралась-бы смѣло, всѣми правдами и неправдами.
— Ничего знать не знаю, вѣдать не вѣдаю!.. А если не вѣрите, —
сами ищите, обыскивайте!..
И въ результатѣ, голубоглазый ротмистръ съ пышными усами,
остался-бы при пиковомъ интересѣ, съ большущимъ носомъ.
Никому изъ жандармскихъ Пинкертоновъ и въ мысляхъ не могло-бы
придти, что каблучки, именно каблучки заподозрѣнной польки хранятъ въ
себѣ такой чудовищной важности и значенія тайну.
Да, каблучки...
Вся армія шпіоновъ, армія въ шестьсотъ человѣкъ, съ генералами
своими Роткусомъ и Мясниковымъ во главѣ, очутилась, въ самомъ пря-
момъ значеніи слова, очутилась подъ башмачкомъ панны Теофили Быков-
ской. Башмачкомъ, раздавившимъ ее...
Весь ужасъ вдругъ создавшагося положенія по достоинству оцѣнилъ
самъ невольный, безъ вины виноватый виновникъ „провала", капитанъ
— 225 - *5
Куртъ-фонъ-Раухъ. Въ бѣшенствѣ на самого себя, онъ одно время бли-
зокъ былъ къ самоубійству.
Во всякомъ случаѣ, звѣзда его—мгновенно померкла. Такихъ „про-
маховъ" начальство не забываетъ.
Вчера еще едва-ли не властелинъ германской миссіи въ Букарестѣ,
вертѣвшій посланникомъ по своему, какъ хотѣлъ, Куртъ, вдругъ сло-
мавшій себѣ шею, полетѣлъ внизъ съ быстротою головокружительной.
И посланникъ, льстиво такъ внимавшій каждому его слову, теперь
заговорилъ другимъ языкомъ. Совсѣмъ другимъ!..
— Что вы надѣлали, капитанъ?.. Благодаря, вѣрнѣе, совсѣмъ не бла-
годаря вашей безтактности, наша развѣдка въ Россіи сводится если и не
совсѣмъ къ нулю, то, по крайней мѣрѣ, ослабляется на девять десятыхъ...
Вы сдѣлали страшную, непоправимую „гаффу"!..
— Это можетъ со всякимъ случиться,—оправдывался капитанъ, во-
обще, не терпѣвшій никакихъ собственныхъ оправданій. Онъ, Куртъ-
фонъ-Раухъ, такъ избалованный полной, почти безотчетной самостоятель-
ностью своею!..
И вдругъ, ему приходится сдерживать себя! И передъ кѣмъ, переда»
человѣкомъ, жадно ловившимъ каждое его слово, такъ жадно, какъ будто
Куртъ былъ не капитаномъ генеральнаго штаба, а, по крайней мѣрѣ,
Дельфійскимъ оракуломъ, или, на худой конецъ,—Бетманъ-Гольвегомъ?..
И посланникъ рѣшилъ, пользуясь удобнымъ случаемъ, вознагратить
себя за тѣ униженія, да, униженія,—и какія еще! — которымъ съ жесто-
кимъ удовольствіемъ подвергалъ его властолюбивый капитанъ.
— Вы понимаете, вы понимаете, что вы надѣлали, вы?—у него чуть
не сорвалось: „молодой человѣкъ".—Гдѣ, въ какомъ мѣстѣ оказалась ваша
хваленая сообразительность? Я полагаю, вовсе не въ томъ, гдѣ надле-
житъ ей находиться... обыкновенно... А совсѣмъ, совсѣмъ въ другомъ...
Помилуйте!.. Человѣкъ посылаетъ съ бумагой первостепенной важности
жалкую, неопытную дурочку... При первомъ-же малѣйшемъ подозрѣніи,
она въ слезы и, и бацъ, пожалуйте,—вывернула свои каблуки...
— Господинъ министръ...
Посланникъ принялъ горделивую осанку. Нельзя горделивѣй! Безъ
малаго годъ служитъ онъ вмѣстѣ съ этимъ Раухомъ и только впервые
„этотъ несчастный капитанишко" назвалъ его подобающимъ образомъ.
А разъ такъ, разъ поджалъ хвостъ, надо во всю держать фасонъ...
И маленькій, румяный, пузатенькій посланникъ высокомѣрно поднялъ
голову, выпятивъ губы и подбоченясь.
— Я знаю, что я—господинъ министръ. Я уже шестой годъ „госпо-
динъ министръ". Однако-же, что-же изъ этого? Обстоятельство, что я го-
сподинъ министръ, вины вашей не умаляетъ ничуть.
— Я только хотѣлъ сказать...
— Вы будете потомъ говорить. Потомъ, когда вамъ это разрѣшатъ!—
оборвалъ его, закусившій удила господинъ министръ... Этотъ брюханчикъ
напоминалъ раба, вырвавшагося, наконецъ, на волю и сію-же минуту
страстно пожелавшаго использовать эту неожиданную, съ неба свалив-
шуюся, свободу.
Одиннадцать мѣсяцевъ капитанъ Куртъ измывался надъ нимъ вся-
чески, а теперь и на его улицѣ праздникъ и онъ, въ свою очередь, всласть
натѣшится.
226
Во-первыхъ, капитанъ, вы забыли всякую субординацію. Вы всего на
всего капитанъ, а я—генералъ, его превосходительство, тайный совѣт-
никъ. Да, генералъ, хотя и не ношу военнаго мундира. Азбука суборди-
націи, — прислушиваться внимательно, что говоритъ старшій въ чинѣ и
никоимъ образомъ не перебивать его... А говоритъ вамъ старшій въ чинѣ»
слѣдующее, и вы это себѣ зарубите хорошенько! Вы вашей „гаффой" на-
несли отечеству громадное пораженіе. И дипломатическое, и чисто военное!
Вы знаете, чему равняется ликвидація всей Мясниковской исторіи? Не
знаете, такъ я вамъ скажу, сударь. Я съ большимъ удовольствіемъ узналъ-бы,
куда съ большимъ, что русскіе окружили и взяли въ плѣнъ десять на-
шихъ корпусовъ,—вѣдь это почти полумилліонная армія,—чѣмъ узналъ-бы
то, что, увы, я узналъ сегодня... Планомѣрная, ничѣмъ не вспуганная ра-
бота организаціи Мясникова, работа и на линіи фронта и въ тылу — для
насъ неизмѣримо цѣннѣе и дороже потери десяти корпусовъ. Поняли?..
— Какъ не понять, господинъ министръ...—упавшимъ голосомъ, чуть
слышно, промолвилъ капитанъ.
— Слава Богу!.. А я думалъ, вы не поймете. Вообще, вы какая-то
дутая знаменитость... Мыльный пузырь...
Обнаглѣвшій окончательно, „господинъ министръ" уже началъ оскорб-
лять капитана. Началъ, пробуя, что изъ этого выйдетъ, и какъ отнесется
Раухъ къ подобнымъ его „комплементамъ"?
Но Раухъ, надменный въ счастливую полосу, теперь, не чуя твердой
подъ ногами почвы, готовъ былъ снести безропотно какое-угодно униженіе.
Посланникъ разъ-другой прошелся мимо него пѣтухомъ.
— Затѣмъ, ваша эта нелѣпая болтовня о болгарскомъ выступленіи
и подводныхъ лодкахъ для Варны и Бургаса? Вы думаете это пріятно?
Пріятно знать, что вы раскрыли наши карты и наши враги озаботятся
принятіемъ соотвѣтствующихъ мѣръ... Ступайте, капитанъ Раухъ. Сту-
пайте! Я не могу видѣть васъ... Вы мнѣ дѣйствуете на нервы...
Куртъ, разъ, разъ, разъ, повернувшись кругомъ, въ три темпа, по-
кинулъ кабинетъ посланника...
16. „Идейный" предатель.
А звонокъ дребезжалъ по всей квартирѣ, дребезжалъ, какъ судьба,
неумолимо...
Да и развѣ онъ не былъ судьбою, какъ этихъ трехъ человѣкъ, такъ
и всѣхъ тѣхъ другихъ, что терялись за ними въ какомъ-то безпредѣль-
номъ хаосѣ, разбросанные тамъ и сямъ, отъ Ченстохова до Сахалина и
отъ Карса до Торнео?
Мясниковъ нашелъ въ себѣ еще столько самообладанія, что-бы рѣшить
вопросъ,—а не бѣжать ли ему?—и рѣшить его въ отрицательномъ смыслѣ.
Это было-бы ни къ чему не ведущимъ безуміемъ.
Тамъ, внизу, шевелится молча, въ дымкѣ бѣлой ночи громадный
полицейско-жандармскій „заслонъ".
Черный ходъ? Но не младенцы-же они, чтобъ не загородить его дру-
гимъ „заслономъ" поменьше.
А съ парадной звонятъ и звонятъ, до физической боли въ ушахъ,
боли, отъ которой можно сойти съ ума, до полнаго одурѣнія...
- 227 - *
И, надо-же,—въ это-же самое время задребезжалъ телефонъ. Почемъ
знать, быть можетъ одинъ изъ самыхъ дорогихъ и желанныхъ телефон-
ныхъ звонковъ на свѣтѣ?..
Мясниковъ, рванувъ трубку, жадно поднесъ ее къ уху.
— Андрей... Андрей... спа...
Больше онъ ничего не услышалъ. Только и успѣла бросить ему его
Берта. И донеслась какая-то возня, голоса; видимо, ее оттащили прочь, и
упала, ударившись такъ сухо, непріятно ударившись, телефонная трубка
въ квартирѣ Берты.
У Мясникова, ужъ на что крѣпкая, не теряющаяся голова, а и она вся
кругомъ пошла... И немудрено: форменная облава! Здѣсь, на Мойкѣ, у
Берты, а слѣдовательно, и—дома. Вѣрнѣе, тамъ, гдѣ жена и дѣти. Но
тамъ онъ бывалъ рѣдко, почти все время кочуя между Мойкою, ресто-
ранами и своимъ вторымъ логовомъ, у этой накрашенной и намазанной
истерички.
Круглыми синими стеклами очковъ уставился на Андрея Андреевича
„филинъ". Его вѣрный „филинъ", безмолвный свидѣтель и участникъ мно-
гихъ темныхъ дѣлъ и дѣлишекъ.
— Прикажете открыть?..
Мясниковъ ринулся на него съ поднятыми кулаками.
— Разумѣется, открой!.. Открывай, негодяй. Открывай, мерзавецъ,
скорѣе... Убью!..
Кабинетъ наполнился мундирами, кителями, и всѣ они были отмѣнно
вѣжливы и какъ-будто даже извинялись...
Но отъ этихъ извиненій сообщникамъ было нисколько не легче и
каждый, а въ особенности двое—инженеръ, „талантливый авторъ" бетон-
ныхъ площадокъ и Роткусъ,—испытывали каждый такое ощущеніе, словно
къ горлу приставлено какое-то острое, холодное лезвіе...
Инженеръ обмякъ весь, дрожалъ, вспоминая жену и дѣтей и зубъ на
зубъ не попадая.
На чемъ свѣтъ проклиналъ онъ и себя, и Мясникова, и свой „патріотизмъ"
добраго нѣмца, патріотизмъ, которымъ за минуту передъ этимъ кичился.
Роткусъ до того ослабѣлъ, весь не то въ холодной испаринѣ, не то
въ ознобѣ, что еще немного потери силъ, и онъ будетъ въ настоящемъ,
безъ сознанія, обморокѣ.
И онъ хотѣлъ встать, подняться съ кресла, но не могъ... Тысячами
свинцовыхъ гирь оттягивало книзу...
Мясниковъ, усиліемъ громадной воли своей взявшій себя въ ежовыя
рукавицы, встрѣтилъ незванныхъ гостей почти спокойно.
Прямо на него плыветъ, именно плыветъ, выхоленный жандармскій
полковникъ, съ пышными,—нельзя пышнѣе,—подусниками.
Эти подусники знакомы Андрею Андреевичу. Знакомы... Гдѣ онъ
ихъ видѣлъ?.. Вотъ вопросъ!.. Ну, конечно-же видѣлъ: обладатель этихъ
великолѣпныхъ подусниковъ—сослуживецъ Андрея Андреевича. И тамъ,
на границѣ, нѣсколько лѣтъ назадъ, они играли долгими осенними вече-
рами въ винтъ. Партнеры,—начальникъ таможни,—сѣдовласый патріархъ и
старшій помощникъ акцизнаго надзирателя...
Все это вспомнилъ Андрей Андреевичъ, а выхоленный полковникъ,
словно они вчера только видѣлись, предлагаетъ ему папиросу... Андрей
Андреевичъ беретъ машинально.
228
А дальше, дальше все, какъ по маслу... И кому-кому, а Мясников)'
эта процедура была знакома наидоскональнѣйшимъ образомъ. Самому
приходилось бывать неоднократно въ подобной-же роли этого любезнаго,
воспитаннаго полковника, съ такими, „ненынѣшними" подусниками.
Андрей Андреевичъ настолько вѣрилъ въ свою звѣзду, настолько
убѣжденъ былъ въ полной неуязвимости особы своей, что „работалъ",
хотя и съ большимъ, внѣшнимъ тактомъ, но за кулисами, куда, до поры
до времени, ничей непосвященный глазъ не проникалъ, тамъ онъ рас-
поясывался во-всю, не давая себѣ труда заметать слѣды и улики.
Вотъ почему обыскъ, въ одинъ и тотъ-же часъ произведенный на
всѣхъ трехъ квартирахъ, далъ уничтожающій обвинительный матеріалъ.
Вороха писемъ... И чего, чего только не было!.. Цѣлыя кипы услов-
ныхъ телеграммъ, помѣченныхъ не только многими россійскими городами,
но и заграничными, австро-германскими, преимущественно.
Двѣнадцать собственноручныхъ писемъ военнаго генералъ-губерна-
тора Познани, генерала-отъ-инфантеріи фонъ-Бернгарди. И среди нихъ
такое, между прочимъ:
Милый Мясниковъ!
„Вамъ привезетъ записку эту мой старшій адъютантъ, полковникъ
графъ Гуго фонъ-Мантейфель. Необходимо ближайшей-же ночью неза-
мѣтно перебросить черезъ границу двухъ человѣкъ. Подробности графъ
Мантейфель скажетъ вамъ на словахъ. Доставьте обоихъ лично въ авто-
мобилѣ, — по желѣзной дорогѣ ни подъ какимъ видомъ, — въ Варшаву,
прямо въ германское консульство. Отъ графа получите двѣсти тысячъ
марокъ. На-дняхъ Самъ пригласитъ васъ на охоту, къ себѣ въ имѣніе и
вы получите рядъ новыхъ инструкцій. Кстати, Онъ доволенъ вашей
службой"...
Мы выхватили на-удачу одно изъ самыхъ невинныхъ писемъ, помѣ-
ченныхъ, къ слову сказать, 1903 годомъ. Но встрѣчались даты и болѣе
раннія,—лишнее подтвержденіе, что Мясниковъ продавалъ и предавалъ
свою родину, по крайней мѣрѣ, въ теченіе пятнадцати лѣтъ.
Затѣмъ нашли у него въ трехъ несгораемыхъ кассахъ цѣлыя груды
золота, на сумму,—считая скромно-скромно,—въ полмилліона. Разнообразію
монетъ, стройными колоннами равнявшихся, какъ ряды какой-то арміи,
столбиковъ-лилипутовъ,—да и чѣмъ это не была армія?—Любая мѣняльная
лавка позавидовала-бы желѣзнымъ шкапамъ Андрея Андреевича, позави-
довала-бы пестротѣ ихъ сверкающаго тяжелаго содержимаго.
Вотъ ужъ, дѣйствительно, въ полномъ смыслѣ „международная армія".
Французскіе луидоры и старые съ профилемъ Наполеона III и новые,
то съ галльскимъ пѣтухомъ, то съ эмблемою республики,—дѣвушкою во
фригійской шапочкѣ. „Фунты"—англійскіе, турецкіе, египетскіе. Монеты
въ двадцать марокъ и въ'двадцать кронъ, въ двадцать итальянскихъ лиръ
и, наконецъ, наши россійскіе червонцы въ пять и въ десять рублей.
Человѣкъ, посылающій своихъ агентовъ, кого на Дальній Востокъ,
кого въ Берлинъ, Парижъ, Вѣну, въ Константинополь и даже въ Каиръ,
и еще и еще,—долженъ платить въ любой моментъ, любой на выборъ,
монетою.
И Мясниковъ платилъ, платилъ иа-право и на-лѣво, а несгораемыя
кассы его, словно данаидовы бочки, все наполнялись и наполнялись при-
токомъ новаго золота.
229
На допросахъ Мясниковъ держался независимо, почти съ достоин-
ствомъ. Сломать этого сильнаго человѣка, на протяженіи двадцати лѣтъ
водившаго за носъ три министерства, и морочившаго самый разнообраз-
ный людъ, было не такъ-то легко...
Прежде всего, онъ поспѣшилъ отвергнуть съ благороднымъ негодо-
ваніемъ всякое обвиненіе въ томъ, что лишь „тридцать серебренниковъ"
ем}г внушили сдѣлаться Іудою-предателемъ Родины своей.
И онъ пытался убѣдить всѣхъ, что работалъ въ пользу австро-гер-
манцевъ не корысти—наживы ради, а исключительно во имя соображеній
чисто идейнаго характера.
Съ брезгливой гримасою на красивомъ „гвардейскомъ" лицѣ своемъ,
полковникъ Шепетовскій,—онъ допрашивалъ Андрея Андреевича, — по-
любопытствовалъ:
— А не соблаговолите ли вы пояснить мнѣ, во имя какихъ такихъ
идей занимались вы шпіонажемъ въ своей собственной странѣ на пользу
нашимъ врагамъ?..
— Извольте, господинъ полковникъ... Я, надо вамъ сказать,—это уже
дѣло личныхъ убѣжденій,—всегда былъ поборникомъ самаго строгаго аб-
солютизма. Что дѣлать? Я былъ воспитанъ въ такихъ традиціяхъ... И еще
въ молодые годы мои я имѣлъ совершенно опредѣленный отрицательный
взглядъ на попытки сближенія Россіи съ Франціей. Я считалъ, что рес-
публиканская Франція съ ея политической распущенностью—вовсе не пара
намъ. Съ моей точки зрѣнія,—и это мое глубокое убѣжденіе,—намъ нужна
сильная Германія. Да, Германія, на которую намъ надлежитъ опираться...
Сильная, здоровая, мощная! Такое, именно такое дружественное сосѣдство,—
необходимо и полезно Россіи!
— На этомъ основаніи, всячески ослабляя Россію, вы всячески спо-
собствовали усиленію Германіи?..—перебилъ Шепетовскій, презрительно
улыбаясь.
— Господинъ полковникъ, вы совершенно вѣрно изволили понять
мою основную мысль, ея схему, скелетъ...
А не приходило-ли вамъ, господинъ Мясниковъ, теперь, во время
войны, въ голову, что по милости учиненныхъ вами предательствъ, тамъ
на фронтѣ было пролито русской крови гораздо больше, чѣмъ могло-бы
быть пролито? Ваш}' совѣсть никогда не тревожили подобныя мысли?..
Андрей Андреевичъ пожалъ плечами...
— Богъ мой,—что дѣлать!.. Я самъ болѣлъ душой. Но всякая идея
требуетъ искупительныхъ жертвъ. Повторяю, намъ нужна сильная, не-
разбитая Германія... Нужна, и для достиженія этого идеала—всѣ цѣли
хороши...
Шепетовскій долго-долго смотрѣлъ на него, какъ-бы изучая этотъ
изумительный, по своей законченности человѣческій экземпляръ.
Онъ убѣдился, что передъ нимъ стоитъ негодяй исключительной
марки. Сверхъ-негодяй, подобныхъ которому во всей природѣ-матушкѣ
смѣло по пальцамъ перечесть можно.
Другой на его мѣстѣ покаялся-бы.
„Такъ, молъ, и такъ, грѣшенъ... Хотѣлось жить вволюшку, вкусно
ѣсть, сладко спать, да пригоршнями раскидывать деньги. Ну и погрязъ я
въ подлости, подлости, съ которой никакія преступленія не могутъ стать
вровень".
230
А этотъ поспѣшилъ задрапироваться въ тогу „идейнаго" изъ выс-
шихъ соображеній, политическихъ, предателя.
И по мѣрѣ того, какъ постепенно разматывался клубокъ Мясников-
скаго дѣла, въ жуть и въ холодъ кидало тѣхъ, кто разбирался въ этомъ
дьявольскомъ клубкѣ.
Именно дьявольскомъ...
Мясниковъ, обыкновенный реальный Мясниковъ, большой, съ крас-
нымъ лицомъ и сѣро зелеными кошачьими глазами, съ по-прежнему не-
измѣнной брезгливою складкою рта, начиналъ вдругъ чудиться какимъ то
кошмарнымъ,—только горяченное воображеніе можетъ создать,—спрутомъ,
миріадами своихъ длинныхъ и клейкихъ щупальцевъ опутавшимъ и по-
крывшимъ чуть-ли не треть земного „глобуса".
И эти щупальцы, непрерывно, повсюду и вездѣ въ ежедневной „ра-
ботѣ" вершили подлыя, гнусныя, названія которымъ пѣтъ, дѣла, высасывая
лучшую кровь, лучшіе соки, лучшую сил}' изъ необъятной, богатой и
могучей страны...
И вотъ, добрались, наконецъ, до спрута и пробилъ часъ, - отхватить
и вырвать съ мясомъ всѣ его щупальцы.
Но чрезвычайно охотно исповѣдывавшій передъ судьями свои поли-
тическія убѣжденія, Андрей Андреевичъ, лишь только заходила рѣчь объ
тайникахъ всей организаціи, о сообщникахъ,—мгновенно утрачивалъ всю
свою словоохотливость.
Приходилось чуть-ли не щипцами выматывать изъ него имена,—длин-
ный списокъ именъ,—другъ за другомъ.
Во время очныхъ ставокъ Андрей Андреевичъ проявлялъ во всей
красѣ громадное самообладаніе свое.
Когда въ первый разъ поставили его лицомъ къ лицу съ Бертою, п
она съ истерическимъ визгомъ:
— Андрей... мой Андрей... что они сдѣлали съ тобою?..
Бросилась передъ нимъ растерзанная, простоволосая и съ без}7мно
выкатившимися глазами, обхватила его колѣни, онъ оттолкнулъ ее.
— Я просилъ-бы меня избавить отъ этой женщины и ея сумасшед-
шихъ выходокъ...
17. Воронье—въ клѣткѣ.
Совсѣмъ по другому, совсѣмъ иначе держалъ себя баронъ Роткусъ.
Впрочемъ..* Ничего удивительнаго... И развѣ не былъ онъ совсѣмъ, со-
всѣмъ другимъ человѣкомъ, нежели его сообщникъ и пріятель Мясниковъ?..
Роткусъ „обманулъ" всѣхъ, всѣхъ, безъ исключенія „обманулъ", кто
его зналъ въ той или другой степени. Ближе, или дальше, короче, или на
разстояніи.
Но и ближнимъ, и дальнимъ онъ казался не тѣмъ Роткусомъ, далеко
не тѣмъ, который вдругъ измѣнилъ своей каменной, безстрастной маскѣ,
измѣнилъ съ того самаго момента, какъ вошла въ квартиру на Мойкѣ
жандармерія и полиція.
Животный страхъ цѣликомъ заполнившійся перетрусившаго мерзавца,
подмѣнилъ всю его замкнутую, безстрастную фигуру, казавшуюся многимъ
загадочной.
23 г
Этотъ человѣкъ однимъ росчеркомъ пера ссылавшій на каторгу тѣхъ,
кого считалъ „измѣнниками", и „крамольниками", наполнявшій сибирскія
тюрьмы революціонерами, этотъ господинъ, фабриковавшій аттестаты благо-
надежности, „учившій", какъ надо любить Россію и сдѣлаться добрымъ
гражданиномъ ея, этотъ господинъ, самъ очутившись за крѣпкой желѣз-
ной рѣшеткою, навсегда и безнадежнѣйшимъ образомъ растерялся.
Да, растерялся...
Мясниковъ, тотъ бралъ хоть наглостью, втирая очки „сознательной
идейностью" своихъ шпіонскихъ подвиговъ... Хоть этимъ бралъ...
Правда, никто ни на одн}’ минуту не вѣрилъ въ его дѣланный пафосъ,
вызвавшій улыбку. Но все-жс въ этомъ желаніи забронироваться въ
панцырь сознательной, продуманной лжи, была какая-то воля, былъ какой-
то характеръ.
Роткусъ-же,—ни воли, ни характера не обнаружилъ и въ поминѣ.
Онъ держался какой-то бабой истеричкой, совсѣмъ подъ стать Мяс-
никовской Бертѣ. Но та же самая Берта проявляла порою блестки куда
большаго темперамента и самообладанія.
Да и что можно было особеннаго требовать отъ этой больной алко-
голички, влюбленной въ Андрея Андреевича какой-то, издергавшей всѣ
нервы любовью, въ Андрея Андреевича, въ награду за эту любовь споив-
шаго ее за нѣсколько лѣтъ ихъ совмѣстной, насыщенной вѣчнымъ пре-
ступленіемъ жизни?
И на допросахъ, частыхъ, ежедневныхъ допросахъ, мучительныхъ, и
въ одиночку, и лицомъ къ лицу съ сообщниками и свидѣтелями, Берта
великолѣпно оставалась вѣрна самой себѣ.
Это былъ какой-то нслѣпыіі вихрь самыхъ дикихъ непослѣдователь-
ностей, ни логикѣ, ни здравому смыслу не подчиненныхъ...
Сегодня, напримѣръ, она въ четырехъ стѣнахъ своей камеры думала
о Мясниковѣ хорошо и любовно. II подъ этимъ впечатлѣніемъ шла къ допросу.
Она топила себя, топила всячески, выгораживая Мясникова.
Послушать ее—это „ангелъ во плоти": благородный, прекрасный,—
такого другого нѣтъ на свѣтѣ! Онъ—жертва зависти, клеветы, злословія,
жертва чьихъ-то интригъ, избравшихъ,—его въ чужомъ пиру похмелье,—
козломъ отпущенія.
И глядя широко раскрытыми глазами, этими безумными глазами исте-
рички съ до жуткаго расширяющимся зрачкомъ,—она ихъ подводила и въ
тюрьмѣ эти сумасшедшіе глаза,— Берта казнилась, браня себя на чемъ
свѣтъ стоитъ...
Это она, она, гадкая, подлая, безъ чести, безъ совѣсти! Она орудо-
вала во всю за спиною довѣрчиваго Андрея Андреевича, этого кроткаго
агнца, рѣшительно ничего не подозрѣвавшаго! Это она, она во всемъ
виновата!.. И пусть ее судятъ, казнятъ, четвертуютъ, лишь-бы онъ, Мясни-
ковъ, получилъ свободу и реабилитацію своего „добраго" имени, какъ ни
Христомъ, ни Богомъ, ни въ чемъ не виноватый. Правда восторжествуетъ!
II если не сейчасъ, то впослѣдствіи всѣ убѣдятся, что онъ былъ жертвою.
Теперь не такое время, теперь нельзя раскрывать всѣхъ картъ, но впо-
слѣдствіи, когда маска будетъ сорвана...
Такъ говорила Берта-сегодня.
А на утро изъ перекрестнаго огня свидѣтельскихъ показаній выясни-
лось, что у Мясникова была еще одна постоянная любовница, съ которой
232
онъ имѣлъ четырехлѣтнюю связь, о чемъ Берта и понятія ни какого не
имѣла.
Такъ вотъ какъ!.. Онъ обманывалъ ее, онъ въ объятіяхъ другой вы-
шучивалъ ея худое и плоское тѣло.
Вышучивалъ, смѣялся и онъ, и она смѣялись.
Обида, которой женщина до гробовой доски не проститъ ни любов-
нику, ни соперницѣ.
Берта забилась въ истерическомъ припадкѣ. Ее трясло какъ одер-
жимую. На губахъ выступила пѣна. Застеклявшіеся бѣлки закатывались,
точно у покойницы.
Ее отливали водой, отпаивали...
И когда, послѣ долгихъ хлопотъ, не безъ участія доктора, привели,
ее, наконецъ, въ чувство, надо было нослз’шать брызнувшую изъ ея
блѣдныхъ посинѣвшихъ губъ новую „характеристику" Андрея Андрее-
вича.
Это уже не былъ ангелъ во плоти, явившійся несчастной жертвою
скрытыхъ политическихъ махинацій... Это былъ тягчайшій преступникъ,
для котораго пеньковое ожерелье—самая почетная смерть, какую только
можно выдумать на землѣ...
II не жалѣя красокъ и помоевъ, чернила и обливала грязью Берта
своего любовника.
Въ ея обрисовкѣ получался портретъ, уже прямо чудовищно-каррп-
катурнаго уродства.
Онъ не только измѣнникъ, шпіонъ, предатель... Не только... Онъ
игралъ видную роль и въ наиболѣе важныхъ террористическихъ актахъ
сравнительно недавняго прошлаго...
Онъ воръ, да воръ, ибо, ничтоже сумняшеся, обкрадывалъ берлин-
ское государственное казначейство, выдававшее ему подъ отчетъ громадныя
суммы.
И всѣ его „оправдательные" документы—фальшивые, подтасованные,
мошенническіе.
Ко всѣмъ его прелестямъ—онъ еще и несомнѣнный растлитель, этотъ
дьяволъ во образѣ человѣка, не пощадившій даже свою собственную дочь-
гимназистку.
Словомъ, это было такое сгущеніе правды и вымысла, такой сумбуръ,
такое сплетеніе человѣческихъ мерзостей, вавилонской башни нагромож-
давшихся ядовитымъ языкомъ ревнивой женщины, что у всѣхъ, кто вы-
слушивалъ по обязанности, было такое ощущеніе, словно головы ихъ
начинали пухнуть, пухнуть и скоро этимъ головамъ сдѣлается тѣсно въ
громадной, высокой, обставленной по казенному, комнатѣ...
И трудно было отдѣлить ужасную правду отъ еще болѣе ужасныхъ
вымысловъ. Но все-таки можно было...
Напримѣръ, совсѣмъ уже черной клеветою, если только можно было
назвать клеветою бредъ всегда возбужденной алкоголички, являлись пре-
ступныя отношенія отца къ дочери.
Мясниковъ не былъ растлителемъ. Онъ просто былъ плохимъ отцомъ,
время отъ времени развѣ только вспоминавшимъ, что у него уже почти
взрослая дочь и сынъ юноша.
Несчастные!..
Вотъ уже дѣйствительно безъ вины виноватые...
233
Какая пытка носитъ это имя, это проклятое имя, которое у всѣхъ
на устахъ, отъ котораго никуда не уйти, не скрыться, а самая главная
пытка,—называться сыномъ и дочерью Андрея Андреевича Мясникова.
Мясникова, „того самаго, который"...
Какой смертельной отравою наполниться должны юныя души...
Вмѣсто манящихъ и яркихъ далей молодости, гдѣ все искрится и
горитъ бодрымъ просторомъ и солнцемъ, опустилась предъ ними темная,
удушливая, густая завѣса, одинъ сплошной трауръ, безъ улыбки, безъ
радостей...
А между тѣмъ, этотъ медленный палачъ своихъ собственныхъ дѣтей,
ни разу не вспомнилъ объ нихъ... Ни разу...
Онъ весь ушелъ въ одно. Въ эгоистическое желаніе спасти свою
собственную жизнь, за которую онъ, это ходячее вожделѣніе, хватался
всегда съ такой ненасытной жати остью...
Онъ гналъ отъ себя мысль о смерти, прочь гналъ.
Онъ убѣждалъ себя, что его сошлютъ на каторгу.. Что этимъ огра-
ничатся... II уже строилъ себѣ планы бѣгства... Онъ убѣжитъ... И ему
это будетъ легче легкаго.
Сибирь на всемъ безбрежномъ пространствѣ,—кишмя кишитъ нѣм-
цами. Да еще какими нѣмцами!.. Громадные торговые дома, съ цѣлой
арміей служащихъ и ком ми-вояжеровъ..
И что ни „домъ",—штабъ-квартира нѣмецкаго шпіонажа.
Андрей Андреевичъ зналъ всю подноготную этихъ „торговыхъ до-
мовъ", „домовъ", съ которыми уже лѣтъ пятнадцать находился въ непре-
рывныхъ тайныхъ сношеніяхъ.
Въ Сибири эти люди, ворочающіе многомилліонными предпріятіями,
въ большомъ почетѣ и у большой власти...
Въ свое время онъ былъ полезенъ имъ весьма и весьма.
Теперь насталъ ихъ чередъ отблагодарить его за то, что онъ успѣлъ
для нихъ сдѣлать...
II Андрей Андреевичъ Мясниковъ, продолжавшій, несмотря ни на что
уповать на свою звѣзду, рисовалъ себѣ заманчивыя перспективы.
Онъ бѣжитъ съ каторги. Бѣжитъ въ Америку и тамъ, при под-
держкѣ туземныхъ нѣмцевъ, начинаетъ новую жизнь подъ другимъ именемъ.
А за океаномъ человѣку съ его головою и размахомъ,—уголъ непо-
чатый дѣла.
Такіе, какъ онъ,—такіе не пропадаютъ!..
Во-первыхъ, можно было бы и въ Америкѣ съ успѣхомъ „работать"
на пользу Германіи, а, во-вторыхъ...
На этомъ гадательномъ „во-вторыхъ", — планы вдругъ обрывались...
Но зачѣмъ „во-вторыхъ", когда онъ чудесно используетъ свое „во-пер-
выхъ", да и, вообще, такъ предусмотрительно заглядывать впередъ — не
имѣетъ смысла...
Самое главное удачный побѣгъ... А тамъ...
Дознаніе выяснило, что у Мясникова было цѣлыхъ девять встрѣчъ
съ императоромъ Вильгельмомъ. Одна въ Берлинѣ, уже во время войны,
совсѣмъ недавно, Мясниковъ ѣздилъ туда кружнымъ путемъ черезъ Шве-
цію, другая, тоже въ Берлинѣ, передъ самой войною, а затѣмъ Андрей
Андреевичъ семь разъ въ теченіе пяти шести лѣтъ приглашался Виль-
гельмомъ на охоту въ его имѣніе въ Восточной Пруссіи.
234
Шепетовскій задалъ вопросъ Мясникову:
— Скажите, что общаго могло быть между императоромъ Германіи
и вами, скромнымъ жандармскимъ подполковникомъ?.. Что?..
— Императоръ Вильгельмъ очень хорошо ко мнѣ относился...
Я въ этомъ пе сомнѣваюсь. У него имѣлись на это свои уважи-
тельныя причины,—хорошо относиться къ вамъ. Но не потрудитесь ли вы
точнѣе объяснить, чѣмъ именно вызвана была подобная, болѣе, чѣмъ
странная, близость?..
— Императоръ Вильгельмъ, какъ извѣстно, большой спортсмэнъ. Онъ
заинтересовался моей мѣткой стрѣльбой...
Такъ... А чѣмъ онъ еще интересовался? О чемь говорилъ съ
вами, и до охоты, и послѣ въ своемъ охотничьемъ замкѣ?..
— Императоръ Вильгельмъ любилъ слушать мои анекдоты... Я счи-
таюсь большимъ мастеромъ по этой части...
Бѣдная Россія! Солоно приходилось ей отъ Мясниковскихъ „анекдо-
товъ", которыми онъ услаждалъ кайзера въ часы охотничьихъ завтра-
ковъ!..
— А скажите, двѣ недѣли назадъ, вы пропутешествовали въ Берлинѣ
черезъ Швецію и Данію, тоже затѣмъ, чтобъ разсказать императору
Вильгельму нѣсколько новыхъ анекдотовъ?..
Иа этомъ вопросѣ Шепстовскаго, даже самъ Андрей Андреевичъ,
со всей его находчивой наглостью, даже онъ споткнулся, не нашелъ сразу
отвѣта.
Убѣдившись, что петля затягивается все туже и туже, онъ, скрѣпя
сердце, началъ мало-по-малу, „расшифровывать" всѣ свои „анекдоты",
которыми онъ потчивалъ кайзера. И помимо крупной фигуры одного
шпіона всплыла еще другая, болѣе крупная, фигура коронованнаго
шпіона— Вильгельма.
Гораздо меньше хлопотъ было съ барономъ Роткусомъ. Да и калиб-
ромъ онъ былъ куда значительно мельче.
Роткусъ, утративъ свою каменную внѣшнюю невозмутимость, пока-
тился сразу по наклонной плоскости...
Валяясь въ ногахъ своихъ судей и слѣдователей, онъ умолялъ по-
щадить его, за это обѣщая потрясающія разоблаченія всей организаціи...
Онъ плакалъ, говоря, что ему, барону, потомку рыцарей — кресто-
носцевъ, не перенести позора, и что къ нему, какъ-никакъ, дѣйствитель-
ному статскому совѣтнику, занимавшему видный постъ, слѣдовало бы
отнестись возможно снисходительнѣе, дабы не подрывать „престижа
власти"...
Тѣмъ болѣе, въ свое время, онъ такъ много пользы принесъ оте-
честву...
Да и свою теперешнею дѣятельность, онъ, положа руку на сердце,
не считаетъ ничуть разрушительной...
18. Воскресшій заново.
Два всадника ѣхали по узкой плотинѣ. Князь Цацавадзе на своемъ
горячемъ, все время приплясывавшемъ кабардинцѣ, и вѣстовой съ двумя
Георгіями.
235
Полковничья лошадь, словно желая освободиться отъ досаднаго ей
желѣза, то и дѣло запрокидывала свою маленькую, горбоносую, съ нерв-
ными ноздрями голову, съ мордою въ бѣлыхъ мыльныхъ клочьяхъ пѣны.
II при этомъ „Казбичъ",—такъ звали кабардинца, — все время изъ-
являлъ самое пламенное, самое неукротимое желаніе перейти въ галопъ,
а буде ему это позволятъ, то и въ буйный, вихремъ несущійся карьеръ.
Князь со своей тонкой дѣвичьей таліей, въ безукоризненно сидящей
черкескѣ, смуглый, съ темной, острой бородкою, былъ типичнѣйшимъ
кавалеристомъ кавказскаго образца.
Это - совершенно особая, такая живописная манера и сидѣть въ
сѣдлѣ, и управлять конемъ, и держаться.
Этого не воспитаешь въ себѣ, это—врожденное.
И этого нс спрячешь, какъ не могъ „спрятать0 Зауръ-бей отъ здорово
наметавшихся „кавалерійскихъ" глазъ Якимова свою горскую повадку за-
носить правую ногу надъ высокой, задней лукою.
А Казбичъ все приплясывалъ, да приплясывалъ, того и гляди сдѣлаетъ
бѣшеный скачекъ въ воду, прочь съ плотины, и такъ поднималъ голову
и косилъ вверхъ налитымъ кровью бѣлкомъ, словно хотѣлъ пересчитать
въ небесахъ всѣ звѣзды, пока еще едва замѣтныя, блѣдно-молочныя
звѣзды ранняго августовскаго вечера.
Князь, осаживая кабардинца, училъ строгую лошадь уму-разуму.
Ногайкой училъ:
— Будетъ тебѣ, головодеръ, проклятый!.. Будетъ!..
Узкая плотина, пересѣкавшая озеро, какъ-то незамѣтно перешла въ
дворъ помѣщичьей усадьбы, а дворъ такъ же незамѣтно перешелъ въ
дикій, не то садъ, не то паркъ, сплошь изъ гигантскихъ, косматыхъ
сосенъ...
Это была уже новая стоянка.
Подъ лапчатой сѣнью вѣковыхъ деревьевъ кипѣла бивуачная жизнь.
Далеко разносилось возбуждающее аппетитъ пріятное тепло походной
кухни, труба которой густо курилась дымомъ.
Тамъ и сямъ на травѣ, въ картинныхъ позахъ, лежали и сидѣли
всадники въ папахахъ, бешметахъ и черкескахъ. Паслись засѣдланныя
лошаденки, помахивая хвостами. Нѣкоторыя счастливицы медленно, съ
хрустомъ зубовъ, жевали овесъ.
Счастливицы потому, что выпадали дни, когда овса нельзя было
достать нигдѣ кругомъ, ни за какія деньги...
Уже сгущался подъ соснами вечерній холодѣющій мракъ.
Обогнувъ дворъ, князь подъѣхалъ къ длинной, во всю стѣну верандѣ
и ловко, однимъ упругимъ движеніемъ, спѣшившись, поднялся по сту-
пенямъ туда, гдѣ офицеры, группами собравшись вокругъ накрытаго
стола, поджидали своего командира къ ужину.
— Ваше, сіятельство, письма?—со всѣхъ сторонъ посыпались вопросы.
Всякііі чаялъ себѣ откуда-нибудь вѣсточки и тѣхъ, кто возвращался
изъ штаба дивизіи, ждали всегда съ особеннымъ нетерпѣніемъ.
— Есть, получайте!.. Вамъ, князь Монтвиллъ, вамъ, Якимовъ, тебѣ
Султанъ, вамъ, прапорщикъ Обнорскій... Надѣюсь, это послѣднее письмо,
по вашему адресу, подъ этимъ псевдонимомъ,—товарищески-мягко улыб-
нулся князь Цацавадзе.
Прапорщикъ...
236
Да, Зауръ-бей, — много воды утекло, — успѣлъ украсить уже свою
черкеску прапорщичьими погонами.
Много утекло воды, а минулъ всего съ небольшимъ какой-нибудь
мѣсяцъ.
Мы оставили Обнорскаго въ тяжелую минуту. Не приведи Богъ
какую тяжелую!
Ему грозили, на самый лучшій конецъ, безславныя арестантскія роты.
Двое сутокъ просидѣлъ онъ подъ стражею въ халупѣ и за эти сорокъ
восемь часовъ его виски успѣли шибко посеребриться.
Но не даромъ сказалъ ему князь:
— „Уповайте на Бога и на Монарха"!..
Генералъ, командующій дивизіей, на свою заступническую въ двѣсти
съ чѣмъ-то словъ телеграмму, получилъ отвѣтъ болѣе, чѣмъ благопо-
лучный, болѣе, чѣмъ милостивый...
И такъ какъ необыкновенной судьбою Зауръ-бея Обнорскаго за-
интересована была вся дивизія, то срочная депеша, полученная генераломъ,
явилась для всѣхъ шести полковъ цѣлымъ событіемъ... 11 до чего празд-
ничьимъ событіемъ!..
Бывшій корнетъ Ах-скаго драгунскаго полка Зауръ-бей за совер-
шенные имъ подвиги и, какъ дважды георгіевскій кавалеръ, удостоился
полной амнистіи.
Прошлаго не существовало больше! Вычеркнутое, сгинувшее, оно
придавлено было уже на вѣки могильной, тяжелой плитою...
Навсегда!..
Былъ бѣглый дезертиръ Ах-скаго драгунскаго полка Зауръ-бей,
потомъ былъ всадникъ Обнорскій. Теперь нѣтъ ни того, ни другого...
Теперь есть прапорщикъ Зауръ-бей... Онъ всего лишь на-дняхъ про-
изведенъ изъ вахмистровъ въ этотъ первый офицерскій чинъ за то, что
находясь вмѣстѣ съ военнымъ летчикомъ, въ качествѣ наблюдателя-пасса-
жира, застрѣлилъ бросавшаго бомбы надъ штабомъ дивизіи австрійскаго
„воздушнаго бандита". Застрѣлилъ двумя пулями изъ австрійскаго же
автоматическаго десятизаряднаго пистолета.
Аэропланъ вмѣстѣ съ трупомъ летчика упалъ на базарную площадь
городка Тлусте. Упалъ, къ счастью, никого не убивъ и не искалѣчивъ.
И вотъ Зауръ-бей прапорщикъ и какъ свой среди своихъ и равный
между равными, принятъ, сердечно и тепло принятъ въ офицерскомъ кружкѣ.
Одни событія опережаютъ другія. Ничего не подозрѣвающій Бер-
кутовъ пишетъ ему,—князь привезъ это письмо изъ штаба, — пишетъ
„всаднику Обнорскому". А между тѣмъ всадникъ Обнорскій исчезъ и
растаялъ, какъ призракъ, а на его мѣстѣ выросъ живой, воплоти и крови
прапорщикъ Зауръ-бей.
Беркутовъ, какъ съ другомъ, спѣшитъ подѣлиться своимъ счастьемъ.
Счастьемъ, отъ котораго можно съ ума сойти, — такое оно громадное,
головокружительное...
Онъ и Бранка Сарифи, — женихъ и невѣста Да, да, какъ это ни
странно!.. Странно, потому что, вотъ ужъ зигзаги и броски вѣчно капризни-
чающей судьбы!.. Надо же было ему остановиться въ Константинополѣ,
увидѣть Милана, попасть въ этотъ экзотическій особнякъ на Перѣ, при-
надлежащій банкиру, котораго звали Агамемнономъ и который приходился
внукомъ страшному морскому пирату...
537
И все дальнѣйшее въ такомъ же духѣ, необыкновенномъ, фанта-
стическомъ.
Свадьба—потомъ. Теперь не до свадьбы. Надо сначала поставить
на ноги бѣдняжку Гермеса. Онъ до сихъ поръ еще прикованъ къ постели.
Рана оказалась болѣе серьезной, чѣмъ думали въ первые дни. Пуля прошла
всего на какой нибудь волосокъ... Чуть-чуть пе задѣла легкаго.
Онъ, Беркутовъ, перехватилъ Гермеса уже на пути въ Россію, перо -
хватилъ въ Іарнополѣ и очень жалѣетъ, что не могъ слетать хоть на
нѣсколько часовъ подъ Тлусте въ дивизію, чтобы повидаться съ дорогимъ
Обнорскимъ.
Все же здоровый, что здоровый, — прямо богатырскій — организмъ
Гермеса беретъ свое. Мальчикъ замѣтно поправляется. Мать проводитъ
у его изголовья дни и ночи... Перемучилась она за это время!.. А онъ съ
эгоизмомъ мужчины-бойца, только объ одномъ грезитъ, какъ бы поскорѣе
опять вернуться въ дивизію, которую онъ успѣлъ полюбить и съ которою
такъ тѣсно сжился.
Онъ вспоминаетъ каждый день Обнорскаго и, право, послѣ матери
и дяди Милана, Обнорскій самый близкій ему человѣкъ...
Въ этихъ словахъ угадывалась легкая горечь. Беркутовъ какъ бы
завидовалъ Гсрмесовой привязанности къ Зауръ-бею,—Обнорскому.
Одного не учелъ художникъ при всей своей чуткости. Одного...
Цѣлые годы спокойной совмѣстной жизни двухъ людей пе могутъ ихъ
спаять и сблизить съ такой силою, какъ часы и даже минуты, проведенные
близко плечемъ къ плечу на войнѣ, средь общей опасности и одинако-
выхъ, до жуткаго одинаковыхъ переживаній...
Если-бъ изо-дня въ день, цѣлыхъ четверть вѣка Монтвиллъ и Сул-
танъ Чингизъ постоянно встрѣчались въ обществѣ, это не породнило бы
ихъ такъ тѣсно, какъ породнила ихъ одна проведенная въ шалашѣ на
сухихъ душистыхъ листьяхъ ночь, подъ обстрѣломъ непріятельской
артиллеріи.
Уже всѣ, послѣдовавъ примѣру князя, сидятъ за столомъ, уже ден-
щики обносятъ жирнымъ борщемъ съ помидорами. Блеститъ янтаремъ
густой наваръ... Уже горятъ въ стеклянныхъ колпакахъ свѣчи, а нѣсколько
счастливцевъ жадно пробѣгаютъ полученныя письма.
Эти люди, отрѣзанные отъ Петрограда, отъ Россіи, отъ всего міра,
живущіе недѣлями безъ газетъ и знающіе лишь свой фронтъ на протя-
женіи нѣсколькихъ верстъ, какъ дѣти радовались малѣйшей вѣсточкѣ, и
блестѣли глаза, улыбались старыя и пожилыя и совсѣмъ юныя лица.
Чяуловъ, этотъ съ внѣшностью Радамеса поручикъ, мягкимъ, пріят-
нымъ теноромъ своимъ спросилъ командира:
— Ваше сіятельство, а газетъ вы съ собою не захватили?
— Не было! Самъ штабъ ничего не получилъ. Послѣ завтра ждутъ,
съ курьеромъ. А кстати, господа, завтра къ обѣду пріѣдетъ къ намъ въ
полкъ живая газета...
Цацавадзе сдѣлалъ паузу.
Всѣ насторожились.
Въ самомъ дѣлѣ, что это еще за живая газета?..
Князь улыбался. Рука его съ ложкою осталась занесенная на полпути...
— Живая газета... И преинтересная... Мы всѣ ее прочтемъ съ удо-
вольствіемъ...
— 238 —
— Ваше сіятельство, да не мучьте вы насъ, Христа ради! Отпустите
душу на покаяніе!..—чуть не плакалъ Радамесъ-Чяуловъ.
— Господа, завтра будетъ къ намъ, прямо изъ ставки па автомобилѣ,
французскій военный корреспондентъ. Надо не ударить лицомъ въ грязь.
Мы угостимъ его, кромѣ обѣда, хоромъ трубачей, лезгинкой и джиги-
товкой. Надо будетъ показать ему позиціи... Говорятъ, успѣлъ побывать
чуть ли не на всѣхъ фронтахъ. Въ Сербіи, въ Эльзасѣ, въ Бельгіи и
даже чуть ли не у Дарданеллъ... II вотъ, наконецъ, прикатилъ къ намъ...
Офицеры обрадовались перспективѣ» встрѣчи со свѣжимъ человѣкомъ.
Шутка ли сказать, до чего свѣжимъ!.. Три короба новостей при-
везетъ съ собою.
II дѣйствительно привезъ.
На другой день большая сѣро-фисташковаго цвѣта, гоночнаго типа
запыленная машина влетѣла во дворъ усадьбы.
Вмѣстѣ со штабнымъ офицеромъ, такъ называемой „нянькою", дви-
нулся къ полковому командиру крѣпко сбитый человѣкъ въ пальто-бала-
хонѣ, „съ кодакомъ" на ремнѣ, въ кэпкѣ и съ бритымъ энергичнымъ
лицомъ, лицомъ вѣчнаго бродяги, международнаго перекати-поля...
Князь Цацавадзе знакомилъ корреспондента съ офицерами своего
полка. Бритый человѣкъ въ пальто-балахонѣ, увидѣвъ Зауръ-бея, кинулся
къ нему крѣпко сжалъ сго въ объятіи...
— Здорово, мой милый старина!.. Какъ живемъ?.. Вотъ сюрпризъ,
вотъ не ожидалъ!.. Богъ мой, до чего же я дьявольски радъ и счастливъ!..
Глазамъ не вѣрю... Послѣ Константинополя и вдругъ, здѣсь въ Галиціи!..
Нужно ли пояснять, что военный корреспондентъ оказался нашимъ
старымъ знакомымъ канадцемъ Шарлемъ-Амманъ.
И если очень велика была его собственная радость, то не менѣе, въ
свою очередь, обрадовался этой нежданной негаданной встрѣчѣ и За-
уръ-бей.
У нихъ было что вспомнить...
Одно избіеніе германскихъ офицеровъ, учиненное этими двумя
молодцами въ Птн-Шанъ, одно это чего стоило!..
19. Канадецъ Шарль-Нмманъ.
Канадецъ внесъ оживленіе въ полкъ.
Офицерская семья сжилась тѣсно и дружно, какъ нельзя болѣе
дружно...
Товарищескій духъ, духъ, поддерживаемый командиромъ, — это, во-
первыхъ, а во-вторыхъ, та самая сближающая спайка, трудная въ мирное
время, неизбѣжная здѣсь, на кровавыхъ поляхъ.
За этотъ годъ, всегда и вездѣ вмѣстѣ, всегда на глазахъ между
собою, офицеры такъ успѣли изучить другъ друга, такъ зналъ каждый на-
передъ не только слова, но и мысли чужія,—о чемъ говорить, когда уже
давнымъ давно все переговорено... Но не было скучно въ средѣ своей,
нѣтъ!.. Скучать на войнѣ приходится рѣдко. Тогда лишь развѣ, если она
принимаетъ затяжной позиціонный характеръ.
Кавалеристамъ-же,—некогда скучать. Если только ихъ не сажаютъ,
подобно пѣхотѣ, въ окопы.
239
Итакъ, это не была скука. А просто полкъ „изголодался", если можно
такъ выразиться, изголодался по свѣжему, именно по свѣжему человѣку.
Такимъ свѣжимъ человѣкомъ и явился Шарль-Амманъ.
Тѣмъ болѣе, полкъ увидѣлъ въ немъ настоящаго военнаго корре-
спондента.
Съ головы до ногъ!..
Офицеры, имѣя на это полное основаніе, презираютъ глубоко штат-
скихъ корреспондентовъ.
Да и взаправду на позиціяхъ, подъ огнемъ, какая-нибудь несуразная
фигура въ очкахъ, фигура, безъ малѣйшаго пониманія военнаго дѣла и
безъ всякой любви къ нему, фигура, задающая нелѣпые вопросы, фигура,
чувствующая себя въ сферѣ огня, какъ рыба, вынутая изъ воды, — такая
фигура произ водитъ комическое, жалкое впечатлѣніе, и такихъ коррес-
пондентовъ офицеры не особенно жалуютъ!..
И подѣломъ: не суйся, куда не слѣдуетъ, городской, дальше своей
редакціи носу не показывающій, человѣкъ.
Корреспондентъ, если его зовутъ вмѣстѣ съ собою въ развѣдку, не
долженъ спрашивать:
— А это... не очень опасно?..
Какіе тутъ могутъ быть вопросы? Тебѣ сулятъ интересныя впечат-
лѣнія,—садись и поѣзжай.
Садись...
Ахъ, это больное мѣсто многихъ. Есть корреспонденты, которымъ
лошадь внушаетъ паническій ужасъ. II если, преодолѣвъ этотъ ужасъ,
всѣми правдами и неправдами, наконецъ, они на нее взгромоздятся, полу-
чается картина такой несуразной безпомощности,—не приведи Богъ...
Что-же касается Аммана, то даже среди всѣхъ корреспондентовъ
военныхъ, типа желательнаго, даже среди нихъ онъ былъ яркимъ исключе-
ніемъ. Въ немъ, хоть отбавляй, всего!.. И мастерства ѣздить верхомъ, и
личной отваги, силы, „охотницкой" снаровки,—всѣмъ этимъ обладалъ онъ
съ избыткомъ, и смѣло могъ-бы удѣлить кое-что цѣлой дюжинѣ воен-
ныхъ корреспондентовъ глубоко штатскаго типа.
Программа встрѣчи гостя и его чествованія выполнена была блестяще.
Князь показалъ себя умѣющимъ и угостить, и принять бариномъ.
Ужъ на что канадецъ видывалъ на своемъ вѣку разные виды, и чего-
чего только не приходилось ему пить на самыхъ отдаленныхъ точкахъ
земного шара, но съ медомъ, настоящимъ старо-польскимъ медомъ, онъ
познакомился лишь впервые. Здѣсь, на этой верандѣ галиційской усадьбы.
И нѣжно, рокочуще, „подъ сурдинку", игралъ хоръ трубачей, скрытый
въ глубинѣ сада межъ вѣковыми соснами.
Нужно-ли говорить, что словоохотливый канадецъ не держалъ подъ
спудомъ своихъ накопленныхъ почти за годъ скитанія, по всѣмъ фрон-
тамъ, впечатлѣній, и охотно знакомилъ съ ними всѣхъ этихъ, сидящихъ
вокругъ стола, такихъ живописныхъ и воинственныхъ въ своей кавказ-
ской формѣ офицеровъ.
И такъ какъ, безъ исключенія, наполовину гвардейцы, наполовину
гусары и уланы самыхъ блестящихъ армейскихъ полковъ, всѣ понимали
по-французски, то Шарль-Амманъ никоимъ образомъ не могъ пожало-
ваться на свою аудиторію.
Слушали не только во всѣ уши, но и во всѣ глаза.
240
Правда, одинъ мулла, всегда по этикету приглашавшійся къ офицер-
скому столу, одинъ этотъ величавый, сѣдобородый, мусульманскій па-
тріархъ ничего не понималъ.
Да и зачѣмъ ему? Онъ сидѣлъ такой неподвижный, и такъ ушелъ
въ свои собственныя мысли... А бронзовые пальцы медленно-машинально
перебирали крупные шарики янтарныхъ четокъ... Четокъ, вывезенныхъ
муллою много лѣтъ назадъ, во дни молодости, изъ Мекки, откуда этотъ
правовѣрный вернулся „ходжою", (святымъ).
Князь спросилъ Шарля, какъ ему нравится этотъ край?..
— Я въ восторгѣ!..--воскликііулъ Амманъ. — Удивительно мощная
здѣсь природа!.. Именно мощная!.. Въ Европѣ я не встрѣчалъ такихъ
свободныхъ просторовъ и ширей!.. Въ такой обстановкѣ, да еще въ хо-
рошую погоду, воевать, мнѣ кажется, одно наслажденіе!.. Впрочемъ, въ
комъ сидитъ забіяка—драчунъ, всегда и вездѣ проснется... Кстати, мой
милый другъ, Зауръ-бей, а вѣдь помните?.. Знатно мы поколотили этихъ
наглецовъ?...
— Гдѣ, когда, въ чемъ дѣло?..—посыпалось со всѣхъ сторонъ.
Офицеры загорѣлись любопытствомъ.
Канадецъ, обстоятельно, смакуя каждый штришскъ, описалъ побоище
въ Пти-Шанъ.
Героямъ этого побоища дружно апплодировали, Амману и Зауръ-бею
оставалось одно лишь — раскланиваться съ видомъ талантливыхъ „испол-
нителей".
— Такъ вотъ оно что, — вырвалось у Султанъ-Чингиза, осѣненнаго
цѣлымъ откровеніемъ. — Вотъ оно что!.. Значитъ, выходитъ, что этотъ
самый князь Турнъ-и-Таксисъ, котораго мой кунакъ Зауръ-бей такъ ве-
ликолѣпно „плѣнилъ", его старый хорошій знакомый?.. Что-же это вы.
Зауръ-бей, тогда молчали, какъ въ ротъ воды набравши... Да, да, да.—Я
припоминаю... Вы, милый другъ, вмѣсто того, чтобы подойти поближе,
какъ художникъ, къ своему произведенію, скромно оставались въ тѣни...
— Это была скромность вынужденная, ваша свѣтлость,—улыбнулся
Затръ-бей. — Вѣдь я-же тогда былъ Обнорскій!.. Если-бъ Турнъ узналъ
меня и разоблачилъ, это вовсе не входило въ мои соображенія...
— Вотъ фатальное совпаденіе! — засмѣялся полковникъ Якимовъ,
всѣмъ тонкимъ, продолговатымъ лицомъ своимъ.—На берегахъ Босфора
набить человѣку морду, а черезъ годъ на берегу Днѣстра взять его въ
плѣнъ... И еще какъ взять... Другой, на мѣстѣ Турна, долженъ былъ-бы
покончить самоубійствомъ... Больно ужъ въ корявую исторію попалъ че-
ловѣкъ.
— Не изъ такихъ гусей. Онъ, поди, блаженствуетъ себѣ въ Ташкентѣ.
— А вотъ-бы ему написать: Милый князенька, такъ молъ и такъ:
лицо, взявшее васъ въ плѣнъ — Зауръ-бей, тотъ самый, который... Вотъ
извелась-бы эта высосанная спаржа.
Затѣмъ опять овладѣлъ разговоромъ Амманъ.
Изъ Константинополя, когда тамъ, до послѣдней крайности сгусти-
лась атмосфера, и всѣмъ, кто не германецъ и не австріякъ, житья не было,
„директоръ" газеты экстренной телеграммой командировалъ канадца въ
Сербію.
И вотъ Амманъ очутился въ арміи, наступавшей въ Боснію. Отхо-
дившіе венгерскіе отряды такія звѣрства чинили надъ мирнымъ сербскимъ
іб
241
населеніемъ, что даже бельгійскіе ужасы блѣднѣютъ передъ этой, чисто
гуннской жестокостью.
Бельгія, какъ-никакъ — на „большой" европейской дорогѣ. И тамъ
нѣмцы, пожалуй, мѣстами, сдерживали себя... А Боснія, — это гдѣ-то въ
глуши на Балканахъ, и здѣсь это мадьярское звѣрье, не считая нужнымъ
церемониться,—во всю распоясалось...
Амманъ видѣлъ въ одномъ изъ селеній, подъ Чайницей, сто пятьде-
сятъ дѣтей, заколотыхъ п зарѣзанныхъ. И всѣ трупики сложены были въ
громадную кучу, выросшую въ настоящій холмъ...
Еще теплые трупики... Сербы вошли въ это селеніе — почти на пле-
чахъ отступившихъ мадьяръ.
Какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшій ребенокъ протягивалъ рученки изъ
этой груды тѣлъ...
Зрѣлище было такое кошмарное, такое потрясающее, что даже за-
каленные во всѣхъ четырехъ войнахъ солдаты сербскіе и тѣ не могли
удержаться отъ слезъ.
Амманъ сфотографировалъ эту дѣтскую гекатомбу, и страшный сни-
мокъ уже обошелъ всѣ англійскіе и французскіе журналы.
Послѣ этого Амманъ видѣлъ въ Бельгіи сотни юношей съ обрублен-
ными кистями правой руки, чтобы они никогда не могли стрѣлять. Но
даже на ряду съ такими злодѣйствами, венгры все же побили рекордъ, и
по сравненію съ ними, германскіе солдаты могутъ показаться даже сенти-
ментальными...
Но гуманнѣе, какъ тѣхъ, такъ и другихъ,—оказались турки.
На позиціяхъ въ Дарданеллахъ. Амманъ не видѣлъ и не слышалъ,
чтобы турки уродовали и приканчивали раненыхъ англичанъ и французовъ...
Послѣ обѣда Амманъ восхищался лезгинкой.
Танцоры въ своей восточной граціи стройныхъ и гибкихъ горцевъ,
въ стремительномъ темпѣ, вдругъ переходившемъ въ медлительную плав-
ность, сами себя превзошли.
А „кодакъ“ Шарля щелкалъ, да щелкалъ, фиксируя движеніе пляски
этихъ людей, увѣшанныхъ оружіемъ и въ папахахъ.
Султанъ-Чингизъ пояснилъ всадникамъ, что фотографіи будутъ на-
печатаны во французскихъ журналахъ... Черкесы, какъ дѣти, обрадовались.
П всѣ па перебой просили, чтобъ номера этихъ журналовъ были не-
премѣнно присланы въ полкъ.
А затѣмъ на большой полянѣ черкесы блеснули джигитовкою передъ
этимъ залетнымъ, чужестраннымъ гостемъ.
Выросшій среди ковбоевъ и самъ ковбой, Амманъ, однако-же, былъ
захваченъ удалью черкесскихъ всадниковъ, поднимавшихъ на всемъ скаку
съ земли серебряныя монеты, мчавшихся стоя, и еще въ это-же самое
время умудрявшихся отстрѣливаться.
Канадцу такъ понравилось въ полку, что онъ не хотѣлъ уѣзжать.
II онъ попросилъ разрѣшенія остаться на нѣсколько дней.
Князь послалъ автомобиль въ Тлустѣ за чемоданами военнаго кор-
респондента.
А на другой день,—прямо съ корабля на балъ, Шарль Амманъ при-
нялъ участіе въ славномъ кавалерійскомъ дѣлѣ.
Три сотни полка, вмѣстѣ съ тремя сотнями заамурцевъ, брошены
были стремительнымъ ураганомъ всадниковъ на свѣжую венгерскую пѣ-
— 242 —
хоту, крѣпко сидѣвшую въ окопахъ, изъ которыхъ надо было ее выбить
какой угодно цѣной.
II вотъ въ лучахъ предзакатнаго солнца, лава ураганнымъ карьеромъ
понеслась впередъ, понеслась, жарко обстрѣливаемая пулеметнымъ и ру-
жейнымъ огнемъ. А въ тылу венгерскихъ позицій грохотали орудія...
Амманъ съ кожанымъ мексиканскимъ лассо въ рукѣ, мчался рядомъ
съ Зауръ-беемъ...
20. Проводы!..
Ну, вотъ...
Странное чувство овладѣваетъ авторомъ всякій разъ, когда повѣсть
или романъ подходить къ концу, и надо проститься съ героями.
А вѣдь они успѣли стать близкими, а нѣкоторые—дорогими...
Дорогими, несмотря даже на отрицательное отношеніе автора.
Герои для романиста, какъ дѣти для матери. Она одинаково любитъ
своихъ дѣтей, и красивыхъ, какъ ангелочки, и хромыхъ, и горбатыхъ
уродцевъ... Одинаково...
Такъ и романистъ.
Иногда фигура какого нибудь мерзавца вначалѣ, едва развѣ только
намѣченная, постепенно развиваясь, расцвѣтая, настолько овладѣваешь
авторскимъ вниманіемъ, что, глядишь, появляются все новыя и новыя краски,
и „мерзавецъ", помимо авторской воли, „затмеваетъ", собой какую-нибудь
положительную фигуру.
Первыя строки послѣдней главы—это первый звонокъ, первое преду-
прежденіе поѣзду, который черезъ нѣсколько минутъ умчится въ даль...
Умчится, вмѣстѣ съ героями. И вотъ они всѣ столпились у оконъ,
всѣ... Одни затуманены слезами, другіе улыбаются.
Третьи...
Вы ихъ не увидите въ пассажирскомъ вагонѣ. Они тамъ, въ хвостѣ,
въ красномъ, глухомъ, какъ гигантскій сундукъ, на колесахъ товарномъ
вагонѣ, на которомъ что-то написано мѣломъ.
Эти герои не улыбаются и не плачутъ. Они уже тамъ, гдѣ нѣтъ ни
слезъ ни радостей.
Ихъ нѣтъ, они умерли. И вотъ въ гробахъ, то пышныхъ, тяжелыхъ,
то простыхъ, скромныхъ, везутъ ихъ останки...
Послѣднее путешествіе.
Третій звонокъ.
Поѣздъ тихо двигается...
Авторъ говоритъ своимъ героямъ послѣднее „прости". Послѣднее,
потому что немногіе-же вернутся вновь, и вновь оживутъ на его стра-
ницахъ.
И автору больно. Больно, какъ если-бъ онъ провожалъ въ дальній-
дальній путь хорошихъ знакомыхъ, которыхъ полюбилъ и къ которымъ
успѣлъ привязаться.
А вѣдь герои—еще ближе. Это не знакомые, это дѣти, дѣти, выно-
шенныя воображеніемъ и фантазіей...
Но, какъ и всегда, и во всякой семьѣ—дѣти и дѣти. Не одинаково
ихъ чувство къ тому, кто пустилъ ихъ по бѣлу свѣту.
243
II вотъ одни герои ласково, и вмѣстѣ съ такой сожалительной грустью
машутъ платками, другіе злобно отвернулись.
Захотѣли вы въ черствый, холодный вѣкъ нашъ, признательности?..
Сухимъ, солнечнымъ, сентябрьскимъ днемъ, я былъ на вокзалѣ, чтобъ
проводить моихъ героевъ.
Вытянулся стройной вереницею вагоновъ поѣздъ... Мощный грудастый
паровозъ уже дымился густымъ куревомъ.
Первый звонокъ...
Надо спѣшить.
Меня потянуло къ послѣднему товарному вагону.
Отодвинулся засовъ, и какъ-то зловѣще глянулъ вдругъ изъ полу-
темной глубины массивный, свинцовый гробъ.
Я обнажилъ голову...
Тамъ, за этими свинцовыми стѣнками,—угомонился на вѣки порыви-
стый, благородный, мятежный Зауръ-бей.
Послѣдняя воля была, чтобъ его похоронили на Кавказѣ, въ родномъ
аулѣ, покинутомъ еще въ дѣтствѣ.
Заура такъ любили въ полку, и такъ огорчила всѣхъ трагическая
смерть его, что въ Кіевъ экстренно посланъ былъ автомобиль-грузовикъ,
въ пятьдесятъ два часа сдѣлавшій всю дорогу туда и назадъ, и вернув-
шійся со свинцовымъ гробомъ.
Зауръ-бей погибъ, какъ храбрѣйшій изъ храбрыхъ, во время конной
атаки на линіи венгерскихъ окоповъ. Онъ изрубилъ нѣсколькихъ мадьяръ,
пока самъ не сдѣлался мишенью, обстрѣливаемой изъ ближайшихъ тыло-
выхъ окоповъ.
Онъ уже былъ въ крови, уже одна пуля впилась, въ лѣвое плечо,
другая задѣла глубоко шею, а онъ все продолжалъ рубить, не обращая
вниманія сгоряча, ни на свои раны, ни на щетину плоскихъ австрійскихъ
штыковъ.
А въ двадцати шагахъ, красивый, жестокой красотою, венгерскій
лейтенантъ прицѣлился изъ выхваченнаго у солдата карабина.
И чтобъ навѣрняка „спѣшить" этого, изрубившаго многихъ, всадника
лейтенантъ одна за другою выпустилъ въ него четыре пули.
11 вмѣстѣ съ лошадью рухнулъ Зауръ-бей.
У канадца вырвалось проклятіе. Онъ Шарль-Амманъ, опоздалъ на
какую-нибудь секунду...
Распружинилось въ воздухѣ, свистя, мексиканское лассо, и затяну-
лась петля на шеѣ красиваго лейтенанта... Канадецъ поволокъ его за собою.
Черкесы, вмѣстѣ съ заамурцами, частью порубили венгровъ, частью
взяли въ плѣнъ. Обошлась эта побѣда немалой цѣною. И немало легло
черкесовъ лихихъ, вперемежку съ угрюмыми скуластыми сибирцами.
Сѣдобородый мулла тутъ же, посреди кроваваго поля, принялъ по-
слѣдній вздохъ Заура.
— Скажи имъ... скажи имъ... — шепталъ Зауръ-бей, съ кровавой на
губахъ пѣною,—что я счастливъ... Да, счастливъ. И если только суще-
ствуетъ прекрасный садъ Аллаха, о которомъ хорошо такъ говорится въ
коранѣ... Я смѣло и гордо войду въ него желаннымъ...
„Гостемъ “, вѣроятно, хотѣлъ сказать Зауръ-бей... но не могъ. Не
хватило... Не хватило той самой жизни, которую онъ всегда такъ жгуче
любилъ и которая изломала всю его судьбу.
244
И вотъ онъ, Зауръ-бей, весь одинъ огненный темпераментъ, заклю-
ченъ въ этотъ свинцовый футляръ, и, чудится мнѣ, что даже теперь, когда,
казалось бы, угомонился онъ, разъ навсегда, теперь даже ему тѣсно въ
этомъ гробу...
Тяжело...
Искренними, теплыми слезами хочется оплакать героя.
Взвизгнулъ тяжелый, на колесикахъ засовъ...
Мимо...
Я тихо шелъ съ опушенной головою и едва не наткнулся на кон-
войнаго солдата въ шинели и съ винтовкой.
Зеленый, арестантскій вагонъ. Оконце забрано желѣзной рѣшеткой.
И сквозь переплетъ этихъ прутьевъ смотритъ человѣкъ, съ красивыми,
и въ то же время удивительно отталкивающими неподвижными чертами.
Это— баронъ Роткусъ.
И онъ узналъ меня скрипнувъ зубами, отвернулся...
Не было у меня къ нему чувства жалости... Такихъ не жалѣютъ...
По дѣломъ вору и мука...
Тамъ на каторгѣ, въ далекой сибирской глуши, онъ собственной
особой своею испытаетъ всѣ тѣ прелести, которымъ онъ, гнусный преда-
тель, самъ подвергалъ тѣхъ, кому недостоинъ цѣловать ноги...
Но, довольно Роткусовъ, довольно этихъ ядовитыхъ, слава Богу,
растоптанныхъ гадинъ!.. Довольно!..
Хочется отдохнуть на чемъ-нибудь славномъ, хорошемъ, чтобъ по-
слѣднія мгновенія разлуки были чисты и ясны...
Спальный вагонъ международнаго общества.
Къ зеркальнымъ окнамъ двухъ сосѣднихъ купэ прильнули двѣ пары...
Счастьемъ такъ и брызжутъ обѣ. Тѣмъ, помимо всякой личной воли
эгоистическимъ счастьемъ, когда за предѣлами небольшого, тѣснаго купэ
ничего на время, по крайней мѣрѣ, не существуетъ на свѣтѣ... Ничего...
Зачѣмъ, когда весь свѣтъ для нихъ сосредоточивается именно въ
этой мчащейся, внѣ времени и пространства мчащейся, кабинкѣ.
И это стремительное движеніе усугубляетъ сознаніе полной обосо-
бленности...
Надо ли называть этихъ двѣ счастливыя пары?.. Мы назовемъ ихъ...
Это Бранка съ художникомъ и Марія Сергѣевна съ Марлявчевичемъ,
оказавшимся принцемъ Зеты.
Куда они ѣдутъ?..
Не все ли равно—куда... Къ счастью, наслажденію, радостямъ.
Они имѣютъ право на это. Каждый изъ нихъ, такъ или иначе, вы-
страдалъ свое счастье...
Третій звонокъ.
Вагоны поплыли медленно. Я дѣлаю нѣсколько шаговъ за „между-
народнымъ". Четыре головы киваютъ мнѣ, и четыре платка машутъ...
Это—отъ сердца, я вѣрю въ искренность, но — опять-таки эгоизмъ
влюбленныхъ единственное желаніе ихъ—остаться вдвоемъ.
Я ушелъ съ тихой, щемящей болью...
Увидимся ли когда-нибудь?..
На Невскомъ, средь человѣческой гущи, я успѣлъ узнать, промчав-
шагося въ автомобилѣ, сутуловатаго господина съ большимъ носомъ.
Узналъ, и не хотѣлось вѣрить... Не ошибся ли?
245
Это былъ Августъ фонъ-Раухъ, эксъ-покровитель Маріи Сергѣевны,
банковскій дѣлецъ, финансистъ, благотворитель, и такъ далѣе...
Но вѣдь его же нѣтъ въ Петроградѣ... Онъ живетъ въ далекомъ
сѣверномъ городѣ, сосланный туда на все время войны, сосланный безъ
права, куда-бы то ни было, выѣзда.
Пли это не онъ, а его двойникъ, такъ дьявольски похожій на него,
Августа Рауха?
Во всякомъ случаѣ, странно...
А развѣ мало страннаго на бѣломъ свѣтѣ?..
Родной братъ капитана Курта, уже изъ второстепенныхъ героевъ
моихъ, и заниматься его дальнѣйшей судьбою — слуга покорный, нЬтъ
никакого желанія...
И если онъ, дѣйствительно, возвратился въ столицу, что-жъ, онъ не
первый и не послѣдній... въ стаѣ черной предательскаго воронья...
К О Н Е Ц Ъ.
246
ОГЛАВЛЕНІЕ.
ЧАСТЬ НЕРВА Я.
Стр.
1. Прекрасная банкиресса ... 1
2. Внукъ своего дѣда....... 4
3. „Рыцарь безъ страха и упрека". 8
4. Зауръ-бей.............. 12
5. Бѣглецъ.................16
6. На гауптвахтѣ...........20
7. Семейный обѣдъ..........25
8. Шесть черногорцевъ . . . , 29
9. Заговорщики.............33
10. Все новыя и новыя лица . . 37
11. О Драголюбѣ, кавасахъ и гос-
подинѣ ПІлейфѳрѣ............41
ЧАСТЬ
Стр.
1. Братъ своего брата .... 84
2. Письмо сообщника.........88
3. „Его высочество"..............92
4. Между сномъ и явью.... 97
5. Пріятели.................101
6. Двадцать лѣтъ спустя . . . 106
7. Пьяные раки..................110
8. „Содержанка".................114
9. У „старца"...................118
10. „Вильгельмъ Телль"..........122
11. Въ мастерской художника . . 126
Ч А С Т Ь
Стр.
1. Опять Куртъ-фонъ-Раухъ . . 172
2. Гермесъ на войнѣ.............176
3. „Дворянинъ Обнорскій". . . . 179
4. Баронъ Роткусъ встревоженъ. 183
5. Каблучки панны Теофили . . 187
6. „Охотники за черепами" . . 191
7. „Волшебный принцъ" . . . . 196
8. Плѣнникъ.....................200
9. Что въ себѣ таили каблучки
панны Быковской...............203
10. „Воздушная почта"............206
Стр.
12. Ревнивый банкиръ............46
і 13. Въ Константинопольскомъ шан-
танѣ .........................50
14. Скандалъ..............55
15. Въ овечьей шкурѣ......59
16. Инфанта въ черномъ .... 63
17. Каждый по своему......67
18. Справа по шести.......71
19. Тріумфъ и отчаяніе .... 75
20. Тучи сгущаются........79
ВТОР А Я.
Стр.
12. Вокругъ турецкаго посольства. 132
13. Да здравствуетъ принцесса
Зеты.......................136
14. Утро дѣловыхъ людей . . . 140
15. „Тысячи невидимыхъ нитей" . 145
16. Въ миражахъ...............149
17. Въ „Акваріумѣ"............155
18. Новое о старыхъ герояхъ . . 159
19. „Вѣрноподданные"..........163
20. На мѣстѣ преступленія . . . 167
Р Е Т Ь Я.
Стр.
11. Страничка прошлаго .... 210
12. Онъ вѣритъ въ свою звѣзду . 213
13. Между полевымъ судомъ и аре-
стантской шинелью . . . . 217
14. Успѣхъ,—кругомъ успѣхъ . . 221
15. „Его величество—случай" . . 224
16. „Идейный" предатель . . . 227
17. Воронье—въ клѣткѣ . . . . 231
18. Воскресшій заново.........235
19. Канадецъ Шарль-А.ммаігь . . 239
20. Проводы...................243