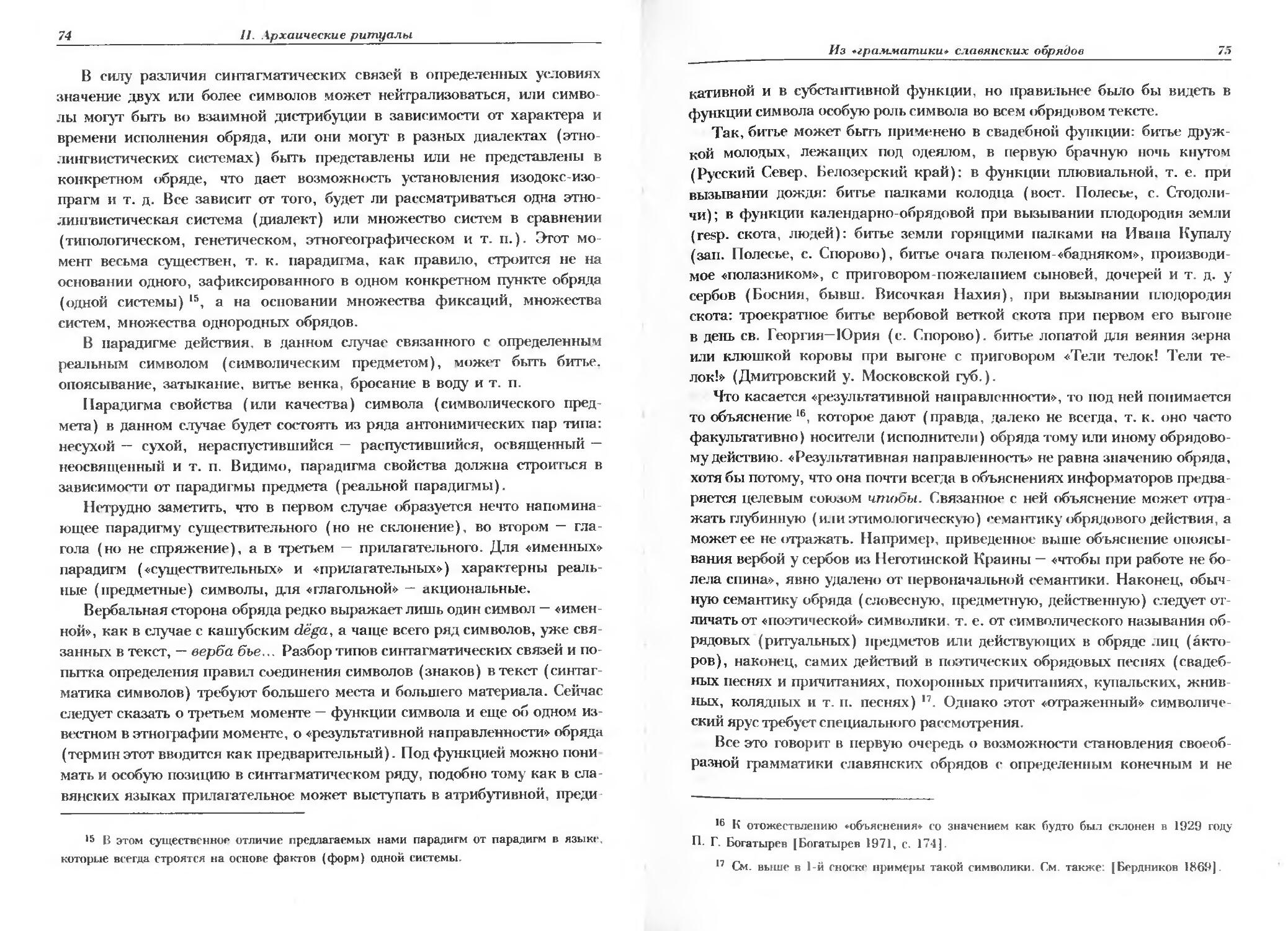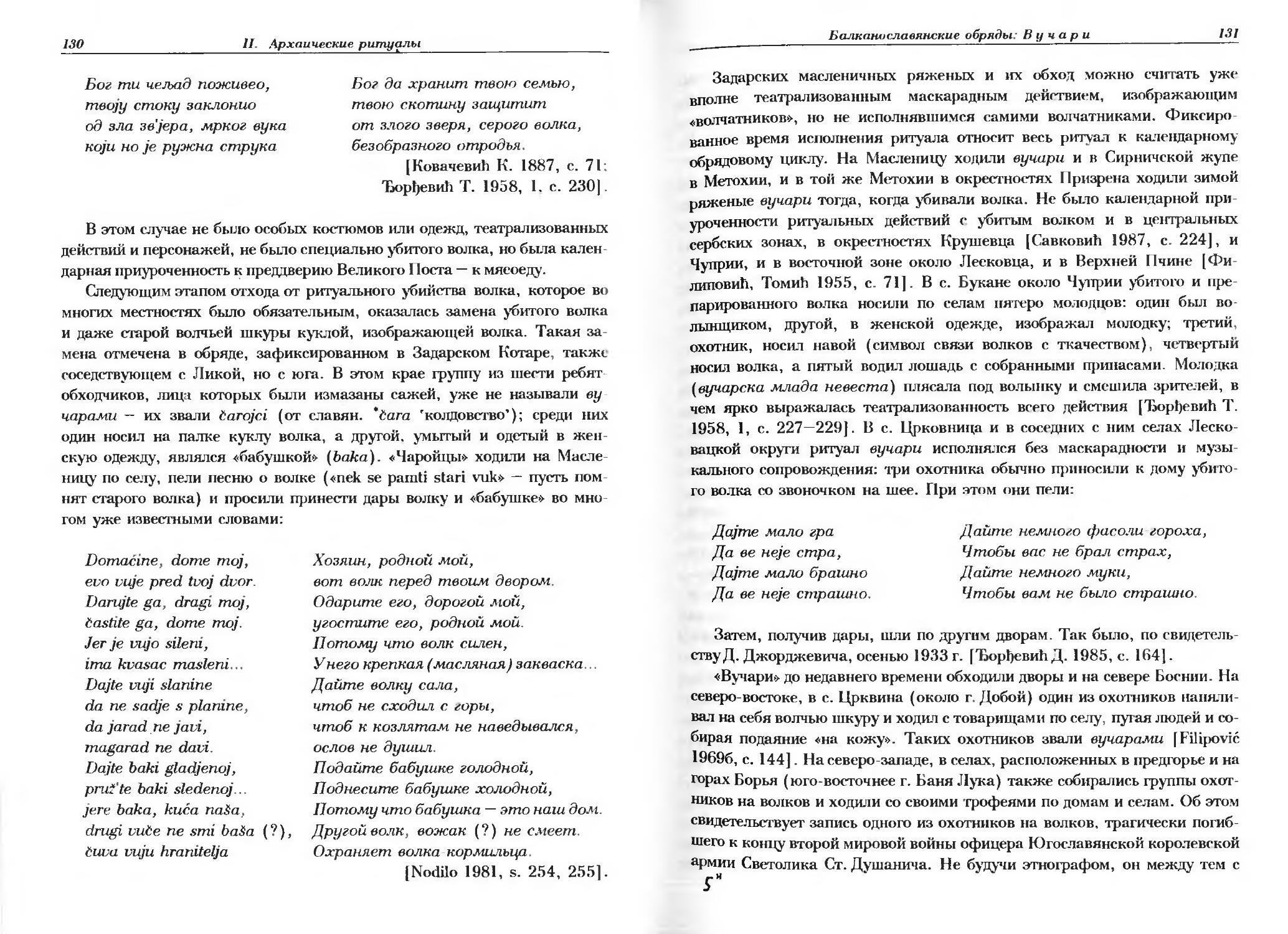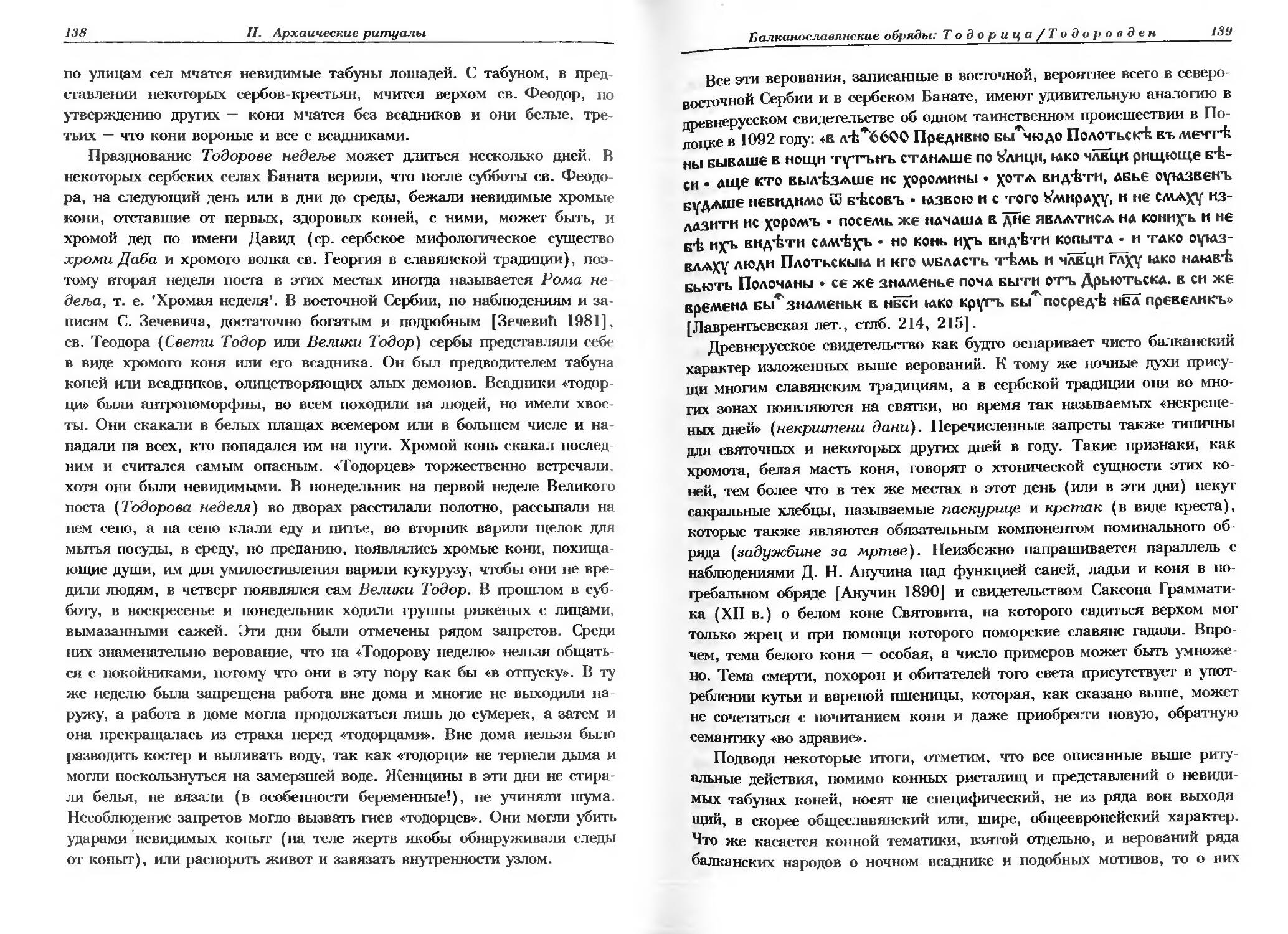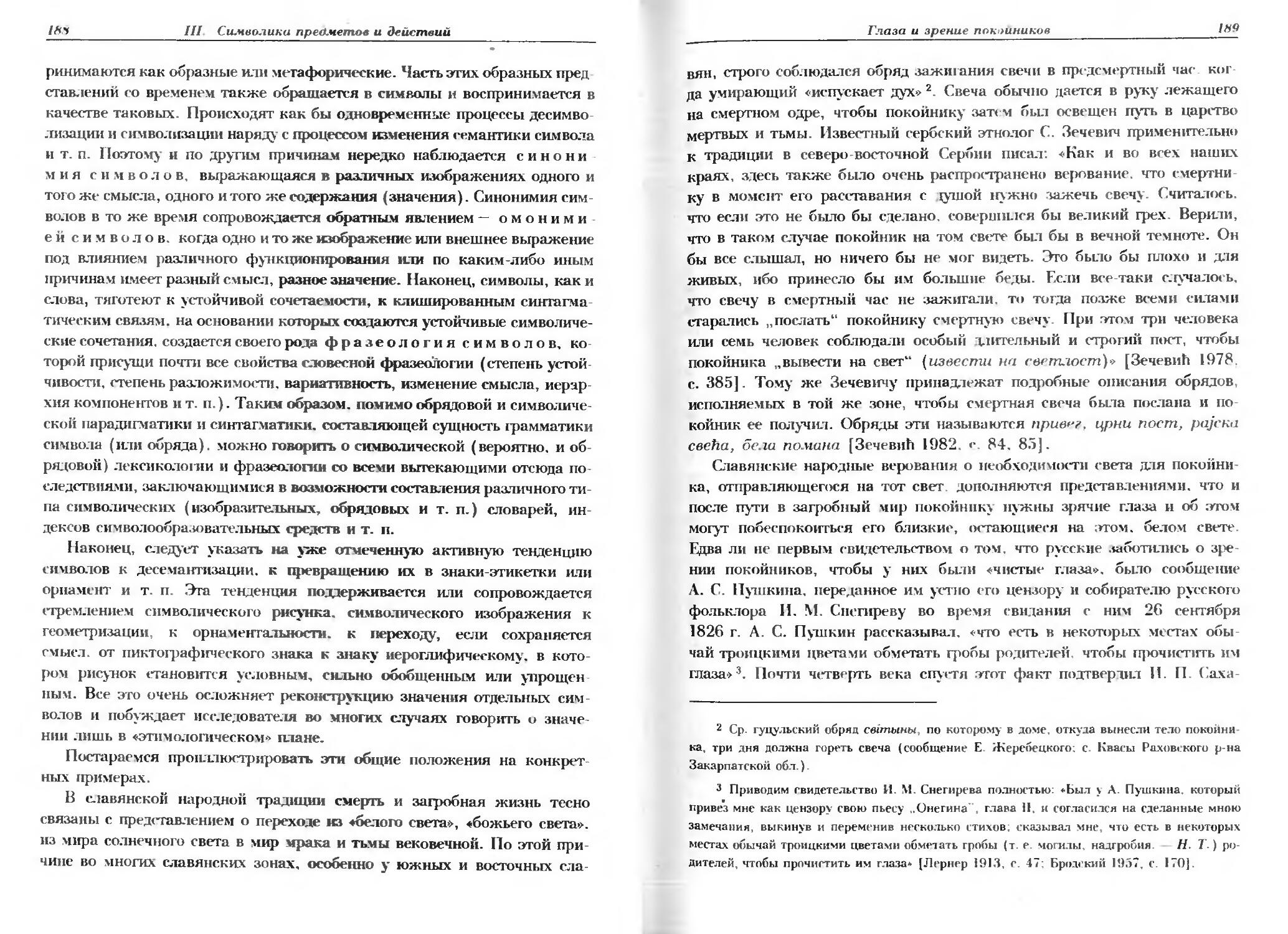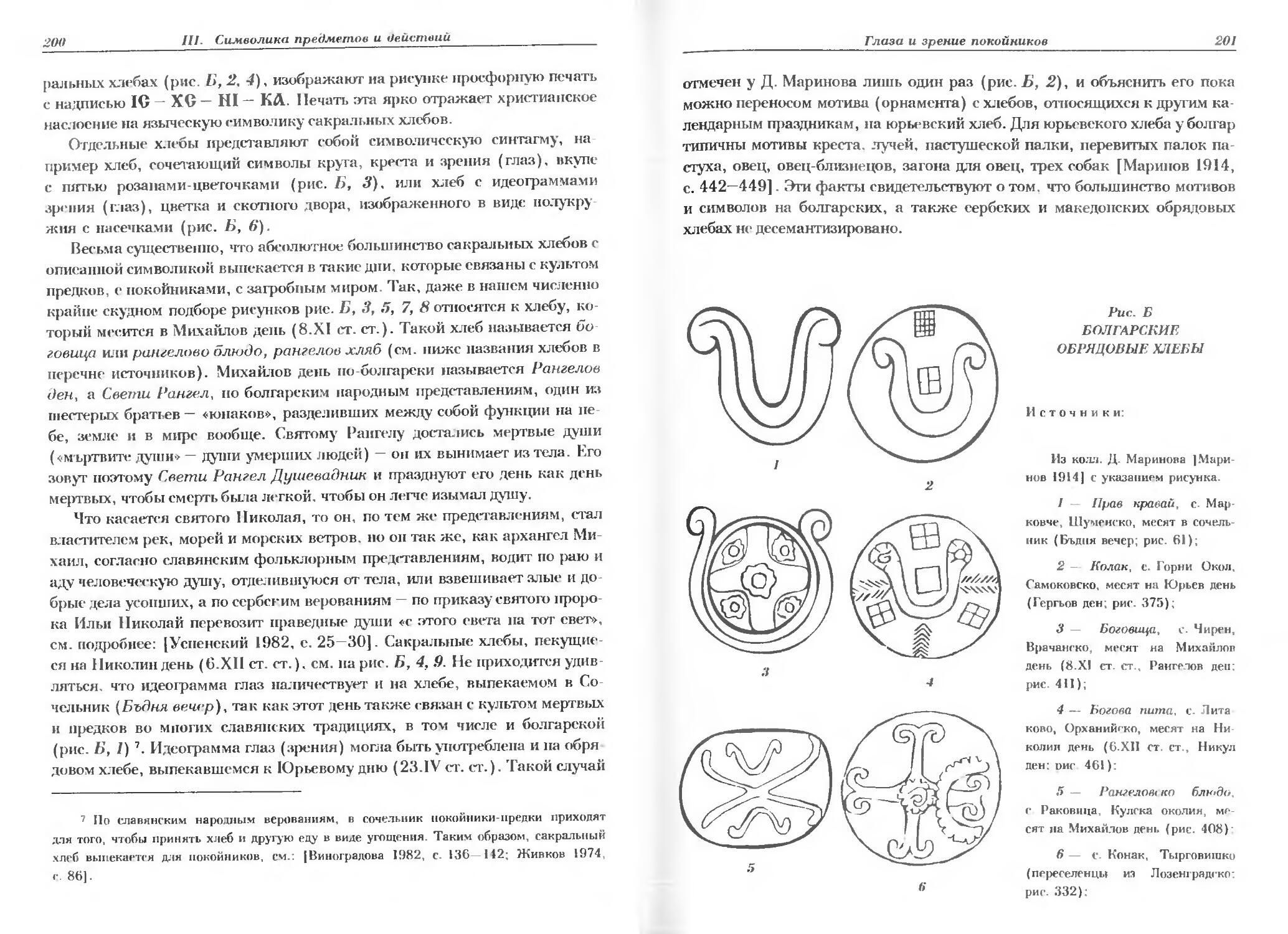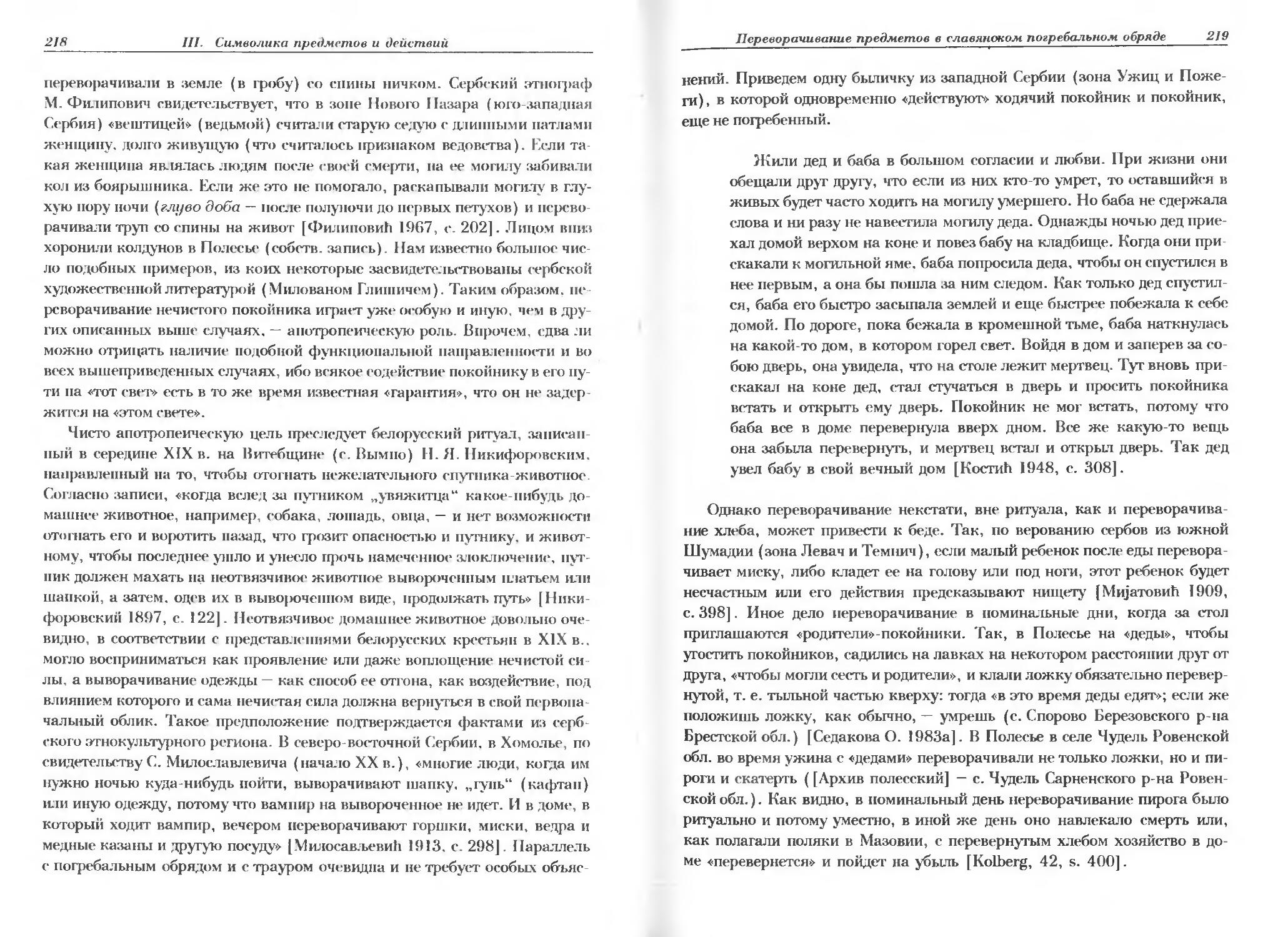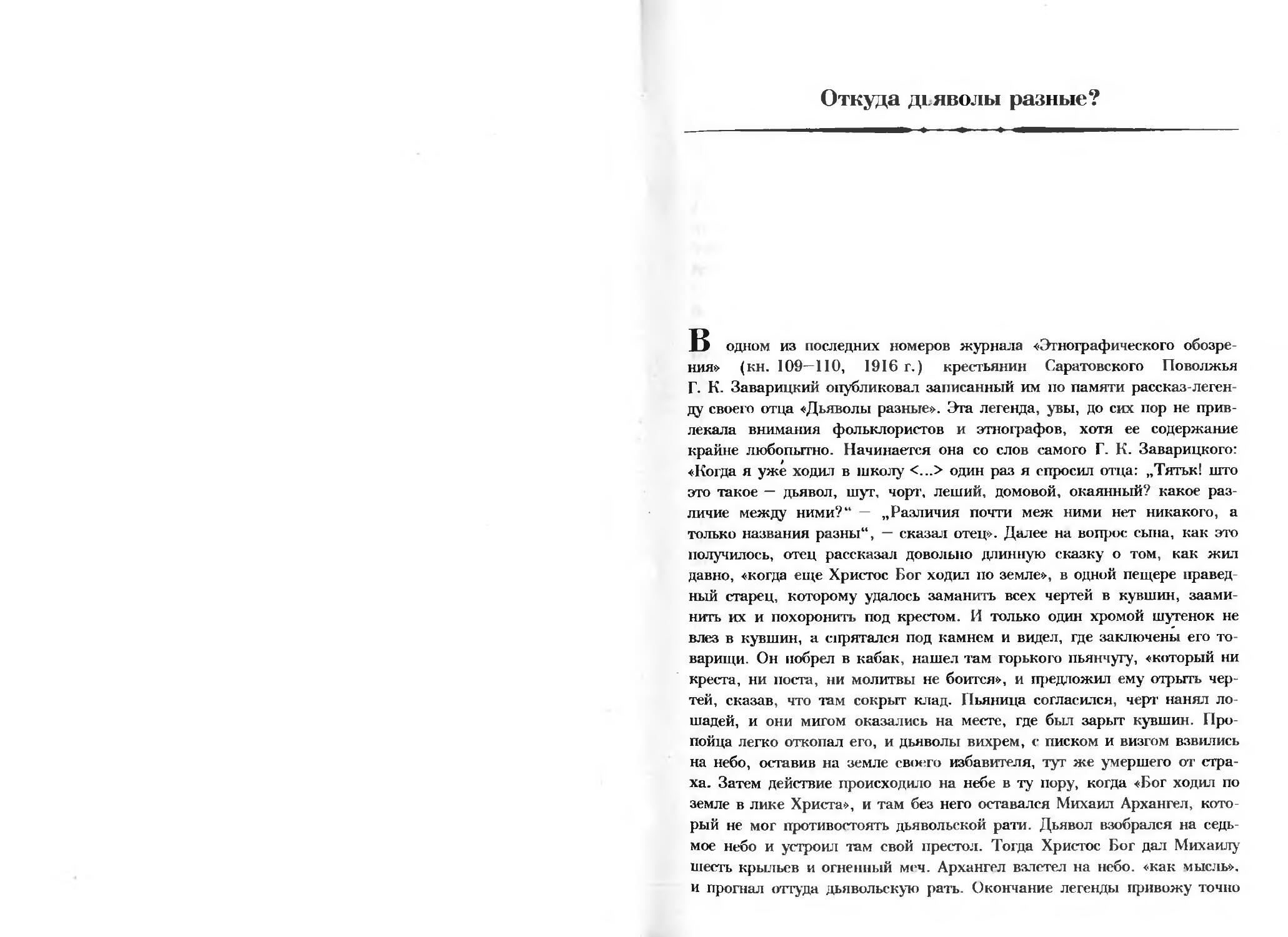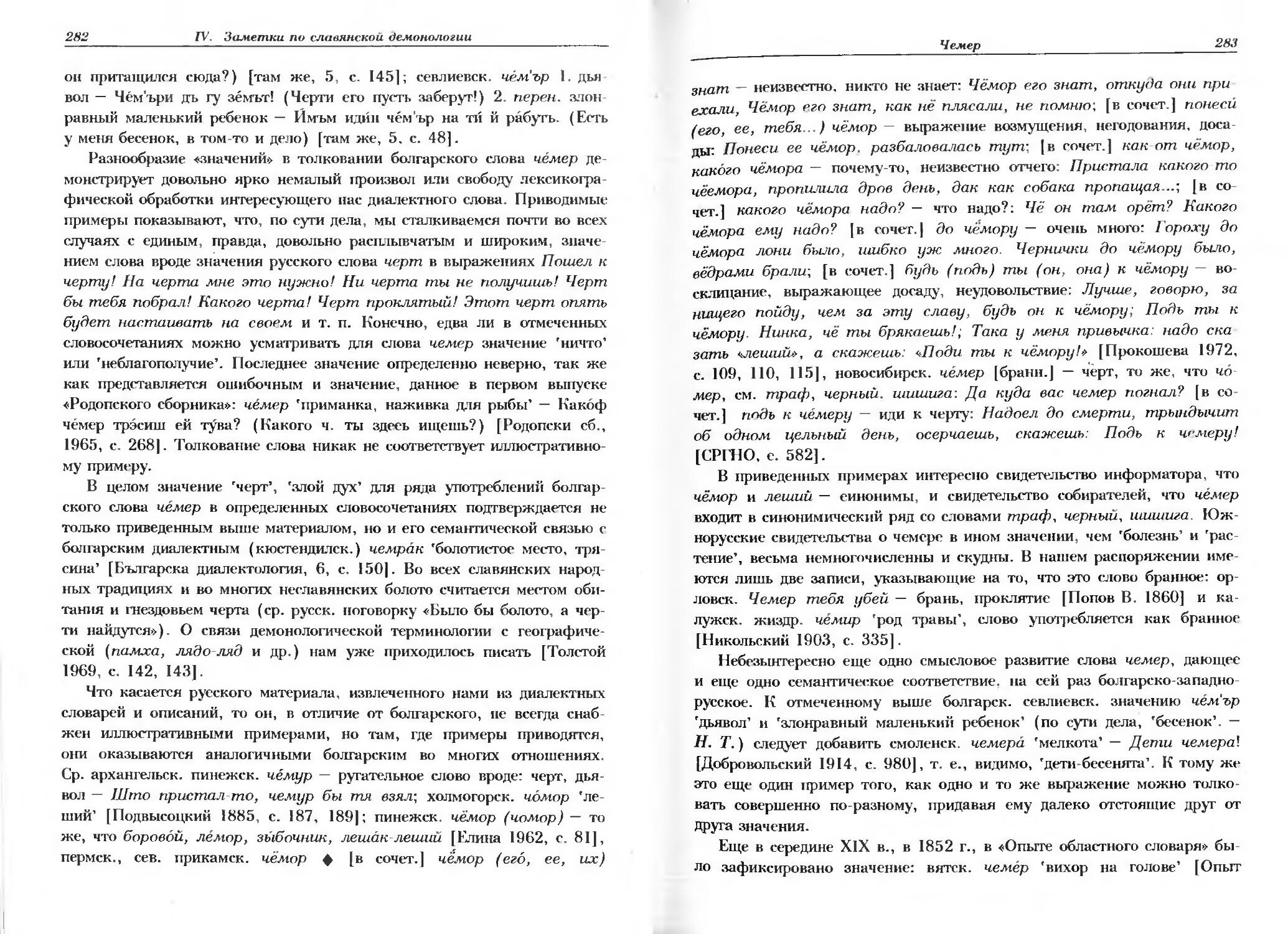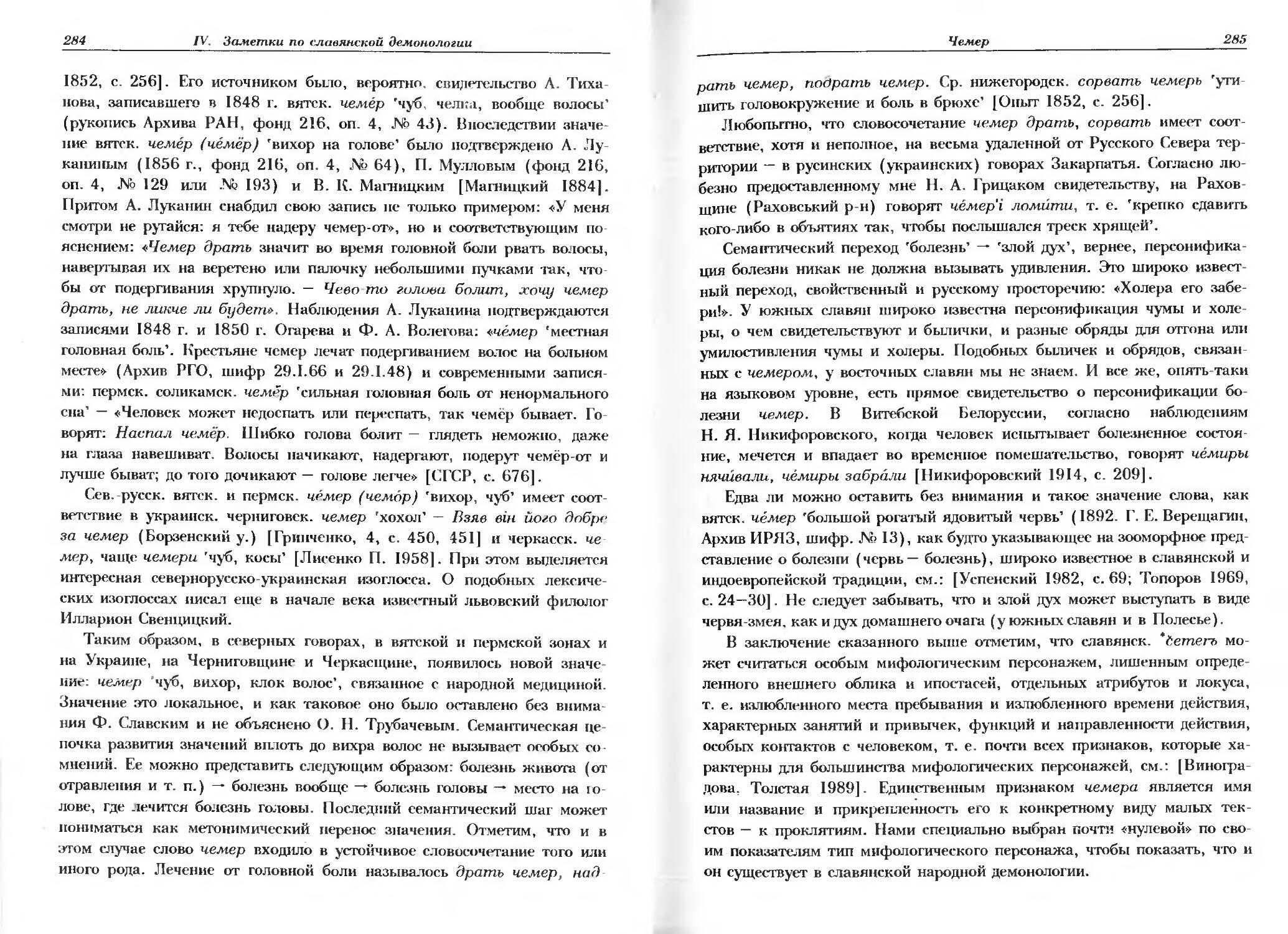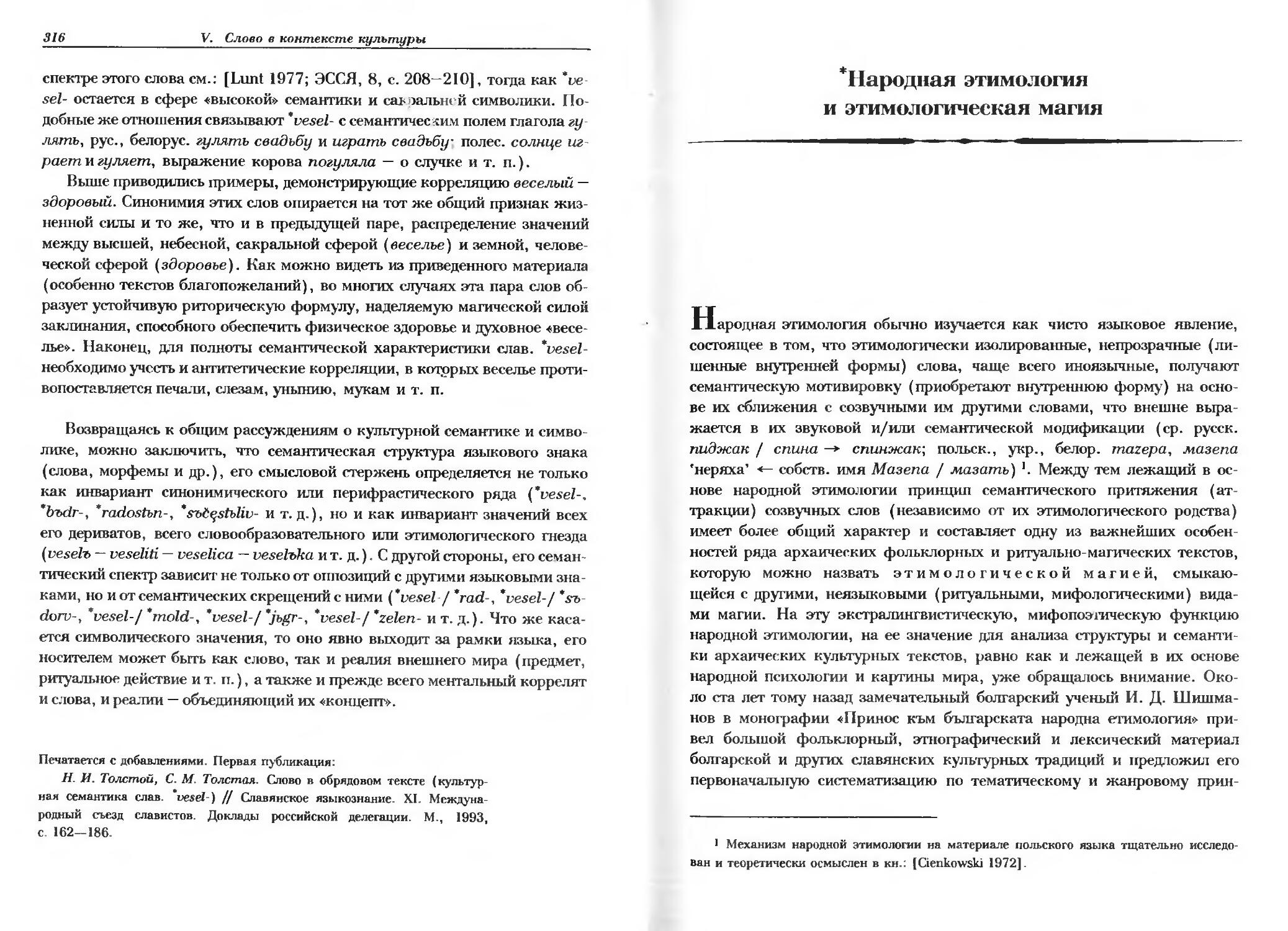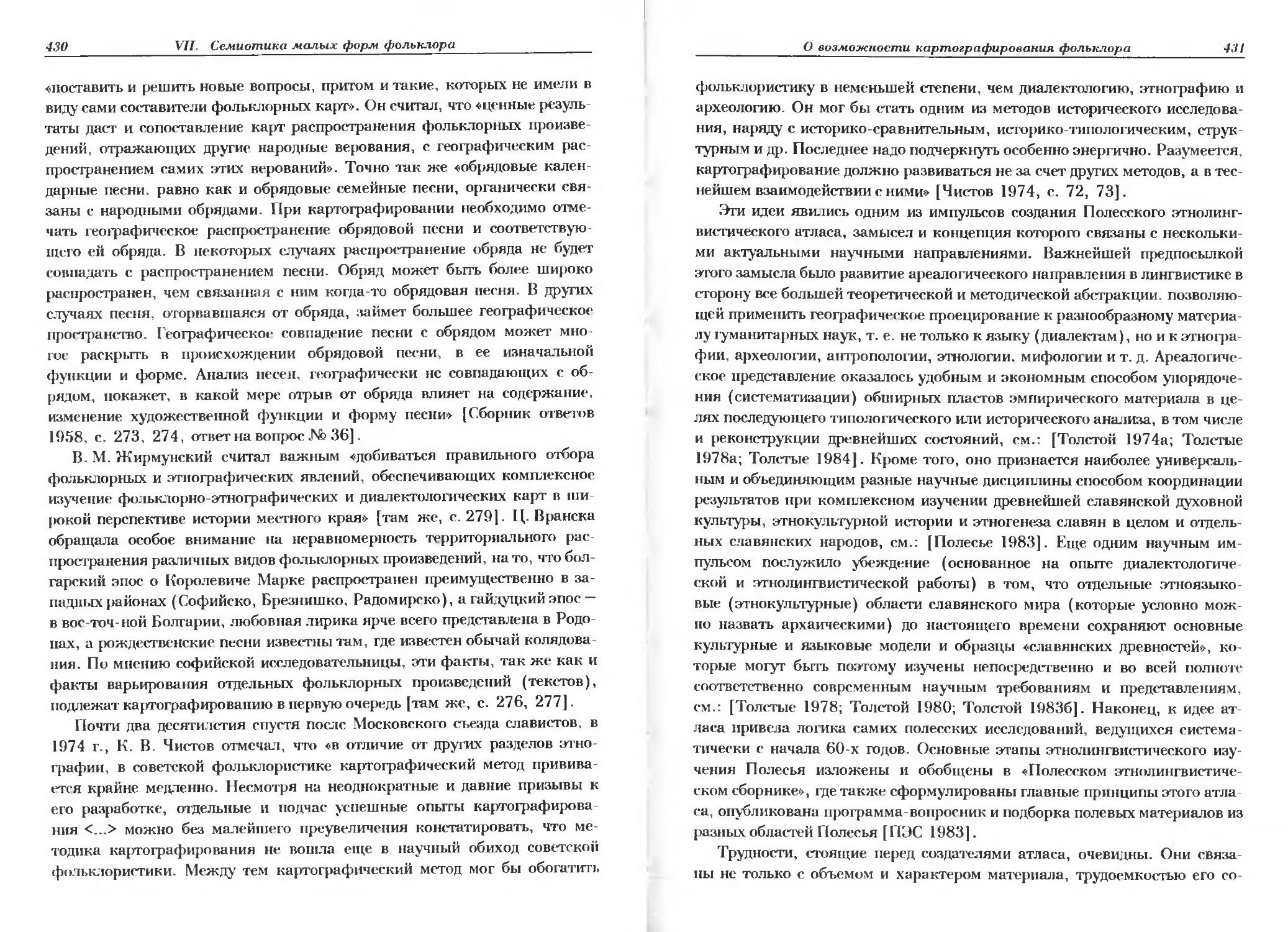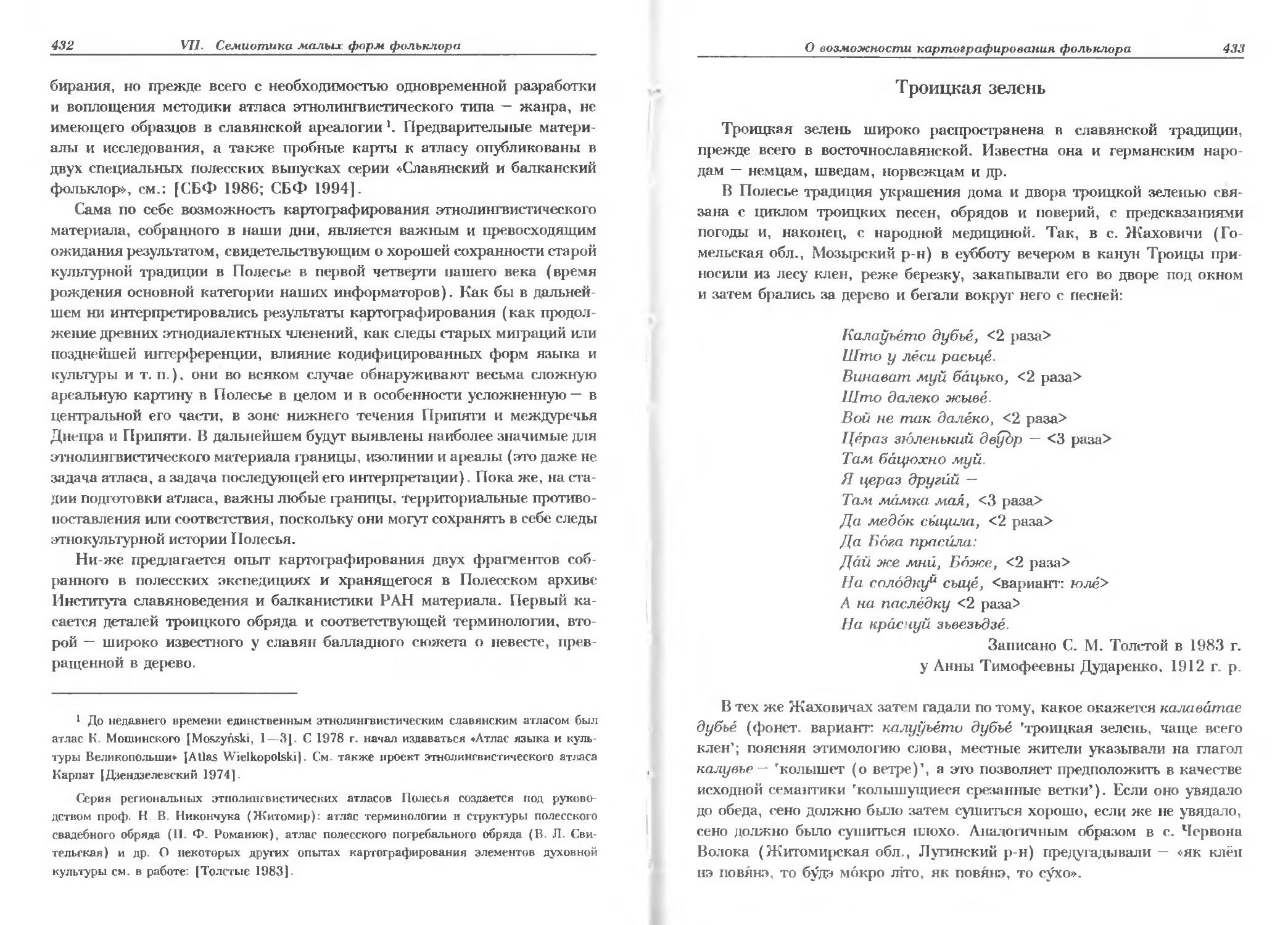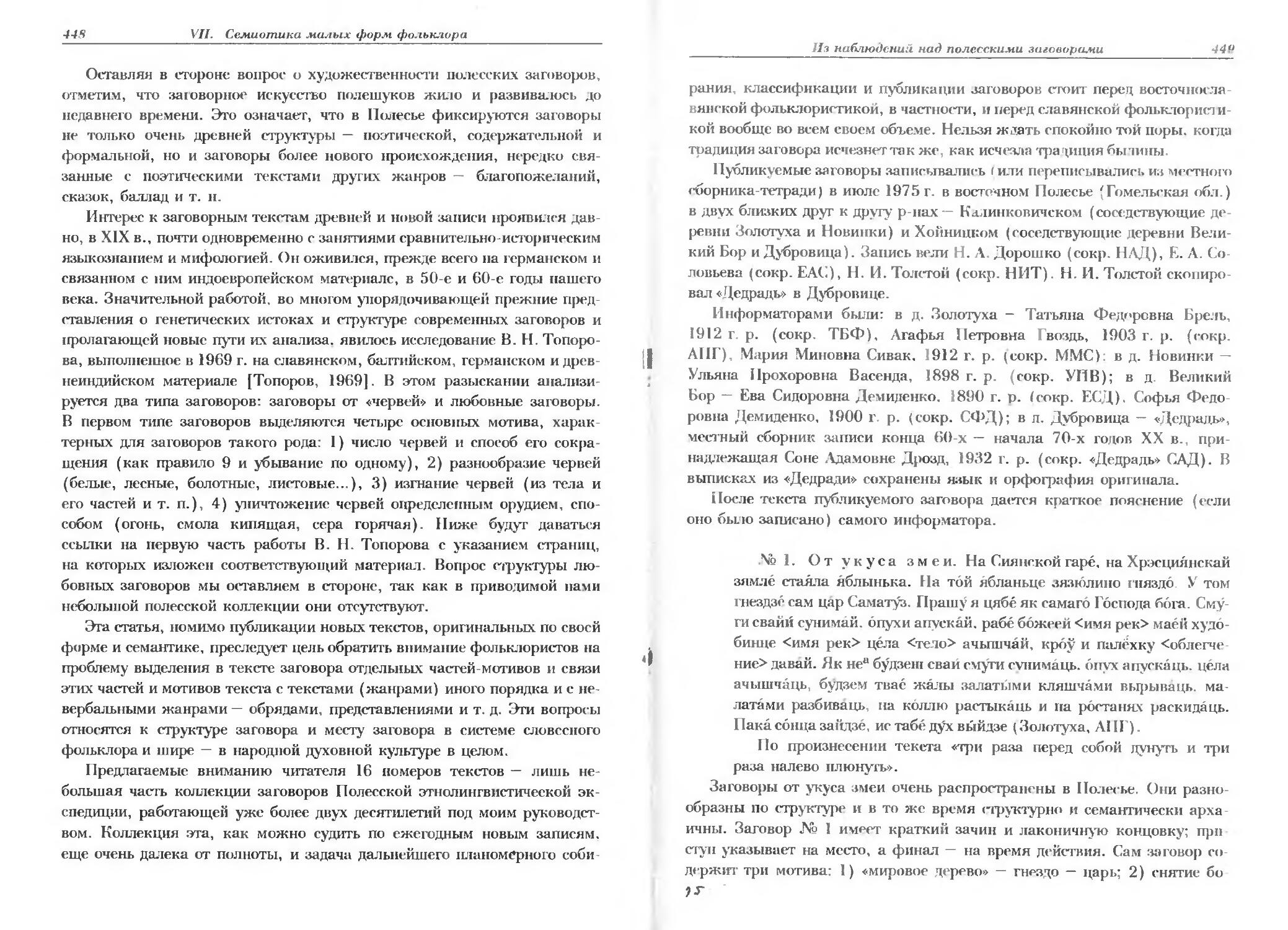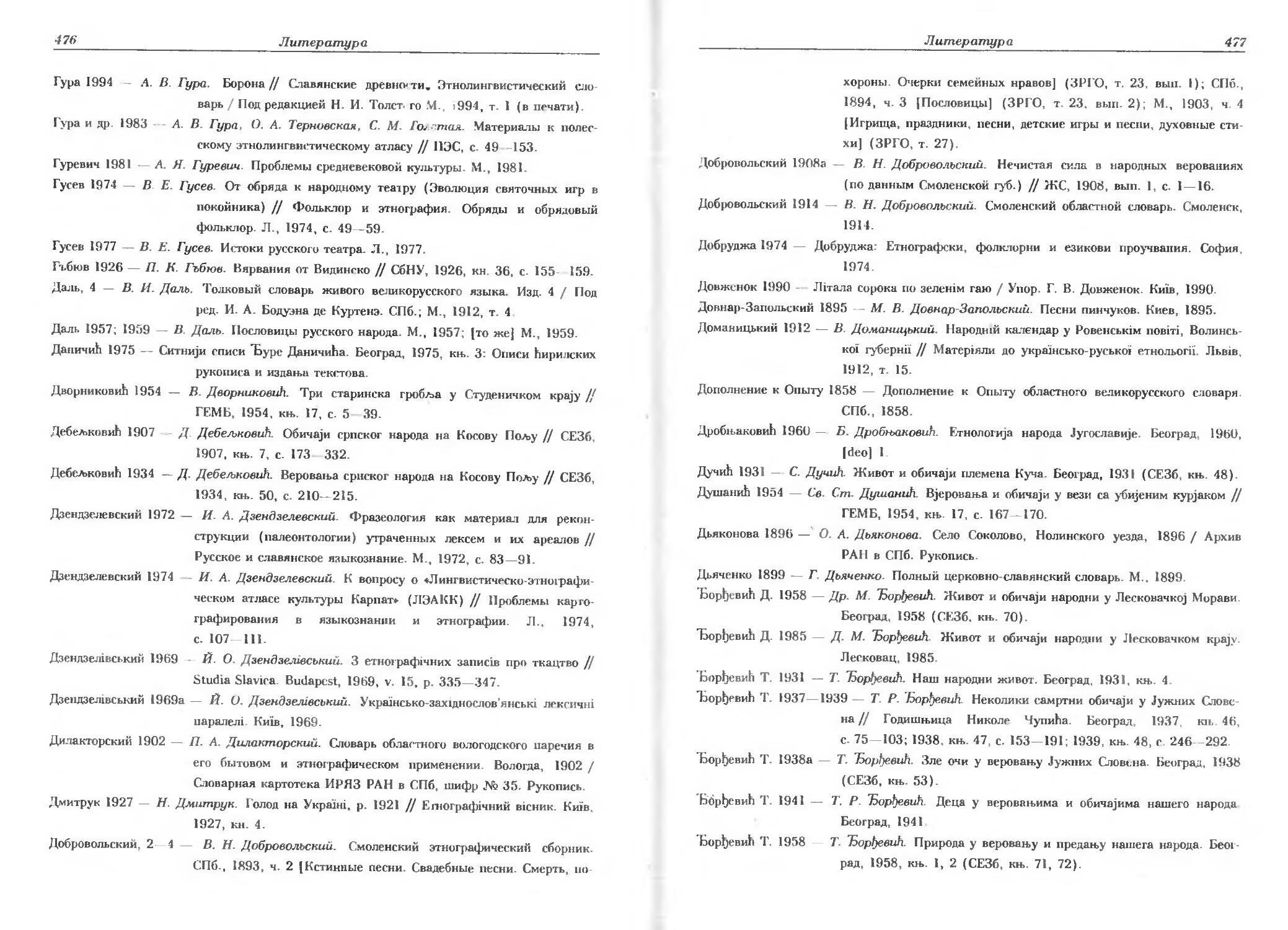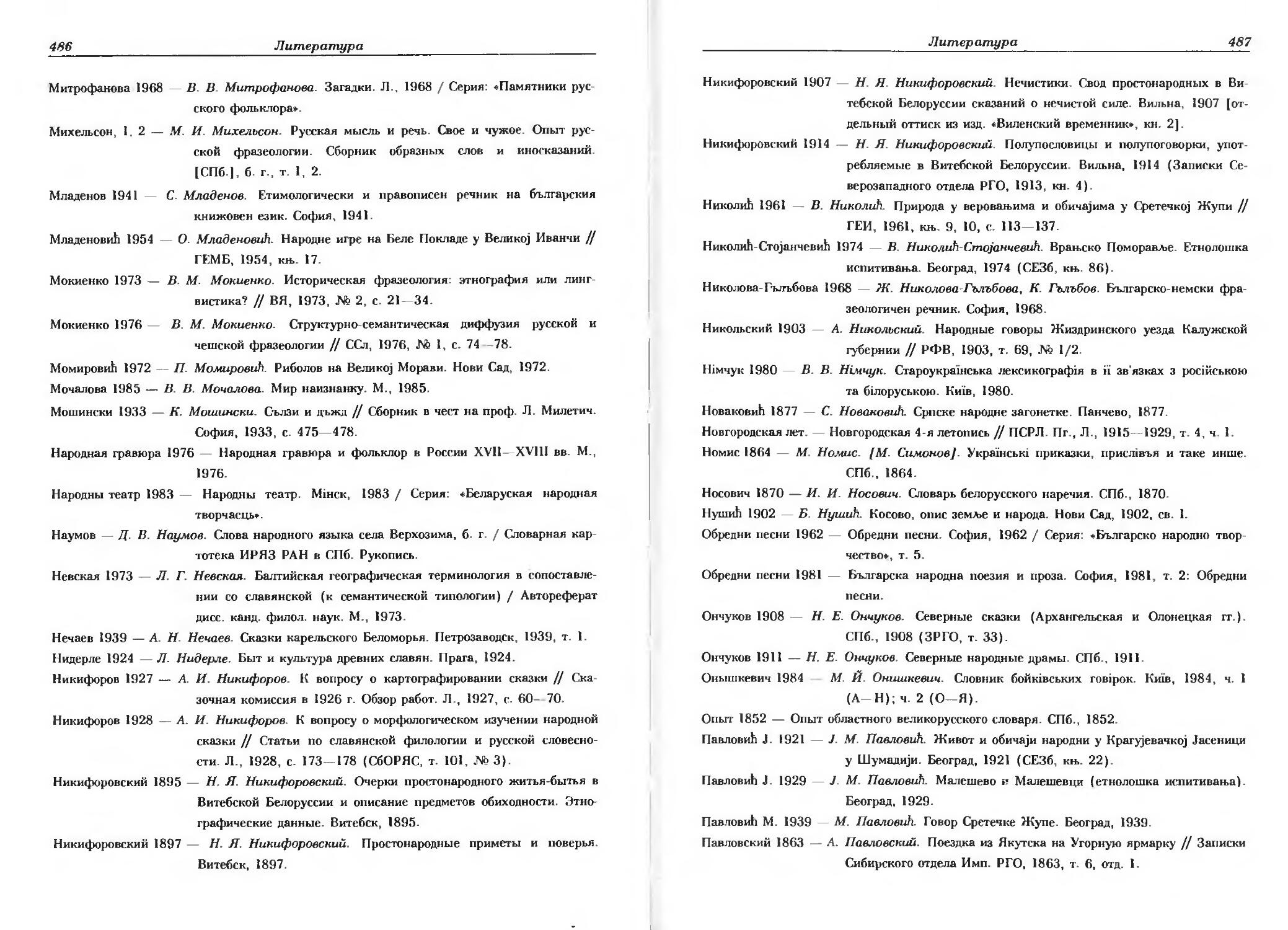Автор: Толстой Н.И.
Теги: фольклор фольклорист славянская мифология народная культура
ISBN: 5-85759-025-6
Год: 1995
Текст
Язык и народная культура
Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике
Российском акаде.чия наук
Институт славяноведения и балканистики
СКрщшушоя Фуховная сКулыпура Славян
Современные исследования
Язык и народная культура
Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике
s/ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНДРИК» Москва 1995
ББК82
Т52
Составитель
С. М. Толстая
Ответственный редактор
А. Ф. Журавлев
Издание 2 е, исправленное
ISBN 5-85759 025-6
© Н. И. Толстой, 1995
© Серия «Традиционная духовная культура славян*. Издательство «Индрик*
В издательской серии «Традиционная духовная культура славян» вышли следующие книги:
♦Из истории изучения*
Г. Федотов. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М.: «Гнозис*, 199L
Д. К. Зеленин. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901 1913 М.: «Инд-рик», 1994.
Е. Н. Елеонская. Сказка, заговор и колдовство в России. Сб. трудов. М.: «Индрик». 1994.
«Современные исследования»
А. ф. Журавлев. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. Этнографические и этнолингвистические очерки. М.: «Индрик*, 1994.
Готовятся к изданию следующие книги серии «Традиционная духов пая культура славян»:
♦Из истории изучения*
Д. К. Зеленин. Избранные труды. Очерки русской мифологии (Умершие неестественной смертью и русалки).
Н. Ф. Познанский. Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул.
♦Современные исследования»
11 И. Толстой. Очерки славянского язычества. Архаический ритуал-диалог.
Н. И. и С. М. Толстые. Очерки славянского язычества. Метеорологическая магия.
Содержание
Славянская этнолингвистика в работах II. И. Толстого (Предисловие редактора) ...................... 8
1. Общие вопросы этнолингвистики
Язык и культура ____ ______________ ____.............. 15
Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин ......... 27
Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры ..................... 41
II. Архаические ритуалы
Из «грамматики» славянских обрядов ..................... 63
Вызывание дождя ........................................ 78
Оползание и опоясывание храма .......................... 91
Элементы народного театра в южнославянской святочной обрядности................. 113
Балканославянские обряды: структура и география . 123
Ill . Символика предметов и действий
Бинарные противопоставления типа правый — левый, мужской — женский................. 151
Вторичная функция обрядового символа ................ 167
Глаза и зрение покойников ............................. 185
Антропоморфные надгробия ..............._.............. 206
Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде 213
Жизни магический круг ................................. 223
Сеть (мрежа) ...........................................234
Содержание
7
IV . Заметки по славянской демонологии
Откуда дьяволы разные? ..........................................245
Каков облик дьявольский? .....................................250
Шуликуны .....................................................270
Чемер............................................................ ........ ...................................... 280
V. Слово в контексте культуры
Культурная семантика славянского *vesel .........................289
Народная этимология и «этимологическая магия» ................317
«Мужские» и «женские» деревья и дни в славянских народных представлениях .........................333
Не — не 'не’..................................................341
Блаже-Макарий ................................................347
Иван-аист ....................................................359
Чур и чушь ...................................................364
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
Этнолингвистические аспекты славянской фразеологии...............373
О реконструкции праславянской фразеологии ....................383
Здрав као риба ...............................................405
Пьян, как земля ..............................................412
Соленый болгарин .............................................418
VII. Семиотика малых форм фольклора
О возможности картографирования фольклора .......................429
Из наблюдений над полесскими заговорами ..................... 447
О жанре «обмирания» (посещения того света) ...................458
Скрытый плач по покойнику ....................................461
Литература ......................................................466
Славянская этнолингвистика в работах II. И. Толстого (11 редисловие редактора)
|> последнюю четверть века одним из наиболее ярких и заметных на правлений в отечественной филологии суждено было стать этнолингвие тике — интердисциплинарной науке, совмещающей в себе предметы и методы языкознания (преимущественно диалектологии и компаративистики), фольклористики и этно1рафии. Этнолингвистика как составляющая совремешюй семиотики соприкасается с мифологией, историей культуры, этнической историей, теорией этногенеза, а также с рядом иных комплексных дисциплин, в фокусе внимания которых находятся человек (прежде всего «человек говорящий» — homo loquens) и этнос. Самоопределение и становление этой отрасли науки в нашей стране теснейшим образом связано е исследовательской и просветительской деятельностью автора лежащей перед читателем книги — выдающегося слависта академика Никиты Ильича Толстого.
Термин «этнолингвистика», как и стоящая за ним область научного поиска, не нов. Он появился в 1940 х годах и первоначально был неотрывен от имен американских ученых — антрополога Франца Боаса и лингвиста Эдварда Сепира, хотя, разумеется, не они первыми обратились к анализу взаимоотношении между этносом, культурой и языком. В числе их ранних предшественников должен быть упомянут еще Вильгельм Гумбольдт. В русской филологической науке прошлого также бы ла достаточно сильна линия, которую мы сейчас определили бы как этнолингвистическую: А. Н. Афанасьев, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, позже, уже в XX веке, Д. К. Зеленин...
Возрождение интереса к указанной проблематике в 1960-х годах у нас в стране связывается в первую очередь с формированием структурной семиотики и трудами Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова. Пионер ские исследования этих замечательных ученых (которые, впрочем, самими терминами «этнолингвистика», «этнолингвистический», как можно заметить, не пользуются) обращены преимущественным образом к реконструкции древних состояний культуры с опорой на показания языка. Предметом изучения в их работах стали народная онтология,
Славянская этнолингвистика в работах Н. И. Толстого
9
мифологические представления, пантеон, ритуал, социальные инетиту-ции (древнее право, обычаи дара обмена и т. д.), эволюция некоторых существенных сторон материальной культуры славян, балтов, индоевро пейцев и многое другое.
Однако уже вскоре была осознана потребность выработки несколько отличного, может быть, более фундаментального и логически последова тельного подхода, который предусматривал бы на начальном этапе инвентаризацию и по возможности полную дескрипцию различных форм культуры: создание, пользуясь современным ученым жаргоном, «базы данных», планомерную систематизацию всего доступного этногра фического, фольклорного, лингвистического материала, разработку принципов сравнительной типологии культурных феноменов, выявление географии фактов народной культуры, создание диалектологии традиционной культуры. Реконструкция (сначала внутренняя, имеющая дело е фактами одной или ближайшеродственных этнических традиций, затем внешняя, оперирующая сравнением разноэтничного материала) и при этом подходе мыслится одной из наиболее существенных целей науки о народной культуре в се языковом отражении, но она должна основываться на добротно заложенном фундаменте.
За подготовку решения этих важнейших задач в рамках славянове дения взялся Н. И. Толстой. Будучи славистом с необычайно широкими профессиональными интересами и свободно обращаясь с материалом, относящимся к любой конкретноэтнической славянской традиции, он сосредоточил свое внимание главным образом на традиционной культуре южных славян и украинско белорусского Полесья (что читатель этой книги, несомненно, отметит), не оставляя без него, конечно, ни Карпат, ни Русского Севера, ни иных архаических зон Славии. Дальновидность и основательность Толстого выразились в явственном понимании необходимости школ ы. грандиозное здание славянской лингвокульту рологии можно воздвигнуть лишь коллективными усилиями (в особен ности если учесть, что эти усилия должны иметь своим результатом труды в таких «краеугольных» жанрах, как Словарь и Атлас). Подобную школу Толстому, как кажется, удалось сформировать. Объектами ана лиза в работах Н. И. Толстого и его учеников и сотрудников стали ела вянские мифы, ритуалы, народный календарь, демонология, поверья, стереотипы обыденного и ритуального поведения, обрядовая лексика и фразеология, ритуальные тексты (песни, заговоры и т. д.), символика, система метафор и прочие формы традиционной духовной культуры ела вян, что нашло отражение во многочисленных публикациях (диссерта Ции, монографии, сборники статей, периодика).
Язык в этих исследованиях трактуется как «естественный» субстрат культуры, пронизывающий все ее стороны, служащий инструментом Ментального упорядочения мира и средством закрепления этнического мировидения. При таком подходе усматривается взаимозависимость язы ка и невербальных реализаций культуры, когда язык не только отража
10
Предисловие редактора
ет культуру и опосредованную ею реальность, но в свою очередь оказы вает существеннейшее влияние на оформление неязыковых культурных кодов. С другой стороны, изучение механизмов языковой эволюции на стоятельно требует выявления ее факторов, лежащих за пределами са мого языка.
Реформулирование II. И. Толстым задач этнолингвистики базируется на важном постулате об изоморфности культуры и языка и применимости к культурным объектам тех методов и способов изучения материала, которые выработаны в современной лингвистике — науке, занимающей авангардные методологические позиции в системе гуманитарного знания. Общность языковедения и этнографии — в их отнесенности к кругу се мистических дисциплин; в этничности и вытекающей из нее темпоральной и пространственной вариативности их объектов — языка и традиционной народной культуры, что позволяет взглянуть на генезис диалектологии (исторически она — дочернее ответвление этнографии) как на абсолютно непреложный и закономерный момент эволюции науки; в социальной функциональности, могущей быть описанной в системе понятий нормы, диалекта, функционального стиля / «регистра» и т. д.; в их структурном параллелизме, предполагающем равновозможное использование таких выработанных в языкознании концептов, как абстрактный («эмический») уровень / уровень аллоединиц, оппозиция элементов, па радигматика / синтагматика, синхрония / диахрония, функция, семан тика (синонимия : эквифункциональность, полисемия : полифункцио нальность, семантический признак, метафорическое и метонимическое употребление знака...) и т. д. (ср. миграцию термина и понятия «морфология» из биологии в лингвистику, фольклористику — «морфология сказки» у В. Я. Проппа — и другие «неестественные» научные сферы)... Сам Н. И. Толстой вполне сознательно подчеркивает этот параллелизм метафорическим (метафорическим ли?) применением термина «1рамма-тика» по отношению к избранным им способам описания и изучения об рядности. Поиски аналогий, точек соприкосновения между языкознанием и этнографией у Н. И. Толстого, следует, однако, заметить, чрезвычайно далеки от вульгарности идей всеобщего безоглядного изоморфизма. Он всегда отдает себе и читателю отчет в достаточной специфичности объектов каждой из этих наук, рассматриваемых порознь, как и в их праве обладать собственным достаточно автономным понятийным и методологическим аппаратом. Становление этнолингвистики как науки «на стыке» отнюдь не предполагает утраты «стыкующимися» дисциплинами их своеобразия.
Предлагаемая книга — увлекательное, но вместе с тем довольно трудное чтение. Поражает разнообразие тематики исследований Н. И. Толстого и необыкновенное богатство фактического материала, на котором строятся те или иные конкретные сюжеты и концепции. Для Толстого характерно стремление базировать исследование на исчерпывающем
Славянская этнолингвистика в работах Н. И. Толстого
II
привлечении данных, относящихся к рассматриваемой проблеме. Его творческой манере не свойственно «облегчать» читательские усилия спасительными «и т. д.», когда материал приводится лишь в качестве ил люстрации к какому либо постулату и ряд остается открытым. Знакомя щемуся с книгой предстоит погрузиться в осуществляемое автором расследование далеко не очевидных взаимосвязей многочисленных элементов традиционной народной культуры славян, многослойной символики славянских обычаев и ритуалов, представить себе всю сложность функ ционирования слова в культурном и мифологическом контексте.
Настоящий том составляют избранные работы Н И. Толстого в области славянской этнолингвистики, охватывающие период с 1971 до 1994 года и публиковавшиеся как в хорошо известных изданиях, так и в периодике, труднодоступной для отечественного читателя, и тем самым обреченные на роль библиографических раритетов уже в момент выхода в свет (печатание некоторых из этих работ иной раз могло значительно отстоять во времени от их написания как случилось, например, со статьей «Вторичные функции обрядового символа», созданной в 1986, но опубликованной лишь в 1994 году). В данный сборник включены труды, освещающие общую проблематику этнолингвистического направления и трактующие взаимоотношения языка и культуры в теоретическом плане; очерки отдельных архаических славянских ритуалов (хлестание вербой, опоясывание храма, рождественское полено и др.): исследования символики предметных и акциональных элементов обря дов; этюды по славянской демонологии; статьи о культурном контексте отдельных слов и выражений; работы о славянской фразеологии, рас-•сматриваемой сквозь призму этнографии, этнолингвистики и мифоло гии; статьи о некоторых фольклорных жанрах и отдельных фольклорных текстах с анализом их мифологических связей и теоретическая ра бота об ареальных аспектах фольклористики.
Составитель сборника, естественно, пытался представить творческие интересы автора насколько возможно полно. Однако даже в солидном по объему однотомнике сделать это чрезвычайно нелегко — Н. И. Толстым написано около полутора сотен статей, касающихся различных проблем славянской народной культуры и ее языковых преломлений (общий список его научных публикаций насчитывает уже около 500 на именований). В книгу не включены важные для творческой биографии Н. И. Толстого работы с излюбленными им сюжетами — статьи о славянском языческом ритуале-диалоге и очерки славянской метеорологической магии (за исключением статьи «Вызывание дождя», которая является переработанным вариантом доклада Н. И. и С. М. Толстых «К реконструкции древнеславянской духовной культуры» , сделанного на
* Названия вошедших в данный сборник статей, написанных в соавторстве с С. М. Толстой, отмечены астериском.
Предисловие редактора
VIII Международном съезде славистов): две эти темы, которым посвящены многие страницы, вышедшие из-под пера Н. И. Толстого (в том числе в соавторстве с С. М. Толстой), должны быть представлены самостоятельными книгами, готовящимися сейчас к изданию.
Редактор настоящего собрания трудов Никиты Ильича Толстого уверен в том, что эту книгу ждет счастливая судьба.
А. Журавлев
1. Общие вопросы этнолингвистики
Язык и культура
Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин
Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры
Язык и культура
Прежде чем приступить к рассуждениям о теме «Язык и культура», мне хотелось бы напомнить, что еще в начале XIX в. эта тема успешно разрабатывалась братьями Гримм, создателями всемирно известной мифологической школы, нашедшей свое продолжение в России в 60—70-х XIX в. годах в трудах Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева и отчасти А. А. Потебни *. Столетие спустя австрийская школа, известная под именем «Worter nnd Sachen», направила проблему «Язык и культура./ по пути конкретного изучения составных элементов — «кирпичей» языка и культуры, продемонстрировав важность культурологического подхода во многих областях язы кознания, в лексикологии и этимологии прежде всего.
Язык как зеркало народной культуры, народной психологии и философии, во многих случаях как единственный источник истории народа и его духа давно воспринимался таковым и использовался культурологами, мифологами в их разысканиях. На понимании неразрывности и единства языка и культуры в широком смысле этого слова основывалась в 30—40-х годах нашего века известная школа Сэпира—Уорфа. Но актив ное и конструктивное свойство языка и его способность воздействовать на формирование народной культуры, психологии и творчества обнаруживали и вскрывали еще в XVIII в. и в начале XIX в. И. Г. Гердер и В. Гумбольдт. Их идеи нашли свой живой отклик во многих славянских странах, в том числе и в России.
Было бы ошибочно говорить, что роль немецкой философии и фило софии языка в развитии славянской филологии и языкознания в первую очередь не исследовалась в давнем и совсем недавнем прошлом. Доста
• О роли школы братьев Гримм в развитии славянской филологии см.: [Кокьяр I960].
16
I. Общие вопросы этнолингвистики
точно хотя бы вспомнить ряд работ, выполненных многими авторами от Л. А. Потебни до Г. Г. Шпета [Шпет 1927] 2.
Понимая, что достаточно богатая и значительная история вопроса может занять немало места 3, перехожу к основному содержанию темы «язык и культура». Отношения между культурой и языком могут рассматриваться как отношения целого и его части. Язык может быть вое принят как компонент культуры или орудие культуры (что не одно и то же), в особенности когда речь идет о литературном языке или языке фольклора. Однако язык в то же время и автономен по отношению к культуре в целом, и его можно рассматривать отдельно от культуры (что и делается постоянно) или в сравнении с культурой как с равнозначным и равноправным феноменом.
Такое раздельное и в то же время сравнительное рассмотрение двух объектов позволяет применить в отношении культуры ряд терминов и понятий, выработанных и устоявшихся в языкознании. При этом подобная экспансия «лингвистического» подхода к явлениям культуры отнюдь не является неким «переводом» культуроведческой терминологии на терминологию лингвистическую, а скорее иным, структурально более четким подходом к культуре как некоему систематическому целому. Сравнение культуры и языка вообще и в особенности конкретной национальной культуры и конкретного языка обнаруживает некий изоморфизм их структур в функциональном и внутрииерархическом (системно-стратиграфическом) плане. Так, подобно тому' как мы различаем литературный язык и диалекты и выделяем при этом еще просторечие, а в некоторых случаях и арго как неполную, сильно редуцированную (до фрагмента словарного состава) языковую подсистему, в каждой славянской национальной культуре можно выявить подобных четыре вида: культуру образованного слоя, «книжную», или элитарную, культуру народную, крестьянскую, культуру промежуточную, соответствующую просторечию, которую обычно называют «культурой для народа» или «третьей культурой» 4, и для полноты картины и более четкого параллелизма еще
2 Интерес к творчеству этого ученого возродился в нашей стране в связи с интересом ко всей русской философии конца XIX в. — начала и середины XX в., см. также: [Шпет 1989].
3 См. краткий, но насыщенный фактами обзор этнолингвистических направлений в статье Анны Кравчик «Язык как источник знания о человеке» [Krawczyk 1989].
4 В славянских странах наибольшее внимание так называемой третьей культуре уделялось в Польше и в Хорватии, притом ею занимались преимущественно филологи и искус
Язык и культура
17
традиционно-профессиональную субкультуру (пастушескую, пчеловодческую, гончарную и др. на селе, торгово ремесленную — в городе), фрагментарную и несамостоятельную, как и арго. Если несколько изменить порядок перечисленных языковых и культурных страто в или слоев, получится два параллельных ряда:
литературный язык — элитарная культура
просторечие — «третья культура»
наречия, говоры — народная культура
арго — традиционно-профессиональная культура.
Для обоих рядов может быть применен один и тот же набор различительных признаков: 1) нормированность—неиормированность, 2) наддиа-лектность (надтерриториальность)—диалектность (территориальная расчлененность), 3) открытость—закрытость (сферы, системы), 4) стабильность-нестабильность. Каждый отдельный языковой или культурный страт характеризуется определенным сочетанием этих признаков (например, для литературного языка это нормированность, наддиалектность, открытость, стабильность), а каждый столбец — убыванием, ослаблением признаков и превращением их в свою противоположность (например, от нормирован-ности литературного языка до ненормированности арго или от наддиалект-ности элитарной культуры до диалсктности традиционно-профессиональной культуры). По отношению к литературному языку в славистике используется более разветвленная и подробная система признаков [Толстой 1988, с. 6—27; Брозович 1967], часть которых может быть применена к системе культуры. Например, си1гхронный признак соотношения литературного языка и диалектной базы (близость — отдаленность) в пересчете на культурологию дает признак соотношения элитарной культуры с народной культурой- общими для языкознания и культурологии можно считать и ди
ствоведы. В семитомной «Истории хорватской литературы* первый том делится на две части: usmena knjizevnost (фольклор) и pufka knjizevnost (народная литература, литература для народа) а остальные тома посвящены литературе от средневековья до современности, см.: [Povijest 1978], а также: [Boskovic-Stulli 1973]. По-русски этому бы соответствовала триада: устная словесность (народное творчество, фольклор) — народная словесность (литература для народа) — художественная словесность (литература). В на шей стране интерес к третьей культуре еще слабо выражен. Исключением можно считать достаточное внимание к изучению русского лубка, см. сборник «Народная гравюра и фольклор в России XVII XIX вв.*; среди немногочисленных русских работ по третьей культуре можно отметить сборник «Примитив и его место в художественной культуре нового и новейшего времени* и книгу В В. Мочаловой «Мир наизнанку* [Народная гравю ра 1976; Примитив 1983; Мочалова 1985].
18
I. Общие вопросы этнолингвистики
ахронические признаки «перерыва — непрерывности» в развитии литературного языка/элитарной культуры, сохранения или разрыва с традицией литературного языка/элитарной культуры 5.
В области культуры четыре пары предложенных признаков выявляют следующее положение. Признак нормированное™ на «лестнице» стратов дает кривую по ниспадающей линии, демонстрируя переход от нормы в вы сшем страте к отсутствию нормы или к множеству «локальных норм» в низ ших стратах. Такой же результат наблюдается с признаком наддиалектнос ти и признаком открытости. Что же касается признака стабильности, то он указывает на обратную ситуацию: стабильность более присуща «нижним» слоям культуры — культуре народной и традиционно-профессиональной, — чем элитарной, переживающей постоянное развитие. «Третья культура» во всех случаях выступает как промежуточная 6.
Естественно, что рассматриваемая схема несколько упрощена что она исторически изменчива (модель ориентируется на ситуацию XIX в. — пер вой половины XX в. 7), что «третья культура» обнаруживается рельефно не во всех славянских зонах, что культурные слои, или страты, не раввовели ки, равноценны и «равновесомы» (valeur), что понятие нормы для культу ры осложнено по сравнению с понятием литературно языковой нормы целым рядом специфических и дополнительных моментов, обстоятельств, ус ловий и факторов. Среди них не последнее место занимает и фактор моды в широком смысле этого слова 8.
5 Для славянских литературных языков мною предложены четыре группы нризна ков. отражающих А Соотношение литературного языка с другими стратами Б. Особен ногти исторического развития литературного языка; В. Особенности языковой ситуации; Г. Соотношение литературного языка с литературой, <|юльклором, культурой и этносом (Толстой 1988, с. 16, 17].
6 Если те же признаки применить к языковой «лестнице*, то выявится в общем та же картина перехода от нормы к ненормированности от надтерриториальности к терри ториальной расчлененности, от открытости системы к ее закрытости, по в последнем показателе стабильности нестабильности стабильность будет более присуща литературному языку, чем диалектам и арго. Однако положение это не универсально даже в пределах славянского мира. Оно может быть распространено па русский, польский и чешский литературный язык, но не на сербский язык XV111 в. и первой половины XIX в. и некоторые другие славянские литературные языки определенного исторического периода
7 Современную ситуацию можно сравнить, например, со старопольской, описанной в книгах [Otwinowska 1974; Martel 1938].
8 См. малоизвестную статью Е. В. Аничкова, посвященную соотношению категорий красоты, уродства (некрасивости) и моды: [Аничков 1930]
Язык и культура
10
Структура культуры обнаруживает сходство со структурой языка еще и в том, что в обоих объектах можно обнаружить явления стиля, жанра, факты синонимии, омонимии, полисемии. А в сфере функционирования и внешних отношений — факты одновременной причастности носителей культуры к двум (а иногда и более) культурам (ср. двуязычие и многоязычие) . Наконец, в истории культуры обнаруживаются процессы взаимодей-ствия, наслоения культур на культуры, т. е. явления культурных субстрата, адстрата или суперстрата и т. д. (ср. аналогичные понятия в лингвистике).
Предложенная выше культурологическая «лестница» может быть слаб жена большим числом ступенек. Так, при подъеме «снизу вверх» выявляет ся следующая последовательность: идиолект 9, микродиалект (культура од ногосела, небольшого социума). диалект (соответствующий говору), макродиалект (соответствующий наречию), народная культура в целом (соот ветствующая диалектному континууму всего языка), «книжная» или эли тарная культура (соответствующая литературному языку), культурная семья, группа (соответствующая языковой семье), культурный союз (соответствующий языковому союзу).
Противопоставление элитарной («книжной») и народной культуры ощущается и обнаруживается во многих случаях довольно явственно, и граница между ними, несмотря на постоянное взаимодействие и экспансию первой и пассивную позицию второй, устанавливается при необходимости достаточно четко, даже при условии существования переходной зоны «третьей культуры». Другое дело и другой вопрос, что в некоторых славянских, а тем более европейских зонах характерные черты крестьян ской народной культуры стираются под напором и наплывом городской культуры. Значи телыю труднее устанавливаются внутренние границы в пределах одного страта, в пределах отдельно взятой народной культуры, т. е. выделяются в
9 Понятие идиолекта играло существенную роль в теоретических построениях поздних младограмматиков (в русской науке, например, в концепции А. А. Шахматова), позже в языкознании оно как бы сошло на нет, и его вытеснило понятие другого ряда — ♦индивидуальный стиль». Между тем оно очень существенно для культурологии, исследующей и народную, и элитарную культуру. В традиционной народной культуре ярко выраженными носителями идиолекта являлись колдуны, ворожеи, сказочники, сказители, в элитарной — писатели, художники, актеры. Понятие это важно для установления еще одного звена соотношений — для выяснения соотношения идиолекта и диалекта или микродиалекта и т. п., то есть для определения места носителя идиолекта в целостной народ ной или иной культуре. Заметим также, что Э. Сэпиру принадлежит заявление: «Существует столько же культур, сколько индивидуумов в населении» цитата по работе Р. Бенедикта, см.: (Benedict 1939, р. 467].
20
I. Общие вопросы этнолингвистики
ней территориальные культурные диалекты различного ранга. Задача эта не из легких, ибо она требует сбора очень большого полевого материала, притом сбора по единому принципу, единой программе. Она не может бьггь разрешена в некоем принципиальном, чисто абстрактном порядке. Дело в том, что вся народная культура диалектна что все ее явления и формы функционируют в виде вариантов, территориальных и внутридиалект ных вариантов с неравной степенью различия. Эго находит свое яркое выражение в фольклоре, в котором реально бытуют многочисленные варианты текстов ,0. Что же касается инвариантов, то это уже некий конструкт, создаваемый фольклористами. Нередко, правда, в качестве инварианта избирается какой-либо реальный текст, чаще всего на основе его «наиболь шей художественности» 11.
Подобно тому как славянская диалектология в современных условиях не может обойтись без лингвистической географии, этнолингвистика, фольклористика и этнография нуждаются в активном развитии такой ав тономной дисциплины, как культурологическая география. Славистика по ка не может отметить серьезных достижений в этой специальной области знания. Более того, видимо, во многих отношениях время уже непоправимо упущено — индустриализация, коллективизация, война и экспансия городской «полукультуры» неумолимо стирали богатый и красочный культурный ландшафт славянского традиционного быта, нравов, обычаев и мест ного языка. Некоторые зоны, несмотря ни на что, сохраняли свою живую старину в достаточной полноте и разнообразии. К таким зонам относилось Полесье. Но и оно, после катастрофы в Чернобыле, оказалось разбитым сосудом с зияющей дырой в районе нижней Припяти. Все же собранный в 10 11
10 Тема вариантов в фольклоре вызвала дискуссию на IX Международном съезде славистов в Киеве, см.: (Чистов 1983, с. 143—169; Съезд славистов 1987, с. 10 13].
11 Понятие «художественности», однако, понятие не научное, а эстетическое, достаточно субъективное и исторически изменчивое. Какому тексту следует отдать предпочтение? Варианту баллады с лаконично, последовательно и четко изложенным сюжетом или варианту с пространно изложенным сюжетом, с дополнительной поэтической орнаментикой и поэтическими отступлениями? Выбор «оптимального» варианта может иметь значение при составлении хрестоматий, может быть полезным для популяризации фольклора в читательской среде, но не для изучения фольклора. Поэтому самым объективным подходом к фольклорному тексту можно считать подход, по которому сначала собираются и классифицируются варианты текста, определяется территория распространения отдельных текстов, а затем по локальному принципу выявляются основные типы (виды) и варианты текста. Решение этой и подобных серьезных задач наилучшим способом достигается путем картографирования элементов и фрагментов славянской духовной культуры.
Язык и культура
21
Полесье за последние четверть века материал для будущего «Атласа духов ной культуры Полесья» 12 позволяет сделать несколько выводов общего порядка. К ним относятся следующие выводы.
1. Народный язык, говоры, народные обряды, представления и вся на родная духовная культура вкупе с элементами включенной в нее материальной культуры представляют собой единое целое и с научной точки зрения, и в представлении носителей этой культуры. Из этого положения ис ходили слависты более века тому назад, но позже в результате дифференциации историко-филологических наук в начале XX в. многие ученые от него отошли.
2. Диалект (равно как и макро- и микродиалект) представляет собой не исключительно лингвистическую территориальную единицу, а одновременно и этнографическую, и культурологическую, если народную духовную культуру выделять из этнографических рамок.
3. Выделение такого диалекта осуществляется на основании изоглосс, изопрагм и изодокс (т. е. линий, выделяющих, охватывающих или разграничивающих отдельные явления и элементы языка, материальной и духовной культуры).
4. Диалектные фольклорные тексты, как и элементы народной духовной культуры, и диалектные языковые явления во многих случаях весьма устойчивы. Варианты текстов или фрагментов текста территориально привязаны, и на этом основании выделяются изодоксы, т. е. границы определенных явлений, зон или микрозон 13.
5. Изоглоссы, изопрагмы и изодоксы далеко не всегда совпадают друг с другом, но это несовпадение в принципе оказывается не большим, чем несовпадение разных изоглосс — изофонов, изоморфов, изолекс, т. е. показателей разных уровней языка 14. Особенно ценны те результаты наблюдений
12 Программу этого атласа и некоторые предварительные материалы см : [ПЭС 1983 с. 21—46а].
13 Совпадение таких изодокс с другими изодоксами и изоглоссами свидетельствует о стабильности многих вариантов. Если фольклорист не учитывает этого момента, у него создается впечатление «постоянного обновления текста», его перманентного изменения, ♦живого фольклора», о чем в нашей науке нередко говорилось в 30 40-е годы. Впечатление это нередко ложное, т. к. оно основывается на записях разных, хотя иногда и близких друг к другу мест. См. картографирование мною вариантов известной баллады ♦Тополина»: [Толстой 1986 — наст, изд , с. 437—446].
14 Известно, что с появлением лингвистической географии во времена Жильерона раздавались голоса, что представление о диалекте как территориально ограниченной единице устарело и что реально можно говорить только об отдельных изоглоссах, идущих в
22
I. Общие вопросы этнолингвистики
(часть из них уже картографирована), которые велись над одним объектом или явлением, но как бы с разных позиций, в различных аспектах — лингвистическом, культурологическом, этнографическом. Так, к примеру, в Полесье, как и во многих других славянских зонах, известно поверье о том, что солнце «играет», т. е. как бы подпрыгивает, переливается разными от тенками в определенные дни. Эго явление имеет разные названия: солнце играет, сдвигается, купается, гуляет, радуется, веселится. Названия картографируются, но картографируется и время (день), когда проис ходит «игра солнца», наконец, могут быть нанесены на карту ритуалы и представления, связанные с «игрой солнца». Ответы на вопросы оказыва ются тематически (и мифологически) связанными. Солнце «движется» преимущественно в той зоне, где его наблюдают в таком состоянии на Воз движение, а «купается» на Ивана Куналу, см.: «радуется» на Пасху, «играет» на Благовещенье, на Ивана Куналу [Толстая 1986а] *5. Эгот небольшой пример показывает плодотворность многостороннего подхода к предмету и объединяющую роль вербального компонента народного ри туала и народных представлений.
В связи с .этим следует обратить внимание на особый ггласт словарно го состава языка — на культурную терминологию преимущественно диа лектного характера.
Культурный термин (например, названия радуги [Толстой 19766], белемнита [Mazurkiewicz 1988], кукушки [Kosylowie 1980], ласки [Гура 1981, 1984], обрядов, праздников, обрядовых предметов, действующих лиц, ритуальных действий, демонов, духов природы и т. п.) обычно входит в ряд междиалектных синонимов, образующих определенную систему не только лингвистического, но и экстралингвистического — культурного (ми фологического, ритуального и т. п.) порядка. При этом обычно интерпретация отдельного элемента культуры, культурной реалии строится почти целиком на анализе способа ггомиггации или мотивации термина (назва ния). Термин, таким образом, оказывается заглавием определенного тек ста, его словесным символом. С другой стороны, культурный термин (на пример, дед, коляда, веселка, веселиться) может сам по себе выступать как манифестант междиалектной полисемии (или даже омонимии), а на основе его семантической амплитуды колебания можно моделировать се-
различных направлениях. Выявление пучков изоглосс и установление некоторой иерар хии ценности изоглосс реабилитировало научное понятие диалекта.
15 В славистике такой комплексный охват материала при картографировании первым осуществил К Мошинский в своей программе для Атласа народной культуры, см.: (Moszynski. I 3]
Язык и культура
23
млитическое микрополе. В итоге это микрополе оказывается своего рода текстом, который может быть прочитан и с помощью которого могут быть интерпретированы сами культурные реалии, не говоря уже об относящихся к ним терминах [Толстая 1989). Поясняя изложенное традиционными лингвистическими представлениями, отметим, что в первом случае анализ, а затем и поле строятся по принципу от значения (понятия) к слову, а во втором — от слова к значению (как и при картографировании лексики во многих атласах). В отличие от традиционного подхода этот подход не останавливается на слове или значении слова, не ограничивается ими, а обращается к целому синонимическому ряду и семантическому полю, т. е. к лексической и семантической парадигме, в которые входит каждый отдельный термин.
До сих пор в наших рассуждениях сознательно не упоминалась семиотика, хотя читателю ясно, что дело касается семиотического языка культуры. Для такого языка диалектная или литературная речь является лишь одной из форм языка, ибо культура многоязычна в семиотическом смысле этого слова и нередко пользуется одновременно в одном тексте несколькими языками. В этом случае, как и выше, под текстом понимается не последовательность написанных или произнесенных слов, а некая последовательность действий, и обращения к предметам, имеющим символический смысл, и связанная с ними речевая последовательность. Считая, например, обряд таким текстом, выраженным семиотическим языком культуры, мы выделяем в нем три формы, три кода или три стороны языка — вербальную (словесную — слова), реальную (предметную — предметы, вещи) и акцио-нальную (действенную — действия) [Толстой 1982 — наст, изд.,
с. 63—77). В обряде, ритуале и в некоторых других культурных действиях и манифестациях единицы этих трех языков (кодов), а в общем «слова» единого семиотического языка часто вьнтупают как синонимы, и потому они нередко взаимозаменяемы, а часть их может редуцироваться. Есть обряды, в которых вербальная сторона отсутствует (например, используется ритуальное молчание), есть магические действия, состоящие почти исключительно из вербального текста (заговоры), существуют и разные пропорции вербального, реального и акционального компонентов обряда, и эти пропорции во многих случаях зависят от жанра обрядового текста. Синонимика символов (знаков, «слов») вербального, реального (пред метного) и акционального языка (кода), как и языковая синонимика, не является абсолютной, а как бы стилистически и обрядово-магически обусловленной, ритуально окрашенной, крайне редко нейтральной. На этом основании можно было бы поставить вопрос о стилистике обрядо
24
I. Общие вопросы этнолингвистики
вого текста, не только вербальной его стороны, но и стороны акцио-налыюй и реальной (предметной), однако для этого еще нет достаточных предпосылок и подготовительных работ.
Если вербальный (словесный) язык (код) в обряде и шире — в куль туре входит в один функциональный и культурный (культурообра.зую 1ций, в частном случае — обрядообразующий) ряд с другими языками — предметным (реальным) и кинетическим (национальным), — то он может и должен воздействовать на них и сам подвергается их воздей ствию. Впрочем, обряд — это лишь частный случай более широкой куль турологической закономерности, но останемся покамест для наглядности нри наших рассуждениях в рамках обрядности.
Славянская филология только приступает к накоплению примеров слов, из которых развивались, «разворачивались» ритуальные действия и целые обряды. А. А. Потебня в свое время сосредоточил внимание на обратном процессе, на конденсации, на свертывании сюжета до мотива, а мотива до поговорки, фразеологизма [Потебня 1914, с. 93, 94: Толстой 1988а — наст, изд., с. 373—382|. От фразеологизма до слова оставался один шаг, и нам известны примеры такой максимальной конденсации «Развертывание» слов, как правило, опирается на этимологию или на народную этимологию, вовлекая в ритуальную и обрядовую сферу «этимологически» (чаще «народно-этимологически») связываемые действия, пред меты и действующие лица через их названия и имена На этом принципе1 построена так называемая этимологическая магия, широко распространен ная в славянском народном быту. Имеются в виду такие случаи, как использование созвучия сербских слов грабулье 'грабли’, граб 'граб’ и граба ти 'сгребать’, 'захватывать, хватать, домогаться чего-либо’ для построения ритуального действия. В Сербии, в Груже, после того как пастухи вече ром загонят в селе овец в загон, хозяйки выходят к овцам с граблями и гре бут ими по земле со словами «Ja не грабим ничще, него ceoje!» (Я не загре баю ничего чужого, а лишь свое!), а в Боке Которской на Юрьев день одна из трех девушек брала ветку граба и прятала ее за пазуху и на вопрос другой девушки, что у нее за пазухой, отвечала: «Граб, да се грабе и мене, и те бе. и ту што гледа про тебе» (Грабь, чтобы женихи домогались и меня, и тебя, и той, что смотрит на тебя) [Толстые 1988, с. 260. 261].
Дальнейшее развитие исторических фразеологических исследований может быть плодотворно лишь при условии серьезного внимания к языку как к вербальному коду культуры и к языку как творцу культуры. Во мно гих славянских странах, прежде всего в восточнославянских, еще плохо собрана народная, диалектная фразеология и в почти полном небрежении
Язык и культура
25
лингвистов остается народная «полуфразеология», т. е. особый устойчивый и клишированный вид текста, выражающий благопожелания, проклятия, ритуальные констатации и своеобразные императивные побуждения (типа сербск. «Пусти врбово, узми дреново!», адресуемого младенцу, чтобы он был крепок и здоров) или запреты и т. п. Значение такой «полуфразеологии» велико, т. к. она функционирует в сакральной ситуации, в «многокодовом тексте», где помимо вербального символа, знака или заглавия параллельно и взаимозависимо действует предметная и акциональная символика. Полуфразеологизм таким образом включается в микрообряд. Сам же микрообряд, структура с минимальным числом компонентов, представляет собой обычно текст промежуточного, маргинального характера. Полуфразеологизм представляет интерес для исследователей типологии текста, фразеологии (словесных клише) и теории стереотипа [Bartminski 1985].
Позволительно, вероятно, в этой связи еще раз напомнить, что новые, перспективные проблемы и ситуации возникают на стыке наук, на стыке разнородных компонентов и материалов, на стыке жанров и структур и что ни одна дисциплина не может существовать только в себе и исключительно для себя. Позволительно напомнить слова Фердинанда де Соссюра, сказанные им в начале нашего века: «Для нас же проблемы лингвистики — это прежде всего проблемы семиологические, и весь ход наших рассуждений получает свой смысл лишь в свете этого основного положения. Кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен прежде всего обратить внимание на то, что в нем общего с иными системами того же порядка; а многие лингвистические факторы, кажущиеся на первый взгляд весьма существенными (например, функционирование органов речи), следует рассматривать лишь во вторую очередь, поскольку они служат только для выделения языка из совокупности семиологических систем. Благодаря этому не только прольется свет на проблемы лингвистики, но, как мы полагаем, при рассмотрении обрядов, обычаев и т п. как знаков все эти явления тоже выступят в новом свете, так что явится потребность объединить их все в рамках семиологии и разъяснить'их законами этой науки» [Соссюр 1977, с. 54]. XX век прошел под знаком создания семиологии, которую чаще называли семиотикой, однако основное внимание уделялось развитию теории семиотики и общей семиотике, между тем как возможны и частные семиологии, как существуют теория сравнительно-исторического языкознания, некое общее сравнительно-историческое языкознание и частные сравнительно исторические лингвистики: славянская, германская, романская и т. п., объединенные в индоевропейскую лингвистику и т. п. Частная, например, славянская семиология призвана определить набор семиологиче-
26
I. Общие вопросы этнолингвистики
ских средств и символов в славянской культурной сфере, их соотношение'и систему, их общность для славянского мира и их локальные различия (диа лектность), о чем уже шла речь. Надо полагать, что без этнически, территориально и лингвистически обозначенных, приуроченных и обособленных семиологий общая семиология в некотором отношении останется беспоч венной и без широких перспектив дальнейшего развития.
Этнолингвистика наших дней обращена к историческим проблемам в большей ме[>е, чем социолингвистика, предпочитающая разрешать вопросы современности. Занимаясь культурно-языковой диалектологией славянского мира, этнолингвисты видят в ней «живую старину» отнюдь не в последнюю очередь. И если при реконструкции славянской прародины, славянского древнего быта («прасуществования») и языческой культуры специалисты по этногенезу и славянским древностям пользова лись почти исключительно археологическими и лингвистическими дан ными (топонимика, сравнительно историческая грамматика), то этно лингвисты видят в этнографическом и фольклорном материале серьез ный дополнительный источник для тех же изысканий | Толстой 19891. Но даже если ограничиваться исключительно лингвистическим материя лом, не следует забывать о существовании языковой картины мира и о возможности реконструкции древней картины мира на основании того же материала языка, правда, специально подобранного и препарирован ного сравнительно-историческим методом 16.
Первая публикация:
II И Толстой. Язык и культура // Zeitschrift fur Slavische Philolo-gie. Heidelberg. 1990, Band 50, Heft 2, S. 238 253.
16 Русский читатель еще в начале нашего века был ознакомлен с популярной, но на учно ценной книгой О- Шрадера «Индоевропейцы* В 1924 г. в Праге тоже на русском языке вышла книга Л. Нидерле «Быт и культура древних славян». Интересный опыт ре конструкции картины мира индоевропейцев, где славянским данным уделено достаточно внимания, представлен во второй книге монографии Т. В Гамкрелидзе и В. В. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы» Заслуживает внимания и опыт описания бы та исчезнувших полабских славян на основании данных языка в работе Б. Шидловской-Цеглёвой «Народная материальная культура полабских древлян в свете словарных разыс каний». См.: |Шрадер 1913; Нидерле 1924; Гамкрелидзе, Иванов 1984. 2, Szydfowska Ceglowa 1963].
Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин
Этнолингвистика есть раздел языкознания или — шире — направление в языкознании, ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции. Этнолингвистика не есть простой гибрид языковедения и этнологии или смесь отдельных элементов (фактологических и методологических) того и другого. Бурно развивающиеся и оправдывающие во многом свое современное существование социолингвистика, психолингвистика, математическая лингвистика и т. п. также не оказались внутренне противоречивыми и конгломератными дисциплинами или дисциплинами, далеко выходящими за границы лингвистики, порывающими с ней связь. Они лишь четко определили аспект, в котором формируется и функционирует язык или в котором он изучается.
Этнолингвистика изучает язык в аспекте его соотношения с этносом (язык : этнос), подобно тому как психолингвистика рассматривает язык в общем аспекте язык : человеческая психика, прикладная лингвистика — язык : практическая деятельность человека, социолингвистика — язык : человеческое общество (социум). При этом если психолингвистика и математическая лингвистика (но не прикладная!) изучают так называемую внутреннюю сторону языка и тем самым относятся к внутренней лингвистике, то этнолингвистика и социолингвистика обращены к внешней стороне языка и включаются во внешнюю лингвистику. В известном смысле этнолингвистика и социолингвистика могут расцениваться как два основных компонента (раздела) одной более обширной дисциплины, с той лишь разницей, что первая учиты вает прежде всего специфические — национальные, народные, племенные — особенности этноса, в то время как вторая — особенности социаль
28 I. Общие вопросы этнолингвистики
ной структуры конкретного этноса (социума) и этноса (социума) вообще, как правило, на поздней стадии его развития применительно к языковым процессам, явлениям и структурам.
Не столько принципиально, сколько практически этнолингвистика и социолингвистика иногда противопоставляются как дисциплины с различной хронологической направленностью: первая оперирует преимущественно исторически значимыми данными, обращаясь к «живой истории», «живой старине» и стремясь в современном материале обнаруживать и исторически истолковывать факты и процессы, доступные историческому упорядочению; вторая базируется почти исключительно на языковом материале сегодняшнего дня и рассматривает его прежде всего в коммуникативно-функциональном, структурно-описательном и нор мативно-синхронном аспектах.
Нужно сказать, что сам термин «этнолингвистика» и этнолишъистиче-ский подход к языку не новы. Историки языкознания справедливо обна руживают некоторые этнолингвистические идеи еще у И. Г. Гердера (XVIII в.) и не менее знаменитого В. Гумбольдта (нач. XIX в.), но этнолингвистика как направление и как определенный подход к языку сквозь призму его духовной культуры возникла в первой трети XX в. и была связана с именами этнографа Ф. Боаса и языковеда и этнографа Э. Сэпира, изучавших языки, лишенные письменной традиции, языки и культуру американских индейцев. Для Э. Сэпира было характерно утверждение, что «речь есть чисто историческое наследие коллектива, про дукт длительного социального употребления. Она многообразна, как и всякая творческая деятельность, быть может, не столь осознанно, но все же не в меньшей степени, чем религия, верования, обычаи, искусства разных народов» [Сэпир 1934, с. 6].
Исходя из этого, Э. Сэпир делал по меньшей мере два вывода: язык нельзя признать «чисто условной системой звуковых символов»; различия в языках и диалектах «при переходе нашем от одной социальной группы к другой никакими рамками не ограничены». Эти выводы в полной мере приложимы к верованиям, обычаям, искусству и т. п., для которых также применимо понятие диалекта и подобных феноменов, пе речисляемых нами ниже.
Как известно, идеи Э. Сэпира и Ф. Боаса два десятилетия спустя продолжил и развил их соотечественник Б. Уорф. Он добавил к ряду «язык — литература» еще звено «норма поведения» [Уорф 1960] и ста вил во многих случаях особый акцент на этом звене, в то время как для нас, как будет видно из дальнейшего изложения, по целому ряду прин
Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин
29
ципиальных соображений существеннее обратить внимание на более гомогенный ряд — «язык, религия, верования, обычаи, искусство». Именно этот ряд важен для этнолингвистических разысканий в историческом, диахроническом аспекте, для реконструкции древних соотношении языка и этноса, языка и народной культуры, ибо народная культура столь же диалектна и является не менее ярким показателем этноса и этнических образований, чем язык.
Э. Сэпир и Б. Уорф придали этнолингвистике тот характер, который она в общем языкознании сохраняет по сей день. Этнолингвистические идеи и методы применяются почти исключительно к языкам и социумам с бесписьменной традицией или к современным языковым процессам и социумам без оглядки на их историческое развитие. Общеязыковедческая и синхронно-лингвистическая направленность в значительной мере ограничивают возможности разработки и применения этнолингвистической методики в научных исследованиях и делают саму этнолингвистику периферийной, факультативной дисциплиной в языкознании. Обращение этнолингвистики к историческим, историко-генетическим проблемам и задачам, к диахроническому плану исследований может придать ей статус цельнооформленной, внутренне непротиворечивой и неодноплановой дисциплины, которая будет способна повлиять на развитие сравнительно исторических штудий во многих областях, в том числе и в индоевропеистике и балто-славистике. Есть все основания полагать, что этнолингвистика может и должна, подобно компаративистике, члениться по этноязыковым признакам, что это членение вытекает из самой ее сущности, и потому мы считаем возможным говорить о перспективах и задачах славянской этнолингвистики как автономной дисциплины. На том же основании перспективно рассматривать проблемы романской или германской этнолингвистики, равно как и признавать целесообразность существования более частных дисциплин, таких, как польская или немецкая, шведская этнолингвистика и т. п. Все это, естественно, не исключает более обобщенного и крупномасштабного подхода к предмету и материалу этнолингвистической науки.
В XIX в. сравнительно-историческое индоевропейское языкознание возникло и начало развиваться параллельно со сравнительной мифологией. Это было плодотворно и в методологическом, и в фактологическом аспектах. В дальнейшем произошло разделение, перешедшее в разрыв, который теперь может быть преодолен лишь на принципиально новых основах.
Такие основы четко определились лишь к середине XX в., когда линпюгеография и ареалогия в лингвистике и этнологии зарекомендова
30
I. Общие вопросы этнолингвистики
ли себя не только как дисциплины, превосходно систематизирующие факты (не говоря уже о требовании их массового и планомерного сбора), но и как научное направление, способное предоставить сравнительно-историческим и историке-генетическим исследованиям дополнительные фактологические, методологические и теоретические ресурсы. Выработалось понятие лингвистического ландшафта, и возникла возможность исторического прочтения карт, ареалов, взаимоотношения ареалов, типов ареалов, типов диалектных зон, архаических, инновационных, контактных и т. п. Эго «историческое прочтение» во многих случаях дает большую информацию об истории явления, системы или ареала (затем диалекта, языка и т. п.), чем факты, засвидетельствованные в исторических или языковых памятниках. В тех же случаях, когда памятников письменности нет или их мало, эта информация оказывается к тому же единственной.
Столь значительная «историческая информативность» лингвистического диалектного ландшафта (равно как и ландшафта мифологического или ландшафта этнокультурного) объясняется в первую очередь фак том неравномерного развития отдельных систем, отдельных уровней системы и даже отдельных элементов системы. При этом едва ли не важ нейшим моментом этого положения является следующий: неравномерность развития системы и ее отдельных звеньев наблюдается во всех системах, и прежде всего в близкородственных (они и дают основания для такого заключения), т. е. восходящих к одному праязыку или пра-диалекту, к одной общей исходной системе. Эта неравномерность наблю дается, как отмечалось, не только в пределах системы (в отдельных ее уровнях, звеньях, элементах), т. е. во внутриструктурном аспекте, но и в разных ландшафтно-диалектных зонах и микрозонах, что и создает чрезвычайное богатство типов и вариантов в самых крупных языковых и этнических зонах, скажем, на территории современной Славии, Рома-нии, Финно-Угрии и т. п.
Сохранение архаических элементов языка, в первую очередь элементов лексического его уровня, происходит в разных диалектах по-разному, и притом в различных звеньях языковой (уже — лексической) си стемы. Консервация отдельных форм (и значений) наблюдается на разных этапах развития языка (разных и в хронологическом, и в структурном отношении). Эго дает возможность для целого ряда явлений, для блоков языковой системы и даже для системы в целом устанавливать определенную динамику развития, определенную историческую последовательность или даже эволюционный процесс в пределах того или иного
Зтнолингвистпика в кругу гуманитарных дисциплин
31
ареала. Другим не менее важным постулатом будет следующий. Чем большее число рефлексов одной прасистемы. одной праформы или одно го праявления зафиксировано в диалектах, тем более достоверной или полной может быть реконструкция процесса изменения системы, формы, категории или явления, равно как и исторически исходной формы, категории, системы. И в первом и во втором случае крайне существенна ареальная характеристика явления, формы и т. п., представленная на лингвистической (resp. этнологической) карте или данная иным путем, учет соотношения показателей в плане корреляции центра и периферии, сплошных и разорванных ареалов и микроареалов, интерференции ареалов, их дисперсии и т. п. «Историческое прочтение» лингвистических и этнолингвистических карт и данных иного порядка — дело весьма сложное и важное, требующее выработки специальной методики или, лучше сказать, методологии. Как уже отмечалось, этому должна быть подчинена и методика сбора и первичной обработки материала (составление программы-вопросника и т. п.).
Приведенные положения не претендуют на новизну. Однако их изложе ние оказалось необходимым хотя бы потому, что вес1 они применимы не только к языковому материалу, но и к материалу народной духовной культуры, который издавна принято считать этнографическим или фольклорным. Более того, для определения генезиса и истории народной культуры предложенная выше методика необходима в еще большей мере, чем для ре шения историко-лингвистических задач. Эго прежде всего относится к такой базисной сфере древних народных культур, как мифология.
В самом деле, большинство индоевропейских языков имеет относительно давнюю историческую фиксацию, т. е. развивалось в двух формах — устной и письменной. Что касается письменной фиксации мифо логии, то это «привилегия» лишь отдельных индоевропейских этносов. Такие этносы, как балтийский и славянский, ее почти лишены. Совер шенно очевидно, однако, что ранняя письменная фиксация мифологических текстов (религиозных представлений), как и в случае с языком, не является единственным историческим источником для живых этносов и языков. Более того, этот источник, как и в случае с языком, может от ражать лишь одну «книжную» форму мифологии, давая мало сведений о народных мифологических представлениях. Вот почему нам кажется чрезвычайно актуальным неоднократно ставившийся нами вопрос о разработке диалектологии мифологии, конкретно славянской мифо логии, и о необходимости к древнеславянской (праславянской) мифологии подходить с учетом возможного ее диалектного дробления. Учитывая
32
I. Общие вопросы этнолингвистики
в общем пантеистический характер многих славянских (и индоевропейских) мифологических представлений и современный славянский «мифо логический ландшафт», такое древнее праславянекое дробление нам ка жется весьма вероятным, тем более что оно, по-видимому, соответствовало и языковому (диалектному) дроблению. Во всяком случае, трудно предпо дожить, что ираславянская мифология сводилась к единой, узко ограни ченной схеме, тем более к одному сюжету или «основному мифу», к «семье громовержца» или к подобным построениям. Разнообразие славянской на родной изустной традиции в сфере обрядов, поверий и обычаев, т. е. диа лектность духовной культуры, делает ее незаменимым и почти единственным источником для истории мифологических воззрений и форм, для диа хронических мифологических штудий, для определения динамики разви тин отдельных мифологических систем, для их этнического, территориаль ного и хронологического приурочения в прошлом.
Этнолингвистику можно определять и воспринимать двояко: в широком плане и в плане суженном, конкр<'тизированном или специализирован ном. В широком плане этнолингвистика включает в себя диалектологию, ядык фольклора и часть истории языка, связанную с исторической диалектологией и культурной и этнической историей народа, наконец, почти все аспекты изучения языка как социального явления.
На первый взгляд, такое понимание конкретного предмета (состава) науки кажется достаточно расплывчатым. Однако суть его в объединении в одних границах ряда иногда необоснованно разрозненных дисциплин, в придаче новой научной отрасли комплексного, штаномерно разностороннего характера. Существенно, что при таком подходе меняется характер внутреннего размежевания всей совокупности лингвистических и филологических наук: межи могут проходить «внутри» или «посредине» отдельных дисциплин, перекраивая привычные для нашего узуса границы. К приме ру, описательная диалектология с экспериментально-фонетическим анализом и структурным подходом в фонологии и грамматике или чисто лексико графическим подходом к лексике окажется вне этнолингвистики и будет тяготеть к описательной грамматике или фонологии литературного языка вообще, в то время как историческая и ареальная диалектология найдет общую методологическую платформу и общие научные цели с истор1гче-ской и ареальной этнологией, фольклористикой и социолингвистикой.
В связи с «широким» и «узким» пониманием этнолингвистики уместно вспомнить контроверзы и дискуссии, проходившие еще полвека тому назад и ранее в среде фольклористов. Одним фольклор представлялся наукой о народе, о его прошлом, его жизни, его воззрениях, иные ставили знак ра
Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин
венства между фольклором (фольклористикой) и антропологией, считая его наукой о человечестве вообще (при этом и антропология понималась очень широко), некоторые почти отожествляли фольклор с этнографией, на[)Одоведением, определяя его как науку о народе и его традициях. Эго сказалось и в терминологии, в названиях фольклора (фольклористики) у разных европейских народов: русск. — народное творчество, фольклор, устное народное творчество, народная словесность, народная поэзия, не мецк- — Volksknnde, Volkstumskunde, Volkslehre, Folklore, французск. — traditions populaires, detnologie, demopsychologie, folklore, итальянок. — tra dizioni popolari, letteratura popolare, il folklore, deniopsicologia, deniologia, scienza demica, etnografia, испанск. — tradiciones populares. demologia, de-mosofia, demotecnografia, el folklore, saber popular (vulgar). Ряд ученых ви дел в фольклоре более специальную и целенаправленную дисциплину’. Ю. М. Соколов называл фольклор «сегментом этнографии» и в то же время утверждал, что фольклористику нельзя оторвать от лите|>атуроведения так же, как нельзя оторвать от этнографии [Соколов 1926, с. 6, 7]. Е. Г. Kara ров указывал на две основные оси, вокруг которых «неизменно должны будут вращаться фольклористические изучения», — филология и социология, и предложил следующую схему соотношения наук [Кагаров 1929, с. 3—8]:
литературоведение
языковедение (особенно диалектология)
этнография
теория и история искусства
фольклористика история культуры
социология
народная психология
В последнее пятидесятилетие во многих странах, в том числе и в славян ских, под фольклором стало пониматься лишь такое народное творчество, которое выражено словесной формой. Это помогло фольклористике четко осознать Гфедмет своего исследования, его границы и задачи, но вместе с тем во многих случаях принудило замкнуться в своих пределах или дать крен в сторону чисто литературоведческого анализа. Лишь в последнее время вновь наблюдаются позитивные стремления ученых расширить рамки фольклористики, обратившись к изучению обрядовой и мифологической стороны фольклорных текстов, к выяснению их происхождения, функцио нирования в обрядовом и ином контекстах. Этому во многом способствует 2
.14
l. Общие вопросы этнолингвистики
и семиотическое понимание обряда как текста. Тем не менее все это не ставит под сомнение того положения, что фольклористика как наука базируется на исследовании именно вербальных (словесных) текстов.
Этнолингвистика в суженном и специальном понимании является той отраслью языкознания, которая ставит и решает проблемы языка и этноса, языка и культуры, языка и народного менталитета, языка и мифологии и т. п. Для этого раздела лингвистики существенно рассмотрение не только и не столько отражения народной культуры, психологии и мифологических представлений в языке (что характерно для всех сторон человеческой деятельности, в том числе и для сферы материального производства и потреб ления), сколько конструктивной роли языка и его воздействия на формирование и функционирование народной культуры, народной психологии и народного творчества. Эго активное свойство языка сознавалось уже в XVII1 в. И. Г. Гердером и несколько позже, в XIX в., В. Гумбольдтом и его многочисленными последователями. Его признание и влияние характерно для ранней русской филологической и языковедческой традиции, для Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева и особенно для А. А. Потебни.
Вопрос соотношения языка и этноса столь же древен, как и само языкознание. Язык считается основным, ярчайшим и устойчивым показателем этноса. Ему сопутствуют другие, исторически менее стабильные и из меняющиеся признаки — признаки единства территории, культуры, этнического (национального) самосознания, государственного образования, хозяйственного (экономического) ареала, социального организма, наконец, антропологического типа.
Понятия языка и этноса в некоторых традициях, прежде всего в древнеславянской, объединялись одним словом (АЗижт» (ср. в русском вы соком слоге начала XIX в.: «Нашествие Наполеона и двунадесят язык»). Судьбы языка и судьбы этноса всегда были тесно связаны, поэтому без обращения к этнической истории носителей языка нельзя себе представить экстралингвистических штудий по конкретным языкам. Однако структура этноса в большей мере, чем структура языка, изменчива исторически и свя зана с социально-экономическими и государственно-политическими про цсссами и преобразованиями, оказывающими серьезное воздействие на со отношение язык : этнос.
Несмотря на то что эти положения, имеющие почти аксиоматический характер, давно известны лингвистам, этнографам и историкам, в славистике до сих пор нет ни одного описания истории языка, сочетающейся с этнической историей его носителей, хотя в свое время было выполнено немало подготовительных работ. В русском языкознании к таковым относились
Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин .75
исследования А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, Е. Ф. Будде. Д. К. Зеленина, Н. Н. Дурново, а в последние десятилетия М. В. Вито ва, О. Н. Трубачева, В. Н. Топорова и др. Даже уже много лет имеющийся в распоряжении ученых ценный, хотя и не во всем безупречный, ат лас «Русские» до сих пор никем не сопоставлялся с результатами лингвогеографического изучения русских диалектов послевоенного периода. Несколько лучше обстоит дело в ряде ;[рутих славянских стран, а также в германистике и особенно в романистике, где сохраняется и крепнет давний соки лингвистов, этнографов и историков.
Неблагополучную ситуацию в этой области славистики может положи тельно изменить этнолингвистический подход к материалу, требующий па раллельного, точнее, единовременного и единосущного рассмотрения раз вития языка и этнического развития его носителей, процессов дивергенции и конвергенции языка и этноса, проблем диалектного членения языка и географсгческого (и социального) членения этноса с учётом общности или различий исторических судеб народов, племен и этнических групп — носителей комплекса языковых и этнических черт. Решению этих проблем мо жет активно способствовать этнолингвистическая география, в первую очередь создание* этнолингвистических атласов, в которых лингвистиче ские и этнографические карты бььчи бы представлены параллельно или не расчленение (в особенности когда бы дело касалось одного явления или од ной реалии). Необходимо создание карт или серии карт, дающих одновременно картину' «интегральных» и «дифференциальных» лингвистических (языковых) и этнографических (материальных) признаков, картину того, где и какие внеязыковые, реальные или «этнографические» признаки отражены языком а какие и где — не отражены. При таком положении «реаль ная», т. е. этнографическая, карта должна быть базовой, первичной, а лингвистическая — вторичной, как первичен предмет и вторичен относя Щийся к нему знак. Этот постулат был известен в начале века представите лям школы «Worter unci Sachen». но в ту пору не был еще выработан весь арсенал методических и технических средств современной лингвогеогра-фии. Впрочем, в целом ряде случаев, например при изучении архаических славянских пахотных орудий в 30—50 х годах нашего века, терминология (лексика) изучалась в ходе тщательного этнографического анализа (ср. ра боты М. Гавацци, Б. Братанича, X. Вакарелского, Й. Обрембского и др., а также монографию о русской сохе Д. К. Зеленина — начала XX в.). Линг вистические материалы и выводы были результатом этого анализа. В картографировании, так же как и в исследованиях другого характера. Должна быть полная «стыковка» лингвистического и этнографического. 2*
36
[. Общие вопросы этнолингвистики
но сути дела единого материала. К примеру, этнографические карты но тинам пахотных орудий должны формально и методологически выпол пяться с учетом лингвистических карт и, наоборот, должны иметь ana логичную сетку пунктов, согласованную подачу материала и т. п. .Эти «технические» вопросы также входят в компетенцию этнолингвистики. Впрочем, традиция романских диалектологических атласов давно доказала справедливость этого положения.
Коррелятивные связи языка и культуры многообразны, устойчивы и крепки. Язык можег рассматриваться как орудие культуры, даже как одна из ее ипостасей (в особенности литературный язык, сак ральный язык или язык фольклора) и, как таковой, может описываться через признаки, общие дчя всех явлений культуры. С другой стороны, язык и культура могут сопоставляться как независимые, автономные семиотические системы, во многих отношениях структурно изоморфные и взаимно отображенные. Общность применяемых к языку и культуре по пятин может проистекать из одинакового взгляда па эти феномены как на семиотические (знаковые) системы, описываемые с помощью одного и того же логического аппарата. К таким понятиям относятся понятия системы н текста (парадигматики и синтагматики) в языке и культуре, формы и содержания (означающего и означаемого), системной функции, давления системы открытости системы и ее уровней и т. п.
Однако помимо общих понятий, вытекающих из единства природы языка и культуры и единого семиотического подхода к ним, этнолингвистика способна выделить ряд культурно языковых явлений, понятий и структурных констант, которые но разному манифестируются в языке и культуре, но обладают в принципе одной сущностью (смыслом). К тако bi.im относятся понятия нормы и нормированности, а также стилей (п жанров) в языке и культуре, различение книжных (кодифицирован ных) и на[юдных (некодифицированных) элементов и систем в языке и культуре, понятие территориальных и социальных диалектов в языке и народной культуре со всеми вытекающими из существования диалектов явлениями и понятиями — такими, как культурно диалектный ландшафт, диалектное смешение, дробление, идиолекты, надциалектные яв ления, культурное койнэ и т. п. К этому следует добавить понятие дву язычия (двоекультурья) или многоязычия в сфере языка и культуры, гомогенности и гетерогенности двуязычия (двоекультурья), понятие от дельного языка и соответственно народной национальной культуры как некоей отдельной единицы-макросистемы с рядом отличительных признаков. наконец, понятие языковой семьи и культурной группы (семьи).
Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциппин
.17
праязыка и пракультуры, языкового союза и культурного союза, языко вого и культурного субстрата, адстрата, суперстрата и т. д.
Понятия культурного субстрата и аналогичных явлений тесно связаны с культурной ареалогией, которая подобно лингвистической ареало гии не может развиваться и функционировать бед разработанной и иерархически организованной системы культурологических терминов по нятий, таких, как культурная зона, микроареал макроареал, изодокса и изопрагма (линии, разграничивающие элементы духовной и матери альной культуры разного содержания или формы, но одного порядка), соответствующие тем же терминам и термину' изоглосса в лингвогеогра-фии. Понятие территориального культурного диалекта мало использовалось в славянской этнографии и тем более культурологии, в то время как оно очень существенно для диахронических исследований и является ключевым в опытах реконструкции праславянской .духовной культуры и лексического фонда праславянского языка.
В этих опытах значительная роль отводится методу ретроспекции, который в 1916 г. Д. К. Зелениным был остроумно назван способом «пятиться назад в глубь истории... от нового к старому, исчезнувшему» [Зеленин 1916, с. 16]. Метод ретроспекции может строиться на постепенной смене картины современного диалектного ландшафта рядом предполагаемых и восстанавливаемых предшествующих ландшафтов — языковых (лексических, топонимических, гидронимических и др.) и культурно-этнических (в сфере духовной и материальной культуры, фольклорных и др.). Принцип изучения смены ландшафтов характерен и для археологии, для которой к тому же понятие ареала всегда остает ся фундаментальным, как и задача определения последовательной смены культур в конкретных зонах. И в лингвистике, и в культурологии, и в археологии существен момент непрерывности, континуальности подобной смены. Не вдаваясь в дальнейшие подробности особой, весьма значительной задачи восстановления «исходного состояния» элементов систем языка и культуры, отметим лишь, что проблема реконструкции в языкознании, этнографии, культурологии и даже археологии имеет много общих сторон и может решаться сходными, в ряде случаев едиными методами. Выработка общих методов и единого подхода к исследованиям и материалу является основной научной задачей этнолингвистики и смежных наук, в то время как выработку единой терминологии в рамках возможного следует воспринимать как производную от нее. Видимо, унификацией терминологии ради самой терминологии можно было бы и пренебречь.
.48 I. Общие вопросы этнолингвистики
Связь народного менталитета и языка как будто при знается всеми; во многих случаях она даже подчеркивается, но вместе с тем мало изучается из-за разного понимания слова «менталитет» и сущ ногти этого явления. К нему нередко обращаются этимологи, без него не обходятся фольклористы, его описывают этнографы и этнопсихологи Но подобно тому, как определение этноса вообще и конкретного этноса в особенности не мпжет быть дано по одному параметру, а требует уче та всех имеющихся параметров, во многом неравноценных и неравно сильных, определение менталитета и особенно его основных компонен тов невозможно без объединенньгх и одновременных усилий разных на ук — фольклористики, этнографии (этнопсихологии), языкознания, со циологии. В этом случае вновь, как и в предшествующих, важно не объединение разных наук, их временный союз или временное обращение к их предмету и к некоторым результатам их развития, а создание ин тердисцинлинарной отрасли науки, самостоятельной по своим задачам, методу и объекту’ исследования. Это положение относится ко всей этно лингвистике в целом.
Несколько отличная ситуация наблюдается в случае соотношения языка и мифологии. Выше уже отмечалось, что еще в XIX в. мифология как наука считалась самостоятельной дисциплиной, которая развивалась в том же направлении и теми же методами, что и сравни тельно-историческое индоевропейское* языкознание. Затем ее материал привлек внимание* литерату]юведов и фольклориетов. рассматривающих мифы пе»д своим углом зрения, в то время как языковеды-этимологи стремились преимущественно лингвистическим путем устанавливать древние или исходные мифологические системы и их фрагменты. В эпо ху сознательной и во многих отношениях правомерной дифференциации наук мифология как наука была расчленена, потеряв свою внутреннюю цельность. Во многом этому способствовало и религиоведение, претепдо вавшее на область мифологии. Тем не менее на этапе нового синтеза наук, при распределении сфер, которые- должны занять отдельные дне циплины, мифология как наука не может не получить по нраву ей при надлежащее отдельное место. Еще в начале нашего столетия Ф. де Сое сюр писал о «науке, изучающей жизнь знаков в рамках жизни общест ва», о семиологии, которая «имеет право на существование и ес место определено заранее». Он видел в пределах семиотики (семиологии) четко очерченный статус языкознания и полагал, что таким обра зом «впервые удается найти лингвистике место среди наук» [Соссюр 1977, с. 55].
Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин
39
Взаимно пограничные сферы языкознания и мифологии принадлежат этнолингвистике однако последняя сможет успешно изучать отношение язык : мифология только тогда, когда за мифологией будет признан статус отдельной науки. Все три науки — культурология, народная «психология» и мифология — пользуются целым рядом методов и исходных положений, которые являются общими, принадлежат семиотике, но присущи также и языкознанию. Говорить об общих семиотических законах не ново и даже тривиально. Обилие семиотических работ на разные темы свидетельствует об этом. Однако возникает вопрос, почему выдвинутая Ф. де Соссюром три четверти века тому назад программа так медленно реализуется. Среди ряда объяснений одно нам кажется немаловажным и наиболее веро-ятньгм. Семиотика (семиология) при всей ее популярности и развитости все еще мало и редко выходит за пределы широкого и в то же время довольно замкнутого круга общих проблем и слабо проникает в отдельные и конкретные дисциплины, вычленяющиеся по этническому и языковому признаку. Семиотика, говоря образно, должна развиваться не только «сверху», но и «снизу». Такому внедрению семиотики в конкретные научные исследования, в славистику, русистику, еербистику, поло-нистику и т. д., в сферы лингвистической и этнологической географии, лексикографии и грамматики текста в широком смысле этих слов во многом должна способствовать этнолингвистика.
Этнолингвистика как дисциплина переживает свое второе рождение и еще или снова определяет свои границы, задачи, свой предмет и материал. Возможно, со временем языковеды придут к более четкому или иному ее пониманию. Безусловно, однако, что и сейчас, в наши дни, допустимо и даже плодотворно различное восприятие этнолингвистики. Предложим еще два определения. Этнолингвистика может пониматься как раздел лингвистики, объектом которого является язык в сто отношении к культуре народа. Она изучает отражения в языке культурных, народно-психологических и мифологических представлений и «переживаний». Исследования такого характера щвпо проводила этимология, привлекающая широкий этнокультурный контекст. В этом русле велись и многочисленные работы А. А. Потебни, см.: [Толстой 1981]. Все они оставались в четких рамках языкознания. По этнолингвистика также может пониматься как комплексная дисциплина, предметом изучения которой является «план содержания* культуры, народной психологии и Мифологии независимо от средств и способов их формального воплощения (слово, предмет, обряд, изображение и т. п.). Такое изучение, од Нако, в наше время может вестись преимущественно или исключительно
40
I. Общие вопросы этнолингвистики
лингвистическими методами, что в значительной мере оправдывает наличие второго компонента слова «этнолингвистика». В этом случае этнолинг вистика — один из ярких примеров «экспансии» и проникновения липгвис тической методологии в соседние дисциплины, в данном случае в этногра фию, — экспансии, о которой в последнее время много говорят и пишут и которая уже приносит свои благодатные плоды. В то же время этнолинг вистика не конкурирует с лингвистикой и этнографией, с фольклористикой и культурологией и тем более с социологией, не вытесняет их, а является самостоятельной отраслью знания, комплексной пограничной наукой, стоящей на грани перечисленных наук, опирающейся во многом на их источники и достижения и пользующейся, как и многие другие совре менные научные дисциплины, комплексными методами.
Печатается в переработанном автором варианте Первые публикации:
Н. И. Толстой. Некоторые проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики // Известия АН СССР. Серия литературы и языка М., 1982, т. 40, № 5, с. 397 405; О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкозна нии и этнографии. Язык и этнос Л , 1983, с. 181- 190
Проблемы реконструкции древнеславянекой духовной культуры
Проблемы и задачи реконструкции славянской духовной культуры находятся в прямой связи с проблемой этно1енеза славян или являются ее составной частью. Если же эти проблемы расчленять и считать их независимыми или автономными, то надо признать, что решать вопрос этногенеза славян без учета фактов и показателей славянской духовной культуры в наше время уже невозможно, так же как нельзя реконструировать эту куль туру без достаточно четкого представления о праславянском историческом (территория, материальная культура, социальная структура, хозяйствен ная деятельность и т. п.) и языковом прошлом. Естественно, что сам ком илекс проблем или даже отдельная наука об этногенезе славян («славянское этногенезоведение») многоаспектны. Она не ограничивается ни определением‘славянской прародины, ни восстановлением системы и элементов праславянского языка или праславянской материальной культуры, которые служат исходной моделью при установлении более поздних модификаций и форм развития языка и культуры, ни отношением последних к предшествующим дославянским или к родственным неславянским прародинам, языкам и структурам (типам, формам и т. п.) материалы ной и духовной культуры. Она должна рассматривать -mi проблемы в целом и фактически решать не только и не столько основной вопрос происхождения славян (их этногенеза и глоттогенеза), сколько вопрос праславянского существования, вопрос славянских древностей — всей жизни древних славян, интересовавший во всей своей полноте еще Пав ла Иосифа Шафарика и Любора Нидерле.
Две научные дисциплины достигли в исследовании славянского этногенеза и глоттогенеза весьма значительных результатов. Это археология и языкознание. На выработанных ими показателях и на соотношении этих показателей строятся основные этногенетические выводы. Нет сом
42
I. Общие вопросы этнолингвистики
нения, что эти науки не исчерпали своих возможностей в интересующей пас схеме исследований. Но почти не использованы возможности и двух других дисциплин — этнографии и фольклористики. Известный русский археолог В. В. Седов нс так давно писал, что, «к сожалению, этноц>а фы и фольклористы до сих пор сделали очень немного для разрешения вопросов этногенеза славян. Между тем и материалы этнографии, и фольклористика могут оказать существенную помощь в изучении ранних этапов славянской истории. И этнография, и фольклористика являются составной частью комплекса наук, изучающих проблему происхождения славян Однако огромнейшие данные, которыми располагают эти науки, данные, собранные на протяжении двух последних столетий, научно не обработаны и не систематизированы» (Седов 1979, с. 381. К этому еле .дует добавить, что нередко имеющихся данных не хватает и требуется во многих случаях новый фрокгальный и систематичный сбор материа ла, как это делают археологи и лингвисты.
Включение этнографии и ((юльклора в крут этногенетических иссле дований и исследований по славянскому прасостоянию, т. е. древнейшей жизни славян, их быта, верований, обрядов, социальных институтов и отношений, целесообразно и плодотворно не только потому, что этногра фия и фольклор тесно свя;»аны с археологией (которую можно считать в каком-то отношении «доисторической» этнографией) и филологией и лингвистикой, без которой невозможно рассмотрение формальной стороны фольклора, не только потому, что эти дисциплины введут в научный оборот новый материал и дадут новые открытия, но и потому, что при реконструкции древнейшей славянской ,^’ховпой культуры этнографы и ((юльклориеты обратятся в принципе к таким же методам, какими пользуются археологи и языковеды. Единство методов обогащает методологию как таковую и способствует цельности, полноте и научной убеди тельиоети конечных результатов.
Из целого ряда общих методов укажем прежде всего на метод ретрос лекции. О нем применительно к этногенетическим разысканиям археологов весьма четко высказался тот же В. В. Седов. «Непременным условием для заключения о единстве этноса, — писал он. — должна быть гепетиче екая преемственность при смене одной археологической культуры другой. Если полной преемственности не обнаруживается, то неизбежен вывод о смснс одного этноса другим или о наслоении одной этноязыковой единицы па другую. Поэтому ведущая роль в этногенетических построениях архео логов принадлежит ретроспективному методу исследования, заключающе муся в поэтапном прослеживании истоков основных элементов археологи
Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры 4-i
ческих культур. От культур достоверно славянских, относящихся к ранне му средневековью, надлежит продвигаться в глубь столетий к тем древностям, которые генетически связаны с раннесредневековыми, а от них — еще на ступень глубже и т. д.» [Седов 1979, с. 38].
При лингвистических, т. е. глоттогенетических, разысканиях гарантия единства традиции обеспечивается единством языка, представленного традицией. То же положение наблюдается и в случае с фольклорно-мифологическими или обрядовыми текстами, где язык выступает как самый устойчивый и надежный показатель этнической принадлежности и целостности традиции. Язык и связанная с ним «этноединица», как видно из вышеизложенного высказывания В. В. Седова, играет во многих случаях едва ли не определяющую роль и в археологических этногенетических построениях. Язык и в современных условиях является наиболее ярким признаком или показателем этноса; однако этот показатель не следует абсолютизировать и не следует снимать со счетов фактор заимствования как культурного и социального характера, так и характера чисто лингвистического. Что же касается ретроспективного метода, то его в условиях, в которых находятся слависты — лингвисты, этнографы и фольклористы, фактически нельзя избежать. Слависты лишены языковых памятников до X в., фольклорных до XV в., а этнографических, за редким исключением, до того же времени. Притом лингвистические памятники по отдельным языкам восходят не к X—XI вв., а к значительно более позднему времени, что же касается славянских памятников духовной культуры этнографического и фольклорного характера XV—XVIII вв., то они нем ногочисленны, отрывочны. Совершенно другое положение с древнекитайской духовной культурой или с дальнеродственной славянской — древнеиндийской или древнеиранской, хронологическая глубина пись менных (фиксированных) традиций которых несравненно большая. Если же брать относительно узкий отрезок духовной культуры, скажем народное эпическое творчество — народный эпос, то и в этом случае фиксация французского, германского и скандинавского эпосов оказывается значительно старше фиксации славянского, хотя и позже индийского и иранского.
И хотя хорошо известно, что время письменной фиксации эпоса не определяет общего возраста эпоса и эпос, засвидетельствованный поздно, может быть весьма древним по происхождению, все же относительно рано записанные и вошедшие в книжность эпические тексты имеют преимущество перед поздно зафиксированными в том отношении, что они дают исследователю возможность наблюдать не гипотетическую эво-
44
I. Общие вопросы этнолингвистики
люцмю и не гипотетический тот или иной этап развития, а реальный Г>го в особенности существенно тогда, когда речь идет о реконструкции на уровне текста, а не на уровне поэтических средств, глубинной семан тики, сюжета, мотивов или общей структуры. Изложенная ситуация побуждает слависта исследователя пользоваться в этногенетических штуди ях помимо метода ретроспекции и методами классического типологиче скоп) анализа, принимая его в качестве первою или предварительного этапа своих штудий. Классификационная потенция и классификационная сущность типологического подхода и особенно такого вида типологического анализа, который сознательно направлен на диахроническое прочтение и толкование фактов, способны привести к существенным ре зультатам. Результаты эти в свою очередь могут быть использованы в качестве исходного материала для последующих операций — для внут ренней реконструкции славянской духовной культуры. Внутренняя ре конструкция (реконструкция внутри одной макросистемы или «культур ной семьи», в данном случае — славянской), таким образом, может быть вторым, но не последним этапом компаративно-типологического исследования. Методика внутренней реконструкции проверена на языковом материале (в том числе и славянском) и в принципе существенно не отличается от той же методики, примененной к духовной культуре. По в том же языкознании издавна известен метод внешней реконструк ции, требующий привлечения родственного материала (для славян — балтийского, германского, иранского и т. д.) и зарекомендовавший себя как надежный способ воссоздания праязыка и «доисторической» (до-нисьменной) языковой эволюции. Только после этого, третьего, этапа допустимо обращение к материалу неродственных и разносиетсмных языков и культур для типологического анализа широкого масштаба (в отличие от первого этапа, допускающего типологическое рассмотрение исключительно в пределах генетически близких, близкородственных языков и культур). 'Гакое широкомасштабное рассмотрение интересно и ценно само по себе, ио в сфере генетических построений и реконструк-ции оно может дать материал лишь для коррекции этих построений и для выявления так называемых языковых, ссмиологических и культурных универсалий. Ставить неродственные типологические показатели и черты наравне с генетически родственными показателями и чертами, нс делать между ними различия в операциях при реконструкции праязыка или прасостояния неправомерно и недопустимо. Лингвисты обычно такой ошибки не допускают, но в этнографической и фольклористической среде она бывает нередко и притом до сих пор.
Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры
45
Таков краткий перечень используемых методов и общих сторон в изуче нии праславянского языка, материальной и духовной культуры, методов, известных языкознанию, этнографии, фольклористике и археологии. Уместно остановиться на различиях, относящихся не столько к методологии, сколько к рассматриваемому материалу и предмету исследования.
Нам уже приходилось отмечать хронологическое несоответствие собранного, научно зафиксированного и классифицированного материала археологами, с одной стороны, и этнографами, фольклористами и лингвистами—с другой [Толстой 1979, с. 17—26]. Археолог-славист, чей труд полностью базируется на полевых изысканиях, имея дело преимущественно с памятниками материальной культуры, не реконструирует добытый им материал. В его руках оказываются осколки, отдельные фрагменты или «кирпичи», которые ему не нужно восстанавливать, а нужно датировать и атрибутировать и на их основании воссоздавать культуру, тип культуры, затем временную последовательность культур и их этническую привязанность. Последняя операция крайне важна и отнюдь не проста, так как письменность в славянской среде возникла относительно поздно, и такие культуры, как зарубинецкая, пшеворская и др., в языковом отношении немы. При всей сложности этнической, типологической и даже географической атрибуции культур, сложности, которая усугубляется с продвижением исследований в глубь веков, формальные детали («кирпичи») материальной, а отчасти и духовной культуры (погребальный обряд, например) археологу даны, и их {(сконструировать нет необходимости. Ситуация, в которой находятся этнограф, фольклорист и лингвист, совершенно иная. Представители этих наук в общем лишены возможности «показать» элементы древней славянской духовной культуры и имеют в своем распоряжении почти исключительно современный (XIX—XX вв.) материал. Преимущество современного этнографического, лингвистического и фольклорного материала в том, что он может быть представлен во всей полноте и в системе. Преимущество же археологических фактов в том, что они древни, что они различны по хронологической глубине и что они подлинны. Но можно ли устанавливать связь между разными свидетельствами и показателями, если между ними столь значительная хронологическая дистанция? И что нужно восстанавливать археологу, а что лингвисту' и фольклористу' и этнографу? Чтобы ответить па эти вопросы, обратим еще раз внимание на характер материала археологического и лингво-фольклорно-этнографического.
Археологический материал и прежде всего предметы материальной культуры сменяются с течением времени: одна культура возникает и за
4I> I. Общие вопросы этнолингвистики
нимает место другой, вытесняет ее даже в тех с.гучаях, когда можно наблюдать факт преемственности, т. е. некоего перерастания одной культуры в другую — последующую. Иное положение наблюдается в сфере духовной культуры. Элементы новой культуры не сметают и не сменяют элементов старой, а проникают в нее, уживаются с ней. всту пают в различного вида соотношения (синонимии, дополнительного распределения, вариантности и диалектности в географическом плане), тем самым усложняя прежнюю систему, видоизменяя ее в значительной или меньшей степени, но, как правило, не разрушая ее. Принципу сменяемости в материальной культуре противостоиг принцип наслоения в культуре духовной, хотя ни один из них при их рассмотрении не должен быть абсолютизирован. Что касается языка, то в нем его система, буду чи жесткой и сложной, оказывает унифицирующее давление на все языковые уровни, не допуская значительной исторической многослойности, подобной многослойности духовной культуры. В этом отношении «многослойным» остается только лексический слой языка.
В языке постоянно ощущается жесткое давление системы, которое не допускает сосуществования систем, а сохраняет лишь отдельные фрагменты или элементы прежних систем в составе новых. Ио другой существенной особенностью языков и диалектов, не скованных литературной нормой, является неравномерность развития отдельных уровней системы языка и неравномерность развития разных элементов отдельного уровня. Эго позволяет при достаточном диалектном дроблении языка фиксировать в его разных говорах и диалектных зонах разные этапы развития того или иного явления, фрагмента или блока системы. Ины ми словами, это дает возможность наблюдать развернутую в простран стве диахронию'. Так образуются и сохраняются реликты, или окаменелости, языка разной хронологической глубины, которые могут быть выстроены по последовательному или эволюционному ранжиру. ->ти дна лектные данные, или данные живых языков, обыкновенно сопоставляются с языковыми фактами, извлеченными из памятников (или наоборот). Вероятно, именно по этой причине акад, А. А. Шахматов в своем «Введении в курс истории русского языка» в 1914/15 учебном году в са
* В 1968 г. это положение было сформулировано следующим образом: «Нынешний славянский диалектный ландшафт в отношении многих явлений представляет собой нечто вроде развернутой в пространстве диахронии. в которой временная последовательность развития систем или их фрагментов манифестируется в территориальной проекции* [Толстой 1968, с. 342].
Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры
47
мом начале подчеркивал, что «история языка основывается главным об разом на данных современного живого языка в его говорах, ибо эти данные, если они точно описаны, могут с.гужить наиболее надежными отправными точками для исследования; сравнительное изучение современных говоров ведет к восстановлению общего для этих говоров язы кового основания и дает, таким образом, прочный и надежный материал для заключений о составе языка в более отдаленные эпохи и о про цессах, по которым шло его изменение». «Но, — замечает несколько да лее А. Л. Шахматов, — история языка получает яркое освещение и со стороны письменных памятников* (Шахматов 1916. с. 3].
Славянская духовная культура, будучи народной, а не элитарной, нс испытывала в отличие от языка сильного давления системы, но подобно пра славянскому языку имела, как показывает материал, довольно сильное диалектное дробление. Диалектное дробление духовной культуры в еще большей мере отмечается для современного состояния (XIX—XX вв.), так же как наблюдается характерная и для языка неравномерность раз вития отдельных явлений и форм духовной культуры в ее диалектах. Крайняя бедность, а для некоторых слоев и форм древнеславянской на родной духовной культуры и полное отсутствие памятников делают нынешние славянские народные культурные диалекты единственным источником для внутренней реконструкции древнейшего состояния славян ской духовной культуры — верований, обрядов, символов, мифологических персонажей, фольклорных мотивов и т п. Естественно, что обильный материал дает и внешняя реконструкция, т. е. сравнение с элементами, формами и системами родственных народных духовных культур — балтийской, германской, иранской и др.
В связи с тем что славянские культурные диалекты могут служить во многих случаях едва ли не единственным источником для внутренней реконструкции, весьма актуальной становится проблема создания науч ной диалектологии славянской духовной культуры со всеми выте кающими из этого задачами — выделения классификационных диффе ренцирующих признаков, характеризующих диалектные различия, кар тографирования диалектных явлений, применения ареалогического под хода к собиранию и интерпретации диалектных фактов.
Настойчивые призывы создать диалектологию славянской .духовной культуры, в том числе и диалектологию фольклора, могут вызвать недоумение и даже возражения на том основании, что вся народная духов пая культура, в том числе и фольклор, диалектна, что она существует только в устной форме и связана почти всецело с крестьянским социаль-
48
I. Общие вопросы этнолингвистики
пым слоем. Такие возражения были бы справедливы, и с ними в прин ципе нельзя не согласиться, но парадоксальность всей сложившейся ситуации заключается в том, что длительное время к народной культуре в целом и к фольклору в особенности применялся перенесенный из элитарной культуры (письменной, изобразительной, музыкальной) крите рий художественности, который допустим в определенных условиях, при заранее заданном, нередко прикладном подходе, но который в то же время, особенно при его абсолютизации, оставляет в тени или исключа ет вовсе пиалектологический, ареалогический и даже структурно-типоло гический подход к фольклору и к народной духовной культуре как к целому2. К фольклору следует подходить как к определенной системе мировоззрения и народных представлений, системе жанров и изобразительных средств, системе ритуальных функций и текстов, имеющих определенное содержание, установившееся традицией.
До сих пор речь шла о языковом диалекте, о диалекте народной ду ховной культуры как о двух разньгх явлениях и понятиях главным обра зом для того, чтобы обосновать и показать необходимость применения в исследованиях фольклористических и народно-культурологических мето дов и принципов изучения диалектов, принятых в лингвистике.
Однако можно с полным основанием говорить о том, что само понятие и явление «диалект» не следует воспринимать как чисто лингвиста чсское, основанное исключительно на языковой характеристике. Это яв ление и понятие даже не этнолингвистическое, а лингвокультурологиче ское, лингвоэтнографиче.ское, и именно как таковое оно существовало и в народной практике, и в научных представлениях таких ученых, как А. А. Шахматов, Д. К. Зеленин или К. Мошинский и X. Вакарслский. Показатели, выделяющие диалект, — языковые, этнографические и фольклорные — нередко выступают рука об руку, создавая разностороннюю диалектную характеристику. Иное дело, что не все показатели при их сопоставлении, прежде всего при их картографировании дадут одинаковую ареальную картину, создадут общие пучки изоглосс. Различный ареальный рисунок, различную изоглоссную направленность могут про демонстрировать и изоглоссы разных уровней языка — фонетического (изофоны), лексического (изолексы) и т п , равно как и изоглоссы од ного уровня, например лексического, что хорошо известно языковедам, занимающимся лингвогеографией.
2 В этом отношении показательна дискуссия в секции фольклора на IX Международ пом съезде славистов в Киеве (1983), посвященная проблеме вариантов.
Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры 4Я
Картографирование и вообще ареальное изучение отдельных фактов и элементов и блоков народной культуры могут иметь различные задачи, разную научную направленность — либо на предмет исследования, либо на территорию исследования. В первом случае, как правило, выбирается какой либо фрагмент народной культуры, определяется его наличие или отсутствие в отдельных зонах, его территориальные разновидности в отношении формы, содержания или функции. Так может изучаться какой нибудь обряд, компонент обряда, народное верование, какой-либо сюжет или мотив в составе фольклорного текста определенного жанра, Tima и даже содержания (см. Материалы к Полесскому этнолингвистическому атласу |СБФ 1986J). Анализ характера территориальных вариантов, их состава и структуры, выявление стабильных показателей и признаков, показателей, варьирующихся или просто отсутствующих в некоторых зонах, позволяет сделать некоторые выводы не только структурного плана, касающиеся соотношения признаков и их компонентов но и плана генетического Такого рода выводы во многих случаях рас крывают генезис объекта. обеснечивак»т установление инвариантной формы (модели) зафиксированных вариантов, раскрывают путь к реконструкции исходной праформы.
Во втором с.гучае интересы исследователей сосредоточиваются на ареальной характеристике самой территории, на всей совокупности яв лений и фактов народной культуры, обнаруживаемых в отдельных крупных и средних ареалах или зонах, на диалектном членении этих терри торий, их соотнесенности друг с друтом и их групповой интерпретации в историческом, этногенетическом и глоттогенетическом плане. Одновре менное рассмотрение различных изолиний — изоглосс (линий, выделяю щих языковые показатели), изопрагм (линий, относящихся к показателям материальной культуры), изодокс (линий, относящихся к показателям духовной культуры), определение областей наибольшего их сгущения и пучков таких линий в отдельных ареалах славянского мира — яр кое свидетельство об исторической судьбе и исторических связях этих ареалов, об исторической преемственности или размытости и смешан ности народной культуры, языка и этноса, населяющего исследуемую территорию. При этом сами изоглоссы, изодоксы и нзопрагмы должны быть оценены и сопоставлены по своей «мощности», исторической показательности, по своей значимости и ценности (valeur) для этногенетических исследований и для реконструкции духовной культуры и языка, что само по себе представляет особую и непросто разрешимую проблему [Толстые 1984, с. 75, 7G].
50
I. Общие вопросы этнолингвистики
В связи с вниманием к отдельным территориям возникает вопрос об ар хаических и неархаичееких зонах. Архаическая зона — не просто зона хорошей сохранности, хотя без хорошей сохранности архаика не может быть установлена и воспринята как нечто цельное. Наличие определенной устой чивой системы духовной культуры традиционного типа, условий функци онировния этой культуры и ряда черт, элементов и атрибутов, свойствен ных другим, относительно изолированным зонам того же типа в пределах современной Славии, характеризует архаическую зону. Славянские архаические зоны могут быть сопоставлены с архаическими зонами неславян ских родственных этносов и языков, и такое сопоставление и сравнение весьма продуктивно во многих отношениях, в том числе и для установления степени архаичности отдельных показателей ареала и всей зоны в целом. В пределах самой Славии цент]) не столь четко противопоставлен периферии по принципу: инновации (центр) — архаика (периферия), как это наблю дается в современной Романии, однако такое утверждение может быть окончательно принято лишь после ряда специальных разысканий [Тол стой 19776; Popowska-Taborska 1986 J|.
Затруднительно также без специальных исследований пе]м’числить сейчас славянские архаические зоны, к которым давно, еще со времен К. Мошинского, относили Полесье («архиархаическое», по определению знаменитого польского этнографа), к которым, вероятно, следует отнести Русский Север, западную часть Болгарии, центральную и северо-вос точную Сербию, Кашубию, Карпаты и некоторые другие зоны. Карпаты в большей мере, чем иные перечисленные регионы, оказались ареной языковой и культурной интерференции и местом, куда проникали раз породные и многочисленные инновации. Аналогичную ситуацию отмечал Г. Шухардт для словенской этноязыковой зоны. Тем не менее и Карпаты, и Словения остаются хранителями многочисленных архаических черт. Обращаясь к архаическим и неархаическим славянским зонам, зонам сильной и слабой славяно-неславянской или внутриславянской интерференции, ко всему славянскому этнокультурному ландшафту в целом. нужно в целях сравнительного анализа, историке генетических разысканий и реконструкций и чисто диалектологических языковых и культурологических исследований вычленять зоны, границы которых бу дут, как правило, меньшими, чем границы современных славянских языков и этносов. Кроме того, иногда, как в случае Полесья, эти зоны
3 Там же литература вопроса.
Проблемы реконструкции древиеславянекой духовной культуры
51
могут охватывать современные разноэтнические и разноязыковые террито рии. К тому же, если продолжать паши рассуждения на полесском материале, само Полесье должно быть расчленено но меньшей мерс на три части — на западное, среднее и восточное (если провести меридиональные линии приблизительно через Пинск и Мозырь). Устанавливая некоторые линг вистичеекие лексические соответствия или соответствия этнографическо-п> либо народно культурологического порядка, например на белорусском и болгарском материале, для операций по реконструкции в общеславянском плане существенно не только то, что определенный факт или явление зафиксированы в Болгарии и Белоруссии, а более всего то, в какой конкретной болгарской (родопскон. фракийской, балканской и т. и.) и белорусской (восточнонолеескон, могилевской, витебской и т. п.) зоне они зафиксированы, естественно, если данное явление не охватывает всей болгарской и белорусской территорий. Нельзя не учитывать, что границы современных славянских языков, наречий, народов и этнических групп относительно позднего происхождения. Внимание к локаль ным явлениям позволит увидеть предшествующие, более ранние этноязыковые и культурные слои на карте современной Славии, подобно тому как в старинных настенных росписях сквозь верхний слой нередко проступают предшествующие нижние слои.
К сожалению, и проблема более Д|юбиого членения всей еовртмс иной Славии, чем по отдельным языкам или народам, ждет своего обсуждения и решения |Терповекая 1975). Можно предположить, что членение на зоны более крупные и зоны средней дробности будет иметь несколько вариантов в зависимости от того, какая сфера народной культуры будет взята в качестве- показателя, на основе- которого будет производиться размежевание зон и их географическая привязка. Так, к примеру, тины жилищ у славян могут распределяться по ареалам в зависимости от географической среды, имеющегося строительного материала и культурной традиции той или иной зоны | Freiielenreich 1958]. Если взять другой весьма архаический показатель славянской материальной культуры — типы примитивного пахотного орудия (рала) и посмотреть географическое распространение этих типов [Brataiiic 1939; Bratanie 1952; Вака релски 1929], они покажут иное расположение зон, дадут иной рисунок изопрагм, чем изопрагмы типов построек. ^Еги факты хорошо известны, их перечень можно было бы продолжить, а число примеров значительно умножить, подобных фактов немало. Но отношение к ним у ряда ученых двоякое. Одни полагают, что нагромождение изопрагм на карте современной Славии еще больше затемняет картину прежнего диалект
52
I. Общие вопросы этнолингвистики
кого деления славянского этноса и усложняет и затрудняет возможности реконструкции славянского прасуществования, праславянской материальной культуры во всех ее разновидностях, другие же считают, что именно разнообразие показателей, их значительное число и содержаща яся в них богатая информация — залог того, что реконструкция не окажется чрезмерно упрощенной и тем самым искаженной. Нужно заметить при этом, что отдельные показатели материальной культуры значи тельно зависят от окружающей географической среды, а некоторые за висят от нее в меныней мере. Это достаточно очевидно и по двум приве денным примерам; типы крестьянских домов и типы пахотных орудий. Первые связаны с географической средой, климатическими условиями и имеющимся строительным материалом в гораздо большей мере, чем вто рые. Но и в типах крестьянских построек могут быть прослежены опре-деленные и разные народные традиции, независимые от внешних условий, т. е. могут наблюдаться различия при равных внешних условиях. Такие различия существенны. Что же касается духовной культуры, в особенности той ее части, которая никак не причастна к культуре материальной (верования, обряды, обычаи, фольклор хореография, народная музыка и т. п ), то она в принципе свободна от внешних условий, достаточно автономна, и потому ее местные различия и варианты ока зываются более яркими и надежными показателями отдельных диалект пых типов, потому и опору на эти показатели при реконструкции духов ной культуры можно считать достаточно надежной.
Рассматривая проблемы материальной и духовной культуры в их взаимоотношении, следует остановиться еще на одном вопросе, на вопросе заимствований. Вопрос этот немаловажный, ибо при операциях при реконструкции древней славянской духовной культуры следует либо игнорировать заимствования (главным образом поздние и новейшие), либо считаться с ними, принимая их как часть (общую или диалектную) нра славянской духовной культуры (главным образом ранние заимствования). В прямой связи с механизмом заимствования находится такая особенность древнеславянской духовной культуры, как проницаемость и непроницаемость различных ее сторон и фрагментов. Понимая, что во прос проницаемости и непроницаемости отдельных сфер и явлений духовной культуры достаточно сложен и требует, безусловно, отдельного и подробного изучения, ограничимся лишь беглым рассмотрением этого явления на примере фольклора. Фольклор, будучи неотъемлемой частью народной культуры, вместе с тем обладает своей спецификой и автолом ностью, если не ставить така равенства между ним и народной духов
Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры
53
ной культурой в целом [Толстой 1982а — наст, изд., с. 27- 40]. Специфика фольклора заключается в его содержательном плане, в его системе жанров и их функционировании, в его связях с «ненародной» элитарной культурой и литературой. Если же обратить внимание на фольклорные жанры в плане их устойчивости, национального своеобразия и особенно их открытости и закрытости, то общие итоги будут неоднородными. Некоторые жанры — анекдот, сказка, легенда, духовный стих, пословица — можно будет определить как восприимчивые по отношению к чужому фольклорному и нефольклорному фонду, некоторые же — обрядовая календарная и семейная поэзия, эпическая поэзия (былины, думы, юнацкие песни), наоборот, как невосприимчивые, закрытые, внутренне и внешне стабильные Так, еще по наблюдениям над запасом сюжетов русских сказок Ю. М. Соколова, «одна треть всех типов международного каталога является для русского материала и западноевропейского общей (317 типов, с вариациями 327), одна треть сюжетов (302 типа, с вариациями 338) в русском материале совсем не встречалась, зато одна треп, сюжетов (296 типов, с вариациями 356) является специфической особенностью русского сказочного репертуара и совсем неизвестна Западной Европе» [Соколов 1941, с. 304]. Естественно, что большой про цент общности русского сказочного фонда с мировым и европейским не может быть отнесен всецело за счет обоюдных заимствований, однако наблюдения Т. Бенфея и ряда других ученых, принадлежащих к школе заимствования или не связанных с ней. показывают и большую подвижность, и проницаемость в иноязычную и иноэтническую среду сказочных сюжетов и мотивов, и сравнительную легкость их адаптации в новой среде. Совершенно иное положение обнаруживается с теми жанрами, которые выше обозначены как устойчивые и закрытые. Так, былина из-за своего поэтического и стихотворного строя прежде всего обладает свойством непереводимости и может быть воспринята в иноязычной сре де лишь в форме повествования, сказки (в такой форме, впрочем, кое-где она была известна и в русскоязычных зонах). Что же касается обря дового песенного фольклора, то его устойчивость, непереводимость и закрытость объясняются и поэтической и стихотворной структурой, а так же тесной связью с обрядом. Заимствование может произойти только с обрядом и с языком, что в очень редких случаях наблюдается в ареалах культурных союзов, о чем речь пойдет несколько ниже. Неудачи некоторых фольклористических школ — исторической, заимствования и даже мифологической — заключались отчасти в том. что отдельные и, как правило, результативные и серьезные наблюдения и выводы по отделы
54
I. Общие вопросы этнолингвистики
ному, чаще всего одному, жанру распространялись на все жанры, на весь фольклор в целом. Историческая школа интересовалась прежде всего былинами и историческими песнями, школа заимствования — сказкой, «мифологи» — загадками, обрядовыми текстами, верованиями и отчасти сказкой.
Различное «поведение» и разный характер жанров и жанровых текстов, их различная сакральность, обрядовость, мифологичпоеть, функциональная привязанность и направленность, вся система жанров, в которой под определенным (заданным) углом зрения можно установить центр (или центры) и периферию, — все это, вместе взятое, дает большие возможности внутренней реконструкции особого типа — внугри-фольклорной, внутрисистемной. Можно наблюдать за отдельными символами, мотивами, формулами и даже поэтическими средствами не в пределах одного жанра, а в разных жанрах и на этом основании производить операции реконструкции, близкие к тем, которые производятся при внешней и внутренней реконструкции типа изложенного в начале этой статьи. Для реконструкции и изучения многих верований, мифологических и сакральных представлений и действий фольклор в узком или конкретном смысле этого слова (словесное народное творчество) может служить лишь как вторичный источник, так как первичным источником должны быть сами верования и мифологические, сакральные представления, содержащиеся, как правило, не в «художественных» текстах традиционных жанров, а в различных предписаниях, запретах, предсказаниях и иных регулирующих религиозно-мифологическое поведение непоэтических текстах. Различные жанры народной устной словесности отражают эту систему мировосприятия и мироощущения, эти непоэтические «тексты» славянского язычества избирательно, частично, постольку поскольку они нужны для построения поэтического текста. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть «Индекс мотивов народных песен балканских славян» Б. Крстича, в котором выделены «Религия», «Чудеса и чудовища», «Верования и суеверия», «Обычаи», занимающие 115 стра ниц текста, т. е. немного менее пятой части всего объема [Krstic 1984, s. 29—143]. Еще в 60-х годах нашего века, откликаясь на доклад В. К. Соколовой об устной народной поэзии как историческом и этнографическом источнике, подготовленный к VI Международному конгрессу антропологов и этнографов в Париже в 1970 г., известный сербский этнограф Миленко Филипович писал: «Мне кажется, что большего усне ха достигали и больше пользы принесли те ученые, которые занимались объяснением отдельных этнографических фактов (элементов) в народ
Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры
55
ных песнях на основании знакомства с этнографической действительностью, чем те, которые пользовались материалом народных песен как источником познания народной жизни [Filipovic 1969b, s. 49]. На эту тему см. также статью Л. Н. Виноградовой [Виноградова 1989].
Фольклорные, мифологические и народно-культурные связи славянского этноса с этносами других народов, в первую очередь с этносами индоевропейскими, а затем и неиндоевропейскими (угро-финскими, тюркскими и др.), заимствования у соседних этносов, наконец, генетически общие истоки и общая традиция вкупе с типологически сходными параллелями объединяют славянскую народную культуру в целом и по частям с многими родственными и соседствующими духовными культурами и традициями Евразийского континента.
В связи с этим возникает вопрос: можно ли говорить об отдельно взятой, специфической, исторически складывавшейся и сложившейся современной, а также древней реконструируемой славянской культуре? Есть ли какой-нибудь показатель, который бы четко выделил славянскую культуру и притом был бы неизвестен в соседних родственных и неродственных культурах? Если такой отдельный показатель не обнаруживается, если таких изодокс и изопрагм нет, если каждая изодокса и изопрагма так или иначе, в значительной или малой мере захватывает и территорию неславянского мира, то об отдельной славянской духовной культуре и тем более типе славянской народной культуры говорить не приходится. Такого мнения придерживался ряд этнографов, в том числе и известный ученый-славист С. А. Токарев. Однако, как хороню известно из многих славистических лингвистических исследований, языковой (а также этнический, культурный) тип должен опираться не па один или несколько различительных признаков., а на весь комплекс признаков, на все «признаковое пространство», в котором каждый показатель получает свою локализацию. Иное дело, что в отличие от языковедческой славистической науки наука, изучающая славянскую народную духовную (и материальную) культуру, не выявила детально типологически значимые признаки, не определила их сумму и, что особенно важно, их иерархию. Впрочем, выполнение такой работы означало бы типологическую классификацию славянских этнокультурных традиций, которая была бы крайне полезна для последующих исследований генетического характера и реконструкции. Точно так же, как в языкознании, в исследовании славянской духовной культуры не все нужно реконструировать, восстанавливать, домысливать и достраивать что-то. что уже исчезло или изменилось в результате эволюции. Как и в языке, отдельные фор
56
I. Общие вопросы этнолингвистики
мы и значения могли сохраниться сквозь века и остаются неизменными. Простейшим примером являются формы слов женского рода склонения на -а (а долгое) в именительном падеже единственного числа uoda 'вода’, ср. совр. русск. вода, в отличие от форм того же падежа мужского рода ’plodos > *plodb совр. русск. плод, где произошли фонетические изменения. Проще говоря, исследование древнейшего состояния славянской духовной культуры следовало бы начинать с выявления таких неиз менивнпгхея элементов, проводя эту работу наряду с анализом эволюционных процессов в разных сферах духовной культуры (типа лингвистического *plodos > *plodb > плод) и с постепенным обнаружением и отсечением ненародных, привнесенных слоев книжной («элитарной») или иноплеменной, иноземной культуры.
По отношению к народной («традиционной») славянской культуре христианство в двух его основных разновидностях — православия и католицизма4— занимало позиции, аналогичные позиции литературного языка по отношению к диалектам. «Литературная» или книжная (христианская) культура была наднациональна, в каком-то отношении и падэтнична, как был наднационален и надэтничен церковнославянский (древнеславянский) язык для значительной части южных и для всех восточных славян, а для раннего периода христианизации (кирилло-мефодиевская нора) — и для славян западных. Многие ученые еще в XIX в. и в начале XX в. определяли такую «дуалистичность» духовной культуры, напоминающую литературно диалектную дихотомию, как «двоеверие», считая еп» более характерным для народных представлений, чем для представлений вы сших социальных (книжнообразованных) слоев.
Не. углубляясь сейчас в историю этого вопроса и воздерживаясь от изло жения видов и форм подобного «двоеверия» в понимании ряда исследователей, отметим лишь, что, по нашему представлению, применительно к ситуации в средневековых славянских землях и прежде всего на Руси (ситуации, сохранившейся отчасти и в более поздний период) следует говорить, рассматривая положение вещей в генетическом ракурсе, не о двоеверии, а, скорее, о троеверии. Средневековая и «традиционная» .духовная культура у славян состояла из трех генетически различных компонентов: 1) христианства, связанного с церковной догматикой, привнесенного извне из грече ской Византии или латинского Рима, 2) язычества, унаследованного от праславянского периода, исконного для его носителей, и 3) «антихристи
4 Влияние ислама в общеславянском масштабе было не столь значительным и срав нительно поздним. То же можно сказать и о протестантизме.
Проблемы реконструкции древнеславянской, духовной культуры
57
анства» (либо ахристианства), чаще всего опять-таки язычества, но неславянского происхождения, проникшего в славянскую народную среду вместе с христианством или иным (субстратным, интерферентным) путем. Правда, третий компонент выявляется в наше время и проявлялся и бытовал в прошлом не столь рельефно, ярко и устойчиво, как первые два компонента. Почти во всех случаях этот третий компонент сливался с народнославянским языческим компонентом и противопоставлялся или, вернее, коррелировал с «литературным», «книжным» ортодоксально-христианским (с ритуалом и идеологией мира Slavia Orthodoxa или мира Slavia Latina). Это был языческий антицерковный, или внецерков-ный, компонент, проникший на Русь и к другим, в первую очередь южным, славянам вместе с христианством как некий его культурный анти под, как выражение светского, а иногда даже «бесовского» начала, регламентированного, однако, в значительной мере христианско-догматическими представлениями, в частности в отношении времени и места своего проявления. Этот третий компонент народной духовной культуры мог быть разного происхождения, но прежде всего византийского 5 * * В, а также фракийского (или фрако-иллирийского) и т. п.
Проблема третьего элемента требует специального рассмотрения, и сейчас она может быть скорее декларирована, чем поставлена, но все же ее нельзя обойти при рассуждениях о структуре «современной» (XIX и XX вв.) славянской традиционной культуры, которая служит основным и
5 Со времени официального признания христианства в Византии (325) до времени
его официального принятия на Руси (988) прошло шесть с половиной веков (почти та
кое же либо несколько меньшее или большее временное расстояние можно вычислить и для других славян), разделение церквей (1054) произошло вскоре после крещения Руси.
В Византии на Востоке, так же как и на Западе за шесть (пять) веков, прошедших до христианизации славян, выработалось свое «двоеверие» с христианством и антихристианством или ахристиапством (т. е. мирским, противопоставленным христианству мировосприятием, но уживающимся с ним в бытовом, а иногда и в идеологическом плане). Восприятие на Руси и у других славян византийской (или западноевропейской) культуры не было односторонним, исключительно церковным, ибо вместе с христианством усваивались и светские (в том числе и «антихристианские» элементы). Правда, были и периоды, когда в культурных контактах в результате обоюдного стремления полностью превалировало церковное влияние. На Руси и у других славян такое импортное «антихристианство» соприкасалось и сливалось со своим национальным «антихристианством», со своим язычеством и вместе с ним противопоставлялось христианству. Таково в самых общих и потому грубо обобщенных чертах происхождение «троеверия*. которое потом подкреплялось другими «книжными* и ахристианскими веяниями и наслоениями.
58
I. Общие вопросы этнолингвистики
богатейшим источником фактов, необходимых для реконструкции прасла-вянского духовного «существования». В принципе к третьему элементу' можно отнести многие черты скоморошества, некоторые особенности зимней колядной обрядности и карнавального цикла и даже юродства, которое своеобразно преломилось на Руси, став поддиалектом «литературного», ортодоксального слоя культуры. Многие черты и моменты импортированного вместе с христианством язычества вошли в систему славянского язычества, образовав с ним единую, но локально варьирующую структуру. Этому способствовал и тот факт, что господствующие «книжные», церковные ритуально-философские догмы часто представляли славянское и неславянское язычество как несовместимое с христианством (во многом как христианство со знаком «минус»), отказывая ему при этом в универсальности и предоставляя ему в удел сферу инфернальную, «бесовскую» и частично светскую [Толстой 1974 — наст, изд., с. 245—249]. Третий компонент во многом слился со вторым, что позволило, как отмечалось выше, ряду ученых выдвинуть тезис о русском (и славянском) народном христианско-языческом «двоеверии». Такое двоеверие можно наблюдать, если анализировать элементы культуры в «сильных позициях», т. е. в позиции противопоставления двух начал (христианского и языческого). В позициях же нейтрализации язычество и христианство могли смыкаться, не расслаиваться в диалектных условиях, что и вело к хорошо известным в науке фактам замещения образов Перуна, Велеса, Мокоши и др. образами, а во многих случаях и просто именами пророка Ильи, св. Власия (или св. Николы), св. Параскевы-Пятницы, св. Георгия и др. (см. работы А. И. Соболевского, Б. М. Ляпунова, Е. В. Аничкова, А. И. Кирпичникова, В. Н. Топорова. В. В. Иванова, Б. А. Успенского и др.). Эти моменты «нейтрализации» более других затрудняют процесс реконструкции, хотя иногда и позволяют в фольклоризованном облике святых видеть дохристианские черты. Следует еще раз подчеркнуть, что «двоеверие» (или даже «троеверие») выявляется лишь при диахроническом подходе к «традиционной» или архаической народной духовной культуре либо при подходе ортодоксально-теологическом при ответе на вопрос, из каких генетически разнородных пластов состоит или состояла славянская народная духовная культура. При сшгхронпо-структуральном рассмотрении этого явления можно говорить о целостности религиозномифологических народных представлений, о диалектном, народном единоверии, которое было характерно для славян и которое было именно таким потому, что составляющие его диахронически «разнородные» элементы находились в народных верованиях в дополнительном распреде
Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры 59
лении, образуя единую, хотя и подвижную, а в некоторых случаях и несколько противоречивую систему.
Отдельные слои и фрагменты славянской народной культуры по раз ному насыщены элементами христианства (первый компонент), несла вянского язычества или «ахристианства» (третий компонент) и славян скоро язычества (второй компонент). Естественно, что анализ, связан ный с задачами реконструкции древнейших форм, следует начинать с таких явлений, в которых второй компонент абсолютно преобладает.
Особую проблему при реконструкции создают так называемые культурные союзы, которые возникают наподобие языковых союзов, объединяю щих обычно неблизкородственные и даже неродственные языки Типичным примером такого союза может быть балканский культурный союз, аналогом которого явлжтея балканский языковой союз. При исследовании традиционной культуры в таких «союзных» масштабах языковой (этнический) признак может не приниматься в качестве определяющего, и геогра фические границы культурных зон в таком случае будут сильно отличаться от лингвистических и этнических границ. В виде примера такого подхода можно привести попытку нроф. М. Гавацци вычленить на Балканах двенадцать культурных ареалов' I — восточнонридунайский, И — балканский (хребет Балкан или Стара-Планина и прилегающие земли), III — фракий ский ареал, IV— родонский ареал; V — македонский ареал, VI — шопский ареал, VII — моравский ареал, VIII — динарский ареал, IX — придунай ский (папнонский) ареал, X — восточноальпийский ареал, XI ~ среди земноморский (северно-, средне- и южпоадриатический, ионический и эгейский) ареал. XII — южпоалбанско-эпирско пипдекий (еще не четко определенный) ареал. Без воспроизведения карты несколько затруднительно представить себе всю картину в целом и особенно в деталях, по все же очевидно, что современные балканские государственные и нацио нальные (этнические) границы нс совпадают с границами областей, вы деленных профессором М. Гавацци. Так, на территории современной Болгарии помещаются почти полностью ареалы II и IV и частично I, III, V, VI: на территории Греции не полностью — IX, XI, XII; сербский этнос распространен в зонах I, VI, VII, VIII и т. д. В качестве показателей (признаков) при выделении ареалов М. Гавацци пользуется особен ностями народной одежды, утвари, пищи, способов земледелия, типов народной архитектуры, чертами народной хореографии, некоторыми элементами духовной культуры (Gavazzi 1978].
Изучение ареалов культурных союзов имеет косвенное отношение к реконструкции древней славянской народной культуры и прямое — к бо
60
I Общие вопросы этнолингвистики
лее поздней интерференции различных культур Тем не менее если рассматривать народную культуру как многослоЙ! ое образование и явление, то нельзя игнорировать в народной культуре южных славян наличие «балканского слоя» с его локальными разновидностями.
В заключение следует подчеркнуть, что под реконструкцией мы понимаем не только восстановление исходной праформы или прасостоя-ния, но и любое приближение к ним. Возможности и глубина реконструкции при этом, естественно, зависят от степени исследованности и полноты материала и по мере изучения меняются. Постоянным остается лишь требование учитывать перспективу (или, вернее, ретроспективу) реконструкции, соизмеряя с ней каждый возможный на данном этапе исследования шаг и определяя в соответствии с этим степень реконстру-ированности и степень реконструируемости. Во многих случаях реконструкция неминуемо сводится к восстановлению или лучше сказать — выведению некоего инварианта из множества вариантов с учетом их вероятной эволюции формального и смыслового порядка. Подобным образом реконструируется значение праславянских слов в этимологических индоевропейских и праславянских словарях.
Печатается в переработанном автором варианте. Первая публикация:
И. И. Толстой. Некоторые соображения о реконструкции славянской духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. М., 1989, с. 7—22.
II. Архаические ритуалы
Из «грамматики» славянских обрядов
‘Вызывание дождя
Оползание и опоясывание храма
Элементы народного театра
в южнославянской святочной обрядности
Балканославянские обряды: структура и география
Астериском отмечены работы, написанные в соавторстве с С. М. Толстой.
Из «грамматики» славянских обрядов
Всякий обряд может быть представлен как определенный текст, т. е. как некая последовательность символов, выраженная при помощи обрядового синтаксиса.
Введение понятия обрядового синтаксиса предусматривает и понятие обрядовой морфологии, т. е. отдельных форм (и значений) обрядовых символов.
Обрядовый синтаксис и обрядовая морфология предопределяют необходимость разграничения в обрядовом «языке» также и обрядовой синтагматики и обрядовой парадигматики. Парадигматика и синтагматика относятся обе к плану выражения обряда, а план содержания обряда охватывает значимую сторону обрядовой морфологии и обрядового синтаксиса. К сфере парадигматики относится регистрация отдельных символов, установление системы их форм, описание их формальной стороны и соотношения между ними в том же формальном плане, т. е. в плане выражения. Что же касается плана содержания, то он в обряде, вернее, в отдельных его звеньях не всегда бывает достаточно четко и ярко выражен. Это можно сказать о том или ином символе в отдельности и о ряде символов, взятых в целом. К тому же к сфере семантики, к сфере значения близко примыкает сфера функциональная, сфера функциональной направленности, которая не так легко отграничивается от значения или смысла в широком понимании этого слова, так же как и момент результативной направленности. Но об этом речь будет идти ниже.
Покамест отметим принципиально важный факт: обрядовый символ Может выражаться в трех основных обликах: реальном (предметном), акциональном (действенном), вербальном (речевом). Однако эти коды или «языки» в повседневном узусе, в общении, не употреблялись и не употребляются одновременно (за редкими и очень фрагментарными ис-
64
II. Архаические ритуалы
ключениями), они перекодируются один на другой, «переводятся», ибо практически в коммуникации людьми используется обычно только один код, а не все сразу.
Особенностью обрядового «языка», в отличие от языка обычного, явля ется именно эта одновременная разпокодовость, вызванная общей тенден цией к максимальной синонимичности, к повторению одного и того же смысла, одного и того же содержания разными возможными способами. В развитии разных обрядов или форм одного и того же обряда основную дви жущую силу можно видеть как раз в стремлении к увеличению числа раз ных форм, синонимических форм одного и того же смысла *, к своеобразному нанизыванию отдельных форм. Все это свидетельствует о довольно сложной морфологии и своеобразном синтаксисе обряда, о трехъярусной (трехслойной) парадигматике и многоплановой (параллельной) синтагма
1 Как и синонимы в языке, синонимические символы в обряде не могут быть, или очень редко бывают абсолютными. Более того, символические синонимы вообще на языковом уровне, как правило, вовсе таковыми не являются. Примером нанизывания множества синонимов могут служить апокрифические списки имен Христа и Богородицы. Имена Христа: «А се имена Господня числом ОБ (72), да еже ихъ иматъ и носить съ собою частно W всакого зла избавлеяь будетъ: Власть, Сила, Слово, Животь, Милость, Любы, Мудрость, О сотиръ ("Спаситель'), Пандократоръ (’Вседержитель’), Параклитъ (’Утешитель*), Св-ктъ, Трапеза, Пастырь, Овче, Камень, Путь, Домъ, Риза, Цв-Ътъ, Ос новаше. Глава, Чисть, Женихъ, Владыка, Истина, Сынъ члов'кческш, Емануилъ, Начало, Пьрворожденный, Меня, Царь вышшй, Иисусъ, ХлЬбъ небесный, Отьцъ, Творьцъ. Саваовъ, Кириосъ, Светый духъ, Милосьрдыи, Застунникъ, Вождь, Сълнце Христосъ. ИсцЪлитель, Благоутробный, Милостивый, Предвечный, Атанасосъ (’Бессмертный*), Создатель, Агнецъ, Левъ, Телецъ, Образъ, Слава, Азъ есмь, Еже есмь, Правда, Источникъ, Уста истина, Радость, Начальника», Елеонъ, Иерей, Пророкъ, Дверь, Вечный, Оправдание, Богь, Троица неразделимая, Царь надъ всеми цари», или «А се имена пресветые Богородице. числом ОЕ (72) — Купина. Жезлъ, Корень, Земля светая, Югь, Камень, Мас лина, Кивотъ, Престолъ, Дверь, Сионъ, Мати, Носило, Одръ, Свитокъ, Книга, Клещи. ДФва, Пророчица, Царица, Искреняя, Невеста, Сестра, Вертоградъ» и т. д. всего 72 названия-символа, см.: [Novakovic 1884, с. 57—66]- Приведенные сербскоцерковкосдавян-ские апокрифические тексты, использовавшиеся в апотропеических целях (фиксация текстов — начало XVI в.), любопытно сравнить с полесскими (пинскими) поэтическими названиями (терминами) жениха и невесты, зафиксированными в песенных народных текстах собрания М. В. Довнар-Занольского: жених — чорон ворон, ветрик, голубок, зе-ленесенький дубок, месяц, селезень, соболь, сокол, соловейко, сыр; невеста — былина, калина, тополина. пчела, хмара, дождик, речка, щука, пава, чорна галочка, голубка, зау-зулька, зорка, имлица, кленова листына, куна, конопелька, курка-рабушка, ласточка, ме телка, мурашка, перепелка, пролисочка, рожа, реченька, сонейко, тетерка, утонька, см.: [Довнар-Запольский 1895, с. 196].
Из /грамматики^ славянских обрядов 65
тике обрядовых символов. Нанизывание обрядовых символических форм одного и того же значения близко к отмеченному в свое время А. И. Никифоровым «нагромождению однородных функций и действий» в сказке [Ни кифоров 1928, с 175]. Результатом этого нанизывания во многом оказывается довольно легкая заимствуемость отдельных форм из других обрядов, относительно свободная замещаемость одних форм другими (эта свобода различна в разных обрядах) и нередкая опускаемость отдельных символических форм — их сокращение. На этом основании во многих случаях трудно говорить об обеднении («упадке») или об обогащении («расцвете») формы отдельного обряда, как трудно применить понятие прогресса или регресса к развитию языковых форм.
Все сказанное требует пояснения на материале. Выбираем простейший по структуре пример: обряд битья веткой (розгой, прутиком) 2.
Известный знаток кашубской народной жизни и языка Бернард Сыхта описал в своем словаре обряд хлестания розгами, совершаемый на второй день Пасхи (в понедельник на Святой неделе) и называемый deguse (или dingusc, d'agu.^, degiis, dingus — различно по диалектам). Парни берут в руки можжевеловый хлыстик или веточку (розгу') березы и хлещут ими девок и молодок, приговаривая при этом, degu, dёgujastra (с. Рева), или de ga, dёga mqsa (с. Мосты), ши degu, degu jaja (средн. Кашубия), dёgu, deguро dva jaja, a %to ne da, tego praja (сев. Кашубия), dёga, dega po dva jaja, ne xca xleba, leno jaja (с. Стшебелино), dingu, dingukopa jaj, ne cca placka, leno jaj (с. Заборы). Тем же словом называется второй день Пасхи, когда совершается обряд, и можжевеловая розга или пук березовых розог тоже называется dega, degusa, dcgus, dёguska и т. п. На третий день Пасхи у кашубов тот же обряд исполняется в том же самом виде, лишь меняется пассивная и активная сторона: девушки и молодки бьют парней, а не наоборот. В таком случае он называется уёпсесе dёgusё 'девчачие дегусы’ ([Sychta, 1, s. 193] — с. Заборы, Гохи, Верблиня) 3.
2 Некоторые изложенные выше положения и постулаты иллюстрировались нами в докладе «К реконструкции древнеславянской духовной культуры...» [Толстые 1978а].
3 Поясняем отдельные слова из приведенных примеров: jastra — 'Пасха’, rhqso 'мясо*, jq/e ’яйцо’, ргас 'бить' leno ’только’, jis ’сегодня’ placka ’лепешка’. -Девчачие дегусы» — нечто вроде обряда наоборот. Эти типы обрядов мало изучены, но они близки к «пародиям на обряд», которые могут исполняться как заключительная часть всего обряда. Таковым, например, является восточнополесский (с. Жаховичи, Мозырский р-н) свадебный xeicm (хвост), где роли молодого и невесты исполняют старик и старуха, поются соответ ствующие не совсем пристойные песни и т. д.
3-
вв
II. Архаические ритуалы
Битье розгами может сопровождаться простым междометием dega!. или degu! digi!, dingu!, dqgu!. Эго междометие и является вербальным си нонимом обряда. Его реальным (предметным) «синонимом» будет можже валовая или березовая ветка (различно по диалектам), а акциональным (действенным) символом — битье. Смысл обряда, а также и трех приведен пых символов, составляющих этот простейший по форме обряд, нетрудно выявить, обратившись к значению слова dega и производных слов в совре мснных кашубских говорах. Это редкий и архаический случай, когда вербальный символ обладает той же семантикой, что и внеобрядовое слово. В том же словаре Б. Сыхты глагол degovac, соверш. вид zdegovac (варианты dagovac, dingovac) помимо значения 'бить розгами во второй или третий день Пасхи’, значения относительно позднего и связанного с описанным ритуалом, имеет еще несколько значений, из коих для нас особенно интересно zc/egonac 'оплодотворить’ (соответственно 'обрюхатить’ и т. п.) на ряду с zdp.gov,ас 'много съесть’ и т. п. Значение 'сила оплодотворения’, 'сила рождаемости’ и т. п. отражается и в других славянских языках, где реф лексы праславянск. "dqga мотуг значить: русск. дяг 'рост’, дяглый 'силь ный, могучий’ (ср. дюжий с другой огласовкой), дягло 'молоки у рыб’, дя га 'кожаный пояс’, словенск. dega 'вид ремня, пояса’ (ср. известную сим волику пояс — сила и переход ’сила’ «-» 'пояс’) 4.
Обряд, бытующий у кашубов на Пасху, может сопровождаться другими хорошо известными символическими действиями — одариванием яйцами, как это видно и из отдельных приведенных выше словесных обращений. Сами эти обращения иногда напоминают формулы требования или «вымогательства», практикуемые при колядовании у славян и т. п.: «...a xto п'е da, tego praja(n)». Эго результат известной «деритуализации» (демифологизации) формулы, ее обмирщения или обытовления, давно зафиксированного в ряде календарных обрядов. Тем не менее яйцо остается ярким символом плодородия, силы рождения, силы будущей жизни. Эго еще один реальный (предметный) синоним, сопутствующий обряду.
Возможности расширения синонимики обряда очень значительны. Иногда даже дело касается не появления нового символа синонима, а подчеркивания семантики символа, его большей «семантизации» (в отличие от часто происходящего процесса десемантизации). Так, утех же кашубов в некоторых селах (Славошино. Верблиня) отмечены Б. Сыхтой следующие манипуляции с березовыми розгами. Розги для «дингуса» ставились до сро
4 Подробнее значение и географию слова *dega в славянских языках см. (Толстой 1977].
Из 'грамматики* славянских обрядов
67
ка за печкой в воду с пеплом, чтобы они к Пасхе раскрыли почки и выпус тили листочки (они тоже назывались dingus). Это действие еще не обрядо вое, но могло бы превратиться при определенных условиях в таковое.
Наконец, сам обряд «дингуса» обнаруживает тенденцию к своему рае ширению. Б. Сыхта отмечает еще один термин degovane 'выкуп в виде яиц или куска освященной лепешки, который «выдсгованные» (исхлес тайные) молодки и девицы дают «дегарям» (хлеставшим парням)’. Если бы такой акт был обязательным во всех случаях, он бы стал компонентом рассматриваемого обряда.
Следует сказать еще несколько тривиальных, но все же необходимых слов о самих обрядовых вербальных, реальных и акциональных символах, т. е. обрядовых словах (формулах), предметах и действиях, и об их отношении к тем же внеобрядовым моментам. В большинстве случаев те же са мые слова, предметы — розги, прутья — и действия — битье, хлестание — могут быть и бывают необрядовыми. Розгами можно наказать ребенка, от рока, и при этом mi сам предмет, которым производится экзекуция, ии само битье — экзекуция не будут обрядовыми, т. е. ритуальными или даже сакральными.
Момент ритуальности, сакральности придается целенаправленностью (телеологичностью) речевой, предметной и акциональной манифестации и регламентацией времени, места и действующих лиц обряда. Подобная ус тремленность с достаточно ясным представлением об адресате, о функциональной направленности обряда и о четко установленном месте (например, храм) и времени (годичном, суточном) совершения обряда наблюдается в церковном богослужении. С формальной и функциональной стороны здесь можно видеть, если учитывать и характер народной обрядности, соотношение, близкое к языковому у народов греко-славянского культурного ареала (т. е. у православных славян, Pax Slavia Orthodoxa) — книжного, доста точно строго нормированного языка (скажем, церковнославянского) и языка мало нормированного, или почти ненормированного, народного, ди алектной речи, диалектной стихии. Такая параллель языка и культуры уже проводилась. Обрядность и религия есть также элемент культуры, хотя религия в целом в то же время может быть вне ее или, скорее, над пей.
В конкретном рассматриваемом простейшем случае есть элемент регламентации времени — второй (или третий) день Пасхи (здесь народный обряд подчинен «книжной» темпоральной цикличности). Видимо, существует, хотя и не ярко выражен (или описан), и элемент детализации места (около церкви или там, где собирается молодежь?). Что же касается действующих лиц, то они установлены достаточно четко по возрастным и по
68
II. Архаические ритуалы
Ловым параметрам. Кроме того, в нашем обряде строго определены и субъектно-объектные отношения. Именно по этому, хотя и не только по этому, параметру (т. к. существует еще временной признак — третий день Пасхи) обычный, «мужской» degus отличается от девичьего — jevcecego degusa Обряд этот, выполненный в другое время, был бы лишь имитацией или иг рой в обряд, так же как его выполнение в лесу или на берегу моря (вне селения) (и тем более в неурочный день) было бы тем же самым. И подавно такой игрой в обряд было бы его выполнение маленькими детьми 5.
Близким к кашубскому «дегусу» является полесский обряд битья вер бой в Вербное воскресенье. Этот обряд распространен у славян и неко торых соседних народов достаточно широко, но в данном случае нас ин тересует не его география, а его основная структура, и поэтому мы избираем один диалектный пример, записанный нами в 1975 году в селе Дубровица (Хойницкий р-н Гомельской обл.) 6 7.
Поле обедни, на которой освящается верба в Вербное воскресенье, дети обычно выбегали к женщинам, идущим из церкви и несущим вербу, с кри ком: — Ц'геутка <тетка>! Хаця <хоть> мене вербою пабёй! <Этот текст еще не обрядовый, и потому он факультативен и может варьировать по разному>. Женщины бьют вербою детей, приговаривая, вернее, заклинал:
Верба бье, не я бью.
За тыждзень Велйгдзень
<через неделю Пасха>
Будзь багапгы як земля
И здардвы як вада1.
5 Подобные игры в обряд, представляющие собой часто обучение обряду, к сожалению, очень редко фиксируются почти не изучаются, но тем не менее они известны в славянском мире, см.: [Левина 1928, с. 201 234]. Я Н. Щапов недавно обратил внимание на место в Домострое, где рекомендуется заводить для дочери особый сундук с са мого детства, чтобы постепенно собирать в него приданое [Щапов Я. 1978, с. 437|. В 1974 г. в Полесье в селе Симоновичи (Дрогичинский р-н Брестской об л ) А А Климчук рассказывала мне, что она, будучи девочкой, выучила причитание над покойником и исполняла его в неурочный час, как бы практикуясь
6 При публикации диалектных текстов здесь и далее в угловые скобки заключены пояснения или реплики собирателей.
7 Этот пример в связи с символикой воды рыбы рассматривается нами подробнее в статье ‘Заметки по славянской фразеологии Здрав као риба» [Толстой 1977а — наст, изд., с. 405 -411].
Из ^грамматики* славянских обрядов
69
В отличие от кашубского обряда «дсгования» битье производится не березовой розгой, а вербовой, не на второй (или третий) день Пасхи а в Вербное воскресенье (по церковному календарю — на Вход Господень в Иерусалим), не парни бьют молодок и девушек, а женщины детей и вместо клича «ctega! clega!» имеется целый текст, как бы поясняющий смысл действа.
Этот текст недвусмысленно говорит о ритуальности битья («не я бью — верба бье») — бьющий здесь актор, бьет не он, а вербная сила (ср. ниже сербск. врбово). В нем же обозначено время — наиболее сак ральное («Велйгдзень»), а время совершения обряда — за неделю до не го (в последнее воскресенье поста). Наконец, текст содержит заклипа ние плодородия — богатства («как земля») и чистоты, здоровья («как вода»). Смысл этих двух сравнений должен быть рассмотрен особо, сейчас же достаточно подчеркнуть, что с понятиями плодородия и чистоты сочетаются в вербальном тексте понятия земли и воды.
Синтагматика полесского обряда, таким образом, несколько ослож нена (на вербальном уровне) по сравнению с описанным выше кашуб ским. Но для общих наблюдений над структурой обряда существенно иное: отдельный элемент обряда, например вербальное клише «будь бо гатый как земля, будь здоровый, как вода» или битье (вербой, бсрезо вой розгой, можжевеловой веткой, палкой), может употребляться в других обрядах и притом, как правило, в более пространном тексте, в тексте с более сложной синтагматикой 8.
Так, формула
Будь весела (веселий), як весна, здорова (здоровий), як вода, богата (богатый), як земля
может быть употреблена и употребляется в свадебном обряде и притом в той его части, когда ведутся приготовления к венчанию (или к первой брачной ночи). Ее произносят в адрес молодой или молодого в качестве приветствия, когда молодая (или молодой) приглашает родных или соседей на свадьбу. Этот же текст повторяют приглашенные, когда приходят на саму свадьбу, иногда добавляя «Нехай тебе Бог благословить!» (с. Каров,
8 Здесь нами не ставится вопрос, в каком тексте и обряде такое «клише* появилось впервые. На такой вопрос ответить нелегко, тем более что он в значительной мере схо ластичен.
70
II. Архаические ритуалы
Сокальский р-н Львовской обл. Сообщил в 1977 г. И. Г. Матвияс со слов своей матери).
Интересующую нас формулу, вероятно, одним из первых записал в свадебной песне А. Л. Метлинекий в середине XIX в. в Овруче (Поле еье), отметив, что песня эта исполняется, когда две свахи подносят не весте намитку на голову и заплетают в косу лен, делая кичку (на кич ку кладется каптур, или серпанок, или очинок):
Я ж тебе, сестрыце, напынаю, Щастьем, здоровьем надиляю: Будь здорова, як вода А будь богата, як земля, А прыгожа, як рожа9 10.
На западе У краины, или, как говорили в XIX в., в Галицкой Руси, в то же приблизительно время другой собиратель Григорий Илькевич зафиксировал формулу — пожелание, произносимое крестным отцом после обряда крещения или свадебным старостой при обряживапии молодых на свадьбе:
Бувай здорова як риба, гожа як вода, весела як весна, робуча як пчола, а богата як земля сьвятая |0.
Еще более разветвленная и осложненная формула зафиксирована в конце прошлого века на Смоленщине (сельцо Крутиловка Елышнско го у.) В. Н. Добровольским, в виде пожелания отца уезжающей из его дома дочери-невесте:
9 [.Метлинекий 1854, с. 208]. К этому тексту А. Л. Метлинекий приводит варианты записанные в других местах: «А я тебе, сестрыце накрываю / щастьем. здоровьем нади ляю: / Та будь здорова, як вода, / Прыгожа, як ягода, / А богата, як земля» (Радо мысль), или: «Мы ж тебе, сестрыце, скрываемо, / и т. д. Та будь здорова, як вода, / Бо гата, як земля, / А погожа, як-бы рожа!» (Васильков) [там же, с 209]. Первый (овруч ский) вариант дважды приводил в своих трактатах А. А. Потебня (Потебня 1860, с 106; Потебня 1989 с. 438-439]
10 | Илькевич 1841]. Эту формулу затем приводил в своем исследовании и послови цах Ф. И. Буслаев (Буслаев 1861, с. 120] и внес в свой сборник пословиц Иван Франко [Франко 1907 с. 174].
Из ^грамматики» славянских обрядов
71
Ня вихор вароты pacmeapiy, Батюшка дачушку прывадщ:
— <Идь, мыя дачушка, здарова! Счаслива табе дарога!
Ей, будь здарова, як выда;
Ей, будь вясёла. як пчила;
Ей, будь быгата, як зымля:
Выда здарова — бигучи;
Пчела вясёла — литучи;
Зимля багата — радючи; — Ты, мыя дачушка. — живучи!> 11
В приведенных четырех текстах наша формула уже оказывается не свя занной с битьем, она входит в другие синтагматические связи, связывается с другим обрядом — свадебным, но сохраняет свой смысл — пожелания и манифестации плодородия, здоровья, жизненньгх сил. Важно отметить, что и битье как акциональный символ известно в свадебном обряде. Однако оно уже нс связано с рассмотренной формулой-заклинанием и выступает либо в первую брачную ночь, когда новобрачные ложатся в постель (см. пример ниже), либо в иное свадебное время. Да и сама формула в тех диалектах (локальных системах), где зафиксировано битье, может не употребляться или вовсе не употребляется. Тут мы подходим к вопросу о функции обрядового символа, которую следует отличать от семантики, от значения. Однако, прежде чем обращаться к теме функции символа, уделим немного места рассмотрению значения символа <<S>> : верба 11 12.
11 (Добровольский 2, с. 143] Вне свадебного обряда в с Каров (украинск. Kapie) наша формула не употребляется. Таким образом, она обрядова и сакральна. Но в Полесье в с. Балажевичи (Мозырский р н) она десакрализована и превратилась в простой фразеологизм — «Будь здоровый, як вода!» (сообщил Эльхан Азимов, 1975 г). Встречалась ли наша формула вне приведенных текстов в сборниках А. Л. Метлинского и В. Н. Доброволь ского, составители сборников не сообщают.
12 Знаком *S* : верба (с кавычками «елочкой») мы будем обозначать «лексему», т. е. формальную, внешнюю оболочку символа; в таком случае семему, значение символа, следовало бы обозначать знаком 'S’ (в тапках). Если же оба момента — выражения и содержания отмечаются или излагаются вместе, то следующим образом: S : верба рождаемость, произрастание’
72
II. Архаические ритуалы
Это значение хорошо выражено в представлениях русских бухтармин ских старообрядцев, которые считали, «что освященная верба влияет на чадородие женщин и плодовитость скота» [Болонев 1978, с. 126]. Вербу освящали в шестое воскресенье Великого поста, называемое поэтому «вербным», принося ее в церковь, ставя рядом зажженные свечи и читая каноны. Таким образом, S : верба — 'плодовитость, рождаемость, рост, произрастание’. Такое значение «S» : верба характерно почти для всех славян и ряда их соседей. В некоторых славянских зонах, в частности в серб ской зоне, верба как символ плодородия, рождаемости может противопоставляться кизилу (дрену) как символу силы, крепости, твердости, проч кости, крепкого здоровья. Эго противопоставление, вернее, различие, рав ное не более чем одному дифференциальному признаку, довольно ясно вы ступает в заклинателыюй формуле, зафиксированной в Сербии — в Шума дии (Гружа). Формула применяется при отеле коровы и окоте овцы. Появившегося на свет теленка или ягненка берут за уши (ср. обычай тянуть за уши детей, чтобы они росли) чистыми, предварительно вымытыми руками и говорят — «Пусти врбово, узми дреново!» (Брось вербное, возьми кизиловое!). При этом через рот новорожденной скотинки протаскивают соло минку, чтобы скотинка была «]ешна», т. е. охотно ела, хорошо питалась [Нетровий 1948, с. 329]. В той же самой Груже на Вербное воскресенье, которое там называется «Цвети», крестьяне украшают себя вербой и крапивой, а девушки обвивают вербовую ветку вокруг талии, опоясыва ются ею. Эго они делают для того, чтобы развиваться (произрастать, плодиться), как верба («да буду напредне као врба») [там же, с. 2401. Здесь интересно сочетание символа вербы с символом пояса, который означает силу, и прежде всего силу плодородия, силу оплодотворения. Ио все в той же Груже верба сочетается не только с опоясыванием, но и с плетением венков в канун Юрьева дня. Тогда собирают молочай (называемый ЪурТ)евско цвеЬе) и вербовые веточки, вьют из них венки и вешают на крыши домов или на притолоку входных дверей [там же. с. 241]. В другой сербской зоне, в Верхней Ресаве, на Юрьев день дети и взрослые опоясываются вербовыми прутиками [Бошковий 1962, с. 196] По соседству с Верхней Ресавой в Неготинской Крайне еще недавно соблю дался обычай, по которому на Цвети (Вербное воскресенье) хозяин шел к обедне в церковь и приносил домой столько вербовых веточек, сколько членов в его семье, гтри этом первую веточку он давал хозяйке и затем всем остальным по старшинству. Домашние опоясывались вербовыми прутиками, «чтобы у них при работе не болела спина» [Вукмановий 1962а, с. 265; Костий 1968/1969, с. 384].
Из ^грамматики» славянских обрядов
73
Число примеров можно было бы значительно увеличить. Еще А. А. Потебня обратил внимание на обряды, связанные с вербой, и они сал некоторые из них в этюде под названием «Вербовая дощечка» [Ио тебня 1883. с 152—171]. Верования о вербе приводит и И. Соботка, в том числе и словацкий обряд хождения девушек в лес в Вербное воскре сенье за вербой «s cickami» (распустившимися пушистыми почками) [Sobotka 1879] 13 14. Особый интерес все же представляет близкий к они санному кашубскому чешский пасхальный обряд pomlazka (его название можно перевести как 'омоложение’), состоящий из взаимного битья парней и девушек вербовыми прутьями, сопровождающегося пением песен [Zibrt 1950, s. 259—274]. Битье молодой вербой, по представлению участ ников обряда, передает людям силу роста и буйного развития, в то время как удар сухой метлой может привести к тому, что человек начнет сохнуть и умрет [Bulat 1932, s. 9,10].
Во всех приведенных случаях <»бращает на себя внимание устойчивость языческого смысла обряда и архаичность этого смысла. Лишь в редких случаях наблюдается его утрата под влиянием христианских евангельских представлений, и то верба как внешняя форма символа («S» : верба) при этом сохраняется Так, А. Макаренко записал в с. Кежма на Ангаре (бывш. Енисейская |уб.) у своего любимого информатора Чимы следующее: «...на шестой неделе, в субботу, Лазарево воскресенье: хоть его и не празднуют, а все же в Писании сказано: «„Лазарь, угодник. преподобной, лазал на вехти (таловым куст), вербу ломал, праздник Христов встречал"» [Макаренко 1913, с. 291] н. Здесь символ вербы десемантизован, а обряд превращен в легенду'.
Приведенных примеров достаточно, чтобы обратиться к определенным выводам.
Реальные и акциональные символы обряда в первую очередь, а в известной мере и вербальные, могут быть представлены в виде рядов (или коло нок) знаков, упорядоченных по эквивалентности, т. е. в виде парадигм.
Так, в парадигме предметов, в данном случае веток, имеющих риту альную (сакральную) сущность, могут быть ветки от вербы, березы, клена, дуба, тополя, можжевельника, кизила, крапивы и т. д.
13 Для сравнения интересно исследование Е. Кагарова «Кулы фетишей, растений и животных в Древней Греции» [Кагаров 1913].
14 Здесь интересен один из частых случаев символической народной этимологии Ла зар — лазил. По той же модели строятся некоторые народные приметы: «Феодор Студит землю студит. (11/24.XI) и т. п
74
IJ. Архаические ритуалы
В силу различия синтагматических связей в определенных условиях значение двух или более символов может нейтрализоваться, или симво лы могут быть во взаимной дистрибуции в зависимости от характера и времени исполнения обряда, или они могут в разных диалектах (этнолингвистических системах) быть представлены или не представлены в конкретном обряде, что дает возможность установления изодокс-изо прагм и т. д. Все зависит от того, будет ли рассматриваться одна этно-лингвистическая система (диалект) или множество систем в сравнении (типологическом, генетическом, этногеографическом и т. п.). Этот момент весьма существен, т. к. парадигма, как правило, строится не на основании одного, зафиксированного в одном конкретном пункте обряда (одной системы) *5, а на основании множества фиксаций, множества систем, множества однородных обрядов.
В парадигме действия, в данном случае связанного с определенным реальным символом (символическим предметом), может быть битье, опоясывание, затыкание, витье венка, бросание в воду и т. п.
Парадигма свойства (или качества) символа (символического предмета) в данном случае будет состоять из ряда антонимических пар типа: несухой — сухой, нераспустившийся — распустившийся, освященный — неосвященный и т. п. Видимо, парадигма свойства должна строиться в зависимости от парадигмы предмета (реальной парадигмы).
Нетрудно заметить, что в первом случае образуется нечто напомина ющее парадигму существительного (но не склонение), во втором — глагола (но не спряжение), а в третьем — прилагательного. Для «именных» парадигм («существительных» и «прилагательных») характерны реаль ные (предметные) символы, для «глагольной» — акциональные.
Вербальная сторона обряда редко выражает лишь один символ — «имен ной», как в случае с кашубским dega, а чаще всего ряд символов, уже свя занных в текст, — верба бье... Разбор типов синтагматических связей и по пытка определешш правил соединения символов (знаков) в текст (синтаг матика символов) требуют большего места и большего материала. Сейчас следует сказать о третьем моменте — функции символа и еще об одном известном в этнографии моменте, о «результативной направленности» обряда (термин этот вводится как предварительный). Под функцией можно пони мать и особую позицию в синтагматическом ряду, подобно тому как в славянских языках прилагательное может выступать в атрибутивной, преди *
15 В этом существенное отличие предлагаемых нами парадигм от парадигм в языке, которые всегда строятся на основе фактов (форм) одной системы.
Из «грамматики* славянских обрядов
кативной и в субстантивной функции, но правильнее было бы видеть в функции символа особую роль символа во всем обрядовом тексте.
Так, битье может быть применено в свадебной функции: битье дружкой молодых, лежащих под одеялом, в первую брачную ночь кнутом (Русский Север, Белозерский край): в функции плювиальной, т. е. при вызывании дождя: битье палками колодца (вост. Полесье, с. Стодоли-чи); в функции календарно-обрядовой при вызывании плодородия земли (resp. скота, людей): битье земли горящими палками на Ивана Купалу (зап. Полесье, с. Спорово), битье очага поленом «бадняком», производи мое «полазником», с приговором -пожеланием сыновей, дочерей и т д. у сербов (Босния, бывш. Височкая Нахия), при вызывании плодородия скота: троекратное битье вербовой веткой скота при первом его выгоне в день св. Георгия—Юрия (с. Спорово) битье лопатой для веяния зерна или клюшкой коровы при выгоне с приговором «Тели телок! Тели телок!» (Дмитровский у. Московской губ.).
Что касается «результативной направленности», то под ней понимается то объяснение 16 17, которое дают (правда, далеко не всегда, т. к. оно часто факультативно) носители (исполнители) обряда тому или иному обрядовому действию. «Результативная направленность» не равна значению обряда, хотя бы потому, что она почти всегда в объяснениях информаторов предваряется целевым союзом чтобы. Связанное с ней объяснение может отражать глубинную (или этимологическую) семантику обрядового действия, а может ее не отражать. Например, приведенное выше объяснение опоясывания вербой у сербов из Неготинской Краины — «чтобы при работе не бо лела спина», явно удалено от первоначальной семантики. Наконец, обыч ную семантику обряда (словесную, предметную, действенную) следует отличать от «поэтической» символики, т е. от символического называния обрядовых (ритуальных) предметов или действующих в обряде лиц (акто ров), наконец, самих действий в поэтических обрядовых песнях (свадебных песнях и причитаниях, похоронных причитаниях, купальских, жнив ных, колядных и т. п. песнях) ”. Однако этот «отраженный» символический ярус требует епшщального рассмотрения.
Все это говорит в первую очередь о возможности становления своеобразной грамматики славянских обрядов с определенным конечным и не
16 К отожествлению «объяснения» со значением как будто был склонен в 1929 году П. Г. Богатырев [Богатырев 1971, с. 174].
17 См. выше в 1-й сноске примеры такой символики. См. также: [Бердников 1869|
76
II. Архаические ритуалы
очень значительным числом парадигм и составляющих их морфологических единиц и с относительно простым синтаксисом, а также достаточно ясным и ограниченным набором функций. Парадигмы символов можно представить и в виде «словарных инвеигариев для грамматических целей» (по терминологии И. А. Бодуэна де Куртенэ), с указанием их облика, зна чения, функционирования, наиболее частой сочетаемости, обязательности или факультативности в том или ином обряде и т. д. Этим самым словарь может содержать и отдельные элементы обрядового «синтаксиса». Под об рядовым «синтаксисом» мы понимаем моменты, связанные с композицией обряда. Эго в применении к сказке раньше также называлось «морфологи ей» [Никифоров 1928, с. 174—177; Пропп 1928].
Наконец, следует уделить серьезное внимание символическим изобра жениям в народном искусстве. Так, к примеру, рисунки на славянских пасхальных писанках довольно точно отражают описанный выше обряд с вербовой веткой. Мотив вербовой ветки очень архаичен и встречается поч ти во всех славянских зонах, где бытуют расписные яйца. С ним сочетается не менее архаический мотив двух рыб, направленных в разные стороны (ср. «будь здоровый, как вода!» 18 и мотив «матери-сырой земли» (ср. «будь богатый, как земля!»). Особый интерес представляют писанки, где женская фигура («мать сыра земля»?) изображена с поднятой рукой (бьющей? ) с веткой или на фартуке нарисована ветка.
Рис. I. Польская писанка из бывш. Варшавской губ- [Кульжин-ский 1899, табл. XXX, № 15].
Рис. 2. Украинская писанка из восточной Словакии [Маркович 1972, с. 172].
Рис. 3. Сербская писанка из района г. Валева [АциЬ 1957, с. 201].
Рис. 4. Украинская писанка из местечка Немирово бывш. Брацлавского у. Подольской губ. [Кульжинский 1899, табл. XV, № 4].
18 Подробнее см. в моей статье «Заметки по славянской фразеологии. Здрав као ри ба* [Толстой 1977а — наст, изд., с. 405—411].
Из ^грамматики* славянских обрядов
77
Рис. 5. Писанка из Югославии [Gavazzi 1975, с. 18].
Рис. 6. Украинская писанка из местечка Немирово [Кульжин ский 1899, табл. XV, №6].
Писанки эти из разных славянских архаических этнолингвистических зон. На их основании можно устанавливать интересные соответствия и изопрагмы. Существенна и символика цвета писанок, главным образом черного, красного и белого, — но это, как и география и историческая стратиграфия символов на писанках, — предмет для специального исследования.
Первая публикация:
Н. И Толстой. Из «грамматики» славянских обрядов // 2r)|ieicimxrp
Труды по знаковым системам. 15. Типология культуры и взаимное воздействие культур. Тарту, 1982, с. 57—71.
* Вызывание дождя
Обряд вызывания дождя известен у всех славян — южных, восточных и западных. До недавнего времени лучше всего были описаны обрядовые действия вызывания дождя у южных славян. Это известные додолы, прпоруши. герман и т. и., а также и некоторые акты иного порядка, частично приводимые нами в статье о полесских обрядах вызывания дождя [Толстые 19786]. Восточнославянские обряды того же нредназна чения рассмотрены в работе Д. К. Зеленина и некоторых других исследователей [Зеленин 1916; Максимов А. 1927; Дмитрук 1927] и фраг ментарно изложены нами в упомянутой статье. Общее обозрение ела вянских обрядов приводит к выводу, что в них христианский элемент представлен мало, к тому же при диахроническом анализе он легко отслаивается [Culinovic-Konstantinovic 1963: Zecevic 1973; Зечевий 1976; Стоилов 1901; Арнаудов 1971; Геичев 1973; Генчев 1974 и др.]. Поми мо молебна к этому элементу относится хождение с иконами, освящение воды, кропление святой водой, обход села, церкви и колодца. Все эти обрядовые действия не являются специфическими, т. е. присущими только обряду вызывания дождя (плювиальному обряду'), и могут ис полниться и в других обрядах. Несколько сложнее обстоит дело с выделением элемента языческо-неславянского. Применительно к рассматриваемым плювиальным обрядам можно было бы считать цикл додольских ритуалов ритуалами такого порядка. В пользу подобного решения вопроса и высказывались некоторые ученые, ссылаясь на балканскую локализацию обряда, т. е. известность его нс только у сербов, части хор ватов, болгар и македонцев, по и у новогреков. румын и части албан цев. Однако наличие подобного обряда. име1гуемого «кустом», в Полесье на Пинщине [Ковалева 1976; Беларуси! фальклор 1973, с. 58—60] с до вольно четкой н ограниченной локализацией и с временной приурочен
Вызывание дождя
7(1
ностью к Троице (что соответствует другим славянским обрядам вызывания дождя, в частности обряду «плакать на цветы»), с рядом характерных деталей (ряженье в листву, обливание водой, пение песен, одаривание исполнительниц) не позволяет считать его чисто балканским и склоняет к выводу о праславянском его происхождении. Тем не менее и в этом случае возможны разные решения. Можно допустить славянское влияние на румын, новогреков и албанцев, но вернее предположить индоевропейские корни для всего обряда в целом и ситуацию обновления и укрепления элементов древнего обряда при вновь возникших относи тельно поздних контактах после великой миграции славян на юг, на Балканы. Ограниченность Пинского ареала и архаичность зафиксированных в нем «кустовых» обрядовых действий побуждает видеть в до-дольско «кустовом» ритуале исконно славянское, а не заимствованное явление. Во всяком случае если заимствование и произошло, то оно не могло относиться к поздней праславянской эпохе. В Подольском обряде наблюдается еще один ритуальный акт, который в принципе можно счи тать универсальным и характерным почти для всех крупных мировых зон, — акт обливания водой [Фрэзер 1931, с. 79—83]. У южных и вое точных славян он может быть исполнен и без других моментов додоль ского обряда, т. е. как самостоятельный одноактовый, изредка ослож ненныи дополнительными признаками обряд [Zecevic 1973, с. 137]. Таким образом, уже при исследовании додольско-«кустовых» действий возникает необходимость считаться с несколькими моментами: генетического родства, типологического схождения, заимствования.
Остальные многообразные обрядовые действия и обряды, исполняемые во время засухи, вероятно, можно отнести к языческо славянскому элементу.
Полесские обряды вызывания дождя 1 состоят либо из комбинации отдельных ритуалов, иногда различных по направленности (провокатив-пых, охранительных, жертвенных, заклинательных), либо, что реже, из одного из таких ритуалов.
В Полесье известны:
1. Ритуальные обходы села, полей, церкви, источников, колодцев, совершаемые обычно во главе со священником и включающие молебствие о Дожде, кропление полей и колодцев освященной водой и т. п. В отдельных селах известен обычай тайных обходов села, совершаемых вдовами.
1 Здесь не учитывается обряд «куст», в котором мотив вызывания дождя содержигея имплицитно.
ьо
II. Архаические ритуалы
2. Обыденные, т. е. совершаемые в один день от восхода до захода солнца, действия — тканье специальных рушников и вывешивание их на деревянных крестах, установленных на развилках дорог или у колодцев, а также изготовление и установка таких крестов.
3. Ритуальные действия у колодца и источника: помимо обхода ко лодца и моления у колодца о дожде известны огораживание его, вкапы-Baiuie деревянного креста или закапывание в землю креста, испеченного из теста; выливание, вычерпывание воды из колодца, обливание колодезной водой; колочение, битье или размешивание воды палками; бросание в воду освященных семян мака или других растений, хлеба, соли, горшков и других предметов; голошение по утопленнику у колодца; раскапывание заброшенных и засыпанных источников.
4. Действия над могилами «нечистых» (заложных) покойников: раз рушение могилы, бросание трупа в воду (в реку и т. п.) или поливание могилы, бросаине креста в воду и т. п.
5. Запреты, приуроченные к дню Благовещения: до этого дня во избежание засухи нс разрешается копать, рыть землю, ставить заборы и постройки, вывешивать белье для сушки на улицу; в день Благовещения нельзя печь и жарить.
6 Поливание и обливание водой и погружение в воду людей (беременной женщины, священника, пастуха) и различных предметов, литьг воды через сито.
7 Пахание высохшего русла реки, пахание дороги, выкапывание ямок на дороге.
8. Иные действия: разрушение муравейника, убиение ужей и вешание их па ветку дерева; убиение и похороны лягушки2.
«Глубинная семантика» обряда
На первый взгляд этот перечень выглядит разнородным набором до статочпо автономных и слабо связанных между собой элементов, кото рые к тому же представлены в реальных локальных системах в разных комбинациях (нс говоря уже о возможных утраченных или отрывочно сохранившихся звеньях). Однако при более внимательном и систематическом обзоре имеющегося материала можно выделить не только нско-
2 Значительная часть этих обрядов рассмотрена и описана нами в статье «Заметки по славянскому язычеству 2. Вызывание дождя в Полесье» [Толстые 19786].
Вызывание дождя
81
торые устойчивые ряды или последовательности плювиальных ритуалов, но и предложить определенную их группировку по их глубинному (мифологическому) содержанию.
Прежде всего следует разграничить ритуалы и ритуальные действия, специфические для рассматриваемой ситуации (вызывания дождя) и, как правило, не имеющие повторения в других ритуальных комплексах, и не специфические действия, встречающиеся и в составе других обрядов и имеющие более общий смысл. К последним в обряде вызывания дождя должны быть отнесены действия, имеющие охранительную, за-клинательную или жертвенную функцию и объединяющие этот обряд с ритуалами, совершаемыми при эпидемиях, эпизоотиях и иных стихийных невзгодах (обходы села, опахивание, тканье обыденных рушников, молебствия ит. п.).
Специфические элементы в обряде вызывания дождя объединяются своей глубинной семантикой и объясняются на основе восстанавливаемого общего мифологического представления о природе дождя и засухи. Согласно этому представлению, засуха является следствием нарушения двух видов нормального равновесия: во-первых, равновесия между полюсами кардинального противопоставления Вода (небесная вода, дождь) — Огонь (небесный огонь, солнце, сушь), во-вторых, равновесия между небесной (дождь) и земной или подземной (источники, ключи) водными стихиями. Эти две оппозиции и определяют семантику рассматриваемых обрядов.
Множество ритуальных действий по вызыванию дождя в полесской и иных славянских традициях может быть интерпретировано в связи с оппозицией вода — огонь. Сама по себе ситуация засухи и бездождия трактуется на мифологическом уровне как временное возобладание стихии небесного огня (солнце, сушь) над стихией небесной воды (дождь). Преодоление этого неравновесия возможно через воздействие человека на земные корреляты этих начал — земной огонь и земную воду. Совершаемые с целью вызывания дождя действия — не что иное, как попытки символического воспроизведения актов борьбы, столкновения этих полярных стихий ради возобладания воды над огнем, т. е. дождя над засухой. Разумеется, в реальных обрядовых действиях эти мифологические отношения предстают в многократно закодированном виде, а сами исходные понятия выступают в форме их символических заместителей. Так, дождь может символизироваться льющейся через сито водой, обливанием. поливанием, разбрызгиванием воды, слезами [Толстой 1976а[, капли дождя — высыпаемыми в колодец маковыми зернами (мелкий,
82
II. Архаические ритуалы
частый дождь), горохом (крупные капли), муравьями (расползающиеся муравьи — рассеивающиеся капли дождя) и т. п. Стихия воды может символизироваться также обитателями вод или хтонической сферы (ср. акты убиения и похорон лягушки, убиения ужа с целью вызывания дождя, мотив утопленника3 и т. д.). Сюда же следует отнести и копание ямок на дороге как способ вызывания дождя путем проникновения вниз, в хтоническую область (хотя этот акт можно связать и с открыва нием заброшенных источников и «паханием реки»).
Символическими заместителями огня (засухи) могут выступать печь и печная утварь — ухват, кочерга, хлебная лопата, выбрасываемые на двор или вверх, на дом, с целью прекращения дождя, а также действия, связанные с огнем, — печение (хлеба и т. п.), жарение, обжиг (ср. южнославянский мотив черепичников, кирпичников и гончаров как виновников засухи4) и продукты обжига — черепица, кирпич, глиняные горшки или их черепки. В противоположность направлению вниз и проникновению в глубь земли, связываемому со стихией воды, направ ление вверх от земли, подвешивание над землей понимается как действие в пользу огня, суши 5. В связи с этим существуют запрет вывешивать белье на дворе до Благовещения во избежание засухи, мотив висельника как виновника засухи 6 и т. п.
3 В Полесье, однако, утопленник может считаться как причиной дождя, так и причиной засухи. См подробнее нашу статью «Заметки по славянскому язычеству 2. Вызывание дождя в Полесье» [Толстые 19786].
4 Подробнее см. в нашей статье «Заметки по славянскому язычеству. I. Вызывание дождя у колодца» (Толстые 1981]
3 Ср. ту же связь низ - дождь и верх — ясная погода в детских песенках с гаданием о погоде обращенных к божьей коровке типа белорусских:
Андрэйка колода, куды полиции, ушз ц1 угору, на дошч щ на пагоду?
или
Кароука буренька, куды паляцела,
Калл угору, на пагоду, калл унлз, то на дошч
См.: [Шаталава 1968. с. 166 178)
6 В связи с изложенным материалом несомненный интерес представляет запись Н. Романцовой (с. Яроповичи, Андрушевский р-н, Житомирская обл., 1976 г.): Девять женщин брали воду, решето приходили на могилу висельника и поливали ее через решето водою, взятой у «святой криницы*. При этом они молились и говорили: «Ми вам дали води, дайте й нам дощу!» (сообщил П. Ф. Романюк).
Вызывание дождя
83
Соответственно этому каждый символ водной и противопоставленной ей стихии может быть использован в магических действиях, направлен ных либо на вызывание дождя, либо на прекращение дождя, установление бездождия и суши. Эти действия могут быть как «положительного», так и «отрицательного», точнее, как провокативного, так и превентивного свойства. С одной стороны, используется поливание водой или плач дтя вызывания дождя, с другой стороны, предпринимается ряд акций с целью противодействия нежелательным действиям, способствующим засухе, обезвреживания их. Так, например, символической нейтрализацией нежелательной функции черепицы или глиняных горшков как выразителей огненной стихии, суши является их бросание в воду, чаще всего в колодец. Так же можно истолковать и предание воде трупа заложного покойника, считающегося причиной засухи, или поливание его могилы, бросание в воду креста с могилы неизвестного покойника, обливание во дой заборов и построек, поставленных до Благовещения вопреки запрету, мотивированному опасностью засухи, и т. д. Напротив, с целью прекратить сильный дождь применяется предание огню символов дождя. Так, например, в Полесье в таких случаях сжигают ритуальную троицкую зелень, используемую в «кустовом» обряде, и т. п.
Второе противопоставление — воды небесной и воды земной (подземной, хтонической) — не является кардинальным в славянской (и — шире — индоевропейской) мифологии и не может быть выражено знаками «плюс» и «минус». По представлению древнего славянина, эти противопоставленные воды не гетерогенны, как огонь и вода, а гомогенны и должны находиться в постоянном равновесии, как сообщающиеся сосуды ’. Нарушение контакта между ними ведет к бездождию. к засухе. Поэтому большинство полесских плювиальных ритуалов, не направлен ных на ограничение стихии огня, связано с воздействием на «нижнюю» воду, с «отмыканием» ее. Простейшим действием, которое до его «десе-мантизации» даже нельзя было считать ритуальным, было раскапывание (на Черниговщине, в Житомирщине) заброшенных и засыпанных источников, ключей («криниц»). Смысл этого отворения был в том, что оно, согласно мифологическому пониманию, вызывало и отвореиие
7 Ср. в связи с этим славянские народные представления о радуге: [Толстой 19766]. Ср. также библейские представления «Бог создал твердь: и отделил воду, которая под твердью от воды, которая над твердью. И стало так» (Бытие I 7) Во многих древне славянских рукописях, отражающих древние космологические понятия, сообщается, что небо состоит из воды: «от чсса бысть небо от воды», см [fpyjnh 1930 с. 182].
84
fl. Архаические ритуалы
тверди небесной (ср. рус. церк. слав, разверзлися хляби небесные), равно как и обратное положение — закупорка подземной водной стихии влияла на замыкание небесной водной стихии. Колодец, как естественный замес тигель источника, послужил местом многочисленных и разнообразных ри ту ало в: жертвоприношений (бросание освященного мака или льняного семени, зерен пшеницы, сала, лука, чеснока, соли, хлеба, денег и т. и.), за клинательных и охранительных действий (вербальные формулы, колоче ние воды, освящение или огораживание колодца и т. п.), действий имитативной и парциальной магии (обливание водой и т. д.).
Приведем лишь один пример вербального заклинания, сопровождав шего действие обливания друг друга водой у колодца (с. Лутины, Жито мирская обл. Украины):
Святою водою тебе поливаемо
И шчоб дошчик налиу поуну криничку И шчоб джерело било.
Формальная сторона обряда и реконструкция
Следует учитывать, что приведенные выше обрядовые действия представляют собой суммарный набор зафиксированных к настоящему вре мени в Полесье плювиальных обрядов (более шестидесяти описаний из Черниговской, Гомельской, Житомирской и Ровенской обл.). Отдельные виды действий или комплексы действий локализуются в той или иной зоне Полесья, и многие из них, как и полесский лингвистический материал, могут быть положены на карту, т. е. представлены в ареальной перспективе в виде изопрагм и изодокс, что, естественно, немаловажно для задач реконструкции.
Структура полесских (и славянских) ритуалов вызывания дождя — ре зультат своего рода нанизывания почти одинаковых в содержатель ном отношении (в плане глубинной семантики и смысловых доминант) элементов и актов. Об этом уже шла речь в связи с понятием «синонимии» символов разного плана и типа. Сейчас следует еще сказать о типах магии, применяемых в таком виде магических действий, как метеорологический вид, к которому относится и интересующий нас обряд (по С. А. Токареву [Токарев 1959, с. 27], там же обзор различных опытов классификации магии). В этом случае наблюдается также использование-разных видов ма пш, магических действий (имитативной, апотропеической, катартиче
Вызывание дождя
85
ской), направленных к одной цели — к вызыванию дождя путем непосредственной его провокации или путем отражения сил, этому препятствующих. Короче говоря, в плювиальных обрядах применяются почти все известные и возможные типы магии (магических приемов) и символов.
Возвращаясь к вопросу символов, напомним, что они могут быть под [>азделены на вербальные, реальные (предметные) и акциональные.
В описаниях полесских плювиальных обрядов отмечен только один случай употребления простейшего вербального символа типа кашубского dega! degu! 'сила! сила!’, применяемого при пасхальном битье вербой [Sychta 1967, с. 193, 194], это возглас дож', дож! дож', несколько осложненный дополнительной народно-христианской формулой «Снятый Гур1й, Самвоний i Авил мол!т Бога за нас. Дож, дож, дож!» <2 раза> (с. Прогресс Козелецкого р-на Черниговской обл.).
Чаще встречаются сложные вербальные формулы, выступающие в виде заклинаний, оглашений (оповещений, объявлений) и голошений (причитаний).
Заклинание: «Дасть Бог дощу, дощу дасть Бог! Полле наше просо тай зерно хороше. Бог дасть дощу, дасть Бог дощу!» (с. Довгалевка Та-лалаевского р-на Черниговской обл.); «Господи Боже, мы ткем и пра-дем и хмару зовем. Градки смочить и сушу размочит!.. Приступи да помоги!» (при изготовлении обыденного рушника). Или: «Як этые мураш ки плувуць, так и дошч пусьць плыве» (при разгребании муравейника) (с. Кочищи Ельского р-на Гомельской обл.); «Як на тебе вода льется, щоб дощ обливав так землю» (при обливании друг друга водой) (с. Людвиновка Овручского р-на Житомирской обл.); «Як сыплецца мачок, так няхай сеецца дожджык» (с. Переров Житковичского р-на Гомельской обл.).
Оглашение: «Христос воскрес! Христос воскрес! Освящается раба божья — рожь!» (при обходе поля) (с. Стреличево Хойницкого р на Го мельской обл.).
Голошение: «Ой-ой-ой! Жабка наша памерла, а...!» (по лягушке) (с. Дубровица Хойницкого р на Гомельской обл.); или: «Макарко уто пиуса! Макарко утопиуса! Ой, Макарко утопиуса!.. Макарко, сыночек, да вулезь из воды, розлей сьлезы по сьветуй земли!!!» (по мифическому Макарке) (с. Стодоличи Лельчицкого р на Гомельской обл.).
Весьма любопытны заклинания (Як этые мурашки... Як на тебе во да...), содержащие мотивации обряда и указывающие на параллелизм действия, на имитативность (гомеопатичность по Фрэзеру, симильность по Кагарову) магии.
«6
FI. Архаические ритуалы
Среди реальных (предметных) еимволов немалое число относится к стихии огня — черепица, «печинка» (часть печи, печного кирпича), печь, обожженный горшок, хлебная (печная) лопата, кочерга и т. п. К стихии воды следует отнести слезы, утопленника, лягушку и в качестве заместителей капель дождя — муравьев, зерна мака, горох и др.
Акциональных символов множество, и они почти все приведены вы ше; поливание водой сквозь сито, обливание водой, купание (часто насильственное), поливание могил и т. п.
Использование различных типов магии и символов с относительно единообразной семантикой в обрядовом действии (тексте) путем нани зывания одного на другое — характерная особенность полесских плювиальных обрядов. При этом, как отмечалось выше, такая структура спо собствовала, с одной стороны, довольно безболезненной редукции отдельных элементов обряда, что часто вело к свертыванию8 обряда, с другой — не препятствовала его расширению и использованию в нем элементов иных обрядов, т. е. неспецифических, интерритуальных. Все это приводило к значительному внешнему разнообразию и к формаль ним вариантам не только на сравнительно обширной территории Полесья, но часто и в пределах одной микросистемы — в одном населенном пункте.
Для того чтобы дать представление о типичном для одного села ком плексе ритуальных действий, направленных на вызывание дождя приведем рассказы, записанные нами в 1975 г. вс. Дубровица Хойницкого р-на Гомельской обл.
Ну от, як дажджа не було, бабу <бабы> эта саберуцца и на прадуць нитак и саберуцца вуткуць палатно и тады павесяць на икону и тады ужэ бувае шо и дождж пуйдзе назаутра;
Нема дажджу. Дзеуки, да ву <вы> сабирайцеса да паваруйце кушыны да пабейце да их у калодзесь — у чый папала. Ну, тады што? — от, ужэ пуйдзе дож, ужэ рады;
Кажуць так, людзи старые казали: нада перараць <т. е. пере-пахать> шлях, дарогу. Ну вот, возьмуць плуга ци у вас ци у каго да удзьвох возьмуцца ззаду за ручки а сьпереду адна — дзевушки, жэншчыны. Ну да паскидаюць юггки да толька у споднюх, а верхние паскидаюць. Ну да возьмуць псраруць да кажэ пуйдзе
8 Об аналогичном явлении свертывания фразеологизмов см.: [Толстой, 1973, с. 288].
Вызывание дождя
87
дож а ци прауда ци не. <При этом ничего не говорили> цихень-ка, цихенька;
Сабиралиса ж бабу да шлях арали. Ну, багата баб саберецца, давайце плута... Эта не то што шлях — круга дзереуни абараць, три разы ж эцим плугам бабу прайци. Запрагуць ужэ баб, а тые идуць да паганяюць: ей, арима. И адна плуг дзержыць а тройку баб запражэ, а тые ужэ идуць да смотраць. Так эта. И круга села три разы. Тады дож пуйдзе;
Кались при маей памеци засухи были — бацюшка хадзил па полю, малебен правили: плуга цягаюць, вулицу аруць голые, дзеуки гадоу па тринаццаць — чатырнаццаць. И баранавали, як засуха. И кушыны вешали на платы — як дажжу нема, у калод зесь кидали. Надболей бацюшка хадзил да правил малебен. Жабу раздзирали и на яки плот павесяць. Нас вельми ругали старые людзи што платы кутали да Благовешчэня — як дажджу нема дак знали хто закутал да и раскидаюць.
Жабу раздзирали штоб дож шол. И закапывают, и дзеци га лосяць;
Рассадзину рвуць да у калодзесь кидали, пойдуць да вурвуць рассаду капусну. три калиуцы вурвуць да у калодзесь, як дажжа доуга нема. Возьмуць да дзе гладышку украдуць да у калодзесь кинуць. Дзевушки с платоу чыстые гладышки сьнимали да кидали увечэри. Мак-видук кидали у калодзесь, у чужый калодзесь кидали. Дзеци жабу раздзирали. То на малых: дзеци, бийце жабу да прасице Бога да будзе дож. Вот пойдуць да злаваюць жабу... и тады бьюць и кажэ: от штоб дож. Дож будзе, му <мы> жабу бьем. <А не закапывали ее?> — И закапывали, и кресьцик ис па лачки делали, плакали. <Куда закапывали?> — У землю, дзе па-пала. <Как они плакали?> — Ну ужэ ка: ой-ой-ой, жаабка наша памерла да о-о да й сьмеюцца да плачуць нарочна... не то што па жабе ани плачуць, але так от ужэ. Усякае, усе рабили.
Нет сомнения, что формальное разнообразие ритуала в одной микро системе может быть вызвано и процессом культурной интерференции двух различающихся по своим обрядовым системам диалектных зон, однако та кое положение может быть характерно для контактных зон, в то время как «обрядовая синонимичность» — явление, свойственное и многим крупным, архаичным и относительно замкнутым этнокультурным зонам. Эго обстоя тельство, безусловно, осложняет задачу реконструкции праславянского
88
II. Архаические ритуалы
плювиа.п>ного обряда (или обрядов). Обращаясь к проблеме рекоиструк ции обряда, отметим, что эта проблема должна относиться не только к пра-славянскому периоду, т. е. ко времени до VI—IX вв. н. э., но для ряда ела вянских зон (в первую очередь западнославянских) и к более позднему периоду. Реконструкцию, видимо, следует проводить поэтапно, исходя из того положения, что синхронно-типологическая классификация «современных» (XIX—XX вв.) вариантов обряда и этно и лингвогеографический анализ этих вариантов являются необходимой предпосылкой или первым этапом реконструкции. При этом наиболее затруднительным оказывается определение именно формы (или форм) такого обряда, а не его глубинного содержания. На этот момент следует обратить особое внимание. Если для реконструкции праславянского корня и даже слова первичной и наиболее достоверной является реконструкция их внешней стороны (корневой морфемы и лексемы), а реконструкция их значения (смыслового инварианта или семемы) оказывается вторичной и менее четкой и однозначной, то при реконструкции славянских обрядов типа рассмотренного — более строгой, определенной и первичной становится реконструкция семантики (доминантных идей, глубинных смыслов и символических представлений), в то время как реконструкцию формы следует считать вторичной задачей 9.
Как видно из разобранного примера, реконструкция семантики мо жет быть произведена и только внутренним путем на основе материала отдельной этнодиалектной зоны, какой является в данном случае Полесье. Такая внутренняя реконструкция естественно, может быть под креплена реконструкцией внешней.
Что же касается восстановления праславянских ф о р м обряда, то оно едва ли возможно без использования методов внешней реконструкции, без обращения к фактам родственных славянских и индоевропейских этносов (такую реконструкцию можно назвать соответственно ближней и дальней внешней реконструкцией). Наиболее существенными показателями архаичности внешних форм окажутся показатели географического плана, показатели соответствий форм, сохранившиеся в архаических зонах славянского и индоевропейского (или смежного с ним) мира.
9 Близкое положение наблюдается при реконструкции фразеологизма (фразеологического сращения), когда следует устанавливать три момента; а) лексемную форму (сочетание лексем), б) семантическую «форму» (сочетание семем) ив) значение, семему (не равную сочетанию семем в пункте «б»). В этом случае также пункт «а» устанавливается в последнюю очередь, см.: [Толстой, 1973, с. 276].
Вызывание дождя
89
Внутренняя реконструкция является реконструкцией неполной, имею щей свой предел, который можно назвать «порогом реконструкции». Внеш няя реконструкция также имеет свой порог, который, однако, значительно ближе к древнему’ реальному незафиксированному состоянию. Порог реконструкции зависит, безусловно, и от полноты имеющегося материала.
В заключение приведем список полесско-южнославянских (сербско-болгарских) параллелей и одну существенную полесско (белорусско-ук раинскую)-кавказскую (иранскую по происхождению?) изодоксу.
К полесско-южнославянским соответствиям относятся следующие элементы обряда вызывания дождя- а) обливание беременной женщины водой (сербск.); б) то.гкание людей (священника, пастуха) в воду, в реку (сербск., болгарск., также русск.); в) литы; воды через решето (сербск., болгарск.); г) вырывание креста из могилы «нечистого» покойника и бросание его в воду; бросание трутга в воду (сербск., болгарск., также украинско-карпатск., русск.); д) бросание в воду горшков, краденных у гончаров (сербск., болгарск., македонск.); е) разрушение муравейника с сопутствующим словесным заклинанием (сербск.); ж) голошение по покойнику (болгарск.); з) причина засухи: закапывание внебрачного ребенка (сербск.); и) обряд «куст» — «додолы». Многие из этих черт следует ожидать и в других зонах славянского мира, в первую очередь в карпатской зоне. Надо предполагать, что нередко мы сталкиваемся с неизвестностью и несобранностью материала, как это было до недавнего времени и с полесскими свидетельствами.
Приведенные параллели могут послужить основой для так называемой «ближней» внешней реконструкции. Ярким примером соответствия, которое может послужить базой для «дальней» внешней реконструкции, являет ся ритуал пахания реки во время засухи, отмеченный на Кавказе у армян и восточных грузин. Суть этого обряда в том, что несколько женщин впряга лись в плуг, входили в реку (или высохшее русло реки) и пахали дно. Ана логичные славянские свидетельства приведены впервые А. Н. Максимовым и относятся к центральной Белоруссии (бывш. Игуменский у.) и западной Брянщине (Суражский у.) [Максимов А. 1927, с. 17]; см. также; [Чи тая 1928; Миллер 1910, с. 68]. По нашим далеко не полным данным, он известен и в некоторых зонах Полесья (Черниговщина, северная Житомирщина, Ровенщина, Тернопольщина), на северо-западе Белоруссии (Зельвенский р-н Гродненской обл.) 10. Рудименты этого обряда
10 Распространенное в некоторых районах Полесья пахание дороги, возможно, является модификацией обряда «пахания реки*.
no
II. Архаические ритуалы
обнаруживаются и на окраине южнославянского мира, в Словении — в Штирии и Прекмурье, где во время сильного ненастья воруют плут и бросают его в воду, см.: [Moderndorfer 1946, S. 247]. Обращают на себя внимание следующие характерные для кавказского ритуала пахания реки («запахивания дождя») детали, имеющие славянские соответствия: 1) исполнение ритуала женщинами (вдовы, девушки) — то же, за одним исключением, в полесском ритуале; 2) проливание слез — то же в Полесье в отдельном ритуале; 3) вариант обряда: пахание высохшего от засухи русла реки — этот вариант наиболее распространен в Полесье; 4) бросание в воду «рафаты», на которой пекут лаваш. Ср. в Полесье бросание горшков или кирпичей в воду.
По справедливому мнению А. Мейе, некоторые мифологические и языковые соответствия могут возникнуть «случайно» в результате типо логических схождений или универсальности совпадающих моментов, но, подчеркивает знаменитый французский компаративист, «с о в о к у п ность отдельных мотивов, внутренне никак не связанных, не может появиться случайно» [Мейе 1954, с. 11]. То же можно сказать и о совокупности форм, и можно еще добавить — особенно, если дело касается совокупности внешних деталей.
Печатается в сокращении. Первая публикация:
Н. И. Толстой, С. М Толстая. К реконструкции древнеславянской духовной культуры Ц Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. М., 1978, с. 364- 385.
Оползание и опоясывание храма
_[) книге Валерии Дмитриевны Пришвиной «Путь к слову» есть несколько ярких и примечательных эпизодов из жизни ее супруга Михаила Михайловича Пришвина. Особенно интересны зарисовки, принадлежащие пришвинскому другу, русскому ученому энтомологу К. Н. Давыдову, знав шему Пришвина в его молодые годы и совершившему с ним в 1908 году пу тешествие в Заволжье к озеру Светлояру, с которым связана легенда о граде Китеже. В своих воспоминаниях, написанных в более поздние годы в Париже, К. Н. Давыдов приводит эпизод с докладом Пришвина на заседании Императорского русского географического общества в Петербурге, прочитанным после поездки к светлому озеру.
«Шло заседание, — сообщает К. 11. Давыдов, — в присутствии известных ученых. Некий малоизвестный писатель Пришвин, интересую щийся этнографией, делал сообщение о своей поездке в Заволжье. Вот он вышел на эстраду — моложавый, гибкий, волосом черный... Начина ет рассказывать... И вдруг опустился на пол эстрады, лег на живот и пополз, повторяя вслух: „Ползут, все ползут... тут, там, везде. Мужчи ны, женщины, дети... все ползут..." Так он изобразил очень выразитель по дикий, укоренившийся в православном народе языческий обряд „оползания" святынь — в данном случае это было на берегу' Ветлуги — церкви чтимого пародом со времен Ивана Грозного святого Варнавы. Корректная публика была возмущена, раздались протестующие голоса... [Пришвина 1984, с. 149]. М. Пришвин в очерке «Година Варнавы» (т. е. праздник св. Варнавы) описал ночное ползание вокруг церкви, случившееся в дождь и в слякоть и выполнявшееся, по-видимому, тро екратно, с перерывами для молитвы «на церковь». Оползания эти могли повторяться, но автор не приводит этнографических деталей, как и не пишет, зачем это делалось [Пришвин 1931, с. 227, 228J.
02 II. Архаические ритуалы
Оползание, видимо, уже на коленях, было и вокруг озера Светлояр и сохранилось оно почти до наших дней, о чем свидетельствует уже сама Валерия Дмитриевна, посетившая в 1960 году эти места после кончины Михаила Михайловича. Она увидела тогда на берегу у самой воды на огромной сосне большую прибитую доску с выведенной на ней крупными буква ми надписью: «Моление и оползание строго воспрещается!!!» Пройдя «по веками протоптанной дороге» вокруг озера вместе с другими незнакомы ми, празднично и торжественно одетыми людьми, она встретила там пришедшую из Вятских краев (из Кирова) пешком «по обещанию» одинокую старушку, научившую ее «молитовке», которую следует произносить на Светлояре — «Святые святители, земные скрьггели, кительские жители, молите Бога о нас!» [Пришвина 1984, с. 161].
Несмотря на популярность святого озера и легенды про утонувший в нем [рад Китеж, об оползании вокруг Светлояра и о других ритуалах, выполнявшихся на нем, известно мало. Больше всего сведений дают писатели П. И. Мельников-Печерский, В. Г. Короленко и М. М. Пришвин. Но их внимание к жизненным, не этнстрафическим деталям позволяет нам воспроизвести ритуал лишь в самых общих чертах. По определению В. Г. Короленко, вулканическое озеро Светлояр находится «на реке Л юн де близ села Владимирского Макарьевского уезда Нижегородской губернии. С ним связана легенда о невидимом граде Китеже», а в примечании П. И. Мельникова-Печерского говорится, что днем, когда собиралось «народу видимо-невидимо», был день 23-го июня старого стиля (6.VH нов. ст.), день Аграфены Купальницы; тогда же «празднуют иконе Владимирской Богородице» [Вечное солнце 1979, с. 191, 200]. Вероятно, это был и храмовый праздник церкви села Владимирского (отсюда, надо полагать, и название села) и, как известно, канун другого большого праздника — Рождества Иоанна Крестителя (24.VI/7.VII), памятного во многих местах под названием Иван Купало. Иван Купало — это славянское народное торжество огня и воды.
В 1890 г. В. Г. Короленко в своих очерках «В пустынных местах. Из поездки по Ветлуге и Керженцу» свидетельствовал: «Ежегодно „под Владимирскую" из Нижегородской, Владимирской, Вологодской губерний, даже из-за Перми, из-за Урала сходятся на берега Светлояра толпы людей, стремящихся хоть на короткое время отряхнуть с себя обманчивую суету сует и заглянуть за таинственные грани. Здесь, в тени деревьев, под открытьем небом, день и ночь слышно пение, звучит Гнусавое чтение нараспев, кипят споры об истинной вере. А на закатных сумерках и в синей тьме летнего вечера мелькают огни между деревья
Оползание и опоясывание храма
S3
ми, по берегам и на воде. Благочестивые люди на коленях трижды пол зут кругом озера, потом пускают на щепках остатки свечей на воду и припадают к земле и слушают. Усталые, в истоме между двумя мирами, при огнях на небе и на воде, они отдаются баюкающему колыханию берегов и невнятному дальнему звону... И порой замирают, ничего уже не видя и не слыша из окружающего <...> А кругом стоят и смотрят с удивлением те, кто стремится, но не удостоился по маловерию... И со страхом качают головами. Значит, есть он, этот другой мир, невидимый, но настоящий: Сами не видели, но видели видящих...» [Вечное солнце 1979, с. 202; Короленко 1954, с. 128, 129].
А в 1875 г. П. И. Мельников-Печерский в романе «В лесах» с документальной точностью описал старика-богомольца, объясняющего, как надо «усердствовать», чтобы услышать звон святынь китежских и узреть их: «Перво дело — усердие. — стал говорить старик. — Лежи и бди, сон да не снидет на вежди твоя... И в безмолвии пребывайте, православные: что бы кто ни услышал, что бы кто ни увидел — слагай в сердце своем, никому не повежди. Станет усерднаго святый берег Светлаго Яра ка чать, аки младенца в зыбке, твори мысленно молитву Иисусову и ни словом, пи воздыханием не моги о том ближним поведать... И егда придет час блаженным утреню во граде Китеже пети, услышите звон серебряных колоколов... Густой звон, малиновый — век слушай, не наслушаешься. А лежи недвижно и безмолвно, ничто же земное в себе помышляя. Заря в небе заниматься зачнет — гляди на озеро, — узришь золотые кресты, церковные главы... Лежи со усердием, двинуть перстом не моги, дыханье в себе удержи... И тогда в озере, ровно в зерцале, узришь весь невидимый град: церкви, монастыри и градские стены...» [Вечное солнце 1979, с. 126; Мельников 1956, 2, с. 302, 303].
М. М. Пришвин свое путешествие к Светлояру в 1908 году описал по свежим впечатлениям. Одно из них — встреча со старушкой, моля щейся у самого берега: «В лесу над озером темнеет. Между стволами везде огни. Перед бере:юй у самого светлого озера горячо на коленях молится старушка. Перед березой. Что это значит? Обхожу дерево и старушку; думаю, где-нибудь на суку да висит же икона. Нет. Молится просто дереву. — Бабушка, - спрашиваю ее осторожно, — разве можно так... дереву, это святая березка? — Не березка, родимый, — отвечает бабушка, — не березка, а тут воротца. Вот где больший то холмик, там Знаменье, а там вон Здвиженье. а там Успение. Зажигает свечку. Идет по берегу' вокруг озера. Перебирает лестовку. Шепчет молитву. Я иду за старушкой <...> Опять молится перед той же березкой. Может быть, ви
94
II Архаические ритуалы
дит, — открываются ворота, встречают, зовут: иди, иди к нам... — Ба бушка, неужели тут, правда, воротца? — И недалеко, родимый, всего четверти на две; в прежние времена — пахали тут, сказывают, — соха ми за кресты цеплялись. Близко, а невидимо. — Еще молится. Ищет что то рукой у корней дерева. — Что там? — Тут трещинка в земле. Ты посвети, а я пошарю. Находим. Опускает копеечку в землю, яйцо опускает. Опять молится: — Примите, праведные люди, милостыню от грешной старуш ки. — Я тоже опускаю медные деньги праведникам в трещину под березкой. Теперь я верю в невидимый град <. .> Рада бабушка, что я опустил свою лепту во град невидимый. Делится со мной свечкой: „Поставь, — гово рит, — поставь". — Куда поставить? — Куда хочешь. Хоть к Знаменью, хоть к Здвиженью, или к Успенью. Против этою холмика — Знаменье. Берет щепку, прилепляет восковую свечку и пускает по озеру. Я делаю то же. Огонек старушки плывет к Знаменью. Мой туда же. Проходит по 6epeiy еще кто-то со свечой, и еще, и еще <...> Сотни и сотни свечей. Идут безмолвно вокруг святого озера, перебирают лестовки, молитву творят. И плывут по воде на лучинках огни к Успению, к Здвиженью, к Знаме нью. Больше к Знаменью. В шестой или седьмой раз хлынул дождь. По гасил все огни в лесу и на озере < > Настала полная тьма (.тали рас ходиться и сталкиваться друг с другом. На что то мягкое, живое я наступил. Нагнулся и испугался на берегу озера под проливным дождем, в грязи лежала женщина, лицом к земле. — Не трогайте, не трогайте ее, — сказал мне кто-то: она звон слушает» [Вечное солнце 1979, с. 211-213: Пришвин 1931, с. 275-277].
Из этих кратких отрывков, написанных в тридцатипятилетний про межуток времени, видно, что ритуал оползания стал сменяться ритуалом обхода или с ним сосуществовать, судя по поздней надписи 1960 года. Четко выделяется действие с зажиганием свечей и пусканием их па до щечках или щепках на воду. Это действие имеет, как мы покажем ни же праславянский и даже индоевропейский характер и связано с куль том умерших предков. Очень существен момент поклонения земле, отда ния земле дани в виде денег или яйца, что известно и у других славян и что во многих зонах обязательно при сборе целебных и сакральных трав (плата земле деньгами или хлебом), которые, кстати, чаще всего соби раются на Ивана Купалу (ср. сербское народное название этого праздника Свети JoeaH Билобер — дословно «Св. Иван — собиратель былья трав»). Почитание земли и предков выражается и в слушании ее (их), и в лежании на ней ничком, лицом к земле. Если продолжать приводить литературные примеры, то можно указать, что герой истор1гческого ро
Оползание и опоясывание храма 95
мана С. Р. Минцлова «Под шум дубов» Диакон, он же инок Иеремия, защитник Псково Печерского монастыря от осадивших его немцев, уходит умирать и умирает, распростершись ничком на земле в церкви перед иконой Богоматери [Минцлов, с. 227].
Невидимый на земле либо ушедший в землю или утонувший в озере град Китеж — сонм «живых» храмов с колокольным звоном и утренни ми и вечерними службами, — воспринимается паломниками как матери ально и конкретно существующий, но незримый или зримый не всем и не всегда И в этом по народному представлению нет ничего необычайного, ибо Китеж отмечен печатью святости и героического подвига и тем же отмечено и озеро Светлояр [Комарович 1936]. Для народной легенды, как и для архаического народного мироощущения, град невидимый и храмы невидимые — не абстракция и фантастика, а конкретность и реальность, открывающася, правда, при условии молитвенной сосредоточенности и отрешенности. Такие представления широко распространены и в современных славянских зонах, где еще сохранились архаические формы народной духовной культуры и фольклора. Так. в Полесье (с. Тхорин Овручского р-на Житомирской обл.) нами зафикси ровано верование, что покойные родители и,дут со свечечками в поминальные дни («на деды») с «могилок» (кладбища) в родные хаты на уго щение. Это шествие можно увидеть, и его видят те, кто чист сердцем (запись 1981 года). В таком посещении покойниками своего дома рассказчики и, «очевидцы» не находят ничего сверхъестественного, — наоборот, это скорее всего обычная, давно установившася традиция.
Интересной и убедительной южнославянской параллелью к светлояр-скому лежанию па земле и слушанию китежского звона является западноболгарский обряд «слушания покойников». В .Попушанском монастыре (Михайловградский округ, сев.-зап. Болгария) на Русальной (Троицкой) неделе или в понедельник после Троицкой недели молящиеся до сих пор приносят небольшие веточки грецкого ореха е пятью-семью лис тьями и устилают ими пол в церкви Успения Богородицы. После богослужения они ложатся на пол и слушают своих покойников (сообщила Л. Н. Виноградова со слов М. Беновской и по собственным наблюдениям). Следует добавить, что у южных славян грецкий орех — дерево смерти и покойников, судя по ряду' народных представлений и табу.
Выше было упомянуто, что пускание свечек на воду на дощечках или щепках — также форма общения с душами умерших, с предками. Что касается светлоярских ритуалов, то как будто те. кто их описывал, на это не указывают, если не считать, что свечи предназначались от-
96 fl. Архаические ритуалы
дельным, конкретным, невидимым храмам. Но аналогичный ритуал, ис полнившийся в севере восточной Се[>бии, в Хомолье, подтверждает вы сказанное положение.
Сербский погребальный обряд в Хомолье структурно сложен и насы щен различными ритуальными актами. Их изложение заняло бы много места и потому обратим внимание только на ритуал, в котором содержится действие пускания на воду дощечки с зажженной свечой. Эго действие производится во время вторых поминок (первые бывают в день похорон, после возвращения с кладбища) в первую субботу после погребения. Такие поминки называются «субботними поминками» (суботно nodyuije) или «субботним столом» (суботна софра). К ним зарезается баран или овца в зависимости от пола покойника, готовятся разные поминальные блюда, крепкие напитки (ракита), свечи, кадиль ница и т. п. С этим мать покойника или покойницы и ее близкие идут на кладбище и оплакивают могилу, украшая крест, могилу, поливая се ракисй. По возвращении с кладбища домой поминки продолжаются. В доме производится ритуал кропления свежей водой одежды покойника перед передачей ее человеку, близкому к умершему. Затем берется сосуд из тыквы (ера), в котором была принесена свежая вода и в который кладется денежка, пучок базилика, клочок белой шерсти и кусочек ла дана, небольшой низкий трапезный столик (софра) с едой, состояний из маленького кукурузного хлебца, солонки с солью, вареных яиц, булочек из пшеничной муки и затем минимум три или максимум семь воско вых свечей. Хлебец и булочки пекутся на раннем субботнем рассвете, тогда же делаются свечи и варятся яйца в воде, принесенной в ту же пору. Лишь легкая прямоугольная дощечка, обязательный аксессуар ри туала, делается па рассвете днем раньше отцом покойника или, если его нет, кем-нибудь из старших родственников-мужчин. Притом делать до щечку надо натощак, с непокрытой головой и молча. Со всеми перечне ленными предметами и с едой идут па реку, на ее правый берег. Там мать покойника или покойницы расставляет на столике и на дощечке все эти предметы, притом последней на дощечку кладется булочка, в бу лочку втыкается одна из свечей. Затем мать крестится, зажигает свечеч ку, берет кадильницу и кладет в нее ладан. Кадильницей опа трижды кадит, обходя в направлении справа налево, трапезный столик, затем приготовленную дощечку, тыквенный сосуд, затем реку и, наконец, себя, ассистирующую ей женщину, говоря: «Бог да прости Mojy Аницу!» (Господи, прости мою Аницу — имя покойницы). Затем обе женщины подходят с дощечкой к реке, трижды возносят ее к солнечному восходу.
Оползание и опоясывание храма 97
т. е. к востоку, и к заходу — западу и осторожно опускают ее на воду, чтобы она уплыла по течению, т. е., как пишет собиратель С. М. Мило-савлевич, «отправилась на тот свет». Пока вода несет дощечку, молитва женщин продолжается; мать все время кадит реку, берег, трапезный столик, свою напарницу и себя, произнося: «Бог да прости Mojy Аницу! Лака joj црна земл»а била као ова дашчица води!» (Боже прости мою Аницу! Пусть земля ей будет легкой, как легка эта дощечка воде!). При этом, если дощечка спокойно уплывает и не переворачивается, пока видно глазу, считается, что покойник был праведником, и Бог принимает все, что посылается по воде; если же дощечка вскоре переворачива ется, покойник был грешником, и Бог не принял посланного. В первом случае сербы хомольцы радуются и не очень сильно скорбят по умершему, во втором — плачут и печалятся. Ритуал кончается троекратным питьем воды из тыквенного сосуда и бросанием кусочков еды с трапезного стола в реку и на берег. Затем мать выливает всю воду в реку на том месте, где была пущена по течению дощечка, женщины едят с трапезного стола и после трехкратного крестного знамения идут домой. Мать впереди с трапезным столиком, ее спутница с сосудом. По дороге они хранят молчание, не отвечая даже на приветствия. | Милосан.ьевий 1913, с. 252-256}.
Сербский ритуал пускания зажженной свечи в Хомолье, как видно из приведенного описания, изобилует значительным числом деталей, обуслов ленностей и связей с другими действиями и предметами. Светлоярский — проще и торжественнее, из-за множества участников и соборной молитвы. Тем не менее, каждый замечателен по своему не только в восприятии дра матически художественном или зрелищном, но прежде всего в понимании историке-генетическом и структурно-семантическом, говоря шире — семи этическом. Важно, однако, отметить наличие нескольких общих деталей, помимо главного схождения — пускания зажженной свечи на воду на деревяшке. Эго опускание монеты в воду (или в землю; ср. ритуал бросания мо нет в свежевырытую могилу) принесение яйца (в сербском варианте варе ниеяйца) и безмолвие после молитвы.
Как известно, согласно китежской легенде, Китеж стал невидимым, сокрывшись таким образом перед полчищами Батыя. То ли ушел под землю, то ли по велению Господа Саваофа архангел Михаил «сотряхнул землю под Китежом, погрузил Китеж во озеро», как пелось в духовном стихе, приведенном А. М. Горьким в его повести «В людях». При этом сам Горький от себя пояснял: «Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною,
98
II. Архаические ритуалы
ни на что не похожею жизнью» [Вечное солнце 1979, с. 216, 217; Горький 1972, с. 276, 277]. Китежские церкви ушли от Батыя, сменили свое место жизни и остались жить.
В северо-восточной Боснии, в тех местах, где распространен обряд опоясывания церквей, о котором речь пойдет ниже, бытуют легенды о ходячих церквах, о церквах, уходивших от нечестивых турок. Известный сербский этнограф Миленко Филипович записал предания местных жителей о том, что в селе Трбаве была церковь, которая сама «убежала» и «шла» через Плазуле (топоним). Церковь же в селе Драгалевац, по легенде, возникла следующим образом. «Бежала» одна из церквей и на бегу от нее отваливались доски и бревна (старинные боснийские православные церкви были по преимуществу деревянные). Они падали в Тутневце, Забрдье и Драгалевце. На месте, где падали доски, в двух первых селах появились молитвенные места, а в Драгалевце построили церковь, вскоре после того, как пронеслась молва о «бежавшей» церкви. В селах Поезни и Осини говорили о том. что в лесу около Мотаицы, северо-западнее города Дервенты была церковь, которая ушла из Боснии через реку Саву в Славонию. Там, где она «проходила», остались погнувшиеся стволы деревьев. А «перебежала» она потому, что какой-то мусульманин помочился на нее. Наконец, рассказывали, что в селе Забрдье (в предгорьях массива Маевицы) была одна церковь недалеко от того места, где дома крестьян Драгичей. Однажды в канун Троицы пришли цыгане и заночевали около церкви. Они постирали свои рубахи и развесили их на церкви. А утром, глядь, а церкви нет! Когда церковь «шла», застрял где-то по дороге каменный престол (трпеза), и это место и поныне называется Трпеза. Затем каменный престол перетащили на кладбище, и там в воскресенье после новолунья, которое произошло еще до пятницы (по-сербски: млада недела и млади петак), собирается множество людей, больше чем в церкви. Этот каменный престол на кладбище — полый внутри, и в него священники лили воду при омовении рук, связанном с богослужением. Люди и поныне приносят оттуда воду и умывают ею больные глаза [Filipovic 1969а, s. 9, 56, 86, 114, 118].
Так своеобразно сочетаются легенды о «ходячих» церквах с топонимическими преданиями и былинками, для которых, как известно, характерны детали и формулы достоверности в виде точных указаний мест, а нередко и предметов, связанных с повествуемыми событиями.
К сожалению, по восточнославянскому оползанию собрано мало материала, хотя, как видно из приведенных выше свидетельств, оно могло еще сохраниться в памяти народной. Точно так же более полувека тому
Оползание и опоясывание храма
99
назад на другом конце славянского мира, в Сербии, еще было мало из вестно в научной литературе о другом, тогда в полной мере живом ритуале — опоясывании церквей, пока на него в начале 30-х годов не обра тил внимание сербский этнограф П. Ж. Петрович. Правда, еще в конце XIX в. в петербургском журнале «Всемирная иллюстрация» (СПб., 1890, т. XLIV, № 1136, с. 297) известный в Сербии художник и этнограф документалист Владимир Тительбах поместил свой эскиз, изображающий деталь опоясанного полотном православного храма, его портал и входящих в него крестьян. Этот эскиз — один из семи рисунков, сделанных во время освящения церкви св. Параскевы-Пятницы, называемой «Петковица», около г. Шабац в северо-восточной Сербии. Возможно, что эта иллюстрация и непосредственное наблюдение опоясывания храма на северо-западе Сербии в р-не Колубары побудили П. Ж. Петровича напечатать в «Гласнике» Белградского этнографического музея статью о заинтересовавшем -его ритуале, привести ряд любопытных фак тов из той же северо-западной Сербии и западной Македонии и обратиться с призывом присылать в «Гласник» материалы на эту тему для публикации, см.: [Петровий 1932]. Откликов было немного, но вместе с послевоенными записями Миленка Филиповича они представляют собой довольно значительную сумму фактов, достаточную для цельного описания обряда, которое до сих пор не производилось.
Ритуал опоясывания православного храма зафиксирован в северо-западной (Ядар, Валевская Подгорина, Колубара), западной (Ужичкая Пожега), юго-западной (Призрен) и восточной (Ниш, Лесковац, Прокупле) частях Сербии, в северо-восточной Боснии (Посавина, Усора), восточной Герцеговине (Невесинье), В Санджаке (Нови Пазар), в западной (Битоль, Ресан, Охрид) и центральной (Крушево, Прилеп) части Македонии. Сам ритуал состоит в том. что церковь кем то из прихожан опоясывается полотном или очень длинной свечой ночью либо самым ранним утром накануне праздничной литургии, а затем после службы или даже до нее полотно или свеча снимается и отдается церкви. Известны варианты ритуала, касающиеся его исполнителей, функциональной направленности, времени его исполнения, числа свечей, которыми опоясывается храм, направления опоясывания и т. д.
Обряд опоясывания называется в восточной Сербии (в Нише, Лесков -Це, Прокупле) венчанием церкви (венчаватье цркве), и длинная восковая свеча, протянутая вокруг храма (венчило), воспринимается как венчальный венец. Такое венчание производится, как правило, при освящении Церкви (в Усоре в Боснии троношити значит 'освящать храм’), а затем
‘1*
100 II. Архаические ритуалы
оно может повторяться в дни храмового праздника и даже по большим праздникам (годовима). При освящении церкви опоясывание может произвести церковный ктитор (црквени кум), но это не обязательно, и чаще это делает его жена или посторонняя бесплодная женщина (восточная Босния). Вообще ритуал, как правило, исполняют женщины, страдающие бесплодием, реже женщины, носящие траур по сыну или дочери, и еще ре же мужчины-импотенты ши мужчины, страдающие какой либо неизлечимой болезнью. Опоясывание храма мужчинами известно лишь на крайнем юго-западе Македонии в р-не Преспанского озера [Петровий 1932, с. 110-112; ГЕМБ 1933, кн>. 8, с. 91-93; Русий 1934, с. 95-99].
Опоясывание полотном известно в Валевской Подгорине, в Колубаре и Ядре, в северо-восточной Боснии, но в тех же зонах практикуется и применение свечей. Опоясывание начинается от красных (западных) церковных врат и там же, естественно, оно завершается, т. к. цель этого действия еще раз замкнуть пространство (окружить). В 1930 г. в селе Каленич около Ужичкой Пожеги (западная Сербия) во время освящения церкви ее опоясывали полотном две женщины, начиная от западных врат, у которых находилась гробница церковных ктиторов. Опоясана церковь была только полчаса. В селе Цветаиовац в долине реки Ко-лубары (западная Сербия) мать опоясала полотном церковь «за упокой души» своего повесившегося сына. Опоясывание начиналось у портала, у красных церковных врат и продолжалось направо, т. е. посолонь па высоте одного-полутора метров. Церковь оставалась опоясанной всю ночь [Петровий 1932, с. 110—112]. Эго редкий случай опоясывания «за упокой». С той же целью обматывали церковь свечой-плетью в восточ ной Герцеговине, в р-не Невесинья в Кифином селе «за душу» покойных родителей. В селе Удрежне на храмовой праздник в Ильин день до 1941 г. сохранялся тот же обряд: там местная женщина за упокой двух своих сыновей совершила описываемый ритуал одной длинной свечой [ФилиповиЙ 1967, с. 275]. В Валевской Подгорине храмы опоясываются двумя способами в зависимости от функциональной направленности ритуала. Если он совершается для того, чтобы иметь ребенка, опоясывают от церковных врат и до тех же врат вокруг церкви, а если для того, чтобы дети не умирали, от тех же главных (красных) врат от земли до земли через церковную крышу. Опоясывают при этом или полотном, или свечой [Петровий 1932, с. 110—112]. Зафиксирован лишь один случай употребления пряжи. В 1938 г. новую церковь в селе Свиланова (Санджак, Юго-западная Сербия) при освящении опоясали пряжей. В той же зоне известно и применение свечного фитиля. Петрова церковь
Оползание и опоясывание храма
101
около города Нови Пазар была опоясана на храмовой праздник женщинами, страдающими бесплодием. Из фитиля была сделана свеча и свеча пожертвована церкви [Филиповий 1967, с. 206].
Полотном опоясывают только один раз одной штукой, которая может быть и сшитой из нескольких кусков, но должна быть несколько больше длины окружности (сторон) церкви. Полотно женщины ткут сами; тем не менее такая штука полотна — вещь довольно дорогая. Свечей же может быть и несколько одновременно, но должно быть непарное число вплоть до девяти. Однако при стечении множества народа на храмовой праздник число свечей может быть и более девяти. Так, в 30-х годах нашего века, по свидетельству этнографа Бранислава Русича, в монастыре св. Наума на Охридском озере, где покоятся мощи знаменитого ученика Кирилла и Мефодия и просветителя славян, в день совершения его памяти, т. е. в храмовой праздник (27.VII/9.VIII) можно было увидеть более шестидесяти восковых плетей-свечей, обвитых вокруг церкви так, что входящим в храм приходилось сильно нагибаться. Храм этот я посетил в 1977 г. и запомнил, что он невелик по площади. Свечи-плети, как уже указывалось, так же как и полотно, шли в пользу храма: и то и другое нарезалось и продавалось прихожанам. Но есть одно свидетельство, что в восточной Сербии (Ниш, Пирот, Прокупле) опоясывающая храм свеча зажигалась и сгорала на стене храма (храмы в этой зоне могли быть и каменными).
В юго-западной Сербии (Призрен) и в западной Македонии (Галич-ник) опоясывались и старые почти заброшенные церкви и церковные развалины. Они чтились как святые места особо, и в этих местах охотнее производились нецерковные или «околоцерковные» ритуалы, главным образом женщинами. Такое положение было характерно и для других славяно-балканских зон мира Slavia Orthodoxa.
Рассматриваемый нами ритуал достаточно древний. Доказательством тому служат и старые свидетельства, и то, что оп исполнялся и православными, и католиками, и мусульманами славянского проихождения. Католический путешественник и миссионер Григорий (Гргур) Масаре-киа видел в 1651 году в Призрене, как в день св. Анны, т. е. опять-таки в храмовой праздник, к развалинам храма св. Анны приходили верующие «трех законов» — мусульмане, православные и католики, при этом мусульмане то место, где возвышалась прежде церковь, опоясывали длинной свечой-плетью из желтого воска (свидетельство И. Н. Томича) [ГЕМБ 1933, кн>. 8, с. 91—93]. Православные сербки из Призрена и его окрестностей опоясывали старые церкви шерстяной ниткой, из которой они потом
102
II. Архаические ритуалы
плели пояс и надевали его на себя, чтобы забеременеть. В частности, такой ритуал исполнялся на развалинах церкви св. Петра недалеко от старой до роги Призрен Качаник. Пользовались им и сербки-муеульманки, только они первоначально опоясывали шерстяной ниткой мавзолей шейха Гусейна в Призрене [ГЕМБ 1933, кн>. 8, с. 91, 92].
В южной Черногории в Црмнице (племя Мркоевичей) мусульманки, если у них в семье кто-нибудь заболевал, шли к церкви св. Ильи в Печури цах и опоясывали ее ниткой, а потом ту же нитку обвивали вокруг больной части тела (руки, ноги, головы и т. п.), веря, что это принесет выздоровле ние. В южной Македонии на Преспанском озере церковь св. Николая (Ни колы) опоясывали свечой и православные, и мусульманки. При этом, если православные совершали это два раза в год на Николу Зимнего (6/19.XII) и Николу Вешнего (9/22.V), то мусульманки делали это чаще всего в пят ницу до восхода солнца, реже на Байрам или на Рамазан и уже совсем ред ко на Николу. При этом, если православные совершали обряд, чтобы помочь людям (при болезни, бесплодии и т. п.) то мусульманки делали это. чтобы помочь скоту. Так мусульманками с Преспанского озера ритуалы ♦чужой» веры постепенно применялись в «свои» праздничные дни, притом применялись они не к людям, а к другому — животному миру [ГЕМБ 1933, кн>. 8, с. 91—93]. Этот случай можно считать интересным приме ром ритуальной интерференции.
Следует также отметить, что опоясывание женщины совершают по обе ту и что этот обет требует от православных исполнения ряда других предпи саний или запретов: не работать и даже не причесываться в пятницу и в воскресенье в течение всего дня, а также в праздничные дни, регулярно хо дить в праздничные дни в церковь, зажигать свечи и молиться Богу. Следу ет при этом отметить, что праздничный «день» считается с вечера (вечерни) в канун праздника до времени отхода ко сну в день праздника.
Опоясывание храмов отражает народные представления о том, что сакральные постройки одухотворены и живы, как люди, как жива чело веческая плоть. Это мифологическое представление поддерживается не которыми формами храмовой архитектуры. Если посмотреть на храм с этой точки зрения, то нетрудно заметить антропоморфные черты неко торых храмовых построек ’, которые очертанием фундамента напомина
1 Древние храмы имели округлую (ротонда) или осмигранную, крестообразную и продолговатую форму корабля (ковчега). «Ковчег» приобрел постепенно некоторые ан тропоморфные черты, т. к. алтарь стал выделяться, как голова. Подобную аналогию можно провести, если смотреть на храм в вертикальном направлении.
Оползание и опоясывание храма
103
ют, во всяком случае в сербской народной традиции, антропоморфный облик большого трапезного стола, употребляющегося в сакральных целях (при праздновании «славы», при поминках и т. п.), и антропоморфную форму надгробий, являющихся вместилищем души. Эти надгробия могут быть деревянными или каменными, и в обоих случаях они могут олицетво рять или «замещать» покойника, наконец, являться, как показал Миливой Павлович и ряд других ученых, местом обитания души. Ого представление особенно тесно связано с каменными памятниками — массивными камнями, называемыми у сербов камен станац — дословно 'становой камень’ (ср. сербск. стан 'место, где живут’, 'квартира’ и т. п.).
Аниматические народные представления о храме перекликаются с догматическими положениями о церкви, согласно которым Христос есть глава Церкви, а Церковь есть Его тело2. Однако, как правило, христи анские положения абстрактны, народные же представления почти всегда конкретны и обычно материально воплощены. Кроме того, нельзя исключать возможность того, что славянские народные представления во многих случаях старше христианских, хотя каждый раз конкретно такое предположение должно быть подтверждено вескими доказательствами. В данном случае встает вопрос о наличии языческих храмов и культовых мест у славян задолго до крещения славян, что должно быть предметом отдельного и специального исследования.
Сейчас же мы считаем возможным отметить только почитание у славян, в том числе и у сербов, надгробных крестов и их опоясывание, а также напомнить о существовании культа крестов придорожных, обет ных, памятных и т. п. В связи с этим интересно указать на один исторический памятник, к сожалению, до нас не дошедший в оригинале, —
2 Ср. из послания апостола Павла к Ефесянам: ♦Того даде главу выше всех Церкви, я же есть тело Его, исполнение исполняющего всячески во всех» (Еф 1, 22 23), или ♦Истинствующе в любви, да возрастим в него всяческая, иже есть Глава Христос, из которого все тело — при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви* (Еф 4, 15—16). Речь идет, естественно, о церкви земной и видимой по органическому телу ее членов на земле, о церкви — странствующей, но слова эти применимы и к церкви невидимой, небесной — торжествующей. Во всяком случае апостол Павел не относил свои слова к церкви как к постройке, т. е. к храму. В данном случае, как и в примере с рядом слов типа правда — истина, слава — честь, Жизнь — живот, сталкиваемся с противопоставлением церковь — храм по признакам абстрактный’ — ’конкретный’, ’небесный’ ’земной’ и т. п., в то время как в совре менном русском литературном языке это противопоставление отсутствует и заменено сти диетической оппозицией среднего и возвышенного слога (церковь — храм).
144
II. Архаические ритуалы
на крест (столп) на Косовом ноле с надписью, которая сама по себе — художественное произведение3. В панк* время сохранился только список с надписи, но о кресте свидетельствовал в своих мемуарах еще в конце XV в. (битва на Косовом поле произошла 15/28 июня 1389 г.) бывший янычар Константин Михайлович. Показательно начало :ггой надписи но сохранившемуся списку конца XVI века, которое мы даем в оригинале и в русском переводе:
Cie рЕчи пис(а)ни быше на стльпу мраморьну на Косову:
Чл(ове)че иже срьпскые земл1е ступае пришльц ли еси илы су щи ту кто еси и что си егда нрщцыпи на nonie cie. еже гл(аго) Л1ет се Кос (о) во, и по въсЬму узрыш(и) плыю кост и мрьтвыих таж(е) и с ними камеп'но сс(те)ство мене крстовъ ображен'па, и знаменана, нор'Ьд зрнши просто стоеща, да не пр'ЬмФниши и да нс прФзриш(и) якож(е) что туше и сует'но нь м(о)лю те прищи и приближ(и) се кь Mirfc о любима, и расмотр!' словеса яже пряно шу ти и от того имаши разумйти косе рад(и) вини и како и поч то стою азь зде пои еж(е) истину ти г(лаго)лю, немьп’ше от од(у)шевл!ен'наго въеа по сущ’ству хощу ви извЬстити съдЬан'на. Зде некогда... [Радо)ичи11 1953, с. 140].
Примечание: йотированное е передастся диграфом ie, а одна графема у передает и диграф оу, и графему ук. Омега передается через о.
Русский перевод: Эти слова были написаны на мраморном столпе на Косове: О человек, ступающий но Сербской земле, будь ты пришелец или тут живущий, кто бы ты ни был и чем бы ты ни был, придя на это поле <равнину>, что зовется Косовым, ты повсюду уви дишь множество костей погибших <мертвых>, а с ними и каменное ее тество <существо>, меня, в виде креста изображенного, и как знамение прямо стоящего, рядом <с ними> увидишь. Нс проходи мимо <мепя> и не презри <меня> как нечто ненужное и суетное, но прошу тебя, о лю
3 Надпись на столпе-кресте на Косовом поле, которой более века тому назад интсре совался еще А. Гильфердинг, входит в ряд замечательных памятников дрсвнссербской ли тературы, часть которых тематически связана с Косовской эпопеей и которые условно могут быть названы литературно-вещественными, т. к. они были либо вытесаны на кам не, либо вышиты золотом на надгробном покрывале, на церковной завесе. Таковы Похвала князю Лазарю и Запись на хилентарскон завесе монахини Евфимии, в прошлом деспотицы Елены
Оползание и опоясывание храма 105
бимый <мною>, и внемли словам, с которыми я обращаюсь к тебе, и из них ты поймешь, по какой причине, зачем и почему я здесь стою. Ибо я глаголю тебе истину не меньшую <по значению>, чем та, которую бы ты услышал от одушевленного <лица>. Я хочу известить вас о содеянном, <из-вестить> все по существу. Здесь некогда...
Не доказуемо, но в то же время и не исключено предположение, что старый крест на Косовом поле был антропоморфного типа. Этот тип ха рактерен для многих сербских надгробий разных эпох4.
Традиция отношения к кресту как к вместилищу души или душ, как к одухотворенному и даже просто «живому» существу или способному проявить себя как таковое, сохранилась в ряде р-нов Сербии и Черногории. Так, в начале 30-х годов XX в. около развалин старой церкви Брнячи М. С. Влахович видел древний мраморный крест, опоясанный красной ниткой. Развалины Брнячи на реке Ибар (на юго-западе Сербии или на востоке Черногории) считаются священными и целебными, на них народ оставляет монеты, кольца, нитки от одежды и другие мелкие вещи. По мнению местных жителей, если у кого-нибудь болит голова или другая часть тела, то ему следует обвить тонкой свечой голову, руку, ногу, поясницу и т. п., затем снять ее с тела и зажечь эту свечу. Вместо свечи можно употребить красную нитку, которую следует после опоясывания или обматывания отнести к тем же церковным развалинам.
Есть все основания предполагать, что сама красная шерстяная нить часто готовится в особых условиях, со специальными ритуальными действиями, в урочный час и т. п. Свидетельством тому может послужить некоторый недавно собранный полесский материал [Трубицына 1983, с. 113, 114]. Однако, понимая, что это является уже темой отдельной и притом довольно большой работы, т. к. применение красной шерстяной нитки известно довольно широко и вне пределов рассматриваемых обрядов, укажем только еще на один случай из сербской традиции, на елу-
4 Славянская фольклорная традиция знает ряд легенд, предании и представлений о том, что каменные кресты растут живут, ходят, плавают, падают с неба и т. п. Любо пытна полесская легенда о «чесном кресте» (он же «Божи крэст», «Каменна Божа Ма-цеР* — с. Погост, Житковичский р-п Гомельская обл.), бытовавшая наряду с обрядом, исполнявшимся в канун Воздвижения (престольного праздника с. Погост). Согласно этой легенде, по реке Припяти против течения плыли три брата-креста, которые «вознеслись» потом на разных местах: «Осеньнёе ночы каменные крэсты по рэцэ плул!, тры брацьця И1Х плуло, не меньш. Да проц! ж воды. Одзш прощ Семурэдзец уознёсса, друп прощ По-госта> трэщ прощ Турова. Удзень (днем) людз1 оглёдзел! ёго да на собе у вел1ку цэркоу занеся! аж крэст за ноч назад aeiyca.. » и т д [Саскевич 1983, с 146].
106
II. Архаические ритуалы
чай опоясывания прудка, ставка или искусственного озерка (топило), в котором мочат коноплю. Этот случай интересен в связи с опоясывани ем и оползанием церкви и оползанием сакрального озера.
В северо-восточной Сербии, в Хомолье женщины у реки выкапыва ют «топило», наполняют его водой и затем, прежде чем положить в него коноплю для вымачивания, опоясывают «топило» красной шерстяной ниткой, чтобы «волокно было длинное, как нитка». При этом нередко женщины выдергивают из головы самый длинный волос, чтобы коноп лянос волокно «было тонким, как волос» [Милосавл>евий 1913, с. 384].
В македонской народной традиции в зоне Крушева (с. Бунин) и Прилепа четырехметровой свечой из желтого воска опоясывался на смертном одре покойник. Опоясывание производилось не вокруг талии, а вокруг всего тела (как опоясывание церквей), начиная от ног, напра во к плечу и голове, затем вокруг головы и снова к ногам. Свечу нельзя было завязывать узлом; следовало только класть один конец на другой (впрочем, на покойнике не завязывались никакие узлы на одежде и не застегивались пуговицы). В южной Македонии, в Битоле и Охриде, вместо длинной свечи употреблялась шелковая нитка, которой опоясы вали покойника вокруг талии. Такое опоясывание некрашеной шелко вой ниткой известно и в зонах Крушева и Прилепа и может сочетаться с описанным опоясыванием длинной свечой [Русий 1934, с. 98, 99]. Любопытный ритуал опоясывания могилы обнаружен недавно в Северо западной Болгарии. Он заключается в том, что на третий день после по хорон приходят к свежей могиле и опоясывают ее льняной ниткой. По еле опоясывания нитку сжигают (свидетелытво Милены Беновской. Ар хив Ин-та фольклора БАН. София, № 129). На русской территории пока что известен лишь случай обматывания избы пряжей при падеж» скота (д. Новинки Игодовской вол. Галичского у. бывш. Костром ской туб.; запись начала 20-х годов XX в.) [Журавлев 1982, с. 152].
Естественно, возникает вопрос о древности обряда опоясывания церквей, их обхода и оползания, а также о его теистических истоках. Не малое значение для решения этого вопроса имеют материалы из других этнических зон современной Славии.
Весьма интересные факты зафиксированы в Белоруссии в зоне во сточного Полесья. Еще в 1906 г. в небольшой заметке «Памуорак», что значит 'мор, повальная болезнь’, А. К. Сержпутовский сообщил о том, что в селе Большой Рожан (бывш. Слуцкого у. Минской губ.; ныне Со лигорского р-на Минской обл.) от страха перед холерой и повальной бо лезвью после рассказа странника о том, что где-то видели Богородицу,
Оползание и опоясывание храма
107
плачущую и предсказывающую такой большой мор, что некому будет «споживаць» урожай, крестьяне собрались, наложили на себя трехдневный «щиры» пост, т. е. трехдневную голодовку, в которой участвовали все, кроме грудных детей, а затем, на третий день поста, мужчины пошли в лес, срубили там огромную сосну, сделали из нее семисаженный крест и поставили его на видном месте. В то же время все женщины и девушки изготовили пряжу, основали и соткали холст такой длины, чтобы опоясать церковь три раза. Опоясав церковь, они сочли, что принесли жертву Богу. Кроме того, в качестве защитного средства они использовали «живой огонь» [Сержпутовский 1906, с. 76]. Четверть века спустя А. К. Сержпутовский, повторив факты об опоясывании церкви, дополнительно известил, что в том же селе Большой Рожан после опоясывания церкви обыденным полотном это полотно брали, постилали на землю, а другой конец поднимали над землей, образуя своеобразный полотняный обруч. Через него проходили всем селом сами и прогоняли весь скот — «тогды пощасць (мор, эпидемия, повальная болезнь) ужэ не можэ тут даць рады и хуччэй пубйдэ далей шукаць, дз!е ёй .тепш» [Сержпутоуск! 1930, с. 270].
В описанных действиях наблюдается типичное при угрожающих положениях «нанизывание» различных ритуалов в одну линейную последовательность для придания большей силы и эффективности всем сакральным актам в целом. Близкая ситуация обнаруживается в том же Поле сье при исполнении обрядов защиты от засухи или эпизоотии, в которых для вызывания дождя или спасения скота также ткут обыденное полотно [Толстые 19786, с. 98; Журавлев 1978, с. 86—89]. Из обрядов такого типа приведем лишь один, зафиксированный еще в конце прошлого века М. Федеровским в западной Белоруссии (с. Шидловцы Волковы-ского у. Гродненской губ.). Там весною, чтобы град не повредил посевов, собирались женщины со всей деревни в одну хату и за одну ночь напрядали пряжу и ткали рушник, который потом несли в костел и освящали. Затем из этого рушника вытягивали все нитки и наматывали на колья вокруг всего поля. Тогда, считали крестьянки, «Господь сохранит от градобития» [Federowski 1897, s. 275]. Пример этот привел Д- к. Зеленин в своей работе об обыденных полотенцах; его интересе вал способ и время изготовления рушника [Зеленин 1911, с. 5]. Для нас же особый интерес представляет другая сторона обряда, а именно — опоясывание поля ниткой, что можно сравнить с опоясыванием сербского «топила». Для защиты от града в сербской традиции, в сербских «отгонных» обрядовых песнях используется мотив чуда: семилетняя девуш
108 II. Архаические ритуалы
ка, родившая семерых детей, покрывает пелёнками поле и таким образом защищает его от града [Толстые 1981а, с. 75—78|. Хотя мотив пелёнок не сочетается с мотивом опоясывания, но в обоих случаях присутствует тканье как сакральное действие и его продукция: полотно, рушник или пеленки — как сакральные предметы, защищающие от града.
Обряд опоясывания церквей у восточных славян, по имеющимся данным, ограничивается зоной Полесья (северного Полесья) и прилега ющими к нему территориями. Обнаруженная Д. К. Зелениным в «Новгородских епархиальных ведомостях» за 1887 год (№ 14, с. 734) запись о местном обряде у мордвы указывает как будто на более широкое распространение обряда и на его бытование вне восточно славянского этноса, однако, видимо, прав Д. К. Зеленин, что этот ритуал принят лукоя-новской мордвой от поздних соседей, от белорусов-переселенцев. Обряд этот стал календарным. Он исполнялся в ночь на Успенье Богородицы (15/28.VIII) женщинами, которые собирались в один заранее определенный дом. В этот дом приносили холста, кто сколько мог, сшивали его в одну длинную штуку и потом ею в глухую ночь обматывали церковь в два-три ряда. В ту же ночь женщины жертвовали церкви полотенца и платки [Зеленин 1911, с. 5]. Как видно, в данном случае речь идет не об обыденном тканье, а просто об опоясывании церкви, которое, как и в Сербии, производится в глухую ночь. Цели этого опоясывания, однако, не указаны.
Легом 1983 г. в Полесской экспедиции в селе Комаровичи (Петриков-скийр-н, Гомельская обл.) был записан текст, объясняющий, что делали, когда повивальная бабка (баба) родит ребенка. Известно, что повивальная бабка должна быть «чистой», уже свободной от регул. В случае, если же она родит (ср. русскую пословицу «И на старуху бывает проруха»), ткали узкое обыденное полотно и им опоясывали церковь, чтобы «грешный» ребенок не достался нечистой силе. Воспроизводим текст: «Бувае так, шо пуйде у бабы да после родит ребёнка. Чорт сказау <Богу>: „Дайте мне тагб ребён ка, шо дёука родить". А Бог сказау: „Деуки ашыбаюца часто. Дам тябё тагб, шо баба родить". Як ана родить, дак саберуца, напрадуть, наснутбть, наткугь в адин день. Да цэркау малую абвяжуть, шоб рабёнок не папау ня-чйстойсиле» (запись О. В. Беловой).
Текст представляет собой любопытную контаминацию миниатюрной легенды, выраженной в диалоге Бога с чертом, с описанием конкретного обряда, обусловленного рождением необычного и «опасного» ребенка. Именно эта связь обряда с моментом рождения указывает на древнюю глубинную семантику интересующего нас обряда, тем более, что она обнару
Оползание и опоясывание храма
109
живается в большинстве описанных выше сербских обрядов опоясывания церквей, в которых действие irpoизводится бесплодными женщинами.
Опоясывание церкви, судя по изложенному материалу, должно магическим образом вызвать рождаемость, плодовитость женщины, или, ес ли ребенок уже появился, обеспечить ему благоприятное, правильное развитие. Эта последняя деталь основного смысла выступает в полесском варианте, записанном в с. Комаровичи. Однако общую семантику обряда опоясывания следует искать в семантике и символике самого пояса. Кратким изложением этого вопроса, который по существу требует большего и отдельного исследования, мы и закончим наши заметки.
Пояс в европейской средневековой традиции был наряду с плащом, мечом, особой обувью и некоторыми иными предметами атрибутом рыцаря. В «Законнике» сербского царя Стефана Душана (принят 2I.V. 1349 г.) в § 48 говорится, что «если умрет властелин, то добрый конь и оружие принадлежит царю, а большая „свита" <плащ> и золотой пояс — его сыну» [Ковачевий J. 1953, с. 174]. Пояс был символом высшей власти и символом переходящего от отца к сыну вассального достоинства 5. Пояс был прежде всего символом силы в применении к мужской особе и символом девственности или супружеской верности, символом чистоты в применении к особе женской [Stojkovic 1934].
В славянской и шире — европейской традиции пояс выражал символические функции и укреплял символические действия:
а) Вступление в жизнь ребенка. При этом опоясывание, подобно ритуальной стрижке, сопровождалось рядом ритуальных действий.
б) Установление брачных отношений и обязанностей, т. е. вступление в брачную связь девушки. При этом развязывание пояса невесты женихом в свадебном обряде означало подчинение невесты жениху. Женский пояс становился символом верности, порядочности и женской стыдливости.
в) Замыкание, заключение чего-либо в определенных пределах, привязывание чего-либо (кого-либо) к определенным пределам. При этом в родишюм обряде при родах женский пояс обязательно развязывался и снимался. В рождественском обряде в круге, образованном поясом, кормили кур, чтобы они держались дома и т. д., и т. п.
г) Оплодотворение, сексуальную силу, рождение. При этом особую роль играет мужской (мужнин) пояс, который в свадебном и других обрядах, по народным представлениям, провоцирует рождение мальчиков.
5 Отмеченный в «Законнике» юридический обычай известен был у русских крестьян в начале XX в. См. ниже свидетельство об этом И. В. Костоловского.
НО
II. Архаические ритуалы
д) Способность защиты от нечистой силы. При этом пояс считается весьма эффективным средством от ведьм, от чумы, от холеры и от других бед.
В связи с последней магической функцией пояса интересно привести один пример из восточной Сербии (Болевацкий срез), который перекликается с приведенным выше материалом. Чтобы защититься от холеры, все жители одного дома снимали с себя пояса, делали из них один длинный пояс и опоясывали им свой дом. Л чтобы защитить все село, два близнеца впрягали в плуг двух черных волов и опахивали все село [Грбий 1909, с. 239, 240]. Как видно, обряд опоясывания в защитных целях очень близок к обряду опахивания [Журавлев 1978, с. 86—89] и может даже выполняться одновременно с ним и с той же целью.
Многочисленны примеры не только развязывания пояса роженицы при родах, но и употребления пояса ксендза, «пояса св. Анту на» (у хорватов), как уже указывалось, мужнина пояса, пояса, в котором венчалась женщина, наконец, пояса, которым было произведено магическое действие освобождения лягушки от змеи. По представлениям жителей е. Оток (Славония), если кто-либо увидит змею, схватившую лягушку, тот должен быстро снять пояс и бросить его на змею и лягушку. Змея тотчас освободит лягушку. Затем пояс следует отложить и приберечь для трудных родов. При трудных родах на роженицу следует повесить этот пояс, и она освободится от плода так же быстро, как змея в свое время отпустила лягушку [Filipovic 1969а, s. 15]. В иных традициях лягушку от змеи принято освобождать палкой, и эта палка у сербов помогает при отеле рогатого скота, а у полешуков, вообще восточных славян и поляков при отгоне градовой тучи.
Наконец, известны примеры из древней литературы, когда поясом, лежавшим на Гробе Господнем, опоясывались монахи (вероятно, непосредственно по нагому телу) и носили его, не снимая, на чреслах. О таком случае, в частности, говорится в письме св. Саввы Сербского игумену Спиридону [ДаничиЪ 1975, с. XXV/231: Daniele 1872, с. 231]. Лыковым поясом, опоясанным «но голе пльти», лечились от мужского бессилия (сербский список XV в.) [РадоргчиЙ 1962, с. 213]. Древнерусские «Два правила монахом» предписывали в качестве епитимии чернецу, легшему спать распоясанным, восемь поклонов (Устюжская кормчая XIII в.) [Смирнов С. 1912, с. 34].
О значении пояса в жизни русского крестьянина еще в начале нашего века писал И. В. Костоловский: «Редко можно встретить среди крестьян Ярославской губернии, да и вообще в России, чтобы кто-нибудь
Оползание и опоясывание храма
111
ходил без пояса. „Без пояса ходить грех", — говорит парод. Опоясыва ются мужчины по рубахе, опоясываются и женщины. Пояс считается предметом священным, т. к. он, по словам крестьян, дается каждому при крещении. Деревенские дети бегают по деревне в одних рубахах, но непременно с поясом. Особенно неприличным считается молиться Boiy без пояса, обедать без пояса, спать без пояса... По поверию крестьян, подпоясанного человека бес боится; подпоясанного и „шишко" (леший) в лесу не заведет» [ Костоловский 1909, с. 48, 49].
Глубинная семантика пояса заключается в 'силе’, прежде всего в 'силе рождающей, детородной'. Как частное проявление этой силы выступает 'мужская сила’, 'сила зарождающая’, а как социальное проявление этого смысла — 'сила власти’, 'сила старшинства’ (в семье, общине, ро де и т. д.). В отношении к женскому поясу и женскому полу речь идет опять таки о силе и о способности деторождения, которая по народным представлениям должна обуславливаться предшествующей чистотой девичества и честностью брачных отношений. Пояс может быть силой, противостоящей нечистой силе и болезням. В Полесье на Житомирщине полагают, что ведьм можно ловить освященным поясом. Но славянский фольклор знает примеры, когда поясом пользовались и представители сверхъестественного мира — вилы и подобные существа.
Указанные семиотические и ритуально семантические связи пояса с силой выступают и на языковом уровне. Так, славянский корень *dqg-родствен корню ’d'yg-. В корне наблюдается древнее чередование е/о с носовым призвуком. Славянское русск. диал. дюжий (где ж из г, а у из носового о) означает, как известно, 'сильный, мощный, крепкий’. Тот же набор значений характерен и для русск. диал., псковск. дяглый 'сильный, могучий, крепкий’ и для псковск. диал. дяг 'буйный рост’, в то время как псковск. дягло — 'молока, рыбья семенная железа'. В Словении же dega 'род пояса, ремень’, это же значение можно ветре тить и в Мозырском Полесье (с. Корма. Лельчицкий р-н), где дяш. 'ремень, опояска’, но чаще в Припятском Полесье — 'полоса лыка (лило вого, вязового, ивового)’, 'драница для короба’, 'полоса рваной одеж Ды’. С появлением новых типов ремня (не лыкового) название дяга уступило свое место лексемам пасок, пдйас, попруга, ремшь, но сохра пилось в полной мере дчя полосок лыка, из которых в народе еще в недавнем прошлом делались пояса в виде ремней (Толстой 1977, с. 115, 116]. Словенский же язык сохранил древнее значение, зафиксированное в древнерусском Изборнике Святослава 1073 г., где на 56-м листе к слову тер’Ьсуолщ имеется глосса <-рбл\ньл\ь. дагълль» |1Пмчук 1980,
112
II. Архаические ритуалы
с. 14, 15]. Сакральное значение dega! dega! dega! у кашубов со смыслом 'сила! сила! сила!’ до сих пор бытует в обряде бритья на второй день Нас хи девушек парнями, а на третий день Пасхи парней девушками. У тех же кашубов dёgovac означает совершать это обрядовое битье, a zdego vac 'обрюхатить’, о чем подробнее см. выше: [паст, изд., с. 63—77 — Толстой 1982, с. 59—61].
Р. S. Двум моим друзьям-филологам я признателен за неоценимую помощь в трудном деле добывания литературы — Андрею Витальевичу Тарасьеву (Белград) и Ирине Родионовне Килачицкой (Москва).
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Из славянских этнокультурных древностей. 1 Оползание и опоясывание храма Ц ErjpELOJTixr]. Труды по знаковым системам. 21. Символ в системе культуры. Тарту, 1987, с. 57—77.
Элементы народного театра в южнославянской святочной обрядности
Более полустолетия тому назад Л. И. Белецкий, заинтересовавшийся за латками театра в народном быту и школьном обиходе XVII— XVIII вв., в своей книге «Старинный театр в России» писал: «детская или народная иг ра, деревенская пляска в иных случаях ближе подведут нас к решению вопроса о том, что такое театр и каким он должен быть, чем произведение ве ликого драматурга, поставленное на хорошо оборудованной сцене и разыгранное лучшими актерами» [Белецкий 1923, с. 5, 6].
В наше время, после выхода в свет целого ряда исследований, среди которых следует выделить монографию П. Г. Богатырева «Народный те атр чехов и словаков» [Богатырев 1971, с. 11—116], это положение в принципе не вызывает сомнения. Открытым остается вопрос «каковы истоки, какова предыстория славянского народного театра?» На него недавно попытался ответить В. Е. Гусев в своей интересной работе «Ис токи русского народного театра» [Гусев 1977]. В. Е. Гусев, обобщая опыт предшествующих исследователей (А. Д. Авдеева, Л. М. Ивлевой и др., см.: [Авдеев 1959; Ивлева 1974; Савушкина 1976]) и развивая его, отметил, что «драматизм», т. е. театральность, можно найти в раз ных жанрах фольклора (даже в заговорах, плачах, балладах, сказках), но в фольклоре следует искать такие виды, сама природа которых является драматической. Драматическое творчество в фольклоре и в народ ных обрядах можно усматривать тогда, когда действие определенным образом отражает действительность и когда оно же выражает отношение к ней человека, когда деятели («акторы»), перевоплощаясь, не являются сами собой, не тождественны самим себе и когда, — на этом особенно настаивает В. Е. Гусев, — все действо (уже не действие, а «действо»!) эстетически направлено, когда действие имеет эстетическую функцию, когда преображение деятеля («актора») вепет к созда
114
II. Архаические ритуалы
нию художественного образа. Но именно для создания художественного образа необходим еще один момент — некоторая сюжетность действия, делающая его театрально драматическим. И, наконец, еще одно общее и, видимо, обязательное условие: разделение участников обряда (либо фрагментов обряда) или какого-либо иного исполнения на активных и пассивных, на акторов и зрителей. Для театра нужен зритель и именно на его присутствие рассчитано действо.
Такое понимание способствует выработке дифференцированного под хода к разным обрядам (или их фрагментам), усмотрению в них раз ных видов и тилов театральности, осознанию сущности некоторых эво люционных процессов, конечным результатом которых явился современный театр. Исследователь «дотеатральных» моментов в народном твор честве, в народной обрядности должен, видимо, обращать особое внима ние не столько на яркость или многочисленность этих моментов, сколь ко на их функциональную направленность, на их структуру, на их мес то в структуре фольклорного произведения или обряда, наконец, на структуру самого произведения или обряда.
Театральные элементы в славянской семейной обрядности, прежде всего в свадебной, настолько ярки, что о них говорили уже давно, да и само описание свадебного обряда может быть дано в театральных тер минах (пролог, эпилог, действие, акт, действующие лица, роли и т. п.). Находятся эти элементы и в окказиональных обрядах, т. е. в обрядах к случаю (например, вызывание дождя: додолы, похороны Макарки и т. п.), присутствуют они и в обрядах календарных, т. е. входящих в годовой цикл. Именно последние — календарные обряды, организованные в до«таточно строгую и последовательную, хотя и открытую систему, и представляют наибольший интерес для избранной нами проблемы.
Календарная обрядность, как показывают наблюдения над историей некоторых фольклорных жанров, была одной из баз, на которой или в связи с которой возникали и развивались славянская песенная поэзия, сначала календарная, а потом частично и «'календарная, славянский мелос, в значительной мере и славянское прозаическое народное твор чество, см.: [Пропп 1946; Земцовский 1975]. О календарном цикле можно говорить как о прямом источнике текстов разных фольклорных жанров и как о системе, так или иначе повлиявшей на характер этих текстов. В свою очередь сам календарный цикл не был целиком изна чальным, он развивался и складывался во многих звеньях за счет окка зиональных обрядов и других источников, как мы постараемся показать ниже на одном конкретном примере.
Элементы народного театра в ...святочной обрядности
115
Предметом наших наблюдений будет часть святочных обрядов, святочное ряженье в зоне Македонии и примыкающей к ней южной Сербии и западной Болгарии. Святки, как известно, во многих местах у нас на Руси делятся на «святы вечера» (25.XII — 1.1 ст. ст.) и «страшны вечера» (1-1 — 6.1 ст. ст.) [Макаренко 1913, с. 135, 136; Чичеров 1957, с. 73]. У сербов, македонцев и болгар им соответствуют некрштени да ни ненастней дани, бабини дани, погани дни, мръсни дни и т. д. *, время разгула нечистой силы, сезонных бееов (шуликунов у севернове-ликорусов, караконджул, тарамбаб, осень, таласымов у православных южных славян). Тогда же ходят и специально и хорошо организованные группы ряженых (джамалари, бабари, еасиличари, еигкари, русалии), насчитывающие до 30—50 человек каждая [Арнаудов 1972, с. 7—218; Арнаудов 1943; Ъор1)евий 1931, с. 82—97].
Действующие лица в группах в отдельных районах или даже в отдельных селах бывают различные, иными словами, в святочных представлениях македонских или западноболгарских ряженых наблюдаются диалектные особенности. Изложим поэтому вкратце несколько типи1! ных и достаточно распространенных действий.
В Скопской котловине в джамаларской 1 2 дружине, состоящей из мужчин молодого и среднего возраста, выделяются четверо специальных артистов («маскараджии»), играющих двух стариков и двух женщин — молодуху («невеста») и гулятцую («орвана»). Старики одеты в старческую одежду с лохмотьями, с обязательными звонками и звоночками у пояса и на ногах, с бородами, часто с искусственным горбом, с посохами, а молодуха, или невеста, и ее гулящая мать — в женских нарядах, в национальных костюмах, соответствующих возрасту. Остальные участники не рядятся особый образом, а лишь запасаются корзинками,
1 Ср. немецк. Rauchnachte, Spuckn'achte, zwblfNachte или driMen Doge, Lostage, Do sungsnachte, французск. Jours de lots, douze jours, испанск. Duodenario misdco, итальяиск. calende, английск. Twelfth, Darfl Days, фламандск. и валлонск. Twaalf Nachten, румынск. ca^legi [Зимние праздники 1973, с. 27, 48, 59, 74. 85, 153, 288]
2 Слово джамалар (цамалар) означает члена святочной дружины, которая обычно носит джамалу (от арабск. gamal 'верблюд’ через турецкое посредство; ср. турецк. camala 'молодежные танцы и игры после молотьбы’). Джамала в с. Бобошево (Кюстен-Дилский округ, зап. Болгария) — деревянная, раскрывающая рот и лязгающая зубами лошадиная голова, обтянутая бараньей кожей и надетая на палку Носит ее джамалар, Одетый в волчью или медвежью шкуру или в вывернутый кожух, с множеством звонков и больших бубенцов [Кепов 1936, с. 118].
116
II. Архаические ритуалы
бочонками и мешками для подарков припасов. Среди них имеются и музыканты, из коих двое с волынкой и свирелью («гайда» и «шупслка») всегда сопровождают основную четверку стариков и баб. Вместо бубна они пользуются жестянкой или жестяной кастрюлькой. При этом поются специальные джамаларские песни.
Прежде всего:
Охо, хо, цамала по мёне млада по тебе стара охо, хо, цамала.
Охо, хо, джамала Для меня мала для тебя стара охо, хо, джамала.
и другие в зависимости от места и хода действия (на улице, у дверей дома и т. д.).
Войдя в дом, молодка целует руку хозяину, а тот ей в ответ дает де нежку, затем она садится на колени к хозяину, обнимает его и щиплет ему щеку, потом идет к столу’ и требует скалку, которой она как бы раскатывает тесто для пирога для своей дружины, затем хватает у очага крышку противня и начинает ею размахивать, задевая всех присутствующих. Ее «мать», она же «гулящая», ходит с прялкой и подсмеивается над молодыми хозяйками, в то время как остальные джамалары танцуют вокруг очага специальное оро (ситното оро — танец), образуя подвижный фон всего действа.
После первой интермедии, или первого действия с молодкой и гуля щей, происходит действие со стариками. Старики начинают ссориться из за плохого поведения молодки (невестки).
Первый старик говорит: «Не си ja научил невёстата на ред!» (Ты не приучил молодку к порядку!). Второй отвечает: «И ти не си ja научил!» (И ты ее не приучил!) На этой почве возникает драка и один старик «убивает» другого. Старик-«убийца» говорит хозяину: «Домакине <следу-ет непристойность> го утопав другарот!» (Хозяин, я убил товарища!) На что хозяин отвечает «Ти го бтепа, ти тражи му чаре!» (Ты его убил, ты и ищи ему исцеления!). После попытки бежать и отказа дружины бежать без «убитого» старика, «убийца» предлагает содрать кожу с «убитого» старика, потому что у него «много згоги» (много полезного). Возникает диалог между «убийцей» и хозяином о пользе частей тела «убитого» старика: рот может послужить ночным горшком, борода — щеткой для подтирки, нос — масленкой, руки и ноги — болванками для бондарных досок, кишки — струнами и т. д. Когда дело доходит до фаллоса.
Элементы народного театра в ...святочной обрядности
117
«убийца» говорит: «Има уште нешто домакине! Во сёлово има сува река, кога кё врне, кё надойде реката (показывает на фаллос убитого старика), кё си го туриш место мост, свите кё пройдат по суво, ти до nojac во вода, згодно Kaj Водно» (Есть еще что-то, хозяин! В этом селе есть высохшая река, когда пойдет дождь, поднимется река (показывает), ты его положишь, как мост, все пройдут по суху, а ты по пояс в воде. Всем угодно, как в селе Водно!). «Да го дигнеме мостов?» (Поднимем этот мост?), — спрашивает «убийца» и бьет навоем (часть ткацкого станка) по «убитому» старику. «Убитый» вскакивает3.
Начинается третья часть представления. Воскресший старик обращается с вопросом к хозяину о первом старике-«убийце»: «Што те лажеше ова куче овде?» (Что тебе врал этот пес здесь?). И продолжает его поносить самыми последними словами, называя первого старика собакой, лжецом, пи тающимся падалью и человеческим трупным мясом 4. Но все кончается примирением, за которым следуют танцы оро, посвященные последова телыю старшему хозяину, хозяйке, молодкам, детям, скоту, зайцам мт. и., соответственно с определенным ритмом, мычанием, заячьими прыжками на корточках и т. п. Джамаларов щедро угощают вином, ракией, разными закусками, затем им дарят перец, лук, масло, мясо, сало, колбасы, муку и т. п. Цель джамаларских игр, по представлению ряда исследователей и самих исполнителей, — изгнание нечисти: «конджол», «тарамбаб», «гребогаз
3 Нами излагается запись Веры Клинковой, (Кличкова I960], сделанная в селах Скоп-ской котловины, т. е. в селах, близких к македонской столице. Интересны и записи Лепоса-вы Спировской, произведенные в соседней Велесской зоне (на юго-восток от Скопле, ниже по течению р. Вардар). Отметим лишь один вариант. «Убитый» старик, прийдя в себя, рассказывает, что он видел «на том свете». Оказывается, что это были: полный бочонок вина у хозяина, вино для василичаров (джамаларов), а бочка для хозяина. Рассказ о том свете рассказывается лишь по просьбе хозяина (Спировска 1975, с. 363—367].
4 Изложенный драматический сюжет имеет свою интересную параллель на Русском Севере. Н. И. Савушкина приводит ряд новых записей, сделанных экспедицией МГУ под ее руководством (1965—1966 гг.): «„Макарушка” — ряженый на святках, покойник. Принесут в дом. положат, будто бы помер. Нарочно лохань прольют, причитать начнут:
Ой Макарушко помер
Да добречка с собой не носи.
И с кадилами ходили, попа изображали, и было тут чудес... Сравнительно немногие записи фиксируют оживание покойника...» (Савушкина 1976, с. 42]. Связь этого святочного ритуала-игры с древним славянским обычаем игр рядом с покойником (в похоронном обряде) недавно вновь на большом материале убедительно продемонстрировал В. Е. Гусев в статье «От обряда к народному театру (Эволюция святочных игр в покойника)» (Гусев 1974].
118
II. Архаические ритуалы
цев», «вештериц», «вампиров», «чумы», «холеры», «самовил» и других скверных духов, которые беснуются и шалят в эти «некрещеные» дни. Таким образом, все действо воспринимается как ритуал, чем оно, конечно, и является, однако у него есть и достаточно ярко выраженные театральные черты, о чем речь будет ниже.
Изложенное описание, выполненное в послевоенный период македонским этнографом Верой Кличковой, — самая полная научная фиксация джамаларского действия 5. Все иные описания менее подробны, однако они дают довольно интересную картину диалектного разнообразия обряда.
Так, Йордан Захариев, описывая действия джамаларов в западной Болгарии (Кюстендилский край), приводит в качестве обязательного момента сцену соития с молодухой, помимо шутовского венчания, танцев хоро и ряда иных вольностей [Захариев 1918]. В той же зоне, в подзоне, именуемой Каменица (Кюстендилский округ), тот же автор от мечает наличие у «дедов» больших деревянных фаллосов, скрытых под лохмотьями, демонстрируемых в определенных ситуациях [Захариев 1935]. Некоторые авторы не останавливаются на этих моментах, относя их просто к разряду непристойностей, в то время как в них заключен основной ритуальный смысл обряда — вызывание плодородия. В селе Бобо шево (зап. Болгария), где бытуют зимние «джамалари», известно устное предание о летнем («яновденском» — купальском) обряде, центральным моментом которого оказывается соитие мужчины и женщины на житном поле6. Его цель та же: придание плодородия земле, полю.
5 Джамаларская дружина и вся цепь джамаларских действий введены в драму македонского драматурга Ристо Крле «Парите са утепувачка» («Деньги — это убийство). Македонский национальный театр показал ее в 1976 г. в Москве и Ленинграде.
6 «Рано утром, еще в сумерках, пожилые женщины выходят в поле и входят в хлеба. Одна из них раздевается донага и проходит по всем хлебам, срывая на каждом поле по нескольку колосьев. Эти колосья женщины делят между собой и несут домой, бросая в амбар и привлекая таким образом чужой урожай на свое поле. Это называется «обир на житото». Проходя по ниве, ведьма, отбирающая плоды чужого труда, спрашивает: «Брате Яно-о, знает ли оти сам ти дошла?» (Брат Иван, знаешь ли, зачем я к тебе пришла?) ♦За к... ми си дошла», — отвечает ей спрятанный средн колосьев или на меже хозяин, ловит ее, лупит ее как следует, а иногда и бесчестит, что не считалось ни грехом, ни преступлением. Есть смутные воспоминания о том, что «когда-то такие дела нарочно устраивались для встречи тех мужчин и женщин, которые в юности хотели жениться друг на друге, но не смогли» [Кепов 1936, с. 129]. В том же селе Бобошево в день св. пророка Иеремии (1/I4.V) «...молодки... еще на утренней заре выходят на какую-нибудь поляну, поросшую травой, и друг с дружкой кувыркаются по росистой траве, произнося: „яш,
Элементы народного театра в ... святочной обрядности 119
С другой стороны, театральность описанного джамаларского действия заключается в вводе новых персонажей в отдельных диалектных зонах в джамаларское представление. Так, возможен поп с котелком с соленой водой, читающий «евангелие», в котором все навыворот: мясопуст приходится на пост, а пост — на мясопуст, Петров день оказывается в декабре, а жаркие дни случаются в январе (Каменица, зап. Болгария) [Кепов 1936, с. 128]. Возможен и верблюд с погонщиком, и милиционер, и «воевода», судящий о распрях, и «доктор», лечащий упавшего в обморок старика, наряду с попом, читающим над стариком молитву (села Булчани, Кучково и др., Скопская котловина) [Филиповий 1939, с. 379, 380]. Все это говорит о большой «открытости текста» джамалар-ского действа, о его восприятии и как театра, как представления, как развлечения.
Из персонажей, относящихся несомненно к ранним джамаларским текстам, следует отметить медведя и особенно волка (Скопская котловина) [там же, с. 379, 380]. О волке, к сожалению, в описании не приводится подробностей, хотя, как будет видно из дальнейшего изложения, этот персонаж очень важен для понимания древней ритуальной стороны действия.
Говоря то о ритуальной, то о театральной стороне действия и воспринимая их по определенному параметру как полярные и даже в каком-то отношении взаимоисключающие, нельзя не отметить типичного для народных обрядов святочного цикла синкретизма ритуального и театрального начала, синкретизма, по-разному проявляющегося в разных селах и местностях. Известное в науке положение о развитии театра по пути «от ритуала к зрелищу» может быть прослежено на разных вариантах джамаларского обряда.
Рассмотрим сейчас элементы еще одного варианта — южномакедонского (район г. Кукуш) обряда, известного под другим именем — «русалии», где ритуал выступает достаточно рельефно.
п... трева!”. Считается, что именно в этот день падает первый град» (Кепов 1936, с. 128]. Во втором описании, во втором (весеннем) действии легко увидеть при сравнении с первым переход от самой простой, чисто имитативной магии к магии, приближающейся к обряду, к ритуалу, т. к. само имитирующее действие уже не производится, а скорее символизируется. Символизация происходит путем имитации имитации: если действие первой пары имитирует оплодотворение земли, то действие второй пары — кувыркание — имитирует действие первой. Имитация имитации может продолжаться. Таким продолжением уже будет кувыркание в одиночку при первом громе, кувыркание на ниве (в пору жатвы) и т. п.
120
II. Архаические ритуалы
Этот обряд, исполняющийся в те же «некрстени денови» или «погани дни», с теми же целями сбора даров и денег, часто и в благотворительных целях, описан давно, в конце XIX в. (Шапкарев 1968, с. 713—725], а ма териалы этого описания использованы в знаменитом труде А. Н. Веселовского «Разыскания в области русского духовного стиха».
В русалийскую дружину в Кукуше входило 20—30 человек мужчин от 20-ти до 40-летнего возраста, объединенных в неразлучные пары («как две руки и две ноги одного тела» — по определению К. Л. Шапка рева). Они были одеты особым образом и вооружены обнаженными мечами. Члены дружины уходили из дому и не возвращались до Крещенья, притом прощание с близкими было таким, как будто они шли на войну. Все они, кроме двух главарей (глава тара), алебардщика и разбойника (балтаджия и кеседжия) и двух стражников (чауши) хранили строжайшее молчание, не крестились, не приветствовали никого при питье и встрече, при танцах, а при хождении и прыганьи каждый член пары должен был наступать точно на то место, где до него наступил его това рищ по паре, т. е. след в след. При переходе из села в село нельзя было входить в воду, брести вброд, а следовало либо перепрыгивать воду, ли бо переезжать ее на телеге и т. д.7. Мужские пары не разъединялись ни при каких обстоятельствах, даже когда одному из двух приходилось остановиться, чтобы испить воды или по нужде.
В обязанность руеалийцев входило танцевать ритуальный танец с об паженными мечами (ср. кавказские танцы с саблями) под звуки двух барабанов и двух зурн. При этом стражники собирали пожертвования в шапку, которую держали в левой руке. Если на пути дружины попадал ся перекресток, колодец (источник), высохшее дерево, старое кладбище или церковь, русалинская дружина три раза обходила их, танцуя хоро 8. Если же на пути встречался мертвец (похоронная процессия), то руса-лийцы сбрасывали покойника с носилок на землю, по очереди перепры
7 Ср. переправу через воду в некоторых великорусских похоронных обрядах (напри мер, олонецком) и ту же переправу в свадебном обряде, см.: (Потебня 1868]. Подобные переправы, очевидно, означают переход из одного мира в другой, из одной ипостаси в другую.
8 Любопытно отметить, что в представлении восточных славян некоторые из перечисленных мест четко различаются как нечистые (перекресток) и чистые (церковь), в принципе такое противопоставление не чуждо и южным славянам. В «погани дни», види мо, для руеалийцев признак чистоты—нечистоты нейтрализуется, хотя представление об исключительности места остается.
Элементы народного театра в ... святочной обрядности
121
гивали через него и затем шли дальше. Наконец, если на их пути ветре чалась такая же, подобная им, дружина, то одна должна была покориться другой, соблюдая определенный ритуал. Но покорность проявля лась по преданию далеко не всегда, и тогда происходили сражения, иногда со смертельным исходом для кого-нибудь из участников. Убитых в таком сражении хоронили на месте их гибели без отпевания и каких-либо церковных обрядов.
Эти и некоторые другие, нами опущенные черты и детали говорят о характерном «антиповедении» членов русалийской дружины, о том, что их действия и повадки проникнуты хтоническим, бесовским смыслом, о чем свидетельствует и число два (пара), и перепрыгивание через покойников (превращение его в вурдалака или в себе подобного), и отказ от крестного знамения, и многое другое. Между прочим пара могла озна чать и двойственность одного человека (его присутствие на этом и том свете), и знаменовать собою элемент близнечного культа.
Хтоническая, бесовская сущность, кстати говоря, не всегда отрицательно направленная (ибо она может не нести смерть и гибель, а скорее наоборот — здоровье 9) русалийских действий четко выявляется в заключительной фазе всего обряда в целом в день Крещения, когда дружина, соблюдая сложный нецерковный ритуал, приходит в шапках в церковь и сменяет обнаженные мечи на зажженные свечи, которые все держат в руках уже с непокрытой головой. Только после этого заключительного акта члены русалийской дружины возвращаются домой.
С тех же театроведческих позиций могут быть рассмотрены и другие драматизированные рождественские и новогодние обряды — джамала ри, бабари и василичари, а также окказиональный. некалендарный об ряд вучари — обход с убитым волком (см. следующую статью «Балканославянские обряды...», наст, изд., с. 123—134).
Таким образом, на наш взгляд, даже современные, сохранившиеся в реликтовом виде обряды свидетельствуют о процессе, начавшемся за тысячелетия до наших дней, о процессе развития от акта имитативной магии, от окказионального ритуала или обряда, иногда от семейного обря
9 «Если в каком-либо доме лежит тяжелобольной, который не может выйти из дому, а» двор или на дорогу, чтобы его увидели и над ним скрестили мечи „за здоровье ”, то тогда туда (в этот дом) входит вся дружина, все ее члены скрещивают над ним оружие, и домашние и сам больной верят что получат здоровье» [Шапкарсв 1968. с. 720]. Почти полная параллель этому ритуалу обнаруживается на Кавказе, в частности у абхазов где вооруженная дружина танцует вокруг больного, см. [Чургин 1957, с. 212].
122
И. Архаические ритуалы
да к календарному обряду, затем от календарного обряда к театрализованному действу и, наконец, от действа к зрелищу. Следует, однако, учитывать, что такой путь — не единственно возможный, вернее не столь прямолинейный. Современные обряды — результат длительного процесса скрещения, взаимодействия и взаимного влияния в сфере народной духовной культуры. Нельзя отрицать и возможность влияния в отношении отдельных элементов, календарных обрядов на окказиональ ные, хотя вообще окказиональные славянские обряды — одна из найме нее изученных областей народной славянской духовной культуры, и их соотнесение с обрядами других циклов (семейными, календарными) и текстами иных жанров (заговорами, заклинаниями, детскими песнями и т. п.) не определено.
Исследуя исторические корни волшебной сказки, и находя их прежде всего в обрядах, В. Я. Пропп писал, что сами обряды «переосмыслялись», развивались. «Таким образом, — рассуждал известный русский исследователь, — может получиться, что фольклорист, сводя мотив к обряду, найдет, что мотив восходит к переосмысленному обряду, и будет поставлен в необходимость объяснить еще и обряд. Здесь возможны случаи, когда первоначальная основа обряда настолько затемнена, что дан ный обряд требует специального изучения. Но это уже — дело не фольклориста, а этнографа» | Пропп 1946, с. 14]. То же можно сказать об исторических корнях народного театра: они уходят в глубь веков так далеко, что их изучение должно вестись этнографом компаративистом, живо ощущающим широту и синкретичность всей системы народной ду ховной культуры (в данном случае — древнеславянской) и глубину’ ее исторических, жанровых, мифологических, символических и языково психологических связей. Жатва tfeo мънога а Д'йлАтель мало.
Печатается в сокращенном варианте. Первая публикация:
И. И. Толстой. Элементы народного театра в южнославянской свя-
точной обрядности Ц Театральное пространство. М., 1979, с. 308 - 326.
Балканославянские обряды структура и география
Пр» определении балканизмов в языке и культуре целесообразно исходить из одного принципиального положения. В самых общих чертах оно сводится к следующему; явления и чергы, объединяющие славяно-балкан ские и романо-балканские языки с другими балканскими языками — новог реческим и албанским, и в то же время отличающие их от остальных славянских и романских языков, можно считать балканизмами. 1 е же общие для балканских языков черты, которые прослеживаются также в восточно-и западнославянских языках и в языках западнороманских, к балканизмам не причисляются. Это положение относится не только к языку, но и к явлениям народного менталитета и культуры. Именно под таким углом зрения здесь рассматриваются южнославянский обряд вучари (дословно 'волчатники’), распространенный в юго-западной и центральной части Балкан ского полуострова, а также обряды Тодорица и Бадняк.
Вучари
При рассмотрении каждого отдельного обряда, его диалектных разновидностей. следует иметь в виду, что некоторые локальные варианты могут носить балканский характер, а некоторые лишь содержать балканские элементы обряда или вовсе быть лишенными таких элементов. Что касается общей структуры обряда, то ее можно представить в виде схемы, раскола гающей во временной последовательности отдельные действия или ритуальные акты, числом не более десяти: а) охота на волка и его убийство: б) внесение волка в село к хозяину, пострадавшему от волка; в) прием у пострадавшего хозяина; г) обход дворов с убитым волком или чучелом (куклой) волка, получение даров и угощений; д) разыгрывание сценок
124
П. Архаические ритуалы
(дед и баба и т. п.); е) обход дворов в соседних селах; ж) возвращение в родное село; з) дележ даров на равные части; и) общий пир охотников и обходчиков; к) продажа шкуры, головы, сала, щегины волка. Естественно, что не в каждом конкретном обряде представлены все десять пунктов, как это будет видно из дальнейшего изложения.
Вероятно, первым, кто обратил внимание на обряд «вучаров» и записал текст «волчьей песни», был Вук Караджич. В первой книге своего собрания «Српске народне njecMe» (1841) он сообщил, что еще в годы детства, которое прошло в севере западной Сербии, в Тршиче, он видел, как люди, убившие волка, ходили по дворам с волчьей шкурой на палке и просили шерсти. К этому он добавил, что в Далмации делали чучело волка, набитое соломой, вставляли в ноги деревянные колья, а в пасть — язык из красного сукна и обходили дворы, ставя перед домом волка на землю. При этом просили зерна, соли, сала и т. п. и пели:
Домабине, роде ^или доме) moj, ево вука пред meoj двор! Гони вука од кубе, нц/е добар код кубе, пода] вуку сочице — да не коле овчице, nodaj вуку варице (пшенице), да не коле japiafe, nodaj вуку вунице — да не коле ]унице, подай вуку сланине — да не слази с планине, nodaj вуку свашта доста да не коле око моста!
Хозяин, родной мой, вот волк перед твоим двором! Гони волка от дома, Он опасен возле дома; дай волку сольцы — чтоб не резал овечек, дай волку каши (пшеницы), чтоб не резал ярочек, дай волку шерсти — чтоб не резал телушек, дай волку сала — чтоб не спускался с горы, дай волку всего вдосталь, чтоб не резал возле моста!
[КарациЙ 1953, с. 523, 524].
Аналогичный текст был записан почти полтора века спустя в юго во сточной Сербии — в Поморавье, в зоне г. Алексинац. Там также потро-шили волка, набивали его соломой, насаживали на вертел, обвешивали красным перцем, пенькой и звоночками, шли по домам, ставили волка перед дверьми на деревянные ноги и пели:
Домабине, газдо Moj, Ево вука пред meoj дом.
Хозяин, хозяин мой, Вот волк перед твоим домом
Балканославянские обряды: В у ч а р и
125
Гони вука од кубе, Huje добар код кубе, Hodaj вуку сланине, Да не слази с планине, Hodaj вуку солчице, Да не коле овчице, Hodaj вуку вунице, Да не коле jyiiuye, Hodaj вуку свашта доста — Да не коле око моста...
Гони волка от дома, Нехорошо, когда он возле дома, Дай волку сала, Чтоб не спускался с горы, Дай волку сольцы, Чтоб не резал овец, Дай волку шерсти, Чтоб не резал телушек, Дай волку всего вдосталь — Чтоб не резал возле моста...
Посещение дворов могло длиться неделю и дольше в своем и сосед них селах, дары подносились охотно (иначе волк мог зарезать овец и другой скот) и состояли в основном из съестных припасов. Обход окан чивался обычно на том месте, где начинался, и завершался разделом поровну полученных даров и пиршеством при обязательном блюде — кукурузной каше с брынзой. Волк доставался убившему его охотнику [Анто-шд’евий 1971, с. 164, 165].
В том же Поморавье, около Алексинца, по воспоминаниям уроженца этого края известного этнографа Т. Джорджевича, в конце XIX в. «волчатники» могли обходить дома со шкурой волка, не исполняя каких-либо песен и не наряжаясь каким-либо образом. Обычно они ограничивались словами: «Дару], газдарице, овог несрейника да не чини штету» (Одари, хозяйка, этого бедолагу, чтобы он не приносил вреда) и полу чали пеньку, муку, связки лука и перца. Т. Джорджевич собрал ряд сообщений о волчатниках, которые, согласно установившейся традиции, ходили, преимущественно в одиночку, по селам с убитым волком. Его свидетельства касаются северной и западной Македонии (Скопле, Тето-во, Охрид) и Черногории (Куча) [Ъор1)евий Т. 1958, 1, с. 227—229].
Обряд вучари, описанный кратко Караджичем и достаточно подробно Т. Джорджевичем, в основе своей окказиональный, так как он совершается обычно во второй половине зимы, когда волки особенно голодны и опасны и когда убивают волка. Однако некоторые локальные варианты этого обряда свидетельствуют о двух ярко проявившихся тен Денциях его развития А именно, о переходе «вучаров» в разряд календарных, масленичных обрядов и о появлении театрализованных, маскарадных черт в обходе е волком. Второе явление оказывается непосредственным результатом первого, но в конкретных локальных вариантах обряда они не всегда связаны друг с другом.
126
II. Архаические ритуалы
Налканославянские обряды: Вучари
127
В юго-западной Сербии, в Метохии (Средечка Жупа) вучари ходили с убитым волком и ряжеными, — двое одевались «дедами», а один — «бабой». «Деды» носили бараньи шкуры, большие папахи, были гримированы и вооружены дубинами и ножами, а «баба» одета в женское платье. Они пели:
В юго-западной Боснии в зоне Ливаньского поля сербы и хорваты т. е. православные и католики, с таким же наряженным волком и с яблоком в его пасти обходили добрую половину Ливаньского поля с тради ционной «волчьей песней»:
Домайине, газда Moj, ево вука пред meoj двор. Погле, бабо, каки сам, Донеси ми раки/а, Пода] вуку ченица, да не умре женица, Пода] вуку вуница, да не коле ]уница.
Хозяин, хозяин мой, вот волк перед твоим двором. Посмотри, отец, каков я, Принеси мне водки, Дай волку пшеницы, Чтоб не умерла женушка, Дай волку шерсти, Чтоб не задрал телушку.
Домайине, доме Moj, ево вука пред двор meoj! Гони вука од куйе, удавийе парипйе.
Домайине, доме Moj, попни нам се на небеса, скини вуку комад меса.
Хозяин мой родной, вот волк перед двором твоим. Гони волка от дома, Задерет лошадку.
Хозяин мой родной, вознесись на небеса, скинь волку кусок мяса.
Собирались дары в виде муки, каши, яиц, брынзы, мяса, шерсти и давались для плодородия (за берийет) и для защиты от злодея-волка (од зулумйара). Аналогичный обряд был известен в соседней зоне (Сирничка Жупа): в нем также участвовали два старца (делите) с дере вянными мечами и молодка (невеста) [НиколиЙ 1961, с. 118].
В западной Герцеговине в окрестностях Посушья (с. Ракитино) группа «вучаров» чаще всего состояла из трех человек (но могла быть и больше)..Они обходили дворы с разукрашенным разноцветными нитями шелка и шерсти убитым волком, в пасти которого было яблоко, прини мали дары и пели:
Домайине, дома дико помаг-aj ти свети Нико Домайине, дома мо], ево вука пред двор meoj. Ко би вука дарова од Бога се радова.
Клип сланине, прасетине, литру у ла од маслине, свака ма]а по два jaja и куделу вунице да не кол>е ji/нице.
Ко би вуку вако дава, Taj женио и удаво...
Хозяин, гордость дома, помогай тебе святой Никола. Хозяин, родной мой, вот волк перед двором твоим. Кто волка одарит, Того Бог наградит. Кус сала, свинины, литр масла из оливок, каждая мамаша по два яйца и куделю шерсти, чтоб не резал ярочек. Кто все это волку даст, Тот и женит, и замуж отдаст [Ка]маковиЙ 1974, с. 632].
Иногда в Ливаньское поле приходили вучари из Далмации. Аналогичный обряд исполняется в соседящем с востока с Ливаньским полем Дуваньском поле [Kajmakovic 1961, s. 230].
В некоторых местах, прежде всего на бывшей Военной Границе в Крбаве (Хорватия), сербы старались убить волка в мясоед, чтобы затем на Масленицу носить его как разряженное чучело по дворам, получать подношения и петь «волчью песню»:
Byjo ми je остарио, Планине je оставив;
У поле je салазио, Грдне ране задобио, Не мога и(х) носити, Подига се просити: Hajme eyju сланине Да не слази с планине Да}те eyju зопчице Да не коле овчице, Да]те вуку власа, Да не коле паса, Дщте eyju зд]елу пира И на пему грумен сира — За куйнога мира.
Да]те свега доста Да не коле око моста
Состарился мой волк, Ушел с гор, в поле спустился, Весь израненный, Не мог ран переносить, Принялся просить: Дайте волку сала, Чтоб не спускался с горы, Дайте волку овса, Чтоб не резал овечек, Дайте волку пряжи, Чтоб не задирал псов, Дайте волку миску полбы И вдобавок кусок брынзы — Чтобы дом оставил в покое Дайте всего вдосталь, Чтоб не резал возле моста.
[Бегоний 1887, с. 103].
128
П. Архаические ритуалы
Балканославянские обряды: Вучари
129
Эту запись из Кореницы, сделанную более ста лет тому назад, можно дополнить текстом из той же зоны, записанным в 1978 году в с. Полаче у 85-летнего старика-серба Милоша Буквы, бывшего «вучара». По его словам, в молодости с группой обходчиков числом до 13 человек и с волком он ходил всюду по Книнской Крайне вплоть до Шибеника. By чари пели:
Домайине, доме Moj, ево вука пред дом meoj.
Дару] eyjy, доме Moj, варичак жита, оку брашна таку соли, да осоли, клип, сланине, крметине, jedno плейе браветине Huje eyjo за чекагье, eeh je eyjo за (х)одагье. Далеко je eyju куба, десет дана преко страна а ко не би eyju да е, maj би се noKajao jep он има доста ceoje па бе казат овце meoje..
Хозяин мой родной, вот волк перед домом твоим.
Подари волку, родной мой, мерочку жита, мерку муки, горсть соли [еду] посолить, Нус сала, свинины, одну баранью лопатку. Волк не станет тебя ждать, волку надо уже идти.
Далеко волчий дом — десять дней пути дороги. А кто волку не даст, тот пожалеет, ведь у него крутой нрав, он порешит твоих овец...
К сожалению, дополнительных к тексту этнографических сведений (о времени проведения обходов, об одежде «волчатников» и т. п.) в за писи не приводится (Ковачевий Р. 1978]. Однако из сопредельной зоны Лики, из католического хорватского села Ивчевич Коса есть подробное описание интересующего нас обряда. Там, в промежутке между Рож деством и Масленицей, чаще всего в период от праздника Трех королей до Сретения (от 6.1 до 2.II нов. ст.) старались убить волка, чтобы за тем, одевшись в зимнюю одежду из козьих шкур, обходить дома с «вол чьей песней», которая должна была принести дому счастье, здоровье богатый урожай:
Domacine od кисе Evo vuka kod кисе О о o-o-o ojt Tirajte ga od кисе,
Хозяин дома, Вот волк у дома. О-о-ооо-ой!
Гоните его от дома
Nije dobar kod кисе Podajte mu suva mesa, da vam tora ne pritresa Podajte mu slanine, da ne slazi s planine. Podajte mu Senice, Da ne kolje tehee. Podajte mu zobbice, da ne kolje ovtice Dajte vuku vlasa da ne kolje pasa. Kiti snaSo mrka vuka, da fje, cerka lipieg struka.
Он опасен возле дома.
Дайте ему копченого мяса, чтобы он не разорил ваш скотный двор. Дайте ему сала, чтобы он не спускался с горы.
Дайте ему пшеницы, чтоб не резал телушек.
Дайте ему овса, чтобы не резал овечек Дайте волку пряжи, чтобы не драл собак. Наряди, молодка, серого волка — пусть будет у тебя дочка знатного рода-племени.
<После каждого двустишья повторяется рефрен О о-о о j.>
Хозяйка угощала «волчатников» (vukari) водкой (rakija), хозяин дарил зерно, вяленое мясо, а девушки выносили кудель и полотенца. В знак благодарности обходчики пели:
Paia, fala gospodaru, Na vaSemu lipom daru, Kako ste nas darovali, Od Boga se radovali.
Спасибо, спасибо, хозяин, За ваш прекрасный дар. Как вы нас одарили, Так Бог. вас наградит.
Дети, девушки и молодки трижды перепрыгивали через волка, чтобы волк принес им здоровье и изобилие. Они верили, что там, где ступает волчья лапа, отходит всякое зло от людей, скота и посевов [Hecimovic 1985, s. 188, 189].
В соседствующей с Ликой с севера Боснийской Крайне, по свидетельству К. Ковачевича, почти так же как и в окрестностях Кореницы, вучари ходили в канун Великого поста, в мясоед. Притом волка они могли не убивать, — достаточно было достать волчью шкуру, набить ее паклей или соломой, поставить чучело на деревянные ноги и петь песню, подобную приведенной выше. Получив дары, обходчики пели:
Хвала, брате, домабине, и mu epujedna домабице.
Спасибо, братец хозяин, и ты, усердная хозяйка.
130
II. Архаические ритуалы
Бог ти челад поживео, meojy стоку заклонио од зла se'jepa, мрког вука Koju но je ружна струка
Бог да хранит твою семью, твою скотину защитит от злого зверя, серого волка, безобразного отродья.
[Ковачевий К. 1887, с. 71 Ъор^евий Т. 1958, 1. с. 230|
В этом случае не было особых костюмов или одежд, театрализованных действий и персонажей, не было специально убитого волка, но была кален дарная приуроченность к преддверию Великого Поста — к мясоеду.
Следующим этапом отхода от ритуального убийства волка, которое во многих местностях было обязательным, оказалась замена убитого волка и даже старой волчьей шкуры куклой, изображающей волка. Такая за мена отмечена в обряде, зафиксированном в Задарском Котаре также соседствующем с Ликой, но с юга. В этом крае группу из шести ребят обходчиков, лица которых были измазаны сажей, уже не называли ву чарами — их звали barojci (от славян. "bara 'колдовство’); среди них один носил на палке куклу волка, а другой, умытый и одетый в жен скую одежду, являлся «бабушкой» (baka). «Чаройцы» ходили на Масленицу по селу, пели песню о волке («nek se pamti stari vuk» — пусть пом нят старого волка) и просили принести дары волку и «бабушке» во мно гом уже известными словами;
Domacine, dome moj, evo vuje pred tvoj dvor. Darujte ga, dragi moj, bastite ga, dome moj. Jer je vujo sileni, ima kvasac masleni... Dajte vuji slanine da ne sadje s planine, da jarad ne javi, magarad ne davi Dajte baki gladjenoj, pmt'te baki sledenoj jere baka, kuca naSa, drugi cube ne smi baia (?), buva vuju hranitelja
Хозяин, родной мой, вот волк перед твоим двором. Одарите его, дорогой мой, угостите его, родной мой. Потому что волк силен, У него крепкая (масляная) закваска... Дайте волку сала, чтоб не сходил с горы, чтоб к козлятам не наведывался, ослов не душил.
Подайте бабушке голодной, Поднесите бабушке холодной, Потому что бабушка — это наш дом. Другой волк, вожак (?) не смеет. Охраняет волка кормильца.
(Nodilo 1981, s. 254, 255].
Балканославянские обряды: Б у ч а р и
131
Задарских масленичных ряженых и их обход можно считать уже вполне театрализованным маскарадным действием, изображающим «волчатников», но не исполнявшимся самими волчатниками. Фиксированное время исполнения ритуала относит весь ритуал к календарному обрядовому циклу. На Масленицу ходили вучари и в Сирничской жупе в Метохии, и в той же Метохии в окрестностях Призрена ходили зимой ряженые вучари тогда, когда убивали волка. Не было календарной при уроченности ритуальных действий с убитым волком и в центральных сербских зонах, в окрестностях Крушевца [Савковий 1987, с. 224], и Чуприи, и в восточной зоне около Леековца, и в Верхней Пчине [Фи липовий, Томий 1955, с. 71]. В с. Букане около Чуприи убитого и пре парированного волка носили по селам пятеро молодцов: один был волынщиком, другой, в женской одежде, изображал молодку; третий, охотник, носил навой (символ связи волков с ткачеством), четвертый носил волка, а пятый водил лошадь с собранными припасами. Молодка (вучарска млада невеста) плясала под волынку и смешила зрителей, в чем ярко выражалась театрализованность всего действия [Ъор1)евий Т. 1958, 1, с. 227—229]. В с. Црковница и в соседних с ним селах Леско-вацкой окрути ритуал вучари исполнялся без маскарадности и музы кального сопровождения; три охотника обычно приносили к дому убитого волка со звоночком на шее. При этом они пели:
Дауте мало гра Да ее Heje стра, Дауте мало брашно Да ее Heje страшно.
Дайте немного фасоли гороха, Чтобы вас не брал страх, Дайте немного муки, Чтобы вам не было страшно.
Затем, получив дары, шли по другим дворам. Так было, по свидетельству Д. Джорджевича, осенью 1933 г. [Ъор1)евийД. 1985, с. 164].
«Вучари» до недавнего времени обходили дворы и на севере Боснии. На северо-востоке, в с. Црквина (около г Добой) один из охотников напяливал на себя волчью шкуру и ходил с товарищами по селу, пучая людей и собирая подаяние «на кожу». Таких охотников звали вучарами [Filipovic 19696, с. 144]. На северо-западе, в селах, расположенных в предгорье и на горах Борья (юго-восточнее г. Баня Лука) также собирались группы охотников на волков и ходили со своими трофеями по домам и селам. Об этом свидетельствует запись одного из охотников на волков, трагически погибшего к концу второй мировой войны офицера Югославянской королевской армии Светолика Ст. Душанича. Не будучи этнографом, он между тем с
гн
132
II. Архаические ритуалы
большой точностью и подробно описал ритуалы, связанные с убийство волка, которые, безусловно, существовали в разных зонах, но никем не бы ли описаны. Уникальное описание С. С. Душанича до сих пор не привлека ло внимания исследователей, и поэтому излагаем его достаточно полно. В предгорьях и горах Борья охотник, убивший волка, бросал на волка свое ружье и отходил от него со словами: «Ево ти, душмане, душмана на те!» (Вот тебе, злодей, злодея на тебя), и тогда другой охотник, старший по возрасту, снимал ружье с волка, а один из младших охотников или участников облавы — «чистый» (девственный) юноша — сдирал волчью шкуру. Затем охотника, убившего волка, освобождали от вещевого мешка и вр) чали ему палку. С этой палкой во главе всей группы он выходил из леса, и тогда лишь ему возвращали ружье, но оставляли палку-посох как знак предводительства. В таком порядке охотники входили в село и шли прежде всего в дом того хозяина, которому волк нанес ущерб. Перед домом хозяи на все, кроме охотника, убившего волка, произносили приветствие с упо минанием имени Бога. Хозяин выходил из дому и здоровался за руку со всеми, исключая молчаливо стоящего поодаль убийцу волка. К нему хозяин подходил последним, снимал ружье с плеча, вносил ружье в дом, в помещение, где висит очажная цепь (т. е. где разводится огонь — самое са кральное место в доме), и произносил: «Ево добрих л>уди, али нема душмана. Душмани су под ногама» (Вот пришли добрые люди, но нет злодеев. Злодеи повержены, они у наших ног). В это время все остальные охотники оставались сидеть во дворе перед домом (зимой в морозы — в чулане), а охотник, убивший волка, продолжал стоять. Хозяин брал ружье, сверлил в прикладе ружья дырочку, забивал туда куеочек тисового дерева, храняще гося у него всегда над входными дверями, и заливал дырочку воском После этого убивший волка охотник садился во главе стола и клал свое ружье на колени, а все остальные охотники стреляли из ружей торжественным залпом. Хозяин уходил за «ракией» (водкой), возвращался и обращался первым к охотнику — герою дня со словами: «Добро ми дош'о и Бога иазв'о. прщатежу мога дома! Душмани ти увек под ногама били!» (Добро пожаловать с Божьим благословением, друг моего дома! Пусть злодеи всегда будут у твоих ног!). Палку, врученную старшим охотником охотнику, убившему волка, вешали на сливу, а женщины посылали кого-нибудь из детей, чтобы ее своровать, затем разрезать на маленькие кусочки и раздать бездетным женщинам, чтобы у них рождались дети. После угоще ния у первого хозяина охотники, выйдя во двор и обходя большое бельевое корыто с восточной стороны, расходились по домам, но двое из них, один со шкурой, а другой е ружьем, ходили по своему селу и по
Лалкчнославяш-кие ийрявы: И у ч ч р и
1.1.1
соседним селам. В обходе дворов убийца волка не участвовал, так как это оказывалось ниже его достоинства. Двое обходчиков с ружьем, тисо зой палкой и убитым волком рассказывали поселянам о 1сроизме удачливого охотника, о том, как и где был убит волк.
Одаривание волчьей шкуры (или чучела) в горах Борьи имело также свой ритуал. Женщины приносили мотки шерсти, полотенца, привязывали к ружью пряжу, обувные ремешки из овечьей кожи. Притом они это делали молча, не спрашивая ничего, не глядя на волка и не касаясь его. Мужчины давали деньги, равные стоимости одного патрона, клали их на волчью голову, задавали вопросы, где, когда и как был убит лютый зверь, рассматривали его пасть, ощупывали шкуру. Дети-мальчуганы суетились вокруг волка и охотников, а девочки сидели дома взаперти. Охотников-обходчиков угощали, но только мясной пищей с черствым хлебом и солью и ракией, исключались лук, яйца, молоко и все молочные продукты (бц/ели смок), черный кофе. Угощение выносил хозяин, передавая его из рук в руки, а в дом обходчики не приглашались и не пускались, особенно в ту часть дома, где висела очажная цепь (вериге). В сильные морозы могли их пустить в чулан или иное подсобное помещение, но ни в коем случае не в то, где был домашний очаг. В ответ обходчики дарили волчье сало, которым потом женщины мазали нижнюю часть пуза у пастушьих собак. По завершении обходов охотники делили дары и подношения между собой; волчью голову продавали за медовую ракию или за мед и ракию, и ее потом насаживали на кол и ставили кол на пасеке, чтобы пчелы лучше роились и были защищены от дятлов и мышей [Душаний 1954, с. 167—169].
Ритуальные предметы, действия и ограничения (табу), которыми изобилует описанный обряд, заслуживают отдельного и подробного анализа. Очень интересна функция палки-посоха, ружья, волчьей шкуры, поведение охотника, убившего волка, и его товарищей, регламентация пищи, различное поведение мужчин, женщин и детей, разная открытость и престижность помещений в доме и т. п. К сожалению, отсутствие подобных описаний из других зон лишает исследователя возможности провести сравнительный анализ интересующих нас обрядовых действий, отделить общие Для изучаемой территории явления от локальных, сугубо местных, а тем более балканизмы от небалканизмов. Судя по свидетельствам С. С. Душа-нича и М. С. Филиповича, вучари в северной Боснии не исполняли «волчьих песен» типа «Домайине, роде Moj...». Песня эта была распространена южнее в довольно обширном ареале, притом ее исполняли не только вуча Ри, но и чарощи и так называемые водичари, т. е. группы, собирающиеся
134
II. Архаические ритуалы
на Водице (Крещение), не охотившиеся на волков и не носившие его шкуру или чучело с собой. В группе водичаров, обходивших дворы в окрестное тях г. Призрена (Метохия), были ряженые — «дед» в кожухе с бородой и «баба» в женском платье с прялкой [Филиповий 1967, с. 64]. Единствен ным связующим звеном водичаров с вучарами являлось пение «волчьей песни», но в то же время вучаров во многих зонах связывала с рождествен скими, новогодними и масленичными ряжеными и обходчиками их маска-радность и театральность, о чем мы уже говорили в предыдущей статье, см.: [наст, изд., с. 121 — Толстой 1979а].
Таким образом, балканистичность вучаров определяется не сама по себе, а в кругу других обходных обрядов, которые, кстати сказать, известны всем славянским и другим европейским народам. Среди персонажей рождественских, новогодних и масленичных ряженых известны также волк и медведь. У поляков и украинцев, отчасти у других западных и восточных славян распространено ритуальное приглашение волка в Сочельник на ужин [Виноградова 1982, с. 200, 201]. С другой стороны, следует учиты вать, что в некоторых краях Македонии и Сербии обычай обхода домов с убитым зверем сохранялся и после удачной охоты на медведя. Подробности этого «медвежьего» ритуала не описаны, но известно, что он, как и «волчий ритуал», завершался общим охотничьим пиром [Ъор1)евийТ. 1958, 1, с. 227—229]. Эго связывает обряд с древней славянской традицией «брат чин», «николыцин» и подобных ритуальных коллективных пиров. Дары и деньги собирались в Македонии и после убийства большой змеи [Павло виЙ J. 1929, с. 282]. Таким образом, описанный обряд не следует ассоциировать исключительно с культом волка.
Балканистичность вучаров выражается, пожалуй, более всего в гео графин обряда, в его архаичной окказиональности, в его связи со ското водческим и охотничьим укладом жизни и традициями, которые, к сожалению, еще плохо изучены. Следует напомнить также, что более века тому назад хорватский мифолог Натко Нодило, сообщая о далматин ских «чаройцах», указал на их возможную связь с римским обычаем discursus lupercorum. Он напомнил также о древнем римском празднике Lupercalia, праздновавшемся в середине февраля. С ним связывалась и известная римская пещера Lupercal, в которой обитала богиня Lupa или Luperca, или Асеа Larentia, кормилица двух легендарных близнецов Ромула и Рема [Nodilo 1981, s. 254, 255]. Вероятно, в этом направлении и следует вести дальнейшие изыскания. Но им должно предшестно вать обобщение и упорядочение наших небогатых знаний о современном состоянии обряда, чему и посвящен этот краткий очерк.
Балканославянские обряды: Тодорица/Тодоровден
135
Тодорица / Тодоровден
Поиски следов фракийского субстрата в балкано-славянской культуре позднего времени характерны для балканистических исследований наших дней. К числу таких реликтов едва ли не в первую очередь, по мнению М. С. Филиповича, можно отнести обряд под названием «Тодорица» или «Тодоровден». Мнение М. С. Филиповича до сих пор никем не оспаривалось и не подвергалось критическому анализу. В настоящей статье мы делаем попытку посмотреть на обряд Тодорица в несколько ином аспекте, не выводя его из круга других обрядов предвесеннего и весеннего цикла. С этой целью мы считаем нужным прежде всего наложить материал, во многом уже известный по монографии М. С. Филиповича «Трачки когьаник» [Филиповий 1950].
В православной религиозной традиции память о священномученике Феодоре Тироне, воине, принявшем смерть за веру в 306 году, совершается два раза в год — 17 февраля по ст. ст. и в субботу первой седмицы Великого поста, накануне Недели Православия. Это — едва ли не единственный случай, когда память о святом подвижна, как подвижны и праздники, связанные с Великим постом, Пасхой и Пятидесятницей. Вероятно, этот факт и выделил в народном сознании православных сербов, болгар, македонцев и румын «Тодорову субботу» в качестве народ ного праздника с целым рядом внецерковных ритуалов и действий. Наибольшее внимание исследователей привлекал культ коня и всадника, довольно ярко выраженный в некоторых зонах, где отмечался Тодоровден. В Пиринской Македонии, в Добрудже, в Пчине (юго-вост. Сербия) этот день назывался Конски Великден, т. е. «Конская Пасха», в Сокобане (вост. Сербия) — Копека слава «Конские именины». Там, а также в зоне Разграда, Плевена (сев. Болгария), Софии и Хасково (зап. и южн. Болгария) и Лесковца, Прокупля и Власотинцев в Хомоле, на Млаве, в Стиге (сев.-вост. Сербия), в Джаковице в зоне Косова, у мия-ков в Лазарполе, в западной Македонии устраивались конские бега. В северной Болгарии, в зонах, примыкающих к Дунаю (Русенско, Свиш-товско, Плевенско, Никополско, Тетевенско), и в западной Болгарии в Софийской округе в день св. Феодора Тирона пекли сакральные хлебцы «для коней», главным образом от конской болезни гутурач 'сап’. Они Назывались конче, копито или просто колач (колак), как и у сербов в восточной Сербии (Поморавье, Вране, Пирот, Сврлиг). В сербском Ванате в р-не г. Вршац копытообразные хлебцы назывались тодорчиЬи
136
II. Архаические ритуалы
или копите. Ареал печения специальных хлебцев и ареал выезда на лота дях с бегами в общем совпадают — это северная придунайская Болгария и северная Сербия до впадения р. Моравы в Дунай и восточная Сербия (от реки Моравы до болгарской границы) и примыкающая к ней западная Болгария. В Болгарии (пока не обнаружены новые материалы) островком выделяется зона Хасково (если сведения Д. Маринова точны), а в Македонии — Лазарполе. Сакральные хлебы в календарной обрядности южных славян — явление довольно распространенное, оно приурочено к многим праздникам. В данном случае важно, что хлебцы пекутся в субботу Феодора Тирона и связаны с культом коня.
В юго восточной Сербии в зоне Пчини в пятницу первой недели Великого поста отмечают Тодора, а в субботу «его жену Тодорицу», притом в пят ницу — праздник коней, а в субботу — волов. Коням и волам месят ко лач и варят кашу из разных хлебных семян. На юге Сербии в Косово (с. Банъско около Косовской Митровицы) субботний день св. Феодора Тирона считается праздником волов и вообще скота. Каждой паре волов выпекается колач, и около волов зажигается свеча. В восточной Сербии около г. Вране день св. Феодора Тирона зовут воловска слава Тодори ца или слава на волове (т. е. «воловьи именины»). Волам также месят колач и зажигают свечи. Здесь «конский мотив» праздника исчезает и заменяется другим, чисто скотьим мотивом, характерным для соседнего по времени праздника св. Власия (Н.П ст. ст.).
В Добрудже, в с. Стефан Караджа (Войнешти) перед конским рис талищем в день св. Феодора Тирона всадники скакали к кладбищу, чтобы проскакать вокруг него. В этом ритуале довольно ярко выражено почитание предков (покойников) и обращение к ним, которое присут ствует и в обычае приготовлять в тот же день кутью. Так, сербы на Косовом Поле в г. Джаковица несли в Тодорову субботу в церковь варе ную пшеницу (ченицу) «за здравие», а следующие пять суббот она носи лась «за упокой», за усопших. Сербы в селах около Таково (Шумадия) в этот день ставили дома на стол вареную пшеницу. Сербы-«граничары живущие в Хорватии в зоне так называемой Военной границы, варили в этот день кутью «в память о всех христианах, пострадавших за свою веру». Кутья «для здоровья» и для удачной беременности, рождения младенцев и приплода скота варилась и съедалась женщинами и скармлива лась скоту на Тодорицу в Македонии в р-не Скопля (Скопека Црна Го ра), Куманова и Полога. В Гевгелии вареную пшеницу приносили в церковь в канун дня св. Феодора Тирона. Девушки брали эту освящен ную пшеницу тайком и гадали на ней о суженом.
Балканославянские обряды: Тодорица / Тодоровден
137
Помимо культа коня, сакрального хлеба (печенья) и кутьи (ео слабо выраженной панспермией) в отдельных местностях зафиксирован культ змеи. Так, в р-не Джаковицы было принято, чтобы сербки на Тодорицу брали в руки иглу и шили, «чтобы колоть змеям глаза», а в соседней Средачкой Жупе «кололи глаза змеям» тем, что что-либо заплетали, а также продевали несколько раз через пояс черную нитку, образуя из нее круг. В с. Раковица под Белградом жгли во дворах мусор от змей. В той же зоне в с. Калуджерица сербки били по жестяным предметам и жгли тряпки, обходя свои дома и защищая их от змей. Эго делалось на основе поверия, что в день св. Феодора Тирона змеи просыпаются и выходят из земли. Обряды эти локально ограничены.
Не менее локальны и другие обряды на Тодорицу, бытующие вне зоны конных ристалищ, но известные по соседству. В северо-восточной Боснии, около Зворника (с. Спреча) сербы по субботнему дню св. Феодора гадают о погоде в году, говоря: «Каква je Тодорица, таква je годиница» (Какова Тодорица, таков и весь год). Так же воспринимался этот день сербами на Оз рене в центре Боснии (северо-восточнее Сараева). Для intx это был первый «год» ('праздник’) в году, и потому нужно было с утра зажечь немного мокрого мусора во дворе, чтобы окадить им дом и чтобы можно было принять ся за прививку плодовых деревьев. Магия первого дня ярко выражена и у сербов на Косово, которые в день св. Феодора Тирона, в субботу, не рабо тают, «чтобы змеи весь год не кусали людей и скот».
Подобные предохранительные, предостерегающие и предсказывающие действия и наблюдения фиксируются у южных славян, начиная с Сочельника и даже ранее, затем на Новый год, Крещение, Масленицу (Беле Покладе), Сорок мучеников, (1.1 II ст. ст.), Средопостье (редко), Юрьев день, в день св. Иеремии (1.V ст. ст.).
Очень близкими по сущности и по глубинной семантике к воловьему и конскому обряду Тодорица оказываются «скотские» обряды, выполни емые в день св. Власия (11.11 ст. ст.), а к змеиным ритуалам в день св. Феодора Тирона — ритуалы в день св. Иеремии (JepeMujeedan). Сжигание мусора и тряпок, окуривание дома и двора известно также на Благовещение, в Великий четверг. Гадание о предстоящей погоде распространено также на Сорок мучеников, Благовещение и на святки. К панспермии и вареной пшенице как ритуальной еде прибегают в день ев. Варвары (4.XII ст. ст.). По сути дела, специфическими действиями являются только конные ристалища, которые редко бывают в чистом виде. Без дополнительных обрядовых атрибутов, слов или акций бытует в сербском Банате верование, что в субботний день св. Феодора Тирона
138
II. Архаические ритуалы
но улицам сел мчатся невидимые табуны лошадей. С табуном, в пред ставлении некоторых сербов-крестьян, мчится верхом св. Феодор, но утверждешпо других — кони мчатся без всадников и они белые, третьих — что кони вороные и все с всадниками.
Празднование Тодорове неделе может длиться несколько дней. В некоторых сербских селах Баната верили, что после субботы св. Феодора, на следующий день или в дни до среды, бежали невидимые хромые кони, отставшие от первых, здоровых коней, с ними, может быть, и хромой дед по имени Давид (ср. сербское мифологическое существо хромы Даба и хромого волка св. Георгия в славянской традиции), поэтому вторая неделя поста в этих местах иногда называется Рома не дела, т. е. 'Хромая неделя’. В восточной Сербии, по наблюдениям и записям С. Зечевича, достаточно богатым и подробным [Зечевий 1981], св. Теодора (Свети Тодор или Велики Тодор) сербы представляли себе в виде хромого коня или его всадника. Он был предводителем табуна коней или всадников, олицетворяющих злых демонов. Всадники-«тодор-ци» были антропоморфны, во всем походили на людей, но имели хвое ты. Они скакали в белых плащах всемером или в большем числе и на падали па всех, кто попадался им на пути. Хромой конь скакал послед ним и считался самым опасным. «Тодорцев» торжественно встречали, хотя они были невидимыми. В понедельник на первой неделе Великого поста (Тодорова неделя) во дворах расстилали полотно, рассыпали на нем сено, а на сено клали еду и питье, во вторник варили щелок для мытья посуды, в среду, по преданию, появлялись хромые кони, похища ющие души, им для умилостивления варили кукурузу, чтобы они не вре дили людям, в четверг появлялся сам Велики Тодор. В прошлом в субботу, в воскресенье и понедельник ходили группы ряженых с лицами, вымазанными сажей. Эти дни были отмечены рядом запретов. Среди них знаменательно верование, что на «Тодорову неделю* нельзя общать ся с покойниками, потому что они в эту пору как бы «в отпуску*. В ту же неделю была запрещена работа вне дома и многие не выходили на ружу, а работа в доме могла продолжаться лишь до сумерек, а затем и она прекращалась из страха перед «тодорцами». Вне дома нельзя было разводить костер и выливать воду, так как «тодорци* ие терпели дыма и могли поскользнуться на замерзшей воде. Женщины в эти дни не стара ли белья, не вязали (в особенности беременные!), не учиняли шума. Несоблюдение запретов могло вызвать гнев «тодорцев*. Они могли убить ударами невидимых копыт (на теле жертв якобы обнаруживали следы от копыт), или распороть живот и завязать внутренности узлом.
Балканославянские обряды: Тодорица/Тодоровден 139
Все эти верования, записанные в восточной, вероятнее всего в северо-восточной Сербии и в сербском Банате, имеют удивительную аналогию в древнерусском свидетельстве об одном таинственном происшествии в Полоцке в 1092 году: «в л’Ь^ббОО Преднвно бьЛчюдо ПолотьскФ къ мечт'Ь НЫ кывдше К НОЩИ ’ГуТ'ЪНЪ СТАНАШ6 по Ь’лнцн, шко члвцн рнщюще Б'Ь-си • дще кто выл'кзАше нс хоромины • хота вид'Ьти, двье оутазвент» пудлше невидимо Си Б'Ьсовъ • мзвою и с того Ъ’мирдху, и не смл\у из-лдзити нс хоромъ • посели» же ндчдшд в дне явлатиса нд конихъ и не Б'Ь ИХЧ» ВИД’ЬтИ CAM-fexb • МО КОНЬ ИХ!» ВИД'ЬтИ КОПЫТА • и тдко оумз-ВЛАХУ ЛЮДИ Плотьскьид И НГО WEAACTb Т'ЪМЬ И ЧЛВЦИ ГЛХУ WK0 НАГАВ'Ь бьють Полочдны • се же зндменье почд БЫТН отъ Дрьютьскд. в си же временд БьЛзнАМбньк в нбси мко круп» БкЛпосредФ нёа превеликъ» [Лаврентьевская лет., стлб. 214, 215|.
Древнерусское свидетельство как будто оспаривает чисто балканский характер изложенных выше верований. К тому же ночные духи присущи многим славянским традициям, а в сербской традиции они во многих зонах появляются на святки, во время так называемых «некрещеных дней» (некрштпени дани). Перечисленные запреты также типичны для святочных и некоторых других дней в году. Такие признаки, как хромота, белая масть коня, говорят о хтонической сущности этих коней, тем более что в тех же местах в этот день (или в эти дни) пекут сакральные хлебцы, называемые паскурице и крстак (в виде креста), которые также являются обязательным компонентом поминального обряда (задужбине за мртве). Неизбежно напрашивается параллель с наблюдениями Д. Н. Анучина над функцией саней, ладьи и коня в по-гребальном обряде [Анучин 1890] и свидетельством Саксона Граммати ка (XII в.) о белом коне Святовита, на которого садиться верхом мог только жрец и при помощи которого поморские славяне гадали. Впрочем, тема белого коня — особая, а число примеров может быть умножено. Тема смерги, похорон и обитателей того света присутствует в употреблении кутьи и вареной пшеницы, которая, как сказано выше, может не сочетаться с почитанием коня и даже приобрести новую, обратную семантику «во здравие».
Подводя некоторые итоги, отметим, что все описанные выше ритуальные действия, помимо конных ристалищ и представлений о невидимых табунах коней, носят не специфический, не из ряда вон выходя щий, в скорее общеславянский или, шире, общеевропейский характер. Что же касается конной тематики, взятой отдельно, и верований ряда балканских народов о ночном всаднике и подобных мотивов, то о них
140
П. Архаические ритуалы
едва ли можно сказать, вслед за М. С. Филиповичем и иными учеными, что они находятся «безусловно в тесной связи с представлениями древних фракийцев, которые нашли свое выражение в рельефах фракийского всадника». Другой ученый, болгарин Е. Тодоров, автор книги «Древнефракийское наследие в болгарском фольклоре» [Тодоров 1972], пыта ется обнаружить древнефракийские черты героя-всадника в болгарских народных песнях о св. Георгии и Королевиче Марко. Но мотив героя всадника, как и мотив змеи и некоторые другие евразийские мотивы, присущ и древнегреческой культурной традиции, и индоевропейской, всем кочевым степным народам Старого света. Хтоническая сущность коня, его причастность к смерти, к ночи, его причастность к лунарной сфере, с одной стороны, и к солярной (белый конь) — с другой также характерна для многих традиций, и в первую очередь индоевропейской. По сравнению с зафиксированными фактами этих традиций, сведения которыми мы обладаем, о сакральной сущности и функциях фракийского всадника, известного по многочисленным каменным рельефам в раз ных сочетаниях со змеей, деревом, женской фигурой, собакой, зайцем весьма ограничены и во многих отношениях неопределенны. Мнения ряда ученых (Г. Кацарова, Н. Вулича, В. Чайкановича) по этому вопросу расходятся, и сейчас, вероятно, не следует вдаваться в их сущность. Важнее другое. В исследовании обряда «Тодорица» еще не рассмотрены и не учтены другие пути истолкования его генезиса, не предусмотрены альтернативные гипотезы, не привлечен исторический и даже изобрази тельный (иконографический) материал иного плана и происхождения. В качестве такового в первую очередь может быть указана православ ная иконография св. Феодора Тирона, см.: [Мавродиноваа 1969; Васи лиев 1976], который согласно житию был воином и изображался подобно св. Георгию, Св. Дмитрию и Св. Меркурию всадником с копьем, св. Феодор Тирон на иконе поражает змия и сидит на белом, реже красном коне. Естественно, что если принять это альтернативное фракийскому всаднику предположение, хронологические рамки поисков ис тока образа и обряда значительно сократятся и корни «Тодорицы» нуж но будет искать в византийской иконографической и церковно-календарной традиции, на которую указывает и связь праздника с первой седмицей Великого поста, с субботой, с кануном Недели Православия, что на наш взгляд также весьма показательно и симптоматично. Такая гипотеза, однако, не исключает нескольких корней, нескольких истоков семантики народного праздника, но во всяком случае она может дать объяснение его календарной приуроченности.
Балканославянские обряды: То дорица /Тодоровд е н
141
Если балканистичность, вернее палеобалканистичность «Тодорицы» ставится под вопрос, то география обряда, территория его распространения достоверна и бесспорна, как и все конкретные факты, которыми оперирует лингвистическая и этнографическая география; она безуслов но относится к проблемам балканистическим, и сам обряд балканисти-чен в том смысле, в каком балканистичны явления славянобалканских языков и традиций, не повторяющиеся в подобном виде в славянском мире вне балканских пределов *.
Классическая форма обряда «Тодорица» занимает на Балканах в славянской этнической среде довольно узкую вертикальную полосу (с севера на юг) от Баната до Македонии, включая в себя крайний восток сербской территории и крайний запад территории болгарской, а также горизонтальную полосу, примыкающую к правому берегу Дуная почти от Белграда до Добруджи. Важно отметить, что приблизительно эту же территорию занимает обряд вызывания дождя «Герман». В вертикальной полосе распространен ритуал одновременного разувания всех домашних в Рождественский сочельник, обряд сжигания соломы и возжигания огней в канун Масленицы, называемый олалщ'е и ряд других обрядов. Существенно, что в этой зоне обнаруживается не только сноп изоглосс, изопрагм и изодокс переходной полосы, отделяющей сербский и македонский этнос и язык от болгарского, но выявляются и свои особенности, делающие эту зону достаточно оригинальной и самобытной. При этом какой субстрат оказал здесь влияние на формирование всего этнолингвистического и этнокульткурного ландшафта: ранний — фракий ский, более поздний — романский, греческий, или здесь решающую роль сыграла культура Римской империи, или иные факторы, например скотоводческие «валашские» миграции на север к Карпатам, можно будет сказать после накопления материала, подобного изложенному. Чрезвычайно важным является и определение географии обряда «Тодорица» на румынской этноязыковой территории, что нами из-за недостатка материала и места, увы, не сделано.
Показательны и факты, собранные у саракачан, греческого пастушеского этноса, ведущего кочевой образ жизни в горах на юге Балкан. День св. Феодора Тирона считается праздником погонщиков мулов и
1 В таком смысле можно говорить и о балканистичности обряда *бадняк», который имеет соответствия и на Кавказе, и в Средиземноморье, и даже на Британских островах, а некоторые его элементы известны у восточных славян и балтийцев; подробнее об этом см. ниже.
142
II. Архаические ритуалы
всадников, так как саракачаны верят, что св. Феодор был всадником. Саракачаны месят сакральный хлеб, посвященный св. Феодору, всадники часть этого хлеба дают коням, а часть съедают сами. На хлебе в виде орнамента выпекается пять кружочков теста, расположенных либо крестообразно, либо в виде месяца.
Бадняк
Обряд, связанный с рождественским поленом «бадняком» (далее Б.), известен главным образом в его сербском и болгарском варианте, отличающемся обилием ритуальных действий; остальные варианты часто не учитываются в научной литературе, при этом локальные варианты с ог раниченным числом действий нередко воспринимаются как ущербные, стертые. Такое понимание во многих случаях ошибочно. Сербско-бол гарский вариант можно при синхронном сравнительно-типологическом анализе принять в качестве некоего суммарного эталона ритуала, содер жащего следующий набор и последовательность обрядовых действий: срубание Б., несение к дому, постановка во дворе у дома, внесение в дом, встреча Б., положение на очаг, лобызание Б., кормление, битье очага (полазником), сторожение Б., пережигание Б. на две половины, сохранение головешки и пепла от Б. для разнообразного вторичного использования. При этих действиях существенны такие показатели, как величина Б., порода дерева Б., число Б , способ их укладки на очаге, половозрастные и социальные характеристики участников обряда и т. п. Сравнительно типологическое описание обряда Б., см.: [Плотникова 1982: Седакова И. 1984], так же как и его картографирование, см.: [КостиБ 1963, с. 83 — карта), важно само по себе и для решения историко-генетических проблем, связанных с Б.
Проблемы генезиса обряда Б., впрочем, как и многих других обря дов (полазник, додола пеперуда и т. п.), можно исследовать в двух ос новных аспектах. Первое — в аспекте внешнего сравнения: а) с генети чески близкими традициями (индоевропейской, уже — балтийской и др.), б) с генетически не родственными традициями (кавказской и др.). Второе — в аспекте внутреннего сравнения, т. е. в пределах славянских традиций: а) в узком плане (сербскохорватской, шире — южнославянской), б) в широком плане (общеславянском). Поскольку в лингвистике и особенно в этнографии помимо генетического родства, типологиче ского подобия, географической (контактной) близости пришгго понятие
Балканославянские обряды: Б а д н я к
143
союза (языкового союза, культурного союза), то происхождение обряда Б. может рассматриваться и в этом последнем аспекте — сравнения в пределах балканского союза. Именно так во многих случаях и определялся генезис Б., см.: [КулишиБ и др. 1970]. Вероятно, наиболее правильным с методологической и фактической стороны было бы сравнение по всем указанным параметрам с последующим сопоставлением результатов этих сравнений. Однако сейчас мы попытаемся наметить возможность лишь одного внутреннего — внутриславянского сравнения. Для выполнения этой задачи необходимо предварительно изложить малоизвестный, почти не введенный в науку материал.
В канун последней войны Т. Маркович опубликовал свои полевые записи по рождественским обрядам католиков из Боснии и Герцеговины [Markovic 1940]. Записи свидетельствуют, что во многих местах этой зоны Б. выступает в обряде, имеющем только первые три из перечисленных выше действий, а именно — срубание (без ритуала), несение к дому и постановка Б. во дворе у дома, в то время как последующие действия — внесение в дом, сжигание на очаге и т. д. — отсутствуют. Так, в средней Боснии в Сочельник выполняют простейший ритуал: срубленное деревце прислоняют к фронтону дома, и оно стоит так все Рождество (около Травника), дубок приносят к дому и оставляют там до Нового года и дольше (там же), зимний дубок (с сухими неопавшими листьями) кто-нибудь из детей приносит к дому (около Жепчи) — и ритуалы более сложные: в Сочельник до восхода солнца молодой парень срубает зимний дуб высотой до стрехи, приносит его на плече и ставит у дверей дома, при этом через двери происходит ритуальный диалог с хо зяином, который затем выходит с решетом, полным овса, сыплет пригоршню овса парню в глаза и обсыпает Б. Парень произносит ритуальное благопожелание: «Rodilo ti i ро zemlji, i po drvetu, i po kamenu!...» (Пусть уродит тебе и земля, и дерево, и камень!... и т. д.) и прислоняет Б. к стене дома с восточной стороны. Затем парень входит в дом, снова приветствует: «Faljen Isus! Cestitam vam Badnji dan!» (Слава Иисусу Христу! Поздравляем вас с Сочельником!), получает от хозяйки риту альную булочку, а хозяин желает его сливовым деревьям благополучия и урожая. Б. же стоит у восточной стены до конца Рождества, после чего он может быть разрублен на дрова и сожжен. В некоторых местах Б. (ветка зимнего дуба) может быть заткнут за стреху. В севере западной Боснии в с. Дебеляци (около г. Баня Лука) Б. даже вносится в дом (единственный случай!), но тут же выносится. Весь ритуал выглядит так: молодой парень идет в лес, выбирает небольшое (до двух метров)
144
II. Архаические ритуалы
дерево лесного ореха, крестится, читает несколько раз «Отче наш», рубит дерево, несет его домой и прислоняет к внешней стороне дома. Когда все просыпаются и встают, он входит в дом с Б. и произносит благо-пожелания, на которые ему отвечают. В конце парень возглашает: «Badnjak па kucu, kolac па ruku!» (Бадняк к дому, пирог в руки!) и получает в ответ от хозяйки сакральный хлебец kovrtanj со словами: «Eto, sine, ziv i zdrav bio i do godine badnjak na kucu metnuo!» (Ну вот, сы нок, будь жив и здоров и на будущий год положи на дом бадняк!) Все завершается тем, что хозяйка сначала посылает парня и Б. житом, пшеницей и кукурузой, а затем парень выносит Б. и помещает его на крыше дома. Все действие совершается в Сочельник до восхода солнца. В северо-восточной Боснии в с. Жеравце (около Дервенты) все ограничивается тем, что над дверью затыкают сосновую ветку. Во многих селах Северо-западной Боснии Б. — сухая ветка, затыкающаяся под стрехой и остающаяся там надолго. В той же зоне Б. может быть сухой дубовой веткой, висящей над дверьми под «рогом» крыши. В селах, распо ложенлых у устья Савы, дети приносят дубовую или сосновую ветку в Сочельник до рассвета и прибивают ее к входным дверям. Эта ветка остается на дверях целый год, а то и дольше. Кроме того, маленькую ве точку вносят в дом и затыкают ее за балку либо за какую-нибудь картинку или фотографию. В Герцеговине (ок. Столца) в Сочельник срубали три Б., привозили их и прислоняли к стене дома Ритуал обычно сопровождается словами, указывающими на место, куда кладут бадняк: «Badnjak na kucu, kolac u kucu!, В. na kucu Bog i Gospa u kucu!; Bog i Bozic u kucu, B. na kucu!; B. na kucu, Bozic u kucu!» (Бадняк на дом, пирог — в дом! Б. на дом и Богоматерь в дом!; Бог и новорожденный Бог в дом, Б. на дом!; Б. на дом, молодой Бог в дом! — северо-западная Босния, ок. Котор Вароши, Бани Луки, Приедора), В. pred kucu, Bozic u kucu!; Bog u kucu, B. na kucu!; B. na kucu, Badnijca (Сочельник) u kucu! (Б. к дому, молодой Бог в дом!; Бог в дом. Б. на дом! Бог на дом, Сочельник в дом! — северо-восточная Босния ок. Дервенты и Бо-санского Брода).
Следует отметить, что в боснийско-католической среде встречаются и случаи внесения Б. в дом, и сжигания Б., но, как правило, не в одних и тех же населенных пунктах или зонах. Кроме того, обряды принесения Б. к дому (на дом) и хорватские обряды ношения деревца в день св. Юрия (или 1 мая) находятся географически как бы в дополнительном распределении. Почти прямое соответствие описанному боснийско-католическому обряду Б. находим в полесском троицком обряде прине
Балканославянские обряды: Kalade, колодий, бад/ъак
145
сения трех березок либо одной березки (или дуба, клена и т. п.) во двор и постановки их у дверей или окон [Толстой 1986]. Аналогичный обряд характерен для многих белорусских, украинских и некоторых великорусских зон, притом украинская Марена является купальским обрядом. С другой стороны, боснийско-католический Б. имеет близкое соответствие в словенском обряде принесения в Сочельник деревца или веток (сосны, дуба) во двор (реже в дом) и затыкания их за двери и ок на дома. Этот же ритуал известен австрийцам в зонах их контактов или смешения со словенцами (Каринтия, Штирия). Другой чертой Б., сбли жающей его с украинским колодием и литовской ка1ас1ё 'колодка', является пеленание Б. и кормление его, о чем будет идти речь дальше, однако по этому вопросу имеются уже новые данные из южно- и восточнославянских зон. Европейская география Б. 'большое полено’, в отли чие от Б., описанного выше, — Португалия, Испания, Франция, Бель гия, Британия, Греция, Албания, Румыния — и наличие аналогичного Б. на Кавказе выводит Б. из чисто балканской проблематики в проблематику средиземноморскую и шире — кавказско-европейскую.
Предварительный вывод из всего сказанного может быть следующий. Южнославянский Б. типологически и генетически не един. Он содержит в себе разные черты, из коих одни можно квалифицировать как славянские и балто-славянские (с выходом в индоевропейскую перспективу), другие — как балканские (с выходом к той же перспективе), третьи — как результат воздействий и влияний в широких ареалах этнокультур ных традиций.
Три обряда: литовская Kalade, украинский колодий, сербский бадн>ак
I. Обряд, известный в Литве почти повсеместно под названием at vilkti kalade 'притащить колоду’ или atvezh silkq 'привезти селедку’, исполнялся в так называемый Пепельный день, в Пепельную среду (Pele пИа.), в первый день после заговен в самом начале Великого поста. Накануне вечером кто-либо из недомашних приволакивал в дом колоду, большой кусок бревна (или камень), называемый kalade 'колода’ или ыПсё 'селедка’, и оставлял в доме на ночь до утра. Утром тот же, кто приволакивал колоду, приходил и выволакивал ее, за что хозяева угощали его пивом или водкой. Иногда в дом приволакивали несколько ко
146
II. Архаические ритуалы
лод, и угром, когда их выволакивали, устраивалось большое угощение [Dunduliene 1972, р. 119]. В древности литовцы, празднуя Новый год, волокли по дворам, били и под сопровождение ударов деревянного музыкального инструмента tabalas'а сжигали колоду (бревно, толстую пал ку) — blukas [Daukantas 1976, р. 547, Велюс 1982, с. 125]. II. Эйн горн в XVII в. записал, что латыши в ночь на Рождество и накануне ♦справляют бесстыдное празднество, с прожорством, пьянством, танцами, пляскою и криками, ходя от одного дома к другому с таким ужасным кликаньем, что канун Рождества у них иначе не называется, как танцевальный вечер... Тот ясе вечер называется также Bluckwackar, т. е. колодный вечер, ибо в это время они развозят колоду с большим криком, а после сжигают, в чем они имеют свою особенную радость [Вольтер 1890, с. 97].
II. Под таким же названием Волочити колодку, Колодий, и также на Масленицу в канун поста исполнялся обряд у украинцев (отсюда у них и частое название Масленицы— Колодка, Колодий), имевший, однако, большую продолжительность и большее локальное разнообразие, чем у ли товцев и латышей. На Черниговщине (бывш. Константиновский у.) и Подолыцине (Браилов) зафиксированы архаические формы обряда, зна менующие рождение и смерть колодки. Понедельник — пеленание холстом колодки (колодка на ночь оставляется в корчме), вторник — крещение, среда — покрестьбины, четверг — смерть, пятница — похороны, воскресе нье— волоченье ([Чубинский 1872, с. 78] — черниговск.). Или: колодий рождается в понедельник, над ним «молятся», во вторник его крестят, притом украшают, как куклу, лентами и цветочками, в четверг его прячут бросают в угол, а затем сжигают, как простое полено, в пятницу же по нему плачут и голосят, как по мертвому, а в субботу происходит общее веселье [Архив киевск. ф. 1, д. 285; Соколова 1979, с. 58]. Участницы украинского обряда Колодка — женщины. Во многих зонах женщины привязывали колодку к ногам неженатых мужчин, но при этом описан ные выше действия, как правило, отсутствовали. Привязывание колод ки или какого-либо другого предмета, называемого колодкой, (ленты и т. и.), неженатым парням (реже девушкам) или приношение им колод ки на Масленицу известно и в южновеликорусских зонах (калужск , курск.), в Белоруссии, Польше, Словакии, а волочение колодки неже натыми парнями — в Словении и Хорватии.
III. Относительно недавно [Ъор1)евий Д. 1958] в Сербии, в зоне Лес ковацкой Моравы зафиксирован обычай причащать в Сочельник бад няк, т. е. просверливать на двух концах рождественского полена, дли
Балканославянские обряды: Kalade, колодий, бадн>ак
147
ной до одного метра, дырочки и лить в них масло, вино и мед. Вслед за этим бадняк, как новорожденного младенца, пеленают в чистую рубаху хозяина дома (или мальчика, самого младшего представителя мужского пола). В с. Дрводеля (Лесковацкая Морава) бадняк обвязывают красной шерстя ной ниткой и украшают базиликом. Пример этот для славянской зоны Балкан почти уникален, так же как уникально, что в с. Дрводеля бадняк срубают женщины. Во всех других местах это мужское дело. Пеленание ребенка в отцовскую рубаху — неотъемлемая часть родинного обряда во мно гих славянских зонах, восточных, южных и западных.
Архаические обряды украинской (черниговской и подольской) колодки и сербского бадняка показывают, что с колодкой, а отчасти и с бадняком, переживается и воспроизводится их «житие», подобно тому как в некоторых сербских масленичных играх изображается житие конопли (ср. шума дийск. Конопларща). Конопля или лен в песнях, хороводах, играх оказывается главным героем действия во многих славянских (ив румынской) традициях (реже у македонцев, черногорцев, боснийцев — перец, у других славян также — хлеб), см.: [Цивьян 1977; Раденковий 1981]. Знаменательно, что у литовцев в ту же Пепельную среду главным героем оказывается «Конопляный» (Kanapinskis, Kanapeckas, Kanapinis), он выступает один или в паре со своим противником «Сальным» (Lasininskis, Lasmskas, Lasininis). Конопляный борется селедками и конопляным маслом. Всегда побеждает Конопляный. А соломенное чучело Сального, если оно делалось, вывозили за деревню и сжигали, как русскую Масленицу. Конопляного же торжественно ввозили в деревню и обливали водой, чтобы летом были дожди. Здесь если и есть некоторая замена старых представлений новыми под влиянием католической церкви (мнение П. Дундулене), то эта замена не очень радикальная, и старый языческий слой прослеживается во всем обряде четко.
Естественно, что все обряды с поленом (рождественским и масленичным) следует рассматривать на общеевропейском фоне, т. к. они известны германским, романским и другим народам. Однако и из трех групп приведенных примеров видна связь этих обрядов и во временном отношении (начало года, начало поста; ср. старое новогодие 1 марта), и в отношении ноч ного бдения над бадняком (в одну ночь — рождение и смерть), оставление на ночь в доме (корчме) литовской kalti.de и украинской колодки, и в отно шении их сжигания. Возможность внесения нескольких kalade сопоставима с внесением более чем одного бадняка (по числу мужчин в доме), внесение kalade кем-либо из недомашних — с южнославянским и кар патским «полазником», но самой любопытной и важной для дальнейших
148 II. Архаические ритуалы
исследований параллелью является «рождение» и пеленание бадняка и колодки. Этот факт ставит под серьезное сомнение утверждение об ис ключителыю балканской (или средиземноморской, европейской и т. п.), неславянской основе обряда «бадняк» (аналогичный вывод можно еде лать по отношению к обрядам «додоле-прпоруше» и «нолазиик»). Упомянутые обряды имеют и кавказские параллели.
Для реконструкции прасостояния и семантики важны детали обряда, и не просто детали, а сумма деталей. К сожалению, при описаниях они часто опускаются как «несущественные» элементы обряда. Так и в на шем случае остаются неясными вопросы породы дерева для колодки, число и характер персонажей, характер вербальных текстов (онлакива ния и др.) и т. п.
Рождение и крещение колодки (затем и сжигание), так же как и пеленание бадняка, если литовск. (латышек.) kala.de и blukas с ними мифологически одного ряда, как будто проливает свет на обсуждавший ся Даукантасом и Велюсом спорный вопрос о борьбе между старым и новым, об эпизодах смерти и воскресения и т. п., ибо глубинный смысл рассматриваемых обрядов и их сущность можно воспринимать как ми фологически концентрированные, «спрессованные» жития растения (дерева). Помимо всего прочего, само волочение в свете данных других об рядов есть не поругание, а вызывание изобилия (не исключено, что чер литовское волочение колодки в воскресенье — ее «воскресение»).
Печатается в переработанном автором варианте. Первые публикации:
Н. И. Толстой. Южнославянские вучари. Обряд, его структура и география // Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения—I. М., 1992, с. 46—57; Южнославянские Тодорица/Тодоровден. Обряд, его структура и география // Балканские чтения. 1. Симпозиум по структуре текста. М., 1990, с. 101—109; Балкано-славянский бадняк в общеславянской перспективе // Балканы в контексте Средиземноморья. Проблемы реконструкции языка и культуры. Тезисы и предварительные материлы к симпозиуму. М., 1986, с. 128-131; Три обряда: литовск. Kofade, укра-инск. колодий, сербск. бадгьак Ц Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов второй балтославянской конференции- Москва, 29 ноября — 2 декабря 1983 г. М., 1983, с. 46—48.
III. Символика предметов и действий
Бинарные противопоставления типа правый — левый, мужской — женский
‘Вторичная функция обрядового символа
Глаза и зрение покойников
Антропоморфные надгробия
Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде
‘Жизни магический круг
Сеть (мрежа)
Бинарные противопоставления типа правый — левый, мужской — женский
D последние два-три десятилетия можно наблюдать усиление внимания к этимологическим и семантическим связям слов, означающих правую или левую сторону, руку и т. п. [Шайкевич 1960; Зечевий 1963; Толстой 1965; Успенский 1973; Толстые 1974], а также проявление интереса к связям парных понятий 'правый’ и 'левый’ с иными бинарными корреляциями и их лексико-семантическими и мифологическими сущностями. В нашей литературе они еще в 40-х годах были исследованы А. М. Золотаревым, затем, особенно в славистической части, подробнее разработаны В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым [Золотарев 1964; Иванов, Топоров 1965; Иванов, Топоров 1974], выделившими для древнеславянской (общеславянской) культурной традиции ряд оппозиций, образующий, по справедливому мнению авторов, определенную «систему и взаимосвязь основных признаков»: левый — правый, женский — мужской, младший — старший, нижний — верхний, западный — восточный, северный — южный, черный— красный (белый), смерть — жизнь, болезнь — здоровье, тьма — свет, луна — солнце, море — суша, зима — весна [Иванов, Топоров 1974, с. 260-266].
Эти оппозиции были выделены на фоне обширного, разного по территориальной и хронологической приуроченности материала (от африканских традиций того и меру, затем сибирской кетской и бразильской бороро до древнекитайской, инкской и традиций Пифагора, Парменида, Гераклита и др.), что объяснялось задачей типологического анализа «систем двоичных классификационных признаков» путем установления единой схемы (таблицы) соответствий и задачей определения места «древнеславянской» системы в кругу шестнадцати рассматриваемых традиций. Кроме того, и в пределах отдельных конкретных систем («древнеславянской» или древнекитайской и т. п.) особенно в более широких рамках би
152
III. Символика предметов и действий
нарные оппозиции выявлялись на материале, разнохарактерном по жанру, по обрядовой приуроченности, по функциональной направленности и по ситуативной привязке. Эго объяснялось естественным стремлением авто ров выявить как внутри одной отдельной системы, так и в широких рамках суммы таких систем универсальный характер большинства рассматриваемых бинарных оппозиций.
Указанные задачи в целом были разрешены, и черты универсальности перечисленных двоичных признаков оказались выявленными достаточно четко. Однако те же авторы отмечали для отдельных случаев, в частное ти для основного варианта древнекитайской классификационной системы и для случаев ритуальной инверсии, обратную семантику отношений правый — левый и мужской — женский и ряда других парных противо поставлений. Действительно, почти в каждой традиции имеются ситуации, в которых отдельные бинарные оппозиции наполняются иным содержанием, чаще всего антонимичным, противоположным тому, кото рое фиксируется в большинстве других. Эти ситуации следует определять и учитывать особо. Есть и традиции, где некоторые из отмеченных оппозиций не релевантны или просто не фиксируются. Так, например, может отсутствовать ориентация в пространстве по принципу правый — левый (правая рука — левая рука), вместо нее будет практиковаться ориентация по странам света.
Все это свидетельствует о том, что, помимо задач и опытов определения универсальности (или степени универсальности) множества отделы ных бинарных оппозиций, нужны также наблюдения противоположного свойства — над системой бинарных оппозиций в отдельно взятой конкретной традиции, относящейся к одному этносу и одному синхронному срезу.
При исследовании отдельной, единичной системы бинарных оппозиций следует определить и то, каким образом осуществляегся взаимная связь парных противопоставлений внутри этой системы. Устанавливается ли она в некотором смысле косвенным путем на основе анализа фольклорных тек стов, ритуальных действий, запретов, оберегов и подобных представлений, или же она непосредственно отмечается самими носителями народной культурной традиции в определенных ситуациях и условиях, в конкретных символико-семантических сферах. В первом случае эта связь может не осознаваться носителями традиции или осознаваться слабо, во втором — она осознается четко и явно прокламируется. Во всяком случае, помимо выяснения соотношения бинарных оппозиций, важно определение соотношения различных символико-семантических сфер и ситуаций.
Бинарные противопоставления. .
153
В качестве отдельной системы бинарных оппозиций типа 'правый’ — 'левый’ нами избрана современная сербская народная традиционная система. К ее описанию, главным образом в целях дополнительной иллюстрации, присоединены факты из болгарской и русской народной традиции.
Уже сам перечень взаимосвязанных бинарных оппозиций выявленных на сербском материале, не совпадает с тем, который приведен выше и определен В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым как «древнеславянский». Этот сербский перечень таков: правый — левый, мужской — женский, хороший — плохой, живой — мертвый, верхний — ниж ний, передний — задний, внутренний — внешний, ближний — даль ний (домашний — недомашний), восточный — западный, входной — выходной, ранний — поздний, прямой — кривой, продольный — попе речный, лицевой — нелицевой (тыльный, изнаночный), здоровый — больной, а также солнце — месяц, дом — лес, нечет — чет. Из перечня видно, что восемь бинарных признаков повторяются в сербском и «древнеславянском» (по Иванову и Топорову) списке, в то время как восемь признаков отсутствуют в сербском, но отмечены в «древнеславянском», а девять признаков обнаружены нами в сербском, но не за фиксированы в «древнеславянском». К тому же возникает вопрос о формулировке признаков и способах их выявления, но обо всем этом следует сказать после изложения и анализа самого материала.
В сербской народной традиции выявляется семнадцать видов связи бинарных оппозиций типа мужской — женский.
I. Правый — левый : мужской — женский. Эти две бинарные оппозиции проявляют свою прямую связь в многочисленных ситуациях:
а) В предсказаниях пола будущего ребенка: (1) Если плод в утробе матери помещается больше с левой стороны, дитя — женского пола, если с правой — мужского ([Павловой 1. 1921, с. 253] — Крагуевацкая Ясеница). (2) Если дитя в утробе матери впервые зашевелится или объявит себя (за игра) с правой стороны, оно мужского пола, а с левой — женского ([Грбий 1909, с. 104] — окр. Болевацкий, вост. Сербия). (3) Если беременная женщина сразу же после того, как впервые ощутит беременность, повернется вправо — у нее родится мальчик, если же влево — родится девочка ([Dragicevic 1907, с. 490] —окр. Зеница, зап. Босния). (4) Еслиу ребенка ячмень появится на правом глазу, то его мать родит мальчика, а если на левом — девочку ([Радосавл>евий 1899, с. 367] — Поморавье, Сербия);
б) В предсказаниях пола будущего ягненка: если овца родит вислоухого ягненка, то следующий будет женского пола, если вислое ухо —
154
III. Символика предметов и действий
левое, и мужского пола, если вислое ухо — правое ([ЪорЬевий Д. 1958, с. 553] — Лесковацкая Морава, Сербия);
в) В предсказаниях пола будущего покойника (в погребальных пред ставлениях): (1) Если у покойника остается открытым правый глаз, в доме умрет кто-нибудь из мужчин (мужского пола), если же левый, то скончается кто-нибудь из женщин (женского пола) ([Кулиший 1940, с. 55] — Бо-санска Крайне). (2) Если у покойника правая нога короче левой полага-ют, что в том же селе в скором будущем умрет мужчина (или ребенок мужского пола), а если короче левая нога — умрет женщина (или ребенок женского пола) ([Грбий 1909, с. 243] — окр. Болевацкий. вост. Сербия). В другой сербской этнической зоне — в Босанской Крайне — предугадывание производится тем же образом, однако за исходный, первичный признак принимается не более короткая, а более длинная нога [Кулиший 1940, с. 55]. (3) Если из трех соединенных свечей, зажигаемых на семейном празднике «слава», быстрее горит правая, в семье умрет кто-либо из муж чин, если же левая — кто либо из женщин, а если средняя — скончается хо зяин ([Гр1)ий-Б]елокосий 1896, с. 14] — Герцеговина);
г) В действиях после погребения покойника: если покойника (покой ницу) везли на телеге, этой телегой известное время не пользуются, а в некоторых зонах, например в Славонии, снимают колеса с телеги: правое колесо, если умер мужчина, и левое — если умерла особа женского пола ([Vlahovic 1972, s. 59] — Славония);
д) В предсказаниях линии родства будущей невесты (в свадебных представлениях): если ячмень появится на правом глазу, выйдет замуж кто-нибудь из родни по отцовской линии, а если на левом — по материнской ([Гр1щй Б]елокосий 1896, с. 158] — Герцеговина);
е) В угадывании пола лица, занимающегося наветами, сплетнями (в бытовых представлениях): (1) Если «пылают» щеки или уши, значит, кто то сплетничает о тебе или клевещет па тебя. Если при этом еще дергается правый глаз или правое ухо — клевещет мужчина, а если дергается левый глаз или левое ухо — клевещет женщина ([Ъор1)евий Д. 1958, с. 547] — Лесковацкая Морава). (2) Если на языке вскакивает прыщик с правой стороны, клевещет или сплетничает о том, у кого вскочил прыщ, мужчина, а если с левой стороны — женщина ([Филиповий 1949, с. 188] — обл. Ви соко, Босния);
ж) В угадывании пола лица, занимавшегося наведением болезней, порчей (в народно-медицинских, колдовских представлениях)' если горячие угольки, брошенные в воду', поплывут вправо, это будет означать, что болезнь навел кто-то из мужчин, а если влево — кто-то из женщин.
Бинарные противопоставления...
155
В случае когда угольки зашипят и закрутятся на одном месте, полагают, что больной наступил на недоброе место и от этого разболелся ([ Мило-савл>евий 1913 с. 265] — Хомолье, сев.-зап. Сербия).
II. Правый — левый : хороший — плохой.
а) В предсказаниях характера будущего известия (в бытовых представ лениях): (1) Если кто-либо угадает, в каком ухе звенит у кого-нибудь другого, тот получит хорошее известие, если звон был в правом ухе, и плохое известие, если звон был в левом ухе ([Тро]ановий 1925, с. 31] — Сербия). (2) Это же верование известно в упрощенной форме: если у кого нибудь зазвенит в левом ухе, тот получит плохую весть, если же в правом — получит добрую весть ([Ми]атовий М. 1909, с. 444] — Левач и Темнич, центр. Сер бия). (3) У черногорцев племени Кучи полагают, что звон (зу/анье) в ушах предвещает весть, которая вскоре разгласится. 11оэтому существует привычка спрашивать: «Koje ми у'о noje?» (В каком ухе звенит?), чтобы получить ответ: «Десно на добар глас!» (Правое — к хорошей вести!) или иной, так как это связано с представлением, что звон в правом ухе — пред вестник чьей-либо смерти, которая должна произойти в той стороне, откуда слышится звон ([Дучий 1931, с. 318] — племя Кучи, Черногория). Это суеверие указывает на связь нары bonus — malus с парой vivus — mortuus;
б) В предсказаниях характера будущего события: у сербов в долине реки Моравы полагают, что правый глаз дергается к добру (игра на ар но), а левый — к беде к плохому (игра на лоте). Если глаз долго подергивается, его крестят правой рукой и говорят: «Ако играш на добро, игра], ако играш на зло, престани!» (Если дергаешься к добру, дергай ся, если к злу, к плохому — перестань!) ([Ъор^евий Д. 1958. с. 547] — Лесковацкая Морава, Сербия).
III. Правый — левый : позитивный — негативный.
В гаданиях о замужестве (в предсвадебных представлениях): девушки на выданье в канун Юрьева дня ровно подрезают два стебелька, вы растающих из одного корня. Если на следующий Юрьев день правый стебель будет большим, девушка выйдет замуж, если же большим будет левый стебель — не выйдет ([Ми]'атовий С., Бушетий 1925, с. 40] — Левач и Темнич, центр. Сербия).
IV. Правый — левый : живой — мертвый.
В предсказаниях исхода болезни (в народно-медицинских представлениях) если знак — белег (тряпочка от одежды больного) бросить в воду,
156
III. Символика предметов и действий
налитую в чан, и этот «знак», после того как его в воде трижды закрутят, поплывет вправо — больной будет здоров, а если влево — больной умрет ([Милосавллвий 1913, с. 265] — Хомолье, сев.-зап. Сербия).
V. Правый — левый : ближний — дальний.
В предсказаниях родства будущего ребенка: если у кого-либо ячмень появится на правом глазу, полагают, что у него родится близкий родственник, если же на левом — родится дальний родственник ([Мидато-вий М. 1909, с. 444] — Левач и Темнич, центр. Сербия).
VI. Правый — левый : внутренний — внешний (домашний — недомашний ).
В предсказаниях родства (неродетва) будущего покойника (в погребальных представлениях): если окажется, что у покойника, хозяина дома, длиннее правая нога или открыт правый глаз, умрет кто-либо из дома (из близких), если же у него длиннее левая нога или открыт левый глаз, умрет кто-либо из села (из односельчан) ([Кулиший 1940, с. 55] — Босанска Краина). Ср. также 16. Путем сопоставления V и 16 устанавливается опосредованная связь между ближний — неближний (родственный — неродственный) и мужской — женский. Впрочем, она может быть и непосредственной, как видно из следующего.
VI А. Мужской — женский : внутренний — внешний.
В предсказаниях пола будущего ребенка (в родинных представлениях): если будущая мать впервые ощутит свою беременность в доме, полагают, что родится мальчик, а если вне дома, на дворе и т. п. — родится девочка ([Мийовий 1952, с. 248] — Попово Поле). Аналогично: дома — вне дома ([Павловий 1. 1921, с. 253] — Крагуевацкая Ясени-ца). По сути дела, здесь противопоставление, обозначенное в работе В. В. Иванова и В. Н. Топорова как дом — не дом.
VII. Мужской — женский : верхний — нижний.
В предсказаниях пола будущего ребенка (в родинных представлениях): если желток от яйца, положенного на кочергу, в горящем очаге лопнет сверху — родится мальчик, если снизу — девочка ([Павловий I. 1921, с. 253] — Крагуевацкая Ясеница). Если на глазу вскочит ячмень — у жены дяди по отцу родится ребенок, причем если ячмень вскочит на нижнем веке — родится девочка, а на верхнем — мальчик ([Ми-лийевий 1894, с. 190] — сев.-зап. Сербия, район г. Шабац).
Бинарные противопоставления...
157
VII I. Мужской — женский : передний — задний.
В предсказаниях пола будущего ребенка (в родинных представлениях): если беременность женщины больше видна спереди — будет мальчик, а если больше видна сзади — девочка ([Павловий I. 1921, с. 253] — Крагуевацкая Ясеница).
IX . Мужской — женский : входной — выходной.
В обряде прогона скота через живой огонь: если прогоняли скот через живой огонь и при этом в качестве ритуальных лиц действовали разнополые близнецы с однокоренным именем (CmojaH и Станка, Милен и Милевка, Василко и Васка), то брат становился у входа в тоннель, а сестра — у выхода ([Tpojanoenh 1930, с. 161] — Сербия).
X. Мужской — женский : продольный — поперечный.
В предсказаниях пола будущего покойника: если в течение 40 дней после похорон покойника могила даст поперечную трещину, то это предзнаменование того, что в том же году умрет еще один член семьи женского пола, в то время как продольная трещина — к смерти еще одного члена семьи мужского пола. Перекрестные продольная и поперечная трещины — к смерти большого числа детей во всем селе ([Милосав-л>евий 1913, с. 257] — Хомолье, сев.-зап. Сербия).
XI. Мужской — женский : лицевой — нелицевой (обратный, изнаночный, тыльный).
В предсказаниях пола будущего теленка: если на Новый год (Мали БожиН) при исполнении ритуала, заключающегося в том, что волу натыкают на рог сакральный пирог (калач) и он его стряхивает, пирог упадет кверху лицевой, разукрашенной стороной (шаром горе), коровы будут иметь мужской приплод (бычков), а если обратной, тыльной стороной (оггьиштем) — коровы дадут женский приплод (телок) ([Пейо 1925, с. 371] — Босния).
XI А. Бинарная оппозиция лицевой — нелицевой может быть в свою очередь исходной для связи с оппозицией хороший — плохой (см. II). Так, в новогоднем обряде с правым упряжным волом, которому на кончик правого рога надевают сакральный хлебец в виде бублика (ковртаи), смотрят, как упал сброшенный волом бублик, и если он трижды упал лицом (фигурными крестами) вверх — будет хорошо, в противном случае — плохо ([Filipovic 1969а, с. 139] — Боснийская Посавина).
158
III. Символика предметов и действий
XII. Мужской — женский : ранний — поздний.
В воздержании от пищи на помин души родителей (в погребальных представлениях): в Чистый понедельник (в 1-й день Великого поста) следует воздерживаться от пищи до обеда, если умер отец, и после обе да, если умерла мать, наконец, целый день, если умерли отец и мать ([Filipovic 1969, с. 182] — Маевица, Босния). Ср. бинарную оппозицию передний. — задний (VII).
XIII . Мужской — женский : нечетный — четный.
В извещении о смерти (в погребальных представлениях): если умер мужчина, его смерть оглашается тремя ударами большого колокола, затем таким же количеством ударов во все колокола; если же умерла женщина, ее смерть оглашается так же, но двумя ударами. Таково правило в православных церквах и монастырях на Балканах, в частности в Алексинце, Шумадия [Ъор1)евиБ Т. 1938, с. 73; TpojaHoenh 1925, с. 233].
XIV . Бинарная оппозиция восточный — западный может сочетаться с оппозицией хороший — плохой и выражать это сочетание.
В обряде приготовления (варки) панспермической ритуальной каши в день св. Варвары (4.XII. ст. ст.): если каша начнет закипать с востока или с северо-востока, будущий год будет хорошим, урожайным и прибыльным для дома; если же она будет закипать с западной или южной стороны, все будет противоположным, т. е. плохим ([Врчевий 1883, с. 14] — Черногория и Сербия).
Особую группу составляют так называемые опосредованные парные признаки. Признак мужской — женский может относиться не к человеку, а к дереву и определяться по грамматическому роду названий: мужск. грм, клен, орах, женск. буква, ииьива, граница и т. п. С этим связаны конкретные магические действия. Например, если есть желание, чтобы второй ребенок был мужского пола, то нужно рубаху, в которой женщина рожала первого ребенка, повесить на ночь на «мужское» дерево (грм, клен, орах и т. п.), а если хотят иметь вторым ребенком девочку, надо повесить рубаху на «женское» дерево ([МилиЬе-виЬ 1894, с. 194] — сев.-зап. Сербия, Подгорина). Сербы различают два вида дуба: цер (Quercus cerris) — «мужское» дерево и границу (Quercus conferta) — «женское» дерево. Оба вида могут быть использованы в качестве сакрального дерева — бадняка. В этом случае различается бадняк мужской и женский (мушки баднак и женски баднак).
Бинарные противопоставления...
159
На таком основании возникает соотношение оппозиций:
XIV А. Мужской — женский : восточный — западный.
В обряде рождественского полена «бадняка»: мужской бадняк рубят с восточной стороны, а женский («баднячицу») — с западной ([Костий 1965—1966, с. 200] — с. Тропань, Ресава).
Другим видом опосредования является использование ритуального диалога, включенного в обряд, предохраняющий от смерти ребенка. Он исполняется в следующих обстоятельствах. Если у роженицы рождалось много детей, но все они умирали, производятся магические действия, чтобы родившийся ребенок остался в живых. Помимо протаскивания новорожденного через обруч или колесо от телеги и его троекратного подбрасывания к востоку, повитуха совершает еще один ритуал. Она подносит новорожденного к порогу дома и трижды спрашивает у его матери: «Волиш ли сунце, ja ли месец?» (Ты хочешь солнце или месяц?). Мать же, стоящая за закрытыми дверями, каждый раз отвечает: «Сунце!» (Солнце!). Затем повитуха делает в правом ухе ребенка дырочку и продевает в нее шелковую нитку с серебряной денежкой ([Милосавл>е-вий 1913, с. 94] — Хомолье, сев.-зап. Сербия).
Таким образом, выявляется еще одна связь бинарных оппозиций:
XV. Живой — мертвый : солнце — месяц.
XVI. Вино — вода : мужской — женский.
Связь этих двух парных оппозиций выявляется из народного представления, бытующего в среде далматинских крестьян, согласно которому мужчина, желающий, чтобы у его жены рождались мальчики, должен наливать себе в стакан сначала вино, а потом воду, а не наоборот. Собиратель материала А. И. Царич поясняет, что далматинцы не отступят от этого и под страхом смерти («ма да их закол>еш») ([Ъор1)евий Т. 1941, с. 47] — Далмация).
Наконец, следует отметить еще одно опосредованное противопоставление, фиксированное в поговорке и в более развернутом клишированном тексте:
XVII. Мужской — женский : дом — лес.
При рождении мальчика говорят: «Гора плаче, а куйа noje», (Лес плачет, а дом поет), а при рождении девочки: «Гора noje, куйа плаче» (Лес поет, дом плачет). При этом говорят также: «Когда родится мальчик, все в Доме вплоть до булавки радуется, только метла плачет, а когда родится девочка, только метла радуется, а все остальное плачет» ([Нуший 1902,
160
III. Символика предметов и действий
с. 122; Ъор1)евиЬТ. 1941, с. 47] — Косово Поле). Бинарная оппозиция дом — лес семантически близка к оппозиции дом — не дом (дом — внешнее пространство )и внутренний — внешний (см. VIA).
Этим в принципе исчерпывается основной материал, позволяющий вы делить семнадцать перечисленных типов бинарных оппозиций, связанных друг с другом отношениями предопределенности, последования, неизбежной реакции в семантически родственной сфере. Число примеров и их географию можно было бы расширить за счет некоторого материала, содержащегося в известной статье С. Зечевича «Правая и левая сторона в сербских народных верованиях» [Зечевий 1963]. Так, противопоставление мужской — женский обнаруживается в связи с ориентацией правый — левый в сербском свадебном обряде на основании размещения за свадебным столом участников пиршества со стороны жениха и со стороны невесты (место зятя, кума, свата и т. д.), а противопоставление живой — мертвый ярко проявляется в противоположном обычному «левом» движении хороводного танца (коло), когда он исполняется для мертвых (за мртве). Обычное движение — правое, т. е. слева направо, или посолонь, по солнцу (на опосун). Обратному движению (коло наопако) коллективного танца, означающего поминание покойника и являющегося траурным актом (коло за мртве), посвящена большая литература, в которой основное место занимают работы того же С. Зечевича [Зечевий 1966; Зечевий 1982, с. 94, 95]. Поэтому мы ограничиваемся лишь отсылкой к этим трудам, но добавим, что обратное движение известно и в других случаях, связанных с погребением: сербы на поминках носят угощения справа налево (на свадьбе, «славе» и обычно — слева направо), подходят к гробу с левой стороны, ка дят мертвеца и гроб справа налево, несут надмогильный крест на кладбище на левом плече и т. д.
Приведем, однако, несколько еще не введенных в научное рассмотрение примеров, показывающих, что сам мотив смерти или сна, мотив потус тороннего или хтонического мира требует обратной, противоположной, «вывернутой наизнанку» ориентации. Однако это зребование не категорично, т. е. оно проводится не всегда последовательно и неуклонно.
Так, например, «обратная перспектива» обнаруживается в ситуации похоронного обряда в зоне Хомолья (сев.-зап. Сербия). Там существовало суеверие, согласно которому «когда двинется телега или сани с покойником и вол, находящийся в упряжке справа (во дешпак), задержится, не шагнет со своим напарником, тогда в том же году в доме умрет еще кто-либо из женщин, а если задержится левый запряженный вол — умрет кто-либо из
Бинарные противопоставления...
1Ы
мужчин. Покойник в доме будет и в том случае если волы заупрямятся на перекрестке, где процессия должна остановиться, или если они не захотят переходить через реку или мост, находящийся на их пути. Если на пути из дома споткнется правый вол (во дешгьак), умрет кто-то из женщин, а если левый вол — кто-то из мужчин. Если оба вола споткнутся разом, умрет хозяин дома, а если один за другим — умрет хозяйка. Мычание волов предвещает смерть, но не ближайших родственников, а более удаленных» ([Ми-лосавл>евий 1913, с. 246. 247] — Хомолье, сев.-зап. Сербия).
Положительный, утверждающий характер признака «левый» отмечен в таком народном сербском представлении: «Когда снится сон человеку, лежащему на левой стороне, сон имеет большее значение, т. е. раньше сбудется» ([Мщ’атовиЬ М. 1909, с. 443] — Левач и Темнил, центр. Сербия).
Такая обратная семантика во многом, но не во всем характерна для древнесербских (а также древнерусских) «Трепетников», текстов, содержащих предсказания на основании подергивания (трепета) отдельных частей человеческого тела, например: «Аще ли чланови десшя страни потрепещуть досаждеше кажетъ. Аще ли чланови лев!я страни потрепе-щуть, благо кажетъ» — или: «Аще езикь десшя страни потрепещеть. печаль кажетъ. Аще езикъ левы страни, благошьсппе кажетъ» [Сперанский 1899, 70]. Этот вопрос отчасти рассматривался нами в работе [Толстые 1974, с. 42—44], отражен он и в одной из книг В. В. Иванова и В. Н. Топорова, но в принципе требует специального исследования в связи с общим анализом символических особенностей славянской апокрифической традиции.
С этой традицией и с обшей христианской символикой связаны и представления о том, что справа от человека стоит невидимый ангел, а слева — черт. Богомильский дуализм целиком строился на противостоянии и равноправии этих двух начал. Но само поверье о том, что ангел стоит за плечом справа, а дьявол — слева, не обязательно связывать с богомильством. Сербы полагают, что у каждого человека есть свой ангел, который его бережет от зла, и свой черт, который его склоняет ко злу. «Ангел стоит за правым плечом человека, а черт — за левым. Когда человек творит добро, ангел веселится и крылом своим опахивает лицо человека, а черт хмурится и сердится. А когда человек начинает грешить, ангел грустит и плачет, а черт подпрыгивает от радости и дразнит ангела, говоря ему: э, э, э, он мой! Мой! Мой!» [МилийевиЬ 1894. с- 49]. На основе этого мотива возникал целый ряд других, близких народных представлений вроде следующего, зафиксированного в Шумадии в Груже: «Когда огонь не хочет гореть или когда шипят дрова, это знак 6
162
III. Символика предметов и действий
того, что у жителей дома есть враги. В таком случае нужно плюнуть в левую сторону' от огня, чтобы отогнать черта» [Петровий 1948, с. 360], В Сербии в районе Сврлига считают, что человеку, идущему незнакомым путем и оказавшемуся на перепутье, всегда лучше пойти дальше правой дорогой, потому что правая — ангельская (добрая, счастливая), а левая — чертовская (плохая, несчастливая) [Васшьевий 1897, с. 189]. Можно было бы привести еще немало примеров и из книжной, церковной традиции в связи с правой рукой, совершающей крестное знамение, с символикой крестного знамения (об объяснении этой символики протопопом Авваку мом нам уже приходилось писать, см.: [Толстые 1974, с. 43, 44]), иконографией православных святых, однако этот вопрос более, чем другие, должен стать предметом отдельного подробного исследования,
В целом же связь этих бинарных оппозиций может быть причислена к типу II: правый — левый : хороший — плохой (с семантическими вариантами праведный — неправедный, счастливый — несчастливъ и).
К этой же группе со вторичным значением хороший — плохой можно причислить примеры с действиями, в которых первый шаг (или шаг через порог) в целях благополучия должен производиться правой ногой, а какое либо действие — умывание, кормление ребенка и т. н. — правой рукой, правой грудью и т. п. Шаг левой ногой и действие левой рукой и т. п. имели бы, по архаическим сербским народным представлениям, обратный, негативный результат, т. е. вели бы к беде. В большинстве случаев эти верования связаны с магией первого дня или первого действия. Так, «полазник» (гость-посланник, приносящий благополучие) на Рождество должен пер ступить порог правой ногой, нолазником может бьггь не мужчина, а вол «дешняк» (правый в ярме); невеста, впервые вступающая в дом жениха, должна переступить порог правой ногой, а человек, отправляющийся в дальнюю дорогу, должен сделать свой первый шаг правой ногой: обуваясь утром, нужно сначала обуть правую ногу, а потом — левую: одеваясь, продеть руку сначала через правый рукав, а затем — левый, ногу — через правую портину, а затем — левую; вьггираясь после умывания, вытереть сначала правую руку, а затем — левую: наконец, женщина, начинающая кормить своего ребенка, должна дать ему сначала правую грудь, а затем — левую ит. п. [ЗечевиЬ 1963. с. 199, 200; Lovretic 1897, с. 186].
С той же целью сохранения и приобретения благополучия в сербских народных представлениях считается необходимым ;ця множества предм го в избегать четное число: «...нельзя вносить в юм четное число поленьев никогда не следует класть под наседку четное число яиц и выво.щть четное число цыплят и другой птицы: не должно быть четного числа сватов на
Бинарные противопоставления... Iti.'i
святое и т. д.» [Филиповий 1949, с. 207]. В этом случае наблюдается связь двух бинарных сочетаний нечетный — четный и хороший — плохой. Связь эта в ряде случаев осложняется дополнительными семантическими и функциональными моментами, рассмотрение которых, однако, нс имеет прямого отношения к нашей основной проблеме. Тем более что в современном употреблении многие из перечисленных представлений и их связей, не говоря уже о других, не приводимых здесь нами, частично или полностью десемантизированы и имеют характер либо привычек либо табуизированных действии тина тех, которые известны в пашем быту: нельзя подавать левую руку, нельзя дарить четное число цветов и т. п. «Этимологическая» десемантизация или транссемантизация, т. е. изменение значения, отражается в ряде фразеологизмов типа сербск. «устао на леву ногу», русск. «встал елевой ноги», русск. «сделать левой ногой» и т. п. Деэтимологизировались в славянских языках и диалектах и слова dexter — laevus, образованные на семантической основе противопоставления bonus — mains. Таковым являются славянск. ргаиъ— исконно 'прямой’, 'справедливый’, 'добрый, хороший’, азатем 'правый’: кпгъ исконно 'кривой', 'плохой’ (ср. кривда), за-тем'левый’, идр. (подробнее см.: [Толстой 1965, с. 135—140]).
Проделанная нами работа, хотя и базируется на фактах, почерпнутых из значительного числа просмотренных источников, все же имеет предварительный, а не окончательный характер. Трудно ручаться, особенно в условиях работы вне сербских библиотек и архивов, во-первых, за полноту просмотренного и собранного материала, во-вторых, за то. что имеющийся печатный и даже архивный материал отразил вене полноту фактов сербской народной традиции. Так. например, можно предположить, что в сербских народных представлениях должна существовать бинарная оппозиция здоровый — больной, связанная с оппозицией правый — левый. Об этом свидетельствует факт, отмеченный в соседней, македонской традиции. В районе г. Гевгслия крегтьяне предполагали, что трепетание левого глаза — к болезни, а правого — к здоровью, к добру (на арно е) |Таповий 1927, с. 247]. Не исключена возможность наличия в сербской традиции и оппозиции старший — младший, связанной с парой правый — левый или какой-либо иной.
Кроме пар здоровый — больной и старший — младший, которые отмечены в качестве «древнеславянских» в таблице двоичных противопоставлении В. В. Иванова и В. Н. Топорова, нами не обнаружены в сербской традиции, в прямой или опосредованной связи с другими парами, пары: юж ныи — северный, красный (белый) — черный, свет. — тьма, небо — зем ля, огонь — вода, земля — вода, суша — море, весна — зима, также при
164
III Символика преометов и действий
водимые в указанной таблице. Следует отметить, что сам характер нар ньгх противопоставлений небо — земля или огонь — вода иной, чем би нарных оппозиций правый — левый и мужской — женский. В первом случае обнаруживается корреляция стихий (огонь — вода), простра нственных сфер (суша — море) и т. и., во втором — корреляция качественных или относительных признаков. Эти корреляции принципи ально различны, и это различие определяется не только и не столько ло гическим путем, сколько путем исследования фольклорно-этнографиче ского материала конкретных систем (точнее, подсистем) народной куль туры. На рассмотренном нами материале второй тип корреляций не об наруживает такого вида связей, которые характерны для первого типа и описаны нами. Это ставит вопрос о характере и разновидностях семиотических бинарных представлений, который бы следовало рассмат ривать отдельно, в специальной работе.
Изложенный материал показывает, что наибольшее число связей имеют две бинарные корреляции по ориентации в пространстве и по полу: при вый — левый (6 связей) и мужской — женский (10 связей). Сами эти би парные корреляции взаимно связаны, их можно считать основным и.
Основная пространственная ориентация правый — левый связана е другим пространственным признаком: внутренний — внешний (IV) и с признаком ближний — дальний (V), но уже не в пространственном, а в родственном отношении.
Любопытно, что другие пространственные признаки: верхний — ним ний (VII), передний — задний (VIII), восточный — западный (XIII) а также входной — выходной (IX), продольный — поперечный (X) — связа ны с парой мужской — женский. Сюда же следует отнести и пару дом -лес (XVII), связанную с корреляцией мужской — женский.
Пара мужской — женский соотносится и с парой временных признаков ранний — поздний (XII), с парой счетных (цифровых) признаков нечет ный — четный (XIII), наконец, с важной в мифоло1ическом отношении оппозицией лицевой — нелицевой (XI) и с оппозицией вино — вода (X VI).
Бинарная пространственная оппозиция правый — левый связана с качественными оппозициями хороший — плохой (II), позитивный — негативный (III), живой — мертвый (IV).
Таким образом, вне связи с оппозицией правый — левый и муж ской — женский оказываются лишь две пары оппозиций: пары жи вой — мертвый : солнце — месяц (XV) и восточный — западный хороший — плохой (XIV). Они, как видно из вышеприведенного мате риала, соотносятся с двумя основными ышозициями через бинарны»
Бинарные противопоставления...
165
связи правый — левый ; живой — мертвый (IV) И мужской — жт ский : восточный — западный (XIV. А).
Если же в качестве осевой связи принять признаки хороший — пло хой, то образуется небольшое по составу, но в смысловом отношении довольно компактное семантическое поле: хороший — плохой, пра вый — левый, восточный — западный, лицевой — нелицевой. А если перечислить только вторые члены оппозиций, то получится ряд: плохой, левый, западный, нелицевой. В связи с этим можно было бы сделать ряд чисто лингвистических наблюдений, подтверждающих эту связь. Ср. хотя бы русские примеры левая сторона 'изнанка’, левая работа 'плохая работа’, диал. левый 'черт’ и т. п.
Остановимся кратко на анализе обрядов, ситуаций и условий, в которых обнаруживаются и эксплицитно, а не имплицитно выражаются интересующие нас связи. Все эти условия и ситуации можно подразделить на обрядовые и бытовые. По другому параметру они делятся также на две группы: во-первых, знамения, явления, наблюдаемые ante fac turn, на основе которых можно предугадывать, предсказывать будущие результаты (пол ребенка, пол покойника и т. д.), и, во-вторых, на действия, которые производятся post factum, в зависимости от результата происшедшего (снимание правых или левых колес телеги, двукратный или трехкратный звон в колокол сообразно с полом покойника и т. п.). Наблюдения за знамениями и предсказания ante factum производятся, как правило, в период исполнения других обрядовых действий или на кануне, в преддверии этих действий, в то время как действия post factum могут считаться завершающими действиями самого обряда.
Весьма любопытен и характер обрядов, точнее, обрядового времени, обрядовой поры, когда обнаруживаются интересующие нас связи семиотических бинарных оппозиций. Это, как правило, обряды, функционально «переходные», обеспечивающие, согласно архаическим народным представлениям, переход из одного состояния в другое (по принятому в науке французскому термину rites de passage). Чаще всего, как видно из приве денных выше примеров, предсказания делались в пору перед родинным об рядом, в нору беременности илиродов (1а, б, VI, VI А, VII, VIII), перед погребальным обрядом, после агонии (1в. X), в некоторых случаях во время свадебного обряда (1д. VI) и перед Новым годом, в первый день Нового года (XI, XI А). Но предсказания или «выяснения» могут быть сделаны во время заговора или магии, целью которой является выяснение разных обстоятельств или исхода болезни и т. п. (1ж, IV), наконец, при обычных бытовых условиях и в необрядовое время (1е, Па, б, III).
166 111. Символика предметов и действий
Предсказания в бытовых условиях связаны почти исключительно е «•трепетанием» («шра») глаза или звоном (syjane) в ушах.
Наконец, в одном случае связь обнаруживается при расстановке деи ствутощих лиц в обряде (IX).
Все эти факты укрепляют наше представление о том. что связи ct миотических бинарных оппозиций г.дубоко сакральны и что они обнару живаются преимущественно в обрядах, исполняемых в переломную. ру бежную, «межевую» пору жизни человека, реже — человеческого социу ма, как и в переломную, «межевую» пору суток, чаще всего на утренней и вечерней заре, производятся заговоры и сопровождающие их ритуаль ные действия. Взаимные связи семиотических бинарных оппозиций про являются в ограниченных. преимущественно ритуальных условиях в рамках, определенных временем, местом и .типами, причастными к тем или иным ситуациям. ,'>ги ситуации строго лимитированы, и вне их они санные мифологические представления или нейтрализуются, или вообще не проявляются. Такая лимитированность и устойчивость [раниц фупк ционировання рассмотренных представлений и их связей подтверждают ся весьма сходным, часто идентичным изложенному материалом других близкородственных, прежде всего славянских, традиций. Но тако»' срав нительное рассмотрение должно быть предметом отдельной работы.
Ограниченность сфер функционирования рассмотренных бинарных оппозиций заставляет усомниться в том. что вся система славянских ми фологических представлений построена на основных содержательных двоичных противопоставлениях подобных рассмотренным, как это из ложено в статье «Славянская мифология» В. В. Иванова и В. II. Топо рова, опубликованной во втором томе «Мифов народов мира» (Иванов Топоров 1982. с. 452. 453]. Надо полагать, что структура древпесла вяпских воззрений и славянской мифологии значительно сложнее и бо лее многопланова, чем мы это себе часто представляем.
Первая публикация:
II. И. Толстой. О природе связей бинарных противопоставлений типа правый — левый, мужской — женский Ц Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987, с. 169—183.
Вторичная функция обрядового символа
Традиционным обряд представляет собой культурный текст, включающий в себя элементы, принадлежащие разным кодам: акциональ-ному (обряд — последовательность определенных ритуальных действий) , реальному, или предметному (в обряде производятся действия с некоторыми обыденными предметами или со специально изготовленными ритуальными предметами), вербальному (обряд содержит словесные формулы, приговоры, благопожелания и т. п., сюда же относятся терминология и имена), а также персональному (ритуальные действия совершаются определенными исполнителями и могут быть адресованы определенным лицам или персонажам), локативному (действия приурочены к ритуально значимым элементам внешнего или внутреннего пространства или вообще пространственно ориентированы — вверх, вниз, вглубь и т. д.), темпоральному (действия, как правило, производятся в определенное время года, суток, до или после какого-либо события семейного или социального и т. и.), музыкальному (в сочетании со словом или независимо), изобразительному (изобразительные символы ритуальных предметов, пищи, одежды, утвари и т. п.) и т. д. [Толстой 1982а — наст, изд., с. 27—40].
Каждый элемент обрядового текста семиотически маркирован по от ношению к своему «природному» прототипу и тем самым (уже) вторичен: предмет или действие выступают в обряде не в своем обиходном, практическом значении, а в ритуальной, символической, знаковой Функции. Это вторичное, культурное значение реалии, дополнительная знаковая характеристика может быть весьма сложной и далеко отстоящей от природных свойств и функций реалии, ибо она отражает многообразные связи данного элемента с другими знаковыми элементами и
168 III. Символика предметов и действий
вхождение его в различные культурные контексты. Но в некоторых простейших случаях можно проследить, как вторичное, символическое значе ние и употребление возникает из первичных, природных, утилитарных свойств щюдметов и действий. Если речь идет, например, о предметах, то такими свойствами, мотивирующими их знаковые функции, могут бьггь форма, цвет, материал, способ приготовления, повседневные функции и способы применения и т. д. Так возникает ритуальная значимость пере крестка дорог, раздвоенного ствола дерева, острых орудий (иглы, ножа, косы и т. п.), металлических предметов, плетеных, связанных или витых изделий (лапти, корзины, сеть, решето, венки ит. и.), вращающихся (веретено) или бьющих (цеп, валек и т. п.) орудий, печной утвари и т. п. Однако сама возможность такого рода мотивировки основывается на сим волической (семиотической, культурной) интерпретации абстрагирован ных от реальных предметов свойств (крестообразной, заостренной и т. п. формы, двоичности, «железноети», переплетенности и т. д.), пред шествующей символической интерпретации самих реалий. В более слож ных случаях культурное значение и функция предмета может быть обус ловлена соотношением с другими предметами по их практической или символической смежности и параллельному употреблению, вхождению в однородные парадигматические ряды или сходные контексты. Многооб разие способов мотивации ведет к существенному осложнению структу ры культурного значения реалии, к возможности различного ее осмысле иия и к разнообразию ее ритуальных функций.
Семиотизация и ритуализация являются универсальным механизмом традиционной народной культуры. В качестве первичного, исходного моделируемого объекта могут выступать не только предметы внешнего мира, но и вся практическая жизненная и хозяйственная деятельность людей — рож дение, брак, смерть, пахота, сев, жатва, уход за скотом, лечение и т. д., по лучающая семиотическое осмысление и ритуализованные формы в соответ ствии со всей системой мировоззрения, мифологией, картиной мира (се мейные, сельскохозяйственные, календарные обряды и др.).
Универсальность механизма семиотизации и ритуализации в архаических типах культуры приводит к тому, что их объектом становятся не только практические (природные) формы жизни, но и уже ритуализованные, т. е. получившие статус культурных текстов. Речь идет о риту альном воспроизведении некоторого обряда, его части или отдельных элементов, совершаемом в других условиях и с другой функцией. Применительно к этим случаям можно говорить о явлении вторичной ритуализации.
Вторичная функция обрядового символа
169
В работах, посвященных окказиональным славянским обрядам вызывания дождя во время засухи, отгона градовой тучи и т. п., нам уже приходилось обращать внимание на вторичное обрядовое использование предметов, которые до этого фигурировали в одном из семейных или календарных обрядов (в сербской традиции — свадебный венец или фата, рождественская солома, пепел от «бадняка», пасхальная скатерть, пасхальное крашеное яйцо и др.) [Толстые 1981а, с. 71—99]. Примеры такого рода легко могут быть умножены. Они особенно многочисленны в разного рода магических ритуалах охранительного, отгонного и лечебного свойства. При этом, как правило, семантическая связь реалии с первичным обрядовым текстом хорошо осознается, и именно она сообщает вторичным ритуалам особую сакральность и магическую силу. Рассмотрим подробнее некоторые случаи вторичного употребления обрядовых предметов.
Из предметов, связанных со свадебным обрядом, выделяются лишь некоторые, преимущественно относящиеся к одежде. Так, в сербской традиции используются вторично атрибуты невесты — венец, фата, подвенечное платье и пояс, венчальная рубаха. Свадебным венцом машут навстречу 1радовой туче, чтобы ее отогнать, и при этом надевают на голову подвенечную фату (зона Драгачево) или машут с той же целью подвенечной рубахой, безрукавкой, в которой невеста шла под венец, и фатой (зона Поцерина). Обряд совершали замужние женщины, сопровождая его заклинательными формулами (подробнее см.: [Толстые 1981а, с. 72, 73]). В полесской традиции детская «чорна болезнь» (иначе «свое», «свое мучить» — судороги, мучающие младенцев и вызывающие плач) лечится покрыванием ребенка «в1нчаним платтям». Подвенечная одежда может быть заменена одеждой покойника («з мертвого одежа»), а детская одежонка должна бьггъ при этом повешена где-то подальше на дереве — «на пущаш» (с. Сварицевичи Ровенской обл., запись Н. К. Гаврилюк, 1983 г.).
Из предметов погребального обряда в сербскохорватской традиции широко применяются повязка, которой подвязывали подбородок покойника, мыло и гребень, которым мыли и причесывали покойника, освященная вода, кольцо покойника, красная нитка, которой было принято перевязывать покойника и др. Черногорцы и хорваты считали, что мертвецкая повязка на суде может повлиять на противника и он потеряет дар речи (у него как бы окажется завязанным рот). Поэтому в Самоборе некоторые, идучи на суд, кусочек такой повязки клали в баш мак, в Тимокской Крайне — под пояс, а в Копривнице эту повязку кра
170
III. Символика предметов и действий
ли из гроба (она оставлялась в гробу в ногах покойника) [Ъор^евий Т. 1939, с. 256, 257; Шнев.-ус 1929, с. 266]. В зоне Лесковца такая повязка-полотенце снималась перед отпеванием и вешалась на могильный крест. Ее надо было сберечь, так как куски ее полезны тем, кто уходит на войну [Ъор1)евий Д. 1958, с. 498]. Сербы-боснийцы сохраняли мыло и гребешок после омовения и причесывания покойника, мылом можно было натирать больное место (Филиповий 1949. с. 177]. Сербы из Кор дуна (Хорватия) берегли воду’, которая освящалась после погребения, и использовали ее как средство от нечистой силы и как лекарство [Буба-ло-Кордунаш 1931, с. 85]. В Тимокской Крайне (сев.-вост. Сербия) перстень, снятый с руки покойника, применялся для остановки кровотечения из носа (делали так, чтобы кровь капала сквозь него); он мог помочь выиграть дело в суде, если смотреть через него на судей [Ъор1)е-вий Т. 1938, с. 255]. Сербы из Лесковацкой Моравы также верили, что кольцо, выкопанное из могилы, помогает на суде [Ъор^евийД. 1958. с. 495]. С той же целью в той же зоне сохраняли красную шерстяную нитку, которой накрест перевязывали покойника (там же, с. 112]. В Боснии и Герцеговине деньги бросали в могильную яму лишь тогда, когда находили в ней кости, и таким образом «откупали» место. Выкопанные из могилы деньги, как и вино, считались чудодейственными и охраняющими от всяко го зла, их часто пришивали на одежду детям в качестве амулета [Шнева]с 1929, с. 268]. В Боснии бутылку випа в могилу ставили людям, пристраст ным к нему, и находка такой бутылки при вскрьггии могилы считалась удачей. В Новом Пазаре (Санджак) сербы покойнику, скончавшемуся от туберкулеза, клали в могилу бутылку вина, привязав ее веревкой, чтобы ее можно было легче вытащить. Через 40 дней после поминок члены семьи вытаскивали это вино и пили его, чтобы излечиться от туберкулеза [Фили повий 1967, с. 197, 198]. В вост. Сербии около Болевца поступают так же при похоронах покойника, умершего от заразной болезни, только в бутылку наливают постное масло и пьют его через 40 дней, чтобы уберечься от заразы [Грбий 1909, с. 250].
В славянских традициях, в частности в сербской и полесской, известно вторичное использование могильного креста. В вост. Сербии (зона г. Болевца) во время засухи брали крест с какой-нибудь неизвестной могилы и относили его вечером в ближайшую реку или ручей, вбивали там, чтобы он стоял, пока вода сама его не снесет, и при этом трижды говорили- «Крет у воду, а киша у пол>е’» (Крест в воду, а дождь на поле!) или: «С незнаног гроба крст, а с незнаног брда киша!» (С неизвест ной могилы крест, а с неведомой горы дождь!) [Грбий 1909, с. 334]. В
Иторичная функция обрядового симиол!
171
сев.-вост. Болгарии в Добрудже при исполнении обряда «пеперуда», цель которого — вызывание дождя, также брали с неизвестной могилы дере вянное надгробие «светицу», .«меняющее крест, и бросали в воду. В Полесье, на Гомельщине и Черниговщине, вырывали крест из мопмы нечистого покойника (висельника и т. и.) или крест, установленный в неурочное время, и выносили с кладбища, чтобы пошел дождь [Толстые 19786, с. 108, 109]. С той же целью могли быть использованы палки-носилки, на которых носили покойников. Такие носилки в Сербии в Груже в засуху привязывали к ноге, волокли по земле и сбрасывали в реку, а в зап. Македонии в р не Дебра во время исполнения девушками обряда «айлюле» (то же, что «пеперуда») парни брали в церкви погребальные носилки, молча относили их к реке и бросали в воду [Петровий 1948, с. 334; Арнаудов 1971. с. 175]. Число предметов, функционирующих во время погребения и используемых вторично в действиях с иной функциональной направленностью, значительно больше указанных выше. Так, в полесском с. Стодоличи (Гомельская обл.) сохраняли после похорон иголку, которой шили подушку покойнику, огарок свечи, горевшей над покойником (она помогает «от грома»), березовый веник, которым выметали хату после выноса покойника (им хорошо «биць худобину, штоб домовик не гнал»), «шматочки» — тесемки, которыми были завязаны руки и ноги покойника (их в лечебных целях завязывали на голом теле и носили нолго-да от боли в спине, руках и т. н.; они же удерживали от ссоры, свары, драки— их зашивали мужику в штаны, чтобы жену не бил). .'Ии же тесемки берут с собой в армию, на суд. На похоронах за них дерутся: «кожны йих рветь собе да хопаеть, а бабы сваряцца: „На што тобе — у тебя дитей не ма“» [Седакова О 1983, с. 255, 256].
Основные действия с предметами р один н ого обряда направ лены на предохранение хозяйства (дома и поля) от бедствия (града, бури и т. п.) и ребенка от внешних хгых сил, а ритуальными предметами служат свивальник, пуповина ребенка, его послед или «рубашка» и др. Сербы в зо не Драгачева хранили свивальник (сповивачу), которым повивался ново рожденный поверх пеленок, и отгоняли им надвигающуюся градовую тучу. Свивальник и детские пеленки часто фигурируют в отгонных воплях за кликаниях, употребляющихся в той же зоне и с той же целью предотвращения града и изгнания тучи; «Наша Лана седморо-роткигьа / Седморо Деце родила / Пеленом по.ье пикрила / Повоу’ем облаке вратила» (Наша Яна, родившая разом семерых / Семерых детей родила / Пеленкой поле покрыла / Свивальником тучи отворотила), подробнее см.; [Толстые 1981, с. 66. 73—78, 98; наст, изд., с. 107. 108].
172
HI. Символика предметов и действий
Ритуальное использование пуповины, которую принято было высушивать и сохранять, могло быть связано со свадебным обрядом или с магией, направленной на дальнейшее благополучие ребенка, на рожде ние детей, и особенно мальчиков, на лечение ребенка и др. В сербской традиции еще Вук Караджич отметил верование, по которому невеста родит в браке столько мальчиков, сколько мальчишеских пупков она возьмет с собой, идучи под венец. Матери, поясняет Вук, поэтому соби рают и хранят такие пупки для венчания своих дочерей [Караций 1935, с. 639]. В зоне г. Крушевац было принято пуповину завязывать узлом, и затем, когда ребенку исполнялось семь лет, ему давали эту пуповину развязать, и вместе с ней «развязывалось» и счастье (odpeiuyje се сре ha), т. е. счастью и удаче уже ничто не мешало [Миодраговий 1914, с. 76]. В Далмации и Верхней Крайне (Кордун) ребенку от пяти до семи лет давали развязать свой пупок и при этом гадали о будущем нраве и способностях ребенка, замечая, быстро или медленно, ловко или не ловко он это делает [Ъор1)евий Т. 1941, с. 95—97]. Обряд развязывания ребенком своей пуповины известен и у поляков. Они также берегли ну повину в качестве амулета, употребляли ее для лечения; считали, что, если повитуха украдет пуповину, она будет иметь влаегь над ребенком [Biegeleisen 1927, s. 66].
Пуповина и после ее отторжения считалась частью человеческого те ла. Отсюда ее способность влиять на судьбу человека, как бы отражать ее. Нередко сербы хоронили пуповину вместе с умершим ребенком (человеком), носившим ее всю жизнь при себе [Миодраговий 1914, с. 75, 76]. Так же относились и к «рубашке», в которой рождался ребе нок. Ее носили в качестве амулета, защищающего от пули [там же, с. 65]. Хорваты с островов Врач и Хвар берегли свою «рубашку» (bijelu ko-iidjicu) под ключом, чтобы в смертный час положить ее под голову — без нее смерть могла бы быть долгой и мучительной [Ъор1)евий Т. 1941, с. 90].
Число примеров можно было бы многократно увеличить, но и из приведенных немногочисленных свидетельств ясно, что элементы (предметы) одного семейного обряда могут выступать вторично в других семейных обрядах, как, например, пуповина в обрядах свадебном и похоронном. При этом нередки случаи, когда предмет при вторичном обря довом употреблении становится основой или поводом для обрядового действия, достаточно развернутого и более богатого, чем в первичном обряде. Так, свадебный венец невесты или подвенечное платье, фата и др. в окказиональном обряде отгона тучи порождают тексты типа:
Вторичная функция обрядового символа
173
— Венчана сам овим вц/е.нцем . Граде, не на мене!
Иди планинским вценцем!
Немо валю о о1
— Я венчана этим венцом..
Град, не иди на меня!
Иди горным венцом (кряжем)! Не иди сюда/
При этом голову покрывали фатой, венцом махали в направлении градовой тучи и затем кланялись земле и надевали венец на голову. Так делали в селах Губеревцы и Милатовичи в зоне Драгачева в зап. Сербии, а в соседнем с. Ковачевичи земле не кланялись, но произносили иное заклинание:
— Машем ти вц/енцем — иди вц/енцем!
Машем ти вц)енцем'
HeMoj на нас нечастива сило!
HeMoj на наше добро.
Иди вц)енцем!
— Машу тебе венцом — иди венцом (кряжем)! Машу тебе венцом! Не иди на нас, нечистая сила! Не иди на наше добро. Иди венцом (горным)!
Примером развертывания ритуала на основе вторичного употребления предмета, использованного в погребальном обряде могут служить действия, совершающиеся после сорока дней с зарытой при погребении в могилу бутылкой вина. Этот ритуал, исполнявшийся сербами в районе Нового Пазара, упоминался выше, но выше не указывалось, что открывание и вытаскивание за веревку бутылки должно было совершаться в ночное время (после полуночи) в «глухую пору» (глуво доба), что все делалось молчком, что участники ритуала должны были молча возвращаться домой и что дома домашние должны были также молчать все время, пока на кладбище совершался ритуал и пока его участники шли к могиле и возвращались домой. Лишь после этого все домашние, а также гости, находившиеся в доме, пили из бутылки «для здоровья» [Фили-повий 1967, с. 197, 198]. Тенденцию к развертыванию ритуала можно отметить и в обряде вырывания креста и бросания его в воду, бросания в воду погребальных носилок, развязывания пуповины через семь или меньшее число лет и во многих других обрядах, суть и «сценарий» которых мы сейчас из-за краткости изложения не рассматриваем.
Остановимся только еще на нескольких календарных обрядах, прежде всего на предметах, остающихся и вторично используемых После южнославянского ритуала с рождественским поленом, совершаемого в Сочельник Еще более сужая рамки наблюдения, обратим внима
174
III. Символика предметов и действий
ние исключительно на само полено, называемое «бадняк» (6адн>ак, бъд няк). От бадняка. после его ритуального сжигания, поливания вином, «кормления», етережепия (бдения), а до этого срубания, внесения в дом и т. и.. остается обгорелая, иногда внушительная по размерам головешка (головешки) и пепел. Обгорелую головешку в Поповом Поле (южн. Герце говина) после Сочельника вторично жгли на очаге в канун Нового года (св. Василия Великого), а потом из нее делали клинышки для рала и других сельскохозяйственных орудий. Так же шмтупали и в Малешеве (Маке дония), где из головешки бадняка делался «забор», т. с. та часть рала, на которой крепится сошник. М. Арнаудов свидетельствует, что в Болгарии кое где считали, что поле, вспаханное ралом, у которого клин сделан из го ловешки от бадняка. не будет побито градом. Из той же головешки в Сер бии, Герцеговине и северной Македонии делали на Рождество крестики. Эти крестики в Алексинацкой Мораве обвязывали красной ниткой и клали на пахотном поле, в винограднике, вешали па хлев и дом, там, «где живут люди и скот», а в Лесковацкой Мораве только в ноле. То же делали в Верхней Пчине (юго-вост. Сербия), в Любушком (Герцеговина), в зоне около Кюстендила (зап Болгария), чтобы защитить поле от града. В Любушком головешка разрубалась на четыре части, и они крестообразно зарывались на пахотном поле. В зоне Кюстендила и Поморавья головню бадняка нес ли в виноградник, а в Водене (Эгейская Македония) он закапывался, чтобы виноград был черным, в винограднике. Головешку от бадняка несли во фруктовый сад в восточной Сербии (Заечар и другие зоны) и били им по стволу плодовою дерева, исполняя ритуальный диалог и по буждая к плодоношению (Заечар). В сев. зап. Сербии (Ядар) головеш ку оставляли на дереве после сжигания рождественской соломы, а в юго зап. Боснии (Дувно) ее просто клали среди деревьев. Там же остав ляли головешку в хлеву «от червей», а в соседнем Ливанском Поле — «чтобы не бесился мелкий скот». Несколько восточнее Ливна (Ливан екого Поля) в Прозорском Котаре головешку клали в хлебный амбар. Но в том же Ливне головешку строгали и горелыми стружками лечили горло и другие болезни людей и скота. Так же поступали в зап Болта рии (Кюстендилско) и в Македонии (Дебар). Головешку носили к пче лам, «чтобы они роились» (Ядар), и использовали ее для колдовства (Алексинацкая Морава).
Берегли и пепел от бадняка. В Боснии и Герцеговине полагали, что его надо сыпать в огороде, чтобы не было гусениц, на рассаду табака, капусты, гороха, на виноградные кусты и фиговые деревья, чтобы они раньше созревали, и на корм скоту. В тех же местах осенью сыпали
Вторичная функция обрядового символа
/75
рождественский пепел па озимую пшеницу и, растворяя в воде, использо вали его как лекарство от головной боли или от болей в других частях тела. В Сербии в Ядре рассыпали рождественский пепел на посевах, чтобы их не съедали насекомые (бубе). или на Новый год подмешивали в мякину и да вали скоту для здоровья. В вост. Фракии болгары клали пепел от бадняка (погански пепел) в глиняный горшок, а затем во время сева смешивали его с посевным зерном, чтобы в жите не было головни. В Кюстендилском крае посыпали корни фруктовых деревьев, а во Фракии и Пловдивском крае натирали пеплом скот и кормили кур кормом, смешанным с пеплом. В Поповом Поле по пеплу гадали; то же делали в Пиринском крае, где обилие пепла от бадняка означало плодородие (сведения собраны из источников: [Markovic 1940, с. 51—65; Вакарелски 1935. с. 453; Седакова И. 1984. с. 216; Антонщевий 1971, с. 169; Мийовий 1952, с. 144; Павловий 1. 1929, с. 198; Филиповий 1955, с. 92; Костий 1964, с. 405; Костий 1965—1966, с. 202; Костий 1978, с. 412]).
Вторично и ритуально употреблялась и солома, которая в уже упомн навшемся Поповом Поле (село Равно) расстилалась сначала хозяином до ма в Сочельник со словами «Djeco, doso je Bozic!» (Дети, пришло Рождество!), а через три дня убиралась и относилась на гумно, потому что это вто рое действие, по представлениям ноповцев, способствовало урожаю. В сев.-вост. Боснии (Худеч под Тузлой) в Сочельник солому кропили оевя щенной водой, расстилали и лишь на Крещение убирали и несли на пахот ное поле, где ее скармливали скоту [Markovic 1940, с. 51]. Естественно, этот обряд распространен у славян довольно широко, однако его более пол ное описание потребовало бы много места. По той же причине мы сейчас отказываемся от изложения материала, связанного с остатками рождест венского пирога (сербск. чесница), кутьи или ужина и еды вообще, с ос татками пасхальных ритуальных яств — яиц (сами яйца и их скорлупа), освященного поросенка, с магической ролью «крестиков» — обрядового хлеба, выпекающегося на Средопостье, т. е. в среду на Крестопоклонной неделе. К длинному списку не использованных нами примеров вторичной ритуализации предметов и возникающих на их основе обрядов можно было бы добавить венки русалок на Русальной неделе у восточных славян, купальские венки, зерно последнего сжатого снопа-именинника, употребляющееся при первом севе, ветки вербы, освященные в Вербное воскресенье и используемые «от грома», четверговая соль и ч<тверговая свеча (соль и свеча, освященные в Страстной четверг) и, конечно же, троицкая зелень, которая употреблялась и «от грома», и «от мышей», и в погребальном обря Де (ею набивали подушечку покойника), и по другой надобности. Таким
176
III. Символика предметов и действии
образом, предметы, первично применяемые в одном из календарных обря дов, могут вторично выступать также в календарном обряде, но нередко и в обряде окказиональном, например «от грома», и в обряде семейном, например погребальном.
Кроме предметов, объектом ргггуального воспроизведения могут быть обрядовые действия, репрезентирующие тот или иной первичный обряд. Ярким примером вторичного действия может служить заимство ванное из погребального обряда голошение по покойнике, он лакивание мифического или реального покойника (чаще всего утоплен ника) в обрядах вызывания дождя. Нам уже неоднократно приходилось рассматривать полесский обряд голошения у колодца по мифическом) Макарке [Толстые 1981, с. 91—94; Толстые 19786, с. 101]. Подобно предметам погребального обряда, используемым вторично в обрядах вы зывания дождя (см. выше), голошение (оплакивание) актуализирует здесь общую семантику погребального обряда, — преодоление границы между миром живых и миром мертвых. Эта «отсылка» к погребальном) обряду лежггг в основе данного окказионального обряда вызывания дож дя и мотивируется народными представлениями о причинах засухи.
Одним из наиболее богатых источников вторичных ритуалов в ела вянской календарной обрядности является практическая хозяйственная деятельность, в частности основные земледельческие работы: пахота, бо роновапие, сев, жатва, молотьба. Воспроизведение этих действий обыч но носит достаточно условный, иногда чисто символический характер и совершается с магической целью обеспечения хорошего урожая. Оно встречается в составе календарных (особенно масленичных) и окказио пильных обрядов, в играх и фольклорных мотивах. Ритуальная пахота у южных и западных славян входила в программу масленпч ных обходов, о чем свидетельствуют такие названия ряженых, как серб скохорв. плужари, врачи, чеш. voracki. В южн. Чехии дружина обходчиков во главе с Масопустом обходила село с плутом, в который за прятались молодые парни, а Масопуст пахал. Плуг затем разламывали [Zibrt 1950, с. 145]. Подобные обходы с плугом и символическое паха ние отмечены в зап. Чехии и центр. Моравии [Tomes 1979, с. 41]. У болгар пахота и сев составляют один из основных комнонеггтов кукер ского обряда [Весенние праздники 1977, с. 279; Masopustnf tradicc 1979, рис. 43; Стаменова 1982, с. 18. 30—38].
В Полесье распространен ритуал пахания высохшего русла реки во время засухи, известный и за пределами Полесья, и далеко за предела ми славянских традиций, в частности на Кавказе, в Индии и др. (под
Вторичная функция обрядйвого символа
177
ровнее см.; [Толстые 19786, с. 121 — 123]). В Полесье этот обряд воспроизводит обычную пахоту плугом со следующими, весьма существенными от линиями; если реальную пахоту совершают всегда мужчины, то ритуаль ную _ женщины, главным образом вдовы, или, реже, девочки. Если обыч но впрягают в плуг коня или вола, го во вторичном ритуале, как правило, «пашут собой», т. е. впрягаются в плут сами женщины. В некоторых ло кальных традициях требуется, чтобы женщины, исполняющие ритуал па хания реки или дороги, раздевались полностью или частично, но этот признак имеет параллель и в обычаях производить первую пахоту или первый сев в исподнем. Кое-где ритуал пахания реки или дороги развертывается в полный цикл и включает кроме пахоты еще и боронование, засевание маком или житом, поливание посевов. В других местах он, наоборот, может быть предельно редуцированным и носить почти символический характер; плуг тянут поперек дороги или вдоль берега или же просто бросают в воду. Так же и ритуальное боронование может 1шчем нс отличаться от обыч ного боронования, а может заменяться символическим боронованием рукой или фартуком [Толстая 1986а, с. 18—22].
Ритуальная пахота составляет основу самостоятельного окказиопаль ного охранительного обряда, известного у всех славян, — опахивания селения, совершаемого во время падежа скота, эпидемий, засухи и других массовых бедствий (Журавлев 1978].
Напротив, сев чаще всего не составляет самостоятельного вторич ного ритуала, а входит в состав комплекса действий, имитирующих зем ледельческий цикл работ. В хорватских и словенских масленичных об рядах при обходе дворов с плутом и бороной ряженые мужчины пропахивали борозду, а женщины совершали символический посев огородных культур, разбрасывая пепел, мякину или песок [Весенние праздники 1977, с. 247, 248]. Сеяние конопли, перца, льна и других культур составляет часть южнославянских масленичных игр типа «коноплярица» и подобных, не всегда календарно приуроченных игр. в которых воспроизводится полный цикл возделывания той или иной культуры (ср. восточ нославянские игры типа «А мы просо сеяли»), подробнее см.: [Толстой 1994а, с. 139—168, 263—266]. Ритуальное сеяние в рождественском Цикле обрядов совершается полазником или хозяйкой дома (зап. Болгария [Весенние праздники 1977, с. 268, 269]) или детьми-засевальника ми (восточные славяне). Оно, однако, не всегда четко выделяется как отдельный ритуал, смыкаясь с магическим осыпанием зерном, имеющим более общий смысл благопожелания (ср. осыпание зерном молодых на свадьбе и т. п.). В рождественских, андреевских и др. гаданиях (и со
178
III. Символика предметов и действий
ответствующих текстах) широко представлено сеяние льна, конопли, жита, проса, мака, овса, ячменя и др., которое совершалось в особых, отмеченных местах; у колодца, под окном, вокруг дома, на мусорной куче, у овина, на току, в хате под печью, под кроватью и т. п. [Виноградова 1981, с. 27—30].
Значительно реже встречается обрядовое воспроизведение других земледельческих работ. В восточнославянском жатвенном обряде при оформлении пожинальной бороды жницы производят символическую прополку под оставленными колосьями и боронование. Делается это для того, чтобы в следующем году была чистая рожь. В Волынской губ. рыхление земли серпами совершают не женщины, изготавливающие бо роду, а юноши, побуждаемые к этому женщинами [Терновская 1977, с. 105, 106, 123].
В сербской традиции в составе рождественского цикла обрядов со вершается ритуал молотьбы, приуроченный к рождественскому Сочельнику или Новому году. Ареал этого обычая ограничен зоной зап. Боснии и прилегающих районов Хорватии. У сербов-граничар в с. Маш-вина было принято на Новый год до рассвета будить детей, брать сак ральный пирог (колач) и рождественскую солому и выходить на гумно. Хозяин насаживал пирог на кол, стоящий посредине гумна, привязывал к колу веревку, за которую хватались дети и трижды обегали вокруг ко ла, подражая при этом ржанию коней, а хозяин погонял их кнутом. Затем несли пирог в хлев, где хозяин натыкал его волу <дешняку» (т. е. идущему в упряжке всегда справа) на рог. Вол мотал головой, и пирог падал на землю. Если он падал лицевой стороной кверху, это предвещало хороший урожай [Беговий 1887, с. 92, 93]. В Горней Крайне обряд завершался диалогом. Хозяин спрашивал: «Что вы молотите?» Ему отве чали последовательно: «Молотим пшеницу, рожь и т. д.» [Кулиший и др. 1970, с. 35]. В некоторых селах зап. Боснии ритуальная молотьба совершалась в доме, у очага — молотили колосья из последнего снопа, а намолоченные зерна употребляли для приготовления главного рождественского хлеба чесницы [там же 1970, с. 16], см. также; [Плотникова 1993, с. 134—142]. На Украине, в Черниговской обл., зафиксирован обычай ритуальной молотьбы, называемый «рожь молотить» и совершас мый на второй день свадьбы. Выносят колоски жита, мужчины — участ ники свадьбы рядятся в кожухи, шапки, мажут лицо сажей, берут цепы и молотят и веют зерно. Отец молодой дает им за это деньги. Мякину ссыпают в рядно, кладут на возок и катают на нем сначала родителей, затем крестных, бабу, деда (запись Н. К. Гаврилюк).
Вторичная функция обрядового символа
179
Значительное место в славянской календарной и окказиональной об рядности занимает воспроизведение основных семейных обрядов — свадеб него, родинного и погребального или их главных компонентов — женитьбы, родов, похорон. Свадебные игры являются характерной чертой русского новогоднего обряда. Особенно развернутую форму приобрели инсценировки свадьбы в севернорусской традиции [Чичеров 1957, с. 190— 193]. Аналогичные ритуалы, воспроизводящие (обычно пародийно) элементы свадебного обряда, у западных и южных славян приурочены к масленице. У чехов сев.-вост. Моравии невестой наряжается самый высокий парень, выполняется весь свадебный обряд с участием родителей, шафе ров, дружек [Весенние праздники 1977, с. 226]. У сербов, хорватов и словенцев в масленичных обходах ряженые изображали свадьбу и свадебный поезд (серб, дивла свадьба) [там же, с. 247]. В болгарских обходах джа-малари перед каждым домом совершают обряд венчания невесты, входя щей в их дружину [Стаменова 1982, с. 66]. Пародийное воспроизведение свадебного обряда, в котором роли жениха и невесты исполняют переодетые старик и старуха, может включаться в настоящий свадебный обряд в качестве его завершающего эпизода в последний, третий день свадьбы. В Полесье такая шуточная свадьба называется хвост (см. подробнее: [Гура идр. 1983, с. 58, 59]). Наряду стакими воспроизведениями свадебного обряда, в которых присутствуют основные персонажи и проигрываются основные акты, хотя и в сокращенном или пародийном виде, существуют вторичные «свадьбы», которые носят чисто символический характер или сохраняют связь со свадебным обрядом лишь в названии. Таковы, например, известные у восточных славян ритуалы «женитьбы» предметов: ступы с толкачом, мешка с торбой и т. п. и соответствующие фольклорные мотивы. В полесском обряде, называемом камина женять (т. е. печную трубу женят), ничто, кроме названия, не ассоциируется с темой свадьбы: обряд состоит в том, что осенью хозяйка подбрасывает к потолку зерно или се мечки, а дети ползают и подбирают их. В таких случаях семантическая связь со свадебным обрядом должна быть еще реконструирована.
Воспроизведение элементов родинного обряда встречается главным образом в составе масленичной обрядности. Сюжет «совокупления и родов» одного из персонажей масленичных обходов или игр (конопляри-Цы, бабы и т. п.) широко известен по южнославянским материалам. В сербской игре «коноплярица» после символического изображения про Цесса возделывания конопли (от корчевания пней до охраны посевов от птиц и уборки) совершается «половой акт» с другими участниками игры, и коноплярица «рожает ребенка». Дальнейший ход игры связан с опознанием
180
III. Символика предметов и действий
«отца» ребенка [Младеновий 1954, с. 93, 94]. В районе Таково эта игра включает и эпизод «крещения» ребенка попом (Филиповий 1972. с. 241]. В украинском обряде «колодка», совершаемом на масленой неделе, символическое рождение составляет часть полного жизненного цикла от рождения до смерти. В понедельник утром женщины собирались в корчме. Одна из mix клала на стол небольшое полено или палку (колодку) и пеленала несколькими кусками холста. Это означало, что Колодка родилась. Потом пили вино, поздравляли друг друга с рождени ем Колодки, а уходя, оставляли Колодку в корчме. Так продолжалось каждый день: во вторник Колодка крестилась, в среду были покрестьби вы. в четверг она умирала, в пятницу'ее хоронили. В воскресенье Колодку «волочили»; женщины привязывали ее парубкам и девушкам к ноге, а девушки в свою очередь привязывали парубкам Колодку, обшитую лен точками, за что парни должны были платить выкуп | Кубинский 1872. с. 78; Соколова 1979. с. 57, 58; наст, изд., с. 146].
Погребальный обряд имеет наибольшее число реплик в тра диционной обрядности, наибольшее число воспроизведений в самых раз ных жанрах народной культурной традиции, в которой столь значимо семантическое противопоставление жизни и смерти и культ предков. Во многих календарных и окказиональных обрядах обнаруживаются близкие друг к другу ритуальные формы, воспроизводящие погребальный обряд или соотносимые с ним. Эго хорошо известные обряды «похорон» Масленицы. Зимы, Смерти, Костромы, Ярилы, Кузьмы-Демьяна (Кузьки), Пуста (словен.) (Весенние праздники 1977, с. 247], Марены: бол гарский и западносербский ритуал похорон Германа: похороны кукушки, соловья, воробья; похороны насекомых (мух, пауков, тараканов, клопов, вшей), похороны лягушки, рака, ужа и т. п., наконец, похороны символических предметов (стрелы, суды и т. п.) К ним примыкают многочисленные в календарных обрядах акты символического уничтоже ния, убийства (без похорон) обрядовых персонажей или заменяющих их предметов, ср. убийство главного кукера [там же. с. 279] или кукер ского царя [Стаменова 1982, с. 33, 38], масленичного персонажа *ка милы» (верблюда) [там же, с. 43], масок медведя, лошади, козла, ста рика и др. в чешских и словацких масленичных обходах (Tomes 1979. s. 48] т. п. Большинство этих обрядов отражает связь с ритуалом похо рон и на лексическом уровне, т е. ноет' название похороны или другие названия с тем же значением. Эти обряды имеют разные объекты, разную календарную приуроченность, разные функции и соответственно воспроизводят погребальный обряд в разной степени и в разных отноше
Вторичная функция обрядового символа 181
ниях. Общей для них всех является сама ориентация на структуру и семантику погребального обряда, его вторичная ритуализация. В этих вторичных похоронах имитируются основные действия и составные части погребального обряда: прежде всего сама смерть, составляющая семан тическую доминанту обряда- Вторичные обряды включают убиение, умерщвление, в том числе потопление и повешение, разрывание на части, сожжение и другие способы уничтожения кукол, чучел, птиц, насе комых, животных либо разыгрывание смерти участниками обряда. Затем могут инсценироваться остальные действия: обряжение в смертную одежду; прощание с покойником, отпевание: оплакивание, голошение. В них воссоздаются похоронная процессия, рытье могилы, собственно погребение (закапывание в землю) или же сжигание или пускание* по воде, поминки. В них воспроизводятся также основные реалии погребального обряда: покойник (им может быть соломенная, тряпичная, глиняная и т. п. кукла, чучело: деревце, трава; веник: живой человек, исполняющий роль покойника; убитый зверек, птица, насекомое; символический предмет — лента, шпилька, монета), смертная одежда — саван (рогожа, лоскут), гроб (им служит корыто, ящик, коробка, спичечный коробок, носилки), могильная лопата (палка), могила, кладбище (чаще всего это поле, огород), поминальная еда.
Поскольку в большинстве случаев вторичные похороны входят в со став того или иного календарного обряда (святки, проводы зимы, масленица, троицкие обряды, купальский обряд, кузьминки), то они обыч но рассматривались и истолковывались в общем контексте и в связи с общей семантикой этих обрядов или семантикой друтих компонентов этих обрядов, что неизбежно приводило к разноречивости и разноплановости толкований то в связи с культом умирающего и воскресающего божества, то на почве солярной теории, то в связи с культом растительности. Меньше внимания до сих пор уделялось таким видам вторичных похорон, как южнославянский обряд Герман и восточнославянские обряды убиения и похорон лягушки, рака и друтих животных, составляющие особые окказиональные обряды и имеющие четко выраженную функцию — вызывание дождя (иногда остановку дождя). В отличие от восточнославянских святочных игр «в покойника», похорон Масленицы, Костромы, Кузьмы-Демьяна и т. п., в этих обрядах обычно отсутствуют смехо вые пародийные элементы, и погребальный обряд воспроизводится с совер шенной серьезностью и со всеми необходимыми церемониями (вплоть до участия настоящего попа в отпевании). Обращают также на себя внима НИе и требуют специального истолкования такие особенности этих похо
182
III. Символика предметов и действий
рон. как девственность «покойников», отраженная в их убранстве, жен ский (в последнее время детский) состав исполнителей, особая роль голо шения, оплакивания, «нечистые» места захоронения (перекрестки дорог, рвы, вода) и другие ассоциации с «нечистыми» покойниками.
Вообще обряды вызывания дождя пронизаны погребальной семапти кой и насыщены элементами погребального обряда, что связано с общи ми народными представлениями о природе дождя, причинах засухи и, в частности, о связи мертвых со стихией земной и небесной влаги. ZhriMB представлениями мотивированы прежде всего ритуалы прямого обраще ния к покойникам (чаще всего утопленникам) с просьбой послать дождь или, наоборот, отвести от села грозовую или градовую тучу. В полесских обрядах убиения лягушки, ужа, рака и других животных сам вы бор этих животных в качестве объекта (жертвы) в обряде вызывания дождя основан на их связи с хтоническим миром или на их близости к водной стихии. Действия, которым подвергаются эти животные, в такой же степени связаны с кругом представлений о смерти и потустороннем мире и в ряде случаев составляют прямую параллель к отдельным элементам погребального обряда. Прежде всего это касается самого акта убиения животного. Способы умерщвления (убиение палкой, камнем, разрывание на части) и некоторые детали дальнейших действий — под вешивание на ветке дерева, над колодцем, выбрасывание на дорогу, на перекресток — места связи этого мира с потусторонним ассоциируются не только с элементами представлений о нечистой смерти, но и с обрядами символического уничтожения разного рода ритуальных предметов и чучел (купальского деревца, ведьмы, Костромы, Масленицы, русалки ит. п.). Наиболее развернутые варианты подобных обрядов представля ют собой уже настоящие ритуалы погребения и оплакивания убитых животных. Ритуалы с лягушкой имеют наиболее обширный ареал на территории Полесья и наиболее далеко идущие параллели: у болгар при изготовлении глиняной куклы Германа кое-где ловили и убивали лягушек и начиняли ими Германа; иа Кавказе у абхазцев во время засухи убивали лягушку; наконец, в индийских обрядах вызывания дождя есть специальные ритуалы с лягушкой, в том числе «свадьба лягушки», распространенная по всей Индии (подробнее см.: [Толстые. 19786, с. 112. 114; Толстая 1986]).
Каждый отдельный обряд такого рода, особенно когда он носит редуцированный характер и сводится, например, только к убийству лягуш ки, ужа или медведки, или тем более когда он представлен только па уровне мотива или поверия, — каждый такой обряд трудно квалифициро
Вторичная функция обрядового символа 183
вать как вторичный погребальный обряд, т. к. входящие в него отдельные элементы погребального обряда, например голошение, могут носить относительно автономный характер и встречаться в составе разных обрядовых комплексов. Но когда мы имеем дело с массовым материалом, в кото ром представлены целые совокупности элементов погребального обряда (и обряжение, и погребение, и оплакивание), то формальная зависи мость |>ассматриваемых ритуалов от погребальной обрядности становится несомненной, а их семантическая связь еще более очевидной. В принципе, как методический прием, презумпция независимости сходных элементов в составе разных обрядовых комплексов (и вообще в разных культурных контекстах) совершенно оправдана. Но если такие сходные элементы выступают в совокупности и если в одном обрядовом комплек се они устойчивы и мотивированы, а в другом — изолированы и как бы случайны, то вопрос о зависимости одних от других и о первичности од них и вторичности других становится правомерным.
Вторичное существование получают в традиционной народной куль туре не только такт- высокоритуализованные формы, как свадебный об ряд, погребальный обряд, но и многие ритуальные или бытовые формы поведения, отличающиеся, сравнительно с этими обрядами, значительно меньшей семантической и символической нагрузкой и формальной организованностью. Воспроизведение этих ритуалов, их структуры, отдельных элементов этой структуры или отдельных реалий, персонажей, вербальных компонентов используется для актуализагщи стоящей за ними, закрепленной за ними мифологической семантики, необходимой при совершении каких-то магических, охранительных, лечебных или иных действий. В семантическом отношении вторичный ритуал всегда ориен тарован па соответствующий первичный, но эта ориентация может быть прямой или обратной, семантика проторитуала (как и его структура) может воспроизводиться полностью или частично, может усиливаться, проторитуал может воспроизводиться пародийно. В отдельных случаях вторичный обряд может прояснять, высвечивать глубинную семантику того или иного элемента (или даже общий смысл) исходного обряда. Вторичное употребление может быть мотивировано такими свойствами воспроизводимого элемента, которые в его первичном обрядовом контексте нс выражены вовсе или затемнены. Так, например, упоминавшееся выше вторичное использование остатков бадняка как средства, предохраняющего от цюзы и фа да, выявляет семантическую связь бад няка с небесным огнем, которая в рождественских обрядах с бадняком Не выражена. Между тем эта связь тем более понятна, что бадняк чаще
184
III. Символика предметов и действий
всего вырубали из дуба, т. е. дерева, связанного с культом грома и молнии Следует еще учитывать, что во вторичном обряде могут ритуализироваться не только отдельные элементы протообряда со своей семантикой, но и сама структурная схема обряда (обрядового комплекса), которая также несет в себе определенную семантику, отличную от суммарной семантики отдель ных элементов. В ней есть свой смысл, который также может быть значимым элементом обряда и объектом воспроизведения.
Как видно из приведенного краткого обзора материала, объектом вторичного ритуального воспроизведения выступают чаще всего существенные, ключевые элементы традиционной культуры, своего рода арх< типические культурные тексты: обряды жизненного (рождение, брак смерть) и вегетативного (земледельческие акты) циклов. Их мпогократ ное воссоздание в различных обрядовых, социальных, календарных и т. и. условиях, осуществляемое с разной степенью приближения (от до етаточно детальных инсценировок до абстрактных символических наме ков и реминисценций), составляет основу народной обрядовой тради ции. С другой стороны областью, в которую преимущественно нроеци руются эти воспроизведения и в которой концентрируются вторичные обряды, не случайно оказываются такие календарные комплексы, как масленичный и рождественский (прежде всего их карнавальные формы и формы, имеющие прямую магическую направленность), т. е. обряды, определяющие весь календарный праздничный и хозяйственный цикл. Благо юря механизму вторичности «первичные» обряды в которых риту апыовапа сама жизнь, ее наиболее значимые акты (рождение, смерть, произрастание злаков и т. и.), оказываются перманентно воспроизводимыми и «вечно возвращающимися» (по выражению М. Элиаде).
Первая публикация:
Н. И. Толстой. С. М. Толстая О вторичной функции обрядового символа (на материале славянской народной традиции) Историко-этнографические исследования по Цнкхькэору. Сборник памяти С А Токарева М , 1994. с. 238 255.
Глаза и зрение покойников
При реконструкции значения и функции 1 конкретного изобразительного символа — а без этих двух компонентов символическое изображе ние перестает быть символом и превращается в обычный рисунок или орнамент — представляется существенным придерживаться следующих условии.
Во-первых, на начальном этапе реконструкции важно обращаться к материалу ограниченной сферы славянской духовной культуры (обрядовой, обрядово-трудовой, фольклорной, народно художественной), изучая, таким образом, культуру по частям, по блокам а не сразу всю в целом. Другим начальным ограничением может быть обращение к мате риалу одного этноса (одного из славянских народов) т. е. ограничение территориальное. Этим достигается рассмотрение материала (символа) в одной системе, в одной локальной народной традиции, в один хронологический период, чаще всего в период современный или ближайший к современному. В качестве такой зоны, естественно, должна выбираться зона наилучшей (богатой) представленности материала (явления, сим вола) или же зона, устанавливаемая в качестве исходной на основании других принципов и признаков.
1 Различал форму, значение и функцию символа. мы считаем нужным говорить о форме символа в связи со сферой его материальной воплощенности (она может быть изображением, предметом, действием и даже словом или сочетанием слов, т. е. пиктографической, реальной, акциональной и вербальной), затем о значении как о смысловом со держании символа (что равно значению в слове в может быть в символе выражено пик тографичсски — рисунком) и, наконец, о функции как о сфере применения символа, а также цели и сакральной сущности этого применения. Несколько потребнее об этом: [Толстой 1982 — наст- изд. с. 63 77]
IS6 HI. Символика предметов и действий
Таким образом. начальный этап реконструкции еще ш является рекон струкцией в полном смысле этого слова. и исследовательское ограничение сферы народной культуры. территории ее распростриш пня и времени ее развития как будто даже противоречие основным задачам п щ |ям рекон струкции. Дело, однако, в том. что в отличие от изучения славянских язы ков п диалектов и даже славянского фольклора или славянской материал!, ной культуры исследование символики славянской духовной культуры находится на такой ранней стадии, что слависты лишены систематических и упорядоченных материалов, касающихся ее современного состояния. А бел классификации современных типических форм и учета их взаимного воздействия, как отмечал еще Д. К. Зеленин [Зеленин 1926. s. 303|, без выяснения системы форм и значений символов в целом, т. е. без полноценного типологического анализа генетически родственного (а в ряде случаев и генетически неродственного) материала не следует приступать к его историко-генетическому анализу.
Вторым этаном исследований, направленных на реконструкцию зна чепий и функций символов, является расширение герритории научного наблюдения от отдельных славянских зон до макроареала всей совре менной Славии. В этом случае, не выходя за временные границы «современного» состояния (понимая часто под «современностью» XIX н XX вв., вместе, взятые) и обозревая славянский культурно диалектный континуум целиком, можно заняться его «историч<ч-ким прочтением», т. е. выделять более архаические, менее архаические и инновационные зоны и определять, исходя из неравномерности развития отдельных зв< ньев славянской духовной культуры, в данном случае славянской народной символики, отдельные этаны развития и эволюционную последовательность возникновения и бытования конкретных симво юв. Впрочем, такая неравномерность развития может выражаться в одновременности использования символов, имеющих разный «возраст», разную хронологию возникновения, и наблюдаться и в узких пределах одной локальной традиции, одной микрозоны, вплоть до одного села или одного пскроно ля, если дело касается символики надгробий.
Третьим исследовательски»! этапом можно считать расширение сферы исследования в пределах конкретной народной ку.дьтуры. попеки определенного символа или группы (мшцюсистемы) символов во всех областях обрядовой, обрядово-трудовой, хозяйственной и художественной деятельности носителей славянской традиционной культуры, затем расширение хронологических рамок исследования с широким привлечением «историче ского» и археологического материала, наконец, обращение к иноэтниче
Глаза и зрение покойников
187
ским, неславянским традициям. прежде всего к родственным славянской традиции (балтийской, иранской, германской, греческой и др.). На этом этапе возможен переход от историко-генетических разысканий к разысканиям историкотипологическим, учитывая реальность существования культурных союзов, подобных языковым союзам (например, балканского, кавказского, среднеевропейского культурного союза и др.).
Несоблюдение предлагаемой последовательности, поэтапности научных разысканий часто приводит не только к забвению ряда методологических предпосылок и частных методик рассмотрения материала, но и к определенному искажению общего смысла и результатов анализа. Обращение сразу к третьему этапу исследования, т. е. допущение сравнения материала разных зон. разных эпох и времен и разных генетически свя занных и несвязанных традиций без предварительного анализа в рамках отдельных традиций, отдельных зон и отдельных ареалов, в том числе и ограниченных, небольших ареалов, ведет к отсутствию четкости фор малыюй и семантической реконструкции и к искажению или к масштабному. хронологическому и историческом}- смещению ее итогов, наконец, к неразличению таких в принципе разнородных явлений и их результатов, как генетическое родство, заимствование, инновация, архаизм или типологическая общность. Нередко не подготовленное заранее рядом предварительных работ и не мотивированное особыми задачами сравнение сходных элементов и явлений разных культур и разных традиций осуществлялось представителями эволюционистической школы конца XIX — начала XX в., встречается оно в современных культурологических и этнографическо-филологических трудах. Такое сравнение часто ведет к широко обобщающим и размывающим основные контуры представлениям и утверждениям о единстве культурологического процесса, напоминающим во многом лингвистическую версию о единстве языкотворческого процесса.
Подобный подход для культурно-генетических и особенно этногенетических исследований ие только неприемлем, но и противопоказан. Естественно, он более прост и доступен начинающему исследователю, но принцип простоты не может быть в этом случае решающим и самодовлеющим.
Следует отметить, что реконструкция славянской народной символики осложняемся, помимо всего сказанного, и рядом особенностей, свойственных символике вообще и славянской народной символике в частности. Здесь уместно вспомнить о связи символа с мифом и о том, что для мифа нередко характерно множество представлений об одном и том же предмете и явлении, которые в условиях современного логического мышления воен-
18 ч III Символика предметов и действий
ринимаются как образные или метафорические. Часть этих образных пред ставлений со временем также обращается в символы и воспринимается в качестве таковых. Происходят как бы одновременные процессы десимво лизации и символизации наряду с процессом изменения семантики символа и т. п. Поэтому и по другим причинам нередко наблюдается с и но ни мия с и м волов, выражающаяся в различных изображениях одного и того же смысла, одного итого же содержания (значения). Синонимия символов в то же время сопровождается обратным явлением — омой ими ей символов когда одно и то же изображение или внешнее выражение под влиянием различного функционирования или по каким-либо иным причинам имеет разный смысл, разное значение. Наконец, символы, как и слова, тяготеют к устойчивой сочетаемости, к клишированным синтагма тичееким связям, на основании которых создаются устойчивые символические сочетания, создается своего рода фразеология символов, ко торой присущи почти все свойства словесной фразеологии (степень устой чивости, степень разложимости, вариативность, изменение смысла, иерар хия компонентов и т. п.). Таким образом, помимо обрядовой и символиче ской парадигматики и синтагматики, составляющей сущность грамматики символа (или обряда), можно говорить о символической (вероятно, и об рядовой) лексикологии и фразеологии со всеми вытекающими отсюда последствиями, заключающимися в возможности составления различного ти па символических (изобразительных, обрядовых и т. п.) словарей, индексов символообразовательных средств и т. п.
Наконец, следует указать на уже отмеченную активную тенденцию символов к десемантизации, к превращению их в знаки-этикетки или орнамент и т. п. Эта тенденция поддерживается или сопровождается стремлением символического рисунка, символического изображения к геометризации, к орнаментальности. к переходу, если сохраняется смысл, от пиктографического знака к знаку иероглифическому, в котором рисунок становится условным, сильно обобщенным или упрощен ним. Все это очень осложняет реконструкцию значения отдельных сим волов и побуждает исследователя во многих случаях говорить о значении лишь в «этимологическом» плане.
Постараемся проиллюстрировать эти общие положения на конкрет ных примерах.
В славянской народной традиции смерть и зацюбная жизнь тесно связаны с представлением о переходе из «белого света», «божьего света», из мира солнечного света в мир мрака и тьмы вековечной. По этой при чине во многих славянских зонах, особенно у южных и восточных ела
Глаза и зрение пок >иников IH9
вян, строго соблюдался обряд зажигания свечи в предсмертный час когда умирающий «испускает дух» 2. Свеча обычно дается в руку лежащего на смертном одре, чтобы покойнику зат< м был освещен путь в царство мертвых и тьмы. Известный сербский этнолог С. Зечевич применительно к традиции в северо-восточной Сербии писал: «Как и во всех наших краях, здесь также было очень распространено верование, что смертни ку в момент его расставания с jyniofi нужно зажечь свечу. Считалось, что если это не было бы сделано, совершился бы великий грех. Верили, что в таком случае покойник на том свете был бы в вечной темноте. Он бы все слышал, но ничего бы не мог видеть. Это было бы плохо и для живых, ибо принесло бы им большие беды. Если все таки случалось, что свечу в смертный час не зажигали то тогда позже всеми силами старались „послать" покойнику смертную свечу При этом три человека или семь человек соблюдали особый длительный и строгий пост, чтобы покойника „вывести на свет" (извести на свстлост)» [Зечевий 1978. с. 385]. Тому же Зечевичу принадлежат подробные описания обрядов, исполняемых в той же зоне, чтобы смертная свеча была послана и по койник ее получил. Обряды эти называются прив^г. црни пост, рсцска ceeha, бела помана [Зечевий 1982 < 84. 85].
Славянские народные верования о необходимости света для покойника, отправляющегося на тот свет дополняются представлениями, что и после пути в загробный мир покойнику нужны зрячие глаза и об этом могут побеспокоиться его близкие, остающиеся на этом, белом свете Едва ли не первым свидетельством о том, что русские заботились о эре нии покойников, чтобы у них были «чистые глаза», было сообщение А. С. Пушкина, переданное им устно его цензору и собирателю русского фольклора И, М, Снегиреву во время свидания с ним 2G сентября 1826 г. А. С. Пушкин рассказывал, «что есть в некоторых местах обы чай троицкими цветами обметать гробы родителей, чтобы прочистить им глаза»3. Почти четверть века спу<тя этот факт подтвердил И. П. Саха
2 Ср. гуцульский обряд свипыны по которому в доме, откуда вынесли тело покойника, три дня должна гореть свеча (сообщение Е «Керебецкого: с. Квасы Раховского р-на Закарпатской обл.)
3 Приводим свидетельство И. М. Снегирева полностью: *Был у А Пушкина, который привез мне как цензор» свою пьесу „Онегина глава II. и согласился на сделанные мною замечания, выкинув и переменив несколько стихов, сказывал мне, что есть в некоторых местах обычай троицкими цветами обметать гробы (т. е могилы, надгробия. Н. Т ) родителей, чтобы прочистить им глаза» [Лернер 1913, с. 47, Бродский 1957, с. 170].
ISO
III. Символика предметов и действий
ров, сообщив, что в Тульской и Псковской суб. «старики и старушки после вечерни выходят на кладбища обметать троицкими цветами моги лы родителей» и что «этот обряд называется глаза у родителей проча щать» [Сахаров 1849, с. 88]. На юго-западе тех же псковских краев, в Себежском у. бывшей Витебской губ., в 80-е годы XIX в. был записан обряд «опахивания могил» на Троицу, имеющий, однако, иную мотива цию4. Мотив засорения глаз родителей у восточных славян нередко выступает в связи с прядением и табуированием этого действия в дни поминовения усопших и в пятницу. Так, в Нижнедевицком у. Воронежской губ. считали «большим грехом мыкать мычки и прясть пряжу в пятницу из уважения к усопшим родителям, чтобы не засорить им глаза кострикою» [Малыхин 1861, с. 299]. В той же губернии говорили, что «кто прядет в пятницу, у того на том свете будут слепы отец с матерью» |Селиванов 1886, с. 70]. Поскольку процесс прядения у славян тесно связан с культом св. Параскевы-Пятницы, то считалось, что прядение в пятницу засоряет глаза матушке Параскеве, а в Тамбовской губ. (с. Осиновые Гаи Кирсановского у.) существовало представление, что за такое ослушание и сама «Матушка Прасковея своим пепочетницам-ба-бам может засорить глаза куделью и иамыкою от пряжи» [Бондаренко 1890, с. 120]. В Полесье известно запрещение «шкурыть» в неположен пос время: этим, по поверью, будешь «отцу и матери» (умершим родителям) «кострицею пылить в очи» 5. Аналогичный запрет записал в бывшем Новгород-Северском у. М. В. Рклицкий: «В дни поминовения роди чей нельзя мять пеньки, прясть и чесать шерсть, чтоб кострицей не за сорить глаз покойников» [Гринченко 1895, с. 23, №51]. В Обоян-ском у. Курской суб. налагалось табу на шитье в поминальные дни, ибо считалось, что «кто шьет в эти дни, тот колет родителям (покойникам) глаза» [Машкин 1862, с. 82; Потебня 1865, с. 220]. В русской народ
4 «Опахивание» могил иа Троицу в Себежском у. производилось так: каждый прибывший на кладбище отламывал березовую ветку и отдавал ее старшему родственнику причем каждый читал, какие знает, молитвы о даровании умершим вечного покоя и цар ствия небесного Народ полагал что костям покойников точно так же приятно от опахи нация, как живым от бани, и что родственник, не доставивший этого удовольствия своим ♦дзядам» по лености или небрежности, может быть наказан ими ломотою в костях, см.: [Зеленин, I, с. 137].
5 Запись Г. И. Трубицыной 1980 г. Ср также. «Як прадэш у свято, на тым свете пыль летит в очы тым мэртвым» (запись Г. И. Трубицыной в д Крупове Дубровицкого р на Ровенской обл. в 1981 г.).
Глаза и зрение покойников
191
ной традиции существовал запрет на стрику в определенные номиналы ные дни, чтобы не тревожить покойных родителей и не повредить им глаза, в то время как в восточном Полесье (с. Стодоличи Лельчицкого р-на Гомельской обл.) на третий день после погребения вынесенную во двор одежду покойника мыли и моют вместе с полотном, на котором опускали в могилу гроб. Этот ритуал называют «мэртвому вочи промы-вають» [Седакова О. 1983, с. 255]. По мифологическим представлениям, лишить родных покойников зрения можно, не только засоряя им глаза в определенные дни отходами прядения, но и занимаясь побелкой в дни поминовения усопших. Так, в западном Полесье, на севере Волынской обл., в с. Речица, бытовал запрет на беление (или «подбелива-ние») хаты в поминальные дни: «Подбипвати не можно, то покойнико-вы очи забелышь, вщеть не буде». Особым почитанием в с. Речица пользуется красный («старший») угол, связанный с божеством и культом предков; его можно белить лишь раз в году, а остальные дни белить нельзя: «цшый piK трэба щоб не бьпеная — як забелишь той угол, то по-койниковы оч1 забелишь» (запись А. Л. Топоркова, 1979 г.). В Пинском Полесье, в с. Радчицк Сталинского р-на, существовал запрет в субботу («бо субота то — поминалны дэн») белить печь или мести, поднимая пыль: «От, ка <каже, кажуть>, очы замазуаеш, это пукойникам глаза засыпает да замазуаеш» (запись О. В. Санниковой, 1984 г.). В Нежинском у. Черниговской губ. существовал запрет на беление в пятницу хаты: «У пьятныцу у всяку не мажут, шоб не замазать родытелям (покойникам. — Н. Т.) очей» (сборник XIX в. П. Я. Дорошенко) [Малинка 1902, с. 252], в то время как у южновеликорусских (орловских) крестьян считалось «грехом» в родительские субботы выгребать золу из печи из боязни, что «этою золою засыпают глаза умершим», и запрещалось в те же дни мыть белье, «чтобы не бить вальком умерших» [Зеленин 1934, с. 21].
В северо-восточной Сербии, в Хомолье, с номинальными днями (за душницами), как и у восточных славян, также связан целый ряд ритуалов, направленных на то, чтобы родным-покойникам «было видно» на том свете. Чаще всего для этого служит «задушная свеча», зажигаемая в доме, или свеча, зажженная и пущенная на дощечке по воде. В Хомолье в родительскую (мясопустную) субботу (Задушна субота) женщины ставят номинальную еду на небольшой круглый столик (софрицу), зажигают свечу и подносят все это кому-нибудь из мужчин в доме, чаще всего тому, кого больше всего любил покойник. При этом происходит диалог. Женщина говорит: «Да се види пред нашего Mnjapia!» (Пусть
192
III. Символика предметов и действий
будет видно нашему Михаилу!: Mujajno — имя покойника) — и получает от вет: «Бог да го прости!» (Бог да простит его!) [Милосавл>евиЬ 1913. с. 29]. В этом же Хомолье сербы, помимо упомянутой «задушницы*, отмечают еще две — осеннюю, перед днем св. Дмитрия, и весеннюю, перед Троицей. Хомольцы верили, что «задушная свеча» горит и светит на том свете от одной «задушницы» до другой «задушницы». Если же не зажечь свечу на за-душницу. покойник останется в темноте. В Великий четверг хомольцами совершался на реке обряд «пускания по воде» (пуштагье воде), предназначавшийся покойнику, солнцу, месяцу и другим небесным телам. По воде пускали дощечки с горящими свечками и при этом говорили: «Да се вида на ономе с вегу мом JoBany. Лазару!» (Пусть будет видно на том свете моему Ивану, Лазарю...) и перечисляли имена покойников, а затем и небесных светил |там же. с. 41. 42].
Чрезвычайно интересная связь культа покойников с небесными све типами с солнцем и месяцем, через мотив света огня дополняется в той же зоне связью с культом змей, с так называемым «змеиным днем». При этом следует заметить, что поминание покойников в «змеиный день», по всей вероятности, древнее поминаний в «задушные дни», которые' в основном соответствуют датам христианского календаря. Речь, естествен но. идет о календарной приуроченности, а не о самой форме обряда. В обряде, приводимом ниже, есть также христианские наслоения (сорок калачиков), но есть и уже известная нам архаическая формула «да се вида!». В Хомолье в день Сорока мучеников (сербск. Младенцы. 9.П1 ст. ст.), посвященный в этом крае змеям и потому называющийся .f.uujuH дан. женщины пекут сорок (реже двадцать или десять) калачи ков. Первые калачики даются «за душу мртвима». Женщина, подавая домашним калачик, говорит: «Да се* в иди на оном свету пред нашим Мило]ком (имя покойника)!» — и по.сучает ответ: «Да] боже!» [Мило сав.ъеви11 1913, с. 38). На связь змеи со зрением в славянских народ ных представлениях хотя и косвенно, но красноречиво указывает русский пример, зафиксированный в 1850 г. в Пермской губ., в Долматов скоп вол.: «От блох и клопов вносят в дом траву папоротник, а также вносят в дом мертвую змею с наговором: „Змея в дом — клопы вон!“ — и вешают где-либо около по.су. Если же змею повесить выше глаз, то хозяева в доме ослепнут» [Зеленин. 3. с. 1012].
С интересующей нас темой связан и белый траур, который еще встречается в реликтовом виде в отдельных славянских зонах, а в про шлом был распространен значительно шире и, судя по всему, архаичнее черного траура. В восточной Сербии, в р-не Враня, считают, что после
Глаза и зрение покойников ЮЗ
смерти ребенка в возрасте до одного года его мать не должна носить черного платка и черной одежды, а должна только повязывать голову белым платком, чтобы «ребенок видел на том свете и чтобы у него не было темно в глазах» |11иколий-Сто]анчевиБ 1974, с. 458]. У сербов в с. Свипице, что в Румынии, в р-не дунайских Железных Ворот (недалеко от Хомолья, но по другую сторону Дуная), черный траур не носят, потому что от него «покоршк ништа не види на друтоме свету» (покойник ничего не видит на том свете) [ЗечевиБ 1971. с. 92].
В прошлом не носили граура но своим детям и сербки на Косовом Поле (с. Лешак), чтобы детям па том свеп- «не била тама, тмудиа и не би видело ништа» (не было тьмы, мрака и не видно было ничего) |V'u-canovic 1986, s. 316], а в восточной Сербии, в р-не Врапя, по сей день после смерти первого ребенка мать должна надеть белый платок, чтобы деги продолжали появляться на свет и были здоровы, а умершему «Да му се види бело на она] свет» (чтобы был белый свет на том свете) [НиколпБ-Сто]аичеви11 1974, с. 304, 305]. 1>тому поверью соответствует севернорусский (череповецкий, с. Колотусво) обычай, замеченный И. Брагиной в 1978 г., «обряжать покойника во все светлое, чтобы жизнь (загробная. //. Г.) светлая была, а темное покроешь, так тем ной и будет». У румынских сербов в Свипице исполняется коло яа мртве («танец для мертвых»), которым прекращается траур по покойнику, обычно по большим праздникам: на Русале (Троицу), Пеликден (Пасху) и др. Коло ведется через то месте», где лежит платок е деньгами, на него и следует наступать танцующим. Если бы прекращающие траур пе наступали па платок, они бы, по представлению сербов-свини-чан, танцуя, всегда топтали глаза покойника («покортик би се газио по очима») [ЗсчевиБ 1971, с. 93].
Приведенные факты не исчерпывают примеров, указывающих па мотив зрения покойника или па его, чаще всего временную, слепоту; не перечислены с достаточной полнотой и связи этого мотива с другими символами и «персонажами». Мы придерживались символики, связанной с похоронным и поминальным обрядом, и ограничивались в основном сербской и русской (воеточпославянской) традицией. Все- же два мифологических представления, связанных с курицей и утробным младенцем, нам кажутся интересными и имеющими некоторое отношение к рассматриваемой теме. Курица, вероятно, как аналог души и во всяком случае как домашняя птица в некоторых славянских зонах была обязательным атрибутом похоронного обряда. Так, в Буковине, в с. Ошихли-бы Кицманского повета, ее передавали у могильной ямы через гроб, 7
194
1П. Символика предметов и действий
чтобы она <<Birpaoa.ia мерцав! дорогу на тот свгг» и т. п. [Кузеля 1915. с. 153]. Согласно материалам Полесской этнолингвистической экспеди ции, на Черниговщине (д. Хоробичи) в пятницу «не прали. бо куры по слепнут» (запись О. Беловой. 1980 г.). Здесь снова выступают защиты в пятницу, только уже не па прядение, а па стирку. На Гомельщине (с. Золотуха) беременным женщинам запрещалось «золить» белье в пятницу, потому что «кто дети рожает, не можна тому, вочи, каа <кажут>. повыпарываеш». И хотя утробный младенец является как бы антиподом покойника, их объединяет то, что оба они как бы вне «этого» света (первый — еще, а второй — уже). В каждую пятницу на Житомирщипе (с. Кишин Олевского р-на) действует общий запрет на прядение и снование, ибо если его нарушишь, «заснуешь очи на том свете;» и придет св. Варвара и накажет. Наконец, па Русском Севере в череповецкой зоне было распространено верование, что умершие некрещеные дети «не видят белого света» (запись Н. А. Брагиной, 1978).
'Гаковы отдельные представления о глазах и зрении покойников в славянской традиции, они являются частью общих представлений о глазах, зрении и видении вообще [Богданович 1895, с. 89; Шейн, I, ч. 1. с. 43; Успенский 1982, с. 176, 177]. К сожалению, обобщающей рабо ты на эту тему в славянской этнографии и фольклористике еще пет, и нам остается только надеяться, что такое исследование* появится.
В итоге этого раздела следует сказать, что тема зрения и глаз покой ников непосредственно связана с темой видения и певйдения иного ми ра, видения и певйдения представителей этого мира, представителей сверхъестественной силы живыми людьми и покойниками, живыми людьми и живущими рядом с ними домовыми, русалками, лешими, водяными и прочими «псчистиками».
Согласно славянским народным воззрениям, лишь немногие из жн вых людей обладают даром видения как бы невидимого мира. Эго люди особой праведности. Они видят потому, что приближаются духом своим к существам как бы «бестелесным» и общаются е ними. В Полесье, в с. Тхорип. что неподалеку от г. Словечко, С. М. Толстой и мне старухи рассказывали, как в поминальные дни некоторые видят вереницу' покой пиков родителей, спускающихся с зажженными свечками в руках но склону холма с погоста (кладбища) в село, в свои дома, «на вечерю».
Южнославянские этнографические материалы богаты записями о предосторожностях. которые следует соблюдать, чтобы не натолкнуться, не настутгить на родителей. Так, в юго-восточной Сербии, в Верхней Пчине, существует представление о мифологических «апдрах» или «анд-
Глаза и зрение покойников
19.5
риштах» (андре, андршите). которые невидимы. Но их можно услы шать или приметить их следы. Они подобны ветру — пляшут, ведут ноч ной хоровод (/соло) на определенных местах, где нет травы, а растут только грибы. Эти места называются игршита или калиштп По ним опасно ходить, так как люди или скот могут наступить и придавить апд риных детишек, они их не видят. По этой причине вечером, проходя мимо сомнительных мест, следует говорить: «Беж'те, окати, да прощев йорави!» (Убегайте, глазастые, чтобы прошли слепые!). В этом заклинании глазастыми называются «андры» и им подобные существа, а слепыми — люди. По свидетельству собирателя, известного сербского этнолога Миленка Филиповича, такому приговору учили старшие молодых. Тот же собиратель указывает, что аналогичным образом было принято поступать у сербов, живших в р-не г. Вршац (Канат), где из эвфемистических соображений слово «вила» не произносится, а замещается словом «лена» («красивая», «красавица»). Там, проходя места, где водятся вилы, следовало говорить: «Бежите, лене, да префу елепе!» (Убегайте, красавицы, чтобы прошли слепые!) [Филиповий, Томий 1955, с. 105|.
Есть основания предполагать, что, по славянским народным представ лениям, подобное особое зрение имеют и покойники «родители», о которых следует заботиться (в том числе и об их зрении) и по сравнению е которыми живущие на «этом» свете в определенном отношении слепы 6.
При рассмотрении изобразительных символов и мотивов обратимся прежде всего к сербским источникам, так как в вербальных и обрядовых текстах мотив зрения был рассмотрен сначала также на сербском материале. Кроме того, часть сербского (и северномакедонский) материала относится к современному (XIX—XX вв.) периоду (рис. А, 1—4), а часть — к средневековому (рис. .4, 5—12). Тем самым мы выполним первое поставленное нами условие — исследование* сначала ограниченного (этнически и ареально) конкретного крута фактов, а затем фактов из этнически родственных зон и ареалов и фактов иного, более раннего хронологического среза.
Одновременно будет соблюдено и другое условие, также методологи четкого порядка, согласно которому типологически классификационное и ареально-типологическое рассмотрение материала должно предварять сравнительно-историческое (историке генетическое), ибо уже сами типы
6 Мотив слепоты, антонимичный мотиву зрения (т. е. зрение со знаком минус), требует специального рассмотрения, так как он охватывает во многом иной, в отличие от рассмотренного нами, круг мифологических представлений
ISti ИГ Символика предметов и действий
изобразительных символов и даже типы одного изобразительного симво ла могут отображать определенную историческую последовательность развития отдельной идеограммы или системы идеограмм, не говоря уже о том, что эти разные типы идеограмм или орнаментов могут иметь свою дистрибуцию и в географическом аспекте.
Типологическую классификацию средневековых боенийско-герцего вииских, собственно сербских и черногорских символов, идеограмм и орнаментов на каменных надгробиях с достаточной полнотой и применением картографического метода дали в 60-е и 70-е годы нашего века М. Вензель [Wenzel 1965] и Ш. Бешлагич [Beslagic 1971]. При этом М. Вензель, будучи последовательным в своей типологической классификации, без оглядки на генезис идеограмм и символов определяет их как орнамент и рисунки, а интересующие нас изображения — как спирали [Wenzel 1965, табл. XL1V—1,1] или ветки на деревьях [Wenzel 1965, табл. L1I—LV], что при типологическом описании и ориентации на гео метричиоегь форм не вызывает возражения.
Известный сербский этнограф П. Ж. Петрович в статье «Мотив человеческих глаз у балканских славян» [Петровий 1960] предложил первое, на наш взгляд, удачное обобщение большого, в основном сербского материала. не связывая его, однако, с вербальными фольклорными и этнографическими текстами. Пам же представляется совершенно необ ходимым установление такой связи, тем более что эта связь выявляется не абстрактно, не вообще на основе изображения органа зрения — глаз и словесно выраженных представлений о зрении а на основе, па общей «семантической платформе» погребальной, поминальной или загробной темы. Эта общая платформа допускает сочетание и, видимо, даже по буждает к сочетанию мотива глаз с другими «загробными» мотивами: древа жизни, солнца — света или христианского мотива виноградной ло зы и гроздьев винограда как символа царствия небесного, но об этом несколько подробнее будет сказано ниже. С Сейчас же охарактеризуем кратко приводимый пами материал.
На сербских и северпомакедонских надгробиях XIX — начала XX в., так же как и на боснийско-герцеговинских надгробиях более раннего периода, часто встречается изображение человеческих глаз в виде двух окружностей, полуокружностей и витков, соединенных одной петлей, опущенной книзу и дающей очертания носа (рис. А, 2) Изображение глаз может быть дано и путем обозначения контура носа и бровей на чертанием двух вертикальных линий, верхняя часть которых завершаете ся в виде петель, повернутых в разные стороны (рис. А, .9). Символика
Глаза и зрение покойников
197
глаз и зрения содержится также в двух спиралях с петлей или с двумя обращенными вниз вертикальными параллельными линиями (рис. А, 5). Вертикальные линии с петлями и спиралями уже близки к орнаменту и превращаются в таковой (см. ниже о русских узорах-вышивках), но все же на средневековых сербских надгробиях они таковыми не являют ся, что видно из их расположения на каменной стеле (рис. А, 5 в сравнении с рис. А, I и А, 6).
Рис. А НАДГРОБИЯ
Источники:
1 — с. Доля ни под Рогозном около Кралева, южп. Сербия, 1891 [ПетровиЬ I960, с. 41];
2 — с. Павлишенци около Куманова, сев. Македония [Беш-лагпЪ 1959. с. 265];
3 — с. Жеглигово под Старо Нагоричино около Куманова [ПетровиЬ I960, с. 47];
4 — с. Занужа у Нового Назара, юго-зап. Сербия [Дворнико-виЬ 1954, с. 37];
5 -е. Радимля около Стол ца, южн. Герцеговина [Wenzel 1965, табл. XLVI, 8],
6 — с. Мратинци, вост. Босния [там же, табл. XLVII, 9];
7 — с. Прияновичи около Кладня, вост. Босния [Beslagic 1971, с. 211];
8 — с. Братунац около Среб реницы, вост. Босния [Wenzel 1965, табл. LV, 16];
198
III. Символика предметов и действий
9 — с. Дони Братач около Нсвесиня, Герцеговина |Wenzel 1965. табл. XLV11, 6];
10 — <?. Набоине около Клад ня [там же, габл. LV, I];
11 — С. Оправдичи около Ьратунца, вост. Босния [там же. табл. LV. 13]
12 - с. Паргани около Звор ника, вост. Босния [там же табл. LII, 29].
Примечания:
Риг. 1—4 относятся к намят никам, вероятно, второй полови ны XIX в. , рис. 5—12— к намят никам средневековья.
Безусловно, во многих случаях главным образом в друтих «жанрах» и сферах (вышивка, узор, декорация), схематическое изображение глаз могло иметь уже другую семантику (нс зрения, не глаз) или быть на столько десемантизовано, орнаментарпо, что тему или мотив культа предков или света, зрения можно связывать с изображением лишь как «дальнюю этимологию», как возможное «празначение». Впрочем, о та кой «этимологии» речь может идти лишь тогда, когда подробно и во всей полноте будут изучены и те мотивы и символы, с которыми сочетается или компонентом которых является отдельный мотив, в данном случае мотив (и изображение) зрения (глаз). Естественно, что эти изобразительные мотивы должны быть также сопоставлены с вербальными (словесными) мотивами, символами и текстами.
Переходя к теме сложного изобразительного символа, осложненное! идеограммы или «фразеологизма символа», о чем была речь выше отмстим, что в средневековой боснийско-герцеговинской традиции был весьма рас пространен надгробный мотив древа жизни («мирового дерева»), ветви которого состоят из идеограмм зрения и глаз, т. е. из двух завитков или спи ралей с петлей (см. рис. А, 6, 7, 8, II). Такой сложный символ мог соче таться с крестом, часто антропоморфного вида, или с цветком и, наконец, с виноградными гроздьями. За отсутствием места на рис. А эти образцы нс*
Глаза и зрение покойников 199
представлены, за исключением рис. .4, J2, где, однако, число веток минимально, по ясно выражена христианская символика виноградном лозы. Она основывается па евангельском тексте Азт» есмь лоза истинная, и отец'ь мой д-клатель (виноп>адарь — II. Г.) есть (Ио 15. I), где «лоза истинная» — Христос, и па притче Христа о вишярадарях. где виноград ник символизирует царствие небесное (Мф 21, 28—46).
Идеограмма зрения (глаз) в несколько геометрнзированной форме (см. орнамент рис. В, 4, 6) входит компонентом в антропоморфные, преимущественно женские фигуры (мать рождающая, мать сыра земля) у южных и восточных славян и у соседних, прежде всего утро финских, пародов в виде рук с особым положением — рук расставленных и согнутых в локте. Можно было бы привести множество иллюстраций из разных славянских народных традиций, по мы воздерживаемся от этого, считая, что рассмотрение этого мотива может быть темой отдельной большой работы.
Помимо символических сочетаний, можно указать на символические синтагмы, в рассматриваемых случаях на группу идеограмм на одном надгробии. Так, на таблице А, помимо идеограмм зрения (глаз), зафиксированы идеограммы солнца (рис. А. /. D) креста (рш .4, 2. 3, 7). Из незафиксированных в приводимой таблице идеограмм можно указать на идеограммы руки, цветка, птицы (Wenzel 1965. табл. XL1V, XLV. I,. LXVI].
Расширяя круг привлекаемого материала, обратимся к другой этпиче ской традиции — болгарской — и к другому «жанру» — к обрядовым печеньям, выпекаемым главным образом в календарные праздники. Как известно, крупнейшей коллекцией фотографий болгарских обрядовых хле бов является собранная в начале нашего века коллекция известного болгарского этнографа Димитрия Маринова (подавно изданная книга Ст. Яневой «Вългарски обредпи хлябове» мною не могла быть учтена). Из богатого собрания Д. Маринова нами для таблицы Б выделено лишь 9 рисунков. Па всех рисунках достаточно четко выделяется идеограмма глаз в виде большой широкой петли и двух верхних завитков (рис. />, /5) или двух завитков со слившимися вертикальными столбиками (рис. Б, (i—7\ ср рис. А, 3, (i. !) и рис. II, 1/— 12), наконец, в виде комбинаций восьми идеограмм глаз, обращенных в разные стороны (рис. Б, 8). Особый интерес представляет рисунок так называемого «рибпика». который выпекается па «рыбного» святого Николая (6.XII ст. ст.) и который должен быть с запеченной рыбой. В «рибпике» рыбьи глаза под надбровными дугами из теста и усы из рыбьего хвоета. Вся форма «рибпика» напоминает сербское надгробие нового времени (XIX в.), изображенное на рис. А. 4. Два квад рата с крестом, расположенные но стиронам на «рибпике». как и на сак
200 III- Символика предметов и действий
ральных хлебах (рис. Б, 2, 4), изображают на рисунке просфорную печать с надписью IC — XG — HI — КЛ Печать эта ярко отражает христианское наслоение на языческую символику сакральных хлебов.
Отдельные хлебы представляют собой символическую синтагму, на пример хлеб, сочетающий символы крута, креста и зрения (глаз), вкупе с пятью розанами-цветочками (рис. Б, 3), или хлеб с идеограммами зрения (глаз), цветка и скотного двора, изображенного в виде нолукру жия с насечками (рис. Б, 6).
Весьма существенно, что абсолютное большинство сакральных хлебов с описанной символикой выпекается в такие дни, которые связаны с культом предков, е покойниками, с загробным миром Так, даже в нашем численно крайне скудном подборе рисунков рис. Б, 3, 5, 7, 8 относятся к хлебу, который месится в Михайлов день (8.XI ст. ст.). Такой хлеб называется бо говица или рангелово блюдо, рангелов хляб (см. ниже названия хлебов в перечне источников). Михайлов день по-болгарски называется Рангелов ден, а Свети Рангел, по болгарским народным представлениям, один из шестерых братьев — «юнаков», разделивших между собой функции на не бе, земле и в мире вообще. Святому Раигелу достались мертвые души («мъртвите души» — души умерших людей) — он их вынимает из тела. Его зовут поэтому Свети Рангел Душевадник и празднуют его день как день мертвых, чтобы смерть была легкой, чтобы он легче изымал душу.
Что касается святого Николая, то он, по тем же представлениям, стал властителем рек, морей и морских ветров, но он так же, как архангел Ми хайл, согласно славянским фольклорным представлениям, водит по раю и аду человеческую душу, отделившуюся от тела, или взвешивает злые и до брые дела усопших, а по сербским верованиям — по приказу святого проро ка Ильи Николай перевозит праведные души «с этого света па тот свет», см. подробнее: [Успенский 1982, с. 25—30]. Сакральные хлебы, пекущиеся на Николин день (6.XII ст. ст.), см. па рис. Б, 4, 9. Не приходится удив литься, что идеограмма глаз наличествует и на хлебе, выпекаемом в Со чельник {Бъдня вечер), так как этот день также связан с культом мертвых и предков во многих славянских традициях, в том числе и болгарской (рис. Б, 1) 7. Идеограмма глаз (зрения) могла быть употреблена и па обря до во м хлебе, выпекавшемся к Юрьевомудню (23.IV ст. ст.). Такой случай
7 Но славянским народным верованиям, в сочельник покойники-предки приходят для того, чтобы принять хлеб и другую еду в виде угощения. Таким образом, сакральный хлеб выпекается для покойников, см.: (Виноградова 1982, с. 136 142; Живков 1974, с. 86].
Глаза и зрение покойников
201
отмечен у Д. Маринова лишь один раз (рис. Б, 2), и объяснить его пока можно переносом мотива (орнамента) с хлебов, относящихся к другим календарным праздникам, на юрьевский хлеб. Для юрьевекого хлеба у болгар типичны мотивы креста, лучей, пастушеской палки, перевитых палок пастуха, овец, овец-близнецов, загона для овец, трех собак [Маринов 1914, с. 442—449]. Эти факты свидетельствуют о том. что большинство мотивов и символов на болгарских, а также сербских и македонских обрядовых хлебах не десемантизировано.
Рис. Б БОЛГАРСКИЕ ОБРЯДОВЫЕ ХЛЕБЫ
Источники:
Из колл. Д. Маринова ]Маринов 1914] с указанием рисунка.
I — Прав кравай, с. Мар ковче, Шуменско, месят в сочельник (Бъдия вечер; рис. 61);
2 — Полак, с. Горни Окои. Самоковско, месят на Юрьев день (Гергьов ден; рис. 375);
3 — Боговица, с. Чирен, Врачангко, месят на Михайлов день (8.Х! ст. ст., Рангелов ден: рис. 411);
4 — Богова пита, с. Лита ково, Орханийгко, месят на Ни колин день (6.XII ст. ст., Никул ден: иис 461):
5 — Рангелов< ко блюдо, с Раковица, Кулска околия, месят на Михайлов день (рис. 408)
б — с. Конак, Тырговишко (переселенцы из Лозенгрядско: рис. 332):
202
III Символика предметов и действий
7 — Рангелов хляб, с. Де-ли-Юсуф-Куюси (ныне Лозница), Добруджа, месят на Михайлов день (рис. 421);
8 — Боговица, с. Турски Тырстеник (ныне Славяново) и Выбел, Пловдивско, месят на Михаилов цень (рис. 415);
9 — Рибник (делается с ры бой)5 в селах областей Ломско, Белоградчитко и Видинско. месят на Николин день (Рибен свети Никола; рис. 463).
См. также: (Маринов 1914, рис. 15, 16, 252. 318, 344. 425, 436, 449, 454].
Иное положение наблюдается с народным славянским орнаментом, украшающим рубахи, головные уборы, одежду, полотенца и т. п. Смысловая символика лучше сохраняется на полотенцах и хуже — на одежде и головных уборах, но в каждом конкретном случае это зависит от типа символа и от места, занимаемого им в общей орнаментарной или символической системе вышивки, узора и т. п.
Обращаясь к рисункам В, укажем, что первые шесть рисунков относятся к южнославянскому материалу, к зоне Косова и прилегающей к пей Сретечкой Жупы (рис. В, 1, 4, Я), к юго-западной Македонии (рис. В, 2) и к Хорватии (рис. В, 5, в), а последние шесть — к материалу великорусскому, северновеликорусскому преимущественно. Великорусский и вообще восточнославянский материал ценен потому, что в этой зоне традиционные надгробия (кресты, колоды и т. и.) делаются и делались из дерева, а не из камня, что приводило и приводит к отсутствию прямого соответствия южнославянских надгробных идеограмм идеограммам восточнославянским. Связь южнославянского и русского орнамента одежды и полотенец с идеограммами на сербских надгробиях достаточно очевидна. Особенно интересны русские вышивки, демонстрирующие использование того же самого символического изображения глаз для создания мотива дерева (рис. В, 7—9, 11) или то же сочетание мотива зрения (глаз) и мотива звезды (цветка) или креста (рис. В, 10,
Глаза и зрение покойников
203
12), что и на сербских средневековых надгробиях (рие. А, 6, 8, 12). Геометрическая стилизация глаз (бровей) (рис. В, 1—4) четко повторяется в русском орнаменте (рис. В, 9) и особенно, как уже отмечалось, при изображении человеческих фигур в позе разведенных и согнутых рук. Впрочем, такой рисунок человеческих рук известен и в южнославянской традиции на коврах, вышивках, узорах.
Увеличение числа веток на стволе дерева и числа ответвлений па «ветках-глазах» (см., напр.. рис. В, 9) характерно для славянской традиции и соответствует увеличению числа «плеч» (поперечных перекладин) в карпатской традиции (Коломийщина) на деревянных антропоморфных «крестах», которые сами по себе захватывают довольно большой регион южной и восточной Славии [Толстой 1973].
Все эти вопросы требуют привлечения большего материала и отдельного рассмотрения. Помимо прочего, они связаны с проблемой славянонеславянских отношений и связей в области славянской духовной культуры и культурной символики. Культурно-мифологические славяно-неславянские связи во многих случаях устанавливаются и на вербальном (словесном, повествовательном) материале.
Рис. В ОРНАМЕНТ НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ
Источники:
I — на женской рубашке, обл. Косово, южн. Сербия [Пет-ровиЬ 1960, с. 38];
2 — и а женской рубашке. Струга, юго-зап. Македония [там же, с. 38];
3 — на фате невесты, Сретенка Жупа, юго-зап. Сербия |там же. с. 38],
4 — на женской рубашке, обл. Косово [там же, с. 38];
204
III. Символика предметов и действий
5 — орнамент, зона Подра-вья, Хорватия [ПетровиК I960, с. 38];
6 — орнамент на печи, Си-сак, Хорватия (там же, с. 38];
7 — один из орнаментов на полотенце, 6. Вышневолоцкий у., Россия [Маслова 1978, с. 100];
8 — вышивка на полотенце, бывш. Костромская или Ярославская губ. [там же, с. 96];
9 — Орнамент очелья сорочки, с. Городня бывш. Тверского у. (Маслова 1978, с. 77];
10 — орнамент полотенца, бывш. Мологоский у. Ярославской губ. [там же, с. 97];
11 — на женской рубашке, бывш. Каргопольский у. Олонецкой губ. (там же, с. 97];
12 — фрагмент орнамента полотенца (нижний бордюр), бывш. Вольский у. Вологодской губ. [там же, С- ПО].
Примечания:
Любопытный и ценный угро-финский (вепсский) материал содержится в книге: (Косменко 1984, рис. на с. 66, 77, 89, 126, 135 и др.]. При оценке фактов, изложенных в этой книге, нельзя не принимать во внимание возможность славянского (русского) влияния.
В заключение отметим, что если прямая связь между сербскими верованиями о глазах и зрении покойников с идеограммами глаз на средневековых сербских надгробиях не вызывает сомнения, то связь мотива
Глаза и зрение покойников
205
глаз (зрения) и изображения двух спиралей с короткими вертикальными линиями или небольшой петлей в других традициях, в том числе и весьма древних, в значительной степени гипотетична, равно как и гипотетична их связь с культом мертвых. Однако за неимением других «этимологических» объяснений семантики указанного символа (позже уже, безусловно, орнамента) такое толкование можно принять в качестве предположительного, пока оно не подтвердится новыми материалами или не будет на основании новых материалов отвергнуто.
В качестве постскриптума ко всей статье можно привести и объяснить известное и часто употребляемое в болгарской языковой среде в виде легкого проклятия выражение «Да му се не види!», имеющее значение, близкое к русскому «Чтоб ему пусто было!», «Чтоб он сдох!». В свете всего вышеизложенного поговорку «Да му се не види» следует понимать как пожелание, чтобы ему, т. е. адресату, было ничего не видно на том свете (ср. обратное пожелание покойнику у сербов в Хомолье: «Да се види...» — см. выше). То, что речь идет о возможности видеть именно на том свете, подтверждается значительным числом болгарских заклинаний и проклятий на тему «неблагополучного» пребывания на том свете и в могиле.
Первая публикация:
Н. И. Толстой. К реконструкции семантики и функции некоторых славянских изобразительных и словесных символов и мотивов // Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной куль туры. Л., 1990, с. 47- 67.
Антропоморфные надгробия
(Об одной балто-славянской изопрагме)
Весьма любопытную и, безусловно, достаточно архаическую карпатско-(западноукраинско-)-южнославнянскую (болгарскую) изопрагму образуют определенные типы надгробных памятников (далее и. и.), имеющие вид профилированных досок относительно небольшой толщины (до 6 ем) и высоты (от 50 см до 1 м, иногда более). Иа стр. 208—212 даются зарисовки некоторых из них. наиболее характерных.
Описываемые надгробия распространены в Болгарии — юж пая часть Странджи, примыкаю щая к турецкой границе (5 населенных пунктов — сокр. Б. С.), восточные склоны Рилы (2 само-ковских н. п. сокр. — Б. Р.), до лина реки Нишавы (1 н. п. 11 км западнее г. Годеч — сокр. Б. Г.), а также в Карпатах на Коломый щине в р-не покутско-гуцульекого пограничья (14 н.п,— сокр. У. К.) и у карпатских предгорий и севернее на Подольщине вплоть до Полесья (в отдельных пунктах бывш. Гайеинского, Браславского, Ямпольского и Проекуровско-го поветов — сокр. У. П.).
Карта I
Распространение архаических деревянных надгробий
Антропоморфные надгробия
207
Отмеченную изопрагму можно продолжить до литовского балтийского побережья, до небольшого западно-жемайтского островка (несколько пунктов в р-не Клайпеды — сокр. Л. Ж.), если считать формы литовских надгробных доеок сходными с карпатскими и южнославянскими. На наш взгляд, такое сходство (обусловленное, вероятно, генетически) имеется и оно вызвано общностью мифологических и религиозных дохристианских представлений о душе и загробной жизни. В связи с этим надо признать правильным мнение И. Басанавичюса о происхождении западно-жемайтских надгробий (крикштай) от антропоморфных изображений и ошибочным суждение П. И. Кушнера о том, что они имитируют распяленные шкуры животных | Basanavieius 1970, р. 138—140; Кушнер 1951].
На исконную антропоморфность форм указывают некоторые простейшие болгарские и карпатские типы (рис. 1—10), а также зависи мость деталей надгробия от возраста и пола покойника. В Страндже число и форма нарезных полосок зависит от пола, форма и величина доски — от возраста (взрослый, ребенок), материал же, как правило, один — дуб. В р-не Клайпеды надгробия из дуба, березы и ясеня (azu-olas, berzas, ilosis) делались для мужчин, а из ели, осины и липы (egle, epuse, liepa) для женщин. Любопытна карпатская (коломыйская) терминология частей надгробий («крестов»/ голова, рамя, стопа, пень, корень, перехрестя. При этом не следует забывать древнеславянского языческого представления, что душа после смерти находит себе пристанище в дереве или камне. Со временем антропоморфный тип надгробия менялся, усложнялся и с одной стороны сохранялся, а с другой превра щалея в иные типы, которые в конце концов приспосабливались к форме христианского латинского (или православного) креста. Почти все типы — первоначальный простой, несколько осложненные и крестообразный можно обнаружить (или недавно обнаруживались) на кладбищах Странджи, Восточной Рилы, Коломыйщины и р-на Клайпеды (крестообразные типы в таблице не представлены). Несомненно, в прошлом рассматриваемые типы надгробий были распространены у славян и балтийцев шире, по не повсеместно, т. к. известны и другие архаические типы и «культуры» надгробий, в первую очередь различные каменные надгробия (стелы, саркофаги — Босния, Сербия, Болгария) и деревянные (на рубы, лежаки, прихоромы — Полесье, домовины — Россия и др.). Интересующие нас деревянные надгробия зафиксированы в местностях, где много камня, но они по преимущ«хтву деревянные, что связано, надо полагать, с культом деревьев (древо жизни и т. п.). Для выяснения их распространения в прошлом очень ценны свидетельства подобного рода:
208
IH. Символика предметов и действий
в 1743 г. сербский епископ Павел Ненадович велел своей пастве ставить кресты на могилах, а не следовать обычаи» и «простая древеса съ пре-слицомъ (прялкой) воздружати» [Дробн>аковиЬ 1960, с. 161]. Очевидно, того же рода были и протесты против народных «крикштаев» литовских епископов М. Юнге (1426 г.) и А. Тышкявичюса (1752 г.).
Антропоморфные изображения, стоящие в ряд, встречаются на севернорусских деревянных прялках (рис. 33, 34), распространенных на Мезени [Воронов 1972, е. 229], что продолжает выявленную изопрагму до самого Севера и подкрепляет другие изоглоссы и изопрагмы того же направления. Следует отметить, что подобной формы «кресты» известны и у румын, но не в вице надгробий (рис. 35). К сожалению, имеющийся в нашем распоряжении материал скуден и плохо документирован.
5. У. К.
<>. н. с..
4. У. 11.
Антрonоморфные надгробия
209
210
III. Символика предметов и действий
/И.
II
I. яс
Антропоморфные надгробия
211
Пояснения к рисункам:
На болгарском и западноукраинском материале (хотя он и оказывается почти синхронным) можно наблюдать довольно четко переход от человекоподобного типа надгробий (рис. 1—10) к надгробиям «прялочного» типа (рис. 16—20), через стадию «геометрического* типа (рис. 3, 6, &-10), для которого характерны квадратная, треугольная или трапецевидная (а не круглая) форма ♦головы», утолщение «плеч», иног да с наличием вырезов в них, или с расширением их концов по типу треугольника (рис. 21, 26 и 11— 14; рис. 12 — с расширением в виде треугольника и вырезами од повременно). В болгарской традиции последовательно округлая форма «головы» относится к женскому надгробию, а треугольная и квадратная к мужскому. На более новых каменных надгробиях такого же вида у болгар иногда встречаются совмещенные для мужа и жены «мужские* и «женские» ♦головы» и ♦туловища». Для кар патско-коломыйского микроареала очень характерно увеличение числа «плеч», простых или модифицированных (рис. 5, 7, 13, 14). Эта же тенденция видна и в других более сложных, видимо, контаминированных примерах (рис. 22, 28). Отдельные литовские экземпляры в ряде случаев ближе к болгарским, чем к западноукраинским (напр. 21 и 24, также 26 и 29), что становится понятным, если допустить для них древний прототип и учесть их современное распространение в окраинных архаичных
212
III. Символика предметов и действий
зонах. Особенно интересны и редки случаи верхнего расщепления ♦головы» (рис. 26 и 29). Безуслов но релевантна также ♦шапочка», отмеченная в Страндже, на Коло-мыйщине и Подольщине (рис. 6, 21, 26), иногда несколько расши ренная, как в Годечско (рис. 12), иногда уже гиперированная (рис. 22, возможно и 14) и тем самым утратившая свой ♦смысл». Не исключено, что у литовцев она видоизменилась в обычный крест (иногда с вырезами в «плечах», рис. 25) или в крест, имеющий растительную форму (рис. 24) Фигура сердца явно относительно недавнего католического происхождения (рис. 30).
Тип надгробий, изображенных на рис. 31 и 32, был распространен на Волынском По лесье в бывш. Новоград-Волынском у. (с. Андреевичи, ныне Емельчинского р-на Житомирской обл.) {Волков 1910, с. 41]. Прялка на рис. 33 и ее верхняя часть на рис. 33а схема тично воспроизводят снимок из книги В. С. Воронова; прялка (верхняя часть которой изображена на рис. 34) привезена с Мезени С И. Дмитриевой, подарена мне и находится в моей этнографической коллекции.
На рис. 35 изображена фотография деревяных крестиков (нательных?) из музея ♦Яломица» (г. Слобозия, юго-вост. Румыния).
Изменения (вероятно характера более позднего, чем основные рассмотренные) в дендроморфный тип (Коломыйщина) и зооморфный тип (Литва) нами здесь не учитываются. Некоторые из описанных западноукраинских надгробий раскрашивались, но сведения об этом довольно скудны.
Материал собран на основании собственных наблюдений в Страндже и работ А. Васи-лиева (болг., сер. XX в.) (Василиев 1957; он же 1958; он же 1961J, Г. Колцунякаи К. Ши роцкого (укр.. нач. XX в.), [Колцуняк 1919, с. 215 229, XXI табл.; Широцький 1908, с. 10—29], К. Чербуленаса, Ф. Белинскиса, К. Шешельгиса, П. И. Кушнера-Кнышева (литовск., нач. vi сер. XX в.) [Cerbulenas и др. 1970. р. XI; Кушнер 1951] и В. С. Воронова (сев.-русск.) (Воронов 1972, с. 229].
Печатается с добавлениями. Первая публикация:
II. И. Толстой. Об одной карпатско- южнославянской изопрагме Ц Симпозиум по проблемам карпатского языкознания (24 26 апреля 1973 г.). Тезисы докладов и собщений. М., 1973, с. 50 55-
Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде
Отец мой, Илья Ильич Толстой, как мне помнится с детства, не мог видеть перевернутой буханки или булки хлеба на столе и всегда говорил, что класть хлеб верхней коркой вниз нельзя, «а то покойник в до ме будет». Отец родился в 1897 г. в Чернеком уезде Тульской губернии (сельцо Гринево), а детство и отрочество провел в имении отца Ильи Львовича Толстого в Калужской губернии (сельцо Мансурово или Дуб ровка Калужского уезда) или в Калуге, поэтому трудно сказать, тульское ли это поверие или калужское; возможно, оно характерно для обо их южпоруеских краев. Я твердо воспринял этот запрет от отца, как и ряд других правил его религиозного и бытового уклада, но внутреннего его смысла, семантики долго не понимал. Материал, который я намереваюсь изложить ниже, раскрывает эту семантику.
Одним из важных, едва ли не кульминационным моментом славянского погребального обряда является выное покойника из дома, начало его посмертного «странствования». Порог дома оказывается главным рубежом, отделяющим умершего от его дома, семьи и земной жизни. После перехода этого рубежа возврат покойника в дом нежелателен и опасен, кроме особых поминальных дней, когда «родители» (покойники) приглашаются в дом к столу. Переход покойника в другой мир обозначается действием пе реворачивания самого покойника или предметов, так или иначе с ним связанных. При этом под переворачиванием имеются в виду разного рода про странствепные обращения: как по вертикали (сверху вниз, с пог па голову, вверх дном и т. п.), так и но горизонтали (справа налево, с запада на восток и т. п.) или по линии внутри — снаружи (выворачивание наизнанку). Ритуальное переворачивание известно почти во всех славянских традициях — у южных восточных и западных славян, однако наиболее богатый материал дает сербская традиция. Материал вне славянской традиции
214
III. Символика предметов и действий
нами не приводится, хотя он имеется, и потому описываемые ритуалы ие следует считать исключительно славянскими.
В период агонии, чтобы ускорить и облегчить умирающему переход в мир иной, умирающего клали на земляной пол (на солому или па зем лю) и меняли при этом его положение тела так, чтобы ноги приходи лись на то место, где была голова, а голова — туда, где были ноги. Обряд положения на землю известен у многих индоевропейских, семитских и других народов. В сочетании с переворачиванием он зафиксирован в западной Сербии в р-не г. Ужице и Пожега [Благо]евий 1984. с. 280] и в восточной Сербии в р-нс г. Заечар, где еще важно было положить покойника параллельно с потолочными балками [Зечевий 1978, с. 384], по, надо полагать, он известен и в других славянских зонах.
Следует отметить особый статуе колдуна как человека, породнивше гося с нечистой силой и как бы превратившегося в нес. Его переверну тость постоянна, но невидима. Так, по материалам Тенишевского архи ва, использованным С. В. Максимовым, в Пензенской губ., чтобы выя вить и изобличить колдуна, пользовались тремя средствами: вербной свечой, осиновыми дровами и рябиновым прутом. Если зажечь умеючи (фитилем снизу? — Н. Т.) приготовленную свечу, то колдуны и колду ньи покажутся вверх ногами; если истопить в Великий четверг печь осиновыми дровами, то колдуны придут просить золы и если на пас хальную заутреню взять рябиновую палочку, то будет видно, как колду ны стоят задом к иконостасу [Максимов С. 1989, с. 70|.
При погребении колдуна переворачивают и в тех случаях, когда других покойников переворачивать нельзя. 'Гак. в Вологодских краях кол дун перед смертью велит не вносить его в избу, если он умрет в поле, а если умрет в избе, выносить его из избы нс ногами вперед «по обычаю всех православных», а головой вперед, и у первой реки, заблаговремен ио остановившись, перевернуть в гробу навзничь, и подрезать пятки и подколенные жилы |там же, 78]. Эти действия против вурдалаков известны и у южных славян.
Переворачивание лавок, табуреток или стульев, на которых в доме стоял ipo6, известно в разных славянских традициях. Так, на Русском Севере (д. Степановское Череповецкого р на) тотчас по выносе покой ника из избы оставшиеся дома «псрскубыривали» (опрокидывали нож ками кверху) лавки, а затем мыли и мели пол, двери, окна, притом мести нол следовало от места, где лежал покойник, к порогу', а нс иначе [Брагина 1980, с. 69]. У хорватов кайкавцев. живущих севернее Загреба (с. Доня Стубица), в момент, когда нужно выносить покойника из
Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде
215
дома и со двора, домашние стараются на мгновение присесть на табуретки или стулья, на которых стоял цюб с покойником, по те, кто вы носят гроб, и другие стоявшие у гроба предупреждают их тем, что пере ворачивают табуретки. За процессией е гробом льют воду, «чтобы мерт вец не возвращался» [Rajkovic 1973, s. 193]. Черногорцы из племени Кучи до недавнего времени снимали с петель входные двери и переворачивали их, если в семье, где вымирало мужское потомство, скончался молодой мужчина (Дучий 1931, с. 248]. В России в новгородских деревнях и селах до недавнего времени, когда из избы выносили покойника, крестили дверь и «валили», переворачивали табуретки, на которых стоял гроб {Строгова 1987]. Такой же обряд отмечен у поляков. На севере Польши переворачивали лавки, на которых стоял гроб, чтобы «nic usiadt па nich nicboszczyk» (не сел на пих покойник), т. <*. нс приходил обратно в дом (Karwicka 1982, s. ЮЗ]. На юге Польши в Сопдецких Бескидах совершался тот же ритуал переворачивания стульев и лавок, но ему нс давалось никакого объяснения (Kowalska 1985, s. 66].
Многие славянские местные традиции до недавнего времени соблюдали ритуал несения покойника до кладбища на руках, на носилках, па палках. Но в тех местах, где всади покойника на телеге или на санях даже в летнее время (а такой способ похорон на санях справедливо считается весьма древним) |Gavazzi 1951], встречался обычай перевора чивания телеги и саней после похорон. Так, на юго-востоке Полыни в зоне городов Сапок и Кросно воз, па котором всади покойника, персво рачивали во дворе и так оставляли до следующего дня | Kolberg, 49, s. 543]. То же самое делали на юге Польши, па р. Рабе, полагая, что «иначе на телеге будет тяжело ездить», т. е. она будет очень тяжелой [Fischer 1921, s. 145]. В середине XIX в. в г. Вельске Вологодской губернии покойника возили к церкви зимой и летом на дровнях, которые потом, па обратном пути, недалеко от дома оставались до сорокового дня опрокинутыми вверх полозьями и с обернутыми назад оглоблями: при этом верили, что «до сорокового дня мертвец каждопощно приходит к дровням, на коих везен был на кладбище, намереваясь ехать домой, но пайдя оглобли обороченными, возвращается в мопыу» | Зеленин, I, с. 200]. В восточной Сербии, в зоне Болевца сани, па которых везли па кладбище покойника, не возвращались в его дом. а переворачивались и оставались в таком положении па кладбище семь дней {ГрбиЬ 1909, с. 250]. Умерших маленьких детей сербы относили па кладбище в их колыбелях, в люльках, в западной Сербии, в Ужицком крае и в других зонах люлька оставалась лежать перевернутой на могиле ребенка. Рас
216
II/. Символика предметов и действий
сказывали, что раньше при эпидемии скарлатины можно было увидеть до семи таких рядком лежащих перевернутых люлек из одной «задруги», т. е. большой семьи [БлапуевиК 1984, е. 237|.
Помимо переворачивания лавок, стульев, табуреток, дверей, телег, саней и детских люлек в славянском погребальном обряде известно и переворачивание посуды. Это действие может быть связано с выливанием воды и тушением огня в момент смерти в доме, как видно из свидетельства священника о. Дмитрия Булгаковского, собиравшего этнографический материал в Полесье на Пишцине в 70-х годах прошлого века. Он пишет о воззрении полешуков. по которому человек умирает от капли смерти, падающей с косы, находящейся в руках антропоморфной смерти. По тем же воззрениям, душа человека после смерти «погружа ется, или, как говорят, полощется в воде, находящейся в доме, и тем оскверняет ее. Напившийся той воды в скором времени умирает, вследствие чего перед смертью больного домашние выливают воду на двор и самые сосуды, в которых была вода, перевертывают вверх дном» (Булгаковский 1890, е. 190]. Однако, как показывает материал, переворачиванию сосудов может даваться и другая мотивация. Так. по материалам 11. В. Шейна, на той же Пинщине в Радчицкой волости в конце 80-х годов XIX в. соблюдался обычай, по которому «за гробом нееут в горшке святую воду', которой батюшка окроплжт могилу, а что оггает ся, то ее там же выливают, а сам горшок, повернул) вверх дном, оставят в головах покойника сверху могилы. Это, говорят, для того, чтобы ему на том свете было чем пить воду» [Топорков 1986, с. 104]. В Полесье переворачивают также горшок или миску с углями. Так, в Замошье Гомельской обл. А. Л. Топорков видел на кладбище на могилах под крестом перевернутые глиняные миски, в которых во время похорон несли за гробом горячие угли [там же, с. 105]. Сведения из той же зоны (бывш. Климовичский у. Могилевской губ.) имеются в архиве II. В. Шейна: «По зарытии могилы на ней ставился черепочек с жаром и па этом жару сжигается солома, принесенная из дома и взятая из-под тела покойника» [Шейн, л. 15]. .Аналогичный обряд совершался на Русском Севере. Так. по свидетельству Г. И. Куликовского из конца прошлого века, в Вытегорском у. Олонецкой губ, горшок с ггольями был непременным атрибутом похоронной процессии; после похорон горшок ставили на могиле вверх дном, и угли рассыпались. «Благодаря этому обстоятельству кладбище имеет необычный и оригинальный вид: крестов почти нет, но зато на каждой могиле лежит лопата и стоит кверху дном обыкновенный печной горшок» [Куликовский 1890, с. 53].
Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде 217
Переворачивание иосуды е появлением покойника в семье известно и у сербов, однако оно происходит только в доме, а не на кладбище. Так, в центральной Шумадии, в Груже, в предсмертные минуты зажигается свеча и ставится в изголовье умирающего, а тотчас после кончины руки покойника перекрещиваются на груди, свеча ставится между пальцами и одновременно переворачиваются все зеркала, корыта, ведра (казаны), и ими не пользуются до конца похорон [Петровий 1948, с. 286]. А в северо-западной Сербии в р-не г. Шабац посуда, из которой брали воду для омовения покойника, должна быть перевернута и оставаться перевернутой до следующего дня [Милийевий 1894, с. 342|.
В наше время у славян, вероятно, только в сербской среде, и то достаточно архаической, сохранился кое-где (Босния, Поморавье) обычай носить в виде траура вывороченную верхнюю одежду. Так, в центральной Боснии в Високской Нахии женщины в трауре носили все черное — вывороченную верхнюю одежду, чаще всего «джечерму» (безрукавку), но на голове имели белый «чембер» (повойник) под черным платком, а мужчины — вывернугые наизнанку «джема дан» (куртку) или «гуневицу» (кафтан) [Филиповий 1949, с. 75]. В соседней восточно-боснийской зоне в горном р-не Гласинац, соблюдая траур, мужчины не брились сорок дней и ходили в вывернутых «гунях» (кафтанах) и «джемаданах», а женщины те же сорок дней — в вывернутом «зубуне» (безрукавке) с распущенными волосами, покрытыми черным платком [Филиповий 1955, с. 130]. В восточной Сербии в Лесковацкой Мораве (сс. Мала Копашница, Накривня и Чукленик) до недавнего времени в знак траура женщины носили вывернутые наизнанку ««антерии» (полукафтаны) и «елеки» (безрукавки), а мужчины — вывернутые шапки [Ъор1)евий Д. 1958, с. 508]. Известный немецкий этнограф Э. Шневайе, указывая, что у сербов бытовал обычай выворачивать наизнанку одежду в знак траура, замечает, что это делается, ««чтобы не было видно золотой мишуры и канители и деталей верхней одежды красного цвета» [Шнева]с 1929, е. 268]. Трудно определить, принадлежит ли это заключение самому Э. Шневайсу или он его слышал от информатора, во всяком случае, даже если он получил такое объяснение из уст народных, то оно вторично и второстепенно.
Нарушить покой погребенного в земле покойника считалось всегда великим грехом, и исключение составляли те случаи и те зоны, в которых бытовал обряд вторичного погребения. Однако в отношении зарытых в могилу колдунов, ведьм и вурдалаков была другая норма поведения: если они начинали ««ходить» и беспокоить разными способами своих близких и односельчан, с ними поступали довольно решительно: помимо других действий
218
HJ. Символика предметов и действий
переворачивали в земле (в гробу) со спины ничком. Сербский этнограф М. Филипович свидетельствует, что в зоне Нового Назара (юго-западная Сербия) «вештицей» (ведьмой) считали старую седую с длинными патлами женщину, долго живущую (что считалось признаком ведовства). Если такая женщина яв тялась людям после своей смерти, па ее могилу забивали кол из боярышника. Если же это не помогало, раскапывали могилу в глухую пору ночи (глуво доба — после полуночи до первых петухов) и переворачивали труп со спины на живот [Филиповий 1967, с. 202]. Лицом вниз хоронили колдунов в Полесье (собств. запись). Нам известно большое число подобных примеров, из коих некоторые засвидетельствованы сербской художественной литературой (Милованом Глишичем). Таким образом, переворачивание нечистого покойника играет уже особую и иную, чем в других описанных выше случаях, — апотропеическую роль. Впрочем, едва ли можно отрицать наличие подобной функциональной направленности и во веех вышеприведенных случаях, ибо всякое содействие покойнику в его пути па «тот свет» есть в то же время известная «гарантия», что он не задержится на «этом свете».
Чисто апотропеическую цель преследует белорусский ритуал, записанный в середине XIX в. на Витебщине (с. Вымпо) И. Я. Иикифоровским, направленный на то, чтобы отогнать нежелательного спутника-ж 1вотное. Согласно записи, «когда вслед за путником „увяжитца" какое-нибудь домашнее животное, например, собака, лошадь, овца, — и нет возможности отогнать его и воротить назад, что грозит опасностью и путнику, и животному, чтобы последнее ушло и унесло прочь намеченное злоключение, пут-пик должен махать на неотвязчивое животное вывороченным шчатьем шли шапкой, а затем, одев их в вывороченном виде, продолжать путь» [Ники-форовский 1897, с. 122]. Неотвязчивое домашнее животное довольно очевидно, в соответствии с представлениями белорусских крестьян в XIX в., могло восприниматься как проявление или даже воплощение нечистой силы, а выворачивание одежды — как способ ее отгона, как воздействие, под влиянием которого и сама нечиетая сила должна вернуться в свой первоначальный облик. Такое предположение подтверждается фактами из сербского этнокультурного региона. В северо-восточной Сербии, в Хомолье, по свидетельству С. Милославлевича (начало XX в.), «многие люди, когда им нужно ночью куда-нибудь пойти, выворачивают шапку, „гупь“ (кафтан) или иную одежду, потому что вампир на вывороченное не идет. И в дом»', в который ходит вампир, вечером переворачивают горшки, миски, ведра и медные казаны и другую посуду» [Милосавл»евий 1913, с. 298]. Параллель с погребальным обрядом и с трауром очевидна и не требует особых объяс
Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде 219
нении. Приведем одну быличку из западной Сербии (зона Ужиц и Поже-ги), в которой одновременно «действуют» ходячий покойник и покойник, еще не погребенный.
Жили дед и баба в большом согласии и любви. При жизни они обещали друг другу, что если из них кто-то умрет, то оставшийся в живых будет часто ходить на могилу умершего. Но баба не сдержала слова и ни разу не навестила могилу деда. Однажды ночью дед приехал домой верхом на коне и повез бабу на кладбище. Когда они прискакали к могильной яме. баба попросила деда, чтобы он спустился в нее первым, а она бы пошла за ним следом. Как только дед спустился, баба его быстро засыпала землей и еще быстрее побежала к себе домой. По дороге, пока бежала в кромешной тьме, баба наткнулась на какой-то дом, в котором горел свет. Войдя в дом и заперев за собою дверь, она увидела, что на столе лежит мертвец. Тут вновь прискакал на коне дед, стал стучаться в дверь и просить покойника встать и открыть ему дверь. Покойник не мог встать, потому что баба все в доме перевернула вверх дном. Все же какую-то вещь она забыла перевернуть, и мертвец встал и открыл дверь. Так дед увел бабу в свой вечный дом [Костий 1948, с. 308].
Однако переворачивание некстати, вне ритуала, как и переворачивание хлеба, может привести к беде. Так, по верованию сербов из южной Шумадии (зона Левач и Темнич), если малый ребенок после еды переворачивает миску, либо кладет ее на голову или под нога, этот ребенок будет несчастным или его действия предсказывают нищету [Мщ’атовий 1909, с. 398]. Иное дело переворачивание в поминальные дни, когда за стол приглашаются «родители»-покойники. Так, в Полесье на «деды», чтобы угостить покойников, садились на лавках на некотором расстоянии друг от друга, «чтобы могли сесть и родители», и клали ложку обязательно перевернутой, т. е. тыльной частью кверху: тогда «в это время деды едят»; если же положишь ложку, как обычно, — умрешь (с. Спорово Березовского р-на Брестской обл.) [Седакова О. 1983а]. В Полесье в селе Чудель Ровенской обл. во время ужина с «дедами» переворачивали не только ложки, но и пироги и скатерть ([Архив полесский] — с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл.). Как видно, в поминальный день переворачивание пирога было ритуально и потому уместно, в иной же день оно навлекало смерть или, как полагали поляки в Мазовии, с перевернутым хлебом хозяйство в доме «перевернется» и пойдет на убыль [Kolberg, 42, s. 400].
220
III. Символика предметов и действий
Что же касается переворачивания одежды, то по славянским народным верованиям, оно помогает не только от нежелатс ты гы.' провожатых — до машних животных, но и в тех случаях, когда человек заблудился в лесу. 11а Русском Севере на Пинеге полагают, что, «если заблудишься, одежду выво роти — и выйдешь», или: «заблудишься в лесу, поворотить надо стельки, штоб выйти» ([Симина 1987] — сс. Киглохта и Немнюга). В этих верова ниях также незримо присутствует нечистая сила и прежде всего леший, ко торый способен «завести» человека в лесу и «водить» его по беспутью.
Переворачивание и выворачивание одежды использовалось при лечении детских болезней и недугов. Так, на Витебщине, когда у ребенка заболевал живот от сглаза (суроцыв), на него надевали вывернутую наизнанку рубашечку (кошулъку), а на голову вывороченную шапку и в таком виде переносили задом через дорогу' три раза. Затем при входе в дом брали ведро (коновку), в котором находилась вода из трех различных мест (источников), обносили ведро вокрут ребенка и выливали воду под порог трех различных дверей. «Ночницы» (детскую ночную бессонницу или беспокойный сон с криками) на той же Витебщине лечили тем, что клали ребенка в колыбели ножками «в головашки», надевали на него вывернутую рубашечку рукавами на ножки, днем занавешивали окна и создавали полумрак, а ночью старались создать усиленное освещение [Никифоров ский 1897, с. 36, 38|. В Польше в Мазовии больного ребенка, страдаю щего сухоткой (suchoty), просовывали через дужки двух ведер и под столом, а затем стол и ведра переворачивали; в Мазурах же и в Пруссии в первой половине XIX в., чтобы изгнать из ребенка «ангельскую болезнь» (рахит), ставили стул и два ведра по сторонам и клали ребенка под дужкой второго ведра, затем переворачивали стул (табуретку) и оба ведра [Biegeleisen 1927, s. 334].
Нетрудно заметить, что в описанных выше ритуалах переворачивание и выворачивание одежды совершается в ряду других обратных действий, таких, как перенесение задом, положение головы на место ног, надевание рукавов на нога и т. п. В качестве еще одного подобного действия можно привести зажигание свечи на обидчика. Это действие-ритуал зафик сировано у pyccKirx и украинцев. Так, в ярославских краях «свеча за обидя-щего» ставилась чаще всего перед царскими вратами, т. е. перед иконой Тайной вечери во время службы и притом «вверх пятой», а торчащим фи тилем в подсвечник [Костоловский 1903]. В саратовских краях такая свеча называется «забидящей» и ставится она «забидящему Богу» во время молебна верхом вниз, чтобы оградить молящегося в напастях и тяжбах и что бы врага молящегося поклонились ему и не могли сделать ему зла [Зеле
Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде
221
нин 3, с. 1274]. На Харьковщине в Купянском у. был обычай служить мо-леб< н св. Иоанну Воину7, чтобы отыскать «уворованную» вещь или хотя бы отомстить вору. При этом перед иконой этого святого ставилась свеча нижним концом вверх и зажигалась с этого конца. Полагали при этом, что по ка горит свеча, вор должен испытывать страшные мучения и возвратить украденную вещь, если она у него [Иванов II. 1907, с. 166]. У сербов в зоне Лесковацкой Моравы для того, чтобы проклясть вора, зажигают свечу «наоборот». Такая свеча, обращенная фитилем вниз, называется клетвена свейа и зажигается в церкви, иногда трижды [Ъор])евий Д. 1958, с. 124].
Естественно, что приведенными примерами не ограничиваются случаи переворачивания, бытующие в славянской народной традиции. Известны примеры переворачивания в родинном (чтобы дальше не рожда лись девочки) и в свадебном обряде (чтобы обезвредить колдуна) и т. д. Нами приведены некоторые ритуалы переворачивания вне погребального обряда, чтобы показать, в каком ряду находятся переворачивания, связанные со смертью человека.
Вообще переворачивание предмета (тела) есть действие, включающееся в более широкую семантическую и семиотическую сферу действий преобразования, превращения, метаморфозы, принятия иного обличья, перехода из одного состояния в другое, наконец, в сферу общения «этого света» с «тем светом». Переворачивание предмета с чисто внешней, ритуальной стороны, впрочем, как и со стороны внутренней, смысловой, тесно связано с большим крутом обрядовых актов, известных под названием rites de passage. Переворачивание предметов в этом ряду или в этом диапазоне имеет исключительное значение и особенно интересно потому, что предметы сами по себе совершенно конкретны и материальны и имеют, каждый в отдельности, свое бытовое и мифологическое применение и осмысление независимо от функции и семантики переворачивания и помимо ее. В переворачивании предмета наблюдается как бы простейший случай символизации предмета и конкретного, притом единственного, физического действия, равно как и простейший вид «преобразования» предмета, его перехода в иное физическое положение и тем самым и состояние. В отличие от ряда семантически близких переходных или преобразующих ритуалов и акций, например, некоторых звеньев или блоков родинной, свадебной и похоронной обрядности, имеющих эволюционный характер и состоящих из определенной последовательности действий, переворачивание предметов представляет собой действие однократное, обычно моментальное, в результате которого смена лишь одного признака на противоположный (пр я мой — перевернутый) происходит при сохранении всех остальных призна
222
HL Символика предметов и действий
ков и свойств, характеризующих ритуальный предмет или лицо в ритуаль ной ситуации — его физическую сущность, место, отнощение к другим предметам или лицам и т. п. (ср. иное положение при сжигании, бросании, разрывании, съедании, раздевании, обливании предмета или лица). Этой единственной смены признака достаточно для того, чтобы вся семантика ритуала была полностью выражена.
Переворачивание предметов, характерное для погребального обряда многих славянских зон, фиксируется и в других обрядах, в том числе и окказиональных — в обрядах защиты от града [Толстые 1981а, с. 79] и в ритуалах, связанных с лечением ребенка. Переворачивание предмета при этом может выступать как отдельный микрообряд без широкого обрядового контекста или вне его. Число предметов, которые переворачиваются (или выворачиваются), невелико, это: при погребении — сани, телега, детская колыбель, ведро, котел, корыто, стол, стул (табуретка); при лечении ребенка — ведро, стол, стул; при отгоне градовой тучи или какой-либо напасти — треножник, трапезный столик, миска, котел, сани, сошник, ярмо; при защите от вампира — ведро, котел, посуда, одежда; для наказания вора, обидчика — свеча и т. д. Эго число можно было бы увеличить, но незна чительно, что говорит о его ритуально заданной ограниченности
Переворачивание посуды следует рассматривать в одном ряду с риту альным битьем посуды в похоронном и свадебном обряде и с обычаем выливать всю воду из сосудов сразу же после кончины одного из членов семейства. Выворачивание одежды в знак траура непосредственно связано с выворачиванием шуб святочных и иных ряженых, демонстрирующих, видимо, представителей хтонического мира, и опосредованно — с сажанием молодых на вывороченную шубу в свадебном обряде.
Отметим в заключение, что корреляция прямой — перевернутый входит в одну цепь корреляций с такими парами, как живой — мерт вый, правый — левый, мужской — женский, хороший — плохой и т. д. Характер семантико-мифологической связи таких коррелятивных пар исследован мною на сербском материале в другой работе [Толстой 1987 — наст, изд., с. 151—166].
Первая публикация:
И. И. Толстой. Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде Ц Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990, с. 119—128.
*Жизни магический круг
•ш*
/Питийный жанр, пришедший к славянам из Византии и получивший столь яркое развитие в средневековой славянской книжности и изобра зителыюм искусстве (ср. иконы с житийными клеймами), своими идеи иыми устремлениями и своей формой ориентирован на сакральный евангельский первообразец и на главную идею самого христианства как религиозного переживания земной жизни Христа. Но сакрализация жизненного пути, замыкающегося в круг и смыкающего рождение и смерть, является и одной из важнейших составляющих мифологического сознания и в такой же степени принадлежит устной народной традиции, будучи одним из про явлений универсального первобытного антропоморфизма. В народной культуре (обрядности, верованиях, фольклоре) модель человеческой жизни накладывается па материю приро (ы, всего окружающего мира, сак рализуя и годовой крут времени (мифология календаря), и вегетативный цикл («житие» культурных растений) и производственную деятельность человека (ткачество, гончарство и т. и.), преобразующую природу в культуру. Во многих конкретных текстах эти два начала (книжное' и народное) взаимодействуют друг с другом, порождая сложные в семап тическом и формальном слтюшении структуры. Одним из ярких приме ров книжного влияния на фольклор могут служить фольклорные «житийные» тексты, акцентирующие мотив мук и страданий, часто имеющие сниженную, почти пародийную церковнославянскую форму, ср. русскую ярославскую загадку о глиняном горшке: «Взят от земли, яко же Адам, ввержеп в пещь огненную, яко три отрока; взят от пещи и возложен на колесницу, яко Илия; везен бысть па торжище, яко же Иосиф; ставлен на лобное место и биен по главе, яко же* Иисус; возопи велиим гласом, и на глас его приде некая жена, яко же Мария Магда липа, и купивши сто за медницу, принесе домой, но расплакался по сво
224
III. Символика предметов и действий
ей матери, умре, и доныне его кости лежат не погребены» [Садовников 1959, с. 63—65] С другой стороны, такой книжный текст, как «Житие протопопа Аввакума», во многом обнаруживает следы народной мифо логии и фольклорного восприятия человеческой жизни.
Смысловая структура «Жития» протопопа Аввакума, писанного «его грешною рукою», достаточно проста и отчетлива. На жизненную канву, своеобразное редкое полотно, от рождения «в нижегороцких пределах за Кудмою рекою, в селе Григорове» до ссылки в Пустозерье, наложены от дельные клейма-сцены и события из жизни непримиримого ревнителя «по Христе». Если разбить жизнеописание Аввакума на отдельные эпизоды, ко торых окажется менее тридцати, то вся автобиография Аввакума уподобится нити четок, перебираемых се автором. Четки эти трех окрасок — трех смыслов: а) превратности судьбы (искушения, смертные болезни, вы сылки, странствия, прения о вере с церковными иерархами, исцеления изгнание бесов), б) страдания и мучения, испытываемые автором, и в) чудеса, происходящие с автором и его приближенными. Так, в первой части жития, следующей за «приступом» и доводящей до сибирской ссылки *, да ется восемь отдельных эпизодов. В первом очень кратко повествуется о рождении автора, смерти отца, женитьбе, смерти матери, о поставлении в попы, поставлении в протопопы; во втором — об искушении на исповеди девы-блудницы (прообраз сюжета «Отца Сергия» Л. И. Толстого): в третьем — о смертной болезни, в четвертом — о рассвирепевшем на автора начальнике, в пятом — о гневе и раздражении боярина Шереметева, в ше «том — о другом рассвирепевшем начальнике, в седьмом — о переезде в Юрьевец Повольской, где автор испытал ярость толпы, и в восьмом — об аресте и заключении в Андроньев монастырь. Эпизоды со ("градациями и мучениями автора занимают едва ли не основное место во всем житии Так, в Сибири Аввакума бьют кнутом, затем сажают в тюрьму Братского острога, на Руси снова содержат в тюрьмах, в Пустозерске держат в око вах, казнят и мучают вместе с попом Лазарем и духовными сыновьями. Особый интерес представляют чудеса, происходившие с Аввакумом. Их немного, но они весьма показательны. Во-первых, это чудо на вдмерзшем озере в Даурии, когда Аввакума затомила жажда, и лед расступился, появилась «пролубка», Аввакум напился, и лед снова сошелся. Во-вторых, это чудесное предсказание ангела о возвращении всей семьи Аввакума на Русь
1 Издатели «Жития протопопа Аввакума им самим написанного» (Аввакум 19(10] разделяют весь текст жития на шесть частей: Приступ, Первые испытания, Ссылка в Си бирь, Возвращение на Русь, В Москве и монастырях Пустозерская ссылка.
Жизни магический круг
225
и о необходимости держать для этого правило. В третьих и четвертых, на конец это чудеса е отсеченной рукой попа Лазаря, которая сама сложила персты по старообрядческому «преданию», и с языком того же попа Лазаря, который был отсечен, азатем «в три дни вырос совершенной».
Аввакумовское «Житие» справедливо считали из ряда воп выходящим литературным памятником. Его автобиографичность, настойчивое внимание к бытовым деталям и бытовым ситуациям, полемическая направленность против никониан, нетерпимость к церковным иерархам побуждали многих относиться к сочинению Аввакума как к произведению, порывающему с традицией житийного жанра, как к своего рода антижитию не только по своему содержанию, но и по форме; говорили об Аввакуме даже как о предтече русских писателей романистов. Действительно, у ?\ввакума мало смирения — обязательного атрибута святости и житийного благочестия. Небольшой заключительный пассус всего «Жития»: «А я ничто ж есть... Аз есмь грешник, блудник и хищник, тать и убийца, друг мытарям и грешникам и всякому человеку лицемер окаянной» — не более чем общее место или почти обязательная формула в конце повествования. Аввакум много места уделяет обличению, вернее осуждению или просто порицанию и брани своих противников и преследователей. Он не скупится на краски, живописуя насилие над ним и его духовными братьями, сыновьями и дочерьми, «нужды великия», «отступ ническую блудню» власть имущих духовных и светских лиц, он «бранится с отступниками», он «отрицается от них, что от бесов, а они лезут в глаза». Он борется с ними и бунтует против них.
Смысловая структура знаменитого сочинения старообрядческого протопопа, отошедшего от канонов книжного житийного жанра, оказалась во многих отношениях родственной фольклорным «житийным» текстам, разрабатывающим мотив «жития» культурных растений, их перевоплощений и страданий, полный крут которых, по народным представлени ям, приобретает магический характер и служит отгонным, апотропеиче-ским средством от различных напастей — мора, чумы, засухи и т. д. Быть может, сам Аввакум считал свое «Житие» таким средством от «никонианской ереси», от «отступников», от «великого антихристова вой ска». Он думал о своем будущем читателе, заключая дополнение к «Житию» словами: «Пускай раб от Христов веселится, чтучи! Как умрем, так и почтет, да помянет пред Богом нас. А мы за чтущих и послушаю щих станем Бога молить...». Тексты, имеющие основным мотивом «житие и страдания культурных растений», встречаются в славянских охранительных обрядах, хороводах, играх, маслешгчных представлениях, в по
226
III. Символика предметов и действий
вествовательных жанрах фольклора, в загадках. В них последовательно перечисляются все этапы роста, созревания, переработки растений, чаще всего льна и конопли (но также и мака, пшеницы, проса, винограда, перца, капусты и др.), излагается или изображается весь их «жизненный путь» от момента сева (или срезания, уборки растений) до получения конечного продукта — рубахи, пояса, полотенца, хлеба, вина и т. д.
Тексты такого рода, имеющие сакральные или магические функции, широко представлены в сербской культурной традиции. Так, по свидетельству известного сербского этнографа С. Трояновича, в с. Разгойне (вост. Сербия, р н г. Лесковац) градовые тучи разгонялись пением пе сен заговоров, описывающих муки и страдания пшеницы. Еще более действенными считались заговоры, повествующие о муках конопли, ибо «нет в мире растения, которое бы претерпевало большие мучения». Сербские крестьяне верили, что Бог, услышав об этих муках (коноплю рвали, мочили, мяли, трепали, ткали, варили и т. д.), сжалится и не обрушит град на землю. Женщина, исполняющая песню-заговор, выходила во двор или на открытое место, обращалась к туче и, глядя на нее, пела песню, пока туча не рассеивалась (TpojaHoenh 1911, с. 114].
В Раховском р-не Закарпатья рассказ об обработке конопли, изго товлении полотна и шитье сорочки служит заговором от болезни «волокно» (опухоль на руке или ноге), он повторяется трижды и сопровожда ется окуриванием больного места подожженной пряжей [Дзендзел1в ський 1969, s. 346, 347].
В восточной Сербии (в округе г. Алексинац) текст о возделывании льна применялся в качестве лечебного заговора от острой боли в груди. Ворожея брала в руки 9 веретен, вертел, нож и лопатку для углей и, размахивая этими предметами над головой больного, произносила:
Посеяла я лен, лен на Видов день Взошел лен, лен на Видов день Пророс лен, лен на Видов день Вырвала я лен, лен на Видов день
и так далее с последовательным перечислением всех действий: замочила, вьггерла, вымяла, ободрала, расчесала, намотала куделю, выпряла, смотала, сшила рубаху, надела рубаху, проводили в армию, отняли — не вернулись. Завершался заговор типичными для этого жанра «отгонными» словами: «Остановись, прекрати! Тебе здесь места нет! Иди в зеленый лес!», адресованными болезни [Антонщевий 1971, с. 248, 249].
Жизни магический круг
227
На других славянских территориях песня о житии льна известна не как отгонное заклинание или заговор от болезни, а как календарная обрядовая песня. Так, в северной Хорватии она исполнялась летом, в Иванов день, а в Закарпатье она известна как веснянка (Дзендзел)вський 1969, с. 347]. Подобная ей русская хороводная песня «Уж я сеяла, сеяла ленок» известна во многих записях, относящихся к разным великорусским зонам. По свидетельству П. В. Шейна, «участвующие, преимущественно девушки, стано вятся в круг. В середину его выступает одна, и под пение хоровода... начи нает плясать и выражать пантомимой все те приемы обработки льна, о которых говорится в песне» [Шейн 1898, с. 81, 82]. Близкие к русским версии песни и хоровода отмечены в украинском Полесье [Танцювалып шею 1970, с. 457, 458; Украшсью танц! 1962, с. 161], на Витебщине [Народны театр 1983, с. 126, 127]; зафиксирована эта песня и в детской игре, состоящей в том, что поющие дети подражают упоминаемым в песне дей ствиям, т. е. «сеют, полют, дергают, стелют, мочат, сушат, мнут, трс-пят, чешут, ткут» и т. д. [Покровский 1887, е. 187].
В России и на Украине известна аналогичная народная игра «Мак». В ней вокруг одного молчаливо сидящего игрока движется хор с песней, повествующей о «житии» мака от сева до созревания [Шейн 1898, с. 48; Покровский 1887, с. 188; Лисенко М. 1875, с. 6; Довженок 1990, с. 7, 8].
В южнославянской традиции тексты с мотивом Vita herbae также не ограничиваются льном и коноплей. В Черногории и Македонии популярны танцы с песней о перце, сопровождаемой имитацией всех работ по выращиванию перца: танцующие женщины «волочат, боронят, соби рают, несут, обмолачивают, мелют, пекут, едят» перец [ДучиЬ 1931, с. 372]. В Македонии аналогичный танец исполняется мужчинами [Та новиЬ 1955-1957, с. 286, 287].
К текстам типа Vita herbae относится и широко распространенная хороводная песня «А мы просо сеяли», бытующая в русском ареале и как детская игра. Песня исполняется двумя партиями девушек, стоящих в двух прямых линиях друг против друга на небольшом расстоянии. Каждая партия, передвигаясь всей своей линией к противостоящей, поет по одному стиху песни с припевом и возвращается на свое место.
Полный текст песни, опубликованный П. В. Шейном [Шейн 1898, е. 78, 79], четко делится на две части. В первой последовательно излагаются все действия, характерные для подсечного земледелия: расчистка пашни от леса, распахивание поля, сеяние и, вероятно, молотьба («а мы просо вытопчем») при помощи коней. Вторая часть представляет собой диалог, спор и соперничество двух сторон, завершающиеся выдачей х*-
228
III. Символика предметов и действий
девицы невесты. Н. Н. Тихоницкая, анализировавшая эту песню более чем полвека тому назад, пришла к выводу, что песня «является частью весенних обрядов», и первая ее часть — «пережиток обрядового магического воспроизведения земледельческих работ, начиная с «сечи» (подсеки) и кончая молотьбой», а вторая «отражает обычай отдавать девушек в качестве выкупа за нарушение норм обычного права» [Тихоницкая 1938, с. 166]. Большинство сохранившихся вариантов песни «Просо се яли» имеют сильно редуцированную первую часть, ограничиващуюся нередко одним или двумя стихами: «А мы просо сеяли, сеяли» — «А мы просо вытопчем, вытопчем» (последний был осмыслен не как молотьба, а как уничтожение посевов), но существуют и варианты с преобладаю щей первой частью [Магницкий 1877, с. 107]. Песня «Просо сеяли» бы ла в Вятском крае частью троицких обрядов, в Подмосковье в Дмитров ском крае она исполнялась также на Троицу, у белорусов на Гомелыци не — на пасхальной неделе [Тихоницкая 1938, с. 160; Зернова 1932, с. 28; Радченко 1888, с. XXVII].
Мотив Vita herbae находит отражение и в жанре народного театра линованного действа. На сербской этнической территории, в Шумадии зафиксированы следы масленичного ряжения, называемого «Сеяние ко поили» или «Коноплярица» Игра исполняется одними мужчинами, и «коноплярицу», т. е. женщину, возделывающую коноплю, тоже изобра жает мужчина, держащий в руках палку, к которой привязана кудель. Ведущий игрок — хозяин поля — очерчивает крут’, и все изображают об работку конопляного поля' в поле пашут, сеют, а когда конопля подрас тает, «Коноплярица» начинает ее охранять от птиц. «Прохожие» вступа ют в разговор с коноплярицей. Затем они имитируют половой акт с ко ноплярицей. Коноплярица беременеет, затем разрешается от бремени. Присутствующие рассматривают «ребенка» и судят, на кого он похож. Приходит поп и крестит ребенка, а виновника его рождения, на которо го оказывается похож ребенок, осыпают золой [ФилиповиЬ 1972, с. 242]. Отдельные элементы и мотивы этой масленичной игры известны и на других славянских территориях. В определенной мере паралле лью к ней может служить русский эротический танец «Козел», заснятый в конце 20-х годов на кинопленку и кратко описанный В. Н. Всеволод-ским-Гернгроссом на Русском Севере, на Мезени. «Заключается он, — как пишет исследователь, — в воспроизведении русским па под гармонь очень недвусмысленного ухаживания парня за девкой, ограничивающе гося грубым и довольно любовно и разнообразно разработанным военро-изведеш1ем коитуса. Эго приводит нас к мысли о том, что голубец и
Жизни магический круг
229
русский (в его мезенской редакции) представляет собой не более как облагороженную, сокращенную редакцию танца типа „Козла"» [Всево-лодский 1928, е. 246]. Камер-юнкер герцога Голштинского, посетивший Россию при Петре 1, описал в своем дневнике пляску, проливающую свет на эротическое прошлое русского танца «голубец».
Мотив «жития» в славянском фольклоре может быть отнесен и к хлебу как конечному продукту выращивания злаков. Он отражен, в частности, в покутской (Западная Украина) сказке «Черт и хлеб», опубликованной О. Кольбергом. В этой сказке хлеб спасает героя от черта рассказом о тех муках, которые он претерпевает от своего хозяина: хозяин раскидывает его по нолю, боронит железными зубьями, потом хлеб потихоньку вылезает из земли и растет вверх, тогда хозяин берет в руки косу и режет его, и валит на землю, и вяжет в снопы, и складывает в копны, и кладет на воз, и везет домой, и кладет в скирду, а потом зовет гайдамаков, и они бросают хлеб на землю и бьют цепами, а потом веют, отделяют хлеб от его одежды, затем хозяин его сушит, везет на мельницу, размалывает в муку, потом снова везет домой, замачивает в корыте, заквашивает, месит, а затем сажает в раскаленную печь, а когда испечет, тогда уже берет и ест. Услышав рассказ обо всех этих муках хлеба, черт говорит: «Раз такой у тебя хозяин, то я не буду с ним и связываться!» [Kolberg, 32 , s. 171—173, сказка Ао 32].
В Полесье рассказ о муках хлеба встречается в другом сказочном сюжете. Волк встречает в лесу человека, едящего хлеб, и спрашивает его, откуда берется хлеб, и, услышав всю печальную повесть хлеба, решает, что лучше ему бегать по лесу голодным [Архив полесский, Тхо рин, Житомирская обл.]. «Повесть хлеба» оказывается действенным средством отгона нечистой силы, благодаря содержащемуся в ней сквозному мотиву претерпеваемых хлебом мук, подобно тому как другой повествовательный мотив — мотив чуда — используется как эффективное орудие отгона градовой тучи [Толстые 1981а, с. 58, 62, 73] и защиты от ходячих покойников. Некоторые имеющиеся, к сожалению, Ьтрывоч-ные записи подобного рода позволяют предположить, что «повесть хлеба» служила оберегом при встрече человека с волком. При этом магические свойства ей придавал не столько мотив мук, а мотив «спрессован ного» в рассказе времени: известно поверие, что волк и нечистая сила не тронут человека, пока он не прерываясь говорит. Подробный рассказ о всех стадиях возделывания и обработки растений как раз и мог служить средством «растяжения» времени, ср. лужицкое поверие о том, что при встрече с полудницей можно спастись от нее длинным рассказом о
230
III. Символика предметов и действий
возделывании льна или других растений, а также гуцульскую быличку о страннике, спасшемся от упырицы рассказом о выращивании капусты и других огородных работах [Зеленин 1934а, с. 227, 228J.
В старосербской рукописной традиции (списки XVI—XVII вв.) известен текст, озаглавленный «Повесть о цароу Гдоунпо, и како оеоуди блаженага Гроздга и прЪдаде его на моучеше» или «Блаженыпи Грозд1е, о шсоужденш его» и опубликованный Дж. Даничичем под названием «Мука блаженога Грозди]а» («Страдания блаженного винограда») [Даничий 1975]. Текст представляет собой басню, в которой юмористически изображается суд садовых и огородных растений во главе с царем Айвой над Виноградом. За клевету на брата Абрикоса, якобы желавшего убить Виноград и отсечь ему мечом голову, блаженный Виноград осуждается на муки: да будет повешен он на кривом дереве, да будет он отрезан ножом от лозы, пусть носят его корзинами на топтание и пусть топчут его сильно ногами, и кровь его пусть будет заключена в холодном подвале, и пусть он станет вином и веселит сердца, пусть его немилосердно пьют, потому что он был по отношению ко всем неправедник и клеветник. А те, кто выпьет его, пусть лишатся ума и от стены к стене пусть шатаются и валяются в грязи, на мусор ной куче и пути своего не знают. Мотив мук винограда, таким образом, используется здесь с нравоучительными целями поучения против пьян ства. Близкий к этому устный текст слышал один из авторов этой статьи в болгарском селе Парканы на Днестре от старика дядо Афанасия. Виноград говорит человеку: «Ты меня гнетешь, давишь, топчешь, кровь мою проливаешь, собираешь, запираешь меня в бочку, но когда я выйду из нее и войду в тебя, тогда я тебя бросаю на землю, швыряю из стороны в сторону, кидаю в грязь и властвую над тобой».
Еще один фольклорный жанр, в котором разрабатывается мотив «жизненных мук», — загадки. Таковы, например, загадки о льне: «Топили, сушили, колотили, рвали, крутили, ткали, на стол клали» или: «Били меня, колотили меня, все чины производили и на престол с царем посадили» ([Митрофанова 1968, с. 35] — сев. рус.). Еще многочисленнее и разнооб разнее уже упоминавшиеся загадки о глиняном горшке: «Был я копан, был я топтан, был я на пожаре, был я на кружале, сто голов кормил. Сделался стар — пеленаться стал; выбросили за окно и собакам не надобно» ([Садов ников 1959, с. 61—63] — вологодск.). Сходные загадки есть и в украинском, и в белорусском фольклоре [Березовський 1962, с. 191, 192; Шейн 1893, с. 488, 489; Загадю 1972, с. 286].
Магия завершенного жизненного цикла, «жития» растений и вещей лежит в основе не только рассмотренных мотивов словесного фольклора,
Жизни магический круг
231
но и целого ряда ритуальных действий и обрядов. К ним в первую очередь относится изготовление обыденных предметов — рубахи, полотенца, крестов и церквей.
Обряд магического «рождения» рубахи исполнялся для защиты от мора, эпидемии, войны. Еще в конце прошлого века он был описан С. Троянови-чем. В восточной Сербии, в округе г. Пирота, как только становилось известным, что будет война, собирались в полночь девять старух и до утренней зари в полном молчании ткали полотно и шили из него одну рубаху, через которую должны были пролезть все, кто шел на войну. Эго должно было защитить от смерти [Тро)ановий 1930, с. 101]. У сербов в р-не Военной Границы (Хорватия) уходящему на фронт изготовляли рубаху девять вдов, успевавшие за одну ночь выпрясть нитки, выткать холст, скроить и сшить рубаху, которую воин должен был носить на голом теле и не снимать до возвращения домой [Беговий 1887, с. 226]. Обыденные рубахи изготовлялись и в случае эпидемии чумы и назывались чумными. В р-не Призрена (Косово и Метохия) сербы считали, что спастись от чумы можно, если близнецы с похожими «останавливающими» именами (например, Стоян и Стоянка) за одну ночь выпрядут нити и выткут из них полотно [Филиповий 1967, с. 72].
На обыденные полотенца еще в начале нашего века обратил внимание Д. К. Зеленин, собравший коллекцию из 15 описаний обряда, относящихся к белорусской этнической зоне (одна запись сделана в Орловской губ.). Обыденные полотенца ткали для .защиты от эпидемий, эпизоотий, иногда от засухи, града. Вытканное за одну ночь полотенце обносили вокрут села, прогоняли под ним или через него скот, после чего его часто сжигали, иног да сжигали также и все использованные в обряде орудия прядения и тканья. Чаще же полотенце жертвовали церкви, вешали на кресты, на иконы и т. п. В западном Полесье (Кобринскийу.) одновременно с обыденным рушником, который ткали женщины, мужчины делали обыденный деревянный крест, ставили его на дороге, и на крест вешали рушник [Зеленин 1911, с. 2—5]. Па Черниговщине собирали по хатам нитки, ткали из них за одну ночь полотенце, через которое за селом утром прогоняли весь скот, затем служили молебен и сжигали полотенце [Гринченко 1895, с. 37, 38], В Полесье на Гомельщине обыденный рушник пряли и ткали на улице и затем вешали на криницу, чтобы вызвать дождь во время засухи. Одновременно колотили воду в кринице палками [Гура и др. 1983, с. 131].
Па великорусской этнической территории, в древней Новгородской и Московской Руси, был известен обычай в случае мора строить обыден ные церкви. Сведения о них появляются уже в XIV в. Новгородская
232
Ill. Символика предметов и действий
четвертая летопись сообщает, что в 1390 году «бысть моръ в Нов'Ьгоро дЬ железою; а месяца октября въ 12 въ среду крестьяне поставиша цер ковь, въ едино утро, изъ л+>са привозивъ берьвна... и свящалъ владыка Иванъ того же утра» [Зеленин 1911, с. 17 — со ссылкой на Новгород скую четвертую лет., с. 97].
Как и при тканье обыденных рушников, здесь именно полнота и за вершенность всего технологического процесса, его «спрессован ность» во времени сообщала продуктам труда необходимую сакральность и магическую силу. Изготовление полотна начиналось с сучения ниток и кои чалось тканьем (или шитьем рубахи), а строительство храма — с рубки деревьев в лесу и кончалось освящением церкви и службой. Соблюди лиеь также и другие условия «сакрализации» самого обряда и производимого ритуального предмета: обыденные холсты и рубахи изготовлялись «чистыми», непорочными девушками или старухами, вдовами, их должно было быть три или девять, они трудились ночью, до первых петухов, иногда им предписывалось молчание, нагота и т. п.
К обрядам «житийного» жанра может быть отнесен и украинский масленичный обряд «Колодий», или «колодка». Колодий, представлявший собой полено или палку, «проживал свою жизнь» за неделю. На Черниговщи не женщины праздновали Колодку всю масленую неделю: в понедельник они собирались в корчме, пеленали полено в холст, что означало, что Ко лодка родилась. Потом пили вино, поздравляли друг друга с рождением Ко лодки и расходились по ломам, оставляя Колодку в корчме. Во вторник Ко лодка крестилась, в среду' происходили «покрестьбины», в четверг она уми рала, в пятницу ее хоронили, в воскресенье* Колодку «волочили», т. е. жен щииы привязывали ее парубкам и девушкам к ноге [Чубинский 1872. с. 78; Соколова 1979, с. 50]. Пеленание Колодки перекликается с обрядом пеленания бадняка в некотрых сербских зонах [Толстой 19836, с. 47; наст, изд., с. 145[. а приуроченность обряда «колодка» к масленице сближает его с описанной выше сербской игрой «коноплярица».
Элементы «житийного» жанра присутствуют и в некоторых восточно славянских обрядах, разыгрывающих «похороны» обрядового чучела, животного или символического предмета («похороны» кукушки, Масле ницы. Зимы, стрелы, Сулы и т. п.). Так, в русском осеннем обряде, исполняемом в день Кузьмы и Демьяна, хоронят соломенного Кузьку, но перед этим Кузька должен «прожить» целую жизнь: он «рождается», его крестят, женят, он умирает. Подобную сакрализацию полного, завер шейного жизненного цикла можно видеть и в хороню сохраняющемся у всех славян обычае сочетать в обряде похорон незамужних и неженатых
Жизни магический круг
233
молодых людей ритуал погребения с ритуалом свадьбы (ср. погребение в свадебной одежде, изготовление свадебного деревца, участие «дружки» в похоронной процессии и т. п.), т. е. восполнять пропущенные звенья жизненной цепи. И наоборот, неполнота жизненного цикла, неизжитость «своего века» считается источником и причиной различных стихийных бедствий и невзгод для всего социума.
Еще одним примером ритуала, основанного на магии «компрессии» жизненного, вегетативного и производственного времени, может служить обычай проращивания злаков перед одним из крупных годовых праздников — Рождеством, Пасхой (так называемые «сады Адониса»). Этот обычай широко распространен в северо-западной части южнославянской этнической территории [Etnoloski atlas, карта 8.321] и спора дически встречается в других районах славянского мира. Чаще всего он приурочен к Рождеству: в один из дней начала адвента, например в день св. Варвары, высаживают в миске зерна пшеницы, овса или других злаков, и по тому, как они взойдут и поднимутся к Рождеству, предсказывают будущий урожай. В этом обряде превентивно и в сжатый срок «проигрывается» весь процесс возделывания поля — с целью обеспечить плодородие в грядущем земледельческом году.
Рассмотренные в статье примеры вербальных (фольклорных) и ак циональных (обрядовых) текстов, воплощающих мотив «жития», спрессованной жизни человека, растений и вещей, конечно, не исчерпывают всей сферы его проявлений в традиционной народной культуре. В при веденных текстах, относящихся к разным жанрам, в разной степени вы ражена (или сохранена) магия жизненного круга, его полноты и завершенности, его сжатого воспроизведения в ритуально ограниченный отре зок времени. В большинстве случаев древность и независимость парод ных «житийных» текстов от книжно-христианских концептов «жития» очевидна. Но несомненно и то, что в религиозных текстах народные житийные жанры черпают дополнительные возможности сакрализации и магического использования древнего мотива.
Первая публикация:
Н И. и С. М. Толстые. Жизни магический круг Ц Сборник статей к 70-летию Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992, с. 130—141
Сеть (мрежа) (Этнографический комментарий к древним славяно-русским текстам)
1J начале XX в. в связи с возросшим в ту пору интересом к истории русской народной культуры появилось несколько изданий древнерусских текстов или отдельных фрагментов из них, свидетельствующих о давних, дохристианских верованиях и ритуалах, с которыми русская церковь, как правило, вела борьбу, а реже уживалась или примирялась. Среди этих из даний начала XX в. особую ценность имеют книги Е. В. Аничкова, Н. М. Гальковского и В. Мансикки, дающие неплохо систематизирован ный и отчасти синтезированный материал и предлагающие ряд научных наблюдений и гипотез, заслуживающих внимания и в наши дни [Аничков 1914; Гальковский 1916, 1913; Mansikka 1922, 1967]. Однако во многих случаях в этих и в других работах того времени отдельные представления, ритуалы и ритуальные предметы оставались необъясненными, а только упомянутыми. К предметам и символам такого рода относится и сеть (не вод), отмеченная в древнерусских текстах XI и XII вв.
Так, в рукописи XII в., хранящейся в петербургской Публичной биб лиотеке (ныне Российская национальная библиотека) и описанной И. И. Срезневским ', имеется слово «W ведр'к и и> казнь\ъ ежны)СЪ>> в
1 [Срезневский 1866, с- 12]. В «Сообщениях и заметках» под номером XXII дается краткая характеристика памятника, представляющего собой выбор слов из сочинений св. Иоанна Златоустого типа «Златоструя», но сильно отличающегося от выбора, сделанного при участии болгарского царя (князя) Симеона, т. е. от болгарского Златоструя. Памятник, кратко описанный И. И. Срезневским, определен им по почерку и особенностям языка как русский памятник XII в. В нем содержится слово «О) ECAf’t и W КДЗ“ ньух кйчНгаух» с упоминанием почитания сетей. В «Златоструе» А. Ф. Бычкова XI в. интересующие нас слово и цитата не содержатся. Судя по данным языка, бычковский «Зла тоструй» может быть и русского, и болгарского происхождения, так как его малый объем
Сеть (мрежа)
235
котором как бы от лица язычников сказано (л. 127а): ♦пожьр'ймь стоуденьцелгъ и р±кдлгь и гЬтьлгъ да оулоумнлгъ ГфОШЕНША скоы» (Воздадим и поклонимся (совершим ритуал) колодцам и рекам и сетям, чтобы получись то, что мы просим).
В другой, более древней рукописи «XIII слов Григория Богослова» (XI в.), изданной Л. С. Будиловичем* 2, в слове X — «Беседа стаго Григория ’О’ЕОлога о избиении грддд — при перечислении обрядов, не совместимых с христианством (крЕСТьянстколсъ), говорится: «овч> пожьрв НЁВОДОу свовмоу нмшк мьиого» (Иной (этот) воздаст и покло нится (совершит ритуал) неводу своему, много выловившему).
Характерно, что в «Слове о ведре» сеть упоминается в таком ряду, как источник (колодец) — река — сеть, а в «Беседе об избиении града» о почитании невода говорится в ряду с другими ритуалами и верова ниями — вызыванием дождя у источника (колодца), обожествлением рек, присяганием (клятвой) землей (дерном), положенной на голову, и др. О почитании рек и источников имеется достаточное число древних и новых свидетельств, часть которых уже нами анализировалась [Толстые
затрудняет решение этого вопроса [Ильинский 1929]. Что же касается интересующего нас памятника XII в., то о нем Г. А. Ильинский в указанном выше сочинении пишет: «Но одно можно сказать с уверенностью: состав симеоновского Златоструя не мог совпадать с той редакцией Златоструя, древнейшим представителем которой считается знаменитый Златост -руй ХИ в. Российской Публичной Библиотеки. Это вполне убедительно показал тот же Малинин* [Ильинский 1929, с. 40 41]. Г. А. Ильинский имеет в виду работу Малинина «Исследование о Златоструе*. К сожалению, ни кратко описанный И. И. Срезневским и упоминаемый Г. А. Ильинским русский Златоструй XII в., ни греческие параллели к нему не из даны, что затрудняет решение вопроса о зависимости русского текста от греческого или о его относительной автономности, как это наблюдается в другом памятнике — в «Х111 словах Григория Богослова», где как раз в тексте, посвященном языческим обрядам, есть русская вставка, отсутствующая в греческом тексте (см. сноску 2). Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что слово сгътъ, так же как и слово неводъ, ~ слова русские; в южнославянских языках им соответствует слово мрежа (mreza, mrijeza).
2 [Будилович 1875, с. 243]. Этому тексту в качестве соответствующего ему и, вероятно, исходного А. С. Будилович приводит греческую фразу 6 6е ЙИиге xrj еслихго o'ayrjvrj по А. Ха (гитауо-исгт]. Вслед за этим славянским (русским) переводчиком дается большая вставка с описанием различных языческих треб и Богу неугодных дел (поклонение Дыю, граду, ложная присяга у мощей и др.), которая отсутствует в греческом тексте, так что отрывок о поклонении неводу, принесшему много рыбы, органически сливается с чисто славянским текстом. Почитание и ритуальное использование сетей, вероятно, можно считать общим греческо-славянским обычаем. Во всяком случае, разбираемый пример В. Мансикка привел в своей коллекции источников [Mansikka 1922, s. 108].
236
III. Символика предметов и действий
1981]. Что же каеается сети (невода) и ее ритуального употребления у славян, то этот вопрос до сих пор не рассматривался.
Обратившись к славянской «живой старине», т. е. к еще бытующим или недавно бытовавшим обрядам, можно увидеть, что сеть (невод, вентерь) у восточных славян, у русских часто использовалась в свадебном обряде, а у южных и западных славян, македонцев и кашубов — в обряде погребальном, у хорватов — при масленичном ряжении. Во многих северных русских губерниях (Новгородской, Онежской, Вологодской, Архангельской) жених и невеста перед венцом опоясывались по голому телу поясом из невода, сеткою, снятой с рыбачьих вентерей, или мережкою и так ехали к венцу 3. Аналогичные действия производились и в южных губерниях — Воронежской, Орловской, Саратовской. В г. Павловске Воронежской губ., «провожая жениха с невестою в храм для венчания, сыплют в обувь мак: если злой человек не перечтет всего, то их ему не испортить; тогда же молодых перепоясывают по брюху сеточкою, снятою с рыбачьих вентерей: к перепоясанным так колдун никогда не прикоснется» [Зеленин, 1, с. 366 — запись 1855 г.].
Можно с большой долей вероятности предположить, что опоясывание сетью в брачном обряде не только предохраняло брачующихся от порчи, но и, по дохристианским верованиям, способствовало деторождению, стимулировало беременность молодой, о чем свидетельствуют разнообразные обряды опоясывания церквей, икон, крестов, бесплодных женщин и рожениц [Толстой 1987а].
3 К приведенному общему описанию можно добавить некоторые варианты интересующего нас ритуала. Так, в Тихвинском у. Новгородской губ., когда невесту снаряжали к венцу, надевали под ее сорочку мужскую сорочку, повязывая ее широким поясом из невода (запись 1852 г.). В тех же местах нередко весь свадебный поезд опоясывался под низом рубашки сеткою (запись 1899 г.). В Олонецкой губ. (Пудожский у.) молодых вели в отдельное помещение или клеть, и, когда те подходили к постели, «сватья», которая убирала их, валила их спать и связывала им ноги сетью, «чтобы никто не спортил* (по преданью, «если ворог хочет „спортить” молодых, то ему надо развязать каждый узелок, а у сети узелков много») (запись 10-х годов XX в.), см.: [Зеленин, 2, с. 892; Колобов 1915, с. 89]. На Пи-нежье (Архангельская обл.), согласно записям 1986 г., опоясывание сетью по голому телу невесты охраняет от «нечистой силы» по той причине, что сеть связана «крестиками». Это ♦объяснение» — более новое по сравнению с верованием в апотропеическую силу узлов, оно — явно христианского происхождения. Таковы наиболее яркие образцы из богатой коллекции примеров, касающихся ритуальной функции сети в русском свадебном обряде, собранной А. В. Гурой. Приношу А. В. Гуре благодарность за возможность воспользоваться его материалами.
Сеть (мрежа)
237
На севере Македонии в Скопской Черной Горе ночью умершего покры вают рыбацкой сетью, чтобы он не стал вампиром, т. е. «ходячим покойни ком», и «чтобы не утащил с собой кого-нибудь» [Шнева]с 1929, с. 4]. На другом конце славянского мира, у кашубов, распространено верование, что тот, кто похоронен с сетью, «должен сначала развязать все узлы на сети, прежде чем вернуться на землю» [Fisher 1921, s. 114]. Так кашубский ма териал объясняет северномакедонское поверье, а попутно и русский охранительный свадебный ритуал опоясывания сетью. Впрочем, такое объяснение давали и сами орловские крестьяне (и не только орловские!), говоря, что, «когда едешь венчаться, то опояшься рыболовной сетью и тогда поез жай себе с Богом: никто тебя не испортит, колдун не подступится. Тогда враг испортит, если развяжет все узелки в сети, что невозможно» [Иванов А. 1901, с. 113]. Эго же объяснение мы находим в севернорусских заговорах «от уроков». На Пинеге полагали, что для предотвращения дурного глаза и порчи есть обереж. Для его исполнения «нать (надо) от сети отрезать да с коноплем соскать наотмашь (от себя) да начитать слова: „Как от сети узла никто не может ни розвязать, ни роспустить — ни еретик, ни клеветник, ни завидник, так же бы рабу божию (имя рек) никто не мог бы не исправить, не изурочить"»4.
Таким образом, основным символическо-смысловым компонентом сети является узел, который, в сочетании с другим символическо-смысло вым компонентом — множество, объясняет апотропеическую функцию всего ритуала: узлы не могут быть развязаны и пересчитаны. Именно поэтому, согласно сведениям, собранным русскими этнографами в нача ле нашего века, в свадебном обряде при опоясывании вокруг тела могли вместо сети употребить веревку или тесьму со значительным числом завязанных узлов или могли использовать узлы наряду с сетью 5.
4 Запись заговора сделана Г Я Симиной в 1967 г В том же году на Пинеге в д. Нюхча Г Я. Симина записала другой вариант заговора с любопытными пояснениями от 90 летней Анастасии Алексеевны Меньшиной: «Обереж. С ветру, есть притча попада ет... Обережи есть: — Как от сети узла никто не может розвязать, ни роспутать, — ни еретик, ни клеветник, ни завидник, так же бы рабу божью Настасью не мог ни истра-вить, ни изурочить ни еретик, ни клеветник, ни завидник. Нать (надо) от сети отрезать да с коноплем соскать наотмашь (от себя) и носить, опоясать. И в байну (баню) пойти с сетью; вымоешься, так снова начитать эти слова. Дедушко все с обережью промышлял в лес ходил « Благодарю Г. Я. Симину за предоставленный материал.
5 В Олонецкой губ- знахарка на нитке навязывала много узлов и привязывала нитку на голое тело невесты (д. Шошкозеро. запись Н. Л. Элмаш в 1933 г. Архив ИРЛИ), а в Вологодской губ. жениха и невесту опоясывали обрывком сети, которою ловили рыбу, и за
238
Ш. Символика предметов и действий
До нас дошло несколько старинных свидетельств (XIV—XV вв.), осуждающих «ворожения» при помощи узлов. Так, в древнерусском «Прлвмлб свитых11 АПОСТОлт» и свнтыуь отець , известном под названием правила ♦Лщб двОбЖбНбЦЬ», в десятом разделе говорится: «Лщб КТО ходить К волхвамъ ворожению дФлы оузлы емлеть потворныы, да не петь лма-са н МЛ6КА м дни...» (Если кто ходит к колдунам для того, чтобы ему ворожили, и берет колдовские узлы, пусть не ест мяса и молока 40 дней...) [Смирнов С. 1912, с. 65]. В другом русском памятнике XV в. — в «Послании митрополита новгородского Фотия» — указывается: «Такожь учите hx% чтобы Басней не слушали, лнхнхъ бает» не пршмали, ни узловъ, ни прил\ольвлен1а, ни зелыа, ни ворожейка и елнка такова, занеже съ того пгЬвт» божш приходить...» (Также учите их, чтобы пустых слов («басней») не слушали, колдовских («лихих») баб не признавали, ни узлов, ни приговоров, ни трав, ни ворожбы и тому подобного, ибо от этого гнев божий возникает...) [Памятники 1908, с. 269, 270].
Особый интерес представляет использование сети в масленичном обряде у хорватов в Далмации, в Синьской Крайне. Там в с. Оток и Удовичичи ходили группы парней с закрытой головой и обнаженным телом, обернутым только в сеть, несмотря на холодную пору года. В других селах голые парни с намазанными сажей лицами ходили в накинутых на плечи одеялах, которые они попеременно то запахивали, то распахивали, чтобы показать свою наготу [Milicevic 1967—1968, s. 476]. Все это относится к архаическим формам общения с «нечистой силой» — вернее, способам ее отгона, отталкивания; в данном случае значимы и нагота, и сеть.
Хорватский масленичный обряд перекликается с одним фрагментом из русской сказки «Мудрая дева» из классического собрания сказок А. Н. Афанасьева. В этой сказке рассказывается о смышленой девочке-семилетке, разрешавшей сложные царские задачи. Последней и самой трудной задачей была следующая. Царь сказал мужику: «Когда дочь твоя мудра, пусть наутро сама ко мне явится ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка». На что «на другой день поутру сбросила семилетка всю одежду, надела на себя сетку, в руки взяла перепелку, села верхом на зайца и поехала во дворец. Царь ее у ворот встречает. Поклонилась она царю: „Вот тебе, государь, подарочек!" — и подает ему перепелку. Царь протянул было руку: перепелка порх — и улетела!» [Афанасьев 1985, с. 20, № 328]. *
пазуху жениха и невесты клали узлы от холстов, которые делались в начале тканья ([Архив кн. Тенишева. Запись 1898 r.J — Устьсокольский у.).
Сеть (мрежа)
239
Важно учесть, что у славян и перепелка, и заяц, и сеть являются свадебными мифологическими символами, а нередко и атрибутами. В особенности ярко выражены в этом смысле перепелка и заяц [Гура 1978]. Как известно, сказка «Мудрая дева» завершается тем, что царь взял дочь мужика к себе, и «когда семилетка выросла, он женился на ней, и стала она царицею».
Таким образом, славянская народная символика сети семантически связана с моментом плодородия (чадородия), брака, а функциональ но — с защитой от «нечистой силы», так как сеть обладает узлами, и притом большим количеством узлов. Неисчислимость узлов входит в один ряд с неисчислимым песком, маковым семенем, семенем льна «лу-щика» (в Полесье), иголками на хвойном дереве и т. п.
Иная символика сети (невода) и иная функция этого символа наблюдаются в славянской книжной, христианской традиции. Семантика этого символа базируется на известном евангельском эпизоде встречи Христа с братьями-рыболовами Симоном, называемым Петром, и Андреем, закиды вавшими сети в Галилейское озеро. Увидав братьев, Христос сказал: «Гря-дита по Mtrfc н сотворю вы ловца человФкомъ» (Идите со мною, и я сделаю вас ловцами человеков). И они тотчас оставивши сети, последовали за Христом (Мф 4, 19—20; Лк 5, 1—11). Но еще больше символического смысла содержится в сравнении: «Паки подобно есть царств!е небесное неводу ввержену в море и отъ всякого роду совравшу: Иже егда нспол-нися нзвлекоше н на кран и сФдше нзвраша доврыя въ сосуды, а злыя извергоша вонь. Тако вудетъ въ скончаше вФка» (Мф 15, 47-49).
Таким образом, если в славянской фольклорной традиции сеть как предмет апотропеического свойства выполняет мифологическую функцию отталкивания «нечистой силы», то в христианской, древнеславянской книжной традиции символ сети выступает в функции собирательной, притягательной к добру, к «правде божьей»6. В первом из приве
6 Любопытный образец проникновения христианской символики сети в народные представления и в обрядовый текст зафиксировал на карпатском Подгорье в 80-х годах XIX в. известный писатель и филолог Иван Франко. По его наблюдениям, в зонах Дрогобыча, Стрыя и Коломыи полагали, что, когда женщины вытасткивают коноплю из воды, им следует одно перевясло конопли величиной с горсть бросить по течению воды. Так нужно делать потому, что «Божья Мать ловит эти перевясла, сушит их, треплет, прядет и из выпряденных ниток делает сети. Перед Страшным Судом эти сети она будет три раза забрасывать в пекло: того, кто сравнительно мало грешил, она вытащит из пекла» [Франко 1898, с. 194]. Аналогичный мотив зафиксирован в 20-х годах нашего века в центральной Боснии известным сербским этнографом М. С- Филиповичем: «Богородица из
240
III. Символика предметов и действий
денных выше примеров это «сети добра», а во втором — сеть, вообще собирающая все, что есть. В ветхозаветной библейской традиции известны и сети зла, сети нечестивого (Пс 9, 16, 30 и др.; 24, 15 — Очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнетт» отт» сЬти нозб мои; 90, 3 -Яко То ИЗБАВИТЬ ТЯ ОТЬ С'ЬтИ ЛОВЧИ, И ОТЬ СЛ0В6С6 мятежно и сети божьи (Иов 19, 6 — Бог обложилъ меня своею сЬтью), при этом в последнем случае это скорее орудие кары, а не милости божьей, хотя в христианской традиции и кара божья нередко воспринимается как милость. Сеть как орудие кары воспринимает и многострадальный Иов. К ветхозаветным представлениям близка мифологическая символика других восточных религий, в которых сеть выступает как орудие богов, служащее для ловли людей, для подчинения и привлечения их к себе. Правда, в иранских мифологических представлениях сетью, наоборот, вооружен человек, человек-мистик, который с ее помощью пытается уловить бога, восприять божественное начало [Chevalier 1973, a. v. Fi let]. Сеть (dam) является духовным оружием ангела Пир-Бельямина, посредника между Аллахом и человеком в иранской шиитской традиции, почерпнувшей многое из персидского фольклора.
Возвращаясь к славянскому материалу, укажем еще раз на хорошо в наше время известный инициал ЛЛ (ст.-сл. название буквы МЫСЛ6Т6, начальная буква ст.-сл. мр’Ьжа) новгородской Фроловской псалтири № 2 XIV в., хранящейся в Российской национальной библиотеке. Этот инициал изображает двух рыбаков, держащих сеть (мрФжу), которая внизу завязана узлом и наполнена рыбой. Над головой рыбака, стоящего справа от сети, написано киноварью: «Потяни КОрвинь с(ы)нъ», а над головой другого: «Салгь 6СИ тдковь». Исследователь семантики новгородского тератологического орнамента Н. К. Голейзовский справедливо видит в диалоге рыбаков не «едкие замечания», а вторичную символику или зашифровку христианской символики, согласно которой корвинъ сынъ — это теленок, но не просто теленок, а телец, символ искупительной крестной жертвы [Голейзовский 1983, с. 222]. Если вспомнить, что оба рыбака, впоследствии апостолы Петр и Андрей, были распяты, первый — в Риме в 67 г., а второй — в Патрах в том же году,
свечей, зажигаемых за души покойников, плетет большую сеть и забрасывает ее в ад. В аду тот, кто не очень грешен, хватается за эту сеть и, таким образом выбравшись из ада, отправляется в рай* [ФилиповиЬ 1949, с. 2031- Нетрудно заметить, что на эти представления повлияли апокрифические мотивы милосердия Богородицы (ср. апокриф «Хождение Богородицы по мукам* и ее заступничество за грешников).
Сеть (мрежа)
241
становится ясной вторая часть диалога Салгь 6СН тако вл». Диалог, сопровождающий инициал в виде изображения двух рыбаков, тянущих сеть, носит характер предсказания земной судьбы — точнее, последнего мученического часа этих рыбаков. Надо полагать, что он навеян не только житием свв. Петра и Андрея, но и тем пассусом в Евангелии от Иоанна, где помимо описания появления Христа у Галилейского озера и разговора его с братьями-рыбаками Симоном, называемым Петром, и Андреем есть и пророчество Христа о том, «К06Ю CMCpTitO прОСЛАВИТт» ба» апостол Петр (Ио 21, 19).
Возникает мысль: не является
ПОТМкЫИ
KOpflUNtift
1ЛЬЛЪ£.1И T’AKOf'b
ли знаменитый инициал ЛЛ из новгородской Фроловской псалтири № 2 образцом своеобразного монастырского или церковно-писцового фольклора? Такому фольклору могли быть свойственны традиции тайнописи, и могли быть попытки употребления «символической тайнописи» путем неоднократного символического кодирования, производства новых символов на основе уже известных, позволявшие использовать и некоторые формы и клише народного фольклора вроде «Дурак!» — «Сам дурак!». Такое стилистическое снижение типа «Самъ еси таковъ»
вполне допустимо и возможно, если оценивать его в духе идей Псевдо-Дионисия Ареопагита, если исходить из того, что само сакральное начало столь возвышенно, что любой, даже самый священный язык не может приблизиться к нему и тем более достичь его высоты, и потому об этом начале и обо всем, к нему относящемся, можно говорить и языком более низким и даже совсем сниженным, ибо по сути это будет одним и тем же.
Для того чтобы догадки подобного рода были более правдоподобны и обретали основание, следовало бы составить ряд словарей символов, которые бы толковали материал разных традиций — древнеславянской народной, в основном языческой по своему происхождению, древнеславянской книжной, имеющей несколько культурных напластований, в пер
242
III. Символика предметов и действий
вую очередь христианское, затем средневековой европейской и, нако нец, индоевропейской. Существующие на Западе довольно многочисленные словари символов, как правило, носят универсальный, энциклопедический характер, касаются одновременно различных традиций, раз ных эпох и разных сфер искусства, культуры и религии, и потому сведения, содержащиеся в них, обычно носят самый общий, нередко отрывочный и даже поверхностный характер.
Пример с символикой сети показывает, что один и тот же предмет (понятие, действие) может иметь в разных, нередко сосуществующих традициях разную символическую семантику, разную ритуальную функцию и быть связанным с разными сферами (жанрами) духовной культу ры, фольклора, книжности, религиозных представлений. Именно связь символа с той или иной сферой устной и книжной словесности существенна для филолога и историка искусства и культуры.
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Этнографический комментарий к древним славянорусским текстам. Сеть (мрежа) // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988, с 122—129
IV. Заметки по славянской демонологии
Откуда дьяволы разные?
Каков облик дьявольский?
Шуликуны
Чемер
Откуда дьяволы разные?
15 одном из последних номеров журнала «Этнографического обозрения» (кн. 109—ПО, 1916 г.) крестьянин Саратовского Поволжья Г. К. Заварицкий опубликовал записанный им по памяти рассказ-легенду своего отца «Дьяволы разные». Эта легенда, увы, до сих пор не привлекала внимания фольклористов и этнографов, хотя ее содержание крайне любопытно. Начинается она со слов самого Г. К. Заварицкого: «Когда я уже ходил в школу <...> один раз я спросил отца: „Тятьк! што это такое — дьявол, шут, чорт, леший, домовой, окаянный? какое различие между ними?" — „Различия почти меж ними нет никакого, а только названия разны", — сказал отец». Далее на вопрос сына, как это получилось, отец рассказал довольно длинную сказку о том, как жил давно, «когда еще Христос Бог ходил по земле», в одной пещере праведный старец, которому удалось заманить всех чертей в кувшин, заами-нить их и похоронить под крестом. И только один хромой шутенок не влез в кувшин, а спрятался под камнем и видел, где заключены его товарищи. Он побрел в кабак, нашел там горького пьянчугу, «который ни креста, ни поста, ни молитвы не боится», и предложил ему отрыть чертей, сказав, что там сокрыт клад. Пьяница согласился, черт нанял лошадей, и они мигом оказались на месте, где был зарыт кувшин. Пропойца легко откопал его, и дьяволы вихрем, с писком и визгом взвились на небо, оставив на земле своего избавителя, тут же умершего от страха. Затем действие происходило на небе в ту пору, когда «Бог ходил по земле в лике Христа», и там без него оставался Михаил Архангел, который не мог противостоять дьявольской рати. Дьявол взобрался на седьмое небо и устроил там свой престол. Тогда Христос Бог дал Михаилу' шесть крыльев и огненный меч. Архангел взлетел на небо, «как мысль», и прогнал оттуда дьявольскую рать. Окончание легенды привожу точно
246
ГУ. Заметки по славянской демонологии
по записи (к сожалению, литературно несколько обработанной) Г. К. Заварицкого. «Вот тут-то было смешно, как оне оттоль летели вверх тормашками — как попало и кто куда. Который упал в воду, стал называться окаянный, который — на лес, называется лешим; кой на дом, стал зваться домовым; кой упал на черту меж загонов и в борозду, стал зваться чертом; кто упал на шум (вероятно, 'мусор’. — Н. Т.), стал шут. Вот почему их зовут по-разному, а все оне бесы одинаковы. А чертилу ихняго главного Михаил Архангел взял в плен и сковал цепями, отвел в ад, приковал его к стене ада. Тот от досады и злости застонал. Его зовут все теперь „Стана". Вот и нам: как бы тебе трудно ни было или больно, никогда не стони — грех» [Заварицкий 1916].
Легенда эта не отмечена в указателе сюжетов Аарне-Андреева. В ней, однако, довольно ярко выделяются разные пласты представлений дохристианских и христианских. Притом небесный сатанинский престол и дьявольская небесная рать выражают богомильские (манихейские) дуалистические представления о борьбе добра и зла, известные по южнославянским и русским отреченным книгам и другим источникам. Фигура старца близка к житийным и сказочным персонажам (ср. сюжеты: «человек обманывает черта» [Андреев 1929, № 1060—1114]), фигура пьянчуги второстепенна и связана с поздней традицией кабацких анекдотов ’. Остается, наконец, финал, который и отвечает на вопрос: «От куда дьяволы разные?» Эта часть, как нам кажется, отражает достаточно древние представления, во-первых, о некоторых принципах иомина ции «нечистой силы» и, во вторых, о иерархии этой «силы». Отметим прежде всего известный факт, что эта «сила» (т. е. духи) стала восприниматься нечистой лишь под влиянием христианского мироощущения. Этот момент важен для понимания принципов номинации — прямого и табуирующего. Одним из распространенных принципов номинации сла-
1 До недавнего времени фольклористы, как и диалектологи, предпочитали обращаться к более «чистым» текстам, избегая пользоваться текстами смешанного характера (та ковые нередко считались дефектными) «Чистые» тексты представлялись более древними, хотя всегда существовало сознание, что совершенно «чистых» (древних) текстов нет. Отсюда обращение к проблеме бродячих сюжетов, национальной адаптации текста и т. п. В последние годы активизировался и даже в известных центрах возобладал интерес к интерференции, к языковым системам и уровням смешанного типа С этой же точки зрения интересны и фольклорные тексты, демонстрирующие разные типы и характеры наслоений, которые отнюдь не произвольны и во многих отношениях не случайны. Например, интересен вопрос синтагматики — сочетаемости отдельных сюжетов и их частей и элементов, структуры таких сочетаний и т. д.
Опкуда дьяволы разные?
247
вянских демонов был принцип называния их по месту жительства («который упал в лес — леший» — по легенде). Он был один из ведущих в средневековой славянской (и не только славянской) антропонимии (ср. псевдофамилии — св. Климент Охридский, св. Прохор Пчиньский, Кирилл Туровский, Козьма Пражский, Матвей Меховский, или Me ховит, или из Мехова, Паисий Хилендарский, Софроний Врачанский и т. п.) и этнонимии. Так, объяснения Нестора летописца во многом напоминают доводы Заварицкого-отца. Привожу отрывки из хорошо известного пассуса: «по мъноз-Ьхъ же временЬхъ сЬли суть Словкне по Ду-наеви... И отъ ткхъ СловЪнъ разидошася по земли и прозъвашася имени своими къде сЬдьше на которомъ м-fccrfc. Якоже пришьдъше, скдоша на р-ЬцЬ именьмъ Морава, и прозъвашася Морава... Такоже и ти Словгк-не, прешьдъше, сЬдоша по ДъиЬпру, и нарекошася Поляне, а друзии Древляне, зане с1>дьша въ л1мгЬхъ; а друзии сЬдоша межю Припетию и Двиною и нарекошася Дрьгьвичи» (ср. совр. полесск. дрегва 'болото'). Этот же принцип можно наблюдать в современных (по своему происхождению достаточно древних) полесских этнонимах: багнюки (ср. баг но 'болото’), загородцы (ср. история, область Загородье за городами Туров, Небль, Городно и др., см. подробнее: [Obr^bski 1936]).
Список демонологических терминов Г. К. Заварицкого, естественно, очень неполон. При этом окаянный сближено с водой, а шут — с шу мом и черт — с чертой по принципу народной этимологии (равно как и греческ. Satavdc; со стонать). Но в словарном составе славянских диалектов немало примеров, подтверждающих отмеченный принцип номинации.
У восточных славян помимо общеизвестных леший (от лес), водяной (от вода), домовой (от дом) имеются боровой 'черт, леший’ (сев.-в.-русск. пинежск., псковск. от бор 'сосновый лес’, 'возвышенное место в лесу’ и т. п. — Боровой-то и есь лешой — псковск.), зыбочник 'то же, что леший «боровой»’ (сев.-в.-русск. пинежск., олонецк., связано с зы бун, зыбёль — 'болото’; народно-этимологически позже сближено с зы бать 'качаться’, чем мотивировано и название зыбкого болота и чем вызвано и позднейшее объяснение зыбочник 'леший, который, по мнению народа, живет в лесах и качается на деревьях’), веретнйк 'сказочное существо, вампир’ (сибирск. томск. от веретйк, веретье 'возвышенность, покрытая лесом’), осинавец, осина 'черт’ (гуцульск. — здесь возможны и особые дендродемонологические представления), лес 'черт’ (украинск. сев. волынск., а также сев.-в. русск. череповецк. поговорка На лес сказано! при упоминании о нечистой силе, ср. также лес 'дья
248
IV. Заметки по славянской демонологии
вол’ — псковск. быв. Пороховский у.), лозатый 'черт’ (белор., ср. зап.-полесск. лихи) в лоз! сидит, т. е. в зарослях ивняка («лоза») на болоте), ляд 'черт’ (во, ляд противной! арханг., вологдск., саратовск., тамбовск., тульск., ср. ляд 'низменная поляна в лесу’, ярославск.; ср. также ляда, лядо — разное значение см.: [Толстой 1969, с. 143]), не тёча 'черт’ (украинск. нетёча, нетёч 'стоячая вода болото’, также польск. и полееск.), мёрек 'злой дух’ (в.-русск. вятск.; ср. белорусск. мерёча 'непролазное болото, топь’), болото 'черт’ (псковск.), болот ник (псковск., белорусск.). Вероятно, того же происхождения памха 'черт’ (тверск., новгородск. 2; ср. новгородск. памха 'глухое место на болоте, болото’ и мох 'болото’, и уже, вероятно, из памха 'черт’ и т. п. воронежск. помох 'сухой горячий южный ветер’; ср многочисленные славянские верования, что черт появляется в вихре, ветре и т. п.). Наконец, следует вспомнить богатую белорусскую (сев.-белорусск.) кол лекцию названий чертей «нячистиков» Н. Я. Никифоровского: полови кй. лешукй (лесовики), пущевикй, кладникй (кладовикй, т. е., вероятно. живущие под кладками и переосмысление как 'хранители кладов'), водяники, болотники, багники, лдзники, оржавеники [Никифоров ский 1907]. В одном случае Н. Я Никифоровский поясняет, «когда речь идет о ранговом соотношении нячисциков, вирбвник (ср. вир 'глубокое место в реке, болоте’. — Н. Г.) стоит ниже болотника, а этот последний — ниже оржавйника, и обозвание кого-нибудь первостатейным чертом выражается такими словами: «ня з виру и ни з болота, а з самый оржавини!» [Никифоровский 1895]. Чем хуже качество воды, чем загрязненнее место, тем более злой черт сидит в ней, так что в чертовской болотной иерархии не столь существен признак глубины, сколь признак загрязнения.
Близкую картину обнаружила Л. Г. Невская в балтийских языках, где также довольно ярко проявляется связь географической и демонологической терминологии (bala, liekna, pelke, plyne, muola, соответственно 'бо лото’, «болотистый лес, луг, болото’, 'болото, лужа, прорубь’, 'болото, поляна в лесу’, 'тина, осевшая муть’ и во всех случаях 'черт’ [Невская 1973]). Чрезвычайно интересны также наблюдения В. Н. онорова над восточнославянским балтизмом анчутка 'черт, бес, нечистая сила’, генетически связанным с понятиями'утка’и'болото’ [Топоров 1973].
2 Любопытно, что современный ареал слова памха очень близок к ареалу слова мд кош 'женоподобный дух, забирающийся по ночам в избу и путающий пряжу’ [Строгова 1967].
Опкуда дьяволы разные?
24 ‘J
Из нового южнославянского материала, не отмеченного ни одним из словарей, приведу лишь сербск. андрак; шумадийск. таковск. андрак 'земля, густо поросшая сорняком, папоротником, колючками и т. п.’ — раскрчили андрак био; банатск. херск. андрак 'дьявол’; то же южно-сербск., пчиньск. андра, андриштр 'невидимый дух, существо женского пола, живущее в вихре’ [Филиповий, Томий 1955, с. 105; Филиновий 1972, с.209]. (Об этимологии этого слова выскажемся особо.)
Изложенный выше материал никак нельзя считать исчерпывающим. Однако и он достаточно красноречиво говорит о том, что для древнейших и более поздних дохристианских мифологических представлений славян было характерно ощущение населенности всей окружающей природы духами, основными дифференциальными признаками которых были не столько различия функциональные (они нам и относительно плохо известны), сколько различия по месту обитания. Если подумать о том, что для древнего (и почти для современного нам) славянина небо было также населено духами, то можно предположить, что различие между так называемыми низшими мифологическими существами («низшей мифологией») и высшими («высшей мифологией», по Е. Кагарову) следует искать прежде всего в различных местах их обитания (и тогда Мокошь не будет отнесена к «высшим») и в различиях их функций и только в последнюю очередь можно смотреть на славянские мифические существа сквозь призму других (неславянских) мифологических систем. Различия среди духов земных, взятых отдельно, и духов небесных, в общем, были нерезкими, а их иерархия — очень слабой, и потому трудно установи-мой. Впоследствии духи небесные были почти полностью вытеснены христианскими представлениями, а духи земные на основании тех же представлений перешли в разряд нечистых, но не стерлись из памяти народной. Об исчезавших духах небесных мы можем судить по оставшимся духам земным. Самым нужным путем дальнейшего исследования славянской демонологии в паши дни является путь диалектного лингво-и этногеоргафического анализа обрядов, поверий и связанных с ними демонологических персонажей и терминов.
Первая публикация:
Я. И. Толстой. Заметки по славянской демонологии. 1. Откуда дьяволы разные? // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. 1 (5). Тарту, 1974, с. 27—32.
Каков облик дьявольский?
Народная демонология — важное и неотъемлемое звено архаической славянской духовной культуры, в нашу пору уже быстро исчезающей, во многих зонах почти бесследно исчезнувшей, но в прошлом достаточно устойчивой и повсеместно распространенной. По своему происхождению она относится к давним дохристианским воззрениям, к эпохе язычества, которое в несколько видоизмененных формах, по сути дела, продолжало существовать в жизни народной, уживаясь часто с христианством, прежде всего с бытовым христианством, либо противопоставляясь ему, как мир «преисподний» или часть мира земного миру небесному.
Народная демонология ярко отражена в фольклоре — в сказках [Померанцева 1975], преданиях, песнях, пословицах и т. п., в народных обычаях — некалендарцых (родииных, свадебных, похоронных и др.) и календарных (святочных, купальских и др.), в народных представлениях — космогонических, метеорологических, народно-медицинских и др., в бытовых и трудовых процессах, в суевериях, оберегах и иных «охранительных» действиях.
Народная демонология нашла и свое яркое, хотя сильно смешанное с «книжным» и относительно позднее, отражение в иконах, но более всего — в миниатюрах различных лицевых списков (псалтыри, житий святых, сборников разного содержания и т. п.), в полуканонических или неканонических фресковых изображениях и в лубочных картинках [Успенский А. 1907; Буслаев 1886, с. 1—23; он же 1861, с. 435, 629 и др.; Рязановский 1916].
В предыдущем этюде «Откуда дьяволы разные?» были кратко изложены славянские народные представления о происхождении «нечистой силы». В них нетрудно усмотреть ряд наслоений: библейских, богомильских, житийных, сказочно-авантюрных и т. п. Все они, однако, не за
Каков облик дьявольский?
251
слоняли или не нарушали одного важного принципа — принципа наименования духов по месту их обитания (домовой, леший, боровой, лоза-тый, водяной и т. п.). И если обратиться к этнографическим и фольклорным текстам с демонологическим содержанием, см.: [Померанцева 1975; Романов 1891; Добровольский 1908а; Никифоровский 1907; Максимов С. 1899а; Зеленин 1916 — там же см. большую библиографию], то нетрудно заметить, что и сам внешний вид, сам облик демонов, а в значительной мере и их функция во многом и часто зависимы от места их обитания (ср. вологодские представления о водяном как об огромной рыбе ит. п., о чем подробнее ниже). В то же время те же тексты свидетельствуют, с одной стороны, о нередко встречающейся расплывчатости образов отдельных «нечистиков», о некоторой их неопределенности, о их морфологической недетализированности, с другой — о их многоли-кости, многообразии. Многоликость эта, фиксирующаяся иногда на одной и той же территории, может быть вызвана не только или не столько «диалектным» смешением, т. е. смешением представлений из двух этнически отличающихся друг от друга, хотя и родственных зон, сколько общими историческими условиями развития древних славянских мифологических воззрений.
Эти условия приводили к тому, что в одном и том же «диалекте» (системе), на одной и той же территории могли сосуществовать элементы разных эпох и разных форм дохристианского религиозного (мифологического) сознания. В настоящей заметке, естественно, нецелесообразно излагать процесс стадиального развития такого сознания от общеиндоевропейского периода до периода позднепраславянского. Достаточно вспомнить, что он шел по пути возникновения сначала доанимических («аниматических», по Р. Р. Маретту), а затем анимических представлений в условиях обожествления окружающей природы, пантеистического или политеистического ее восприятия. На то, что у древних славян, как и у славян, живших в пору средневековья и в новейший исторический период, было такое одновременное восприятие ряда элементов, относящихся к разным стадиям развития религиозного сознания, элементов, образующих хотя и мозаичную, но в общем достаточно строгую структуру, уже обращали внимание отдельные исследователи славянских древностей. Недавно эту мысль достаточно чётко и полно выразил акад. Б. А. Рыбаков, возведя ее в методологический принцип. Он отметил, что «спецификой языческого комплекса, которую непременно нужно учитывать при анализе любого его этапа, является своеобразный характер его эволюции: новое не вытесняет старого, а наслаивается на не
252
IV. Заметки по славянской демонологии
го, добавляется к старому. Анализ показывает, что в сумме религиозных представлений позднейших эпох обязательно присутствуют в том или ином виде представления предшествующих эпох. Они могут быть ослаблены, отодвинуты на второй план, несколько трансформированы, но они остаются ощутимы почти до наших дней» [Рыбаков 1974, с. 4]. Славянские обрядово-мифологические системы и их демонологические подсистемы, зафиксированные в разных местах славянского этнического и языкового мира, имеют в этом отношении много общего с современными славянскими языковыми (диалектными) системами, в которых единовременно, но по-разному на разных территориях (в разных языковых и диалектных зонах) сосуществуют и фиксируются архаизмы и инновации, исконные и заимствованные элементы, формы, отражающие разные этапы и периоды развития конкретного языка. Такова, к примеру, система болгарского глагола, в которую входят такие архаические времена, как аорист, имперфект и плюсквамперфект, и новая, вероятно возникшая под турецким языковым влиянием, форма: наклонение пере-сказывательных времен.
Демонологические народные представления в полной мере отражают отмеченные выше особенности — они различны, т. е. «диалектны» на разных территориях и не одновременны по своему происхождению. Что же касается демонической морфологии, сиречь внешнего облика «нечистой силы», то она тоже оказывается зависимой от упомянутых обстоятельств. «Нечистая сила», по народным представлениям, может быть антропоморфна (в облике человеческом), зооморфна (в облике зверином), «нулевоморфна» (бесплотна) и смешанно антропозооморфна (в облике получеловека-полузверя). Последняя форма у славян, надо полагать, достаточно поздняя, и именно она в наше время абсолютно преобладает в «книжном» (городском, литературном) представлении (черт — с рогами, хвостом и копытами, русалка — с рыбьим хвостом и т. п.).
Итак, обликов черта (дьявола), как и обликов других видов нечистой силы (домовых, леших, русалок, кикимор, полудшщ и др.), много, и они разнообразны, как и типы и формы славянских народных костюмов. Аналогия эта нам представляется уместной. Народный костюм в некоторых своих основных компонентах и деталях достаточно устойчив, часть его компонентов (головные уборы, обувь) довольно автономна, отдельные его элементы относительно нестабильны, изменчивы. Тем не менее они все при рассмотрении их в «диалектном» аспекте могут дать определенные изопрагмы или даже пучки изопрагм — ценные свидетельства для ряда этногенетических построений [Atlas strojow]. Не менее ценным источником для тех
Каков облик дьявольский?
253
же целей окажутся «чертовские» или «русалочьи изопрагмы» (как бы юмористически ни звучали эти словосочетания).
1 еще одно. Народный костюм функционален; с ним обычно связана та или иная функция или ситуация, в которой находится ее носитель (будничная, праздничная, свадебная, траурная, похоронная), см. работу П. Г. Богатырева «Функции национального костюма в Моравской Словакии» [Богатырев 1971, с. 297—366]. В известной зависимости от функций нечистой силы находится и ее облик.
Примеров, иллюстрирующих приведенные положения, множество. Если взять хотя бы такую популярную и широко представленную в фольклоре особь, как русалка (южнославянск. вила, самовила, само дива ит. п., западнославянск. vodni рагта, июдпе jungfry и т. п.), то по данным, хорошо собранным Д. К. Зелениным и существенно дополненным и интересно интерпретированным Э. В. Померанцевой [Померанцева 1975], обнаружится следующая картина.
Восточнославянская русалка — особь почти всегда антропоморфная (известны лишь редко фиксированные случаи превращения ее в птичку — сороку, лебедку, либо лягушку, белку), обычно обнаженная (редко в белой длинной одежде), чаще всего женского пола с длинными распущенными волосами и бледным бескровным лицом. Что касается места ее обитания, то это озеро или омут, или иное водное пространство, но возможны — и видимо, более архаичны — поле («жито», реже конопля) и лес. Внешняя привлекательность этой особи в разных диалектных зонах различна. На северновеликорусской диалектной территории, где они и не всегда фиксируются, русалки — женщины без краски (румянца) в лице, с тощими и холодными руками, с длинными космами и большущими «титинами» (бывш. Владимирская губ.). С этим владимирским, не слишком обаятельным обликом согласуется облик белорусской могилевской русалки, которая, когда за ней гоняются с головешками, «вя-лизни грудзи пиракинець назад, бо дуже вяликие, а воласы у яе длинные — уся у волосах, яна голая» (бывш. Борецкий у.) или имеет «жа-ноцкое усе, только цыцки большие-болыпие, аж страшно, да волосы до-вгия» (г. Белыничи). Пе очень соблазнительна, видимо, и полесская русалка из д. Болсуны, описание которой приведено Е. Р. Романовым: «Бог ведая, што ета за русалки такия? Кажуть — женщины. Сама голая, страшная, волосы довгия у яе — тянутца по гони, и у яё, кажуть, усё як у человека, тольки не знашно, ти (чи, «то ли». — Н. Т.) женщина, ти музчина — уси равны» (бывш. Рогачевский у.). Не ярко выражен пол у русалки и в представлении некоторых смоленских крестьян,
254
IV. Заметки по славянской демонологии
как видно из такого характерного посвященного ей диалога: <<Я говорю: „брацець ты мой, ена ж проклятая и грудзей нетуци (ср. выше обратное положение с гипертрофией этой части тела), ена ж ня баба!" А ён на мяня: „Во ты, брацець, захмелеу! Как есь баба, али дзеука моя!"» (бывш. Бельский у. Смоленской губ.). Неказиста и белорусская, витебская русалка: она женоподобна, но, по свидетельству Н. Я. Никифоров-ского, старая, отвратительно безобразная и грязная оттого, что живет в болотах. У украинцев на Полтавщине есть представления, что русалка может прийти в дом и «сделать пакость» его обитателям. В доме она появляется в виде «старой женщины», но вне дома она — «прекрасная девица с роскошными русыми волосами» (г. Валок). Именно такими ру соволосыми или зеленоволосыми красавицами они представляются боль шинству южновеликорусских, украинских и части белорусских крестьян. Такими они проникли и в русскую литературу, если вспомнить «Май скую ночь, или Утопленницу» Н. В. Гоголя или «Бежин луг» И. С. Тургенева (представления о русалках-сиренах — «книжные», привнесенные с Запада). Общая характеристика украинских водных нимф дана Н. Маркевичем в следующих словах: «русалки прелестны собой; они бледны, но черты лица восхитительны, стан волшебный, косы ниже колен». Среди любопытных украинских диалектных особенностей следует отметить облик херсонских русалок — маленьких, как куколки (с. Бело-зерки), и харьковских русалок — маленьких девочек, бледных, почти прозрачных, с длинными русыми или зелеными волосами (бывш. Ку-пянский у.), а также харьковских русалок-мальчиков с короткими рыжими курчавыми волосами и русалок девочек с ровными белыми воло сами в виде льняных волокон, длиной до самой земли (с. Никольское, бывш. Старобельский у-). С последним представлением согласуется чер ниговское верование, что «русалками одинаково становятся женщины и мужчины» ([Зеленин 1916, с. 140—159] — г. Александровка, бывш. Сосницкий у.). Интересен и, видимо, достаточно архаичен мужской об лик русалки, отмеченный Ф. Д. Климчуком в центральном Полесье (с. Синкевичи, Лунинецкий р-н, Брестской обл.) и имеющий свое редкое соответствие в виде мужчин самовил в южной Сербии (южнее г. Браня) в р-не Верхней Пчини (свидетельство М. Филиповича).
Приведенные факты (так же как и более подробный материал Д. К. Зеленина и Э. В. Померанцевой) свидетельствуют о том, что локальные различия в облике русалок определяются в общем следующим набором признаков: женское—мужское (очень редко), большое—малое (редко), краси вое—некрасивое (часто), с большой грудью—без оной, с зелеными волоса
Каков облик дьявольский?
255
ми—с русыми волосами (часто и в зависимости от места жительства — в во де или в жите, или в лесу, отчасти в зависимости от пола).
Разнообразен у восточных славян и облик водяного. Архангельский водяной «такой же черный и мохнатый, как и леший», а водяниха (русалка? — Н. Т.) «имеет большие отвислые груди и длинные волосы», тверской водяной — нагой или косматый, бородатый, в тине, иногда с зеленой бородою, олонецкий водяной имеет гусиные ноги [Кагаров 1918, с. 15]. Смоленского «водяного простой народ представляет или старым дедом, у которого борода по колено, или же получеловеком, или полурыбой (в последнем случае водяной называется навпой)», он «может превратиться в какую угодно рыбу», а «в местностях болотистых водяной имеет вид горбатого и бородатого старика с коровьими ногами и хвостом», на лесном болоте «водяной показывается то в воде, то близ воды в виде серого чудовища на четвереньках» [Добровольский 1908а, с. 11], а иной раз и «в образе человека с лапами вместо рук, с ногами на голове и хвостом назади» [Кагаров 1918, с. 15]. Не вдаваясь в подробный анализ морфологии водяного (его можно найти в последней монографии Э. В. Померанцевой [Померанцева 1975]), отметим только, что для этого водного духа, конкретно для его смоленского локального варианта, характерен смешанный антропозооморфный тип. Вероятно, этот тип довольно позднего (западного?) происхождения.
Если продолжать аналогию внешнего вида черта и нечистой силы вообще (русалки, водяные, лешие, домовые и т. п.) с народным костю мом, то нужно будет добавить к сказанному следующее. Обе области народной культуры — демонология, относящаяся к духовной ее стороне, и костюм, связанный со стороной материальной, — системы достаточно открытые и потому в отдельных своих звеньях легко подвергающиеся внешним влияниям. Эти внешние влияния отражаются довольно четко и в названиях разных особей «нечистиков» (ср. сев.-в.-русск. батамушка — «домовой», карпаторосск. босурканя — «ведьма», олонецк. цюнда — «домо вой» и многие другие), но особенно ярко — в названиях самого черта (ср. заимствованные слова в русском языке для «черта» только на букву а: аред, архимандра, амфилат, анафид, анцыбал, анчут [Топоров 1973], апекан и др.). Естественно, что свобода восприятия чужого слова поддерживается в этих случаях тенденцией к табуированию слов, что хорошо показал в свое время Д. К. Зеленин [Зеленин 1930, с. 87—117]. И все же «открытость» формы (облика) и относительная неустойчивость самого наименования не приводили к исчезновению архаической морфо логии «нечистиков» и основной их особи — черта.
256
IV. Заметки по славянской демонологии
Как видно хотя бы из приведенных выше примеров, морфология «нечистиков» в общем архаична и в то же время разнообразна. Но различны не только формы (облик) «нечистиков» — различны и, во-первых, их склонности к перемене этого облика, к превращениям, и, во-вторых, их способность к перемене места жительства (что отчасти связано с первым моментом). Если для одних особей «нечистиков» метаморфозы почти нехарактерны (ср. сев.-в.-русск. мокошъ, кикимора, полудница и т. п.), а для других мало характерны (русалка, леший и т. п.), то для самого черта они являются чуть ли не постоянным его свойством и во всяком случае наиболее ярким (а иногда и единственным) отличительным признаком.
Все это ведет к новому вопросу о иерархии нечистой силы или к вопросу о классификации славянских народных демонов. И хотя славянские духи, отражая пантеистические верования древних славян, «существовали» и сталкивались друг с другом и с людьми на довольно расплывчатой демократической или демократическо-анархической основе, все же представление об их «рангах», о их соотношении (реже соподчи нении) у русского, белорусского либо украинского или сербского крестьянина было относительно четким и сохранилось, хотя и в реликтовом виде, до наших дней, ср. «табель о чинах» болотного беса у Н. Я. Ники-форовского: «вировник стоит ниже болотника, а этот последний — ниже оржавиника...» [Никифоровский 1895, с. 487].
Но имеются также и достаточно ясные представления о том, что ведьма — это не черт, русалка и подавно не черт и не ведьма, леший — это тоже не черт, хотя в некоторых случаях сгоряча, или впопыхах, может быть назван таковым, а домашние нечистики овинник, банник, подпольщик и др. и особенно домовой и подавно не черти. Смоленский «домовой терпеть не может, чтобы его называли чертом», — объясняет В. Н. Добровольский [Добровольский 1908а].
Записаны, однако, и тексты, в которых лешие, водяные и им подобные «существа» назывались чертями. Эти записи, как правило, фиксировали ситуации, когда, согласно популярной лингвистической терминоло гии, противопоставление черта другим печистикам в определенных синтагматических условиях нейтрализовалось, т. е. при сочетании различных обстоятельств и действий не различались черт и прочие нечистики. Подобные случаи можно объяснить и тем, что в народной демонологии иногда черт выступал как родовое понятие, а леший, водяной, банник и т. д. как понятия видовые. Но вообще такое положение безусловно лишь для болотных демонов, а не для всех народных демонов вообще. В
Каков облик дьявольский?
257
тех же славянских диалектах, где подобные демонологические родо-видовые отношения зафиксированы почти для всех особей «нечистой силы», видимо, отражаются уже факты более позднего порядка, свидетельствующие о стирании, о трансформации более древних верований.
Итак, есть нечистики, и их большинство, которые не склонны к изменению своего внешнего облика, они же, как правило, и не склонны к перемене места своего обитания, к перемене своей «прописки», которая за ними постоянно и прочно утверждена. Именно по месту жительства и классифицируется большинство славянских демонов.
Прежде всего довольно резко противопоставляется дом со двором и окружающими его постройками не дому [Иванов, Топоров 1965, с. 168—174]. Затем не дом распадается на лесные массивы, безлесные — полевые пространства, водные объекты, болотные места. Пространство дома в широком смысле этого слова делится в свою очередь на собственно дом, где еще может быть выделен подпол и противопоставленные дому домашние постройки (овин, баня и т. и.) и двор.
В доме живет домовой (он же домовитушко, домовитой, доможйр, доможирушко, доможйл, доброжил, доброхдтушко, жйхорь, жи ровик, кормилец, хозяин, хозяинушко, господарь, батаман, батамушко, братанушко, суседко, дедушко-суседушко, дедко, де душка и др. [Зеленин 1930, с. 106, 107|), во дворе — дворовой (он же дворовой, дворовйк, дворбвушко, хозяин и др.), под полом — подполь щик (он же подпольник), в овине — овинник (он же подовйнник, овинный батюшка, овиннушко и др.), в бане — банный (он же банщик, банник, банный апостол, байничек, байнушко, баенник и др.) и т. п. (ср. еще хлёвник — в хлеву, гумённый — на гумне и др.). На Русском Севере в архангельских краях (бывш. Шенкурский у.) эти духи живут парами («домовой да домовая так и жывут— парочкой»): домовой — домовая, дворовой— дворовая, подпольщик — подпольщица, подовйнник — подовйнни ца, баньшык — баныиыца или хозяин с хозяюшкой, домовой с домови-хой, подовйнник батюшка и подовйнница матушка и т. п. (запись Т. А. Тюриной в Шенкурском р-не, февраль 1975), см. также: [Ефименко 1864]. В бывш. Шенкурском у. домовой антропоморфен и похож на хозяина дома, а домовая на хозяйку. Тем же свойством обладают дворовой и дворовая. Зги представления, видимо, распространены шире отмеченной территории. Так, на Псковщине они выступают в осложненно-контаминированной форме (со змеей— хранительницей домашнего очага): «дворовйк днем бывает как змея, у которой голова, как у петуха, с гребнем, а ночью он имеет вид и цвет волос, как у хозяина дома» [СРНГ, 7].
3
258
IV. Заметки по славянской демонологии
То же положение наблюдается и с лесом, полем, озером (рекой), бо лотом
В лесу царствует леший (он же лесной, лесовик, лесник, лешак, ле сун, дикой, дикенъкий мужичек, диконъкий, оикарь, лесной дедушко, дедушко, лесной хозяин, лесной царь и др.), который, судя по некоторым названиям, может быть разным в зависимости от того, где его постоянное житье: боровик, моховик, пущевик, подкустовник, кладник. В воде, как известно, «живет» водяной (он же водяной хозяин, хозяин, водя ник, дедушко и т. п.), который тоже не лишен локальных разновидное тей: омутндй, бучильный (ср. бучило 'водоворот’), озерной
Для полноты картины упомянем полевиков, появляющихся в поле, во ржи ит. п. (полевик, полевой, житный дед, стрыжак, межевой, бабу ля, ржица и др ), и, наконец, болотных демонов (зыбочник, болотник, багник, лдзник, оржавеник. памха), которые, как можно судить по не которым свидетельствам, не имеют своего ярко выраженного специфического облика и оказываются чем-то средним между лешим и водяным еще и потому, надо полагать, что болото часто совмещается с лесом, с одной стороны, или с водным пространством — с другой, особенно когда на нем есть чистые, неноросшие и глубокие места (в таких местах живет вирбв ник-, от слова вир — 'глубокое место’, 'водоворот’). Таким образом, если леший в народной демонологии хорошо противопоставлен полевику и водя ному а тем более домовому и дворовым духам, то болотные демоны в силу чисто физико-географических факторов «нейтрализуются» с водяными и лешими и часто называются просто чертями.
Внешний облик лешего довольно подробно описан в уже упоминав шейся монографии Э. В. Померанцевой |Померанцева 1975]. Леший чаще всего антропоморфен, появляется в виде старика (ср. названия дедушко и т. п.) с седой огромной бородой, обычно совсем голый, волосатый, мохнатый, иногда в белом балахоне е широкими рукавами. Для него в некоторых этнографических зонах характерны длинные взъеро шенные, растрепанные и стоящие торчком (холминой) волосы, что является также признаком черта и некоторых других особей «нечистой силы». В отдельных зонах леший антропозооморфен, что отражает, види мо, более позднюю стадию представлений о нем; у него есть рога, коз лячьи ноги и т. п., что изображается уже на русских лубочных картин ках XIX в. Он может также иногда стать зверем, птицей, жеребцом. Характерным признаком лешего, во всяком случае на славянском Вос токе, оказывается его способность менять рост и быть то вровень с лесом, то скрываться под травинкой или листком, если он на поляне, па
Каков облик дьявольский?
259
лужайке. Очень существенна особенность лешего, хотя и не везде известная (отмечено в бывш. Смоленской губ. и др.), — увеличение роста по мере удаления от смотрящего на него по принципу обратной перспективы [Добровольский 1908а, с. 4] (ср. прием обратной перспективы в древнерусской живописи). Наконец, почти повсеместно, вез всяком случае у восточных славян, отмечается гомерический хохот лесного царя.
Все упомянутые? демоны локально привязаны, закрепленье. В каждом лесу свой леший, в каждой речке свой водяной, в омуте — омутной, в доме — домовой, и перевести его в другой, вновь построенный дом не легко — нужен специальный ритуал.
Но есть демоны иного плана — демоны сезонные, связанные с годовым, календарным циклом и появляющиеся лишь в определенное время года. Их в общем немного, и они «диалектны», т. е. известны только в отдельных зовах. К таковым следует отнести ссверновеликорусских шу-ликунов (шуликун, шалйхун, шолыхан. шилкун и др.), появляющихся только два раза в году из воды и вновь уходящих в воду на Святки (от Сочельника до Богоявления (Крещения), т. е. с 24.XII по 6.1 ст. ст.) и в Петровки (вероятно, уже в конце Петрова поста с Ивана Купалы до дня Петра и Павла, т. е. с 24.VI по 29.VI ст. ст.), в пору зимнего и летнего солнцеворота [Зеленин 1930а]. Как известно, это самая «опасная» пора — время наибольшего разгула «нечистой силы». На Святки же и рядятся шуликунами, и это имя шуликун в равной мере относится и к таким ряженым. Сезонны в некотором отношении и русалки, т. к., по верованиям великорусского и белорусского крестьянина (записи XIX, начала XX вв.), они после Семика или Троицы, т. е. после Русальных дней в заговенье на Петров пост (24.V ст. ст.), либо в первый день Петрова поста (25.V ст. ст.), либо на Ивана Купалу (24.VI ст. ст.), либо в канул Петрова дня (29.VI ст. ст.) уходят из воды в лес или в поле, с чем связан обряд проводов русалок и подобные обряды [Зеленин 1916, с. 237—253]. В некоторых местах переселение русалок происходит раньше: в бывш. Черниговской губ. (Борзненский у.) русалки появляются на земле в Страстной четверг, а исчезают в Петров пост, переселяясь в теплые места, в рай, а в бывш. Новогрудском уезде белорусские крестьяне считали, что они появляются из воды и живут на земле со Страстного четверга до поздней осени [Зеленин 1916, с. 222].
В той же белорусской среде кое-где в конце XIX в. бытовало представление о цикличности появления локального беса. Один и тот же бес-водяной, переселяясь согласно календарю с одного места на другое, менял свое имя и, надо полагать, и облик. Его сущность определялась, 9'
260
IV. Заметки по славянской демонологии
таким образом, двумя параметрами: моментом локализации («прописки») и моментом темпоральной приуроченности («сезона»), что видно из следующего описания. Бесы, согласно творимой легенде, появились па земле после падения с неба (Толстой 1974, с. 27, 28 — наст, изд., с. 245, 246]. «Дак который куды упав, там и сядить. Хто у воду — у воде; у болото — у болоти; у землю — у земле; на воболоках застрали — там и ждут вострашного суда. Одного тольки Водяного гоняют. Ето вторый дэмон нявидзёмый. Перший, бач, Поплешник, а Водяяый — вторый, — Оповденник зовёт ца. Дак яго Бог гоняя. До Хращеньня ён сядить у воде; а як пойдя стрел на Ирдапи, воду посветят, ён лезя на лозы — Лозовиком зовутъ. Сидить на лозах так до маслянки, а тогды иараходя на вербы. А як тольки посветить вербы у Вербницу, ён иде на явор. На Вялик-день Бог гоня яго з явора на жито. У жити ён тож ня довго уседя: на Юрья уже жито посвяцають. Тогды ён иде у тровы, на краски, на нвяты. и сядить там аж до Макавъя. На Макавъя, як посветят краски, ён иде на яблону и сядить там до Спаса. А уже с Спаса як посветят яблоки, ён знов лезя у воду и сядить там до Хращеньня. И ён цар над водой и над рыбой» [Романов 1891, с. 6] (ср. сев.-в. русск. шуликунов).
Вся эта упоминавшаяся выше в общем не очень разношерстная компа-1гия «нечистой силы» была в представлении народном не столь уж нечистой и дьявольской. Так, по старинным верованиям тех же белорусов (мест. Хотьславичи), со всеми этими демонами можно было христосовать ся, если соблюсти простое правило: «Ну, и вот жа, на вутрени, у Вяликод-ня, идзи зь яйцом у лес, к бурелому, ды скажытри разы: „Христос воскрес, хозяин полявый, лесовый, домовый, водзяный! с хозяюшкой, зь дзетками! Дык и выйдзець христосуватца. Вб!“ [Романов 1891, с. 6[.
Более враждебной и опасной ощущалась группа полудемонов человеческого происхождения, к которой относятся по д}>евним языческим представлениям, люди, не избывшие свой век, перешедшие «в мир иной» неестественным образом, без необходимых обрядов и т. п. и потому не порвавшие с земной жизнью, наполовину оставшиеся в мире земном. Таковы упыри, вурдалаки, вещицы (или ведуницы), отчасти ру салки и др. О1п< вредят роду человеческому и потому их следует опа саться. Северновеликорусские вещицы — воплощение болезней — могут подразделяться согласно своей специальности: среди них есть тресея, огнея, мимохода, лихорадка и т. п. Вещицы не знают оседлого образа жизни, они странствуют с котомками за плечом по белу’ свету. Такими же скитальцами, неприкаянными бродягами, хотя и на более ограни ченной территории, оказываются упыри, вурдалаки и т. п. Причастны
Каков облик дьявольский?
261
к «нечистой силе», но остаются людьми ведьмы, колдуны и т. и., хотя они и могут менять облик человеческий; ведьма может «перекинуться» лягушкой (в Полесье чаще всего на Ивана Купалу) и т. п.
Это все не дьяволы, а его слуги, приспешники, попутчики. Каков же сам облик дьявольский?
Он слагался в течение многих веков, слагался на обширных, не только славянских, индоевропейских, но и на неиндоевропейских территориях, заимствовался вместе с другими культурными заимствованиями, видоизменялся и осложнялся. Об этом можно написать множество исследований, и они для неславянского материала существуют в изобилии. Славянские же филологи и этнографы своего дьявола еще мало исследовали и имеющийся богатый материал не обобщили. Можно только сказать, что знакомый нам облик дьявольский с рогами, козлиной бородкой, довольно длинным хвостом, с козлиными ногами и копытами — это облик очень поздний и заимствованный, судя по всему, из Западной Европы. Более ранний облик, отчасти тоже книжный, зафиксированный в древнерусских миниатюрах XVII в. и особенно XVIII в., — антропоморфный. Это — черт с вытянутой шишом головой (часто лысый) или с торчащими шишом длинггыми волосами, голый, часто с крыльями за спиной, с небольшим (куцым) хвостом и с гусиными пятками. С этим обликом, видимо, согласуются отдельные русские диалектны»' названия черта типа шиш, шйшко, шишйга, луканько (по форме головы), беспятый, куцый, куцак, куцан, корнахвостик, голень кий, лысой, лысый бес и др. Известны и древнерусские изображения той же поры без крыльев и хвоста, когда беса помимо наготы определяют тор чащие «шишом» волосы и высунутый язык (вроде «тещина языка») или те же взъерошенные волосы и вывороченная наизнанку шуба с навешанными на нее тыквами. Последний чертовский облик почти повторяет внешний вид и костюм русских святочных ряженых, болгарских «нукеров» или словенских «корантов». Такой облик уже не антронозоо морфный, а, по сути дела, чисто антропоморфный.
Число локальных (диалектных) разновидностей черта, надо полагать, довольно значительно, хотя эти разновидности плохо выявлены, а во многих случаях к тому же они являются результатом скрещения ста рых народных представлений с новыми книжными образами. Древнерусский «книжный» черт в свою очередь возникал под сильным народным влиянием. Анализ этих сложных соотношений станет возможным лишь после того, как будет собрана и предварительно классифицирована (по источникам, по жанрам, по контекстам) коллекция древнерусских изображений черта (преимущественно XVII—XVIII вв.), см.: [Успен
262
IV. Заметки по славянской демонологии
ский А. 1907; Буслаев 1861; он же 1886], е одной стороны, и полнее собраны и систематизированы сведения о диалектных обликах черта — с другой. Руководимые последней задачей, члены Полесской лингвоэтнографической экспедиции провели в 1974 г. сбор материала по полесской народной демонологии (Брестская и Гомельская обл. БССР).
Но прежде чем излагать полесские представления о черте, его облике и повадках, отметим некоторые общеславянские и, можно было бы сказать, общеиндоевропейские, даже почти универсальные признаки черта. В отли чие от рассмотренных особей нечистой силы черт локально не ограничен, его пребывание и место жительства не ограждено домом, или лесом, или водным пространством, как у домового, лешего или водяного. Он может появиться «на грешной земле» везде, даже в церкви в неурочный час. Эго одно из главных его свойств. Другим его свойством является отсутствие сезонности — он может действовать в любое время года в отличие от шулику нов, или русалок, или белорусского лозовика в большинстве локальных традиций. Есть, разумеется, и любимые места его пребывания — «разыход-ные дороги» (развилки дорог, росстани), болота, топи, лесные чащобы и «меречи», — и излюбленное место действия — полночь или вообще время от захода солнца до первых петухов (реже полдень), в году — Святки и канун Ивана Купалы и т. п.; но это время не лимитировано строго, и в общем черт может появиться везде и всегда на зов или без зова.
Архаический полесский черт или зооморфен, или антропоморфен, но не смешанно антропозооморфен. «Чистая» морфология черта делает его часто неузнаваемым, т. к. он ничем по облику своему не отличается от кошки, собаки или младенца (или парня, или человека). Лишь способность к необычайным действиям (сидеть на колесе, когда оно крутится, или не тонуть в воде — применительно к грудному младенцу, бросаться все время под ноги — применительно к черному коту) может с самого начала выдать в нем черта, но наиболее ярким показателем черта оказывается его пристрастие к быстрым метаморфозам, из которых обычно завершающей оказывается превращение в вихрь, т. е. обретение нулевой «морфности». Несколько быличек, дающихся в приложении, хорошо иллюстрируют изложенное. Возможность превращения в зверя или пти цу зафиксирована локально (диалектно) и применительно к лешему, к русалке, наконец к простому смертному, т. е. к человеку (см. верования об оборачивании людей в волков или в свиней и т. п. в том же Полесье и других зонах), однако она в суеверных представлениях не ведет к быстрой метаморфозе в вихрь и не сопровождается при этом характерным для черта (злэго по-полесски) шумом и свистом.
Каков облик дьявольский?
263
Верование, что вихрь — это черт или что в нем «прячется» черт (иногда два черта), известно почти всем славянам. На Русском Севере архангельцы рассказывают сказки про Вихорь, который схватил трех царевен и унес их «за темные леса, в подземное царство», или про черта, который с Груманта (Шпицбергена) носил молодца «вихорем на Русь» [Ефименко 1878. с. 236]. У сербов бытует заклинание, предохраняющее от бед при вихре: «Вук (или мечка) ти на пут, трмка ти на главу, иди под лево колено, не иди на мене!» (Волк (или медведь) пусть тебе повстречается (дословно: 'на до-рогутебе’), корзина (конусообразная) тебе на голову, пройди под левым коленом, не иди на меня!) [Кулиший и др. 1970, с. 71]. При этом сербы обычно крестятся, плюют и бросают камни в вихрь, т. е. в столб пыли с листьями, соломой и т. п. Восточные славяне «вихорь» (сильный вегер, поднимающий пыль столбом) почитают за беснующихся и кружащихся не чистых; если бросить в вихрь нож, то он будет в крови, ибо заколет много нечистых» ([Зеленин, 2, с. 802] — бывш. Васильевский у., Нижегородской губ., запись 1860-х годов). В приведенном сербском заклинанье интересен фрагмент «трмка ти на главу!», в нем, видимо, речь идет о конусообразном «головном уборе» черта, известном по древнерусским изображепи ям. По вологодским и новгородским представлениям, черта в вихре можно увидеть, если наклониться или встать на четвереньки и посмотреть на него промеж ног [Иваницкий 1890, с. 120]. Двух чертей в вихре в облике стариков с большими носами, с рогами и собачьими костистыми ногами видел, по преданью, нижегородский мальчик, перенесенный вихрем из дому в лесок после проклятия матери — «Вихорьтебя (пусть) возьмет в окошко! Поди жри да подавись!» ([Зеленин, 1, с. 120] — бывш. Васильевский у.). На вихрь нельзя кричать, а если крикнуть «Натолку чесноку, да в с..ку зо-бью!», он может наделать больших бед — сорвать крышу и т. п. (чеснок, как известно, мощное охранительное средство) [Иваницкий 1890, с. 120]. От вихря, по представлению полешуков, возникает чертово гнездо (омела), от него же происходят многочисленные болезни. Если вихрь человека примнет, то тот долго чахнет и хворает, а если поднимет вверх, то человек либо помешается умом, либо заболест черной болезнью (падучей) [Пет ров В. 1927]. В вихре суеверный славянин видит свадьбу черта с ведьмой, сватов черта (ср. у А. С. Пушкина — «...ведьму ль замуж отдают?»), чертовскую пляску после попойки и т. п.
Вихрь, таким образом, «нулевоморфный», невидимый облик черта, демонстрирующий лишь его силу’ и злую направленность. Известны, однако, случаи (в заговорах, например), когда вихрь упоминается как отдельная особь нечистой силы наряду с лешим, водяным, бесом, бесовкой, дьяволом
264
TV. Заметки no славянской демонологии
и т.п. (бывш. Новгородская губ.), см.: [Померанцева 1975, с. 117]. О вихре как о дьявольской сущности и о славянских верованиях, с ним свя занных, можно было бы написать отдельное небольшое исследование, од нако мы ограничимся этим фрагментарным обзором. Столь же отрывочны будут и наши указания на зооморфный облик черта — облик кошки. Пред ставление о кошке-черте, в виде клубка катящегося под ноги, довольно древнее и широко распространено на Украине. По сути своей оно — обще славянское и даже значительно шире — присущее многим народам, но в наших этюдах мы сознательно и преднамеренно не выходим за рамки славян ского этнического мира. От кошки, прежде всего черной, славяне уберега ют покойника, чтобы она не перепрыгнула через него и он не стал упырем и т. д., и т. п. Достаточно древнее и представление о черте-собаке, особенно черной, и о черте-младенце и черте-человеке. Ряд таких меморатов записан нами не так давно в Полесье. Смешанный зооморфно-антропоморфный об лик, по нашему мнению, более поздний. Он нашел довольно яркое, хотя отнюдь не раннее, отображение в изобразительном искусстве, потому что сама форма этого искусства требовала каких то внешних признаков, отличающих облик просто животного или человека от облика черта. Первым таким чертовским признаком, однако также, вероятно, не очень древним, был признак остроголовости. Но об этом также следовало бы писать подробнее. Поэтому отметим лишь в заключение, что народная демонология — один из основных, основополагающих моментов так называемого народно го «двоеверия», т. е. своеобразного сосуществования или симбиоза христи анства и язычества, признаваемого почти всеми исследователями народной славянской духовной культуры. С другой стороны, народная демонология была важным связующим звеном или даже базой для такого «двоеверия», ибо догматическое христианство и одна из форм его — православие говорит о существовании диавола как некоего злого начала, противопоставленного началу добра — божественному началу'. Именно в связи с этим моментом следует сказать, что «двоеверие» оказалось не просто одновременным существованием двух вер, или единой веры с двумя формами ее проявления (une langue a deux termes, по Л. В. Щербе), а значительной адаптацией язьиества по отношению к христианству ’, подчинением его дихотомиче-
1 Нельзя не признать контаминации образа Перуна Ильи в народном представлении об Илье, или Велеса—Власия, Мокоши Пятницы в тех же представлениях, проникших в так называемое «бытовое христианство», но нетрудно заметить, что эта контаминация коснулась прежде всего «богов высшего порядка» (по терминологии Е. Вагарова и др ), а не богов порядка низшего, т. е. духов земной природы
Каков облик дьявольский?
265
ской корреляции плюс — минус (добро — зло), в которой прежней языческой вере предоставлялось место преимущественно со знаком «минус».
Характеризуя это положение в самых общих чертах, можно сказать, что на смену ранним славянским религиозным представлениям, по которым языческие демоны (боги или духи, силы природы и т. и.) населяли твердь небесную и земную, пришло новое, христианское представление, по которому небо принадлежит «силам небесным», а демоны языческие, превратившись в «силу нечистую», остались преимущественно на земле. Так народное «двоеверие», благодаря своему двуединству, в каком-то отношении превратилось в народное «единоверие», черты которого сохранились и по сей день. До христианства, в представлении славян, надо полагать, не было «силы нечистой» и, уж конечно, «рати Христовой», а была лишь одна сверхъестественная сила, имевшая довольно неясные и расплывчатые формы и населявшая, по верованиям древних славян, весь окружавший их мир.
Христианство противопоставило небо преисподней, а в известном смысле и земле. Бог, по христианской символике, — на небесах, дьявол — в аду, в пекле. Богу и черту одновременно до недавнего времени молился и покло нялся потомок славянина-язычника, привыкший чтить все силы природ ные: реки, деревья, гром, солнце и т. п. Белорусский крестьянин говари вал: «Пастау Богу свечку, а чорту’ две» (число два — нечетное, бесовское. — Н. Т.), или «Пон свае, а чорт свае, аддай маю малитву» [Dybowski 1881, р. ]6|, а русский ему вторил — «Богу молись, а черта не гневи!» На этом основании возникали ситуации, описанные Н. Л. Иваницким: «Благоразумный человек должен всячески стараться жить с дьяволом в мире, и ее ли не угождать ему — за это опять последует наказание от Бога. — то, во всяком случае, задабривать его всеми позволительными средствами. Известны случаи, что дьяволу ставят свечи, известно и то, что в церкви где нибудь да нарисован дьявол, наконец и то, что некоторые богомазы па загрунтованной доске пишут сперва изображение дьявола, и когда это изоб ражение высохнет, снова загрунтовывают и уже на этом втором грунте изображают угоди и ка» [Иваницкий 1890, с. 119]. Подобная ситуация как будто подтверждается одним эпизодом из жития московского юродивого Василия Блаженного. «В юродстве, — пишет Л. М. Панченко, — парадоксальность выполняет функцию эстетической доминанты. О том же Василии Блаженном рассказывали, что он на глазах потрясенных богомольцев раз бил камнем чудотворный образ Божьей матери на Варварских воротах. Оказалось, что на доске под святым изображением был нарисован черт»
266
IV. Заметки по славянской демонологии
О
[Панченко 1974, с. 150]. Нельзя, однако, не высказать подозрения, что достоверность таких фактов, как писание на одной доске рожи дьявольской и лика святительского или пречистого, весьма шаткая. Не относят ся ли подобные сообщения к еще одному сюжету быличек, которые, как известно, всегда рассказываются как истинные и конкретные события? На эту мысль, в частности, наводит нас и следующая бытовая зарисовка из малороссийской жизни, сделанная в 1884 г. в бывш. Киевской губ. священником Борисом Н-ским. Привожу ее в значительном сокращении: «Вечером поздней осенью (10 ноября) я увидел, как загорелась на ша трактовая корчма... <далее следует шшсание пожара, обнаружение автором агонизирующего, тяжело раненного ножом хозяина еврея, уби той хозяйки-еврейки, падение печной трубы и т. д.> ...Вижу: выгнан ные мною из средины корчмы собрались кучкою и что-то рассматрива ют, поснимали шапки, крестятся, другие подходят к ним. Я туда к тол не, и что же оказывается? Но... тут маленькое отступление. Со введением новой акцизной системы стало обязательно иметь в корчмах выве ски. Наши громадине поговаривали, что будто бы маляр старую доску с иконы св. Николая, закрыв покостом, употребил для вывески. Подвы пившие иногда ругались с шинкарем за неотпуск на бор горилки, угрожали ему, попрекали его этой вывескою. Корчмарь ограждал себя тоже руганью и угрозами... никто не рашался проверить молву. Вот эту-то самую вывеску и рассматривали теперь громадяне с Михаилом во главе. Все, говорю, поснимали шапки, крестились. Что же я увидел? Покост масляный попузырился от огня, масло выступило каплями, вся доска окончена дымом и в переливах пожарного освещения представляла подобие старого, закоптелого, выцветшего образа. Но тем не менее посредине отчетливо виднелись буквы надписи: „ровск..." „актов..." „орч ма...“ „щици..." „ковниц" „Габ...“, что означало: „Дударовская тракто вая корчма помещицы полковницы Габель". — „Ось святитель Миколай объявився! — сказал мне Михайло, держа в руках вывеску, когда я подошел и протолкался в середину толпы. Я рассмотрел вывеску, увидел вышереченную надпись и указал Михайлу буквы. — „Дсж тут Миколай? Вы же Михайло грамотни, читайте!" — указывал я ему... Я вырвал из рук его доску, швырнул ее к сложенным вещам, вытащенным из корчмы, и с руганью разогнал публику тушить пожар. На другой день при дневном свете все обозрели эту вывеску и ничего похожего на икону в ней не нашли...» [П ский 1885, с. 257, 258].
Мотив двойного изображения — божеского и дьявольского на одной до гке зафиксировал также в конце прошлого века в бывш. Тихвинском у.
Каков облик дьявольский?
267
Новгородской губ. (д. Будогоща Кукуйккой волшти) В. II. Перетц в быличке (или легенде), которая была посвящена теме мести черта кузнецу за его поругание. Месть эта заключалась в том, что черт, наняв шись к кузнецу молотобойцем и проработав у него три года, перековал своего дружка черта, выступавшего в облике немощного старичка, в мо лодого крепкого парня и тем побудил хозяина кузнеца сделать тот же опыт со своей матерью, которая при этом просто сгорела в горниле.
Начало этого повествования такое: «Жил в деревне мужик, и кузни ца была у него. Был он хороший человек, никого не обижал, не обма нывал; часто к обедне .ходил. Все его любили, и всю бы жизнь свою он прожил по хорошему, кабы только враг (черт. — Н. Т.) на пего не обиделся. Была у него в кузнице, на правой стороне, как войти, нко на — Спас премилостивый, а на другой стороне, на доске, враг намале ван как есть, с рогами, с хвостом и весь в шерсти. И всякой раз, как войдет кузнец в свою кузницу на работу, Спасу помолится, а на врага харкнет и плюнет: всего его заплевал. И часто сожалел кузнец о том. что нет у него молотобойца, а одному работать несподручно: иной рабо ты иначе как вдвоем и не справить. А мастер он был первый в тех местах...» [Перетц 1894, с. 12. 13).
По, может быть, все же когда-нибудь искусствоведы и найдут подоб ную доску с двойным изображением — дьявольским и святительским?
Приложение
Пояснения: 1. г=у; 2. / / — добавления собирателя; 3. < > — толкование собирателя.
Ja, jaK був шэ пацаном, так служив у Кокбрыцы у чоловйка. Toj чоловгк звавс'а Васыл'. А в joro брат був, звавс'а Рыгбр <Гри горий>, брат. Гото Mui росказвав Toj чоловгк, у которого ja служив. toj хаз'аш. I Toj брат за]мавс'а вщмарством.
I вот прыхбдыт' до joro одын раз <Рыгор>, — с'ватбк <праздник> таки), с’вато было — говорит: «Брат Васыл'! Ходгмо мы, шщдэм, jajen пазб1ргуемо» — тых диких, дйкых jajen, там такьщ по jixHOMy кручкы <вороны> назывгууца, котбры nrrajyr i воны пысуца в такум болоты топкому шо трудно jix i збграты. «От, — говорит — мы nojixa-лы i 36ipajeM jajua Tbiji i чу]’ем плачэт дыт’а М1ж’ -rajy купынсуу». A там купина <болотные кочки, растительность на кочках> така)а, шо
268
IV. Заметки по славянской демонологии
значит' (xwi'iuaja, во! по шьду. А там вода вкругову)у. «Ну, — мы ка жэм — ну, н'ака брод'ага маты покынула дыт'а ~ вонб ж мбжэ вто пьггыс'. Дава] под]'едэм до гэтого дыт'ата. Поддхалы, — кажэ — мы до гэтого дыт'ата шо плакало; ужэ гэтэ дыт’а ны плачэ алэ дывыца на нас. Мы гбка]ем: «laj, жынбчына, жыночьгна! Дэ ты, нашо <за-чем> то дыт’а <покынула>, то ж утбпыца, дыт’а!» Нико] ч'утки ны-Maje <ничего не слышно>. Шо, — кажэ — ja надумавс'а шо трэба вз' аты joro додбму, гэтэ дыт'а». I вун кажэ — joro у лотку посадылы, прэвэзлы вжэ додбму. Лак додбму прывэзлы i посадылы за столом joro на лавщ. Лак посадьшы за столом, jaK побачыло, значыт', гкбны, образы, так кул'кы дуж стул' <сколько есть силы оттуда> под п'ёчку сразу, сразу пуд п'ёчку. Гэто ж вун мш говорыв так. А то] ужэ Ры гур, joro брат, кажэ: «Очын'а] <открывай> хату i они, бо, — кажэ, вун To6i зарэ <сейчас> путолбк зорвэ.» И вун ic свыстом i з грохотом i з выском <визгом> jaK дунув, то, — казав — д'в! такых тбвстых тбв-стых бэрэзыны на надвурку строшчыв ]ому, поломав i лотов. А то чортбув. О!
А то] ужэ человгк, joro брат, ужэ, значыт', вун ны научывс', му-сыт' <должно быть>, дббрэ вжэ за вщ'мара, да вэл'мы ужэ Kaja-вс'<а>. То вжэ дэ jfnp, дэ ]дэ, то ве'о хрыстьща i cniBaje с’ватьце мо лггвы, Богу мблыца, о!, Toj Рыгбр. То ja это сам бачыв, jaK вун Богу мблыца jaK i хрстыца, jaK i cniBaje ](дучы, то ja вс'о того xas'ajiHa пытав: чогб то, даду, чогб то вун гэто вс'о с'ватьф молггвы гэтэ всэ по]ё цэркбвньщ, а вун кажэ: «Вун гэто ужэ Kajefia перед Ббгом, шо, — кажэ — каб ]ому Буг простыв гриха, шо вун за ввд'мара гучывс' <учился>».
С. Кокорица находится на Споровском озере на противоположном берегу от с. Спорово Записано С. М. Толстой от Василия Петровича Липского (около 70 лет) в с. Спорово, Березовского р-на, Брестской обл. в июле 1974 г.
/Изложение чужого рассказа/ «От, ja, — кажэ — ji,Ty лбтко]у i дьпуус' — кажэ — Kaj вэсла ]дэ дытатко такэ]е малэн’кэ, гблэн'кэ. Ла, — кажэ — пхнус' i вонб ]дэ, ja пхнус' у вощ, i вонб ]дэ, тэ]э дытатко. Так, — казав — мо <может быть> два кыломэтры вонб jiwio за jiM. Эго вун jixae уу л!с каналом. I пыд]£хав, такы) корч <куст>, — казав — був, вжэ в этому: в розд'брах <в развилке каналах Гэто в розд'бр урхав вун ужэ i, — кажэ — пыд Toj корч, jaK увл!зло raje дыт'а в Toj корч, да пошло выхром, да пошло
Каков облик дьявольский?
260
шумл'ачы <шумя>... Ныма вжэ того дыт'ата, загынуло. Алэ выхор такъц с того дыт'ата, с тар воды; вода прамо вгбру 1зн'алас' да в Toj корч i пошла шумл'ачы, лком...» вжэ бул'ш вун ныц ны обачыв. Но это говорат', это вжэ чорт. Вун табэ шунт: jixaB, jixaB, нбсл1 вжэ забравс', да i нолэтгв.
Записано С. М. Толстой от Марии Григорьевны Лютьгч (около 70 лет) в с. Спорово в июле 1974 г.
/Изложение рассказа соседа/ «1ду ja раз вв'эчыри додбму. BbijinoB ja на Муховэц', аж доу мынэ пуд нбгы кбтык всэ кбтыц'а. Шо гэто? — pyMajy. А вын вс'о пуд нбгы3, а вын вс'о пуд нбгы Ну, ja догадавс'а шо ужэ гэто.. Був у мынэ кьц. Вз'ав joro в лгву руку i от сыбэ jaK т'ау <ударил> joro... Лак зашумыт', jaK закрычыт', jaK польгпло в сторону. ,,Oj забыв! <убил!>. Oj забыв! — крычыт' — Oj забыв!" Ja eajiuoB додбму, шэ вывюв <вы-вел> жынку, шэ тоды всэ крыч'ало i дал око: ,,0j забыв! Oj забыв!" Вот!»
Записано С. М. Толстой от Данилы Федоровича Климчука (около 70лет) вд. Симоновичи Дрогичинского р-на Брестской обл. в июле 1974 г.
То быв дад i маты була, в jix була маты... ну, jix ш там п)ат'бх <пятеро> булб. Ну i сшы <сели> /воны/ пид корчэм <под кус-том>, OBjoc уввэс' <весь> 1жжалы <сжали> i положылы jord на cyxoBjaa' i сшы. I вжэ дава) Прокун сшваты — тсн'у с'ватэду <песню о св. Прокофии>. /А голос/ кажэ, шо ты гэтого ны cni-Baj. Ны cniBaj, — кажэ — этьф шсш с'ватэ]!. I jaK вьцшов выхор ic корч'а, так схватыв куп тры того овса, nonic, ныдэ <нигде> j гэтого ны осталос' j o/jHaji овсыны <ни одного стебля овса>, ввэс oejoc Toj понТс увгбру. Ны оставыв...
Записано Н. И. Толстым от М. Г. Лютыч в июле 1974 г. В расшиф ровке записи помогал Ф. Д. Климчук.
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Заметки по славянской демонологии. 2. Каков облик дьявольский? // Народная гравюра и фольклор в России XVII—XIX вв М., 1976 с. 288- 319
Шуликуны
На русских «загадочных водяных демонов — шуликунов» (выражение Д. К. Зеленина) впервые обратил внимание Ломоносов. В своих черно вых набросках и заметках о русской мифологии, еще недостаточно исследованных (см.: [Азадовский 1958, с. 88, 89]), он дал списки известных ему и, по-видимому, наиболее существенных, с его точки зрения, персонажей и предложил параллельную схему римской и русской мифо логин (тем самым как бы построив предварительную систему русской мифологии по древнеримской модели). Например: «Лешей, полудница, шиликун, водяной, домовой, бука, нежить, кикимора, яга баба, обмены, вспометовать всех их действия. Змей летает, с лешим бутто бабы живут. Русалка» (л. 15); «изъян, помха» (л. 149)
«Юпитер Перун Шуликун
Юнона Коляда 3дунай
Нептун Царь морской Дида
Тритон Чуда морские Яга-баба
Венера Лада Обмен
Купидо Леля Змей летучей
Церера Полудница и т. д. Гиганты волоты пежити кикиморы»
(л. 149 об.)
[Будилович 1869, с. 31, 32, Ломоносов 1940, с. 314. 315].
1 Рукопись М. В. Ломоносова с заметками по русской филологии находится в Архи ве РАН (ф. 20, on. I, № 5, л. 15 и л. 149)
Шуликуны•
271
Как видно из цитат, шиликун, подобно некоторым другим персонажам (Яга баба, кикимора), повторен дважды, притом в первом случае шиликун отмечен третьим по порядку, а во втором случае — первым. Правда, он не охарактеризован в смысловом отношении,, и ему не нашлось параллели в древнеримской мифологии 2.
В течение целого столетия и более слово шиликун не привлекало к себе внимания ученых и лишь к концу XIX в. заинтересовало исследова телей в связи с его бытованием в якутской среде (в форме селиканы, сюлюканы). В 70—80-х годах XIX в., не задаваясь целями лингвистиче екого анализа и подробного этнографического описания демонологиче ского персонажа, А. Павловский и А. П. Щапов писали о якутских сю люканах как о компоненте якутской мифологии, который был затем заимствован русским населением Сибири (сибирск. Иркутск, шиликун, шиликуны) [Павловский 1863; Щапов A. 1872J. Однако еще в конце XIX в. В. Л. Серошевский указал возможность обратной ситуации — влияния в этом случае русских на якутов [Серошевский 1896, с. 670]. Згу мысль в 20-х годах нашего века поддержал и развил известный си бирский этнограф и фольклорист Г. С. Виноградов, посвятивший инте ресующей нас проблеме отдельный очерк «Шулюканы. Заметки по во просу о культурном взаимодействии русских и якутов». Он показал, что название и носящий его персонаж известны далеко за пределами Якутии (шуликун, шиликун и т. п.) и распространены в районах, не находившихся в каком бы то ни было соприкосновении с якутами (в Сибири и на Русском Севере); и более того, если шуликун и неславянского происхождения, то «к якутам принесен славянами и вошел в мифологию якутов вместе с христианством» [Виноградов Г. 1927, с. 23]. С этим положением вполне согласился Д. К. Зеленин, посвятивший севернорусским шулику-нам обстоятельную работу, значение которой велико и в наше время: «Непонятно распространение этого имени с крайнего востока Азии на север Ев ропы; противоположное направление, вместе с русской колонизацией Сибири, было бы много понятнее» [Зеленин 1930а, с. 236, 237] 3.
2 О близости М. В. Ломоносова к целостному (системному) восприятию русских мифологических персонажей можно судить по черновым заметкам: «Мы бы имели много бас ней как Греки, естьли б науки в идолопоклонстве у россиян были». И он, видимо, считал нужным сделать описание мифологических персонажей, их действий, ситуаций и т д.
3 С чисто лингвистической точки зрения при переходе Якутск, сюлюкун в русск. шу ликун едва ли понадобилось бы изменение с > ш, а при заимствовании из русского обратные процессы естественны.
272
TV. Заметки no славянской демонологии
Д. К. Зеленину принадлежит и самое подробное пока описание русских народных представлений о шуликунах и того славянского этно культурного контекста, в котором они выступают. Шуликун обычно не живет в одиночку; шуликуны живут группами, ватажками. Они малы ростом, иногда с кулачок, иногда побольше. На Святки от Рождества до Крещения (Богоявления) они выходят из воды, бедокурят, затем на суше исчезают. Из воды, из крещенской Иордани после водосвятия они вылезают, позднее снова туда возвращаются, но могут забраться и в дома, и тогда в амбарах, благодаря им, незаметно кончаются припасы (Русское Устье Якутской обл.) [Зензинов 1913, с. 199]. В некоторых зонах водная ипостась демона была выражена неярко или вовсе отсутствовала. В тобольских деревнях говорили на Святки: «Шуликун утащит кудельку» (так пугали ленивых прядильщиц, побуждая их к Святкам выпрясть куделю) [Патканов, Зобнин 1899, с. 517]. В пермских краях остроголовые шуликуны «в Святки толклись на перекрестках дорог, а также около прорубей, путая православных». В Сибири шуликуны «подкарауливали все, что кладут не благословись, и все это была их добыча» [Зеленин 1930а, с. 233]. Там же взрослые пугали детей словами «не ходи в лес — шуликун пымает» (картотека СРНГ в ИРЯЗ РАН в Петербурге). Эти факты, так же как и обильный новый полевой материал из Архангельской обл. и из бывших губерний Олонецкой, Пермской и Вятской, показывают, что внешний облик шуликунов, их функции, наконец, их сезонность полностью укладываются в стандартные рамки славянских и, шире, европейских представлений о демонах, действующих в период зимнего двенадцатидневья. Этот «бесовский сезон» известен у сербов под именем «некрещеных дней», «нечестивых дней», «бабиных дней», «несчастливых (несрейни) дней», у болгар — «поганых дней», «ка раконджовых дней» и т. п. При этом сербские и болгарские каракопд-жулы имеют много параллельных черт с шуликунами. Такую функциональную идентичность шуликунов с водяными (вологодск.), некрещены ми детьми — «потерчатами» (белорусск.), чертями, сидящими в воде (украинск.), отмечал и Д. К. Зеленин, указав, что на Русском Севере шуликунами называются и святочные ряженые, внешний облик которых, как известно, схож и с балкано-славянскими колядовщиками (ко-ледарами, джамаларами и т. п.).
Но если в славянской сущности, в славянском характере шуликунов Д. К. Зеленин не сомневался, то славянский облик, славянские истоки самого слова шуликун он отрицал: «Слово шуликун, безусловно, неславян ское по своему происхождению». Наиболее веским аргументом в пользу
Шуликуны
273
своего мнения о неславянской этимологии слова шуликун он считал его неустойчивость и приводил варианты слова: селикан, шеликан, шалыкан, шолыган, шилихан, шулюкан, шуликан, шиликун, шилкун, шаликун, шуликун, шелюкин [Зеленин 1930а, с. 237] 4. Однако этот аргумент без анализа материала очень шаток: во-первых, слово шуликун принадлежит к такой сфере лексики, где возможны экспрессивные фонетические и словообразовательные «сдвиги»; во-вторых, важно принимать во внимание географию слов, иноязычное окружение, контакты (см. сноску 4). Попутно отметим, что русское (восточнославянское) слово шулик, шуляк 'коршун’ имеет варианты шульпек, шулйка, шулёк, шулёка [Толстой 1970, с. 263] (об этом несколько подробнее будет сказано далее).
Истоки слова шуликун Д. К. Зеленин искал в Волжской Булгарии и считал, что, возможно, «волжские булгары бьыи центром, откуда в глубокую старину распространялось это слово вместе с самим понятием». Далее он заключал: «Очень близкий к шуликуну демон вожо волжских финнов и чуваш почти не оставляет сомнения в том, что волжским булгарам был известен соответствующий мифологический образ. Из турецких языков наше загадочное слово шуликун легко объяснимо. В османском, джагатайском, барабинском и казак-киргизском языках известно слово sultik в значении пиявка. Предполагаемое турецкое sulilk-kan означало бы хан пиявок, что вполне приличествует мелким водяным духам, детишкам водного хозяина» [Зеленин 1930а, с. 234] 5. Так возникла первая — тюркская — этимология слова шуликун.
Возможность заимствования слова шуликун из якутского и из коми языка одновременно (т. е. из тюркского и угро-финского) предположил в
4 К сожалению, Д. К. Зеленин не обратил внимание на географию «вариантов», из которых некоторые (единичные) могут иметь иную этимологию или оказаться результатом контаминации двух разных этимонов (корней). В приведенном нами списке Д. К. Зеленин начал с «окраинных» примеров — с сибирских и тех, что зафиксированы в зоне якутско-русских и подобных контактов. Для этой зоны характерны переход ш > с и смягчение лю, сю и т. п. Ср. зафиксированное у русского населения Колымы в конце XIX в. шелюкин (шеюкин) 'водяной дух, живущий в проруби, но по ночам выходящий на лед’. Ср. также запись В. М. Зензинова шёликаны и селиканы [Зензинов 1913, С. 199]. Если учесть географию и языковые контакты, картина окажется довольно упорядоченной и совсем не такой пестрой.
5 Далее следует еще более фантастическое: «В джагатайском языке отмечено sidu
в значении 'какой-то плод желтого цвета’ (В. В. Радлов); если это желтые водяные кувшинки (Nymphaea), то это значение вполне мирилось бы и с пиявкой siduk, и с шу ликунами* [Зеленин 1930а, с. 237]
274
FV. Заметки no славянской демонологии
1977 г. Р. Г. Ахметьянов. По его мнению, коми Sulejkin 'водяной', тат. ди-ал. башк. Sidgdn 'злой дух’, позже 'подводный царь, имеющий под водой бесчисленные стада скота’, русск. диал. шуликун 'нечистый дух’, 'ряженый’, якут, sulukun 'хозяин подводного мира, разводящий скот’, «по всей вероятности, являются звеньями одной цепи». Он видел в фонетически приближенных тюркских и утро финских формах одно общее — булгаро чувашское — начало, восходящее в свою очередь к монголо-китайскому источнику, сближая их с кит. шуй луч 'водный дракон’, шуй лун хуан 'император водных драконов’ и др. [Ахметьянов 1977, с. 98, 99; он же 1981].
Не имея возможности подробно анализировать здесь сопоставления и примеры Р. Г. Ахметьянова, ибо это заставило бы углубиться в материал тех языковых семей, которые находятся вне сферы наших специаль ных занятий, мы должны отметить произвольность таких сопоставлений, как кит. шуй лун хуан и русск. шуликун, разделенных огромным пространством, временем возникновения и семантической сущностью. Приблизительное фонетическое и еще более рискованное семантическое и функциональное сближение (по связи с новогодним обрядом) делает рассуждения Р. Г. Ахметьянова малоприемлемыми, во всяком случае для этимологии русского слова шуликун. Сомнительно и предположение о различном происхождении русского шуликун (заимствование на Русском Севере из языка коми, а в Якутии — от якутов). И все же в принципе и применительно к другому материалу нельзя отрицать некую общ ность древних евразийских представлений о сверхъестественной силе и полезность изучения фактов этого огромного макроареала, в котором взаимодействовали «культурные циклоны» с Востока на Запад и с Запада на Восток, однако следует начинать его изучение с более надежных сопоставлений в меньших и более четко очерченных зонах 6.
Финскую этимологию слова шуликун предложила двумя годами раньше Р. Г. Ахметьянова (в 1975 г.) О. А. Черепанова в своей заметке о севернорусской демонологической лексике. Она обратила внимание на запись А. Я. Мшгха, относящуюся к мордовскому населению Саратовской губ.: «На голову бабы надевают нечто вроде мешка, спереди твердо вышитого разными шерстями, преимущественно красной, блестками и мишурой. Это — шалыган, в который они убирают голову совсем с ушами, так что и волос нигде не видно, кроме как на висках...; сзади
8 На этом основании более убедительным оказался у Р. Г. Ахметьянова анализ та ких слов, как nardugan 'святки святочные игры, гадания' (тат., башк., чуваш., удм., морд ), Sural ’леший’
Шуликуны
275
шалыган стягивается завязкой и опускается на спину белым холщевым или коленкоровым четырехугольным концом» [Миих 1890, с. 9, 10]. Затем она из разных, известных ей «фонетических вариантов» выбрала форму шилихан как исходную, не установив, что она относится к единичной пока фиксации А. А. Шустикова в Вологодской губ.7, и, не проверив ее этимологию, построила ряд шилихан — шиликон — шили кун — шуликун [Черепанова 1975, с. 136]. Однако если считать все эти слова этимологически связанными (что требует некоторой проверки), то следует на основании частотности зафиксированных вариантов и, глав ное, их географии устанавливать, пожалуй, обратный порядок развития форм и брать за исходную форму шуликун. Эта форма с вариантом ши ликун и является самой распространенной и хорошо сохранившейся до сих пор. Мордовские истоки русского слова шуликун маловероятны не только из-за значительной удаленности саратовской мордвы от бывш. Архангельской, Олонецкой, Пермской и Вятской губ., но и потому, что русские шуликуны в большинстве своем остроголовые или в ос троконечных колпаках (почти русское и общеславянское явление; ср. древнерусские изображения бесов), что, кстати, отмечает и сама О. А. Черепанова: шуликуны — бесы в остроконечных шапках...; шули куны — люди, имеющие вытянутую по форме голову (по данным Г. И. Куликовского и др.) (там же, с. 135].
О. А. Черепанова с некоторой и, безусловно, обоснованной осторож ностью («менее вероятно, но все же допустимо») предлагает тушуео маньчжурскую (эвенкийскую) этимологию от эвенкийек. хулихун 'маленький (по размеру)’ (ср. хули 'малыш’). При этом снова в качестве аргумента приводится наличие этого слова (хотя и в ином фонетическом обличье!) в русских говорах около Иркутска, Тобольска и на Кам чатке8. Но вновь можно задать вопрос: не в ином ли направлении шло культурное и языковое влияние в эпоху, когда русские переступили за Камень (Урал), и какие заимствования из эвенкийского известны в рус
7 Рукопись А. А. Шустикова «Этнографические материалы из Тавреньги Вельского уезда» (Архив РГО), относящаяся к 90-м годам XIX в., содержит следующую запись: <И1и лыханы мальчишки, пакостники и шалуны, живут в заброшенных постройках и пустых сараях, непременно артелями; они дразнят пьяных, кружат их и толкают в грязь; продел ки их над человеком не наносят существенного вреда», см.: [Зеленин. 1, с. 264].
8 Еще более сомнительны рассуждения автора о возможности видеть в фонетических вариантах русских слов (шиликун, шуликун и т п.) отражение особенностей эвенкийского фонетического строя [Черепанова 1975, с. 136].
276
IV. Заметки no славянской демонологии
ском и в других языках, бытующих в Восточной Сибири? Домыслы Г. Н. Потанина, выводившего еще в 1883 г. русск. шуликун из маньч журск. шулихунь 'заостренный’ (все по той же причине острых шапок и заостренности головы) [Потанин 1883, с. 744], имели несколько больший «семантический вес», хотя и они не выдерживают критики. Именно по их поводу Д. К. Зеленин и высказал приведенное выше сомнение в распространении рассматриваемого демонологического термина с крайнего востока Азии на север Европы.
Следует при этом отметить, что авторы, выступившие по поводу этимологии русск. шуликун в последнее десятилетие (О. А. Черепанова, Р. Г. Ахметьянов), не обращались к упомянутым выше трудам Г. С. Виноградова, Д. К. Зеленина и других. Более того, Р. Г. Ахметьянов в 1977 г. прошел мимо работы О. А. Черепановой 1975 г., а О. А. Черепанова в книге 1983 г. [Черепанова 1983] ни словом не об молвилась о разысканиях Р. Г. Ахметьянова. Эго во многом и побудило нас еще раз после Д. К. Зеленина обратиться к достаточно подробному обзору мнений по вопросу: откуда название шуликун?
М. Р. Фасмер в свое время отказался отвечать на этот вопрос, написав лишь одно слово: «Неясно». Такой же пометой он снабдил и русск. шуляк, шулйк 'вид коршуна’ [Фасмер, 4, с. 484, 485]. О. А. Черепа нова по этому поводу заключила: «слово шуликун — шиликун помечено в словаре М. Фасмера как этимологически неясное. Действительно, в силу семантической и словообразовательной изоляции слова в современ ных говорах непосредственные его источники указать трудно» [Черепанова 1975, с. 135, 136]. Далее следует уже изложенная этимология на основе мордовск. шылыган 'бабий головной убор’.
Так ли изолировано это «загадочное» слово и в семантическом, и в словообразовательном отношении? Действительно ли его этимологию следует искать вне славянского лексического фонда, вне славянских языков, или оно имеет в славянских языках и родственные слова, и корни? Обратимся к фактам.
В сборнике, посвященном 70-летию Виктора Ивановича Борковского, мне была предоставлена приятная возможность поместить статью в его честь. В статье рассматривалось происхождение севернорусского слова ястребуха 'незавившийся кочан капусты’ в связи с этимологией и историей слова шуляк 'ястреб, коршун’ и отмечалось, что ястреб и кор шуп могут иметь еще названия: русск. шулйк, шулик, шульпёк, укр. шуляк, шулйк, шулйка, шулёка, шулень, шулаш. Часть этих лексем может относиться также к 'незавившемуся кочану капусты’: укр. шу
Шуликуны
277
ляк, шулях (умск.), шулячбк, часто ми. шулякй, шуляччя. Этимология этих слов, на наш взгляд, прозрачна: они восходят к праслав. *Sujb 'левый’, 'плохой’, 'нечистый’, 'неправедный’, 'негодный’ (противопоставленному 'desm 'правый’ и 'ргамъ 'правый’, но чаще 'прямой’, а также 'справедливый, истинный’, 'праведный’, 'годный’; ср. правота, право, правда и др.). Старинные народные представления о принадлежности бесов и всей нечистой силы к левой стороне, а ангелов и праведной силы — к правой общеизвестны. Изложение материала на эту тему заняло бы слишком много места, см.: [Толстые 1974]. Достаточно напомнить, что, помимо 1ёиъ и *Sujb, семема 'левый’ может выражаться лексемами *хидъ, *krivb, а семема 'правый’, помимо лексем * desire, *ргаиъ, может быть передана лексемой *dobrb [Толстой 1965, с. 135—140].
Поэтому трудно говорить о семантической изолированности слова шуликун. Славянская демонология знает множество названий бесов, созданных по этой модели. Достаточно привести только русский материал из работы Д. К. Зеленина о восточноевропейском табу слов: недобрик, недобрый, нехороший, худой, негодный, негодная сила, нечистик, нечисть и т. п. [Зеленин 1930, с. 93—97]. С. Максимов указывает непосредственно на русское название черта — левый [Максимов С. 1899а, с. 11]. Эго один из очень распространенных способов номинации нечистой силы 9 10. Нельзя говорить и о словообразовательной изолированности, так как суф. ун, означающий (так же, как и суф. ик) действующее лицо, широко известен в славянской демонологии и в первую очередь в русской демонологии: шишкун, шептун, шатун, ведун, лизун, вещун, колдун (ср. белорусск. морун, тряпун 'падучая’, укр. чаклун и т. п.) [Зеленин 1930, с. 107—112]. Р. О. Якобсон не без основания видел в слове Перун тот же суф. ун, который «безусловно обозначал издревле именно действующее лицо» [Якобсон 1970, с. 610]. В большинстве случаев этот суффикс действующего лица присоединялся к отглагольным корням (шептун, шатун, лизун), но известны случаи, к тому же и на Русском Севере, когда он присоединялся к корням прилагательного (ср. У Даля: «Б/ълун м. запади, (б/ъл — бог?) род доброго домового; белобородый, в белом саване и с белым посохом; является с просьбою утереть ему нос, и за это сыплет деньги носом» *°; также белун череповецк.
9 О другом способе номинации, по месту обитания см.: [Толстой 1974 — наст, изд., с. 245—249].
10 Любопытно привести для сравнения описание тобольского ряженого шиликуна, данное Ф. Зобниным: «Шуликунами называются такие нарядчики, которые одеваются в
278
IV Заметки по славянской демонологии
'прозвище белотелого человека’; белун Новгород., тихвинск. 'беловатая глинистая почва’) и к корням существительного (шишкун). Из той же северновеликорусской зоны можно привести значительное число этнографических примеров, демонстрирующих любовь нечистой силы к левой стороне. Бесовский коллега и собрат шуликуна вологодский бат ман, батаман, батамушко имеет такую склонность: «Чтобы задобрить батамушку, связал ему из белой шерсти рукавицы обе на левую руку» [-СРНГ, 2, с. 140] А может быть, у батамушки обе руки левые?
Таким образом, слово шуликун не изолировано в славянском мире ни в семантическом, ни в словообразовательном, ни в этнолингвистиче ском (и даже чисто этнографическом) отношении. Может быть, можно говорить о некоторой его обособленности в плане географическом, так как в средне- и южновеликорусских диалектах оно не зафиксировано, так же как не зафиксировано и в украинском и белорусском языках. Все же южнославянская языковая зона дает если не прямое, то во вся ком случае ценное соответствие: в болгарских родопских диалектах шу лек 'незаконнорожденный ребенок’, а в южномакедонских кукушских диалектах шул'ко 'обращение к еще не крещеному мальчику’ (эти при меры анализировались нами в статье! о слове ястребуха). Если учесть что шуликуны бывали особенно активны в период Святок, которые у сербов называются некрещеными днями (некрштени дани) и в качестве таковых воспринимались в прошлом и на Русском Севере; если учесть, что на том же Севере шуликуны считались остроголовыми мел кими бесами, похожими на детей, южнославянское соответствие не покажется случайным. Не случайно, вероятно, также в Сербии в зоне Крагуевацкой Ясеницы (Шумадия) ряженые, обходившие дома на Масленицу (Бела Недела), назывались шшъкани [Павловий J. 1921. с. 97] (ср. сев.-русск. шуликуны I) 'бесы на Святки’, 2) 'ряженые на Святки’). Эта параллель также интересна, однако она скорее этногра фическая, чем языковая, так как сербск. диал. шилкани, надо пола гать, этимологически связано со словом шшьаст 'заостренный’ (ср. об-щеслав. 'iidlo 'шило’), хотя возможность исходной формы шулкани ка тегорически отвергать трудно (ср. русск. шуликун > шиликун и т. и.) В таком случае помимо македонск. шулко была бы еще одна яркая южнославянская параллель.
белое (покойницкая одежда), на голову одевают остроконечный берестяной колпак, в рот вставляют репные зубы, лицо расписывают себе углем и белой глиной» [Патканов, Зобнин 1899, с. 517]
Шуликуны
279
Любопытны и примеры семантической эволюции слова шуликун, за фиксированные новейшими словарями русских говоров Сибири и Даль него Востока: Новосибирск, шуликин 'ряженый’, Забайкальск, шилйку ны 'группы играющих детей’, шуликан 'святочный пирог’, приамурск. щилюканы, шилюкй 'маленькие дети, мелюзга’. Картотека Архангель ского областного словаря дает ряд ценных фиксаций интересующего нас слова без суффикса ун или с иными суффиксами- шулики 'ряженые’ (мезенск.), 'мужчины, купающиеся в проруби зимой’ (пинежск.), челй каны 'водяные духи’ (пинсжск ) и в выражении всё до чйлика 'все до конца’ (лешуконск ) и т. п (За возможность ознакомиться с архангельскими примерами приношу большую благодарность О. Г. Гецовой.)
Можно было бы указать и на русские и вообще славянские представления о сезонном превращении кукушки в ястреба (ср. поговорку про менял кукушку на ястреба) и о мифологических свойствах ястреба как вместилища злой души (ср. перевоплощение: душа — птица), однако этот вопрос требует своего рассмотрения в более широком мифологическом контексте. Тем не менее этот момент мог повлиять на образование слова шуликун (шулик — шуликун).
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Заметки по славянской демонологии. 3. Откуда наз вание шуликун? // Восточные славяне: языки, история, культура. К 85-летию академика В. И. Борковского. М., 1985, с. 278- 286
Чемер
I J предыдущих чрех заметках на аналогичную тему нами ставилась задача выявить и описать славянские народные представления о происхождении нечистой силы и ее отдельных особей, об их облике, местах обитания, сезонности их пребывания в человеческой среде, их действиях, наконец, рассмотреть спорную этимологию слова шуликун и некоторые особенности поведения севернорусских шуликунов.
В случае со словом чёмер (чомор) и духом, им обозначаемым, положение несколько иное. Этнографические описания этой особи нечистой силы отсутствуют: либо они не сделаны, либо их трудно сделать, так как слово чёмер в значении 'нечистый, злой дух’ выступает почти исключительно в устойчивых словосочетаниях-клише бранного свойства, в которых денотат слова оказывается как бы в обезличенном виде. Сама же этимология слова, судя по всему, не вызывает сомнения, и авторы славянских этимологических словарей М. Фасмер, О. Н. Трубачев, Ф. Славский (совместно с В. Борысем) в принипе не расходятся во взглядах на происхождение слова. Московский и краковский праславянские словари снабжают словарные статьи *ёетегъ богатыми коллекциями примеров, так что в этом отношении взыскательный читатель остается удовлетворенным. Не будем повторять большинства примеров и скажем только, что '(-етегь часто означает болезнь разных видов — головную боль, боль в животе, боль с поносом и рвотой. Эго значение распространено у русских, украинце!, поляков. У русских же и белорусов 'ёетргь — 'конская желудочная болезнь’, у чехов — также 'опухоль’, 'болезненная сыпь’, у словенцев — 'гной в ране’. В южнославянской языковой среде известно значение 'яд, (права’ и несколько абстрагированные значения 'беда, досада’, 'гнев’. Впрочем, такая семантика слова известна и в русских диалектах: пензенск. чемёр 'яд и боль от яду’ [Опыт 1852, с. 256].
Чемер
28!
В московском и краковском выпусках этимологических словарей славянских языков, вышедших почти одновременно (в 1977 и 1976 гг.), примеров с демонологическим термином 'ёетегъ немного. Ф. Славский и В. Борысь приводят один пример из болгарских родопских диалектов: чёмер 'злой дух' и из словаря И. Герова [SP, 2. s. 138.139], а О. Н. Трубачев — из болгарского академического словаря: чёмер 'дья вол’ и из севлиевского и родопского говора с тем же значением, а также из русских диалектов, пермского и архангельского: чёмор 'черт’, чё мур 'черт’, чомор 'леший’ [ЭССЯ, 4, с. 52, 53]. Полагаем, что славянский нечистый дух чёмер, он же чёмор, заслуживает большего внимания. Рассмотрим известные нам примеры подробно.
В болгарском народном языке довольно широко распространены хулительные обращения со словом чемер. Известный болгарский лексикограф Н. Геров еще в начале нашего века уделил этому слову в своем словаре достаточно места: «Чёмер 1. проклятие, нечто плохое, зло, дьявол; встречается в проклятиях; 2. яд, отрава — Чемеру проклятый! Чемер да тя земе! Чемери да го земат! (Ч. проклятый! Ч. тебя побери! Ч. пусть его заберут!); Чемери Гано! — Устрели мъжю! За какви си чемери?! (На что ты годишься! На черта ты здесь?!); Не ми задавай ядови / Ядови пусти чемери. (Не вводи меня в тоску, тоску-горе печаль) (нар. песня)» [Геров, 5, с. 540]. Последующие собиратели диалектной лексики в основном подтвердили материал Н. Герова, отметив: родопск. чё мёр 1. 'колдовской jiyx, злой дух’ — Каде си ходил до ова врёме, чёмеро чёмёрёсал (Где ты шлялся до сих пор, ч. ты эдакий!) 2. 'ничто, ничего’ — Иди, иди да найдеш чёмер (Иди, иди, найдешь фигу!) 3. перен. 'сильно пересоленная еда’ [Българска диалектология, 2, с. 299], пир-допск. чёмер 'бранное слово о человеке или животном, причиняющем мучения и неприятности’ — Тба чёмер пак ще ме кара да пёра! (Этот Ч. опять будет заставлять меня стирать) [там же, 4, с. 150]; врачанск. чемёр 'нечто отвратительное, противное; большая тоска, забота’ — Черни чёмери да бёра (Черная печаль, тоска меня ожидает) (из нар. песни) [там же, 9, с. 339]; орханийск. (ботевградск.) чёмер 'нечто противное, мерзкое’ — У, чёмер прбклети! (кричат домашним животным, когда те лезут к корму) [там же, I, с. 204], белослатинск. чёмер — проклятие — Тба чёмер! Да те земе чёмера! (Этот ч.! Ч. тебя побери!) [ИИБЕ, 4, с. 170]; хасковск. чём'ър' 'проклятие’ [ИИБЕ, 4, с. 247]; софийск. чёмер 'проклятие, тоска-печаль’ — Чёмер да те фане! (Будь ты проклят!) [Българска диалектология, 2, с. 111]; казанлыкск. чёмер' 'неблагополучие’ — За какъф чёмер’ съ е дувл’акъл тук? (Какого черта
282
IV. Заметки по славянской демонологии
он притащился сюда?) [там же, 5, с. 145]; севлиевск. чём'ър 1. дья вол — Чём'ъри дъ гу зёмът! (Черти его пусть заберут!) 2. перен. злон-равный маленький ребенок — Имъм идйп чём'ър на ти й рабуть. (Есть у меня бесенок, в том то и дело) [там же, 5, с. 48].
Разнообразие «значений» в толковании болгарского слова чёмер де монстрирует довольно ярко немалый произвол или свободу лексикогра фической обработки интересующего пас диалектного слова. Приводимые примеры показывают, что, по сути дела, мы сталкиваемся почти во всех случаях с единым, правда, довольно расплывчатым и широким, значением слова вроде значения русского слова черт в выражениях Пошел к черту! На черта мне это нужно! Ни черта ты не получишь! Черт бы тебя побрал! Какого черта! Черт проклятый! Этот черт опять будет настаивать на своем и т. п. Конечно, едва ли в отмеченных словосочетаниях можно усматривать для слова чемер значение 'ничто’ или 'неблагополучие’. Последнее значение определенно неверно, так же как представляется ошибочным и значение, данное в первом выпуске «Родопского сборника»: чёмер 'приманка, наживка для рыбы’ — Какбф чёмер трэсиш ей тува? (Какого ч. ты здесь ищешь?) [Родопски сб., 1965, с. 2681. Толкование слова никак не соответствует иллюстративно му примеру.
В целом значение 'черт’, 'злой дух’ для ряда употреблений болгар ского слова чёмер в определенных словосочетаниях подтверждается не только приведенным выше материалом, но и его семантической связью с болгарским диалектным (кюстендилск.) чемрак 'болотистое место, тря сипа’ [Българска диалектология, 6, с. 150]. Во всех славянских народ ных традициях и во многих неславянских болото считается местом обитания и гнездовьем черта (ср. русск. поговорку «Было бы болото, а черти найдутся»). О связи демонологической терминологии с географической (памха, лядо-ляд и др.) нам уже приходилось писать [Толстой 1969, с. 142, 143].
Что касается русского материала, извлеченного нами из диалектных словарей и описаний, то он, в отличие от болгарского, не всегда снаб жен иллюстративными примерами, но там, где примеры приводятся, они оказываются аналогичными болгарским во многих отношениях. Ср. архангельск. пинежск. чёмур — ругательное слово вроде: черт, дья вол — Шгпо пристал то, чемур бы тя взял-, холмогорск. чдмор 'леший’ [Подвысоцкий 1885, с. 187, 189]; пинежск. чёмор (чомор) — то же, что боровой, лёмор, зыбочник, лешак леший [Елина 1962, с. 81], пермск., сев. прикамск. чёмор ф [в сочет.] чемор (его, ее, их)
Чемер
283
знатп — неизвестно, никто не знает: Чёмор его знат, откуда они при ехали, Чёмор его знат, как нё плясали, не помню', [в еочет.] понеси (его, ее, тебя...) чёмор — выражение возмущения, негодования, доса ды: Понеси ее чёмор. разбаловалась тут; [в еочет.] как от чёмор, какого чёмора — почему-то, неизвестно отчего: Пристала какого то чёемора, пропилила дров день, дак как собака пропащая...; [в со-чет.] какого чёмора надо? — что надо?: Чё он там орёт? Какого чёмора ему надо? [в еочет.] до чёмору — очень много: Гороху до чёмора лони было, шибко уж много. Чернички до чёмору было, вёдрами брали; [в еочет.] будь (подь) ты (он, она) к чёмору — восклицание, выражающее досаду, неудовольствие: Лучше, говорю, за нищего пойду, чем за эту славу, будь он к чёмору; Подь ты к чёмору. Нинка, чё ты брякаешь!; Така у меня привычка: надо ска зать «леший», а скажешь: «Поди ты к чёмору!» [Прокошева 1972, с. 109, ПО, 115], Новосибирск, чёмер [бранн.] — черт, то же, что чд мер, см. траф, черный, шишига: Да куда вас чемер погнал? |в со-чет.] подь к чёмеру — иди к черчу: Надоел до смерти, трындычитп об одном цельный день, осерчаешь, скажешь: Подь к чемеру! [СРГНО, е. 582].
В приведенных примерах интересно свидетельство информатора, что чёмор и леший — синонимы, и свидетельство собирателей, что чёмер входит в синонимический ряд со словами траф, черный, шишига. Южнорусские свидетельства о чемере в ином значении, чем 'болезнь’ и 'рас тение’, весьма немногочисленны и скудны. В нашем распоряжении имеются лишь две записи, указывающие на то, что это слово бранное: ор-ловск. Чемер тебя убей — брань, проклятие [Попов В. 1860] и ка-лужск. жиздр. чёмир 'род травы’, слово употребляется как бранное [Никольский 1903, с. 335].
Небезынтересно еще одно смысловое развитие слова чемер, дающее и еще одно семантическое соответствие, на сей раз болгарско-западно русское. К отмеченному выше болгарск. севлиевск. значению чём'ър 'дьявол’ и 'злонравный маленький ребенок’ (по сути дела, 'бесенок’. — Н. Т.) следует добавить Смоленск, чемера 'мелкота’ — Дети чемера\ [Добровольский 1914, с. 980], т. е., видимо, 'дети-бесенята’. К тому же это еще один пример того, как одно и то же выражение можно толковать совершенно по-разному, придавая ему далеко отстоящие друг от Друга значения.
Еще в середине XIX в., в 1852 г., в «Опыте областного словаря» бы ло зафиксировано значение: вятск. чемёр 'вихор на голове’ [Опыт
284
IV. Заметки по славянской, демонологии
1852, с. 256]. Его источником было, вероятно, свидетельство Л Тиха нова, записавшего в 1848 г. вятск. чемёр 'чуб челка, вообще волосы’ (рукопись Архива РАН, фонд 216, оп. 4, № 43). Впоследствии значение вятск. чемёр (чемёр) 'вихор на голове’ было подтверждено А. Луканиным (1856 г., фонд 216, оп. 4, № 64), П. Мулловым (фонд 216, оп. 4, Ко 129 или ЛЬ 193) и В. К. Магницким [Магницкий 18841. Притом А. Луканин снабдил свою запись не только примером: «У меня смотри не рутайся: я тебе надеру чемер-от», но и соответствующим по яснением: «Чемер драть значит во время головной боли рвать волосы, навертывая их на веретено или палочку небольшими пучками так, что бы от подергивания хрупнуло. — Чево то голова болит, хочу чемер драть, не ликче ли будет». Наблюдения А. Луканина подтверждаются записями 1848 г. и 1850 г. Огарева и Ф. А. Волегова: «чемер 'местная головная боль’. Крестьяне чемер лечат подергиванием волос на больном месте» (Архив РГО, шифр 29.1.66 и 29.1.48) и современными записями: пермск. Соликамск, чемёр 'сильная головная боль от ненормального сна’ — «Человек может недоспать или переспать, так чемёр бывает. Го ворят: Наспал чемёр. Шибко голова болит — глядеть неможпо, даже на глаза навешиват. Волосы пачикают, надергают, подерут чемёр-от и лучше быват; до того дочикают — голове легче» [СГСР, с. 676].
Сев. русск. вятск. и пермск. чемер (чемор) 'вихор, чуб’ имеет соответствие в украипск. черниговек. чемер 'хохол’ — Взяв вш його добре за чемер (Борзенский у.) [Гринченко, 4, с. 450, 451] и черкасск. че мер, чаще чемери 'чуб, косы’ [Лисенко П. 1958]. При этом выделяется интересная севернорусско-украинская изоглосса. О подобных лексических изоглоссах писал еще в начале века известный львовский филолог Илларион Свенцицкий.
Таким образом, в северных говорах, в вятской и пермской зонах и на Украине, на Черниговщине и Черкасщине, появилось новой значение: чемер чуб, вихор, клок волос’, связанное с народной медициной. Значение это локальное, и как таковое оно было оставлено без внимания Ф. Славским и не объяснено О. Н. Трубачевым. Семантическая цепочка развития значений вплоть до вихра волос не вызывает особых сомнений. Ее можно представить следующим образом: болезнь живота (от’ отравления и т. п.) — болезнь вообще — болезнь головы — место на голове, где лечится болезнь головы. Последний семантический шаг может пониматься как метонимический перенос значения. Отметим, что и в этом случае слово чемер входило в устойчивое словосочетание того или иного рода. Лечение от головной боли называлось драть чемер, над
Чемер
285
рать чемер, подрать чемер. Ср. нижегородок, сорвать чемерь 'утишить головокружение и боль в брюхе’ (Опыт 1852, с. 256|.
Любопытно, что словосочетание чемер драть, сорвать имеет соответствие, хотя и неполное, на весьма удаленной от Русского Севера территории — в русинских (украинских) говорах Закарпатья. Согласно любезно предоставленному мне Н. А. Грицаком свидетельству, на Рахов-щине (Раховський р-н) говорят чёмерЧ ломйти, т. е. 'крепко сдавить кого-либо в объятиях так, чтобы послышался треск хрящей’.
Семантический переход 'болезнь’ — 'злой дух’, вернее, персонификация болезни никак не должна вызывать удивления. Это широко известный переход, свойственный и русскому просторечию: «Холера его забери!». У южных славян широко известна персонификация чумы и холеры, о чем свидетельствуют и былички, и разные обряды для отгона или умилостивления чумы и холеры. Подобных быличек и обрядов, связанных с чемером, у восточных славян мы не знаем. И все же, опять-таки на языковом уровне, есть прямое свидетельство о персонификации болезни чемер. В Витебской Белоруссии, согласно наблюдениям Н. Я. Никифоровского, когда человек испытывает болезненное состояние, мечется и впадает во временное помешательство, говорят чёмиры нячйвали, чёмиры забрали [Никифоровский 1914, с. 209].
Едва ли можно оставить без внимания и такое значение слова, как вятск. чемер 'большой рогатый ядовитый червь’ (1892. Г. Е. Верещагин, Архив ИРЯЗ, шифр. № 13), как будто указывающее на зооморфное представление о болезни (червь — болезнь), широко известное в славянской и индоевропейской традиции, см.: [Успенский 1982, с. 69; Топоров 1969, с. 24—30]. Не следует забывать, что и злой дух может выступать в виде червя-змея, как и дух домашнего очага (у южных славян и в Полесье).
В заключение сказанного выше отметим, что славянск. *ёетегъ может считаться особым мифологическим персонажем, лишенным определенного внешнего облика и ипостасей, отдельных атрибутов и локуса, т. е. излюбленного места пребывания и излюбленного времени действия, характерных занятий и привычек, функций и направленности действия, особых контактов с человеком, т. е. почти всех признаков, которые характерны для большинства мифологических персонажей, см.: [Виншра-Д.ова. Толстая 1989]. Единственным признаком чемера является имя или название и прикрепленность его к конкретному виду малых текстов — к проклятиям. Нами специально выбран почти «нулевой» по своим показателям тип мифологического персонажа, чтобы показать, что и он существует в славянской народной демонологии.
286
IV. Заметки по славянской демонологии
Что же касается этимологии славянского *6етегь, то этот вопрос вы ходит за рамки данной темы и потому должен быть рассмотрен отдельно. Все же хотелось бы сказать, что этимологию существительного *Ье тегь не следует рассматривать в отрыве от этимологии глагола temeriti и прилагательного 'Нетегьпъ. Но об этом при благоприятном случае в другой раз и в другом месте.
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Заметки по славянской демонологии. 4. Чемер 'злой дух, черт’ // Вопросы теории и истории языка. Сб. статей к 100-летию со дня рождения Б. А. Ларина. СПб-, 1993, с- 124—130-
V. Слово в контексте культуры
’Культурная семантика славянского *vesel-
’Народная этимология и этимологическая магия
«Мужские* и «женские» деревья и дни в славянских народных представлениях
Не — не 'не’
Ближе Макарий
Иван-аист
Чур и чуть
Культурная семантика славянского *vesel-
Современная лексическая семантика в своем стремлении наиболее полно очертить сфер} значения отдельного слова приходит к необходимости, по мимо собственно лексической семантики (в ее экстенсиональном, денота тивном и — интенсиональном, сигнификативном смысле), описать коннотативную семантику, т. е область «надстраивающихся» над лексической семантикой прагматических, символических, культурных, энциклопедических и т. п. «означений», актуализирующихся лишь в особых, периферийных, вторичных, поэтических, метафорических и др. «непрямых» употреблениях слова. Дальнейшая разработка проблемы значения идет в двух про тивоположных направлениях — по линии структурирования и дифференциации видов значения и но линии интеграции, целостного представления всей семантической сферы слова. Дифференциация касается как самого ядра лексического значения (отражаемого в толковании слова, в его словарной дефиниции, в наборе «необходимых и достаточных» семантических признаков), так и — особенно — семантической периферии, т е коннотативной семантики, в которой выделяется область лексической коннотации, т. е. «вторичных» значений, не входящих в дефиницию, но получающих формальное языковое подтверждение в явлениях семантической деривации, и область экстралингвистической (энциклопедической, культурной) коннотации, безусловно, влияющей на языковой узус, но не получающей отражения в языке [Апресян 1974, с. 67—69; Иорданская, Мельчук 1980; Tokarski 1987; Tokarski 1988].
С другой стороны. интенсивно развиваются в славистике такие направления языковой и логической семантики, как когнитивная ссманти ка, теория прототипов, концептуальный анализ [Wierzbicka 1985; она же 1989; она же 1991; Bartminski 1988; он же 1988а; Kardela 1988; ю
290
V. Слово в контексте культуры
Когнитивные аспекты языка 1988], культурная семантика и изучение «языковой картины мира» [J^zykowy obraz 1990; Культурные концепты 1991], теория и практика описания языковых стереотипов [Bartmiriski 1984; он же 1985; он же 1988; SLSJ 1980], в которых объектом изучения становится семантика слова во всем ее объеме. В таком целостном представлении семантики границы между разными типами (или уровня ми) значений (собственно лексическим значением, лексическими конно тациями и культурными коннотациями) не нивелируются, а в полной мере сохраняют свою релевантность. Задача же целостного описания со стоит в том, чтобы выявить внутренние связи между всеми уровнями значения раскрыть логику того «образа», который закреплен за словом в сознании носителей языка. При этом поиски формальных подтвержде ний выделяемых исследователем значений (семантических признаков) с необходимостью должны быть распространены и на область экстралинг вистической (культурной) коннотации, которая пока что представляется лишенной какой бы то ни было структуры (впрочем, относительно не давно столь же аморфной казалась и область лексической коннотации) Критерии семантической деривации, с помощью которых удостоверяется релевантность коннотативных значений, хотя и называются лексически ми, в действительности нередко выходят за рамки лексики. Даже такой стандартный способ выявления коннотативного значения, каким слову черепаха приписывается признак «медленный» на основании выражения черепашьим шагом 'медленно', лишь с некоторой натяжкой может быть признан лексическим: еще дальше от лексики способ выявления признака на основе сравнения, например, признака «легкий» у слова пух на основе выражения легкий, как пух. Не будучи в строгом смысле слова лек сическими, эти критерии безусловно, остаются языковыми, поскольку они подтверждают релевантность приписываемого слову значения язы ковыми контекстами, причем в данном случае контекстами достаточно стандартизированными, клишированными, и потому близкими к лекси четким. Граница между лексическими (лингвистическими) и экстра-лингвистическими коннотациями не может считаться строго установлен ной раз и навсегда, да и не является строгой по своей природе. Для каких то экстралингвистических коннотаций пока еще просто не обнаружены языковые подтверждения, а какие-то из них являются лишь потенциальными языковыми коннотациями и в будущем смогут приобрести ста тус языковых, когда экстралингвистический сопутствующий признак станет основой для языковой номинации или семантической деривации [Толстой 1968, с. 357]. Трудно сказать, имеет ли коннотация «траур»
Культурная семантика славянского *v с з с I
291
для слова черный языковое подтверждение в русском языке, но то, что это значение может приобрести языковую релевантность, подтверждает ся, например, сербскохорв. црнина 'черная, траурная одежда’.
Очевидно, что эта граница проходит по-разному не только в разных языках и диалектах, по и в разных «культурных идиомах». Неслучайно современные семантические исследования подчеркивают свои» строгую ориентацию на обыденный языковой узус и наивное (а не научное) сознание носителей языка. Языковая семантика самым непосредственным образом связана с «языковой картиной мира», а она различна у ученого биолога и крестьянина-земледельца, у современного «среднего, наивного» носителя языка и представителя традиционной культуры архаического типа. Более того, один и тот же субъект может быть манифестантом разных культурных моделей — обыденной и научной, обыденной и рели гиозной; обыденной, мифологической и религиозной и т. п.
Каждый тип культуры вырабатывает свой символический язык и свой «образ мира», в котором и получают свои значения элементы этого языка. Язык культуры (как и язык науки) пользуется естественным языком, поэтому слова и другие единицы естественного языка приобретают в нем дополнительную, культурную семантику (точно так же слова естественного языка, становясь научными терминами, приобретают «научную» семантику). Однако единицами языка культуры могут быть не только вербальные символы, но и знаки другой природы — предметы, действия, изображения и т. п., чьи символические значения могут быть тождественными семантике вербальных элементов, а могут создавать с ними сложное синкретическое целое. В символическом языке традиционной культуры носителем семантики «траур», безусловно, является сам черный (иногда белый) цвет или, точнее, одежда черного цвета. Но в языковом сознании представителя этой культуры слово черный, черно та является не только выразителем семантики «черный цвет», но и вер бальным символом траура, а слово веник обозначает не только бытовой предмет, но и приобретаемые им ритуальные функции оберега от нечис той силы и орудия защиты от нее [Виноградова, Толстая 1993]. Иначе говоря, слова обыденного языка получают в языке культуры особые символические значения (культурную семантику), которые надстраиваются над всеми прочими уровнями значения: собственно лексическим, лексическими коннотациями, экстралингвистическими (энциклопедическими) коннотациями. Культурная семантика, хотя и носит преимущественно символический характер, как правило, не является абсолютно'
292
V. Слово в контексте культуры
но конвенциональной (подобно, скажем, запретительной семантике красного цвета светофора), а обнаруживает определенные, закономер ные связи с прочими компонентами значения слова. Так, например, «отгонная» культурная семантика слова веник (или метла) строится на магическом и мифологическом осмыслении таких признаков обозначае мого словом бытового предмета, как «контакт с мусором, нечистотой», «выметание, устранение, очищение» и т. п., которые входят либо в ядерное, лексическое значение (дефиницию), либо в лексическую коннотацию, либо в экстралингвистическую зону коннотации.
Лексическая семантика и концептуальный анализ, при всей близости их содержательных задач и целей, в определенном смысле противоположны, зеркальны друг другу, поскольку первая идет от единицы языковой формы (лексемы) к семантическому содержанию, а вторая — от единицы смыс ла — понятия, образа, концепта к языковым формам их выражения, ср. [Толстой 1968, с. 353]. И то, и другое направление стремится учесть все существующие узусы слова и все способы выражения одного смысла. Но лексическая семантика больше ориентирована на парадигматику и видит свою задачу в идентификации лексемы относительно других лексем и способов выражения (отсюда решающая роль дефиниции и «необходимых и достаточных» признаков), тогда как концептуальный анализ не отвергает признаков, носящих не дифференциальный характер, не выделяющих объект (понятие) из крута других объектов (понятий), а объединяющих их с другими объектами (понятиями).
Признаки, по которым слово, реалия или понятие совпадают с другими словами, реалиями или понятиями (входят в «синонимические» ряды), имеют не меньшее значение для их интерпретации и узуса, чем признаки, выделяющие их из подобных рядов. 'Гак, например, культурный концепт такою хозяйственного орудия, как борона, включает несколько релевантных признаков, каждый из которых объединяет борону с другими рядами реалий и соответственно вводит другие ряды символических значений. На личие зубьев (а также характер их действия) относит борону к ряду пред метов с фаллической символикой (палка, пест и т. п.); острота зубьев объединяет ее е рядом колющих предметов, используемых в качестве оберегов и орудий защиты (нож, коса, серп, игла и т. п.), а наличие переплетений (у архаического типа бороны), ячеек и «узлов» — с такими предметами, как сеть, решето, сито, редкое полотно и т. п., за которыми закреплены преимущественно защитные функции [Гура 1994|. Одна и та же реалия (вещь, предмет, действие, лицо, свойство и т. д.) может, таким обра зом, стать основой нескольких самостоятельных символов с разными
Культурная семантика славянского *v е s е I - 29-1
значениями Например, зеркало в традиционных обрядах и верованиях может символизировать границу между земным и потусторонним миром (подобно реке, дороге, меже, порогу, окну и т. п.), а может выступать в ряду «женских» символов вместе с венком, лентой, фартуком, вени ком, веретеном и пр. [Толстая 1994].
В символическом языке культуры знаки разных субстанций (вербальные, реальные, изобразительные и т. п.) имеют разный семиотический статус. «Первичное» символическое значение принадлежит «реальным» знакам, т. е. вещам, действиям, субъектам, существам, явлениям, свойствам реального мира. Слово или изображение получают эту семантику «отраженно», вторично — от обозначаемой ими реалии. Так, культурная (символическая) семантика слова веник — лишь отражение символического значения самого предмета (точнее — концепта, образа предмета), а семантика изображения вербовой ветки на пасхальном яйце (писанке) — вторична по отношению к символической семантике вещи (вербо вой ветки) [Толстой 1982а|. Получая символическое значение, реалия из обозначаемого (денотата или десигната), каковым она была для естественного языка, превращается в знак, становится означающим, «словом» языка культуры, в то время как называющее ее настоящее слово приобретает вторичную, символическую семантику, становится знаком «вдвойне». Многослойность, многоуровневость знаковых структур — неотъемлемое свойство языка культуры, обеспечивающее смысловую глу бину культурных текстов. Несколько уровней символики может быть присуще и предметным (реальным) знакам. Та же реальная метла, выставленная у дверей дома, метонимически замещает (символизирует) типичное для этого орудия действие выметания, отгона, удаления нечистой силы или стихийных бедствий. В этом случае реальный предмет оказывается символом реального действия, приобретающего символическое и магическое значение. Зерно во многих обрядах используется как символ множества, обилия (эти же значения могут иметь искры, капли воды, песок, муравьи, маковые зерна, хвоя сосновой ветки и т. п.). а осыпание зерном — как символ наделения множеством благ, богатством. Здесь мы имеем двухступенчатую символику: зерно символизирует множество, а множество символизирует изобилие, богатство.
В качестве знака, означающего в культурных текстах могут выступать не только предметы и вербальные единицы (слова, фразеология, формулы и т. п.), но и абстрактные признаки и понятия (концепты), которым может придаваться символическое значение и магические функции. Одним из ярких примеров подобной символизации абстрактных понятий в традици
294
V. Слово в контексте культуры
онной славянской народной культуре может служить культурная семанти ка и функции славянских слов, производных от *vesel- и обозначающих ве сельс, удовольствие, радость. Сравнительно с общеязыковой семантикой этих слов в современных славянских литературных языках круг значений, присущих им в контексте традиционной обрядности, верований и фолькло ра, намного шире и богаче. Могут быть выделены следующие основные с< мантические сферы, в которых представлена семантика и символика ве селья: I) рождение и Рождество, 2) весна и весенние праздники, 3) свадьба, 4) смерть, 5) светила и стихии — солнце, месяц, звезды, радуга, огонь, вода. Рассмотрим их подробнее.
Рождение и Рождество
Общим, инвариантным символическим значением слав, "vesel- следует считать значение 'нового, рождающегося, молодого, растущего, процвета ющего’. Наиболее полное выражение эта семантика находит в верованиях, обрядности и терминологии, связанных с праздниками Рождества и Нового года (иногда и Крещения), причем она одинаково характерна для текстов дохристианского (языческого) содержания и для фольклорных и обрядо вых форм, тяготеющих к народно-христианской традиции. Лексика, восходящая к праслав. 'vesel-, занимает одно из ключевых положений в тер микологии рождественской и новогодней обрядности всех славянских на родов (наряду с терминами *kolqda, 'suvbva и др.), а мотив веселья, кото рому придается магическое значение благоножелания, является стержне вым мотивом рождественской обрядности и фольклора.
Мотив веселья и термин 'vesel- становится знаком и атрибутом всего комплекса представлений, образов, ритуалов, связанных с Рождеством. Сами праздники Рождества и ритуально и мифологически объединяемого с ним Нового года (днем св. Василия) получают эпитеты радость и веселье на основе мифопоэтического сближения слов Рождество — радость, В а силий — веселье, ср. белорус, колядку: «За гэтым словом живиця з Богом! / Мы вашого двора дай не минаем, / Светым Насильем поздроуляем, / Свс тое Рожаство радость принясло, / Светое Василля взвеселило...» [Шейн, 1, ч. I, с. 56]. Болгарские колядки девушке или парию завершают ся словами: «С веселина, / с добр вечер / тебе леем, / малка мома (или: добр 1унак)>> (С веселием, с добрым вечером, тебе поем, маленькая девутя ка / добрый молодец) [СбНУ 1896, кн. 13, с. 12, 13]. В Панапориште мальчики-сурвакары, приходя на Новый год в дом, трижды осыпают всех
Культурная семантика славянского *v е з с I -
295
пшеницей и произносят: «Тука радост и Свети Васил!» (Здесь радость и Святой Василий), где радост, безусловно, отсылает к прошедшему празд нику Рождества, а ассоциация Васил — весел поддерживается произносимыми далее словами: «Сурва година, весела година и до година с здраве!» (Новый год, веселый год и здоровья на целый год!) [Лрнаудов 1943, с. 47], ср. укр- поговорку «Поки Василя, поти вейлля» [Номис 1864, с. 175].
Календарная семантика *vesel- закреплена в хрононимах — полесском Веселая Щедруха 'канун Нового года’ (бреет.), сербском веселник дан 'рождественский сочельник’ [БХ 1958, с. 194], словенском veseli post 'рождественский пост’ [Kuret 1970, s. 131]. В польских колядках Рождест во называется ivesola chwila (веселая минута) [Kol^dowanie 1986, s. 161], в хорватских звучит рефрен «VeseZ, vesel ovi dan!» (Веселый, веселый этот день!) ([Milcetic 1917, s. 22—25, 41, 42] — Далмация), а в болгарских и македонских новогодних приговорах-поздравлениях магический эпитет ее села регулярно придается слову година, обозначающему наступивший но вый год: «Сурва, сурва година, / Весела година, / Голем клас на нива. / Удри, бабо, по г...а / Да потече масленица, / Сурваа, уд гудина повес ело'.» (Новый, новый год, веселый год, большой колос на поле, ударь бабу по ж..е, чтобы потекло масло. Новый год. с этого года будет веселей!) ([ГЕМС 1960, год. 1. с. 144] — Радовиш, вост. Македония): «Сурова, сурова / година весела / живо и здраво / догодина, до амина!» (Новый, новый год веселый, будем живы и здоровы в этом году, аминь!) ([Василева 1988, с. 76] — Благоевградско); «Сурва, сурва година, / Весела година, / Голям клас на нива, / Живо, здраво до година! / М-и-й-иу/ М я-я-яу/!» (Новый, новый год, веселый год, большой колос в поле, будем живы-здоровы в этом году! М-и-й-иу, м-я-я-яу!) [Маринов 1914, с. 338].
Этому хрононимическому значению эпитета *vesel соответствует из вестное всем славянам представление, что если весело провести первый день нового года (или канун его), то целый год будет «веселым» и бла гополучным. Ср. укр. «„Богатий веч!р“ стараються провести як найвес!-лнпе (щоб веселитись увесь р!к)» [Доманицький 1912, с. 89], хорв. ча-кавск. «Na Mlado leto se jndi cel dan vesele ca jace morn, as deju, da ki j' na Novo leto vesel, da ce bit so leto» (На Новый год люди целый день веселятся как можно больше и говорят, что кто на Новый год весел, весь год будет весел) [Jadras 1957, s. 37]; польск. мазовецк. «W swiete wie-czory nie wolno bylo pracowac, nalezaio si^ tylko bawic. Do wybuchi! II wojny swiatowej powszechnie wierzono, ze nieprzestrzeganie tych zasad przynosi szkody gospodarstwu» (В святые вечера нельзя было работать, надо было только развлекаться. До начала Второй мировой войны по
296
V. Слово в контексте культуры
всюду верили, что несоблюдение этого правила приносит вред хозяйству) |Drozd-Piasecka 1991, 84|.
Семантической доминантой слав. *vesel , однако, является не просто соотнесенность со всем комплексом символических значений Рождества — Нового года, а специальная закрепленность за центральным ритуа лом колядования, которое получает в народной культуре мифологическое осмысление и магические функщш [Виноградова 1982]. Все элементы, аспекты и мотивы колядных обходов могут обозначаться ело вами этого гнезда. Так, веселыми называются сами колядники (ср. др.-рус. веселые люди 'скоморохи’ [СлРЯ 11-17 вв., 2, с. 112]), т. е. участники рождественских или новогодних обходов и исполнители по здравлений-благопожелапий (макед. весели гости, ср. также рефрен хорватских далматинских колядок: itVeselo, braco koledari, veselol* — Весело, братья-колядники, весело!). Веселыми оказываются и ад ре саты благопожеланий, т. е. хозяева, к которым приходят обходники. ср. белор. колядку, обращенную к хозяйке: «Гаспадынечка, / Весялтеч на, / Запал! свечачку, / Пайдз! у клетачку...» [31мовыя песн! 1975, с. 431], а также дом, двор, куда приходят колядники: «От сему дому, от веселому, / Ци повелите колядовати...» [Головацкий 1878, 3. с. I], «1д цему двору щ веселому / Прийшли гостеве у pi к до тебе / Ци дома, дома наш пан господар?» [Колядки 1965, с. 63]; «Ой Овсень! Ой Овсень! Походи, погуляй! По святым вечерам, / По веселым теремам!» [Снегирев 1838, с. 111].
Глаголом 'veseliti обозначаются действия колядников, т. е. глу бинный смысл, цель и функция ритуала колядования и произнесения благопожеланий. Сербскохорв. диал. veseliti означает 'kolendati, koleda-ti, pjevati, prikazivati koledu’ ('колядовать, петь, славить коляду’): «Dosli smo vain veseliti, vodokrsca dan cestiti» (Мы пришли вас веселить, по здравить вас с Крещением) ([RHSJ, 20, с. 768 ] — сев. Далмация, о. Корчула). В польском Подлясье колядники, подходя к дому, спрашивали у хозяев разрешения колядовать: «Panie gospodarzu, pani gospody-ni, / Pozwolcie swoj dom potveselic, / Boskim stowom pocieszyc, / Abx dom by! ivesoly. / Czy tveselic czy nie?> (Пан хозяин, пани хозяйка, позвольте ваш дом повеселить, божьим словом порадовать, чтобы дом был веселый. Веселить или нет?) [Drabik 1992, s. 87, 88]. Там же они начинали свои поздравления словами: «Му pryszli Chrysta Boha cbwalie, / Wasz dom tveselic / Warn i nam iviesiolym bye. / Spiewac czy nie?» (Мы пришли Христа Бога славить, ваш дом веселить, вам и нам веселыми быть. Петь или нет?) [Drabik 1992, s. 26]. Аналогичные зачины имели
Культурная семантика славянского *!> е з е I -
2J7
колядки на Украине: «Пане господарю, / Ци спите, ци чуете? / Пи дома ночуете? / Ци скажемте щедровати, / Свой дом звеселити, / Дробны дети побудит»! / Сами веселыми быти?» [Головацкий 1878, с. 141.]. Ср. также болг. «...да ми дойд'т момци коладници, да ми попеят, да ме развеселъагт (...пусть придут ко мне парни колядники, споют мне. развеселят меня) [СбНУ 1896, с. 12, 13]. В Овручском Полесье перед началом ужина в рождественский сочельник приглашали мороз «повеселиться»: «Мороз, мороз, ходи кутьи ести! / Тут тоби сегопня взеелиц ца / А летом тоби не бывати. / Будем цугом поганяти» ([Архив полесский] — Тхорин, Овручский р-н, Житомирская обл.).
В польской традиции рождественского колядования и в самих коляд ных песнях, где преобладают религиозные мотивы прославления Рождества, эпитетом wesoty нередко определяется само событие рождения Христа, называемое kolanda, ср. отрывок из колядки, записанной в недавнее время на Люблиищине: «Pojdziemy, bracio, w droga z wiecora, / Wst^pimy najprzod do tygo dwora. / B^dziemy spiwali wszandzie / О iak tvesolej kolandzie. I Hej kolanda!» (Пойдем, братцы, в дорогу с вечера, войдем сначала в этот двор. Будем петь везде о веселой коляде. Гей. коляда!) [Koledowanie 1986, s. 100], а также: «Dzieciatko sie narodzito. / Wszystek swiat uweselilo* (Дитятко родилось. Весь мир развеселило) [там же, s. 182], «Stata nam sie nowina mita, / Раппа Maryja Svna po wila. I Powita go z wielkim we.sele.m, I B^dzie on naszym zbawicielem» (Пришла к нам радостная весть. Дева Мария сына повила. Повила его с большим весельем. Будет он нашим спасителем) [там же, s. 162|. Рождение Христа принесло «веселье» миру, «развеселило» людей, стало «веселой» вестью: «Aniot pasterzom zwiastowal, I гс sie narodzil, / nas utveseliB (Ангел пастухам возвестил, что он родился, нас возвеселил) [там же, s. 161]; «Rozkwitnela sie lelija, / a to jest Раппа Maryja / Zrodzita nam Syna, I Wesola dla wszystkich nowina» (Расцвела лилия, a это Дева Мария. Родила нам Сына. Веселая для всех весть) [там же. s. 141], «Przylecieli. przylecieli tak sliezni anieli, / Wszyscy w bieli, ztote piorka mieli. / Przyniesli nam uhisoIo nowine: I Раппа Czysta zrodzila Dziecine» (Прилетели, прилетели такие прелестные ангелы. Все в белом, с золотыми перьями. Принесли нам веселую весть: Чистая Дева (юдила Младенца) [там же, s. 150]. Те же мотивы «веселых гостей» (колядни-ков), «веселой вести» (о рождении Христа) и «веселья хозяина» присут ствуют в македонской колядке: «Весели се домакине / Весели гости ти ДО]’доа, / Весел абер ти донесоа...» (Веселись, хозяин. Веселые гости к тебе пришли. Веселую весть тебе принесли) [РМНП, 1, е. 245].
298
V. Слово в контексте культуры
Наконец, веселье (хозяев и всех обитателей дома) — главный мотив произносимых колядниками благопожеланий, ср. белор. «Сею, сею, за еяваю, / 3 Новым годам паздрауляю, / 3 Новым годам, / 3 новым шчасцем! / Штоб вясёленька жы.'й / Да й па чарачцы пьп» [Згмовыя неси! 1975, с. 435]; польск. «Spijze, Jasienku, b^dz ivesol. I A nam ko ly-dnikom dobru коЦ-du obiecuj» (Спи же, Ясенька, будь весел, а нам, ко лядникам, доброе Рождество обещай) [Kol^dowanie 1986, s. 123]; ело вацк. «...aby ste boli veseli, ako v nebi anjeli» (...чтобы вы были веселы, как в небе ангелы) [Horvathova 1986, s. 62]; хорв. «Cestito vain bozic, / da sp veselite, / bog i boginje <?>, / zdravlje i veselje / i duliovno spasenje. Amen» (Ноздрав,1яем вас с Рождеством, веселитесь <?>, здоровья, и веселья, и душевного спасения. Аминь) ([Milcetie 1917, s. 50] — Дубровник); словенок. «Veselo novo leto vain zelim!» (Веселого Нового года вам желаем) [Moderndorfer 1948, s. 132] и т. и. В заключитель ных формулах болгарских колядок противопоставляется веселье как благо, даруемое колядниками, здоровью как благу, исходящему от Бога: «От Бога ти много здраве, / От юнаци — веселенье!» (От Бога тебе доб рое здоровье, от колядников — веселье!) [Обредни песни 1981, с. 54, 107, 123 и др.], «Тебе леем, млада булке, / Тебе пеем — много здра ве. / От Бога ти много здраве, / А от назе веселие!» (Тебе пою, молодка, тебе пою, будь здорова. От Бога тебе крепкое здоровье, а от нас — веселье!) [там же, с. 268]; «От дружина — веселбина» (От дружины — веселье) [там же, с. 100] и т. п.
В сербской рождественской обрядности, где главным символом Рождества служит ритуально сжигаемое на очаге полено «бадняк», именно этот ритуальный предмет получает номинацию посредством слова *vcsel . По свидетельству II. А. Ровинского, в Черногории бадпяку дается «более неж ное название — блажено дрво или веселок» [Ровинский 1901, с. 169].Там же, в Катунской нахии к бадпяку обращались с такими словами: «Badnja се, veseljaie, ja ti dajem vino i pogace, a ti папы i vina, i pogace, i svake dobre pleinenite srece» (Бадняк, весельчак, я тебе даю вино и лепешки, а ты нам <дай> и вина, и лепешек, и всяческого благодатного счастья) [ZNZO 1933. knj. 29. s. 148]. Так же именовался бадняк в западной Сербии — в Шабац-ком крае [МилийевиЬ 1984, с. 162], в Чачанском крае [Ловашевий 1971, с. 207] и в Герцеговине [Гр1)иЬ-Б]елокосиЬ 1896а, с. 92]. Хозяин, отправляя парней из своего дома в лес за бадняками, напутствовал их словами: «Здраво нам момци ове године по веселмке одлазили! Оддазили мло-го дета и година и весел>аке здраво куЬи догонили, те нам куйа здраво и ее село била! Ако Бог да!» (Отправляйтесь бодро, ребята, за бадняками-ве-
Культурная семантика славянского *v е з е I -
299
сельчанами в этом году. Еще много лет вам за бадняками весельчаками ходить и домой их привозить, чтобы в доме было здоровье и веселье! С Богом!) [Гр!)иЬ Б]елокосиЬ 1896а, с. 92]. В Черногории и прилегающих к ней районах Герцеговины и южной Далмации ветка или щепка от бадняка. предназначенная для разгребания углей в печи в рождественскую ночь, называлась веселица [PCXHJ, 2, с. 541].
Глаголом veseliti se обозначалось горение бадняка, которому придана лось сакральное и магическое значение. Но герцеговинскому обычаю, хозяин, уложив бадняки на очаг и держа в руках чашу с вином, произносил здравицу-заклинание: «Ове године веселаке весело привесе лили, дай Боже да нам се момци и ]унаци вазда и уви]ек веселили, весело на сваки рад одлазили, a join веселее куйи долазили, ако Бог да! Здрави сте ми, Mojn бадаьаци, мо]и весел>аци\ Весело ми горили, а око вас момци весело винце пили и веселе проводили, као еретни и Богу мили Срби, ако Бог да!» (Пусть в этом году бадняк и-веселяки весело перегорят-пере веселятся, дай Бог, чтобы наши молодцы-ребята всегда и везде веселились, весело отправлялись на всякую работу, а еще веселее домой возвращались, дай Бог! Будьте здоровы, мои бадняки, мои весельчаки! Весело горите, а возле вас ребята пусть весело вино пьют и веселятся, как приличествует счастливым и Богу угодным сербам, дай Бог!) [Гр1)ий Б]елокосий 1896а, с. 95]. Всю ночь следовало бодрствовать, пока бадняк не перегорит, т. е. не распадется на головешки. Не упустить этот момент было делом чести для хозяина и всех мужчин в доме [СЕЗб 1934, кн>. 50, с. 24]. Перегорание бадняка символизировало «веселье», т. е. здоровье, процветание, благополучие в наступающем году. На перегоревший бадняк лили вино накрест и говорили: «Здрав, бадгьаче, Moj весели веселмче\ сретно нам се превеселшЛ налагао те наше опьиште пуно л»ета и година да Бог да!» (Будь здоров, бадняк, мой веселый весельчак! Счастливо тебе перегореть! Ложиться тебе на наш очаг еще много лет! Дай-то Бог!) [ВрчевиЬ 1883, с. 26]. Сербы Фрушкой Горы перегоревший пополам бадняк тушили вином, а на Рождество после обеда выносили его из дома в сад, вешали на плодовое дерево и при этом пели: «Наш бадгьаче, наш бадньаче, буди нам весео!» (Наш бадняк, наш бадняк, будь весел!) ]СЕЗб 1939, кль. 54, с. 88].
Словом веселмк могли обозначаться и другие ритуальные предметы сербских и хорватских рождественских обрядов. В Черногории веселмк — лопатка, сделанная из бадняка, которой утром на Рождество подкладывают под бадняк чесницу — рождественский хлеб [PCKHJ, 2, с. 543]. В Славонии и на Военной Границе около Карловца это название самого рождественского хлеба [ГЕМБ 1935, кн>. 10, с. 124], который в других областях
300
V. Слово в контексте культуры
назывался веселица. Сербы-граничары на Рождество пекли два калача — веселицы, один клали в решето и оставляли на столе, а другой надевали на вертел вместе с мясом, когда готовили другое обязательное блюдо рождественского стола — «печеницу», т. е. жареное мясо [Беговий 1887, с. 94]. С тем же значением веселица известна у сербов в Грбле около Боки Которской [СЕЗб 1934, кн>. 50, с. 56]. В Босанской Крайне в Сочельник готовили копченое мясо и называли его veselpk [RHSJ, 20, s. 772]. В Поповом Поле в этот день хозяин шел в загон для скота и выбирал там поросенка для праздничного стола. Заклание поросенка обозначалось глаголом превесе лити [Мийовий 1952, с. 143]. В Герцеговине и горных районах Боснии, вместо поросенка, иногда закалывали овцу и называли ее заоблица или ве селица [Гр1)ий-Б]елокосий 1896а, с. 95; Кулиший и др. 1970, с. 33]. Вместе с чесницей (ритуальным хлебом) веселица — главное блюдо рождественского обеда [Лилек 1894, с. 380]. Хорваты Боснии и Герцеговины барана дчя праздничного стола кололи на бадняке и называли veselica, причем в других случаях (например, на свадьбе) жареный баран назывался не vese lica, a pebenica [Markovic 1940, s. 32].
Подобные явления окказиональной ритуальной номинации характерны и для других элементов сербской и хорватской рождественской обрядности. Наделение предмета или лица новым именем на определенный обрядом срок повышает его семиотический статус, особенно если это имя, имеющее ключевую символическую функцию. В Боке Которской в Сочельник весе лицей называли лопатку на очаге, а в другое время она так не называлась [ZNZO 1962, knj. 40, s. 494]. В Среме (Воеводина) ритуальное имя получает одно из главных лиц рождественского обряда — полазник, т. е. первый посетитель дома в день Рождества. Его встречают и провожают с большими почестями и называют именем Радован все то время, пока он находится в доме [ГЕИ 1971, кн>. 16—18, с. 141]. Так же зовут полазника в Груже (Шумадия). В Поповом Поле по этому имени обращаются друг к другу хозяин и полазник; в других случаях оно дается хозяину, когда он вносит в дом три бадняка, а другое лицо изображает хозяина и называется domacin [Markovic 1940, s. 53]. Там же имя Радован получает на три рождестве ских дня каждый вол и конь. У сербов Боснии полазник называется весе лак: хозяйка, обращаясь к нему, говорит: «Устани, веселаче» (Вставай, весельчак) [PCKHJ, 2, с. 543].
Сакральное «веселье» Рождества, согласно народным представлениям, освящает и каждое земное рождение, которое становится источником «веселья». Ср. сербск. «Кад се роди дете, настане веселе у куйи» (Когда рождается дитя, настает веселье в доме) [ГЕМБ 1985, кгь. 49, с. 131]. Эго от
Культурная семантика славянского 'vesel- Ml
носится прежде всего к рождению мужского потомства, поскольку именно оно отсылает к «протособытию» рождения Христа, «взвеселившего мир». Ср. словен veseli dogodek, букв, «веселое событие» — о рождении мальчика [SSKJ, 5, s. 412]; хорв. чакавск. U nih je veselje, rodi in se sin (У них «веселье» — родился сын) fHraste. Simunovic 1979, стлб. 1319], древне-польск. «Szona thvoya... porodzy thobye syna..., a b$dzye vessele tobye у radoscz» (Жена твоя... родит тебе сына..., будет тебе веселье и радость) [SS, 10, z. 1, s. 80]; макед. «Деца су у породици расонка, т. j. увесе-jbaeajyha биЬа» (Дети в семье — «пробуждение», т. е. существа, прино сящие веселье) [ТановиЪ 1927, с. 272]; укр. «Як сип родицця, то й угли радуюцця» [Номис 1864, с. 179] и т. п.
Веспа
Созвучие слов ‘vesna и ‘vesel- во всех славянских языках и их вероятное этимологическое родство [Skok, 3, s. 578, 579] служит основой их символического и мифопоэтического сближения в языке традиционной духовной культуры, где календарное и ритуальное время весны в той же или даже в еще большей степени, чем время Рождества и Нового года, воспринимается как начало нового природного и хозяйственного года, требующее специального ритуального оформления, для того чтобы год был благополучным («веселым»).
Если в комплексе представлений о Рождестве немалую роль играл культурно-религиозный концепт божественного рождения как протособытия, сквозь призму которого воспринимается и природный смысл этого времени (перелом зимы, поворот солнца к лету и т. п.), то в представлениях о весне, безусловно, доминирует именно эта, природная семантика воз-рожде-ния иза-рожденияжизни, вегетации, расцвета, роста и т. п.
В польском Подлясье весь год делится на веселое и грустное, печальное время: wesoly czas (веселая пора) — это прежде всего весна и первая половина лета (в связи со сказанным выше показательно, однако, что «веселое» время иногда отсчитывается от Рождества и Нового года), a czas smutny (печальная пора) начинается со времени уборки урожая [Drabik 1992, s. 87, 88].
Веселая — постоянный эпитет весны в белорусских веснянках: «Вяс-на наша вясёлая — гу! / Развесяльпа зямлю, ваду — гу! / Зямлю, ваду, мяне маладу — гу!» [Веснавыя песю 1970, с. 149]; «Ой вясна, вясна ве сёлая, / Нарасла трава зялёна. У-у-у! / Да узвеселйш усе горачкц дат-
302
V, Слово в контексте культуры
начк!, / Дзе парабочкц там дзевачкь У-у-у!» (там же]; «Вясна мая вя сёлая, / Пу<1ц воду па в ул! цы, / Пусц'1 воду па вулщы, / У чистым пол! па далше...» [там же, с. 148]. Так же может определяться и лето: «Та бе, нашчок песня спета, / Песня спета проц! лета, / Лета цёплага i вя еёлага» [Валачобныя пест 1979, с. 396]. Релевантность признака «веселый» для образа весны (и коннотативной семантики слова весна) под тверждается устойчивыми сравнениями «веселый, как весна», ср. белор. «...Будзь здароу, як вада, / А расц!. як вярба. / Будзь здароу на увесь год. / Будзь так весел, як вясна. / Будзь так моцны. як з!ма...» [Весна-выя пест 1970, с. 488]; укр. «Бувай здорова, як риба, гожа як вода, весела, як весна, робоча, як бджола, багата, як земля святая» {Номис 1864, с. 89]; польск. подлясск. пожелание молодоженам: «Zeby byli we soli jak iviosna i bogaci jak jesieri» (Чтобы были веселые, как весна, и богатые, как осень) [Drabik 1992, s. 87].
Как видно из приведенных выше весенних белорусских песен, глав ное действие (типичный предикат) весны — «веселить мир», т. е. воз рождать, пробуждать его к новой жизни. Эпитет *vesel получают на основе метонимии все атрибуты весны и прежде всего — зелень, трава, поля, весеннее солнце, благодатный весенний дождь, 1грилетающие пти цы: «Pola, ktore obchodzono па sw. Jerzego, Zielone fiwiatki lub w innym wiosenno letnim terrninie, byty wesole i pachnace. Ptaki radowaly przy latujac, a smutno odlatywaly jesienia. Wesoly jest majowy deszczyk, a w listopadzie deszcz smutny» (Поля, которые обходили на св. Юрия, на Зеленые Святки либо в иной весснне летний день, были веселые и благо ухающие. Птицы с радостью прилетали и с грустью улетали осенью. Ве сел майский дождь, а в ноябре дождь грустный) [там же, s. 88]. Ср. также украинский обычай называть весной журавлей веселиками, ве сельчуками, иначе «будешь журитися <т. е. печалиться> весь год» [Гринченко, 1, с. 142]. В полесских приговорах, сопровождающих ри туальное битье вербовыми ветками в Вербное воскресенье, свойство «веселья» приписывается вербе и должно магически передаться адресату и объекту ритуала: «Вярба бье, да й не я. / Будзь весела, як вярба, / Будзь здарова, як вада. / Будзь багата, як зямля» ([Архив полесский] — Великое Поле, Петриковский р н, Гомельская обл.). Болг. диал. весел по отношению к растению, к зелени означает 'свежий, сочный’ в противоположность значению 'увядший, засохший, поникший’. В ночь на Ивана Ку палу в юго-зап. Болгарии был обычай класть под подушку «иванов цвет» (енъофче) и наутро гадать: если цветок увянет, предстоящий год будет безрадостным; если останется свежим, год будет «веселым» и счастливым
Культурная семантика славянского *v е s el -
303
(«Ако увёнче, че ти е нерадосна година; акб е весело, и на тебе че ти е весе ла година» [СбНУ 1958, кн. 49, с. 696|). В болгарском юрьевском обряде венок, сплетенный из специально собранных до восхода солнца цветов и трав, надевают на «кроткую» овцу и называют его веселым, считая, что «веселье» венка, т. е. его свежесть и жизненная сила, передадутся овце: «Както е весел венецьт, итида си така весела!» (Как весел венок, так и ты будь веселой!) [Арнаудов 1943, с. 94].
Семантическая близость признаков «зеленый» и «веселый» находит подтверждение и в многочисленных примерах поэтического параллелизма типа сербск. «Усадих лозу сред винограда, / Наведох воду са три хладенца, / Да ми je лоза вазда зелена, / Наша нев]еста вазда весела» (Посадил я лозу посреди виноградника, провел воду из трех колодцев, чтобы была лоза всегда зеленой, наша невеста — всегда веселой) [Кара-циЪ 1953, с. 90]. На связь весны, зелени и веселья в славянском фольклоре сто лет тому назад обратил внимание А. А. Потебня: «Весна. светлая, блестящая называется веселою, потому что и это последи» е слово, происходя от того же корня, выражает то же основное представление; но она же зовется и зеленою, и в следующем месте: „Ой веселая весна да звеселила yci прочки, Да не так прочки, як долиночки"; зве селила, м. б. значит покрыла зеленью» [Потебня 1989а, с. 311].
По отношению к полям *vesel означает не только 'свежий, зеленеющий, растущий’, но и 'изобильный, плодородный, урожайный, благодатный’, ср. древнерусск. значение глагола веселитися и прилагательного ве-селоватый в следующих примерах: «ТЬлеса убо подобыю вештьскыя при-емлюшта пишта, растуть же и веселятся до повеления таковыми въздрас-тьми мЪры и .тЬта (Ефр. Корм., 1. ХП в.). Околотого острова, 168 верстъ поля хлебородные з’Ьло тучные веселоватые, хлебом и овощи всякими хвалится и веселится. (Козм. 325. 1670г.)» |СлРЯ 11—17вв., 2, с. 112].
Мотив веселья как неотъемлемый компонент мифопоэтического образа весны, естественно, находит отражение в весенней обрядности и обрядовом фольклоре. Особенно насыщены этим мотивом у западных и восточных славян весенние обходные обряды (волочебный, «конопелька» и др.), а у южных славян — центральный весенний обряд Юрьева дня.
Белорусский волочебный обряд, исполняемый на Пасху, обнаруживает ту же символику веселья, что и зимнее колядование. Пасха, как и Рождество, ассоциируется с радостью и весельем: «Дай жа, Божа, / Тэта святца праважащ, / Свята вял!чка дажыдащ! / Да й у padacui, у весялосц1 / Тры дгп святца чырвоным яечкам разгауляцца» [Валачоб-ныя necni 1980, с. 123]. Ср. также гадание, практиковавшееся в Силе
304
V. Слово в контекст культуры
зии: з «пчельник, ложась спать, клали под подушку сборник церковных песнопений, а утром открывали его наугад, и если попадалась постовая песня, считали, что грядущий год будет печальным, а если рождественская или пасхальная — год будет радостным [Broda 1959, s. 131].
Как и в колядовании, главная цель волочебпиков — «развеселить» хозяев и пожелать им весе;ц>я на целый год до следующей 11асхи: «Ды с хазяь нам павггошея, / Ды хазяюшку павееялии» [Валачобныя неси! 1980, с. 243]; «Стой, калшка, стой, нс хилея, / Слауная наш, развесял1ся-> [там же, с. 96]; «Ото ж табе, пане гаспадару, / Песня спета напрощ лета, / Тон рок правадзпц, / Другого дачакащ / Уpadacyi, вееялоеци / У боскай апат-шноецд» [там же, с. 188]; «Будзь <жа> здароу, як з!мою вада, / Да будзь жа багат, як у летку зямля, / Да 13 дзеткам!, да з сямейкаю, / Да з сямейкаю вееялейкаю, / Прощу новага лета песенька спета...» [там же, с. 184]; «Слауны пане, / Аддарыся, / Одплащся. / Жыв! сабе, / Весямся, / Год ад году, / Век ад веку» [там же, с. 132].
Называш1е хозяина, хозяйки, их дома и двора веселыми приобретает магическую силу наделения их весельем, благополучием, процветанием: «Добры вечар гэтаму дому! / Вясна красна на увесь свет! / Гэтаму дому свянцонаму, / Гаспадарыку вясёламу» [там же, с. 132]; «Хазяйск! шюр шырок, вясёл. /Шырок, вясёл, насемсажон» [там же, с. 189].
Близкий к волочебпому обряд «конопелька», распространенный в восточных районах Польши, исполнялся с вечера Светлого воскресенья и до утра пасхального понедельника и состоял в обходе домов группой парней, которые под окнами домов, где жили девушки, пели песни и получали за это вознаграждение в вице пирогов, сыра, колбасы, а чаще всего яиц. Начиналось исполнение песней религиозного содержания «Chrystus zinart-wychwstaje, nam na przykiad daje» (Христос из мертвых встает, нам пример подает), а затем предводитель обходииков обращался к хозяевам: «Pozwol-cie Paristwo swoj dom roztveselic i nam ivesolem Бус» (Позвольте ваш дом развеселить и нам веселыми быть) (ср. приведенные выше аналогичные формулы рождественского колядования). Если хозяева соглашались, им исполняли песню <-\Vesoly nam dzis dzieri nastal» (Веселый день для пас сегодня настал) и «Konopielka» [Dworakowski 1964, s. 88].
Третий из весенних обрядов, включающий мотив магического веселья, — хорватский (отчасти известный и словенцам) обряд «Zeleni Ju-raj» — тоже представляет собой обход домов группой молодежи, в состав которой входит персонаж, изображающий св. Юрия. Эго мальчик, с ног до головы укрытый зелеными ветками. Его водят от дома к дому, от его имени поют или произносят поздравления и благопожелания хозяевам,
Культурная семантика славянского *v ев el -
305
в его пользу («для него») собирают дары. Подобно колядникам, «Зеленый Юрий» магически наделяет хозяев весельем и благополучием: «Hva-Ijen Isus i Marija! / Kruto jako veseli se, / Kano drvo zeleni se. / Kano drvo u zelenju / Sve pticice u veselju <bis>» (Слава Христу и Деве Марии! Веселись вовсю, как дерево, зеленей. Как дерево в зелени, так все птички в веселье <дважды>) [Huzjak 1957, s. 19].
Следующие юрьевские благопожелания по содержанию и структуре чрезвычайно близки к рождественским благопожеланиям полазника: «Dobro jutro, gazda ,i gazdarica! / Dosao vam je zelen Durad na zelenom konju, I u zdravlju i veselju, svinskom prasenju, / kravljem telanju, konjs-kom zdrebenju, I kokosjem, purjem, pacem i guscem polozenju!...» (Доброе утро, хозяин и хозяйка! Приехал к вам Зеленый Юрий на зеленом коне, со здоровьем и весельем, со свиным приплодом, коровьим отёлом, кобыльим ожеребом, куриным, индюшачьим, утиным и гусиным выводком!) [там же, s. 23]. В работе И. Милчетича «Коляда у южных славян» приводится вне связи с обрядом «Зеленый Юрий» припев далматинской юрьевской песни, не просто сходный, но и прямо перекликающийся с припевами колядных песен: «Slava, slava, Jurjev danu. / Bila dobra godinica, a rodilo vino, psenica / veselo, veselo, koledo! / Navijesti nam blaga kisa / Oj veselo Jurjev dane / na zelenu konicu / veselo, veselo, I Koledo, koledo!» (Слава, слава Юрьеву дню! Пусть будет добрый урожай, пусть уродит вино, пшеница! Весело, весело, коляда! Пошли нам доброго дождя! Ой веселый Юрьев день на зеленом коне! Весело, весело! Коляда, коляда!) [Milcetic 1917, s. 47, 48].
В сербском варианте юрьевского обряда отсутствуют обходы и связанные с ними благопожелания, но мотив магического наделения «весельем» может присутствовать в виде рефрена песни, исполняемой группой девушек и женщин, возвращающихся в село после ритуального сбора трав в Юрьев день. Так, в Хомолье пели: «Зелени се, зелен венче, — весело! / Ми идемо преко пол>а — весело! / А облаци преко неба — весело! / Ми идемо кроз то село — весело! / Киша поли наша пол>а — весело! / Чще цвеЬе пона]лепше — весело! / Ъур1)ево je пона]лепше — весело!» (Зеленей, зеленый венок, — весело! Мы идем по полю — весело! А тучи по небу — весело! Мы идем через это село — весело! Дождь полил наши поля — весело! Какие цветы самые красивые — весело! Юрьевские самые красивые— весело!) [Милосавл>евиЬ 1913, с. 54]. Совершенно очевиден заклинательный характер этого припева, имеющего ту же цель, что и развернутые формулы, эксплицитно выражающие пожелание «веселья», т. е. жизненной силы, роста, плодородия, изобилия.
306
V. Слово в контексте культуры
Магическое «веселье» могло иметь не только вербальные, но и чисто ритуальные, акциональные формы выражения. Смех, шутки, громкое пение, танцы и т. п. часто бывали не просто проявлением удовольствия и радости, но ритуально предписанным поведением, преследующим определенные практические цели. По свидетельству В. Драбик, в Подлясье при начале весенних полевых и др. работ считалось необходимым веселиться, шутить, петь и т. п., чтобы начатое дело было успешным [Drabik 1992, с. 88]. На Гуцулыцине колядники должны были спеть хозяевам-пчеловодам какую-нибудь веселую песенку, «аби бджоли були весели» [Воропай 1958, с. 88]. В Полесье женщины, половшие лен, катались по полю, шутили, смеялись, чтобы лен уродился ([Архив полесский] — Великий Злеев, Репкинский р-н, Черниговская обл.), а в день, когда сновали основу, с утра молились Богу, ничего не ели, надевали все чистое и «старались быть очень веселы ми» ([ПЭС 1983, с. 236] — Хоромск, Сталинскийр-ц, Брестскаяобл.). Украинцы, когда белили хату, пели веселые песни и смеялись, «чтобы в хате жилось весело» [Иванов П. 1889, с. 46; Шевченко 1926, с. 91]. В Польше известен обычай, по которому крестные родители, неся ребенка из костела после обряда крещения, должны были петь по дороге или, придя в дом, с ребенком на руках исполнить несколько тактов польки, чтобы у их крестника была «веселая жизнь».
Помимо продуцирующей магии, ритуальное веселье у славян широко использовалось в качестве оберега и средства защиты от потусторонних сил (подробнее см.: [Толстой 1993]).
Свадьба
Роль мотива и концепта веселья в сфере представлений, связанных с браком и свадебной обрядностью у славян, становится ясной уже из того, что само понятие свадьбы в украинском, белорусском, польском языках обозначается словом 'vesehje. В том же значении это слово известно некоторым чешским, восточнословацким, южно- и западнорусским диалектам [Eckert 1965, S. 195-197; Дзендзел1вський 1969а, с. 29, 30; СРНГ, 4, с. 179, 181]. В сербскохорв. и болг. веселе и веселба, употребительных, главным образом, в фольклорных текстах, значение 'свадьба’ еще неотделимо от исторически предшествовавшего ему значения 'пир, торжество’ (в том числе и 'свадебный пир’). Ср. серб. «Ал1 Ъор1)и)а два ее села гради: / Брата жени, а сестру уда]е» (А Георгий две свадьбы готовит: брата женит, сестру замуж отдает) [PCKHJ, 2, s. 544]; хорв. «Da se moja
Культурная семантика славянского *v е з е I - 307
sestrabiijase lanioienit, bujayorno jei cinyt velo ves‘elje>> (Когда моя сестра в прошлом году выходила замуж, мы устроили ей большую свадьбу-веселье) ([HDZ, 1, s. 182] — о. Сусак). Ср. также словенск. veseli dan 'помолвка или свадьба’ [SSKJ, 5, s. 412].
Хотя значение 'свадьба’ для слав. *veselbje, несомненно, является вторичным — оно зафиксировано в украинском языке с XV в. [Тимченко, 1, с. 223], в белорусском — с XVI в. [ГСБМ, 3, с. 143], а в польском — только с XVIII в. [Briickner 1957, s. 607] — практически во всех славянских языках в той или иной мере дериваты праслав. *vesel- (и *rad~) оказались вовлеченными в круг свадебной терминологии в качестве названий (или эпитетов) свадебных чинов, отдельных ритуалов и актов обряда, ритуальных предметов и т. п. [Гура 1981а, с. 265, 266], ср. хорв. veselnik 'музыкант, сопровождающий сватов в обряде сватовства’ [RHSJ, 20, s. 770; ZNZO 1962, knj. 40, s. 100]; моравск. vesel'nik 'участник свадьбы’ [Bartos 1906, s. 480]; радосгтьик 'ритуальный свадебный хлеб, специально украшенный и предназначенный невесте’ ([ГЕИ 1971, с. 150] — словаки Воеводины); с.-в.-рус. веселый стол 'вечер у молодых на второй день свадьбы’; яро-слав. друженъко веселый [Традиционные обряды 1985, с. 248], ю.-в.-рус. веселое утро 'утро после свадьбы’ [СРНГ, 4, с. 181] и т. п.
Семантика *vesel- в славянской свадьбе не исчерпывается ни исторически производным значением 'свадьба’, ни исходными для него значениями 'пир, торжество, веселье’ и 'веселье, радость, удовольствие’. Как и в рассмотренных выше семантических комплексах Рождества и весны, *vesel- в свадебных текстах и обрядовой номинации приобретает символическое значение 'жизненная сила, здоровье, плодородие’ и магическую, заклинательную функцию наделения участников свадьбы, а прежде всего ее главных персонажей — жениха и невесты — этими свойствами. Веселье, пение, смех, шутки на традиционной свадьбе носят вполне ритуализованный характер (что не исключает, конечно, естественного проявления положительных эмоций). Действующие лица и гости на свадьбе должны веселиться, чтобы молодые и их семьи были здоровы и благополучны, ср. вост.-слав, свадебные заклинания: «Весялщеся, лю-дз1, / Ой весялщеся, людзь..» [Вяселле 1988, с. 108]; «Улезь, медзьведзь, на клець, /аз клещ да на сцёбочку, /аз сцёбочк! да у коробочку, / а в ко-робоццы насшейко. / Весёлое нам весилейко» [Moszyriski 1929, s. 248]; «Свгги, свпилко, св!чку <2 раза>, / ясную, восковую, / Щоб було видне-сенько <2 раза>, / Вечером веселесенько1>> [Весьлля 1970, 1, с. 175]; «Ко-тилося колесце з клттки. <2 раза> / Обшмггъся хорошенько, дгтю, / Щоб вам солоденько, / А нам веселенько» [там же, с. 135]. •
308
V. Слово в контексте культуры
Сам национальный план свадебного обряда определяется глаголом *ve seliti sq. В белорусских песнях невеста-сирота, приглашающая покойных родителей на свою свадьбу, получает от них такой ответ: «Весялися, дз!цят-ка, з госпадам Богам 1з сва!м родам» или <<Весямся, дзгцятка, весялгся, ма-ладое» и т. п. [Вясселе 1983, с. 93—95]. Обряд предписывал веселье, смех, шутки при печении коровая [ГЕМБ 1927, кн>. 2, с. 22], при буженин молодых после первой брачной ночи и во многие другие моменты свадьбы. Цель этого ритуального веселья выражается обычно так: «чтобы молодые были веселы» (болт, «зада се весели младите» [Телбизов 1963, с. 223]).
Функция «веселить», принадлежащая прежде всего Богу, божеству (ср. сербскохорв. благопожелания типа Бог те весели — «дай Бог тебе веселья» [RHSJ, 20, s. 768]), в календарных (рождественских и весенних) обходах символически передается колядникам или волочебникам как посредникам между обыденным, земным и сакральным миром (см. выше), а в свадебном обряде эта функция передается жениху и невесте (и самому акту их брачного соединения). Жених, муж — источник «веселья» для невесты и молодой жены. Ср. белор. бреет. «Месячык све-цщь — вщненька будзе, / Сонейка грэе — цёпленька будзе, / Жанпнок едзе — вяселенька будзе» [Вяселле 1980, с. 287], рус. смолен. «Роуный муж — / Звисялитель мой, — / Старый муж — Разслезитель мой! / Роуный муж — / звисялитель мой! / Звисялиу мою головушку, / Дяво-чую красотушку» [Добровольский 1914, с. 61].
Что касается невесты, то она приобретает способность быть «веселой» и «веселить» других только во второй половине свадьбы, после венчания и первой брачной ночи, т. е. с преодолением границы девичества и получением нового социального статуса. Свою прежнюю, досвадебную девичью веселость (ср. рус. тверск. «развеселое житье девичье, распроклятая жизнь замужняя» [Традиционные обряды 1985, с. 102]) невеста утрачивает сразу после просватанья, ср. полесскую песню: «Ой дз!уко, дз!уко Марьянке, / почему ж ты вчера весёла була, / а сегодня раненько хмурненько? — / Ой якжеж бо мне весёлой бущ, / што осела меня чужина, / усе ж Петруськова родзгна» [Moszyriski 1928, s. 275]. В русской костромской традиции невеста после просватанья («сговоренка») просит подруг развеселить ее: «Вы попойте-ка, подруженьки, / Веселы да песни, радошны. / Возвеселите-ка, подруженьки, / Вы меня да молодешеньку!» [Традиционные обряды 1985, с. 100]. В белорусской свадьбе отец жениха, поджидая молодых, спрашивает: «Ц1 едуць мае госценью. / Ц1 усе вясёленыа, / Ц1 пяюць пе сенью? Адна невясёла, / Што ад бацька прывязёна. / Прывязёна у ночы, / Заплаканы вочы» [Вяселле 1988, с. 95].
Культурная семантика славянского ’vesel-
309
После венчания и брачной ночи молодая не только сама становится «веселой» («Катенька веселая, / Катя чернобровая» [Традиционные обряды 1985, с. 285]), но и приобретает способность магически «веселить» весь свой род: «Ой казали превражп люде, / Що Маруся недобрая буде; / Аж вона да добренькая,/ Свому роду веселенькая» ([Весшля 1970, I, с. 386] — укр. полесск.); «Зелена калина весь сад взвеселила]. / Как наша Марьюшка да Ивановна / Весь род взвеселила]» ([Традиционные обряды 1985, с. 296] — рус. ярослав.). В белорусском обряде свекровь встречает невестку благопожеланием: «Распусц! долю / Да па сваём nojii, / Шчасце пры дол! / Па маём падворЗ / Каб у мяне на пол! / Да жыта радаьла, / Каб маясямейка / Вясёла хадзша» [Вяселле 1988, с. 104, 105].
Из всего сказанного следует, что славянский свадебный обряд, помимо своей основной функции — оформления акта «перехода», смены социального статуса вступивших в брак и их родственников, имеет еще и ярко выраженную сопутствующую магическую функцию наделения всех участвующих в обряде лиц «весельем», т. е. здоровьем, силой, процвета нием, благополучием, что сближает его с рассмотренными выше кален дарными обрядами рождественского и весеннего циклов.
Смерть
Если в семантических сферах Рождества, весны и свадьбы концепт веселья занимает вполне естественное положение и хорошо согласуется с дру гими существенными для них понятиями (прежде всего с идеей символического начала), то для области смерти и погребальной обрядности символика веселья кажется не только не мотивированной, но и противоестествен ной (ср. сербск. весело je умро [Мшъанов 1990, 2, с. 5, 6, 24]). Тем не менее некоторые, пока немногочисленные и достаточно случайные примеры магической (но уже не продуцирующей, а охранительной) функции веселья (и соответствующей лексики) могут быть приведены.
Кроме известных восточнославянских игр и развлечений при покойнике [Кузеля 1914—1915; Bogatyrev 1926] и святочных игр «в покойни ка» [Гусев 1974; Савушкина 1976], а также обычая устраивать в случае смерти незамужних похороны-свадьбу, иногда с буйным весельем, музыкой и играми [Bednarik 1943, s. 68], в связи с данной темой следует прежде всего упомянуть южнославянские обычаи, относящиеся к похоронам детей. Лак, в Лесковацкой Мораве (вост. Сербия), если в семье умирали дети, то после смерти очередного ребенка мать заставляли петь
310
V. Слово в контексте культуры
при выносе его тела из дома. При этом ей прикрепляли к одежде или волосам букетик базилика, что служило символом веселья и радости 1'Бор^евиЬ Д. 1958, с. 497]. В Хомолье умерших детей первенцев укра шали цветами и перьями, «што je требало да значи веселее (что должно было означать веселье) [Милосавл>евиЬ 1913, с. 251]. Если похороны приходились на воскресенье или праздник, когда в селе на площади или лужайке танцевали «коло», муж и жена, родители умершего ребенка, украшенные букетиками, шли в круг танцевать, а вернувшись домой, они пели песню. Так же поступали, когда умирали престарелые родите ли [Милосавл.евиЬ 1913, с. 251; Шнева]с 1929, с. 270].
В Полицах (Далмация) после смерти малого ребенка было принято устраивать радовагье-. родители с соседями радовались тому, что семья полу чила заступника на небесах в виде ангелочка [Шнева]с 1929, с. 270]. В Та ково (Сербия), если в доме случалось подряд несколько смертей, выбирали в семье одного человека, который после похорон, пока служилась панихи да, должен был в доме во весь голос петь какую-нибудь песню. Верили, что так можно остановить смерть. Иногда пели и во время погребения, когда гроб опускался в могилу [ФилиповиЬ 1972, с. 175]. Такого рода магическая песня, способная преодолеть смерть, могла носить название вёселица, ср. «Пастирка, седе и са преслицом у руци на неком гробу, пева из свег гла са неку веселицу» (Пастушка села с прялкой в руке на могилу и поет во весь голос какую-то «веселицу») [PCKHJ, 2, с. 541].
У славян широко распространен запрет оплакивать и провожать на кладбище умершего младенца-первенца. В Болгарии в этом случае не соблюдался траур. Мать не только не ходила на кладбище и не носила траурную одежду, но и украшала себя цветами, что считалось средством предотвратить смерть будущих детей [Вакарелски 1990, с. 154].
В сербском народном языке для обозначения покойника часто употребляется эвфемизм веселник [Ча]кановий 1973, с. 59; Бандий 1974, с. 109], имеющий ироническое значение 'бедняга, несчастный, неудачник’ [PCKHJ, 2, с. 542; RHSJ, 20, s. 767, 770]. По-словенски Sei je v nebeSko veselje означает 'умер’ (буквально: «ушел на небесное веселье, торжество, пир» [SSKJ, 5, s. 414]), ср. также древнепольск. wesele niebieskie, rajskie, wieczne, означающее 'смерть, загробное существование, вечное блаженство на небесах’ [SS, 10, z. 1, s. 80; z. 2, s. 81]. Любопытно отмеченное Б. Сыхтой кашубское vesele 'осенний отлет птиц’ (Ptaye zb erajp na vese le, bpje vnet jeseri — Птицы собираются на «веселье» — скоро осень |Sychta, 6, s. 142]), которое в свете приведенных фактов может толковаться не только как метафора свадьбы (в ряду таких выражений, как серб, мечки
Культурная семантика славянского *v е s е I -
311
се жени — буквально 'медведь женится' — инод, 'фибной дождь’ [Толстой 19766, с. 58, 59]; вост.-слав. черт / ведьма женится 'вихрь’, польск. подлясск. wesele bydla 'праздник скота’ [Drabik 1992, s. 90]; вост.-слав. свадьба ступы с толкачом и т. п.), но и в связи с представлениями об ирее как зафобном мире.
Светила и стихии
Веселый — обычный эпитет солнца, солнечного дня, солнечной по годы (о связи веселья со светом см.: [Потебня 1883, с. 48—53]). Более специальное значение может иметь применительно к солнцу глагол веселить ся. В восточных областях Польши и в некоторых районах Полесья им обозначается так называемая <<ифа солнца», когда солнце при восходе или на закате переливается разными цветами. По народным верованиям, это явление можно наблюдать в дни больших праздников (на Пасху, Воздвиженье, Купалу, Благовещенье и др.). Увидевшему оно сулит здоровье, счастье, удачу, однако не каждый может увидеть ифу солнца — это доступно только праведным. Ср. «Na Boze Ciaio stance si§ weseli» (На Божье Тело солнце веселится) [Niebrzegowska 1985, s. 130]; «Weselito sit; stance na Zwiastowanie albo na Wielkanoc czy sw. Jana i chodzono о wschodzie lub za-chodzie ogl^dac jak igra b^dz skacze» (Веселилось солнце на Благовещение, или на Пасху, или на Ивана Купалу, и ходили на восходе или на закате смотреть, как оно ифает или скачет) [Drabik 1992, s. 88]. Глагол веселиться входит в данном случае в синонимический ряд с глаголами играть, радоваться, купаться, гулять, скакать, танцевать, кружиться, кру шиться, двигаться, дрожать и др. [Толстая 1986в; Niebrzegowska 1985]. Можно предположить, что в белорусских волочебных песнях представлено именно это значение: «Ва нядзельку паранюсенька / узышло сон-ца весялюсенъка» [Валачобныя несш 1980, с. 83]; «— Чым пахвалппся, яс-нае сонца? / Як я узыйду рана у нядзелю, / Дак парадуецца увесь Mip раж-дзёны» [там же, с. 55].
В народном восприятии с играющим разными цветами солнцем сближается многоцветная радуга, обозначаемая в восточнослав. языках дериватами корней *vesel- (веселка, веселуха и т. п.) и 'rad- (радуга, радовица и т. п.), см.: [Толстой 19766].
В сербской фольклорной традиции известны формулы-обращения к молодому месяцу, где он называется весел>ак: «Здрав здравл>аче, весе-лаче\ Венац ти на главу, а мени здравл>е и веселе у куйу!» (Будь здоров,
312
V. Слово в контексте культуры
здоровяк, весельчак! Венец тебе наголову, а мне здоровье и веселье в дом!) [МилиЬевий 1984, с. 62] или «Здрав, здрав]аче веселаче, ти нама здрав) с и веселе, а ми теби колач и )абуку» (Будь здоров, здоровяк, весельчак, ты нам здоровье и веселье, а мы тебе пиры и яблоко) [PCKHJ. 2, с. 543]. Та ким образом, месяц, устойчиво ассоциируемый в народных представлениях с потусторонним миром, с царством мертвых, в еще большей степени, чем солнце, трактуется как источник, податель «веселья» людям.
'Vesel- может относиться и к земному огню, но прежде всего в тех случаях, когда это сакральный и ритуальный огонь. Лак, у сербов Грбля в обряде «слава» говорят не «погаси свечу», а опрсрли (+ob veseli), причем берут кусочек хлеба, макают его в вино, а после того, как погасят им свечу, съедают хлеб [СЕЗб, 1934, кн>. 50, с. 23, 25]. Македонцы района Скопле по тому, как горит свеча в Сочельник — «весело» или тускло, гадали о буду щем, веря, что того, чья свеча «самая веселая», ждет счастливый год, здо ровье и удача во всем [Кличкова 1960. с. 220]. В окрестностях Дубровин ка обряд возжигания костров накануне Иванова дня, Петрова дня или Ви дова дня называлирадован>е [СЕЗб, 1926, кн>. 38, с. 103].
Наконец, свойство «веселить», т. е. оживлять, питать жизненными соками, может принадлежать воде: рус. арханг. «Речькя у нас така весела, быстра» [Архангельский словарь, 3, с. 152]. ср. также старо слав. «Р'Ьчна етръмениЬ веселять град бжи» (Енински апостол, XI в. [Мирчев, Кодов, 1965, с. 169]), древнепольск «Rzeezna bistroscz ivespli rnasto bosze» (Течение реки веселит град Божий) (Флорианская псалтырь, 1400 г. [SS, 10, z. 2, s. 82]).
Рассмотренные выше культурные контексты, в которых выступает слав. * vesel-, а именно — комплекс рождественской обрядности и фольк лора, свадебная обрядность и фольклор, обряды и верования, связанные со смертью, представления о небесных явлениях и светилах, — при всей их видимой разнородности содержат общий семантический компонент, объясняющий закрепление за ними одного и гого же номинационного знака vesel-. Наиболее ярко этот общий компонент выражен в рож цественском комплексе, где магическое «благопожелательное» значение веселья неотделимо от общей семантики сакрального начала (годового и жизненного цикла). В круге весенних обрядов и текстов эти значения имеют достаточно сильную природную мотивировку. Смысловое родство
Культурная семантика славянского *<? е s el -
313
свадьбы и Рождества, свадьбы и весны, проявляющееся как на ритуаль ном уровне, так и в терминологии, делает понятным использование в свадебном фольклоре дериватов слав. ’vesel- в тех же значениях, 'жизненная сила, здоровье, процветание, плодородие’. Две последние сферы представлении — область смерти и верхний, небесный мир — реализуют преимущественно те значения концепта «веселья», которые связаны с апелляцией к источнику, подателю соответствующих благ (жизненной силы и процветания), пребывающему за пределами земной жизни.
Эти доминирующие в культурных контекстах «глубинные» значения, сакрализующие семантику веселья, создают как бы второй план или верхний уровень значений слав. ’vesel- по отношению к собственно языковой семантике, в которой преобладают значения, связанные с эмоциональным состоянием и поведением человека. Любопытно, однако, отмстить, что эти глубинные значения совпадают с реконструируемыми для слав. ’vesel- протозначениями 'живущий, здоровый, хороший ит. п.’ [Skok, 3, s. 578, 579; БЕР, 3, с. 136, 137; Младснов 1941, с. 63 и др.].
Некоторые общеязыковые употребления дериватов ’vesel , явно находящиеся на периферии и носящие скорее метафорический характер, несколько расширяют семантический спектр «веселья», ср. огонь весело го рит; весело бежит ручей; веселое утро, веселый ветер, веселое место и т. п., а в отдельных случаях «прорываются» в круг культурных и символических значений. Примеры такого рода приводились выше при изложении материала, здесь к ним можно добавить хорв. диал. vqselo 'быстро’: Divjo trova uqselo гёйЦ [Dulcie 1985, s. 716]; рус. псков. «Кагда граза да гром, растенье виеялицца» [Псковский словарь, 3, с. III]; архант. весело 'свет ло’, веселка 'светелка’, веселить 'заквашивать’: «веселю дрожжами» (живить, наживлять), веселиться 'подыматься на дрожжах, бродить’» [Архангельский словарь, 3, с. 150, 151; СРНГ, 4, с. 179J; близкие к ним значения, передающие воздействие на человека вина (ср. рус. навеселе); сербские и болгарские личные имена Весела, Веселин, Веселина и т. п., кашуб. Vesolka [Sychta, 6, s. 138], безусловно, понимавшиеся как магические, заклинательные, защитные, и соответствующие имена домашних жи вотных— коз и овец (веселица [PCKHJ, 2, с. 541]), ср. также сербско хорв. veselica, ptica veselica 'птица, приносящая веселье, сулящая радость, в противоположность птице зловещей’ [RHSJ, 20, s. 766].
До сих пор семантика и символика слав, ’vesel- рассматривалась глав ным образом на материале народной, фольклорной традиции. Другие значения или акценты характеризуют семантику «веселья» в языке книжной культуры и церковнославянской письменности, где ’vesel- выступает
314
V. Слово в контексте культуры
в устойчивой корреляции с *rad~. Радость и веселье составляют не только семантическую пару с разным для разных контекстов соотношением значений (от полной синонимии до антитетического противопоставления), но и риторическую фигуру стилистической симметрии [Лихачев 1965]: «Упо вай, земле, радуйся и веселуй, яко возвеличи Господь..., яко древо иринесе плод свой» (Великие минеи четьи. Окт. 19—31, 1851, XVI в. [СлРЯ 11— 17 вв., 2, с. 111]); «Быстьже... радость велика и веселование» (Великие минеи четьи Окт. 13-15, 914, XVI в. [СлРЯ 11-17вв., 2, с. 111]) ; «тогда кполнят ся padocmi оуста наша i языкъ наш веселия» (Синайская псал тырь, XI в. [SJS, 4, s. 181]); с-радостию радуй ся и веселиемъ весели ся>> (Синайский евхологий [там же]).
Подобным парам (кроме радость— веселье, к ним относят пары мир — тишина, честь— слава, житие — жизнь, истина — правда, дивьнъ — страшьнъ, благодать — милость и др.) посвящена большая литература [Лихачев 1979; Лотман 1967; Успенский 1983; Толстой 1984а; Hafner 1981]. Как и другие пары, оппозиция веселье — радость в средневековых церковнославянских текстах может строиться на приз наках «обыденное — сакральное» («земное — небесное»), «телесное — духовное», «внутреннее — внешнее».
В символическом языке церковных текстов *vesel-, хотя и относится часто к земному бытию, к человеку, однако определяет его духовное устремление к Богу в особые, наиболее сакральные моменты, в частности, в праздник Пасхи: «В няже дни очистившися дша празднуеть светло на Вскрснье Гене веселящися о Бз4>>> (1074 [Лаврентьевская летопись, стлб. 184]); «Яко же обычаи есть христьяномъ въ тыя дни о Бозе веселят/и/ся>> (Казанская летопись, 66, XVII в. [СлРЯ 11 — 17 вв., 2, с. 113]); ср. также «Воскресения день, веселимся, людие, Пасха, Господняя Пасха!» ит. п.
Оппозиция *vesel- — *rad- по признаку «небесное, божественное — земное, человеческое» отчетливо выражена в ст.-слав, «да веселятъ ся небеса i радоуетъ ся земл-fc» (Синайская псалтырь, XI в. [SJS, 4. s. 181]), то же др.-рус. «Да веселують ся нбса и да радуеться земля» (Успенский сб., 340, XII—XIII вв. [СлРЯ 11 — 17 вв., 2, с. 111]); ст.-слав. «с радостно же великою похвалиша Бога и весели ся Богь о семь з+ло» (Житие Константина, XV в. [SJS, 4, s. 181]) (ср. также приведенные Хафнером примеры из сербской редакции церковнославянского языка [Hafner 1981, s. 85]).
Тяготение *vesel- к сакральному полюсу значений, отмеченное уже при анализе народной рождественской традиции, находит отражение и в таких языковых явлениях, как словен. veselo oznanilo 'евангелие’, сербскохорв.
Культурная семантика славянского *v в в el -
315
тике paklene i veselja rajska [RHSJ, 20, s. 773]. Любопытно, однако, что в более поздних формах «народного христианства» номинация посредством 'vesel- часто закрепляется за семантической сферой Рождества, тогда как пасхальная тематика использует преимущественно дериваты слав. 'rad-. Соотношение веселье — радость, в котором веселье связывается с сакральным, а радость — с земным, человеческим началом, может претерпевать инверсию (ср. словен. veselega tloveka ima Se bog rad (веселому человеку Бог рад) [SSKJ, 5, s. 412]), подобно тому, как это произошло с оппо зицией правда — истина. В современном русском узусе радость, несомненно, воспринимается как более возвышенное, духовное переживание, ср. [Пеньковский 1991], чем веселье, ассоциирующееся с эмоциональным состоянием удовольствия. Но и в древнерусском тексте «Изборника Святослава» 1076 г. «веселие света сего» имеет то же значение, что и в нашем языке, т. е. выступает как антитеза божественному, сакральному, небесному веселью: «Не въсхошти веселова/тъ/ся въ миргб семь все бо веселие св!ласегось плачьмъ коньчавает ся» [Изборник, с. 168].
Во многих контекстах в современных славянских языках радость и ее селье оказываются абсолютными межъязыковыми (часто и внутриязыко выми) синонимами. Так, в соответсгвии с укр. «Я тобою, пташка, веселю ся» (Т. Шевченко) в русском языке возможно только радуюсь. Точно так же словацкому выражению го titia sa veselili соответствует рус. радовались жизни, словен. iz veselega srca эквивалентно рус. с радостью-, 'vesel- и 'rad- одинаково представлены в слав, названиях радуги [Толстой 19766], ср. также близкие по значению и употреблению русские прилагательные веселый и жизнерадостный. Случаи синонимии 'vesel- и 'rad- отмечались нами и при анализе культурных контекстов 'vesel- (ритуал радовагье, личное имя Радован и др.). Существенным для семантической характеристики дериватов корня 'rad- является значение, представленное в вост.-слав. Радуница 'поминальный день на Фоминой неделе’, не имеющее прямого соответствия в номинационном поле 'vesel-.
Из других лексико-семантических корреляций, в которые входит 'vesel-, наиболее интересна пара веселье — игра. Как и в случае оппозиции ее селье — радость, здесь можно наблюдать семантическое притяжение, обусловленное не столько контекстуальной смежностью или фразеологической связанностью двух лексем (ср. др.-рус. веселье играти 'играть свадьбу’, синонимию глаголов играть и веселиться при обозначении «игры солнца» и т. п.), сколько общими для них значениями «жизнетворности», жизненной силы, роста. У дериватов 'jbgra эти значения получают более сниженную трактовку (в том числе и значение 'futuere’; о семантическом
316
V. Слово в контексте культуры
спектре этого слова см.: [Lunt 1977; ЭССЯ, 8, с. 208 -210], тогда как *пе sei- остается в сфере «высокой» семантики и саъоальней символики. Подобные же отношения связывают vesel с семантичес ким полем глагола гулять, рус., белорус, гулять свадьбу и играть свадьбу полес. солнце играет и гуляет, выражение корова погуляла — о случке и т. п.).
Выше приводились примеры, демонстрирующие корреляцию веселый — здоровый. Синонимия этих слов опирается на тот же общий признак жизненной силы и то же, что и в предыдущей паре, распределение значений между высшей, небесной, сакральной сферой (веселье) и земной, человеческой сферой (здоровье). Как можно видеть из приведенного материала (особенно текстов благопожеланий), во многих случаях эта пара слов образует устойчивую риторическую формулу, наделяемую магической силой заклинания, способного обеспечить физическое здоровье и духовное «веселье». Наконец, для полноты семантической характеристики слав. *vesel -необходимо учесть и антитетические корреляции, в которых веселье противопоставляется печали, слезам, унынию, мукам и т. п.
Возвращаясь к общим рассуждениям о культурной семантике и символике, можно заключить, что семантическая структура языкового знака (слова, морфемы и др.), его смысловой стержень определяется не только как инвариант синонимического или перифрастического ряда ('vesel-, *Ьъдг~, 'radostbn-, ' sbiqstbliv- и т. д.), но и как инвариант значений всех его дериватов, всего словообразовательного или этимологического гнезда (veseh> — veseliti — veselica — vesetoka и т. д.). С другой стороны, его семантический спектр зависит не только от оппозиций с другими языковыми знаками, но и от семантических скрещений с ними ('vesel-/ 'rad , 'vesel-/ 'sb dorv-, 'vesel-/ 'mold , 'vesel-/ 'jbgr-, 'vesel-/ 'zelen- и т. д.). Что же касается символического значения, то оно явно выходит за рамки языка, его носителем может быть как слово, так и реалия внешнего мира (предмет, ритуальное действие и т. п.), а также и прежде всего ментальный коррелят и слова, и реалии — объединяющий их «концепт».
Печатается с добавлениями. Первая публикация:
Н- И- Толстой, С. М. Толстая. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав, vesel ) // Славянское языкознание. XI. Международный съезд славистов Доклады российской делегации. М., 1993, с 162—186.
*Народная этимология и этимологическая магия
Народная этимология обычно изучается как чисто языковое явление, состоящее в том, что этимологически изолированные, непрозрачные (лишенные внутренней формы) слова, чаще всего иноязычные, получают семантическую мотивировку (приобретают внутреннюю форму) на основе их сближения с созвучными им другими словами, что внешне выражается в их звуковой и/или семантической модификации (ср. русск. пиджак / спина —* спинжак; польск., укр., белор. mazepa, мазепа 'неряха' <— собств. имя Мазепа / мазать) ’. Между тем лежащий в основе народной этимологии принцип семантического притяжения (аттракции) созвучных слов (независимо от их этимологического родства) имеет более общий характер и составляет одну из важнейших особен ностей ряда архаических фольклорных и ритуально-магических текстов, которую можно назвать этимологической магией, смыкающейся с другими, неязыковыми (ритуальными, мифологическими) видами магии. На эту экстралингвистическую, мифопоэгическую функцию народной этимологии, на ее значение для анализа структуры и семантики архаических культурных текстов, равно как и лежащей в их основе народной психологии и картины мира, уже обращалось внимание. Около ста лет тому назад замечательный болгарский ученый И. Д. Шишма-нов в монографии «Принос към българската народна етимология» привел большой фольклорный, этнографический и лексический материал болгарской и других славянских культурных традиций и предложил его первоначальную систематизацию по тематическому и жанровому прин-
1 Механизм народной этимологии на материале польского языка тщательно исследован и теоретически осмыслен в кн.: [Cienkowski 1972].
318
V. Слово в контексте культуры
ципу: народный календарь, демонология, народная медицина, ономастические легенды и т. п. [Шишманов 1893]. К сожалению, исследования в этом направлении не были продолжены ни на болгарском, ни на ином славянском материале, а ценные наблюдения И. Д. Шишманова и собранная им коллекция фактов не получили дальнейшего осмысления ни со стороны чисто лингвистической, ни со стороны фольклорно-этнографической. В наше время интерес к такой тематике заметно возрос в связи с развитием этнолингвистического направления в изучении древней славянской духовной культуры, прежде всего ее наиболее архаических мифопоэтических и языковых форм [Толстой 1983; Толстой 1982а; наст, изд., с. 27—40], а также в связи с работой над «Этнолингвистическим словарем славянских древностей» [Этнолингвистический словарь 1984].
Обилие материала по народной этимологии и этимологической магии, содержащегося в фольклорных источниках (особенно в текстах так называемых малых жанров) и этнографических описаниях (записи обрядов, верований, мифологии), ставит перед исследователем задачу выработки определенных принципов его систематизации и интерпретации. Приемы, применяемые в собственно лингвистических работах по народной этимологии, оказываются здесь явно недостаточными ввиду большей сложности самого объекта: в качестве единицы описания в данном случае выступает не лексическая пара семантически сближенных созвучных слов, а, как правило, целый, нередко достаточно пространный текст, в пределах которого только и может быть выявлена мотивировка самого сближения. Эго не значит, что лингвистический, собственно этимологический аспект для фольклорно-этнографического материала не представляет интереса, — напротив, этот материал способен значительно расширить рамки народной этимологии как в количественном (большее число слов), так и в структурном (большее число типов) смысле, и пролить новый свет на механизм самого явления народной этимологии и природу «этимологического сознания» носителей языка. Поэтому накопление, систематизация и собственно лингвистический (формальный и семантический) анализ фольклорно-этнографических фактов народной этимологии остаются насущной задачей науки о языке2. Однако это являлось бы лишь первым, в значи
2 Судя по всему, имеющийся материал по народной этимологии славянских языков (литературных, просторечных, диалектных, фольклорных и других текстов) вполне допускает лексикографическую обработку и представление в виде особого рода словаря (народноэтимологического, ложноэтимологического, мифопоэтического или тому подобных, ср. словари омонимов, синонимов, паронимов, рифм и т. д.). В статье такого слова
Народная этимология и этимологическая магия
319
тельной степени внешним подступом к проблеме, способным отразить поверхностный, формально-языковой уровень народноэтимологических текстов.
Второй, более глубокий уровень рассмотрения интересующего нас явления связан с анализом народной этимологии и этимологической магии как мифопоэтического приема, включающегося в сложную семантическую и поэтическую организацию целого текста, т. е. связан с изучением функции народной этимологии в структуре текста.
И, наконец, третий уровень (или аспект) рассмотрения предполагает выход за пределы вербальных текстов и обращение к ритуально-магическим формам поведения, к обрядовым «текстам», мифологии и верованиям, необязательно имеющим языковое выражение или устойчивую текстовую форму. Роль народной этимологии (этимологической магии) в текстах этого типа может быть различной: от мотивирующей совершаемые действия до генерирующей, т. е. порождающей обрядовые действия. Примером ритуальных действий, мотивированных народной этимологией могут служить: болт, среднегорск. При первом кормлении ребенка грудью повитуха держит над матерью сито с кусочком хлеба, чтобы ребенок был всегда сыт — «да е сито детето» [Вакарелски 1961, с. 57]; южн. сербск. сретечскожупск. Первый хлеб кладут в сито, чтобы был сытый год — «сита година» [Николий 1961, с. 126]). Народная этимология может мотивировать также представления: центр, полесск. На Ивана Купала солнце купается; приметы: центр, македонск. Если ребенок родится на заходе солнца — «заод солнце», он будет заходиться — «ке заодно плачем [Ковачев Й. 1914, с. 48]; запреты: полесск. На Паликопу (св. Пантелеймона— 27.VII ст. ст.) нельзя в поле работать: будэ палыти копы и т. п. Наконец, народная этимология может порождать ритуальные действия, ср. зап. полесск. волынск. Чтобы жито хорошо трубило (шло в трубку), во время сева трубят в трубы.
ря раскрывалась бы исходная семантика и «научная» этимология заглавного слова, став шего объектом народной этимологии (по терминологии В. Ченковского, слабого), и его новая внутренняя форма (новая этимология), приводилось бы слово или слова, на основе которых произведена этимологизация (по терминологии В. Ченковского, сильные), с их значением, и минимальные контексты, подтверждающие новое осмысление заглавного слова. При этом заглавное слово может иметь несколько «этимологических» версий. Подобный словарь может быть составлен как для отдельных типов текстов, так и Для отдельных языков или культурных традиций, или даже, когда речь идет об архаическом круге текстов, — для славянской традиции (славянских языков) в целом.
320 V- Слово в контексте культуры _______________
Можно говорить, таким образом, о языковой, мифопоэтической и ритуально магической функции народной этимологии и соответствен но — о трех аспектах ее изучения: в рамках лингвистики (лексикологии и этимологии), в рамках поэтики (структуры текста) и в рамках духов ной культуры (обрядность, верования, мифология).
К текстам, изобилующим примерами этимологической магии и народной этимологии или даже в значительной степени построенным на их основе, относятся такие малые фольклорные формы, как разного рода приметы, толкования сновидений, запреты и предписания (точнее, их мотивировки) , заговоры, загадки и т. п., т. е. тексты не повествовательного, а ритуально-магического характера. Из повествовательных жанров могут быть названы в этой связи ономастические (топонимические и антропонимические) и этиологические легенды. Каждый тип текста, имеющий свою особую поэтику и функцию, накладывает свой отпечаток на содержащиеся в нем этимологические фигуры и формулы. В каждом типе текстов народноэтимологические сближения занимают разное место и по-разному соотносятся с другими поэтическими приемами.
Наиболее естественную и внутренне обусловленную позицию занимает народная этимология в приметах, построенных по схеме «Если х, то у», предполагающей причинную связь между х и у (х —* у), например, вост, полесск. черниг. Если кто-либо до Благовещения noeicimb на дворе белье, то в селе впиалъниш будут; русск. Кто на Палея (св. Пантелеймона — 27.VII ст. ст.) работает, у того гроза хлеб спалит [Даль 1957, с. 890]; полесск. бреет. Як прошла Прэчыста (15.VIII/8.IX ст. ст.), то стала у рэцэ вода чыста. Созвучные компоненты обеих частей такого текста принимают на себя семантическую и символическую интерпретацию этой связи, ее мотивировку. Разумеется, символическая связь между частями такого текста может не иметь поддержки в языко вом тождестве или сходстве (ср. русскую примету: Если на Рождество небо звездное, будет урожай грибов), в таком случае мотивировка остается за пределами текста. Формула «Если х, то у» даЛеко не всегда воп лощается в тексте приметы в своем полном, развернутом виде, но ее логический смысл сохраняется и в свернутой конструкции типа русских календарных примет: Феодор Студит землю студит-. На С ту дата стужа', Сечень (февраль) сечет зиму пополам; В апреле земля преет', Со дня Руфа земля рухнет (оттаивает); Василий Парийский землю парит\ На Карпа карпы ловятся; На Тихона солнце идет тише и птицы стихают', Макрида .мокра и осень мокра', Борис и Глеб — по спел хлеб; Св. Сила прибавит мужику силу; Со Спаса Преображения
Народная этимология и этимологическая магия
321
погода преображается; На Лупа льны лупятся, Покрова — или лис том, или снегом покроет и т. д.
К формуле «Если х. то у» (х —* у) в сущности могут быть сведены и тексты, называемые запретами (схема: «Нельзя делать х, а то будет у>>, или: «Не делай х, чтобы не было у») и предписаниями (схема: «Следует делать х, чтобы был у», или: «Делай х, чтобы был у>>), а в конечном счете и тексты, формулирующие некий обычай, правило поведения, особенно если они снабжены мотивировкой целевого или причинного характера (схема: «Принято делать х, чтобы у», или: «Принято делать х, т. к. у»). Те же по содержанию календарные и другие приметы нередко имеют вид запрета, предписания или «обычая», ср. примеры, собранные в Полесье: На Благовищенне и на Антония хлиб не печуть <пекут>, щоб росы не запекать; по той же причине не ставят изгородей — щоб не загородить дощь; На Крывую середу <в среду перед Троицей> не мона <нельзя> полоць, бо покрывее <покривится> стебло у жыти; У падь <фаза луны> не зачинають робить, як бы падав усё, шо будеш ро бить. На том же основании сновать старались — под повну <фаза лу ны>, щоб было в утку поено; На молодику у нас не снують, кажуть, оснуй на молодику, дак буде молодое <т. е. редкое> полотно; Палыко па у жныва, иычо нэ мона робыть, бо будэ палыть копы; Празник Сё мен у яки день недели попаде, нельзя весной сеять.
Если формулы запрета, предписания или обычая не содержат син таксически оформленной мотивировки, то эта мотивировка заключается в самом звуковом повторе, ср. полесск. На Купайлу купаюца, кажуть. русалки; Сонцэ купаеца на Купального Ивана; На Макоеея мак светят; На Покрову прикриваюца уси гадости — ужы и уси. Земля усё прикривае на Покрова; До Ушэстья <Вознесения> шэстъ недель не сновалы; На Здвижэнне <Воздвижение> сонцэ здвигаецца; кашубск. Na Stremanny persi stremin jije pod lod^ (На Благовещенье первый ручей бежит подо льдом) [Sychta, 3, с. 59]. Отношение мотивирующего и мотивируемого в формулах такого типа неочевидно: светят ли мак, потому что праздник Маковей, или, наоборот, праздник этимологизируется как Маковей, т. к. светят мак? Это можно обозначигь как х «-» у.
Разновидностью примет можно считать и толкования снов, построенные по стереотипной схеме: «Видеть во сне х означает у>>, очевидно сводимой к х у. Значительная часть снотолкований построена на зву ковой близости х и у. русск. гора (подниматься в гору) -> горе; серб. сир 'сыр, брынза’ -> осиротеть, сирота; русск. печь -> печаль, хлопец —» хлопоты, девка —» диво, снег —> смех, жито —» житье, Л
.422
V. Слово в контексте культуры
волы -* воля, грибы —» нужда (пригребется), корова —* корогви 'хоругви’ (т. е. к покойнику), укр. бульба —» бульботити 'болтать, сплет ничать’ и т. д.
Число примеров можно многократно увеличить. Семантические сбли женин этого типа в большей степени, чем приведенные выше календарные приметы, запреты, предписания и обычаи, основаны не на собственно языковом толковании слова (его внутренней формы), а на символическом толковании слова, которое не заменяет общеязыковое, а надстраивается над ним. Вместе с тем, эти символические объяснения не являются индивидуальными, они достаточно устойчивы.
По степени формальной близости семангически притягиваемых слов материал фольклорных и ритуально-магических текстов не отличается от собственно лингвистического. Здесь наблюдаются как случаи полного тождества не только корневых морфем, но и словоформ (Студит — студит), и случаи чистой омонимии (Карп и карп, Сила и сила и т. п.), так и примеры паронимии, т. е. частичного звукового совпадения, коих большинство. Частным случаем паронимии можно считать со звучие по типу рифмы, которое характерно и для языковой, и для мифологической народной этимологии. Ср. русск. Федосеевы морозы — худосеи; Не всяк Панкрат хлебом богат; На Евтихия день тихий; Федот тепло дает; Стратилат грозами богат; На Феклу копай свеклу С Ерастом жди ледяного наста; Введение разбивает ледение; На св. Прокла поле от росы промокло; Илья наробит гнилья; сербск. Благовести — враговести и т. д.
Крайним случаем паронимии является нулевое, или скрытое созву чие, когда второй член этимологической фигуры представлен в тексте своим синонимом. Например, русск., вост. слав. Если во сне выпал зуб и показалась кровь, то умрет кто нибудь из близких родственников (кровь — кровный, кревны 'родственник’; кровное родство); На Зило та собирай траву (зелье); полесск. До Пэрэплавной сэрэды (среды на 4-й неделе после Пасхи) нэльзя купатысь (плавать); На Благов1щенне не печуть хл!б, бо говорить, що буде засуха (спека 'засуха’); сербск. Во сне яйца (jaja), яблоки (уабуке) или земляника, клубника (уагоде) предвещают горе (jayK 'стенание, стон’, jao\ 'ой!’).
Семантическая аттракция может еще дальше отойти от формального (звукового) подобия, когда ма1ическая связь устанавливается между словами, лишенными формального сходства, но обладающими определенным семантическим сходством, т. е. имеющими пересекающиеся значения (общие семантические элементы). Ср. черногорское поверие: Не
Народная этимология и этимологическая магия
323
вал>а се Бц/еле неделе брщати ни косу резати, jcp би она] коме се то ради врло рано морао nocujedumu (Нельзя на Масленицу бриться и стричься, т. к. тот, кого будут стричь и брить, очень рано поседеет) |ДучиТ1 1931, с. 326], где связь между значением 'белый’ и 'седой, поседеть’ опосредована семой 'белый’, входящей в значение 'седой’. То же в польском мазовецком обычае: Jak si^ ciasto piecze, osoba, ktora go w piec ktadzie, nie powinna siadac, poki sie nie upiecze, bo opadnie (Когда пекут тесто, особа, которая кладет тесто в печь, не должна садиться, пока тесто не испечется, а то оно осядет) [Kolberg, 42, s. 399], где глаголы siadac и opadac (opadnqc) связаны общим значением 'опускаться’. Вместе с тем сближения такого типа опираются в определенной степени и на формальную связь, хотя она здесь явно ослаблена и опосредована: седые волосы могут быть названы белыми, а о тесте или хлебе можно сказать, что они осели. Еще труднее восстанавливается формаль ная связь в болгарском примере: На заход-слънце пък не бива да се да-ва оцет, защото ще се развали, и так сыцо жерава и квас (На заходе солнца нельзя давать из дому уксус, а то испортится погода (пойдут дожди), также нельзя давать горящие угли и закваску) [Ковалев 1914, с. 48], однако она существует. Уксус и квас 'дрожжи, закваска’ семантически соотносятся с понятием 'ненастье’ (ще се развали), хотя и по-разному: квас — через значение 'мокнуть’, которое может трактоваться и как омонимическое и через сему 'кислый, киснуть, скисать’, которое присутствует в понятии 'дождь’ (ср. русск. кислая погода, серб.-хорв. киша 'дождь’ и др.); уксус же связывается с понятием ненастья лишь через сему 'кислый’. Только эти связи, хотя и не очевидные, позволяют объяснить мотивировку процитированного выше болгарского запрета давать из дома взаймы после захода солнца уксус и закваску (дрожжи). Что же касается упомянутых в том же тексте углей, то этот запрет по всей вероятности мотивирован, наоборот, опасностью засухи (в соответствии с обычной символикой горячих углей).
В последних примерах мы встречаемся, таким образом, с нарушением основного условия народной этимологии — наличия звукового (формального) подобия взаимодействующих слов при отсутствии их смыслового сходства. Здесь мы имеем, наоборот, более или менее явную семантическую близость при неявной, опосредованной и слабо выраженной формальной близости.
С другой стороны, в фольклорно-этнографических текстах широко представлено явление магического взаимодействия таких элементов языка, которые обладают и формальной, и смысловой близостью, т. е., как
324
V. Слово в контексте, культуры
правило, являются этимологически родственными, и, следовательно, не рассматриваются обычно как объекты народной этимологии 3.
Для того чтобы этимологически родственные слова (морфемы) могли стать объектом семантического притяжения и этимологической магии, необходимо, чтобы они достаточно далеко разошлись в своих значениях, чтобы их родство перестало О1цущаться и они, таким образом, в языко вом сознании уподобились этимологически неродственным созвучным словам. Так, например, можно предположить, что корень втор в на звании дня недели вторник, имевший первоначально значение порядкового числительного, но впоследствии фактически утративший его (в частности, и потому, что в ряду названий дней недели эта семантическая модель не абсолютна), оказался семантически оторванным от того же корня в глаголе повторить, где он к тому же означает не 'второй по счету’ а 'еще один (раз)’ (ср. возможность повторить три, пять, де сять и т. д. раз). Нарушение семантической связи привело к тому, что слова вторник и повторить стали восприниматься как этимологически не связанные и оказались подверженными семантической аттракции на равне с другими, этимологически неродственными словами. Ср. бо.чг. «В вторник и в петък се не годъват. — В вторник за да не повтори, а в петък за да му не е запето* (Во вторник и пятницу нельзя обручать ся. — Во вторник, чтобы это не повторилось, а в пятницу (петък), что бы это не было в тягость, насильно) [Чолаков 1872, с. 41]. То же яв ление можно наблюдать и в украинском приговоре, относящемся к журавлю: «Не зви ми*не журауликом, бо будеиш журйцц'а, а зви миене виесёликом, шчоби веисеилйц'ца* [Кабайда 1966, с. 88], где в первом случае представлена собственно народная этимология (т. е. ложная), а во втором — сближение двух этимологически родственных слов е далеко отстоящими значениями: 'журавль’ и 'веселиться’.
3 Исследователями народной этимологии не раз обращалось внимание на относительность противопоставления народной этимологии и научной как ложной и истинной. Раз-личие между ними заключается не в том, насколько они соответствуют действительной истории и этимологии слов (многие слова в этимологическом словаре любого языка могут иметь, как известно, несколько этимологических версий, доказательность которых изме-няегся со временем), а в том, что научная этимология ищет этимологической интерпретации лексики того или иного языка из чистого интереса к языковой истории н теории и стремится к максимальной исторической (хронологической) глубине, тогда как народная этимология ограничивается прояснением внутренней формы «гемных» слов и удовлетворяется ближайшими семантическими сопоставлениями, а этимологическая магия подчиняет этот механизм целям мифопоэтического творчества.
Народная этимология и этимологическая магия
325
Стертость внутренней формы болг. празник обуславливает его новое притягивание к прилагательному празен 'пустой’: зап.-болг. видинск. «Кога пръв път роди дърво, трябва да се обира делничен ден, а не в празник, за да не е празно от плод и занапред» (Когда в первый раз плодовое дерево даст плоды, нужно их собирать в будний день, а не в праздник, чтобы дерево потом не было бесплодно (празно от плод)) [Еьбюв 1926, с. 155]. Надо полагать, что точно так же внутренняя форма слова перун и глагола прать 'бить, колотить, стирать’, благодаря их сопоставлению, взаимно восстанавливается: ср. полесск. На Бла-говисны тыждень нельзя праты — перуны <громы, удары грома> будут бить; нельзя сноваты — хмары <тучи> сноватыся будут.
Семантическая разветвленность корня благ (ср. болг., макед. благ 'сладкий’, 'кроткий, мягкий’, 'скромный’, а также сербск. благо 'деньги, имущество’, 'скот’ и др.) приводит к разнообразным народнопоэтическим истолкованиям названия праздника Благовец, Благовещение, Благовести. В Кюстендилско (зап. Болгария) «в деня на Благовещение или Благовец (25.111. ст. ст.) засяват леща и тикви, за да са благи» (На Благовещение засевают чечевицу и тыкву, чтобы они были сладкими) [Любенов 1877, с. 14], а в Велесе (Македония) полагают, что на Благовещение змеи выползают из земли и поэтому, «за да бидат блази и да не апат, у секоя кукя им правят благо и ядат» (чтобы они были кроткими и не кусались, в каждом доме им готовят что-то сладкое и едят его) [Шишманов 1893, с. 555], в то время как в зоне Битоля (Македония) в тот же день (25.111) девочки старше десяти лет начинают месить хлеб. Эго происходит на Благовец дтя того, чтобы у них всегда был «благ лебот» (сладок хлеб) [Георгиева Е. 1931, с. 78]. В Боснии и других сербских этнографических зонах широко распространено поверие, что в канун Благовещения (Благовести) горят скрытые клады (блага) и тогда можно увидеть, где они зарыты в земле [Фили-повиЬ 1949, с. 131].
К этому же типу аттракции относится магическое сопряжение разных значений глагольного корня граб /греб- 'грести’ и 'захватывать’: сероск. «Кад чобани увече (уочи Ъур1)ев дана) дотера]у стоку у тор, он-да планинка узме грабул>е и стане грабити око н>их уз ове речи: ,,Ja не грабим ничи]е, него cBoje!“. Затим свуда око тора поспе пепео, да од-би]е набачене чини на стоку» (Когда пастухи вечером (в канун Юрьева Дня) пригонят скот в загон, тогда хозяйка, ведающая молочными продуктами, берет грабли и начинает грести граблями вокруг пастухов, говоря: «Я не захватываю (граблю) ничего чужого, а только свое!». Затем
326
V. Слово в контексте культуры
она посыпает пеплом вокруг загона, чтобы отвести от скота направленное на него колдовство) [Петровий 1948, с. 242]; значений корня вис / веш- 'висеть’ и 'вешать’: польск. «Jezeli w wilije Bozego Narodzenia po zachodzie slorica iviszg. susz^ce si^ chusty (bielizna), b^d^i si^ ludzie wieszac w tym roku» (Если в Рождественский сочельник на закате солнца будет висеть белье для сушки, в наступающем году будут вешаться люди) [Fischer 1921]; значений глагола обилазити 'пробовать (пищу)’ и 'обходить’: вост, сербск. «Не вал>а мушко да обилази (проба, куша) ]ело, jep he га обилазити срейа» (Нельзя мужчине пробовать еду, потому что его будет обходить счастье) [Грбий 1925, с. 186]; двух значений глагола париться-, русск. «В продолжение всего сева пахарю нельзя будет па ритьсяь, т. к. парятся на подстилке из соломы, а, по принципу подражательной магии, так же может «запариться и хлеб, который будет посеян» [Зернова 1932, с. 24] и т. д.
В ряде случаев этимологическая магия снимает различия между частным, узким, специальным значением слова и его общим, широким значением. Так, эпитетом чистый в календарных названиях (например, Чистый понедельник. Чистый четверг), означающим 'постный’, нередко мотивируются действия по наведению чистоты в доме, или обеспечению чистоты посевов; технический термин ткачества сновать может магически взаимодействовать с глаголом сновать в более общем значении разнонаправленного движения (ср. полесские запреты на снование в определенные дни года, мотивируемые тем, что «волки будут сновать у села» или «хмары сноваться будут»); полный в отношении к луне (полнолуние) взаимодействует с полный в общем значении, ср. белор., Витебск. «Рыболовные снаряды нужно всегда делать во время полнолу ния, будет всегда полная сеть рыбы» [Иванов В. 1910, с. 208].
Закрепление некоторого слова в терминологическом употреблении ослабляет его связь с родственными словами и, следовательно, создает условия для их вторичного, народноэтимологического сближения. с>го явление можно наблюдать, например, на народных названиях праздников, которые подвергаются магическому истолкованию на базе тех корней и слов, которыми они исторически мотивированы: Сретенье встреча (в восточной Сербии, в Тимоке и Болевце существует поверие, что девушка выйдет замуж за того парня, «кога сретне на Сретегье», т. е. которого встретит на Сретенье [Костий 1968/1969, с. 378]), Введе-не *— водить(ся) (в Полесье, на Черниговщине «на первой няделе Пи-липауки Ваденё: тагды ужэ гаворать — ну пашли валки вадица течками»); Воздвиженье *- двигать (в Полесье на западной Пинщине гово
Народная этимология и этимологическая магия
327
рят: «После движенья добре рукою дзьвигай, гушчэй сеяць»). Терминологизация полесского слова забуток 'хлеб, который забыли вынуть из печи вместе с другими хлебами’ вызывает его вторичную связь с глаголом забыть: на Черниговщине «кажутъ, не Ьк забутка, а то забудуть тебе люди, що ти е давка, не будуть сватать; нехай той забуток для во po6eiB, щоб вони забули проса и не ши» [Заглада 1931, с. 142].
Особенно сильно обособляются и отрываются от родственных слов, превращаясь по существу в их омонимы, названия растений и болезней. И именно они чаще всего подвергаются магическому истолкованию в народных верованиях. Ср. сев. макед., скопск. дебелика (растение) —» дебел 'полный, толстый, тучный’: Чтобы быть полными (дебела), опоясываются травой дебеликой, а чтобы скот тучнел, дебеликой обвязывают и маслобойку |Филиповий 1939, с. 398]; лепавец (трава) -> лепи се 'липнуть, прилипать’: Девушки, чтобы к ним липли (да се лепат) юноши, опоясываются травой лепавец [там же]; сербск. крушевацк. наврат, навала (растения) —> навраНати се 'заходить’, навалити 'валить валом’: «Многи ма]стори држе у дуйану или носе око себе ушивено у каници наврат и навалу, те би се муштерще навраТгале и с послом навалиле» (Многие ремесленники держат в лавке или носят зашитой в своем поясе траву наврат и навалу, чтобы клиенты к ним заходили и с заказами валом валили [Мщатовий С. 1928, с. 145]; боснийск. «На Божий омрсе се маслом и медом и рекну: „Ищем масло с огььа, да не лежим од оггьа“>> (Пью масло с огня, чтобы не лежать с огненной лихорадкой) [Пейо 1925, с. 371]; зап. полесск. дрогичинск. «Як подпалыва-еш корыною, будэ у дитя корына на язычку». Вообще этимологическая магия, основанная на омонимах (независимо от их происхождения), относится к наиболее распространенным. Ср. белорусск. Витебск. «Чтобы посеянная пшеница не выросла с головней, нужно сеять ее, когда еще в деревне никто не затопил печки. Отправляясь сеять, нужно положить в сеялку головню (обгоревший кусок дерева)» [Иванов В. 1910, с. 210]; хорватск. чакавск. «Otroku, ki ni gre&an, daju pojist tri graiice... da bi razagnali graSicu» (Непорочному мальчику дают проглотить три горошины..., чтобы разогнать град) [Jadras 1957, s. 316], где graSica 1) 'горошина’, 2) 'град’. Сербские заклинательные тексты из Драгачева, сопровождаемые маханием каким либо сакральным предметом (свадебным венцом, бёрдом, серпом, ситом и т. п.) и применяемые для отгона градовой тучи, насыщены омонимичными фигурами типа: «Машем ти ви )енцем — иди вц)енцем>>, *Брдом те бщем — брдом иди! Брдом ти машем — брдом иди!», см.: [Толстые 1981а, с. 72], где вценац 1) 'сва-
328
V. Слово в контексте культуры
дебный венец’, 2) 'горная цепь’; брдо 1) 'бердо’ (деталь ткацкого стан ка), 2) 'гора’.
Кроме терминологизации, этимологическому притяжению исконно родственных слов способствует их фразеологизация (характерная и для тер мипов) и метафорическое употребление. Ср. южн. полесск. ровенск. «В четверг перед свадьбой у жениха и невесты пекутся небольшие ржаные пирожки, которыми взаимно обмениваются дома жених и невеста. В середину пирожков накладывается нетолченый мак. Толочь для этой цели мак считается предосудительным: иначе новобрачные будут „тоектысь цилый свш вгк“» [Степанец 1910, с. 165]; вост, сербск. буджакск. «Велики мага pehu кашаль лече млеком од магарице» (Коклюш — магареКи кашаль — лечат молоком от ослицы) [П антелий 1974, с. 222].
Таким образом, как показывают приведенные выше примеры, в фольклорно мифологических текстах (в отличие от языка вообще) невозможно разграничить случаи собственно народной (или ложной) этимологии и этимологии «истинной», т. е. семантического притяжения родственных слов, ибо их функции в текстах такого рода совершенно одинаковы и определяются механизмом вербальной магии (любое осознаваемое сходство на уровне формального языкового выражения становится знаком внутренней связи денотатов). Такое неразличение внешнего, случайного звукового совпадения или подобия и внутреннего этимологического родства было бы неверно объяснять «ненаучностью» носителей языка. Оно обусловлено особенностью народного языкового и мифологического сознания, в котором всякое внешнее сходство предполагает, подразумевает, сигнализирует внутреннюю связь и символическое тождество. В данном случае сходство звучания свидетельствует об определенном тождестве смысла, а само соположение сходно звучащих слов в тексте актуализирует их символическую связь и возможность магического взаимодействия.
В то время как обычное языковое сознание как бы игнорирует звуковое тождество омонимов, близость паронимов, не замечает внутренней связи далеко разошедшихся значений одного слова (или корня), значений, связанных отношением метафоры или закрепленных за разными фразеологическими контекстами, древнее мифопоэтическое сознание не только не упускает из виду этих затемненных или стертых в языке связей, но и актуализирует, напрягает или даже воскрешает их, нагружая их дополнительной символической или магической функцией То же в сущности происходит в поэтическом сознании и в поэтическом языке (языке поэзии), где из соположения сходных звуковых форм рождается
Народная этимология и этимологическая магия
329
поэтический образ. Различие состоит в том, что сближение в поэтиче ском тексте имеет эстетическую, а не магическую функцию и является актом индивидуального творчества; оно однократно, ограничено рамками одного текста и в принципе невоспроизводимо (ср. народную этимологию Велимира Хлебникова), тогда как в фольклорно-мифологическом тексте оно более устойчиво, повторяется не только в разных текстах и жанрах, но нередко и в разных традициях.
Но в отличие от собственно языковой народной этимологии, этимологическая магия затрагивает не только «темные» слова, лишенные внутренней формы. Магической аттракции могут быть подвержены и слова с отчетливой внутренней формой, этимологически прозрачные и имеющие очевид ные словообразовательные и семантические связи. В то время как народ ная этимология исходит из единственности внутренней формы и однознач носги этимологии, этимологическая магия принципиально допускает множественность этимологических истолкований и семантических притяже ний слова не только в разных языковых системах (диалектах), но и в пре делах одной системы (культурного диалекта) в разных этнолингвистических контекстах 4.
Народная этимология может порождать как чисто вербальные тексты (ср. выше приметы, приговоры), так и тексты чисто акциональные (т. е. ритуальные действия и целые обряды) или смешанные (вербально-акцио-нальные). Внеязыковая и внетекстовая функция народной этимологии отчетливо проступает уже во многих примерах, рассмотренных выше, и осо бенно — в текстах запретов и обычаев, за которыми стоят определенные поверия или мотивированные этимологической магией действия. I {аличие самого текста как жанрово определенной устойчивой структуры не является обязательным, и во многих случаях народная этимология порождает непос редственно поверие или ритуал Например, у хорватов и сербов народноэ типологическая трансформация имени Bartolomaeus (Варфоломей) в Vra tolomije (собственно языковой уровень) порождает поверие, что в день это го святого (у православных 11. VI ст. ст., у католиков 24. VIII нов. ст.) никто не смеет лезть на дерево, потому что сломает себе шею (врат 'шея’) 5. И если в Сербии в Груже на Вратолому именно так и поступают — не лезут
4 В этом отношении этимологическая магия также оказывается ближе к поэтическим приемам художественного творчества, чем к языковым явлениям народной этимологии. Ср. об аналогичном соотношении внутренней формы слова в прагматическом и поэтическом языке: (Шпет 1927, с 141 — 146].
5 На этот пример обратил внимание еще П. Скок [Skok 1957; Скок 1959, с. 92].
330 У. Слово в контексте культуры
на дерево и не взбираются на кручи [Петровий 1948, с. 247], то в северной Македонии в Скопской Черной горе в селе Раштак на Вртолома вертятся вокруг священного дуба, называемого также Вртолом, обходят его с заж женными свечами в руках, со священником и с молитвою [Филиновий 1939, с. 503, 504]. В последнем случае название праздника этимологизи руется через глагол врти се 'вертеться’, врти ’вертеть’. .Этот пример демонстрирует возможность порождения ритуального действия непосредст венно (без участия текста) из этимологического осмысления слова. Того же характера уже упоминавшийся болгарский и сербский обычай класть хлеб в сито при первом кормлении или при первом новом хлебе, чтобы были сито детето и сита година, или полесский волынский обычай трубить в трубы, чтобы жито трубило (шло в трубку).
Если же народная этимология (Э) оказывается источником и текста (Т), и ритуала (Р), то соотношение всех трех элементов может быть различным; этимология может порождать текст, а текст в свою очередь порождать ритуал (Э —* Т —> Р); этимология может порождать ритуал, а ритуал — текст (Э —» Р —> Т), этимология может порождать текст-и ритуал одновременно, причем текст и ритуал эквивалентны, т. е. явля ются взаимным переводом, либо само произнесение текста и есть обряд (Э —* Т = Р), этимология может, наконец, породить независимо текст и ритуал (Т «- Э —> Р). Примером первого типа (Э -> Т —* Р) может служить приведенный выше сербский обычай, совершаемый в Груже вечером в канун Юрьева дня: «Кад чобани увече дотера]у стоку у тор, он да планинка узме грабул>е и стане грабити око 1ьих уз ове речи: ,,Ja не грабим ничще, него cBoje”» (Петровий 1948, с. 242], причем в акцио нальном тексте представлено одно значение слова грабити ('грести’), а в вербальном — другое ('захватывать’). Второй тип (Э -> Р —> Т) реп резентирует другой сербский обычай, исполняемый в день св. Витта {Видовдан — 15.VI ст. ст.). Связывая название праздника с корнем vid 'зрение’, сербы из Фрушкой Горы (Срем) выходят в этот день до восхо да солнца, собирают руками учреннюю росу, умывают росой глаза и лицо и произносят: «О, Видове, Видовдан, што очима ja видео, то рука ми створио» (О, Видов, Видов день! Что я увидел глазами, пусть то сделаю, сотворю и руками!) [Шкарий 1939, с. 96]. Близкий к этому по смыслу обряд-текст (Э —> Т = Р) засвидетельствован у банатских гер — в этот день матери подводят дочерей с какой-нибудь женской работой в руках к забору и произносят: «Видо, Видовдане, што год очима видим, све да знам радити» (Вид, Видов день, пусть все, что я вижу глазами, я буду уметь делать!) [БХ 1958, с. 312]. Примером независимого порож
Народная этимология и этимологическая магия 331
деиия вербального и акционалыюго текста (Т *- Э —» Р) может слу жить обычай варить в день св. Варвары (4.XII ст. ст.) панспермию, т. е. кашу из разных злаков (серб, варица) и приговор: серб. «Варва рица вари, а Савица лади, Николица куса» (Варвара варит, а Савва холодит, Никола кусает) [Шкарий 1939, с. 97], ср. аналогичные вое точнославянские приговоры типа «Варвара заварит, Савва поправит, а Никола гвоздем забьет».
Примеры, подтверждающие важную роль народной этимологии и этимологической магии в порождении и организации традиционных фольклорных и этнографических текстов, можно было бы многократно умно жить. Жанровая структура и объем эпгх текстов могут быть весьма различ ными, степень выраженности данного приема также может меняться, но при этом сама установка многих текстов на этимологическое заострение (напряжение) не подлежит никакому сомнению. Ср. следующее описание одного из компонентов юрьевского обряда, сделанное Вуком Караджичем: «У Боци се састану по три pjeeojKe Koje су вей за уда]у, па на Ъур1)евдан рано отиду на воду, носейи у'една у руци проса, а друга у н.едрима грабову гранчицу, па ]една од ове дви[е запита ону трейу: „Куда йеш?" А она одго-вори: „Идем на воду, да воде и мене и тебе и ту што гледа про тебе". Онда она запита ону што носи просо: „Шта ти je у руци?“ А она joj одговори: „Просо да просе и мене и тебе и ту што гледа про тебе". Потом улита ону што има грабову гранчицу, шта joj у гьедрима, а она joj одговори: „Граб, да се грабе‘и мене и тебе и ту што гледа про тебе"» (В Боке Которской на Юрьев день собираются три девушки, которые уже на выданьи, чтобы пойти рано поутру по воду. При этом одна из них несет просо (просо), а другая за пазухой грабовую (грабову) ветку. Затем одна из этих двух спрашивает третью: «Ты куда?» («Куда йеш?»), на что получает ответ: «Идем по воду’, чтобы вели (на свадьбу. — Л. Т., С. Т.) и меня, и тебя, и ту, что смотрит позади тебя» («Идем на воду, да воде и мене и тебе и ту што гледа про те бе»). Тогда третья спрашивает ту, что несет просо: «Что у тебя в руке?» («Шта ти je у руци?»), и та отвечает: «Просо, чтобы пришли просить руки и моей, и твоей, и той, что смотрит позади тебя» («Просо да просе и мене и тебе и ту што гледа про тебе»). Потом третья спрашивает ту, которая несет грабовую ветку, что у нее за пазухой, и та отвечает: «Граб, чтобы брали (хватали) и меня, и тебя, и ту, что смотрит сзади себя» («Граб, да грабе и мене и тебе и ту што гледа про тебе»)) [Караций 1957, с. 32]. По сути дела весь приведенный текст построен на двух магических и ритуально-поэтических приемах — на трехкратном диалоге и па трехкратной народной этимо логии. см.: [Толстой 1984].
332
V. Слово в контексте культуры
Народная этимология, имеющая весьма ограниченное распростране ние в языке как таковом, приобретает функцию одного из наиболее продуктивных приемов организации мифопоэтического и ритуально-магического текста и превращается в особый вид магии, который здесь был назван этимологическим. Благодаря этимологической магии язык оказывается неразрывно связанным с другими компонентами архаических типов культуры и мифопоэтического сознания.
Первая публикация:
Н И Толстой, С. М Толстая. Народная этимология и структура славянского ритуального текста // Славянское языкознание X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988, с. 250—264.
«Мужские» и «женские» деревья и дни в славянских народных представлениях (Мифологизация грамматического рода)
Наступает Иванова ночь... бывалые люди говорят, что в лесах тогда деревья с места на место переходят и шумом ветвей меж собою беседы ведут... Сорви в ту ночь огненный цвет папоротника, поймешь язык всякого дерева и всякой травы...
[Мельников-Печерский 1956, I, с. 273].
О деревьях как о живых существах, подобных существам человеческим, в славянской народной традиции, в разных концах славянского мира сохранилось немало свидетельств, немало легенд, баллад, поверий. Во многих случаях живая, человекоподобная сущность, плоть и душа дерева представляется скрьггой, выявляющейся или выражающейся лишь в определенных условиях или в определенное время. Притом обычно эта сущность ощущается носителями народной традиции как имманентная, присущая самому дереву, а не трансцендентная, перенесенная от человека. К таким имманетным свойствам, согласно народному мифологическому восприятию природы, относится и пол дерева, соответствующий грамматическому роду его названия. Явление это зафиксировано не только в славянской, но и в балтийской народной традиции, и имеет, видимо, древнее индоевропейское происхождение. Так, в литовской западножемайтской этно-диалектной зоне до недавнего времени был распространен обычай ставить на кладбищах деревянные антропоморфные надгробия из разных пород деревьев в зависисмости от пола покойника. Покойникам-мужчинам эти надгробия делались из «мужских» деревьев — из дуба, березы и ясеня {qiuolas, berias, uosis), а покойницам из «женских» деревьев — из ели, осины и липы {egle, ёри$ё, Пера) [Толстой 1983а — наст, изд., с. 145—148; Сег bulenas и др. 1970, р. XI; наст, изд., с. 280—286]. Bertas 'береза’, в литовском языке мужского рода, равно как и berzs в латышском. Наблюдения за крестинными обрядами латышей, проводившиеся в прошлом веке, дали также любопытный материал, касающийся нашей темы. Перед крестинами новорожденного ребенка кум шел в лес и вырубал дерево (очеп) для того, чтобы сделать из него колыбель младенцу. При этом для девочки он срубал липу {Пера) или елку (egZe), а для мальчика — Дуб (udzuols) или березу (bqrza). Затем около пня срубленного дерева
334
V. Слово в контексте культуры
кумовья совершали трапезу — ели и пили, поливая пень водкой и вколачивая в пень монетку [Трейланд 1885, с. 198, 199].
Связь грамматического рода названия дерева с воображаемым полом дерева четко прослеживается в отдельных сербских зонах, где обряд сжигания рождественского полена «бадняка» осложнен употреблением нескольких поленьев — двух и более, из коих одно полено должно быть мужского «пола» — бадгьак, а другое женского — бадгьачица. Так, почти во всех се лах Ресавы (область в центральной Сербии в восточном Поморавье) счита ют, что для рождественского полена «бадняка» нужно рубить «женское» дерево, и рубят вид дуба под названием граница (Quercus conferta), но в нескольких селах и конкретш в Тг-поне рубят и потом кладут на огонь в оча ге два дубовых «бадняка»: «мужской»— дерево цер (Quercus cerris) или храст (Quercus robur) и «женский» — дерево граница. При этом эти деревья даже срубаются по-разному: цер или храст (мужской бадняк) должен упасть на восток, а граница (женский бадняк) должна упасть на запад ’. Оба дерева кладутся на горящий очаг рядом. В той же Ресаве могут один ствол дерева разрезать пополам и одну половину назвать мужским, а другую — женским, но это уже относится не к «полу» деревьев, а к обряду рож дественского полена, в территориальной разновидности которого (в Реса ве) ярко выражен мотив соединения двух полов на священном и жертвенном огне, на котором жарится жертвенное животное (брав) поросенок, называемый печеница, печенок, божиТиъак [КостиЬ 1965/1966, с. 200].
В черногорских селениях в зоне Которской Бухты в Сочельник для «бадняка» искони рубили дуб (сербск. дуб — Quercus), позже при отсутствии дуба рубили маслину. Там в селах Нижнего 1'рбля для всех мужчин-домо чадцев рубили по одному дубу, а для хозяйки дома — рябину (сербск. смрдлика — Sorbus aucuparia), называя его при этом бадн>ачица в отличие от мужских баднак'ов [Вукмановий 1962, с. 492].
Те же самые представления о поле деревьев проявляются и в родинном обряде у сербов, живущих в селах Подгорины (северо-западная Сербия). Там после рождения ребенка брали рубаху, в которой была роженица во время родов, и вешали ее на «мужское» или «женское» дерево, соответственно на орех, дуб, клен (сербск. орах, грм, клен) или на бук, сливу, дуб
1 Восток также как бы является мужской стороной, а запад — женской, т. к. пара мужской — женский во многих ритуальных контекстах и ситуациях четко соответствует парам живой — мертвый, хороший — плохой, нечетный — четный, правый — ле вый, восточный — западный и др. См. об этом в описании той же сербской народной традиции: [Толстой 1987 — наст изд., с. 151 — 166].
Мужские* и ^женские* деревья и дни
335
(сербск. буква, ииьива, граница), в зависимости оттого, какого пола хотели иметь следующего ребенка [МилиЬевиЬ 1984, с. 197]. В этом случае снова выступают два вида дуба — грм илилужнак — Quercus robur — и гра ница — Quercus conferta.
В другой славянской этнокультурной зоне — полесской, которую К Мо шинский справедливо назвал «архиархаической», зафиксировано верование, что дежа по числу клепок может быть «мужской», если клепок нечетное число, и «женской», если это число четное. При этом, по интересным наблюдениям А. Л. Топоркова, в некоторых местах Украины предпочтение отдавалось «женской» деже, а в некоторых «мужской» [Топорков 1993]. Видимо, там, где выбирали «женскую» дежу, придавали значение началу порождения, плодородия, а там, где предпочитали «мужскую» дежу, обращались к позитивному началу (мужской— 'bonus’, женский — 'malus’). Так, к примеру, на Волыни в Любешовском р не предпочтение отдавалось мужской деже, сделанной из нечетного числа клепок, притом из двух пород дерева: из «мужских» — дубовых и «женских» — сосновых. В такой деже с нечетным числом клепок «будэ хороший хл!б», а клепки в ней следует счи тать с дубовой клепки: «дубова — соснова, дубова — соснова, — и трэ <трэ-ба>, коб на дубови кончилося». Мастер же, который делает дежу, считает сосновые и дубовые клепки следующим образом: «клэпка — клепчун, клэп-ка- клепчун...» (с. Ветлы, запись Т. А. Агапкиной 1984 г.). А. Л. Топорков собрал ценную коллекцию подобных полесских и украинских словооб разовательных пар: дижа — диж, дижка — дижун. Он же в 1981 г. в с. Рясно (Емельчинский р-н Житомирской обл.) обнаружил пары шэуко виця — шеукун и дуб — дубыця-. «дуб — нэ маэ сымыноу, вин бэсплодый, а вона мае сэмэна, жолуды — дубыця» [там же].
Обратимся к третьей славянской этнокультурной зоне — словенской. У словенцев, так же как у западных славян и западных (карпатских) укра инцев, есть обычай (или легенда), пр которому для того, чтобы распознать ведьму, нужно за несколько дней (иногда и за год) в определенной последовательности и постепенно делать и сделать табуретку или стульчик и принести его в Сочельник на всенощную. Согласно поверию, садясь на стул или опираясь на него, можно увидеть ведьм или «чаровниц», стоящих в церкви. В Словении записано немало вариантов этого обряда-легенды. Так, в Прекмурье стульчик делался 12 дней из 12 частей — каждый день прибива лась одна часть, а вечером в Сочельник работа завершалась. Там же он де лался и семь дней. В других словенских землях стульчик мастерили в день Св. Люции (13.XII нов. ст.), в Штирии от дня Св. Варвары (4.XII нов. ст.) до Сочельника (24.XII нов. ст.). Во многих местах в Словении
336
V. Слово в контексте культуры
стульчик сколачивался из одной породы дерева, но в Метлике (Белая Кра ина, южная Словения) — из девяти пород дерева, в Бане Локе (Белая Кра-ина) — из трех пород — ореха (oreh), черешни (HeSnja) и ели (jela). Однако в Задобраве (около г. Целье, средняя Штирия) и в Ортнеке (около Риб-ницы, Нижняя Крайня) стульчик делался из 12 пород деревьев «женского пола» (ienskega spola), а в Комполье при Муляве (Нижняя Крайня) стульчик сбивали из дерева, «о котором можно сказать он, а не она». В Ха-лозах (зона в восточной Штирии) стульчик или табуретка делались из 12 пород деревьев, притом обязательно «мужского пола», из таких пород, как дуб (hrast), кизил (dren) и т. д. [Moderndorfer 1948, s. 34, 35]. Показательно, что число пород дерева имеет сакральный характер — 3, 9, 12, так же как и время в ряде случаев — 7, 12 дней.
Наконец, в Пиринской Македонии (юго-западная Болгария), в с. Гос-тун, чтобы мальчиков-«одномесячников» (т. е. братьев, родившихся в один и тот же месяц) «развести» или «разделить» (т. е. по поверию нарушить общность их судьбы, так как общность опасна в случае болезни или смерти одного из них), сажают между ними вербу (врба), а чтобы разделить дево-чек-«одномесячниц» (т. е. сестер), сажают орех (орех) [Пирински край 1980, с. 459]. Здесь выбор дерева также подчинен принципу грамматического рода его названия и также является частью ритуального действия 2. Однако, все дело в том, что посадка «женского» дерева, дерева иного «пола» между мальчиками разъединяет мальчиков (также и мужского пола между девочками), в то время как посадка «однополого» дерева не имела бы важного дифференциального признака иного пола.
Символизация грамматического рода связана в Полесье не только с названиями дежи, но и с днями недели. В мифологическом сознании некоторых полешуков дни недели делятся на «мужские» — понедельник, вторник, четверг и «женские» — среда, пятница, суббота, воскресенье (неделя): «середа и пьятница, и субота, и недзиля — жэнски дни, а понедзилок, второк, чэцьверг — мушчыньски»3; «капусту не садзят у мушчыньски дзень, эта ж жэнска название капуста»4. Женская ипостась пятницы, воскресенья (неделя) и среды (середа) поддерживалась представлениями о персонифика
2 О ритуальных действиях по разделению «одномесячников» и «однодневников» см. подробнее: [Толстой 19946].
3 Село Кочище, Ельский р-н, Гомельская обл., запись С. М. Толстой, 1975 г.
4 Село Дубровица, Хойницкий р-н, Гомельская обл., запись С. М. Толстой, 1975 г. В приведенном примере дело касается не дерева и не древесины (как в деже), а овоща, каковым является капуста. Их объединяет признак «растительности».
Мужские* и ^женские* деревья и дни
337
ции этих дней недели, о существовании мифологических персонажей Пятницы, Недели и Середы: «У пьятницу пряли, а тольки ат кудели, як ложыца спать, адрывали нитку, шоб Пьятница не пряла; знаю шо пряла у нас Пьятница, сама лично чула...» ([Гура и др. 1983, с. ПО, 111] — с. Mont нка, Городнянский р-н, Черниговская обл.). «Кажуть шо выходить на сошэ <шоссе> у билом платье Ныдиля; она выходыть дай кажэ шо я Ныди-ля, вы мэнэ зрубалы дай вы зрубалы мэнэ. Мы ужэ у ныдилю и хату рубаем, и дрова рубаем, то она плачэ» ([Толстая 19866, с. 112] — с. Выступови-чи, Обручский р-н, Житомирская обл.). «У сэраду не снуюць, Сэрада кра-дэ. Сэрада крадэ, на дочки крадэ, дочкам крадэ». «У сэрэду Сеэрэда на дочки бэрэ — то усё забобоны! Яке там дочки!» ([Владимирская 1983, с. 229] — с. Пески, с. Доброе, Ратновский р-н, Волынская обл.).
Среда и пятница — постные дни, т. е. дни, уже отмеченные воздержанием в пище, в бьггу, духовным сосредоточением. В Полесье «появление» антропоморфных Среды и Пятницы предопределено в эти дни недели в значительной мере запретами и ограничениями, относящимися к прядению и ткачеству. Что же касается Недели (Воскресения), то ее мифологическое «бытование» связано с запретом на всякий труд в воскресный день (прежде всего на обтесывание бревен для хаты, рубку дров и т. п.). Южные славяне — сербы, македонцы и болгары — также почитают пятницу и воскресенье (Неделу), сакрализуют их, считают святыми и представляют себе в женском обличии. Сербы на Косовом Поле утверждают, что «Света Недела кадево]ка]е» (Св. Неделя, как девушка) [Vukanovic 1986, s. 415]. В представлениях сербов, «Света Петка Неделина je ма]ка» (Святая Пятница — мать Святой Недели) [Милийевий 1984, с. 55], а македонцы считают, что Св. Петка-Пятница — сестра Св. Недели [Тановий 1927, с. 77]. Такое же верование отмечено у болгар в районе их древней столицы Тырново. Там в с. Росен про Св. Дмитрия Солунского есть поговорка «Света Петка му е тетка, а Света неделя — леля» (Св. Петка-Пятница — его тетка, аСв. Неделя — тоже тетка) [Маринов 1914, с. 259]. Во всяком случае культ и авторитет св. Параскевы-Пятницы у южных славян всегда являлся и является самым высоким в рассматриваемом ряду народного культа дней недели. Он поддерживался и поддерживается целым рядом фольклорных и мифологических текстов и регламентаций и имеет давнюю апокрифическую традицию [Толстая 1984]. Этот вопрос, безусловно, заслуживает отдельного рассмотрения, и поэтому мы ограничиваемся приведенными примерами.
Подведем итоги. Что касается деревьев, то во всех случаях «пол» или «род» дерева оказывается отмеченным в обрядовом «окружении», в обрядовой функции. В литовском западножемайтском островке он связан
338
V. Слово в контексте культуры
с полом человека (покойника), у черногорцев Боки Которской — с по лом хозяйки и хозяина, у жителей пиринского села Гостун — с полом «одномесячников». В первых двух случаях деревья и люди должны бьггь «однополыми», в третьем — «разнополыми» (для «разделения»). Полету ки Хойницкого Полесья беспокоятся, чтобы «однополыми» с капустой были дни, когда следует сажать капусту.
В ритуалах с рождественскими поленьями «бадняками» двух «полов» — мужского и женского — и при манипуляции с дежой, имеющей клепки из древесины обоих «полов», используется человеческая модель двух полов (мужчина и женщина). Их соединение, соприкосновение, сожитие выра жают семантику, глубинный смысл рождения, произрастания, плодородия. Все действия с «бадняком» сводятся по сути дела к провоцированию богато го урожая и приплода скота. Эта же функциональная направленность характерна для всех обрядов, исполняемых на Рождество. Для манипуляции с дежой, чей ритуальный смысл как бы скрыт или не выражен достаточно ярко, сочетание мужского и женского призвано обеспечить превращение теста в выпеченное изделие, закваску и рождение хлеба, который, по славянским верованиям, таит в себе большой чудодейственный заряд, имеет магическую силу апотропеического и продуцирующего характера. Весьма показательна связь признаков мужской — женский с парами хороший — плохой, восточный — западный, о чем уже говорилось выше.
Все изложенное может служить хорошей иллюстрацией того, как язык и его категории способствуют возникновению мифологического мышления и мифологических представлений, как возникает и функцио нирует объединяющая их семиотическая система и как взаимодействуют языковые и надъязыковые культурологические категории. Материал свидетельствует, что эти процессы еще живы. Есть все основания предполагать, что нами изложена лишь часть бытующих в славянском народном мифологическом сознании представлений о поле растений, предметов и природных явлений, что многое еще не собрано, не раскрыто, ждет своего обнаружения и введения в научный оборот.
Приложение
Мы предлагаем два фольклорных текста, отражающие славянские верования в имманентность и трансцендентность «живой души» у дере вьев: сербское народное повествование о говорящих деревьях и животных и полесская баллада о «тополине».
Мужские* и ^женские* деревья и дни
339
Добросердечный и праведный слуга
(Перевод со сретечского диалекта сербского языка)
Было время, когда каждая птица говорила, овца говорила, говорил скот, говорили деревья.
Овца умоляла, когда собирались ее зарезать: «Не режь меня!» Когда валили ее, чтобы остричь, она в страхе просила не стричь ее.
Деревья рубили. Один богатый человек имел слугу. Он послал слугу в лес рубить растущее дерево. Дерево взмолилось: «Ради Бога не руби меня, ради Бога!» И слуга, как уже бывало, живое дерево оставил, а срубил сухое. И тогда хозяин опять ему сказал: «Да нужно сырое! Сухое дерево быстро сгорает и не держит огня!» На это слуга ответил: «Бедное дерево! Мне жаль его срубать, оно ведь растет!»
И когда слуга пошел в лес, дерево снова взмолилось: «Ради Бога, не срубай меня, ради Бога!» И слуга опять не срубил сырое дерево, а срубил сухое.
В третий раз хозяин сказал слуге: «Если ты мне и на сей раз не привезешь сырых дров, я снесу тебе голову!» Парень задумался: «Снесет мне голову хозяин! Лучше срублю ему живое дерево, если уж он не может выгнать эту мысль из головы». И, выслушав хозяина, слуга пошел в лес. Хозяин же незаметно следовал за ним. Слуга подошел к дереву, взмахнул топором и сказал: «Дерево, не умоляй меня больше, я не могу отдать свою голову за твою!». Но как только он замахнулся топором, послышался отчаянный крик дерева: «Не срубай меня, и тебе твой хозяин не срубит головы!» И хозяин это услышал, а слуга себе сказал: «Будь как будет, не буду тебя срубать, пусть летит моя голова с плеч!» — и снова набрал сухих дров и не взял не сухих, пожалев растущие деревья. Слуга так и не видел хозяина, подслушавшего его и сразу же скрывшегося восвояси. Он вернулся домой и разгрузил сухие дрова, хозяин же ему на это сказал: «Опять ты привез сухих, а не сырых дров!» — «Плачет лес... Я не могу рубить дерево, когда оно молит о пощаде!» — ответил слуга.
Добросердечный человек не может не отозваться на мольбу.
[Павловий М. 1939, с. 258, 259]
340
V. Слово в контексте культуры
Тополына
Мала маты сына, Рано ожыныла. Молоду нывистку Вона невзлюбыла. Шо на нашым поли Роста тополына?>> чНы пытайся, сыну, Про тую новыну.
Провожала маты Сына у солдаты. Молоду нывистку В полз лёну рваты. Быры остры топор, Рубай тополыну!>> Як одын раз вдарыв, Галле росхылылось,
<ьЯк ны выреши лёну Ны прыходъ до дому, Тай у чыстым поли Станыш тополёю». Як ударив другый, Шосъ заговорыло. чНы рубай, мий мылый, Я твоя Галына.
Рвала вона, рвала, Лёну ны нарвала. Тай у чыстым поли Тополёю стала. Разгорны листочкы, Там твоя дытына». <<Мамо моя, мамо, Шо ты наробыла!?
Два годы мынае, Трэти наступав, Молоды козачэ На пориг ступав. Мы так кохалыся, А ты розлучыла Мамо моя, мамо, Шо ты наробыла!?
<Мамо моя, мамо, Шо то за новына, Ты муюй дытыны Шчасце загубыла.» Записано в зап. Полесье в с. Заболотье Брестского р-на Брестской обл. в 1982 г.
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Мифологизация грамматического рода в славянских народных верованиях // Историческая лингвистика и типология. М., 1991, с. 91-98.
He — не 'не
Да будет слово ваше «да, да» — «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого (Мф 5, 37). А тут лукавый попутал.
^Цля нас привычно, что не всегда значит 'не’, всегда — отрицание, ука зание на отсутствие свойства, качества, действия или на противоположность, полярность. Нам кажется, что славянское не (nie, пё и т. п.), во всяком случае в словообразовательном аспекте, — одна из форм проявления языковой универсалии — отрицания, свойственного всем языкам мира. И это наше представление, безусловно, правильно1. Тем интереснее оказываются немногочисленные случаи, когда не в русских говорах и литературном языке выполняет другую функцию, выступает в ином значении. В каком? И почему?
Случаи, когда не не означает отрицания, разнородны, но в основном они сводятся к трем моментам: 1) ироническому, 2) табуистическому, 3) усиляющему (но не отрицающему). Между этими моментами можно установить некоторую связь, но правильнее было бы говорить об их принципиальном различии, обнаруживаемом и в синхронно-функцио нальном, и в генетическом плане.
Ироническое не. Эго не — самое понятное для нашего языкового сознания и самое употребительное. В. И. Чернышев приводит свои записи из владимирских говоров: А он выпить та не любит! и поясняет «очень любит!» [Чернышев 1927, стлб. 27]. Однако такое мы можем найти и в лите ратурном употреблении у интеллигентных носителей русского языка. В той же Владимирской губ. В. И. Чернышев записал: За это вам будет непло
1 Русскому не посвящена интересная работа В. И. Чернышева «Отрицание „не” в русском языке» (Чернышев 1927, приложение]. Мною из этого приложения заимствована часть примеров.
342
V. Слово в контексте культуры
хо! (т. е. достанется) [Чернышев 1927, стлб. 27], что полностью соответ ствует смоленскому Абдим нам будить ня плоха, як пыймають у го роси [Добровольский 1914, с. 494]. Аналогичного характера, видимо, употребление наречия нявольна в смоленском выражении За вумный свикровъю погулять нявольна (свободно можно погулять) [там же]. Примеры показывают, что не в таких случаях связано преимущественно с глаголами и наречиями и, что более существенно, — с определенным контекстом и конкретной внеречевой ситуацией. Отдельно, изолированно взятые слова нелюбить, неплохо (няплоха), невольно (нявольна) не означают 'любить’, 'плохо’, 'вольно’. Зга связь с контекстом и ситуацией остается и при случае, если глагол или наречие заменить существительным типа непьющий (здесь, однако, субстантивированное причас тие), непьяница, или неалкоголик2: Он ведь непьющий! (о человеке, любящем выпить), что по сути дела равно антониму трезвенник — Он ведь трезвенник! (о том же человеке). Подобные примеры употребле ния антонимов в иронических целях нередки, и мы их постоянно ветре чаем в повседневной речи и жизни.
Табуистическое не. Случаи табуистического употребления антонимов многочисленны и довольно хорошо отражены в этнографической литературе. Д. К. Зеленин отмечает, что «русские на р. Тереке, исходя из соображения, что сказать дитяти какую нибудь похвалу — значит сглазить его, вместо „здоровый ребенок" говорят: больной; вместо „кра сивый" — дурной; вместо „трудолюбивый" — лентяй» [Зеленин 1930, с. 29, со ссылкой на П. Семенова] 3.
Несколько иная задача ставится при табуистическом употреблении отрицания не в случае называния сербами рогатой гадюки — непоскок, которую обычно зовут поскок. Важно помнить при этом, что в сербском языке существует и омоним поскок 'прыжок вперед’. Именно по способ ности нападать прыжком на человека рогатая гадюка получила свое имя. Наделить ее другим именем, лишающим ее возможности совершать разящий скачок, именем, «которое своим содержанием способно воздействовать на поведение называемого им существа» [там же, с. 45], — такова цель прибегающего к табуированию.
2 Правда, такие сочетания вне предикативного употребления неустойчивы и не свойст венны русскому языку.
3 См. также богатое собрание южнославянских запретов хвалить ребенка, человека, скот и т. п. из за опасности сглазить в кн.: [ЪорЬевиЬ Т. 1938а].
Не —не ‘не'
343
Того же рода и смоленское нячорт 'черт’, никаянный 'то же’, появившееся из опасения вызвать черта, называя его по имени, и равносильное в табуистическом отношении таким антонимическим названиям черта, как орловское святоша [Даль, 4, стлб. 96] и мн. др. (см. богатейшую коллекцию примеров у Д. К. Зеленина [Зеленин 1930, с. 97—99]). На Смоленщи не говорят: Нячорт (черт) тябе нес на дирёвый мост или Никаянный (окаянный) мине змусггау [Добровольский 1914, с. 484].
Сюда же следует отнести карпатское бойковское нйвор1г, Heeopiz, нёво рог 'враг’, 'открытый враг’, очевидно, также со значением 'черт’ ([Оныш-кевич 1969, со ссылкой на Ю. Кмита и С. Охримовича] — с. Горгшний Дзвиняч, с. Хащ1в). Ср. сербе, враг 'черт’, в.-русск. диал. враг, ворог 'то же’ и т. п. Наконец, есть все основания предположить, что по этому же принципу создан (бурсаками, дьячками, попами?) украинский демонологический термин анцйболот, анцйболотник, анцйбол [Гринченко, 1, с. 8], что должно было иметь табуистическую внутреннюю форму 'не черт’ (о названиях чертей по месту их жительства и соответствующей в связи с этим чертовской иерархии см. примеры в кн.: [Толстой 1969]; см. также: наст, изд., с. 245—249). Предположение Д. К. Зеленина, данное, правда, под вопросом, о том, что в первой части слова «надо видеть антий, анти (христ)» [Зеленин 1930, с. 95], нам кажется менее вероятным.
Не столько табуистического, сколько магического характера оказыва етсяне (ни) в системах счета: ниодин, нидва, нитри... (один, два, три...), известных у гуцулов (в ночь на Ивана Купалу, ср. тогда же чтение христианских молитв с отрицанием не перед каждым словом), у украинцев бывш. Херсонской губ. (при счете людей, живности и хлебных изделий), у украинских детей на Черниговщине (при детских играх), на Полтавщине в народной медицине и др., подробнее см.: [Зеленин 1929, с. 85—87]. Поскольку у поляков сохранилось верование, что разные особи нечистой силы (например, лесные «дикие люди») пользуются человеческими словами с отри цанием, не исключена возможность, что в ряде случаев употребление слов нечерт, неворог и т. п. было не табу, а обращение к черту на его же языке (на охоте, при колдовстве, при заклинании нечистой силой), хотяД. К. Зеленин считает такое предположение, во всяком случае в отношении счета, маловероятным [там же, с. 87].
Усилительное не. Это не представляется нам противоречащим нормам нашего современного языкового мышления. Оно в большинстве случаев не связано с табуистическими представлениями, хотя по имеющимся материалам в русских, вернее белорусских, народных говорах
344
V. Слово в контексте культуры
наиболее распространено на той территории, где и табуистическое не — на Смоленщине. Наблюдая это явление, В. Н. Добровольский отмечал, что <<ни (безударное не. — Н. Т.) — частица не отрицающая, а усиливающая часто значение слова, к которому она присоединяется» [Добровольский 1914, с. 484], см. также: [Чернышев 1927, стлб. 26, 27], и приводил такие примеры, как низанапрасна 'напрасно’, нивдпрымитъ-тю 'опрометью’, низанявйння 'невинно’, нипаскудный 'скверный, паскудный’: Низанапрасна мы прападаим; Низанапрасна пирятерпеу; Низанявйння мы прападаим; Низаневйння пысадили у каптелку; Ни вопрымитьтю юн побижау [Добровольский 1914, с. 484, 485]4.
Здесь дело уже не в табуировании или ироническом употреблении слова. Наречия низанявйння, низанапрасна имеют свое определенное значение независимо от контекста. Еще интереснее случаи употребления усилительной частицы не (где даже утрачен оттенок усиления) в ряде имен существительных, приведенных В. Н. Добровольским, но не отнесенных им к рассматриваемой категории слов:
Смоленск, нихалява 'неаккуратный, неопрятный’: Ина нихалява абед варить; нихалявина, нихолявица, нихаляука 'неряха’: Ина такая ни халявина; Нихаляука ты: у тибе усе с грязьзю [Добровольский 1914, с. 488, 953]. Ср. архангельск., новгородск., пермск., оренбургск., курск., тамбовск. халява 'неряха, мямля’ [Опыт 1852], архангельск. халявый 'неопрятный’ [там же], а также орловск. нехолява, 'неряха, неопрят ный’, Смоленск., курск. нехолюза 'то же’ [Даль, 2, стлб. 1406] — на писание через о, видимо, ложное этимологизирование;
Смоленск, немерёчча 1. 'непроходимое место в лесу’: Етакая чащоба, немерёчча?; 2. о погоде: Икава погода? — Да пашло такая немеречча [Добровольский 1914, с. 479]; нимирёчча, ср. р. употребляется в значении 'непогодь, ненастье’ [Добровольский, 4, с. 705]. Ср. Смоленск, мирёчча 'болото’ ([Добровольский 1914] — бывш. Поречскийу.), украинск. по-лесск. хмерёча 'заросли, чащоба’, подробнее см.: [Толстой 1969].
Аналогичное явление наблюдается в соседних со смоленскими могилевских белорусских говорах:
4 Того же типа эпитет неукрамешная к существительному тьма в значении ’кромешная’ ('сплошная’) в духовном стихе о Страшном суде, записанном в бывш. Смоленском у.: «Приготовлена тьма неукрамешная / Кипит смала неуталимая*. В. Н. Добровольский не совсем удачно в данном случае объясняет, что ♦отрицание прибавлено под влиянием следующих стихов* (Добровольский, 4, с. 686, 705]. Основная причина появления не в этом слове — опять-таки усиление.
He — не ‘не ’
345
могилевск. шмярэч 'глухое, непроходимое место в лесу’: Ну i шмя рэч жа тут! — толью зьвяр'ю i вадзщца ([Бяльксв1ч 1970] — Мсти славский р н). Ср. могилевск. мярэча 'непроходимое болото, топь’ ([там же] — бывш. Ряснянский р-н), а также немеречъ, ж. 1. 'непроходимое в лесу место’: В самую немеречъ зашли- 2. 'болотистое среди леса место, заваленное валежником’: Через ге такую немеречъ ни як не перейдзеш и не проедзеш [Носович 1870] 5.
могилевск. н1хал1па 'слякоть, скверная мокрая погода’: Пыдшлась тыкая н1халта, што з хаты ня въийзъщ ([Бялькев1ч 1970] — Мстиславский р н). Ср. могилевск. халта 'слякоть, снег с дождем’: Целый дзень тыкая халта, што и носа ня высунуцъ, вец!р, дождж i сънег — проста 6ida ([там же] — Краснополянский р-н).
На тех же основаниях, что и в приведенных выше примерах (низа напрасна, нипаскудный и т. п.), возникло в Рязанской Мещере (в с. Деулино) слово непроступки 'проступки’, см.: [Коготкова 1966, с. 296], где отрицание не также лишь подчеркивает отрицательность значения, заложенного в слове проступки, а не снимает его.
Наконец, и русская литературная речь не избежала этой семантической тенденции, хотя случаи такого рода пока единичны. Таково, например, наречие непроизвольно, оказавшееся синонимичным наречию произвольно (а также прилагательные непроизвольный — произволе ный). Ср.: Простите, пожалуйста, у меня это получилось непроиз вольно и Простите, пожалуйста, у меня это получилось произволь но, наряду с Простите, пожалуйста, у меня это получилось не преднамеренно (но: преднамеренно).
Краткий вывод. Если в первых двух случаях — ироническом и та-буистическом — отрицание как таковое все же присутствует, ибо без него не было бы иронии или не выполнились бы условия табу (отрицание как форма неназывания), то в третьем случае — усиления— оно полностью исчезло, о чем свидетельствуют примеры слов, употребляемых в нейтральной речи, являющихся даже терминами (например, ге
5 Есть некоторая доля вероятности, что термин немереча прошел через стадию двойного табу: 'черт’ -> мереча ’черт’ (I-я стадия — называние по месту жительства) -> не мереча ’черт’ (2-я стадия с не, типа неворог). Затем, поскольку существовал параллельно термин мереча ’болото’, то же болото стали звать и немеречей. Для того, чтобы такое предположение получило права гражданства, нужно большее число примеров с семантическими переходами подобного рода.
346
V. Слово в контексте культуры
о графическими) и встречающихся наряду с такими же словами без отрицания (правда, видимо, не всегда в одной диалектной микросистеме). Внимание к этому, хотя и мелкому, факту может быть полезно при этимологических наблюдениях 6. Он во всяком случае любопытен как пример специфического преломления народного «языкового мышления».
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Не — не 'не’ // Фонетика, фонология, грамматика.
К семидесятилетию А. А. Реформатского. М., 1971, с. 282—287.
6 Так, например, известно мнение славянских этимологов о том, что слово
*medv$db/-b 'медведь’ появилось в результате табуирования («подставное слово* *, по Д. К. Зеленину). Можно предположить, что современное польское niedzwiedz 'медведь’, чешек, диал. nedvbd оказалось результатом вторичного табуирования (в значительно более позднюю эпоху) с обращением к магическому отрицанию nie (пе). Еще Рей в XVI в. употреблял форму miedzwiedz, сохранившуюся в ряде польских диалектов. Дистантная ассимиляция здесь, вероятно, не была импульсом к переходу тО > п('), ибо она не захватила такие слова, как чешек, medovnik, medovina (от *med&), mkdbny (от *тёдгь) и т. п. (ср. объяснения у М. Фасмера и В. Махка). Ср. также представление о медведе как об оборотне, лешем, нечистой силе и т. д. и общие подставные слова для медведя и черта вроде дед, дедушко, хозяин и т. п., подробнее см.: [Зеленин 1929, с. 29—Il 1J.
Блаже-Макарий
Имя Блаже, Благо/ у южных славян широко употребительно и излюблено в пределах македонских и несколько менее популярно в пределах сербских и болгарских. Оно типично для православной традиции, ибо бытующее в Хорватии созвучное имя Blai — иного происхождения: оно восходит к латинск. Blasius (ср. чешек. Blaiek и др.) *.
У сербов нередко встречается форма Блажа и Блажо, а у болгар зафиксировано только Блажо. В редкой форме Блажен исследователи единодушно усматривают прямую кальку с греческого Ma.xct.QioQ, но есть основания такой же перевод с греческого видеть и в православно-южнославянских формах Благо/ (Благой), Благо/е, Блaгoja (Благоя), из которых и выводятся «уменьшительные» Блаже, Блажа, Блажо. К этому же корню относятся и Благун, Благош, Блажу/, Блажун, Блажан, БлажиЬ, Благиша и др. Большинство из этих суффиксально производных форм от мечено на сербской территории, на что указывают и некоторые довольно типичные для сербского узуса суффиксы -uh, -иша и др. Однако не исключена возможность, что дальнейший сбор материала значительно пополнит
1 Вопросом о происхождении хорватского и западнославянского имени Blaz занимался М. Шимундич в связи с анализом ойконимов в окрестностях г. Джаково. Так, о Svetoblazje он писал следующее: «В средние века на его месте было село Блажинци. Оно опустело с уходом турок. Позже в нем обосновались сербские переселенцы из Боснии. Вероятно, тогда оно было названо сегодняшним именем. Состоит из прилагательного svet ('святой’) и имени Blaz. Blaz из латинск. Blasius; его значение 'тот, кто заикается, заика’, происходящее от blaesius (видимо, blaesus. — Н. Т.) ’заикающийся, пришептывающий, с заплетающимся языком’. Звук s > z заимствован из итальянско-венецианского произношения. Более древняя форма была Blazij, от него сокращенное Blaz* [Simundic 1979, с. 107, 108]. Согласно Корнелию Тациту, в древнеримской традиции Blaesus был cognomen в родах Юниев и Семпрониев.
348
V. Слово в контексте культуры
нашу коллекцию имен собственных от корня *bolg и умножит примеры и по другим зонам. Есть и сложные личные имена, в которых первым компо нентом выступает Благ(о). Таковы в первую очередь Благомир и Благо люб, которые, по единодушному мнению собирателей и исследователей болгарских и сербских личных имен Стефана Илчева и Милицы Гркович, являются новообразованиями. По всей вероятности такого же характера будет и сербское имя Благован. Что же касается имени Блажимир, то оно отмечено в сербских памятниках XV—XVIII вв., что указывает, впрочем, лишь на его относительную древность. Однако Ян Свобода ряд старочешских имен производит от корня *bolg- 'bonus’ — Blaiibor, Blatislav, Blaho mil, Bldhuslav, что может свидетельствовать о значительной давности интересующего нас славянского имени [Svoboda 1964, s. 69]. Любопытны и польские имена: Blaz, Blasius, Blazek, Blazko, Blazak, Blazel2. Судя no данным исторического словаря Витольда Ташицкого, антропоним Blai / Blasz выступал обычно как «второе» имя или прозвище и был довольно ши роко распространен, равно как и Blasius. Употребительны были и формы Blaiek, Blaiko, реже Blaiak. Эти имена, видимо, следует отнести за счет польской адаптации латинского имени Blazius и отчасти за счет чешского влияния, усилившегося в XIVв., хотя чешский источник антропонима в принципе тот же (ср. чешек. Blaiek, Blai&j, Blaiim). Особого внимания требуют немногочисленные формы с -1о~, т. к. они демонстрируют польское сочетание, соответствующее русскому полногласию и южнославянско чеш скому неполногласию -1а 3. О их происхождении и характере трудно вы
2 Blai / Blasz — Nicolaus Blas 1392; Famoso Hannuschek Blasch, civi Leopoliensi 1474; Famoso domino Hannusz Blasz, civi Leopoliensi. piscinas Hannusz Blasz.. lohanni Blasz 1475; Present(e)... Nikolao Blasz, presbiter(o) 1489. // Blasonis filii duo 1288; Cum lohanne Blaso-ne 1400; Nicolaus, Blazen zon 1442; Frawe Dorothea eczwen Blaszen schustirs hawsfrawe 1442, и производные: Blaiej— Blasey der suler 1310, Blasay 1385; Kmefo( ) de Niczsko... Blazey 1409; Bladzey de Scrathusz 1423; Blaszey Szokolowa (t. e. z Sokolowa) 1480; Blaszey sz Wroczlawya 1497. Употребительно и латинск. Blasius — Test(is)... Blasius 1206; Tes t(is)... Blasius. . Vladizlauiens(is) canonic(us) 1249, Blasius Kykowski 1391; Michno Blasii fi lius 1442; Nobih Blasio de Swanlhe, servitori 1456, Blaiek, Blazko— Blasec Szkoda 1393; Blaszek Niger 1433; Blaszco de Starzini 1387, Blaschko Cauroncowicz de Gravden, carnifex 1425; реже Blazak— Biaszag 1425, Blaschag Orszeszag de Plessow 1483; Blaiel— Blaszel. kmetho de Myrczin 1446, Blasio alias Blaszel pro dome 1463 [Taszycki 1966, s. 169—171 J.
3 Blosz / Bloz — Cum Blosz 1398, Blocz de Chobenicz 1399; Andreas Bios, heres de Cho-benicze 1403 (все примеры относятся к одному лицу — Андрею Вложу; но также lohannes Blosus 1440 примеры несколько неясные) Bloszko / Blozko — только два примера Bloschko Radag... vom Czobegartin 1433 Bloschk 1421 [Taszycki 1966, s. 173, 174].
Б лаже-Макарий
349
сказать окончательное суждение. Если согласиться с транскрипционной интерпретацией В. Ташицкого (5 = sz, i) и его объединением форм Blazej и Blozej (хотя и представленным под знаком вопроса), то формы с 1о- следует, вероятно, воспринимать как полонизированные формы с -1а-, восходящие все к тому же латинскому Blasius'у. Примечательно, что польские памятники не содержат сложных антропонимов с первым компонентом Blag и даже Blog, хотя известны собственные имена некомпозиты с таким корнем: Blog, Blogo и Blogota4. Не исключена и возможность, что Blozej — производное от Blog, Blogo.
Что же касается имен нарицательных, то польск. blogi 'спокойный, счастливый’ (фиксирующееся с XV в.) Ф. Славский возводит непосредственно к праславянск. *bolgb 'ясный’ —♦ 'добрый’, а польск. blahy 'мелкий, незначительный’ объясняет из украинск. благий 'злой, старый, убогий, плохой’. Он справедливо указывает на аналогичные белорусские и великорусские формы, которые восходят к южнославянским (церковнославянским) источникам [SP, 1]. М. Фасмер также считает русск. благой 'упрямый, норовистый’, 'уродливый’, белорусск. благ1 'плохой’ церковнославянизмом, изменившим свое значение «в порядке описательного табуистического употребления» (вслед за Хаверсом, Преображен ским, Зелениным) [Фасмер, 1, с. 171] 5.
В связи с этим любопытно отметить, что в русских, украинских и белорусских ономастических лексиконах и справочниках имена собственные от корня *bolg- — единичны. Ю. К. Редько отмечает лишь украинское прозви ще-фамилию Благий, считая его образованным по отношению к семантическому ряду «психические особенности» [Редько Ю. 1966j, а Н. В. Бирил-ло приводит две формы собственного имени: Блажук и Блажко (Блаш-ко? — Н. Т.) без указания источника или места записи [Б1рыла 1969]. Белорусское Блажко могло возникнуть и под польским влиянием, аБлажук, безусловно, «уменьшительное» от Блажко ('сын Блажка') по модели Клим — Климук, Роман — Романюк, Никон — Никончук ит. п. Н. М. Тупикову известны лишь такие древнерусские примеры, в которых собствен
4 Blog, Blogo, Blogota — Michael Simonis Blog 1449, Dominum Nikolaum Blogo 1442. Domino Nicola(o) Bloga vicario 1442; In presencia... public(i) notari(i) discreti domini Nicolai Blogo 1445; Blogoca 1265 — по сути дела фиксация имен лишь трех лиц [Taszycki 1966. s. 173].
5 Отметим, что для белорусских и части украинских говоров нельзя исключать воз можность балтийского влияния. Ср литовск btogas 'плохой, дурной’, 'худой, тощий', 'слабый' Ср. старолитовск. blagnas 'плохой, злой, непригодный'
350
V. Слово в контексте культуры
ное имя Благой выступает как прозвище-фамилия и относится лишь к лицам высших сословии. Приводим статью из известного тупиковского словаря полностью:
«Благой. Василий Благой, помещик в Бельском погосте. 1498. Писц. IV, 72. Иван Благой, московский помещик. 1586, Врем. XIII, 137. Иван Степанов сын Благой, московский дворянин. 1616. А. М. Г. 1, 146. Калина Григорьев сын Благой, московский стольник. 1696. Гр. и Дог. IV. 653» [Тупиков 1903].
Фамилия Благой до сих пор известна у русских. Б. О. Унбегаун приводит две формы — Благой и более редкую Благово (по модели Дурново. Хитрово, Суховб-Кобылин и т. п. — все явно отприлагательного происхождения) [Unbegaun 1972, s. 31, 173].
Иная картина наблюдается в румынском историческом ономастиконе, повторяющем в отношении рассматриваемого имени южнославянскую, в основном сербско-болгарскую ситуацию. В словаре Н. А. Константинеску зафиксированы Blaga — Блага (Семиградье и Молдавия, редко Мунте ния— женск.), Blagu— Благу (Олтения), Blagul— Благул (Трансильвания, Марамуреш), Blagot— Благот(а) (Молдавия), а также Blagan — Благан, Bltigeni — Блажени, Bltigeqti — Блажешти, Blhgeri — Блажери, Bltigoi — Благой. Особенно интересна форма Blaghe — Блаже, зафиксированная в XVII в., но снабженная Н. А. Константинеску пометой «возможно (probabile)». Тот же автор, вслед за Г. Иванеску, приводит трансильванские Blaha — Блага и Blaqca — Блашка (? — Н. Т.), которые определяют ся — первое как украинское, а второе как словацкое заимствования. По следнее следует возвести к латинскому Blasius [Constantinescu 1963].
Устойчивость собственного имени с основой Благ и его популярность поддерживались, безусловно, в южнославянской православной среде и в примыкающей к ней среде влахомолдавской очень большой частотностью, в особенности в сложных прилагательных и существительных, нарицательного прилагательного баагъ — клагок 6. Большая употребительность этих слов в сакральных текстах сохраняла в той же среде семан тику этого прилагательного.
По данным пражского словаря старославянского языка, благъ, благын встречается во многих старославянских памятниках [SJS, 3]. Значение этого прилагательного определяется через оуатЭ’од, xQrjO'toQ; bonus, benig
6 Как показывает исследование Роберта Цетта о сложных именах в древнесербских текстах, слов с начальным ЕЛДГО- почти 200, в то время как общее число сложных слов превышает 2 тысячи. Т. е. слов с ЕЛДГО- немногим менее 10% [Zett 1970, s. 139—154].
Блаже-Макарий
351
nus, incundus, snavis, dulcis. еллгъ нередко выступает как антоним слова З'ЬЛ’Ь, а в некоторых текстах может быть заменен словом доврт». Так, евангельские слова (Мф 5, 45) Фко сл’ьньце свое сидеть на зълы и власы (Мариинск., Зографск. ев.), ЕлагыпА (Ассеман., Остром.), где Бласы передает аусг&оис;, имеют вариант ...на злаго н на довраго (Савв. кн.). Значение 'добрый’, 'благородный, хороший, истинный’ обнаруживается в сочетаниях влаго крФмл, Благам кФра, влага рода (род. п.), Елага<а лФ-пота, Елагъ оугодьннюь.
Особый семантический нюанс, придающий всему слову оттенок сак ральности и святости, заключен в слове Елаженъ, Елаженын, в котором основная сема 'добрый’ сохраняется, но добавляются семы 'счастливый’, 'благословенный’, 'благополучный’. Так возникает синкретическое и неповторимое значение 'блаженный’, pazapioc;, beatus, selig, gliicklich, закрепленное евангельскими и литургическими текстами, к которым относятся знаменитые Заповеди Блаженства, Блаженны (литургические стихи ры после третьей ектении перед малым выходом ) и другие тексты.
О. Григорий Дьяченко в своем церковнославянском словаре, вслед за прот. Дебольским, так определяет интересующее нас слово применительно к церковному уставу и практике. «Блаженными, — пишет он, — по преимуществу называется особый разряд святых подвижников и подвижниц, ина че называемых юродивыми. Этот вид подвижничества состоит в том, что принявший или принявшая на себя сей подвиг ради Христа и спасения своей души отказывается от обычного общепринятого образа жизни, делается добровольным скитальцем и нищим, обдуманно принимает на себя образ человека, лишенного здравого ума. Для этого подвига потребны великое самоотвержение, чрезвычайное к себе беспристрастие, терпение непрестанных поруганий, презрения от народа, неразлучных с жизнью скитальческою. А вместе с тем потребна и высокая мудрость, чтобы бесславие свое обращать во славу Божию: в смешном ничего не допускать греховного, в непристойном — ничего соблазнительного, в обличении — ничего несправедливого» [Дьяченко 1899, с. 46, 47]. Институт юродивых, как известно, был широко распространен на Руси. Вероятно, не без его влияния прилагательное блажной, ая, бе в русских говорах стало обозначать — 'придурковатый (о человеке), ведущий себя не совсем нормально’, 'отличающийся умственной неполноценностью’, а также 'отличающийся плохим, беспокойным характером, вспыльчивый, вздорный’, 'любящий шутить, веселиться, проказничать’, 'беспокойный, крикливый’, 'дикий, неприрученный (о скоте)’, 'дурной, нехороший’. Что же касается слова благой, то по сведениям «Словаря русских народных говоров», откуда взят матери
352
V. Слово в контексте культуры
ал и для слова блажной, благой, ая, бе может означать и 'хороший, добрый’ (пермск., псковск., олонецк.), но значительно чаще 'дурной, плохой, злой, неблагоприятный’ (псковск., калужск., рязанск., ка-занск., олонецк., костромск., владим., пермск.), о чем речь уже была выше [СРНГ, 2, с. 306-308, 311-313] 7.
В XVIII в. М. В. Ломоносов настаивал на дифференциации слова с церковнославянским (южнославянским) окончанием прилагательного благий и слова с русским (восточнославянским) окончанием благой, видя в этих словах антонимическое противопоставление bonus (добрый): fatuus (глупый)8. Однако языковой узус XVIII в. в отношении интересующей нас группы слов был довольно сложным. Мы воздерживаемся сейчас от его рассмотрения, рекомендуя читателю весьма подробный анализ этих слов в русском языке XVIII—XX вв., представленный в одной из статей О. Г. Пороховой [Порохова 1968].
Любопытно, что современные великорусские, равно как и белорусские и украинские говоры, не знают прилагательного *бологой (бологий), так же как и глагола *боложить. Однако наречия бблого, бблозе- (болбзе, болозё), бблозень, бблозя, болдзя, болозя 'хорошо’ довольно широко представлены в северновеликорусских, смоленских и брянских говорах. Известно наречие балазё и в некоторых белорусских диалектах (бело-русск. балазё тобе, соответствующее макед. блазе тебе!, блазё си ти!.
7 «Словарь русских народных говоров* фиксирует благое место (тверск.) 'нечистое место, связанное со злым духом, колдовством’. Сакральность, таким образом, остается, только из области церковной она переходит в сферу языческих представлений. Ср. также благой час I. 'неблагоприятное время, от которого случается болезнь’, 2. 'внезапная тяже лая болезнь’: благой час изделался 'кричит, бьется, на губах пена’ [СРНГ, 2, с. 307]-
8 Нами совместно с Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским был приведен такой пример, характерный для русской языковой ситуации XVI11 в.: «Характерен спор об употреблении пары „благи й/благой”. Сумароков писал, что слово „благий знаменует у черни и у невежд дурный”, т. е. он допускал двойное значение этого слова: „блаженный” в вы соком стиле и „глупый” — в низком при одинаковом оформлении славянским окончани ем „ий”. Следуя такому употреблению, ученик А. П. Сумарокова И. П. Елагин писал:
Благий учитель мой, скажи, о Сумароков!
Употребление это вызвало резкий протест со стороны Ломоносова... в письме к И. И. Шувалову он писал по поводу елагинского стиха: „Благий по-славянски добрый знаменует, и по точному разумению писаться надлежит до божества, как оное свидетельствует: „Никто же благ, токмо един Бог”* [Лотман и др. 1981, с. 319]»
Блаже-Макарий
353
болт, блазе ти е, благо ти, блазе си ти!, сербск. благо теби!). Древнерусский словарь XI—XVII вв. дает всего два примера употребления наречия БОЛОЗ'Ь 'хорошо’ — из XVI и XVII вв. 9.
Что касается глагола от корня *bolg-, то он в русском языке, как и в других славянских языках, имеет в основном одну форму блажить (редко блажать, блажетъ). В русских говорах он также широко распространен и имеет вторичную, «отрицательную» семантику: 'уподобляться юродивому, сходить с ума, вести себя ненормально’, 'кликушествовать’, 'притворяться дурачком’, 'прикидываться иным’, 'иметь беспокойный, плохой характер’, 'буянить’, 'безобразничать’, 'бредить’, 'смешить’. Русское просторечие знает значение для глагола блажить — 'чудить’.
Почти противоположное, надо полагать, исходное значение отмечается для церковнославянского языка о. Григорием Дьяченко: блажити — 'прославлять. возвеличивать’, 'называть или почитать блаженным’, 'уважать’, 'делать счастливым или блаженным’, 'благодетельствовать, благотворить, обогащать’, наконец, 'утучнять, делать вкусным’ [Дьяченко 1899].
Пражский словарь старославянского языка для Блажити дает только одно значение 'восхвалять’, paxaQi^eiv, beatumdicere, beatificare [SJS, 3], что. безусловно, является основным для старославянского языка, для сакральных текстов, составляющих корпус памятников этого языка.
Именно это значение выражено в известном гимнологическом тексте-молитве:
Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего..
Таким образом. Присноблаженная — одно из наименований Богородицы, наряду с Пречистая, Преславная, Невеста Неневестная и др. Однако
9 Число полногласных форм в древнерусских текстах невелико. Помимо Еолодь Словарь XI—XVII вв. приводит значительное число примеров из XVI—XVII вв. на слово ЕОЛОГОД'Ъ'ГЬ 'дар, подарок’ и 'товар, имущество’ — один пример из Русской Правды (XII—XIV в.) на ЕОЛОГОД’Ьмтн, один пример из пословиц XVII в. на ЕОЛОЖИТИ и один пример с наречием еолого из Слова о Полку Игореве. Последний пример, как и ряд других слов из того же памятника, вызывает некоторое сомнение [СлРЯ II —17 вв., 1, с. 282]. Не исключено, что еологод^ть, еологод’Ьмти и еоложити относятся к гиперрусизмам типа MOfOMOfX 'мрамор’ и т. п., однако этот вопрос требует специального рассмотрения. ^4,
354 V. Слово в контексте культуры
наименование Благ может относиться и к самому Богу, как это явствует из молитвы «Царю Небесный», которая кончается словами: «...и очисти ны от всякия скверны и спаси, Б лаже, души наша». Может относиться к Христу, как это видно из молитвы 10-й ко Пресвятой Богородице, которая начинается словами: «Благого Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие...».
Все эти факты убедительно свидетельствуют о сакральности слова Благь в южнославянской церковной традиции и в церковнославянской традиции вообще. Русская церковнославянская письменность хорошо отражает спектр канонических значений слова влагь 'добрый, добродетельный’, 'милосердный, милостивый’, 'праведный, благоденственный’ (см. анализ этих значений и примеры: [Смирнова 1966]).
Следует отметить, что в македонской и болгарской народной среде прилагательное благ выражает еще семемы 'сладкий’, 'мягкий’, 'кроткий’, а блажен — 'скоромный’, 'жирный’. Именно такие толкования мы находим в Словаре македонского языка, под редакцией Б. Конеско-го [PMJ, 1]. Известен и единичный пример из древнерусской церковной письменности, демонстрирующий значение блдго 'сладость’, 'сладкое’ (греч. yXuxeia). Его возникновение вызвано, надо полагать, южнославянским влиянием 10.
В то время как значение великорусск., белорусск. и украинск. благой (благий) 'плохой’ и т. п. — новое, семантика блажен 'скоромный, жирный’, вероятно, древнего характера. К собственному имени Б лаже она, однако, отношения не имеет.
Что же касается собственного имени Макарий, Макар, Макаров, то оно явно греческого происхождения (греч. MaxaQiOQ 'блаженный’) и, как многие другие греческие имена, распространено в православном славян
10 О. Н. Смирнова приводит пример из Геннадиевской библии 1499 г.: дшд высокое тн [Йрн кседй^ рЛдетед, д5йпд же иищетныи горное едго мкдмечтга (Притч. 27, 7), где еддго соотвествует греческ. уХохеГа 'сладость', 'сладкое’, еддгын передавались греческие yerjoTrog, cryaOog, реже xaXog [Смирнова 1966]. Известно по исследованиям А. И. Соболевского, что в переводе Геннадиевской библии участвовал хорватский «глаголяш» Вениамин и что Геннадиевская библия содержит ряд специфических
южнославянизмов.
Блаже-Макарий
355
ском мире. М. Грковйй зафиксировала имя Макари/е во многих сербских зонах [Грковий 1977]. По данным словаря Ст. Илчева, Макари отмечено в районах Босилеграда, Кюстендила и Копривштицы. Этот же словарь ука зывает на употребление у болгар имени Макар и уменьшительного Макар чо [Илчев 1969]. Н. А. Константинеску помечает, что именем Macarie в румынских землях наречены видные монахи [Constantinescu 1963]. У южных славян это имя также характерно для монастырской традиции. Что же касается восточных славян, то у них Макарий и Макар (Макарка) бытуют и в духовной, и в светской среде.
И хотя культ св. Макария у славян и у русских не столь значителен, как культ св. Николая, св. Георгия или св. Иоанна Крестителя, все же можно говорить о некоторой исключительности св. Макария по сравнению с многими другими святыми и угодниками и в церковном обиходе, и в народном, во многом еще языческом сознании. Если говорить о первой, церковной стороне дела, то нельзя не заметить, что в Молитвослове с Псалтырью, содержащем все основные молитвы православной церкви, после символа веры следует молитва 1-я св. Макария Великого, затем еще пять молитв того же святого (Боже, очисти мя грешнаго... От сна восстав... К тебе, Владыко Человеколюбие, от сна восстав прибегаю... Господи, Иже многою Твоею благостию и великими щедротами Твои ми... и т. д.). Как известно, Макарий Великий (301—391) в молодости пас стада и жил в уединении до 35 лет, а достигши этого возраста, уединился в отдаленную пустыню Египта. Он сыграл большую роль в образовании монашества и в создании святоотеческой литературы. В литературе, посвященной истории монастырей, известен другой египетский подвижник — Макарий Александрийский (ф 393 г.), коптский монах, священствовавший в Келлии, о котором, по свидетельству Герарда Вио, сохранилось такое предание:
Однажды послы города Александрии разыскали Макария Александрийского, священника из Келлии, чтобы упросить его приехать в город, где уже давно не было дождя и где черви и насекомые заполонили поля: «Прийди в Ракоти (Александрию), — сказали они ему, — и проси Бога, чтобы выпали там воды дождя, убивающие червей и насекомых». Макарий отправился в город Александрию, помолился Богу, и дождь пошел. Когда дождя оказалось достаточно, Макарий помолился снова, и дождь перестал. Тогда греки из Ракоти закричали: «Волшебник (маг) вошел через двери Солнца и Судья этого не знает!» [Viaud 1978].
/г*
356
V. Слово в контексте культуры
По-гречески MaxagiOQ значит 'блаженный’, 'благоденствующий’, 'счастливый’, 'богатый’ (этимология слова не ясна!). Еще в древне1ре-ческом в гомеровском и иных текстах это слово относилось к богам, но могло, по свидетельству В. Н. Топорова, относиться и к людям [Топоров 1979]. Однако есть люди, приближенные к Божественному началу, и такими, по представлению многих культов и традиций, являются не только волшебники и маги, блаженные, но и покойники и особенно утопленники. Приобщение нового человека к утопленникам, т. е. но вый утопленник, в славянских мифологических представлениях (и не только славянских) всегда вызывает обильный дождь. В связи с этим интересно еще раз привести уже опубликованный нами (совместно с С. М. Толстой) текст, свидетельствующий об очень архаическом способе вызывания дождя в Полесье.
Девочки-подростки били палками воду в колодце, сыпали в колодец освященный мак и голосили и причитали, как по покой нику-утопленнику: «Макарко утопился! Макарко утопился! Ма карко сыночек, да вылезь из воды, разлей слезы по святой зем ле!» ([Толстые 1981] — с. Стодоличи, Лельчицкий р-н Гомельской обл., запись 1974 г.) .
Смысл этого текста становится еще более понятным, если его сопоставить с севернорусской игрой в покойника, который также должен воскреснуть и которого тоже зовут Макаркой. В деревне Якимовской Онежского района Архангельской области, по описанию И. И. Савуш киной, игра называется «Макарушка носить», при этом «„Макарушка" — ряженый на святках, покойник. Принесут в дом, положат, будто помер. Нарочно лохань прольют, причитать начнут:
Ой, Макарушка помер, Да добречка с собой не носи!
И с кадилами ходили, попа изображали, и было тут чудес» [Савушкина 1976, с. 42].
Отметим, что проливание воды из ведра или лохани производилось во многих славянских зонах для вызывания дождя. Игра происходила на Святки, что соответствует южнославянским «поганым», «некрегце ным» или «караконджуловым» дням. Покойник и «Макарушка» в игре воскресает.
Блаже -Макари й
357
В древнерусской апокрифической традиции известен ангел Макарий — покровитель дома. Н. Тихонравов в «Памятниках отреченной русской литературы» поместил такое предписание: «Атце станешь хоромину строить помяни ангела Макария: то есть увеселение дому твоему» [Тихонравов 1863, с. 346].
Апокрифическая традиция стоит несколько в стороне от народной, и связь ангела Макария с построением дома пока не совсем ясна. Но очень любопытен текст русской народной песни, которая поется в день св. Георгия Победоносца (23.1 V ст. ст.) детьми при обходе домов и потому называется «егорьевская». Песня эта записана в бывш. Костромской губ. (Воровская вол.) и издана в книге «Поэзия крестьянских праздников». Т. к. она довольно длинная, то приводим лишь ее начало:
Батюшка Егорий, Макарий Преподобный! Спаси нашу скотинку, Всю животинку — В поле и за полем, В лесу за горами За широкими долами! Волку, медведю — Пень да колода, Древесянный камешек!
и т. д.
[Поэзия 1970, с. 314].
В этом и предшествующих текстах ярко выделяется народный образ Макария — Макара — Макарки как пастуха (наряду с Егорием— св. Георгием) — утопленника — покойника. Пастух, утопленник и покойник — один мифологический образ-персонаж, выступающий в разных ипостасях, благодаря цикличности мифологических метаморфоз. Так возникает «ряд»: утопленник — покойник или просто покойник, водитель градовых или иных туч, т. е. небесный пастух, пасущий тучи — стада небесного скота. ЕНот цикл хорошо известен в южнославянской традиции и описан нами в «Заметках по славянскому язычеству» [Тол стые 1981]. Образ Макарки — Макария, следовательно, входит в круг индоевропейских и ностратических представлений об умирающем и воскресающем боге (Осирис, Адонис, Аттис, Дионис, Геоцинт, Нарцисс,
358 V. Слово в контексте культуры
Персефоний, Шива, Парвати), хорошо описанном Д. Д. Фрэзером в его знаменитой книге «Золотая ветвь».
В свете всего изложенного становится ясным и древний смысл рус ской поговорки Куда Макар телят не гонял, т. е. 'очень далеко, в необитаемые, дикие места’, где Макар снова выступает в образе пастуха. Не исключено, что и в этом случае Макар первоначально воспринимался как небесный пастух, а телята как небесные стада-тучи. Наконец, к ряду покойник — утопленник — пастух следует добавить зве но блаженного — того, кто «не от мира сего», но вместе с тем «пастырь» и водитель и защитник «человекам» и «душ человеческих». Таково народное осмысление, самим народом уже не осознаваемое, благолепного имени Блаже — MaxaQioq.
Первая публикация:
Н И Толстой. БлижеМакарий Ц Македонски )азик, год. 32—33, 1981 -1982. Скоп]е, 1982, с. 677—687.
Иван-аист
Имена собственные, имена христианских святых, употребляемые в неканонических функциях, так же как и народный культ этих святых, часто в очень значительной степени отличный от церковного культа и в некоторых случаях прямо противоположный ему, давно интересовал русских ученых. В целом ряде монографий и статей исследовался народный культ святых Николая, Георгия, Ильи, Параскевы-Пятницы, см.: [Веселовский 1880; Кирпичников 1879; Аничков 1892; Плотников 1919; Успенский 1982]. С начала XIX в. и до наших дней говорится и пишется о том, что Илья — заместитель Перуна, Параскева-Пятница — Мокоши, Власий, или Никола, или Георгий (Егорий) — Волоса (Велеса). Вне внимания оставалось имя Иоанна (Ивана), в первую очередь св. Иоанна (Ивана) Крестителя, которое широко распространено у всех славянских и вообще почти у всех европейских народов, а у русских оно столь частотно, что даже сами русские называются нередко на Руси и за ее пределами «Иванами».
Эта заметка не преследует цели рассмотреть или даже поставить вопрос о бытовом (языческом, дохристианском) культе Ивана. Ее задача — проще и скромнее: обратить внимание на одну полесско-волынско-ча-кавскую (чакавско-словацкую) параллель, которая, надо полагать, может быть более широкой и распространиться также на часть карпатского, польского и словацкого, украинского и румынского и иного неславянского ареала.
В Полесье аист называется Иваном: Иван, Иванько (д. Орехово, Малоритский р-н Брестской обл.), Иван (д. Журба, Овручский р н Житомирской обл.), Иван (также в легенде — см. ниже) (д. Тхорин, Овручский р-н), Йиван (также в легенде) (д. Курчица, Новоград Волынский р-н Житомирской обл.), Иван (д. Рясно, Емельчинский р-н
360
V. Слово в контексте культуры
Житомирской обл.), Иван (д. Новинки, Калинковичский р-н Гомельской обл ). Так же его зовут и на Волыни (д. Подберезье, Гороховский р-н Волынской обл. и в других селах. Сообщ. Ф. И. Бабий) и некоторых других украинских зонах. В чакавских хорватских говорах недалеко от Братиславы в Словакии, по свидетельству В. Важного, hiidijan род. пад. htidijana или htidoga jana ’аист’ (с пометой: «это для младше го поколения привычное название аиста») [Vazny 1927, s. 271] *.
Полешуки почитали аиста и считали его, согласно старинным поверьям, человеком, получившим птичий облик в наказание за непослуша ние. Хороший знаток Пинщины Д. Г. Булгаковский приводит легенду о возникновении аиста, варианты которой записаны нами неоднократно во время экспедиций 1975—1982 гг. Д. Г. Булгаковский пишет: «О происхождении буськи существует такое поверье: когда много развелось гадов на земле и человек стал терпеть от них много зла. Бог сжалился над человеком, собрал их всех в мешок, завязал и отдал одному человеку, чтобы он бросил мешок в печь, приказав ему не смотреть, что завязано в мешке. Человек не утерпел: развязал мешок, и гады все оттуда выползли. Бог за это обратил непослушного человека в аиста, приказав ему собирать гадов. Буська поэтому христианской веры, и считается за грех, если кто убьет его» [Булгаковский 1890, с. 188]. Распространение этой легенды не ограничивается Полесьем; она известна шире, во всяком случае во многих зонах Украины и Белоруссии, у сербов и болгар и у балтийских народов [Вольтер 1890; Страхов 1979].
Д. Г. Булгаковский приводит и некоторые приметы, связанные с аистом. Он пишет, что «если буська выбросит из своего гнезда яйцо на землю, то это верный признак урожая, если же детеныша — будет голод К нему обращаются женщицы с просьбою во время жатвы; когда стоит жара, бабы, изнуренные жаром, увидав буську, кричат ему: „Иванько, Иванько, зашли нам трохи впру, бо не здюжим жати“» [Булгаковский 1890, е. 188, 189].
Таким образом, Иванько буська может ведать ветром, но, по-видимому, его стихия и вода, в которой он охотится за «выпущенными» гадами. Эта его причастность к воде побуждает нас связать имя Иван (Иванько, Ян), с именем Ивана Купалы и посвященным ему днем, широко празднуемым в Полесье и вне его пределов (24.V1/6.V1I; по церковному календарю — День Рождества св. Иоанна Крестителя).
1 Ср. также чакавск. (истрийск.) hudic 'черт’ и словацк. hudit ’черт’.
Иван-аист
361
Любопытное преломление представления о связи аиста (штрка) с водой и его способности уничтожать гадов (и блох) находим у сербов, живущих на Косовом Поле. Там полагают, что тот, кто первый раз в году увидит аиста, должен замереть на месте, затем взять из-под своей правой ноги немного земли и бросить в ведро с водой. Згой водой ему следует обрызгать себя и свой дом, и тогда у него летом не будет блох. Кроме того, если он впервые увидит аиста стоящим, он будет здоров, а если аист окажется сидящим — не миновать болезней. К тому же прилет первого фязного аиста — к урожаю, а чистого, белого — к голодному году [Дебел>ковиЬ 1934, с. 215]. У болгар и у сербов вообще аист предвещает дождь. В Подринье, если увидят весной перелет аистов через село — к дождливому лету, а летом в засуху — к дождю, а в зоне У жилкой Пожеги считают, что полет аиста перед дождем в поле — к наводнению [Ъор1)евиЬ Т. 1958, 2, с. 51, 52].
Помимо стихии воды, с аистом в Полесье связана стихия огня, которая, однако, им, как воплощением стихии воды, предотвращается или ему покоряется особым способом. Так, аист, по народным полесским повериям, если разорят его гнездо на хате, может принести в клюве головешку и сжечь хату.
Этим представлениям соответствует волынская детская песенка-кликанье аиста: «1ване! 1ване! Дай люльку закурити!» (с. Подберезье, со-общ. Ф. И. Бабии) или белорусское (полесское) детское кликанье, когда у аиста выпадает перо: «Иван! Выкрашь нам огню!» (с. Новинки Гомельской обл., записал А. Б. Страхов), а также черниговское: «Дядько Мыхаль, выкрышы агню! Закурым люльку!», либо «Барыс, дай люльки закурьпъ!», либо «Бусэл, бусэл, выкрашы агню, я прыкуру!» (с. Днепровское, Черниговский р-н, записал И. Морозов).
Несомненный интерес представляет и полесское кликанье аиста, исполняемое детьми в праздник Благовещения (25.1II/7.IV): «Бусько, бусько, на тоби галёпу, а ты мынй дай жьгга копу, на тобй борону, а ты мынй дай жьгга сторону, натобй сырпа, дай мынй жыта снопа» (с. Симоновичи, Дро-гичинскийр-н Брестской обл., то же в Мокранах Малоритского р-на Брестской обл.) [Страхов 1983] 2. В с. Курчица Новоград-Волынского р-на дети кричали: «Буслику, Йиванку! На хлйба, картбпли, кашу!» В с. Мокраны аист называется Василем, а не Иваном (наблюдения А. В. Гу
2 Галёпа — сакральное хлебное печенье, борона — тоже благовещенское печенье в виде бороны, серп — печенье в виде серпа, сторона — место для жнта в амбаре [Толстая 19866, статья Благовещенье].
362
V. Слово в контексте культуры
ры), и, видимо, это имя собственное в названии аиста создает особую изоглоссу на территории Полесья. В д. Рясно, помимо имени Иван, знают для аиста еще имена Василь и Максим, в д. Заболотье Брестского р-на аиста тоже зовут Василь, но могут называть и Микйта (таки в легенде: Бог ре шыу мешка Микйты), а в д. Ковнятин Пинского р-на Брестской обл. аист имеет по меньшей мере три имени: Иван, ВасйльВасилёк и Си мдн, помимо нарицательного бусько, а в д. Лисятичи того же р-на — только Васыль Васылькб и бусел, бусько, буселько. Редкое имя Екйм рдя аиста записано М. Серебряной в д. Автюки Калинковичского р-на Гомельской обл. Там же зафиксирована такая детская закличка: «Бусел, бусел, клё-кле, твая матка Тэкля, малйлася Богу, выламйла но-о-огу!>>. В с. Вышевичи Радомышльского р-на Житомирской обл. дети считают, что каждый аист носит какое то человеческое имя и если при виде аис тов называть имена Вася, Ваня, Коля, Петя, то, услышав свое имя, аист поднимет голову (сообщил А. Л. Топорков).
Объяснение таких представлений можно найти в болгарских и македонских народных повериях о том, что аисты и в наше время остаются людьми, но человеческий облик они принимают лишь в теплых краях, куда они улетают на зиму. Но там они не могут рожать детей, и потому, прилетев в наши края, высиживают яйца, а затем вновь улетают и становятся людьми. В тех краях, чтобы превратиться из птиц в людей и обратно, нужно окунуться в озеро [Маринов 1914, с. 95].
С аистом не только у славян, но и у других народов связано представле ние об урожае и плодородии («дай мне жита копу!»). В зимнем колядном полесском цикле таким символом плодородия выступает коза («где коза рогом, там жито стогом»). Это мифологическое свойство аиста хорошо отражено в европейском поверии о его способности приносить детей.
Следует отметить еще одну особенность аиста в связи с огнем. По полесским и волынским суевериям, аист защищает от удара молнии. Во время 1розы следует стать под дерево, па котором есть гнездо аиста, т. к. молния в него не ударяет (такое же верование известно применительно к дому). Заметим тут же, что в купальском обряде, помимо воды, большую роль шрает и огонь-костер, и игра солнца как небесного огня.
Любопытно отметить, что заяц, который, как показал в интересной работе А. В. Гура [Гура 1978], также был символом плодородия, зача тия, мужской силы, мог шутливо называться у чехов Янеком. И здесь не обходится без веселого детского кликанья и гиканья: «Janku, janku! Kus kddele u prdele hori!» (так кричат вслед убегающему зайцу) [Malina 1946, s. 40].
Иван-аист
363
Возвращаясь вновь к теме воды, отметим, что в том же чешском языке, в моравских говорах известно слово janek, означающее древесную лягушку. Ф. Бартош приводит это слово в своем словаре вместе с народным поверием: «Zelene janek prevolava dysc>> (Зеленый янек вызывает дождь) [Bartos 1906, с. 129] э.
Несомненный интерес представляют также случаи, когда в болгарских загадках вода-река называется Яна (где женский род согласуется с родом существительного: вода, река): «Дьлга Яна сянка няма* (зап. Болгария, Троянско, Чирпанско), «Дълга Яна, криволана, снага има, сянка няма» (Ловешко, Горнооряховско), «Дьлга Яна, през поле бяга» (Смолско), «Дълга Яна, криволана и на дълго разпростряна»; «Дълга Яна, луда Яна, криволяна, разпростряна, от балкана сли.за, във морето влиза» (Пловдив-ско). Справедливости ради следует отметить, что есть и подобные загадки с именами Мара, Неда, Ева, Енка. Все примеры взяты из книги: [Стой-кова 1970, № 242, 248, 252, 254, с. 134-137, 556, 557].
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Иван Аист Ц Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М«, 1984, с. 115—118.
3 Отметим также, что Иванов день нередко бывает связан с вызыванием дождя В России, в районе Иваново-Вознесенска (с. Сокольское Юрьевского р-на) на Иванов день (24.VI/6.VII) девушки по первой росе ходили на луг. Молодую, которая вышла замуж зимой или весной, бросали в воду (сообщил В. А. Смирнов).
Чур и чушь
т)ти два славянских слова, в особенности первое, неоднократно привлекали внимание лингвистов. Достаточно перечислить их имена, чтобы понять, сколь авторитетен и в то же время разнообразен круг авторов.
Слово чур объясняли этимологически Афанасьев, Ефименко, Никольский, Потебня, Погодин, Ключевский, Желтов, Рожнецкий, Брюкнер, Хаверс, Готьо, Киркор, Ильинский, Зеленин, Максимов, Младе нов, Якобсон и авторы этимологических словарей Миклошич, Горяев, Преображенский, Фасмер, Славский, Трубачев и др. Рассмотрение истории вопроса с приведением библиографических сведений и подробным рассмотрением различных толкований заняло бы много места, да в этом и нет особой необходимости, т. к. эти сведения содержатся в новейших этимологических словарях: [Фасмер, 4, с. 385, 386; SP, 2; s. 294; ЭССЯ, 4, с. 134]. Напомним лишь основные мнения.
Некоторые филологи считают, что чур — славянское божество, что это имя собственное, перешедшее в нарицательную сферу (Афанасьев, Рожнецкий, Брюкнер, Погодин, Максимов). Такой необоснованный или плохо обоснованный перевод апеллятивов и междометий в теонимы был типичен для середины XIX в., увы, и для более поздних времен (так появились еще в XVIII в. «боги» — Коляда, Ладо, Лель и др.). Эта традиция шла еще от Афанасьева, который видел в Чуре домового, покровителя домашнего очага, что казалось малоубедительным уже Потебне, предполагавшему, что чур (ср. чурка) скорее «кол в чарах и заговорах для удаления враждебной силы» [Потебня 1881а, с. 56, 57]. Однако представление о чуре как о домовом было развито и поддержано рядом ученых (Желтов, Ключевский, Никольский и др.), и тем самым лишь несколько снижался ранг Чура и он из духов высшего порядка, из «бо-
Русское чур и чушь
365
гов» переводился в ранг духов низшего порядка — демонов, хранителей домашнего очага. Само разделение на духов высшего и низшего порядка в славянской демонологии очень условно и едва ли правомерно. Что же касается причисления Чура (или чура) к мифологическим персонажам вообще, то оно также более чем проблематично, ибо не подтверждено достоверными текстами и записями (некоторые свидетельства о наличии у белорусов Чура — бога, оберегающего границы владении (Deus Terminus), еще Потебня справедливо «считал за выдумку»). Весь материал ограничивается несколькими довольно устойчивыми словосочетаниями и выражениями, которые мы приведем ниже. Мало убедительна попытка представить форму чур как эвфемистическую от черт и т. п. (Берне-кер, Хаверс), и уж совсем странным кажется, как справедливо отметил Фасмер, возведение чур к греч. xvqioq 'Господь’ (Зеленин). Неудачны и объяснения из иностранных языков, из древнескандинавского или чувашского (Погодин, Готьо).
Фасмер вслед за Горяевым различает два чура-. 1. чур 'граница’ (только из-за слова чересчур) и 2. чур в сочетают чур чура, чур меня и т. п. 'сгинь, убирайся!’. Миклошич в свое время выделил только чур^ (чересчур) и обозначил его как 'граница’ без дальнейших объяснений. Трубачев считает разделение чур^ и чур2 неоправданным и видит в слове *6игъ результат нерегулярного (экспрессивного, эвфемистического) преобразования слова *6brta. При этом он полагает, что субстантивированное употребление формы *£игъ в слове чересчур вторично, что оно возникло на базе междометия чур (от того же *Hbrta) и экспрессивный характер этого слова не позволяет его прямолинейно возводить к инд.-евр. *keur- 'резать, проводить (черту)’, как это делал Ильинский, сближавший к тому же *Иигъ с литовск. kiauras 'дырявый, худой’. Заметим, что еще Миклошич был в стороне от мифологических объяснений (он был предельно лаконичен); игнорировали эти объяснения Ильинский, Фасмер, Трубачев и др.
Весьма удачную и, на наш взгляд, перспективную позицию заняли Славский и его коллеги — авторы краковского «Siownika praslowiariskie-go». Согласно их мнению, чур (в значениях и 'граница’, и 'сгинь, убирайся!’) «восходит к индоевр. *keur- 'резать, рубить’; что же касается развития значения, ср. Ma < *ker- 'резать, рубить’. Первоначально магический термин, означавший 'магический круг, ограниченная окружность, которую ни одна нечистая сила не может переступить’. Нет оснований выискивать в этих словах следы первоначальных названий черта или какого-нибудь божества» [SP, 2, s. 294].
366
V. Слово в контексте культуры
Приведем еще раз серию примеров, известных по этимологическим словарям и исследованиям (лучший подбор материала сделан в словаре под редакцией Славского). Даль дает великорусск. Чур меня! Чура! (тверск.), Чур меня от него (новгородск., Смоленск.) в основном в играх, со значением 'стой’, 'не тронь’ и цур ему (южное). Не ступай за чур. Не лезь через чур [Даль, 4, стлб. 1380]. Носович приводит белорусское заклинание чур чуров и чурбчков моих, также чур моё, чур мене, штоб я гето казала... Чур его, гето не ён здзелав; чуры 'зачу-рованная вещь’ [Носович 1870, с. 703]. Гринченко отмечает украинское отгонное междометие Цур ш, пек aid нас! Цур тоби який ти дурний. Цур mo6i пед! и запрет, условие в игре — Цур на тонший к1нец! [Гринченко, 4, с. 437]. Известны и заклинания от болезней, от сглаза и т. п. Иван Франко приводит украинск. Цур поганим очом! Цур очом! Цураха ти! [Франко 1909, с. 297]. Кроме того, любопытны примеры: русск. рязанск. не знать (понимать) чуры 'не знать меры’, то же си-бирск. не знать чуру 'не знать правил’, белорусск. могилевск. чуру мае!, чуру, мой лес! — заклинание, закрепляющее собственность и т. п. Число примеров можно умножить, но в принципе они все относятся к нескольким довольно строго формально очерченным типам. Эго облегчает и в то же время затрудняет семантическую реконструкцию.
Семантика границы, линии, рубежа, круга отсутствует в весьма архаических фразеологизмах — заклинаниях от сглаза и болезней Цур поганим очом! или просто Цур ему! Цур тобИ и т. п. Это и не позволяет принять значение границы, даже если считать ее магической, за исходное. По этой причине и по ряду других аргументов едва ли целесообразно возводить интересующее нас слово к славянок, *twta 'черта’ и даже к индоевр. *keur- 'резать, рубить’ (позже 'зарубать’, 'засекать черну, границу’). Структура фразеологизмов, в которые входит компонент 'Сип (*сигъ), позволяет со значительной степенью вероятности предположить в качестве исходного *коиг- (с перегласовкой дифтонга *кеиг ) "penis’; ср. сер>бск. курац, болт, курчо, словенок, кйгес. На пары с чередованием к/ё обратила в свое время внимание Л. В. Куркина, приведшая примеры с корнями 'tula- : *kula- 'безухий, безрогий’ и т. п. 'turn- : *(s)kum- 'наблюдать, замечать, неподвижно сидеть’ и т. п. и интересующие нас формы 'tur- : 'киг- 'обрубок дерева’ и т. п. [Куркина 1973, с. 58—64]. К этому можно было бы добавить *tur- : 'киг 'дым’, 'жечь’ и т. п., *сис- : *кис- 'приседать’, *tud- : *kud- 'чудеса, чары’ и др. Само происхождение 'кигь 'penis’ связывается с 'кигь 'петух’, а последнее в свою очередь с глаголами типа др. инд. kauti 'кричит’, латинск. caurire
Русское чур й чушь
367
'реветь (о пантере)’. При этом обычно приводится аналогичная семантиче ская модель петух — петь в ряде языков. Связь различных индоевропейских и славянских названии гениталий с названиями птиц широко известна и может быть предметом особого исследования (ср. сербск. пичка 'vulva’ и русск. пичужка 'пташка’ и т. п.). При всей формальной безупречности такой этимологии и безусловной семантической мотивированности употребления слова 'tun с таким значением во всех приведенных выше контекстах остается проблема некоторой изолированности слова 'tun в предполагаемом значении в славянских языках. Впрочем, эта изолированность относительна, т. к. в севернорусском архангельском диалекте зафиксировано бранное слово кур в сочетании с вопросительным местоимением Кой кур?, но без конкретизации значения. Однако контекст показывает, что речь идет о матерном слове того же корня и, надо полагать, того же значения, что и южнославянское кур (курац, курчо, кйгес).
Слово это употреблено в быличке, записанной Н. Е. Ончуковым, которая так занимательна и коротка, что ее можно привести полностью:
За четыре версты от посаду (от Нёноксы) у моря, на ямах (на реке) стоял карбас с солью. Павел Коковин караулил карбас. Кто-то по грязи идёт, тяпаится: тяп, тян, тян. Павел его спросил: «Кто идёт?» Тот молчит; он еще спросил до трех раз. Тот всё молчит; Павел и матюгнулся: «Кой кур идёт, не откликаится?» Лешой пошол и захохотал; «Ха, ха, ха, кой кур идёт не откликаится!! Кой кур идёт не откликаится!» Паша в каюту ускочйл, одеялом закутался, а голос тут всё, как и есть [Ончуков 1908, с. 506. Зап. у П. Кашина].
В быличке матерная брань выступает как защита от лешего. Эта давно известная по этнографической литературе функциональная сторона матерщины подверглась Б. А. Успенским обстоятельному анализу, см.: [Успенский 1983а].
В другой записи Н. Е. Ончукова в «Прибакулоцьке прибасеноцьке», исполненной архангельским сказителем А. В. Чупровым, матом пользуется ворон: «Летит ворон и кричит: „Кур, синь да хорош", а мне слышалось „Скинь да положь". Скинул да положил на кокору...» [Ончуков 1908, с. 47]. Н. Е. Ончуков без достаточного основания сравнивает кур с эстонским kurat 'черт’ [там же, с. 598].
Есть основания предполагать, что севернорусск. курок 'ручка косовища’, 'шкворень повозки’ и особенно олонецк. курушка 'сосновая и ело
368
V. Слово в контексте культуры
вая шишка’ и ярославск. курьян 'импотент' [СРНГ, 16, с. 139, 147, 152] образованы от слова кур в указанном значении. Что же касается архангельск. и олонецк. кури к 'палка с толстым концом, род деревянно го молота’, 'полено с утолщением на конце’ («Черты пришли убивать — хлоп куриком по мешку»), курик 'деревянный молот’, 'род кувалды: березовая чурка, насаженная на рукоятку’, 'клин из полена для колки дров’, 'цилиндрический кусок дерева, прикрепленный к рыболовной снасти, чтобы она не увязала в иле’, то их связь с карельск. и финск. kurikka 'дубина’ как будто не вызывает сомнения и с этими формами нельзя не считаться [СРНГ, 16, с. 125—127; Фасмер 2, с. 425]. Однако можно поставить вопрос, не заимствовано ли это слово в карельском и финском из севернорусского и не сталкиваемся ли мы здесь со случаем регионального «слова-бумеранга», т. е. с вторичным, обратным займет вованием. Это требует отдельного анализа на основе широкого финно угорского материала. Во всяком случае, даже если курик заимствован из карельского (отметим, что род этого слова не женский, как было бы при полном заимствовании), то при наличии славянского слова кур он мог войти в ассоциативный ряд penis — палка, известный и в современном русском языке. Ср. просторечное русск. палка со значением 'penis’, бросать палку или бросить две три палки и т. п. В связи с этим интересен пример, приводившийся еще Потебней [Потебня 1881а, с. 57 ], и требующий дополнительной проверки — украинск. цурпалок, цурупалок 'обрубок, обломок палки’ (часто в играх, загадках). Видимо к одному этимону, вопреки распространенному мнению, можно отнести рассмотренные кур, курушка и русск. курка 'палка, полено, строяк, пень, колода’ и украинск. цярка 'небольшая палочка, чаще всего техни ческого предназначения’.
Русское трехбуквенное обсценное слово ..., которое может в эвфемистических целях заменяться словом хрен, что и делается нередко в нашем быту, служит часто для определения количества, меры: до хрена 'очень много’, ни хрена 'ничего, нисколько’. При этом для понятия 'чрезмерно’ оно не употребительно, но зато существует чересчур. Семантика границы в этом слове ощущается явственно. Обнаруживается она и в фразеологизмах типа не знать чуру или в выражениях типа не лезь через чур. Не менее ярко эта семантика выступает в междометии чур!, употребляемом в детских шрах и имеющем оградительную функцию. Авторы краковского «Праславянского словаря» хорошо ее ощутили. Но надо полагать, что эта семантика вторична, что она возникла на функциональной основе ело ва чур в ритуалах и исключительных ситуациях, корда нужно было отог
Русское чур и чушь
369
нать нечистую силу, произнося «матерное слово» чур (кур), т. е. «ма •погнуться» (см. выше на стр. 367 запись Ончукова).
В сербской и русской народной традиции известны ритуалы о г -раждения пространства голосом, криком. Кричат собственное имя (самозов) или какое-либо другое слово, для того чтобы в пределах слышимости крика не было змей, волков и другой нечисти, чтобы не проникала нечистая сила. По свидетельству М. Филиповича, в Подриме (обл. Косово и Метохия) верят, что весной, когда в первый раз увидишь змею, нужно как можно громче назвать самого себя. Это делается для того, чтобы в следующий раз змея не приблизилась на меньшее рас стояние от того, на которое слышится твой голос, а по утверждению Л. Печо, в Фоче (Босния), «Когда в первый раз услышишь кукушку, возьми камень и брось его от себя как можно дальше, позови самого себя и кричи: „Насколько камень далек от меня, настолько пусть змеи бе гут от меня!" (Колико камеи од мене, толико ryje бежале од мене!) Тогда целый год не будешь видеть змей» [Филиповий 1967, с. 74; Пейо 1925, с. 377]. В бывш. Вологодском у., по наблюдениям Н. А. Иваниц кого, «в Великий четверг ходят в лес кричать, для того чтобы не было хищных зверей. Кричат: „Волки, медведи, из слуха вон! Зайци, лисы, к нам в огород!" При этом стучат в сковороды, звонят в коровьи колокольчики и т. п.» [Иваницкий 1890]. Выкрикивание слова кур испугало и архангельского лешего, отозвавшегося теми же словами и... прошедшего стороной.
Таким образом, в русск. архангельск. кур выявляется тот же этимон, что и в сербск. курац, болг. курчо, русск., белорусск. чур и украинск. цур. Если принять это положение, то следует признать, что в русском языке сохраняются оба рефлекса варьирующегося корня *кои-г/ 'keu-r. Так, рассуждая о происхождении слова чур, мы снова вернулись к мифологическим представлениям, но уже с другой стороны и в другом плане, чем это делали наши предшественники.
* * ♦
Зафиксированное в 70-х годах прошлого столетия И. А. Бодуэном де Куртенэ в «Резьянском словаре», частично опубликованном мною в 1966 г. [Бодуэн де Куртенэ 1966, с. 214], словенск. диалектн. tui 'penis’ (du?, diva Cilia) до сих пор не привлекало внимание этимологов. А между тем его сближение с русск. чушь более вероятно, чем поиски для
370 V. Слово в контексте культуры
русск. чушь родственного этимона в еврейск.-немецк. Stuss (из древне -еврейск.) [Фасмер, 4, с. 389]. Ср. словенск. ttiS 'сумасшедший, дурак’ и Cui ругательство (в Словенской Гориции о хорватах) [Bezlaj, 1, s. 92]. Убедительнее предложенное Трубачевым вслед за Горяевым сближение с чуха, чушка 'чурка’ и 'пустяк’, которое, вероятно, допустимо и этимологически (чурка). Если признать словенск. резьянск. 6iti и русск. чушь родственными, то тогда это слово следует считать праславянским (Трубачев и Славский не включили его в свои словари). Не исключена и связь слова *6и£ъ с *6игъ в результате усечения г в последнем, может быть, даже воспринимаемого как суффикс (ср. 'pin и *piti и т. п.), и замещения его гипокористическим S, характерным для детской и экспрессивной речи. Все это, однако, достаточно гипотетично.
Первая публикация
Н И Толстой. Чур и чушь Ц International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. XXXI XXXII 1985, p. 431 437.
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
Этнолингвистические аспекты славянской фразеологии
О реконструкции праславянской фразеологии
Здрав као риба
Пьян, как земля
Соленый болгарин
Этнолингвистические аспекты славянской фразеологии
Связь фразеологии с этнографией, с широким этнографическим контекстом никогда не отрицалась. Более того, первый и относительно ранний интерес к фразеологии у славян был вызван как раз стремлением увидеть во фразеологизмах отпечатки или осколки старого быта, обрядов и верований, воссоздать породивший их контекст и ситуацию. При этом возникало немало довольно фантастических фразеологических «этимологий» и сближений с не всегда достаточно проверенными этнографическими фактами, но были и удачные догадки и расшифровки. Постепенно от нередко рискованных, хотя и увлекательных для читателя вроде толкований толкований русского бытописателя С. Максимова, славянская фразеология дошла до ярких по форме и достаточно четких по методу исследования объяснений, примером которых могут служить труды известного польского филолога Ю. Кшижановского [Максимов С. 1891; он же 1899; он же 1955; Krzyzanowski 1958 1960]. Но все же фразеологические историкоэтнографические этюды и толкования указанного типа были и остаются лишь частью фразеологии как науки, даже ее периферией. Славянская фразеология, как это мы до недавнего времени наблюдали и как, в общем, наблюдаем до сих пор, бурно развивалась и продолжает завоевывать свои позиции преимущественно как дисциплина, ориентирующаяся на синхронное изучение структуры, грамматических функций и семантических типов фразеологизмов. Диахронический план во фразеологии воспринимался и нередко воспринимается до сих пор как второстепенный или подсобный, объясняющий истоки современного состояния фразеологического фонда или характер лексико-фразеологического состава отдельных памятников языка.
Однако и при чисто синхронном изучении славянской фразеологии далеко не все исследователи видели и видят в ней системно организованный
374
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
уровень или «подуровень» языка. В. М. Мокиенко в своей программной статье 1973 года «Историческая фразеология: этнография или лингвис тика?» справедливо писал, что «методика системного анализа фразеоло гизмов не могла успешно развиваться в силу некоторых общетеоретических установок, на которых строилась фразеология». «Основным качеством фразеологизма, — пояснял В. М. Мокиенко, — признавалась иррегулярность — как формальная, так и семантическая. Индивидуальная образность, национальная специфичность, семантическая единичность — эти и подобные функционально-стилистические признаки иррегулярности приводят к определению фразеологической единицы как „немодели руемой структуры", которое стало аксиоматичным и принимается большинством советских фразеологов» [Мокиенко 1973, с. 24].
Все же следует признать, что за последние годы в синхронной фразеологии тезис формальной и семантической иррегулярности фразеологизма оказывается все менее и менее популярным, так как устанавливаются определенные типы структур и модели в формальном и семантическом аспекте и выявляется некоторая связь между этими аспектами. В исто рической (диахронической) фразеологии принцип атомарного подхода и немоделируемости характера фразеологических единиц продолжает господствовать, если не в теории, то на практике.
Трудности исторического (диахронического) изучения славянского фразеологического фонда или фонда отдельных славянских языков объясняются не только недостатками методического (и общетеоретического) порядка, но и отсутствием достаточного базового материала для исследо ваний. Эго прежде всего связано со слабой изученностью в целом ряде географических зон диалектной фразеологии. О важности диалектного материала для сравнительно-исторических штудий едва ли следует сейчас подробно говорить. На диалектную фразеологию, увы, большинство собирателей или обращало мало внимания и почти не фиксировало ее, или же записывало те фразеологизмы, которые схожи с фразеологией литературного языка и воспринимались как диалектные варианты лите ратурной нормы (русск. бить баклуши: бить банды, бить брынды, бить лынды, бить дрынды и т. п. 'бездельничать’)- Остальной материал при недостаточно углубленном наблюдении за диалектной речью, как правило, ускользал от взора собирателей. В этой практике есть и яркие и счастливые исключения. К ним в первую очередь следует отнести ка шубский словарь Б. Сыхты [Sychta, 1—7], где этнолингвистическая тематика, связанная с духовной культурой, разработана весьма тщательно. К уровню словаря Б. Сыхты приближаются и первые выпуски двух
Этнолингвистические аспекты славянской фразеологии
375
новых областных русских словарей — псковского и архангельского — и белорусский Туровский словарь [Псковский словарь; Архангельский словарь; TypaycKi слоушк].
Следует при этом учитывать, что даже изобилующие местным фразео логическим материалом диалектные областные словари содержат преиму щественно бытовую и производственную фразеологию — фразеологию во обще и фразеологию, связанную с этнографией, с народной материальной и духовной культурой. К примеру, в той же псковской и соседней новгородской зоне, по интересным наблюдениям Л. А. Ивашко, можно встретить выражения псковск. как у Бога не принятый 'неприкаянный’ (наир. ♦Ходит как заблага, как у Бога ни принятый, никаво не делая, а уш мальцу шаснаццать лет»), новгородск. дубовыми досками пахнет 'близок к смерти’, или псковск. Петров день на льдине разорвало 'о том, чего никогда не было’ [Ивашко 1981, с. 29, 69, 75], которые объясняются без особых затруднений: первое — народным представлением о ходячих покойниках, второе — старинным обычаем хоронить на дубовой гробовой доске, а иногда и покрывать ею (ср. русск. дуба дать 'умереть’), третье — календарной приуроченностью Петрова дня (29.VI/12.VII). Число примеров можно было бы стократно умножить.
Однако один пласт славянского диалектного материала остается до сих пор почти не охваченным лингвистическими исследованиями и описаниями, остается несобранным и несистематизированным. Это диалектная фра зеология небытового и непроизводственного характера, словесные клише, формулы и идиомы, выражающие мифологические представления и поверия или являющиеся частью обрядов и ритуалов календарного, семейного или иного порядка, это сакральная народная фразеология (СНФ) *.
Сакральная народная фразеология может быть предметом мифологи ческих, семиотических и филологических исследований. С чисто лингвистической точки зрения она представляет собой исключительно интересное явление. Попытаемся указать лишь на некоторые основные проблемы и аспекты ее изучения.
Прежде всего обратим внимание на два противоположно направлен пых процесса, базирующихся на соотношении этнографического (или
1 Самый значительный по объему славянский диалектный словарь устойчивых сочетаний говоров Мстиславщины, составленный Г. Ф. Юрченко [Юрчанка 1972; он же 1974; он же 1977], вообще не содержит такого материала. Счастливым исключением снова оказывается словарь Б. Сыхты (см. в нем слова deguse, того, pogfeb, rbg и многие другие) [Sychta, 1, 3, 4]-
376
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
фольклорного) и лингвистического материала. Первый процесс — это прев ращение обряда или обрядового текста (как вербального, так и акциональ ного) в слово (словосочетание, предложение), равно как и превращение народного словесного произведения или фольклорного вербального текста в слово (словосочетание, предложение), второй — превращение слова в обрядовый текст, в обряд (ритуал, верование, представление), равно как и слова в вербальный текст, небольшое фольклорное произведение. В этих полярных по своим исходным позициям и встречных по протеканию процессах можно обнаружить ряд промежуточных стадий, ситуаций и явлений, представляющих несомненный интерес и для лингвистики в целом, и для фразеологии в частности.
Наблюдения над первым процессом — от вербального тек ста к слову проводил еще А. А. Потебня в своих харьковских уни верситетских лекциях по теории словесности. Рассматривая басню, по словицу и поговорку, он говорил о «переходе басни в пословицу», о том, что «относительно длинный рассказ все сжимается и сжимается, благодаря тому, что все остальное, необходимое для объяснения выражения, сделавшегося пословицей, содержится у нас в мысли и может быть легко восстановлено», о том, что «когда мы, говорим „кисел виноград", всего содержания басни „Лисица и виноград" у нас в мысли нет, мы о ней не думаем». Подводя итоги своим наблюдениям, он отмечал: «В пословице содержание басни может быть представлено как намек: а) или таким способом, что от басни останется только одно конечное изречение, чему предшествует <...> извращение порядка басни (например: „Кисел виноград" или „Кисел виноград, зубы терпнут". — Н. /-); б) или таким образом, что все содержание басни составляет пословицу (например: „Собака на сене лежит, сама не ест и другим не дает" и „Собака на сене". — Н. Т.)». «Точно так же, как басня, — поясняет А. А. Потебня, — может быть сжат и всякий другой рассказ, не относящийся специально к этому роду поэтических произведений. Относительно формы, в которой происходит это сжатие, можно заметить, что или остается та же самая форма, которая была в басне или рассказе, т. е. изображение конкретного события, отдельного случая, например: „Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить" <...> Или делается обобщение такого случая: например: <...> „До поры жбан воду носит" <...> Другой вид сокращения в пословицу, — продолжает А. А. Потебня, — сокращение не самого образа басни, а вывода, обобщения <...> Для того, чтобы мы имели право сказать, что такое обобщение получено при помощи образа, заключен
Этнолингвистические аспекты славянской фразеологии
377
ного в басне или другом поэтическом произведении (сказке, романе, комедии) нужно, чтобы в самом обобщении оставался след образа. В про тивном случае, т. е. если обобщение не будет ;<аключать в себе следа своего происхождения от образа, мы получим другой вид пословицы, именно — безобразное изречение нравственного содержания <...> „На Бога надейся, а сам не плошай" — эта пословица безобразная, а другая, равносильная ей по значению: „Богу молись, а к 6epeiy гребись" — образная; и на основании того, что в самом обобщении заключен образ, мы говорим, что эта пословица непременно возникла из одной из <...> басен» [Потебня 1914, с. 93, 94; Потебня 1976, с. 12—18]. Далее А. А. Потебня приводит из сборника Вука Караджича следующую пословицу: «Махни и ти рукама, махни!» (И ты возьми себя в руки. И ты не плошай!), указывает на пояснение составителя («Это сказал святой Николай человеку, который, упав в воду, только кричал: „Помози, свети Никола!" — и не старался выплыть или выкарабкаться из воды» [Ка-рациБ 1849 (1972), с. 176]) и отмечает, что сербская легенда-«басня» указывает на прототип двух приведенных им русских пословиц. Более древним прототипом может быть, по мнению А. А. Потебни, древнегреческий текст, вошедший в состав басен Эзопа, о мужике, стоявшем у увязшего воза и взывавшем о помощи к Гераклу, который ответил мужику: «Ты сперва возьмись за спицы колеса, подгони волов, а тогда обращайся с молитвой к богам» [Потебня 1914, с. 94, 95; Потебня 1976, с. 518]. Этот миниатюрный этюд, выполненный как попутное к основным текстам сопоставление материала из русской, сербской и древнегре ческой традиции, — пример точного фразеологического этимологизирования, установления ближних и дальних родственных звеньев эволюции текста и умелого применения сравнительно-исторического метода, сделанного почти век тому назад.
В конденсации обрядового текста есть много общего со свертыванием текста повествовательного («басенного»), рассмотренным А. А. Потебней, однако есть и различия. Эти различия касаются прежде всего структуры текстов фольклорного («басенного») и обрядового, ритуального. Первое и основное различие состоит в том, что фольклорный («басенный») текст целиком вербальный (словесный), в то время как текст обрядовый (ритуальный) материально и структурно трехкомпонентный: его компоненты — акциональная (действенная), реальная (предметная) и вербальная (словесная) сторона обряда. Соотношение их в разных обрядах различно, и вербальный компонент иногда может быть доведен до минимума и даже до нуля. По именно он, что естест
378
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
венно, и может быть свернут до фразеологизма, и даже до отдельного слова. Второе различие — в том, что образность не исчезает, а сохраняется на всех стадиях развития и конденсации фразеологизма, и потому фразеологизм не обобщается: не становясь безобразным, он не теряет основного смыслового компонента внешней и внутренней формы.
Если обратить внимание на простейший славянский обряд, исполняв мый на праздник Входа Господня в Иерусалим (церковн. также Неделя Ваи, народи. Вербное воскресенье. Ср. сербск.-хорв. Врбица, Cvijeti, болт. Връбница, Цветница, Лазарева неделя и т. п.), то станет ясно, что его обрядовая структура достаточно проста. В ритуально определенное время (неделя до Пасхи, после обедни) и в ритуально определенном месте (у входа в церковь, на паперти) определенные лица (в Полесье — пожилые женщины) по отношению к определенным лицам (мальчикам) производят ритуальные действия (бьют) ритуальным предметом (освященной вербой) 2.
Этот ритуал в вост. Полесье обычно сопровождается текстом вроде:
Верба бйе, не я бью За тыждзень Велигдзень. Будзъ багаты, як земля, И здоровы, як вода! 3
К формулам Будзь багаты, як земля! / И здоровы, як вода нередко добавляется: И расци, як верба!.
Еще в 1872 г. Ю. Крачковский записал текст, завершающийся словами: Будь здоров, як вода, / А рости, як верба [Крачковский 1873, с. 104]. А в 1975 г. в Полесье в с. Балажевичи был записан фразеологизм вне обряда: Будь здоровы, як вода!.
Текст описывает действие (Бье), указывает на его ритуальность (Не я бью), на сакральное время (За тыждзень Велигдзень), на сакральную реалию-предмет (верба) и на цель, функциональную направленность действия и всего ритуала (Будзь багаты, здоровы <...> расци!).
Подобные вербальные тексты, входящие в обряд и в то же время описывающие его, нередки в славянской народной традиции. Уместно
2 Этот ритуал, связанный с ним текст, а также кашубский пасхальный обряд degus рассмотрен нами подробнее в статье: [Толстой 1982 — наст, изд., с. 63—77].
з Записано нами в 1975 г. в с Дубровица Хойннцкого р-на Гомельской обл.
Этнолингвистические аспекты славянской фразеологии
37S
вспомнить, что такой же параллелизм действия и исполняемого песенного текста зафиксировал в свое время Вук Караджич и опубликовал текст из сербского обряда вызывания дождя (додоле):
Ми идемо преко села / oj додо, oj додо ле! а облаци преко неба, / oj додо, oj додо ле! А ми брже, облак брже, / oj додо, oj додо ле! облаци нас претекоше, / oj додо, oj додо ле! жито, вино поросшие, / oj додо, oj додо ле!
[Караций 1953, с. 119, № 187].
Формулы Будь весела (веселий), як весна, здорова (здоровый), як вода, богата (богатий), як земля употребляются в украинском свадебном обряде в приветствиях молодой (или молодого), когда молодая (или молодой) приглашает родных или соседей на свадьбу (с. KapiB, Сокольский р-н, Львовской обл.). Дальнейшее стяжение формулы Будь здоровый, як вода можно усмотреть во фразеологизме здоровий, як ри-ба (белорусск. здароу як рыба, польск. zdroivy jak ryba, чешек, zdravy jako ryba, словацк. zdravy ako ryba, сербск. хорв. здрав као риба, сло-венск. zdrav ко riba), возникшем на основе метонимического перехода вода — рыба, поддержанного рядом иных народных представлений4, и употребляющемся уже вне обрядового контекста как нейтральный, лишенный сакральной функции фразеологизм.
Аналогичным способом конденсируются и кашубские пасхальные ритуальные тексты. В относительно развернутой форме они звучат: dega, dega ро dva jaja, tie усу. xleba, leno jaja (с. Стшебелино) или dingu, dingu кора jaj, tie усу placka, leno jaj (с. Заборы), в сокращенной — как degu, degu jaja (средняя Кашубия), degu, degujastra (с. Рева) и в форме конденсиро ванной до одного слова — dega! или degu! [Sychta, 1, s. 193]. Впрочем, нельзя отмести решительно и предположения, что все начиналось от этого слова, и тогда нужно предположить и обратный процесс. Приведенные кашубские формулы и слова не фигурируют вне обрядовой функции.
С полесской формулой Расти, як верба! и с русской сибирской Как вербочка ростет, так и ты рости!5 соотносится сербская формула
4 Подробнее см.: [Толстой 1977а — наст, изд., с. 405—411].
5 Эта формула произносится также в Вербное воскресение, когда, возвратившись до мой из церкви, стегают вербой (лозой) домашний скот и ребятишек, см.: [Макаренко 1913, с. 153].
380
VI. Славянская фразеология зиЬ specie этнографии
Пусти врбово, узми дреново! (доел.: Пусти вербовое, возьми кизиловое! ), употребляемая исключительно в ритуальной ситуации и являюща яся компонентом скотского родинного обряда. Так говорят в Шумадии (р-н Гружи), когда берут появившегося на свет теленка или ягненка за уши и протаскивают через его маленькую пасть соломинку, чтобы новорожденная скотинка имела аппетит (была jeiUHa) [Петровий 1948, с 329]. По смыслу эта формула должна значить что-то вроде 'Не столько расти, сколько крепчай!’ или 'Иди не в рост, а в силу, здоровье!’, на что указывает и сербский фразеологизм здрав као дрен.
Как и в случае с клише из обряда, исполняемого на Вербное воскресение, и из свадебного обряда, в данном примере связь двух формул бесспорна, но, видимо, она опосредована, и факт прямой производности между ними трудно установить без дополнительного материала и без возможных промежуточных звеньев. Поэтому говорить о непосредствен ной конденсации отдельных конкретных клише-фразеологизмов иногда затруднительно.
Второй процесс — от слова к вербальному тексту, от слова к обряду, представлению, верованию мало изучен и плохо описан. А между тем примеров такого процесса мно жество. На один из них в 1957 г. обратил внимание известный хорватский лингвист Петар Скок. Излагая основные принципы, на которых зиждется его этимологический словарь, П. Скок писал: «Этимология сто икон при исследовании происхождения слов придерживается принципа созвучности (гомофонии). В народе этот принцип очень распространен. Bartholomaeus превратился на основании этого принципа в Vratolomijc (по-русски Сломайшею. — Н. Г.). Поэтому возникло народное пове рие, что „в день этого святого никто не смеет лезть на дерево, потому что сломает себе шею"» [Skok 1957, s. 8] 6. В другой зоне распростра нения сербскохорватского языка в округе г. Вране (с. Йовац) в день св. Варфоломея (по-местному дан св. Вартоломе]а или BpmanoMeja) нельзя сбивать (вертеть) мутовкой масло, чтобы у овец не завертелись мозга (да се не би вртео мозак) [Вел>ий 1925, с. 389, 390]. В первом случае народная этимология строится на ассоциации врат 'шея’, а во втором на врт(ити) 'вертеть’.
В. Даль отметил, что в русской традиции известно словесное клише «св. Лазарь за вербой лазил» [Даль 1959, с. 902 — раздел «Месяце
6 Русский перевод помещен в «Вопросах языкознания», 1959, № 5, с. 92
Этнолингвистические аспекты славянской фразеологии
381
слов»], на основе четкой созвучности Лазарь — лазил. А. Макаренко привел свидетельство своего сибирского информанта Чимы (Е. М. Кокорина), который сообщил ему краткую легенду: «Лазарево воскресеньё; хоть его и не празднуют, а все же в писаньи сказано: „Лазарь, угодник преподобной, лазал на вехти (таловый куст), вербу ломал, празник Христов встречал"» [Макаренко 1913, с. 291]. Русский народный календарь знает множество фразеологизмов-клише, характеризующих праздник и, как правило, постоянно сопровождающих название праздника, типа Фёдор Студит — землю студит (26.1 ст. ст.).
Подобные явления можно наблюдать и в других славянских традициях. Так, сербы из Срема (Фрушка Гора) в день св. Витта (15/28.VI — Видовдан), усматривая в слове Видовдан славянский корень *vid 'зрение’, выполняют следующий обряд. Они выходят на ранней заре до восхода солнца, собирают руками утреннюю росу, умывают росой глаза и лицо, произнося при этом: «О, Видове, Видовдан, што очима ja видео, то рукама створио» (Ой Видов, Видовдень, пусть то, что я вижу глазами, я смогу сотворить руками!) |П[карий 1939. с. 96]. Не менее любопытен пример небольшого обряда, исполнявшегося в Сочельник в Поповом Поле (южная Герцеговина, с. Седлари). Требуху (крци/у) от жертвенного животного (веселице) выносили в виноградник и вешали на лозу со словами: «Да Бог да све богато и крцато било!» (Дай Бог, чтобы все было богато и всего было полным-полно) [МиБовиБ 1952, с. 144]. Словесное клише возникло из соотношения слов крцц/е 'требуха’ и крциат 'полный до краев, переполненный’. Вынесение части жертвенного животного к плодоносящим кустам, деревьям, на поле — ритуал древний и распространенный у славян. Развертыванию вербальной части обряда послужило название основного ритуального предмета (внутренностей сакрального животного). Почти всегда народная этимология или просто этимология является основным стимулом для развертывания слова во фразеологизм, представление, обряд и даже сюжет7.
Число примеров можно было бы увеличить во много, много раз; притом подобные явления известны всем без исключения славянским традициям. Ограничимся последним примером снова из сербского фольклора. Вук Караджич записал легенду под названием «Почему святой Игнатий называется Богоносцем», в которой слово богоносный (греч. 0e6<poQOQ значит 1. 'Богом носимый и управляемый’; 2. 'Бога в сердце носящий, с
7 Теоретические проблемы народной этимологии хорошо разработаны В. Ченковским [Cienkowski 1972]. Однако этот вопрос им не рассматривается.
38:
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
ним внутренне соединенный’) воспринимается в прямом значении, т. е. 'несущий на руках или на спине’. Отсюда и возникновение сюжета и его развитие с использованием нескольких легендарных и апокрифических мотивов8.
Нами приведено лишь несколько фольклорных и обрядовых словесных клише и фразеологизмов, часть которых перешла в разряд нейтральных, а часть осталась тесно привязанной к сакральной сфере. Большинство из них не фиксируется фразеологическими и диалектными словарями отдельных славянских языков, что ставит перед славистами серьезную задачу их собирания, классификации и лексикографической обработки9. Создание словарей фразеологизмов и вербальных клише рассмотренного типа внесло бы существенный вклад в общую теорию и практику славянской фразеологии.
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Славянская фразеология sub specie этнографии Ц
Z problemow frazeologii polskiej i slowianskiej. IV, 1988, s. 15—25-
8 Святой Игнатий пахал, и на поясе у него висела фляга из тыквы с водой. Христос попросил пить. Игнатий его позвал к себе, но Христос сказал, что не может перейти через воду. Тогда Игнатий взялся перенести Христа через реку и посередине реки Христос спросил, тяжел ли он. «Да, — ответил Игнатий, как вся сила Вселенной*. «Я и есть эта сила*, — сказал Христос и исчез, см.: [КарациЬ 1853 (1972), с. 243, 244].
9 Оригинальный, опирающийся на очень широкий материал и теоретически четко обоснованный тип фольклорного словаря предложил польский научный коллектив из Люблина, см.: [SLSJ].
О реконструкции праславянской фразеологии
^Вопрос о реконструкции значения слова письменно не зафиксированного языка (праязыка) неоднократно привлекал внимание исследователей-компаративистов, которые, излагая по этому поводу разные, более или менее скептические, точки зрения, как правило, сходились в одном, в признании его сложности и малоразработанности. Действительно, если методы формальной реконструкции (реконструкции лексемы) выработаны и обоснованы с достаточной полнотой (в пределах славистики и индоевропеистики во всяком случае), то способы установления первичного значения (празна-чения) до сих пор опираются на интуицию исследователя, которую не следует недооценивать, но все же нельзя принять в качестве научного метода. Такая ситуация может быть объяснена рядом причин, в частности и той, что при установлении звуковых корреспонденций («звуковых законов») и реконструкции звуков (звуковой системы) праязыка лингвист сталкивается не со значением (семантикой) звуков, а лишь с определенным и довольно малочисленным набором звуковых соответствий и их возможных протофонем, в то время как каждое слово, особенно со стороны его семантики (смысла) в большей или меньшей степени индивидуально (даже при том, что оно входит в определенную систему — поле слов) и, как правило, соотнесено, а тем самым и зависимо от определенного круга предметов и представлений «внешнего» мира, наконец, и тем, что количество слов в каждом языке (в том числе в праязыке) очень значительно.
К этим довольно общим и в то же время неустранимым при сравнительных исследованиях, направленных на доисторическое состояние, положениям следует добавить еще известное положение о том, что сама реконструкция не может быть абсолютной (окончательной), и почти во всех случаях исследователь вынужден говорить о степени реконструкции (или степени реконструируемости материала), о том или ином приближении
384
VI. Славянская фразеилигия sub specie этнографии
к предполагаемому праязыку, которое оказывается ра&шчным в зависимости от сторон (уровней) языка и аспектов его рассмотрения.
Именно поэтому наиболее строгие и последовательные компаративисты, к каковым принадлежит и знаменитый Антуан Мейе, заявляли, что «сравнительная грамматика индоевропейских языков находится в том положении, в каком была бы сравнительная грамматика романских языков, если бы не был известен латинский язык: единственная реальность, с которой она имеет дело, это соответствия между засвидетельствованными языками. Соответствия предполагают общую основу, но об этой общей основе можно составить себе представление только путем гипотез, которые проверить нельзя, поэтому только одни соответствия и составляют объект науки. Путем сравнения невозможно . восстановить исчезнувший язык: сравнение романских языков не может • дать точного и полного представления о народной латыни IV в. хр. э. — и нет основания предполагать, что сравнение индоевропейских языков даст большие результаты. Индоевропейский язык восстановить нельзя» [Мейе 1938, с. 73, 74]. Конкретизируя изложенное утверждение, А. Мейе далее писал, что «следует рассматривать только одно: соответствия между различными индоевропейскими языками, отражающие древние общие формы (разрядка наша. — Н. Т.); совокупность этих соответствий составляет то, что называется индоевропейским языком» [там же, с. 81] *. Таково было отношение А. Мейе не только к плану выражения индоевропейского праязыка (к «общим формам»), но и к плану содержания. «Смысловое соответствие, — писал он, — должно быть таким же точным, как и звуковое (соответственно существующим в каждом случае закономерностям). Эго не значит, что мы требуем больших совпадений в семантике, чем в фонетике; надо лишь, чтобы смысловые расхождения объяснялись конкретными обстоятельствами, а не общей и неопределенной возможностью сопоставления» [Мейе 1954, с. 37]. Но и в плане содержания А. Мейе гово- 4! рит лишь о соответствиях, а не о реконструируемой семантике, ибо «при сопоставлении слов различных языков приходится рассматривать, что в них есть общего, и потому устранять смысловые оттенки, развившиеся в каждом отдельном языке: после этого остается одна абстракция, которая дает средство для оправдания сопоставления, но не для установления первоначального значения слова» [Мейе 1938, с. 385].
1 Всю эту цитату А. Мейе дает разрядкой. Г. Бонфанте и В. Пизани, а вслед за ними и Г. А. Климов обратили внимание на то, что А. Мейе впоследствии несколько изменил свою крайне скептическую в отношении возможности реальной реконструкции точку зрения.
О реконструкции праславянской фразеологии
385
Итак, А. Мейе признает для плана выражения слова возможность реконструкции формы, хотя и не считает ее обязательно формой конкретного праязыка, а для плана содержания слова возможность выявления лишь некоторого очень инвариантизированного и потому достаточно абстрактного «значения». А. Мейе настаивает на утверждении, согласно которому «положительными фактами являются лишь только соответствия, а „ восстановления “ сводятся лишь к знакам, с помощью которых сокращенно выражаются соответствия» [Мейе 1938, с. 74] 2.
Таким образом, формальная сторона «знака» (по А. Мейе) выражается конкретными звуками и формами, что приближает ее к формам реально существующих языков 3, смысловая же — в обобщенно-отвлеченной форме, что делает ее менее похожей на структуру единиц плана содержания реальных языков.
И хотя тот же А. Мейе утверждал, что сближения «делаются не по сходству, но на основе системы соответствий» [там же, с. 76], но все же наиболее надежными и по форме и по содержанию (семантике) считаются те «восстановления», или соответствия, члены которых в общем совпадают. В индоевропеистике лучшими случаями признаются такие, в которых из общего числа (около 10) два или три примера обнаруживают несовпадение, ограничивающееся, однако, одним или двумя (реже несколькими) дифференциальными признаками (см. примеры в сноске 3). Эго утверждение относится прежде всего к плану содержания. Представление о том, что индоевр. 'mater- означает 'родительница, мать’, основано на том, что санскр. matar (или mathar) 'мать’, авестийск. matar- 'мать’, ст.-сл. math (род. п. мдтере) 'мать’, др.-греч. pt|Tr]Q, дорич. p.a.TT)Q 'мать’, латинск. mater 'мать’, осск. maatreis 'материнский’, умбрск. matrer 'то же’, др.-ирл. та thir 'мать’, др.-верхи.-нем. muoter 'мать’, др.-ислан. modir 'мать’, арм. та ir 'мать’, тохарск. А тасаг 'мать’, тохарск. Б. тасег 'мать’, др.-прусск. muti, mothe 'мать’, латыш, mate 'мать’, лит. тсЛё 'жена’, 'мать’, албанск. metre 'сестра’.
Иным моментом, повышающим надежность реконструкции, оказывается достаточная распространенность слова в языках одной семьи: чем шире оно представлено, тем надежнее его восстанавливаемая форма и значе-
2 Всю эту цитату Мейе дает разрядкой.
3 Тот же А. Мейе для соответствий хет. р, тохарск. р, санскр. р, авест. р, ст.-сл. п, лит. р, арм. h (w), греч. п, лат. р, ирл. ” готск. f (Ь) предлагает и.-е. *р, а для греч. г), лат. ё, кельтск. Г (ё), лит. е, ст.-сл. ±, арм. г, индоиранск. а — и.-е. *е [Мейе 1938, с. 111, 127].
/5
386
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
ние. А. Мейе полагает даже, что «если нет особых причин, мы должны считать сомнительным всякое сближение слов, не идущее дальше двух диалектов» (т. е. двух диалектных индоевропейских групп, например, греческий и санскрит) [Мейе 1938, с. 383].
Все изложенные выше положения выдвинуты давно, хорошо известны и во многом уже тривиальны. Важно, однако, что они до сих пор не опровергнуты и в основе своей справедливы. Что касается реконструкции значимой стороны — семантики, то она в последнее время все более привлекает внимание исследователей, останавливающихся на ряде дополнительных проблем. Так, Э. Бенвенист указывает на важность выработки процедуры различения омонимов подлинных от омонимов ложных. Эта процедура сводится к детальному рассмотрению всех случаев употребления каждого «омонима» в разных контекстах и поиска такого употребления (контекста), в котором обнаруживается семантическая связь каждого из членов «омонимической» пары. Если связь обнаружена, омонимию м >жно считать ложной (например, франц, voter 'летать’ и voter 'воровать’), если же нет, омонимия оказывается подлинной (например, англ, story 'рассказ’ и story 'этаж’). Лишь после такого синхронно-текстового анализа на современном уровне можно переходить к разысканиям этимологическим, которые в подобных случаях (т. е. в случае общности лексем) не всегда надежны [Benveniste 1954].
Что касается проблем фразеологии, то, по нашему мнению, этимология слов, составляющих фразеологизм, мало или почти ничего не дает для установления его прототипа или для отнесения к эпохе праязыка. И наоборот, существует ряд слов, которые этимологически необъяснимы без обращения к фразеологизмам, на базе которых эти слова возникли.
Обращаясь к праславянской фразеологии, можно предположить на основании знакомства с нынешними славянскими диалектами, фольклором и древними текстами наличие в праславянский период тех же типов фразеологизмов, что и в современных языках: фразеологических единств и фразеологических сочетаний (les unites phraseologiques и les series phraseologi-ques, no III. Балли). Что касается последних, то у нас мало надежных критериев для того, чтобы утверждать, что многие из современных или исторически зафиксированных сочетаний, во-первых, бытовали в праславянскую эпоху, во-вторых, даже если такое бытование нам представится возможным, что они не были свободными (les grouppements libres). Поэтому опыты реконструкции следует, на наш взгляд, начинать с первой группы. В. В. Виноградов, как известно, в отличие от Ш. Балли, фразеологические единства делил еще на «фразеологические сращения» и «фразеологические
О реконструкции праславянской фразеологии
387
единства». В обоих случаях «значение целого никогда не равняется сумме значений элементов» [Виноградов 1947, с. 343], но в первом — значение фразеологизма никак не соотносится со значением его компонентов, взятых вне фразеологизма, а во втором — такое соотношение хотя бы с одним из компонентов наблюдается в той или иной мере. Для праславянской эпохи обычно трудно проводить четкую грань между двумя видами фразеологических единств. Наконец, и исторически многие фразеологические сращения возникали из фразеологических единств (т. е. немотивированные происходили от частично мотивированных).
Если пользоваться представлениями и терминологией, согласно которым слово есть единство лексемы и семемы, то фразеологическое единство (или фразеологическое сращение, по В. В. Виноградову) есть сумма двух семем, образующая третью семему, не равную первым двум. Так, 'перемывать’ + 'косточки’ = 'сплетничать, судачить о ком-л.’ — русск. перемывать косточки; 'собака’ + 'зарыть’ = 'секрет, причина, суть дела’ — русск. со бака зарыта (из немецк.); 'бить’ + 'проволока’ = 'выпрашивать с лестью, клянчить, подъезжать’ — сербск. бйтижицу (из цыганск.) и т. п.
Во всех этих случаях можно, вероятно, говорить о наличии двух форм и одного значения фразеологизма. Каждый такой фразеологизм обладает:
1) лексической (лексемной) формой — сочетанием лексем
2) смысловой (семантической, семемной) «формой» — сочетанием семем 4;
3) значением (семантикой).
Наличие второй, так называемой смысловой, формы фразеологизма делает его легко заимствуемым из одного языка в другой, легко входящим в другую языковую среду, так как первая — лексическая форма — сменяется легко и почти обязательно в результате калькирования, которое делает по внешнему (лексемному) облику фразеологизм заимствованный неотличимым от фразеологизма исконного. Существенно, что при передаче фразео логизма одного языка средствами другого языка исходный фразеологизм переводится полексемно, как если бы он был свободным словосочетанием. Степень фразеологичности соответствующего сочетания в заимствующем языке (языке-реципиенте) зависит от семантических (и синтаксических) связей его компонентов с другими словами и от их «узуса» (наличия пере-
4 Такая смысловая «форма* может быть затемнена лишь в тех случаях, когда в составе фразеологизма оказывается слово, вне его не употребляемое. Смысловую «форму» не следует смешивать с так называемой «внутренней формой» фразеологизма, т. е. с его мотивированностью.
У
388 VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
поеных значений, устойчивых сочетаний и т. д.). Как правило, эта «степень» повышается, так как число связей уменьшается.
Таким образом, ясно, что проблема реконструкции фразеологизма, как и проблема реконструкции слова или грамматической формы, есть проблема определения времени и места его возникновения (его хронологии и локализации), а также степени его реконструируемости. Реконструкция может быть доведена до смысловой «формы» и до формы лексической («лексемной») 5. Она может быть поддержана фактами нелингвистическими — фактами древней материальной и духовной культуры (мифологии, народной поэзии, обрядности и т. п.) — и может быть лишена такой поддержки. В последнем случае исследователь будет пользоваться соотношениями и показаниями исключительно лингвистического плана.
И в том и в другом случае, однако, перед исследователем будет возникать опасность, способная обесценить его усилия — опасность неучета калькирования. Сложность выявления момента калькирования для древнего и более позднего периода очень значительна, и ее никак нельзя игнорировать и нужно постоянно иметь в виду, подчиняясь определенной процедуре исследования.
Прежде всего, и это не требует особого объяснения, необходимо отдать полное предпочтение материалу диалектному перед материалом литературным (современным и древним, зафиксированным памятниками), хотя очевидно, что и в диалекты, особенно в последнее время, активно проникают фразеологизмы литературного происхождения 6.
Сравнение условий реконструкции отдельного слова и фразеологизма показывает, что эти условия неравноценны. Более того, в некоторых случаях они прямо противоположны, что представляется на первый взгляд несколько парадоксальным.
5 Под реконструкцией мы понимаем не только и не столько установление формы, способной служить знаком, сокращенно выражающим соответствия между определенными современными славянскими диалектными фразеологизмами (по А. Мейе), сколько форму (и значение), приближенно или достаточно точно выражающую конкретный пра-славянский фразеологизм.
6 См. послевоенные белорусские сборники диалектной фразеологии Ф. М. Янковского, Г Ф. Юрченко, Е. С- Метельской и Е. М. Комаровского и др. Литературный фразеологизм в славянских языках может быть в свою очередь нсконнославянского изустного (диалектного) происхождения и происхождения иноземного — западноевропейского, ви зантийского илн латинско книжного, наконец, восточного и т. п.
О реконструкции праславянской фразеологии
38S
I. Если для достоверности реконструкции праславянского корня или слова существенно, чтобы а) оно было зафиксировано в возможно большем количестве славянских языков, а также б) в языках индоевропейских (речь не идет о заимствованиях более или менее очевидных), то для достоверной реконструкции фразеологизма важно (или желательно), чтобы а) он был представлен не во всех славянских языках (или диалектах) подряд (лучше всего, если он известен рассеянно в отдельных архаических славянских зонах) и б) отсутствовал в индоевропейских языках, или был представлен в отдельных индоевропейских языках преимущественно не западноевропейских 7. Ибо сплошное распространение фразеологизма во всех славянских и западноевропейских языках свидетельствует a priori скорее о калькировании и определенных достаточно активных и поздних культурных взаимоотношениях, чем об общности и древности происхождения фразеологизма.
II. Если для достоверности реконструкции праславянского слова существен факт минимального изменения облика лексемы (внешнего облика слова) в разных славянских языках и желательно ограниченное воздействие иррегулярных фонетических, аналогических, словообразовательных и т. п. процессов и явлений, при максимальном соответствии регулярным фонетическим корреспонденциям (фонетическим законам), то для убедительной реконструкции фразеологизма и для отнесения его к праславян скому периоду единство или значительная близость его облика (лексемной формы) в разных славянских языках может служить скорее показателем его относительной новизны или калькирования, также относительно недав него. Отметим при этом, что калькирование может быть из неславянского языка (языков) в славянский, а затем и из славянского в славянский.
Примером одного или близкого облика слова, легко реконструируемого для праславянского и индоевропейского, может быть все то же слово ‘mati и ряд других слов славянского основного словарного фонда. Эго же слово хорошо иллюстрирует и I «парадоксальный» момент и последующий III.
III. Если для достоверности семантической реконструкции слова су щественно, чтобы в славянских (и индоевропейских) языках слово было зафиксировано в одинаковом и близком значении, что дает возможность
7 Можно допустить его наличие в западноевропейских языках, преимущественно древних, с условием сохранения несколько иной «смысловой» формы или иной лексической формы в виде сложного слова, отдельного простого слова и т. п. Балтийский языковой материал в силу его особой культурной роли, в течение последних столетий в основном пассивной, к материалу западноевропейских языков не приравнивается.
390
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
избежать грубой приблизительности (инвариантизации) смысла, то во фразеологизме абсолютная незыблемость семантики и отсутствие семантических инноваций говорит скорее в пользу его новизны, недавнего возникновения, опять-таки, возможно, путем заимствования и калькирования, чем в пользу его древности и праславянской принадлежности.
Ни один из изложенных «парадоксальных» моментов не следует возводить в ранг закона или строгой закономерности, но все три момента следует учитывать, особенно при нынешней очень слабой разработанности вопроса о древнейшем общем фонде славянской фразеологии. После выявления не коего ядра праславянской фразеологии и определения входящих в него структурных типов будет возможно снятие отдельных предварительных, предупредительных ограничений.
Примеров того, как неучет изложенных выше трех моментов и игнорирование возможности акта калькирования приводит к довольно грубым ошибкам, достаточно. Совсем недавно X. Василев отнес фразеологизм с сочетанием птичье молоко (русск. нет только птичьего молока, болг. са мо от птиче мляко няма) к праславянскому фонду (и эпохе) на том ос новации, что он известен в современном болгарском, сербскохорватском, русском, польском и чешском языках и зафиксирован в полабском [Васи лев 1970, с. 347, 348]. Однако К. Костов, со свойственной ему эрудицией, блестяще показал путь древнегреческого идиома ’oQVifkov ydXa, связанного, как полагал еще Я. Вакернагель, со сказочными сюжетами, в византий скую, латинскую (lac gallinaceum 'куриное молоко’) письменность и язык, а оттуда уже в новогреческий, немецкий, венгерский («птичье молоко» и «петушиное молоко»), албанский («ласточкино молоко») и упомянутые славянские [Костов 1971, с. 255 -259). Судьба идиома ’oQvc&tov ydXa не удивительна, ибо ничто не переносится и не передается с такой быстротой и не сохраняется потом со столь исключительной устойчивостью, как слова, справедливо именуемые «крылатыми».
Изложенные выше общие рассуждения нуждаются, естественно, в конкретной иллюстрации. Лимит места позволяет пока привести и разо брать только один фразеологизм, относящийся, на наш взгляд, к пра славянской эпохе.
В зап. Полесье несколько лет тому назад был нами записан фразеологизм на чдрнъд паз'ур или на черны/ ндгот 'ничтожно мало’. Эго соответствует другим фиксациям на белорусской территории: н1 на cihi ногцйс 'нисколько, ни самой малости’ (Мядельский р-н, Минской обл. сообщ. А. С. Аксамитов), бяды тэй на cbti ногц1к 'не беда, беда небольшая’ (там же, сообщ. Л. Соловей), не было ничего й Hi на cihi
О реконструкции праславянской фразеологии
391
пазногацъ', застпамся безъ ничёгянъка — як стаяцъ 'не было ничего, ни самой малости; остались без ничего — как есть’ (г. Воложин, Мин скал обл., сообщ. Ф. М. Янковский), кап, скажи, хоцъ што! — дык н1ма й на cihi ногацъ! 'Если б, скажи пожалуйста, хоть что нибудь! — так ничего же!’ (г. Столбцы, Минская обл., сообщ. Ф. М. Янковский) мма у ix там i на cini пазногацъ-, ничаго добрага, ничаго патрэбнага 'нет у них там ничего (ни самой малости. — II. Т.), ничего хорошего, ничего нужного’ (завод Раёвка, Вилейский р-н, Минская обл., сообщ. Ф. М. Янковский), якоя там с тагё кабанчыка сала! — на cini ктецъ 'какое там от этого поросенка сало — ничтожное (очень малое)’ (пос. Па-ричи, Гомельская обл., сообщ. Ф. М. Янковский; ктецъ 'ноготь’), hi на пазногацъ 'нисколько’ (Докшицкий р-н. Витебская обл., сообщ. А. С. Ак самитов; пазногацъ 'верхняя часть ногтя’), hi на сйа пазногацъ 'нисколь ко, ни самой малости’ ([Янкоусю 1962, с. 491] — Глусскийр-н, Мин скаяобл.), за пад нУдгця хацёла б дастацъ ([Federowski 1935, с. 204] — бывш. Волковыский у.). Последний пример М. Федеровский толкует как 'интересуется’, возникшее, видимо, из первоначального 'хотела бы добраться до самой малости, до мельчайших подробностей’ (ср. ниже близкие польские и болгарские примеры). В белорусском литературном языке принята форман! на ногацъ 'нисколько, ничуть’ [БРС 1962].
Украинский материал пока известен из зоны Карпат, Прикарпатья и Закарпатья. Он картографирован, и это придает ему особую ценность. На карте № 202 «Картпатского диалектологического атласа» находим як за шгтъом чорне и т. п. сплошь в бойковско-закарпатском регионе, на Гу-цульщине, в сев. Буковине и спорадически на Надднестрянщине и в Поку-тье. В южн. Буковине и в западной части сев. Буковины известно — як за ъйгтъом сине. Вариант с лексемой сине имеет досгаточно четкий ареал [Карпатский атлас, 1, с. 247, 248]. Известны и единичные варианты типа йак за taxm'oM болота (с. Волоща, Надднестрянщина), йек за ншпем грэз'ут (с. Красшилля, Гуцульщина), или «свернутый» тип йак за нгхот (с. Яблунька, сев.-зап. Гуцульщина), хоч' за шхот' (с. Шетт и с. Плоска, вост. Гуцульщина), чаще же всего, однако, кулко за нухтом чёрного (с. Нересниця, зап. Гуцульщина) ит. п. [там же]. Все эти фразеологизмы означают 'ничтожно мало’, 'очень мало’. Иногда может быть и значение 'нисколько’: йа ни винен i чёрного за н'гхтем 'я абсолютно не виновен’ (Раховскийр-н, юго-зап. Гуцульщина, сообщ. Н. А. Грицак).
На великорусской территории этот фразеологизм отмечен на Псковщи не и Русском Севере. В Псковской зоне: ни на синь ноготок, вероятно, также 'очень мало’, 'ничтожно мало’, 'ничуть’, хотя фиксатор передает
392
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
как 'ни на черную полоску за ногтем’ [Елина 1962 с. 75J. Правильное толкование на синий нёготъ находим у Л. А. Ивашко — 'очень мало, чуть чуть’: анй войны (фронту) ни помогали на синий нёгать (д. Агарышево, Красногородский р-н, юго-зап. Псковщина) [Ивашко 1969, с. 256]. Севернорусский пример зафиксирован Л. А. Ивашко в печорских говорах: весной ношу, лётом мецю <мечу>, зимой вожусь: леготы не видала до сего году синий ноготок (с. Трусово, на р. Цильме).
Достаточно полно и разнообразно представлен разбираемый фразеоло гизм в польском, кашубском, чешском и словацком языках.
Благодаря усилиям научного коллектива под руководством акад. Ю. Крыжановского, польский материал собран и расклассифицирован весьма тщательно 8: tyle, со czamego za paznokciem 'ничего, ничтожно мало’, то же — czarne za paznokciem; tyle, co czame za paznokciem; ani tyle, co brudu za paznokciem, ani tyle, co czamego za pazurem; za tyle co czame go za paznokciem; ani tego spod pazura nie dom, ani tyla, co za paznokci em; ani tyle, co za paznokciem; ni mosz ganby ani tela, co za pazurym; ani za pazur, в близком значении 'нисколько, ничего’: nic ти nie dal, ani па koniec paznokcia, или naivet na paznokiec; na paznogiec od ivoli jego nie od stapil, z miejsca siq nie odmykal i na jeden paznokiec, ani na paznokiec [NKPP, 2, s. 838]. Фразеологический словарь С. Скорупки приводит толь ко два примера: ani па paznokiec 'ничего, абсолютно ничего’ и rniec czego za paznokiec 'иметь очень мало, не иметь почти совсем’ — г robotq wszqdzie jednako, kto chce, ta ma jej za paznokiec, a kto chce — po uszy [Skorupka, I, s. 655, 656]. Следует отметить еще один польский фразеологизм, генетическую родственность которого с приведенным выше мы пока не определяем: zalezc коти za pazury, juz mi wlazl za pazury, za pazury zalazl; wtazih za pazurki, zalazl mi za pazury; lyze komu za pazury 'назойливо докучать, мучительно досаждать’ [NKPP, 2, s. 839]. Ср., однако, белор. за пад нУдгця хацёла б дастацъ и болг. разпитвам го и за калта под ноктите му.
В кашубском языке Б. Сыхтой отмечены оба варианта фразеологиз ма с субстантивированным сото и без него: ani za nokc 'ничего’; v tim ni ma pravd6 ani za nokc; ani Ze'Ze co camo za nokcq 'ничего’; ode me ne dostones ani tele co camo za nokcq [Sychta 3, c. 215].
В сводной коллекции чешских народных идиом, собранных Я. Зао-ралком, и в Академическом чешском словаре нет ни одного примера на
8 Опускаем ссылки на первоисточник и дату записи фразеологизма, т. к. все это чи татель может найти в образцово подготовленном и изданном сборнике «Новая книга польских пословиц и пословичных выражений*, см.: [NKPP, 1—3].
О реконструкции праславянской фразеологии
393
основной вариант фразеологизма с формой 'съгпо: je teho ledva za nehet 'очень мало’; ani za nehet 'нисколько’; nemit co by za nehet vlezlo (или padlo) 'иметь чего-л. очень мало или не иметь вообще ничего’; ani па nehet se neuchylovat 'быть неуступчивым, упрямым’ ('ни на малость не уступать’. — Н. Т.); byt vemy za nehet 'быть верным кому-л. в очень малой степени, быть неверным’; па nehet odmerovat 'точно отмеривать что-л.’ ('отмеривать до малости’. — Н. Т.) [Zaoralek 1963, s. 242]. На стольный академический словарь приводит примеры только с формой za nehet 'ничтожно мало’, 'нисколько’ — vzal jsem ja vam nekdy, co by za nehet vlezlo? [PSJC, 3 s. 338]. В последнем случае мы сталкиваемся с примером возникновения нового сложного фразеологизма ani со by se za nehet veSlo (или vlezlo, padlo) — 'как кот наплакал, ни капли, с гулькин нос, с воробьиный нос’ [CRS1, под словом Nehet]; см. выше: [Zaoralek 1963, 242]. В данном случае со by veslo замещает то, что в других (соседних) диалектных зонах обозначается словами *дьгпо, *sine, 'bolto, *brudb, *kah>, ‘grqzb, т. e. 'черное’, 'грязь’ и т. п.
Известный нам словацкий материал демонстрирует положение, очень близкое к чешскому, сохраняя при этом и вариант со словом blato и отра жая также новое семантическое развитие всего фразеологизма, близкое в одном случае к южнославянскому (болгарскому): ani (ako) za nechtom; ani pod nechtom; ani co by sa za necht voslo; ani co by sa za necht spratalo 'ничего, почти ничего, очень мало’; (tol'ko) ako za necht blata 'очень мало, почти ничего’ [SSJ под словом Necht]; dal Ы mu i to blato spoza nechtov ('я бы отдал ему все до самой малости, и самую малость’. — И. Т.), соответствующее другому крылатому выражению dal bi mu i to со пета — дословно 'дал бы ему и то, чего нет’ [Zaturecky 1965, s. 88]. Ср. ниже болг. давам и калта под ноктите си. Крайне любопытны две словацкие поговорки, возникшие на основе рассматриваемого фразеологизма: kaidy та Шете nechtom и kaidy та za nechtami blato [Zaturecky 1965, с. 228] В этом случае часто количественная оценка «черного» или «грязи» под ногтем ('ма лое’) заменяется оценкой экспрессивно-качественной: «черное» или «грязь» ('плохое’) — 'у каждого есть немного черного (грязи) под ногтем’, т. е., вероятно, 'у каждого есть немного темного (недостатков, грехов)’.
Не менее интересные примеры демонстрируют нам южнославянские языки. В болгарском языке известно употребление слов черно и кал 'грязь' в составе идиома, но выражения черното под ноктите и калта под нок тите в общем не употребляются отдельно в значении 'ничтожно мало’ вне зависимости от глаголов давам 'давать’, разпитвам 'расспрашивать’, по знавам 'знать’ (связанное следственно с разпитвам): дадох си калта
394
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
под ноктите 'дал все, что имел’ [РСБКЕ, 2, под слоьом Нокът], ('дал и самую малость’); давам и калта под ноктите си за него 'отдам за него все, что имею’ [Николова-Гьлъбова 1968, с. 399, 581]; ср. словацк. dal bi ти i to blato spoza nechtov; познавам му и черното под ноктите 'вижу его насквозь’ (сообщ. А. К. Кошелев), познавам и калта под ноктите му 'то же’ ('знаю о нем и самую малость’) [там же, с. 399], или в расширенной форме познавам му и майчиното мляко, и зъбите, и черното под ноктите [там же, с. 817]; разпитвам го и за калта под ноктите му 'расспрашиваю его обо всех подробностях’ [там же, с. 399] ('расспрашиваю и о самом малом’). Наконец, с безличным глаголом свиди ми се, свиди му се и т. п. 'мне жаль, ему жаль (расстаться с чем л.)’ образуется фразеологизм свиди ми се дори черното под ноктите 'мне стало жаль даже самой малости’ [там же, с. 399] (о скупости. — Н. Т.), или в расширенной форме свиди му се калта (черното) под ноктите ми, свиди му се че дишам дословно 'ему стало жаль и грязи (черного) под моими ногтями, ему стало жаль, что я дышу’ [там же, с. 882] (о скупце. — Н. Т.). Ср. нижев.-русск. тверск. ногтёвый 'скупой’ и другие идиомы.
В сербскохорватском языке интересующий нас идиом представлен в различных видах — в развернутом, вероятно, близком к первоначальному, и в свернутом: в форме существительного нокат, или наречия гфно (в диалектах ). В Белграде и других городах, где принят лтературцый сербскохорватский язык, говорят ни колико црно испод нокта 'ничтожно мало’, но в разговорной речи возможно и употребление одного только слова нокат, что может означать также 'ничтожно мало’. Это слово имеет эквивалент и в кинетической речи, в которой приведенное значение выражается следующим жестом: обычно ногтем большого пальца, обращенного к собеседнику тыльной стороной, задевают за верхний передний зуб. Кинетический знак может сопровождаться звуковым аккордом вроде ц ццц... (или ц!), а может и не сопровождаться 9. В связи с этим возникает вопрос — нет ли связи между белорусск. Hi на зубок 'нисколько, ничтожно мало’ (Каре личский р-н, Гродненская обл., сообщ. А. С. Аксамитов) и приведенным сербским кинетическим знаком |0?
9 Мы не считаем этот кинетический знак специфически славянским или славянского происхождения. Возможно, что у сербов произошла контаминация словесного знака нокат и кинетического, вероятно заимствованного извне (с Востока?). Описанный кинетический знак с тем же значением, по нашим сведениям, известен на Северном Кавказе.
Ю Интересно выяснить, не относится ли сюда и русск. знать назубок (т. е. ’до самой малости, подробности’).
О реконструкции праславянской фразеологии
395
Любопытны случаи свертывания фразеологизма до форм za nokat, ni nokta и т. п. Загребский академический словарь со ссылкой на М. Држича (XVI в.) приводит пример: nije svijesti и meni ostalo za nokat и поясняет 'нисколько’ ('сознания (совести) у меня нисколько не осталось’. — Н. Т.). С указанием, что «так говорится в Риеке» (сев. Далмация), дается пример ne imam ni nokta kruha 'нет у меня ни крошки хлеба’ [RHSJ под словом Nokat]. Но особенно ценны примеры из черногорских диалектов, где ц£>но означает 'ничтожно мало’. Подобное свертывание с сохранением первого компонента из идиома *црно испод нокта уникально в славянском мире: цр>но йма траве у Полу — дословно 'очень мало травы в Поле’ (где Поле топоним), цРно рддй сваки посд 'плохо (из 'очень мало. ’ — Н. Т.) работа ет на любой работе’ [Вуковий 1940, с. 416], или чесма црно реве 'вода в источнике еле-еле (очень мало) течет’. Последний пример записан русским этнографом П. Ровинским с пометой «если вода в ней (в чесме. — Н. Т.) едва течет, слабо» [Ровинский 1905, с. 546].
Из македонского языка нам известен пока только один пример едно нокте 'очень мало’ [PMJ, 1, с. 508], который на фоне изложенного материала можно воспринять как свернутый фразеологизм. Однако не исключена возможность и прямого переноса значения слова нокте 'ноготок’. Ср. русск. мужичок с ноготок. Ср. также на волосок 'в малой степени’ и т. п.
Наконец, развернутому сербскохорватскому фразеологизму вполне соответствует словенск. kolikorje za nohtom tmega 'ничтожно мало’ [Pavlica 1960, s. 294]. Что же касается структурно аналогичного румынского (nici) cit (е) negru sub unghie 'ничтожно мало’ [DLRLC, 3, р. 188], то, судя по всему, этот фразеологизм — калька со славянского ”.
Приведенный выше материал свидетельствует, что фразеологизм 'па Сътъ (ёътър>) nogbtb (или *jako jestb za nogbtemb бьто и т. п.) известен в восточной, западной и южной qiynne славянских языков. Приблизительно в таком виде, надо полагать, он был свойствен праславянскому языку. Достаточно древним должен быть признан и формальный вариант с 'sinh вместо Ьыпъ с тем же значением ’черный’, дающий в современном славян ском мире карпатско- (точнее буковинско ) восточнобелорусско-псковскую изоглоссу, имеющую далее непосредственное продолжение на вели-
11 Считаю своим долгом отметить, что в статье «Об изучении полесской лексики» я рассматривал исследованный фразеологизм как полесско-карпатско-южнославянское соответствие. Это неточно, хотя и была сделана оговорка об условности этого понятия (Толстой 1968а, с. 16].
396 VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
корусском Севере (на р. Цильме). Другие формальные варианты с Ьо1 to, или ’brucfe, *grqzb, *ка!ъ (все со значением 'грязь’) распространены в украинско-словацко-болгарской зоне. Притом *bolto зафиксировано лишь в украинском (карпатск.) и словацком, 'grqzb только в украинском, ’bracfo только в польском, а *ка!ъ только в болгарском. Естественно, что изоглосса с *sinb более устойчивая, более древняя и потому более показательная, чем изоглосса с 'bolto и т. п., которая, вероятно, не очень давнего происхождения. Свернутый фразеологизм 'па nogbtb, za nogbtemb, *ni na nogbtb и т. ri. (или соответственно польск. pazur и т. п.) известен в болгарских, украинских, польских, кашубских, чешских (в чешских он абсолютно преобладает), словацких и сербскохорватских говорах. В сербскохорватском этот процесс продвинулся дальше всего и привел к появлению существительного нокат 'очень мало’ и наречия цРно 'то же’. Свернутый вариант не зафиксирован лишь в болгарском и словенском. Что же касается великорусских диалектов, то следует признать наличие в них свернутых вариантов — прилагательное ногтевым 'скупой’ и др. 1г. Однако последний вопрос связан с семантикой всего фразеологизма, которая в общеславянском масштабе достаточно устойчива — 'ничтожно мало’, 'очень мало’ (отсюда 'почти ничего’, с отрицанием 'ничего’ ит. п.). Тем не менее известны и другие семантические модели, возникающие под влиянием семантики глаголов, входящих в состав фразеологизма, как-то 'отдать всё’ (из 'всё до малости’), 'измеритьточно’ (из 'до малой величины’), 'видеть насквозь’ (из 'всё до малости’), 'расспрашивать подробно’ (из'всё до малости’), 'скупиться’ (из'жалеть всё до малости’), наконец, словацк. kaidy та tieme (или blato) za nechtom, где в двучленном сочетании *£ъто za nogbtemb слово *Иьто переосмысляется как 'нечто отрицательное, темное, аморальное’.
Тема скупости отражена не только в болгарском, но и в белорусском и великорусском. Ср. минск. (червенск.) — у яго с-пад-ногця граз1 ня до станяш ([Шатэрник 1929, с. 178] — с. Новосёлки, Луховицкий р-н), вла димирск. — занимать из-под ноготка, 'тратить или давать с большой неохотой, со скупостью’ (ср. обратное болгарск. давам и калта под ноюпите си) — кажду копеечку из под ноготка! ([Чернышев 1910] — Юрьев-
12 Во всех этих случаях на основе отдельных слов можно со значительной долей вероятности восстанавливать фразеологизм. Такое восстановление оказывается бесспорным, когда фразеологизм картографирован, см.: [Карпатский атлас, 2, карта № 202]. Известны и обратные случаи восстановления слова на основе фразеологизма, как это хорошо показал на карпато-украинском материале И А Дзендзелевскин [Дзендзелевский 1972].
О реконструкции праславянской фразеологии
397
скийу.), тверск. — осташковск. ногтёвый. 'скупой’ [Дополнение к Опыту 1858] (ср. болгарск. свиди му се чернота под ноктите ми).
Рассмотренный фразеологизм представляется нам достаточно типичным примером, способным иллюстрировать ряд выводов, которые вкратце сводятся к следующему.
Для того, чтобы тот или иной славянский фразеологизм можно было отнести к праславянекому периоду, желательно, чтобы его форма, значение, функция и распространение отвечали излагаемым условиям (или части из них).
I. Существенно, чтобы фразеологизм функционировал в диалектах, а не в литературных языках. В случае наличия в литературных языках важно выяснить его диалектное или книжное происхождение. Для рассмотрен ного фразеологизма несомненна его диалектная принадлежность в восточнославянских языках, в сербском, болгарском и кашубском. Есть также указания на его народный источник в чешском и польском.
II. Существенна география фразеологизма и его вариантов. Желательно их наличие не во всех славянских языках и диалектных зонах, а лишь в отдельных крупных и мелких районах и в первую очередь в архаических. Представленность не в одной только группе славянских языков (восточной, западной, южной) важна и показательна, хотя, естественно, могли быть и локальные праславянские фразеологизмы, отразившиеся только в одной группе славянских языков. Однако задача выяв ления последних пока не ставится, как преждевременная.
III. Существенно отсутствие фразеологизма в европейских индоевропейских языках (кроме балтийских), т. е. языках, имевших значительное книжно-культурное влияние 13, в качестве гарантии, что вероятность калькирования минимальна. Желательно обнаружение фразеологизма в восточных индоевропейских языках, в первую очередь языках индоиранских. При этом и здесь следует производить проверку, чтобы выяснить, не является ли фразеологизм результатом воздействия интернациональной восточной культуры (арабские, тюркские и др. источники). Украинский и русский язык (белорусский в меньшей мере), равно как и болгарский, македонский и сербский (словенский в значительно мень шей мере), испытывали мощное влияние восточной идиоматики, особенно со стороны тюркских языков. Контрольную функцию в известной ме
13 Исключение составляют древние, например, латинские «свернутые» фразеологизмы (т. е. уже не фразеологизмы, а отдельные слова, сложные слова и т п.), относящиеся к исконному индоевропейскому наследству.
398
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
ре могут выполнять при этом западнославянские языки, испытывающие меньшее или минимальное восточное влияние.
IV. Существенно наличие определенного числа формальных и смысловых (семантических) вариантов фразеологизма. Правильным, вероятно, будет утверждение, что характер и число вариантов, в первую очередь формальных, оцененных в лингвогеографическом плане, могут бьггь довольно ярким критерием определения возраста фразеологизма. Особенно по казательны и важны примеры свертывания фразеологизма типа сербского нокат, 1фно (диал.) и др. Если выявить довольно архаические случаи свертывания фразеологизма (т. с. установить этимологию ряда исконнославянских слов как происходящих из фразеологизма), то вероятность отнесения фразеологизма к праславянской эпохе значительно повысится. Один подобный, на наш взгляд, случай мы рассмотрим ниже, сейчас же от метим важность установления географии вариантов, в первую очередь формальных вариантов, различных типов. По-видимому, еще к праславянской поре восходят варианты со словами *ёыпо и 'sine.
V. Существенна и необходима опора на экстралингвистическую ситуацию (древнеславянскую, праславянскую) во всех случаях, когда она может бьггь восстановима археологическим, сравнительно-этнографическим, сравнительно-мифологическим, сравнительно-фольклористическим и т. п. путем
Анализ интересующего нас фразеологизма с сочетанием 'съто podb nogbtemb был бы неполон, если бы не были рассмотрены еще некоторые моменты. Первый из них — это слово *sim> (simjb) в значении 'черный’. Такая семантика слова *sinb в современном славянском мире фиксируется в восточнославянских и сербскохорватских диалектах, но белорусам, украинцам, хорватам и сербам она известна лишь в определенных устойчивых сочетаниях и дериватах. Что же касается великороссов, то только жители Русского Севера (Пинежье и соседние р-ны) знают ей н'ой 'черный’ в «свободном» употреблении. Ср. пинежск. ейн'ой 'черный’, 'грязный’: пол-то синей такой; по-прежнему синей, дак гряз ной-то (А. Гора, Пинежский р-н); у меня ремкдв то этих есъ — стираю, стираю не могу отстирать, всё эко синё (Веркола, Пинежский р-н); пол засинел (Веркола, Пинежский р-н) [Елина 1962, с. 75]. На употребительность в русском языке слова синий в значении 'черный’ обратил внимание еще А. А. Потебня в своих «Этимологиче ских заметках» [Потебня 1881, с. 1551]. Он привел пример из «Сборника песен Самарского края» (собрания В. Варенцова, СПб , 1862): а к утру то тело как котел посинело и сопоставил его с наблюдениями
О реконструкции праславянской фразеологии
399
Ф. Миклошича — ц.-сл. снньць 'негр’ и 'черт’ (от синь 'черный’) [Miklo-sich 1862—1865, с. 840] м. Это же значение слова синь, синий содержалось в широко распространенном русском фразеологизме ни синь пороха, ни пороха ни синяго 'нисколько’, 'ни самой малости’, где порох первоначально выступал также в архаическом значении 'пыль, грязь’. Таким обра зом, ни синь пороха означало при своем возникновении 'ни черной пылин ки, ни грязи’. Этот фразеологизм известен не только по текстам русской классической литературы ср. (<В комнате> не осталось уже ни одной моей вещи, положительно, что называется ни синя пороха. Н. С. Лесков [Фразеологический словарь 1967, с. 345]; там же примеры из сочинений И. С. Тургенева, А. Ф. Писемского, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко), но и по многочисленным диалектологическим записям, которые помогают уточнить его географию: пакосу нет ни сйнъ-пороху ([Чернышев 1910] — с. Гнилуша, Московский у.); ни синь пороху не была ва рту, 'ничего во рту не было, ничего не ел’, ни синъ-порыху не видно ([Косогоров] — Мещовский у. Калужская губ.); от жены ни синь пороха помочки те бе не будет ([Чернышев 1898] — там же); синпорох 'ничтожная часть чего-л.’ ([Городцов 1902] — д. Дубровичи, Рязанские у. и губ.); ни синя пороху 'ничего, совсем ничего нет, ни единыя порошиночки’. «Эго говорится в ответ о чем-н. просителю» (рязанск. и других местностей) [Макаров 1848]; синя пороха не едал ([Бережков 1851] — Судо-годский у., Владимирская губ.); порох 'безделка’ (точнее 'малость’, 'малая часть чего-л.’ — Н. Т.); всё украли, синя пороха не оставили (псковск., тверск., осташковск.) [Карпов 1855; Дополнение к Опыту 1858]; синь порох 'ничтожная часть чего-л.’, ни синь пороха 'ничего’ ([Якушкин 1896] — ярославск.); синь порох поднять 'всё переворошить’ — синь порох подняли, нигде нет... (зауральск.) [Тимофеев 1962], наконец, случай свертывания фразеологизма до несклоняемого
14 Ф. Миклошич почерпнул в свою очередь из «Словаря церковнославянского языка» А. X. Востокова, где дано «гнннн «ко сджд ьыкднци Дек. 30 сдюпы гимн. Здесь синий должно означать черный н от того диавол мог быть назван синьцы [Востоков 1852, с. 171] Собственно почти весь материал Ф. Миклошича, где синь означает 'черный , почерпнут из церковнославянского языка русской редакции, хотя приводится и сербский пример sinj 'niger'. Последнее свидетельство подтверждается фактами, изложенными в XV томе загребского «Словаря хорватского или сербского языка» [RHSJ]. Среди прочих примеров любопытен пример из средней Далмации — sinja mast дословно «синяя мазь» — 'черный деготь, которым мажутся лодки, баркасы и т. п.’ [там же, S. 42]. Ср. также в словаре И. И. Срезневского русск. церковнославянский снньць 'черный (о диаволе) и эфиоп’ [Срезневский, 3 с. 358].
400
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
существительного синь — ни кусочка не досталось рыбки, вот даже ни синь, ни крошечки ([Наумов] — саратовск.).
Аналогичные формы зафиксированы в Белоруссии: Hi пороху hi ci-няга 'ничего’ ([Янкоусю 1959 с. 216] — д. Клётное, Глусский р-н, Могилевская обл.), нй пороха 'нимало’ — ни пороха не видзиць; ни пороха не боюся, ни порошинки 'совершенно ничего’ — ни порошинки не боицца никого (вероятно, тоже могилевск.) [Носович 1870, с. 340] 15. В последнем примере снова наблюдается результат свертывания фразеологизма, на сей раз на основе второго компонента. Общность значения (семантики) фразеологизмов и формальная общность их первых компонентов (ни на синь ноготок и ни пороху ни синего, либо ни синь пороха) позволяет рассматривать эти идиомы как варианты одного и того же фразеологизма. Ко всему прочему, надо полагать, они и генетически родственны друг другу.
Для того, чтобы убедиться, что это так, следует, на наш взгляд, применить процедуру, предложенную Э. Бенвенистом в отношении «омонимов» voter 'летать’ и voler 'воровать’. Наличие даже одного контекста, где устанавливается прямая смысловая связь, заставляет известного французского лингвиста признать «омонимию» voter 'летать’ и voter 'воровать’ с синхронной и этимологической точки зрения ложной [Benveni-ste 1954, р. 252].
Для решения поставленных нами задач важна не столько этимология составляющих фразеологизм лексем (слов), сколько «этимология» особого рода — на уровне смысла, т. е. существенна не столько общность формальной структуры, сколько общность исходной смысловой (семантической) формы, общность исходного сочетания семем. Вот почему совершенно иная этимология на уровне смысла будет, например, у польских фразеологизмов miec zalobq za paznokciami 'иметь грязные ногти’ (соответств. русск. носить траур по китайскому императору) и tyle, со czarnego za paznokciem [NKPP, 2, s. 838].
Следует признать, что проблема различения вариантов одного и того же фразеологизма от фразеологизма иного связана с целым рядом трудностей, возникающих и в синхронном, и в диахроническом плане, и требует особого рассмотрения.
•5 Отметим при этом, что И. И. Носович дает четыре значения слова порох', кроме обычного 'порох’, еще прах, пыль’, затем ’земля’ — потуль буду помниць, покуль по рохом вочи не засыплюць (поговорка) и, наконец, 'самое малейшее количество’ — ни пороха не осталось мне [Носович 1870, с. 475].
О реконструкции праславянской фразеологии
401
Вторым моментом, дополняющим наши наблюдения над фразеологизмом с сочетанием *съто родъ nogbterm., оказываются слова, возникшие на основе этого фразеологизма. О ряде слов, появившихся в результате свертывания фразеологизма, таких, как *nogbtb (нокат), *съто (ц£>но), *siru> (синь) 'ничтожно мало’, *nogbtevbjb (ногтёвый) 'скупой’, речь шла выше. Их наличие и их ареалы (география слова) чрезвычайно важны для определения характера и хронологии самого фразеологизма. Но сами по себе эти слова не дают нам оснований для их отнесения к праславянскому периоду. Очень возможно и весьма вероятно, что они позднего происхождения. На раннее (праславянское) происхождение подобных «свернутых» слов могут указывать другие факторы — изменение семантики слова, его самостоятельная «жизнь» вне фразеологизма, его география — представленность в нескольких славянских языках (как лучший случай — в языках, не соприкасающихся друг с другом).
Таким древним, вероятно праславянским словом, на наш взгляд, является великорусск. диал. ноготь, означающее разные болезни лошадей или крупного скота. Эго слово распространено на русском Севере, и одним из основных, вероятно древнейших, его значений является 'род падучей болезни, колики у крупного скота, лошадей’. Ср. ндкоть 1. 'род падучей болезни у рогатого скота’: животное внезапно падает, заворачивает голову, бьет судорожно ногами и вскоре издыхает; 2. 'болезнь лошадей’: затвердение века с слезливостью глаз; 3. зложелательное ругательство нокотъ-те дери ([Подвысоцкий 1885] — повсеместно архангельск.); ноготь 'скотская скоротечная болезнь’ (вытегодск, каргопольск., Петрозаводск.), нёгтем захватило (повенецк.), синоним — захребетница 'болезнь скота: нарывная опухоль, идущая вдоль хребта коровы или лошади от хвоста к голове’ (олонецк.) [Куликовский 1898]; ногти снимать 'снимать у лошадей с глаз бельмо’, ноготь 'разные конские болезни’ (вологодск.) [Дилак -торский 1902; Иваницкий 1883—1889]; ноготь 'колики у лошади’ ([Герасимов 1903] — череповецк.); ноготь 1. 'лошадиная болезнь, затвердение века, отчего бывает слезотечение’ (ярославск.) [Балов 1893; Якушкин 1896], 2.'чемер, колики у лошади’ ([Якушкин 1896] — ярославск.); синоним чемер 'колики у лошадей’ (ярославск.) [там же]; ногтём здуло «если животное распухло и пропало» ([Дьяконова 1896] — вятск.); ноготь 'болезнь у лошадей, колики’ — ехали всё ладно, вдруг лошадь легла да стала валяться, видно ноготь взял ([Луканин 1856] — пермск.); ноготь 'болезнь лошади: затвердение века, отчего бывает слезотечение’ — жеребенка ноготь давит ([Опыт 1852] — томск.); ноготь 'конская болезнь, чемер’ ([Потанин 1864] — томск.); ндготъ (ндкоть) 'болезнь ло
402
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
шадей, судороги, колики’ — нокоть — это тоже болесть така, лошадь когда больна, катается, никак не стоит ([Словарь старожильческих говоров, 2] — томск.), ногтем вертеть — «так говорят крестьяне, когда у скотины случается природный припадок» [Бурнашев 1843—1844]. А. К. Матвеев со свойственной ему тщательностью и наблюдательностью отметил на Пинеге, что «старикам было известно 12 ногтей»; ндкот 'бо лезнь лошади, судороги у лошади’ — «говорили, что от него помогает иногда, если зажечь бересту у хвоста лошади» (д. Кеврола, Пинежскийр-н, Архангельская обл.) [Матвеев]. Отсюда понятно, что ногтем могли назы ваться различные конские болезни, но, видимо, первой среди прочих была смертельная болезнь, сопровождаемая коликами. Характерно, что в совре менных севернорусских диалектах синонимом к ноготь выступает чемер (чёмор), означающий также и 'нечистую силу, лешего’16. Нетрудно догадаться, что слово ноготь вместо чемер и подобного возникло на основе табуирования слова. Табуирующим или «подставным» (по терминологии Д. К. Зеленина) было слово, означающее первоначально 'самую малость’, 'ничтожно малое, пустяк’, 'почти ничего’, Употребление подставного слова именно с такой первоначальной семантикой вполне понятно. Ср., напри мер, ласкательные названия лихорадки: мату ха, матушка, сестрица, добруха, подруга, кума, кумушка, пестуха (т. е. 'няня’), гостья ит. п. О древности (судя по всему, праславянской) рассматриваемого подставно го слова свидетельствует соответствующее северновеликорусскому чешское диал. nehet 'скотская болезнь, проявляющаяся на слизистой оболочке язы ка’ — та li nehet ktera krava, at' se ji blinove semeno dava [PSJC], словацк. nohet'то яге' [Machek 1968, c. 394]. Приведенный пример достаточно ярко свидетельствует о том, какую роль может играть фразеология при установлении ряда славянских этимологий.
Третьим моментом, проистекающим из наших наблюдений над фразео логизмом с сочетанием *сыпо podb nogbtemb, можно считать возможность пересмотра некоторых установившихся представлений по истории (этимологии) отдельных слов. Так, русское слово подноготная в идиоме узнать подноготную едва ли нужно связывать, как предполагал М. И. Михельсон и др., со словом подлинный и считать, что речь шла первоначально «о пыт ке под длинниками— батожьями, прутом и о сдирании ногтей» [Михель
16 Аналогичное положение наблюдается и в болгарских родопских говорах, где чёмер 'злой колдовской дух’ [Българска диалектология, 2, с. 299]. Отметим, что чемер 'болезнь живота’ известно и южнорусским диалектам. Более подробный материал по этому слову см.: [Толстой 1993 — наст изд., с. 280—286].
О реконструкции праславянской фразеологии
403
сон, 2, с. 57 J. Эго предположение о происхождении идиома узнать подноготную утвердилось с легкой руки С. Максимова [Максимов 1955, с. 95], хотя каких-либо специальных аргументов в пользу того, что этот идиом связан со старинной допросной техникой, нет. Болгарское же познавам му и черното под ноктите и др. (см. выше) свидетельствует, что русск. уз нать подноготную 17 можно отнести к группе фразеологизмов, развив шихся на основе сочетания *сыпо родъ nogbtemb. Впрочем, в данном случае с нашей стороны выдвигается лишь еще одна гипотеза о происхождении конкретного идиома узнать подноготную, так как все же возможна и своеобразная смысловая контаминация, т. е. наслоение «пыточных представлений» на старый фразеологизм, не связанный с заплечными делами.
Менее гипотетичными оказываются восстановления и история фразеологизмов, возникавших на основе внелингвистических фактов, предметов или представлений, связанных с древнейшей славянской материальной и духовной культурой (религией, обрядностью и т. п.). В этих слу чаях процедура реконструкции значительно облегчается, а ее достоверность повышается. К числу таких, зародившихся на основе мифологиче ских воззрений, идиомов относится, на наш взгляд, идиом 'руапъ jakb zemja (*руапъ jakb mati syra zemja), полесск. белорусск. njan jaK зым на, сербск. nujaH ко зелиьа, nujaH ко MajKa, болгарск. (макед.?) пиян капго земя 'мертвецки пьян, пьян в доску’, подробнее см.: [Толстой 1972 — наст, изд., с. 412—417].
Р. S. Мы не рассматривали примеры типа с ноготь (величиной с но готъ), с ноготок, например русск. мужичок с ноготок, как конструкции иного происхождения и иного порядка. Малая величина ногтя в сопостав лении со всем человеческим телом ведет в сознании многих людей к тому, что сравнение с ноготок и т. п. оказывается почти универсальным и распространено во многих языках — индоевропейских (например, в армянском), тюркских и др. Чешские примеры типа ledva za nehet и т. п. явля ются, видимо, свернутыми вариантами к nemit со by za nehet vlezlo и т n. Наиболее убедительными примерами свертывания оказываются те, которые встречаются иногда среди несвернутых фразеологизмов, как, напри мер, украинские примеры из Карпатской зоны, где весь материал картографирован.
17 Женский род подноготная вместо ожидаемого с точки зрения носителя современно го русского литературного языка подноготное мог возникнуть в связи с общей тенденцией во многих великорусских диалектах кутере среднего рода, см.: [Высоцкий 1948].
404
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
Из материала тюркских языков нам известен пример, напоминающий рассмотренные славянские: казахск. мешу. Цара тырнагыма турмай-сыу,— 'моего черного ногтя не стоишь’ (сообщ. А. Нурпеисов). К нему ближе всего уйгурск. сынык тырнатнада турмайды 'не стоит и сломанного ногтя’, или тырнагынада турайды 'не стоит и ногтя’ (сообщ. Э. Н. Наджип). В киргизском выделяется иногда 'белая полоска у корня ногтя’ — тырмактын агы, при этом тырмактын агындай да в отрицательном обороте означает'ни чуточки, ни крошки’ [Юдахин 1965, с. 794].
Имеющиеся в моем распоряжении другие факты тюркских языков (они собраны при любезном содействии 3. Б. Мухамедовой, Г. Ф. Благовой, М. М. Копыленко и Т. М. Судник) склоняют меня к выводу, что приведенный выше казахский фразеологизм возник независимо от славянского, притом в результате иного семантического развития. Следует также учитывать и семантику слова кара (гара), которое может означать не только 'черный’, но и 'большой’ и т. п. Особый интерес представляет чувашек, чёрне хури вырйнне те ан хур 'ни во что не ставить’ (сообщ. Г. Корнилов).
Первая публикация:
Н. И. Толстой. О реконструкции праславянской фразеологии Ц Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации, М., 1973, с. 272—293.
Здрав као риба
Почти в каждом славянском языке бытует целый ряд фразеологизмов «сравнительной» конструкции для выражения исключительного здоровья: серб.-хорв. здрав као кремен, као дрен, као тресак, као кошута [PCKHJ, 4, с. 741] , ка]елен ([Pavicevic 1935, s. 238] — черногорск.), ка ко jaje ([Zic 1915, s. 283] — чакавск.), болгар, здрав като бик, като кон, като камък, като пръч [БРФР, с. 222], македон. здрав како дрен, како камен (сообщил Б. Видоески), словен. zdrav ко dren [Pavlica 1960, s. 646], польск. zdroivy jak byk (bizon), jak rydz, jak kon, jak dyb, jak or-zech, jak серак, jak dzwon [NKPP, 3, s. 853], чешек, zdravyjako byk, jako rys, jako kolouSek, jako kapr, jako linek, jako husa, jako buk, jako bor, jako dub, jako otech, jako Spalek, jako cibule, jako htib, jako lusk, jako к fen, jakojik, jako Шрек, jako pafizek, jako fepa, jako turek, jako tufin, jako hrom, jako hfimine [Zaoralek 1963, s. 747, 748], словац. zdravy ako buk, ako dub, ako lipa, ako orech, ako chren, ako kremieft, ako zrubec ('зарубка, засечка’), ako jablko [Zaturecky 1965 s. 56; Smieskova 1974, s. 282], украинск. здоров як бик, як бугай, як дуб, як кшь, як мед eidt>, як zopix, як цвик ('свекла’) ([Франко 1907, с. 175] — р-н Львова и Дрогобыча), белор. здаровы як бык, як куонъ, як зубёр (жубар), як дуб, як вйуна, як лу°д ('лед’), як чет ('свекла’), здарова як карова (р-н Волковыска и др.) [Federowski 1935, s. 353], русск. здоров как бык, как боров [Даль 1957, с. 397] и т. п.
В одних славянских языках, как в чешском, эта фразеологическая модель развита очень сильно, в других, как в русском, довольно слабо. В некоторых случаях, таких как здрав као кремен, здрав като камък,
406
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
zdrowy jak byk, zdravy jako byk, здоров как бык, мотивщюванность сравнения кажется ясной и не требующей особого разъяснения. Сложнее дело обстоит с сравнениями, обращенными к отдельным деревьям, растениям, плодам, к ветке и к рыбе.
Фразеологизм здрав као раба известен в сербскохорватском языке, в чешском, словацком, польском, украинском, белорусском и словенском. Возможно, что он обнаружится в говорах и других славянских языков, фразеологическая обработка которых еще не достигла высокого уровня.
Сербскохорватское здрав као риба распространено в Боснии и Черногории Белградский словарь дает его со ссылкой на Новака Симича (родом из Вареша) [PCKHJ, 4, с. 741]. М. М. Павичевич приводит черногорское здрав ка риба наряду с здрав ка делен [Pavicevic 1935, s. 238]. Этому фразеологизму полностью соответствует словенск. zdrav ко riba [Pavlica 1960, s. 446], чешек, zdravy jako ryba [Zaoralek 1963, s. 748], словацк. zdravy ako ryba (ako rybitka), польск. zdrowy jak ryba [NKPP, 3, s. 853, 854], украинск. здоров як риба ([Франко 1907, с. 175] — тернопольск.), белорусск. здарду як рыба ([Dybowski 1881, с. 20] — новогрудск.), як рыбы ([Federowski 1935, s. 353] — волковыск., сокольск.).
Нет сомнения, что этот фразеологизм древнего происхождения, хотя все его фиксации довольно поздние. Самая ранняя, вероятно, польская 1608 года: zdrowy jak rybka [NKPP, 3, с. 853]. В польском же языке и отмечено наибольшее число вариантов интересующего нас фразеологизма: zdrowiusienkam nikiej ryba, zdrowa i wesola jak rybka и т. п., затем zdrow jak rybie око и zdrowy jak ryba w wodzie. Последний фразеологизм имеет немецкое соответствие Gesund wie ein Fisch im Wasser. Ср. также русск. (чувствует себя) как рыба в воде. Однако источники фразеологизма здрав као риба не следует искать в западноевропейских языках — они, видимо, исконно славянские и достаточно древние (не исключается и индоевропейское происхождение).
Об этом свидетельствует символика рыбы как воплощения чистоты и резвости, т. е. телесного и духовного здоровья.
Так, в Болгарии, в Добрудже на Благовещение в каждом доме готовят и едят рыбу, а если нет рыбы, то «поне с кокал от риба трябва да си почекаш зъбите, за да си здрав» (хотя бы рыбьей костью поковырять в зубах, чтобы быть здоровым) [Добруджа 1974, с. 326]. Этот обычай широко известен другим славянским народам. В Сербии, на Большой Мораве «в отдельных местностях ворожат живой рыбкой — сазаном или какойнибудь иной; на берегу быстро поворожат и рыбу пустят назад в воду» ([МомировиЙ 1972, с. 42] — Дубравица, Сталач). В Славонии не
Здрав као риба
.407
далеко от Винковаца (с. Оток) в конце прошлого века Йосиф Ловретич записал следующий обряд: «Прежде чем надеть ребенку первую рубашонку, через нее пропускают что-либо железное, чтобы вештицы не приходили, или живую рыбу, чтобы ребенок был чист и резв, как рыба. Эта рубашка называется промиталъчица» [Lovretic 1902, s. 186]. Последняя деталь из хорватского родинного обряда очень показательна. Славянский родинный обряд и почти все его локальные разновидности отличаются значительной архаикой и большой устойчивостью. Архаичным и устойчивым является и символ рыбы.
Помимо славянского ареала, где символ рыбы, надо полагать, является пережитком язычества, есть средиземноморский ареал, где символ рыбы связан с культом Христа. Символическое изображение рыбы известно было и во времена раннего христианства. Оно было связано, по представлению многих, с именем Христа потому, что две первые буквы в ее греческом названии г и х были инициалами Иисуса Спасителя: iX'O’tq — Частоте; Xqicttoc;. Не исключено, однако, что рыба как символ использовалась и в дохристианскую эпоху (ср. также употребление рыбы как сакральной еды в христианской и дохристианских религиях) *.
Несомненный интерес представляет также «семантика» рыбы при толковании снов в народной традиции славян. В Покутье на Карпатах русины считают, что видеть во сне живую рыбу — к здоровью, а дохлую (уснувшую) — к лихорадке (пропаеншц.) [Kolberg, 19, s. 159]. В саратовском Поволжье великорусы полагают, что приснившаяся рыба — к прибыли, а сон, что ты ел рыбу, — к убытку [Зеленин, 3, с. 1262]. Шумадинцы из Гру-жи, черногорцы из племени Кучи, поповцы из Попова Поля рассуждают иначе: для них во сне «рибе претсказу]у бригу» (рыбы предвещают беспокойство) [Петровий 1948, с. 360], «риба дослуйу]е бригу» (рыба предсказывает заботы) [Дучи1г 1931, с. 321], «рибу енщевати — имайеш велику бригу» (видеть во сне рыбу — иметь большие заботы, неприятности) [Ми йовий 1952, с. 265].
Прямо противоположные значения: у русин — здоровье, у шумадин-цев, черногорцев и поповцев — брига ('печаль’, 'заботы’) — не должны вызывать недоумение. В толковании снов иногда сохраняются символические представления «этого», обычного, повседневного мира, например, правый, (dexter) — хорошо, левый (levus) — плохо, иногда же все ос-
1 Вопрос употребления рыбы в качестве сакрального блюда у славян, и в частности у сербов, требует особого рассмотрения. Отметим только, что рыба часто обязательна среди блюд на сербской «славе».
408
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
мысляется антонимично, т. е. наоборот: правый — плохо, а левый — хо рошо, как в «том», потустороннем, или загробном мире2. Подобный случай наблюдается со «значением» рыбы в снах. Однако может быть и толкование сна, не направленное на человеческую судьбу, лишенное знака «плюс» или знака «минус» в отношении этой судьбы, а предвещающее какое-то состояние, атмосферное явление и т. п. Так, по полесским представлениям, бытующим в д. Дубровица (Хойницкий р н Гомельской обл.), если во сне рыбу богато бачыш, то, кажуць, дож (рыбу много видишь, то, говорят, дождь — сообщила А. Ф. Федченко, записала в июле 1975 г. С. М. Толстая). Эго толкование ясно выражает символико-семантическую связь рыбы и воды.
Интересно также отметить, что в «Пословицах», изданных А. Гиль-фердингом и Дж. Даничичем, есть фразеологазм, зафиксированный, ве роятно, в Дубровнике в конце XVII в.: здрав као риба (и као паст рвица) [Гильфердинг 1869, с. 133; Danicic 1871, s. 56]. В нем привлекает внимание вариант пастрвица, который не отмечается в иных, кроме сербскохорватского, славянских языках. Известно, что именно форель (пастрвица) употребляется в южнославянской народной меди цине в виде лекарства (так, в Лесковачкой Мораве, например, «форель дается также больным, у которых открытая рана»; [Ъор^евий Д. 1958, с. 30]. Но более вероятным будет предположение, что фразеологизм со словом пастрвица возник из более раннего здрав као риба под влиянием широко распространенной у сербов, болгар и македонцев сказки «Ка ко су постале пастрмке» (Откуда произошла форель) В этой сказке рассказывается, как в результате честного признания в своих мыслях царя, царицы и мур-сахибии (хранителя царской печати) три форели ожили на сковородке 3. Сюжет этот, однако, появился на Балканах относительно поздно, будучи привнесенным с Востока.
Ограниченность объема статьи побуждает меня отказаться от рассмотрения иных вариантов фразеологизма здрав као... Проблема факультативных и вариативных членов фразеологических единиц уже серьезно обсуждалась в лингвистической литературе4. Поэтому в связи с
2 Подробнее см.: [Толстые 1974 с 44].
3 См. подробное описание этого сюжета и варианты этой сказки: [ЪорЬевий Т. 1958, 2, с. 251—255].
4 См. работу Й Млацека, в которой уделено внимание и конструкциям с ako (mat' jazyk ako britva и т. п): [Mlacek 1970], а также: [Мокиенко 1973; Мокиенко 1976: Игнатьева 1974].
Здрав као риба
409
вариантами я затрону только один момент, момент обрядово-спиритуаль-ной мотивированности второго члена фразеологизма. Мотивированность употребления слова рыба кратко изложена выше. Однако, сходные аргу менты можно было бы привести и для других слов, таких как камень (кре менъ) (ср. полесский обряд в Чистый (Великий) четверг: до сенца на ка мен1 скакаць три раза, штоб ndzi не болем — д Стодоличи, Лельчиц кий р-н, Гомельская обл., собств. запись 1974 г., и другие обряды), конь (ср. роль коня в славянской мифологии в связи с солярным культом ит. п.), кошута 'самка оленя’ или 'лань’ (ср. культ оленя у славян), дрен 'кизил’, орех (ср. распространенный, особенно у южных славян, культ этих деревьев, имеющих охранительную роль, защищающих от нечистой силы и т. п.), дуб, клен (ср. широко принятый у славян культ дуба и более локальный культ клена в связи с праздником Троицы, культом грома, плодородия и т. п.), бук, липа (их почитание не повсеместно), тресак 'щепка’, а также, вероятно, и zrubec (ср. роль первой щепки в сербском обычае «бадгьак» в Груже [Петровий 1948, с. 225]), яблоко (ср. роль этого плода в свадебном, похоронном и дру гих обрядах у славян), лук (ср. сакрально-профилактическую роль лука и чеснока как оберегов от нечистой силы у славян), яйцо (ср. роль яйца во многих обрядах как символа жизни и плодородия).
Каждый из упомянутых примеров и почти каждый славянский фразеологизм типа *sbdorvb какъ .. требует особого лингво-этнографического рас смотрения или хотя бы подробного комментария, для которого, как было уже сказано, мы сейчас не располагаем местом. Остановимся лишь на од ном белорусском примере, записанном М. Федеровским в конце прошлого века в р-не Волковыска — здардеы як вщша [Federowski 1935, s. 353]. Bi ц1на у белорусов значит 'хворостина, веточка, прут’, часто 'вербовая хворостинка’. Почему именно она служит символом крепости и здоровья? На это может дать ответ белорусский обряд, известный и в других зонах славянского мира, обряд весеннего (на Юрия) выгона скота на пастбище и битья скота вербовой веткой для здоровья и обряд весеннего (в Вербное воскресенье) битья детей в тех же целях. В Полесье (д. Дубровица, Хой ницкий р-н, Гомельская обл.) детей бьют в Вербное воскресенье освя щенной вербой после обедни и при этом приговаривают:
Верба бье, не я бью За тыждзень Вел1гдзенъ Будзь багаты як земля I здаровы як вада.
410
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
Дети обычно подбегают к женщине, несущей освященную вербу, и кричат: чЦютка <тетка>! Хаця мене вербою побей* (записано С. М. Толстой в июле 1975 г.) 5.
Для нас особый интерес имеет формула Будзь богаты як земля i здоровы як вада!6. В этом случае можно видеть символическую синонимику вода — рыба. Возможно, что сакральная семантическая (метафорическая) связь здоровья (в том числе здоровья, чистоты духа) и воды древнее (здесь можно положиться и на устойчивую древность очень значительного полесского материала7), чем связь здоровье-рыба (ср. крещение водой, очищение водой на Богоявление и т. п.). Рыба могла выступать как представитель воды, как часть воды по метонимическому соотношению (ср. приведенное выше: рыбу багато ба-чыш, то кажуцъ — дож), хотя и символика рыбы очень древняя.
Таким образом, фразеологизм здоровы як вщша содержит в себе, вероятно, в скрытом виде формулу будзь здоровы як вада, которой в свою очередь синонимична формула здароу як рыба. Такое понимание возможно только с учетом обрядового контекста, т. е. обрядового действия. На уровне обрядового действия удар прутиком освященной вербы синонимичен формуле будзь здоровы як вада или будзь здоровы як рыба.
Эта формула очень хорошо иллюстрируется некоторыми сербскими пасхальными яйцами (писанками) с изображением рыб и
5 Связь земли и воды ярко проявляется в сербских фразеологизмах тцан као земла, тцан као лицка, пщан као м<цка-земл>а [PCKHJ 1969, с. 794] и в полесских и белорусских пьяный як зымня. Об этом подробнее см.: [Толстой 1972 — наст, изд., с. 412—417].
6 На р. Припяти в д. Скрыгалово (Мозырский р-н) пожелание Будзь здаровы як ва да! употребляется вне обрядового контекста (запись 1975 г. Эльхана Азим-заде).
7 Известный славянский этнограф К. Мошинский, исследуя обряды, в том числе обряды вызывания дождя, называл Белоруссию «архиконсервативной» [Мошински 1933, с. 477]. Полесье можно считать наиболее консервативной частью Белоруссии и Украины.
Здрав као риба
411
веточки, вероятно, вербовой (см. рисунок). Характерна и почти одинаковая временная приуроченность обрядового действия и пасхального яйца 8.
Возвращаясь к славянским компаративным конструкциям *sbdorvb какъ... в целом, отметим, что у словаков преобладают слова, отражающие культ деревьев; у сербов, хорватов, македонцев и болгар довольно равномерно, но не очень богато представлены деревья, животные, камни, у поляков наблюдается то же положение, но названий животных больше, как и у белорусов и украинцев, у русских известны только животные, но в малом числе, и у чехов, наконец, мы встречаем самый богатый набор вариантов фразеологизма, в том числе и несколько таких, где во втором компоненте выступают названия отдельных видов рыб (karp, linek).
Все это говорит о том, что проблемы исторической славянской фразеологии тесно связаны с вопросами формирования и структуры духовной культуры — обрядов, обычаев, поверий и фольклорных текстов — сказок, преданий, песен, детских считалок и т. п.
В этой пограничной сфере славистики очень много сделано этнографами, немало фольклористами и меньше всего лингвистами. За лингвистами остается долг записать незаписанное, каталогизировать и классифицировать неучтенное, распутать неясное.
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Заметки по славянской фразеологии: здрав као риба // Zbornik radova povodom 70. godisnjice zivota akademika J. Vukovica. Sarajevo, 1977, s. 397—405 (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Herce-govine. Posebna izdanja. Knj. 34. Odeljenje drustvenih nauka. Knj. 6).
8 Такие пасхальные яйца хранятся в коллекции Этнографического музея в Белграде (инв. № 4056/59 и др ), см. об этом в статьях: [АциЬ 1957, с. 201; ТомиЬ 1957, с. 59].
Пьян, как земля (Rutheno-serbica )
Лексика Полесья, далеко не монолитная по своему составу, сохраняет ряд интересных архаизмов, имеющих соответствие в разных диалектных зонах славянского Востока, Запада и Юга. Особенно ценными являются реликты праславянской фразеологии, систематическое изучение которой началось совсем недавно. Эта заметка посвящена одному из таких древ них фразеологизмов.
В определенных ситуациях в речи полешука можно услышать поговорку «пьян, как земля» — пьяны бы зымня. Так говорят в западном Полесье около Дрогичина, так говорят и белорусы на Могилевщине (пьяны, як зим ля, як грязь), а также под Минском (пьяны як зямля, як грязь) *. Гово рят о пьяном человеке в тех же случаях и в тех же контекстах, когда употребляется русское пьян, как сапожник, пьян, как зюзя и т. д. Каждый язык богат меткими словечками, характеризующими пристрастие к «зелену вину», и в каждом языке они отличаются своей специфи кой и красочностью. Разнообразны «вакхические термины» 1 2 и в славянских диалектах. В этой эмоциональной и в целом неустойчивой лексической сфере немало инноваций, но встречаются и удивительные архаиз
1 Сведения из Дрогичинского Полесья получены мной от Ф. Д. Климчука, с Моги левщины — от А. А. Кривицкого, а из южной части Минской обл. — от Н. В. Бирилло.
2 Заметим, что к вакхической терминологии следует подходить совершенно серьезно и строго научно как к одному из вопросов социальной диалектологии и социальной обус ловленности языка. Из подобных работ нужно назвать интересную статью В. И. Черны шева [Чернышев 1928]. По вакхической терминологии, к сожалению, в славянской лексикографии существует только одна работа — «Польский словарь пьяницы» выдающегося польского поэта Юлиана Тувима [Tuwim 1935]. Других специальных словарей и работ
еще нет.
Пьян, как земля
413
мы. К последним, безусловно, относится и указанный нами фразеологизм, о чем свидетельствует южнославянский материал.
Несколько непонятное для современного языкового сознания полесское пьяны jaK зимля, минское пьяны як зямля находит прямое соответствие в сербском nujaH као земла, см.: [Караций 1900, с. 309, № 4869]. Это обстоятельство уже позволяет думать о древности фразеологизма и возможности его праславянского происхождения. Но одного отмеченного момента было бы недостаточно, если бы в сербском языке наряду с фразеологизмом nujaH као земла в том же значении и в тех же ситуациях не употреблялся другой фразеологизм nujaH као ма]'ка (буквально: 'пьян, как мать’). Параллельное употребление фразеологизмов пи/ан као земла и nujaH као MajKa возникло, вероятно, в результате адаптации древнего фразеологизма 'nujaH као MajKa земла.
Устойчивость фразеологизма MajKa-земла в других контекстах и ситуациях (ритуальных, магических, в народном языке и т. п.) засвиде тельствована письменными памятниками. Ср. у далматинца Вида Доше-на (XVIII в.): Da putnici kad putuju, istu Majku zemlju psuju... (стр. 14a) — Что путники, когда идут, ту же землю-мать поносят (буквально: оскорбляют матерной бранью); ...dal’ zemljice majke paze, da vi-soko ne odlaze (стр. 166) — держатся ли они матери-земли, чтобы не возноситься ввысь; Holito se ne uzdizi, nit' od majke zemlje biii (стр. 17a) — He возносись в гордыне и матери земли не сторонись3.
Сербскохорватское ма]ка земла имеет восточнославянское соответствие мать сыра земля, где в устойчивом сочетании находится уже це лый пучок семантических признаков: «рождающая» + «оплодотворенная» («орошенная»), т. е. способная родить, давать урожай4. В этнографической и мифологической литературе широко известны славянские и индоевропейские (и не только индоевропейские) свидетельства о небе-отце и матери-земле и связанные с ними обряды вызывания дождя — мужского оплодотворяющего семени, дающего земле плодородие5. Один
3 См.: Azdaja sedmoglava bojnim kopjem udarena i nagrdjena.. slifnorifno izpisa i na svit lo dade Vid Dosen, Dalmatin od mora veiebitskoga, slavnoga biskupata zagrebskoga misnik. zupe dubovitke u vitskoj krajini slavonskoj brodskoj dusevni upravitelj i pastir. U Zagrebu, 1768. Цитирую по загребскому академическому словарю (RHSJ, 6, s 390]
4 Представление о земле как о живом существе до нашего времени отражается в белорусской фразеологии. Например, зямля стогне 'земля дрожит' [БРС, с. 352].
5 См. богатый материал по этому вопросу в книгах: ЦапковиЙ 1951; ЪорЬевиЬ Т. 1958, 1].
414
VJ. Славянская фразеология sub specie этнографии
из очень интересных и ярких примеров этого — противопоставление неба-отца как мужского начала матери-земле — женскому началу (с элементами сексуальной метафоризации), отраженное в польском народном свидетельстве: в р-не Чхова на реке Дунаец (Прикарпатье) известно словоplaskofka с определением matka. По свидетельству В. Косинского, «так называется в загадке низкая плоская земля в противоположность высокому небу: plaskofka matka, vysoki tatkao [Kosiriski 1914, s. 58].
Отметим, что в Полесье и несколько шире — в Белоруссии и на Ук раине — сохранилось больше реликтов культа Перуна, культа грома-дождя, который воплощает мужское начало. Реликты культа Перуна некоторые усматривали и в южнославянском обычае додоле-пеперуда, связанным с обливанием водой во время засухи девушки, обвитой листьями и травой. Основа этого магического действия, как и многих ему подобных, достаточно прозрачна: микродействие при тех же персонажах и отношениях должно вызвать то же явление в масштабе всей природы. Подробное рассмотрение этого в целом хорошо известного в славянской мифологии ритуала заняло бы слишком много места. Стоит только отметить, что в мифологическом представлении славян акт орошения оплодотворения предполагает чистоту («девственность») оплодотворяемой земли (начало матери-девы?) 6. Оскверненная земля не принимает дождя, точнее дождь не оплодотворяет-орошает оскверненную землю, и потому, чтобы вызвать его, необходимо позаботиться об очищении земли. Здесь мы видим удивительный параллелизм в ритуалах южных славян, в первую очередь сербов, и славян восточных, прежде всего украинцев и белорусов.
В Сврлиге, в Сербии, чтобы остановить дождь и вызвать сухую погоду, закапывают кошку и тем самым оскверняют землю ['Борщевик Т. 1958, 1, с. 77]. В Гевгелии, в Македонии, когда долго нет дождя, считают, что чере-пичники, которым необходима сухая погода, закопали осла в землю [Тано-
6 Весьма заманчиво в противопоставлении сухой — мокрый, отмеченном В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым, см.: (Иванов, Топоров 1965, с. 147—155], видеть отражение (другой регистр) противопоставления мужской — женский. В пользу такого соображения говорит как будто распространенность в сербских заклинаниях и народных песнях сочетания сува мун>а, суипъица мугьа. Однако, если не видеть в значении сува мугъа позднейшего переосмысления, идиома означает только огненную стрелу, которая появляется на «сухом*, безоблачном небе (ср. у С. Митрова Любиши: ProstrijelUa ga suha munja iz vedra neba! [LjubiSa 1875, s. 242]), в отличие от молнии, которая появляется из облаков (ср.: ogniena munja s oblaka vodena и другие примеры в загребском академическом словаре (RHSJ, 7]).
Пьян, как земля
415
виБ 1927, с. 434]. В Хомолье, в сев.-вост. Сербии, во время засухи крестьяне ищут закопанную кошку, выкапывают ее и бросают в ручей или в реку, либо находят могилу внебрачного ребенка, выкапывают его и какое-то время льют на могилу воду [Милосавл.евиБ 1913, с. 394].
Обряд очищения земли от грязи, чтобы она была чистой и могла принять благодатный дождь, сохранился до наших дней. В 1927 г. А. С. Бежкович наблюдал среди украинцев-переселенцев в бывш. Семипалатинской губ. случай, когда «в день Ивана Купалы женщины откопали „нечистого покойника", самоубицу-висельника, выбросили труп в канаву около кладбища, а в могилу лили ведрами воду» [Бежкович 1930, с. 82]. Он же отметил, что в том же году жители села Белое, «чтобы вызвать дождь, в день Ивана Купалы обливали друг друга водой из ведер и, кроме того, вынули крест с могилы умершей женщины, которую считали ведьмой, отнесли его в реку и на могилу носили ведрами воду из речки и вбивали колья в могилу, чтобы вода просочилась до трупа» [там же, с. 82]. Почти полную аналогию этому можно найти в обряде, зафиксированном в Сербии, в Болевацком срезе, где во время засухи носят «на кладбище воду ведрами и там поливают какую-нибудь могилу из тех, где похоронен покойник, умерший не своей смертью, а повесившийся, покончивший жизнь самоубийством, или утопленник. Эго поливание совершается вечером несколько дней подряд» [ГрбиБ 1909, с. 334]. Там же берут крест с такой неизвестной могилы и «вечером несут его к ближайшей реке или ручью и втыкают его там, чтобы он стоял, пока вода сама его не снесет. Вбивая крест, говорят: „Крет у воду, киша у пол>е!“ (Крест в воду, дождь — на поле!)» [там же] 7.
Приведем еще две сербские загадки из сборника Стояна Новаковича, иллюстрирующие мифологические представления славян о земле и небе: <Висок mama, плосна мама, буковит зет, маната дево/ка» (Высокий отец, плоская мать, шумливый зять, своенравная дочка) — разгадка: отец — небо, мать — земля, зять — ветер, дочка (девушка) — мгла, туман; <>Друга другу преко плота звала: да] ми, друго, мало сала, жива сам се вей распала. — Земл>а иште с неба кише» (Одна другую через забор звала: дай мне сала (дождя, семени. — Н. Т.), а то я заживо распадаюсь — <разгадка>: земля просит у неба дождя) [НоваковиБ 1877, с. 61, 142].
7 Большую коллекцию подобных примеров из сербского земледельческого культа можно найти в книге: [ЪорЬевиЬ 1958, 1]. Восточнославянский материал обстоятельно изложен в книге: [Зеленин 1916, с. 67—76].
416
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
Мифический образ матери-земли (мсцка земла, матъ-сыра земля), наделенной божественной функцией и оплодотворенной дождем-влагой, был персонифицирован древними славянами в виде богини Мокоши, известной нам по Лаврентьевской летописи и имеющей семантическое и функциональное соответствие с некоторыми индоевропейскими женскими божествами, в частности, с иранской Aradvl Sura Anahita 8.
В сочетании с землей эпитеты *руапъ, *syrt>, *токгъ выступали как синонимы, выражающие семему 'напоенный, не жаждущий, мокрый, не сухой’. Такое значение лексемы *руапъ (причастие от *piti 'пить’) можно встретить в языке русского фольклора и архаичных славянских говорах 9 * 11.
Перенос интересующего нас фразеологизма из сферы иерархически самой высокой, сферы мифических и религиозных представлений в сферу нижнюю вполне закономерен, если вспомнить факты, связанные с бранью, где повторяются почти все ипостаси и атрибуты религиозного мира *°. Правда, восточные славяне в более позднее время, как свидетельствует Зигмунд де Герберштейн (XVI в.), воздерживались от употребления божественных имен всуе ”.
Можно считать также, что известное русское просторечно-жаргонное слово бухой, обычно не отмечаемое словарями из-за принадлежности к самому низкому стилю, пережило такой же перенос из сферы лексики, связанной с почитанием и возделыванием земли, в сферу вакхической терминологии. Русское бухой 'пьяный’ обозначало первоначально 'напоенный, насыщенный влагой, набухший, мягкий’. В пользу такого утверждения го
8 Более подробно см. в исследовании по славянской мифологии: (Иванов, Топоров 1965, с. 18—20 и др.].
9 Достаточно вспомнить хотя бы начало монолога старика и ответ коз из сказки ♦Коза-дереза» в переработке А. Н. Толстого: «Вы, козочки, вы, матушки, вы сыты лн. вы пьяны ли?... Мы и сыты, мы и пьяны...» [Толстой А. 1948, с. 161]. Первоисточником этого текста послужили записи Н. Н. Коргуева, см.: [Нечаев 1939]. Аналогичный контекст, ситуация и значение лексемы 'руапъ — в фразе, которая записана мной в 1961 г от носительницы южномакедонского, Эгейского говора с. Дымбени (Костурско) А. Ману-шевой (1891 года рождения). На мой вопрос, не утомилась ли она говорить для записи на магнитофонную ленту, не хочет ли она попить воды или отдохнуть, А. Манушева ответила: «Ништо не сакам. Ja сам )адёна, пи]ёна и си лёгната» (Ничего... не хочу. Я не голодна, не хочу пить, я напилась, отдохнула лежа, отлежалась).
19 См. приведенный выше пример с сербскохорватского: istu mqjku zemlju psuju.
11 См. весьма интересную статью А. В. Исаченко, посвященную грамматическим конструкциям русского мата в сборнике в честь Кипарского [Isafenko 1965, s. 68— 70].
Пьян, как земля
417
ворят данные русских диалектов. Архангельский шенкурский говор сохранил древнее значение слова бухоный, употребляемого в качестве эпитета для мягкой, благодатной земли: (бухбнный — о почвах: 'добрый, мягкий, податливый, суглинистый или черноземный"» [Дополнение к Опыту 1858]. В том же бывш. Шенкурском у. по отношению к подушке, постели — 'мягкий’ (бухонная постель) [там же], а в говорах новгородской метрополии буханный — о пирожном: 'пышный' [там же]. То же слово с тем же значением известно в южнорусской диалектной зоне — курское, обоянское бухд ный— 'пышный, мягкий’ (бухоная постель, бухоные булки), бухо нить — 'делать мягким, пышным’ (постель взбухонила) [там же]. Западномосковское рузское и тверское новоторжокское бухоный — 'теплый’ (Хорошо, что витерто лучился бухоный, а то руки или ноги отморо зил) [Опыт 1852] — ср.: бухбня 'теплый ветер’ (московское богородское) употребляется по отношению к ветру, так же, как московское богородское бухднить гл. ср. безл. 'теплеть’, говорится о ветре, который приносит тепло. Стало бухонить [там же]. Надо думать, что безличное стало бухо-нить относилось не только и не столько к ветру, сколько к погоде вообще, и в частности, к состоянию почвы: стало оттаивать, стало подмо раживать, стало подмерзать, — вероятно, 'стало набухать’, 'стало мягчать’, 'стало отпревать’ (о земле).
Другое развитие семантики от 'набухать, пухнуть’ пошло по линии 'набухать, толстеть’, 'пухлый, толстый’. Оно отражено в диалектном тамбовском бухбня 'толстая, полная женщина’ [там же], калужском бухбнный 'буйный’ [там же], уральском бухло 'очень полный, неповоротливый человек’ [СРГСУ].
Новгородское диалектное бухбнный 'пышный’ (о пирожном) спиде тельствует о том, что древнерусское бухонъ 'вид хлеба’ справедливо относится А. Преображенским и Г. А. Ильинским к бухнуть 'набухать’ [Фасмер, 1]. Может быть, вопреки мнению М. Р. Фасмсра, сюда следует отнести и современное русское буханка?
На русском языке — впервые. Первая публикация:
М. I. Толстой. Rutheno-serbica // Беларускае i славянскае мовазнау-
ства. Mi нс к, 1972, с. 270—274 / На белорус, языке.
Соленый болгарин
U конце семидесятых и в самом начале восьмидесятых годов мне посчастливилось вступить в переписку с Афанасием Никитичем (он писал: «Никитовичем») Добровым, болгарином из села Ольшанка, что в нынешней Кировоградской области1. А. Н. Добров выслал мне два своих небольших рукописных сборника под названием «Этнография и фольклор Ольшанских болгар». В «Сборнике № 2» на 6-й странице под общим заголовком «Языческие обряды» и под вторым заголовком «Соленый и „лютый" болгарин» помещено следующее описание любопытного обычая, которое приводится нами без изменений и корректив.
«В 1929—1932 годах я учился на берегу Азовского моря в педагогическом техникуме, в селе Преслав. Как-то с однокурсником Михаилом Стойчевым пошли купаться. Лежа на песке естественного пляжа, я об ратил внимание на такую деталь. Тело его было в бронзовом загаре, но по телу были какие то белые черточки. Когда я спросил, что это такое, он мне рассказал, что за обрядами (согласно обрядам. — Н. Т.) при азовских болгар, когда ребенок только родился и еще к грудей (к груди. — Н. Т.) матери не дотрагивался, бабки повитухи стелили рядно на пол, дожили (клали. — Н. Т.) на него ребенка, ложились сами кругом
1 Село Ольшанка основано в 1774 году после русско-турецкой войны болгарами, выходцами из села Флатар (позже Алфатар), находившегося близ г. Силистрии. Село Ольшанка принадлежало в XIX в. Елисаветградскому у. Херсонской губ. Л. Н. Добров уроженец Ольшанки. Он получил образование до Второй мировой войны в болгарском педтехникуме в Преславе (Приазовье), где был на курсе, следующем за тем курсом, на котором учился Д. Ф. Марков, приазовский болгарин, ставший известным славистом и болгаристом, академиком. Дополнительными биографическими сведениями о А. Н. Доброве я не располагаю, но собираюсь заняться их разысканием.
Соленый болгарин
419
него, образуя крут, (делали. — Н. Т.) несколько надрезов бритвой на теле новорожденного, а потом (его. — Н. Т.) присаливали. Конечно, ребенок плакал, но его обмывали и давали матери кормить. Этого обряда сейчас нет. Отсюда и пошло — „соленый болгарин". Ольшанские болгары привезли с собой другой языческий обряд. Когда лишь только родился ребенок и его еще не кормила мать, бабка-повитуха брала красный горький перец, растирала его в ложке с водой и той прегорькой настойкой перца напувала (натирала. — Н. Т.) ребенка. Конечно, тоже был неимоверный плач ребенка, тут же его отдавали матери для кормления. С этого и пошло — „лютый болгарин"».
То, что в этом описании предлагается нам не анекдот, не легенда, не выдуманный сюжет или мотив для объяснения фразеологизма, кстати не отмеченного болгарскими фразеологическими словарями [Фразеологичен речник, 1—2], а подлинный обычай или обряд, бытовавший в среде болгар, свидетельствует не только пояснение Михаила Стойчева, но и утверждение Христо Вакарелского, что «для болгар характерно соление (осоляването) новорожденного», которое «происходит обыкновенно на третий день после рождения: после купания солят ребенка, покрывая толстым слоем мелкой соли все члены тела, кроме головы. В таком виде его повивают и оставляют на ночь, а затем снова его купают». Крупней ший болгарский этнограф поясняет, что постоянная мотивировка этой процедуры следующая: «Да не мирите на лошо потта му» (Чтобы не было плохого запаха от нота) [Вакарелски 1974, с. 560].
Этот пассус приводится из хорошо известной обобщающей моногра фии X. Вакарелского «Этнография Болгарии». В ней нет сведений по географии описанного обряда. Можно лишь предположить, что он до вольно широко распространен, хотя в книге Д. Маринова о народной вере и религиозных обычаях болгар этот обряд не упоминается [Мари нов 1914]. В отдельных случаях, например, в довольно подробном опи сании быта и верований банатских болгар есть попутное замечание об отсутствии такого обряда («нямат обичай да посолват бебето») [Телби зов 1963, с. 214]. Все это говорит скорее об известности, чем новее местности обряда соления ребенка. Приведем имеющийся в нашем рас поряжении материал, который, естественно, неполон.
В 1931 году, описывая говор и быт хырцоев из Разграда и Разград ской округи, М. Ангелова сообщила, что хырцои после рождения солят (осоляват) младенца [Ангелова 1931, с. 132]. Этот факт для той ж<-зоны подтвердил спустя более чем через полвека С. Генчев, сообщивший в монографии «Капанци», что ребенка солит (детето бива осолявано)
/4-
420
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
бабка-повитуха на второй день во время его ритуального купания [Ген-чев 1985, с. 173]. X. Вакарелский, описывая семейные обряды в Пана-пориште и его округе, свидетельствует, что «соление» новорожденного широко распространено. «В прошлом повсеместно также практиковалось сбленето, посоляването ребенка. Это происходило на второй или третий день после его рождения. Все тело новорожденного посыпалось довольно значительным количеством мелкой соли, и в таком виде спеле-нутый и повитый ребенок оставался пять-шесть (Панапориште) или да же двадцать четыре часа (Обориште). Эго действие всегда и всюду объяснялось тем, что таким образом кожа младенца не станет покрываться дурно пахнущим потом. Некоторые смешивают соль с сырым яйцом» [Вакарелски 1961, с. 57].
В Пиринской Македонии в с. Бобошево (Дупнишко), как сообщает И. П. Кепов, «ребенка, как только он родится, взвешивают на весах, но не смотрят, каков его вес, чтобы на него не действовала ворожба и дьявол. После этого его купают в прохладной воде и затем посыпают (посолват) просеянным пеплом, чтобы он не потел и не пахли плохо его кожа и его пот» [Кепов 1936, с. 55]. В этом случае вместо соли употребляется пепел, хотя и говорится, что ребенка посолват; к тому же ритуал «соления» сопряжен с ритуалом взвешивания. В среде капан-цев, как отмечает С. Генчев, осоляването происходит на второй день одновременно не только с купанием, но и с каждением. Для обряда каждения домашние приготовляют булку хлеба (пита) без украшений и еду в зависимости от времени года. При этом бабка-повитуха кадит, держа в руках печную лопатку с ладаном или только базилик и соль, а также домашнюю питу и то, что принесли гости. Кадит она все помещение и притом произносит благопожелания (благославия). К этому С. Геичев добавляет, что «общее осмысление этого соления (осолване)» сводится к тому, что оно затем оградит ребенка от неприятного запаха пота» [Генчев 1985, с. 173].
Именно это осмысление зафиксировано X. Вакарелским в начале 30 х годов нашего века и у болгар, эмигрировавших из южной Фракии после Балканской и Первой мировой войны. Фракийские болгары посыпали новорожденного солью целиком на первый или второй день после его рождения. Сутки его держали в соли, «да не се запарува и да не ме-рише на лошу като турчина» (чтобы он не потел и от него не исходило плохого запаха, как от турка). Болгары из с. Втрое, что на востоке ев ропейской Турции, «солили» новорожденного на второй день, «да не се запарува, да не се фун'ава» (чтобы он не потел и не издавал плохой за
Соленый болгарин
421
пах), а из с. Лезар около г. Малгара, что на юго-западе европейской Турции, новорожденного оставляли в соли первую, вторую и третью ночь. При этом соль для соления ребенка специально толкли и затем просеивали через сито. Солили ребенка, «чтобы он не потел, когда вырастет большой», т. к. «турки не солят детей и потому плохо пахнут». Этот же довод приводили бывшие жители села Сатынкей (в европейской Турции восточнее Люлебургаса). Они солили ребенка на третий день, «за да не мирите като турчин» (чтобы от него потом не пахло, как от турка). Наконец, в тот же третий день после рождения болгары из с. Габрово, что севернее г. Ксанти (нынешняя вост. Греция), высыпали в воду, в которой купали ребенка, две горсти соли [Вакарелски 1935, с. 312]. Таково довольно подробное свидетельство X. Вакарелского о собранном им материале в среде фракийских болгар-мигрантов.
Из изложенных фактов видно, что мотивация обряда («от пота или запаха пота») весьма устойчива, вероятно, почти повсеместна там, где бытует обряд, и, как показывает дополнительный материал, едва ли первична. Но об этом после обозрения других родинных и иных ритуалов, в которых пользуются солью.
В некоторых р-нах Болгарии, в частности в селах Кнежа и Вутя, младенца, принесенного после крещения из церкви в дом, встречают на пороге с булкой хлеба, с солью и с вином, «чтобы было в доме изобилие и чтобы оно всю жизнь сопутствовало ребенку» [Маринов 1914, с. 140]. В с. Скрыт Петричской околии, согласно наблюдениям И. Георгиевой, на третий вечер после рождения ребенка готовят специальный хлеб (по гача), при этом тесто для него мешает сестренка зеленой виноградной веточкой. Помимо хлеба кладут на стол или у стола соль, мед, сладкую еду (блага манджа), деньги, монисто из монет, фрукты, лемех «в качестве символов плодородия» [Георгиева И. 1983, с. 139|. В других болгарских ритуалах соль выступает в апотропеической функции, преду преждая и отклоняя недоброе. У уже упоминавшихся капанцев и у мио гих болгар других этнических групп недавно родившая женщина (леху са) не должна ходить за водой к общественному источнику, месить хлеб и готовить еду для всей семьи, т. к. все это может испортиться из-за ее «нечистоты», длящейся сорок дней. При крайней необходимости, «чтобы вода в колодце не испортилась» (да не се развали), лехуса должна при нести из дома столовую соль и бросить ее в колодец, но лучше все же попросить другую женщину принести воды [Генчев 1985, с. 173]. Такое же поверие отмечено тем же С. Генчевым в Добрудже, где верят, что колодец может зачервиветь оттого, что лехуса возьмет воду. Чтобы это
422
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
не 1гроизошло, лехуса должна, перед тем как брать воду, вылить в колодец немного воды, принесенной из дому, посыпать соли или опустить в воду железо [Генчев 1974, с. 268]. Нечистота, а отсюда и опасность для окружающих, лехусы (недавно родившей женщины) прекращается через сорок дней, и она становится просто кормящей матерью. Этот день также отмечается небольшим ритуалом — у капанцев матери дают хлеб и соль, «чтобы у нее было молоко» [Генчев 1985, с. 173]. Таким образом, выявляется еще одна мотивация употребления соли, правда, вкупе с хлебом, которую можно считать частным случаем мотивации изобилия. Эго подтверждается и следующим примером. В с. Чоба и в некоторых других селах Пловдивского края сразу после рождения ребенка, реже на другой день, месят обрядовый хлеб — питу, которая часто называется богородицина пита. При этом первый кусок питы вместе с солью дают роженице, «че ди и се спуща млякото» (чтобы у нее прибывало молока). На питу мать роженицы кладет одежонку и повой ник для ребенка с красным узором и с пришитой к нему денежкой от сглаза [Пловдивски край 1986, с. 195].
Обряды, связанные с приплодом скота, в частности с отелом коровы, как уже было замечено, нередко повторяют или модифицируют обряды, исполняемые при рождении ребенка. В Пловдивском крае, «корца отелится корова, пастуху несут питу, немного меду, сахара и соль, положенную сверху на питу. Пастух отламывает от питы кусок, дает его корове, а поло вину булки возвращает хозяйке, чтобы та, разломав ее на кусочки, раздала их первым встречным» [там же|.
Едва ли следует напоминать, что обычай встречать с хлебом-солью связан не только с рождением или крещением ребенка. У болгар и у других славян он присутствует и ярко выделяется и в свадебном обряде, и при встрече почетного гостя, и при уборке урожая, и во многих других случаях. Так что приведенные выше примеры встречи и угощения ребенка и молодой матери становятся в большой ряд подобных ритуалов семейных и других обычаев. Добавим к этому ряду несколько любопытных случаев, зафиксированных у болгар. Так, по свидетельству И. Ге оргиевой, в некоторых селах Болгарии с появлением молодого месяца (нов месец) месят и пекут пресный хлеб, посыпают его солью и раздают вместе с брынзой ближним и дальним соседям [Георгиева И. 1983, с. 22]. В Добрудже на Юрьев день режут ягненка в качестве ритуальной жертвы (курбан). Перед закланием хозяин дает ягненку освященной соли (очетена сол), хлеба или отрубей, крестит ему лоб и кадит его ка;1ильницей. Там же в тот же день к общинной сельской трапезе
Соленый болгарин
423
приносят поджаренного на вертеле ягненка, хлеба, свежей брынзы и молодого чеснока. При этом в селах Оброчиште и Церква каждый полу чающий свою долю еды кладет в посудину немного соли и с солью воз вращает посудину своей хозяйке. Это делается для того, чтобы скот был здоров [Генчев 1974, с. 332, 334]. Таким образом, фиксируется еще одна мотивация — «для здоровья».
Типично апотропеические действия с солью производятся в ритуалах, направленных против чумы. Так, по свидетельству Д. Маринова, у бол гар распространено представление, что чума ходит со своим ребенком (чуминче). Чтобы смирить ее во время эпидемии, почти в каждом доме готовились корыто, гребень, губка и ставился вечером рядом с корытом котел с теплой водой, чтобы чума, если бы она пришла ночью, могла умыться и вымыть ребенка. Кроме того, для нее выставлялся трапезный столик с медовой питой (медовым пряником), с вином и солью, чтобы она могла поесть [Маринов 1914, с. 193]. В этом случае защита произ водится путем угощения, умилостивления, при помощи ритуального при ема, хорошо известного у славян при отражении градовых туч, болезней и других напастей, исходящих от антропоморфных духов или существ. Отгон без гостеприимных действий применяется по отношению к вампиру. Согласно болгарским повериям, вампир боится соли и железа (ср. действия лелусы у источника или колодца), а также чеснока и дегтя. Поэтому иногда достаточно сказать вампиру «дайте ми солното желязо» (дайте мне соленого железа) или «сол кълцам» (я толку соль), и он тотчас исчезнет. Чтобы отогнать вампира, на дверях рисуют дегтем крест или держат деготь у очага [Георгиева И. 1983, с. 166, 167]. В этих случаях соль оказывается в одном ряду с железом, чесноком и дегтем. Все они используются как средства от сглаза и все они бывают компонентами талисманов. Эти предметы (или продукты) употребляются и для отгона нечистой силы, которая, по представлению болгар и других славян, особенно активна и опасна для ребенка и для роженицы в первые дни после родов.
Наконец, соль не только охраняет от нечистой силы, но и способ ствует проникновению в сферу мистического и сверхъестественного, поэтому она используется при гадании. В некоторых случаях она к тому же является единственным стимулирующим или обеспечивающим нуж ный результат средством. Так, например, если есть желание определить пол будущего ребенка, следует незаметно насыпать соли беременной женщине на голову и потом посмотреть, за какое место на лице она ух ватится раньше. Если за нос, будет мальчик, а если за рот — девочка. Так гадают в двух концах Болгарии — в Добрудже и в Бобоштице. что
424
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
недалеко от Кюстендила, но вероятно, и во многих других местах. Сколь бы юмористичен ни был этот способ гадания, важно, что он относится к рождению ребенка и не может быть исполнен без соли.
Можно было бы привести весьма значительное число примеров на интересующую нас тему из других славянских этнических зон. 1)то бы заняло много места и не изменило бы складывающейся на приведенном болгарском материале картины. Все же несколько примеров из соседней сербскохорватской зоны мы решаемся привести, чтобы еще больше оттенить некоторые вышеизложенные примеры. Сербы на Косовом Поле (с. Гнилане) в третью ночь после рождения ребенка правую руку новорожденного оставляют не повитой, а свободной, и кладут ему в руку соль, хлеб и старинную серебряную денежку, а вокруг него разбрасывают как можно больше монет (денег). Считается, что, если не сделать этого, ребенок будет несчастным и приносящим несчастье (баксуз) всю свою жизнь [Vukanovic 1986, s. 223]. Добавим от себя, что по сербскому и болгарскому поверью в третью ночь как раз приходят суренице, орисници, три женщины-невидимки, определяющие судьбу ребенка. Правая ручка младенца остается свободной для борьбы с нечистыми духами. В Боснии у хорватов-католиков мать спустя сорок дней после родов начинает выносить ребенка из дому на люди, при этом стараясь одеть его как можно лучше и чище. Под одежду же она прячет несколько комочков освященной соли (благословлене соли), зашитых в ладанку, чтобы младенца не сглазили и с ним не стряслась беда («каква худа ствар») [Buconjic 1908, s. 64]. А в западной Хорватии, в Буковице у православных делается такой амулет. Берется кусочек причастия, крупица соли и пшеничное зернышко. Все это закатывается в кусочек воска от свечи, горевшей перед образом Богоматери, и этот комочек подкладывается тайком под Евангелие, которое читает поп во время обедни. Этот талисман (свету Mauimapujy) следует всегда носить е собой, и тогда можно ничего не бояться [Ardalic 1902, s. 294].
В последних трех примерах соль защищает от происков нечистой силы, от сглаза, от всяких жизненных бед и страха. Соль при этом оказывается в одном ряду с хлебом (что наблюдается во многих случаях), серебряной денежкой, деньгами (означающими богатство) или в ряду с причастием (хлебом — телом Христовым), хлебным (пшеничным) зерном и воском. Немалый интерес представляют и приведенные выше ритуальные ряды в болгарских обрядах, где ряд либо ограничивается ритуальной троичностью (хлеб, соль, вино или: освященная вода, соль, железо), либо цепочкой с большим числом звеньев — соль, хлеб, мед, са
Соленый болгарин
425
хар или: соль, мед, деньги, монисто, фрукты, лемех и т. п. Функционально в описанных ритуалах соль используется: для здоровья ребенка, для здоровья новобрачных, семьи, для здоровья скота, чтобы было изо билие в жизни ребенка, в семье, чтобы был счастливым новый месяц, чтобы предотвратить загнивание воды, чтобы предотвратить болезни, чтобы обезвредить чуму, вампира, чтобы обезвредить ворожбу, защититься от сглаза, нечистой силы и т. п.
Прагматическое или практическое объяснение соления ребенка «от неприятного запаха пота», широко распространенное у болгар, безусловно, вторичное. Первичным следует считать защитное употребление соли против нечистой силы, сглаза и других бед вкупе с верованием, что соль, как и железо, приносит здоровье, благополучие и, подобно хлебу и серебру (деньгам), изобилие и богатство Таков глубинный смысл сим волики соли. Он, как и в других примерах семантики символа, синкретичен. Впрочем, эта синкретичность в какой-то мере условна, символи ческий смысл не столько разнообразен или различен, сколько разносто-ронен, разнонаправлен. Ведь защита от болезней, от чумы есть в то же время обеспечение здоровья и жизни, защита от надежа и болезней скота есть здоровье и сохранение скота, а скот есть наибольшее богатство и земледельца, и, особенно, скотовода.
Для определенных выводов о географии обряда на болгарской этниче ской территории имеющегося в нашем распоряжении материала едва ли достаточно. Параллели из других славянских этнических зон нам не извест ны. Материал обнаруживается на крайнем юге, во Фракии, на северо-вос токе, в зоне Разграда, на западе срединной Болгарии, в зоне Панапо ришта, на западе, в Шопекой зоне, в Бобошево. Но тот же обряд давно и довольно широко зафиксирован на Ближнем и Среднем Востоке, на Кавказе и в Средней Азии. Еще в конце прошлого века отмечены случаи соления младенцев у грузин, армян, кавказских татар (азербайд жанцев), курдов. Там, по свидетельству А. Редько и ряда других авто ров, «все тело родившегося ребенка осыпают мелкой толченой солью, не пропуская складок и закрытых частей тела: подмышки, промежность, позади ушей и их наружную часть, веки глаз и т. д.». Соление ребенка было известно в Персии, в азиатской Турции, у греков и древних ара бов [Редько А. 1899, с. 94, 95]. Любопытно, что, видимо, у европейских турок, соседствующих с фракийскими и адрианопольскими болга рами, этого обряда не было, иначе бы не было представлений о том, что от турок плохо пахнет из-за того, что их не «сипни» в д»ггстве.
426
VI. Славянская фразеология sub specie этнографии
Но, вероятно, самым примечательным и самым древним свидетель-<твом являются слова пророка Иезекииля, обращенные к Иерусалиму в начале 16 й главы его книги: «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий! выскажи Иерусалиму мерзости его. И скажи: так говорит Господь Бог дщери Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Аморрей, а мать твоя — Хеттеянка. При рождении твоем — в день, когда ты родилась, — пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита» 2.
Таким образом, обряд соления ребенка знали также ветхозаветные евреи и придерживались его. Древность обряда — библейская. На Ближнем Востоке, судя по всему, и следует искать его корни.
Что же касается зафиксированного А. Н. Добровым примера, то он редкий и уникальный среди болгарского этнографического материала. Нам неизвестны свидетельства о надрезании кожи младенцев у славян. Едва ли это делалось также «во избежание плохого запаха пота» — корни ритуала лежат, как видно из всего изложенного, гораздо глубже. Возможно, этот случай следует сопоставить с редкими свидетельствами бытования татуировки у славян. Но это уже особая тема, которую сей час трудно затрагивать.
Первая публикация:
Н. И. Толстой. Соленый болгарин Ц S India slavica. Языкознание. Литературоведение. История. История науки. С. Б. Бернштейну к 80-летию. М., 1991, с. 100-108.
2 [Толковая Библия, с. 309, 310]. Комментаторы приведенного нами библейского отрывка поясняют: «Израиль в начале своего существования подобен был подкидышу, выброшенному, как он вышел из чрева матери, лишенному самых необходимых для сохра нения жизни забот. Ребенок, у которого „не отрезали” или плохо отрезали „пуп”, может погибнуть, когда начнется разложение последа*. Относительно слов «солью не была осолена* комментаторы напоминают, что об этом обряде писал также Блаженный Иероним: ♦Нежные тела детей, пока они сохраняют еще теплоту матернего чрева и первым плачем отзываются на начало многотрудной жизни, обыкновенно солятся акушерками, чтобы сделать суше и сжать*, — и добавляют: «Этот обычай, упоминаемый Галеном, и теперь в употреблении на Востоке: феллахи думают, что дитя через это укрепляется. Кроме диетического, он мог иметь и символическое значение, служа выражением пожелания здоровой бодрости новорожденному или указывая на вступление его в завет г Богом, который Ветхим Заветом называется иногда „заветом соли”* [Левит 2, 13; Числа 18, 19; Вторая кн Паралипоменон 13, 5].
VII. Семиотика малых форм фольклора
О возможности картографирования фольклора
Из наблюдений над полесскими заговорами
О жанре «обмирания» (посещения того света)
Скрытый плач по покойнику
О возможности картографирования фольклора
Идея картографирования славянского фольклора, прежде всего восточнославянского и русского, возникла еще в конце 20-х годов в связи с дея тельностью Сказочной комиссии Российского географического общества, с попытками применить структурный подход к явлениям фольклорного и эт нографического порядка, с пониманием важности учета географического фактора при исследовании модификаций и вариантов текста, их соотношений и зависимостей. В то время разработкой этих вопросов интересовались такие авторитетные ученые, как А. И. Никифоров, П. Г. Богатырев, В. М. Жирмунский, Р. Р. Гельгардт и др. [Никифоров 1927; Богатырев 1929; он же 1930; Жирмунский 1932; Гельгардт 1935]. Картографирова ние фольклора, однако, требовало не только создания теоретической базы, но также, и это не менее существенно, организации, собирания, обработки и анализа массового материала, привлечения значительных по числу и про фессиональной подготовке кадров, а в ряде случаев организации общих усилий славянских академий и университетских центров, что в обстановке 30-х и 40-х годов было, конечно, недостижимо.
По окончании Второй мировой войны на V Международном съезде славистов (Москва, 1958) был вновь поставлен вопрос о географическом изучении славянского народного творчества. Вопрос был сформулирован так: «Что может дать картографирование фольклора славянских народов для выяснения вопроса о возникновении, истории и современном бытовании произведений народного творчества?». На этот вопрос дали ответы опять же П. Г. Богатырев и В. М. Жирмунский, а также болгарская фольклористка Ц. Вранска. П. Г. Богатырев в своем ответе предлагал учесть опыт составления диалектологических карт и карт распространения элементов материальной культуры. При этом сопоставление фольклорных карт с картами иного порядка позволило бы, по представлению П. Г. Богатырева,
430
VII. Семиотика малых форм фольклора
«поставить и решить новые вопросы, притом и такие, которых не имели в виду сами составители фольклорных карт». Он считал, что «ценные результаты даст и сопоставление карт распространения фольклорных произведений, отражающих другие народные верования, с географическим распространением самих этих верований». Точно так же «обрядовые календарные песни, равно как и обрядовые семейные песни, органически связаны с народными обрядами. При картографировании необходимо отмечать гео1рафическое распространение обрядовой песни и соответствующего ей обряда. В некоторых случаях распространение обряда не будет совпадать с распространением песни. Обряд может быть более широко распространен, чем связанная с ним когда-то обрядовая песня. В других случаях песня, оторвавшаяся от обряда, займет большее географическое пространство. Географическое совпадение песни с обрядом может многое раскрыть в происхождении обрядовой песни, в ее изначальной функции и форме. Анализ несен, географически нс совпадающих с обрядом, покажет, в какой мере отрыв от обряда влияет на содержание, изменение художественной функции и форму песни» [Сборник ответов 1958, с. 273, 274, ответ на вопрос № 36].
В. М. Жирмунский считал важным «добиваться правильного отбора фольклорных и этнографических явлений, обеспечивающих комплексное изучение фольклорно этнографических и диалектологических карт в ши рокой перспективе истории местного края» [там же, с. 279]. Ц. Вранска обращала особое внимание на неравномерность территориального распространения различных видов фольклорных произведений, на то, что болгарский эпос о Королевиче Марке распространен преимущественно в западных районах (Софийско, Брезнишко, Радомирско), а гайдуцкий эпос — в вое-точ-ной Болгарии, любовная лирика ярче всего представлена в Родо пах, а рождественские песни известны там, где известен обычай колядова ния. По мнению софийской исследовательницы, эти факты, так же как и факты варьирования отдельных фольклорных произведений (текстов), подлежат картографированию в первую очередь [там же, с. 276, 277].
Почти два десятилетия спустя после Московского съезда славистов, в 1974 г., К. В. Чистов отмечал, что «в отличие от других разделов этнографии, в советской фольклористике картографический метод прививается крайне медленно. Несмотря на неоднократные и давние призывы к его разработке, отдельные и подчас успешные опыты картографирования <...> можно без малейшего преувеличения констатировать, что методика картографирования не вошла еще в научный обиход советской фольклористики. Между тем картографический метод мог бы обогатить
О возможности картографирования фольклора
431
фольклористику в немсньшей степени, чем диалектологию, этнографию и археологию. Он мог бы стать одним из методов исторического исследова ния, наряду с историко-сравнительным, историко-типологическим, структурным и др. Последнее надо подчеркнуть особенно энергично. Разумеется, картографирование должно развиваться не за счет других методов, а в теснейшем взаимодействии с ними» [Чистов 1974, с. 72, 73].
Зги идеи явились одним из импульсов создания Полесского этнолингвистического атласа, замысел и концепция которого связаны с несколькими актуальными научными направлениями. Важнейшей предпосылкой этого замысла было развитие ареалогического направления в лингвистике в сторону все большей теоретической и методической абстракции, позволяющей применить географическое проецирование к разнообразному материа лу гуманитарных наук, т. е. не только к языку (диалектам), но и к этногра фии, археологии, антропологии, этнологии, мифологии и т. д. Ареалогиче ское представление оказалось удобным и экономным способом упорядочения (систематизации) обширных пластов эмпирического материала в целях последующего типологического или исторического анализа, в том числе и реконструкции древнейших состояний, см.: [Толстой 1974а; Толстые 1978а; Толстые 1984]. Кроме того, оно признается наиболее универсальным и объединяющим разные научные дисциплины способом координации результатов при комплексном изучении древнейшей славянской духовной культуры, этнокультурной истории и этногенеза славян в целом и отдельных славянских народов, см.: [Полесье 1983]. Еще одним научным импульсом послужило убеждение (основанное на опыте диалектологиче ской и этнолингвистической работы) в том, что отдельные этноязыко вые (этнокультурные) области славянского мира (которые условно мож но назвать архаическими) до настоящего времени сохраняют основные культурные и языковые модели и образцы «славянских древностей», которые могут быть поэтому изучены непосредственно и во всей полноте соответственно современным научным требованиям и представлениям, см.: [Толстые 1978; Толстой 1980; Толстой 19836]. Наконец, к идее ат ласа привела логика самих полесских исследований, ведущихся систематически с начала 60-х годов. Основные этапы этнолингвистического изучения Полесья изложены и обобщены в «Полесском этнолингвистическом сборнике», где также сформулированы главные принципы этого атла са, опубликована программа вопросник и подборка полевых материалов из разных областей Полесья [ПЭС 1983].
Трудности, стоящие перед создателями атласа, очевидны. Они связа ны не только с объемом и характером материала, трудоемкостью его со
432
VII. Семиотика малых форм фольклора
бирания, но прежде всего с необходимостью одновременной разработки и воплощения методики атласа этнолингвистического типа — жанра, не имеющего образцов в славянской ареалогии *. Предварительные материалы и исследования, а также пробные карты к атласу опубликованы в двух специальных полесских выпусках серии «Славянский и балканский фольклор», см.: [СБФ 1986; СБФ 1994].
Сама по себе возможность картографирования этнолингвистического материала, собранного в наши дни, является важным и превосходящим ожидания результатом, свидетельствующим о хорошей сохранности старой культурной традиции в Полесье в первой четверти нашего века (время рождения основной категории наших информаторов). Как бы в дальнейшем ни интерпретировались результаты картографирования (как продолжение древних этно диалектных членений, как следы старых миграций или позднейшей интерференции, влияние кодифицированных форм языка и культуры и т. п.), они во всяком случае обнаруживают весьма сложную ареальную картину в Полесье в целом и в особенности усложненную — в центральной его части, в зоне нижнего течения Припяти и междуречья Днепра и Припяти. В дальнейшем будут выявлены наиболее значимые для этнолингвистического материала границы, изолинии и ареалы (это даже не задача атласа, а задача последующей его интерпретации). Пока же, на стадии подготовки атласа, важны любые границы, территориальные противопоставления или соответствия, поскольку они могут сохранять в себе следы этнокультурной истории Полесья.
Ни-же предлагается опыт картографирования двух фрагментов собранного в полесских экспедициях и хранящегося в Полесском архиве Института славяноведения и балканистики РАН материала. Первый касается деталей троицкого обряда и соответствующей терминологии, второй — широко известного у славян балладного сюжета о невесте, превращенной в дерево.
1 До недавнего времени единственным этнолингвистическим славянским атласом был атлас К. Мошинского [Moszynski, 1—3]. С 1978 г. начал издаваться «Атлас языка и культуры Великопольши* [Atlas Wielkopolski]. См. также проект этнолингвистического атласа Карпат [Дзендзелевский 1974].
Серия региональных этнолингвистических атласов Полесья создается под руководством проф. Н В. Никончука (Житомир): атлас терминологии и структуры полесского свадебного обряда (11. Ф. Романюк), атлас полесского погребального обряда (В. Л. Свите льская) и др. О некоторых других опытах картографирования элементов духовной культуры см. в работе: (Толстые 1983].
О возможности картографирования фольклора
433
Троицкая зелень
Троицкая зелень широко распространена в славянской традиции, прежде всего в восточнославянской. Известна она и германским народам — немцам, шведам, норвежцам и др.
В Полесье традиция украшения дома и двора троицкой зеленью связана с циклом троицких песен, обрядов и поверий, с предсказаниями погоды и, наконец, с народной медициной. Так, в с. Жаховичи (Гомельская обл., Мозырский р-н) в еубботу вечером в канун Троицы приносили из лесу клен, реже березку, закапывали его во дворе под окном и затем брались за дерево и бегали вокруг него с песней:
Калауъёто дубьё, <2 раза>
Што у леей расьцё.
Винават муй бацько, <2 раза> Што далеко жывё.
Вой не так далёко, <2 раза>
Цёраз зюленький двудр — <3 раза>
Там бацюхно муй.
Я цераз другой —
Там мамка мая, <3 раза>
Да медок сыцила, <2 раза>
Да Бога просила:
Дай же мнй, Боже, <2 раза>
На солддкуи сыцё, <вариант: юлё>
А на паслёдку <2 раза>
На крас суй зьвезьдзё.
Записано С. М. Толстой в 1983 г.
у Анны Тимофеевны Дударенко, 1912 г. р.
В тех же Жаховичах затем гадали по тому, какое окажется калаватае дубьё (фонет. вариант: калууьёто дубьё 'троицкая зелень, чаще всего клен’; поясняя этимологию слова, местные жители указывали на глагол калувье — 'колышет (о ветре)’, а это позволяет предположить в качестве исходной семантики 'колышущиеся срезанные ветки’). Если оно увядало до обеда, сено должно было затем сушиться хорошо, если же не увядало, сено должно было сушиться плохо. Аналогичным образом в с. Червона Волока (Житомирская обл., .Пугинский р-н) предугадывали — «як клён нэ повянэ, то будэ мокро л!то, як повяиэ, то сухо».
434
VII. Семиотика малых форм фольклора
В других селах троицкую зелень берегли до Купальского Ивана и тогда уже жгли (е. Комаровичи, Гомельская обл., Петриковский р-н) или же сохраняли только одну неделю и затем на Русальной неделе сжигали. В с. Курчица (Житомирская обл., Новоград-Волыиский р-н) считали, что через неделю после Троицы зелень надо убрать, а то на ней русалка будет сидеть. В с. Оздамичи (Брестская обл., Столинский р-н) троицкую зелень — клечанъе выбрасывали на улицу через три дня, а в с. Вышевичи (Житомирская обл., Радомышльский р-н) ее не трогали две недели. В Комаровичах тоже вносили в хату клен и, смотря по тому, засохнет он или останется влажным, предсказывали, будет ли сохнуть сено или погода будет сырая. В с. Червона Волока троицкую березку сжигали на Купалу «от ведьмы», а троицким кленом лечились и потому его берегли. В с. Великое Поле (Гомельская обл., Петриковский р-н) в качестве троицкой зелени брали также ветки «ерника <яво-ра>, которые потом служили как лекарство от испуга и поноса. В с. То-неж (Гомельская обл., Лельчицкий р-н) троицкую зелень берегли весь год — «шоб год булб».
В с. Присно (Гомельская обл., Ветковский р-н) в хате в красном углу (на кутё) клали троицкий май — ветки с листьями и букетики клена, явора, дуба и чебреца (ч-joSp), которые потом тоже сжигались на «Купальную ночь». Но, видимо, часть «троицкого мая» сберегалась и клалась вместе с «диким камнем» ('не кирпичом’) и тремя «жменями пяску з дароги» в яму, в которой хранится картофель, окропленный вдобавок ваддй свяцднай. При этом произносилось: «Мышки, мышки! Гразьгге камень ётай, а маю бульбу не ёште!», ср.: [ПЭС 1983, с. 95]. Другая часть закидывалась после срока на чердак или на сарай. Вообще же в Присно долго держать троицкую зелень в хате и во дворе было нельзя, «а то дёуки замуж не пайдут». Троицкую зелень в картофель ши в засыпанное зерно клали от мышей также в с. Лисятичи (Брестская обл., Пинский р-н), в с. Старые Яриловичи и с. Хоробичи (Черниговская обл., Городнянский р-н) и в других селах. Эту же зелень часто берегли для того, чтобы ею набивать подушки для покойника или просто класть ее в гроб, в изголовье умершего (с. Вышевичи, с. Плёхов, Черниговская обл., Черниговский и др. р-ны). Наконец, в с. Хоробичи берегли «траёцкий май» в хате до Покрова, так как он мог пригодиться в качестве апотропея ад грому. Эго же делали и в других регионах. В с. Симоничи (Гомельская обл., Лельчицкий р-н) на Троицу в хату брали клен от грома, а в с. Нобель (Ровенская обл., Заречненский р-н) «номогае от грозы, як бура идэ» не только троицкий клен, но и дуб.
О возможности картографирования фольклора
435
внесенный в хату на Троицу (информантка сообщает: «Я вжэ его не выбрасываю, зимою палю»).
Особенно интересен локальный обряд езды верхом на троицкой зелени (катанье на маю), который исполнялся незамужними девушками и парнями: «Кались на маю катались. Вь'ггягнутъ май, да на том маю катаюцца; хлопцы девок катали, шоб деуки не седели, шоб усёх узамуж паутягивали. И песни пають. Май да суботы стайть. А у суббты катаюцца на ём>> (с. Грабовка, Гомельская обл., Гомельский р н, зап. Ф. Бада-лановой, 1982 г.). Антиподом этого обряда является представление о катании ведьм на сухом помеле. Другим любопытным троицким обрядом является хождение к колодцу и украшение его троицей — зеленью клена, березы и плешника (аира), отмеченное в с. Радчицк (Брестская обл., Сталинский р-н). Характерно, что в том же Радчицке зафиксирован обряд «вождения куста» (густу водили), связанный с вызыванием дождя и бытующий в замкнутом ареале северной Ровенщины и части Пинщины, см.: [Ковалева 1976, Толстые 1981а].
Изложенный материал взят выборочно из ответов на вопрос № XVI. 4 «Программы Полесского этнолингвистического атласа» [ПЭС 1983, с. 41]: «Троицкая зелень. Ветками каких деревьев украшали хату на Троицу? Как называлась троицкая зелень?» Материал дает возможность картографирования целого ряда явлений и показателей троицкого народного праздника: мест, украшаемых зеленью (двор, дом, порог, окно, хлев, сарай, ворота, огород, колодец и т. п.), сроков сохранения троицкой зелени, времени и места ее сжигания, выбрасывания, отнесения скоту; дифференцированного подхода к различным видам зелени (в зависимости от места, сроков хранения, их дальнейшего применения и т. п.), предсказаний погоды по состоянию зелени (сухое — мокрое лето, сено и т. п.), апотропеического употребления зелени (от града, от мышей, от испуга, от поноса и т. д.).
Для пробного картографирования нами, однако, избраны явления, дающие непосредственный ответ на два вопроса, содержащиеся в программе и имеющие общеславянское значение. В трех картах представлены: а) названия троицкой зелени; б) установление на дворе одной, двух, трех или ряда берез; в) типы троицкой зелени, идущей на украшение хаты.
Публикуемые карты требуют следующих комментариев.
Карта № I. Не картографируется единичное название калаватае дубьё, записанное в с. Жаховичи. Не отмечаются пункты, в которых
436
VII. Семиотика малых форм фольклора
получен ответ «нет названия». Термин май распространен шире исследуемого ареала; он имеет ряд соответствий в западнославянских названиях сакрального и наряженного деревца.
Карта № 2. На карте представлен предварительно выявленный ареал, для которого основным показателем является установка (вкапывание) на дворе срубленной в лесу березки. Различают следующие случаи: три березки, две березки у порога хаты (по обеим сторонам порога), одна березка, ряд березок, березки у окон хаты. В с. Малые Автю-ки (Гомельская обл., Калинковичский р-н) на дворе у окон некоторые ставили три березки, а некоторые три клена. Установка березок производится наряду с украшением дома снаружи и внутри ветками клена и других деревьев (см. карту 3).
Карта № 3. На карте указывается, ветки каких пород деревьев служат троицким украшением хаты (красного угла, стен, окон, притолок двери и т. п.), хлева и огорода, помимо той зелени, которой устилается пол, и тех деревьев (берез) или больших веток, которые втыкаются или вкапываются во дворе (см. карту 2). В Полесье почти повсеместно в этих целях употребляют клен и, как правило, одновременно липу, березу, явор, реже дуб, вяз и еще реже рябину, калину, осину, орешник.
По этому признаку не выделяется четких ареалов, однако можно заметить, что культ клена ярче всего выражен в центре Полееья на средней Припяти, в междуречьях Горыни, Уборти и Ужа, а также в междуречье Нижней Десны и Днепра. Сочетание клен — липа характерно для многих зон украинской части Полесья и для прилегающих к ним частей Мозырского и Гомельского (в узком понимании этого слова) Полесья. В восточной зоне Полесья нередки сочетания клен — береза — липа. В некоторых пунктах компоненты подобных сочетаний довольно строго распределены локально. В с. Грабовка (Гомельская обл., Гомельский р-н) «бербзка буде стаять пёрад акном, дубочки акны украшають, а асйнка далжна кала сарая стаять» (запись Ф. Бадалановой, 1982 г.). Употребление осины в этом ритуале возможно только на востоке Полесья (Гомельщина, Сумщина), в центре и на западе она почти всегда в этих случаях табуирована, как и повсеместно верба, а во многих местах вяз. Дуб отмечен в с. Лутки (Гомельская обл., Житковичский р-н), где он встречается в редком сочетании с березой, орешником и калиной. Там дуб затыкали за окна, а березу — около порога.
О возможности картографирования фольклора
437
Невестка стала в поле тополем («тополей»)
Баллада о том, как невестка стала в поле тополем (тополей, mono линою) или другим деревом — чернобыльником (былиною), рябиною, калиною, известна в Полесье очень широко, и случаи отсутствия ее фиксации редки.
ЕИчэт балладный сюжет известен всем восточным славянам. Он записывался неоднократно, его полесские варианты (помимо других белорусских) см.: [Балады 1977, № 148, 157, 164, 168, 169 — там же см. литературу вопроса; Смирнов Ю. 1978, № 10, 12; 1981, № 29—32; 1984, № 35-38; Климчук 1978, №22].
В качестве типичного примера приводим запись баллады из с. Рясно (Житомирская обл., Емильчинский р-н), сделанную Е. Б. Владимиро вой летом 1981 г.
а 1.
б 3.
в 5.
г 7.
д 9.
е 11.
ж 13.
з 15.
и 17.
Мала маты сына / Рано ожэныла, Молоду невйстку / Зразу й неузлюбйла. Выряжала й маты / Сына ю солдаты, Молоду нэвйстку / У пдлэ жыто жаты. ьЙды, иды, ддню / У пдлэ жыто жаты. Як нэ дджнэш нывы / Нэ вэртайс до хаты». Жала вона й жала, / Жала й вижынала — А у заходу сдунца / Тополыной стала. Йдэ сын до дому: / ^драствуй, ридна й маты! Дэ ж моя дружына, / Чом нэ йдэ стрэчйты?» Я1э питай ты, сыну, / За тую прычыну, Бэры топор вострый, / Рубай туполыну!» Як ударыу упэршэ, / Вона похилылас, Як ударыу удругэ, утрэте / Вона й попросыла: И1э рубай, козаче, / Я твоя дружына, На гори пид лэсом / Спить наша дытына». • Маты ж моя й маты / Шчо ж ты наробыла ? Мэнэ й молодого / С пары розлучыла!»
В с. Рясно эти двустишия в песне исполняются так, что сначала первая строка поется два раза, затем один раз вторая строка и еще раз обе строки целиком. Так исполняются все девять двустиший и песня длится долго. К сожалению, сейчас мы оставляем вне внимания размер и мелодический рисунок песни, которые территориально варьируются и при
438
VII. Семиотика малых форм фольклора
соответствующем музыковедческом анализе могут быть также картогра фированы. Обратим внимание на содержательную сторону сюжета и от дельных ее компонентов.
Песня состоит из: а) вводной части, объясняющей ситуацию «треугольника» мать — сын — невестка, и восьми эпизодов — б) провожания сына в дальнюю дорогу (на войну и т. п.) и отсылки невестки в поле (льняное, житное), в) постановки свекровью невыполнимой задачи (вырвать весь лен, сжать все поле), г) превращения невестки в тополину (или иное дерево), д) возвращения сына и его разговора с матерью, е) приказа матери сыну рубить тополину (или другое дерево), ж) рубки топором топалины и ее реакции (двукратной или трехкратной), з) монолога тополины-яге-ны, обращенного к мужу, и) монолога сына, обращенного к матери (этот монолог, как правило, является заключительной частью).
Анализ имеющихся в нашем распоряжении текстов (из 45 пунктов; в ряде пунктов записаны варианты, в ряде пунктов баллада неизвестна) показывает, что некоторое разнообразие наблюдается в вводной части, в которой помимо приведенного выше варианта текста встречаются еще пять основных типов зачина, затем имеются разные концовки и разные сокращения и расширения текста в середине повествования. В некоторых текстах отсутствует условие («як ны вырвиш лену, ны прыходь до дому» — пункт «в»), в некоторых имеется дополнительно мотив восхищения сына выросшей на его поле тополиной (расширение пункта «д»), который может быть выражен следующим образом:
Ой, ййхав сыну ж с далэкой. с крайны, Забачыв бэлынку за двадцать две мили. Ой стау, милый, ой стау дывытыса, Стала ж бэлынушка к ему хылытыса <sOx, моя мамка, де бу вау, то бувау — Такого ж дыва я нэгдэ нэ выдау.
Ныгдэ я нэ выдау як у нашем у пблэ Билая билйнка»
с. Лисятичи (Брестская обл., Пинский р-н).
Формы изложения этого мотива и сопровождающие их детали очень разнообразны, и поэтому картографированию поддается лишь момент наличия или отсутствия этого мотива Нами, однако, выбраны более устойчивые и в генетическом отношении, на наш взгляд, более существен ные варианты текста баллады.
О возможности картографирования фольклора 43 У
а) Вид дерева, в которое превратилась невестка. В тексте, записанном в с. Симоновичи (Брестская обл., Дрогичинский р-н), оно называется тополиною, а в следующей строке оно же именуется явориною. Аналогично в с. Хоробичи (Черниговская обл., Городнянский р-н), где записано два варианта баллады, — в одном невестка становится 6i лною, а в другом ялтою. К тому же в первом варианте на поле вырастают две тополц а третья — билина («бьчша — так, як мая мша») — см. карту 4.
б) Характер работы, на которую была послана невестка: лен рвати или жито жати — см. карту 4.
в) Реакции невестки-дерева на удары топором. В этом случае можно было бы различать число ударов — два или три. Но существеннее выделять признак появления крови или отсутствие его. Появление крови сочетается в ряде случаев с вырубанием щепки. Последней реакцией (третьей или второй в зависимости от числа ударов топцром), как правило, оказывается действие: заговорила, отозвалась, промолвила или по просила. Лишь в тексте из с. Великий Бор сначала щепка отлетела. затем показалось белое тело и, наконец, кровь показалась. В ряде случаев сначала заколыхалась или зашумела листва. Довольно широко распространен двухкомпонентный тип: 1) наклонилась, 2) по просилась.
Иногда наблюдается контаминация разных типов (см. ка[пу 5).
г) Типы текста вводной части. Они имеют шесть основных разновидностей и ряд единичных вариантов.
I. Тип без вводной части. Текст не содержит фрагмента а (см. выше текст из с. Рясно) и начинается прямо с фрагмента б.
11. Тип, имеющий фрагмент а: Мала маты сына... и т. д. (см. текст из с. Рясно).
III. Тип со следующим вводным текстом, являющимся по сути дела вариантом фрагмента а:
Ожэнйла мати сына и споневдли
Да взяла ему невёхну, да й не по любдви...
с. Стодоличи
(Гомельская обл., Лельчицкий р-н).
IV. Тип со следующим вводным текстох , распадающийся на два подтипа: подтип А с включением в зачнн обоих двустиший и подтип Б с употреблением только первого двустишия:
440
VII. Семиотика малых форм фольклора
А Ой чия то нйва, чйи то покосы Чйя то дивчина роспустйла косы?
Б Ой моё то полз, то мой покосы, То моя дивчина роспустйла косы!
с. Олтуш (Брестская обл., Малоритский р-н).
V. Тип со следующим вводным текстом:
Як была, была вдовушка молода Ожэнила сына, сына сокола..
с. В. Теребежов (Брестская обл., Столинский р н).
VI. Тип со следующим вводным текстом:
У агардди крапйука жыглйвая, Була у мёне свекруха сварливая. Сварилась за мною як день дак нбч, Отпрауляла да и нявёхну от себе упрбч
с. Ручаевка (Гомельская обл., Лоевский р-н).
Типы зачинов этим перечнем не исчерпываются (см карту' 6).
Во всех приложенных картах отсутствие фиксации текста или наблюдаемого явления в отдельных пунктах не отмечается, так как карты носят предварительный характер. По этой же причине не приводится сетка пунктов, их нумерация и названия пунктов полностью.
Печатается в переработанном автором варианте. Первая публикация:
Материалы к Полесскому этнолингвистическому атласу // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянско < фоне. М., 1986, с. 3—7; 14-18; 39- 44.
О возможности картографирования фольклора
441
Карта 1
Названия троицкой зелени
Карта 2
Троицкая берёза во дворе
442__________VII. Семиотика малых форм фольклора
Карта 3
Троицкая зелень в доме
О возможности картографирования фольклора____________________________443
Карта 4
Дерево, в которое превратилась невестка
444 VII. Семиотика малых форм фольклора
Карта 5
Реакция на удар топора
О возможности картографирования фольклора_______________________445
Карта 6
Типы зачинов баллады о невестке-тополе
446 VII. Семиотика малых форм фольклора
Из наблюдений над полесскими заговорами
Заговор — один из древнейших фольклорных жанров, сохранивший в отдельных своих формах и текстах зримые черты индоевропейского и прасла-вянского заговорного искусства. Заговор, как правило, не просто фольклорный текст, но и определенное действие определенного деятеля с определенными предметами, т. е. заговор есть обряд, обряд окказиональный, вы полняемый по случаю. Случай этот чаще всего оказывается какой-либо внезапной, реже периодической болезнью, физической или душевной, которую нужно устранить, изгнать, иногда предотвратить, а в исключительных условиях (как, например, в любовных отношениях) «напустить», «нагнать». Таким образом, нередко заговор оказывается одним из средств народной медицины, которое при одновременном употреблении ряда целебных средств (трав, мазей, примочек) оказывало нередко положительное психотерапевтическое воздействие на недугующего или закручинившегося от тоски пациента. В этом, видимо, помимо всего прочего, причина устойчивости заговора, большой архаичности ряда заговорных текстов, его сак-ральности и даже конспиративности, таинственности.
В современных условиях в Полесье, как и в некоторых других славянских зонах, заговор уже потерял былую силу, им почти не пользуются, в него мало верят и его помнят главным образом отдельные пожи лые женщины. Как правило, такое положение оказывается довольно благоприятным для собирателей, так как для большинства помнящих заговор он уже рассекречен, десакрализован; его текст можно произносить без опасения, что он, как полагали в старину, от этого потеряет силу. Сама вера в эту силу теперь во многом утрачена. Наконец, отметим, что заговоры довольно часто можно найти наряду с молитвами, духовными стихами и близкими к ним текстами в «заветных» тетрадях, заветность которых также уже выветривается.
444
VII. Семиотика малых форм фольклора
Оставляя в стороне вопрос о художественности полесских заговоров, отметим, что заговорное искусство полешуков жило и развивалось до недавнего времени. Это означает, что в Полесье фиксируются заговоры не только очень древней структуры — поэтической, содержательной и формальной, но и заговоры более нового происхождения, нередко связанные с поэтическими текстами других жанров — благопожеланий, сказок, баллад и т. н.
Интерес к заговорным текстам древней и новой записи проявился давно, в XIX в., почти одновременно с занятиями сравнительно-историческим языкознанием и мифологией. Он оживился, прежде всего па германском и связанном с ним индоевропейском материале, в 50 е и 60-е годы нашего века. Значительной работой, во многом упорядочивающей прежние представления о генетических истоках и структуре современных заговоров и пролагающей новые пути их анализа, явилось исследование В. Н. Топорова, выполненное в 1969 г. на славянском, балтийском, германском и древнеиндийском материале [Топоров, 1969]. В этом разыскании анализируется два типа заговоров: заговоры от «червей» и любовные заговоры. В первом типе заговоров выделяются четыре основных мотива, характерных для заговоров такого рода: 1) число червей и способ его сокра щения (как правило 9 и убывание по одному), 2) разнообразие червей (белые, лесные, болотные, листовые...), 3) изгнание червей (из тела и его частей и т. п.), 4) уничтожение червей определенным орудием, способом (огонь, смола кипящая, сера горячая). Ниже будут даваться ссылки на первую часть работы В. Н. Топорова с указанием страниц, на которых изложен соответствующий материал. Вопрос структуры любовных заговоров мы оставляем в стороне, так как в приводимой нами небольшой полесской коллекции они отсутствуют.
Эта статья, помимо публикации новых текстов, оригинальных по своей форме и семантике, преследует цель обратить внимание фольклористов на проблему выделения в тексте заговора отдельных частей мотивов и связи этих частей и мотивов текста с текстами (жанрами) иного порядка и с невербальными жанрами — обрядами, представлениями и т. д. Эти вопросы относятся к структуре заговора и месту заговора в системе словесного фольклора и шире — в народной духовной культуре в целом.
Предлагаемые вниманию читателя 16 номеров текстов — лишь небольшая часть коллекции заговоров Полесской этнолингвистической экспедиции, работающей уже более двух десятилетий под моим руководством. Коллекция эта, как можно судить по ежегодным новым записям, еще очень далека от полноты, и задача дальнейшего планомерного соби
Из наблюденил над полесскими заговорами
449
рания, классификации и публикации заговоров стоит перец восточносла вянской фольклористикой, в частности, и перед славянской фольклористикой вообще во всем своем объеме. Нельзя ждать спокойно той поры, когда традиция заговора исчезнет так же, как исчезла традиция былины.
Публикуемые заговоры записывались I или переписывались из местного сборника тетради) в июле 1975 г. в восточном Полесье (Гомельская обл.) в двух близких друг к другу р-нах — К.ыинковичском (соседствующие деревни Золотуха и Новинки) и Хойницком (соседствующие деревни Великий Бор и Дубровица). Запись вели Н. А. Дорошко (сокр НАД), Е. А. Соловьева (сокр. ЕАС), Н. И. Толстой (сокр. НИТ) Н. И. Толстой скопировал «Дедрадь» в Дубровице.
Информаторами были: в д. Золотуха - Татьяна Федоровна Брель, 1912 г. р. (сокр. ТБФ), Агафья Петровна Гвоздь, 1903 г. р. (сокр. АПГ), Мария Миновна Сивак. 1912 г. р. (сокр. ММС): в д. Новинки — Ульяна Прохоровна Васенда, 1898 г. р. (сокр. УПВ); в д. Великий Бор — Ева Сидоровна Демиденко. 1890 г. р. (сокр. ЕСД). Софья Федо ровна Демиденко, 1900 г р. (сокр. СФД); в л. Дубровица — «Дедрадь», местный сборник записи конца 60-х — начала 70 х годов XX в., при надлежащая Соне Адамовне Дрозд, 1932 г. р. (сокр. «Дедрадь» САД). В выписках из «Дедради» сохранены язык и орфография оригинала.
После текста публикуемого заговора дается краткое пояснение (если оно было записано) самого информатора.
.Vo 1. О т у к у с а змеи. На Сиянской rape, на Хрэсциянскай зямлё стаяла яблынька. На той ябланьце зязюлипо гняздб У том гнездзё сам цар Саматуз. Прашу я цябё як самаго Господа бога. Смути свайй сунимай. бпухи апуекай. рабе божеей <имя рек> маёй худо-бинце <имя рек> цела <тело> ачьппчай, кроу и палёхку <облегче ние> давай. Як неа будзеш сваи смути суцимаць. опух апускаць. цела ачышчаць, будзем тваё жалы залатыми кляшчами вырываць. малатами разбиваць на коллю растыкаць и па ростанях раскидаць. Пака ебнца зайдзе ис табё дух выйдзе (Золотуха, АПГ).
По произнесении текста «три раза перед собой дунуть и три раза налево плюнуть».
Заговоры от укуса змеи очень распространены в Полесье. Они разнообразны по структуре и в то же время структурно и семантически арха ичны. Заговор № 1 имеет краткий зачин и лаконичную концовку; ыры ступ указывает на место, а финал — на время действия. Сам заговор содержит три мотива: 1) «мировое дерево» — гнездо — царь; 2) снятие бо
450
VII. Семиотика малых форм фольклора
лезни (смуг-а 'покраснение’ — опухоль — нечистота тела, а затем очищение тела — возвращение чистой крови и облегчение); 3) орудие уничтожения источника болезни — «жала» (золотые клещи, молоты), развешивание «жал» на кольях и разбрасывание их па нечистом месте (на «рос-танях» — распутьях, перекрестных дорогах). Первый мотив сходен с местом обитания Соловья Разбойника в былине «Илья Муромец и Соловей Разбойник». См. о дереве [Топоров 1971, с. 39], об убийстве червей определенным орудием [Топоров 1969, с. 29, 30].
№2. От укуса змеи. Святая прачыстая божья маци по полю хбдзиць, шукае, а у яё сам Гаспбдзь пытае: «Чагб ты хбдзиш. шукаеш?»— «Хаджу, шукаю Шкурапёи змяй». Шкурапёя змяя на высокая гарё, пад синим каменём. Лдна — Шкурапёя, другая — Пе-лагёя, треця — Кацярына. Радзйли яны на дзёвяць дачок разные змёи: лесавую, палевую, вадзяную, межавую, падплотную, гарбха-вую. Вот ты, Кацярына, закрый сваё рыла, бо прййдзе сам Юрый з капьём, прабьё ягб капьём (Великий Бор. ЕФД).
По произнесении текста «три раза дунуть и налево переплюнуть».
Заговор № 2 состоит из вводной части, указывающей на место («по полю») и хождение по земле божественной плоти (божья матерь), трех мотивов (1 — ритуальный диалог; 2 — называние трех змей с указанием старшей и ее места обитания; 3 — рождение девяти дочерей и их поименование) и финала (образ Юрия—Георгия Победоносца). Вводная часть типична для ряда духовных стихов и легенд (персонажами могут быть Христос, Господь Бог, святые). Первый мотив — диалог, характерный для целого ряда обрядов [Толстой 1984], второй — мотив разнообразия змей, наделенных именами собственными, третий — рождение девяти дочерей и их именование по месту обитания [Толстые 1981а, с. 62, 78; Топоров 1969, с. 27, 28]. Концовка мотивирована культом св. Георгия и его иконографией.
№3. От укуса «ужа» (змеи). На дуброве стайць яб-ланька; на ябланьцы сядзйць муж-уж. Ох ты, вуж, добры муж, свайм джалам не кивай, Аляксёя (имя рек) не кусай. Да нрыёдзе Михайл-Архайл, будзе тваё кбеьци ламаци, на тычыннику расты-каци. Вуймя <вынет> вбйстры меч йи ссечэ табё галаву с плёч. йи шчэ зрубае, йи твой яд павыньмае, цёла <тело> паабмякчае, нааблеагчае (Золотуха, ТФБ, зап. НАД).
По произнесении текста «три раза подуть на рану, плюнуть через левое плечо и совершить крестное знамение».
Из наблюдений над полесскими заговорами
451
Структура заговора № 3 - неполная или усеченная. Заговор состоит из вводной части, близкой к той, что в заговоре № 1, и основной, не делящейся на разные мотивы. Однако вместо царя Саматуза здесь сидит на дереве муж-вуж. Сказка о муже-уже фиксируется в Полесье во многих пунктах и имеет балто-славянское, а то и более древнее и широкое распространение, см.: [Смирнов Ю. 1978, с. 250—252; Смирнов Ю. 1981, с. 253—255; Смирнов Ю. 1984, с. 208, 209]. Элементы некоторой христианизации выступают в образе, а, пожалуй, больше в имени Михаила-Архангела, ломающего кости и растыкающего их на тыне (ср. заговор № 1). Мотив костей, их цельной совокупности характерен для индоевропейского заговора [Топоров 1969, с. 15—20]. В заговоре № 3 наблюдается обратное — разбрасывание костей, чтобы не могло быть воскрешения, вторичного воплощения «ужа» (змеи). Ср. аналогичное разбрасывание в заговоре № 1. Ср. также сражение Аники-воина с Змеуланом в явно позднейшей драме «Царь Максимиллан» и начало монолога Аники: «Вот мой острый меч. Я тебе голову срежу (Змеулан падает)», см.: [Ончуков 1911, с. 12].
№4 «Ад укусу вужа (змеи)»: (Гавараю ты тры и я тры:) Шучыя, гадзючыя, прашу я вас вазмйце свае жала пат-плотныя <подзаборные>, паттынная. Выгавараю йи высылаю на мураги <муравсйники>, на балоты, на няудбпныя места, дзе люд-зи ня хбдзяць, сабаки не брбдзяць (Новинки, УПВ).
По произнесении текста «три раза произнести, при этом три раза „похухать" <подуть> и плюнуть через левое плечо».
Структура заговора № 4 — двусоставная. Первая часть — мотив разнообразия змей с предложением к ним взять назад свое «жало»; вторая часть — мотив высылки, изгнания в глухие, нечистые места, ер. [Топоров 1969, с. 23, 24, 27, 28; Толстые 1981а, с. 49—108, 274]. Первая фраза «Гавараю ты тры и я тры», по всей вероятности, или сохранилась неполной, или записана неполно, а может быть и ошибочно, если предположить, что она вообще не относится к заговору, а указывает лишь на то, что заговор следует три раза произнести тому, кто заговаривает, и тому, кому заговаривают.
№5. «Замова ад змя!нага укусу». Гадзша вадзя-ная, земляная, сляпш i вуши, зме! i вужакц ярыца, переярыца! Аддайце i вазьмице сваю жаласць i ярасць Цмя або назва жыве-лы). Кал! не аддасце сваей жаласц! i ярасщ, то не будзе вам збГ
452
VII. Семиотика мама форм фольклора
дзгшча, н! пад кустом, ni пад ластом, Hi над карэннямц сонца i ярк1 месяц не будзе вам свяцщь i не будзе прышмаць вас сыра земля (Дубровица, «Дедрадь» САД, переп. НИТ).
Структура заговора № 5 близка к структуре заговора № 4. Она так же двучленна, с теми же семантическими компонентами (мотивами) Этот вариант отличается от предыдущего тем, что в нем вместо отсылки в глухие, нечистые места имеется угроза лишения благоприятных мест обитания.
№6. От червей в ране. Пришбу крут на висёлля зваць усих крутяжбу. Неа (а)днагб, и неа двбх, и неа трёх, и неа чеа-тырбх, и неа пяетёх, и неа шеаетёх, и неа сеамбх, и неа васьмбх, а усйх крутеажбу дзивя^ьбх (Золотуха. ММС, зап. ЕАС).
Заговор № 6 очень прост структурно и семантически, но интересен и необычен тем, что в отличие от огромного большинства однотипных заговоров, в которых счет идет по убывающей линии от девяти до нуля имеет счет по линии возрастающей. Об обычном для червей, и не толь ко для червей, числе «девять» см.: [Топоров 1969, с. 27—28, Раденко-вий 1977]. Ср. также заговор № 2. Интересен и противоположный по семантике мотиву изгнания и выпроваживания в нечистые места мотив приглашения к свадьбе (свадебному столу?), мотив потенциального угощения, см : [Толстые 1981а, с. 84, 63—71].
№7. От зубной боли. Маладзичбк малады ци <чи> у цябе poi залаты, ты ж на моры купауся, дэй нам показауся Ци ты буу на том сьвёци, ци бачыу ты мёртвух <мертвых>? — Ба чыу! — Ци баляць у йих зубы? — Не! Не баляць. — Нехай раббу ббжых (Мархве) <пли другое имя>, нехай йи у таго не баляць ни схода, ни змблада (название фазы месяца) вёк не баляць! (Золо духа, ТБФ, зап. НАД).
Заговор Ле 7 является типичным развернутым ритуалом-диалогом с обращением к одному из участников диалога («Маладик малады!»), с дважды повторенными вопросом и ответом и с третьей констатирующей частью, см.: [Толстой 1984].
№8 От боли в спине. Дубняк на дубняк. Перестань бо-лёць спинак! А сустау на сустау, штоп спина перестау (Великий Бор, СФД, зап. НИТ).
«Залезть на дуб или прижаться к дубу, когда болит спина».
Из наблюдений над полесскими заговорами
453
Заговор № 8 любопытен своей краткостью и простотой формальной структуры. По сути дела он сводится к простейшей формуле: «дубняк на дубняк» / «сустав на сустав» и к пояснению, что она произносится, чтобы не болела спина. Если учесть, что при этом надо прислониться спиной к дубу или к дубовому бревну, столбу либо залезть на дуб, эта формула может быть воспринята как конструкция, содержащая в себе «психологический параллелизм» (по А. Н. Веселовскому): как сустав примыкает к суставу и единосущен ему, так пусть «дубняк» (или дуб) примыкает к другому «дубняку» (или дубу). При этом во втором случае мы сталкиваемся с метафо рой, так как дело идет о «мне, которая должна быть «крепкой как дуб». Таким образом «психологический параллелизм» осложняется метафорой одного из двух слов дубняк. А в целом можно предположить, что оба слова приобретают в сакральном тексте глубинный смысл 'дубовая сила’. Мотив залезания на дерево (дуб) / сидения на дереве (дубе) см. в заговорах № ], 3 и в комментариях к ним. С семантикой заговора № 8 связаны обря ды, требующие потереться о дуб спиной при первом громе весной, что бы не болела спина при жатве, и т. п. Они широко распространены в Полесье, см.: [Толстые 1982, с. 50—53]. О формуле «сустав на сустав» и «кость на кость» см.: [Топоров 1969, с. 11, 12].
№9. «Ат начнйцы». Иё у нашеага бога ширбкае поле. На том поле — сйнеае море. На синем море стану дуб: двинац цаць какатбу <отростков, ветвей>, двинаццаць каренёу <корней>. У старшым какацё сидзёу старшый пёуник <петух>. Ибн пёсинки (с)пивау, з раба ббжеава (имя рек) начнйцы угауарау <за-гова-ривал>. Начнйцы дные <дневные>, супоуночные, угауарау, усы-лау: «На синеам море сталы засциланые, кубки наливаные. Там вам, начнйцы, пиць, гуляць! Там вам свадзьбы спрауляць! У j>a6a божеага (имя рек) вёк зрбду начнйц неа бываць!» (Золотуха ММС, зап. ЕАС).
Структура заговора № 9 - трехсоставная. Зачин, указывающий иг локус («ширбкае ноле»), развернут в мотив дерева дуба с 12 ветвями и с тем же числом корней (ср. 12 часов дня и 12 часов ночи, 12 месяцев, полночь и полдень в 12 часов). За ним следует мотив старшего петуха (пение петуха определяет время и изгоняет нечистую силу), мотив угощения и свадебного стола в отдалении от дома, в котором нарушен сон. Ср. зачин заговора №6 и дерево в заговорах ЛЬ 1, 3 и 14- Концовка адресует заговор конкретному лицу. «Начнйцы» — детские, чаще всего ночные крики, беспокойный сон.
454
VII. Семиотика малых форм фольклора
№10 Для прибывания молока. Божа маци па расе ходзйла. Расу сабирае, ёта карбуци споры подзяляе <делит>. Дай ёй споры у круглый рбги ий на капьгта, йи у ноги. Ии давадзй <доведи> Гбсподзи до яё <ее> ча^гырбх цыцак йи да <имя хозяйки> евиных <ее, ейных> пьецёх пальцау (Великий Бор, ЕСД. зап. НАД).
«Заговаривать под коровой, притом три раза совершить крест ное знамение, подуть, плюнуть через левое плечо».
Структура заговора № 10 проста и монолитна и потому его расчленение затруднительно. Как и в заговоре № 9 зачин не отделен от основною текста, а весь текст является его дальнейшим разветвлением. «Бо жа маци» совершает ритуал, который очень хорошо известен как ритуал, при помощи которого ведьмы отбирают молоко у коров и берут его себе. Мотив этот проник в былички, сказки и духовные стихи. В загово ре № 10, однако, действие обозначено знаком «плюс», т. е. оно положи телыю и способствует прибыванию молока. Типично перечисление частей тела коровы, куда входят «споры» и указание на пальцы доярки хозяйки. Ср. обратное действие изгнания червей из всех частей тела с их перечислением [Топоров 1969, с. 29].
№11. «На сон» (чтобы приснился вор). (Господу богу памалюся. Господа бога папрашу.) Зорки-зарянйчки, скорые памачнйчки, прыступйце, памажйце! Понедзёлок на аутброк, серада на чацьвёр, пятница на суббту, а ты нядёлька адзйничка адна. Прыснйся, хтб у мане дзёньги <или другое, что украли> узяу (Новинки, УПВ, зап. НАД).
«Три раза совершить крестное знамение».
Очень лаконичный заговор № 11 трехкомпонентен. В нем представ лены обращение, попарное перечисление дней недели и выделение одно го последнего дня, заключение, указывающее на цель заговора. К заго вору еще добавляется формула-приступ христианского происхождения «Господу богу памалюся...».
№12 «На сон» (чтобы приснился обидчик). Нядзёля с панядзёлачкам, вавтбрак с сарадбй, чятвёрц с пятни цаю, а суббта адна, як я малада. Ночка цёмна, зорка ясна, сон благасчаслйвый. Саснйся мне сон справядлйвый. Лажуся спать засыпаць. Трй ангала у галавах: адзйн вйдзиць, другой слышыць. трэци скажа. Скажыце мнё прэсвятыя ангелы, хтб меня абйдзеу? (Золотуха, ТФБ).
Из наблюдений над полесскими заговорами
455
«Читать на икону после молитв „Отче наш" или „Да воскрес нет...", три раза совершив крестное знамение».
Поверхностное наложение бытового христианства на древнее и доста точно устойчивое язычество очевидно и не требует комментариев. Именно поэтому заговоры длительное время преследовались церковными кругами.
Заговор № 12 менее лаконичен, чем предыдущий, хотя выполняет ту же функцию, функцию выяснения обидчика (вора и т. п.). Он также грехкомпонентен. Первый мотив — парные дни недели и непарный день, второй мотив — триада: ночь — звезды — сон, третий мотив — триада: видящий — слышащий — говорящий (известно чаще с показателем «минус»: невидящий и т. д.). Концовка указывает на цель заговора. Существенно, что в заговоре № 11 перечень дней недели начинается с по подельника, а в заговоре № 12 с «недзели», т. е. воскресенья, что отра жает два способа счета Дней недели: вероятно, более новый с понедельника, и более архаический с воскресенья.
№ 13. Чтобы водились скот и птица. (Господу бо гу памалюся. Господу богу памалюся). Як на небе зоры пляшут так чтоб у маем хазяйстве радость як у лессе мурашки ползуг у ворах кольки у ворасе мурашак столька у маем хозяйстве прибыли рагата га свйнячева вутячева курячева колькй на небе пташак тольки чтоб у миня йз ежл <из ежи? — Н. Т.> прибыло живи йврадости <и в ра дости> хадить и на мае дабро глядеть как у маем колоцци вада прибывает так чтоб у маем хозяйстве прбыль <прибыль> [Амин] (Дубровица, «Дедрадь» САД, переп. НИТ).
Структура и семантика заговора № 13 во многом сходна с благопо желаниями, которые у южных славян — сербов, болгар и македонцев — произносит «полазник», входя в дом и подходя к очагу в Тождествен ский Сочельник или на первый день праздника. Муравьи означают мно жество, благополучие, изобилие скота и осадков, обеспечивающих урожай, см.: [Толстые 1978, с. 125].
№ 14. «Замова от злога духу». На спим моры камень, на тым кам hi дуб, на тым дубе трыдзевяць катоу, на тых катах трыд зевяць гняздоу, на тых гнездах трыдзевяць сарок, трыдзевяць урок ад жаночага, ад хлапечча, ад мужчынска — русы волас, рыжы во-лас, белы волас. Святыя святочк! ходзще ка мне на помач: я з слава ми, бог з духам: як стала, так перестала (Дубровица, «Дедрадь» САД, переп. НИТ).
^56
V£J. Семиотика малых форм фольклора
Начало заговора № 14 близко к первому компоненту заговора № 9 «станах дуб» ). Этот заговор также трехкомпонентен, однако эта структурная осооенность выражена слабо, так как нет четкой границы между тремя частями, которые выделяются лишь условно: I — камень, дуб и все, что на (убе, 2 — «тридевять урок» от болезней (их перечисление) и волосы, их предотвращающие (их перечисление). 3 — призывание «святых святочков» на помощь и функциональный изоморфизм человеческих сакральных слов и божественного духа. Начало заговора напоминает «У лукоморья дуб зеленый...», хотя пушкинское влияние исключается, ср.: [Судник 1983].
№ 15. «Замова ад л я супа». Хаджу па лясах, па бало-"рах, па кустах па i.Mxax па лыкадзерах, па глянцах, па чаршцах, па мал шах, — куды ш хаджу, школ! не блуджу; солнца па сонцу месяц па месяцу; при чыстых зорках, пры вячэрных зорах, хаджу не блуджу, а табе лясны хадзяин пакорнасць, аддала; ад мяне раба адшатшея у бярозу абярюся. Амгнь (Дубровица, «Дедрадь» САД, переп. НИТ).
Заговор № 15 от лешего также, видимо, можно считать трехкомпо -гентным, хотя эта структура выражена опять-таки неярко. Первая часть — перечисление мест, где ходит «исполнитель»; вторая, судя по всему, — перечисление времени суток, выраженное путем называния светил и небесных явлений; третья — заявление о покорности и просьба отшатнуться.
№ 16. «Замова ад дамавика». Цар дваравы! Царыпа драранща! <sic! — дваранща>. Твае дзеткг цареняткг: Дарую я вас i хлебам i cojho мглуйця i вы Mix <моих> жыватоу, кармще их ярай пшаной, а паще гх мядовай сытой, пакрыйце вы ix шауковай пеляной. блюдзгце гх ад чужога дваравога, ад чужога палявога, ад памежнгка, ад качарэжшка, ад кустоушка, ад гра-боунгка (Дубровица, «Дедрадь» САД, переп. НИТ).
Заговор № 16 от домовика состоит из обращения, перечисления да ров царю-домовому и его семье и перечисления чужих духов, от которых домовик должен охранять обращающегося к нему за помощью. «Сыта» — сакральный напиток из меда и воды.
Примечания к №5, 13—16: «Дедрадь» С. А. Дрозд содержит молитву «Да воскреснет Бог...» в сильно искаженном виде и девять «замов» (заговоров), из которых мы публикуем пять. Неопубликованы два заговора «ад ляку» и заговоры «ад крыксы» и «ад крывацэ-гэня».
Из наблюдений над полесскими заговорами 45"
Приведенный выше материал и краткие комментарии к нему пока зывают некоторые общие, специфические и локальные черты структурной организации полесского заговора, а также возможности их описания по формальным и семантическим компонентам (мотивам, языковым клише и т. п.), затем безусловную связь всех этих элементов с аналогичными структурно-поэтическими компонентами произведений других фольклорных жанров и, наконец, связь с обрядовой невербальной сто роной заговора. Повторяемость мотивов во многих текстах, так же как и повторяемость ряда клише, свидетельствуют о возможности составления указателя мотивов и словаря вербальных клише для славянских заговоров.
Первая публикация:
Я. И. Толстой. Из наблюдений над полесскими заговорами // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М.. 1986, с. 134—143.
*О жанре «обмирания» (посещения того света)
Нами ставится задача рассмотрения двух текстов, относящихся к жанру «обмирания», записанных в полесских экспедициях летом 1975 и 1977 гт. в восточном (Речицком) и западном (Брестско-Малоритском) Полесье.
В первом тексте (запись в с. Олтуш 1977 г.) рассказывается о том, как некой вдове явился во сне «старый дед» (обычно в снах — Бог), объявил, что она заснет крепким сном па пять дней, и велел пригото вить на это время детям еды. Так она и сделала, и только лишь вынула хлеб из печи, как сразу же уснула мертвым сном. На третий день собра лись ее хоронить, но дети плакали и не дали ее похоронить, объясняя, что мать проснется. И правда — точно через пять дней, час в час, вдова проснулась и рассказала, что ходила «по всех мытарствах», и ей там сказали, что из виденного можно рассказать, а что нет. И она это ис полнила.
Во втором тексте (запись в с. Дубровица 1975 г.) описывается само такое хождение по мукам. После трехдневного сна женщина рассказала, что покойный отец водил ее по тому свету через двенадцать дверей: за одной дверью мучались женщины рвотой молоком — это те ведьмы, что молоко у коров отнимали, за другой крутили солому — это те, что заломы на полях делали; за третьей — женщины месили кровавое мясо — те, что умертвили детей во чреве; затем были «колдуницы», варив шиеся в кипящей смоле, и. т. д. За последней дверью рассказчица встретилась с погибшим на фронте сыном (в войну 1941 — 1945 гг.).
Первый рассказ представляет собой своеобразную рамку — он описывает события реальной жизни на «этом» свете до и после обмирания, а второй восполняет опущенное в первом описание мытарств, хождения по тому свету, так что из этих двух текстов и еще нескольких (к сожа
О жанре ^обмирания:
459
лению, отрывочных) полесских свидетельств об обмирании мы можем получить более или менее полное представление о композиции и основных структурных особенностях обмираний.
А. Заставка: предуведомление (во сне) посланцем с того света (или Богом) о предстоящем обмирании.
Б. Основной текст содержит указание на продолжительность обмирания (3, 5, 7, или 12 дней), сведения о проводнике, указывающем путь в загробном мире (непременно представитель «того» света, в нашем тексте — покойный отец), картины загробного пространства, расчлененного по разрядам мучеников (12 дверями), описание мучений за отдельные весьма конкретные грехи (отнимание молока у коров, заламывание колосьев в поле, убиение детей во чреве, колдовство, несоблюдение обрядов и др.). Путешествующий лишен возможности вмешаться в происходящие события и облегчить участь мучеников. На том свете он может встретить своих родственников (в нашем тексте — погибшего сына), а также узнать дату своей смерти.
В. Концовка: пробуждение от сна и возвращение к жизни на этом свете. Основной темой концовки являются рассказы пробудившегося путешественника об увиденном на том свете и различные запреты на этот счет: 1) ни о чем из увиденного нельзя рассказывать (женщина, рассказавшая все, якобы сразу умерла), 2) можно рассказывать все, кроме того, о чем «запретили» говорить, 3) можно рассказывать все, кроме «трех слов» («три слова скажу тебе и умру») — этот последний вариант зафиксирован трижды. Наличие подобных запретов на рассказы (в особенности полного запрета) может объяснять редуцированный (вплоть до заставки) характер имеющихся свидетельств об обмирании.
Нетрудно заметить, что тексты обмираний имеют много общего с другими фольклорными жанрами, прежде всего с духовными стихами, где мы находим близкое описание преступлений «грешных душ» (заломы, отнимание молока, отнимание спора, проклятие или задушение младенца в утробе и т. п.).
Оба упомянутых жанра — обмирание и духовный стих — связаны и с апокрифической литературой, притом с такими древними текстами, как «Хождение Богородицы по мукам» и «Сон Богородицы». Последний известен и в русском духовном стихе, а в Полесье он очень распространен и по сей день в виде молитвы-оберега. Символическое число 12 (12 дверей, 12 дней) связывает наш текст с другим очень архаическим текстом, широко известным в Полесье в виде духовного стиха о 12 пятницах. Апокрифические и фольклорные тексты обмираний, безусловно, связаны
460 VII. Семиотика малых форм фольклора
и с средневековыми европейскими видениями, интересный обзор которых сделал А. Я. Гуревич [Гуревич 1981, с. 176—239], однако в данном случае мы, так же как и А. Я. Гуревич, не ставим своей задачей рассмотрение традиции, а обращаем внимание на синхронный ряд, на место обмираний в контексте других фольклорных жанров. Именно с этой точки зрения следует отметить связь обмираний с былинками и наличие очень важной в обоих жанрах «фигуры достоверности» (указание конкретного лица, испытавшего обмирание, места и времени действия, участие близких родственников обмиравшего и т. п.).
Первая публикация:
II. И. Толстой, С. М. Толстая. О жанре «обмирания» (посещения то-
го свега) // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979, с. 63—65.
Скрытый плач по покойнику
(Русско-сербская фольклорная параллель)
Среди русских сказок самой ранней русской записи значится первой «Сказка о Шибарше», зафиксированная приблизительно в 1740 году и хранившаяся в государственных бумагах XVIII века *. Фиксация ее была вызвана отнюдь не фольклористическими собирательскими интересами, а тем фактом, что в грозные времена бироновщины в России «при ставам тайной канцелярии велено было доносить не только о действиях заключенных, но и записывать их разговоры, и даже сказки, которые они друг другу сказывали» 1 2. «Сказка о Шибарше» принадлежит к разряду сказок о хитрых и ловких людях, точнее о хитрых ворах, и в варианте XVIII в. она довольно пространна и, безусловно, весьма занима тельна. Начинается она с новеллы о краже быка у мужика, ради которой Шибарша бросает на дорогу то сапог с одной ноги, то на некотором расстоянии — с другой, и, когда мужик спешит по дороге назад за пер вым сапогом, ловкий вор уводит быка. Затем Шибарша приезжает в Москву к дяде, тоже вору, и они идут «в казенную кладовую палату красть». После удачного воровства Шибарша с дядей не могут разделить добычу и идут к «царю Ивану Васильевичу», чтобы он их рассудил. Иван Грозный их рассудил, но, видимо, после этого принял меры предо
1 Известна одна сказка о поселянине и медведице, записанная по-итальянски в XVI в. Павлом Иовием Новокомским, и две сказки о Иване Грозном и воре, записанные по-английски в XVII в. Самуилом Коллинзом. Сказка о Шибарше также связана с Иваном Грозным, см.: [Русские сказки 1971].
2 См. публикацию сказки и комментарий к ней И. В. Беляева в журназе «Русский архив» [Беляев 1863]. Приведенную выше цитату И. В. Беляев заключает следующей фразой: «Этому обстоятельству мы обязаны сохранением печатаемой сказки» [Беляев 1863, с. 451]; см также' [Русские сказки 1971, с. 266].
4f>2
VII. Семиотика малых форм фольклора
сторожности, и при повторном воровстве дядя попадает в котел со смолой и сваривается в ней, а Шибарша «стал дядю своего искать и, на-шед, у того дяди своего голову отрезал ножом, и принес домой и отдал тетке, и говорил: „Вот тебе казна и мужа твоего, а моего дяди голова, поминай его, сварился он в котле, и я, нашед его, голову ему отрезал». Дальнейшие события по тексту XVIII в. развивались так: «И поутру того мертвого тело нашли в котле караульные солдаты и привезли царю Ивану Васильевичу, и царь Иван Васильевич приказал то мертвое тело возить по Москве, и кто по нем вздохнет или потужит, того хватать: тот-де вор. И Шибарша, увидя то, пришел к тетке и говорил ей: „Хочешь ли ты, тетка, по дяде плакать?" И она говорила: „Как же плакать; видишь — не велят плакать". И оный племянник ее говорит ей: „Налей кувшин молока, и понеси продавать, и поди против него, и как тебя станут от него отбивать, и ты кувшин-ат урони и заплачь, будто о кувшине-то, а сама говори им, пойду на вас суда просить: за что-де вы у меня разбили кувшин молока?" И оная тетка его то и сделала, и караульные напужались, и дали ей денег десять рублев, чтобы она не ходила на них суда просить; и мертвое тело привезли в Москву по-прежнему и сказали царю Ивану Васильевичу, что по том мертвом никто не плакал и не тужил, только одна старуха несла встречу кувшин молока, и мы стали на нее кричать, чтобы она не ходила, и она кувшин молока разбила и заплакала, будто о молоке, и сама говорила: пойду на вас суда просить, и мы испужались, дали ей денег десять рублев. И царь Иван Васильевич приказал то мертвое тело возить по селам и деревням и, ежели кто по нем станет плакать и тужить, и вы того хватайте; и они мертвое тело возили, и никто по нему не тужил и не плакал». Неутомимый Шибарша, однако, сумел обмануть царских «солдат» и привезти тело дяди к тетке, зарыть его во дворе и сказать: «Ну, тетка, помяни моего дядю, теперь его схоронил». На этом хитрость героя сказки не иссякла. Он приморозил к снегу у палат Грозного мертвую старуху с рогами, обрил полголовы и полбороды у «караульного сержанта и солдат», под именем деревенского Лабзы вместе с Иваном Грозным, который назвался ему «московским скосырем», к «главному министру» воровать ходил, архиерея в суме на Спасских воротах подвесил и т. п. Среди всех его лукавств интересно отметить еще одно: «И Шибарша под сапоги насмолил смолы и пошел по кабакам, и тое казны к нему под сапоги много прилипало, а караульные, глядя на казну, говорили: „Кто-де такую казну берет, кажется-де, никто не наклоняется и рук не протягает, а казна пропадает"». До этого же «царь Иван Васильевич велел по кабакам поставить пива и вина, и
Скрытый плач по покойнику
463
казны довольно насыпать, и караул поставить, и приказал: „Кто будет наклоняться или пристально глядеть, того и хватать1*».
Изложенная выше сказка о Шибарше имеет ряд параллелей-вариантов в сборниках русских сказок XIX—XX вв. Они отмечены комментатором и составителем книги «Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI—XVII века)» Н. В. Новиковым [Русские сказки 1971, с. 266], в указателе Аарне-Андреева [Андреев 1929, с. 89] и в указателе сюжетов В. Я. Проппа; см.: [Афанасьев 1957, 3, с. 491]. Чаще всего встречается в сказках сюжет плутовства с сапогами, но нас интересует более случай с плачем над покойником, потому что он имеет соответствие на сербской почве.
В знаменитом трехтомном сборнике «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева под № 390 дана сказка о воре Сеньке Малом со следующим эпизодом: «Наутро доложили царю: который-де вор казну воровал — нынче в смолу попал, только головы нету. Царь приказал заложить тройку лошадей с колокольчиком и везти мертвое тело по всем селам, по всем городам: не найдутся ли сродники? Коли станет кто по нем плакать, сейчас того хватать да в кандалы ковать. „Тетушка, — спрашивает Сенька, — хочешь поплакать по своем муже?" — „Как же не хотеть, родимый? Все-таки муж был!" — „Слушай же: возьми новый кувшин, налей молока и ступай навстречу: как увидишь, что везут твоего покойника, спотыкнись нарочно, разбей кувшин и плачь себе вволю.** Тетка взяла новый кувшин, налила молоком и пошла навстречу. Вот везут мертвое тело, и как только поравнялись с нею — она вдруг будто споткнулась, разбила кувшин, разлила молоко и начала громко плакать да причитывать: „Свет ты мой! Как мне жить без тебя!** Сейчас набежали со всех сторон солдаты, окружили бабу и стали допрашивать: „Говори, старая, о чем голосишь? Не признала ли покойника? Что он — муж тебе, брат али сват? — „Батюшки мои родные! Как же не плакать мне? Сами видите, какая беда надо мною стряслась: разбила кувшин с молоком!** — и опять принялась выть. „Экая дура, нашла о чем плакать!** — говорят солдаты, и поехали дальше» [Афанасьев 1957, 3, с. 177].
Еще ближе к тексту сказки о Шибарше приходится текст севернорусской сказки «Вор-Барма Деревенской и Шиш Московской», записанный в с. Ковде, что на Кандалакском заливе Белого моря, Н. Е. Ончу-ковым. В ней интересующий нас эпизод изложен следующим образом. 4Пиш Московской пошол сперва, ступил на бревна, да в обрез, в смолу и упал. „Тени, крестовой, меня, мне не выстать.** Барма спустился, вытащить не мог, одна голова видна, взял голову отрезал, штобы непри
464
VII. Семиотика малых форм фольклора
метно было. Пришол к старухи, старуха и заревела, шго сына не стало ,.Не реви, бабка, хорони хоть голову, а завгре тело повезут, но телу узнавать вора." Нехто не выискиватця. Надо стало Ивану тело укрась. „Хочет-цятебе, старуха, сына посмотреть, налей крынку молока, иди. а как везут, выпехайся, выпусти крынку из рук и реви: „Не жалко молочка, жалко крыночку", туг тебя не хто не приметит." Старуха так и сделала, наре велась досыта» [Ончуков 1908, с. 158].
Огот же эпизод составляет почти основное содержание сказки «А]ду ци», записанной в конце 20-х или в начале 30-х годов нашего века в Сретечкой Жупе проф. Миливоем Павловичем у Марко Богдановича. Вот как он выглядит в диалектной записи: «Они а]дуци jone дошли и прошушьиле Берамиде; jen се потул>ив и улегов, се спуштив у каца. Он мииьъив: jone са у каца дукати кд да види, он ршшав у каца, а оно катран у н>а; он попаднав до 1рло у каца катран и они од ка са чуле кд улегов у катран и они дотрчале, — кд да ви1)ет у каца сама глава му се ви1)и а]дуку, и они му пресекле глава па однеле на улица: да ли he поз HajeT 4Hja je ова глава, али мати гьегова кд видела глава од сина, отиш-ла куБи: али при глава се дет цандари. Она жена се вратнла куБи и казала мужу: „Деге нашему одсекле глава — тамо ja вардет цандари!" — А муж ги реков: „Немо] да плачет. зе(р) и нас he не закол>ет, — него узи крчази, па клекни при нега, те га исплачи!" И она узела крчази у руке и напутьила крчази. Кд пришла при гьега, и паднала те крчази искрши ла. Цандари iy питале: „Што плачет?" А она ги одговорила: „За крчази плачем, jep сам сирота, па не могу да купим други!" — Они ги дале пере: „Иди купи други, само не плачи Tyj", и гыузи ги искочило ерне» (Павловий М. 1939, с. 289, 290].
Характерно, что этому эпизоду предшествует известный нам из сказки о Шибарше эпизод с намазанными смолой сапогами, к которым прилипали золотые: «Што he се сетиле да просиет по улице дукати. па koj’h he се поту л>и да бере дукати, Taj je а]дук. Поставите цандари кривши да пазет Koj he се потугьи. Ови а]дуци кд виделе дукати по зевтьа, они намазале на опанке одоздо катран, па he ви!дп дукати, ступни на дукат — он he се залепи за ноге. Тако да he вийи дукат, ступни на ноге, па he се врати у неки двор, сбери дукати од ноге; jone намажи катран на ноге join лови ше, па де he ви!)и дукат — згази, — док ги збрале све дукати. Они цан дари никога не виделе да сс потужив нико] а дукати nujeH нема, — и не могале да ги супазст никако» [там же, с. 289].
За неимением более обширного материала мы не беремся судить о ис точнике двух достаточно близких версий — русской с ее вариантами и серб
Скрытый тач по покойнику 465
ской о норах и скрытом оплакивании матерью одного из них. Русские вари анты полнее, обширнее, состоят как правило. из большого числа новелл, которые могут быть разного происхождения. По своему характеру сказка напоминает сокращенный и переработанный для сказочного жанра плутовской роман и как будто нс оставляет сомнения об относительно позднем своем происхождении. Не исключена возможность, что подобно Бове Королевичу опа пришла на Русь с Балкан3.
Любопытно отметить один момент. В п|юпыом для русского человека, как и .для православного серба, оставить неоплаканным покойника было гак же недопустимо, как и не предать его земле. Не случайно, что именно в двух далеких друг от друга концах славянского мира — на Севере России и в Сербии - до сих нор сохранились и похоронные плачи, и плакальщицы Н Шибарша. и хайдук. в народно сказочном представлении, с более спо конным сердцем отрезает своему дяде (или другому хайдуку) голову, чем оставляет его тело без обязательного голошения и плача.
Первая публикация:
Н. И. Толстой Скрьиый плач ио покойнику Русски-сербская фольклорная параллель Ц Зборник Владимира Мишина Београд 1977 <• 255 258
Е Тома обязательного плача по покойнику отражена и в народном анекдоте-быличке зафиксированном в западной Болгарии (г. Станьовци, Брезнишко). У одной женщины умер муж. которого она не любила, т. к. тот ее бил и сильно обижал. Однако ей было стыдно оставить его неоплаканным («било страмота да не вика на гробът му*), и потом} она пошла к бедной соседке, дала ей торбу муки и попросила ег оплакать покойника. (Соседка пришла на могилу и начала причитать: «Я бы не пришла тебя оплакивать да уж больно мне плохо без соли н муки» («Мопс бьж би те онодела на гробът да ти вика.м, яма ши ме е опела безеолица и белбра шпица*). см.: (Мартинов 1958, с. 638|.
Литература
БАН ИРЛИ
ИРЯЗ РГО САН(У) ANU BiH JAZU SAV
БВ
БЕз БФ
ВСЯ
ВЯ
ГЕИ ГЕМБ
ГЕМС ГЗМ
ГГНД ЯСС знмч
Список сокращений, используемых в библиографии
Българска академия на науките. София.
Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), секция фольклора. СПб.
Институт русского языка РАН. М., Л.
Императорское Русское географическое общество. СПб.
Српска академHjа наука (и уметности). Београд.
Akademija nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Slovenska Akademia Vied. Bratislava.
Босанска вила (Bosanska vila). Capajeeo, 1886 -1914, год. 1—29.
Български език. София, 1951 , год. I—.
Български фолклор. Институт за фолклор БАН. София, 1975 , год. I—.
Вопросы славянского языкознания. Институт славяноведения (и балканистики) АН СССР. М., 1954- 1963, вып. I -7.
Вопросы языкознания. М., 1952—.
Гласник Етнографског института САН. Београд, 1952—, кн>. I
Гласник Етнографског Myaeja у Београду. Београд. 1926 кн». I
Гласник на Етнолошкиот музе]. Скопле, 1960—, [год ] 1
Гласник Земалэског музе]а Босне и Херцеговине у Capajeey. Capajeeo, 1888—, кн». 1—; Нова cepHja, 1946—, кн». I—.
Гласник Скопског научное друштва. Скопле, 1926—1940, кн>. I—21.
Живая старина. Отделение этнографии РГО. СПб. (Пг.) 1890—1917.
Зборник радова Народное музе] а. Чачак, 1969—1985, кн.. 1—15.
Список сокращений
467
ЗРГО
ЗРЕЙ
ИЕИМ
ИОЛЕАиЭ
ИССФ
Крестьянское искусство СССР
МП
МФ
ОЛА. МиИ
ПСРЛ
пэс
РА
РИБ
PH
РФВ
СбМАЭ
СбНУ
СбОРЯС
СБФ
Записки Императорского Русского географического общества по отделению этнографии. СПб. (Пг), 1867—1917, т 1 144.
Зборник радова Етнографског института САНУ. Београд, 1950 кгь. I —.
Известия на Етнографския институт с музей. БАН. София, 1953— 1975, кн. 1 16.
Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Императорском Московском университете. Труды этнографического отдела. М., 1868 -1913, кн. (т.) (1| 18.
Известия на Семинара по Славянска филология при Университета в София. София, 1905—1948, кн. I—9.
Крестьянское искусство СССР. Л , 1927 вып. 1: Искусство Севера. Заонежье, 1928, вып. 2: Искусство Севера. Пинежско Мезенская экс педиция.
Македонски преглед София, 1924 1943, |год.] 1—13.
Македонски фолклор. Институт за фолклор. Скогг)е. 1968—, год. 1—, бр. 1—.
Общеславянский лингвистический атлас Материалы и исследования. М., 1965—.
Полное собрание русских летописей. СПб. (Пг.. М., Л.), 1841 т I
Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования / Отв. ред. Н. И. Толстой. М., 1983.
Русский архив. М., 1863—1917
Русская историческая библиотека издаваемая Археографическою комиссией. СПб. (Пг, Л ) 1872—1927, т. 1 39.
Родопски напредък. Станимака (затем Пловдив), 1903 -1912, год. 1 9
Русский филологический вестник. Варшава, 1879 -1917, т. 1—78.
Сборник Музея антропологии и этнографии (Сборник Музея антропо логии археологии и этнографии). СПб- (Пг., Л.), 1900 1930, 1949—, [t.J I—.
Сборник за народни умотворения, наука и книжнина (Сборник за на-родни умотворения и народопис). София, 1889—, кн. 1—.
Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Ака демии наук. СПб. (Пг., Л.), 1867—1928, т. 1 — 101
Славянский и балканский фольклор. М., 1971 —. 1971 (вып. 1]; 1978 (вып. 2:] Генезис. Архаика. Традиции; 1981 [вып. 3:] Обряд. Текст; 1984 [вып. 4:] Этногенетическая общность и типологические параллели; 1986 [вып. 5:[ Духовная культура Полесья на общеславянском фоне; 1989 [вып. 6:] Реконструкция древней славянской духовной культуры. Источники и методы; 1994 [вып. 7:] Верования. Текст. Ритуал.
468
Литература
СБЯ Славянское и балканское языкознание. М., 1975—. 1977 [вып. 4г]
Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста; 1986 [вып. 10:] Проблемы диалектологии. Категория посессивности; 1993 [вып. 12:] Структура малых фольклорных текстов.
СЕЗб Српски етнографски зборник. САН. Београд, 1894—, кн>. 1—. [Серия:]
Живот и обича]и народни. 1894— [кн>. 1]—; [Серия:] Расправе и rpafja. 1934—, кн>. I—.
ССл Советское славяноведение (Славяноведение). Институт славяноведения
(и балканистики) РАН (АН СССР). М., 1956 .
СХИФО Сборник Харьковского историко-филологического общества, состоящего
при Имп. Харьковском университете. Харьков, 1886—1914, т. I 21.
СЭ Советская этнография. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Мак-
лая АН СССР. М., 1931 — 1992.
ТОДРЛ Труды Отдела древнерусской литературы. Институт (русской) литера-
туры РАН (Пушкинский дом). СПб. (Л., М.; Л.), 1934—, [т.] 1—.
ТСб Тракийски сборник. София, 1928—1936, кн. 1—6.
Художественный Художественный фольклор / Под ред. Ю. Соколова. М., 1926 1929, фольклор [вып.] 1—5 [3 книги].
ЧОИ ДР Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских
при Московском университете. М., 1846—1848, кн. 1—23; 1858 1918, кн. 24—264.
ЭО Этнографическое обозрение. М., 1889—1916., кн. 1 —112.
GZM Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sarajevo,
1888—, knj. 1—. (c 1946 — nova serija, knj. 1—.).
EPr EtnoloSki pregled. Beograd. 1959—, br. I—. (1974, br. 12 — Ljubljana).
HDZb Hrvatski dijalektoloSki zbomik. Zagreb, 1965—, knj. 1 .
Lud Lud. Lwow, 1895—, t. 1—. (c 1945 r. — Wroclaw; Krakow; Poznan).
NU Narodna umjetnost. Zagreb, 1962—, knj. 1—.
SN Slovensky narodopis. Bratislava, 1953—, r. 1—.
GZM Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sarajevo.
1888 —, knj. 1—. (c 1946 — Nova serija, knj I—.).
ZN^O Zbomik za narodni zivot i obiCaje Juznih Slavena. Zagreb, 1896—. knj. I —.
ZWAK Zbior wiadomo^ci do antropoiogii krajowej. Krakow, 1877—1895, I. 1 —18.
Л итператпура
469
Аввакум 1960 — Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения / Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1960.
Авдеев 1959 — А. Д. Авдеев. Происхождение театра. Элементы театра в первобытно-общинном строе. М.; Л., 1959
Азадовский 1958 — М. К. Азадовский. История русской фольклористики. М., 1958, кн. 1.
Ангелова 1931 — М. Ангелова. Хърцоите в Разград и Разградско и техният говор // ИССФ, 1931, кн. 7, с. 120—179.
Андреев 1929 — Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аагпе. Л.. 1929.
Аничков 1892 — Е. В. Аничков. Микола Угодник и св. Николаи // Записки Неофилоло-гичегкого общества при Санкт-Петербургском университете. СПб., 1892, вып. 2, № 2.
Аничков 1914 — Е. В. Аничков. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914.
Ан>ичков 1930 Е. В. Агъичков. Лепота, ружноЬа и мода // Годиппьак Скопског фило-зофског факултета. Скопле, 1930, [кн>.] 1. с. 155—168.
АнтошуевиЬ 1971 —Д. AnmoHujeeuh. Алексиначко Поморавле (СЕЗб. 1971, кн>. 83).
Анучин 1890 — Д. Анучин. Сани, ладья и кони как принадлежность похоронного обряда: Археолого-этнографический этюд. М., 1890 (Древности. Труды Московского археологического общества, т. 14).
Апресян 1974 — Ю. Д. Апресян. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
Арнаудов 1943; 1946 — М. Арнаудов. Български народни празници. София, 1943; изд. 2. София, 1946.
Арнаудов 1971, 1972 — М. Арнаудов. Студии върху български обреди и легенди. София, 1971, т. 1; 1972, т. 2.
Архангельский словарь — Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой. М., 1980—, вып I—.
Архив киевск. — Архив Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Т. Рыльского АН УССР (АНУ). Киев.
Архив полесский — Полесский архив (материалы экспедиций Института славяноведения и балканистики РАН под рук. Н. И. Толстого), хранящийся в Институте славяноведения и балканистики РАН.
Афанасьев 1957; 1985 — Народные русские сказки А Н. Афанасьева. В 3-х томах. М , 1957; [то же] М., 1985, т.З.
Ахметьянов 1977 — Р. Г. Ахметьянов. Некоторые термины обрядов и мифологии булгаро-чувашского происхождения у народов У рало- Поволжья // Советское финно угроведение. Таллинн. 1977, т. 13, № 2, с. 98—106.
Ахметьянов 1981 — Р. Г. Ахметьянов. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. М., 1981.
470
Литература
АциЬ 1957 — П. АциЬ С. Miuiojeeuh. Риба у предажу и симболици Ц ГЕМБ, 1957, кн». 20, с. 198—202.
Балады 1977— Балады. Мшск, 1977, т. 1 / Серия: ♦Беларуская народная творчасць*.
Балов 1893 — А. В. Балов. Народный говор в Пошехонском уезде Ярославской губернии Ц ЖС, 1893, вып. 4, с. 507—512.
БандиЬ 1974 — Д. БандиЬ. Трагови табуа у самртном ритуалу Срба Ц ГЕИ, 1974, кн». 23, с. 95—116.
БеговиЬ 1887 Н. БеговиК Живот и обичарт Срба Граничара. Загреб, 1887.
Бежкович 1930 — А. С. Бежкович. Земледелие украинцев-переселенцев южной части Семипалатинской губернии Ц Украинцы-переселенцы Семипала тинской губ. Л., 1930, с. 15—98.
Беларуси! фальклор 1973 — Беларуси! фальклор у сучасных затеях: Брэсцкая вобласць. Мшск, 1973.
Белецкий 1923 — А. Белецкий. Старинный театр в России. М., 1923.
Беляев 1863 — Скачка о Шибарше / Публикация и комментарий И. В. Беляева // РА, 1863, № 5, 6, с. 444—451.
БЕР — Български етимологичен речник / Ред. В. И. Георгиев. София, 1971—, т. 1—.
Бердников 1869 — И. Бердников. О символических знаках и изображениях // Правое лавный собеседник. Казань, 1869, июнь.
Бережков 1851 — Г. Бережков. Взгляд на Судогодский уезд Ц Владимирские губернские ведомости, 1851, № 50, с. 338—341.
Березовський 1962 — I. П. Березовсъкий. Загадки. Кшв, 1962 / Серия: «Украгнська народна творчгсть*.
Бернштейн, Клепикова 1978 — С. Б. Бернштейн, Г. П. Клепикова. Общекарпатский диалектологический атлас. Принципы. Предварительные итоги Ц Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978, с. 27—41.
БешлагиЬ 1956 — Ш. БешлагиК Ри)етка врста надгробних споменика у Кумановском Kpajy // ГЕМБ, 1956, кн». 19, с. 257—272.
Б!рыла 1969 — М. В. Бгрыла. Беларуская антрапашм!я. 2: Прозв1шчы, утвораныя ад апелятыунай лекепб. Мшск, 1969.
БлапдевиП 1984 — Н БлагсдевиЬ. Обича]и у вези са ро^егьем, женидбом и CMphy у Ти-товоужичком, Пожешком и Кодеричком Kpajy Ц ГЕМБ, 1984 кн». 48, с. 209—310.
Богатырев 1929 — 77. Г. Богатырев. К вопросу об этнологической географии Ц Slavia. Praha, 1928—1929, гоёп. 7, s. 600—611.
Богатырев 1930 — И. Г. Богатырев. Этнологическая география и синхронный метод // Pamietnik 11. Zjazdu slowiariskich geografow i etnografow w Polsce w r. 1927. Krakow, 1930, t. 2, s. 174—175.
Литература
471
Богатырев 1932, 1934 — П. Г. Богатырев. «Полазник* у южных славян, мадьяров, словаков поляков и украинцев. Опыт сравнительного изучения ела вянских обрядов Ц Lud Sfowiariski. Krakow, 1932. t. 3. z. 1. dz. B, s. 107—114; 1934, z. 2, dz. B, s. 212—273.
Богатырев 1971 — П. Г. Богатырев. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
Богданович 1895 — А. Е. Богданович. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Гродна, 1895.
Богословский словарь 1913 — Полный православный богословский энциклопедический словарь. СПб-, 1913, т. 2.
Бодуэн де Куртенэ 1966 — И. А. Бодуэн де Куртенэ. Резьянский словарь / Под ред. Н. И. Толстого Ц Славянская лексикография и лексикология. М., 1966, с. 183-224.
Болонев 1978 — Ф. Ф. Болонев- Народный календарь семейских Забайкалья (вторая половина XIX — начало XX в.) Новосибирск, 1978.
Бондаренко 1890 В. Бондаренко. Поверья крестьян Тамбовской губернии Ц ЖС, 1890, вып. I. с- 115—121.
БошковиЬ 1962 — М. BouiKoeuh Mamuh. Народи и обича]и // ГЕМБ, 1962, к1ь. 25, с. 135—210.
Брагина 1980 — Брагина Н. А. Диалектная лексика обрядов семейного цикла (родинного и похоронного) Череповецкого и Шекснинского районов Воло годской области / Дипл. раб. МГУ 1980
Бродский 1957 — Н. Л. Бродский. «Евгений Онегин*: Роман А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы. М., 1957.
Брозович 1967 — Д. Брозович. Славянские стандартные языки и сравнительный метод // ВЯ, 1967, № 1, с. 3—33.
БРС — Беларуска-русю слоушк / Над рэд. акад. К. К. Крашвы. М., 1962.
БРФР Българско-руски фразеологичен речник / Съставили А. Кошелев и М. Леонидова. София; Москва, 1974.
Бубало Кордунаш 1931 — М. Бубало Кордунаш. О сахрани мртваца на огулинском Кор-дуну // ГЕМБ, 1931, кн,. 6, с. 77-89.
Будилович 1869 — А. Будилович. М. В. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869.
Будилович 1875 — А Будилович. XIII слов Григория Богослова в древнеславянском переводе. СПб., 1875.
Булгаковский 1890 — Д. Г. Булгаковский. Пинчуки. Этнографический очерк. СПб-, 1890 (ЗРГО, 1890, т. 13, вып. 3).
Бурнашев 1843—1844 — В. Бурнашев. Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного. СПб., 1843—1844, т. 1, 2.
472
Литература
Буслаев 1861 — Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Кн. 1: Русская народная поэзия. СПб., 1861.
Буслаев 1886 — Ф. И. Буслаев. Мои досуги. М. 1886 т. 2.
БХ 19.58 — Банатске Хере / Уредио М. С. ФилиповиЬ. Нови Сад, 1958.
Българска диалектология, 1 - — Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962—, кн. I—.
Бялькев^ч 1970 - I. К. Бялъкев1ч. Краёвы слоун ik усходняй Маплёушчыны. Mihck, 1970
Вакарелски 1929 — X. Вакарелски. Из веществената култура на българите. 1: Рала Ц Известия на Етнографски музей в София. София, 1929, т. 8/9, с. 95—108.
Вакарелски 1935 — Бит и език на тракийските и малоазийските българи. Ч. 1: Бит. от X. Вакарелски. София, 1935 (ТСб, кн. 5).
Вакарелски 1961 — X. Вакарелски. Принос към проучване на семейните обичаи на Па-нагюрско в мин ал ото Ц Панагюрище и Панагюрският край в ми-налото. София, 1961, сб- 2, с 53—85
Вакарелски 1974; 1977 — X Вакарелски. Етнография на България. София 1974; изд. 2. София, 1977.
Вакарелски 1990 — X. Вакарелски. Български погребални обичаи. Сравнително изучава-не. София, 1990.
Валачобныя necni 1980 Валачобныя песий Мшск, 1980.
Василев 1970 Хр. Василев. Към славянската фразеология: от птпиче мляко // БЕз, 1970, год. 20. кн. 4, с. 347, 348.
Василева 1988 — М. Василева. Коледа и Сурва. София, 1988 / Серия: «-Български праз-ници и обичаи*.
Василиев 1957 — Ас. Василиев- Изобразителни изкуства в странджанския край Ц Комплексна научна странджанска експедиция. 1955. София, 1957, с. 257 307.
Василиев 1958 - Ас. Василиев. За изобразителните изкуства в Северозападна България Ц Експедиция в Северозападна България. 1956. София, 1958, с. 173—257.
Василиев 1961 Ас. Василиев. Художествен и паметници и майстори обрязописпи в никои селища на Кюстендилско, Трънско и Брезнишко // Комплекс -ни научни експедиции в Западна България (Тръ icko, Брезнишко и Кюстендилско). София, 1961, с 179—267.
Василиев 1976 — А. Василиев. Ерминии. Технология и иконография. София 1976.
Васил>евиЬ 1897 - А. ВасшъевиЬ. Из народних празноверица у Сврлигу Ц БВ. 1897, год. 12, с. 189.
Вел>иЬ 1925 — М. Ве/ъиЪ. Обича]и и верован>а из 1овца Ц СЕЗб, 1925, кн». 14, с. 389-391.
Литер атур а
473
Веселовский 1880 — А. Н. Веселовский. Разыскания в области русских духовных стихов 11: Св. Георгий в легенде, песне и обряде СПб., 1880 (СбОРЯС, т. 21, № 2, с. 1—288).
Весенние праздники 1977 — Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. Конец XIX — начало XX вв. М., 1977
Весиыя 1970 - Веолля. Ки!в, 1970, кн. 1, 2.
Веснавыя necni 1979 — Веснавыя necni. Мшск, 1979.
Вечное солнце 1979 — Вечное солнце. Русская социальная утопия и научная фантастика (вторая половина XIX — начало XX века) / Составитель и комментатор С. Калмыков. М., 1979.
Виноградов В. 1947 — В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке Ц А. А. Шахматов. 1864—1920. Сборник статей и материалов. М.; Л.. 1947, с. 339—364.
Виноградов Г. 1927 — Г. С. Виноградов. Очерки по изучению Якутского края. Иркутск, 1927. вып. 1.
Виноградова 1981 — Л. Н. Виноградова. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно- восточнославянские параллели) Ц СБФ, 1981, с. 13—43.
Виноградова 1982 — Л. Н. Виноградова. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. М., 1982.
Виноградова 1989 — Л. Н. Виноградова. Фольклор как источник для реконструкции древней славянской духовной культуры // СБФ. 1989, с. 101 —121.
Виноградова, Толстая 1989 — Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. Материалы по сравнительной характеристике женских мифологических персонажей Ц Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. София. 30 VIII.89. Проблемы культуры. М., 1989, с. 86—114.
Виноградова, Толстая 1993 — Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. Символический язык вещей: веник (метла) в славянских обрядах и верованиях Ц Символический язык народной культуры. Балканские чтения. 2. М., 1993.
Владимирская 1983 - Н. Г. Владимирская. Материалы к описанию полесских народных представлений, связанных с ткачеством. Снование // ПЗС, с. 225-246
Волков 1910 — Ф. К. Волков. Старинные деревянные церкви на Волыни Ц Материалы по этнографии России. СПб. 1910, т. 1, с. 21 — 44
Вольтер 1890 — Э. Вольтер. Литовские легенды Ц ЭО, 1890, № 3, с. 139—148.
474
Литература
Вольтер 1890а — Э. А. Вольтер. Материалы по этнографии латышского племени Витебской губернии. СПб., 1890, ч. 1: Праздники и семейные песни латышей.
Вопросы теории 1962 — Вопросы теории лингвистической географии / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1962.
Воронов 1972 — В. С. Воронов. О крестьянском искусстве. М., [1972].
Воропай 1958 — О. Воропай. Звича! нашего народу. Етнограф1чний нарис. Мюнхен, 1958, т. 1; репринт: Ки1в, 1991.
Востоков 1852 — А. X. Востоков. Словарь церковнославянского языка. СПб., 1852.
ВрчевиЬ 1883 — В. Bpueeuh. Три главке народне свеЬаности: БожиЬ, Крсно име и свад-ба. Панчево, 1883.
Всеволодский 1928 — В. Н. Всеволодский Гернгросс. Крестьянский танец Ц Крестьянское искусство СССР, вып. 2, с. 235—248.
ВукмаяовиЬ 1962 — J. ВукмановиЬ. БожиИн>и обича]и у Боки Которско] Ц ZN^O, 1962, knj. 40, s. 491-503.
ВукмановиЬ 1962а - J. ВукмановиЪ. ПролеЬни o6H4ajn Ц Рад IX Конгреса Савеза фолк-лориста JyrocaaBHje у Мостару и Требшьу, 1962, с. 259—272.
ВуковиЬ 1940 J. Л. ByKoeuh. Акценат говора Пиве и Дробн»ака Ц Српски ди|алекто-лошки зборник. Београд, 1940, кн>. 10, с. 185 417.
Высоцкий 1948 — С. С. Высоцкий. Утрата среднего рода в говорах к западу от Москвы Ц Доклады и сообщения Института русского языка. М., 1948, вып. 1, с. 81 —101.
Вяселле, 1, 3, 6 Вяселле Песта. Мшск, 1980, кн. 1; 1983, кн. 3; 1988, кн. 6.
Гальковский 1916, 1913 — 7/ М. Гальковский. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916, т. 1; М., 1913, т. 2: Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе (Записки Московского археологического института, т. 18).
Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984, кн. 1, 2.
Гельгардт 1935 — Р. Р. Гельгардт. К вопросу о картографировании фольклора: Очерк первый // Советское краеведение, 1935. № 1, с. 8 15.
Генчев 1973 С. Гениев. Обичаят Герман в Добруджа Ц Векове. Двумесячно списание. Българско историческо дружество. София, 1973, кн. 2, с. 31—38.
Генчев 1974 — Ст. Гениев. Обичаи и обреди за дъжд // Добруджа. Етнографски, фол-клорни и езикови проучвания. София, 1974, с. 345—351.
Генчев 1985 — С. Гениев- Семейни обичаи и обреди Ц Капанци. Бит и култура на старого българско население в Североизточна България. Етнографски и езикови проучвания. София, 1985, с. 167—199-
Литература
475
Георгиева Е. 1931 — Е. Георгиева. Народен кален дар от село Смилево (Битолско) Ц МП, 1931, № 4, с. 70- 90.
Георгиева И. 1983 — И. Георгиева. Българска народна митология. София, 1983.
Герасимов 1910 — М. К. Герасимов. Словарь уездного череповецкого говора (Новгород ской губернии). СПб., 1910 (СбОРЯС, т. 87, №3, с. 1 —111).
Геров, 5 — Н. Герое. Речник на българскый язик. Пловдив, 1904, ч. 5.
Гильфердинг 1869 — А. Гилъфердинг. Старинный сборник сербских пословиц Ц ЗРГО, 1869, т. 2, с. 117—224
Гнатюк 1914 — В. Гнатюк. Колядки i щедрйвки Ц Етнограф1чний зб!рник. Львйв, 1914, т. 35—36.
Голейзовский 1983 — Н. К. Голейзовский. Семантика новгородского тератологического орнамента Ц Древний Новгород: История. Искусство. Археология. М., 1983.
Головацкий 1878 — Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Голо-вацким. М., 1878, ч. 1—4.
Городцов 1902 — В. А. Городцов. Слова из говора крестьян села Дубрович Рязанского уезда. 1902 / Ученый архив Всесоюзного географического общества в СПб., шифр 33.1.32. Рукопись.
Горький 1972 — М. Горький. Полное собрание сочинений. М., 1972, т. 15-
ГрбиЬ 1925 — С. ГрбиЬ. Српска народна ]ела и пиЬа из ср. Болевачког // СЕЗб, 1925. кн». 32, с. 169 — 296.
Гр|)иЬ-Б]елокосиЬ 1896 —Л. Epfyuh BjeAOKOCuh. Народна гатан»а Ц ГЗМ, 1896, кн». 8.
Гр^)иЬ-Б]елокосиЬ 1896а — Л. rpfyuh Б]елокосиЬ. Из народа и о народу. Мостар, {1896].
Гринченко 1895, 1896 Б. Д. Гринченко. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Чернигов. 1895 1896, вып. 1, 2.
Гринченко, 1—4 — Б Д. Гринченко. Словарь украинского языка Киев, 1907 1909, т. 1—4; фотомеханическое воспроизведение: Ки1в, 1958 1959.
ГрковиЬ 1977 — М. ГрковиЕ Речник личных имена код Срба. Београд, 1977.
Гру)иИ 1930 Р. Ppyjuh. Космолошки проблеми по нашим рукописима // Годишн>ак Скоп-ског филозофског факултета. Скопле, 1930, |кн>.] 1, с. 177—206.
ГСБМ — Пстарычны слоушк беларускай мовы. Мшск, 1983, вып. 3.
Гура 1978 — А. В. Гура. Символика зайца в славянском обрядовом и песенном фольклоре // СБФ, 1978, с. 159—189.
Гура 1981, 1984 — А. В. Гура. Ласка (mustela nivalis) в славянских народных представлениях. 1. 2 // СБФ, 1981, с- 121- 138; 1984, с. 130-159.
Гура 1981а — А. В. Гура. Опыт ареальной характеристики свадебного обряда и его терминологии // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981, с. 261—278.
476
Литература
Гура 1994 — А. В. Гура. Борона// Славянские древнситя„ Этнолингвистический словарь / Под редакцией Н. И. Толст: го .М. 994, т. 1 (в печати).
Гура и др. 1983 А. В. Гура, О. А. Тернивская, С. М. Го^.стпая. Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу Ц ПЭС, с. 49 153-
Гуревич 1981 — А. Я. Гуревич. Проблемы средневековой культуры. М., 1981.
Гусев 1974 — В Е. Гусев. От обряда к народному театру (Эволюция святочных игр в покойника) // Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974, с. 49—59-
Гусев 1977 — В. Е. Гусев. Истоки русского театра. Л., 1977.
Гъбюв 1926 — П. В. Гъбюв. Вярвания от Видинско Ц СбНУ, 1926, кн. 36, с. 155 159.
Даль, 4 — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 4 / Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. СПб.; М., 1912, т. 4
Даль 1957; 1959 — В. Даль. Пословицы русского народа. М., 1957; [то же] М., 1959.
ДаничиЬ 1975 — ChthhJh списи "Буре ДаничиЬа. Београд, 1975, кн». 3: Описи Ьирилских рукописа и издании текстова.
ДворниковиЬ 1954 — В. ДворниковиК. Три старинска гробла у Студеничком Kpajy Ц ГЕМБ, 1954, кн». 17, с. 5 39-
ДебелковиЬ 1907 Д Дебе/ьковиЪ. Обича]и српског народа на Косову Полу // СЕЗб, 1907, кн». 7, с. 173 332.
Дебелков иЬ 1934 — Д. Дебе/ъковиЬ. Вероватьа српског народа на Косову Полу Ц СЕЗб, 1934, кн». 50, с. 210 215.
Дзендзелевский 1972 — И. А. Дзендзелевский. Фразеология как материал для реконструкции (палеонтологии) утраченных лексем и их ареалов // Русское и славянское языкознание. М., 1972, с. 83—91.
Дзендзелевский 1974 И. А. Дзендзелевский. К вопросу о ♦Лингвистическо-этнографи ческом атласе культуры Карпат* (ЛЭАКК) // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974,
с. 107—111.
Дзендзелквський 1969 - Й. О. Дзендзел1всъкий. 3 етнограф1чних записке про ткацтво // Studia Slavica. Budapest, 1969, v. 15, p. 335—347.
Дзендзелквський 1969a — Й. (J. Дзендзел1всъкий. Укра!нсько-зах1днослов'янськ1 лексичш паралелГ Кшв, 1969.
Дилакторский 1902 — Л. А. Дилакторский. Словарь областного вологодского наречия в его бытовом и этнографическом применении. Вологда, 1902 / Словарная картотека ИРЯЗ РАН в СПб, шифр No 35. Рукопись.
Дмитрук 1927 Н. Дмитрук. Голод на Укра!н1, р. 1921 Ц Егнографкчний вгсник. Кшв. 1927, кн. 4.
Добровольский, 2 4 В. Н. Добровольский. Смоленский этнографический сборник. СПб., 1893, ч. 2 [Истинные песни. Свадебные песни. Смерть, но
Литератур а
477
хороны. Очерки семейных нравов] (ЗРГО, т. 23, вып. I); СПб., 1894, ч. 3 ^Пословицы] (ЗРГО, т. 23, вып. 2); М., 1903, ч 4 |Игрища, праздники, песни, детские игры и песни, духовные стихи] (ЗРГО, т. 27).
Добровольский 1908а — В Н. Добровольский. Нечистая сила в народных верованиях (по данным Смоленской губ.) // ЖС, 1908, вып. 1, с. I —16.
Добровольский 1914 — В. Н. Добровольский. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
Добруджа 1974 — Добруджа: Етнографски, фолклорни и езикови проучвапия. София, 1974.
Довженок 1990 Л кала сорока по зелешм гаю / Упор. Г. В. Довженок. Киш, 1990.
Довнар-Запольский 1895 — М. В. Довнар-Заполъский. Песни пинчуков. Киев, 1895. Доманицький 1912 — В. Доманицький. Народшй календар у Ровенсьюм повт, Волинсь-ко1 губернн // Матер^яли до укршнсько-русько! етнольогп. Льв>в, 1912, т. 15.
Дополнение к Опыту 1858 — Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858.
ДробюаковиЬ 1960 — Б. ДробгъаковйЬ. Етнолопда народа Лугославще. Београд, 1960, |deo] 1
ДучиЬ 1931 — С. ДучиК Живот и обича]и племена Куча. Београд, 1931 (СЕЗб, кн». 48).
ДушаниЬ 1954 — Св. Ст. ДушаниК. В]ерован»а и обичауи у вези са уби^еним курском Ц ГЕМБ, 1954, кн» 17, с. 167—170.
Дьяконова 1896 — О. А. Дьяконова. Село Соколово, Нолинского уезда, 1896 / Архив РАН в СПб. Рукопись.
Дьяченко 1899 — Г. Дьяченко. Полный церковно-славянский словарь. М.. 1899.
Бор^евиЬ Д. 1958 — Др. М. Tzopfyeeuh. Живот и обича^ народни у Лесковачко] Морави Београд, 1958 (СЕЗб, кн». 70).
Ъор^евиЬ Д. 1985 — Д. М. Tzopfyeeuh. Живот и обича]и народни у Лесковачком Kpajy. Лесковац, 1985.
ТзорЬевиЬ Т. 1931 — Т. Tjopfyeeuh. Наш народни живот. Београд, 1931, кн». 4.
Ъор^евиЬ Т. 1937—1939 — Т. Р. Tzopfyeeuh. Неколики самртни обича]и у Лужних Слове на // Годишн»ица Николе ЧупиЬа. Београд, 1937, kil 46, с. 75—103; 1938, кн». 47, с. 153—191; 1939, кн». 48, с 246 -292.
ТэорЬевиЪ Т. 1938а — Т. Tjopfyeeuh. Зле очи у верован»у Зужних Словсна. Београд, 1938 (СЕЗб, кн». 53).
Ббр1)евиЬ Т. 1941 — Т. Р. Ъор1}евик. Деца у верован»има и обича.]има нашего народа Београд, 1941
Ъор^евиЬ Т. 1958 — Т. Tjopljeeuh. Природа у верован»у и предан»у нашега народа. Беог рад, 1958, кн». 1, 2 (СЕЗб, кн». 71, 72).
478
Литература
БуриЬ 1934 — С. ЪуриК. Српски пародии обича)и у Горн»о] Крайни // СЕЗб, 1934, кн». 50, с. 196- 209.
Елина 1962 — В. Н. Елина. Лексическая группа «названия людей* в архангельских и псковских говорах Ц Слово в народных говорах Русского Севера. Л., 1962, с. 68—85.
ЕрделановиЬ 1951 — J. Ерде./ъановиЬ. Етнолошка rpafja о Шумадинцима. Београд, 1951 (СЕЗб, кн». 64).
Ефименко 1864 — П. Ефименко. Демонология жителей Архангельской губернии Ц Памятная книжка Архангельской губернии на 1864 год. Архангельск, 1864, с. 49—53.
Ефименко 1878 — П. С. Ефименко. Материалы по этнографии русского населения Ар хангельской губернии. М., 1878, ч. 2: Народная словесность (ИОЛЕАиЭ, т. 30. Труды этнографического отдела, кн. 5, вып. 2).
Живков 1974 — Т. И. Живков. Българската коледарска благословия Ц ИЕИМ, 1974, кн. 15, с. 55—88.
Жирмунский 1932 — В. М. Жирмунский. Методика социальной географии: Диалектоло гия и фольклор в свете географических исследований // Язык и литература. Л., 1932, вып. 8, с. 83—119.
Журавлев 1978 — А. Ф. Журавлев. Охранительные обряды, связанные с падежом скота, и их географическое распространение Ц СБФ, 1978, с. 71—94
Журавлев 1982 — А, Ф. Журавлев. Восточнославянская скотоводческая лексика и фра зеология в этнолингвистическом аспекте / Дисс. канд. филолог наук. М., 1982.
Заварицкий 1916 — Г. К. Заварицкий. Дьяволы разные // ЭО, 1916, № 1/2, с. 67—83.
Загадю 1972 — Загадю. Мшск, 1972 / Серия: «Беларуская народная творчасць*.
Заглада 1931 — Н. Заглада. Харчування в с. Старостин на Чершпвщиш // Матер1яли до етнологп. Киш, 1931, кн. 3, с. 83—196.
Захариев 1918 — Й. Захариев. Кюстендилско краище. София, 1918 (СбНУ, кн. 32).
Захариев 1935 Й. Захариев. Каменица. София, 1935 (СбНУ, кн. 40).
Зеленин 1911 —Д. К. Зеленин. «Обыденные* полотенца и обыденные храмы. (Русские народные обычаи) Ц ЖС, 1911, вып. 2, с. 1—20.
Зеленин, 1 —3 — Д. К. Зеленин. Описание рукописей Ученого архива Русского icorpa фического общества. Пг., 1914, вып. 1; 1915, вып. 2; 1916, вып. 3 (продолжающаяся пагинация].
Зеленин 1916 —Д. К. Зеленин. Очерки русской мифологии. Вып. 1: Умершие неестественной смертью и русалки. Пг., 1916-
Зеленин 1926 — Д. К. Зеленин. Женские головные уборы восточных (русских) славян Ц Slavia. Praha, 1926, г. 5, sv. 2, s. 303—338.
Литература
479
Зеленин 1927 — Д. Я. Зеленин. Схщньо-слов янсьга хл1боробсыа обряди качания й пере-кидання по земл! // Етнограф1чний вйсник. Ки!в, 1927, кн. 5, с. 1-10.
Зеленин 1929, 1930 — Д. К. Зеленин. Табу слов у народов Восточной Европы и Север ной Азии. Ч. I: Запреты на охоте и иных промыслах. Л., 1929 (СбМАЭ, т. 8 с. 1—151); ч. 2: Запреты в домашней жизни. Л., 1930 (СбМАЭ.т 9, с. 1—166).
Зеленин 1930а — Д. К. Зеленин. Загадочные водяные демоны «шуликуны» у русских Ц Lud Slowianski. Krakow, 1930, t. 1, z 2, dz. В, s 220—238.
Зеленин 1934 — Д. К. Зеленин. Имущественные запреты как пережитки первобытного коммунизма. Л., 1934.
Зеленин 1934а — Д. К. Зеленин. Религиозно-магическая функция фольклорных сказок Ц Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию науч но-общественной деятельности. 1882—1932. Сб. статей. Л., 1934, с. 215—240.
Земцовский 1975 — И. И. Земцовский Мелодика календарных песен. Л., 1975.
Зензинов 1913 — В. М Зензинов. Русское Устье Якутской области Верхоянского уезда // ЭО, 1913, № 1/2. с. 110—235.
Зернова 1932 — А. Б. Зернова Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитров ском крае // СЭ, 1932, № 3, с. 15—52.
ЗечевиЬ 1963 — С. ЗечевиЬ. Десна и лева страна у српском народном верован.у Ц ГЕМБ, 1963, кн>. 26, с. 195 201.
ЗечевиЬ 1966 — С. ЗечевиЬ Игре нашег посмртног ритуала Ц Rad XI Kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Novom Vinodolskom, 1964. Zagreb, 1966. s. 375—383.
ЗечевиЬ 1971 — С. ЗечевиЬ. Народна веровагьа у Свигьици Ц ЗРЕЙ, 1971, кн. 5, с. 89 -99.
ЗечевиЬ 1976 — С. ЗечевиК. Герман Ц ГЕМБ, 1976, кн.. 39—40, с. 249—263-
ЗечевиЬ 1978 С. ЗечевиЬ Самртни обича]и у околини 3ajeaapa Ц ГЕМБ, 1978, кн. 42, с 383—398.
ЗечевиЬ 1981 — С. ЗечевиЬ. Митска биЬа српских предагьа. Београд, 1981
ЗечевиЬ 1982 — С. ЗечевиЬ Култ мртвих код Срба. Београд, [1982]
Зимние праздники 1973 - Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. М., 1973.
Зймовыя necni 1975 - 31мовыя necni. Калядю i шчадроукг Мшск, 1975.
Золотарев 1964 — А. М. Золотарев. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964.
Иваницкий 1883—1889 — Н. А. Иваницкий. Материалы для словаря вологодского на родного говора (1883 — 1889) / Словарная картотека ИРЯЗ РАН в СПб, шифр № 42. Рукопись.
480
Литер атур а
Иваницкий 1890 — И. А. Иваницкий. Материалы по этнографии Вологодской губернии. М., 1890 (ИОЛЕАиЭ, т. 69- Гоуды этнографического отдела, т. 11, вып. 1).
Иванов А. 1901 — А И. Иванов. Верования крестьян Орловской губернии Ц ЭО 1901 .Nd 4, с. 68—118.
Иванов В. 1910 — В. Иванов. Приметы и поверья крестьян Витебского у. Витебской губ. Ц Записки Северо-западного отдела РГО. Вильна, 1910. кн. 1, С. 208—213.
Иванов П. 1889 И. Иванов. Народные обычаи, поверья, приметы, пословицы и загац ки, относящиеся к малорусской хате Ц Харьковский сборник. Харьков, 1889, вып. 3, отд. 2, с. 35—66.
Иванов П. 1907 — И. Иванов. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии. Харьков, 1907 (СХИФО, 1907, т 17).
Иванов, Топоров 1965 Вяч. Вс. Иванов, В. И. Топоров. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. Древний период. .М., 1965.
Иванов, Топоров 1974 — Вяч. Вс. Иванов, В И. Топоров. Исследования в области ела вянских древностей. М. 1974.
Иванов, Топоров 1982 — Вяч. Вс. Иванов, В. И. Топоров Славянская мифология // Мифы народов мира. М.. 1982, т. 2, с. 450—456
Ивашко 1969 — Л. А. Ивашко. Заметки по диалектной фразеологии Ц Вопросы теории и истории языка. Л., 1969.
Ивашко 1981 —Л. А. Ивашко. Очерки русской диалектной фразеологии. Л., 1981.
Ивлева 1974 — Л. ' Ивлева. Обряд. Игра Театр. (К проблеме типологии игровых явлений) // Народный театр. Л., 1974, с. 20—35-
Игнатьева 1974 — Л. Д. Игнатьева. Типы структурного варьирования фразеологических единиц с сравнительным компонентом Ц Вопросы современного русского литературного языка. Челябинск, 1974, вып. 8, с. 3-18.
Изборник — Изборник 1076 г. М., 1965.
ИИБЕ — Известия на Института за български език. София, 1956, кн. 4.
Илчев 1969 — С. Илчев. Речник на личните и фамилии имена у българите. София, 1969.
Ильинский 1929 — Г. А. Ильинский. Златоструй А. Ф. Бычкова XI века. София. 1929 / Серия: *Български старини», кн. 10
Илькевич 1841 — Галицки припов±дки и загадки зобранш Григорим Илькевичем. У ВЪд-ни. 1841.
Иорданская Мельчук 1980 — Л. Н- Иорданская, И. А. Мельчук. Коннотация в лингвистической семантике Ц Wiener Slawistische Almanach 1980, В. 6.
ЗанковиЬ 1951 — И. Б. JaHKoeuh. Астрономия у предан>има обича]има и умотворинама Срба Београд, 1951 (СЕЗб, кн». 63).
Литература
481
ЗовашевиЬ 1971 —Д. Д. Joeameeuh. Обича^ у Чачанском Kpajy // ЗНМЧ, 1971, кн». 2. Кабайда 1966 — А. В. Кабайда. 1з спостережень над зах!дно-укра1нськими лексичними д!алектизмами // ЕИсник (Льв1вський держ. ушв.). Сер. фитол., 1966, вин. 4, с. 88—93.
Кагаров 1913 — Е. Кагаров. Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. СПб., 1913.
Кагаров 1918 — Е. Г. Кагаров. Религия древних славян. М., 1918.
Кагаров 1929 — Е. Г. Кагаров. Что такое фольклор? // Художественный фольклор, 1929, вып. 4, 5, с. 3—8.
Ка]маковиЬ 1974 — Р. Ка^маковиЬ. Обича]и у вези са вуком код балканских народа Ц Рад XIV конгреса Савеза фолклориста Зугослави}е у Призрену. Београд, 1974, с. 631—634.
КарациЬ 1849; 1900; 1972 — В. С. Kapayuh. Српске народне пословице и друге различие као оне у обича] узете ри)ечи. У Бечу, 1849; [то же] Београд, 1900; Београд, 1972.
КарациЬ 1853 — В. С. Kapayuh. Српске народне припов]етке. У Бечу, 1853.
КарациЬ 1935 — В. С. Kapayuh. Српски р]ечник истумачен шемачкщем и латински}ем ри}ечима. Изд. 4. Београд, 1935.
КарациЬ 1953 — Вук Cm. Kapayuh. Српске народне njecMe. Београд, 1953, кн». 1.
КарациЬ 1957 — Вук Cm. Kapayuh. Живот и обича^ народа српскога. Београд, 1957.
Карпатский атлас — С. Б. Бернштейн, В. М. Иллич Свитыч, Г. П. Клепикова,
Т. В. Попова, В. В. Усачева. Карпатский диалектологический атлас. М. 1967, т. 1: Тексты; т. 2: Карты.
Карпов 1855 — И. И. Карпов. Краткий очерк простонародных слов, преимущественно Новоржевского, Опочецкого, Островского, Пороховского и Псковского уездов Псковской губернии и Осташковского Тверской. 1855 / Рукописный отдел Библиотеки РАН, шифр 17.10.16- Рукопись.
Кепов 1936 — И. Кепов. Народнописни, жнвотописни и езикови материал и от с. Бобо-шево, Дупнишко // СбНУ, 1936, кн. 17, с. 1—288.
Кирпичников 1879 — А. И. Кирпичников. Св. Георгий и Егорий Храбрый. СПб., 1879-Климчук 1978 — Ф- Д. Климчук. Песенная традиция западнополесского села Симоновичи // СБФ, 1978, с- 190-218.
Кличкова 1960 — В. Кличкова. Божикни обичаи во Скопска Котлина Ц ГЕМ С, 1960, кн. 1, С. 193—266.
Ковалева 1976 — Р. М. Ковалева. Белорусские кустовые песни / Автореферат дисс. канд. филол. наук. Минск, 1976.
Ковачев 1914 — Й. Д. Ковачев Народна астрономия и метеорология Ц СбНУ, 1914, кн. 30, с. 1—85.
/6
482
Литература
КовачевиЬ J. 1953 — J. КовачевиЬ. Среджовековна ноппьа балканских Словена. Београд, 1953.
КовачевиЬ К. 1887 — К. Ковачевиб. Вучари // БВ, 1887, год. 2, бр. 5, с. 71.
КовачевиЬ Р. 1978 — Р. КовачевиЬ. Без вукова и вучара Ц Политика, 8. XI, 1978.
Когнитивные аспекты языка 1988 — Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. М., 1988.
Коготкова 1966 — Т. С. Коготпкова. О некоторых особенностях диалектной лексики в связи с устной формой ее существования // Славянская лексикография и лексикология. М., 1966. с. 291—310.
Кокьяр 1960 —Дэю. Кокьяр. История фольклористики в Европе. М., 1960.
Колобов 1915 — И. В. Колобов. Русская свадьба Олонецкой губ- Ц 7КС, 1915, вып. 1/2, с. 21—90.
Колцуняк 1919 — Г. Колцуняк. Народи! хрести в Коломийщиш Ц Материали до украл:-сько! етнольогп. Львтв, 1919, т. 19—20, с. 215—229 + XXI табл.
Колядки 1965 — Колядки та щедрйвки. Зимова обрядова поез!я трудового року / Сост. О. 1. Дей. Ки!в, 1965.
Комарович 1936 — В. Л. Комарович. Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд. М., 1936.
Короленко 1954 — В. Г. Короленко. Собрание сочинений. М., 1954, т. 3.
Косменко 1984 — А. И. Косменко. Народное изобразительное искусство вепсов. Л., 1984.
Косогоров — А. И. Косогоров. Материалы для словаря Мещовского уезда Калужской губернии и другие диалектные материалы, б. г. / Словарная картотека ИРЯЗ РАН в СПб. Рукопись.
КостиЬ 1963 — П. Kocmuh. Разлике у новогодиппьим обича^ма у областима Косовско-ресавског и мла})ег херцеговачког говора Ц ГЕМБ, 1963, кн.. 26, с. 67—92.
КостиЬ 1964 — И. Kocmuh. Новогодншн>и обича]и // ГЕМБ, 1964, кн.. 27, с. 401—420.
КостиЬ 1965—1966 — П. Kocmuh. Новогодишн.и обича]и у Ресави // ГЕМБ, 1965 1966, кн.. 28/29, с. 191- 217.
КостиЬ 1968/1969 — П. Kocmuh. Годшшьи обича^ у Неготинско] Крайни // ГЕМБ, 1968/1969, кн.. 31—32, с. 363 -396.
КостиЬ 1978 — П. Kocmuh. Годиппьи o6u4ajH у Околини За]ечара Ц ГЕМБ, 1978, кн.. 42, с. 399—441.
КостиЬ 1984 — П. Kocmuh. Годиппьи обича;|и у Титовоужичком, Пожешком и Кодерич-ком Kpajy Ц ГЕМБ, 1984, кн.. 48, с. 311—339.
Костов 1971 — К. Костов. Наследен ли е от праславянско време днешният славянски пословичен израз от птиче мляко"! Ц БЕз, 1971, год. 21, кн. 2—3, с. 255—259.
Литература
483
Костолевский 1903 — И. В. Костоловский. Месть за обиду // ЭО, 1903, № 2, с. 115—116.
Костоловский 1909 — И- В. Костоловский. К поверьям о поясе крестьян Ярославской губернии // ЭО, 1909. № 1. с 48—50.
Крачковский 1873 — Ю. Ф. Крачковский. Быт западно русского селянина. М , 1874 (ЧОИДР, 1873, кн. 4 (87)).
Кузеля 1914, 1915 — 3. Кузеля. Посижше i забави при мерщ в украшсьюм похороншм обряд! // Записки Наукового товариства 1м. Шевченка. Льв!в, 1914, т. 121 1915, т. 122.
Куликовский 1890 — Г. И. Куликовский. Похоронные обряды Ц ЭО, 1890, № I, с. 44—60.
Куликовский 1898 — Г Куликовский. Словарь областного олонецкого наречия в его бы товом и этнографическом применении. СПб., 1898.
КулишиЬ 1940 — Bl. Kynuiuuh. Народна веровала и ман>и обичар! из Босанске KpajnHe Ц Етнолопда. Скопле, 1940, св. I, с. 51—55.
КулишиН и др. 1970 — Ш. Кулишик П. Ж. ПетровиЬ, М. ПантелиК Српски мито-лошки речник Београд, 1970
Кульжииский 1899 — С. К Кульжинский. Описание коллекции народных писанок. М., 1899, вып. 1 (Дубенский музей Е. Н. Скаржинской. Этнографический отдел).
Культурные концепты 1991 — Логический анализ языка. Культурные концепты / Под ред. Н. Д Арутюновой. М., 1991
Куркина 1973 — Л. В. Куркина. К реконструкции этимологических связей основ с дифтонгом на -и Ц Этимология. 1971. М., 1973, с 58—79.
Кушнер 1951 — П. И. Кушнер. Этнические территории и этнические границы. М., 1951 Лаврентьевская лет. — Лаврентьевская летопись Ц ПСРЛ. Л., 1926, т. I.
Левина 1928 — И. М. Левина. Кукольные игры в свадьбу и «метище» // Крестьянское искусство СССР, вып. 2. с. 201 234.
Лернер 1913 — Н. О. Лернер. Заметки о Пушкине Ц Пушкин и его современники: Ма териалы и исследования. СПб 1913, вып. 16.
Лилек 1894 — Е. Лилек. BjepcKe старине из Босне и Херцеговинс Ц GZM, 1894, knj. 6, s. 141—166, 259-281, 365—388, 631 674.
Лисенко М. 1875 — М. Лисенко. Молодищи. Зб!рник танюв та веснянок. Кшв, 1875.
Лисенко П. 1958 — П. С. Лисенко Словник специфгчно! лексики правобережно! Черка-щини // Лексикографйчний бюлетень Кшв, 1958, [вып.) 6, с. 5—21
Лихачев 1979 — Д. С. Лихачев. Стилистическая симметрия в древнерусской литературе // Проблемы современной филологии. М., 1965, с. 418—423; [то же) //Поэтика древнерусской литературы. М., 1979, с. 169 175
484
Литература
Ломоносов 1940 — М. В. Ломоносов. Избранные философские сочинения. М., 1940.
Лотман 1967 — Ю М. Лотман. Об оппозиции «честь* — «слава» в светских текстах Киевского периода Ц Егщегштгхг;. 'Груды по знаковым системам. 3. Тарту, 1967, с. 100 112.
Лотман и др. 1981 — Ю. М. Лотман, Н И. Толстой. Б. А. Успенский. Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVI11 в Ц Известия АН СССР. Серия литературы и языка М-, 1981, т. 40, № 4, с. 312—323.
Луканин 1856 — А. Луканин. Сборник простонародных слов, употребляемых в Перм ском, Кунгурском, Осинском, Оханском, Соликамском и Чердын ском уездах Пермской губернии 1856 / Словарная картотека ИРЯЗ РАН в СПб. Рукопись.
Любенов 1887 — II Ц. Любенов. Баба Яга, или Сборник от различии вярвания, народ ни лекувания, магии, баяния и обичаи в Кюстендилско. Търново, 1887.
Мавродинова 1969 — Л. Мавродинова. Св. Теодор — развитие и особенности на иконо графския му тип в средновековната живопис // Известия на Ин ститута за изкуствознание. София, 1969, кн. 8, с. 33—52.
Магницкий 1884 — В К. Магницкий. Особенности русского говора в Уржумском уезде Вятской губернии Ц Известия Казанского общества археологии, истории и этнографии. Казань, 1884, т. 5, с. 1— 73 [наг. 2-я].
Магницкий 1877 — В Магницкий. Песни крестьян села Беловолжского Чебоксарского уезда Казанской губернии Казань, 1877
Макаренко 1913 — А. Макаренко. Сибирский народный календарь в этнографическом отношении. Восточная Сибирь. Енисейская губерния- СПб., 1913 (ЗРГО, т. 36).
Макаров 1848 — М. Макаров. Опыт русского простонародного словотолковника. Б/м., б. г. (отдельный оттиск из ЧОИДР, 1848)
Максимов А. 1927 — А. Н Максимов Пахание реки Ц Труды Этнографо-археологического музея Его МГУ. М., 1927, (вып. 3], с. 15 -20.
Максимов С. 1891; 1899, 1955 — С. Максимов Крылатые слова. СПб., 1891; изд. 2. М., 1899; изд. 3- М., 1955.
Максимов С. 1899а — С. Максимов. Нечистая сила. СПб., 1899.
Максимов С. 1903; 1989 — С. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903; (то же) М., 1989.
Малинка 1902 — А. Н Малинка Сборник материалов по малорусскому фольклору. Чернигов, 1902.
Малыхин 1861 — П Малыхин. Город Нижнедевицк и его уезд Ц Воронежский литературный сборник. Воронеж, 1861, вып. I.
Л итератпур а
485
Маринов 1914 — Д Маринов. Народна вяра и религиозни народни обичаи. София, 1914 (СбНУ, кн. 28).
Маркович 1972 — Павло Маркович. Украднсью писанки Схгдно! Словаччини. Пряшев, 1972 (Науковий зб!рник Музею украднсько! культури в Свиднику).
Мартинов 1958 — А. П. Мартинов. Народнописни материали от Граово Ц СбНУ, 1958, кн. 49.
Маслова 1978 — Г. С. Маслова. Орнамент русской народной вышивки. М., 1978.
Матвеев — А. К. Матвеев. Словарь говора д. Кевролы, Пинежского р-на Архангельской области, б- г. / Словарная картотека ИРЯЗ РАН в СПб- Рукопись.
Машкин 1862 — А. С. Машкин. Быт крестьян Курской губернии Обоянского уезда // Этнографический сборник РГО. СПб., 1862.
Мейе 1938 — А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
Мейе 1954 —А. Мейе. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954. Мельников 1956 — П. И. Мельников (А. Печерский). В лесах. М., 1956, т. 1, 2. Метлинский 1854 — А. Л. Метлинский. Народные южно-русские песни. Киев, 1854. Ми]атовиЬ М. 1909 — М. Mujamoeuh. Народна медицина Срба селака у Левчу и Темни-hy // СЕЗб, 1909, кн» 8, с. 259- 482.
Ми]атовиЬ С., БушетиЬ Т. 1925 — С. М. Mujamoeuh, Т. М. БушетиК Технички радови Срба сел>ака у Левчу и ТемниЬу. Различите rpafja за народни живот и обича^ // СЕЗб, 1925, кн». 32, с. I —168.
МидатовиЬ С. 1928 — С. М. Mujamoeuh. Закати и еснафи у Распни. Београд, 1928 (СЕЗб, кн». 42).
МилиЬевиЬ 1894; 1984 — М. Т. Mmiuheeuh. Живот Срба сел»ака. Београд, 1894 (СЕЗб, кн». 1); [то же] Београд, 1984 / Библиотека «Баштина*, кн». 10.
Миллер 1910 — А. А. Миллер. Из поездки по Абхазии в 1910 г. // Материалы по этнографии России. СПб., 1910, т. 1, с. 61 — 80.
МилосавлевиЬ 1913 — С. М. Милосавл>евиЬ. Српски народни обича]и из среза Хомол>-ског Ц СЕЗб, 1913, кн». 19, с. 1—442.
Милланов 1990 — М. Мшъанов ПоповиЬ. Сабрана дела. Титоград, 1990, кн». 1, 2. Минцлов — С. Г Минцлов Под шум дубов. Берлин, б. г.
Минх 1890 — А. Я. Минх. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии, собранные в 1861 —1888 гг. // ЗРГО, 1890, т. 19, вып. 2. с. 65 -176.
МиодраговиЬ 1914 — J. МиодраговиК Народна педагогов у Срба или како наш народ подиже пород CBOj. Београд, 1914.
Мирчев, Кодов, 1965 — Я. Мирчев, Хр. Кодов. Енински апостол. Старобългарски памет ник от XI в. София, 1965.
МиИовиИ 1952 — Л). Muhoeuh. Живот и обича]и Поповаца. Београд, 1952 (СЕЗб, кн». 65).
486
Литература
Митрофанова 1968 — В. В. Митрофанова. Загадки. Л., 1968 / Серия: «Памятники русского фольклора».
Михельсон, 1.2 — М. И. Михельсон. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. [СПб ], б. г., т. 1, 2.
Младенов 1941 — С. Младенов. Етимологически и прав описей речник на българския книжовен език. София, 1941.
МладеновиИ 1954 — О. МладеновиЯ Народне игре на Беле Покладе у Велико) Иванчи // ГЕМБ, 1954, кн». 17.
Мокиенко 1973 — В. М. Мокиенко. Историческая фразеология: этнография или лингвистика? Ц ВЯ, 1973, № 2, с 21—34.
Мокиенко 1976 — В. М. Мокиенко. Структурно-семантическая диффузия русской и чешской фразеологии // ССл, 1976, № 1, с. 74 -78.
МомировиЬ 1972 — П. МомировйЯ Риболов на Велико) Морави. Нови Сад, 1972.
Мочалова 1985 — В. В. Мочалова- Мир наизнанку. М., 1985.
Мошински 1933 — К. Мошински. Сълзи и дъжд Ц Сборник в чест на проф. Л. Милетич. София, 1933, с. 475—478
Народная гравюра 1976 — Народная гравюра и фольклор в России XVII—XVIII вв. М., 1976.
Народны театр 1983 — Народны театр. Мшск, 1983 / Серия: «Беларуская народная творчасць».
Наумов — Д. В. Наумов. Слова народного языка села Верхозима, б- г. / Словарная картотека ИРЯЗ РАН в СПб. Рукопись.
Невская 1973 — Л. Г. Невская. Балтийская географическая терминология в сопоставлении со славянской (к семантической типологии) / Автореферат дисс. канд. филол. наук. М., 1973.
Нечаев 1939 — А. Н. Нечаев. Сказки карельского Беломорья. Петрозаводск, 1939, т. 1.
Нидерле 1924 — Л. Нидерле. Быт и культура древних славян. Прага, 1924.
Никифоров 1927 — А. И. Никифоров. К вопросу о картографировании сказки // Сказочная комиссия в 1926 г. Обзор работ. Л., 1927, с. 60- 70.
Никифоров 1928 — А. И. Никифоров. К вопросу о морфологическом изучении народной сказки Ц Статьи по славянской филологии и русской словесности. Л., 1928, с. 173-178 (СбОРЯС, т. 101, № 3).
Никифоровский 1895 — Н. Я. Никифоровский. Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности. Этнографические данные. Витебск, 1895-
Никифоровский 1897 — Н. Я. Никифоровский. Простонародные приметы и поверья. Витебск, 1897.
Литер атур а
487
Никифоровский 1907 — Н. Я. Никифоровский. Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильна, 1907 [отдельный оттиск из изд. ♦Виленский временник*, кн. 2].
Никифоровский 1914 — Н. Я. Никифоровский. Полупословицы и полупоговорки, употребляемые в Витебской Белоруссии Вильна, 1914 (Записки Северозападного отдела РГО, 1913, кн. 4).
НиколиЬ 1961 — В. НиколйЬ. Природа у верован»има и обича]има у Cpere4Koj Жупи Ц ГЕИ, 1961, кн». 9, 10, с. 113—137.
НиколиЬ-ОпцанчевиЬ 1974 — В. НиколибСтоданчевиЬ. Вран»ско Поморавле. Етнолошка испитиван»а. Београд, 1974 (СЕЗб, кн». 86).
Николова-Гълъбова 1968 7К. НиколоваГълъбова, К. Гълъбов. Българско-немски фра
зеологичен речник. София, 1968
Никольский 1903 — А. Никольский. Народные говоры Жиздринского уезда Калужской губернии Ц РФВ, 1903, т. 69, № 1/2.
Н1мчук 1980 В В. Н1мчук. Староукрашська лексикограф]я в н зв'язках з росшською та бьлоруською. Кшв, 1980.
НоваковиЬ 1877 С. НоваковиЬ. Српске народне загонетке. Панчево, 1877.
Новгородская лет Новгородская 4-я летопись // ПСРЛ. Пг., Л., 1915—1929, т. 4, ч 1.
Номис 1864 М Номис. [М. Симонов]. Украгнсью приказки, присгпвъя и таке инше. СПб., 1864.
Носович 1870 — И. И. Носович. Словарь белорусского наречия. СПб-, 1870.
НушиЬ 1902 Б. НуииФ. Косово, опис земл>е и народа. Нови Сад, 1902, св. 1.
Обредни песни 1962 Обредни песни. София, 1962 / Серия: ♦Българско народно творчество*, т. 5.
Обредни песни 1981 — Българска народна поезия и проза. София, 1981 т. 2: Обредни песни.
Ончуков 1908 — Н. Е. Ончуков. Северные сказки (Архангельская и Олонецкая гг.) СПб., 1908 (ЗРГО, т. 33).
Ончуков 1911 — Н. Е. Ончуков Северные народные драмы. СПб., 1911.
Онышкевич 1984 М. Й. Онишкевич. Словник бойювських гов1рок. Кшв, 1984, ч. 1 (А-Н); ч. 2 (О-Я).
Опыт 1852 — Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852
ПавловиЬ J. 1921 — J. М. Павловой. Живот и обича.)и народни у Крагудевачко] Засеници у Шумади)и. Београд, 1921 (СЕЗб, кн». 22)
ПавловиЬ J. 1929 — J. М. Павловиб. Малешево и Малешевци (етнолошка испитиван»а). Београд. 1929.
ПавловиЬ М. 1939 — М. ПавловиЬ. Говор Сретечке Жупе. Београд, 1939.
Павловский 1863 — А. Павловский. Поездка из Якутска на Угорную ярмарку Ц Записки Сибирского отдела И мп. РГО, 1863, т. 6, отд. 1
488
Литература
Памятники 1908 — Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1: (Памятники XI—XV вв.) // РИБ. Изд. 2. СПб., 1908, т. 6.
ПантелиЬ 1974 — Н. ПантелиЬ. Етнолошка гра^а из Буцака Ц ГЕМБ, 1974, кн>. 37, с. 179—228.
Панченко 1974 — А. М. Панченко. Юродство как зрелище // Вопросы истории русской средневековой литературы. Л., 1974, с. 144—153 (ТОДРЛ, т. 29).
Патканов, Зобнин 1899 — Патканов, Ф. Зобнин. Список тобольских слов и выражений, записанных в Тобольском и Тюменском, в Курганском и Сургутском округах Ц 7КС, 1899, вып. 4, с. 487—518.
Пеньковский 1991 — А. Б. Пеньковский. Радость и удовольствие в представлении русского языка Ц Логический анализ языка. Культурные концепты / Под ред. Н. Д. Арутюновой. М., 1991, с. 148—155.
Перетц 1894 — В. Н. Перетц. Деревня Будогоща и ее предания Ц 7КС, 1894, вып. 1, с. 3—18.
Перфецкий 1915 — Е. Перфецкий. «Холерные» кресты // 7КС, 1915, Приложение № 3, с. 036—037.
Петров В. 1927 — В. Петров- В1рування в вихор i чорна хвороба Ц Етнографдчний в1сник. Ки1в, 1927, кн. 3, с. 102—116.
ПетровиЬ 1932 — П. Ж. ПетровиЪ. Опасивагье цркава // ГЕМБ, 1932, кн,. 7, с. ПО 112.
ПетровиЬ 1948 — П. Ж. ПетровиК Живот и обича]и пародии у Гружи. Београд, 1948 (СЕЗб, кн,. 58).
ПетровиЬ 1960 — П. Ж. ПетровиЬ. Мотив лудских очи]у код балканских Словена // ГЕМБ, 1960, кн,. 22, 23, с. 33—56.
ПеЬо 1925 — A>. Heho. Обича]и и верован>а из Босне Ц СЕЗб, 1925, кн>. 32, с. 359—386.
Пирински край 1980 — Пирински край. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1980.
Пловдивски край 1986 — Пловднвски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1986.
Плотников 1919 — В. Плотников. Микула Селянинович и св. Николай. Курск, 1919.
Плотникова 1982 — А. А. Плотникова. Сербскохорватская календарно-обрядовая терминология в сопоставлении с русской (на материале святочного цикла) / Дипл. раб. МГУ., 1982.
Плотникова 1993 — А. А. Плотникова. Об одном новогоднем обряде у сербов // Philolo-gia slavica. К 70-летию академика Н. И. Толстого. М., 1993, с. 134—142.
Подвысоцкий 1885 — А. О. Подвысоцкий. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
Литер атпур а
489
Покровский 1887 — Е. А. Покровский Детские игры преимущественно русские М , 1887.
Полесский атлас 1986 — Материалы к Полесскому этнолингвистическому атласу Опыт картографирования Ц СБФ, 1986, с. 3—43.
Полесье 1983 — Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983.
Померанцева 1975 — 3. В. Померанцева. Мифологические персонажи в русском фольк лоре. М., 1975.
Понов В. 1860 — В. П. Попов. О народном говоре Орловской губернии // Орловские губернские ведомости. Орел, 1860, № 5, часть неофициальная, с. 48—51.
Порохова 1968 — О. Г. Порохова. Из истории лексики. Слова с корнем благ/блаж в русском языке Ц Слово в русских народных говорах. Л. 1968, с. 181 202.
Потанин 1864 — Г. Н. Потанин. Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отношении // Этнографический сборник РГО, 1864, вып. 6, с. 1 — 154
Потанин 1883 — Г. Н. Потанин. Очерки Северо-западной Монголии. СПб., 1883, вып. 4: Материалы этнографические.
Потебня 1860; 1989а — А. А. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1860; [то же] // А. А. Потебня. Слово и миф. М , 1989, с. 285—378.
Потебня 1865 — А. А. Потебня. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. I. Рождественские обряды // ЧОИ ДР, 1865, кн. 2, с. 1—84.
Потебня 1868 — А. А. Потебня. Переправа через реку, как представление брака // Древности. М., 1868, ноябрь декабрь, с. 254 266.
Потебня 1881 — А. А. Потебня. Этимологические заметки ]] РФВ, 1881. т. 5, №. 1. с. 143—155.
Потебня 1881а — А. А. Потебня. К истории звуков русского языка. 111. Этимологиче ские и другие заметки. Варшава, 1881 [отдельный оттиск из РФВ, 1880].
Потебня 1883, 1887 — А. А. Потебня. Объяснение малорусских и сродных народных песен. Варшава, 1883, т. 1; 1887, т. 2.
Потебня 1914 — А. А. Потебня. Из лекций по теории словесности. Басня Пословица Поговорка. Харьков, 1914.
Потебня 1976 — А. А. Потебня. Эстетика и поэтика. М., 1976.
Потебня 1989 — А. А. Потебня. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий Ц А. А. Потебня. Слово и миф. М , 1989, с. 379—444.
Поэзия 1970 — Поэзия крестьянских праздников. Л., 1970 / «Библиотека поэта*. Боль
шая серия.
490
Литература
Примитив 1983 — Примитив и его место в художественной культуре нового и новейшего времени. М., 1983.
Пришвин 1931 — М. Пришвин. Собрание сочинений. М.; Л., 1931. т. 3.
Пришвина 1984 — В. Пришвина. Путь к слову. М., 1984.
Прокопий 1950 Прокопий Кесарийский. Война с готами. М.» 1950-
Прокошева 1972 — К. Н. Прокошева. Материалы для фразеологического словаря говоров Северного Прикамья. Пермь, 1972.
Пропп 1928 — В. Я. Пропп. Морфология сказки. Л., 1928.
Пропп 1946 — В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.
П-ский 1885 — Борис П-ский. Воспоминание из недалекого прошлого Ц Киевская ста рина. Киев, 1885, т. 11, февраль, с. 241 267.
Псковский словарь — Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967—, вып. 1 —
РаденковиЬ 1977 — Л>. Раденковик. Структурно-типолошке карактеристике знаковности писаних магщских формула и других ба]аличких форми // Науч-ни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1977, кн>. 7, св. I, с. 387- 404.
РаденковиЬ 1981 — Л>. РаденковиК О значен»у ]едног сакралног текста о конопли или лану код словенских и балканских народа Ц Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1981, кнэ. 11, с. 207—217.
РаденковиЬ 1982 — Лэ. РаденковиЬ. Народце басме и ба]ан»а. Ниш; Приштина; Kparyje вац, 1982.
Радо]ичиЬ 1953 — Б. Сп. Padojuuuh. Световна похвала кнезу Лазару и косовским jy»a цима Ц Зужнословенски филолог. Београд, 1953/54, кн>. 20.
Радо^ичиЬ 1962 — Б. С. Padojuuuh. Разводи лук старе српске юьижевности. Текстови и коментар. [Нови Сад, 1962].
РадосавлевиЬ 1899 — М. М. Радосав/ъевиЯ Приложак народно] педагогици и верова-н.у // БВ, 1899, год. 14.
Радченко 1888 — 3. Радченко. Гомельские народные песни Ц ЗРГО, 1888, т. 13, вып. 2.
Редько А. 1899 — А. Редько. Нечистая сила в судьбах женщины-матери Ц ЭО, 1899. № 1, 2, с. 54—131.
Редько Ю. 1966 — Ю. К. Редько. Сучасш укралнсью прозвища. Ки!в, 1966.
PMJ — Речник на македонскиот ]азик со српскохрватски толкуван»а. Скоп]е, 1961—1966, т. 1—3.
РМНП — Речник на македонската народна поези]а Скоп]е, 1983, т. 1 (А—Г).
Ровинский 1901, 1905 — П. Ровинский. Черногория в ее прошлом и настоящем. СПб., 1901, т. 2, ч. 2 (СбОРЯС, 1901, т. 69, № I); 1905 т. 2 ч. 3 (СбОРЯС, т. 80, № 2).
Родопски сб. 1965 — Родопски сборник. София, 1965, т. 1.
Литература
491
Романов 1891 — Е. Р. Романов. Белорусский сборник. Витебск, 1891, вып. 4: Сказки космогонические и культурные.
РСБКЕ — Речник на съвременния български книжовен език. София, 1954 —1959, т. 1 -3
PCKHJ — Речник српскохрватског кььижевног и народног je3HKa. Београд, 1962, кн>. 2; 1969, кн». 4.
РусиЬ 1934 — Б. Pycuh. Joui нешто о опасиван»у цркава — манастира и мртваца Ц ГЕМБ, 1934, кн». 9, с. 95—99.
Русские сказки 1971 — Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI—XVII века). Л., 1971.
Рыбаков 1974 — Б. А. Рыбаков. Языческое мировоззрение русского Средневековья Ц Вопросы истории, 1974, № 1, с. 3—30.
Рязановский 1916 — Ф. А. Рязановский. Демонология в древнерусской литературе. М., 1916.
СавковиЬ 1987 — Д. СавковиЬ. Етнографске карактеристике Крушевачког npaja // Етно-лошке свеске. Београд, 1987, кн». 8, с. 217—225.
Савушкина 1976 — Н. И. Савушкина. Русский народный театр. М., 1976.
Садовников 1959 — Д. Н. Садовников. Загадки русского народа. М., 1959.
Саскевич 1983 — Н. А. Саскевич. Легенда о каменном кресте Ц Полесье и этногенез славян. М., 1983, с. 145—147.
Сахаров 1849 — И. Сахаров. Сказания русского народа. СПб., 1849, т. 2, кн. 7: Русская народная годовщина.
Сборник ответов 1958 — Сборник ответов на вопросы по литературоведению. IV Международный съезд славистов. М., 1958.
СГСР — Словарь говоров Соликамского района Пермской области. Пермь, 1973.
Седакова И. 1984 — И. А. Седакова. Лексика и символика святочно новогодней обряд ности болгар / Дисс. канд. филолог, наук. М. 1984.
Седакова О. 1983 — О. А. Седакова. Материалы к описанию полесского погребального обряда // ПЭС, с. 246—262.
Седакова О. 1983а — О. А. Седакова. Обрядовая терминология и структура обрядового текста (погребальный обряд восточных и южных славян) / Дисс. канд. филолог, наук. М., 1983.
Седов 1979 — В. В. Седов. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
Селиванов 1886 — А. Селиванов. Этнографические очерки Воронежской губернии: На родные приметы и поверья Ц Воронежский юбилейный сборник. Воронеж, 1886, т. 2, с. 69—115.
Сержпутовский 1906 — А. К. Сержпутовский. Памуорак // ЖС. 1906, вып. 4, с. 75, 76.
Сержпутоусю 1930 — А. В. Сержпутоуски Прымх! i забабоны беларусау-паляшукоу. Менск, 1930 (Беларуская этнограф!я у досьледах i матар'ялах. Кн. 7)
492
Литература
Серошевский 1896 — В. Л. Серошевский. Якуты. Опыт этнографического исследования. СПб., 1896, т. 1.
Симина — Г. Я. Симина. Этнографические материалы с Пинеги. Рукопись.
Скок 1959 — П. Скок. Об этимологическом словаре хорватского или сербского языка Ц ВЯ, 1959. № 3, с. 91 -101.
Словарь старожильческих говоров — Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Томск, 1964—1967, т. 1—3-
СлРЯ 11 —17 вв. — Словарь русского языка 11 17 вв. М., 1975—, т. 1—.
Смирнов С 1912 — С. Смирнов. Материалы для истории древнерусской покаянной дис циплины (тексты и заметки) Ц ЧОИ ДР, 1912, т. 242, кн. 3 (отд. пагинация]. Приложение к кн.: С. Смирнов. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта. М., (1913]
Смирнов 1О. 1978, 1981, 1984 — Ю. И. Смирнов. Эпика Полесья Ц СБФ, 1978, с. 169 — 219; Эпика Полесья (по записям 1975 г.) Ц Там же, 1981, С- 224 268; Эпика Полесья по записям 1976 г. Ц Там же, 1984, с. 179 216.
Смирнова 1966 — О. И. Смирнова Один из случаев энантиосемии Ц Лексикология и словообразование древнерусского языка. М., 1966, с. 56—68.
Снегирев 1838 — И. М. Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1838, вып. 2.
Соколов 1926 — Ю. М. Соколов. Очередные задачи изучения русского фольклора Ц Художественный фольклор, 1926, вып. 1, с. 5—29.
Соколов 1941 — Ю. М. Соколов. Русский фольклор. М., 1941.
Соколова 1979 — В. К. Соколова. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX — начало XX в. М., 1979
Соссюр 1977 — Ф. Соссюр. Курс общей лингвистики // Ф. Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 31 285.
Сперанский 1899 — М. Сперанский. Из истории отреченной литературы 11. Трепетники СПб., 1899 (Памятники древней письменности и искусства, т. 131)
Спировска 1975 Л. Спировска. Некоей драмски елементи в обича]от василица в село Лисиче (Титоввелешко) // МФ, 1975, год. 7, бр. 15—16 с. 363 -367.
СРГНО Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск. 1979-
СРГСУ — Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск. 1964. т. 1.
Срезневский 1866 И. И. Срезневский. Сообщения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. XXI XXX Ц Записки Имп. Академии наук. СПб., 1866, т. 9, кн. 2.
Литература
493
Срезневский, 1—3 — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам СПб., 1893—1912, т. 1—3-
СРНГ — Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965—, вып. 1—. Стаменова 1982 — Ж. Стаменова. Кукери и сурвакари София. 1982.
Степанец 1910 — Б. Степанец. Крестьянская свадьба в южном Полесье Ц Записки Северо-западного отдела РГО. Вильна, 1910, кн. 1, с. 44—120.
Стоилов 1901 — А. П. Стоилов. Молба за дъжд Ц СбНУ, 1901, кн.18, с. 641—652. Стойкова 1970 — С. Стойкова. Български народни гатанки. София, 1970.
Страхов 1979 — А. Б. Страхов. Балтославянский миф о происхождении аиста и античные параллели Ц Balcano-Balto-Slavica. М., 1979, с. 106—108.
Страхов 1983 — А. Б. Страхов. Полесское буськовы лапы, галёпа // ПЭС, с. 205—212. Строгова 1967 — В. П. Строгова. Об особенностях слова «памха*- в новгородских говорах Ц Программа и тезисы докладов к IX научно-методической конференции Северо-западного зонального объединения кафедр русского языка педагогических институтов. Л., 1967, ч. 2, с. 79—80.
Строгова 1987 — В. П. Строгова. Этнографические материалы из Новогородской области. 1987. Рукопись.
Судник 1983 — Т. М. Судник. К описанию одного белорусского (восточнославянского) заговора Ц Текст: семантика и структура. М., 1983, с. 184—-192.
Съезд славистов 1987 — IX Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Фольклористика. Историческая проблематика. Круглые столы. Киев, 1987, с. 10 13.
Сэпир 1934 — Э. Сэпир. Язык. М.; Л., 1934.
ТановиЬ 1927 — С. ТановиЬ. Српски народни o6h4bJh у ЪевЬ)ели)скоз казн. Београд, 1927 (СЕЗб, кн>. 40).
ТановиЬ 1955—1957 — С. ТановиЬ. Народна ора у околини Ъев^ел^е Ц ГЕИ, 1955— 1957, кн». 4—6, с. 261—302.
Танцювальш nicHi 1970 — Танцювальш шсш. Кшв, 1970 / Серия: «Украшська народна творчють*.
Телбизов 1963 К. Телбизов, М. Векова Телбизова. Традиционен бит и култура на ба натеките българи Ц СбНУ, 1963, кн 51, с. 76—87.
Терновская 1975 — О. А. Терновская. Понятие диалекта и принципы классификации славянских диалектов Ц ССл, 1975, № 5, с. 47 58.
Терновская 1977 — О. А. Терновская. Лексика, связанная с обрядами жатвенного цикла (материалы к словарю) Ц СБЯ, 1977, с. 77—130.
Тимофеев 1962 — 3. П. Тимофеев. Материалы для областного словаря Зауралья. Шадринск, 1962 / Словарная картотека ИРЯЗ РАН в СПб. Ру
копись.
494
Литература
Тимченко, 1 — 1сторичний словник украшського язика / Пщ ред. проф. С. Тимченка. Харьюв; Киш, 1930, 1932, т. I. вин. 1 2.
Тихоницкая 1938 — Н. Н. Тихоницкая. Русская народная игра «Просо сеяли* Ц Советская этнография. Сб. статей. М.; Л., 1938, сб. 1, с. 145—166.
Тихонравов 1863 — Н. Тихонравов. Памятники отреченной русской литературы. М.. 1863, т. 2.
Тодоров 1972 — Е. Тодоров. Древнефракийское наследие в болгарском фольклоре. София, 1972.
Токарев 1959 — С. А. Токарев. Сущность и происхождение магии Ц Исследования и материалы .о вопросам первобытных религиозных верований. М., 1959, с. 2-75-
Толковая Библия Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания. СПб , 1908—1910, 1913, кн. 2, т. 6.
Толстая 1984 — С. М. Толстая. Трагови старе српске и старе руске апокрифне тради-UHje у фолклору Полесда Ц Научни састанак слависта у Букове дане. Београд, 1984, кн». 14, с. 237—247.
Толстая 1986 — С. М. Толстая. Лягушка, уж и другие животные в обрядах вызывания и остановки дождя // СБФ, 1986, с. 22—27.
Толстая 1986а — С. М. Толстая. Пахание реки // Там же, 1986, с. 18—22.
Толстая 19866 — С. М. Толстая. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиа-лектному словарю. Д- И. // СБЯ, 1986, с. 98 131.
Толстая 1986в — С. М. Толстая. Солнце играет Ц СБФ, 1986, с. 8—11.
Толстая 1989 С. М. Толстая. Терминология обрядов м верований как источник реконструкции древней духовной культуры Ц СБФ, 1989, с. 215 229.
Толстая 1994 — С. М. Толстая. Зеркало в традиционных славянских верованиях и обрядах Ц СБФ, 1994, с. 111 —129.
Толстой А. 1948 — А. Н. Толстой. Поли. собр. соч. М., 1948, т. 12.
Толстой 1965 — Н. И. Толстой. Из географии славянских слов: 3. правый левый; 4. хорохориться; 5- класть // ОЛА. МиИ, 1965, с. 133—147.
Толстой 1968 — Н. И Толстой. Некоторые проблемы сравнительной славянской сема сиологии // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968. с. 339—365-
Толстой 1968а Н. И. Толстой. Об изучении полесской лексики // Лексика Полесья. М., 1968, с. 3—19.
Толстой 1969 — Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. М., 1969.
Толстой 1970 — Н. И. Толстой. Из великорусской диалектной семантики Ц Проблемы истории и диалектологии славянских языков. М., 1970,
с. 259 266.
Литература
495
Толстой 1972 — М. I. Толстой. Rutheno-serbica Ц Беларускае i слав/.нскае мовазнауст-ва. Мшск, 1972, с. 270- 274.
Толстой 1973 — Н. И. Толстой. О реконструкции праславянской фразеологии // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973. с. 272—293.
Толстой 1973а — Н. И. Толстой. Об одной карпатско- южнославянской изопрагме // Симпозиум по проблемам карпатского языкознания. М., 1973, с. 50-55.
Толстой 1974 — Н. И. Толстой. Из заметок по славянской демонологии. I. Откуда дьяволы разные? // Sr)p.Ei(DTLxr). Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. 1 (5). Тарту, 1974, с. 27 -32.
Толстой 1974а — Н. И. Толстой. Некоторые вопросы соотношения лингво- и этногео-графических исследований Ц Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974, с. 16 -33.
Толстой 1976 — Н. И. Толстой. Из заметок по славянской демонологии. 2. Каков облик дьявольский? Ц Народная гравюра и фольклор в России XVII XIX вв. М., 1976, с. 288—319.
Толстой 1976а — Н. И. Толстой Плакать на цветы. Этнолингвистическая заметка // Русская речь. М., 1976, № 4, с. 27 - 30.
Толстой 19766 — Н. И. Толстой. Из географии славянских слов. 8. Радуга Ц ОЛА. МиИ, 1976, с. 22—76.
Толстой 1977 — Н. И. Толстой. Уз проблем словенских лексичких изоглоса. Српскохр-ватска лексика у општесловенском оквиру Ц Научи и састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1977, кн>. 6, св. I, с. 113—121.
Толстой 1977а И. И. Толстой. Заметки по славянской фразеологии: Здрав као ри ба // Zbornik radova povodom 70. godisnice zivota akademika Jova-na Vukovica. ANU BiH. Posebna izdanja, knj. XXXIV. Sarajevo, 1977, knj. 6, s. 397- 405.
Толстой 19776 — H. И. Толстой. О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии Ц Ареальные исследования в языкознании и этнографии. М., 1977, с. 37—56.
Толстой 1979 — Н. И. Толстой. Этногенетический аспект исследования древней славянской духовной культуры Ц Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1979, с. 17-26.
Толстой 1979а — Н. И. Толстой. Элементы народного театра в южнославянской свя точной обрядности // Театральное пространство. М., 1979, с. 308—326.
496
Литература
Толстой 1980 — Н. И. Толстой. Атлас духовной культуры Полесья: Лингвистическо-фольклорный и этнографический аспект Ц Рэпанальныя традиции ва усходнеславянсюх мовах, л!тературы i фальклоры: тезисы дакладау. Гомель; 1980, с. 80—82.
Толстой 1981 — Н. И. Толстой. О некоторых этнолингвистических наблюдениях А. А. Потебни Ц Потебнянсыя читання. Кию, 1981, с. 68—81.
Толстой 1982 — Н. И. Толстой. Из «грамматики* славянских обрядов Ц SrjpELCDTLxr]. Труды по знаковым системам. 15: Типология культуры и азаим ное воздействие культур. Тарту, 1982, с. 57—71.
Толстой 1982а — Н. И. Толстой. Некоторые проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики // Известия АН СССР- Серия литературы и языка. М., 1982, т. 60, № 5. с. 397 405.
Толстой 1983 — Н. И. Толстой. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса Ц Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. Л., 1983, с. 181 —190.
Толстой 1983а — ti. И. Толстой. Три обряда: литовск. kalade, украинск. колодий, сербск. бад^ьак Ц Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов. М., 1983, с. 46—48.
Толстой 19836 Н. И. Толстой. Полесье и его значение для славянской ареалогии Ц Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983, с. 6—8.
Толстой 1984s — Н. И. Толстой. Фрагмент славянского язычества. Архаический ритуал-диалог // СБФ. 1984, с. 5—72.
Толстой 1984з Н. И. Толстой. Слово в сакральном тексте (ритуале): сербск. весел(и ца) Рад(ован) Ц Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лекикографии. Тезисы докладов. М-, 1984, с. 96—97.
Толстой 1985 — Н. И. Толстой. Заметки по славянской демонологии. 3. Откуда название шуликун? Ц Восточные славяне. Языки. История. Культура. К 85-летию академика В. И. Борковского. М.. 1985, с. 278—286.
Толстой 1986 Н. И. Толстой. Невестка стала в поле тополем («тополей*) Ц СБФ, 1986, с. 39—44.
Толстой 1987 — Н. И. Толстой. О природе связей бинарных противопоставлений типа правый — левый, мужской — женский Ц Языки культуры и проблемы переводимости. М , 1987, с. 169—183.
Толстой 1987а - Н. И. Толстой. Из славянских этнокультурных древностей. 1. Оползание и опоясывание храма // ХтщЕиопхт). Труды по знаковым системам. 20: Символ в системе культуры. Тарту, 1987
Литература
497
Толстой 1988 — Н. И. Толстой. История и структура славянских литературных языков. М , 1988.
Толстой 1988а — Н. И. Толстой. Славянская фразеология sub specie этнографии // Z problemdw frazeologii polskiej i slowianskiej. Warszawa, 1988, t. 4, s. 15—25.
Толстой 1989 H. И. Толстой. Некоторые соображения о реконструкции славянской духовной культуры Ц СБФ. 1989, с. 7 22.
Толстой 1993 Н. И. Толстой. Заметки по славянской демонологии. 4 Чемер 'злой дух, черт’ // Вопросы теории и истории языка. Сб. статей к 100-летию со дня рожд. Б. А. Ларина. СПб., 1993, с. 124 130.
Толстой 1994 — Н. И. Толстой. Веселье Ц Славянские древности Этнолингвистический словарь / Под редакцией Н. И. Толстого. М., 1994, т. 1 (в печати).
Толстой 1994а 11. И. Толстой. Vita herbae et vita rei в славянской народной тради-
ции // СБФ, 1994, с. 139 167.
Толстой 19946 — Н. И. Толстой. Магические обряды и верования, связанные с южнославянскими «одномесячниками* и «однодневниками» Ц Малые формы фольклора. Сб. статей памяти Г. Л. Пермякова. М., 1994.
Толстые 1974 — С. М. Толстая, Н. И. Толстой. К семантике правой и левой стороны в связи с другими символическими элементами Ц SrjpeLWTLxr). Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. 1 (5)- Тарту, 1974, с. 42 45.
Толстые 1978 С» М. Толстая, Н. И. Толстой. Ареальные аспекты изучения славян ской духовной культуры Ц Ареальные исследования в языкозна нии и этнографии. Л., 1978, с. 46—47
Толстые 1978а — С. М. Толстая, Н. И. Толстой. К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингво- и этнографический аспект) Ц Славянское языкознание. VI11 Международный съезд славистов» Доклады советской делегации. М-, 1978, с. 364—385.
Толстые 19786 — С. М. Толстая, Н. И. Толстой. Заметки по славянскому язычеству. 2. Вызывание дождя в Полесье // СБФ, 1978, с. 95—130
Толстые 1981 — С. М. Толстая, Н. И. Толстой. Заметки по славянскому язычеству. 1 Вызывание дождя у колодца Ц Русский фольклор. Поэтика рус ского фольклора. Л., 1981, т. 21, с. 87—98.
Толстые 1981а — С. М. Толстая, Н. И. Толстой. Заметки по славянскому язычеству 5. Защита от града в Драгачеве и других сербских зонах // СБФ. 1981, с. 44—120.
Толстые 1982 — С. М Толстая, Н И. Толстой. Заметки по славянскому язычеству. 3 Первый гром в Полесье. 4. Защита от града в Полесье // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982, с. 49—83.
498
Литер атур а
Толстые 1983 — С. М. Толстая, Н. И. Толстой. О задачах этнолингвистического изучения Полесья // ПЭС, с. 3—21.
Толстые 1984 — С. М. Толстая, Н. И. Толстой. Теоретические проблемы реконструкции древнейшей славянской духовной культуры. Ответы на вопросы // СЭ, 1984, № 4, с. 74—79.
Толстые 1988 — С. М. Толстая, Н. И. Толстой. Народная этимология и структура славянского ритуального текста Ц Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988, с. 250—264.
ТомиИ 1957 — П. ТомиЬ. BojeH»e и шаран»е jaja Ц ГЕМБ, 1957, кн». 20, с. 5—70-
Топорков 1986 — А- Л. Топорков- Домашняя утварь в обрядах и поверьях Полесья (XIX — начало XX в.) / Дисс. канд. истор. наук. Л., 1986.
Топорков 1993 — А. Л. Топорков. Из наблюдений над функциями категории рода в эт-нодиалектных текстах Ц СБЯ, 1993, с. 55—59.
Топоров 1969 — В. Н. Топоров. К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров) // Х^цекпткх^. Труды по знаковым системам. 4. Тарту, 1969, с. 9 43.
Топоров 1971 — В. Н Топоров. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева* // SrjpeLWTixiq. Труды по знаковым системам. Тарту, 1971, вып. 5, с. 9 62.
Топоров 1973 — В. Н. Топоров. Из истории балто-славянских языковых связей, анчут ка // Baltistica. Vilnius, 1973, 9 (1), с. 29—44.
Топоров 1976 — В. Н. Топоров. ITvOcov, Ahi Budhnya, Бадььак и др. // Этимология. 1974. М., 1976, с. 3—15.
Топоров 1979 — В. Н. Топоров. Др.-греч. Махар, Maxapiog и под. (Marginalia к статьям о маке и вызывании дождя) Ц Balcano balto-slavica. Симпозиум по структуре текста. Предварительные материалы и тезисы. М., 1979, с. 39—46.
Традиционные обряды 1985 — Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья / Под рец. Б. Н. Путилова. Л., 1985
Трейланд 1885 — Ф. Я. Трейланд. Крестинные обряды латышей // Сборник материалов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее. М., 1885, вып. 1, с. 173—205.
Тро]ановиЬ 1911 — С. Tpojanoeuh. Главни српски жртвени обича]и Ц СЕЗб, 1911, кн». 17, с. 1—238.
Тро]ановиИ 1925 - С. TpojOHoeuh. Психофизичко изражавшье српског народа поглавито без речи. Београд, 1925 (СЕЗб, кн». 52).
Тро]ановиЬ 1930 — С. Tpojanoeuh. Ватра у обича]има и животу српског народа. Београд, 1930 (СЕЗб, кн». 45).
Литература
499
Трубицына 1983 — Г. И. Трубицына. Нить и ее обрядовые функции // Полесье и этно генез славян. М., 1983, с. 113—114.
Тупиков 1903 — И. М. Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб. 1903.
Турауск! слоун1к — Тураусю слоужк. Мшск, 1982—, т. 1—.
Украшськ! танф 1962 — Укршнсыи народы танць Киш, 1962-
Уорф 1960 — Б. Л. Уорф. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. М., I960, вып. 1, с. 135—168.
Усачева 1978 — В. В. Усачева. Обряд «полазник» и его фольклорные элементы в ареале сербскохорватского языка // СБФ. 1978. с. 27—47.
Успенский А. 1907 — А. И. Успенский. Бес. (Материалы по истории русского искусства) Ц Золотое руно, 1907, № 1.
Успенский 1973 — Б. А. Успенский. «Правое» и «левое» в иконописном изображении // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, с. 137—145.
Успенский 1982 — Б. А. Успенский. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
Успенский 1983 — Б. А. Успенский. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
Успенский 1983а Б. А. Успенский. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии Ц Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 1983, v. 29, s. 33—69.
Фасмер. I—4 — M. Фасмер. Этимологический словарь русского языка / Пер. с немец кого и доп. О. Н. Трубачева. М., 1964 1973, т. 1 —4.
ФилиповиЬ 1939 — М. С. ФилиповиЬ. Обича]и и верован»а у Скопско] Котлини. Београд, 1939 (СЕЗб, кн». 54).
ФилиповиЬ 1949 — М. С. ФилиповиЬ. Живот и обича_|и народни у Височко] Нахии. Бео град, 1949 (СЕЗб, кн>. 61).
ФилиповиЬ 1950 — М. С. ФилиповиЬ. Трачки кон» аник. Нови Сад, 1950.
ФилиповиЬ 1955 — М. ФилиповиЬ. Белешке о народном животу и обича^има на Гласин цу // ГЗМ, 1955, кн». 10, с. 117—136.
ФилиповиЬ 1967 — М. С. ФилиповиЬ. Различите етнолошка гра^а. Београд, 1967 (СЕЗб, кн». 80).
ФилиповиЬ 1972 — М. С. ФилиповиЬ. Таковци (етнолошка посматран»а). Београд, 1972 (СЕЗб кн». 84).
ФилиповиЬ, ТомиЬ 1955 — М. С. ФилиповиЬ, II. ТомиЬ. Горн»а Пчин»а Београд, 1955 (СЕЗб, кн». 68).
Фразеологичен речник — Фразеологичен речник на българския език. София. 1974— 1975, т. 1, 2.
500
Литература
Фразеологический словарь 1967 — Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. М., 1967.
Франко 1898 — I. Франко. Людов« в!руваня на Пщпрю Ц ЕтноГраф}чний зб!рник Нау-кового товариства im Шевченка. Льв}в, 1898, т. 5, с. 160—218.
Франко 1907, 1909 — I. Франко. Галицько-русью народш приповщки. Льв1в, 1907. т. 2. вип. I (ЕтноГраф|чний зб|риик Паукового товариства im. Шевченка, т. 24); 1909, т. 3, вип. I (ЕтноГраф«чний зб1рник Науко-вого товариства 1м. Шевченка, т. 27).
Фрэзер 1931 — Дж. Дж. Фрэзер. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Пер. с англ. М.; Л., 1931, вып. 1.
Ча^ановиЬ 1973 — В. ЧадкановиЬ. Мит и религида у Срба. Београд, 1973.
Черепанова 1975 — О. А. Черепанова. Демонологическая лексика севернорусских говоров Ц Севернорусские говоры. Л., 1975, вып. 2, с. 131—137.
Черепанова 1983 — О. А. Черепанова. Мифологическая лексика русского Севера. Л., 1983.
Чернышев 1898 — В. И. Чернышев. Из боровского просторечья (словарь). Слова мещов-ского говора. 1898 / Словарная картотека ИРЯЗ РАН в СПб. Рукопись.
Чернышев 1910 — В. И. Чернышев. Диалектные словарные материалы к разным местностям, 1910 / Словарная картотека ИРЯЗ РАН в СПб. Рукопись.
Чернышев 1927 — В. И. Чернышев. Отрицание «не* в русском языке Ц Словарь русского языка. Изд. II Отд. АН СССР. Л., 1927, т. 8, вып. 2, Приложение.
Чернышев 1928 — В. И. Чернышев. Терминология русских картежников и ее происхождение Ц Русская речь. Новая серия. Л., 1928, вып. 2.
Чистов 1974 — К. В. Чистов. Проблемы картографирования обрядов и обрядового фольклора. Свадебный обряд // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974, с. 69—84.
Чистов 1983 — К. В. Чистов. Вариативность и поэтика фольклорного текста Ц История, культура, этнография и фольклор славянских народов. IX Международный съезд славистов. М., 1983, с. 143—169.
Читая 1928 — Г. С. Читая. Этнографическая экспедиция в Агдулахский район Ц Вестник музея Грузии. Тбилиси, 1928, т. 4.
Чичеров 1957 — В. И. Чичеров. Зимний период русского земледельческого календаря XVI—XIX веков. М., 1957.
Чолаков 1872 — В. Чолаков. Българский народен сборник. Белград, 1872.
Чубинский 1872 — Труды Этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом: Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. СПб., 1872, т. 3. Народный дневник.
Литература
501
Чурсин 1957 — Г. Ф. Чурсин. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1957. Цепенков 1892 — М. К. Цепенков. Тьлкувания на природни явления // СбНУ, 1892, кн. 8, с. 141—143.
Цивьян 1977 — Т. В. Цивьян. «Повесть конопли»: к мифологической интерпретации одного операционного текста Ц СБЯ, 1977, с. 305—317.
Шайкевич 1960 — А. Я. Шайкевич. Слова со значением «правый» и «левый». Опыт сопоставительного анализа Ц Ученые записки 1-го Московского гос. пед. ин-та иностранных языков. М-, 1960, т. 23, с. 55—74.
Шапкарев 1968 — К. А. Шапкарев. Сборник от български народни умотворения. София, 1968, т. 1: Обредни песни. Народни обичаи.
Шаталава 1968 — Л. Ф. Шаталава. Назва «божай Kapoyki» (Coccinella septempunctata) у беларусюх гаворках // 3 жыцця роднага слова. Мшск, 1969, с. 166—178.
Шатэршк 1929 — М. В. ШатэрнЬс. Краёвы слоунш Чэрвеншчины. Менск, 1929.
Шахматов 1916 — А. А. Шахматов, Введение в курс истории русского языка. Пг., 1916.
Шевченко 1926 — Л. Шевченко. Звича!, зв'язаш з закладинами буд<вл! // Перв1сне гро-мадянство та його пережитки на Украпп. Ки1в, 1926, вып. 1/2, с. 87—95.
Шейн, архив — П. В. Шейн. Архивные материалы / Архив РАН. СПб-, ф- 104. on. 1, ед. хр. 344.
Шейн, 1—3 — П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. СПб., 1887, 1890, т. 1, ч. 1, 2: Бытовая и семейная жизнь белорусса в обрядах и песнях; 1893, т. 2: Сказки, анекдоты, легенды, предания, воспоминания, пословицы, загадки, приветствия, пожелания, божба, проклятия, ругань, заговоры, духовные стихи и проч.; 1902, т. 3: Описание жилища, одежды, пищи, заклятий; препровождение времени, игры, верования, обычное право; чародейство, колдовство, знахарство, лечение болезней, средства от напастей, поверья, суеверья, приметы и т. д
Шейн 1898—1900 — П. В. Шейн. Великорусе в своих песнях, обрядах, верованиях, сказках, легендах и т. п. СПб., 1898, 1900, т. I, вып. 1; вып. 2 [продолжающаяся пагинация и сквозная нумерация текстов в обоих выпусках].
Широцький 1908 — К. Широцький. Надгробш хрести на Укра'ш! // Записки Наукового товариства 1м. Шевченка. Льв<в, 1908, т. 82, с. 10—29.
Шишманов 1893 — И. Д. Шишманов. Принос къи българската народна етимология // СбНУ, 1893, кн. 9, с. 443 -646.
ШкариЬ 1939 — М. Ф. ШкариЬ. Живот и обича]и «Планинаца» под Фрушком Гором. Београд, 1939 (СЕЗб, кн». 54, с. 1—275).
502
Литература
lUweBajc 1929 — Е. Шнева]с. Главни елементи самртних обичаза код Срба и Хрвата // Гласник Скопског научног друштва. Скопле, 1929, кн». 5, с. 263 —282.
Шпет 1927 — Г. Г. Шпет. Внутренняя форма слова. М., 1927.
Шпет 1989 — Г. Г. Шпет. Сочинения. М., 1989.
Шрадер 1913 — О. Шрадер. Индоевропейцы. СПб., 1913.
Щапов А. 1872 — А. П. Щапов. Историке-географические и этнографические заметки о сибирском населении Ц Известия Сибирского отдела РГО, 1872, т. 3, № 4.
Щапов Я. 1978 — Я. Н. Щапов. Свадебная сцена на крыше сундука XVII в. Ц Древняя Русь и славяне. М., 1978.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О- Н. Трубачева. М., 1974—, вып. 1—.
Этнолингвистический словарь 1984 — Этнолингвистический словарь славянских древностей: Проект словника. Предварительные материалы. М-, 1984.
Юдахин 1965 — К. К. Юдахин. Киргизско-русский словарь. М., 1965.
Юрчанка 1972 — Г. Ф. Юрчанка. 1 кощцца i вал1цца. Мшск, 1972.
Юрчанка 1974 — Г. Ф. Юрчанка. 1 сячэ i палщь. Мшск, 1974.
Юрчанка 1977 — Г. Ф. Юрчанка. Слова за слова. Мшск, 1977.
Якобсон 1970 — Р. О. Якобсон. Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии // Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук. М., 1970, т. 5, с. 608—619.
Якушкин 1896 — Е. Якушкин. Материалы для словаря народного языка в Ярославской губернии. Ярославль, 1896-
Янкоусю 1959 — Ф Янкоуск1. Диалектны слоушк. Мшск, 1959, вып. 1.
Янкоусю 1962 — Ф. Янкоуски Беларусюя прыказю, прымауки, фразеолопзмы. Мшск. 1962.
Ardalic 1902 - V. Ardalic. Bukovica u Dalmaciji Ц ZN^O, 1902, knj. 7, sv. 2, s. 237—294. Atlas strojow Atlas polskich strojow ludowych. Wroclaw; Poznan, 1949 1975, cz. I—6-Atlas Wielkopolski — Atlas j^zyka i kultury Wielkopolski. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1978—1979, t. I, 2.
Bartminski 1981 — J. Bartminski. Definicja leksykograficzna a opis j^zyka Ц Slownictwo w opisie j^zyka. Katowice, 1984, s. 9—19.
Bartminski 1985 — J. Bartminski. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki (1) Ц Z problemow frazeologii polskiej i slowianskiej. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1985, [t.] 3, s. 25 -53.
Bartminski 1988 — J. Bartminski. Definicja kognitywna jako narz^dzie opisu konotacji Ц Konotacja / Pod red. J. Bartminskiego. Lublin, 1988, s. 169 — 183.
Литература
503
Bartminski 1988а — J. Bartminski. Slownik ludowych stereotypow jqzykowych. Zalozenia ogolne Ц Etnolingwistyka / Pod red. J. Bartminskiego. Lublin, 1988, t. 1, s. ,11—34.
Bartos 1906 — F BartoS Dialekticky slovnik moravsky. Praha 1906.
Basanavifius 1970 — J Basanauicius. Rinktiniai ra^tai. Vilnius, 1970.
Bednarik 1943 — R Bednank. Duchovna kultura slovenskeho 1'udu Ц Slovenska vlastivfeda. Bratislava, 1943, t. 2, s. 5—121.
Benedict 1939 — R. Benedict. Obituary of Edward Sapir // American Anthropologist, 1939, v. 41, p. 465—477.
Benveniste 1954 — E. Benveniste. Problemes semanbques de la reconstruction // Word, 1954, vol. 10, No 2/3, p. 251—264.
Benveniste 1969 — E Benveniste Le vocabulaire des institutions indo europeennes. 1. Economic, parente, societe. Paris, 1969.
Beslagic 1971 — S. Beilagic. Stecci: katalosko-topografski pregled. Sarajevo, 1971.
Bezlaj, 1 — F. Bezlaj EtimoloSki slovar slovenskega jezika. Lubliana, 1976, kn. I (A—J)
Bicgeleisen 1927 — H. Biegeleisen. Matka i dziecko w obrzqdach, wierzeniach i praktykach ludu polskiego. Lwow, 1927.
Bogatyrev 1926 — P. Bogatyrev. Les jeux dans les rites funebres en Russie Subkarpathi-que // Le Monde Slave. Paris, 1926 111, № 11,. p 196 224.
Boskovic-Stulli 1973 — M. BoSkodc Stulli. О pojmovima usmena i puCka knjizevnost i njiho-vim nazivima // Umjetnost rijeCi. Zagreb, 1973, god. 17, br. 3/4.
Bratanic 1939 — B. Bratanic. Grace sprave u Hrvata Oblici, nazivlje, raSrenje. Zagreb, 1939-
Bratanic 1951 — В Bratanic. Uz problem doseljenja Juznih Slavena Ц Zbornik radova Filo-loskog fakulteta Sveufilista u Zagrebu. Zagreb, 1951, s. 221—250-
Bruckner 1957 — A. Bruckner. Slownik etymologiczny jqzyka polskiego. Warszawa, 1957.
Buconjic 1908 — N. Buconjic. Zivot i obifaji Hrvata katoliCke vjere u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 1908
Bulat 1932 — P. Bulat. Pogled u slovensku botanifku mitologiju. Zagreb, 1932.
Chevalier 1973 — J. Chevalier, A. Cheerbrant. Dictionnaire des symholes. 9 ed. Paris, 1973.
Cienkowski 1972 — W. Cienkowski. Teoria etymologii ludowej Warszawa, 1972.
Constantinescu 1963 — N. A. Constantinescu. Dictjonar onomastic rominesc. (Bucure^ti], 1963.
Cerbulenas и др. 1970 — К. Cerbulenas, F. Bielinskis, K. Seielgis. Lietuviq liaudies menas Mazoji architektura. Vilnius, 1970, kn. 1.
CiRSl — Cesko-rusky slovnik. Praha, 1958.
(’'.ulinovic-Konstantinovic 1963 — V. Culinouic-Konstantinouic. Dodole i prporuSe. Narodni obifaji za prizivanje kige // NU, 1963, knj. 2, s. 73—95.
Danific 1871 — Poslovice, na svijet izdao D. Danidic- U Zagrebu 1871.
504
Литература
Dani&c 1872 — Dj. Danitic. Poslanica sv. Save arhiepiskopa srpskoga iz Jerusalima u Stude-nicu igumnu Spiridonu // Starine. Zagreb, 1872, knj. 4, s. 230 231.
Daukantas 1976 — S. Daukantas. RaStai / Teksta paruoSe B. Vanagiene. Vilnius, 1976, t. 1.
DLRLC — Dict^onarul lirnbii romine literare contemporane. Bucure^ti, 1953, vol. 3.
Drabik 1992 — W. Drabik. Obrz^dy Podlasia. Krakow, 1992 [машинопись].
Dragidevic 1907 — T. Dragitevic. Narodne praznovjerice // ГЗМ, 1907, кн». 19, c. 311—333, 489—497
Drozd-Piasecka 1991 — M. Drozd Piasecka. Ziemia w spolecznosci wiejskiej. Studium wsi poludniowo-wschodniego Mazowsza (koniec XIX i XX wiek). Warszawa, 1991.
Duldic 1985 — J. Dultic, P. Did tic. Rjednik bruskoga govora Ц HDZb, 1985, knj. 7, sv. 2, s. 381—747.
Dundulienfe 1972 P Dundulienk. Lietuviy pavasario sventes Ц LTSR Aukstuji^, mokykli^ mokslo darbai. Istorija. XI1. Vilnius, 1972.
Dworakowski 1964 S. Divorakowski. Kultura spoleczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwi^. Bialystok, 1964.
Dybowski 1881 W Dybowski. Przyslowia biaioruskie z powiatu Nowogrodzkiego Ц ТЖМА* 1881, t. 5 [отд. паг.].
Eckert 1965 — R. Eckert. Zur slawische Hochzeitsterminologie Ц Zeitschrift fur Slawistik. Berlin, 1965, Bd. 10, H. 2, S. 185-211.
Etnoloski atlas — Etnoloski atlas Jugoslavije. Karte s komentarima. Zagreb, 1989. sv. 1.
Gavazzi 1951 — M. Gavazzi. Pogrebne saonice // Зборник Етнографског Myaeja у Београду. 1901 — 1951. Београд, 1951, с. 238 243-
Federowski 1897, 1935 — М. Federowski. Lud Bialoruski na Rusi Litewskiej. Krakow, 1897, t. 1: Wiara, wierzenia i przes^dy ludu z okolic Wolkowyska, Sloni-ma, Lidy i Sokolki; Warszawa, 1935, t. 4: Przyslowia.
Filipovic 1969 — M. S. Filipovic. Majevica s osobitim obzirom na etnidku proslost i etnidke osobine majevidkih Srba. Sarajevo, 1969 (Djela ANU BiH, knj. 34. Odjelj. drust. nauka, knj. 19).
Filipovic 1969a — M. S. Filipovic. Prilozi etnoloskom poznavanju severoistoCne Bosne. Sarajevo, 1969 (ANU BiH. Grada, knj. 16. Odjelj. druStv. nauka, knj. 12).
Filipovic 1969b — M. S. Filipovic. Narodna pesma i narodni zivot Ц EPr, 1969, br. 8/9, s. 37—49.
Fischer 1921 — A. Fischer. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwow, 1921.
FLS Folklor Lachow Sqdeckich.
Freudenreich 1958 - A. Freudenreich. Narod gradi. Razlikovanja umjetnog od narodnog graditeljstva // Рад конгреса фолклориста JyrocnaBHje у 3ajenapy и Неготину. 1958. Београд, 1960, с. 281 -286.
Литература
505
Gavazzi 1975 — М. Gavazzi. Pisanice u Jugoslaviji. Zagreb, 1975.
Gavazzi 1978 — M. Gavazzi. Areali tradicijske kulture Jugoistofne Evrope // M Gavazzi. Vrela i sudbine narodnich tradicija. Kroz prostore, vremena i ljude. Etnoloske studije i prilozi. Zagreb, 1978, s. 184—194.
Hafner 1981 — St. Hafner. О semantifkim inovacijama u srpskoj redakciji crkvenoslovenskog jezika // Ме^ународни научни скуп. Текстологов средн>овековних ^ужнословенских кн.ижевности. Београд, 1981, с. 77—87.
Hecimovic 1985 — М Hecimovic Seselja. Tradicijski zivot i kultura liCkoga sela Ivdevic Ko-sa. Zagreb, 1985
Horvathova 1972 — E. Horvathova. Materialy zo zvykoslovnych a poverovych realil na Hor-nom SpiSi // SN, 1972, r. 20, № 3, s. 484-503.
Horvathova 1986 — E. Horvathova. Rok vo zvykoch na£ho 1'udu. [Bratislava], 1986.
Hraste, Simunovic 1979 — M. Hraste P. Simunovic. Cakavisch-Deutsches Lexikon. Koln; Wien, 1979, Teil 1
Huzjak 1957 — V. Huzjak. Zeleni Juraj. Zagreb, 1957.
IsaCenko 1965; 1976 — A. V. Isaienko. Un juron russe du XVIе siecle Ц Lingua viget. Com-mentationes slavicae in honorem V. Kiparsky. Helsinki. 1965, p. 68—70; [то же] Alexander. V. Isacenko. Opera selecta. Miin-chen. 1976, p 362 364.
Jadras 1957 — I. Jadras Kastavstina. Zagreb, 1957 (ZN^O, knj. 39).
Jfjzykowy obraz 1990 — J^zykowy obraz swiata / Pod red. J. Bartminskiego. Lublin, 1990.
Kajmakovic 1961 — R. Kajmakovic. Maskirani ophodi // GZM, 1961, knj. 15/16, s. 229—231.
Kardela 1988 — H. Kardela. Tak zwana gramatyka kognitywna a problem stereotypu Ц Et-nolingwistyka / Pod red. J. Bartminskiego. Lublin, 1988, 1. 1, s. 35—46.
Karwicka 1982 — T. Karwicka, J. Cherek. Tradycja a wspdlczesnosc w kulturze ludowej wybranych wsi regionow Polski Polnocnej. Toruri, 1982.
Kolberg, 19, 31, 32, 42, 49 — O. Kolberg. Dzieia wszystkie. Wroclaw; Poznan, 1961 — 1985, t. I—60 [t. 19: Kieleckie. cz 2, 1963; t. 31: Pokucie, cz. 3, 1963; t. 32: Obrazy etnograficzne. Pokucie, cz. 4, 1962; t. 42: Ma-zowsze, cz. 7, 1970; t. 49: Sanockie—Krosnieriskie, cz. I, 1974].
Kol^dowanie 1986 — Kol^dowanie na Lubelszczyznie. Wroclaw, 1986.
Kosiriski 1914 — W. Kosinski. Slownik okolicy Czchowa // Materyaly i peace Komisji jtjzyko wej. Krakow, 1914, t. 7.
Kosylowie 1980 — J. i Cz. Kosylowie. Kukulka Ц Slownik ludowych stereotypow jijzyko wych. Zeszyt probny. Wroclaw, 1980 s. 145—158.
Kowalska 1974 — K. Kowalska Zwyczaje noworoczne naszych repatriantow z Bukowiny na Dolnem Sl^sku // Orli lot. Krakow, 1947, r. 21.
506
Литература
Kowalska 1985 — A Kowalska Lewicka Wierzema i zwyczaje zwi^zane ze smierciq Ц Stu
<lia z kultury ludowej Beskidu S^deckiego. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk 1985, s. 53—90
Krawczyk 1989 — A. Krawczyk. J^zyk zrodlem wiedzy о czlowieku // Etnolingwistyka, pod red. J. Bartmiriskiego Lublin, 1982, t. 2, s. 29 38.
Krstic 1984 — B. Krstic Indeks motive narodnich pesama balkanskih Slovene. Beograd, 1984.
Krzyzanowski 1958 -1960 — J. Krzyzanowski. Mqdrej glowie dose dwie sfowie. Warszawa, 1958, t. 1 1960, t. 2.
Kuret 1970 — N. Kuret. Praznitno leto Slovencev. Starosvetne Sege in navade od pomladi do zime. Celje, 1970, d. 4: Zima.
Ljubisa 1875 — Scepan Mitrov Ljubiia. Pripoviesti ernogorske i primorske. U Dubrovniku, 1875.
Lovretic 1897—1902 — J. Lovretic Otok. Narodni zivot i obifaji Ц ZN^O, 1897 knj. 2; s- 91 459; 1902, knj. 7, sv. 1, s. 57- 206.
Lunt 1977 — H. G. Lunt. Slavic jbgra 'dance, game, play’ // Papers in Slavic Philology in Honor of James Ferrell. Ann Arbor, 1977, p. 172—178.
Machek 1968 — V. Machek. Etymologicky slovnik jazyka teskeho. 2. dopln. vyd Praha, 1968.
Malina 1946 — I. Molina Slovnik naredi mistrickeho Praha 1946.
Mansikka 1922; 1967 — V. J. Mansikka Die Religion dec Ostlaven. I Quellen Helsinki, 1922; 2. Aufl. 1967.
Markovic T. 1940 — T. Markovic. Bozicni obiCaji Hrvata u Bosni i Hercegovini // Etnograf-ska istrazivanja i grade Zagreb. 1940. knj. 2, s. 5—86.
Martel 1938 — A Martel. La langue polonaise dans les pays ruthenes. Ukraine et Russie Blanche 1569-1667. Lille, 1938
Masopustnl tradice 1979 — Masopustnl tradice / Vyd. V. Frolec, J. Tomes. Brno, 1979-
Mazurkiewicz 1988 — M. Mazurlaewicz. Kamieri piorunowy w polszczyznie i kulturze ludowej Ц Jijzyk a kultura. Wroclaw, 1988, s. 251 262.
Miklosich 1862 1865 — Fr Miklosich. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobo-nae, 1862—1865-
Milietic 1917 — J. MUietic. Koleda u Juznih Slavena Ц ZN^O, 1917, knj 22 s. 1—124
Milicevic 1967 — 1968 — J Milicevic. Narodni obidaji i verovanja u Sinjskoj Krajini Ц NU, 1967/1968, knj. 5/6, s. 433—511.
Mlacek 1970 — 1. Mlacek. Fakultatlvne Cleny frazeologickej jednotky Ц Slovenska red. Bratislava 1970, № 4, s. 205—213.
Moszyriski 1928 — K. Moszyriski. Polesie wschodnie. Warszawa, 1928.
Moszyriski, 1—3 — K. Moszyriski. Atlas kultury ludowej w Polsce. Krakow, 1934—1936, zesz. 1—3.
Литература
507
Mbderndorfer 1948, 1946 — V. Modemdorfer. Verovanja, uvere in obidaji Slovencev. Naro dopisno gradivo. Celje. 1946, t. 5: Borba za pridobibanje vsakdanje-ga kruha; 1948 t. 2: Prazniki
Niebrzegowska 1985 S. Niebrzegowska. Konotacja semantyczna slorica w polszczyznie lu dowej. Lublin, 1985 (магистерская работа, машинопись).
Nodilo 1981 — N. Nodilo. Stara vjera Srba i Hrvata. Split, 1981.
NKPP — Nowa Ksi^ga przyslow i wyrazeri przysiowiowych polskich / Red. J. Krzyzanowski, S. Swirko Warszawa, 1969, t. 1; 1970, t. 2; 1972, t 3.
Novakovic 1884 — S. Novakovic Apokrifi iz stampanih zbornika Bozidara Vukovica Ц Stari-ne. Zagreb, 1884, knj. 16, s. 57—66.
( )br<;bski 1936 — J. Obrqbski Problem etniczny Polesia. Warszawa. 1936 / Biblioteka ♦Spraw narodowosciowych», Nr 26.
Otwinowska 1974 — B. Otwinowska J^zyk — narod — kultura. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1974
Pavidevic 1935 — M. M. Pavibevic Narodna poredenja (Crna Gora) Ц ZN2o, 1935 knj. 30, sv. 1, s. 233 238.
Pavlica 1960 J. Pavlica. Frazeoloski slovar v petich jezikih Ljubljana, 1960
Popowska Taborska 1986 — H. PopowskaTaborska. Problematyka centrum i periferii ob szaru etnicznego w swietle archaizmow i innowacji dialektalnych (na podstawie analizy obszaru polskiego) // Acta Univ. Lodz Folia ling , 1968. vol 12, s. 171 — 180
Povijest 1978 — Povijest hrvatske knjizevnosti. Zagreb, 1978, t 1: Usmcna i pudka knjizev nost.
PSJC — Prirudni slovnik jazyka deskeho. Praha, 1935—1957, dll. 1—8.
Rajkovic 1973 — Z. Bajkovic. Narodni obidaji okolice Donje Stubice // NU, 1973, knj. 10, s. 153—216.
RHSJ — Rjednik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880 1976, d. 1—23 (sv. 1 —97).
Siarkowski 1885 — W. Siarkowski Materialy do etnografii ludu polskiego z okolic Pinczowa Cz. 1 // ZWAK 1885. t. 9. s. 3 72-
SJS — Slovnik jazyka staroslovdnskeho / Hl. red. J. Kurz. Praha, 1959, sv. 3; 1961, sv. 4.
Skok 1957 — P Skok. О etimologijskom ijedniku hrvatskoga ili srpskoga jezika // Filologija. Zagreb 1957 knj 1, s. 7—12 [Русский перевод см : ВЯ, 1959. № 5, с. 91—101 ]
Skok — Р. Skok. Etimologijski rjednik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1973, t. 3.
Skorupka. 1,2 — S. Skorupka. Slownik frazeologiczny jazyka polskiego. Warszawa 1967—1968, t 1. 2.
SLSJ — Slownik ludowych stereotypow j^zykowych. Zeszyt probny. Wroclaw, 1980.
Slawski 1 — F. S awski. Slownik etymologiczny jazyka polskiego. Krakow, 1952—1956, t 1 A—J.
508
Литератур а
Smieskova 1974 — Е. Smieikova. Maly frazeologicky slovnik. Bratislava, 1974.
Sobotka 1879 — P. Sobotka. Rostlinstvo a jeho vyznam v narodnich pismch, povestech, bajich, obradech a povfcrach slovanskych. Pnsp£vek к slovanske symbolice. Praha, 1879-
SP — Slownik praslowianski / Pod red. F. Slawskiego. Wroclaw. Warszawa; Krakow; Gdansk, 1976. t. 2 (C—D).
SS — Slownik staropolski / Red. nacz. S. Urbanczyk. Ossolineum, 1988, 1989, t. 10, z. I (61), z. 2 (62).
SSJ — Slovnik slovenskego jazyka / Ved. red. S. Peciar. Bratislava, 1959 1968, d. 1—6.
SSKJ — Slovar slovenskega knjiznega jezika. Ljubljana, 1991, d. 5.
Stojkovic 1934 — M. Stojkovic. Pojas // ZN^O, 1934, knj. 29, sv. 2.
Sychta, ]—7 — B. Sychta- Slownik gwar kaszubskich. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1967 1976, t 1 -7.
Svoboda 1964 — J. Svoboda. Starodeska osobm jmena a nase pnjmeni. Praha, 1964.
Szydlowska-Ceglowa 1963 — B. Szydfoivska Cegloiva. Materialna kultura ludowa drzewian polabskich w swietle poszukiwari slownikowych // Lud, 1963, t. 48, s. 19-256.
Simundic 1979 — M. Simundic. Znafcnje naziva grada Dakova i dakovstinskih sela Ц Oho-матолошки при лоз и. Београд, кл. 1. 1979, s. 97 ПО.
Taszycki 1966 — W. Taszycki. Slownik staropolskich nazw osobowych. Wroclaw; Warszawa; Krakdw, 1966, t. 1, z. 2.
Tokarski 1987 — R. Tokarski. Znaczenie slowa i jego inodyfikacje w tekscie. Lublin, 1987.
Tokarski 1988 — R. Tokarski. Konotacja jako skladnik tresci slowa // Konotacja I Pod red. J. Bartminskiego. Lublin, 1988, s. 35—54.
Tomes 1979 — J. Tomei. Ceske a slovenske masopustni obifeje a jejich mezinarodni obme-ny I I Masopustni tradice. Brno, 1979, s. 37- 51.
Tuwim 1935 — Julian Tuwim. Polski slownik pijacki i antologija bachiczna. Warszawa, 1935.
Unbegaun 1972 — В. O. Unbegaun. Russian surnames. Oxford, 1972.
Vazny 1927 — И Vazny. Cakavskd nafedi v slovenskem Podunaji. Bratislava, 1927.
Velius 1983 - N. Velius. Senovis balti^, pasaulfeziura: Strukturos bruozai. Vilnius, 1983.
Viaud 1978 — Gerard Viaud. Magie et coutumes populaires des Coptes d’Egypte. Sisteron, 1978.
Vlahovic 1972 P. Vlahovic. Obicaji, verovanja i praznoverice naroda Jugoslavije. Beograd, 1972.
Vukanovic 1986 — T. Vukanovic. Srbi na Kosovu. Vranje, 1986, t 2.
Wenzel 1965 M. Wenzel. Ukrasiii motivi na steccima. Sarajevo, 1965.
Wierzbicka 1985 — A. Wierzbicka. Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor, 1985.
Wierzbicka 1989 — A. Wierzbicka. The Alphabet of Human Thoughts. Duisburg, 1989.
Литература
509
Wierzbicka 1991 — A. Wierzbicka. Uniwersalne poj^cia ludzkie i ich konfiguracje w roznych kulturach Ц Etnolingwistyka / Pod red. J Bartminskiego. Lublin, 1991, t. 4, s. 7—40-
Zaoralek 1963 — J. Zaoralek. Lidova rteni. Praha, 1963.
Zaturecky 1965 — A. P. Zaturecky. Slovenske prislovia, porekadla a iislovia Bratislava, 1965.
Zedevic 1973 — S. Zebeiic. Element! naSe mitologije u narodnim obredima uz igru. Zenica, 1973.
Zett 1970 — R. Zett. Beitrage zur Geschichte der Nominalkomposita im Serbocroatischen. Koln; Wien, 1970.
Zibrt 1950 — C. Zibet. Vesele chvile v zivotfe lidu Ceskdho Praha, 1950.
2ic 1915 — J. tic. Fraze i poslovice (Vrbnik na Krku) // ZN^O, 1915, knj. 20, sv. 2, s. 254—284.
Tolstoy N. I.
Language and Popular Culture. Essays on Slavonic Mythology and Ethnolinguistics. Collected Articles. — M.: Publishing House Indrik, 1995. — 512 p. (Traditional Spiritual Culture of Slavs / Modern Research.)
We are pleased to call the reader’s attention to the Collected Articles of an eminent contemporary' Slavonic scholar, the academician Nikita Ilyitch Tolstoy.
The book includes the works of N. I. Tolstoy in the field of Slavonic ethnolinguistics which is a branch of linguistics, bound up with the history' of culture as well as mythology', study of folk-lore, ethnography, ethnic psychology' and the theory of ethnogeny. N. 1. Tolstoy contributed greatly to the formation and self-determination of this comparatively new science.
The collection covers articles, researches, papers and other publications, accomplished by N.I. Tolstoy for the last twenty years. Many were printed in higlily specialized editions, already difficult in access (including foreign ones): a number of articles have been recast by the author specially for this book.
The book's structure exposes the problems of ethnolinguistics in all completeness and size: there are theoretical articles on general methods; research on archaic rituals, the symbolism of objects and actions; notes on Slavonic demonology'; works on the role of a word in the context of culture, and also on Slavonic phraseology and semiotics of folk-lore.
Collected Articles are recommended to professional humanists (linguists, historians, ethnographers, folklorists, specialists in human culture) as well as a broad circle of readers, who are interested in the history of culture. The book includes an Index which is of value for specialists.
Толстой II. И.
Т 52 Язык и народная культура. Очерки по славянской мифоло гии и этнолингвистике. Изд. 2-е. испр. — М.: Издательство «Индрик», 1995. — 512 стр. (Традиционная духовная культура славян / Современные исследования.)
ISBN 5-85759 025-6
Сборник статей одного из крупнейших современных славистов академика Никиты Ильича Толстого включает в себя работы в области славян ской этнолингвистики языковедческой дисциплины, тесно связанной с историей культуры, мифологией. фольклористикой, этнографией, этнической психологией, теорией этногенеза. Структура сборника выявляет проблематику этнолингвистики во всей полноте и объеме: здесь и теоретические статьи, посвященные общедисциплинарным вопросам; иселедова ния но архаическим ритуалам, символике предметов и действий; заметки по славянской демонологии: работы, посвященные слову в контексте культуры. славянской фразеологии, семиотике фольклора.
Сборник рекомендуется как гуманитариям-профессионалам (лингвис там, историкам, этнографам. <]юльклористам. культурологам), так и широкому кругу читателей, интересы которых касаются истории культуры.
ББК 82
Традиционная духовная культура славян (Современные исследования )
Никита Ильич Толстой
Язык и народная культура
Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике
Наборщик — Е. Штофф Корректор — Е. Рудницкая Редактор Н. Волочаева
Оформление оригинал-макета Н. Волочаевой, С. Григоренко
Верстка
Н- Волочаевой
Утверждено к печати
Институтом славяноведения и балканистики РАН
Издательство «Индрик* Директор — С. Григоренко Главный редактор — И. Волочаева Выпускающий редактор — О. Климанов
ЛР № 070644 выдан 26 октября 1992 г
Формат 60*84 Гарнитура «Бодони». Печать офсетная. 32,0 п. л. Тираж 2 000 экз. (Изд. 2-е. испр.) Заказ №3500
Отпечатано с оригинал макета в Типографии № 2 РАН
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6