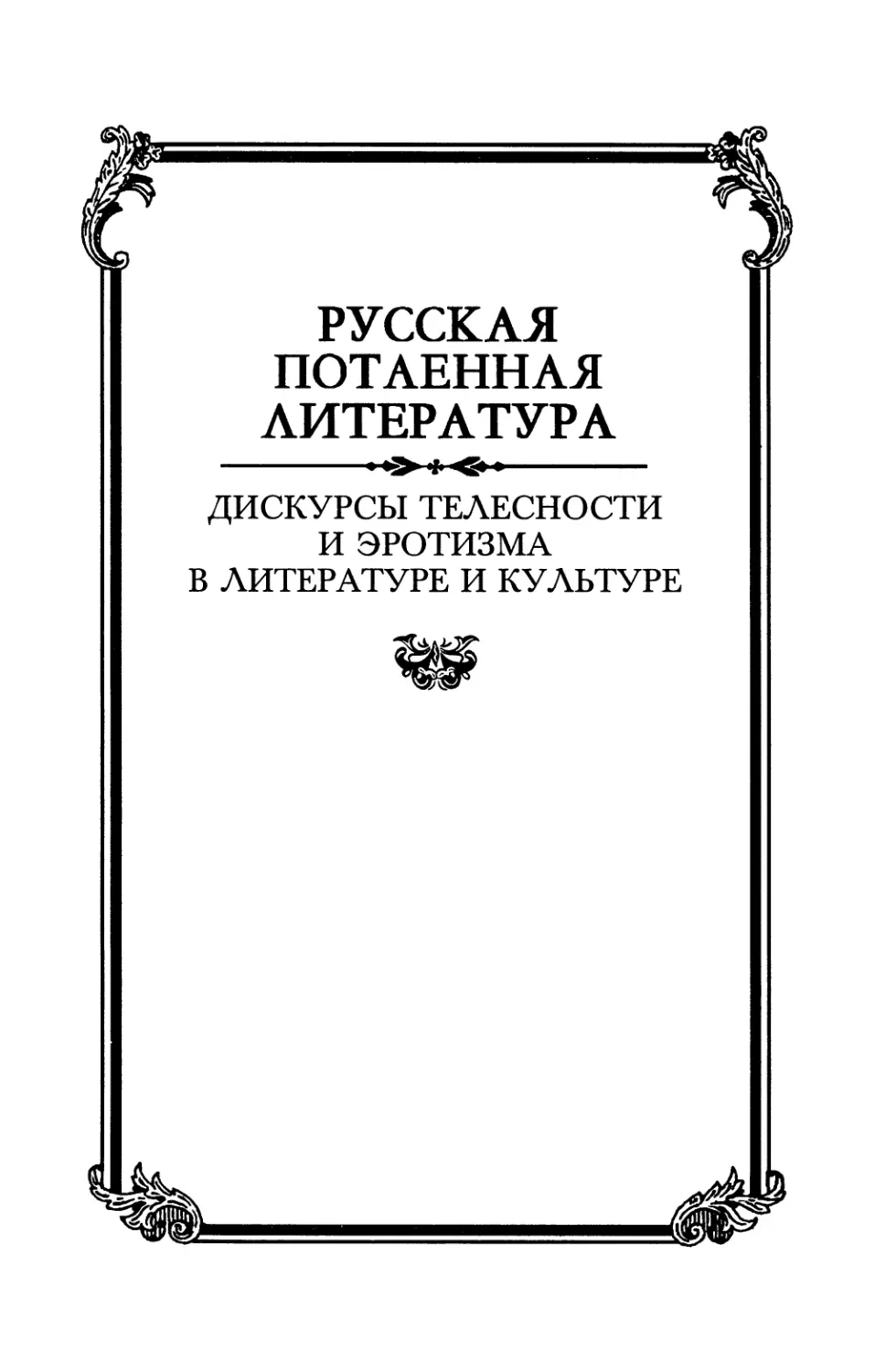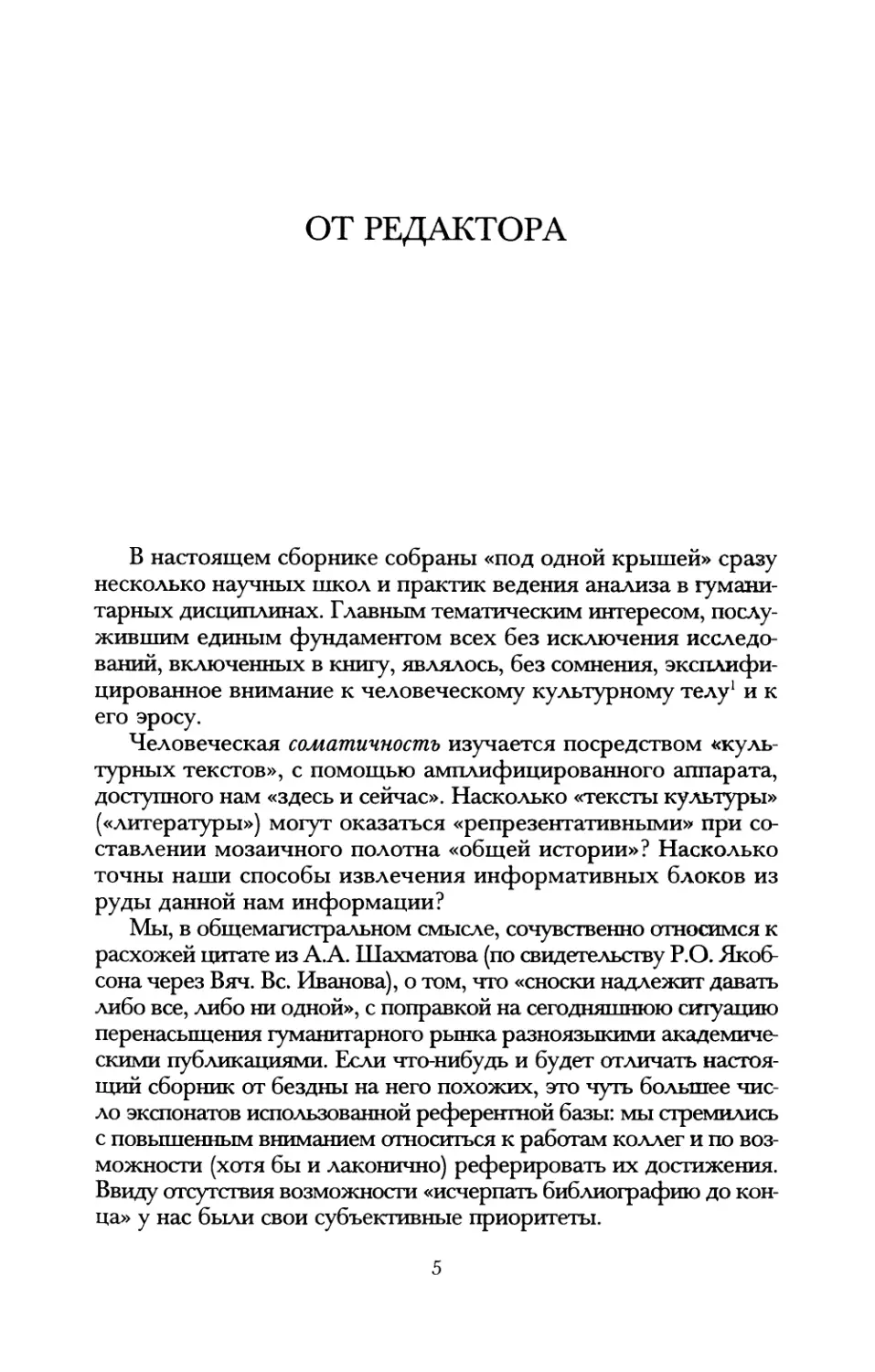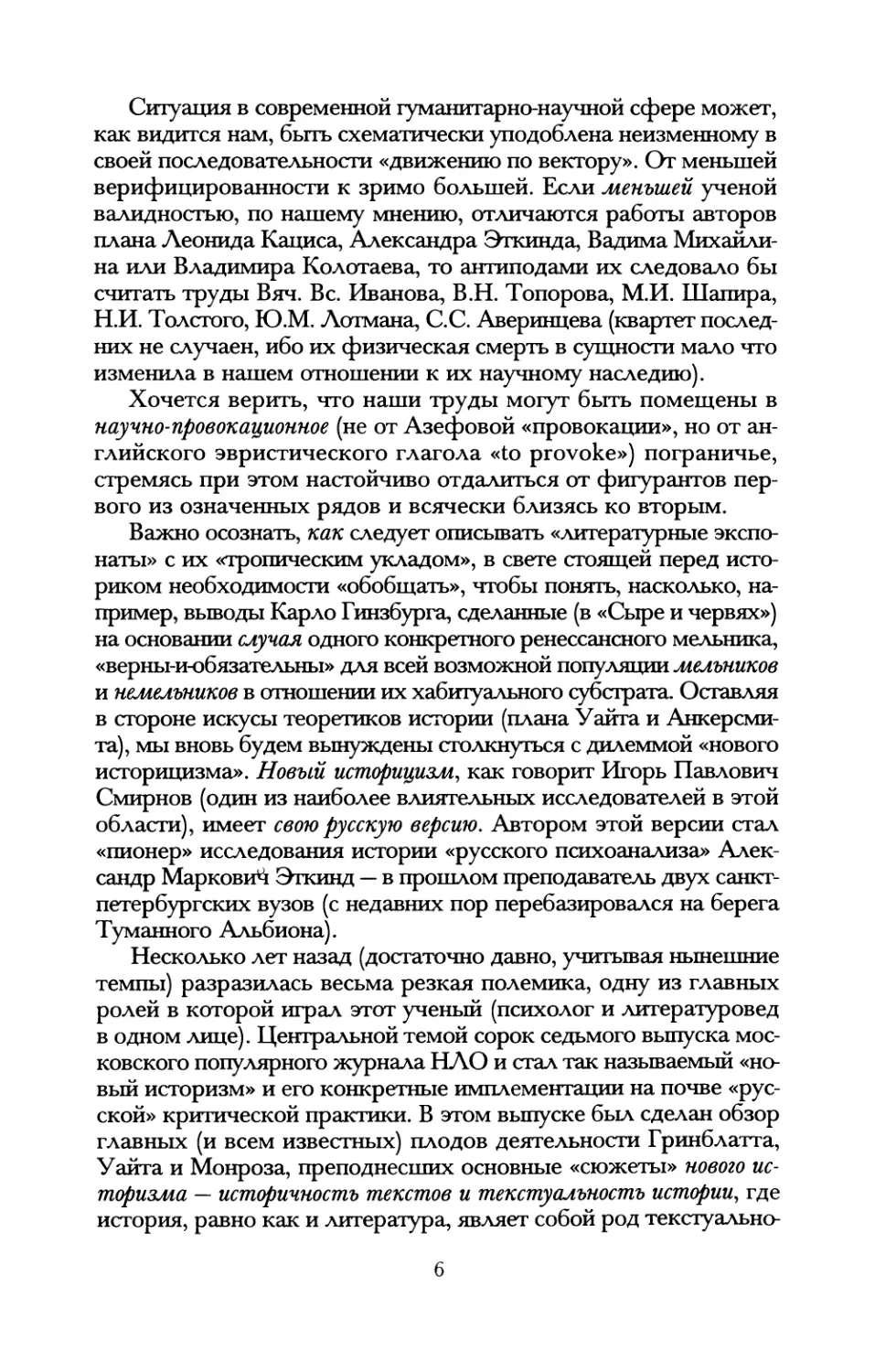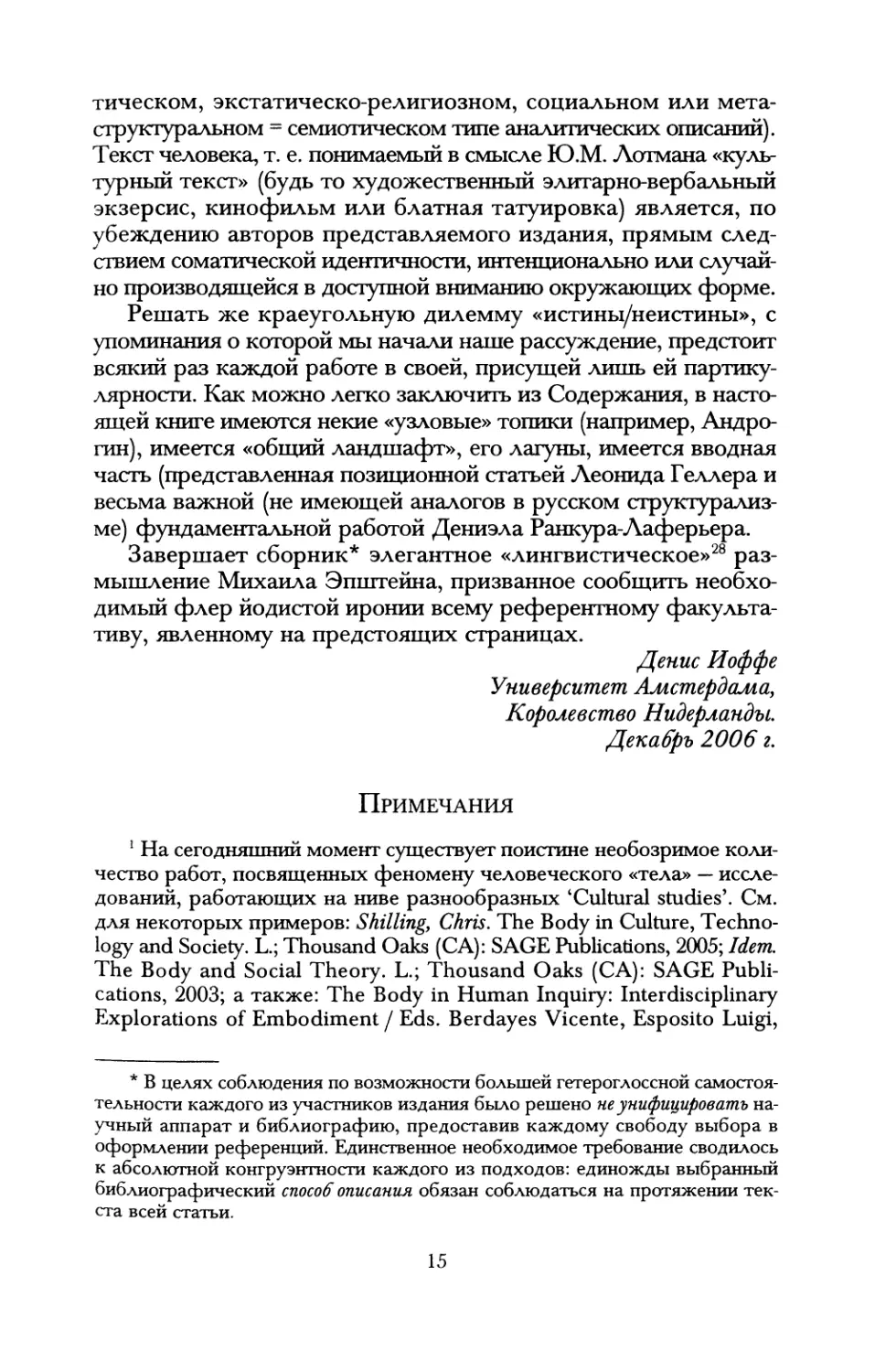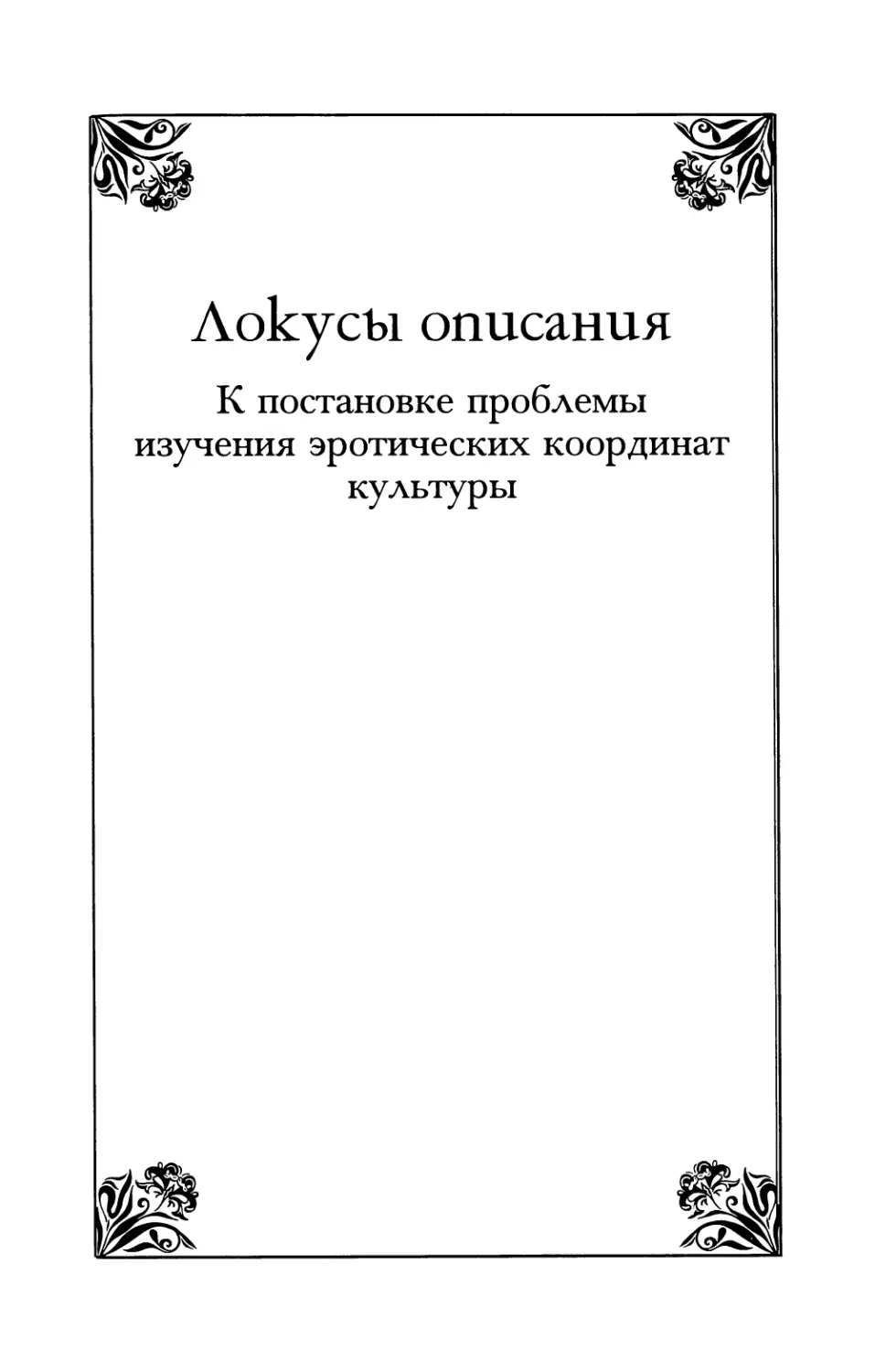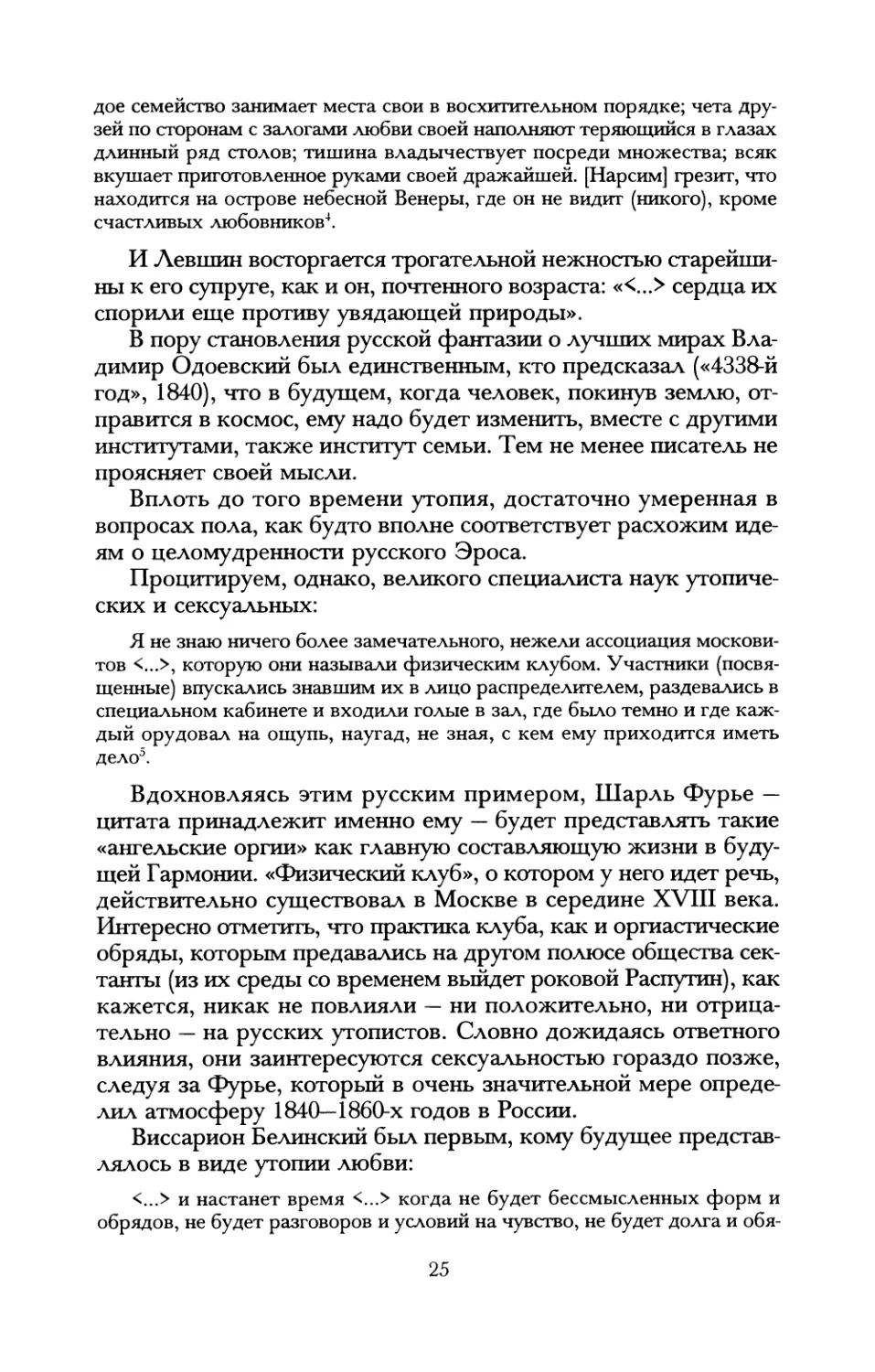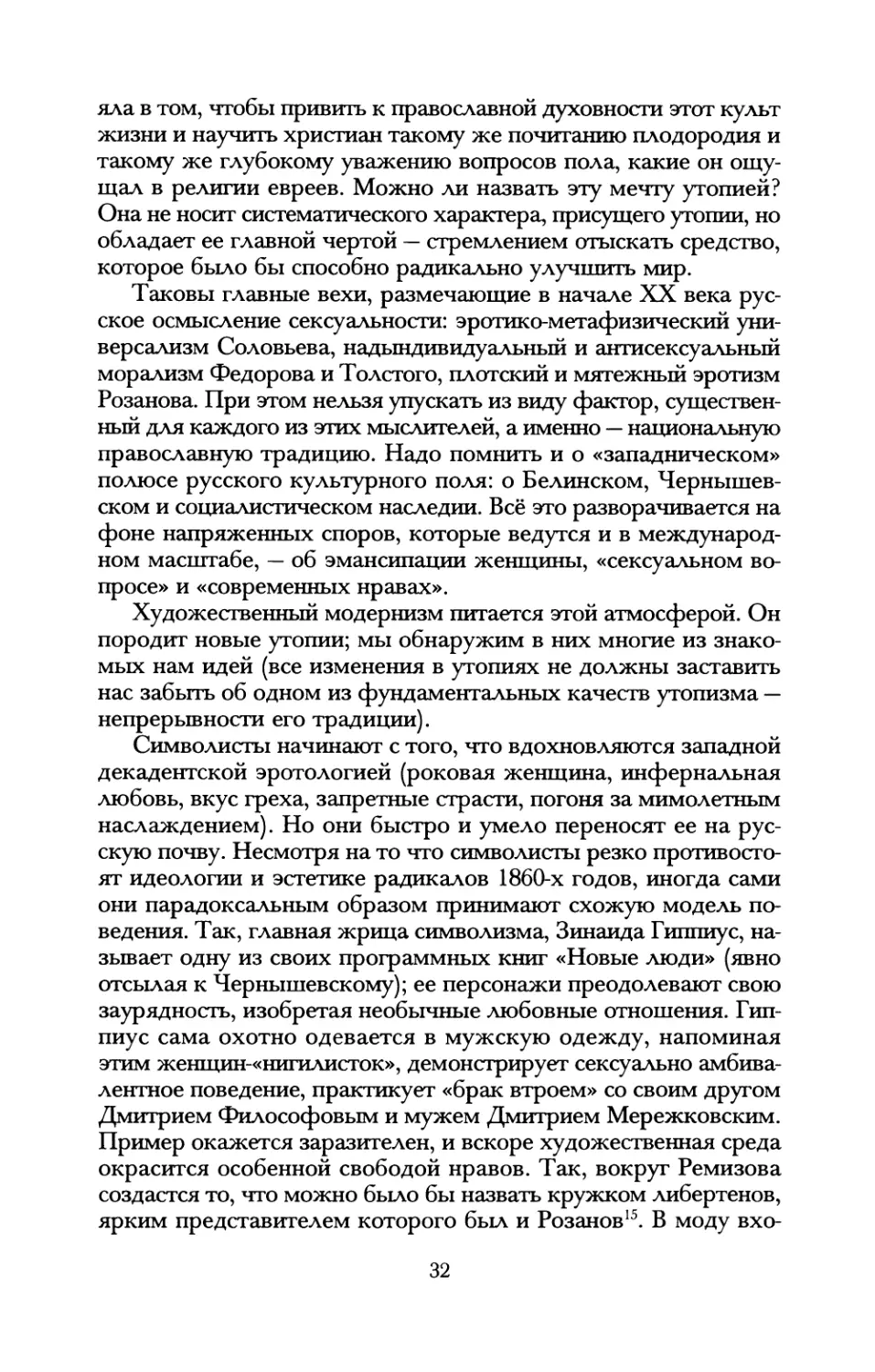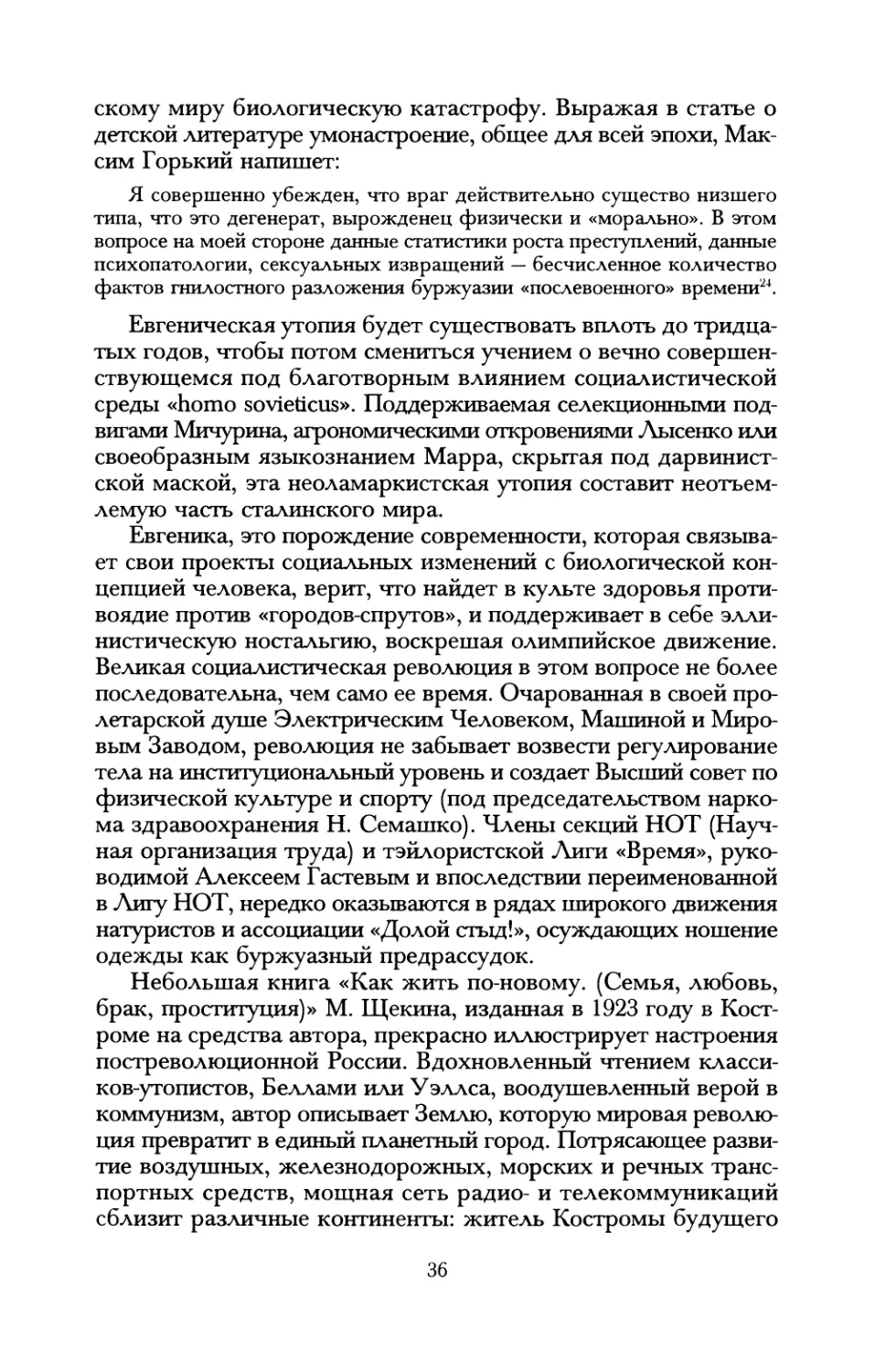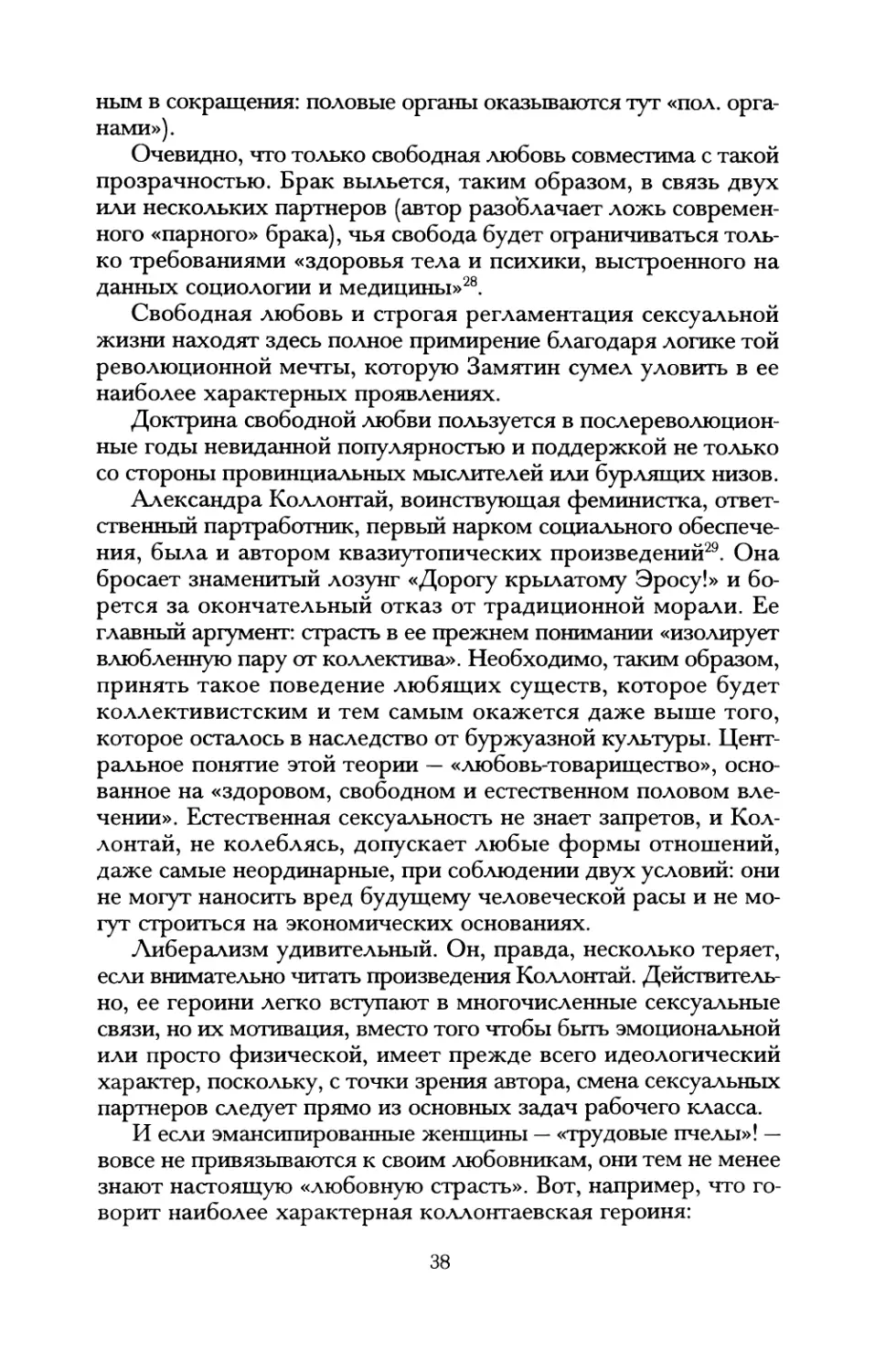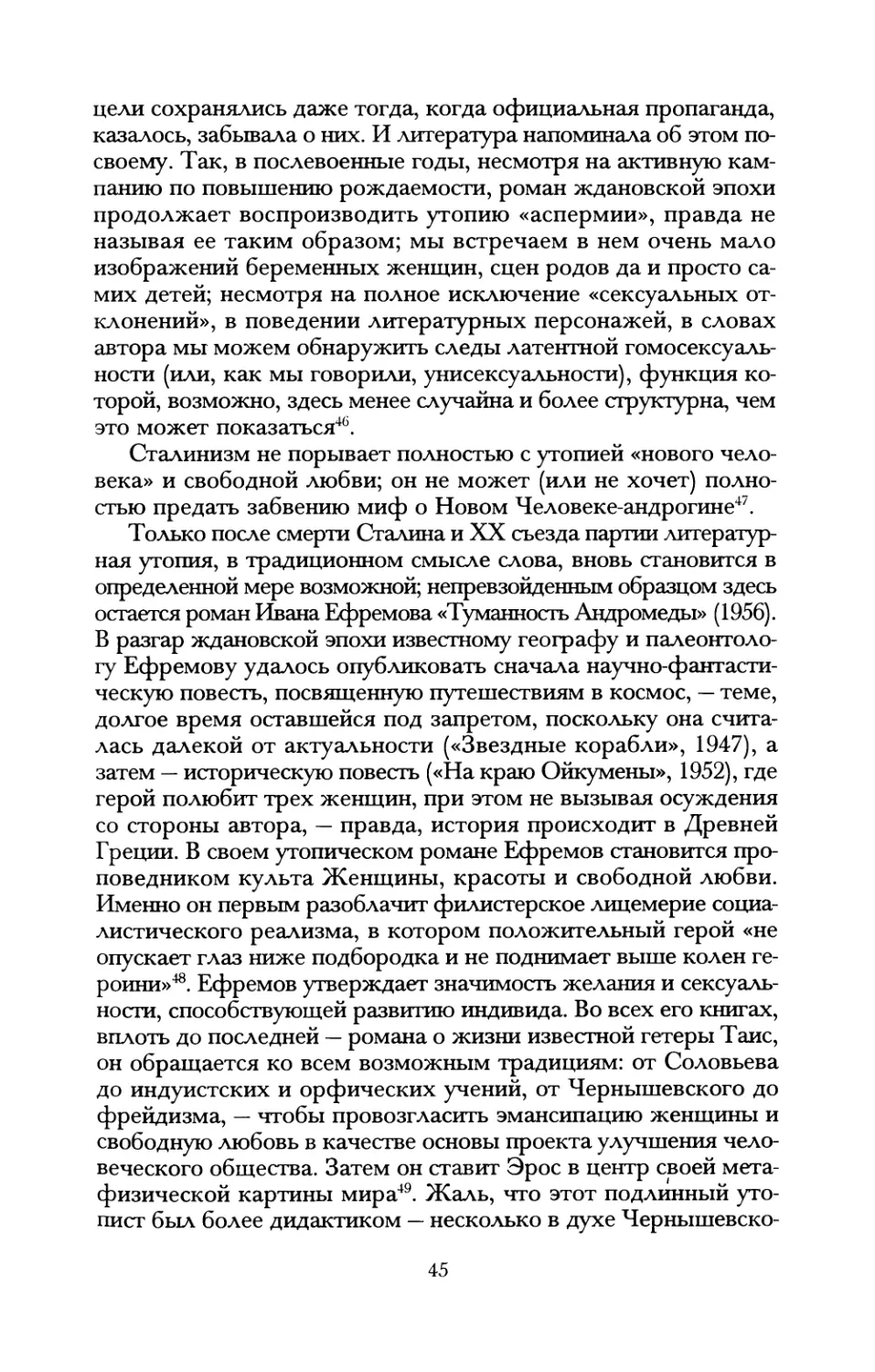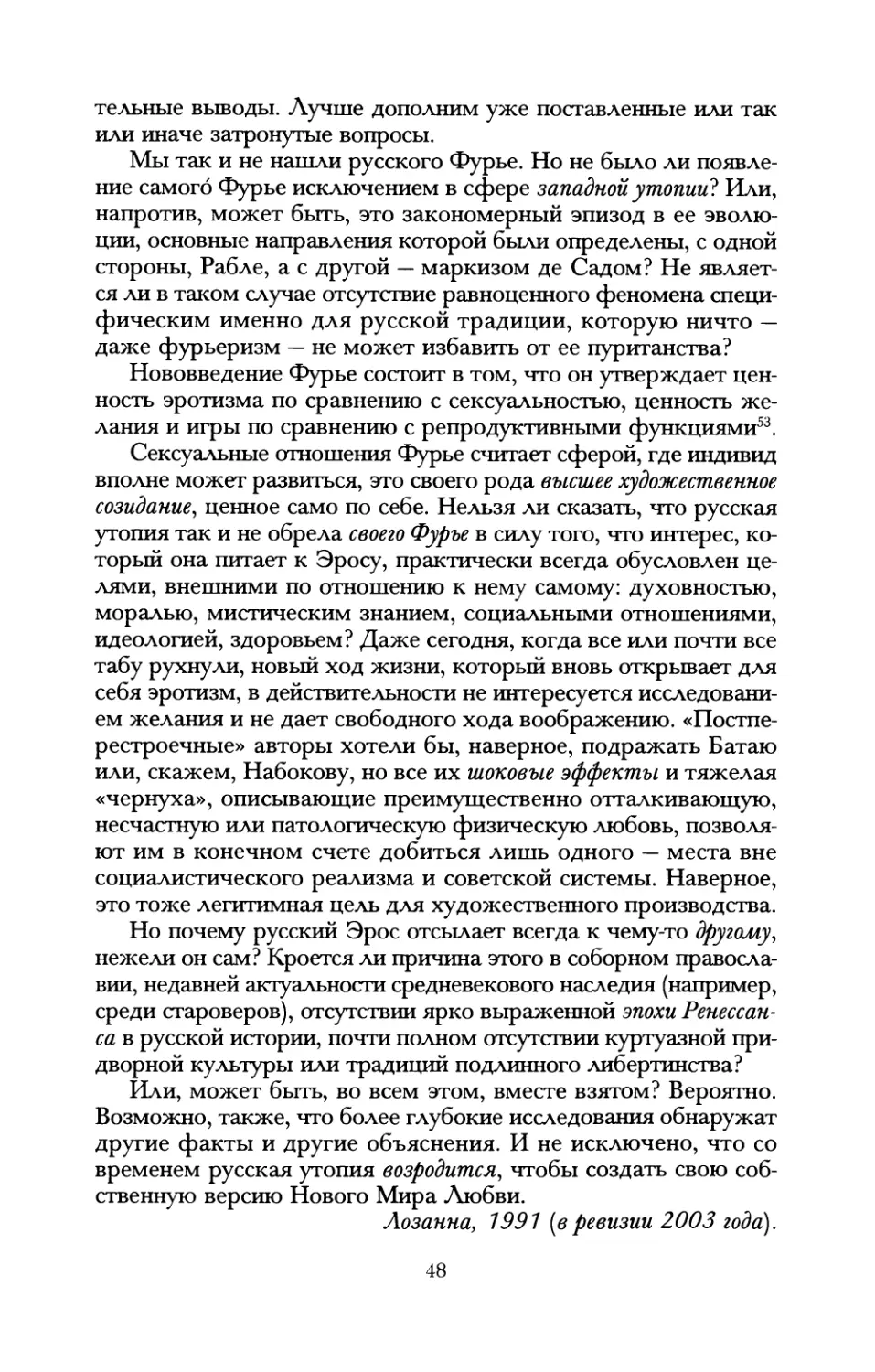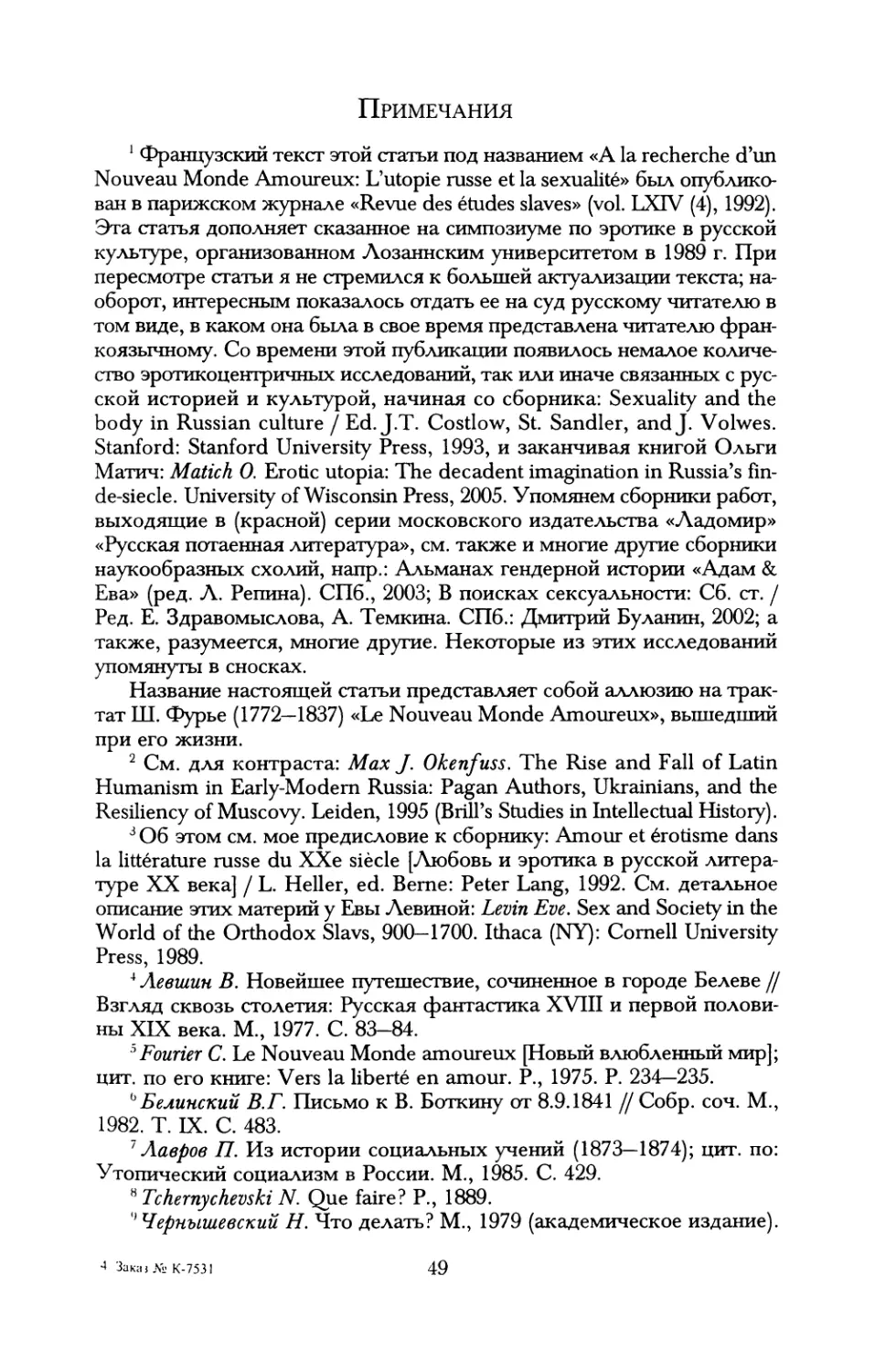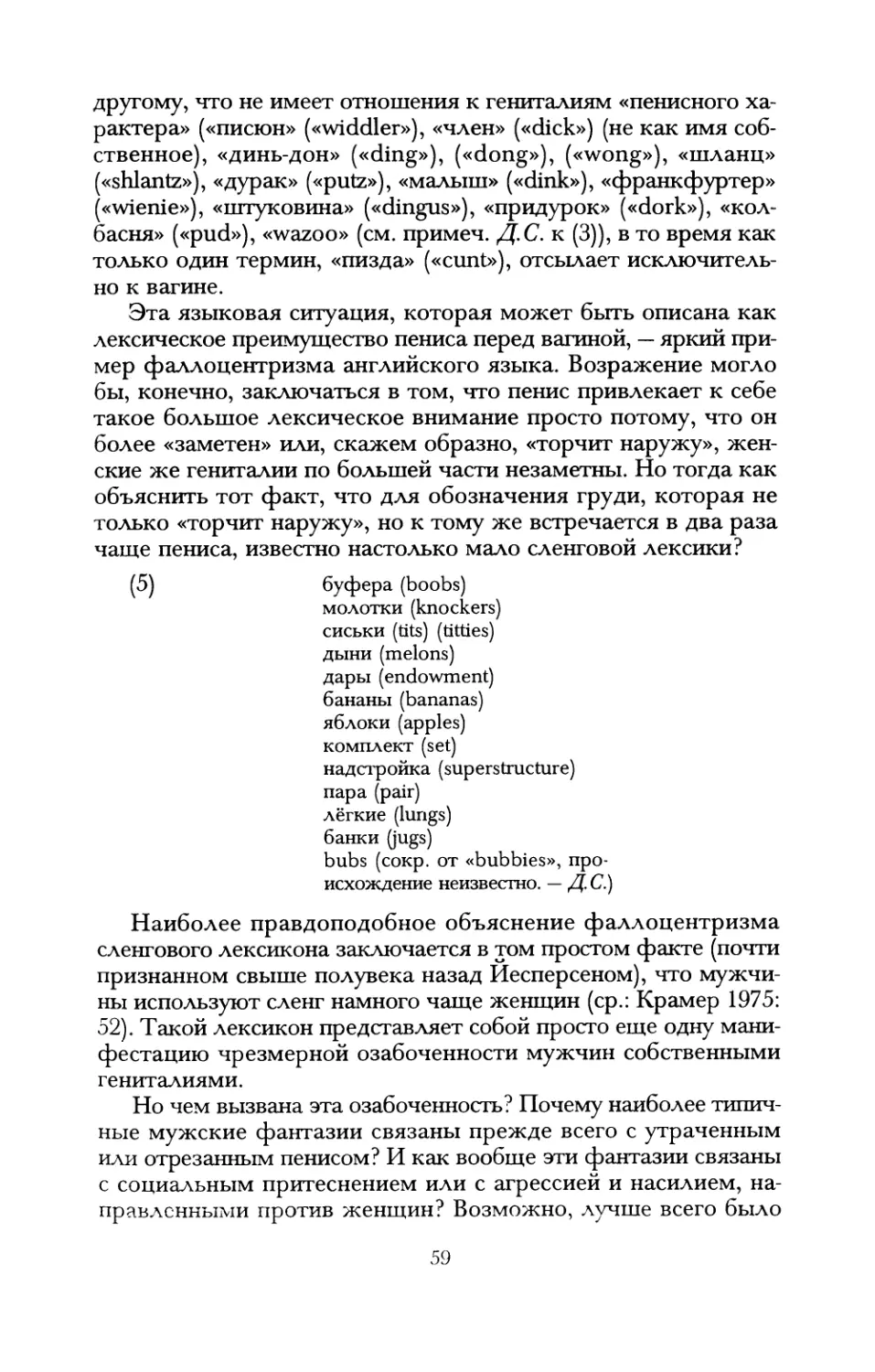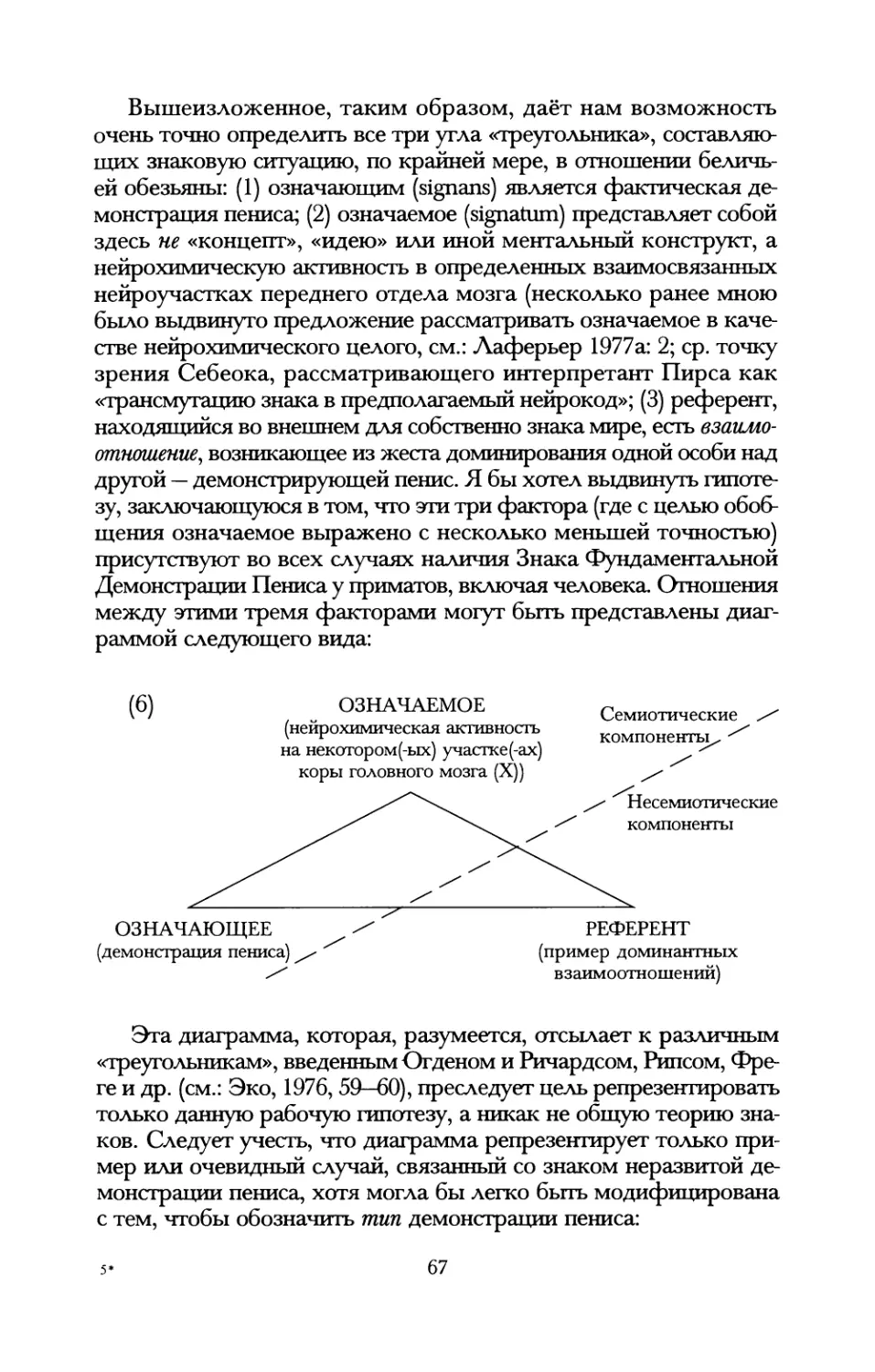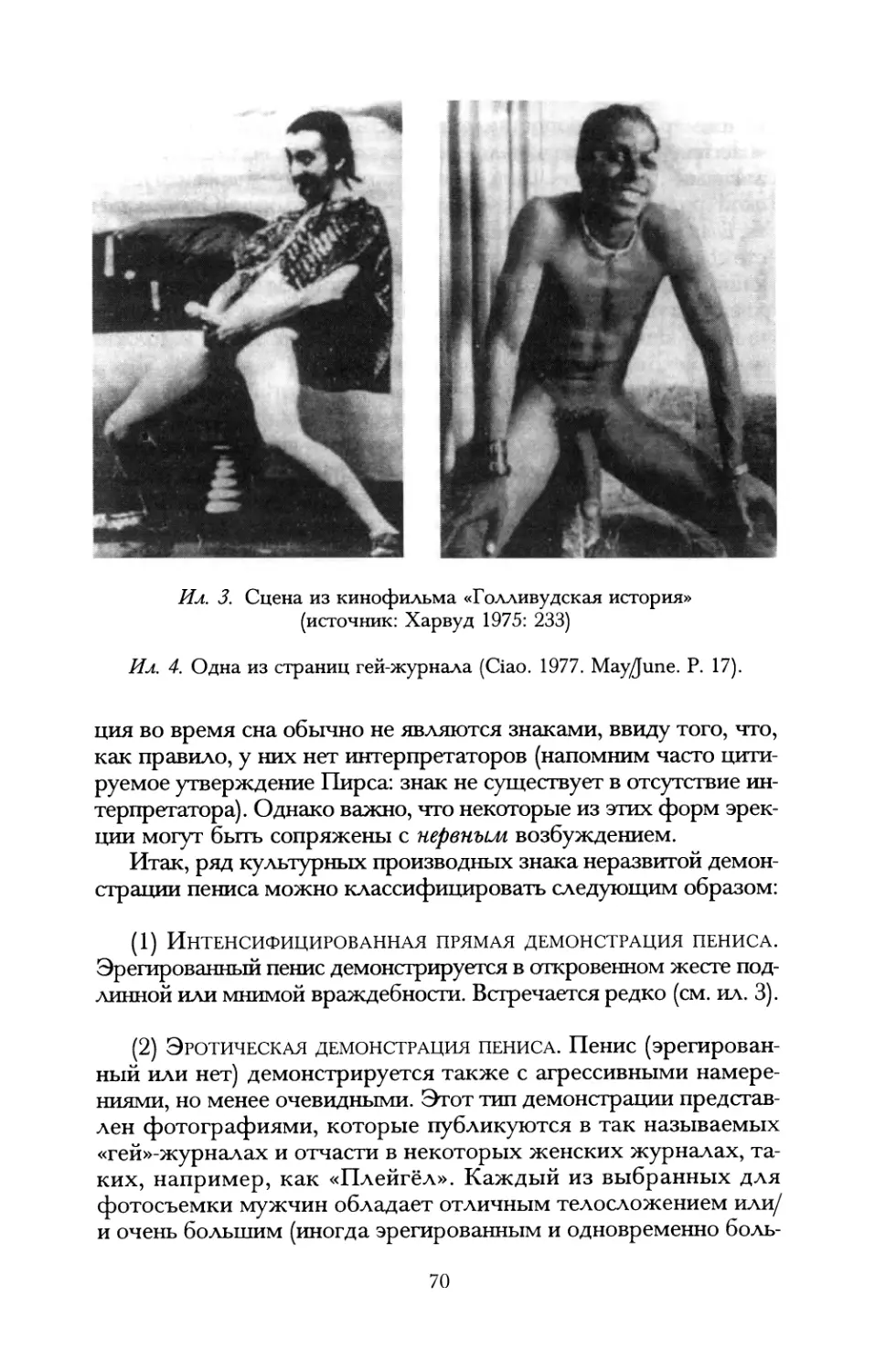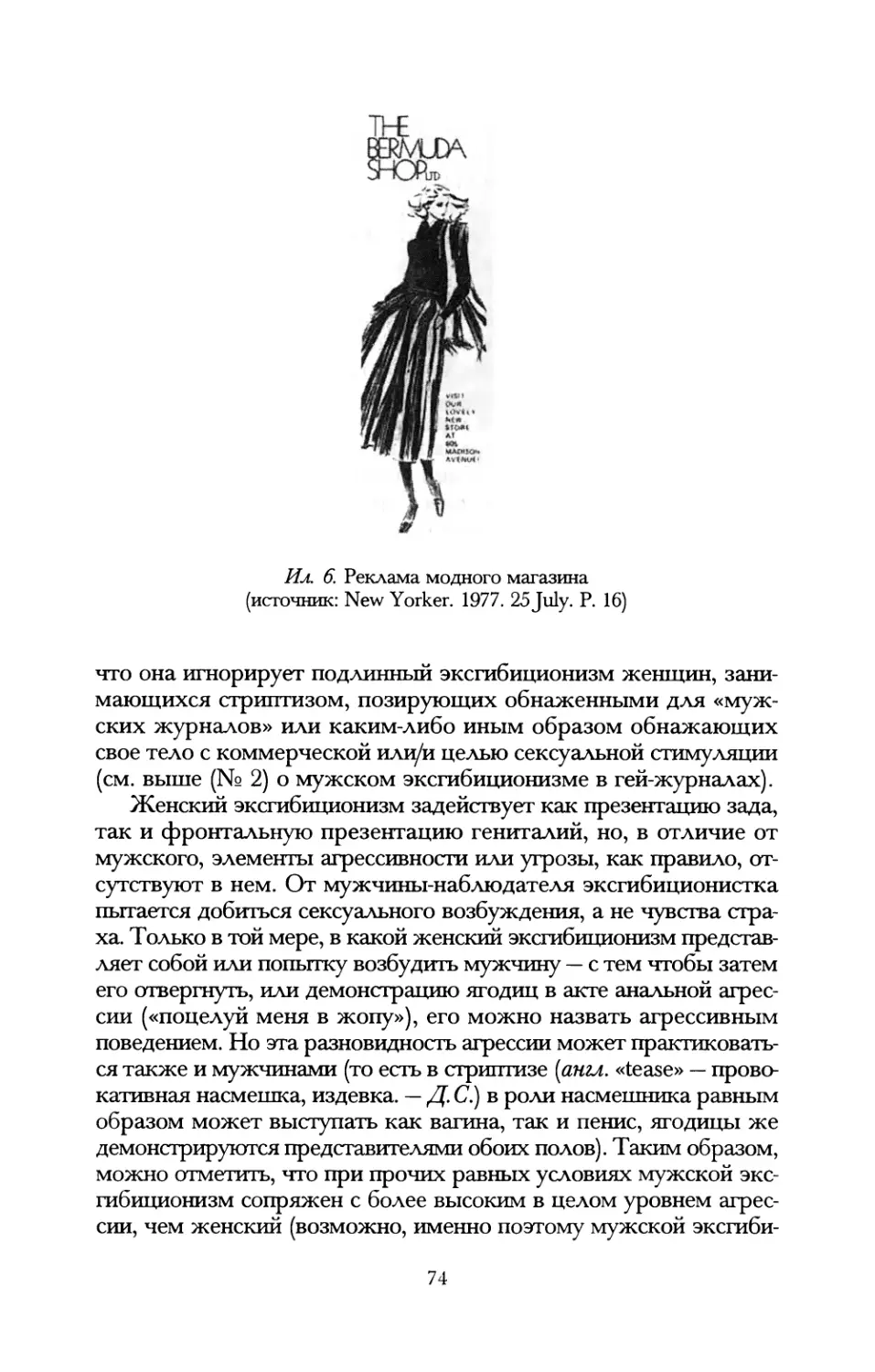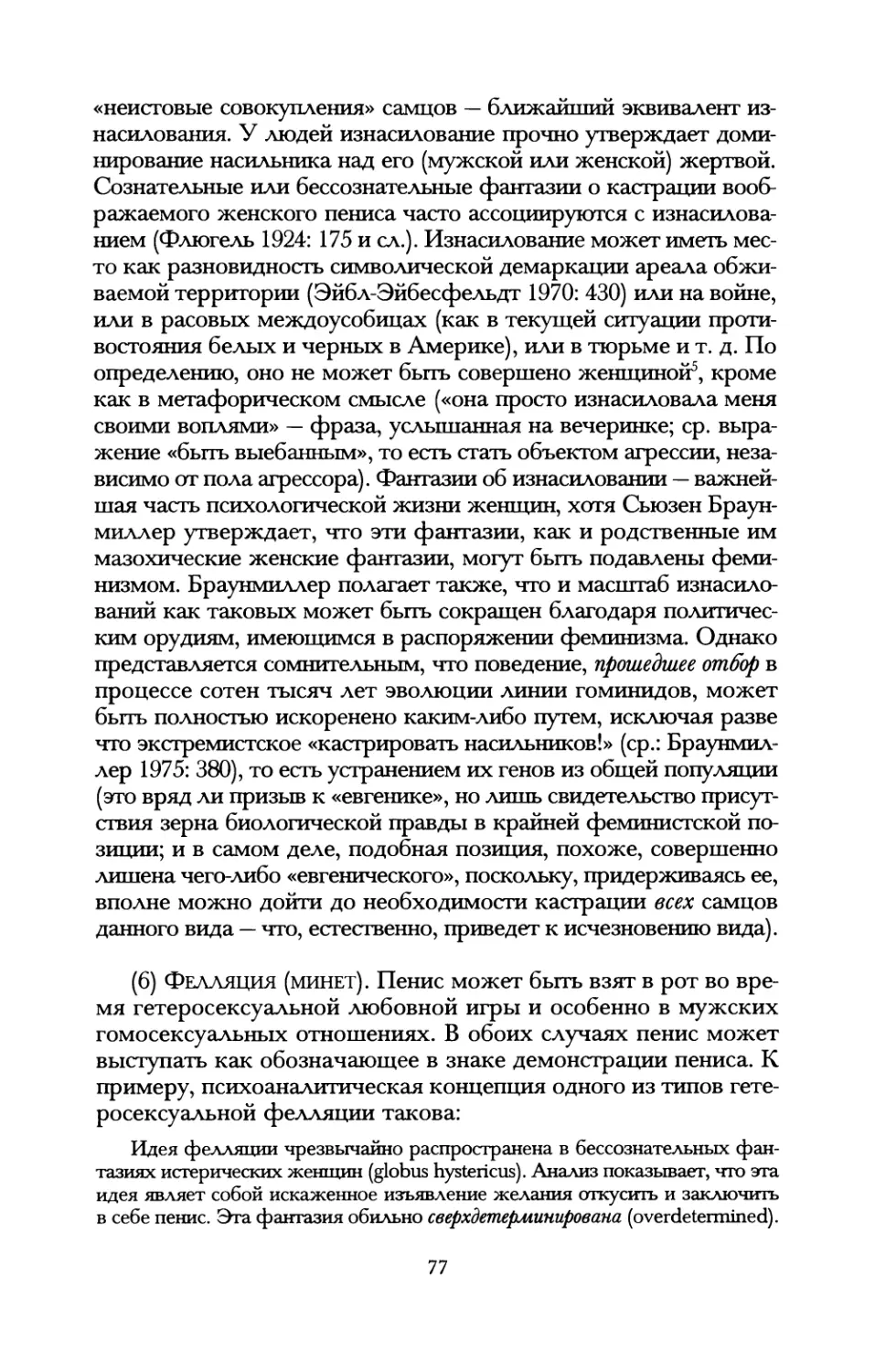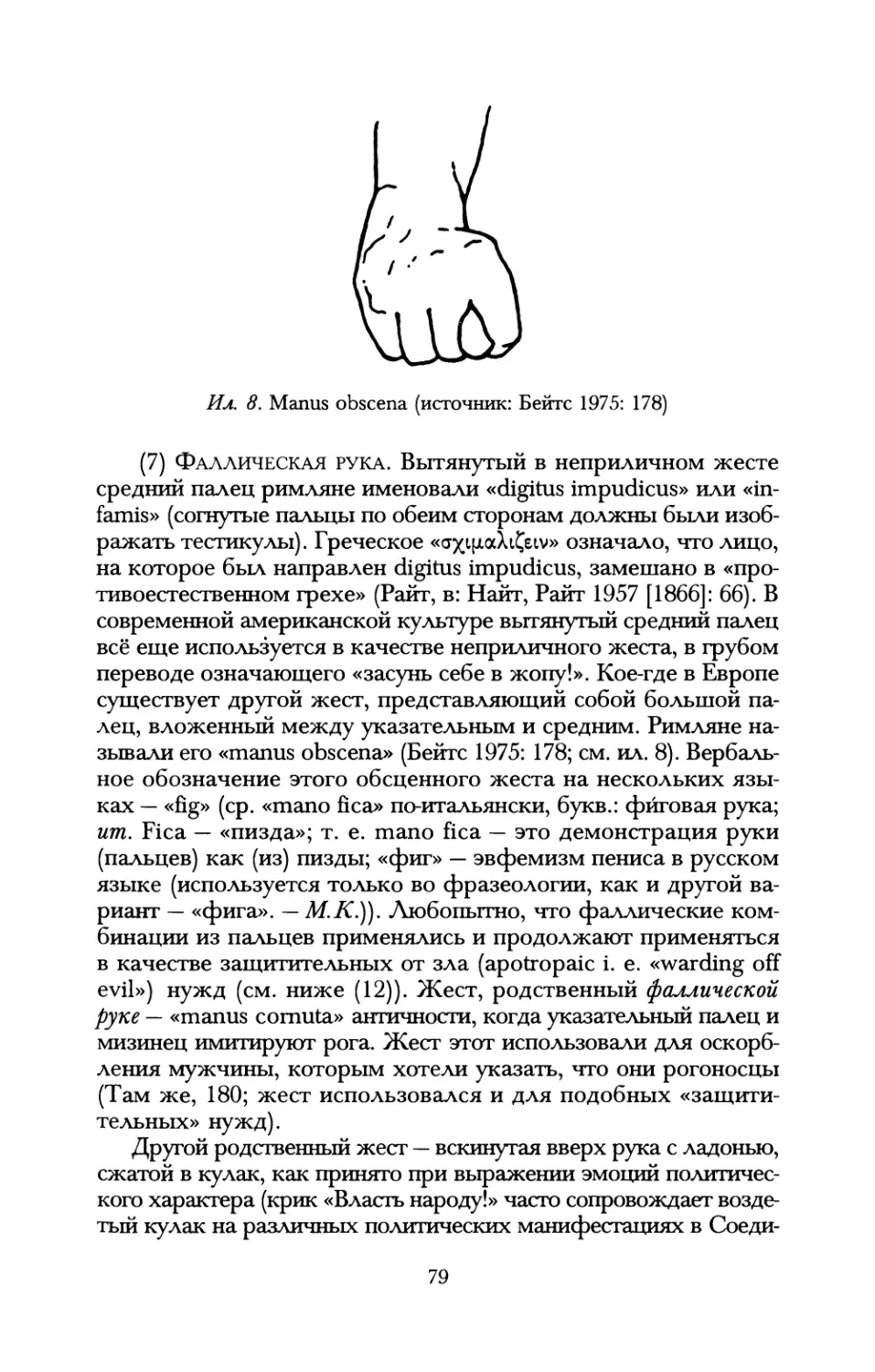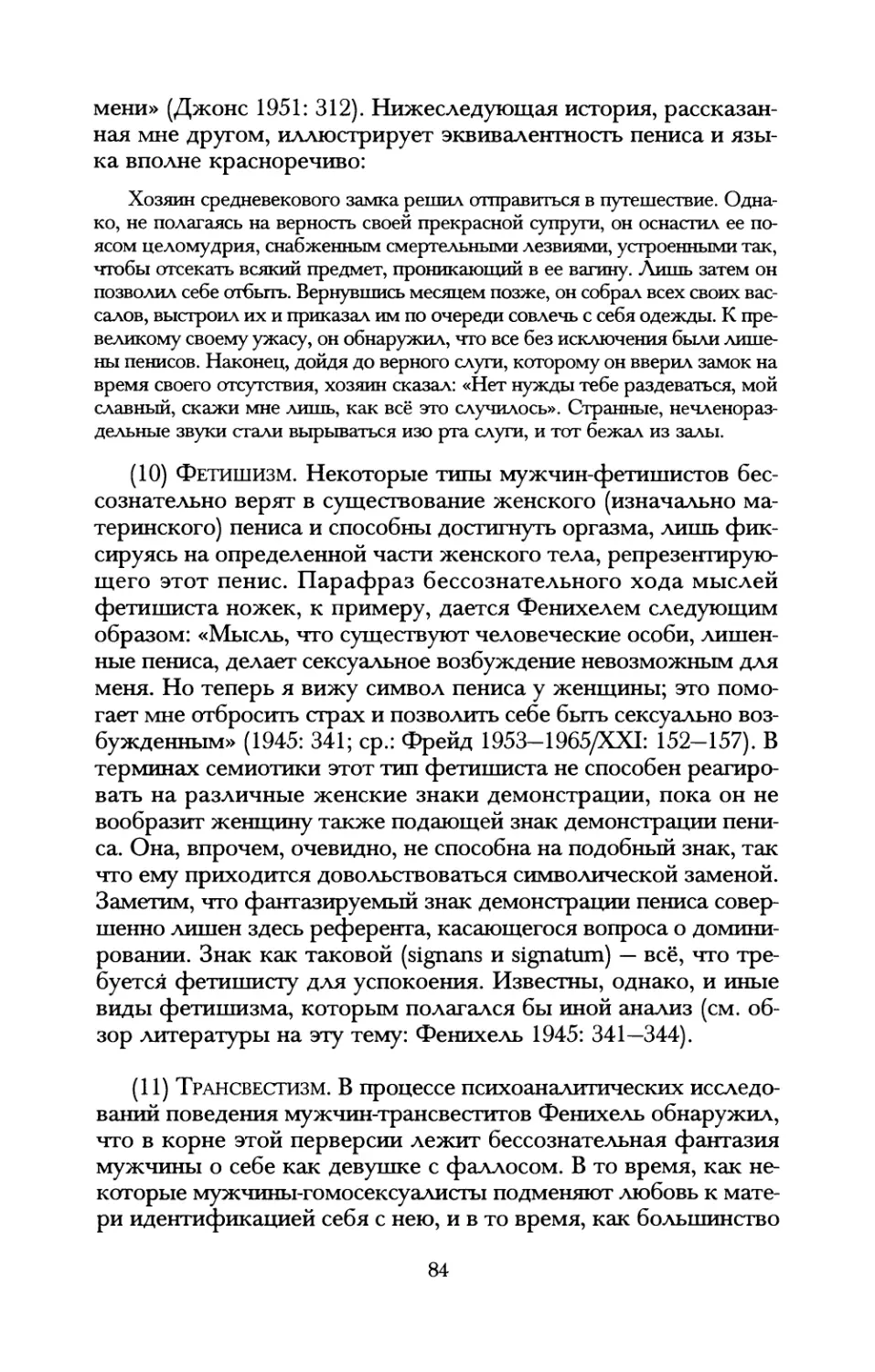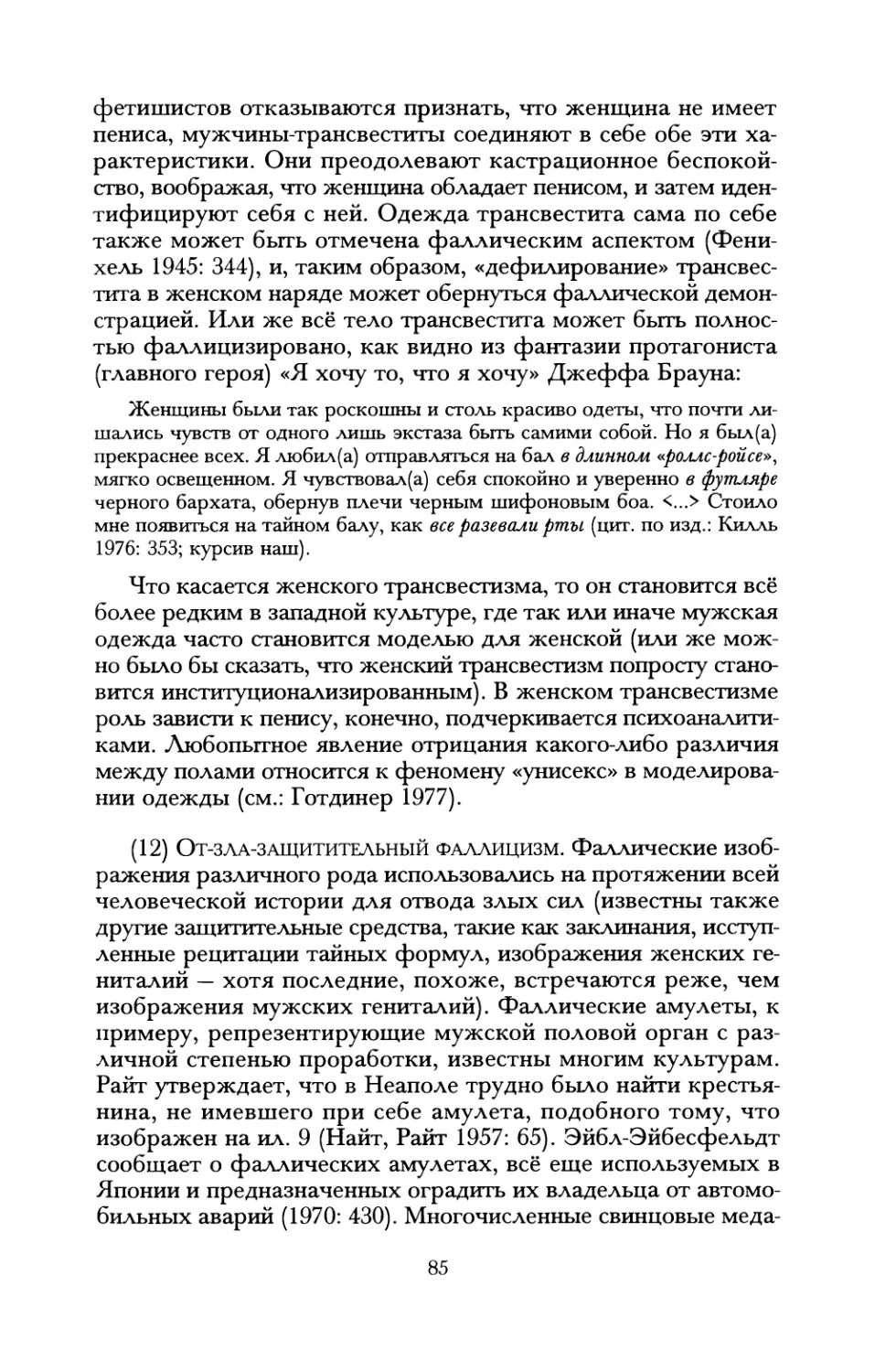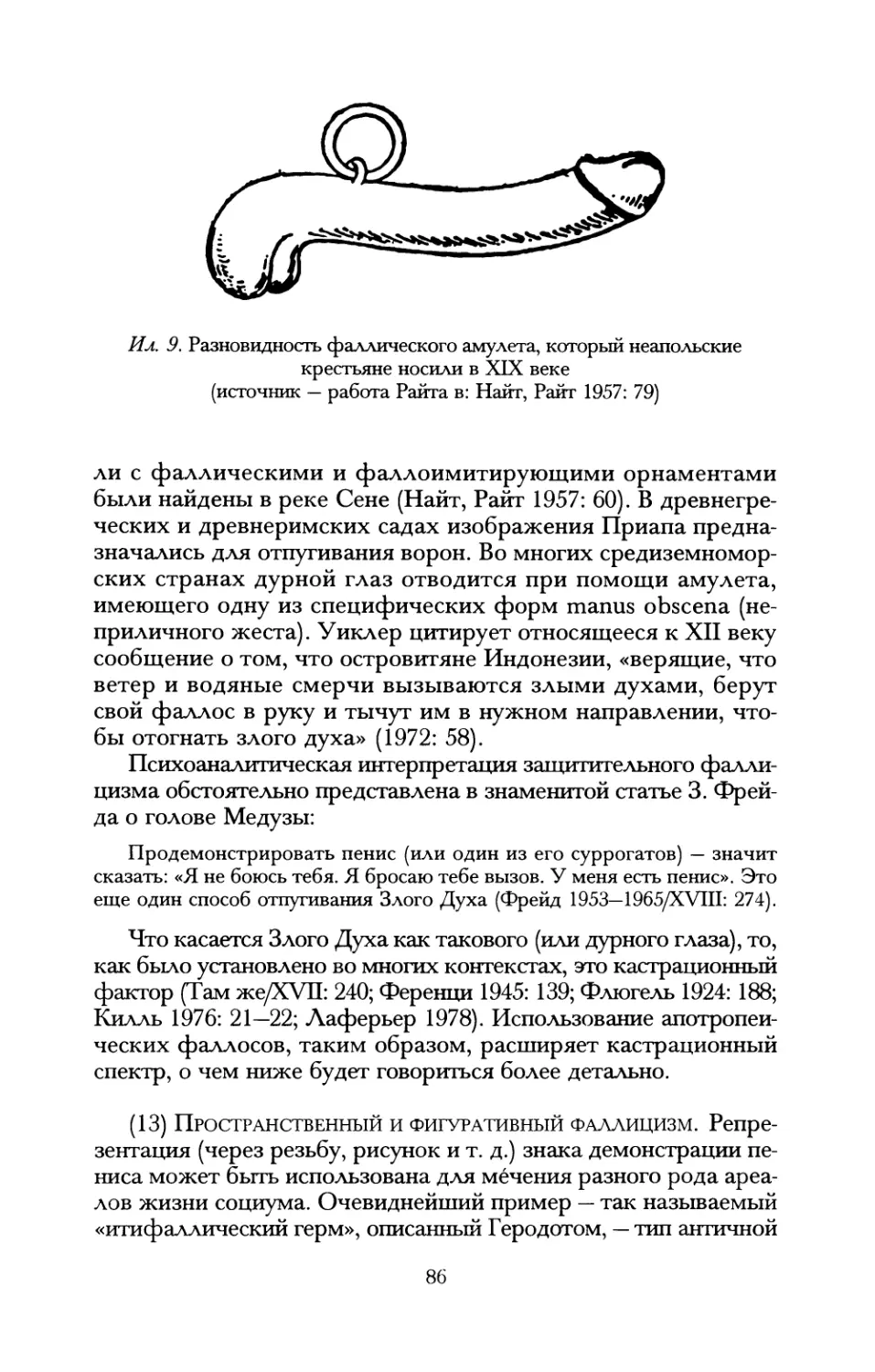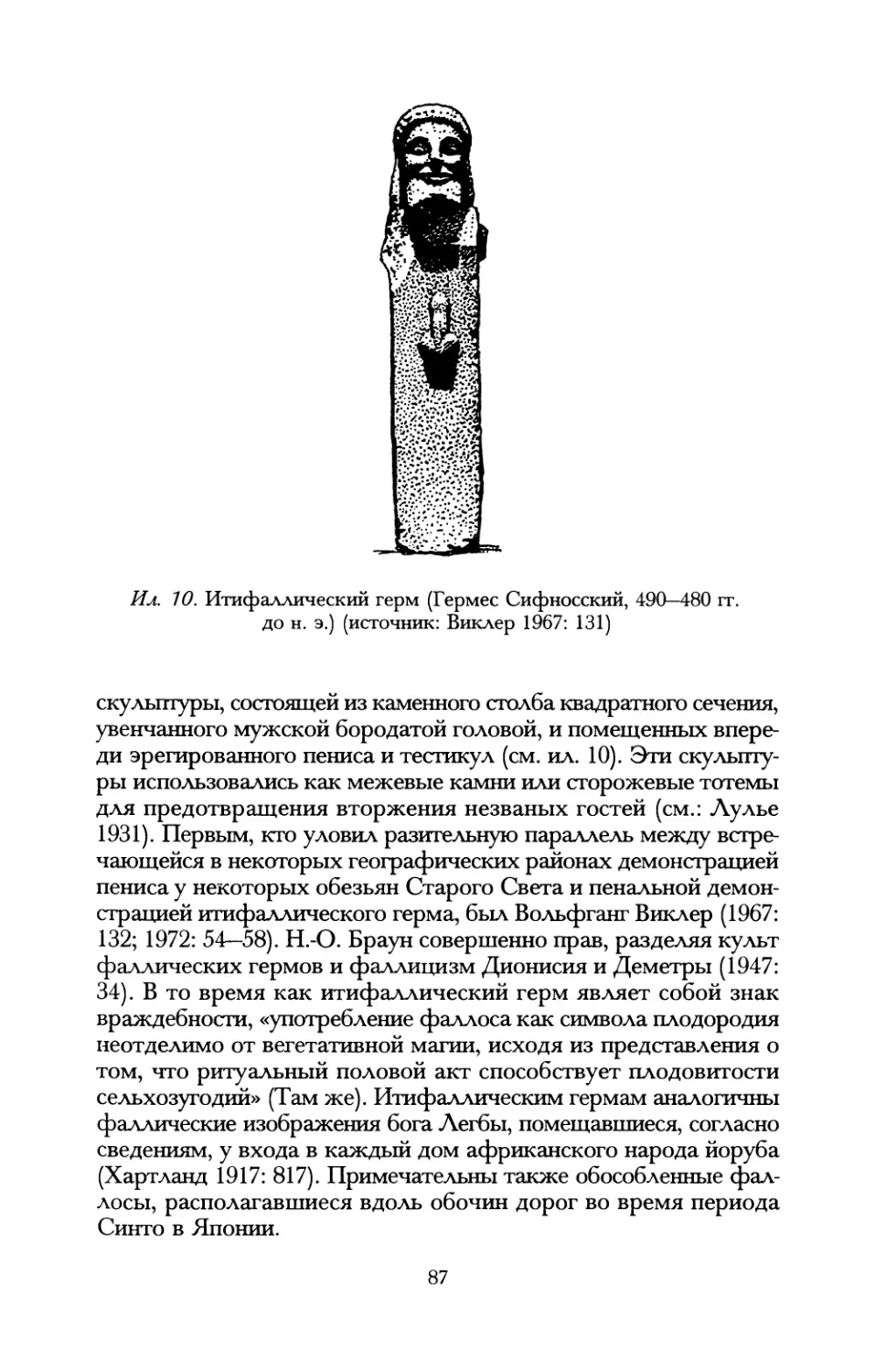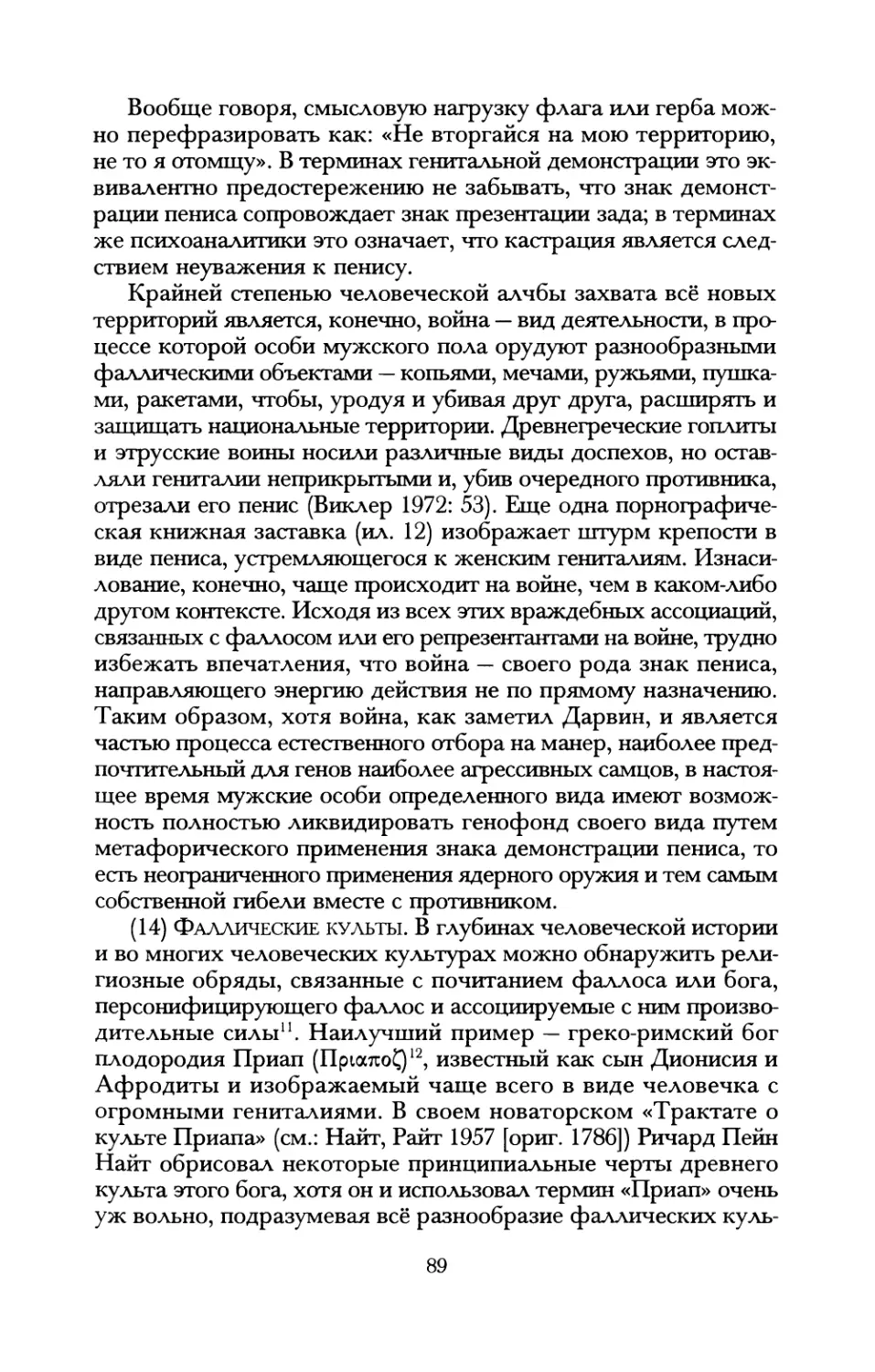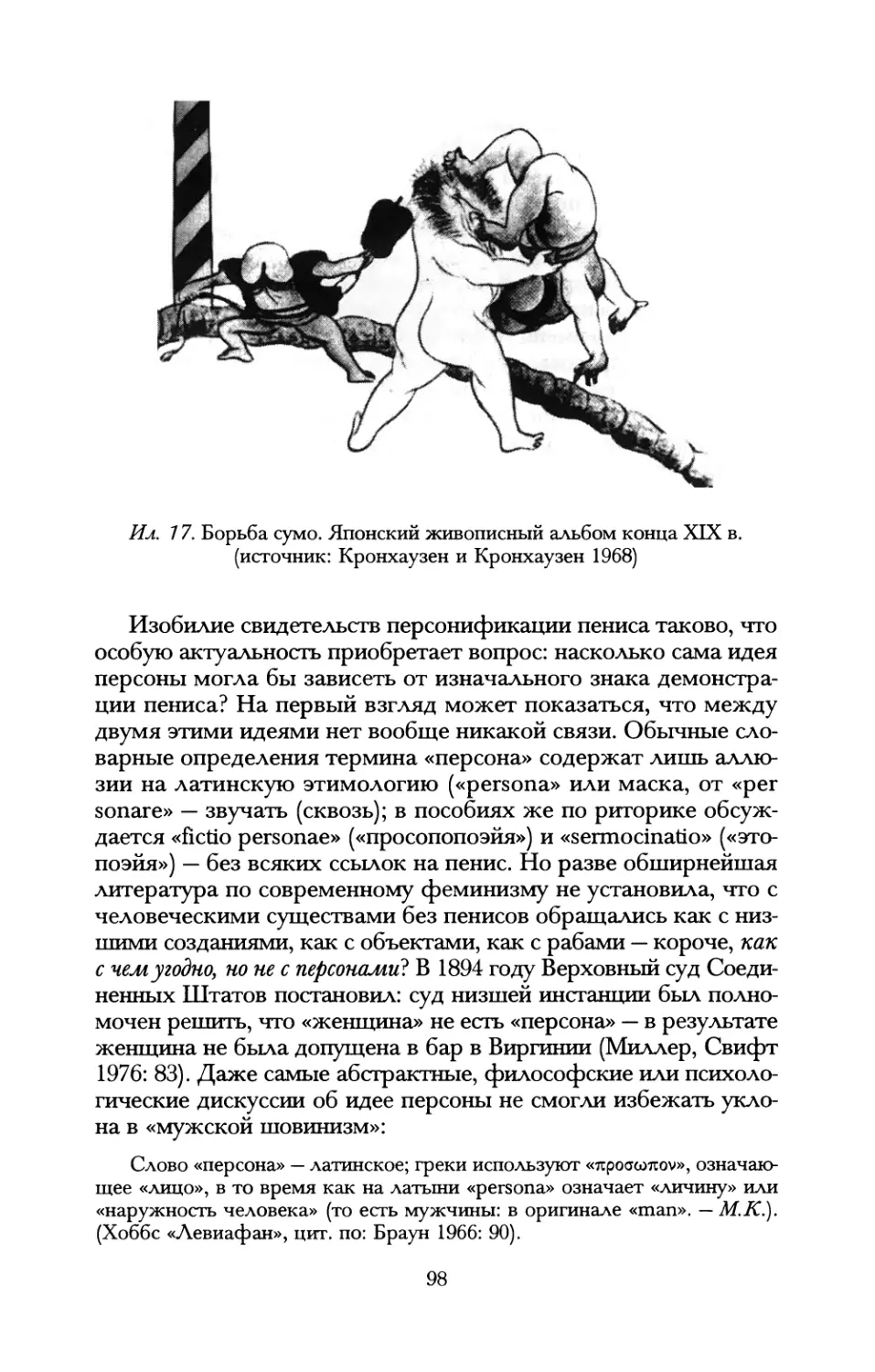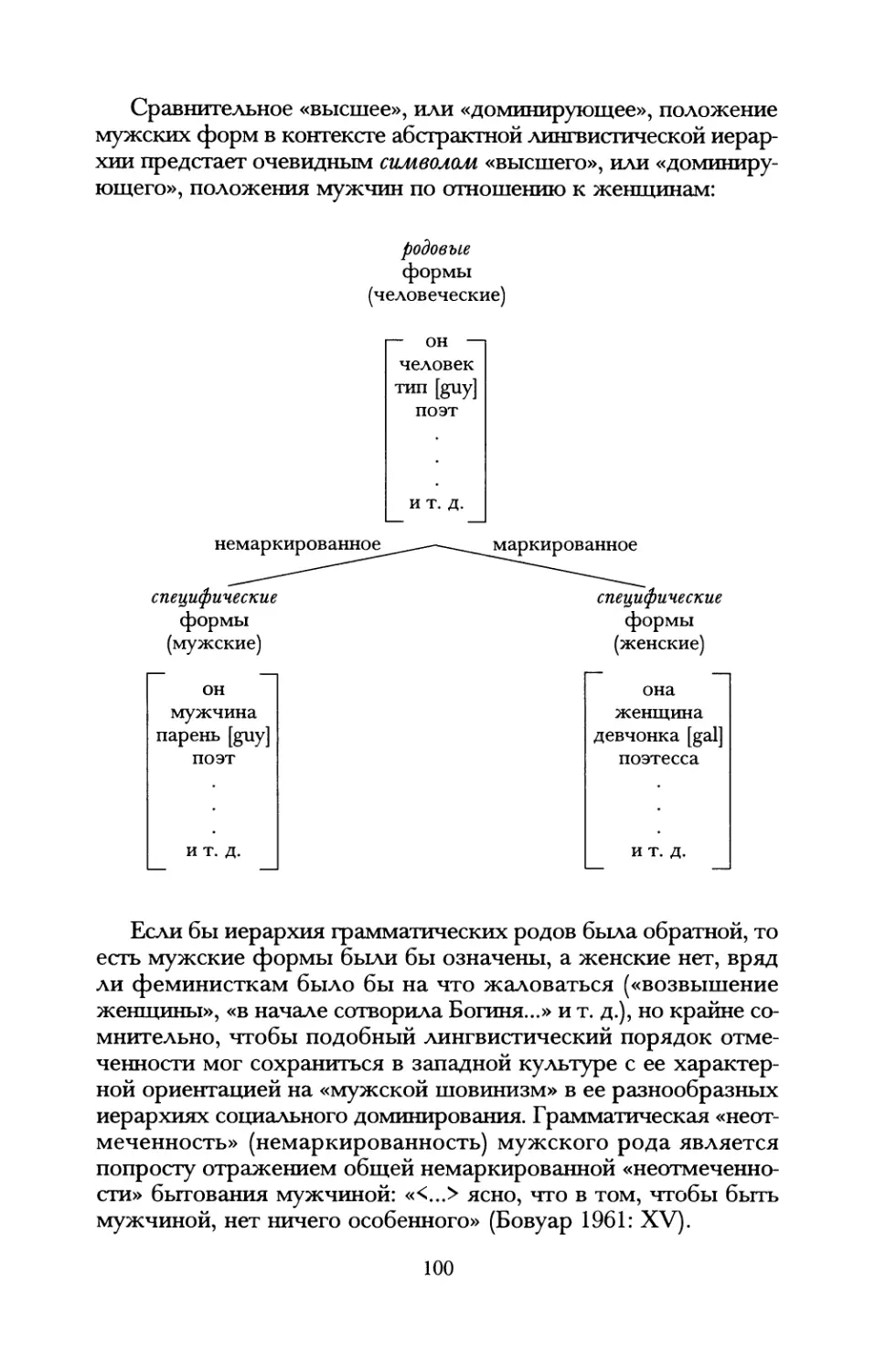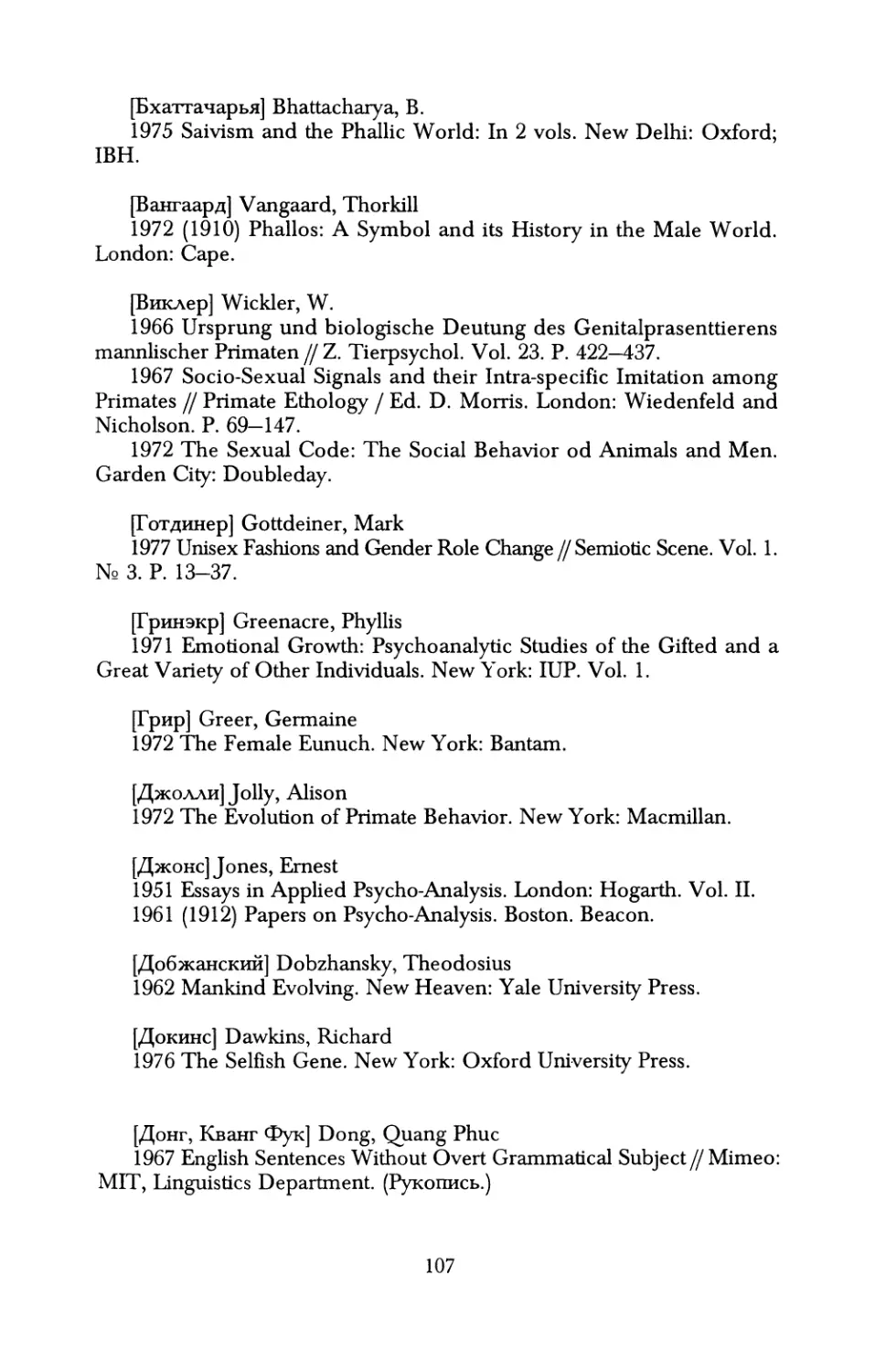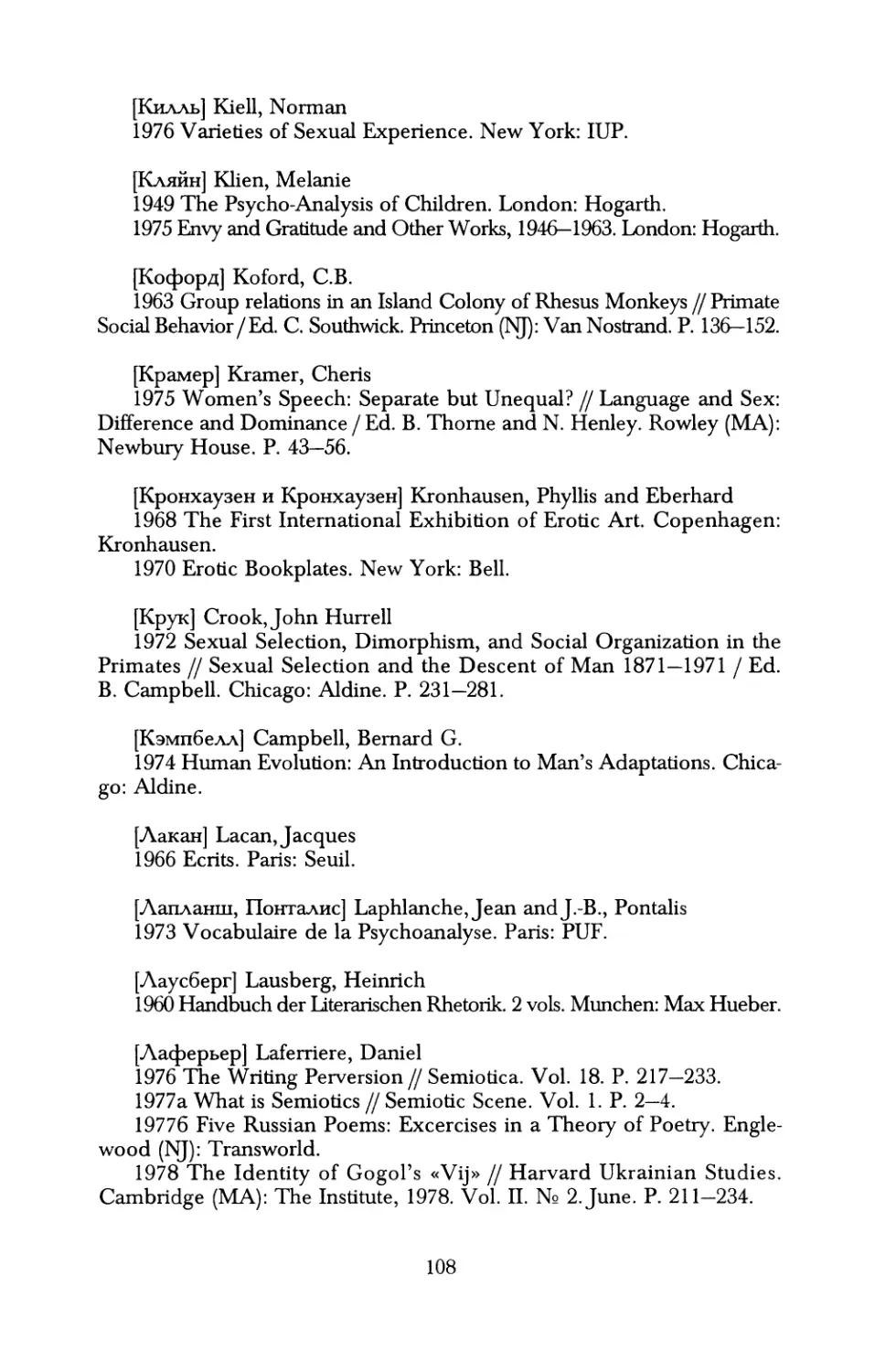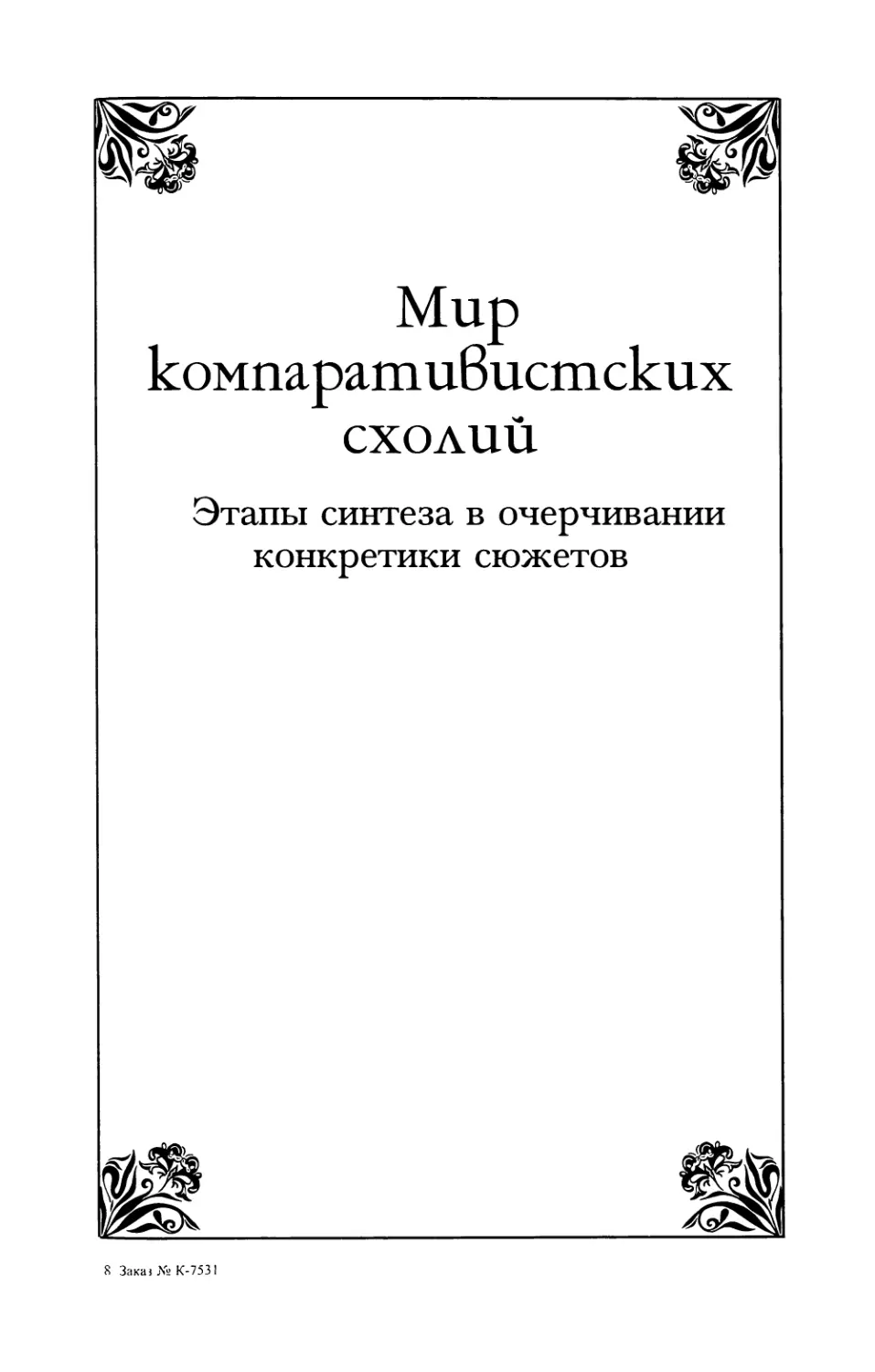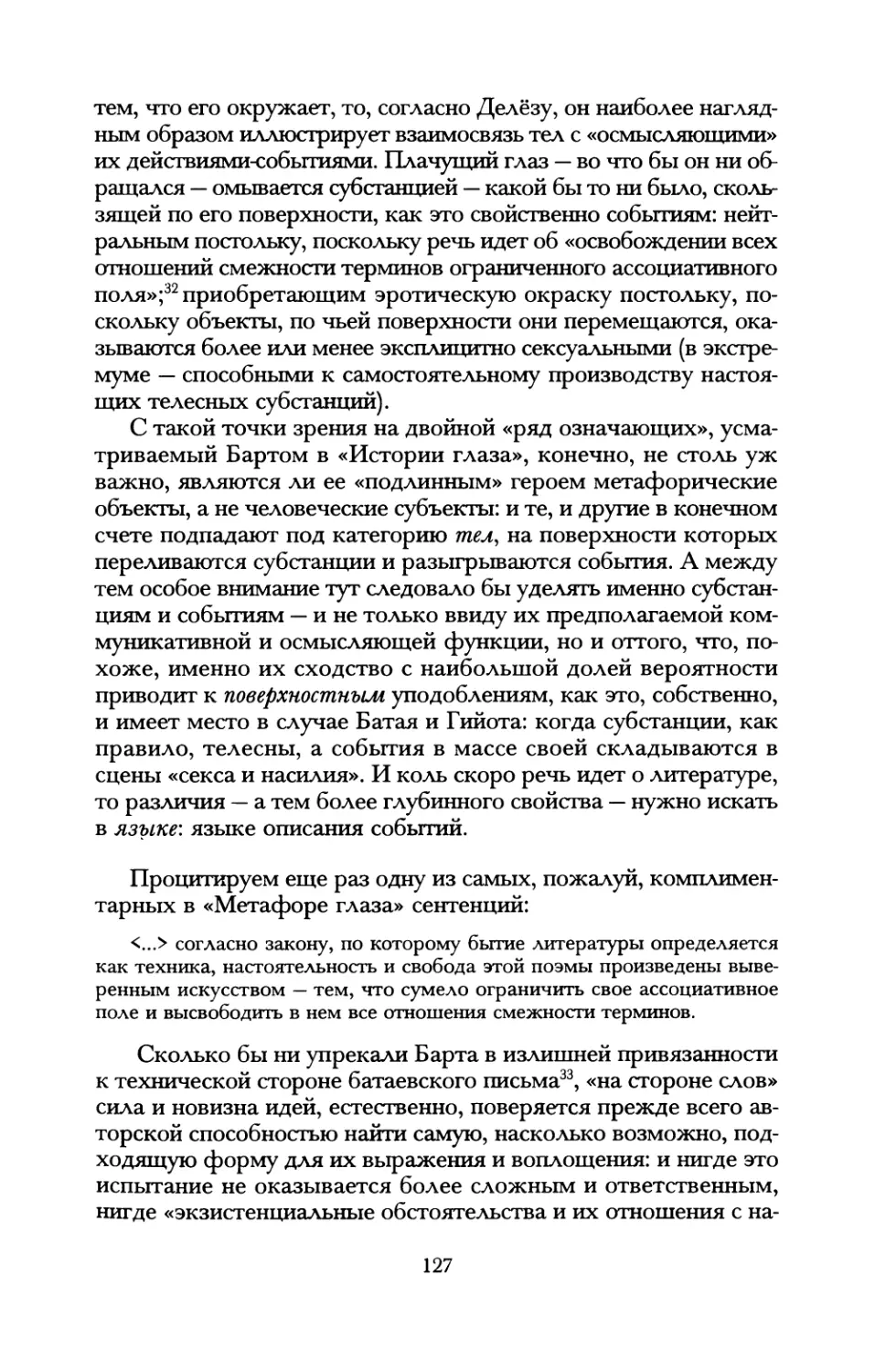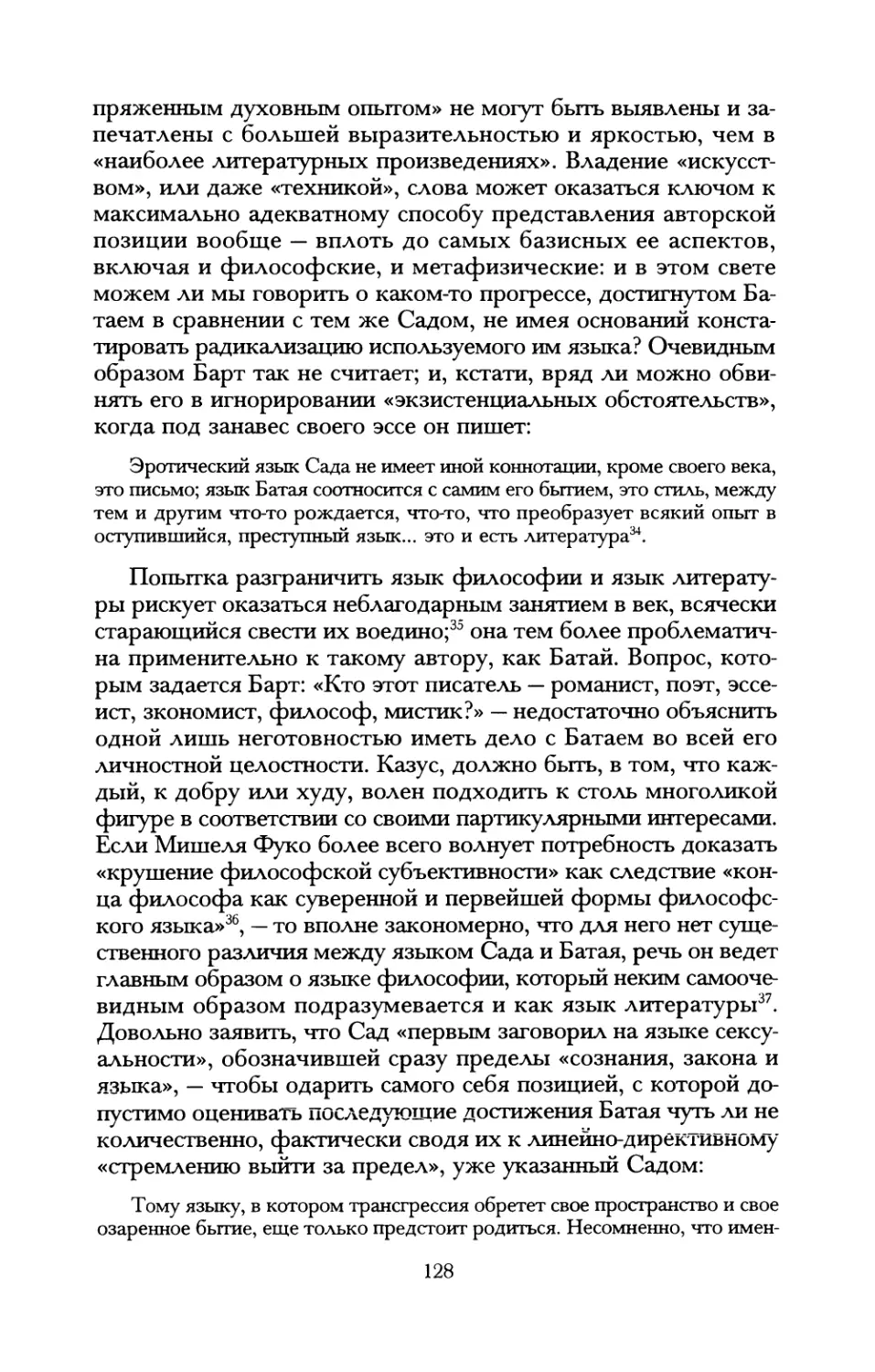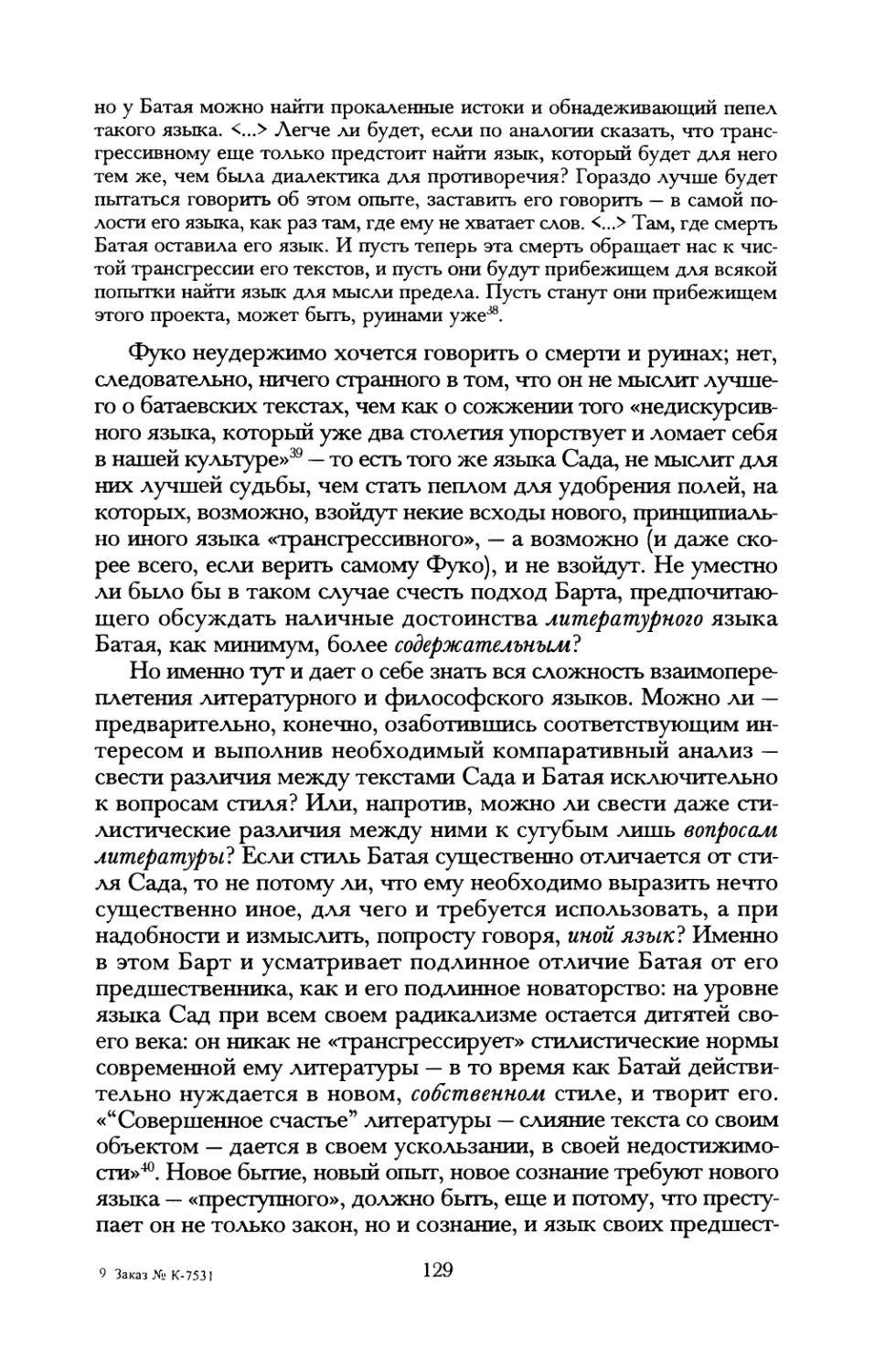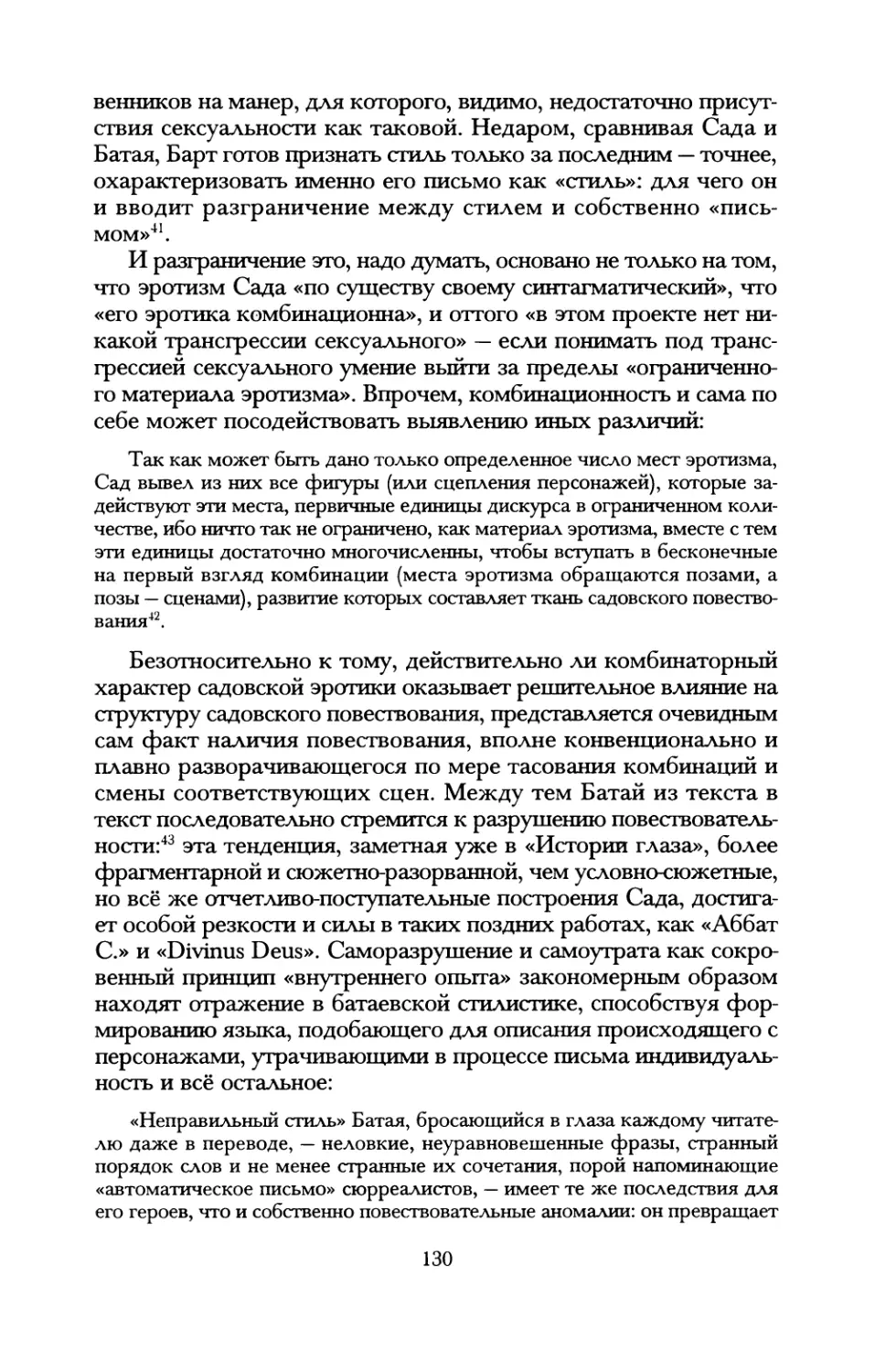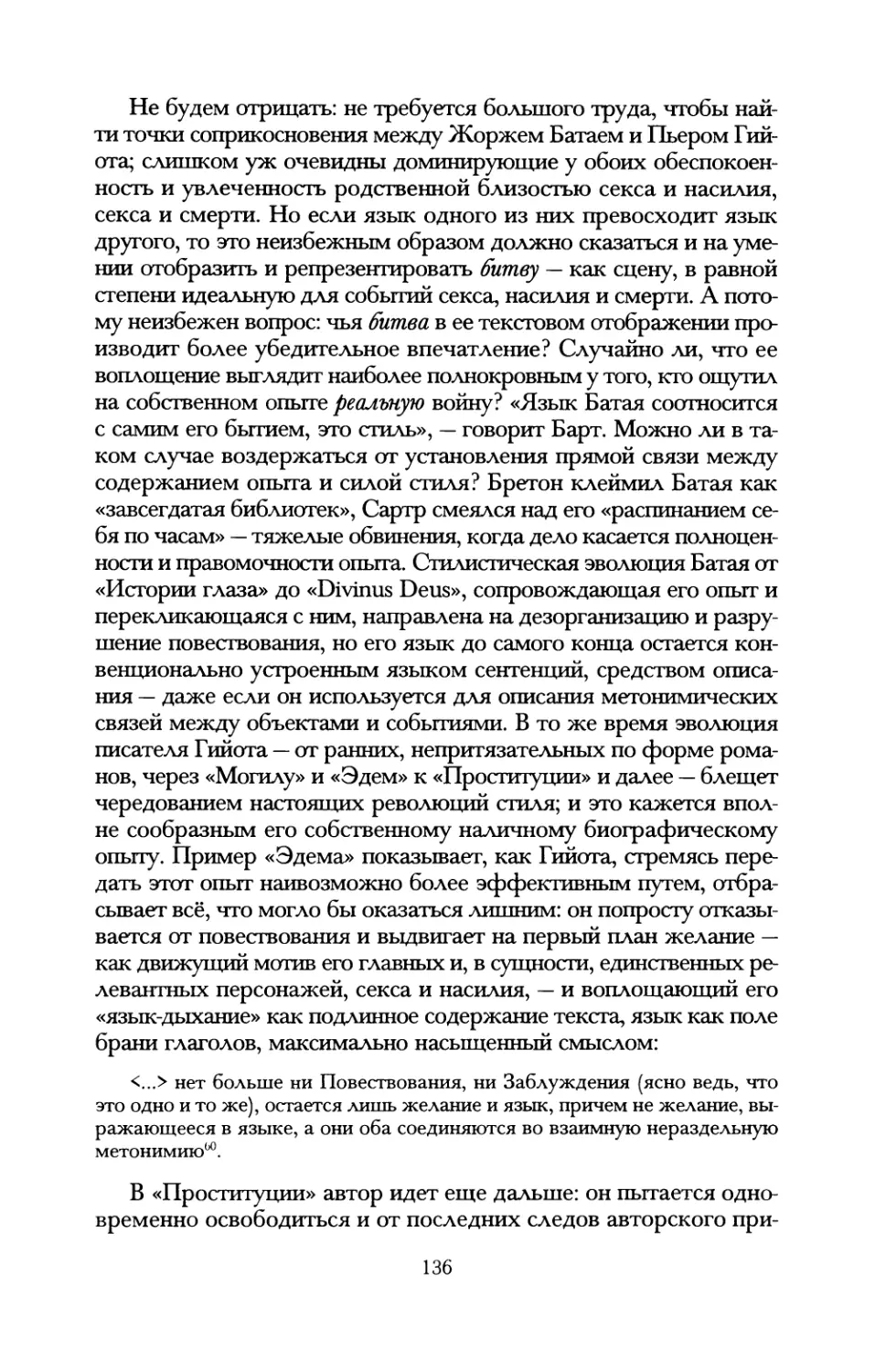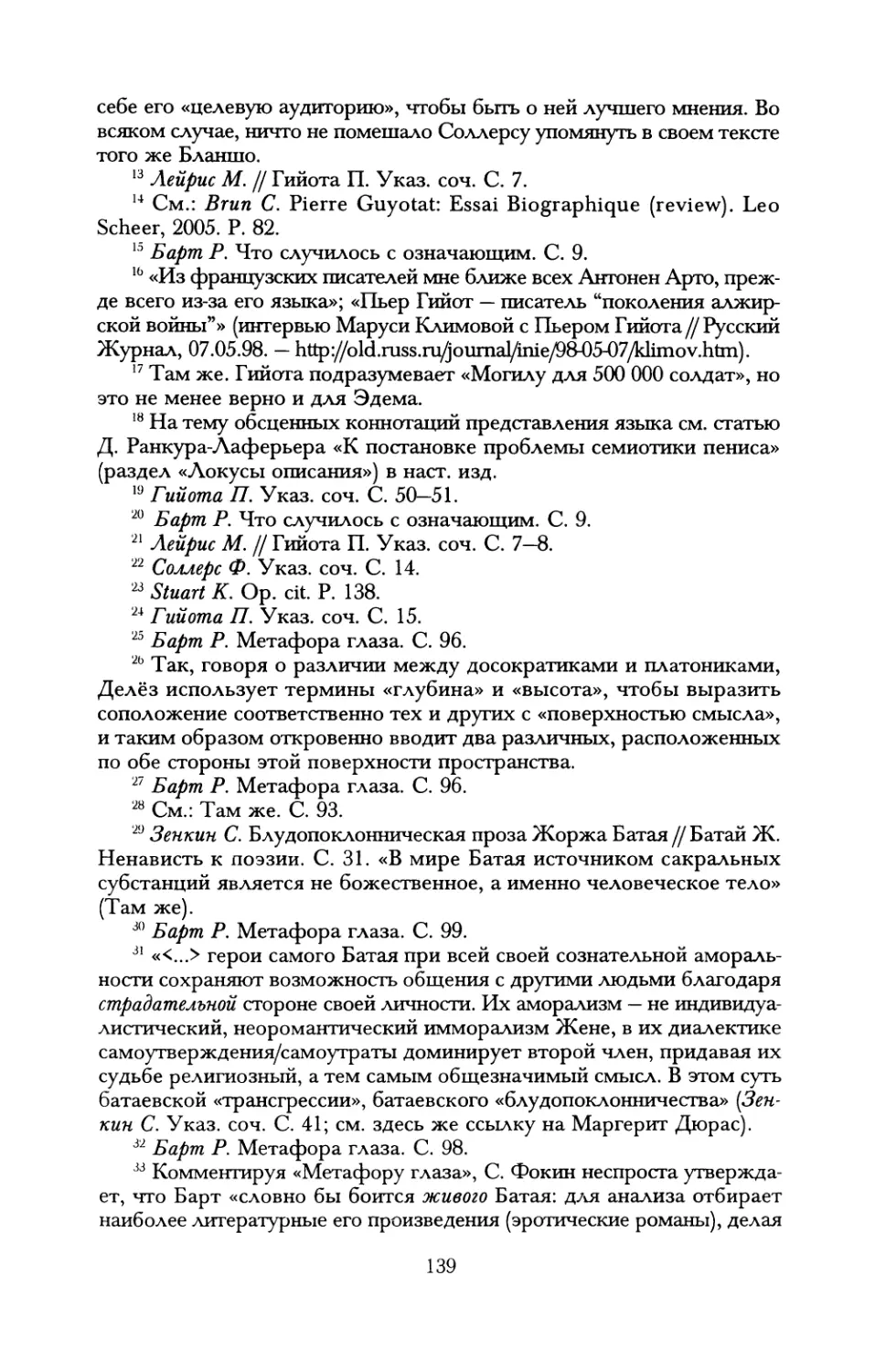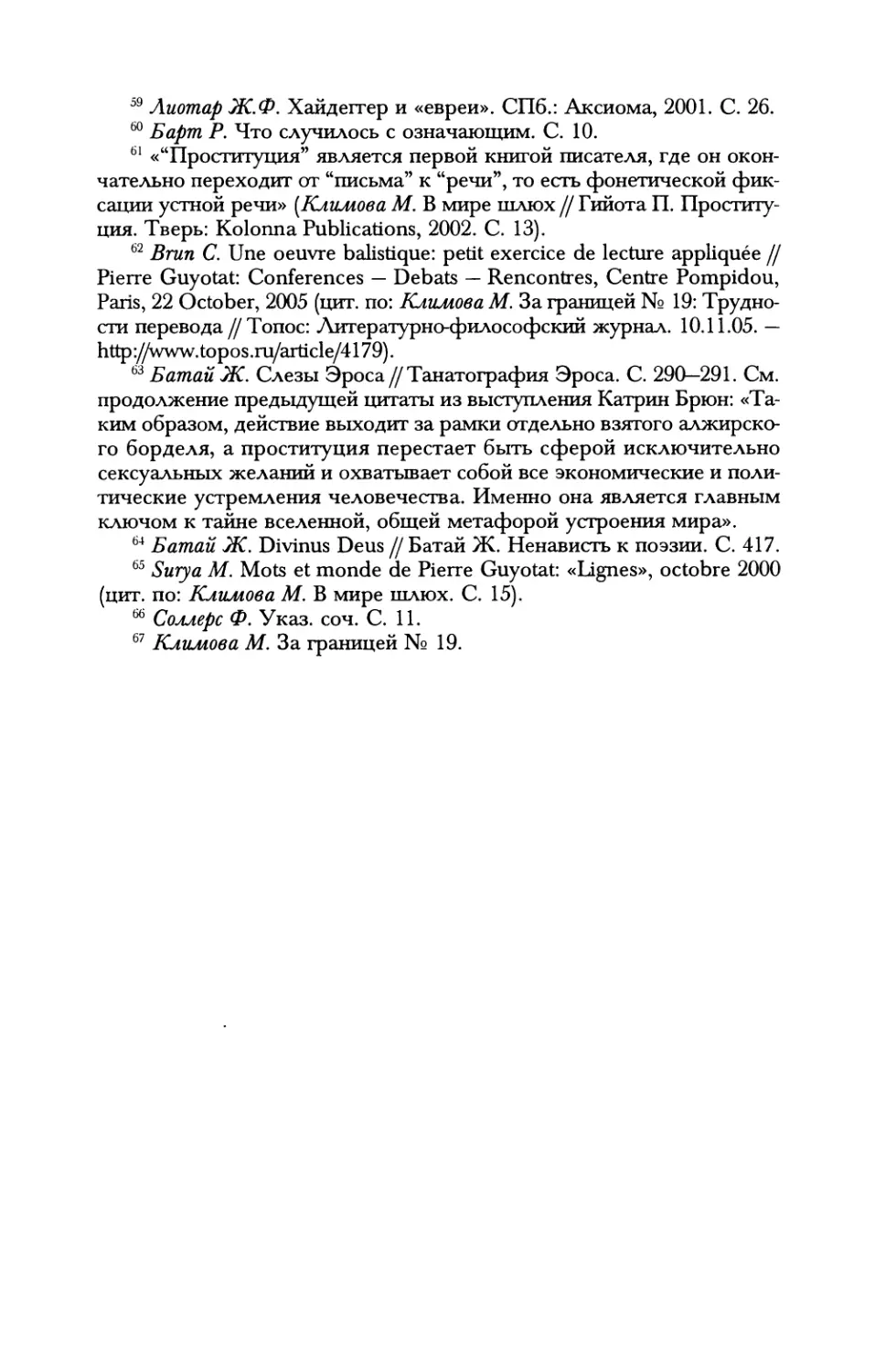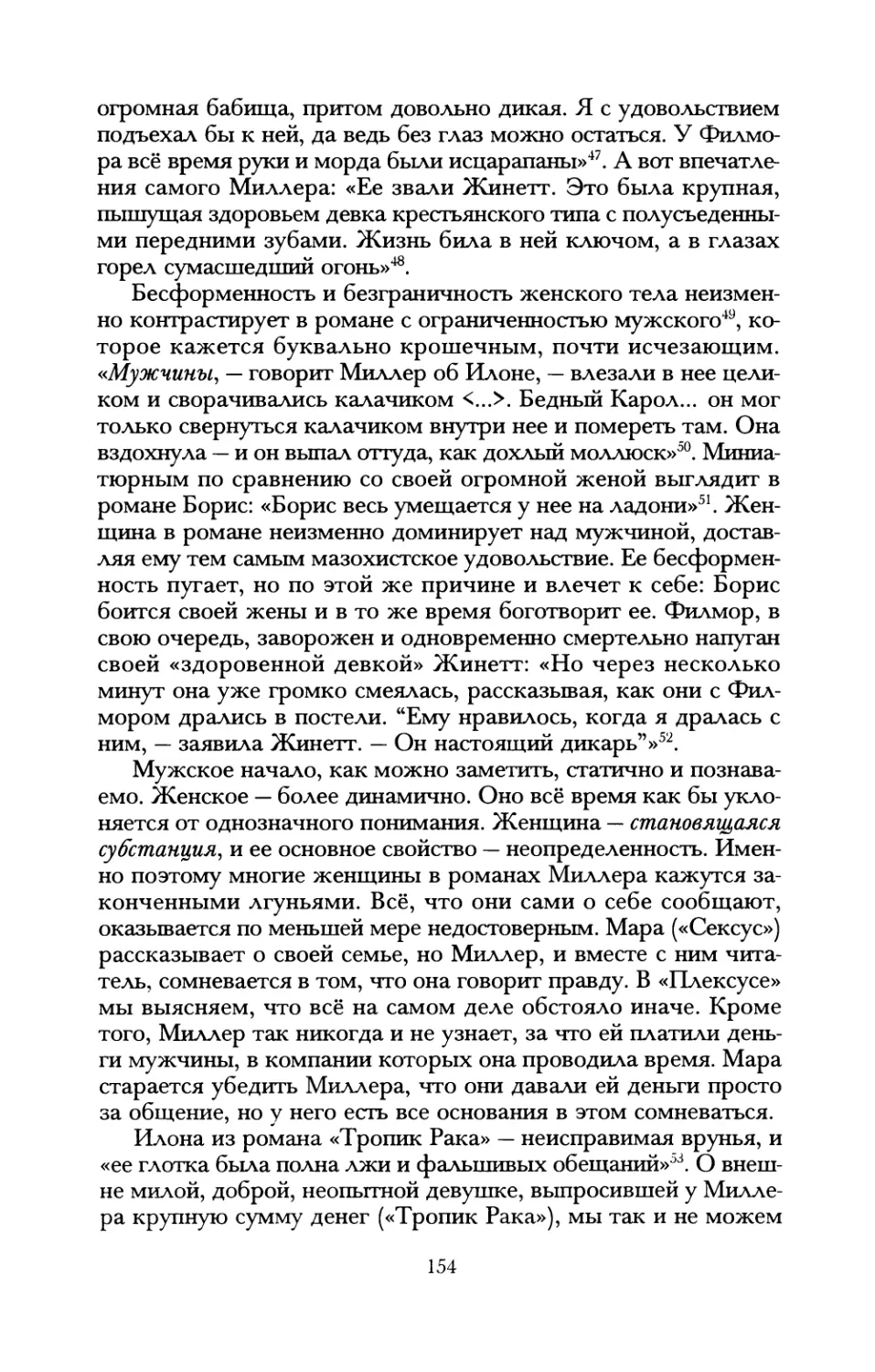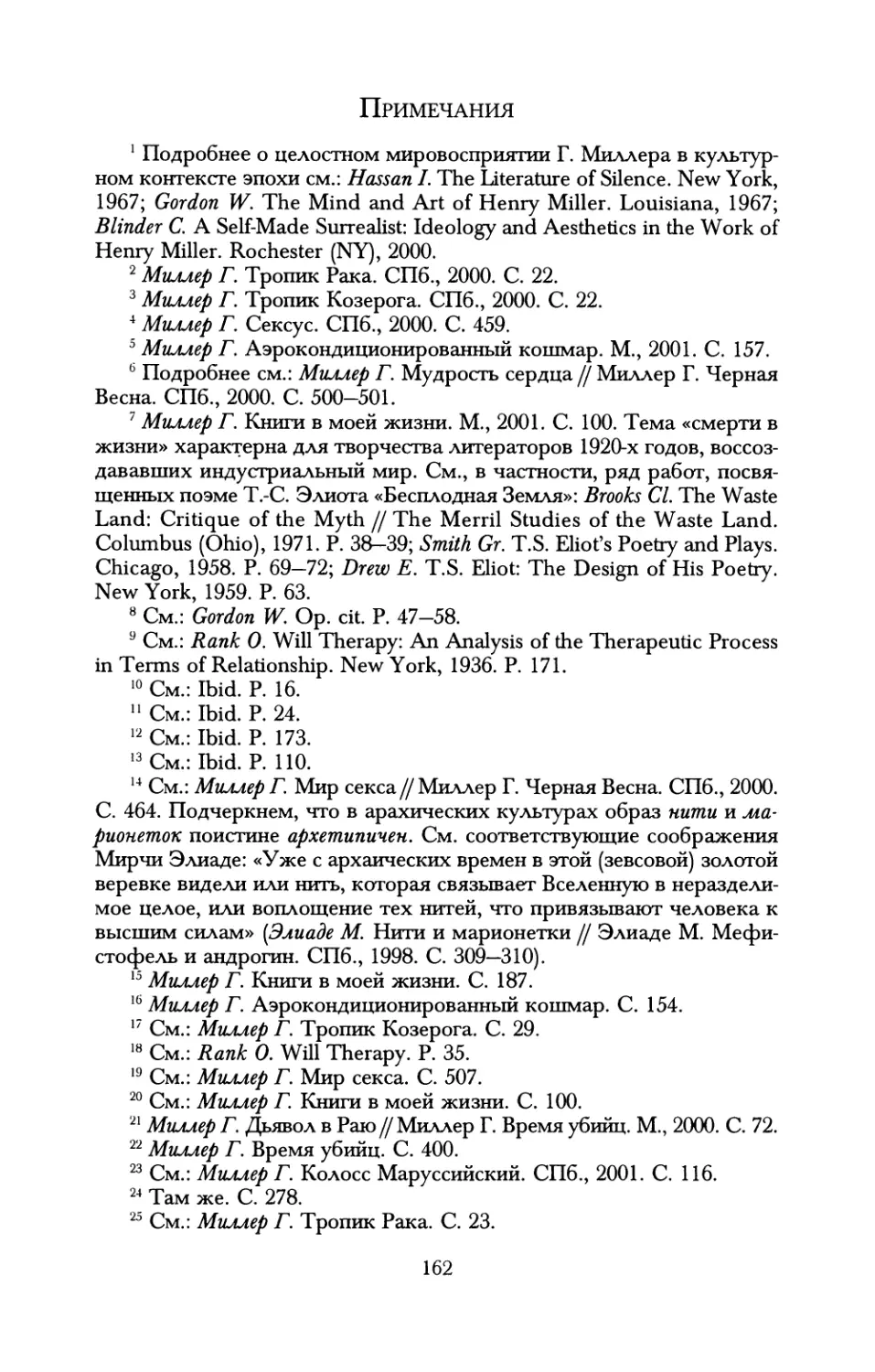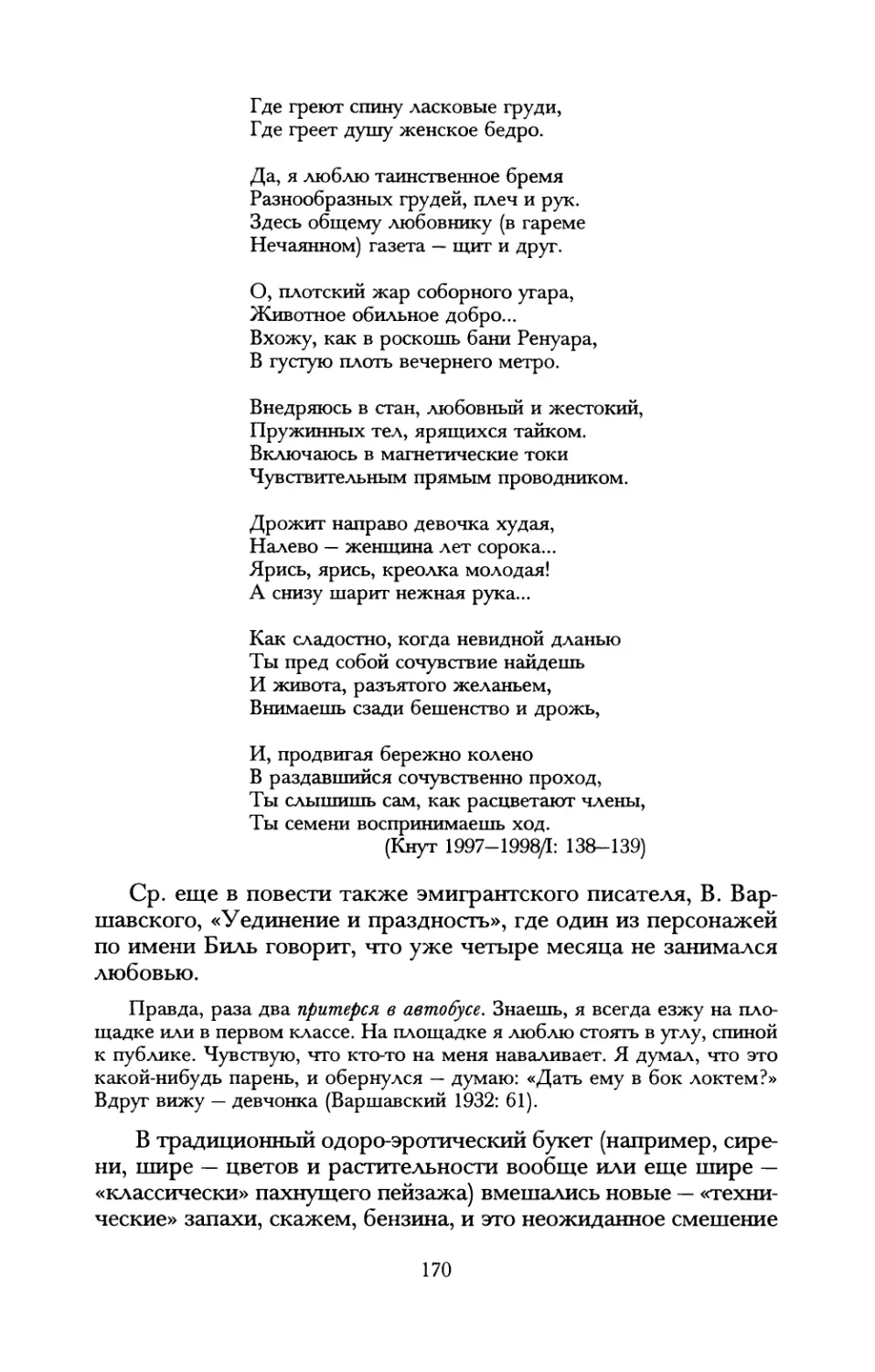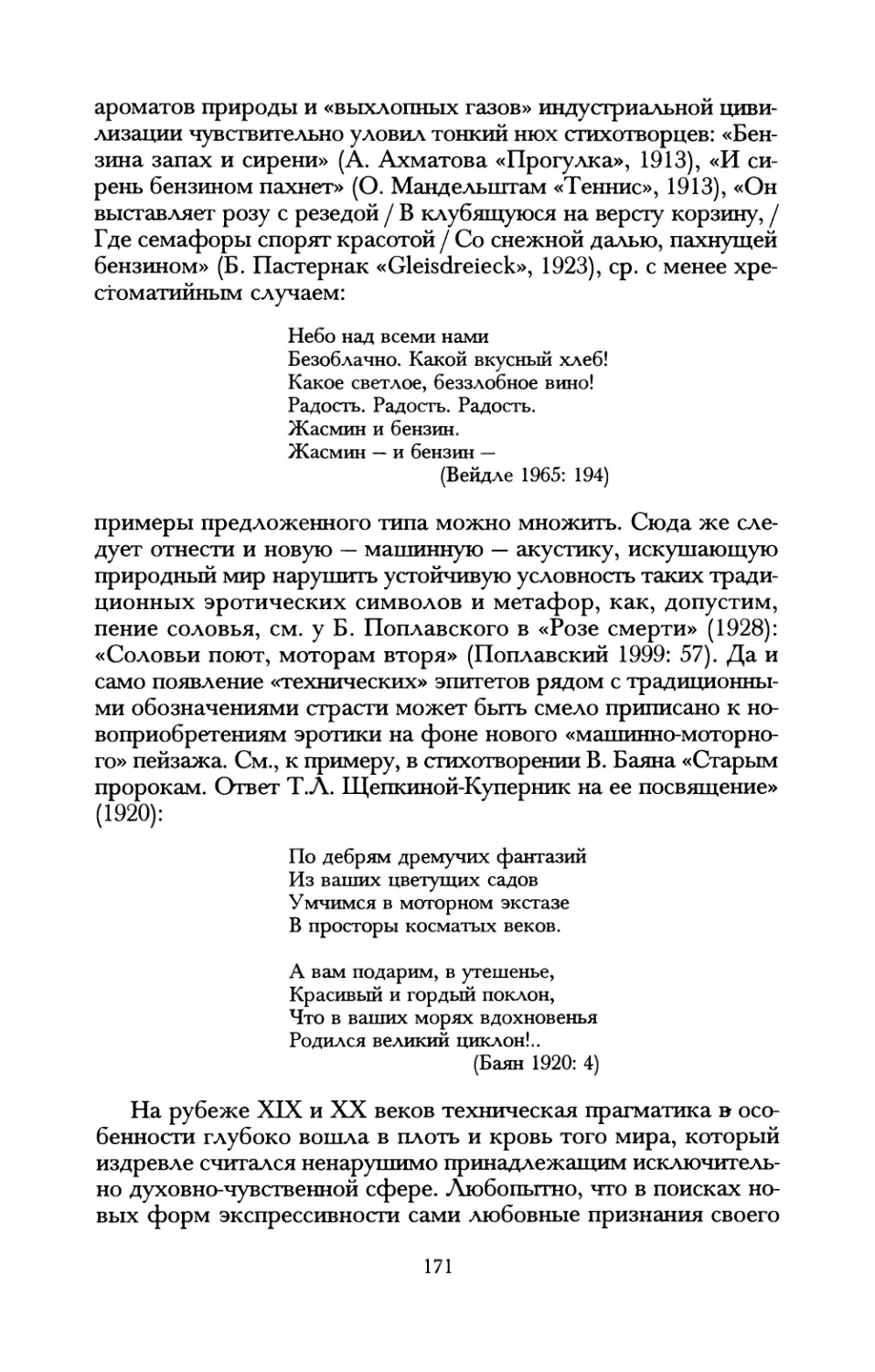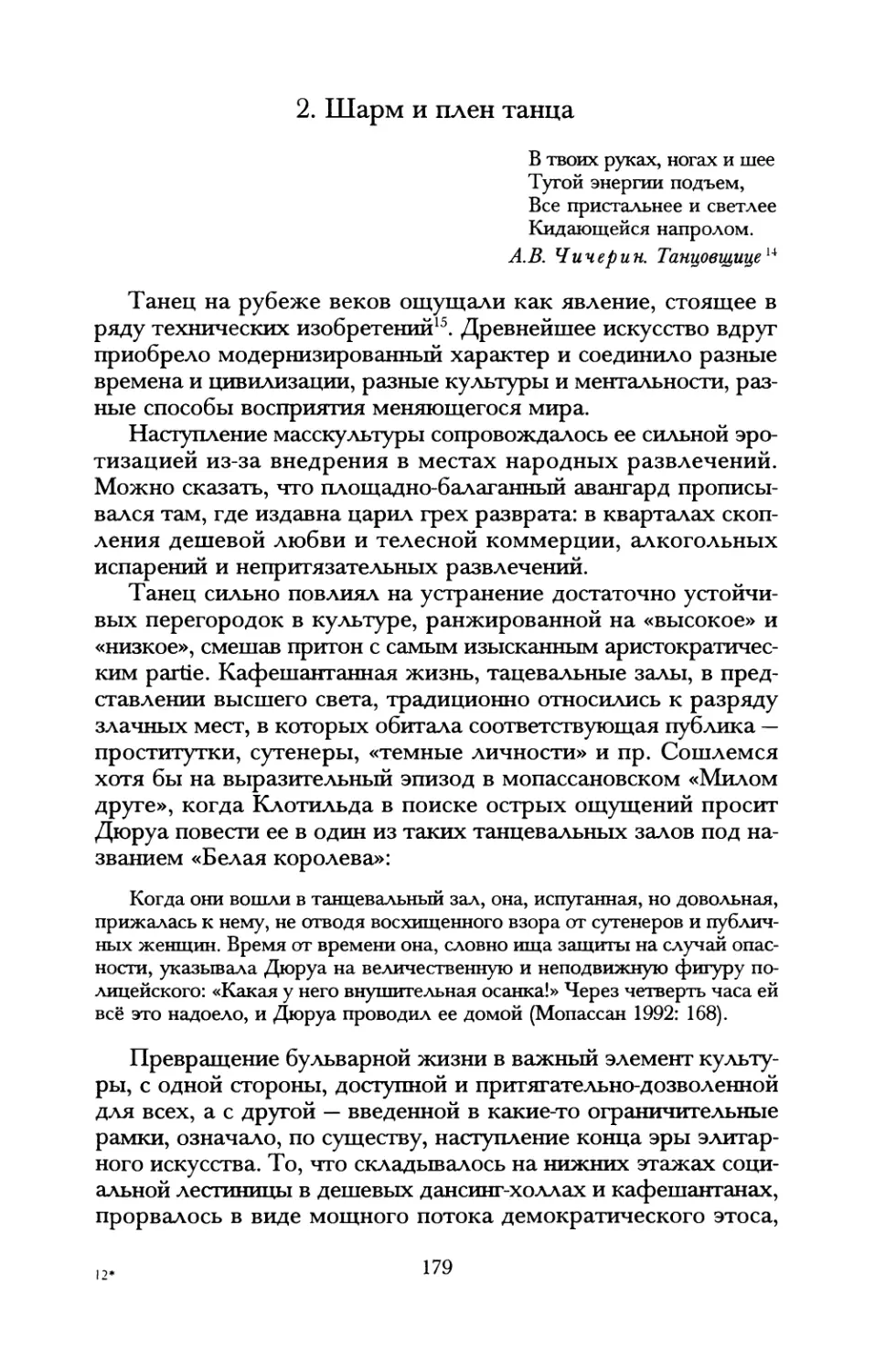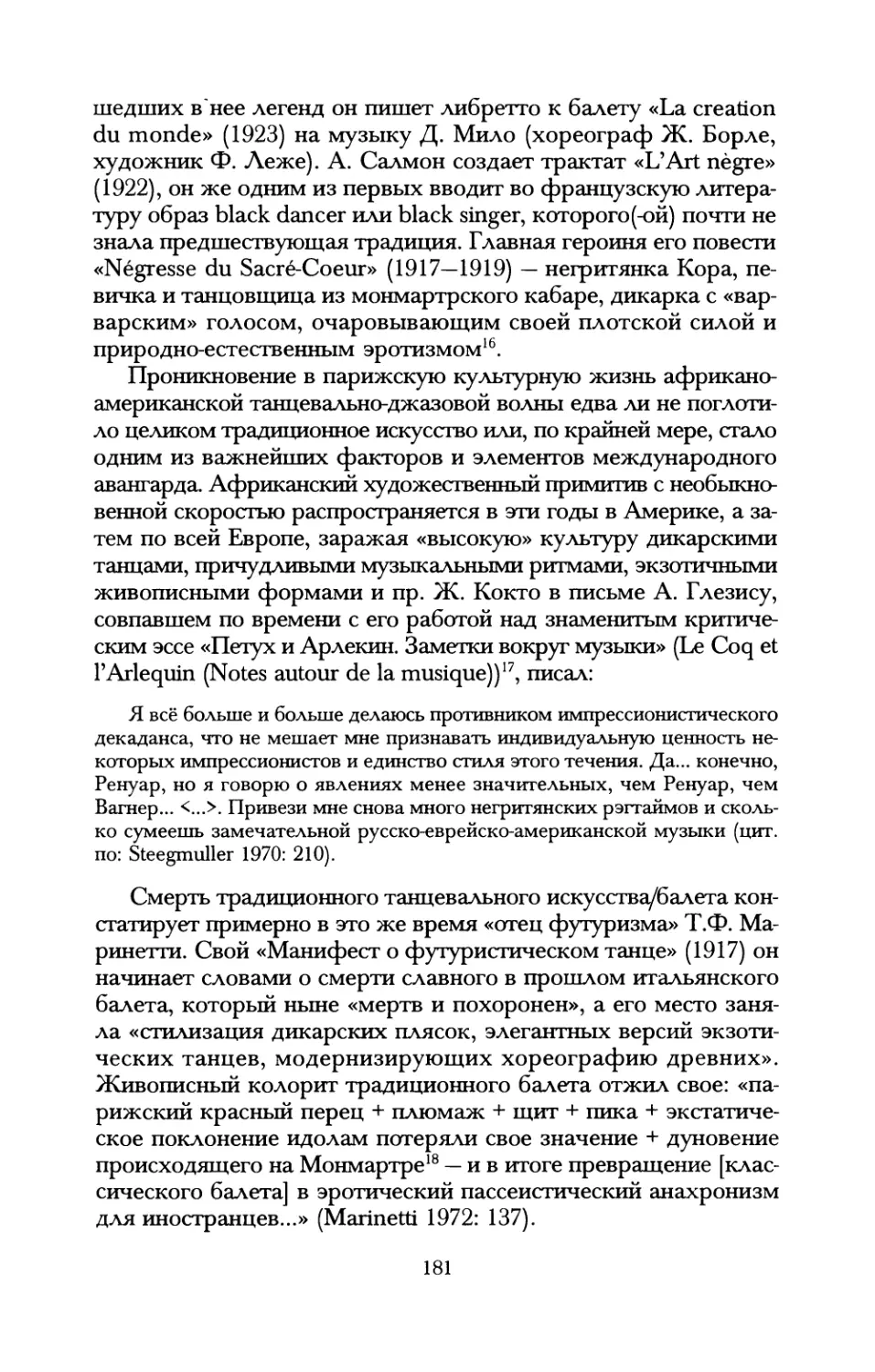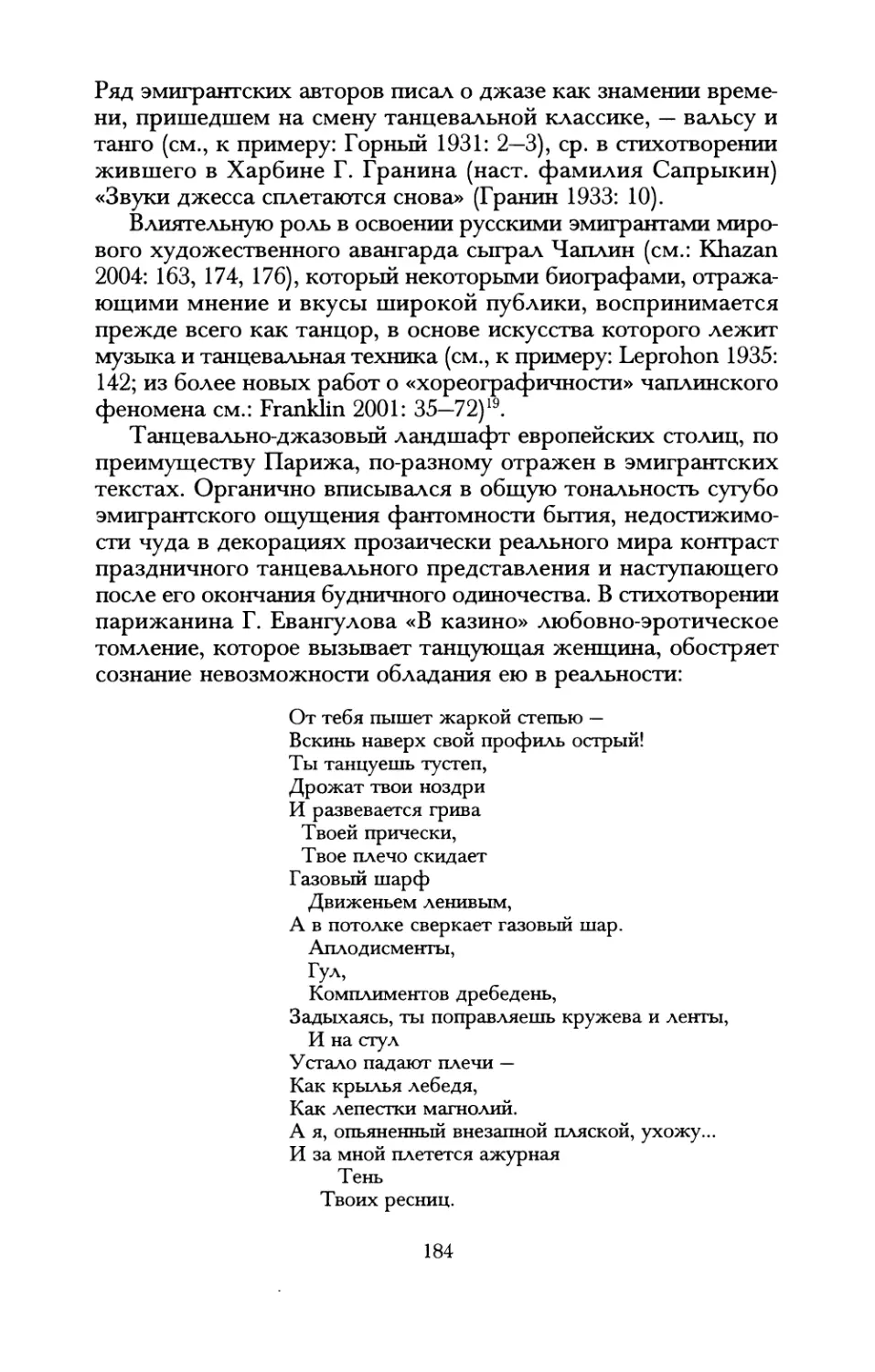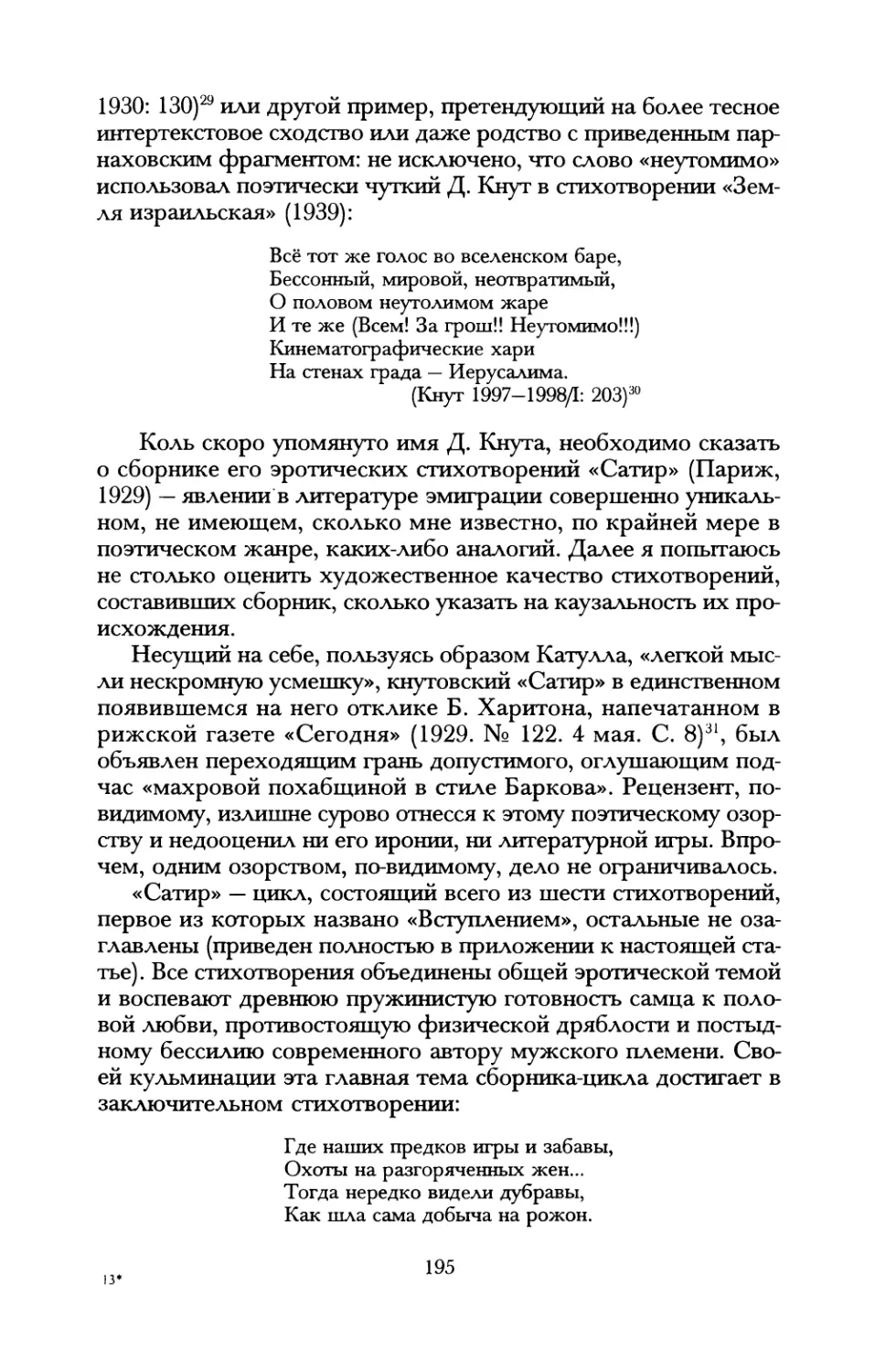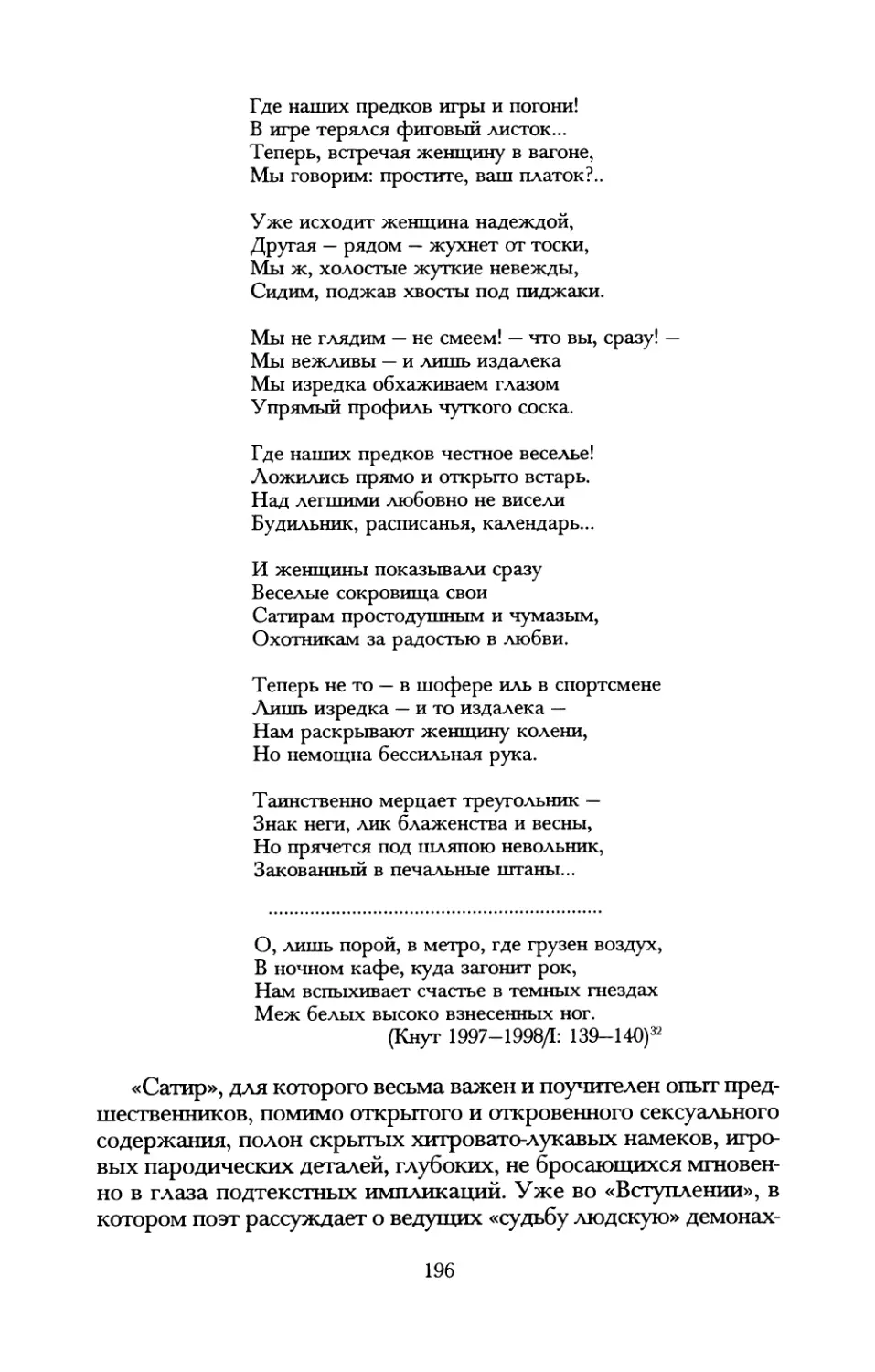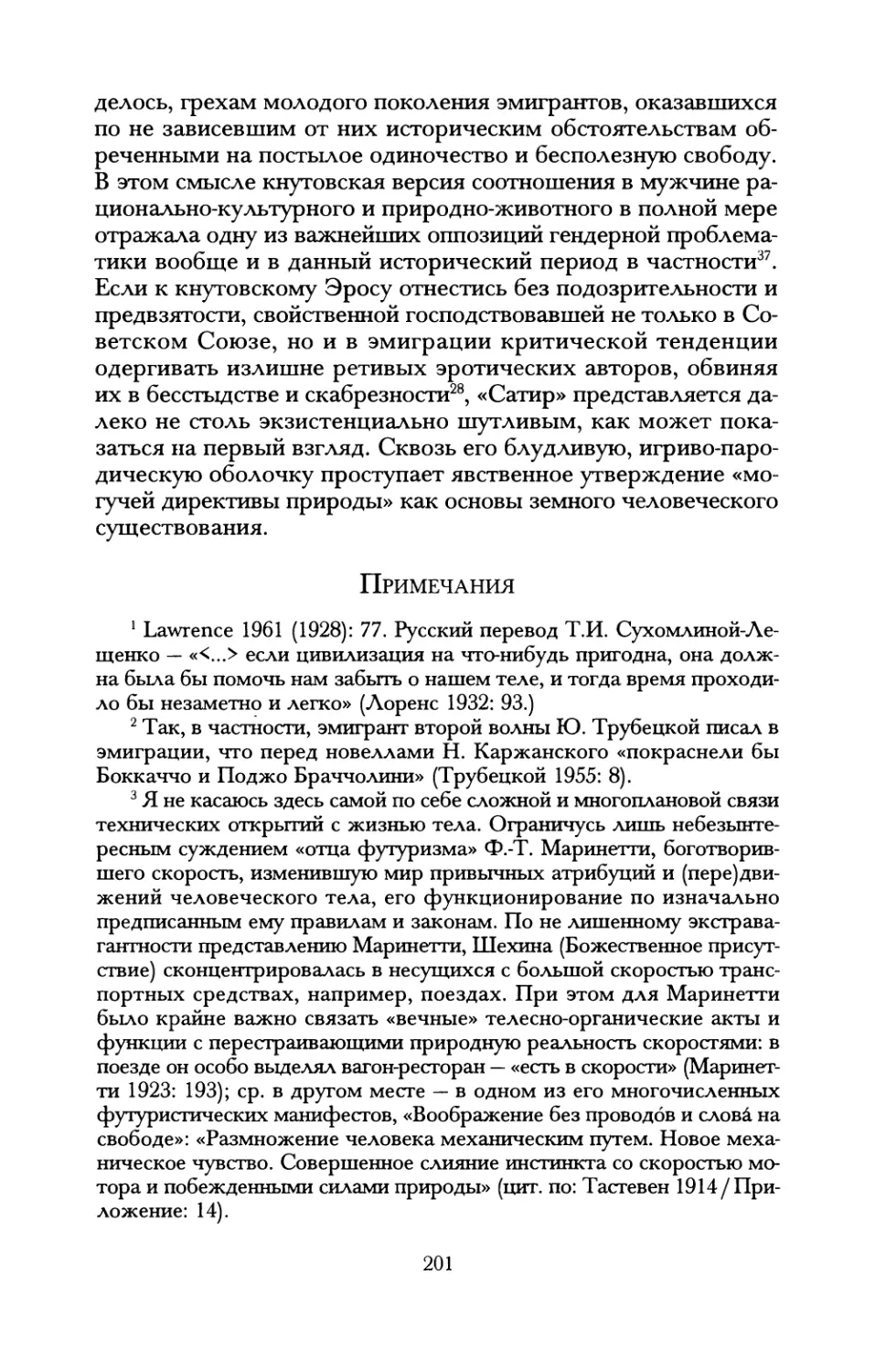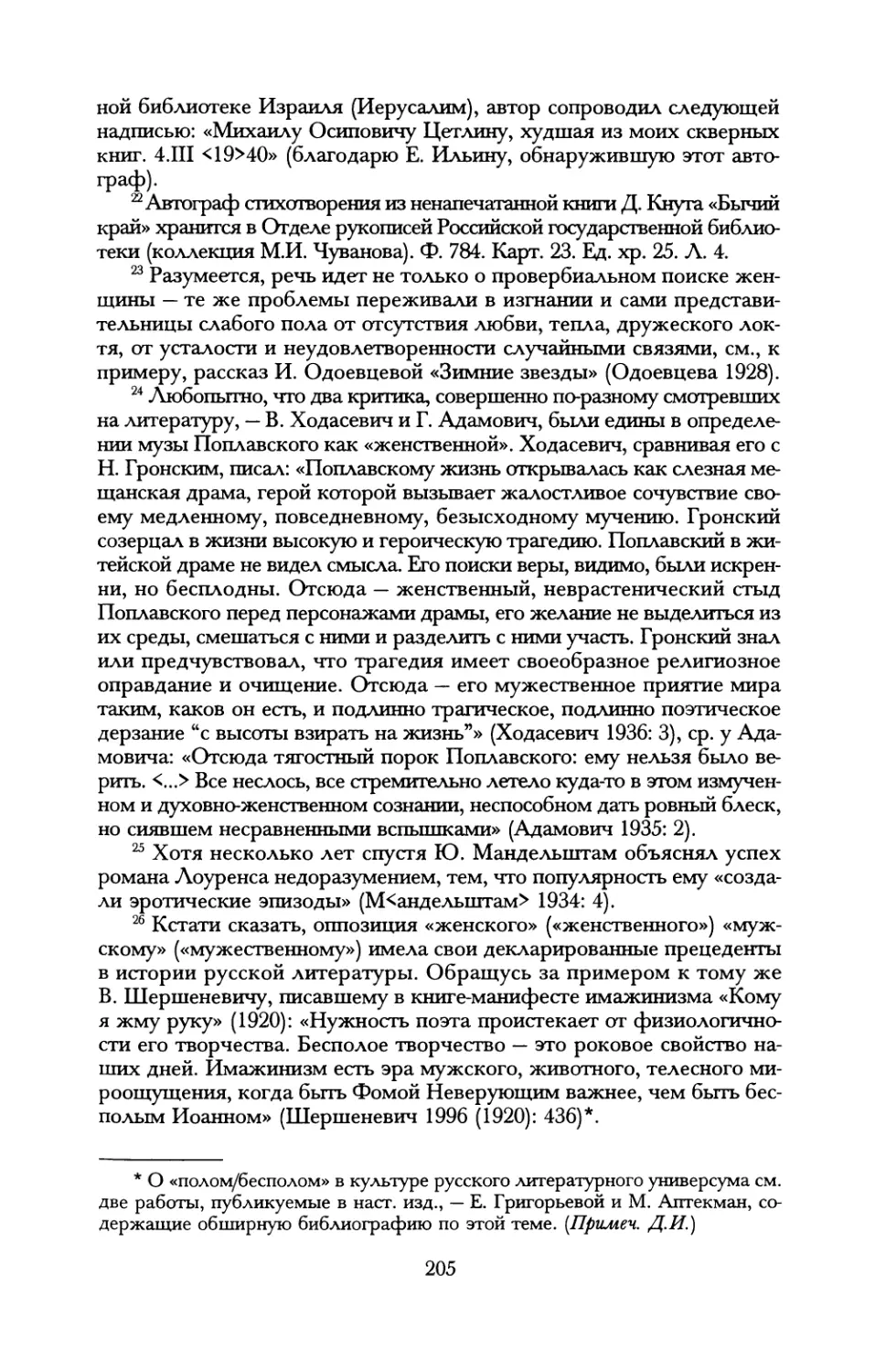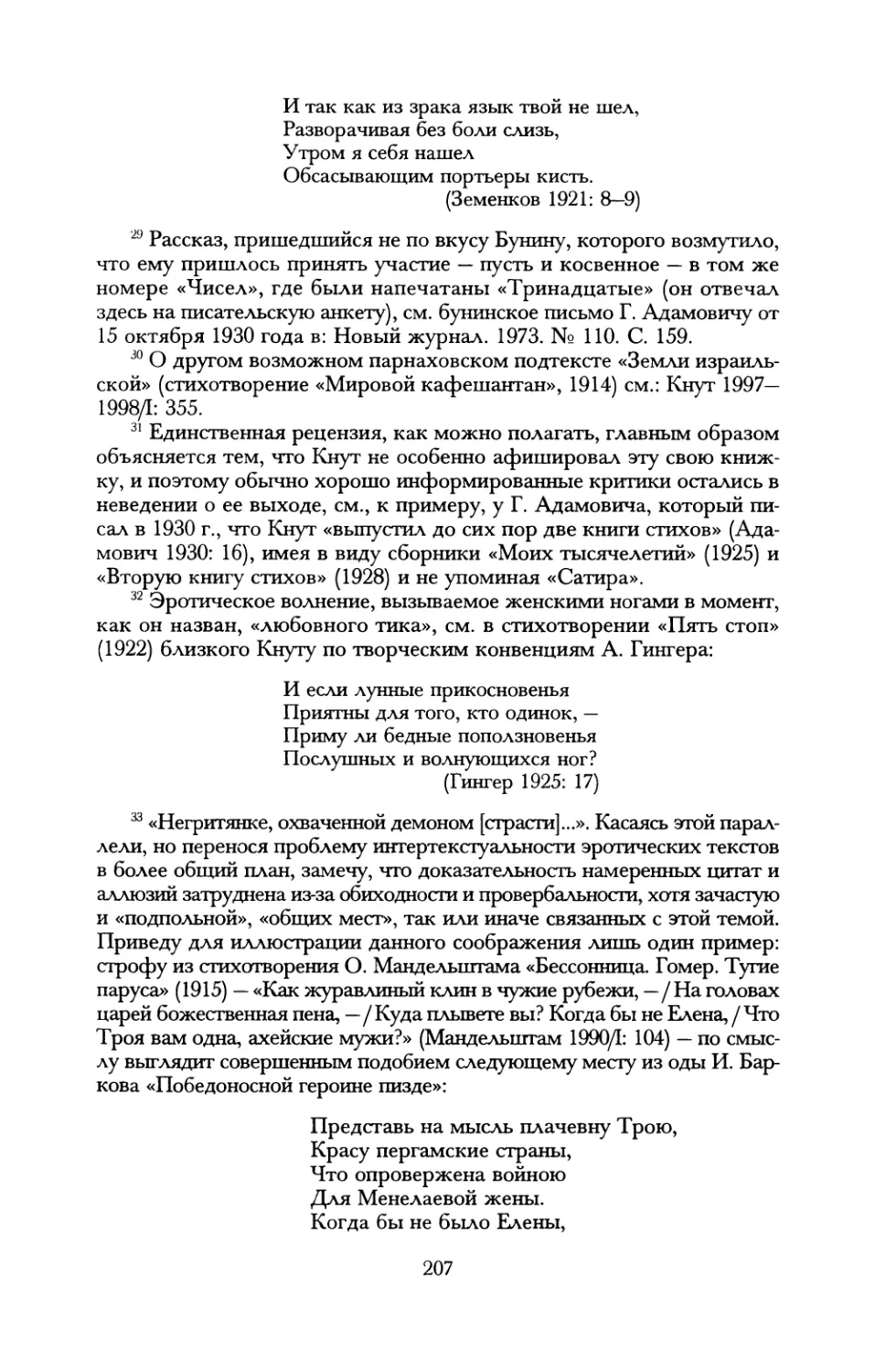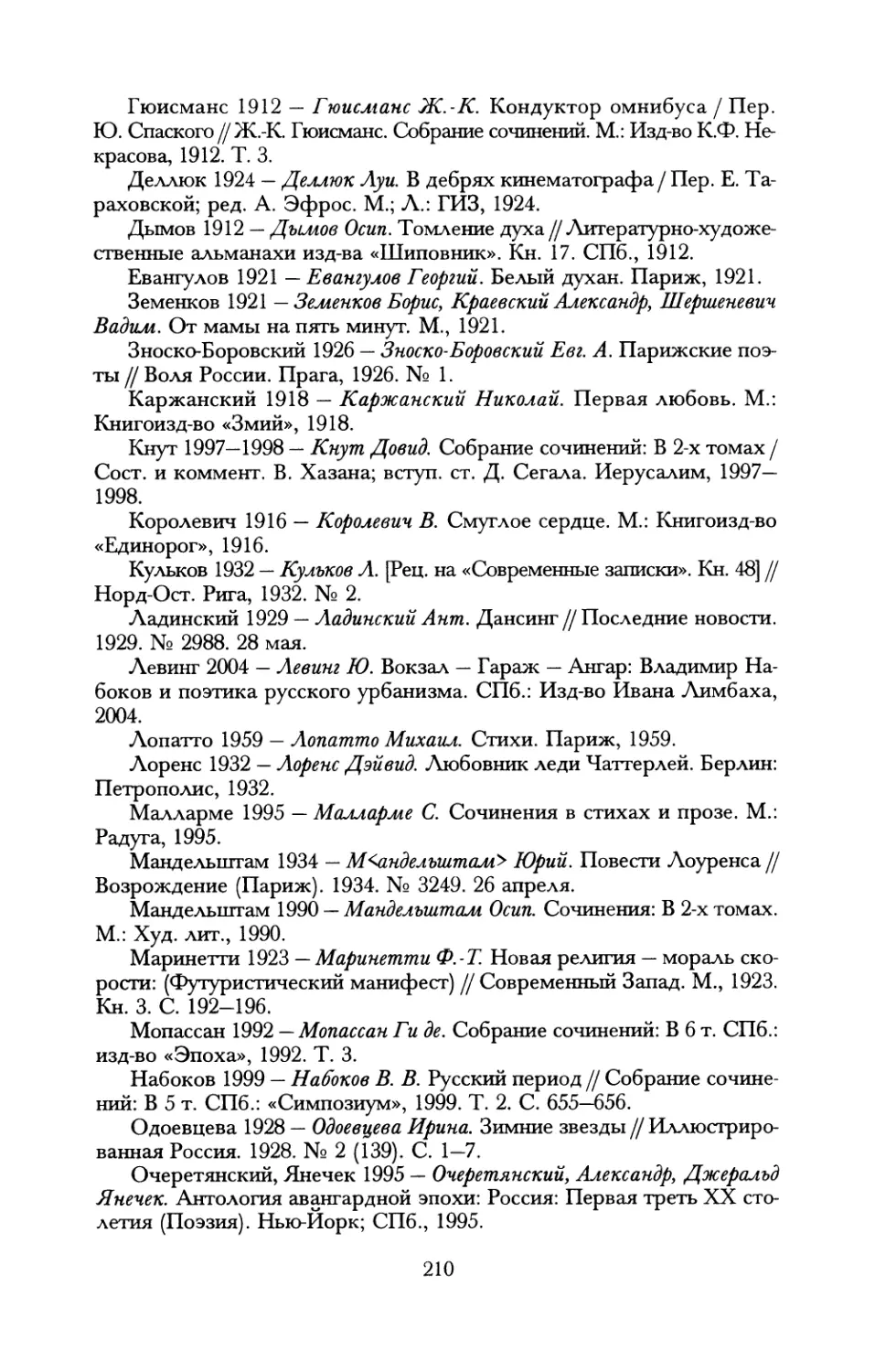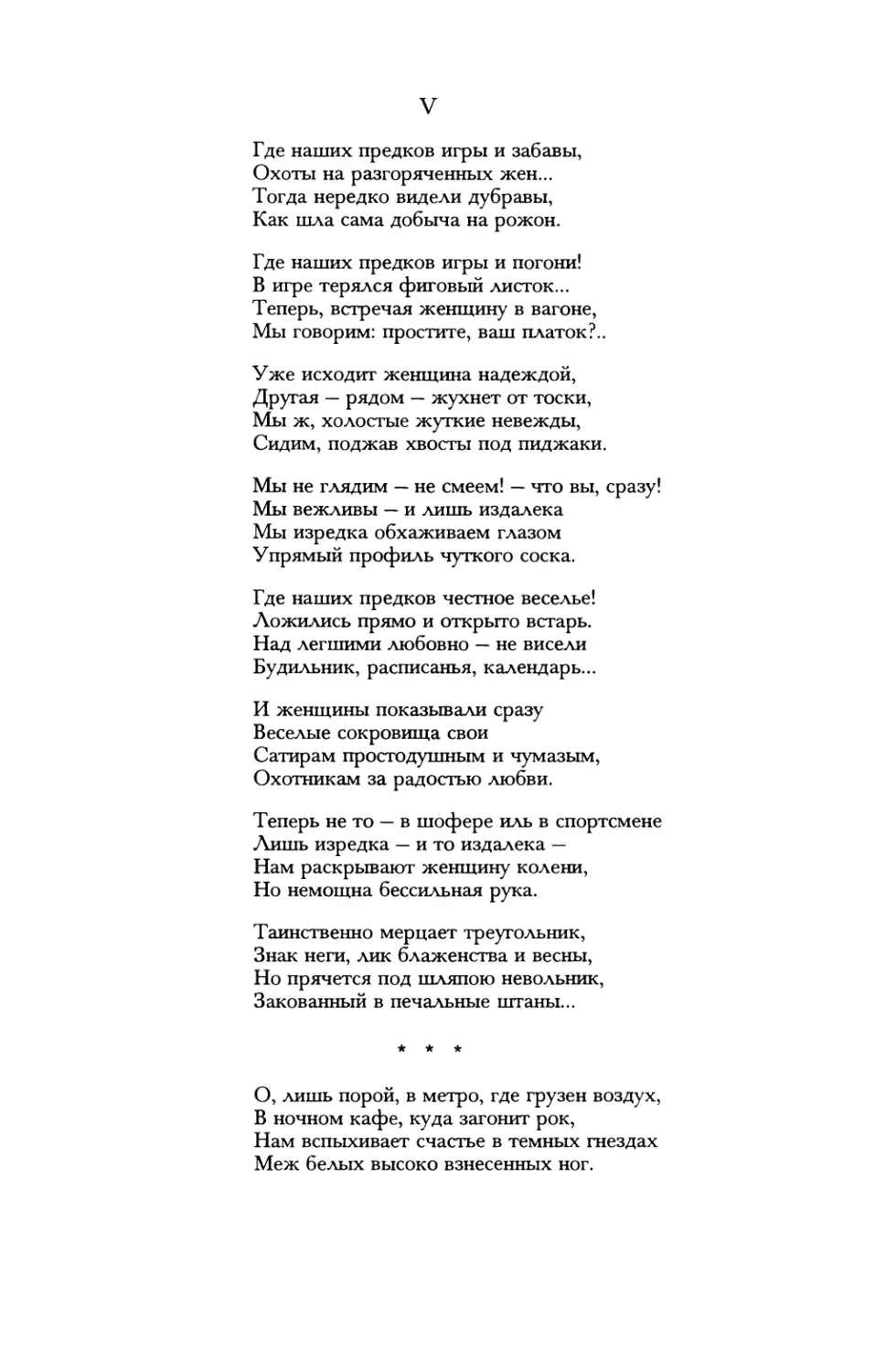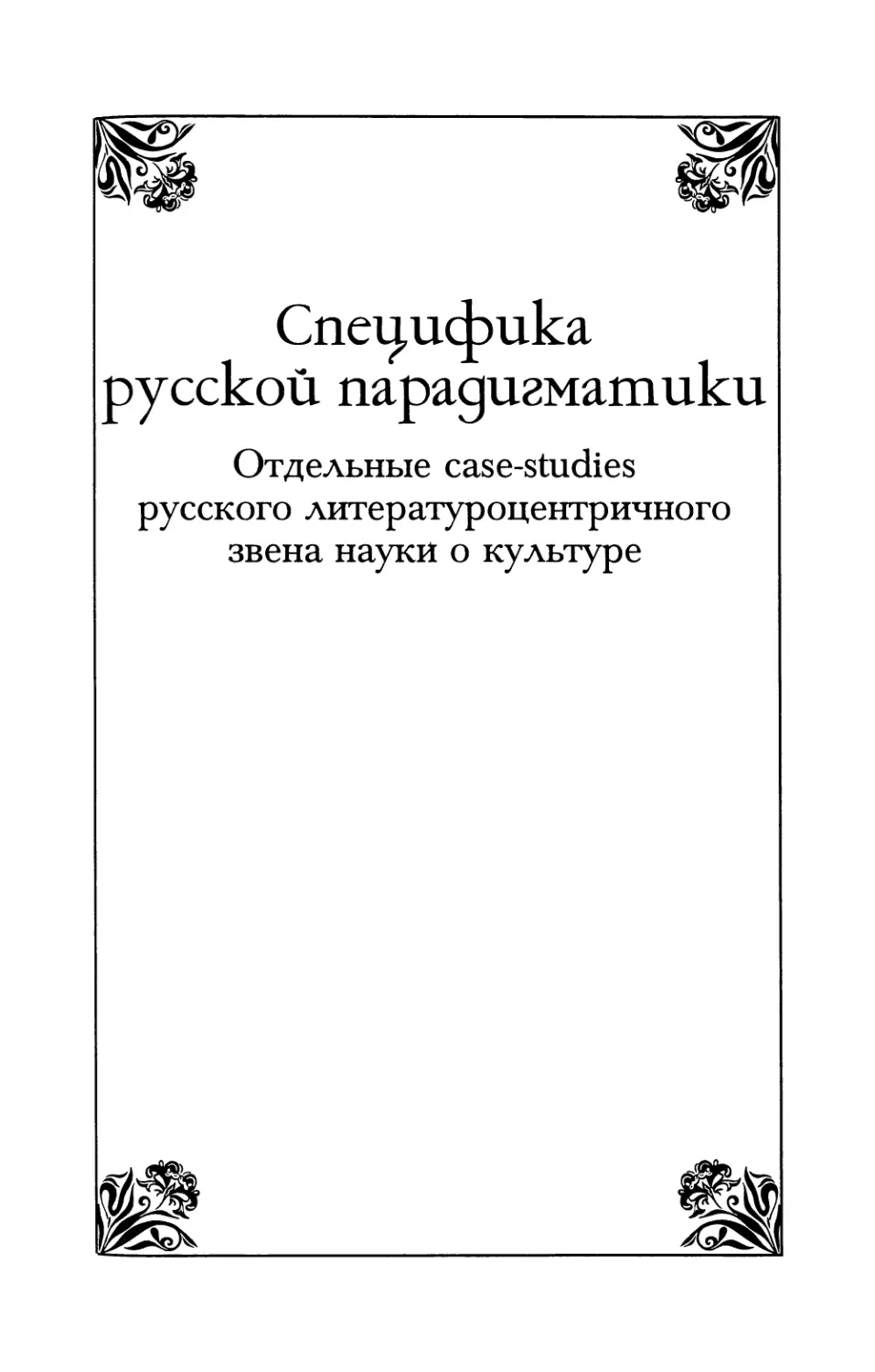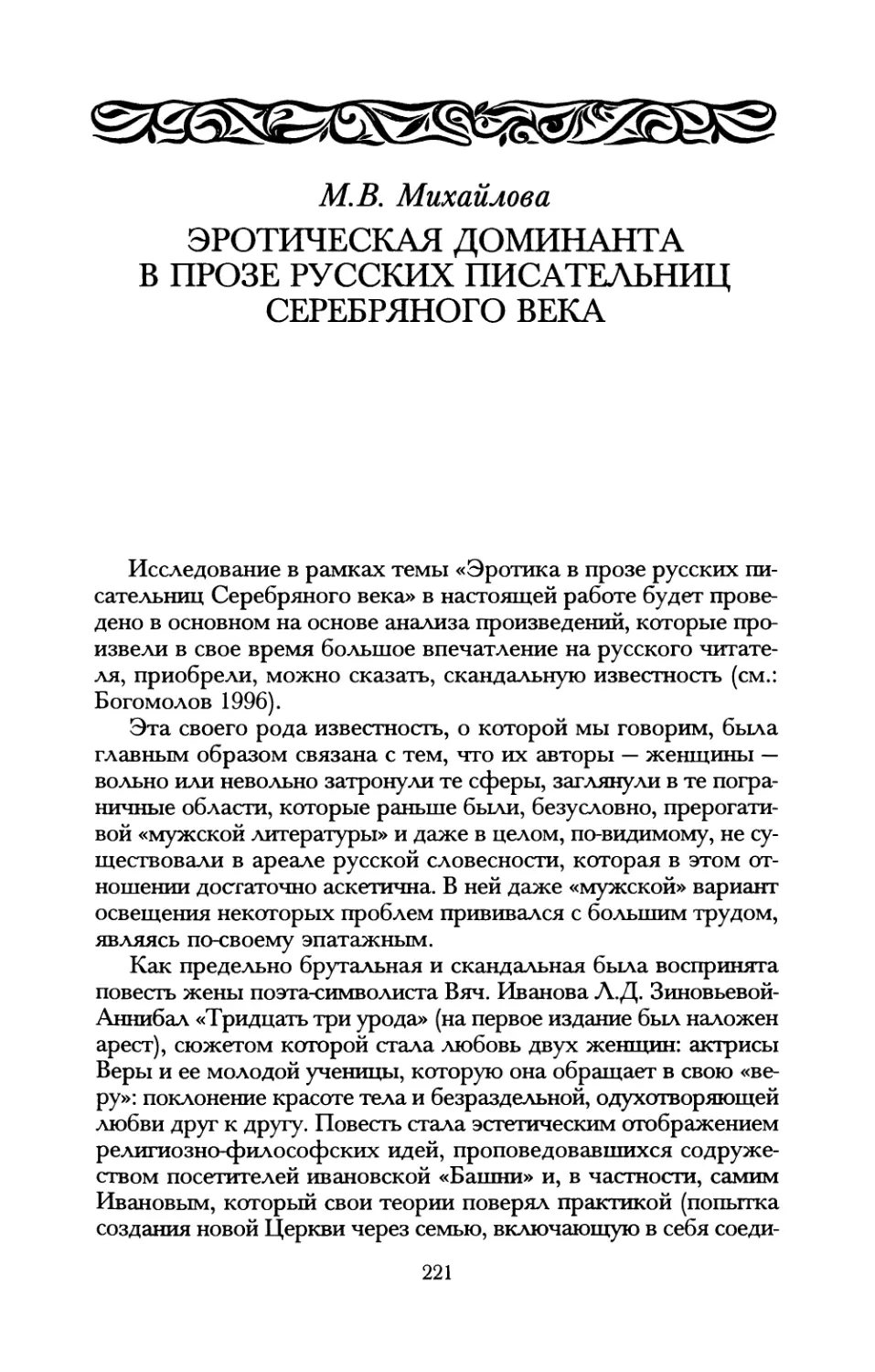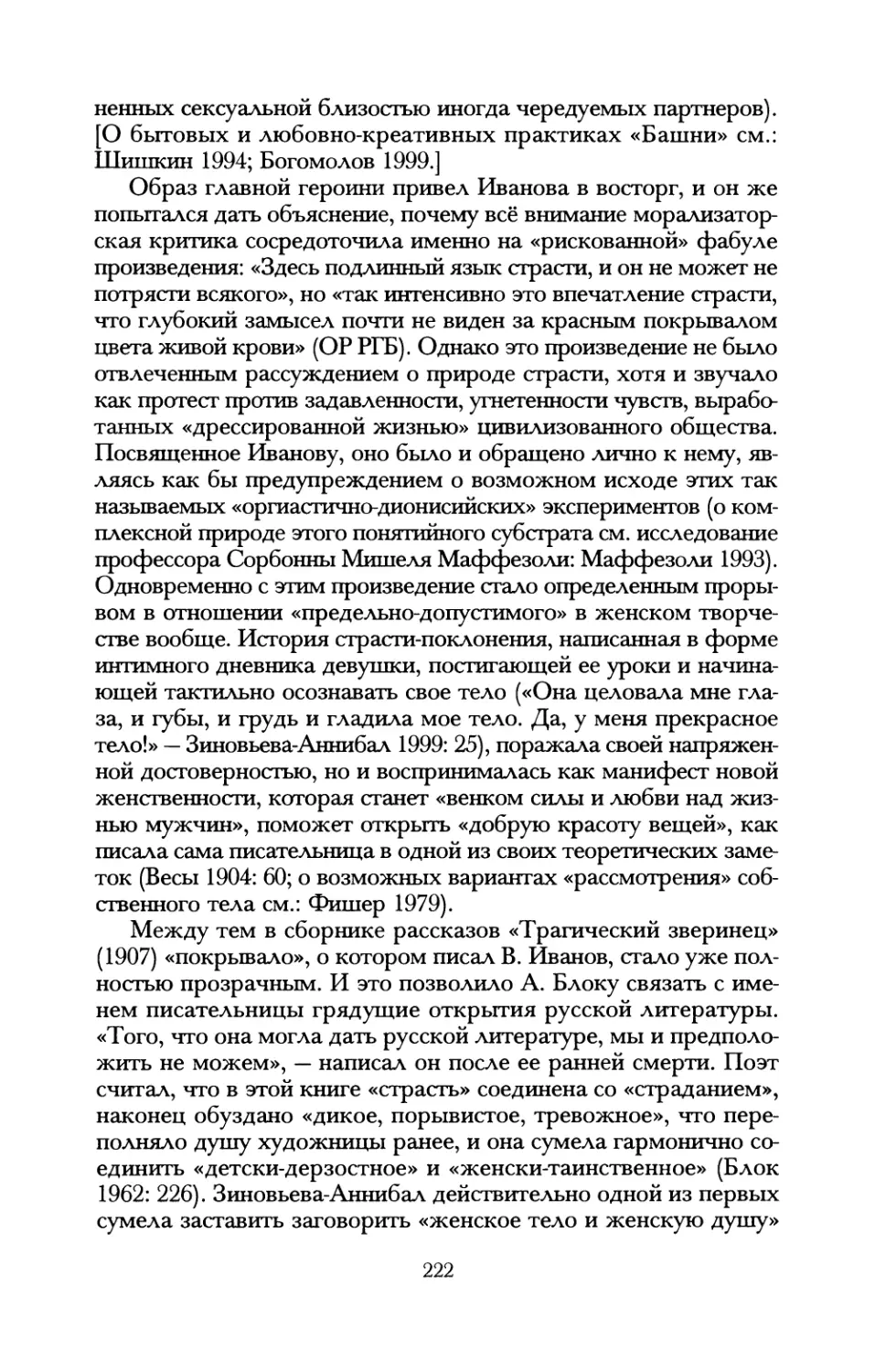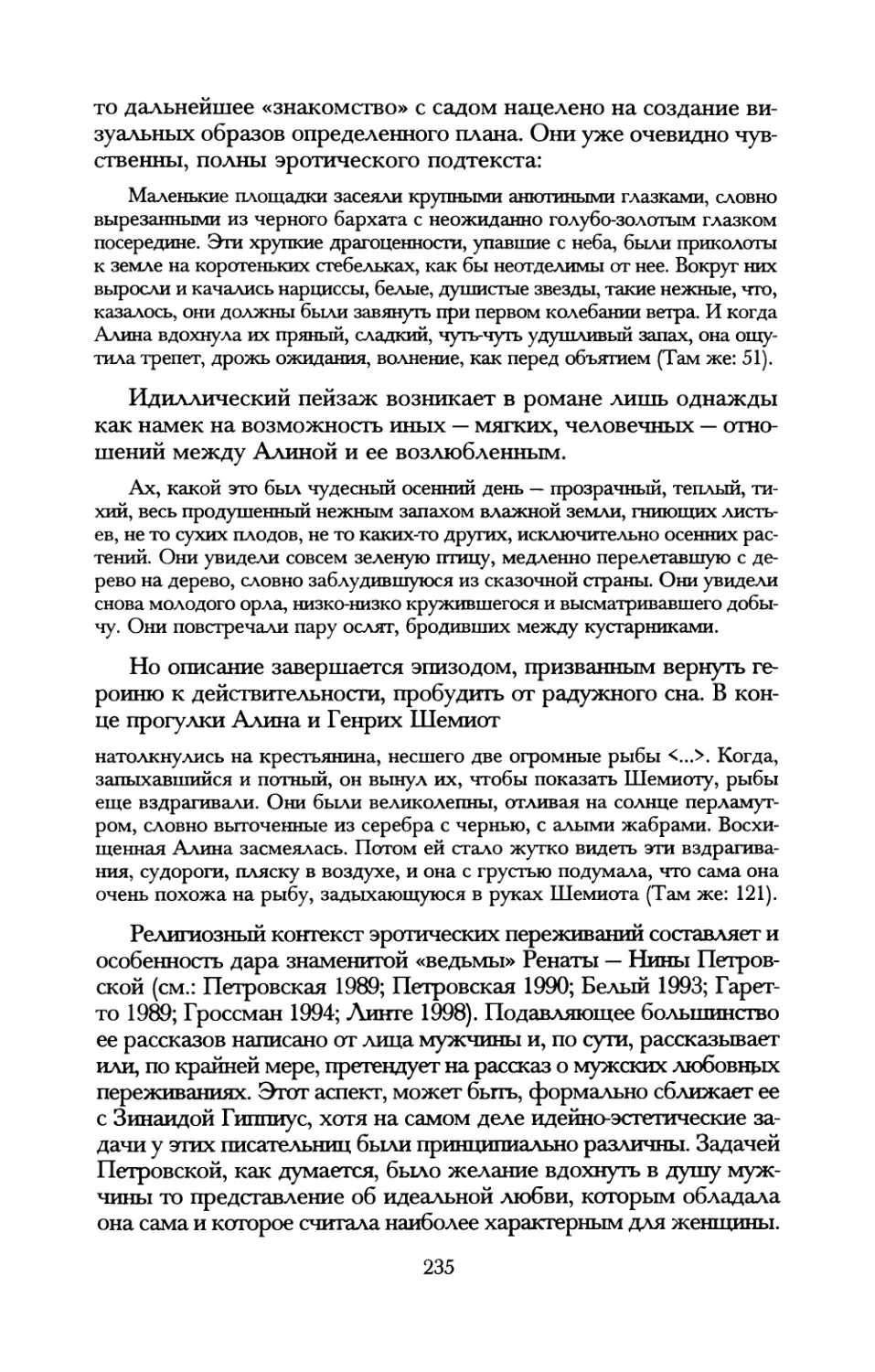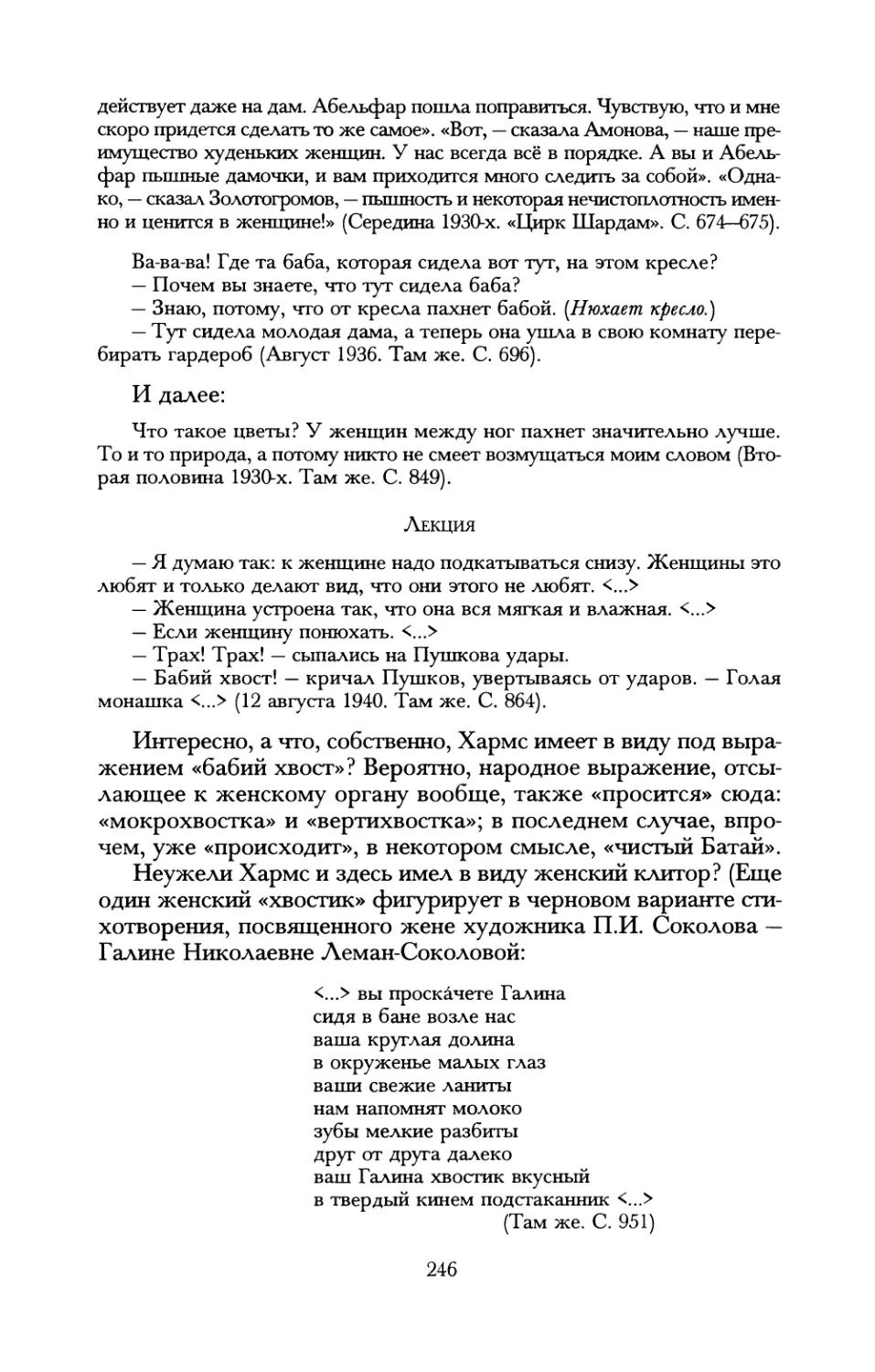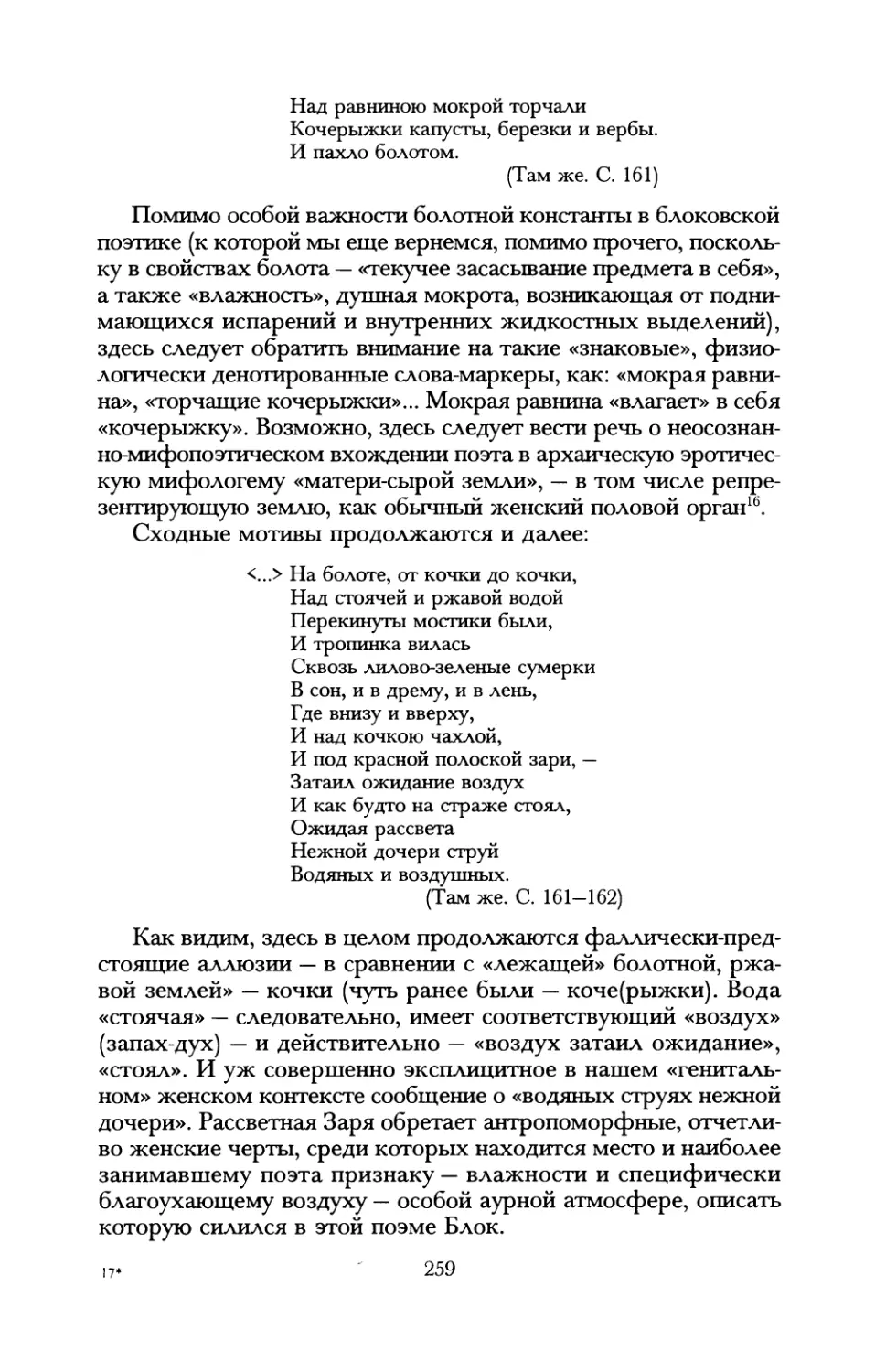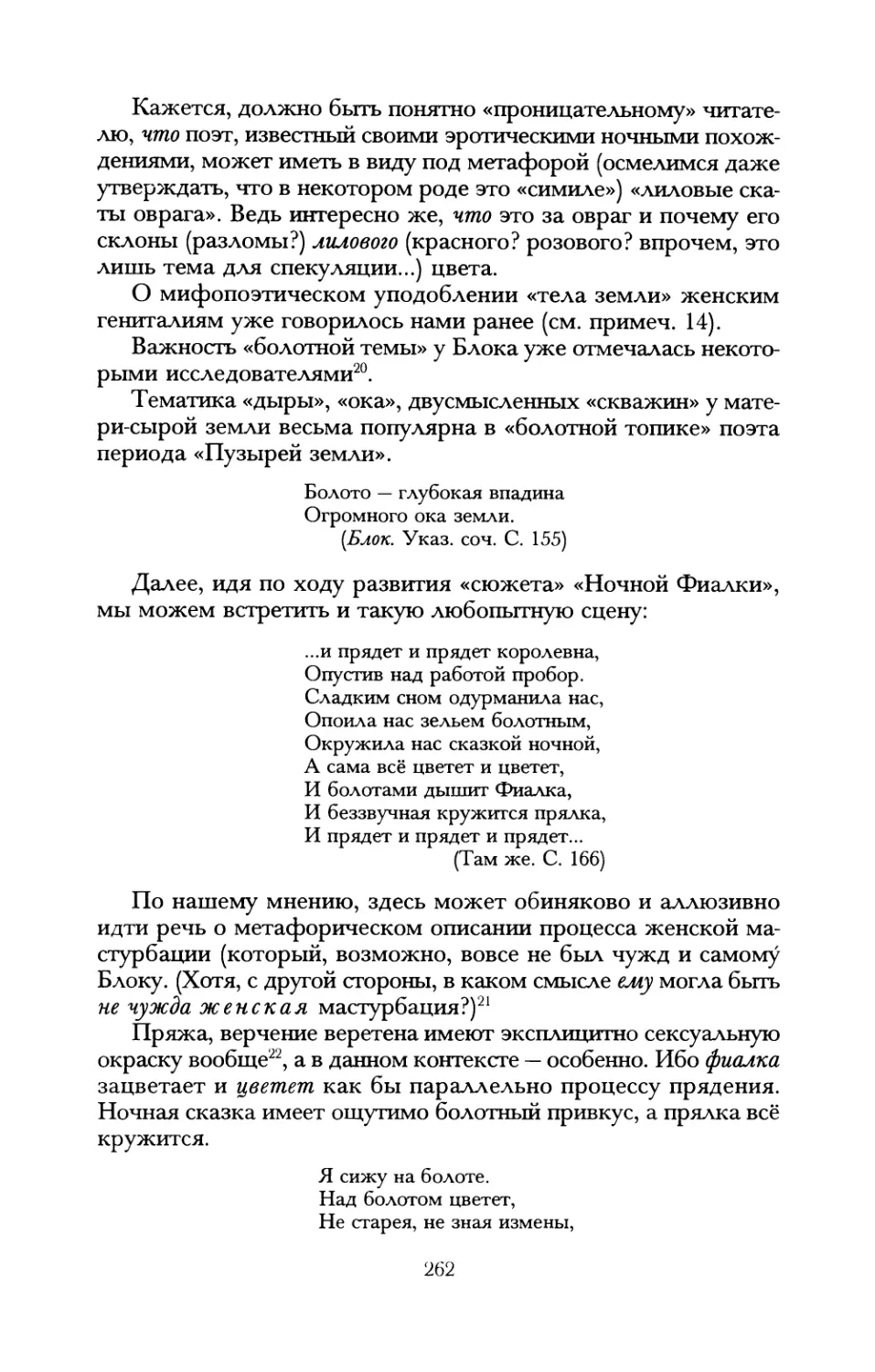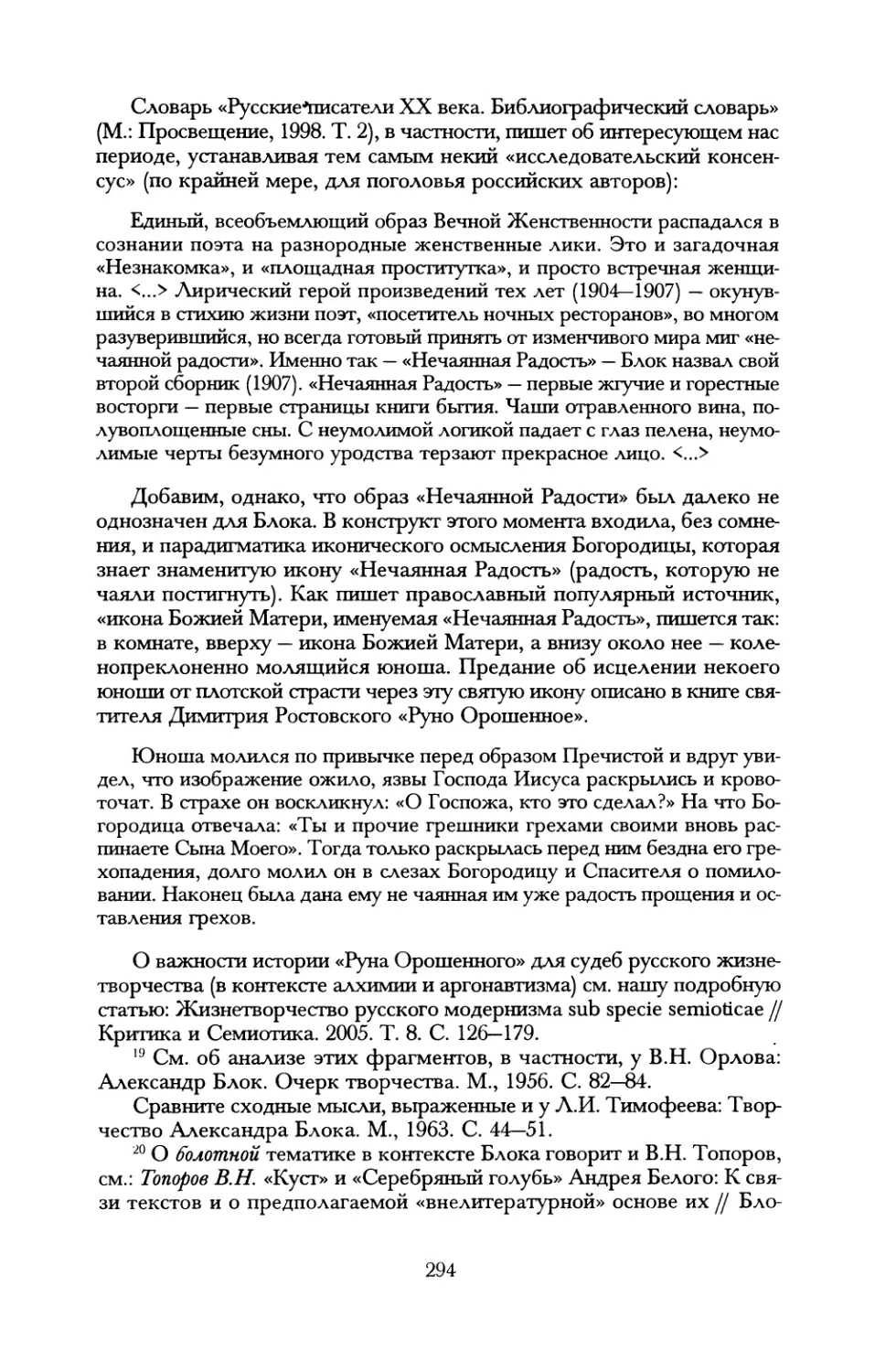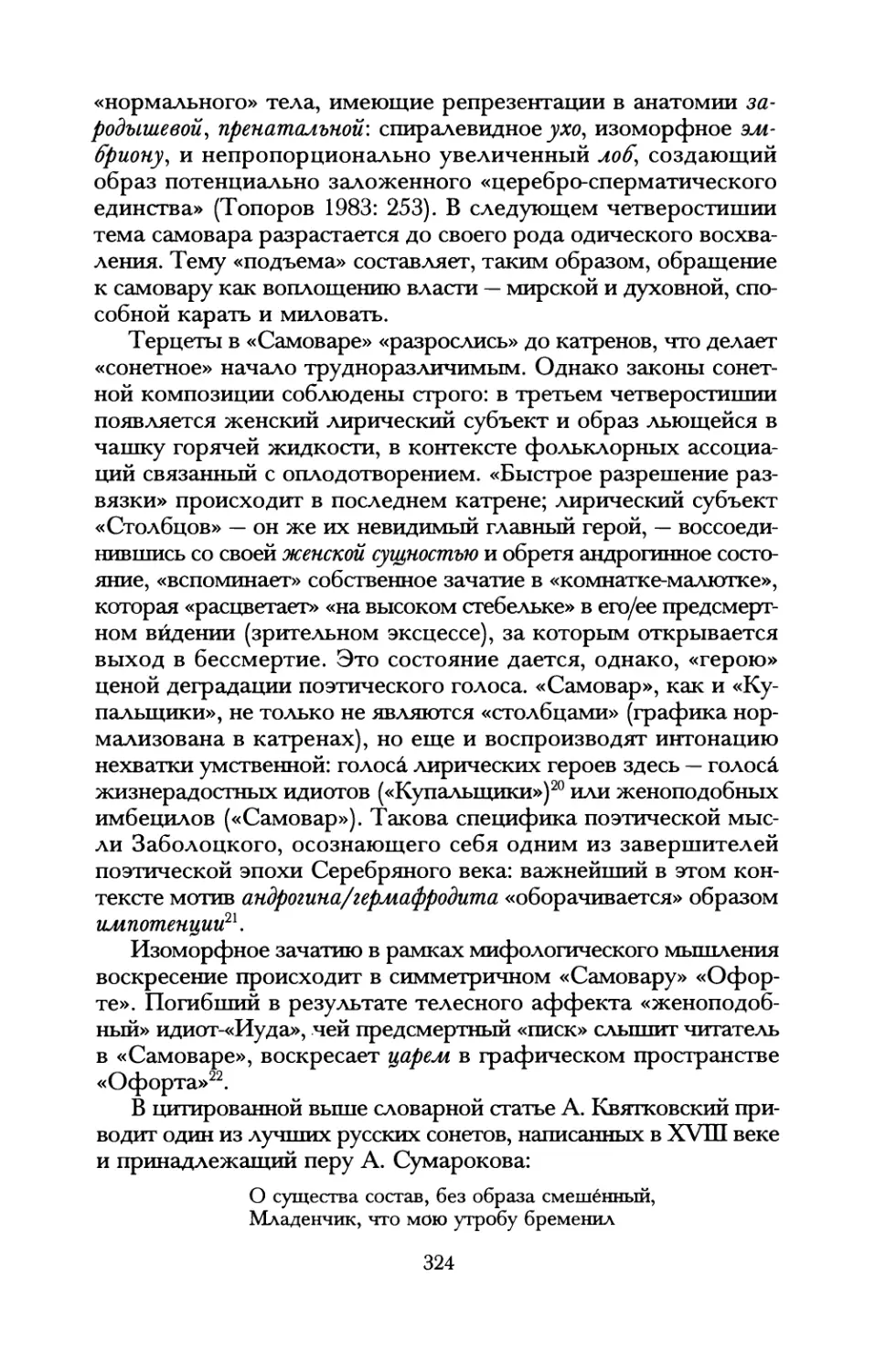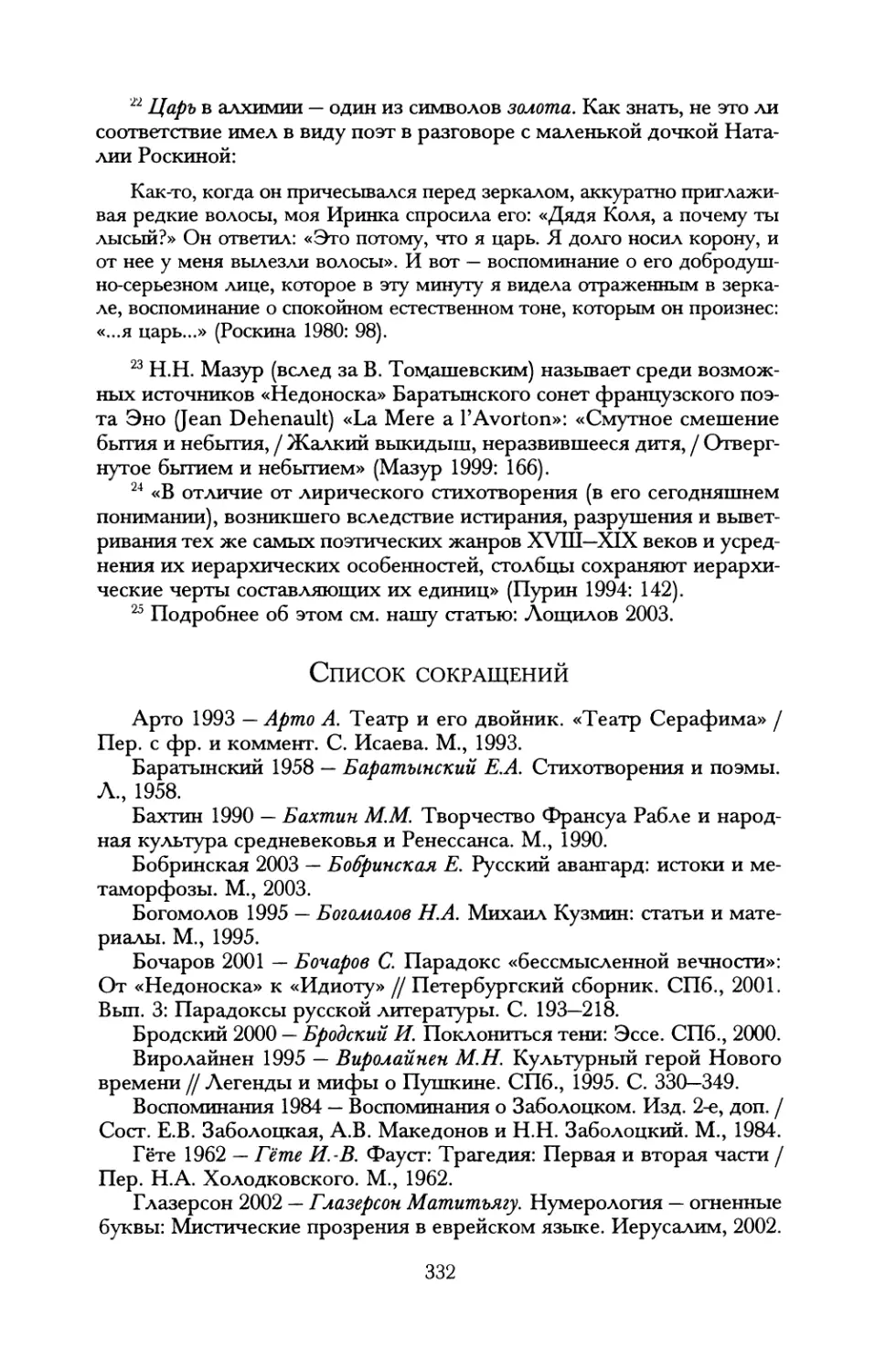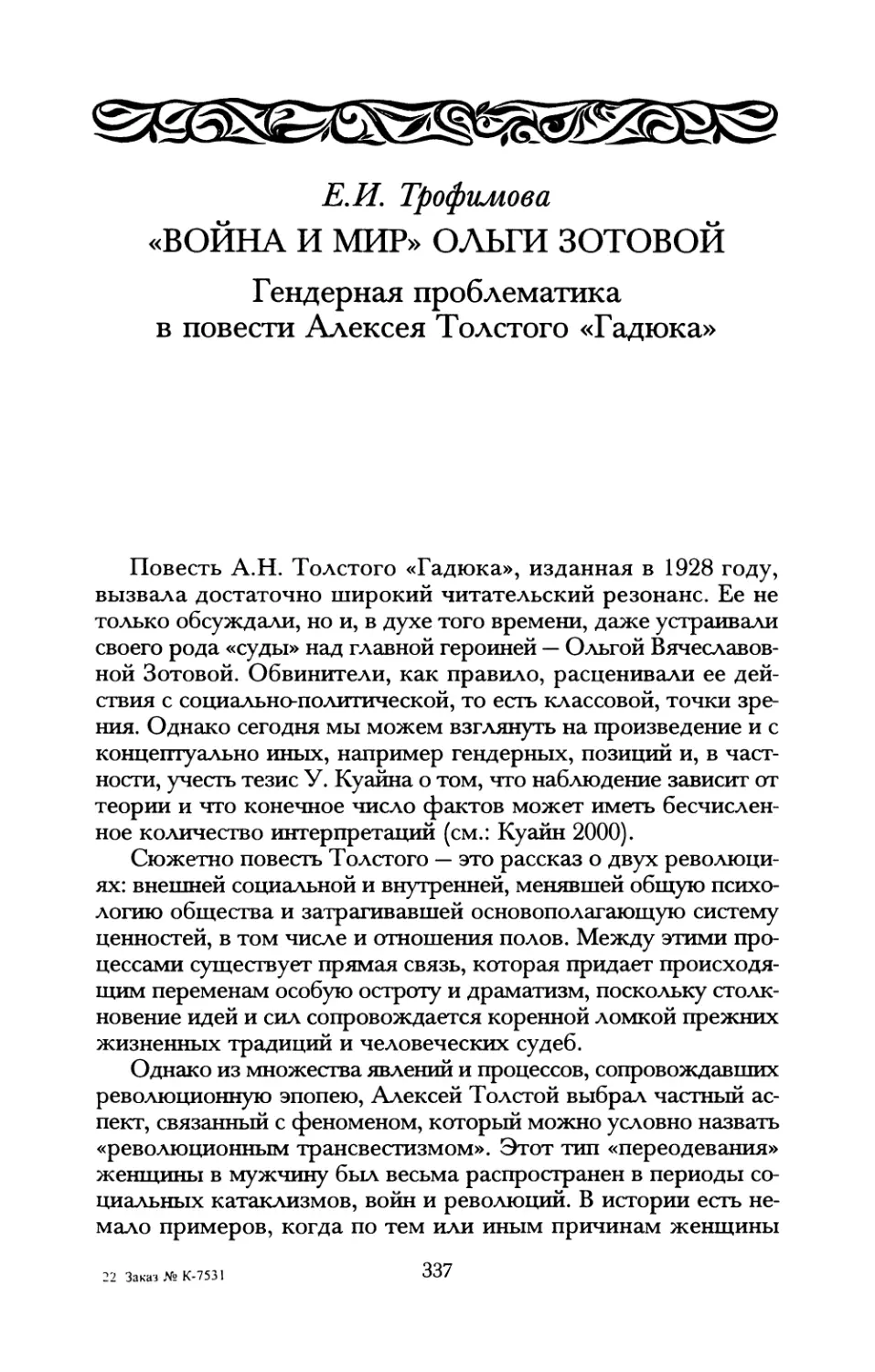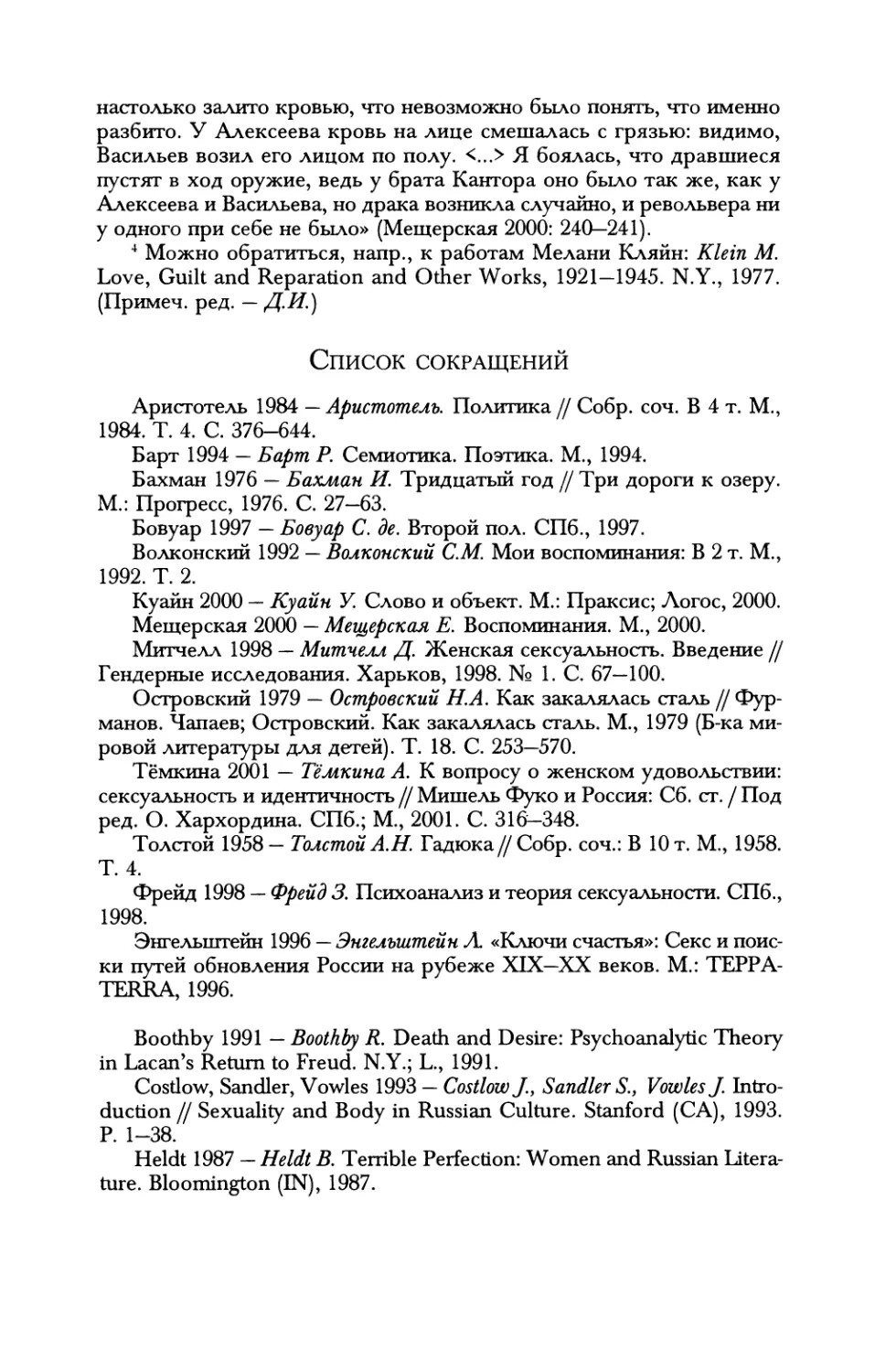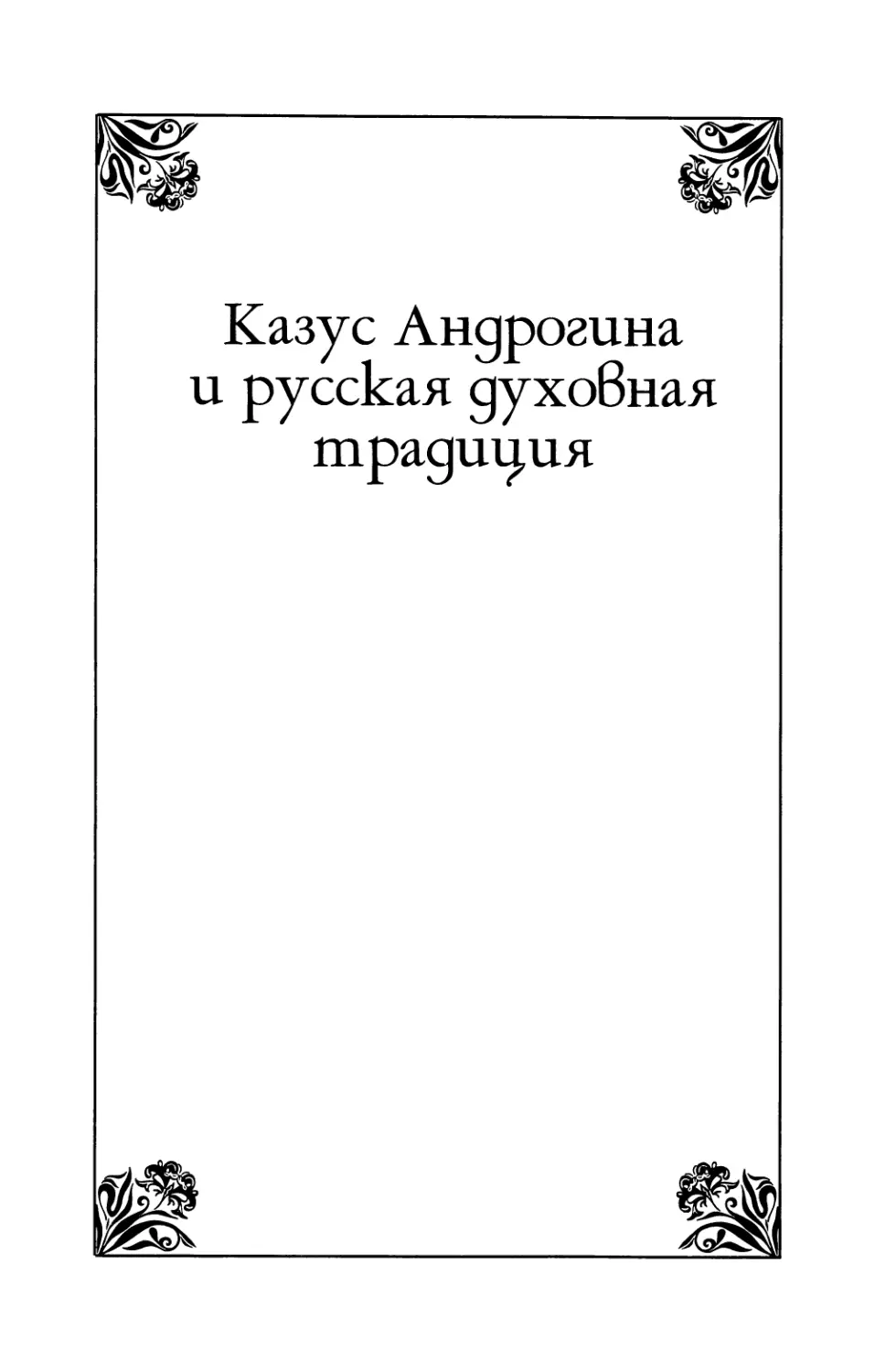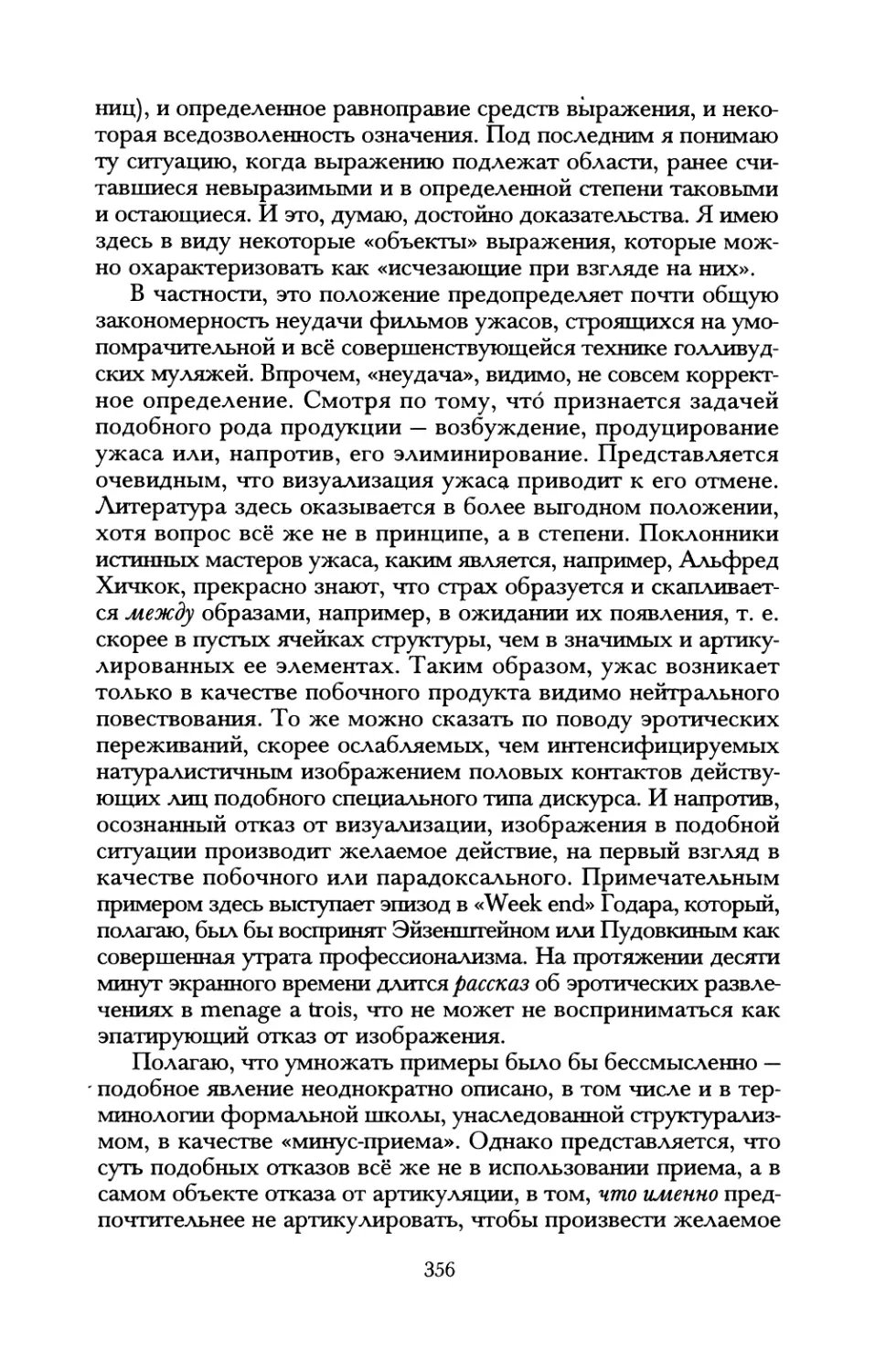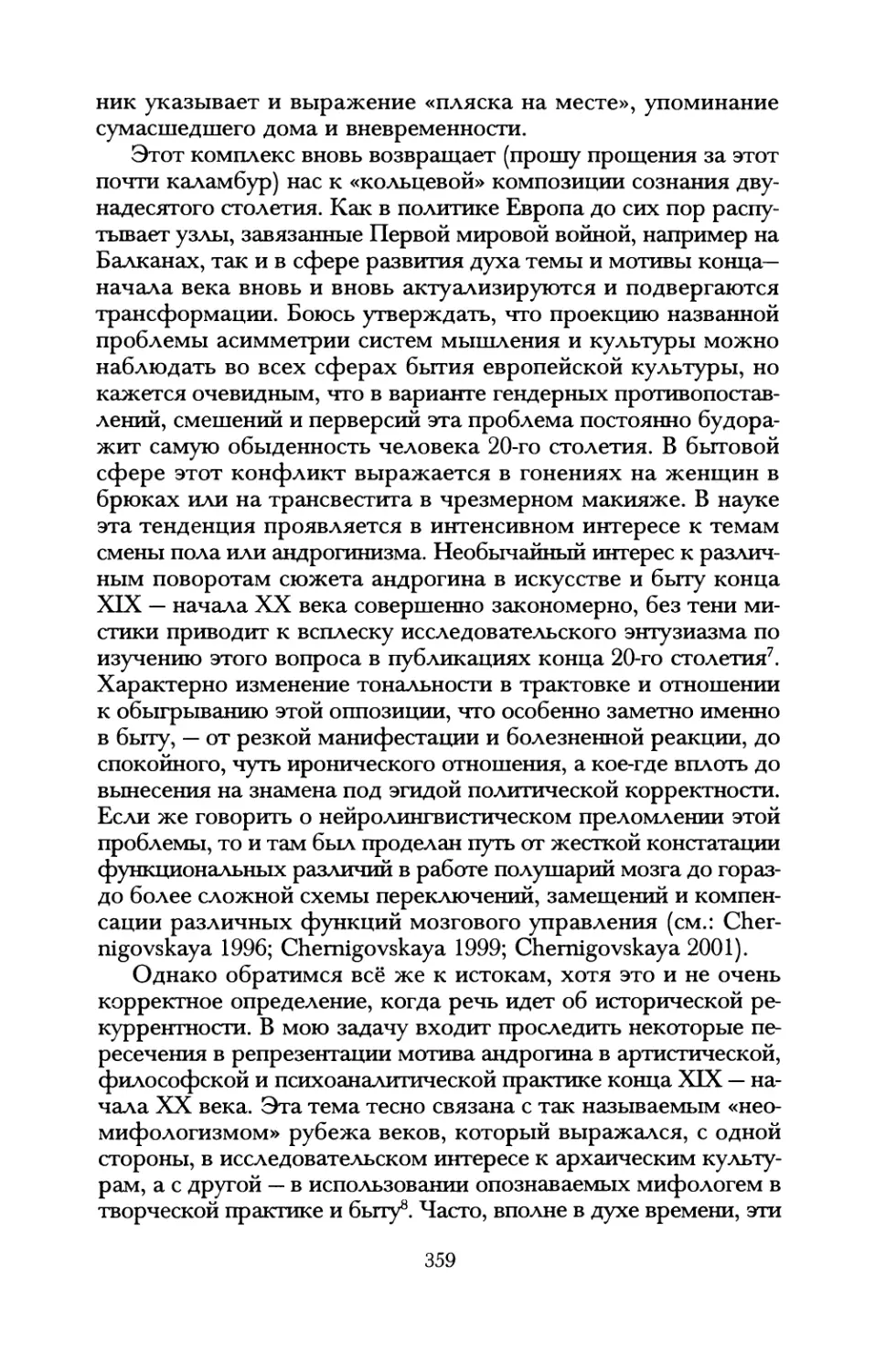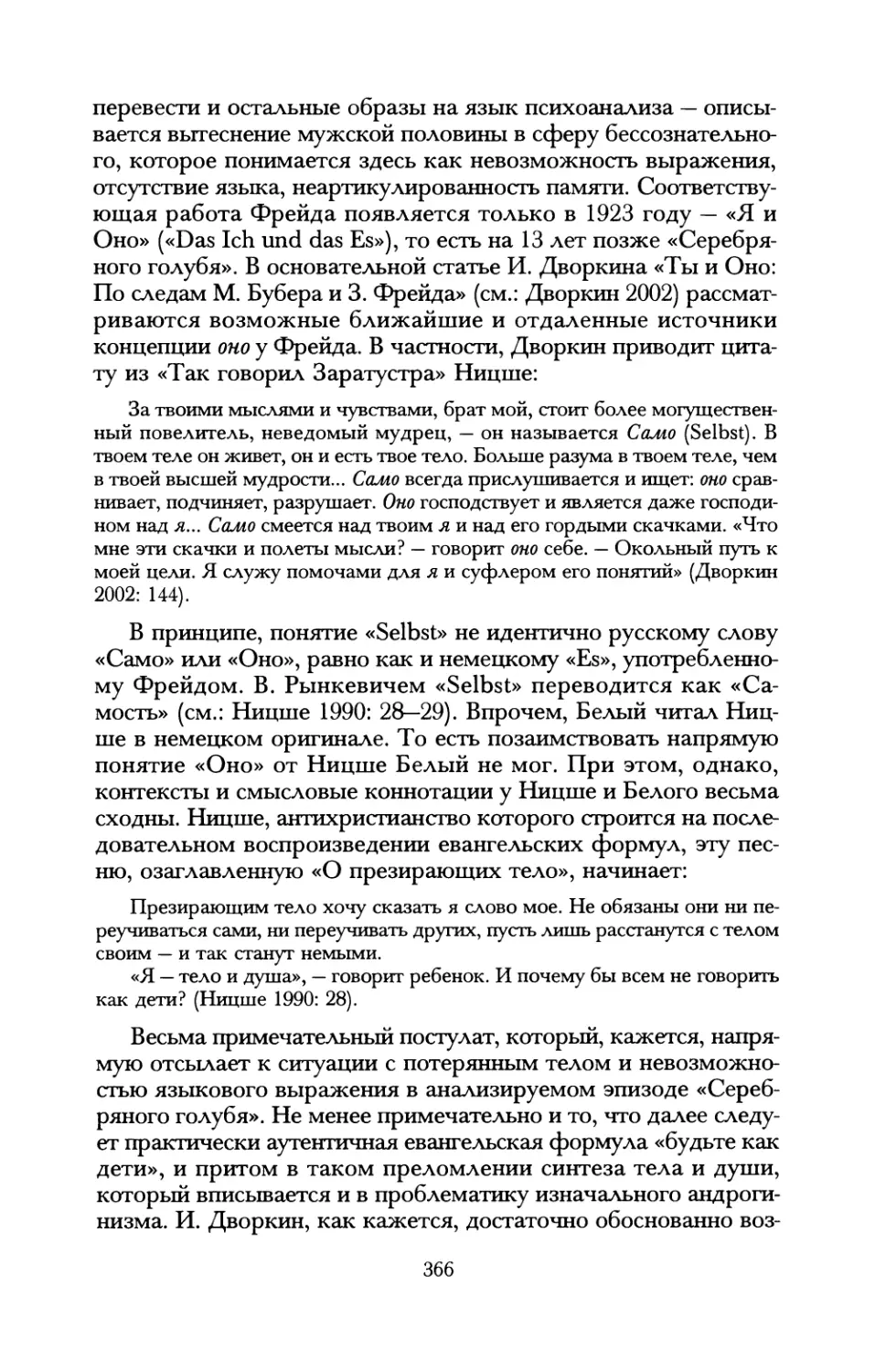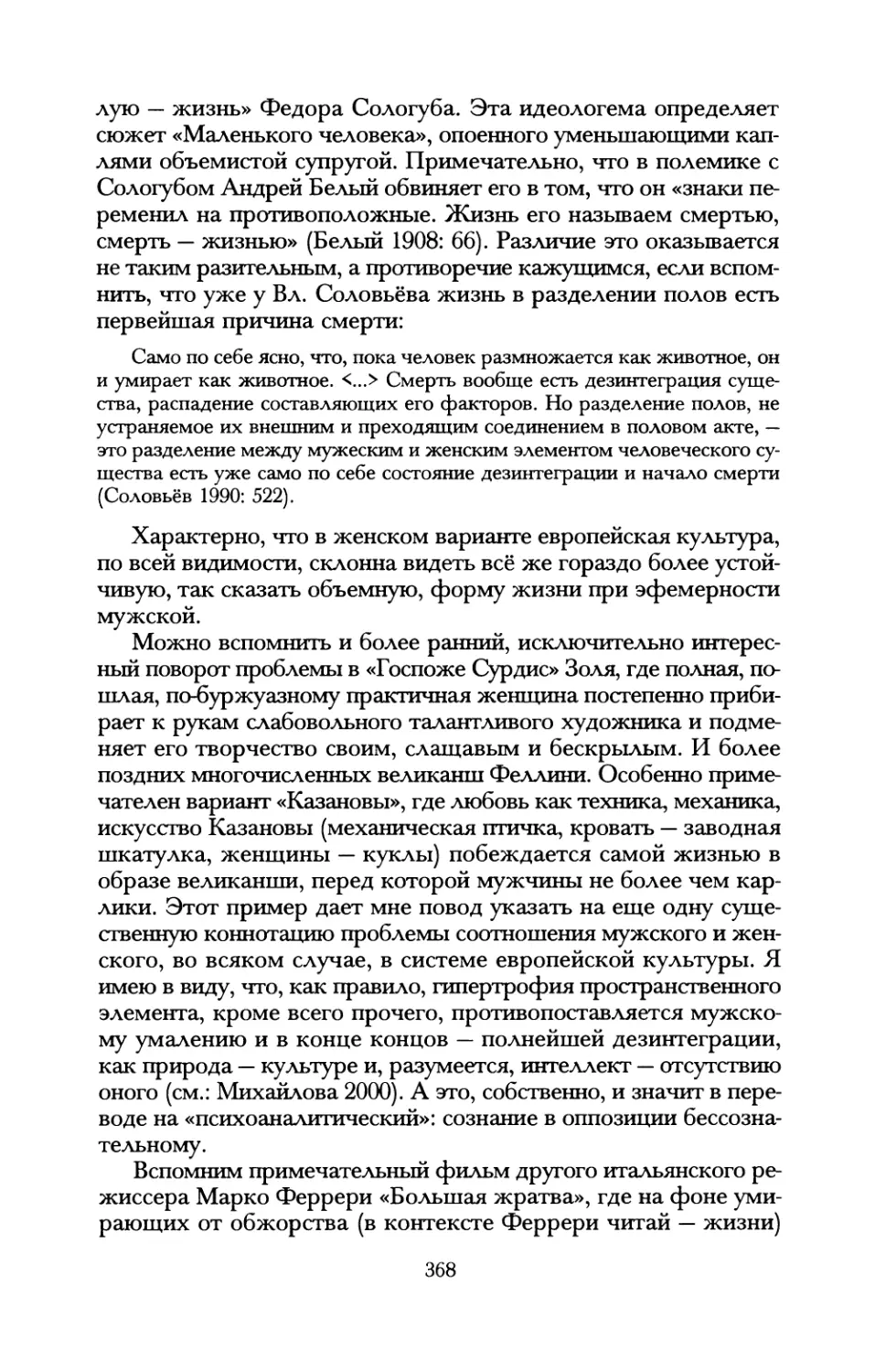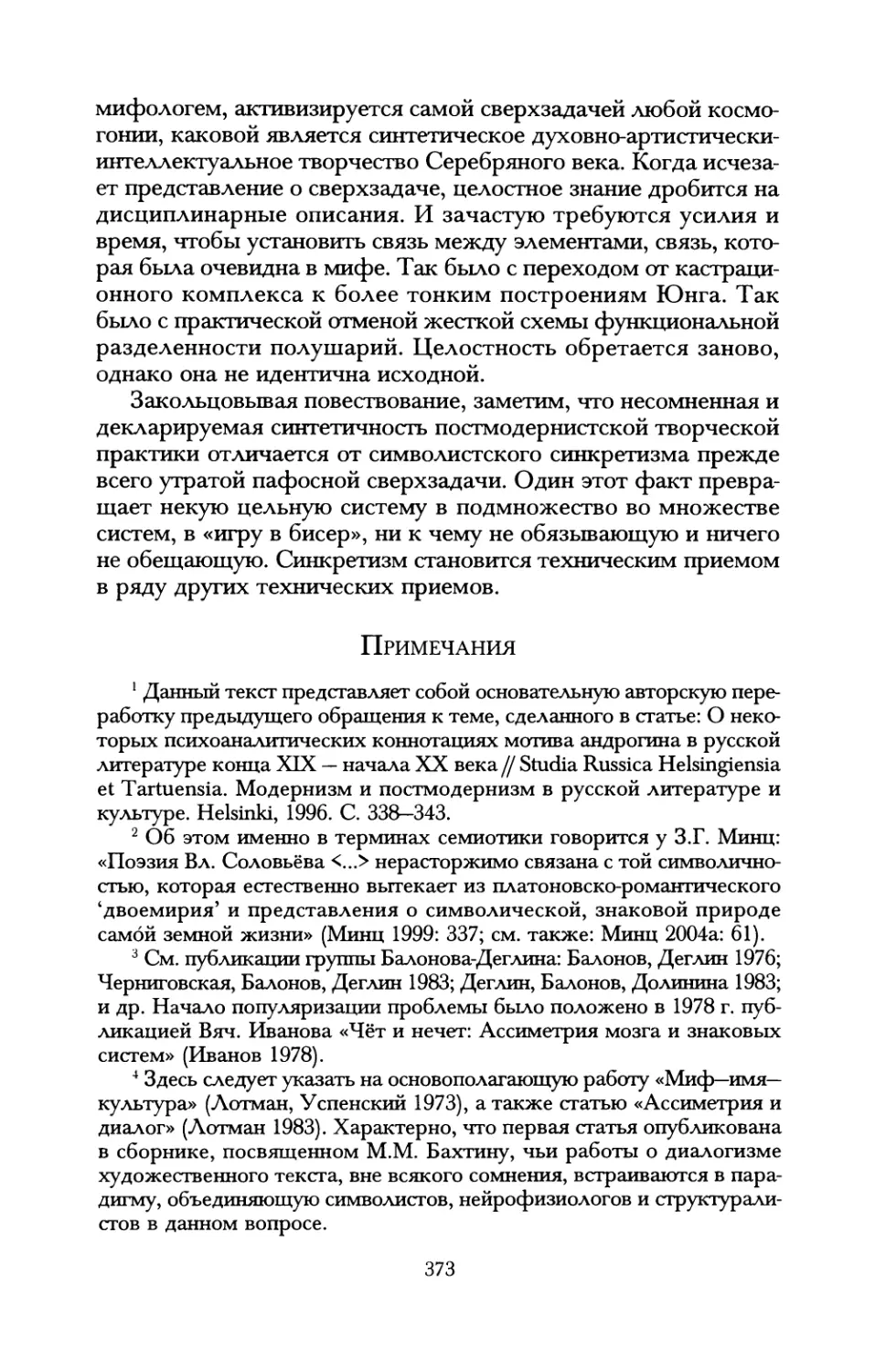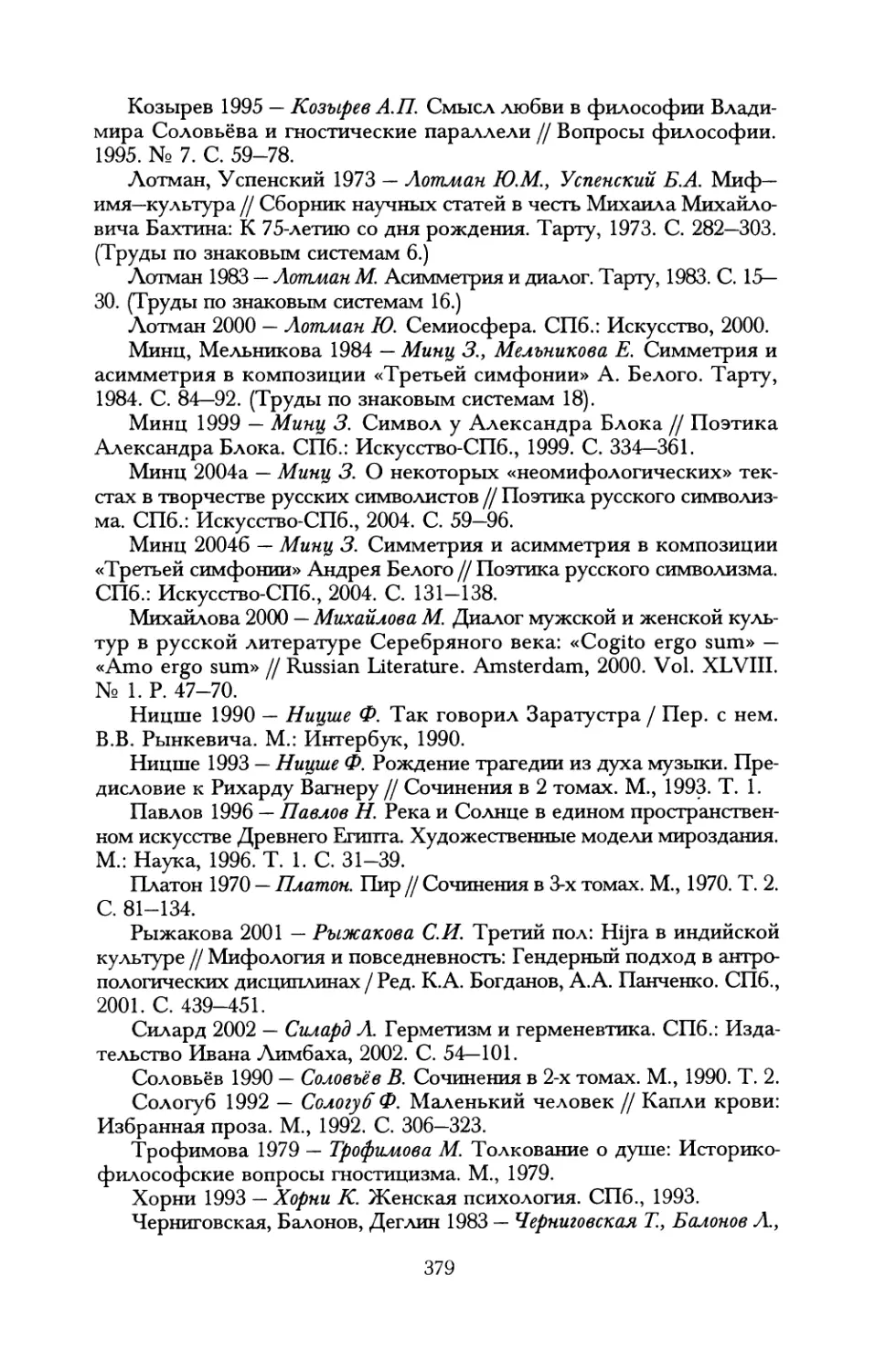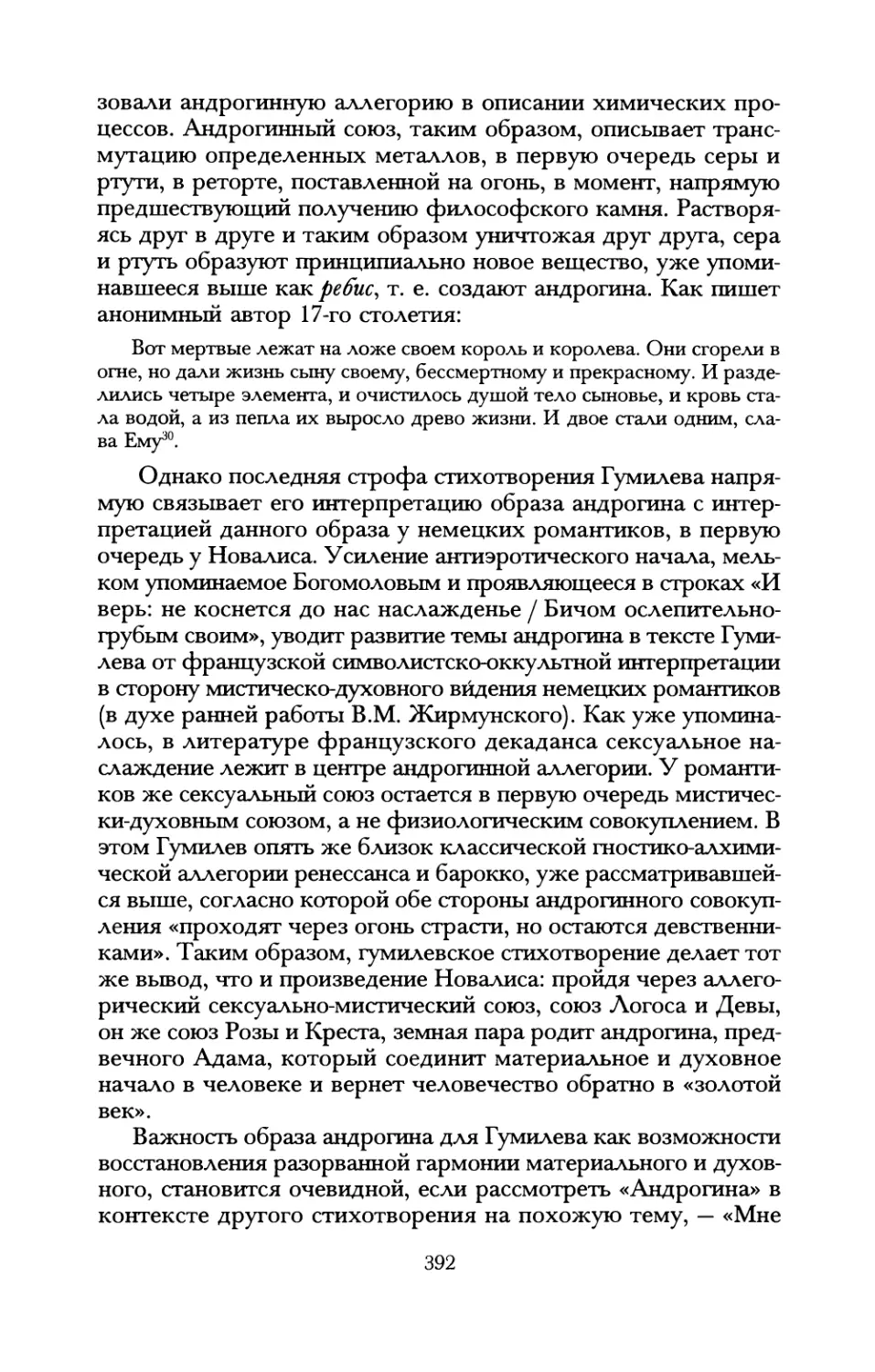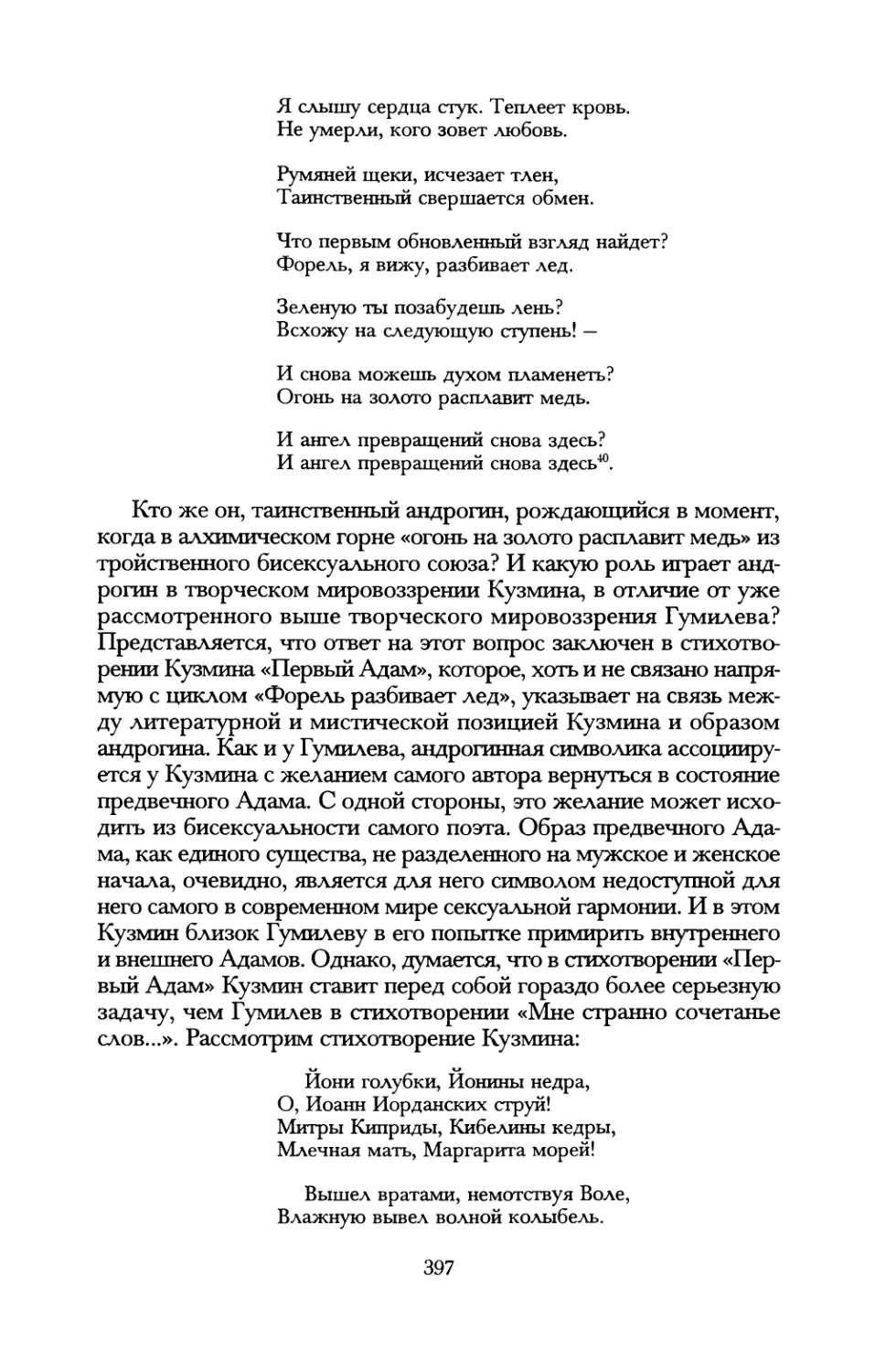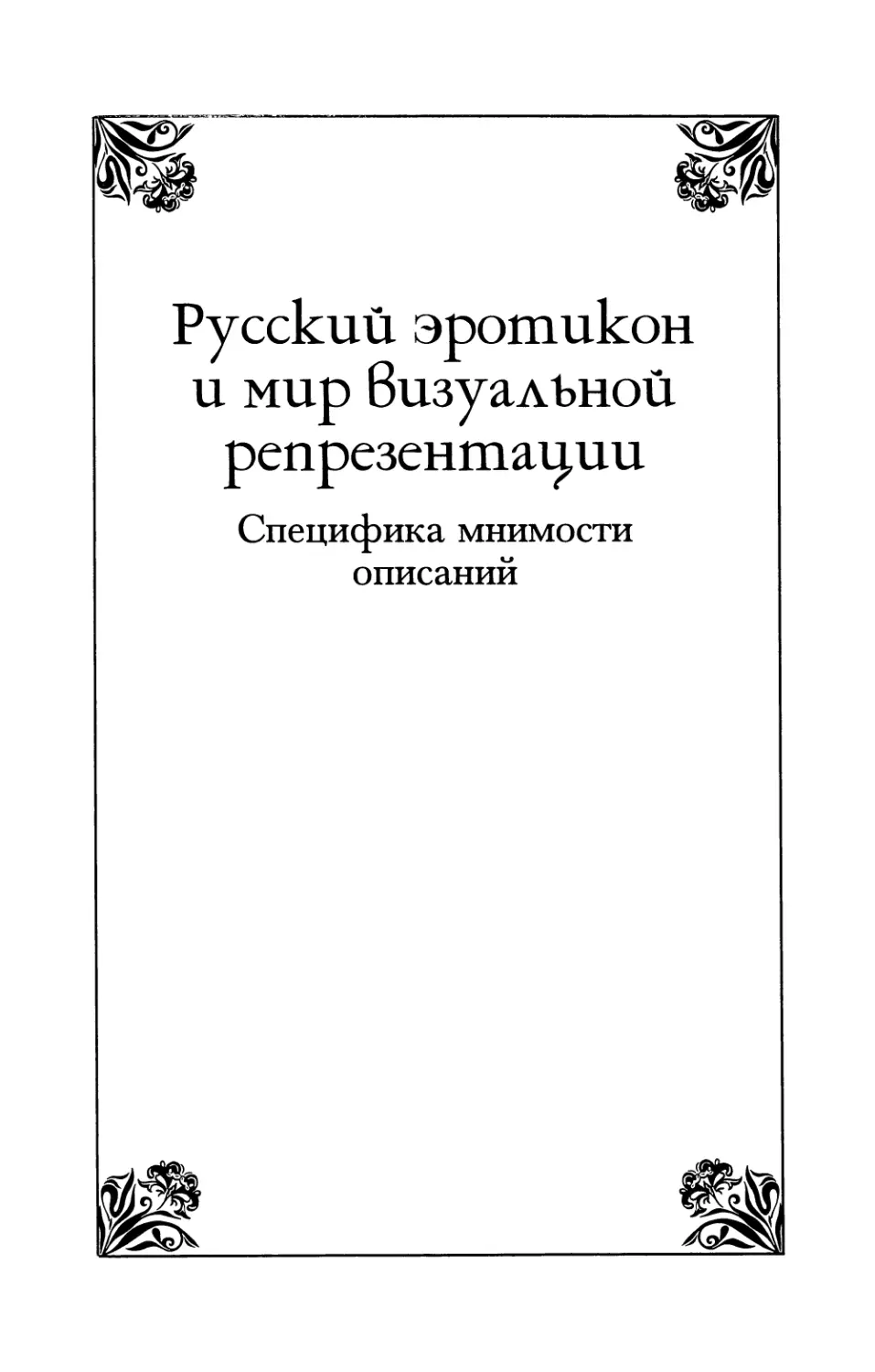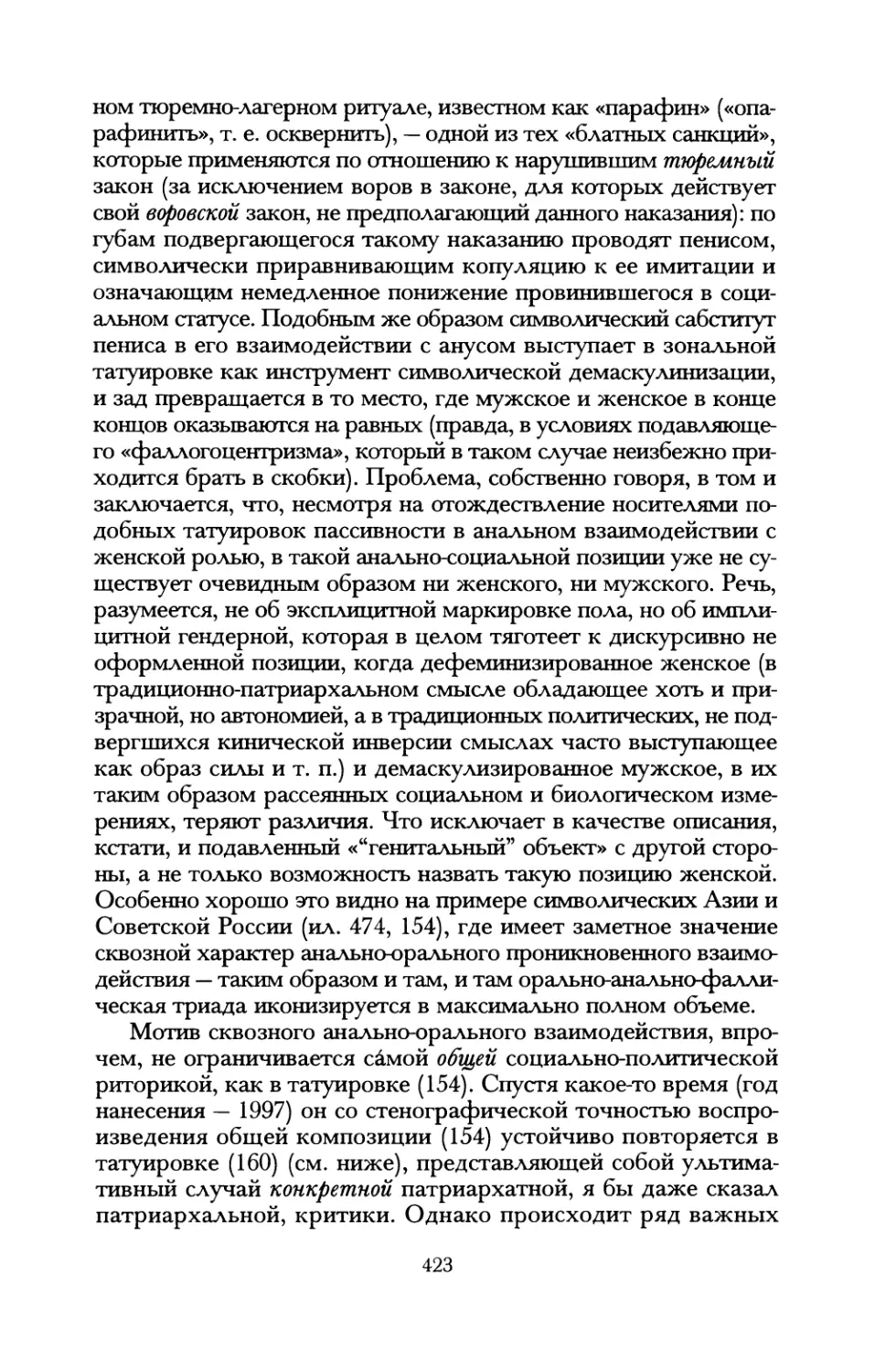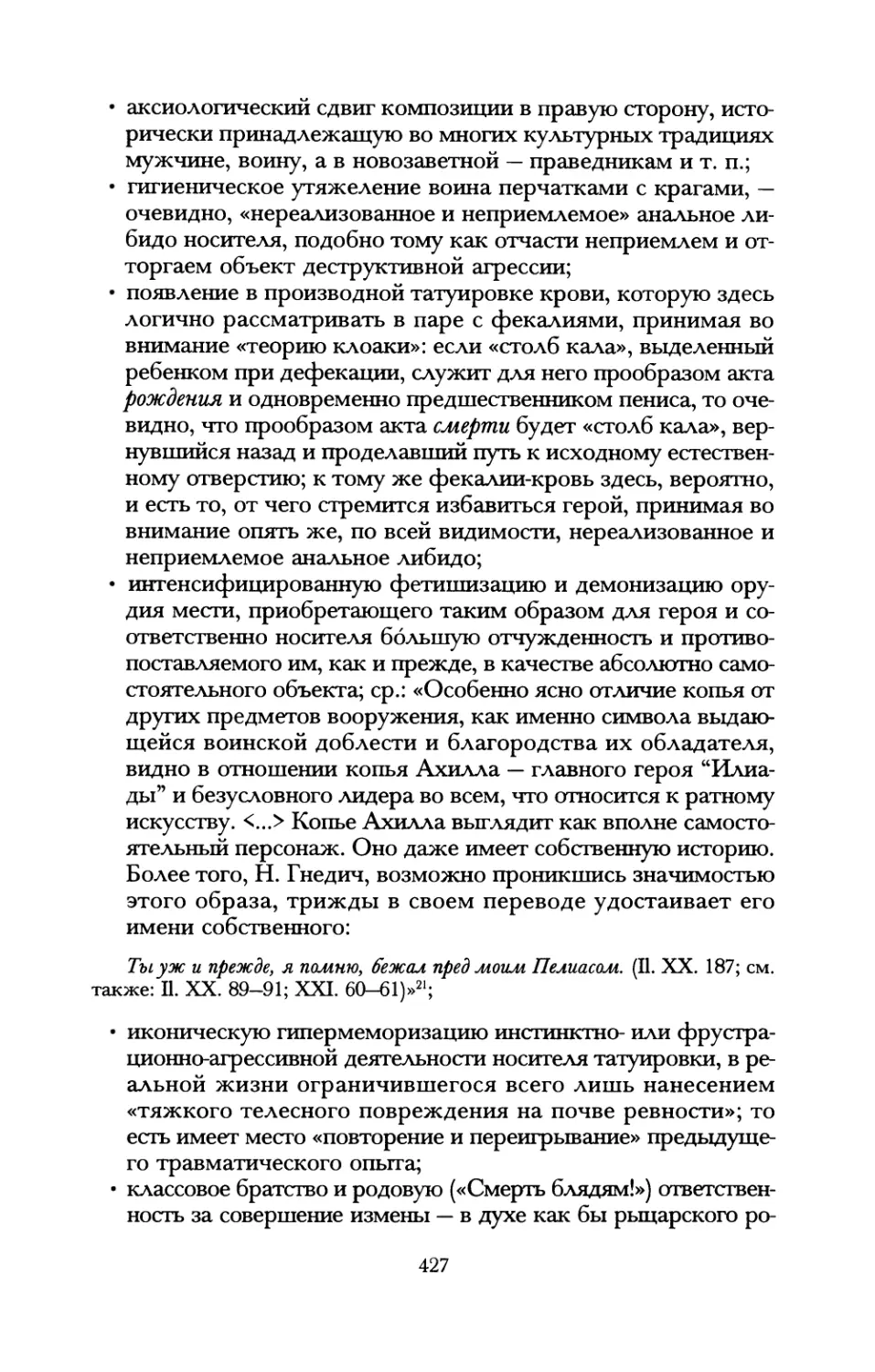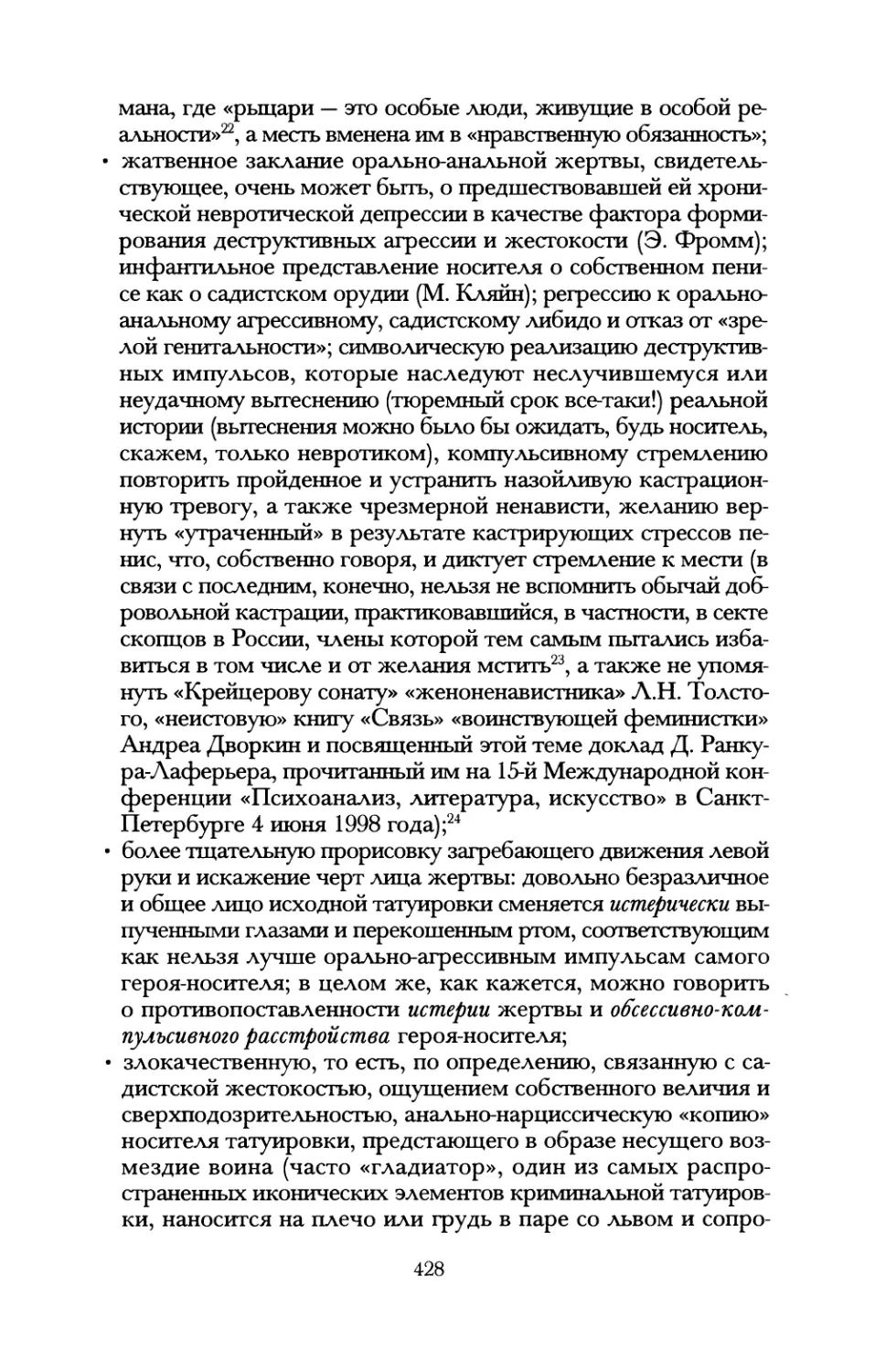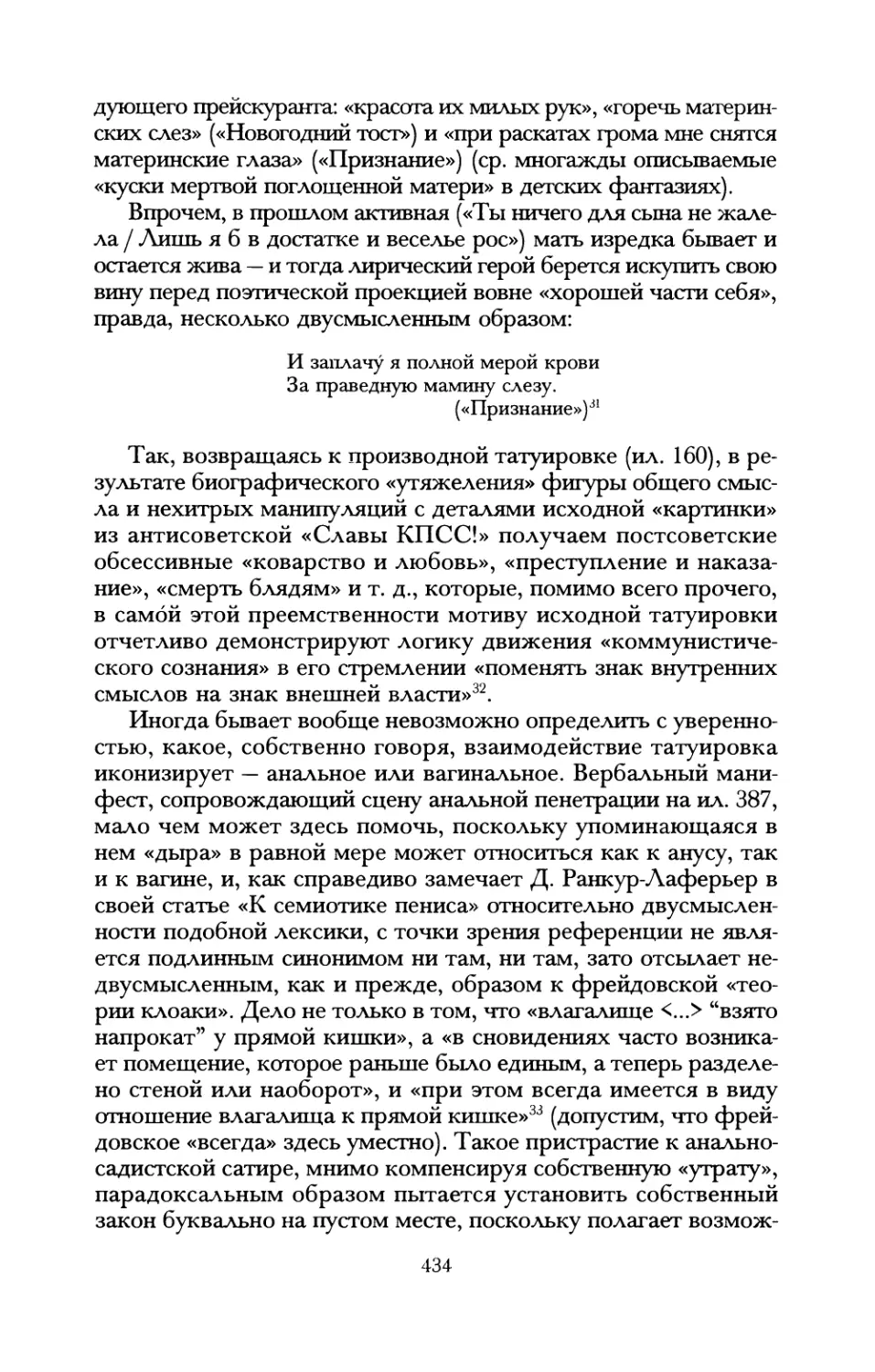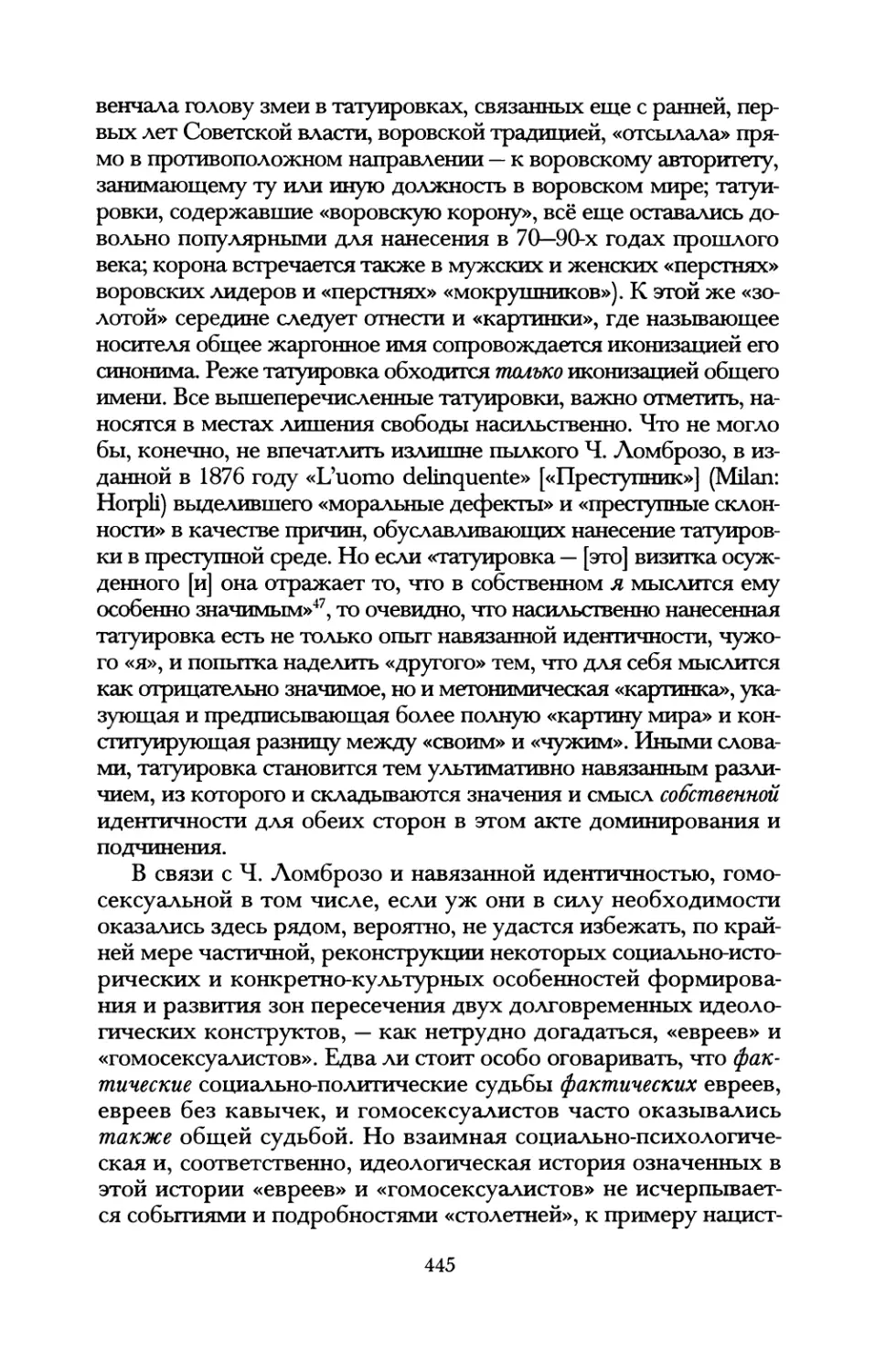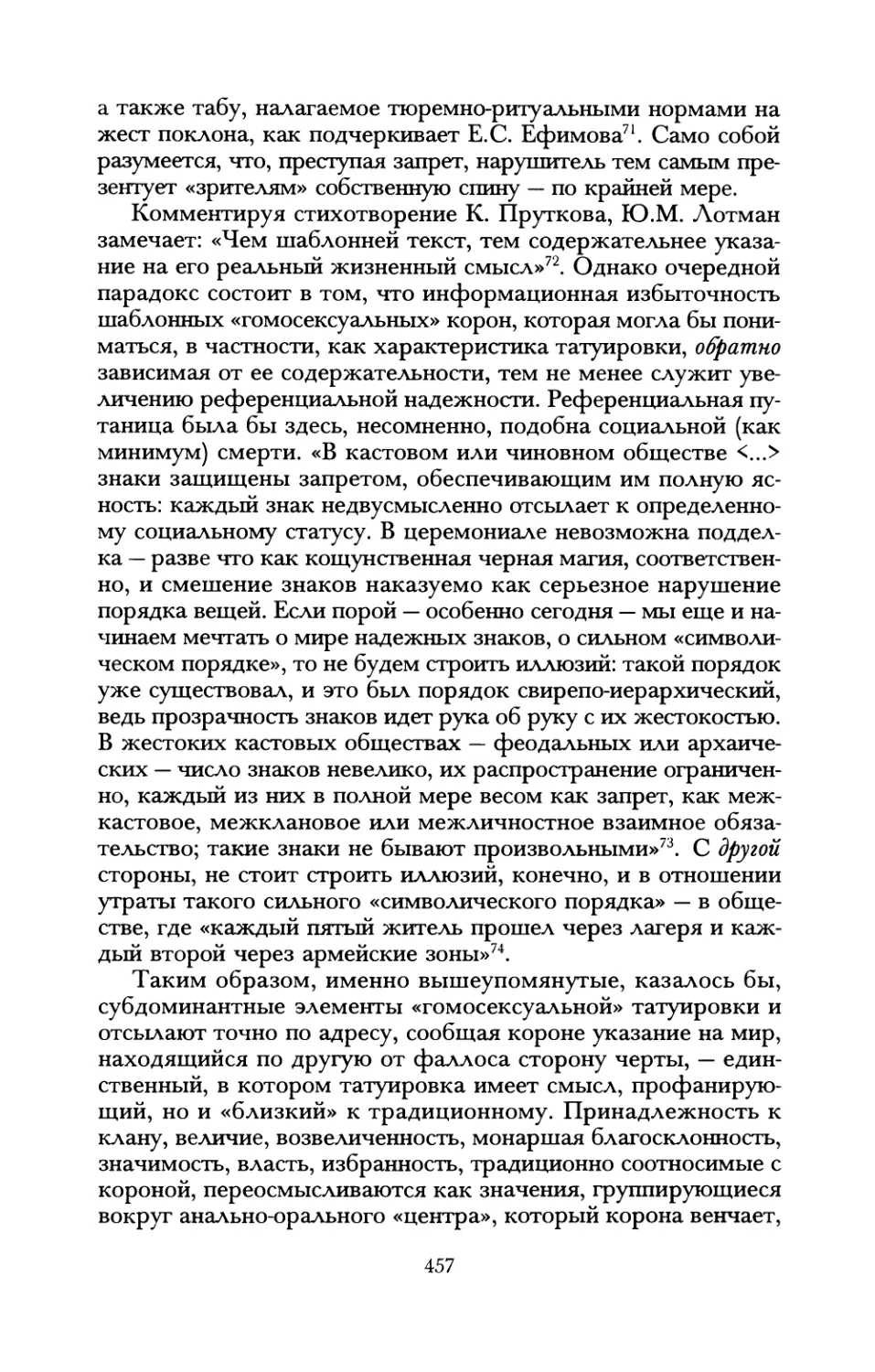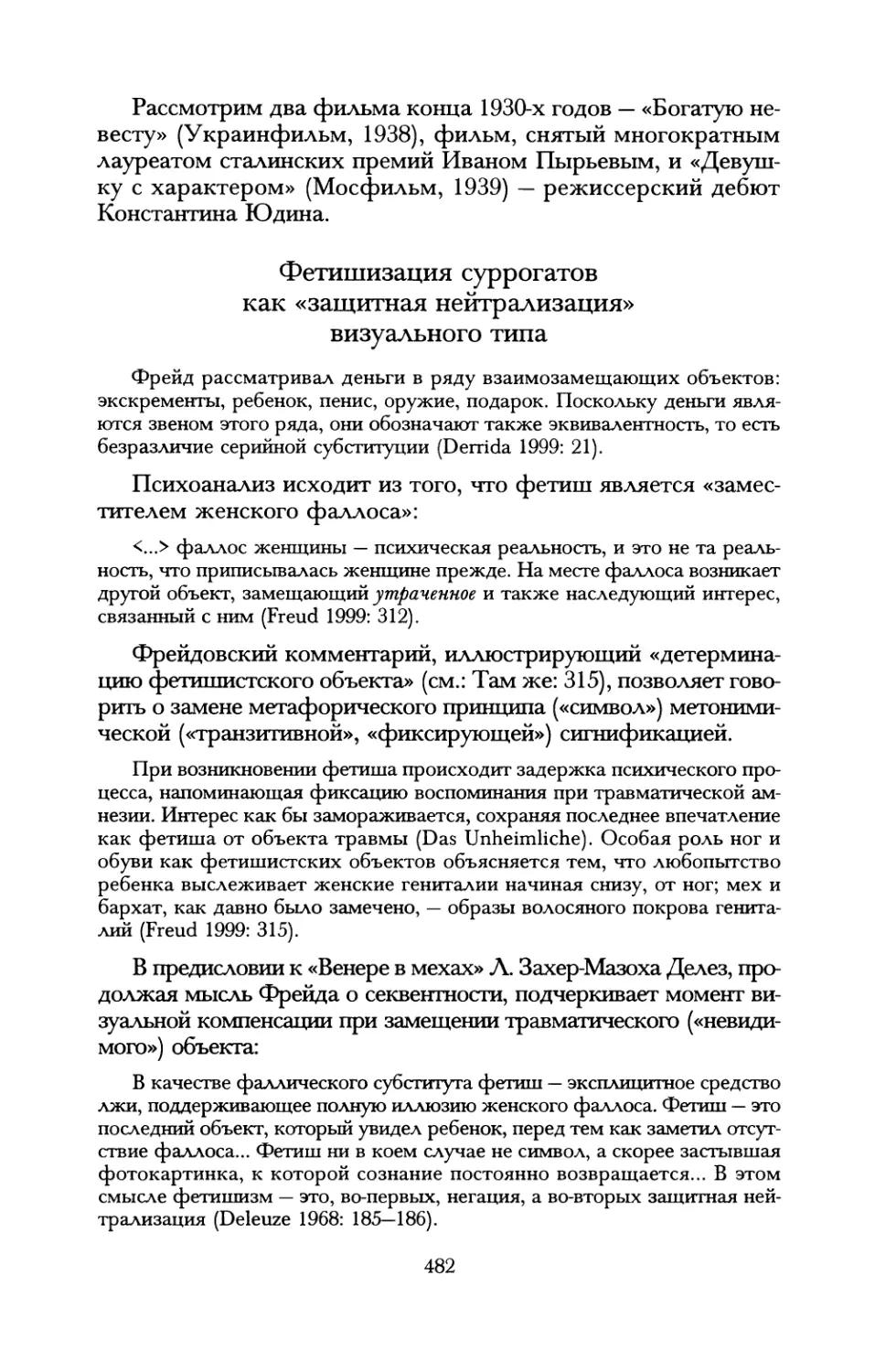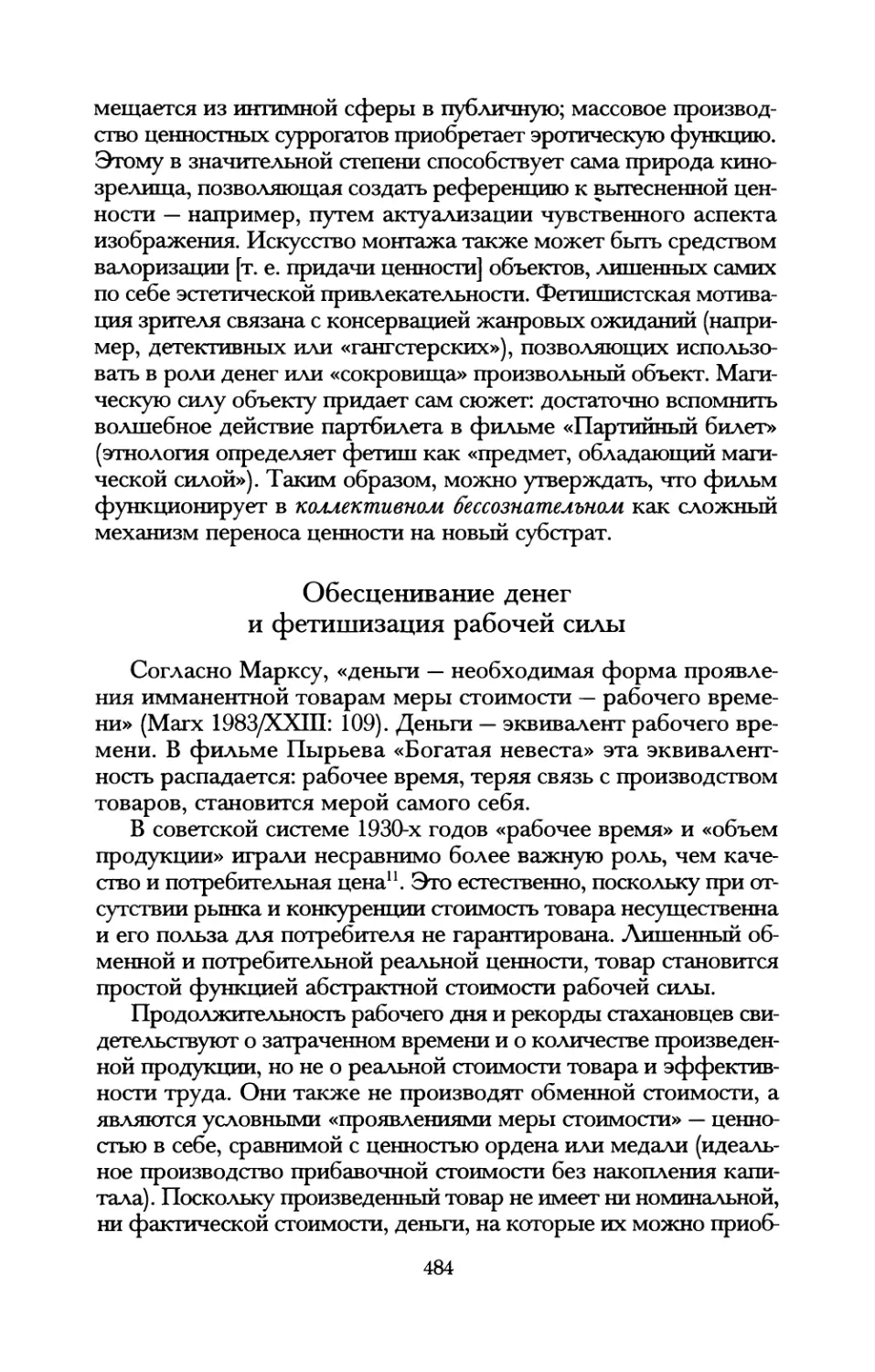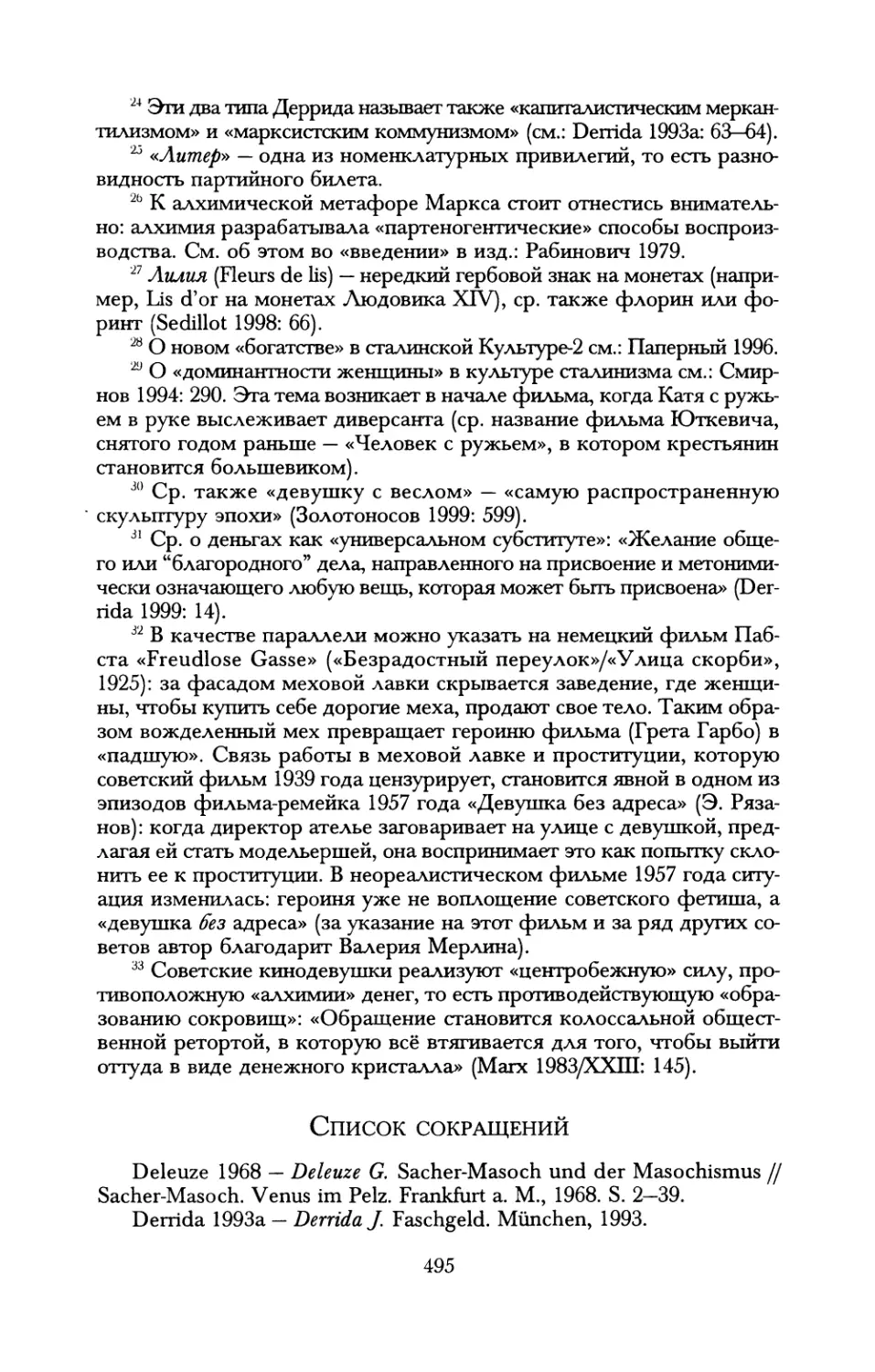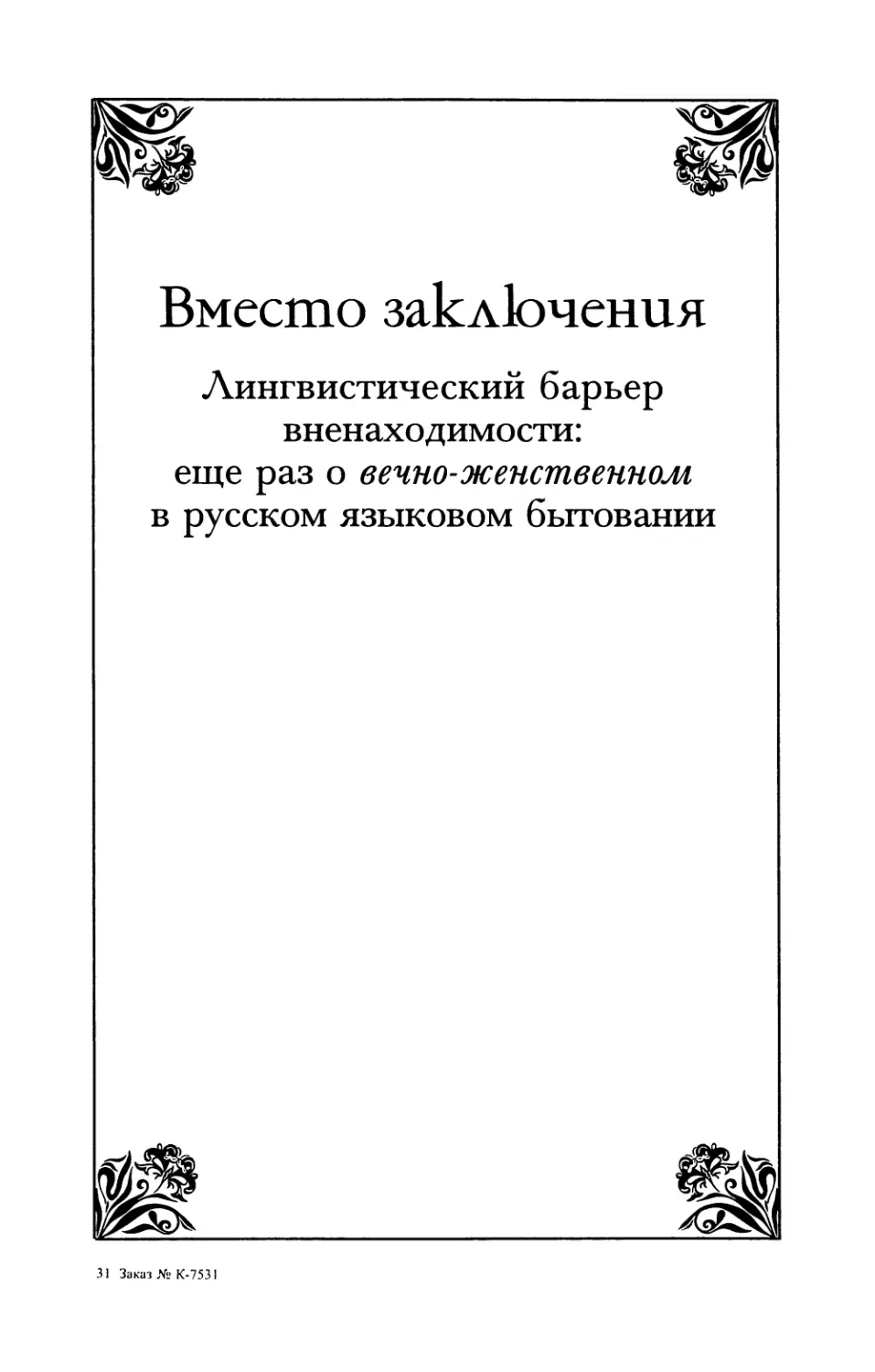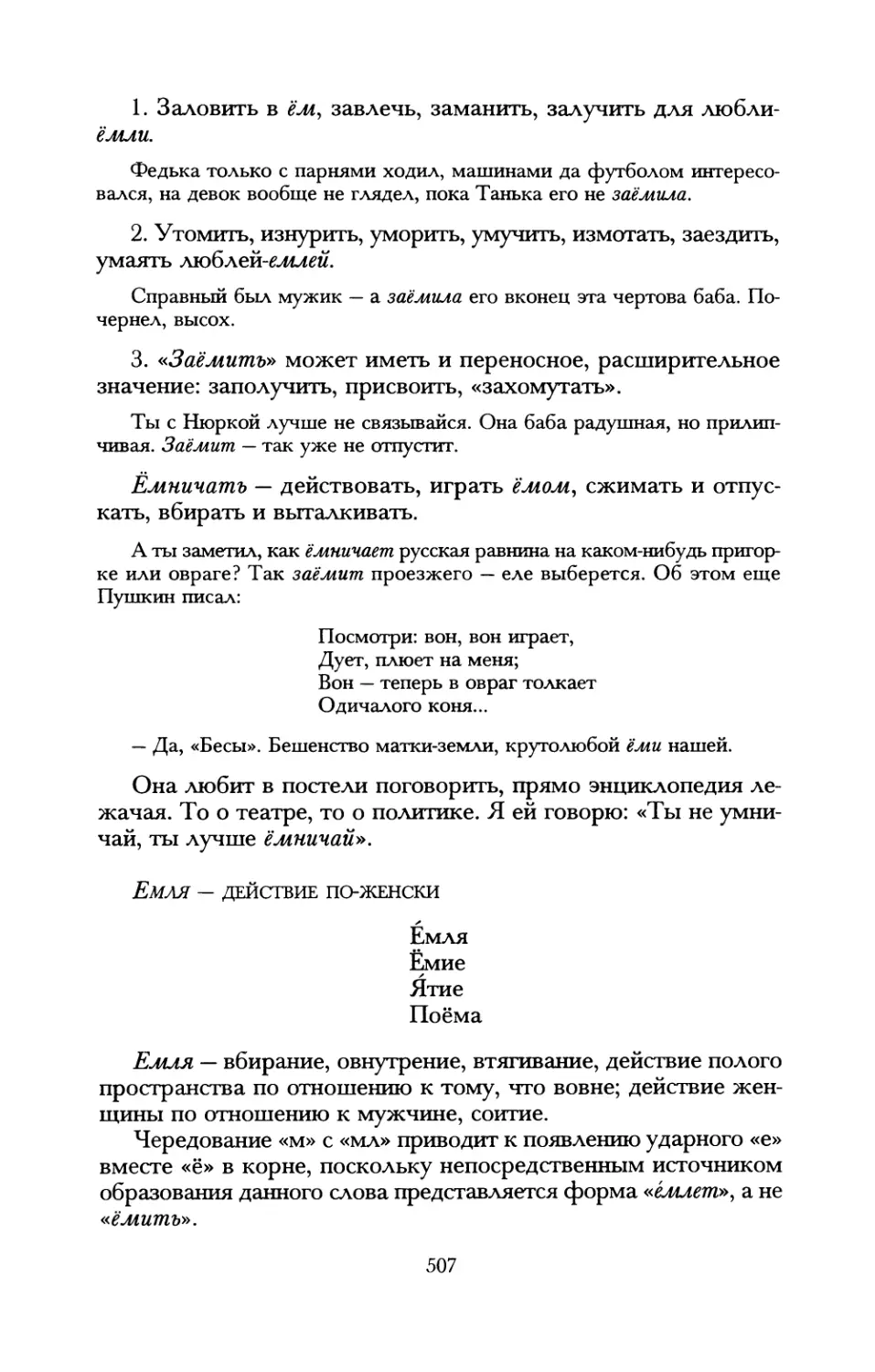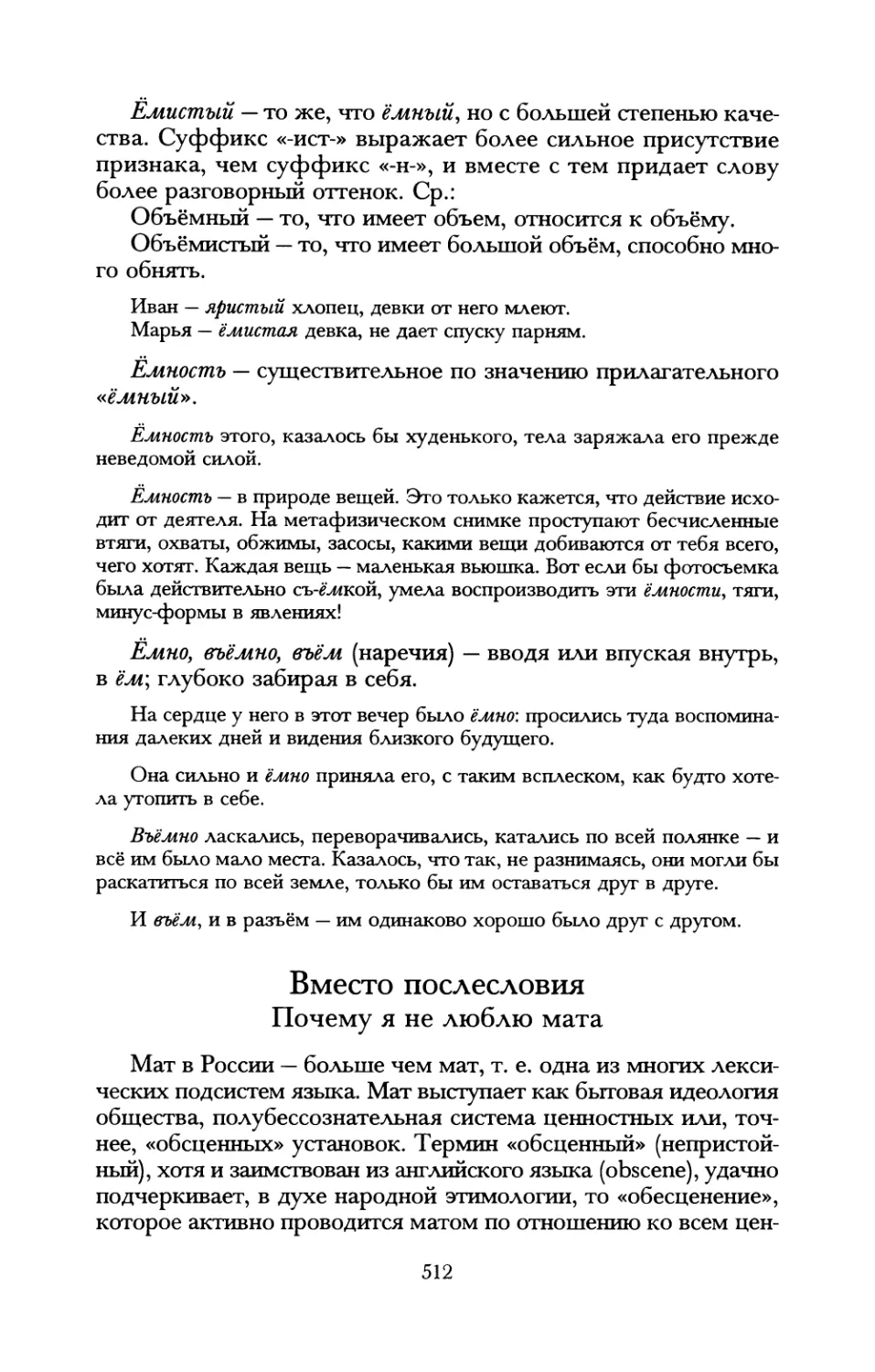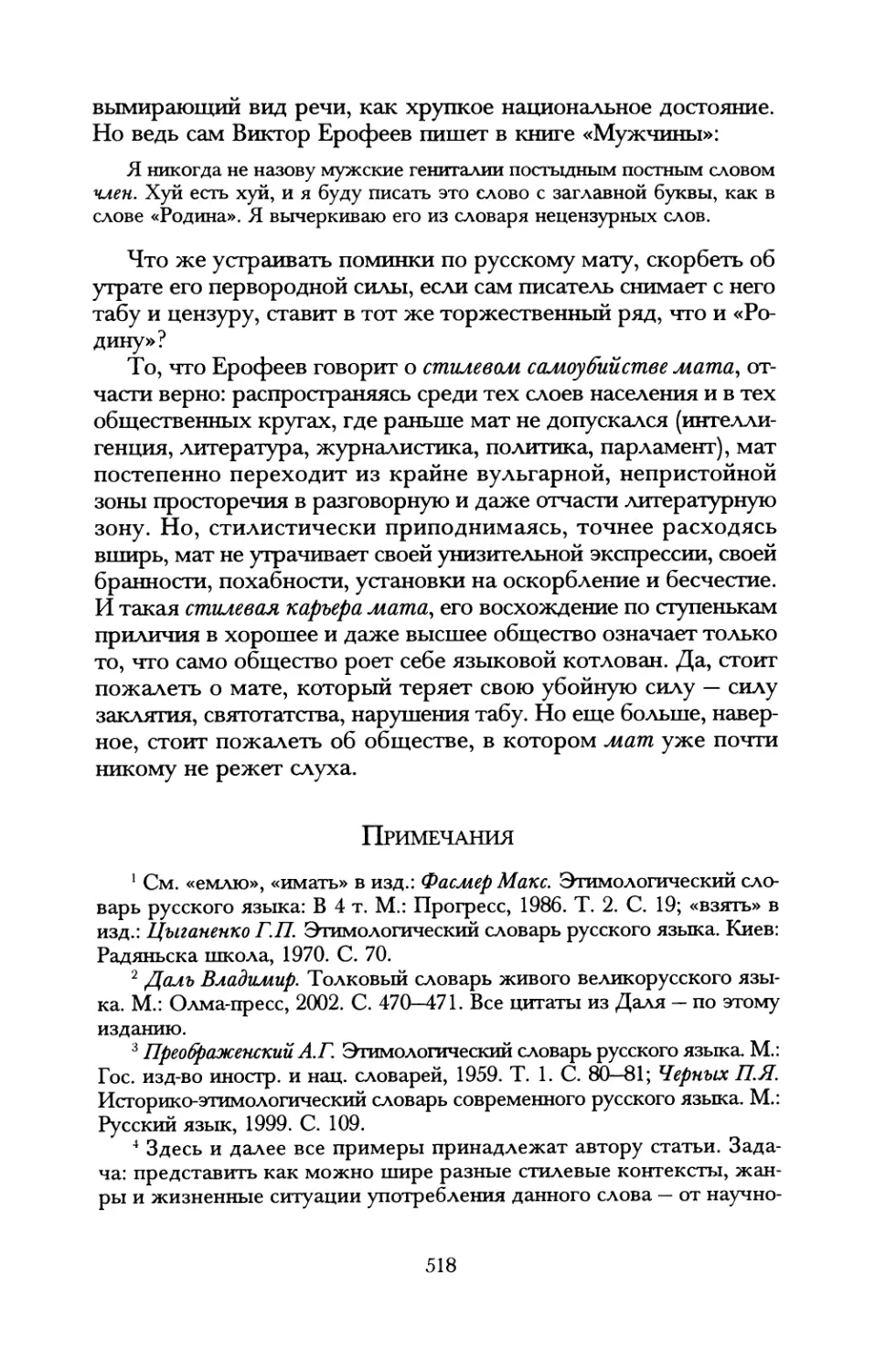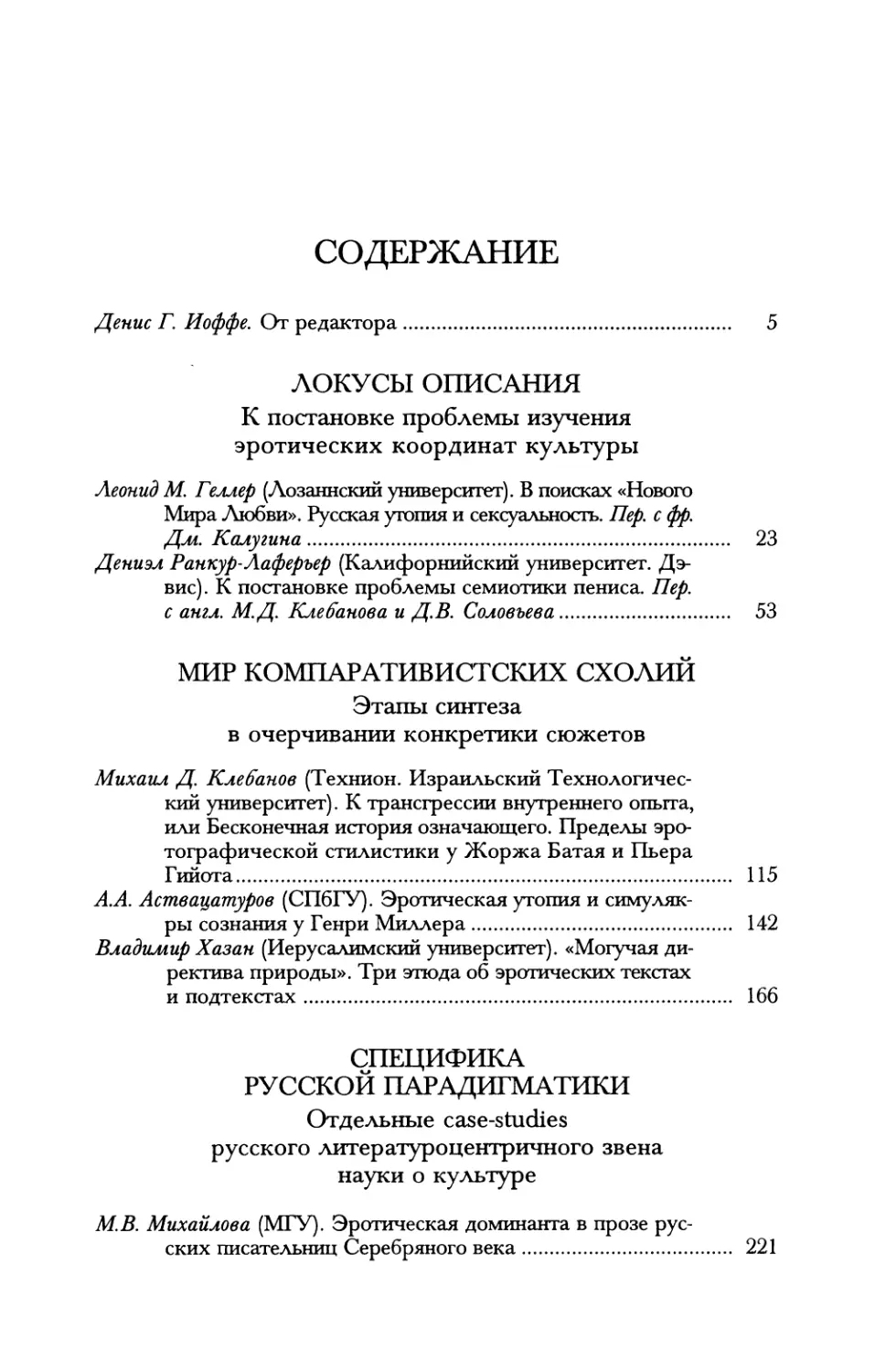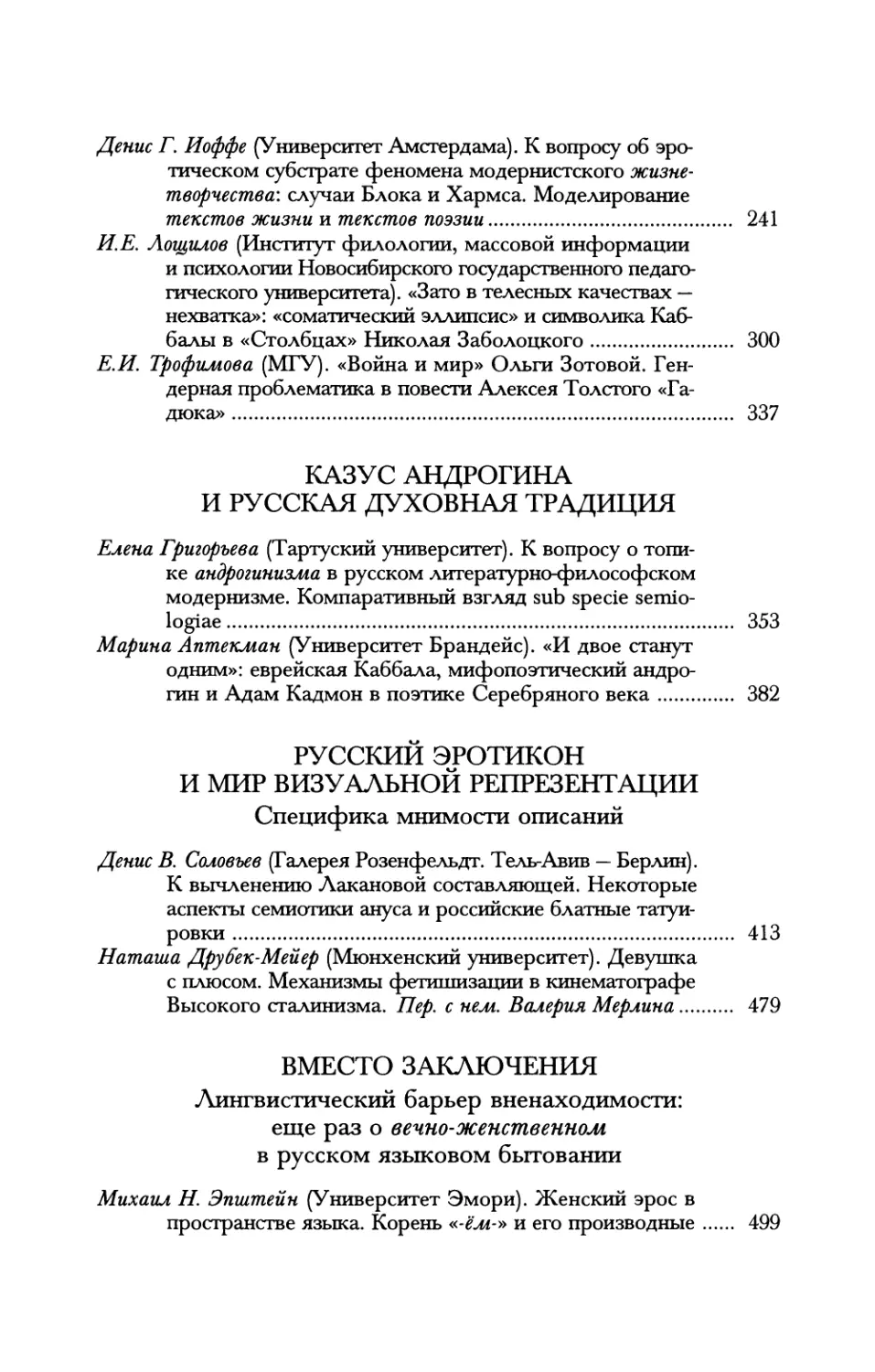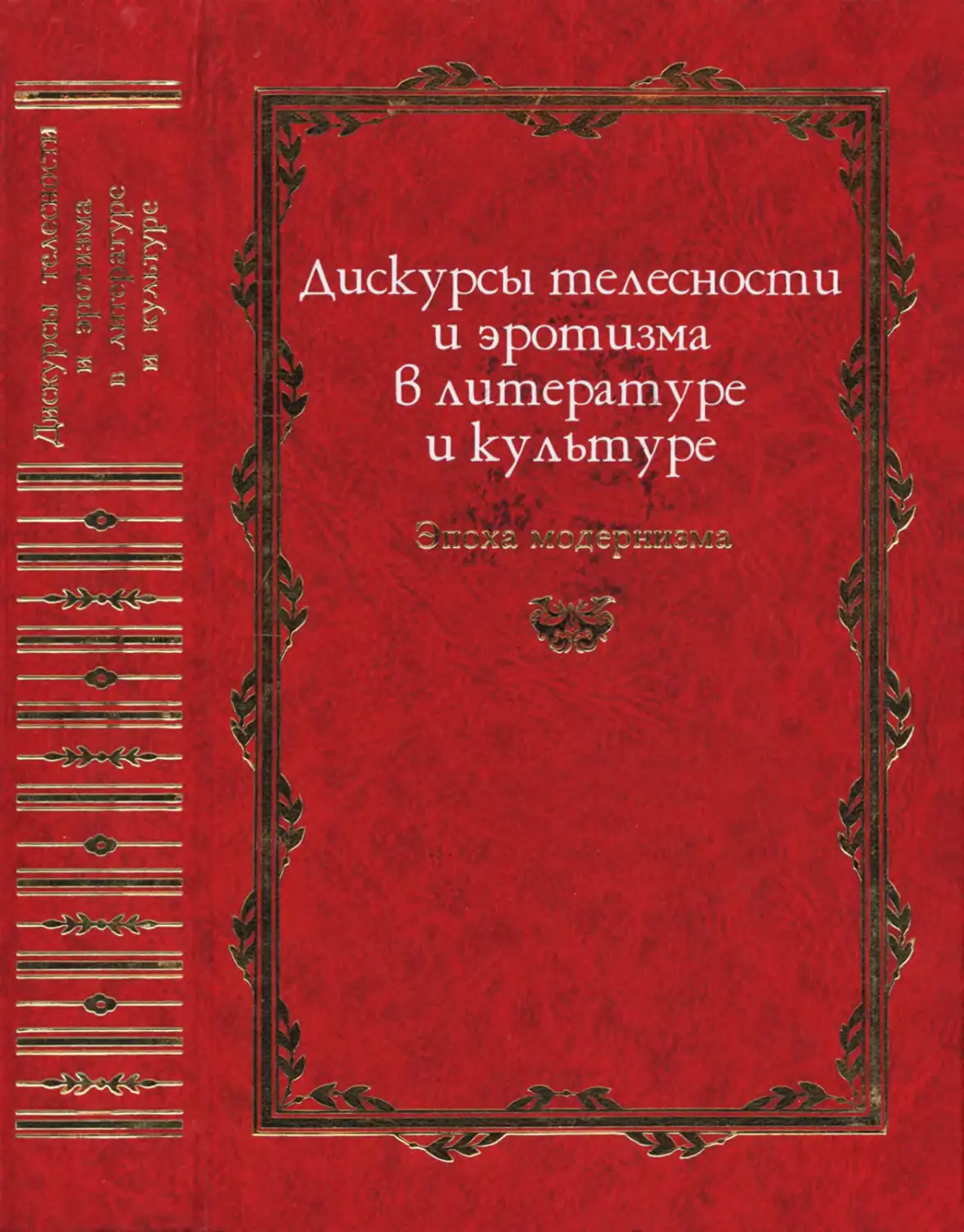Автор: Иоффе Г.Д.
Теги: культура россии эротика русская потаенная литература телесность эпоха модернизма
ISBN: 978-5-8621
Год: 2008
Текст
РУССКАЯ
ПОТАЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ДИСКУРСЫ ТЕЛЕСНОСТИ
И ЭРОТИЗМА
В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ
n
Дискурсы телесности
и эротизма
6 литературе
и культуре
Эпоха модернизма
Сборник статей под редакцией
Дениса Г. Иоффе
лддомнр
l^l/^jpvfsäi Научно-издательский центр .EHe^'v'ÖÜ
Ш^ «Ладомир» ЧКааП
Москва
© Авторы (См. Содержание), 2008.
ISBN 978-5-8621&472-3 © НИЦ «Ладомир», 2008.
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается
ОТ РЕДАКТОРА
В настоящем сборнике собраны «под одной крышей» сразу
несколько научных школ и практик ведения анализа в
гуманитарных дисциплинах. Главным тематическим интересом,
послужившим единым фундаментом всех без исключения
исследований, включенных в книгу, являлось, без сомнения, эксплифи-
цированное внимание к человеческому культурному телу1 и к
его эросу.
Человеческая соматичностъ изучается посредством
«культурных текстов», с помощью амплифицированного аппарата,
доступного нам «здесь и сейчас». Насколько «тексты культуры»
(«литературы») могут оказаться «репрезентативными» при
составлении мозаичного полотна «общей истории»? Насколько
точны наши способы извлечения информативных блоков из
руды данной нам информации?
Мы, в общемагистральном смысле, сочувственно относимся к
расхожей цитате из A.A. Шахматова (по свидетельству P.O.
Якобсона через Вяч. Вс. Иванова), о том, что «сноски надлежит давать
либо все, либо ни одной», с поправкой на сегодняшнюю ситуацию
перенасыщения гуманитарного рынка разноязыкими
академическими публикациями. Если что-нибудь и будет отличать
настоящий сборник от бездны на него похожих, это чуть большее
число экспонатов использованной референтной базы: мы стремились
с повышенным вниманием относиться к работам коллег и по
возможности (хотя бы и лаконично) реферировать их достижения.
Ввиду отсутствия возможности «исчерпать библиографию до
конца» у нас были свои субъективные приоритеты.
5
Ситуация в современной гуманитарно-научной сфере может,
как видится нам, быть схематически уподоблена неизменному в
своей последовательности «движению по вектору». От меньшей
верифицированности к зримо большей. Если меньшей ученой
валидностью, по нашему мнению, отличаются работы авторов
плана Леонида Кациса, Александра Эткинда, Вадима Михайли-
на или Владимира Колотаева, то антиподами их следовало бы
считать труды Вяч. Вс. Иванова, В.Н. Топорова, М.И. Шапира,
Н.И. Толстого, Ю.М. Лотмана, С.С. Аверинцева (квартет
последних не случаен, ибо их физическая смерть в сущности мало что
изменила в нашем отношении к их научному наследию).
Хочется верить, что наши труды могут быть помещены в
научно-провокационное (не от Азефовой «провокации», но от
английского эвристического глагола «to provoke») пограничье,
стремясь при этом настойчиво отдалиться от фигурантов
первого из означенных рядов и всячески близясь ко вторым.
Важно осознать, как следует описывать «литературные
экспонаты» с их «тропическим укладом», в свете стоящей перед
историком необходимости «обобщать», чтобы понять, насколько,
например, выводы Карло Гинзбурга, сделанные (в «Сыре и червях»)
на основании случая одного конкретного ренессансного мельника,
«верны-и-обязательны» для всей возможной популяции мельников
и немельников в отношении их хабитуального субстрата. Оставляя
в стороне искусы теоретиков истории (плана Уайта и Анкерсми-
та), мы вновь будем вынуждены столкнуться с дилеммой «нового
историцизма». Новый историцизм, как говорит Игорь Павлович
Смирнов (один из наиболее влиятельных исследователей в этой
области), имеет свою русскую версию. Автором этой версии стал
«пионер» исследования истории «русского психоанализа»
Александр Маркович Эткинд — в прошлом преподаватель двух санкт-
петербургских вузов (с недавних пор перебазировался на берега
Туманного Альбиона).
Несколько лет назад (достаточно давно, учитывая нынешние
темпы) разразилась весьма резкая полемика, одну из главных
ролей в которой играл этот ученый (психолог и литературовед
в одном лице). Центральной темой сорок седьмого выпуска
московского популярного журнала НЛО и стал так называемый
«новый историзм» и его конкретные имплементации на почве
«русской» критической практики. В этом выпуске был сделан обзор
главных (и всем известных) плодов деятельности Гринблатта,
Уайта и Монроза, преподнесших основные «сюжеты» нового
историзма — историчность текстов и текстуальность истории, где
история, равно как и литература, являет собой род текстуально-
6
ста sui generis, чьи фиксируемые проявления не могут не входить
в кодирующее взаимодействие друг с другом. С точки зрения
методологического статуса данного подхода к ведению
исследования, имеет смысл непременно помянуть (неизменно держать в
уме) известные статьи Лотмана по семиотике поведения. На те из
них, что доступны англоязычному читателю, кстати,
сочувственно ссылался и сам Стивен Гринблатт. Кроме того, на опытную
базу нового историзма опирались в своих известных штудиях
Ирина А. Паперно, Виктор Живов, Александр Жолковский и,
разумеется, Игорь Павлович Смирнов.
Главная дискуссия в том номере НЛО развернулась между
Львом Гудковым и Борисом Дубиным, с одной стороны, и А. Эт-
киндом — с другой. Гудков и Дубин, по сути дела, ставят перед
собой смежные с нашими задачи, причем тексты собственно Эт-
кинда оказываются не самой плохой иллюстрацией того
феномена, что вызывает серьезные методологические каузальные
вопросы [споры — по Деррида) со многих гносеологических и иных
точек зрения:
< ...> об особенностях и последствиях рецепции в России
упрощенного или даже вульгаризированного постмодернизма, <...> — об экспансии
модных французских авторов с их интеллектуальной
безответственностью, часто неотличимой от теоретико-методологического шулерства.
Далее авторы пытаются ответить на вопрос: почему
положение академической гуманитарной науки в России оказалось столь
незащищенным перед размыванием конвенциональных границ
между профессиональной исследовательской деятельностью
и спекуляциями чистых вольготных эссеистов,
прикрывающихся зачастую академическими грантами и мантиями
университетских лекторов в пространстве между «телами и текстами», —
если использовать эту Эткиндову противопоставительную
максиму. Как нам кажется, к Гудкову и Дубину как нельзя лучше
подходят малоизвестные слова Шеллинга, высказанные им в
Мюнхене 31 марта 1809 года и представляющие собой изустное
предуведомление к «Философским исследованиям о сущности
человеческой свободы и связанных с нею предметах»:
Теперь как будто наступило время более здравых порывов.
Возрождается стремление к верности, усердию, к глубине. Люди начинают видеть в
пустоте тех, кто рядится в сентенции новой философии, уподобляясь героям
французского театра или канатным плясунам, тому чем они являются в
действительности. <...> Пусть же данное сочинение послужит устранению ряда
предвзятых мнений, с одной стороны, и пустой, безответственной
болтовни—с другой (курсив наш. — Д.И.).
1
Наследниками этого Шеллингова высказывания, звучащего,
как нам представляется, исключительно актуально для нашего
времени, и выступают (с определенными оговорками) в данном
контексте Гудков и Дубин. И действительно, разве так уж
неуместно сравнение большинства представителей французского
театра новой философии с канатоходцами-плясунами —
изощренными и безответственными болтунами-виртуозами?
Вместе с тем именно отдельные высказывания самого
Александра Марковича Эткинда не могут не вызывать неких
недоуменных вопрошающих инвектив по его адресу. Мы читаем,
что:
Строго говоря, в человеческих делах существуют только две
эмпирические реальности: тела и тексты. Всё огромное пространство между
текстами и телами заполнено нашими спекуляциями (которые, в свою
очередь, воплощаются в тексты).
Что в данном утверждении может вызвать формально-форму-
лировочное неудовлетворение у взыскательного [сильного, как
этого декларативно хочет сам Эткинд) читателя (в данном случае)
НЛО? Не очень ясны взаимоотношения петербургского
исследователя с «новым историцизмом как таковым». При чтении
(многочисленных) Эткиндовых текстов создается весьма
противоречивое впечатление. Перефразируя знаменитую статью В.Ф.
Маркова, кажется, что Эткинд испытывает к Гринблатту и Монрозу
своего рода эффект «апологического сопротивления». Он так же
неформален, как «они», так же «курсивен», сходным образом
«информирован» (см. важнейшие рецензионные статьи А. Долинина
о «казусе Эткинда»). И вместе со всем этим он не вполне «новый
историцист».
Совершенно непонятно, на основании чего (каких логических
и эмпирических предпосылок) проводится столь концептуально
радикальное дихотомическое разграничение между телами и
текстами. Насколько правомочно недвусмысленное заявление
Эткинда о тотальном отсутствии телесного субстрата в том, что
он называет текстами? Можно ли представить некий текст,
который был бы напрочь лишен своего чисто телесного аспекта?
Для существования текста однозначно необходимы чернила,
бумага, не говоря уже о печатных агрегатах. Ранее были
необходимы на разных стадиях такие в высшей степени «телесные»
ингредиенты, как камень, острый резец, папирус, пергамент, перья,
особые составы чернильных жидкостей... Бумага и чернила —
суть неотъемлемые компоненты текста Нового времени, без
которого его существование немыслимо. Тело текста — его media.
8
Ровно как и тело человека — оболочка-приют его духа, которую
так хотят заполучить бестелесные демонические существа, чье
бытование неполноценно и во многом сугубо эфемерно. Бумага и
чернила — такие же физические заложники телесного, как и
людские организмы.
Казус электронного, «виртуального», текста не принесет
ничего кардинально нового в вышеописанную систему понимания.
Для электронного текста, для его существования безусловно
необходимы экран, процессор, программы, в свою очередь
существующие — в материальном смысле — на конкретных
микроскопических участочках поверхности различных «дисков»; такова
«телесная» реальность бытия компьютерного текста-файла, без
которой он неминуемо обращается в тотальность небытия, реа-
лизовываемую функцией «Delete». Отрицать чисто телесный —
материальный (а мы как раз это и пытаемся показать) аспект
текстожизни было бы весьма наивно. Даже самый «бесплотньш»
текст, выученный наизусть, существующий исключительно в
памяти индивида, не может похвастаться полным
несоприкосновением с миром телесного. Подобный текст точно так же зависим
от тела, ибо сам существует внутри него; артикуляция текста
есть прямой результат конкретных химических процессов,
сценой которых являются клетки головного мозга.
Иначе говоря, мы позволим себе утверждать, что
совершенно неуместно производить логическое противопоставление
текстов и тел, ибо тексты тоже в известном смысле есть не что
иное, как тела. Идеальное, «абсолютное», содержание текста не
может существовать без облекающей его формы — так нас,
кстати, учит и опыт хроматизма: цвет немыслим без
конкретики очертаний своей формы. Равным образом и текст.
Дихотомия, столь бескомпромиссно и однозначно-уверенно
очерченная Эткиндом, есть лишь дополнительный знак, указьшающий
на ту же самую проблему современной интеллектуальной работы,
проблему ответственности за выверенность собственного мыс-
леслова.
Проблематика тексто-телесного дихотомического симбиоза
уже довольно давно исследуется в разнообразных
ответвлениях комплекса современной науки о культуре. Возникает отнюдь
не праздный вопрос: как возможен разговор о «телесности
слова» в свете гуманистического представления о человеке, в
контексте интеллектуальных или «народно-духовных»
устремлений индивида? Как пишет замечательный петербургский
этнолог Альберт Байбурин, «слово по определению телесно: его
исходным локусом является тело, оно рождается из тела и в
9
него же возвращается»2. И действительно, в соответствии с
сакральным «народным знанием», логос слова — неотъемлемая
«физически осязаемая» ипостась реальности: в частности,
абсолютно необходимая в деле заговоров и колдовских ритуалов3.
Слово «усвояемо» аки телесный предикат; в славянской
народной культуре словесная эмпирика получает на удивление
«тактильное» и «соматическое» отношение со стороны
непосредственных «хозяев дискурса», т. е. «первичных работников
слова», самих людей, адамических гончаров «кувшина4 языка».
Как пишет Альберт Байбурин, «слово в любом случае входит
в тело, но необязательно через уши; особое слово требует
особого пути. <...> наиболее распространенным способом
является его (слова. — Д.И.) проглатывание (выпивание), пропускание
через себя в буквальном смысле. Таким образом (через рот)
человек обретает знания и умения»5. И далее автор
продолжает: «Проглотить можно даже собственные мысли. В этом
отношении характерен комментарий исполнительницы заговора:
Сама съела то, что подумала, сама и съела. [Русские заговоры
Карелии. 2001. № 108]. При посвящении в колдовство: Колдун
ведет тебя в баню на зори, он просит, она выскочит, скакуха, эту
скакуху нужно проглотить в себя. <...> Т. е. для получения
колдовского знания тоже необходимо что-то съесть (в данном
случае лягушку). Показательно, что в народных загадках книга
описывается в кулинарных терминах: Один заварил, другой
налил, сколько ни хлебай, а на любую артель еще станет. <...>
Видимо, кулинарный код является оптимальным для описания
таких концептов, как слово и знание в народной культуре. Судя
по комментариям к заговорам и медицинским текстам, слово
может быть усвоено тактильным (выделено А. Байбуриным. —
Д.И.) путем»6. (Здесь можно также отметить и очевидную
аллюзию к Откровению).
Уже затронутую нами чуть выше проблематику «оболочки»
в контексте жизнереальности «текста», уподобляющую
словесный конструкт соматическому, развивает, отчасти, интересная
работа Ильи Утехина7. Здесь возникают интересные переклички
с понятием «цвет» и, буквально, его «физических носителей», его
чувственно осязаемых воплощений: «Нормальный цвет кожи —
белый, ср. устойчивая формула «белое тело»; из заговора,
записанного в XX веке: и будь тело бело как белая бумага, и будь тело
бело как белая кость, и будь тело бело как белый снег. Аминь!
Аномалия кожных покровов и выглядит и воспринимается прежде
всего как изменение цвета, в буквальном смысле цветение кожи0.
Интересно припомнить, что еще Александр Афродисийский
10
«сравнивает одушевленное тело, растущее и усыхающее,
меняющее свою плоть, с кожаным шлангом, кишкой (acoXrjvoç), через
которую течет жидкость... Когда материи, протекающей через
тело, делается меньше, эйдос при материи умаляется подобно
внешней форме кишки, и наоборот »9.
Необходимо подчеркнуть, что сама проблематика
аналитического отношения, организации и артикуляции некой
интеллектуальной рефлексии по отношению к проблематике
«человеческой оболочки», человеческой соматичной идентичности
отнюдь не была «изобретена» современной наукой10. Нельзя
также, как нам кажется, заключить, что вся западная
философия «телесного» Нового времени, от Рене Декарта к Морису
Мерло-Понти, может быть описана в терминах какого-то
особого интеллектуального «первопроходчества», впервые
боронящего эту увлекательную ниву. Важно подчеркнуть, что
проблематика телесного удостаивалась на удивление пристального
внимания в предшествующих Картезию периодах философии
античности и раннего христианства. Помимо соответствующих
фрагментов древнегреческой мысли Платона и Аристотеля,
очень интересны в данном контексте воззрения Блаженного
Августина и особенно Плотина, чьи взгляды во многом были
сформированы и кодифицированы в результате полемики с
«корпореальной негацией» влиятельного в то время
гностицизма. Необычайная важность «соматики» в гностицизме (и в
смежных с ним 'еретических' системах) широко известна11. В
контексте подобного «еретического дискурса» поздней
античности особенно важны многие тексты Оригена, непосредственно
посвященные этой тематике. Как пишет современный
исследователь античной религии В.В. Петров, «в сочинениях Оригена
мы встречаем темы современной ему философии —
«соматический эйдос», «семенной логос», «колесница души», «обогневе-
ние» мира и проч.»12. Оригеново понимание «души» в чем-то
напоминает вопрос бытования телесности словесного
субстрата. Антиномийность «души» и «слова» в парадигме соматики
выступает как сущностное противоречие между «бестелесной»
природой души (как и текста, т. е. слова-нареченного) и
реальностью ее «увеществления» в конкретике жизненных реалий13.
В.В. Петров пишет: «Душа, которая по своей природе
бестелесна и невидима, находится во всяком телесном месте, имея тело,
подобающее природе этого места (см. "Против Цельса").
Иногда душа отлагает тело, которое требовалось ей прежде, но
перестало отвечать ее изменившемуся состоянию, и меняет его на
следующее, а иногда принимает еще одно тело, в добавление к
11
прежнему»14. Примечательным образом описывается
нейтрализация телесного субстрата в периоде Конца Времен, когда тел
в обычно-физическом понимании уже не будет, когда
астральный эфир и его проекции будут доминировать в пространстве:
«В "Комментарии на Ев. Матфея" (Commentarium in evangelium
Matthaei) Ориген пишет, что после воскресения из мертвых
тела праведников станут как у ангелов, — эфиром световидным
и сиянием. Обращает на себя внимание слово «световидный»
(«ocuyoeiBeç»), которое является техническим философским
термином, прилагавшимся платониками к пневматическому телу
души или, более узко, — к пневматической колеснице[15],
носителю души»16. В.В. Петров между тем продолжает далее:
«Возвращение на небеса, т. е. переход от земного тела в
бестелесное состояние, происходит не внезапно. От телесной одежды
(indumentum corporeum) нельзя избавиться разом, и телесная
природа упраздняется постепенно. Поэтому умершие являются
в облике, подобном тому, какой они имели во плоти. При
отделении от земного тела и еще прежде воскресенья... душа
имеет некое тело17. После смерти, но до воскресения тел душа
обитает в световидном теле (так и тела ангелов на небе
эфирны и суть световидный свет). И тело Иисуса вскоре после
воскресения, когда он являлся ученикам и Фома вложил перст в
его ребра (Ин. 20: 19—28), занимало как бы середину между тем
плотным телом, какое он имел до страдания, и тем
состоянием, в каком душа является по отделении от этого тела.
Впоследствии плоть Иисуса изменила свои качества и сделалась
такой, чтобы пребывать в эфире и выше эфира»18. Мы приводим
эту пространную цитату об особых качествах плоти Христа
затем, что, как известно, Иисус — есть воплощенное Слово, т. е.
Божественный Логос, ниспосланный на землю. В этом смысле
и в этом контексте должна, среди прочих тем, вестись любая
дискуссия — буде изводима из своего исторического начала —
о сложных интерреляциях «соматики» и взаимодействующей
с ней парадигмы «слова-текста». Как пишет всё тот же Ориген
в трактате «О началах»: «...наши тела, как зерно, падают в
землю. Этим телам присущ логос (insita ratio), который содержит
телесную сущность. Даже если эти тела умерли, разложились
и рассеялись, этот самый Xoyoç, который всегда сохраняется в
телесной сущности, по велению Божиему воздвигнет их из
земли, обновит, восстановит, подобно тому, как сила (virtus),
присущая пшеничному зерну, после его разложения и смерти
обновляет и восстанавливает зерно в теле стебля и колоса»19. Не
стоит в этом контексте забывать и важные слова апостола Пав-
12
ла о том, что «сеется тело животное, восстает тело духовное»
(1 Кор. 15: 44). Непосредственно перед этим он говорит: «И
когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое
случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как
хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же
плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у
рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная
слава небесных, иная — земных» (15: 38—39). Как объясняет
апостол в том же тексте, чуть ниже: «Говорю вам тайну: не все мы
умрем, но все изменимся» (15: 51).
Эвфонически перекликающийся с Оригеном Иоанн Скотт
Эриугена имел довольно сходные представления об иллюзорной
телесности всего живого, направляющегося, однако, согласно
ему, в «вечный огонь» Конца Времен. Как пишет В.В. Петров,
«согласно Иоанну Скотту, возвращение человеческой природы
и всего видимого мира к своему истоку начинается с воскресения
человеческого тела. Как пишет сам Иоанн, «рассуждая о
возвращении чувственного творения, разве мы не говорим о
воскресении тел? Возвращение это не что иное как восстановление, ведь
воскресение из мертвых это возврат к естественному
состоянию»20. Не все тела подвержены проклятию Последнего пожара:
вслед за Августином Эриугена готов полагать, что, «когда святые
сделаются бессмертными и нетленными, даже сам огонь
пожара им более не будет страшен, поскольку их новые тела будут
неподвластны пламени, ведь в мировом пожаре свойства
тленных элементов нашей субстанции уничтожатся и изменятся так,
чтобы соответствовать телам бессмертным»21. Для Эриугены
важна дифференциация и обособление святых (праведников) от
безблагодатного месива «грешащих человеков», неверно
распоряжавшихся своими плотскими телами. Согласно Иоанну
Скотту, после воскресения тела праведников станут эфирными, а тела
грешников — воздушными22. Как замечает далее российский
исследователь, «заявив о возможности для тела измениться в
бестелесное, Эриугена не удовлетворяется ссылкой на авторитеты
и пытается обосновать это положение рационально. <...> он
пробует ввести между телом и бестелесным промежуточную
реальность... Иоанн Скотт ограничивается троичной схемой,
постулируя существование "тела", "бестелесного" и промежуточной
"телесности". Эта триада именуется tertiana proportionalitas, т. е.
"троичная пропорциональность", а средний термин, —
соответственно, proportionabilis medietas, "пропорциональная середина".
"Телесность" не будучи ни телесным, ни бестелесным,
воспринимается, однако, только в связи с телами circa corpora intelliguntur.
13
"Тело" может быть физическим или геометрическим;
"бестелесное" не имеет пространственного протяжения (таковы "душа",
"причины тварного", "жизнь"); "телесность" — это некий
атрибут тела, некое "качество" (например, цвет, телесная форма
тела), это свет, либо лучи зрения, либо первоэлементы. <...>
"Телесное", а также бестелесное духовное и эфирное способны
проницать другие тела и всё, что лежит в сфере их досягаемости»23.
Сходство между физикой тела и словесной природой
испокон веков находилось в центре внимания древнегреческой
культурной философии. Сближение «тела» («вещи») и «слова»
осуществляется на уровне «создания» (= наречения, именования),
что исходит в эманационном смысле от Создателя всей
природы, от Вседержителя-Демиурга, который использует
непознаваемо-универсальный принцип подражания. Значимый вопрос в
данном контексте: как происходило подражательное
зарождение первых слов-тел, созываемых или «создаваемых» неким
«мудрым законодателем»? «<С>читали ли стоики, что подобное
подражание вещам происходит при возникновении "первых
слов" спонтанно24 или же, согласно теории "речевого жеста",
изложенной в платоновском "Кратиле" (422e—427d), сходство
между звуком и явлением постигается мудрым законодателем,
который затем использует соответствующие звуки при
создании слов»25.
Стоит вспомнить в этом контексте также и о трактате,
написанном, как замечает П.П. Гайденко, «в кругу Фомы Аквин-
ского»: «De natura verbi intellectus» («О природе слова,
порождаемого интеллектом»), где, в частности, говорится: «<...>
слово по своей природе в большой степени согласуется с вещью, о
которой сказывается слово, чем с говорящим, хотя оно и
находится в самом говорящем как в субъекте. Ведь всякая вещь
обретает природу от того же, от чего принимает вид и получает
имя, ибо вид — это природа вещи вся целиком. Слово же
получает вид от вещи, о которой оно сказывается, а не от
говорящего, за исключением того случая, когда он говорит о себе. Так,
слово для камня отличается по виду от слова для осла; но
слово, высказанное разными людьми об одной и той же вещи, —
одно и то же по своему виду»26.
Хочется верить, что настоящий сборник, несмотря на
довольно существенный разброс тем представленных в нем статей
послужит очередным вкладом27 в дело осмысления и
интерпретации вышеизложенных изначальных вопросов, группирующихся
вокруг стратегических доминант «тела», «текста» и — как
важнейшее следствие этих двух — бурного «эроса человека» (в эсте-
14
тическом, экстатическо-религиозном, социальном или мета-
структуральном = семиотическом типе аналитических описаний).
Текст человека, т. е. понимаемый в смысле Ю.М. Лотмана
«культурный текст» (будь то художественный элитарно-вербальный
экзерсис, кинофильм или блатная татуировка) является, по
убеждению авторов представляемого издания, прямым
следствием соматической идентичности, интенционально или
случайно производящейся в доступной вниманию окружающих форме.
Решать же краеугольную дилемму «истины/неистины», с
упоминания о которой мы начали наше рассуждение, предстоит
всякий раз каждой работе в своей, присущей лишь ей партику-
лярности. Как можно легко заключить из Содержания, в
настоящей книге имеются некие «узловые» топики (например, Андро-
гин), имеется «общий ландшас]эт», его лагуны, имеется вводная
часть (представленная позиционной статьей Леонида Геллера и
весьма важной (не имеющей аналогов в русском
структурализме) фундаментальной работой Дениэла Ранкура-Лаферьера.
Завершает сборник* элегантное «лингвистическое»28
размышление Михаила Эпштейна, призванное сообщить
необходимый флер йодистой иронии всему референтному
факультативу, явленному на предстоящих страницах.
Денис Иоффе
Университет Амстердама,
Королевство Нидерланды.
Декабрь 2006 г.
Примечания
1 На сегодняшний момент существует поистине необозримое
количество работ, посвященных феномену человеческого «тела» —
исследований, работающих на ниве разнообразных 'Cultural studies'. См.
для некоторых примеров: Shilling, Chris. The Body in Culture,
Technology and Society. L.; Thousand Oaks (CA): SAGE Publications, 2005; Idem.
The Body and Social Theory. L.; Thousand Oaks (CA): SAGE
Publications, 2003; а также: The Body in Human Inquiry: Interdisciplinary
Explorations of Embodiment / Eds. Berdayes Vicente, Esposito Luigi,
* В целях соблюдения по возможности большей гетероглоссной
самостоятельности каждого из участников издания было решено не унифицировать
научный аппарат и библиографию, предоставив каждому свободу выбора в
оформлении референций. Единственное необходимое требование сводилось
к абсолютной конгруэнтности каждого из подходов: единожды выбранный
библиографический способ описания обязан соблюдаться на протяжении
текста всей статьи.
15
Murphy John W. Cresskill (NJ): Hampton Press, 2004; Fontanille, Jacques.
Soma & sema: figures du corps. P.: Maisonneuve & Larouse, 2004; Aho,
James Alfred. The Orifice as Sacrificial Site: Culture, Organization, and the
Body. N.Y.: Aldine de Gruyter, 2002; Cranny-Francis, Anne. The Body in
the Text. Carlton South: Melbourne University Press, 1995; Judovitz, Dalia.
The Culture of the Body: Genealogies of Modernity. Ann Arbor: University
of Michigan Press, 2001; Textual Bodies: Changing Boundaries of Literary
Representation / Ed. Lori Hope Lefkovitz. Albany: State University of New
York Press, 1997. Интересна и книга Элизабет Гросш, занимающаяся
общими вопросами корпореальности в современном культурном
анализе: Grosz, Е. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Blooming-
ton: Indiana University Press, 1994. Стоит упомянуть и вышедшую
после смерти автора ценную компаративистскую книгу, описывающую
интерес к «плоти» в Новой истории Европы: Porter, Roy. Flesh in the Age
of Reason / Foreword by Simon Schama. N.Y.: W.W. Norton, 2004.
2 См.: Байбурин А. Заметки к теме Слово и тело // Тело в русской
культуре: Сб. ст. / Ред.-сост. Г. Кабакова, Ф. Конт. М., 2005. С. 102.
3 См. для первого примера ценную работу Андрея Топоркова,
суммирующую многолетние изыскания ученого: Топорков A.A.
Символика тела в русских заговорах XVII—ХУШ веков //Тело в русской
культуре. С. 131-147.
4 По контрасту с его «темницей» у Фредерика Джеймисона.
5 Байбурин А. Указ. соч. С. 106.
6 Там же. С. 107.
7 См.: Утехин И. К семиотике кожи в восточнославянской
традиционной культуре//Тело в русской культуре. С. 119—130.
8 Там же. С. 122.
9 См.: Петров В.В. Учение Оригена о теле воскресения в
контексте современной ему интеллектуальной традиции // Космос и душа:
Учения о вселенной и человеке в античности и в Средние века / Общ.
ред. П.П. Гайденко, В.В. Петров. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 590.
10 Упомянем самые блестящие, на наш взгляд, ее экспонаты на
российской почве: Быховская ИМ. Homo somatikos: аксиология
человеческого тела. М.: Эдиториал УРСС, 2000; Мазалова Н.Е. Состав
человеческий: Человек в традиционных соматических представлениях
русских. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. (Ethnographica
Petropolitana); Кабакова Г. И. Антропология женского тела в
славянской традиции. М.: Ладомир, 2001. (Русская потаенная литература).
11 См. для начала: Heimerl} Theresia. Das Wort gewordene Fleisch: die
Textualisierung des Körpers in Patristik, Gnosis und Manichäismus.
Frankfurt am Main; N.Y.: Peter Lang, 2003; BeDuhn, Jason David. The
Manichaean Body: In Discipline and Ritual. Baltimore (MD): The Johns
Hopkins University Press, 2002. Стоит упоминания в контексте роли
телесности в религиозно-социальных практиках поздней античности
и влиятельная монография Питера Брауна: Brown, Peter Robert Lamont.
The Body and Society. N.Y.: Columbia University Press, 1988.
12 См.: Петров В.В. Указ. соч. С. 577.
16
13 См. соображения Владимира Баранова в интересной статье:
Баранов В. Византийские учения о воскресшем теле Христа и их позднеан-
тичные параллели // Эсхатологический сборник / Отв. ред. Д.А.
Андреев и др. СПб, 2006. С. 98-108.
В силу ограничений формата мы не имеем возможности
углубиться во все важные аспекты развития эсхатологических идей на
российской почве, оперирующих тематикой «воскрешения из мертвых» в
контексте Владимира Соловьева, Николая Федорова, биокосмистов и
др, — как остаются за пределами нашего разговора и
эсхатологические настроения всего Серебряного века как такового (что, в частности,
включает в себя эсхатологические трактаты Дмитрия Мережковского
и Василия Розанова).
14 Петров В.В. Указ. соч. С. 578.
15 Речь идет (в аллюзивном плане) о контексте системы взглядов
эсотерического иудаизма, концентрирующихся на мистико-экстатиче-
ских текстах-видениях так называемой «традиции Гехалот».
«Колесница», о которой говорит Ориген, это, надо полагать, иудейская ивритс-
кая огненная «Меркава». См. об этом стандартное фундаментальное
исследование Давид а-Иоэля Гальперина: Halperin, David J. The Faces of
the Chariot: Early Jewish Responses to Ezekiel's Vision. Tübingen: J. C.B.
Mohr, 1988. (Texte und Studien zum antiken Judentum. Vol. 16). См. и
другие важные книги на эту тему, напр. из той же серии тюбингенско-
го издательства «Mop»: Kuyt, Annelies. The 'Descent' to the Chariot:
Towards a Description of the Terminology, Place, Function, and Nature of
the 'Yeridah' in Hekhalot Literature. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1995. (Texte
und Studien zum antiken Judentum. Vol. 45). Стоит упоминуть и
монографию Итамара Грюневальда: Gruenwald, Ithamar. From Apocalypticism to
Gnosticism: Studies in Apocalypticism, Merkavah Mysticism and Gnosticism.
Frankfurt am Main; N.Y.: P. Lang, 1988. (Beiträge zur Erforschung des Alten
Testaments und des antiken Judentums. Bd. 14). См. также в контексте
призрачного эфирно-светового тела и особой «шаманистической»
связи между еврейской мистикой и медиумическим призыванием
Божества интересную монографию британского ученого Джеймса Давиды:
Davila, James R. Descenders to the Chariot the People Behind the Hekhalot
Literature. Leiden: Brill, 2001. (Supplements to the Journal for the study of
Judaism. Vol. 70) [Примеч. Д.И.)
16 См.: Петров В.В. Указ. соч. С. 579.
17 О теле воскресения по Оригену см.: Bostock D.G. Quality and
Corporeity in Origen // Eds. Crouzel H., Quacquarelli A. Origeniana
secunda, Second Colloque internationale des études origéniennes, Bari 20—
23 sept. 1977. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1980. P. 323-337. (Quaderni di
'Vetera Christianorum'. Vol. 15) [Примеч. В.В. Петрова.)
18 Петров В.В. Указ. соч. С. 579.
19 Цит. по: Там же. С. 583.
20 Цит. по: Петров В.В. Тело и телесность в эсхатологии Иоанна
Скотта//Там же. С. 634—635.
21 Цит. по: Там же. С. 649.
2 Заказ Л» К-7531
17
22 «Corpora sanctorum in aetheream mutabuntur qualitatem impiorum
uero corpora in aeream qualitatem transitura» (цит. по: Там же. С. 652).
23 Цит. по: Там же. С. 694.
24 Даже спонтанное возникновение подобия стоики должны были
расценивать как проявление рациональной природы человека, а не
как почти физиологическую реакцию, постулируемую эпикурейской
теорией. [Примеч. В. В. Петрова.)
25 См.: Берлинский A.A. Учения Диодора и Витрувия об
установлении имен и их место среди эллинистических теорий возникновения
языка // Берлинский А.Л. Античные учения о возникновении языка.
СПб.: СПбГУ, 2006. С. 88.
26 См.: О природе слова... //Космос и душа. С. 762.
27 Как внушала много лет тому назад одна довольно немолодая
дама, профессор средневековой истории, своим студентам и
аспирантам, в числе коих был и автор этих строк: «Следить за горением
фонаря — вот наша задача. И не беда, что фонарь каждого из вас
освещает лишь небольшое, насколько хватает ваших сил,
"тематическое" пространство вашей скромной работы. Главное в другом. В том,
что лишь посредством увеличения наличия таких фонарей общая
картина знания становится более ясной, а темнота невежества будет
отступать в более отдаленные углы».
28 Помимо пионерского исследования Бориса А. Успенского
(Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии //
Semiotics and the History of Culture (OH), 1988. P. 197—302) здесь,
вероятно, стоит также упомянуть поистине титаническую и подвижническую
работу, которую осуществляет Алексей Плуцер-Сарно в деле
каталогизации и дальнейшего осмысления всего комплекса русской бранной
лексики на протяжении ее исторического развития. См. его
блистательную и немало нашумевшую монографию: Плуцер-Сарно А. Материалы
к словарю русского мата: Опыт построения справочно-библиографи-
ческой базы данных лексических и фразеологических значений слова
«хуй» (19 значений, 9 под значений, 9 оттенков значения, 23 оттенка
употребления слова «хуй», 523 фразеологические статьи, в которых
представлено около 400 идиом и языковых клише и более 1000
фразеологически связанных значений слова «хуй»). М.: Лимбус-пресс, 2001.
См. также составленный им каталог: Библиография словарей
«воровской», «офенской», «разбойничьей», «тюремной», «блатной», «лагерной»,
«уголовной» лексики, изданных в России и за рубежом за последние два
столетия^Логос. 2000. № 2. И, кроме этого, напр., такую его небольшую
работу: Матерный словарь как феномен русской культуры // Новая
русская книга. СПб., 2000. No 2. С. 74—80. Неплохая библиография по
данному вопросу содержится также в изд.: Мокиенко ВМ. Русская бранная
лексика: цензурное и нецензурное // Русистика. Берлин, 1994. № 1/2.
С. 50—73. Но все эти списки с головой перекрываются
«Библиографическим указателем словарей и другой справочной литературы, содержащей
русскую обсценную и воровскую лексику», составленным Л.В.
Бессмертных и опубликованным в составе изд.: «Злая лая матерная...» / Сб. ст.
18
под ред. В.И Жельвиса. М., 2004. С. 572—640. Дело дальнейшего
«размывания» границ «лексически допустимого» и «литературно-возможного»
получило фундаментально важный импульс благодаря недавнему
текстологически безупречному и научно выверенному критическому изданию
лицейской баллады А. С. Пушкина «Тень Баркова: Тексты.
Комментарии. Экскурсы» (М.: Языки славянской культуры, 2002),
осуществленному московскими учеными филологами М.И. Шапиром и И.А. Пильщи-
ковым. Авторство A.C. Пушкина в отношении данного (во многом
нецензурно матерного) текста можно считать однозначно и позитивно
установленным — как, в частности, заявил на докладе 10 марта 2004 г.,
в Институте Высших гуманитарных исследований (ИВГИ) при PI ТУ
академик РАН В.Н. Топоров в прениях по докладу И.А. Пильщикова
и М.И. Шапира «Еще раз об авторстве баллады Пушкина Тень
Баркова: новые аргументы».
2*
ш
Локу
сЫ описания
К постановке проблемы
изучения эротических координат
культуры
m
Леонид M. Геллер
В ПОИСКАХ
«НОВОГО МИРА ЛЮБВИ»
Русская утопия и сексуальность1
Рискнем утверждать: в любой настоящей утопии кроется
утопия сексуальности. Это происходит благодаря двум
причинам: во-первых, утопия должна подчинить себе
индивидуальные страсти — угрозу тому общему порядку, который она
стремится установить, — и, во-вторых, она должна заботиться о
своем воспроизведении, чтобы продолжаться во времени. В
самом деле, большая часть утопий, достойных своего имени,
занимается, подчас с большим рвением, упорядочиванием
отношений между полами.
Так же это происходило и в России. Конечно, утопические
тексты, точно соответствующие канону, заданному знаменитой
книгой Томаса Мора, появляются на Руси относительно поздно
и на протяжении долгого времени остаются явлением
достаточно редким (см. об этом прекрасные книги и статьи А.И. Клиба-
нова и К.В. Чистова). Однако русскую культуру всегда
оживляло мощное дыхание утопизма, и во многих текстах, как
древних, так и современных, в их эпизодах, фрагментах, намеках
мы обнаруживаем миры несравненно более справедливые,
более счастливые или более свободные, нежели тот, что нас
окружает, — миры мечтаний, которые, за неимением более точного
термина, мы назовем утопическими и о которых здесь пойдет
речь.
Уже полуфантастические рассказы об Индии, популярные в
средневековой Руси и читавшиеся старообрядцами еще в ХЕК
веке, содержали сведения о наиболее оптимальном способе
зачатия: они побуждали следовать примеру мудрецов брахманов и
23
регулировать половые отношения в соответствии с лунным
календарем.
Православное христианство предлагало свое собственное
видение проблемы. Один из первых русских рассказов о
большой любви и в то же время одно из первых изображений более
совершенного общества — «Повесть о Петре и Февронии»,
написанная монахом Ермолаем-Еразмом в XVI веке,
рассказывает о счастливом правлении князя, женившегося на простой
крестьянской девушке; их любовь преодолела все перипетии и
вознесла их на вершины святости, но, что главное, именно
любовь научила их заботиться о благе всех своих подданных2.
Любовь к Богу и любовь к ближнему оказываются
скрепленными взаимной любовью двух существ: на протяжении
нескольких веков русский Эрос будет воплощаться в институте
православной семьи, а также в семейной жизни, тщательно
регламентируемой Церковью.
Отметим, что, несмотря на осуждение плотских грехов, на
запрещение гомосексуализма или скотоложства, установления
Православной Церкви представляются менее строгими, чем на
Западе, особенно если говорить об их реальном выполнении3.
Такая относительная терпимость могла бы отчасти объяснить,
почему в условиях, когда утопия в собственном смысле слова
появилась в России, около середины XVTQ века, и когда она
набрала силу, в начале XIX, вопросы сексуальности приобрели для
русских авторов, по-видимому, не столь острый характер,
нежели политические и социальные проблемы. Чувственность,
физическое влечение, женская красота находят свое место на
страницах произведений реформатора-монархиста князя Михаила
Щербатова («Путешествие в землю Офирскую», 1775),
ретрограда Фаддея Булгарина («Странствование по свету в двадцать
девятом веке», 1829), славянофила Владимира Соллогуба
(«Тарантас», 1845). Вместе с тем все эти утопии отстаивают семейные
добродетели, напоминая о тех выгодах и удовольствиях,
которые можно из них извлечь. Процитируем отрывок из утопии
масона Василия Левшина (1784), где герой Нарсим путешествует
по Луне и описывает идеальное государство. Он попадает во
дворец, принадлежащий одному из старейшин «лунатистов»:
Какое явление! Двери боковых храмин мгновенно растворились;
тысячи красавиц выходят из оных. Скромность добродетели, соединенная
с прелестьми невинности, сияет на их лицах. Простота одежд, едва
скрывающая то, чем природа украшает пол сей, придает им еще более зараз.
Каждая из них приносит и поставляет на стол два блюда, провождаемая
детьми своими, держащими сосуды с соками плодов и водою. <...> Каж-
24
дое семейство занимает места свои в восхитительном порядке; чета
друзей по сторонам с залогами любви своей наполняют теряющийся в глазах
длинный ряд столов; тишина владычествует посреди множества; всяк
вкушает приготовленное руками своей дражайшей. [Нарсим] грезит, что
находится на острове небесной Венеры, где он не видит (никого), кроме
счастливых любовников4.
И Левшин восторгается трогательной нежностью
старейшины к его супруге, как и он, почтенного возраста: «<...> сердца их
спорили еще противу увядающей природы».
В пору становления русской фантазии о лучших мирах
Владимир Одоевский был единственным, кто предсказал («4338-й
год», 1840), что в будущем, когда человек, покинув землю,
отправится в космос, ему надо будет изменить, вместе с другими
институтами, также институт семьи. Тем не менее писатель не
проясняет своей мысли.
Вплоть до того времени утопия, достаточно умеренная в
вопросах пола, как будто вполне соответствует расхожим
идеям о целомудренности русского Эроса.
Процитируем, однако, великого специалиста наук
утопических и сексуальных:
Я не знаю ничего более замечательного, нежели ассоциация
московитов <...>, которую они называли физическим клубом. Участники
(посвященные) впускались знавшим их в лицо распределителем, раздевались в
специальном кабинете и входили голые в зал, где было темно и где
каждый орудовал на ощупь, наугад, не зная, с кем ему приходится иметь
дело5.
Вдохновляясь этим русским примером, Шарль Фурье —
цитата принадлежит именно ему — будет представлять такие
«ангельские оргии» как главную составляющую жизни в
будущей Гармонии. «Физический клуб», о котором у него идет речь,
действительно существовал в Москве в середине XVIII века.
Интересно отметить, что практика клуба, как и оргиастические
обряды, которым предавались на другом полюсе общества
сектанты (из их среды со временем выйдет роковой Распутин), как
кажется, никак не повлияли — ни положительно, ни
отрицательно — на русских утопистов. Словно дожидаясь ответного
влияния, они заинтересуются сексуальностью гораздо позже,
следуя за Фурье, который в очень значительной мере
определил атмосферу 1840—1860-х годов в России.
Виссарион Белинский был первым, кому будущее
представлялось в виде утопии любви:
<...> и настанет время <...> когда не будет бессмысленных форм и
обрядов, не будет разговоров и условий на чувство, не будет долга и обя-
25
занностей, и воля будет уступать не воле, а одной любви; когда не будет
мужей и жен, а будут любовники и любовницы, и когда любовница
придет к своему любовнику и скажет: «Я люблю другого», любовник ответит:
«Я не могу быть счастлив без тебя, я буду страдать всю жизнь, но ступай
к тому, кого ты любишь»0.
Установленная Белинским связь между тремя различными
требованиями — эмансипацией женщины, свободной любовью
и социализмом — вскоре превратится в догму для всех русских
радикалов, начиная с народников и кончая марксистами.
Властитель дум 1870-х годов, Петр Лавров будет даже считать
одной из особенностей русского рабочего движения то, что оно
в какой-то своей части связано с женским вопросом7.
«Нигилисты» 1860-х годов старательно экспериментируют,
утверждая новые нравы, равенство полов, свободную любовь.
От этих «шокирующих экспериментов» история и литература
сохранили мифический образ фанатичных девушек в мужской
одежде с коротко стриженными волосами и темных очках, и в
виде канонического примера — память о коммуне, основанной
в Петербурге писателем Василием Слепцовым.
Самый известный «нигилистический» роман, «Что делать?»
(1863) Николая Чернышевского, построен как иллюстрация к
процитированным выше словам Белинского8. Как известно,
центральный символический персонаж романа — женщина,
вступившая на путь эмансипации. Заимствуя мысль Фурье о
том, что развитие общества измеряется по месту, какое в нем
отводится женщине, Чернышевский разворачивает перед
читателями свое видение человеческой истории: эра Астарты,
отмеченная чистой и животной чувственностью; эра Афродиты с
культом красоты женщины — пассивного объекта; эра
девственной Прекрасной Дамы, образа духовности; эра рабства.
Наконец, наступает эпоха рождения свободной женщины —
женщины, которая одновременно чувственна, прекрасна,
одухотворена и активна. Она является героине во сне. Глава, посвященная
этому сну, рассказ в рассказе, представляет собой настоящую
социалистическую утопию. В ней люди живут в роскошных
фурьеристских фаланстерах, чтобы вместе работать и
свободно любить друг друга. Однако не будем забывать:
Чернышевский — далеко не Фурье. Свободная любовь, царящая в
Хрустальном дворце, декларируется, но почему-то не описывается.
Сопоставив черновики романа с окончательной редакцией, мы
видим, что из последней автор исключил добрую половину
фраз, посвященных эротическим досугам обитателей
Хрустального дворца9. Тем же взмахом пера Чернышевский исклю-
26
чает описание вкусных блюд, которые там должны были
подаваться; в конечном счете все плотские наслаждения оставались
несколько подозрительными в глазах бывшего семинариста.
Причем любопытно, что роман окрашен некоторым
гомосексуальным эротизмом10, который, не находя прямого
выражения, всё же несколько нейтрализует преувеличенное
восхваление женщины.
И еще один элемент противоречит культу любви в романе:
«идеальный Новый Человек» Рахметов оказывается аскетом,
отказывающимся от сексуальности во имя великого дела.
Перенесенные в нарративный план плотское наслаждение и
культ феминности, свободная любовь и общественный долг
открыто не сталкиваются друг с другом в романе
Чернышевского. Другие авторы осознавали неизбежность и, возможно,
неразрешимость этих конфликтов. Уже Тургенев в «Отцах и
детях» (1862) отказывает своему герою «нигилисту» в
способности любить и иметь детей: он интересен женщинам, даже сам
влюбляется, но в конце концов избирает аскезу и одиночество.
Более глубокие интерпретации проблемы сексуальности
были предложены в конце XIX века двумя философами,
которые, хотя сами и не создали утопий в настоящем смысле слова,
лучше, чем кто бы то ни было, воплощали русское утопическое
мышление — это Владимир Соловьев и Николай Федоров.
В конце жизни Соловьев напишет пророческую книгу о
современном Апокалипсисе, своеобразную эсхатологическую
антиутопию11. Однако на протяжении многих лет он не утратит
надежды на универсальную гармонию, пытаясь найти тот путь,
который позволил бы ее обрести блуждающему в потемках
человечеству. Напомним общеизвестное: философ утверждал,
что человек, обладая той же субстанцией, что и Богочеловек
Христос, может стремиться к преображению, через которое он
воссоединится с Богом, то есть станет Человекобогом. Соловьев
полагал, что теократическое правление, объединив
человечество, сумеет разрешить социальные и политические проблемы,
которые он рассматривал, конечно, как второстепенные по
отношению к вопросам духовного порядка, но к которым
относился с крайней серьезностью. Для нас здесь существенно то,
что эротизм составлял часть тех важных проблем, над
которыми размышлял Соловьев. Преклоняясь перед красотой Мира
и следуя за теософической традицией, идущей от Якоба Бёме,
Франца Баадера, Шеллинга, он видел в христианстве учение о
любви к Божественной Мудрости, Софии. Этот мистический
эротизм находит свое продолжение в размышлении об эротиз-
27
ме человека, теме, к которой и обращается главным образом
Соловьев в своем произведении «Смысл любви» (1892—1894)12.
Каждый человек, пишет философ, заключает в себе образ
мирового единства, но он замыкается в своем эгоизме, пытается
самоутвердиться, не считаясь с Другим, и тем самым лишает
смысла свое собственное существование. Только любовь
между мужчиной и женщиной может сделать так, что Другой
будет находиться в центре мира, и это позволит человеку
утвердиться в Другом и, таким образом, преодолеть свое
одиночество. Ни мистическая любовь к Богу, ни материнская любовь,
ни любовь к родине или человечеству не могут удовлетворить
двум условиям, необходимым, чтобы выйти за пределы себя
самого: во-первых, это равенство и взаимодействие между
субъектом и объектом любви, а во-вторых —
взаимодополняемость того, что порождает их различие (по этой причине
гомосексуальная страсть не может быть настоящей любовью).
Половое влечение, таким образом, вовсе не является уловкой,
благодаря которой природа обеспечивает сохранение вида, но
ведет к союзу, который предвосхищает Великое Воссоединение
с Миром и Богом (в этом союзе мужчины и женщины акцент
ставится на духовном единении, физиологический же аспект
остается вне рассмотрения). «Софиология» Соловьева и его
метафизика Эроса оказали решающее влияние на
расцветавшую русскую философию 1900-х годов (Николай Бердяев,
Сергий Булгаков, Павел Флоренский разовьют различные аспекты
учения Соловьева) и на течение символизма, самые
выдающиеся представители которого, от Белого до Блока, взывали к
Вечной Женственности и любви во имя спасения человека. (См.
об этом работу Елены Григорьевой в настоящем издании.)
Позиция Федорова носит другой и, можно сказать, еще
более утопический характер. Как и Фурье, он отвергает
капиталистический мир и ту искаженную сексуальность, которая ему
присуща, но тем не менее он делает из своей жестокой
критики диаметрально противоположные выводы. По его мнению,
современная цивилизация подчиняется только императивам пола:
так, текстильная промышленность функционирует только для
того, чтобы производить одежду, которая, подобно птичьему
оперенью, делает возможной эротическую игру между людьми.
Эта цивилизация, сакрализирующая триумф женщины,
зовется «Прогрессом» на мирском языке, и «Падением» на языке
религии. Сексуальный вопрос исследуется Федоровым в
перспективе его философии «суперморализма». Обоснование последней
и составляет это загадочное «Общее дело» — грандиозный про-
28
ект, направленный на исполнение вживе замысла Божиего.
Человек призван подчинить мировой хаос Божественному
порядку путем победы над смертью — единственным подлинным
Злом в мире. Ставится задача физического воскрешения всех
поколений, когда-либо живших на Земле (частицы материи
обладают чем-то вроде памяти, поэтому, используя научные
приемы, можно воссоздать те конфигурации, которые частицы
образовывали в прошлом). Новое человечество, скрепленное
братскими узами и совместным почитанием предков, должно
объединить силы и совершить этот гигантский труд. Для
достижения цели сексуальная энергия, энергия рождения, должна
быть преобразована в энергию воскрешения. «Дело же
человека заключается в обращении всего рождающегося, само собой
делающегося — производящегося, а потому и смертного — в
трудовое и потому бессмертное».
Федоров отвергает принцип равенства полов. По его
мнению, стремиться освободить женщину от ее положения —
значит полностью игнорировать женскую природу. Юридическая
и экономическая жизнь, считает он, — это не подлинная жизнь,
а неизбежное зло, в рабстве у которого временно находится
человек; до сих пор женщина, и это гораздо лучше для нее,
оставалась в стороне от этой жизни: ее эмансипация, а значит,
и подчинение тому же самому рабству, предвещали бы конец
света. В своем проекте Федоров четко разделяет роли:
«Собирание рассеянных частиц есть вопрос космотеллурической
науки и искусства, следовательно, — мужское дело, а сложение
уже собранных частиц есть вопрос физиологический,
гистологический вопрос сшивания, так сказать, тканей человеческого
тела, тел своих отцов и матерей, есть женское дело». Проект
Федорова, одновременно логический и сюрреалистический,
предлагает и новое видение брака:
Не по взаимным влечениям, вводящим в обман, а по тем чувствам,
кои вступающие в брачный союз питают к родителям друг друга, может
быть решен вопрос о браке,
так как
<...> если жених не любит родителей своей невесты, а невеста —
родителей своего жениха, то прочного союза не может быть между ними по
той простой причине, что вообще по закону наследственности жених и
невеста в родителях друг друга могут приблизительно видеть то, чем они
будут в старости или зрелых летах, т. е. будущность друг друга13.
Побеждая смерть, эта утопия освобождается от
принуждения, о котором говорилось в начале статьи и которому подчи-
29
нены другие утопии: она больше не должна заботиться о том,
чтобы воспроизвести себя. Борьба с временем, неистовое
желание оживить прошлое приводят Федорова к отрицанию как
необходимости деторождения, так и влечения между
мужчиной и женщиной. Что остается сексуальности перед лицом
бессмертия, кроме как самоустраниться? Борьба против полового
инстинкта, устранение плотского наслаждения, уподобленного
смерти, целомудрие как путь к осуществлению утопии —
таковы следствия этого учения, находящего параллели в повестях
Толстого того же периода («Крейцерова соната», «Дьявол»,
«Отец Сергий»).
В этот период — рубеж веков и первое десятилетие XX века —
Эрос оказывается в центре философских, общественных,
художественных исканий. К влиянию, оказывавшемуся
произведениями Соловьева, Федорова и Толстого, надо добавить
иностранных авторов, тех, кто взялся расследовать тайны половой
жизни, — это Крафт-Эббинг, Вейнингер (его книга — чуть ли не
главный бестселлер «belle époque»), Хиршфельд, несколько
позже Гавелок Эллис и Фрейд. Русская публика испытывает к
ним страстный интерес. Подход к «сексуальному вопросу»
меняется под воздействием этих первооткрывателей, показавших
взаимодействие физиологии и психологии, определенную
неприменимость к индивиду общих норм, бесконечные варианты
поведения и сексуальных фантазмов.
В этом контексте надо упомянуть имя, без которого
невозможно ни одно, даже самое краткое, обсуждение «русского
Эроса», — имя Василия Розанова. Его иногда называют лучшим
русским писателем своего времени; он, безусловно, лучший писатель
среди русских философов. Его писания — уникальны; они
шокируют, с небывалой силой обнажая интимную сущность писателя.
Он писал больше телом, чем головой, и уже отмечалось, что
каждая из его мыслей не столько порождалась усилием
интеллекта, сколько переживалась как напряженное физическое
ощущение. Про себя он говорил, что был, возможно, не очень
одарен, но выбрал себе гениальную тему — сексуальность.
К этой теме Розанов подходит с большей свободой, нежели
кто-либо из русских писателей до или после него. Он заново
формулирует соловьевскую проблематику отношений между
религией и сексуальностью. Глубоко верующий человек,
Розанов вступает нередко в жестокую полемику с христианством,
повинном в том, что, разделив дух и тело, оно отдало
предпочтение первому. В древних религиях, главным образом в
иудаизме, который в одно и то же время привлекал философа и
30
отталкивал, Розанов ощущает более тесную связь между
божеством и кровью, телом, полом, деторождением; эта связь была
утрачена христианством. Идеал целомудрия, идеология
монашества, основополагающая аспермия христианства сделали его,
по словам Розанова, нечувствительным к теплу самой жизни.
В книге с поэтическим названием «Люди лунного света» (1911)14
Розанов специально занят вопросом пола. Сегодня сказали бы,
что он «сексист»: для него мужчина — сильный,
завоевывающий, твердый, женщина — мягкая, теплая, принимающая —
каждый соответствует образу своего полового органа. Но
мужественность и женственность (их архетипами являются «Творец
миров» и «Вечная Женственность», исторически наиболее
полно воплощенные в фигурах викинга и древнеегипетской
«священной проститутки») знаменуют собой два предела,
положительный и отрицательный, между которыми располагается ряд
натуральных чисел (8, 7, 1, 0, -1, -7, -8). По мере приближения
к нулю, черты одного пола ослабевают, к ним примешиваются
черты другого; мужчины становятся женоподобными,
женщины маскулинизируются (Розанов интерпретирует здесь идеи и
положения, почерпнутые им из книг Вейнингера и Крафт-Эб-
бинга). Так появляется гомосексуальная любовь. Она столь же
естественна, как тот физиологический закон, что
иллюстрируется рядом чисел. Будучи приверженцем традиционных
ценностей, Розанов не может в открытую восхвалять
гомосексуальность, но и не осуждает ее. Она интересует его в той мере, в
какой предоставляет ему такие факты, которые позволяют ему
выработать свое собственное видение человечества. В
соответствии со своим нонконформистским темпераментом, он
считает, что человеческие существа осознают самих себя, становятся
личностями, только нарушая нормы, навязываемые
коллективом (родом, племенем); оппозиция между полами и вытекающие
отсюда отношения «нормальны» и «нормативны».
Следовательно, нарушители — «люди лунного света» — те, кто
располагается на шкале около нулевой отметки и кого философ называет
то «содомитами», то «третьим полом», — имеют большое
значение для человеческой истории, ибо являются своего рода
закваской. Христианство относится к «третьему полу» (чтобы доказать
это, Розанов в большом количестве цитирует жития святых,
выявляя аскетизм христиан и их отказ от сексуальности) —
именно в этом состоит его обновляющая сила и главная слабость.
Розанов — образцовый отец семейства и прилежный муж; но он
хотел бы видеть возрождение священной проституции и орги-
астических обрядов тех, кто поклонялся Ваалу. Его мечта состо-
31
яла в том, чтобы привить к православной духовности этот культ
жизни и научить христиан такому же почитанию плодородия и
такому же глубокому уважению вопросов пола, какие он
ощущал в религии евреев. Можно ли назвать эту мечту утопией?
Она не носит систематического характера, присущего утопии, но
обладает ее главной чертой — стремлением отыскать средство,
которое было бы способно радикально улучшить мир.
Таковы главные вехи, размечающие в начале XX века
русское осмысление сексуальности: эротико-метафизический
универсализм Соловьева, надындивидуальный и антисексуальный
морализм Федорова и Толстого, плотский и мятежный эротизм
Розанова. При этом нельзя упускать из виду фактор,
существенный для каждого из этих мыслителей, а именно — национальную
православную традицию. Надо помнить и о «западническом»
полюсе русского культурного поля: о Белинском,
Чернышевском и социалистическом наследии. Всё это разворачивается на
фоне напряженных споров, которые ведутся и в
международном масштабе, — об эмансипации женщины, «сексуальном
вопросе» и «современных нравах».
Художественный модернизм питается этой атмосферой. Он
породит новые утопии; мы обнаружим в них многие из
знакомых нам идей (все изменения в утопиях не должны заставить
нас забыть об одном из фундаментальных качеств утопизма —
непрерывности его традиции).
Символисты начинают с того, что вдохновляются западной
декадентской эротологией (роковая женщина, инфернальная
любовь, вкус греха, запретные страсти, погоня за мимолетным
наслаждением). Но они быстро и умело переносят ее на
русскую почву. Несмотря на то что символисты резко
противостоят идеологии и эстетике радикалов 1860-х годов, иногда сами
они парадоксальным образом принимают схожую модель
поведения. Так, главная жрица символизма, Зинаида Гиппиус,
называет одну из своих программных книг «Новые люди» (явно
отсылая к Чернышевскому); ее персонажи преодолевают свою
заурядность, изобретая необычные любовные отношения.
Гиппиус сама охотно одевается в мужскую одежду, напоминая
этим женщин-«нигилисток», демонстрирует сексуально
амбивалентное поведение, практикует «брак втроем» со своим другом
Дмитрием Философовым и мужем Дмитрием Мережковским.
Пример окажется заразителен, и вскоре художественная среда
окрасится особенной свободой нравов. Так, вокруг Ремизова
создастся то, что можно было бы назвать кружком либертенов,
ярким представителем которого был и Розанов15. В моду вхо-
32
дят гомосексуальные связи. Михаил Кузмин пишет «Крылья»
(1907) — первый роман в русской литературе, открыто
посвященный гомосексуализму, и, вероятно, единственный, который
рассматривает его в утопическом ракурсе: эротическая
инициация молодого героя оказывается тем средством, которое
позволяет ему избежать бедной, серой действительности, приближая
к сверкающему миру эллинистических и платонических
идеалов. В то же самое время утопия эмансипированной женщины
завоевывает себе место как в теории, так и на практике.
Таково знамение времени: женщины играют исключительную роль
во всех областях и во всех направлениях модернистского
спектра—от Гиппиус, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой до
представительницы пластического конструктивизма Варвары
Степановой.
Конечно, существуют встречные течения. Так, Александр
Чаянов, рисуя наиболее категоричный вариант крестьянской утопии
в своем романе, действие которого происходит в 1984 году (ж!)16,
знакомит нас с женщинами будущего; эти красивые, крепкие
хранительницы семейного очага в национальных костюмах
сильно напоминают тех, что очаровывали
путешественника-славянофила у Соллогуба.
Интересно, что футуристы, самые яростные иконоборцы в
искусстве, в области сексуальных требований оказываются
наименее решительными. Утописты до мозга костей, когда
речь заходит о языке, коммуникации, отношениях между
искусством и обществом, они избегают открыто включать
сексуальность в поле своего зрения (Велимир Хлебников) или
довольствуются традиционными и даже мелодраматическими
ситуациями (Владимир Маяковский). Футуризму придется
ждать Пастернака и его прозу («Детство Люверс»), чтобы
бросить проницательный взгляд на Эрос; но тогда он уже перейдет
из утопического регистра в область поэтической интроспекции
и метафизики17.
В целом, однако, утопический роман быстро усваивает топо-
сы эмансипированной женщины и свободной любви. Жизнь
новой человеческой породы изображена в «Рае земном, или Сне
в летнюю ночь: Сказке-утопии XXVH века» (1903) Константина
Мережковского, брата поэта символизма (см. о нем недавнюю
монографию М.Н. Золотоносова, вышедшую в издательстве
«Ладомир»). В этой редкой в русской традиции
гедонистической утопии большинство человечества, управляемого кастой
наставников-стариков, состоит из молодежи, измененной
средствами евгеники и занятой лишь играми обольщения и немед-
3 'Заказ Л« К-7531
33
ленного удовлетворения всех, и прежде всего эротических,
желаний18. Сексуальность торжествует и в утопии Николая Оли-
гера «Праздник Весны» (1910), смешивающей очень фурьерист-
ский восторг перед телом и наслаждением плотью с картинами
сельского социализма и арт деко в духе Уильяма Морриса.
Общество, созданное жителями Марса и основанное на принципах
равенства, описано Александром Александровичем Богдановым
в «Красной звезде» (1908): это первая русская коммунистическая
утопия. Она допускает свободную любовь, но при этом не
упраздняет обычного брака. Желание, влечение стало более
рациональным; социальное равенство полов, достигнутое на протяжении
жизни многих поколений, привело к физиологическим
изменениям, при которых мужчин и женщин становится трудно
отличить друг от друга, по крайней мере наблюдающему за ними
герою-землянину: ему потребуется много времени, прежде чем
он поймет, что марсианин, каждое приближение которого
вызывало у него странное волнение, был на самом деле женщиной19.
Философ, теоретик «пролеткульта» Богданов вдохновляется
одновременно Марксом и Федоровым, Ницше и Ф.М. Тэйлором,
чья система «научной организации труда» открыла путь к
массовому промышленному производству. Богдановская утопия будет
уже утопией планирования. Внимание, которое она уделяет
детям, весьма велико: будучи свободным в своей любви, гражданин
планеты Марс тем не менее сознательно занимается
воспроизводством потомства.
Нетрудно догаться, какой процесс начался в произведениях
о будущем обществе: любовь и либидо будут всё более
рационализироваться, анализироваться, разъединяться и в конце
концов окажутся подчинены долгу. С революцией 1917 года,
открывшей путь воплощению утопий, этот процесс ускорится.
Ученик Богданова, воинствующий пролеткультовец Алексей
Гастев рисует в своих теоретических и художественных вещах
1918—1921 годов ужасающую своим экстремизмом картину
преображенного человечества. Занятый заводским трудом, всё
более современным и лучше организованным, коллективным
по своей сущности, человек-пролетарий будет тэйлоризирован,
механизирован и постепенно утратит индивидуальные качества,
чтобы раствориться в массе «трудовых единиц», обозначенных
номерами вместо имен. Государство будет нормализовывать и
контролировать его половую жизнь, как оно контролирует
профессиональную деятельность.
Знаменитая антиутопия Евгения Замятина «Мы» (1921) лишь
немногое добавляет к этой картине: мир изображен в ней отре-
34
гулированным с точностью часового механизма, в нем
обитают граждане-нумера, которые совокупляются только в
определенные часы, по записи, подчиняясь «нормам материнства и
отцовства» и сексуальному закону, Lex sexualis, гласящему, что
«всякий из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт
— на любой нумер»20. Будучи апокалиптическим предвидением
будущего, роман Замятина оказывается в то же время верным
свидетельством эпохи: во время революции реальность
стремится поспеть за утопией. Вот, например, какой декрет был
опубликован в 1918 году одним из местных советов:
С 18-летнего возраста всякая незамужняя женщина объявляется
государственной собственностью. <...> Она обязана зарегистрироваться в
Бюро свободной любви при Комиссариате призрения. После регистрации
ей предоставляется право выбора сожителя-супруга в возрасте от 19 до 50
лет. <...> Выбирать мужа или жену предоставляется желающим раз в
месяц. <...> В интересах государства мужчины в возрасте от 19 до 50 лет
могут выбирать женщин, зарегистрированных в бюро, даже без согласия
на то последних. Дети, происшедшие от этих связей, поступают в
собственность республики21.
Этот декрет, оставшийся без последствий по причине
чрезмерного радикализма, по духу совпадает с идеями не только
Гастева и пролеткультовцев, но и стоявших у власти
большевиков. Андрей Преображенский, один из партийных
руководителей, уточняет:
С точки зрения социалистической, является совершенно
бессмысленным взгляд отдельного члена общества на свое тело как на свою
безусловную личную собственность. <...> [надо допустить] полное и безусловное
право общества довести свою регламентацию до вмешательства в половую
жизнь для улучшения расы путем естественного отбора22.
Проблема будет поставлена и в научных терминах. Два
евгенических общества, одно из которых подчинялось
Комиссариату внутренних дел, другое — Академии наук, действуют с
1921 года, поддерживая тесные связи с западными
евгеническими обществами, в частности в Германии23. «Пролетарский»
генотип оказывается предметом углубленного исследования,
предусматривающего в конечном счете его возможное
улучшение. В ту эпоху подобные исследования не представляли собой
ничего необычного, они велись практически везде, но в данном
случае важно заметить, что «коммунистический человек» мог
вполне мыслиться как «новая раса» не только в социальном и
этическом, но и биологическом смысле слова. Это отношение
естественным образом поддерживалось той разновидностью
антиутопической традиции, которая предрекала капиталистиче-
35
скому миру биологическую катастрофу. Выражая в статье о
детской литературе умонастроение, общее для всей эпохи,
Максим Горький напишет:
Я совершенно убежден, что враг действительно существо низшего
типа, что это дегенерат, вырожденец физически и «морально». В этом
вопросе на моей стороне данные статистики роста преступлений, данные
психопатологии, сексуальных извращений — бесчисленное количество
фактов гнилостного разложения буржуазии «послевоенного» времени24.
Евгеническая утопия будет существовать вплоть до
тридцатых годов, чтобы потом смениться учением о вечно
совершенствующемся под благотворным влиянием социалистической
среды «homo sovieticus». Поддерживаемая селекционными
подвигами Мичурина, агрономическими откровениями Лысенко или
своеобразным языкознанием Марра, скрытая под
дарвинистской маской, эта неоламаркистская утопия составит
неотъемлемую часть сталинского мира.
Евгеника, это порождение современности, которая
связывает свои проекты социальных изменений с биологической
концепцией человека, верит, что найдет в культе здоровья
противоядие против «городов-спрутов», и поддерживает в себе
эллинистическую ностальгию, воскрешая олимпийское движение.
Великая социалистическая революция в этом вопросе не более
последовательна, чем само ее время. Очарованная в своей
пролетарской душе Электрическим Человеком, Машиной и
Мировым Заводом, революция не забывает возвести регулирование
тела на инсгитуциональньгй уровень и создает Высший совет по
физической культуре и спорту (под председательством
наркома здравоохранения Н. Семашко). Члены секций НОТ
(Научная организация труда) и тэйлористской Лиги «Время»,
руководимой Алексеем Гастевым и впоследствии переименованной
в Лигу НОТ, нередко оказываются в рядах широкого движения
натуристов и ассоциации «Долой стыд!», осуждающих ношение
одежды как буржуазный предрассудок.
Небольшая книга «Как жить по-новому. (Семья, любовь,
брак, проституция)» М. Щекина, изданная в 1923 году в
Костроме на средства автора, прекрасно иллюстрирует настроения
постреволюционной России. Вдохновленный чтением
классиков-утопистов, Беллами или Уэллса, воодушевленный верой в
коммунизм, автор описывает Землю, которую мировая
революция превратит в единый планетный город. Потрясающее
развитие воздушных, железнодорожных, морских и речных
транспортных средств, мощная сеть радио- и телекоммуникаций
сблизит различные континенты: житель Костромы будущего
36
сможет слушать концерт, который дают в Нью-Йорке, и
провести отпуск на вилле в Бразилии. Гастев и другие члены Лиги
пропагандировали идеи, что со временем все будут жить в
коллективных домах из стекла, окруженных парками и полями,
которые сольются в сплошной Сад Мира. С целью
предотвратить загрязнение окружающей среды машины будут
использовать электричество и атомную энергию. Жизнь коллектива в
этом мире будет всем, личная же будет иметь все меньше
значения. Дети будут воспитываться «в кооперативах»25. Можно
подумать, что мы читаем книгу Замятина, особенно когда автор
делится с нами своей уверенностью, что в будущем исчезнет
необходимость в отдельных комнатах: коллективистский человек
будет проводить свое время, спать, есть и работать в
специально отведенных для этого общих помещениях; чго касается
интимности, желательной в «известные часы любви», для нее
отведены особые места, называющиеся «садами наслаждений»26.
Короче говоря, книга эта — образец весьма пестрой смеси
классических утопических мотивов и пролеткультовских
лозунгов. Выделяется она, однако, своим восторженным
отношением к идеям евгеники и гигиены, которые детерминировали
многие начинания в областях урбанистики
(градостроительства), экологии, педагогики. Строгий «сексуальный отбор» под
контролем государства, медицинское обследование до брака,
запрет иметь половые отношения без соответствующего
сертификата о здоровье, регулирование сексуальной активности,
«телесные нормы» — всё это свидетельствует о том, что
революция пользуется всё теми же старыми утопическими рецептами.
И вот появляется чудодейственное средство, которое должно
предупредить упадок человеческой расы и обеспечить
всеобщее благосостояние — тотальный нудизм. Нагота должна
оздоровить нравы, сделать человека свободным, она позволит ему
покончить с болезнями и, главным образом с самым страшным
бедствием человечества, — венерическими заболеваниями.
Обязательная для всех нагота сталкивается с препятствием в
виде климата; для спасения от северной непогоды, с которой
хорошо знаком костромской утопист, он находит весьма
характерное решение: прозрачные одежды из стеклянного волокна.
Дело в том, что тело должно быть видимым, чтобы легко
обнаруживать свои дефекты и болезни, а также выставлять
напоказ свою красоту. Самыми же красивыми в человеческом теле
являются «лоб — эмблема того, чего достиг человек, и пол.
органы — эмблема творца этих достижений»27 (несколько
приблизительный стиль отмечен революционным «новоязом», влюблен-
37
ным в сокращения: половые органы оказываются тут «пол.
органами»).
Очевидно, что только свободная любовь совместима с такой
прозрачностью. Брак выльется, таким образом, в связь двух
или нескольких партнеров (автор разоблачает ложь
современного «парного» брака), чья свобода будет ограничиваться
только требованиями «здоровья тела и психики, выстроенного на
данных социологии и медицины»28.
Свободная любовь и строгая регламентация сексуальной
жизни находят здесь полное примирение благодаря логике той
революционной мечты, которую Замятин сумел уловить в ее
наиболее характерных проявлениях.
Доктрина свободной любви пользуется в
послереволюционные годы невиданной популярностью и поддержкой не только
со стороны провинциальных мыслителей или бурлящих низов.
Александра Коллонтай, воинствующая феминистка,
ответственный партработник, первый нарком социального
обеспечения, была и автором квазиутопических произведений29. Она
бросает знаменитый лозунг «Дорогу крылатому Эросу!» и
борется за окончательный отказ от традиционной морали. Ее
главный аргумент: страсть в ее прежнем понимании «изолирует
влюбленную пару от коллектива». Необходимо, таким образом,
принять такое поведение любящих существ, которое будет
коллективистским и тем самым окажется даже выше того,
которое осталось в наследство от буржуазной культуры.
Центральное понятие этой теории — «любовь-товарищество»,
основанное на «здоровом, свободном и естественном половом
влечении». Естественная сексуальность не знает запретов, и
Коллонтай, не колеблясь, допускает любые формы отношений,
даже самые неординарные, при соблюдении двух условий: они
не могут наносить вред будущему человеческой расы и не
могут строиться на экономических основаниях.
Либерализм удивительный. Он, правда, несколько теряет,
если внимательно читать произведения Коллонтай.
Действительно, ее героини легко вступают в многочисленные сексуальные
связи, но их мотивация, вместо того чтобы быть эмоциональной
или просто физической, имеет прежде всего идеологический
характер, поскольку, с точки зрения автора, смена сексуальных
партнеров следует прямо из основных задач рабочего класса.
И если эмансипированные женщины — «трудовые пчелы»! —
вовсе не привязываются к своим любовникам, они тем не менее
знают настоящую «любовную страсть». Вот, например, что
говорит наиболее характерная коллонтаевская героиня:
38
«Есть люди, которых я люблю — и как люблю <...> Вот, например —
Ленина... Вы не улыбайтесь. Это очень серьезно. Я его люблю гораздо
больше всех тех, кто мне нравился, с кем я сходилась. <...> Потом
товарища Герасима, вы его знаете? Секретарь нашего района. Вот это
человек... И вот его я люблю. По-настоящему. Ему я всегда готова
подчиниться, даже если он и не всегда прав, потому что я знаю, что намерения его
всегда правильны»30.
Итак, любовь-страсть целиком заполняет жизнь «новой
женщины» и мобилизует все силы ее души; но предназначена
она (любовь-страсть) партии и ее руководителям, более и менее
высокопоставленным. Из этого следует, что духовная и
эмоциональная энергия безнадежно отделяются от физиологии,
которая в данном случае выполняет вторичную, гигиеническую
функцию. Неизбежный результат таков: сексуальность
полностью стандартизируется, заниматься любовью значит
совершать простейшее, не имеющее никаких последствий действие,
как, например, выпить стакан воды. «Теория стакана воды»
имеет большой успех, вокруг нее на протяжении 1920-х годов
ведутся страстные споры, и еще в середине 30-х в
антисоветских кругах на Западе ставился знак равенства между
коммунистической идеологией и этой «теорией»31.
Одновременно в партии получает распространение
намного менее радикальная тенденция. Речь теперь идет уже не о
том, чтобы способствовать сексуальной революции, а о том,
чтобы призвать к порядку ее слишком рьяных сторонников.
Еще более, нежели сама Коллонтай, «консерваторы»
выдвигают идеологический аспект новой сексуальности. Нашумевшая
книга социолога и психолога (одного из основателей науки
«педология») Арона Залкинда «Революция и молодежь», изданная
Коммунистическим университетом имени Свердлова,
определяет пол как «биологическое орудие», которое класс использует
«для продолжения себя, своей борьбы в истории». Любовное
поведение революционной молодежи не должно уклоняться от
требований класса, вплоть до того, что половое возбуждение
должно вызываться не столько «физиологическими
прелестями» («усатая» мужественность, «классово бесплодная» женская
красота), сколько «классовыми достоинствами» партнеров»32.
Впрочем, для Залкинда, как и для Богданова, разница
между полами в новых условиях равенства постепенно сотрется.
Партийный законодатель согласен в этом отношении с
позицией Богданова и, что достаточно странно, с феминисткой
Коллонтай. Последняя написала следующее в своем наиболее
утопическом манифесте: «На место эгоистической, замкнутой се-
39
мейной ячейки, где все мужчины и женщины станут прежде
всего братьями и товарищами, вырастет большая всемирная
семья»33.
Женщины станут «братьями»? Просто ли это оговорка?
Тексты, о которых мы только что говорили, являются мало
или вовсе не литературными. Неудивительно, однако, что
утопические романы послереволюционной эпохи муссируют те же
основные идеи.
Нагота украшает молодежь в романе «Страна Гонгури»
(1918) Вивиана Итина и, наряду с вегетарианством, укрепляет
здоровье людей будущего в «Грядущем мире» (1930)
Эммануила Зеликовича. В романе «Через тысячу лет» В. Никольский
(1927) создает образ будущего, в котором живут люди, которые
в глазах восхищенных путешественников во времени походят
на Героев, воскрешенных Гомером: дело в том, что «начиная с
XXIII века, евгеника стала основой общественных
отношений»34, и слабые или больные больше не имеют права иметь
потомство.
Коммунистическое будущее, эллинизированное,
механизированное или то и другое одновременно, с энтузиазмом
принимает в литературе принцип свободной любви, главным образом
в виде эгалитаристской любви-товарищества35.
Так, «Грядущий мир» (1923) Якова Окунева представляет в
радужном свете ситуацию, похожую на замятинскую
антиутопию. Коммунизм утвердился на всей планете; семья исчезла,
как исчезли и преступления с несправедливостью; Мировой
Город берет на себя обязанности по воспитанию детей, в то
время как все его граждане «свободно сходятся и расходятся».
Ничто не препятствует этой свободе. И если случается так, что
первобытное чувство ревности охватывает кого-то из людей, то
«лечебница эмоций» располагает безупречным средством —
гипнозом. «Теперь вы просыпаетесь», говорит врач главному
герою романа, «вы больше не больны тоской по Евгении Мо-
ран». Герой призывает предмет своего вожделения при помощи
«идеографа» и «спокойно смотрит на экран. Она ничего не
тревожит в его душе»36.
Итак, мы констатируем, что дискурс свободной любви в
своем «утопическом воплощении» приводит к контролю над
влечениями, к их нормализации и, в конечном счете, к
устранению межличностных чувств и переносу аффективности на
идеологические объекты (Партия, Руководство и т. д.).
Некоторые писатели разоблачали ту опасность, которую
представляет для человека подобная amor rationalis.
40
Юрий Олеша в «Зависти» (1927) противопоставляет
нормализованным «новым людям» поэта, организатора последнего
«заговора чувств». Маяковский, после утопических порывов
«Летающего Пролетария» и «Пятого Интернационала»,
показывает нам в «Клопе» (1929) стерилизованное будущее с
иронической улыбкой. Но самой глубокой оказывается реакция Андрея
Платонова, выдающегося писателя, чья откровенность в
трактовке физиологии сближает его с Розановым, тогда как
своеобразная примитивистская интенсивность и
«сверхъестественность» его манеры письма напоминают о другом великом
художнике и утописте, живописце Павле Филонове37.
Творчество Платонова, носившее поначалу
научно-фантастический характер, представляет собой удивительное
соединение утопии и антиутопии38. Именно у Федорова, пламенным
последователем которого был Платонов, он почерпнул
существенные аспекты своего мировоззрения. Но писатель
ощущает свою связь и с другими утопиями: крестьянской,
пролеткультовской и, наконец, той реальной утопией, которую создал
Ленин. Тем не менее в 1920—1930-е годы Платонов в той или
иной степени констатировал трагический провал
коммунистического проекта.
Платоновские персонажи наивно и беспредельно верят в
Революцию. Они отрываются от родного очага, от своих
занятий и странствуют по России в погоне за своей хилиастической
мечтой. Чтобы преобразить город в Город Солнца, они
истребляют «буржуев» («Чевенгур», 1929)39.
В опустошенной голодом и «раскулачиванием» деревне они
возводят Дом Мирового Пролетариата («Котлован», 1931).
Напоминающие простаков из русских сказок, платоновские
герои стремятся построить коммунизм тут же и здесь же,
потом утрачивают свое прекраснодушие, а затем и полностью
проигрывают борьбу, сталкиваясь с «умными» идеологами и
вождями нормализованной Революции.
Нищие, странники со всех концов земли приходят в
Чевенгур, Новый Иерусалим, собираются вместе и заключают друг
друга в объятия, чтобы передавать друг другу слабое дыхание
жизни, которое еще одушевляет их истощенные работой,
нищетой и надеждой тела. К ним приезжают женщины, все
предаются любови, но в городе счастливых, воздвигнутом на трупах,
любовь бесплодна. Единственный ребенок умирает (как и в
«Котловане»). У двенадцати «апостолов», основателей
коммуны, нет жен — коммунары покинули их, чтобы создать утопию;
один из них влюблен... в Розу Люксембург, недавно погибшую
41
немецкую революционерку. Сохраняя, в отличие от
персонажей советских утопий, свое эмоциональное воодушевление,
коммунисты Платонова делят его между любовью к Идее и той
бесконечной нежностью, которую испытывают друг к другу40.
Платонов придает такое значение этой связи между
мужчинами, что в некоторых его произведениях можно увидеть зашис]>
рованное гомосексуальное послание. Действительно, в его
утопических произведениях женские персонажи встречаются реже и
обладают меньшей значимостью, в то время как герои
мужчины часто представляют собой «пары» друзей или врагов41.
Справедливо также и то, что в его произведениях
существует эротическое напряжение, никогда не разрешающееся и не
удовлетворяющееся в гетеросексуальном союзе. Можно,
однако, заметить, что иногда подобное напряжение возникает
между платоновским персонажем и камнем, деревом, лошадью:
мир Платонова долгое время был отмечен своеобразным пан-
эротизмом, делавшим объекты желания взаимозаменяемыми42.
В итоге та противоположность и взаимодополняемость
полов, о которой (в контексте теории андрогина) много говорил
Владимир Соловьев, утрачивает в мире Платонова свою
значимость. Зато, начиная с того момента, когда писатель уже совсем
расстается с утопией, он вводит в свои рассказы женские
персонажи, полные красоты, и любовь между мужчиной и
женщиной становится постоянным сюжетом. Как указывает М.
Геллер, для Платонова «отказ от «содомии» в розановском
смысле означает отказ от утопии»43.
Мы видели, что эта проблема возникает не только у
Платонова. Она имеет фундаментальное значение. Можно даже
считать, что свободная и эгалитаристская любовь между полами,
воспетая революционной утопией «нового человека»,
фактически развивается на почве гомосексуальности: это ощущается у
Чернышевского, об этом говорят нам и образы женщин,
превращенные в «братьев» под воинствующим пером Коллонтай,
именно это, согласно Вильгельму Райху, определяет жизнь
рабочей коммуны, которая служит в 1930-е годы прообразом
для передовых советских рабочих44. Не является ли
гомосексуальность тем самым субстратом, который Розанов выявил в
христианском монашестве и который ощущается в братском
морализме Федорова, Толстого и Платонова?
Гипотеза о гомосексуальности как неотъемлемой части
утопии является весьма соблазнительной, но, поскольку мы не
рассматриваем эту проблему ни с сексологической, ни с
психоаналитической точек зрения, оставим ее в стороне. Нам пред-
42
ставляется, что Розанов смешивает понятия, когда
превращает в синонимы термины «содомия» и «третий пол». Во многих
только что нами рассмотренных случаях мы обнаружили
установку, явную или, по крайней мере, наполовину осознанную, на
стирание различий между полами, призыв к единению
противоположностей, что символизирует человека высшего порядка
и, вне всякого сомнения, отсылает к великому мифу об андро-
гине (см. работы Мирчи Элиаде). Поэтому мы можем
сформулировать вопрос несколько иначе: не является ли утопия
«нового человека» по сути однополой? Не обозначает ли ее
стремление к совершенству, ее желание исправлять все ошибки,
включая ошибки природы, то же, что и стремление к унифор-
мизации, которая ведет к отмене всякого эротизма, всякого
влечения между противоположными полами и в конечном
итоге к введению бесполого размножения? Если это так, то в
романе «Прекрасный новый мир» О. Хаксли интуитивно уловил
идеальную схему этой утопии.
Угар революционных лет не переживет сталинскую «третью
революцию». Последний утопический роман, опубликованный
в 1931 году и немедленно обвиненный в троцкизме, «Страна
счастливых» Яна Ларри, знаменует собой поворот: в нем
говорится о любви единственной и высокой, которая только и
может соответствовать великим коммунистическим идеалам. Эта
позиция вскоре станет официальной. Новые законы, которые
принимаются начиная с 1935 года, восстанавливают семью в
качестве основной ячейки нового общества.
Сталинская литература изгоняет жанр утопического
романа. Она занимается описанием воображаемого, совершенного
мира: ее можно целиком рассматривать как один большой
утопический текст. В большинстве посвященных
социалистическому реализму исследований эта точка зрения разделяется.
Но что же, собственно, происходит с «половым вопросом» в
этой Большой Утопии? Известно, что в сталинском обществе
сексуальность была в большой степени задушена мелкобуржуазным
традиционализмом семейной жизни, абсолютно викторианским
пуританизмом, требующим, чтобы и мраморные статуи в
парках были прикрыты одеждой. Эта модель множество раз
противопоставлялась крайне свободной модели Александры Кол-
лонтай. Действительно, в сталинскую эпоху хороший коммунист
не менял своих партнеров (он не менял и завода или колхоза,
в чем, собственно, и заключалась система сталинского
закрепощения). Но такого рода автономия и единство подобной
укрепленной семьи вовсе не оказывались бесспорно гарантированны-
43
ми; напротив, эта «автономия» была подвержена
вмешательству извне, которое ее постоянно ослабляло: здесь стиралась
граница между семейной ячейкой и той большой семьей^
которую представляет из себя всякий социалистический коллектив.
Другое изменение по сравнению с революционной эпохой —
нечто вроде реабилитации некогда осуждавшегося образа жизни,
считавшегося буржуазным: герани, занавески, «изысканное»
поведение и манеры, которые так высмеивали пролетарские
писатели и возвращение которых знаменует восстановление
ценностей домашнего очага, частной жизни, накопления
имущества, порядка, благополучия, безопасности. Однако, если
этот образ жизни (который трудно было вести в так хорошо
всем известных коммунальных квартирах или в голодающей
деревне и который поэтому составлял привилегию касты власть
имущих) в какой-то мере и был совместим с допустимым
образом советской реальности, то те же самые привычки и
ценности продолжали выступать в качестве критерия для выявления
классового врага (например, в романах накрашенная женщина,
человек в дорогом костюме немедленно разоблачались как
шпионы, предатели и паразиты). Этот контрдискурс (не
говоря о сопровождавших его полицейских или административных
мерах) дестабилизировал, делал условными и ненадежными
ценности, о которых шла речь; тем самым они наполнялись
иным значением, чем в буржуазном обществе (исследователи,
проводящие аналогию между советским и западным
«буржуазным» стилем40, недооценивают разницу условий).
Таким образом, сталинский семейный канон ушел не очень
далеко от идеала 1920-х годов. Оба они объединены теми же
координатами: дискредитация физиологии в лишенной
значимости и содержания приватной сфере, переадресация
эротической энергии на идеологические объекты (любовь к вождю,
партии и Родине), опека ребенка коллективом, начиная с
самого раннего возраста (октябрятская, пионерская и
комсомольская организации; школы, кружки по интересам и т. д.),
унификация общественного, профессионального, политического
статуса, пренебрегающая половой дифференциацией (точно так
же диалектически преодолевались оппозиции между
физическим и умственным трудом, городом и деревней). Реальность
же была далека от провозглашенных целей — кухарка Ленина
едва ли могла рассчитывать на место среди руководителей
государства, социальная эмансипация женщины выражалась
прежде всего в ее участии в самых тяжелых работах, груз
семейных задач, возложенных на нее, только утяжелялся, но
44
цели сохранялись даже тогда, когда официальная пропаганда,
казалось, забывала о них. И литература напоминала об этом по-
своему. Так, в послевоенные годы, несмотря на активную
кампанию по повышению рождаемости, роман ждановской эпохи
продолжает воспроизводить утопию «аспермии», правда не
называя ее таким образом; мы встречаем в нем очень мало
изображений беременных женщин, сцен родов да и просто
самих детей; несмотря на полное исключение «сексуальных
отклонений», в поведении литературных персонажей, в словах
автора мы можем обнаружить следы латентной
гомосексуальности (или, как мы говорили, унисексуальности), функция
которой, возможно, здесь менее случайна и более структурна, чем
это может показаться46.
Сталинизм не порывает полностью с утопией «нового
человека» и свободной любви; он не может (или не хочет)
полностью предать забвению миф о Новом Человеке-андрогине47.
Только после смерти Сталина и XX съезда партии
литературная утопия, в традиционном смысле слова, вновь становится в
определенной мере возможной; непревзойденным образцом здесь
остается роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» (1956).
В разгар ждановской эпохи известному географу и
палеонтологу Ефремову удалось опубликовать сначала
научно-фантастическую повесть, посвященную путешествиям в космос, — теме,
долгое время оставшейся под запретом, поскольку она
считалась далекой от актуальности («Звездные корабли», 1947), а
затем — историческую повесть («На краю Ойкумены», 1952), где
герой полюбит трех женщин, при этом не вызывая осуждения
со стороны автора, — правда, история происходит в Древней
Греции. В своем утопическом романе Ефремов становится
проповедником культа Женщины, красоты и свободной любви.
Именно он первым разоблачит филистерское лицемерие
социалистического реализма, в котором положительный герой «не
опускает глаз ниже подбородка и не поднимает выше колен
героини»48. Ефремов утверждает значимость желания и
сексуальности, способствующей развитию индивида. Во всех его книгах,
вплоть до последней — романа о жизни известной гетеры Таис,
он обращается ко всем возможным традициям: от Соловьева
до индуистских и орфических учений, от Чернышевского до
фрейдизма, — чтобы провозгласить эмансипацию женщины и
свободную любовь в качестве основы проекта улучшения
человеческого общества. Затем он ставит Эрос в центр своей
метафизической картины мира49. Жаль, что этот подлинный
утопист был более дидактиком — несколько в духе Чернышевско-
45
го, — чем писателем; ему не хватало художественных средств.
Что касается освобождения любви, в его вещах больше благих
намерений, чем изобретательности. Россия еще раз прошла
мимо своего Фурье, но на этот раз совсем рядом.
Круг почти замкнулся. Если верить научной фантастике
I960—1980-х годов, то человеческая сексуальность проста,
однозначна и неизменна. Ее герой, в течение миллионов земных лет
бороздящий межзвездные просторы, без всяких колебаний
возвращается к своей пребывающей в анабиозе возлюбленной
(А. Колпаков. «Гриада», 1960). Другой герой, «сверхчеловек»,
мозг которого в миллионы раз увеличил свои возможности, не
сомневается в чувствах к невесте, оставшейся «нормальной»,
средней женщиной (А. Днепров. «Подвиг», 1962). Проблемы
деторождения едва упоминаются; особо стоит отметить роман
Ф. Ильина «Долина новой жизни», опубликованный в 1967 году,
но датированный 1928-м: он рассказывает об автоматическом
серийном производстве специализированных индивидов,
предвосхищая «боканофскификацию» Хаксли (впрочем, подобные
идеи мы находим уже у некоторых авторов антитэйлористов
начала XX века). Исключительным случаем является
представление иных форм сексуальности писателями 1960—1980-х годов,
как, например, делают братья Стругацкие в «Благоустроенной
планете» (1961): на далекой планете астронавты обнаруживают
существ, наделенных разумом, для которых человеческий
облик — лишь фаза в онтогенетическом цикле, подобным циклу
бабочек. Но и Стругацкие не углубляются в проблематику. Мы
бы напрасно искали в советской научной фантастике
вторжение в сферу фантазмов, подобных тем, которые затрагивают в
своих произведениях Теодор Стерджон, Кордуэйнер Смит,
Харлан Эллисон или Урсула Ле Гуин. Отметим лишь, что
русское воображение не покинуло путь, проложенный «Аэлитой»
(1922) Алексея Толстого: истории любви между землянами и
жителями космоса весьма редки, и, когда они, вопреки всему,
всё же имеют место, инопланетяне оказываются ничем не
отличающимися от людей, как в романе братьев Стругацких
«Трудно быть богом» (1964) или у Ольги Ларионовой в повести
«Планета, которая ничего не может дать» (1966), — это примеры из
самых смелых.
Встреча с Другим, как видно, создает некоторые трудности
для советских авторов.
Что касается собственно утопического романа — речь идет о
довольно многочисленных книгах таких писателей, как Г.
Мартынов, Г. Альтов, А. Казанцев, Г. Гуревич, С. Снегов, С. Жемай-
46
тис, и многих других50, — они лишь воспроизводят в эвфемизи-
рованном виде ефремовскую модель. Говоря точнее, они
стремятся избежать «полового вопроса», делая вид, что он уже
давно решен: типичная установка социалистического реализма, в
лоно которого послесталинская советская утопия возвращается
после короткого периода «Бури и натиска» 1960-х годов.
Сегодня мы наблюдаем в СССР нечто вроде новой
сексуальной революции, которая началась вместе с ушедшей в прошлое
горбачевской перестройкой. Все искусства принимали в ней
опосредованное участие. Однако в действительности
сексуальность еще не стала объектом исследования, хотя она уже не
скрывается, а подчеркнуто выставляется напоказ: этого
достаточно, чтобы доказать наступление посттоталитарной эры.
Научная фантастика не смогла идти в ногу со временем, она не
смогла по-новому раскрыть свои темы перед лицом
меняющейся реальности (в отличие от того, что произошло во время
оттепели: надо признать, что нынешние потрясения оказались
более радикальными). Единственное небольшое отклонение
существует в виде нескольких антиутопических произведений,
связанных с той традицией, которая сначала была отвергнута
при Сталине, потом при Брежневе. Но сексуальность
упоминается только ради критики того, что ощущается как падение
нравов и их жестокость51. Весьма показательным является то,
что Лидия Петрушевская, одна из наиболее блестящих
представительниц так называемой «молодой женской литературы»,
известная особой проницательностью в анализе советских
сексуальных нравов, наиболее очевидным образом отстраняется от
этой проблемы в своем рассказе, где изображает грядущий
конец света52. В ее истории присутствуют только старики или
замкнувшаяся в своем одиночестве молодежь, о любви нет ни
слова, а дети, которые появляются в этом повествовании, не
рождаются — их находят в лесу.
Нынешняя атмосфера чем-то напоминает 1920-е годы, с тем
существенным различием, что обретенная свобода не ведет, —
может быть, пока еще не ведет — к созданию новых
утопических проектов. И наоборот, единственная «утопия», которая,
как кажется, в ходу в современной России, утопия
неославянофилов, питает ненависть к свободной любви, которая
рассматривается как порождение развращенного Запада и
высказывается за сексуальность, которая расчетливо и весьма
комфортно заключается в рамки прочной традиционной семьи.
К концу нашего беглого обзора, выявившего несколько
устойчивых моментов, мы не будем претендовать на какие-то оконча-
47
тельные выводы. Лучше дополним уже поставленные или так
или иначе затронутые вопросы.
Мы так и не нашли русского Фурье. Но не было ли
появление самого Фурье исключением в сфере западной утопии? Или,
напротив, может быть, это закономерный эпизод в ее
эволюции, основные направления которой были определены, с одной
стороны, Рабле, а с другой — маркизом де Садом? Не
является ли в таком случае отсутствие равноценного феномена
специфическим именно для русской традиции, которую ничто —
даже фурьеризм — не может избавить от ее пуританства?
Нововведение Фурье состоит в том, что он утверждает
ценность эротизма по сравнению с сексуальностью, ценность
желания и игры по сравнению с репродуктивными функциями53.
Сексуальные отношения Фурье считает сферой, где индивид
вполне может развиться, это своего рода высшее художественное
созидание', ценное само по себе. Нельзя ли сказать, что русская
утопия так и не обрела своего Фурье в силу того, что интерес,
который она питает к Эросу, практически всегда обусловлен
целями, внешними по отношению к нему самому: духовностью,
моралью, мистическим знанием, социальными отношениями,
идеологией, здоровьем? Даже сегодня, когда все или почти все
табу рухнули, новый ход жизни, который вновь открывает для
себя эротизм, в действительности не интересуется
исследованием желания и не дает свободного хода воображению.
«Постперестроечные» авторы хотели бы, наверное, подражать Батаю
или, скажем, Набокову, но все их шоковые эффекты и тяжелая
«чернуха», описывающие преимущественно отталкивающую,
несчастную или патологическую физическую любовь,
позволяют им в конечном счете добиться лишь одного — места вне
социалистического реализма и советской системы. Наверное,
это тоже легитимная цель для художественного производства.
Но почему русский Эрос отсылает всегда к чему-то другому,
нежели он сам? Кроется ли причина этого в соборном
православии, недавней актуальности средневекового наследия (например,
среди староверов), отсутствии ярко выраженной эпохи
Ренессанса в русской истории, почти полном отсутствии куртуазной
придворной культуры или традиций подлинного либертинства?
Или, может быть, во всем этом, вместе взятом? Вероятно.
Возможно, также, что более глубокие исследования обнаружат
другие факты и другие объяснения. И не исключено, что со
временем русская утопия возродится, чтобы создать свою
собственную версию Нового Мира Любви.
Лозанна, 1991 [вревизии 2003 года).
48
Примечания
1 Французский текст этой статьи под названием «A la recherche d'un
Nouveau Monde Amoureux: L'utopie russe et la sexualité» был
опубликован в парижском журнале «Revue des études slaves» (vol. LXTV (4), 1992).
Эта статья дополняет сказанное на симпозиуме по эротике в русской
культуре, организованном Лозаннским университетом в 1989 г. При
пересмотре статьи я не стремился к большей актуализации текста;
наоборот, интересным показалось отдать ее на суд русскому читателю в
том виде, в каком она была в свое время представлена читателю
франкоязычному. Со времени этой публикации появилось немалое
количество эротикоцентричных исследований, так или иначе связанных с
русской историей и культурой, начиная со сборника: Sexuality and the
body in Russian culture / Ed. J.T. Costlow, St. Sandler, and J. Volwes.
Stanford: Stanford University Press, 1993, и заканчивая книгой Ольги
Матич: Matich О. Erotic Utopia: The decadent imagination in Russia's fin-
de-siecle. University of Wisconsin Press, 2005. Упомянем сборники работ,
выходящие в (красной) серии московского издательства «Ладомир»
«Русская потаенная литература», см. также и многие другие сборники
наукообразных схолий, напр.: Альманах тендерной истории «Адам &
Ева» (ред. Л. Репина). СПб., 2003; В поисках сексуальности: Сб. ст. /
Ред. Е. Здравомыслова, А. Темкина. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002; а
также, разумеется, многие другие. Некоторые из этих исследований
упомянуты в сносках.
Название настоящей статьи представляет собой аллюзию на
трактат Ш. Фурье (1772—1837) «Le Nouveau Monde Amoureux», вышедший
при его жизни.
2 См. для контраста: Max J. Okenfuss. The Rise and Fall of Latin
Humanism in Early-Modern Russia: Pagan Authors, Ukrainians, and the
Resiliency of Muscovy. Leiden, 1995 (Brill's Studies in Intellectual History).
3 Об этом см. мое предисловие к сборнику: Amour et érotisme dans
la littérature russe du XXe siècle [Любовь и эротика в русской
литературе XX века] / L. Heller, ed. Berne: Peter Lang, 1992. См. детальное
описание этих материй у Евы Левиной: Levin Eve. Sex and Society in the
World of the Orthodox Slavs, 900-1700. Ithaca (NY): Cornell University
Press, 1989.
4 Левшин В. Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве //
Взгляд сквозь столетия: Русская фантастика XVIII и первой
половины XIX века. М, 1977. С. 83-84.
5Fourier С. Le Nouveau Monde amoureux [Новый влюбленный мир];
цит. по его книге: Vers la liberté en amour. P., 1975. P. 234—235.
ь Белинский В.Г. Письмо к В. Боткину от 8.9.1841 // Собр. соч. М.,
1982. Т. IX. С. 483.
1 Лавров 77. Из истории социальных учений (1873—1874); цит. по:
Утопический социализм в России. М., 1985. С. 429.
8 Tchernychevski N. Que faire? P., 1889.
9 Чернышевский H. Что делать? M., 1979 (академическое издание).
•* Заказа К-753!
49
10 Сообщение Владимира Береловича (W. Berelowitch) на
конференции «Любовь и эротика в русской литературе XX в.» (Лозанна,
июнь 1989). Также см. у Набокова в «Даре» (1937—1938)
художественную (и ироническую) трактовку этого аспекта личности
Чернышевского.
11 Soloviev V. Trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion. P.:
O.E.I.L., 1984; Соловьев В. Три разговора о войне, прогрессе и конце
всемирной истории// В. Соловьев. Соч. в двух т. М., 1990. Т. 2). См.:
Kornblatt J.D. Vladimir Soloviev on Spiritual Nationhood, Russia and the
Jews //The Russian Review. 1997. Vol. 56. P. 157—179; а также
различные материалы, опубликованные в свое время В. Стремуховым (новая
редакция Ф. Гильбо): Stremoukhoff V. Vladimir Soloviev and Eus
Messianic Work/ ed. Ph. Guilbeau et all. Belmont (MA), 1980.
12 Соловьев В. Смысл любви // Соч. в двух т. М., 1990. Т. 2.
13 Федоров Н. Сочинения. М., 1982, в особенности с. 402—406, 411,
413, 448, 452. См. анализ этого в изд.: Hagemeister M. Nikolaj Fedorov:
Studien zu Leben, Work und Wirkung, München, 1989. Ср. для
контраста: Matich 0. The Merezhkovsky's «Third Testament» and the Russian
Utopian Tradition// California Slavic Studies. 1994. V. 2: Christianity and
the Eastern Slavs/Hughes R.P., Paperno I.A., eds. P. 158-172.
14Розанов В. Люди лунного света: Метафизика христианства. СПб.,
1911 (JaljReprint. Würzburg, 1977). См. великолепную вступительную
статью И. Чапского (Jozef Czapski) в кн.: Rozanov V. La Face sombre du
Christ. 1963; а также соответствующие места в изд.: Poggioli, R.
Rozanov. L. 1962 (Studies on Modern European Literature and Thought);
Engelstein L. Sex and the Anti-Semite: Vasilii Rozanov's Patriarchal
Eroticism // The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-
de-Siecle Russia. Princeton. P. 257—305 (рус. пер.: M.: Teppa, 1996);
Курганов Е., Мондри Г. Розанов и евреи: Василий Розанов, евреи и русская
религиозная философия. СПб., 2000.
15 См.: Nivat G. Le puritanisme russe, pourquoi? //Amour et sexualité
dans la littérature russe du XXe siècle /L. Heller, éd. Berne, 1991. См.
также: Crone A.L. Remizov's «Kukha»: Rozanov's «Trousers» Revisited» //
Russian Literature Triquarterly. 1986. Vol. 19. P. 194-211.
16 Эта дата, по-видимому, заимствована из романа популярного в
России Г.К. Честертона «Наполеон Ноттингхиллский» (1904). См.:
Кремнев И. (Чаянов А.). Путешествие моего брата Алексея в страну
крестьянской утопии. Л., 1920.
17 Окутюрье М. Пол и «пошлость»: Тема пола у Пастернака//Пас-
тернаковские чтения. М.: Наследие, 1998. Вып. 2. С. 69—91. См. также:
Эткинд А. Тайный код для заблудившегося пола: Литературный
дискурс о гомосексуальности от Розанова до Набокова // В поисках
сексуальности. С. 79—101.
18 Более подробно см.: Heller L. La Vérité, la justice, la liberté ou le
bonheur: littérature russe entre l'utopie et l'utopisme // Ed. Gaillard R.
Bienvenue en Utopie. Yverdon-les-Bains, 1991. P. 121—147.
19 См.: Богданов Александр. Красная звезда. M., 1918.
50
20Замятин Е. Мы (1920) //Замятин Е. Мы. М., 1989. С. 217.
21Цит. по: Курганов А. Семья в СССР. Нью-Йорк, 1972. С. 68.
22Цит. по: Шафаревич И.Р. История социалистических учений.
Париж, 1975. С. 320.
23 Graham L.R. Science and values: The eugenic movement in Germany
and Russia in the 1920's //The American Historical Review. 1977. Vol. 82.
P. 1133-1164.
24 Горький M. О безответственных людях и о детской книге наших
дней// Собр. соч.: В 30 томах. М., 1953. Т. 25. С. 174.
25 Щекин М. Как жить по-новому: (Семья, любовь, брак,
проституция). Кострома, 1923. С. 52.
2(3 Там же. С. 47.
27 Там же. С. 60.
28 Там же. С. 50.
29 Коллонтай А. Семья и коммунистическое государство. Пг., 1918;
Она же. Новая мораль и рабочий класс. М., 1919; Она же. Дорогу
крылатому Эросу. М., 1923.
30 Коллонтай А. Любовь пчел трудовых. М.: Петроград, 1924. С. 50.
31 См., напр.: Rachmanova Alia. Die Fabrik des Neuen Menschen.
Verlag Anton Pustet, 1935 (фр. пер.: La Fabrique des hommes nouveaux.
P, 1936).
32 Залкинд А. Революция и молодежь. M., 1924 (см. недавнее
переиздание: Педология. Утопия и реальность. М.: Аграф, 2001); см.
также в изд.: Heller L. «Женщина побежденного класса — добыча
победителя» // Amour et érotisme...
33 Коллонтай А. Семья и коммунистическое государство. С. 24. См.
также: Куренная Н.М. «Любовь» и «новая мораль» в трудах A.M.
Коллонтай //Национальный Эрос и культура/Г. Гачев, Л. Титова (ред.). М.,
2002. Т. 1. С. 183-198.
34 Никольский В. Через тысячу лет. М., 1927. С. 71.
35 См.: Арсентьева H.H. Становление антиутопического жанра в
русской литературе. М.: Моск. пед. гос. ун-т им. В.И. Ленина, 1993.
3(3 Окунев Я. Грядущий мир. 1923-2123. Петроград, 1923. С. 67-68.
37 См.: Heller L. Les chemins des artisans du temps: Filonov, Platonov,
Hlebnikov et quel-ques autres... // Cahiers du monde russe et soviétique.
1984. XXV (4). В последующие годы сопоставление Платонова с
Филоновым стало очевидным, в оформлении книжных изданий первого
стали использоваться репродукции картин последнего.
38 Catteau J. De la métaphorique des utopies dans la littérature russe et
de son traitement chez Andrej Platonov // L'Utopie dans le monde slave.
39 См. об этом: Золотоносов M.H. «Ложное солнце», «Чевенгур» и
«Котлован» в контексте советской культуры 1920-х годов //Андрей
Платонов: В 2 кн. М., 1994. Кн. 2. С. 246-283; Лазаренко О.В.
Мифологическое сознание в антиутопии XX века и роман А. Платонова
«Чевенгур» //Филол. зап. Воронежского ун-та. Воронеж, 1994. Вып. 3. С. 76—82.
40 О философских позициях Платонова см. серию работ
Светланы Семеновой: Семенова С.Г. Где у Андрея Платонова искать его фи-
4* 51
лософию?// Вопросы философии. 1989. № 3. С. 26—31; Семенова СГ.
Метафизика платоновских мотивов // «Страна философов» Андрея
Платонова: проблемы творчества. М., 1995. Вып. 2. С. 54—90; а также
в контексте «философии воскрешения» Н. Федорова: Киселев A.A.
Одухотворение мира: Н. Федоров и А. Платонов // «Страна
философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1993. Вып. 1. С. 237—
248; Любушкина М.А. Идеи бессмертия у раннего Платонова // Андрей
Платонов: В 2 кн. М., 1994. Кн. 2. С. 158-179; Карасев AB. Движение по
склону: (Пустота и вещество в мире А. Платонова) // Вопросы
философии. М., 1995. № 8. С. 123-143.
41 Утопическое сознание Платонова исследовано с достаточно
впечатляющими результатами: Маркштайн Э. Дом и котлован, или Мнимая
реализация утопии//Андрей Платонов: В 2 кн. М., 1994. Кн. 2. С. 284—
302; Новикова Т. Пространственно-временные координаты в утопии и
антиутопии: Андрей Платонов и западный утопический роман //
Вестник Моск. ун-та. Сер. 9: Филология. М., 1997. № 1. С. 67—77.
42 О сложном эротизме Платонова см., напр.: Семенова С.Г.
«Тайное тайных» Андрея Платонова: (Эрос и пол) // Андрей Платонов: В
2 кн. М., 1994. Кн. 2. С. 122—153; Найман Э. Из истины не существует
выхода: Андрей Платонов между двух утопий//НЛО. М., 1994. № 9.
С. 233-250.
43 Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. P.: YMCA-PRESS.
1982. Р. 336. См. также более ста статей, вошедших в юбилейный
сборник «"Страна философов" Андрея Платонова», подготовленный по
итогам международной научной конференции, посвященной
100-летию со дня рождения А.П. Платонова: «Страна философов» Андрея
Платонова: Проблемы творчества / Ред.-сост. Н.В. Корниенко. М.:
ИМЛИ РАН: «Наследие», 2000. Вып. 4, юбилейный.
44 См.: Reich W. La Révolution sexuelle. P, 1968, P. 312.
45 См., напр.: Dunham V. In Stalin's Times: Middleclass Values in
Soviet Fiction. Cambridge, 1976.
46 См.: Baudin A., Heller L. Le corps et ses images dans le réalisme
socialiste // Amour et érotisme...
47 См. упоминавшуюся выше работу Елены Григорьевой.
48Ефремов И. Наклонный горизонт// Вопросы литературы. 1962.
№ 8. С. 57.
49 См.: Heller L. De la science fiction soviétique. Lausanne, 1979 (глава,
посвященная И. Ефремову).
50Об этих книгах см.: LahanaJ. Les Mondes parallèles de la science-
fiction soviétique. Lausanne, 1979.
51 См., напр.: Кабаков A. Невозвращенец. M., 1989.
52 Петрушевская Л. Новые робинзоны: (Хроника конца XX века) //
Новый мир. 1989. № 8. С. 165-189.
53 См. об этом в изд.: Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. P.: Editions du
Seuil, 1971.
Дениэл Ранкур-Лаферъер
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕМИОТИКИ ПЕНИСА1
Если бы транспортирование семени и производство урины
были действиями, к которым деятельность человеческого
пениса могла быть сведена без остатка, то вводить пенис в сферу
семиотического исследования не было бы никакой
необходимости, разве что в качестве небольшого отрезка пути, по
которому генетическая информация передается от организма к
организму или от одного поколения к другому. Но это не так, ибо
пенис сам по себе является также знаком, который, как
правило, хорошо изолирован от сознания барьером вытеснения.
Поэтому занятый исследованием этого знака семиотик
сталкивается с задачей, которую не всегда можно назвать приятной.
Для интерпретатора пенис в функции знака является тем, что
(если возможно извинить Пирсу это высказывание) «стоит»,
заменяя собой нечто иное, чем он сам. Специфическая (очень
передовая для своего времени) семиологическая терминология
Чарлза Сандерса Пирса, описывающая то, что знак «делает»,
могла бы быть воспринята в качестве случайной шутки,
касающейся эрегированного пениса, и не более того, если бы пенис не
представлял собой исключительно влиятельный знак или, как
пишет Лакан, «бес-подобное означающее» («le signifiant sans
pair». — Лакан 1966: 642). Речь идет конечно же не о таком
будничном предмете, как пенис, а скорее о фаллосе, и, как
утверждает Лакан, это означающее означает то, что является в
некотором роде нехваткой, неосуществленностью, неосуществляе-
мостью в области бытия или неудачей быть («manque à être»).
Но подобным же образом, через отсутствие, как раз и опреде-
53
ляется любой знак: поскольку знак «стоит», замещая собой
нечто иное, он никогда не может быть тем, что он замещает,
и, таким образом, терпит крах в экзистенциальной сфере. Если
знак подразумевает присутствие одной вещи в отсутствие
другой, тогда пенис представляет собой конечный знак — в той
мере, в какой от его присутствия или отсутствия, согласно
основным системным положениям Фрейда, зависит, каким
образом интерпретатор (ребенок) на определенном этапе
представляет себе разницу между полами. Иными словами, именно
интенсивное (с сильным аффектом, эмоцией) или
акцентированное присутствие/отсутствие пениса превращает его в конечный
знак. Ряд, содержащий в себе пенальное (от слова «пенис». — Ред.)
присутствие/отсутствие, может быть представлен как условное
обозначение фаллоса:
(1) Фаллос = {+/- пенис}
Такая дефиниция не только хорошо согласуется с
информационной теорией Уайлдена, рассматривающей фаллос в
качестве «бита» информации, то есть бинарной системы (выбора)
(см.: Уайлден 1972: 284), но и позволяет определить те
концептуальные рамки, в пределах которых может быть дискуссионно
рассмотрен кастрационный комплекс (см. ниже). К тому же она
прекрасно отвечает потребности в «типе, логически более
сложном» (как сказали бы Уайлден и некоторые ученые-логики до
него), чем физический пенис per se.
И всё же сводить рассмотрение вопроса только к этой схеме,
ограничивая тем самым дискуссию единственно возможной
дефиницией фаллоса, нельзя. Общепринятая практика включает
использование, к примеру, ножа, палки, змеи и т. п. в качестве
типичных «фаллических» символов, которые вместе с тем могут
существовать совершенно независимо от того, очевидно
отсутствие/присутствие пениса или нет. Другой пример —
«фаллическая рука», когда вытянутый вверх палец ладони при согнутых
остальных репрезентирует пенис, независимо от того,
возникает или нет мысль о его присутствии/отсутствии. Вообще говоря,
чем выше вероятность обращения к термину «фаллос», тем
дальше мы от рассмотрения реального пениса, а точнее, тем
более абстрактными оказываются свойства пениса как такового
и замаскированней он сам. В дальнейшем будем следовать по
большей части этой общепринятой практике. То есть термин
«фаллос» будет использоваться в тех случаях, когда
наличествуют одни свойства пениса и отсутствуют другие:
54
(2)
Фаллос = {+ и — свойства пениса}
Впрочем, обе схемы — (1) и (2) — не могут ответить на вопрос,
означающим чего является пенис. Так что же представляет
собой семиотика пениса, на которой, в свою очередь, базируется
семиотика более абстрактного фаллоса? И что представляют
собой лежащие в основе интерпретации пениса ментальные
процессы, которые привели к возникновению в западной, и не
только западной, культуре безапелляционного «фаллоцентризма»?
Для начала признаем, что пенис следует изучать семиотически
не только, чтобы понять аномальную психологию случайной
перверсии. Дело в том, что присутствие пениса в качестве знака
может быть обнаружено повсеместно. Пенальный знак
настолько глубоко и всесторонне проник в социоэкономическую
структуру нашего общества, что стал эмблематическим базисом для
притеснения огромной группы людей — женщин. Сам по себе
пенис выглядит тривиальным и едва ли достаточно
значительным, чтобы составить основание для социальной эксплуатации.
Но цвет кожи не менее тривиален, и, тем не менее, известно, что
для существования широкораспространенного феномена
расовой дискриминации необходимо, чтобы цвет кожи
функционировал как в высшей степени могущественный знак.
Проблема, собственно, заключается в выявлении причин, по
которым такой очевидно обыденный предмет, как пенис, стал
объектом пристального внимания в качестве основного
источника семиозиса в обществе. По мнению Уайлдена, «в культуре,
которая требует, чтобы мужской труд был оплачен, а труд
"домохозяйки" — "дармовым", фаллос выступает как главный
эквивалент обмена (подобно тому как товарное золото или его
репрезентатив — главный эквивалент всех прочих предметов
потребления в нашей экономической системе)». К этому Уайл-
ден добавляет, что для домохозяйки фактической
компенсацией служат дети, «давно приравненные к фаллосу в
психоаналитической теории» (Там же: 287). Но что представляет собой
лежащая в основе этого сигнификация пениса, посредством
которой он смог превратиться в основание «главного
эквивалента обмена»? Почему не грудь? Или тестикулы? Если уж на то
пошло, почему не мочка левого уха?
Возможно, лучше всего начать с рассмотрения знакового
контекста, в пределах которого протекает существование пе-
нального знака. Лингвистический контекст, надо полагать, в
первую очередь может стать богатейшим источником
соответствующего материала.
55
В своей книге «Слова и женщины» Миллер и Свифт
подчеркивают, что оскорбительных слов, адресованных женщине, в
английском языке значительно больше, чем соответствующих
слов, адресованных мужчине, и что оскорбления,
предназначенные мужчине, как правило, мягче (см.: Миллер, Свифт 1976:
117). Таких слов, как «потаскуха», «щель», «отверстие», «пизда»,
«ведьма», «прорезь», «сука» и т. д., в английском огромное
количество, и все они в высшей степени презрительные. В то время
как «уродом» [англ. «prick», то есть заодно и «дыроколом». —
Д. С), «жеребцом», «бабником», «сутенером», «развратником»,
«старым похабником», «ублюдком», «сукиным сыном» и т. п.
труднее «достать», иногда они вообще не предполагают
оскорбления (например, в высказывании «он настоящий жеребец»
содержится похвала сексуальному мастерству), а в некоторых
случаях косвенно затрагивает честь женщины («сукин сын»,
«ублюдок», «сутенер»).
Неоднократно на протяжении всей книги Миллером и
Свифтом приводятся доказательства того, что женщина в
английском языке подвергается преследованию. Женщины
вынуждены отказываться от собственных имен в пользу имен мужей, к
женщинам обращаются, используя формы мужского рода
(«мужчина» (в сложносоставных словах. — Д. С), «он», «моряк»
и т. п.), считается, что женщины менее настойчивы и поэтому,
по сравнению с мужчинами, склонны к частому использованию
вопросительных форм и редкому — декларативных и т. п.
(обзор языковых различий между полами см.: Торн и Хенли 1975:
11 и ел.). Однако фаллоцентризм языка Миллером и Свифтом
не рассматривается (под словами «пенис» и «фаллос» в
указателе отсутствуют соответствующие статьи), а следовательно,
проблема оснований, на которых преследование женщины в
языке становится возможным, остается авторами абсолютно не
затронутой.
Примем во внимание, например, то особое значение, какое
имеют сленговые слова, отсылающие к пенису. Перечень, —
разумеется, неполный, — включает некоторые из тех
эвфемизмов, что слышал лично я:
(3) уд (очка) (rod)
орудие (tool)
инструмент (instrument)
рей (yard)
писюн (-ун) (widdler)
гаечный ключ (tinkler)
палка (wrench)
56
щуп (dip) (stick)
член (dick)
дырокол (prick)
динь-дон (в тексте: «ding, dong, wong». — Д.С.)
шланг (в тексте: «shlantz», от «schlong» [идиш] со
значением «пенис». — Д.С.)
дурак (в тексте «putz», от «pots» [идиш) со значениями
«дурак», «пенис». —Д.С.)
коряга (tree)
твэнг (звукоподражательное англ. «twang». — Д.С)
корень, корешок (root)
лодырь (ср. рус. «гонять лодыря». —Д.С) (loaf)
боров (hog)
малыш (dink)
солоп (pecker)
сосиска (hot dog)
франкфуртер (wiener = wienie)
колбаса (sausage)
мясо (meat)
хуй (cock)
болтун (dangle)
(тайный) участник (в тексте: «member»,
предположительно от «membrum virile» [лат). — Д.С)
штуковина (в тексте: «dingus», означающий также
любой предмет, который можно бросить, а также:
«придурок». -Д. С)
питер (от имени Peter. — Д. С.)
придурок (ср.рус. «балда». — Д.С.) (dork)
фитиль (wick) (dingle)
колбасня (в тексте: «pud», от «(black) pudding». — Д.С)
достоинство [ср. рус. «достопримечательность». —Д.С)
(dignity)
лилия (lily)
бананан (banana)
бревно (pole)
wazoo*
трюкач (jigger)
поршень (plunger)
пушка (gun)
свисток (whistle)
* На первый взгляд это авторское темное место, поскольку довольно
распространенное сленговое значение и, едва ли не единственное, фиксируемое
словарями, «анус», возможно, от англ. «kazoo», «игрушечный музыкальный
инструмент, производящий жужжащий звук»; такая семантическая динамика
хотя и представляется невероятной, о чем пишет сам автор, тем не менее,
очевидно, возможна; во всяком случае, в устной практике это слово
встречается также в значении «пенис», подробнее см. мою статью, опубликованную в
этом же сборнике. — Примеч. Д. С.
57
пистолет (pistol)
огурец (pickle)
труба (tube)
брызгун (sprinkler)
хобот (в тексте: «stout». — Д.С.)
Сравните этот список со сленговым списком, относящимся
к вагине (слова в скобках отсылают двусмысленным образом,
по моему опыту, либо к вагине, либо к женским лобковым
волосам):
(4) пизда (cunt)
киска (pussy)
бобр(ик) (beaver)
дыра (hole)
хвост(ень) (piece of— tail; букв.: кусок от хвоста)
жопень^есе of— ass; букв.: кусок от задницы)
щель (gash)
дырка (slot)
касса (в тексте: «box», что перекликается, в частности,
с рус. «телевизор». — Д.С)
мохнатка (т. е. растительность вокруг вагины)
сахарница (в тексте: «sugar bowl» и «honey bowl», ср. рус.
«междуножное пирожное» и «эклер». — Д.С.)
ножны (sheath)
колчан (quiver)
хватальник (ср.рус. «хлебальник». —Д.С.) (snatch)
мокрощёлка (slit)
щит(ок) (escutcheon)
кошелек (ср.рус. «копилка», «сейф». — Д.С.) (purse)
Очевидно, что список пенальных обозначений в несколько
раз шире списка вагинальных, к тому же не вся вагинальная
лексика однозначно вагинальная, так как, видимо, существует
определенная лексическая тенденция: лобковые волосы либо
включены в репрезентацию женских гениталий, либо
репрезентируют их как целое. Также наблюдается тенденция части
лексики двусмысленно отсылать либо к вагинальной, либо к
анальной области («дыра», «жопа», «хвост» — в этой
двусмысленности психоаналитик, несомненно, увидит отражение
инфантильной теории «клоаки»). Ни одна из этих проблем референции не
дает о себе знать в связи с пенальными терминами. С точки
зрения референции термины в (3) — подлинные синонимы.
Напрашивается вывод, что английский язык предоставляет
больше возможностей недвусмысленного высказывания о
пенисе, нежели о вагине. Более того, в некоторой своей части пе-
нальная лексика отсылает только к пенису и никогда ни к чему
58
другому, что не имеет отношения к гениталиям «пенисного
характера» («писюн» («widdler»), «член» («dick») (не как имя
собственное), «динь-дон» («ding»), («dong»), («wong»), «шланц»
(«shlantz»), «дурак» («putz»), «малыш» («dink»), «франкфуртер»
(«wienie»), «штуковина» («dingus»), «придурок» («dork»), «кол-
басня» («pud»), «wazoo» (см. примеч. Д.С. к (3)), в то время как
только один термин, «пизда» («cunt»), отсылает
исключительно к вагине.
Эта языковая ситуация, которая может быть описана как
лексическое преимущество пениса перед вагиной, — яркий
пример фаллоцентризма английского языка. Возражение могло
бы, конечно, заключаться в том, что пенис привлекает к себе
такое большое лексическое внимание просто потому, что он
более «заметен» или, скажем образно, «торчит наружу»,
женские же гениталии по большей части незаметны. Но тогда как
объяснить тот факт, что для обозначения груди, которая не
только «торчит наружу», но к тому же встречается в два раза
чаще пениса, известно настолько мало сленговой лексики?
(5) буфера (boobs)
молотки (knockers)
сиськи (tits) (titties)
дыни (melons)
дары (endowment)
бананы (bananas)
яблоки (apples)
комплект (set)
надстройка (superstructure)
пара (pair)
лёгкие (lungs)
банки (jugs)
bubs (сокр. от «bubbies»,
происхождение неизвестно. — Д. С.)
Наиболее правдоподобное объяснение фаллоцентризма
сленгового лексикона заключается в том простом факте (почти
признанном свыше полувека назад Иесперсеном), что
мужчины используют сленг намного чаще женщин (ср.: Крамер 1975:
52). Такой лексикон представляет собой просто еще одну
манифестацию чрезмерной озабоченности мужчин собственными
гениталиями.
Но чем вызвана эта озабоченность? Почему наиболее
типичные мужские фантазии связаны прежде всего с утраченным
или отрезанным пенисом? И как вообще эти фантазии связаны
с социальным притеснением или с агрессией и насилием,
направленными против женщин? Возможно, лучше всего было
59
бы начать рассмотрение этой темы с обращения в первую
очередь к более общей проблеме — мужской агрессии, а уже затем
задаться вопросом, какое отношение мужская агрессия имеет
к пенису как знаку. Другими словами, каким образом мужская
агрессия, притеснение женщины и в целом мужской
«шовинизм» приводят к семиотизации пениса?
Я склонен утверждать, что ответы на эти вопросы
невозможно обнаружить ни в структуре психики индивида (как она
рассматривается, например, психоанализом), ни в структуре
межличностных отношений и обмена (исходя, к примеру, из
антропологического или социологического подхода к индивиду).
В данном случае необходимым представляется скорее взгляд
на человеческий род в контексте тех биологических видов,
которые расположены непосредственно по соседству, то есть
других приматов. Если воспользоваться терминологией
покойного Томаса Себеока, короткий экскурс в зоосемиотику окажется
весьма полезным для понимания антропосемиотики всякого
печального знака.
Биология относит человека к общей категории существ,
известных как млекопитающие. Как об этом пишет, в
частности, Э.-О. Уилсон,
«ключом» к социобиологии млекопитающих служит молоко.
Поскольку в ранний период жизни молодое животное значительную часть
времени остается зависимым от матери, группа «мать — потомство»
представляет собой универсальную нуклеарную социальную единицу у
млекопитающих (Уилсон 1975: 456).
Поскольку взрослые самки вынуждены тратить огромное
количество времени и энергии на потомство, они представляют
собой фактор ограничения полового отбора [способность
представителей разных полов приобретать партнера]. Поэтому
полигиния является нормой в социальных системах
млекопитающих, а гаремная организация — в порядке вещей. Моногамные
же связи встречаются относительно редко... (см.: Там же).
Если конкретнее, то человеческий род принадлежит к
подотряду приматов-симиидов. Эта группа, помимо Homo sapiens,
включает самых разнообразных антропоидов: мартышек,
обезьян-ревунов, паукообразных обезьян, капуцинов, беличьих
обезьян, бенгальских макак, мандрил, бабуинов, лангуров,
гиббонов, шимпанзе, горилл и орангутанов. По общим
характеристикам приматы довольно близки к млекопитающим,
демонстрируя «<...> склонность самцов к полигамии и их агрессивность в
отношении друг друга <...>» (Там же: 515). Некоторые специа-
60
листы в области приматологии полагают, что компонент
агрессии у приматов связан с экологической адаптацией как
результатом перехода к наземной среде обитания:
<...> будучи менее защищенной от набегов хищников в
непересеченной местности, группа, очевидно, должна быть количественно больше и
довольно хорошо организованной. Застигнутые на земле, вдали от
защиты деревьев, взрослые особи, особенно самцы, вынуждены вступать в
схватки. Это приводит к развитию более агрессивных форм поведения.
У бабуинов, например, самцы заметно крупнее и обладают крепкими
клыками, которыми они пользуются как оружием во время поединка.
Возможно, неизбежно агрессивный образ существования перерастает во
внутреннюю структуру самого общества, способствуя укреплению систем
доминирования, организующих взрослых особей обоих полов (Там же: 522).
Поучительный, хотя и экстремальный пример агрессии,
свойственной самцам приматов в пределах их сообщества,
можно найти в поведении гамадрила-павиана (Papio hamadryas),
обитающего в районе Красного моря:
В гареме — от одной (так у автора. — Д. С.) до десяти особей
женского пола. В пик своей физической активности большинство самцов
контролирует от двух до пяти взрослых партнерш. В среде приматов такие
взаимоотношения, безусловно, наиболее «сексистские». Самец всегда
старается держать самок вместе, следя за тем, чтобы они не отбивались
слишком далеко от группы, не вступали в отношения с чужаками и не
конфликтовали слишком ожесточенно друг с другом. И демонстрирует
самые разные формы агрессии — от просто неприязненного
пристального взгляда или шлепка до сильного укуса в шею. Самка же, реагируя на
наказание, старается быть поближе к самцу (Уилсон 1975: 534).
Схватки между группами [из самцов и самок] также
контролируются самцами и почти всегда состоят из эффектного
представления, во время которого самцы с обнаженными
клыками, блефуя, держатся друг от друга на безопасном
расстоянии, только беспорядочно размахивая руками. Анализ
съемочного материала показывает, что, несмотря на такие внешние
признаки агрессии, физические столкновения случаются редко.
Только в том случае, когда один из самцов поворачивается и
удирает, у него есть шанс заполучить царапину в области
ануса. Схватки заканчиваются и тогда, когда животное
отворачивает голову, оставляя незащищенной шею. Такой ритуал
капитуляции влечет за собой немедленное прекращение
агрессивных действий (Там же).
По сравнению с описанным агрессивное поведение
миролюбивой восточной горной гориллы (Gorilla gorilla beringei),
обитающей в Экваториальной Африке, много мягче:
61
Большинство интеракций, связанных с демонстрацией превосходства,
заключается в простом подтверждении старшинства. Когда животные
встречаются на узкой тропе, младший предоставляет старшему право на
проход, а при приближении старших младшие уступают им места.
Иногда доминантное животное запугивает субдоминантное, делая резкие
движения в его сторону. В крайнем случае такая атака сопровождается
звуком щелкающих челюстей и шлепками тыльной стороной руки (Там же:
538).
Многие обезьяны и полуобезьяны владеют интересным
способом отражения агрессивного поведения, используя, по всей
видимости, для этого сексуальный знак. По крайней мере, в
четырнадцати видах (включая гамадрилов-павианов, шимпанзе и
различных макак) как самцы, так и самки «презентируют» свои
зады более высокопоставленным особям в иерархической
системе (Уиклер 1967: 78—80). Такая «презентация» значительно
снижает вероятность быть атакованным, а следовательно, как
считается, является жестом повиновения или призыва к
спокойствию. Уиклер полагает, что у приматов, в пределах одного и
того же вида, в типах окраски задов у самцов и самок часто
обнаруживается определенное сходство, и приходит к выводу, что
это сходство позволяет субдоминантным самцам
воспользоваться жестом, который изначально принадлежал самке,
адресовавшей его доминантному самцу (Там же: 84 и ел.). Поскольку
покорным и миролюбивым поведением более молодых и слабых
самцов физический поединок предотвращается, молодые самцы
получают возможность остаться в группе, а сама группа
сохраняется при этом как сплоченное целое.
Всеобщая тенденция к преобладанию и другим формам
агрессии у самцов высших обезьян, так же как и ярко
выраженное, четко охраняющее свою зону влияния поведение мужчин в
относительно примитивных охотничье-собирательных
обществах у человека, привели к важному выводу относительно
филогении Homo sapiens: «С некоторой долей уверенности мы
можем заключить следующее: примитивные люди2 жили
маленькими территориально-обособленными группами, в которых
особи мужского пола преобладали над особями женского» (Там
же: 567).
Очевидная корреляция между мужской сексуальностью и
агрессией кроется, таким образом, глубоко в предыстории
человеческого рода. Эволюционное объяснение действительно не
может разделить ту и другую (на что содержался намек уже в
«Происхождении человека» Дарвина): именно гены наиболее
агрессивных самцов, то есть самцов, которые в поединках ока-
62
зывались наиболее успешными и оплодотворяли наибольшее
количество самок в социальной группе, сохранялись в общем
генетическом фонде3. Но на определенной стадии (или
стадиях) должен был возникнуть контроль над сексуальной
деятельностью и агрессивностью:
Молодой самец должен был быть сексуальным и агрессивным, но он
также должен был быть в состоянии контролировать свою сексуальную
деятельность и агрессивность — до того момента, когда он станет
достаточно зрелым и займет надлежащее место в иерархии. <...> Чтобы
выжить, он был вынужден иметь высокоразвитую склонность к
ассоциативному научению в сфере секса и агрессии. <...> На завершающей стадии
этого процесса отбора должно было появиться существо, способное по
отношению к тем, кто по отношению к нему самому был доминантен и
обеспечивал уход и воспитание, испытывать чувство вины в связи со своей
сексуальностью и агрессией (Фокс 1972: 292).
Со временем эта «вина» (которую Фрейд называл
«вытеснением», в частности, в «Тотеме и табу») стала соотноситься в
первую очередь с участниками одной и той же группы. Так, в том,
что касается сексуальности, появился запрет на различные
формы инцеста (то есть появилась экзогамия), в то время как
в сфере агрессии сложились соответствующие запреты на
убийство различных членов своей собственной группы (отцов,
братьев, матерей, двоюродных родственников). С утверждением
моногамии и малой (нуклеарной) семьи эти запреты
укоренились в форме того, что составляет общее, эдипово (и, надо
признаться, не в пользу мужчин расположенное), место
психоанализа: «Не убий отца своего и с матерью своею не ложись».
Участники другой группы (то есть особи, с которыми обмен генами
менее вероятен), однако, могли стать мишенью для
относительно неограниченных сексуальных и агрессивных импульсов. Так,
в эндемическом противостоянии наибольшая вероятность
передачи своих генов последующим поколениям существует для
группы, самцы которой убьют как можно больше самцов и
изнасилуют как можно больше самок противной группы. В
военное время совпадение у самцов такого неограниченного насилия
с неограниченной сексуальностью означает отбор (генетические
преимущества эндемического военного противостояния были в
значительной степени признаны Дарвином уже в 1871 году в
«Происхождении человека»). Конечно, в эволюции нашего вида
произошли и другие важные события: в частности —
впечатляющее увеличение в размерах неокортекса [развитой в
сравнении с низшими млекопитающими части коры полушарий]
головного мозга, переход к вертикальному положению тела,
63
изобретение орудий и развитие языкового модуса
коммуникации. Все эти аспекты эволюции человеческого рода были
связаны друг с другом довольно сложными отношениями,
которые всё еще недостаточно хорошо изучены и по-прежнему
остаются предметом многочисленных дискуссий (см., напр.:
Добжанский 1962; Уилсон 1975: гл. 26-27; Фокс 1972; Саган
1977; Татл 1975а; Татл 19756; Тайгер и Фокс 1971; Моррис 1967;
Кэмпбелл 1974; Докинс 1976; и мн. др.). Но совершенно
очевидно, что мужские сексуальность и агрессия сохранили связь
через превратности человеческой эволюции, и, если мы хотим
приблизиться к пониманию семиотики пениса, нам следует
исследовать именно эту связь. К слову сказать, я совершенно не
имею в виду, что агрессия принадлежит исключительно
мужчине или что у приматов, включая людей, не существует
никакой связи между женской сексуальностью и агрессивным
поведением (см. выше, примеч. 3). Свое внимание я сосредотачиваю
на связи агрессии с мужской сексуальностью по той простой
причине, что занимаюсь семиотическим исследованием пениса,
а не задов или, что, возможно, было бы ближе к сути дела,
проблемой матери и ребенка (представляющего для женщины
объект не меньших интереса и озабоченности, чем для
мужчины — пенис).
У некоторых человекообразных обезьян и полуобезьян
распространена практика ритуальной агрессии: эрегированный
пенис демонстрируется другим представителям того же вида.
Когда самцы гривета (Cercopithecus aethiops) сидят, например, «на
вахте» на ветвях деревьев, к своей собственной группе они
обращены спиной (ил. 1), в то время как их бедра раздвинуты, а ярко
окрашенные гениталии — голубая мошонка и частично или
полностью эрегированный пенис красного цвета — выставлены на
обозрение любому возможному нарушителю границ —
представителю другой группы (Уиклер 1966: 424—25; примеры такого
поведения у приматов других видов см.: Уиклер 1972: 52—53).
Еще экстремальнее выглядят примеры так называемой
«доминантной [псевдо] копуляции» самцов или с другими самцами,
или с самками того же вида, а также «индуцированных гневом
копуляций» самцов с самками, независимо от того, находятся
или нет последние в состоянии течки (Уиклер 1967: 110 и ел.; ср.:
Кофорд 1963). Согласно Маклину (1964), у представителя
одного из подвидов беличьих обезьян (Saimiri sciureus) наблюдалось
даже желание нанести удар пенисом по собственному
отражению в зеркале. Известно, что детеныши и молодые самцы
этого вида также демонстрируют пенис (ил. 2).
64
Ил. 7. Самец гривета (у автора — «vervet monkey», что неточно,
далее при переводе будем исходить из более подробной
классификации: Cercopithecus aethiops — гривет, Cercopithecus pygerythrus —
вервет, Cercopithecus sabaeus — зелёные мартышки. —Д. С), сидящий
«на вахте» (источник: Уиклер 1966: 425)
Ил. 2. Молодой самец беличьей обезьяны, демонстрирующий пенис
(источник: Уиклер 1967: 111)
Во всех этих случаях оригинационно-сексуальная (т. е.
исходно-сексуальная) активность приобретает несексуальный,
агрессивный смысл. С семиотической точки зрения, поведение,
которое изначально служило исключительно для передачи
генетической информации (в сперматозоидах) от самца к самке,
стало знаком доминирования одной особи над другой. Маклин
(1973: 49) отмечает, например, что раздвинутые бедра и
нанесение ударов эрегированным пенисом по голове другого
животного у самца беличьей обезьяны — часть как ритуала
ухаживания, так и поведения, связанного с агрессией.
Уиклер (1972: 51—52) постулирует, что своим
происхождением жест демонстрации пениса обязан особой социальной
практике жизнеобустройства, связанной с маркировкой территории
мочой (у приматов в этом случае урина разбрызгивается
эрегированным пенисом). Так же полагает и Маклин (1973: 47—48),
считающий, что в основе этого жеста лежит маркировка
запахом. Жест, ставший у высших обезьян наглядным, возможно,
5. Заказ №К-7531..
65
приобрел эту наглядность преадаптивным образом, то есть в
силу хорошо известного у приматов страха перед змеями и
ящерицами. Вероятно, сходство очертаний эрегированного пениса с
очертаниями мелких хищников, по отношению к которым
приматы испытывают страх, давало ранним приматам некоторое
преимущество в агрессивных взаимодействиях. Если это так, то
довольно любопытной представляется та конверсия пенального
семиозиса, которая происходит в сновидении, где, согласно
Фрейду (см.: Фрейд 1953—1965/V: 357), змея предположительно
репрезентирует пенис (но не vice versa).
Крупным успехом в исследованиях, посвященных
сексуальности приматов, было открытие Маклином неврологических
процессов, лежащих в основании эрекции. Экспериментальные
результаты, полученные в ходе работы с беличьими
обезьянами, были таковы:
<...> определенные траектории эрекции в переднем и промежуточном
отделах мозга, как обнаружено, распределены вдоль частей трёх кортико-
субкортикальных подотделов лимбической системы. <...> Во-первых,
имеется доказательство, что они совпадают с распределением известных гип-
покампальных проекций на участки септума, передние таламус и
гипоталамус. Во-вторых, они были локализованы на участках так называемого
круга Пайпеца [гиппокампова круга], включая сосцевидные тела, сосцевид-
но-таламический путь, передние таламические ядра и переднюю поясную
извилину. Наконец, они были обнаружены на участках медиальной
орбитальной извилины, в средней части медиальных спинных ядер таламуса и
местах их соединений (Маклин 1965: 205—206; ср.: Маклин 1973: 16)4.
Не менее важными представляются данные, полученные
Маклином в процессе исследования неврологической связи
эрекции и агрессии:
Расстояние между точками, в одной из которых стимуляция
электрическим током приводит к эрекции, сопровождающейся состоянием
очевидной безмятежности, а в другой — к эрекции, сопряженной с
демонстрацией клыков и вокализацией, выражающей гнев или испуг,
измеряется буквально миллиметрами. Погружение же электрода [в эти точки] <...>
на несколько большую глубину сопровождается только проявлениями
гнева или испуга, хотя в качестве рикошет-реакции эрекцию можно
наблюдать и после прекращения стимуляции (Маклин 1965: 209—210).
Едва ли можно представить себе более основательную связь
между пенисом и агрессией у самцов. В отношении человека
подобное детализированное неврологическое доказательство, к
сожалению, до сих пор отсутствует. Между тем далее (210)
Маклин переходит к параллелям между результатами своих
исследований и более ранними выводами Фрейда, связанными
с отношением сексуальности к агрессии.
66
Вышеизложенное, таким образом, даёт нам возможность
очень точно определить все три угла «треугольника»,
составляющих знаковую ситуацию, по крайней мере, в отношении
беличьей обезьяны: (1) означающим (signans) является фактическая
демонстрация пениса; (2) означаемое (signatum) представляет собой
здесь не «концепт», «идею» или иной ментальный конструкт, а
нейрохимическую активность в определенных взаимосвязанных
нейроучастках переднего отдела мозга (несколько ранее мною
было выдвинуто предложение рассматривать означаемое в
качестве нейрохимического целого, см.: Лаферьер 1977а: 2; ср. точку
зрения Себеока, рассматривающего интерпретант Пирса как
«трансмутацию знака в предполагаемый нейрокод»; (3) референт,
находящийся во внешнем для собственно знака мире, есть
взаимоотношение, возникающее из жеста доминирования одной особи над
другой — демонстрирующей пенис. Я бы хотел выдвинуть
гипотезу, заключающуюся в том, что эти три фактора (где с целью
обобщения означаемое выражено с несколько меньшей точностью)
присутствуют во всех случаях наличия Знака Фундаментальной
Демонстрации Пениса у приматов, включая человека. Отношения
между этими тремя факторами могут быть представлены
диаграммой следующего вида:
(6)
ОЗНАЧАЕМОЕ
(нейрохимическая активность
на некотором (-ых) участке (-ах)
коры головного мозга (X))
ОЗНАЧАЮЩЕЕ
(демонстрация пениса)
Семиотические
компоненты^ ^
Несемиотические
компоненты
РЕФЕРЕНТ
(пример доминантных
взаимоотношений)
Эта диаграмма, которая, разумеется, отсылает к различным
«треугольникам», введенным Огденом и Ричардсом, Рипсом, Фре-
ге и др. (см.: Эко, 1976, 59—60), преследует цель репрезентировать
только данную рабочую гипотезу, а никак не общую теорию
знаков. Следует учесть, что диаграмма репрезентирует только
пример или очевидный случай, связанный со знаком неразвитой
демонстрации пениса, хотя могла бы легко быть модифицирована
с тем, чтобы обозначить тип демонстрации пениса:
67
потенциальная нейрохимическая активность
на некотором(-ых) участке (-ах) коры головного мозга (X)
демонстрация пениса доминирование или агрессия
В тех случаях, когда демонстрация пениса будет
сопровождаться реальным покрытием самцом самки и/или копуляцией, я
буду называть ее «получившей развитие демонстрацией пениса».
Также следует отметить, что не только самец пользуется знаком
неразвитой демонстрации пениса. Например, самка обезьяны
саймири (род цепкохвостых обезьян. — Д. С), которая отличается
большим клитором и определенной выпуклостью в области
промежности, имитирующим мошонку, также демонстрирует свои
гениталии в качестве жеста доминирования (Уиклер, 1967, 112;
ср. также: Маклин, 1972, 50). В некотором отношении
демонстрация пениса самкой — «обман» (подобно тому, как «обманом»
является демонстрация самцом зада). Таким образом,
исследование доминантных взаимоотношений у приматов определенно
совпало бы, по крайней мере отчасти, с семиотикой даже в том
узком «интенциональном» смысле, о котором говорит Эко, ибо
«семиотика — это дисциплина, в принципе изучающая всё, что
может быть использовано с целью обмана» (Эко 1976: 7).
Отметим также, что в секусальной жизни некоторых
приматов эти два вида «обмана» — презентация самцами своих задов и
демонстрация самками своих «пенисов» — предполагают
очевидную «мужскую шовинистическую» ориентацию не только среди
людей. Насколько бы сбалансированным в правах подражание
одного пола другому в потенции ни было, результат как таковой
неизбежно связывает агрессию еще более тесными узами с
субстанцией мужского. Жест, специфический для самца, повышает
уровень агрессии у самок, в то время как жест, специфический
для самки, увеличивает степень подчиненности у самцов. Данных,
доказывавших бы обратное, нет, то есть отсутствуют
свидетельства того, что самец подражает агрессивному жесту самки или
что самка имитирует жест подчинения самца. Более развитый в
интеллектуальном отношении примат воспринял бы эту ассимет-
рию в качестве семантических связей «агрессия — самец» и
«подчиненность — самка». В человеческом обществе именно такие
связи и получали свое развитие на протяжении многих веков:
68
например, противопоставление «активное мужское начало» —
«пассивное женское начало» реализовало себя под такими
«заголовками», как инь vs. [лат. versus 'против'], ян —в древней
китайской философии, анижус vs. анима — в психологии Юнга, лингам
vs. йони — в индийской мифологии и т. д. Насколько бы в
контексте современной технологической культуры чрезмерно
упрощающими и нецелесообразными эти дуалистические
противопоставления ни были, они очевидным образом соответствуют
поведению большинства приматов, полуобезьян и обезьян, и должны
иметь некоторое генетическое основание.
У Homo sapiens эволюции знака неразвитой демонстрации
пениса способствовали самые разнообразные факторы. На
глобальном, анатомическом уровне у нашего вида не только
действительно самый большой пенис по сравнению с остальными
193-я видами приматов, но сам переход к прямохождению
также сделал бы демонстрацию гениталий неизбежной (Моррис
1967: 85) — если бы не одежда (примечательно, что люди,
живущие в благоприятных климатических средах, покрывают
исключительно гениталии — в противоположность какой-либо другой
части тела: Маклин предполагает, что одежда была усвоена
человеком как средство предупреждения проблем, возникающих
в связи с «архаическим импульсом демонстрации». — 1973: 51).
Но поскольку у человека получили развитие и более сложные
системы сигнификации, возможными стали как прямой, так и
косвенный способы демонстрации гениталий. В данной работе я,
разумеется, коснусь главным образом проблемы модификации
знака неразвитой демонстрации пениса под влиянием
культурных факторов (проблема, которой до известной степени
занимался: Уиклер 1966), хотя равным образом было бы возможно
и параллельное семиотическое исследование культурной
модификации знака презентации зада. Также следует заметить, что
каждый из знаков (в культурно-модифицированных формах)
имеет хождение среди представителей как одного, так и
другого пола. Следовательно, образ ведьмы верхом на помеле
следовало бы соотнести со знаком неразвитой демонстрации пениса,
в то время как образ гомосексуалиста, с цветком, зажатым в
ягодицах, — со знаком презентации зада. Наконец отметим, что
не все случаи эрекции в действительности конституируют знаки
демонстрации пениса: так, эрекция у плачущего ребенка, случаи
приапизма (длительная болезненная эрекция вследствие
нарушения оттока крови из пещеристых тел (corpora cavernosa)
полового члена), различные виды эрекции, причиняемой
патологическим раздражением или инфекцией мужских гениталий, и эрек-
69
Ил. 3. Сцена из кинофильма «Голливудская история»
(источник: Харвуд 1975: 233)
Ил. 4. Одна из страниц гей-журнала (Ciao. 1977. May/June. P. 17).
ция во время сна обычно не являются знаками, ввиду того, что,
как правило, у них нет интерпретаторов (напомним часто
цитируемое утверждение Пирса: знак не существует в отсутствие
интерпретатора). Однако важно, что некоторые из этих форм
эрекции могут быть сопряжены с нервным возбуждением.
Итак, ряд культурных производных знака неразвитой
демонстрации пениса можно классифицировать следующим образом:
(1) Интенсифицированная прямая демонстрация пениса.
Эрегированный пенис демонстрируется в откровенном жесте
подлинной или мнимой враждебности. Встречается редко (см. ил. 3).
(2) Эротическая демонстрация пениса. Пенис
(эрегированный или нет) демонстрируется также с агрессивными
намерениями, но менее очевидными. Этот тип демонстрации
представлен фотографиями, которые публикуются в так называемых
«гей»-журналах и отчасти в некоторых женских журналах,
таких, например, как «Плейгёл». Каждый из выбранных для
фотосъемки мужчин обладает отличным телосложением или/
и очень большим (иногда эрегированным и одновременно боль-
70
шим) пенисом (см. ил. 4). В тех случаях, когда мужчина
обладает хрупким телосложением, это обычно юноша, при этом
часто развернутый ягодицами к зрителю, что, видимо,
представляет собой попытку добиться знака демонстрации пениса
и доминантных переживаний от самого зрителя.
Эротическая демонстрация пениса задействует менее
серьезную агрессию, чем интенсифицированная, но намек на
доминирование угадывается тем не менее безошибочно. Мощная
мускулатура или слишком большого размера пенис предлагают зрителю
подчиниться мужчине, подобным образом демонстрирующим
себя, то есть зрителю предлагается пофантазировать на темы
пассивного орального секса или вообразить себя сексуально
атакованным этим мужчиной и т. д. Такое приглашение к
субдоминантной сексуальной позиции едва ли имеет в качестве целевой
аудитории как большинство гетеросексуальных мужчин, так и
женщин, стремящихся к освобождению от имеющих давнюю
культурную историю оков мужского доминирования в западном
обществе. Так, большинство гетеросексуальных мужчин будут
избегать просмотра гей-журналов, а «парни месяца» на
центральном развороте «Плейгёл» едва ли покажутся привлекательными
читательницам-феминисткам. На самом деле основная причина,
по которой соревнование с журналом «Плейбой» для «Плейгёл»
обернулось сокрушительным поражением, заключается в неявном
смешении знаков: сама идея издания журнала «Плейгёл» — знак
сопротивления мужскому доминированию, поддерживаемому
журналом «Плейбой», в то время как на «центральных
разворотах» «Плейгёл» это мужское доминирование восстанавливается в
правах, обретая свою форму в фотографиях мускулистого
мужчины, репрезентирующего (в несколько более смягченной версии)
знак демонстрации пениса. Агрессивному зрителю из числа не
желающих подвергаться угрозе, исходящей от знака
демонстрации пениса на «центральном развороте» «Плейгёл», остается
только в испуге посмеяться, то есть прибегнуть к своего рода защите.
(3) Украшения и одежда, используемые для декорации
пениса. Мужчины из различных племен Южной Америки,
Африки и Меланезии «раздеты» весьма по-разному и носят на
пенисе или вокруг него украшения весьма ярких цветов. На ил. 5
представлены образцы украшений племени дани, Западная
Новая Гвинея (источник: Уиклер 1966: 432).
Очевидно, что цель подобных украшений — создание иллюзии
больших размеров пениса, чем он есть на самом деле, или
привлечение к нему внимания другим способом. В западной культуре
71
Ил. 5. Образцы украшений племени дани, Западная Новая Гвинея
(источник: Уиклер 1966: 432)
такого рода украшения представляли собой, например,
декорированные гульфики, бывшие в ходу у мужчин
преимущественно в XV и XVI веках (Там же: 430) (ср. нем. «Schamkapseln» —
«срамные капсулы»). Уиклер совершенно обоснованно
подчеркивает, что слово «фаллокрипт» («phallocrypt») является в данном
случае неудачным, поскольку, прикрывая пенис, такое
украшение только способствует привлечению к пенису большего
внимания, — в отличие от прикрывающей таз обычной одежды (Там же:
432). В английском русское анекдотическое слово «гульфик»
приобрело два вспомогательных значения: (а) основанное на
смежности — «пенис» и (б) основанное на подобии —
«поддерживающая женскую грудь чашечка [бюстгальтера]» (Оксфордский
словарь английского языка) (напротив, у слова «лифчик», как
представляется, приобретенное мужское значение отсутствует).
(4) Эксгибиционизм. Любой акт эксгибиционизма по
необходимости представлен двумя участвующими сторонами —
рассматривающей и рассматриваемой. Обычно в ситуации
мужского эксгибиционизма это тот, кто рассматривается, и
именно он репрезентирует знак агрессивной демонстрации
пениса или какие-либо производные такового (хотя встречаются
некоторые разновидности вуайеризма и случаи
патологического пристального взгляда, когда тот, кто рассматривает, может
также прибегнуть к акту замещенной фаллической агрессии —
см.: Фенихель 1945: 347-349; Флюгель 1924: 188). Некоторые
мужчины, испытывающие потребность в экспозиции своего
72
эрегированного пениса, пытаются таким образом сказать: «Я
показываю тебе то, что хотел бы, чтобы ты показал мне» (Фе-
нихель 1945: 345; Фрейд 1953-1965/XIV: 130). Другие, менее
опосредованно одержимые кастрационными фантазиями и
садистскими импульсами, говорят: «Отреагируй на вид моего
пениса и успокой меня, подтвердив наличие его у меня» или же
«<...> успокой меня, подтвердив, что ты напуган его видом»
(Там же). Ср.: «Во многих случаях в акте, который, по всей
видимости, рассчитывает скорее на страх и шоковое состояние
жертвы, чем на получение удовольствия, наличествует
агрессивно-вызывающий элемент» (Мохр, Тернер и Джерри 1964:
120) (пит. также в изд.: Уиклер 1966: 435). Попытка
эксгибициониста вселить чувство страха в (почти всегда женщину-)
наблюдателя связывает эксгибиционизм самым тесным образом
со знаком демонстрации пениса у других приматов, поскольку
последние этот знак используют в специфически агрессивных
действиях, направленных против наблюдателя. Однако в
эксгибиционизме (в его оппозиции к изнасилованию)
демонстрация пениса обычно не получает своего развития в покрытии или
копуляции.
Тот факт, что случаи генитального эксгибиционизма как
перверсии не наблюдаются у женщин, служит, согласно
психоаналитикам, признаком разницы в отношениях, складывающихся с
кастрационным комплексом у представителей двух полов:
Оба пола имеют инфантильный частичный инстинкт
эксгибиционизма. В то время как мужчина, напуганный возможностью утраты пениса,
успокаивает себя, подтверждая факт наличия пениса его демонстрацией,
женщина, у которой в действительности пениса нет и которая переживает
его отсутствие как нарциссическую травму, пытается скрыть эту
нехватку. <...> Женский эксгибиционизм оказывается замещенным и
вытесненным из сферы гениталий; точнее — женщина демонстрирует свою
привлекательность. Там, где вытеснение недостаточно, эксгибиционирующая
женщина боится показаться уродливой или смешной или подвергается
травме (Фенихель 1945: 346; см. также ниже о «фаллической женщине»).
Совершенно очевидно и без специальных комментариев, что
эти выводы допускают существование психологической
реальности кастрационных фантазий как для «мужчин», так и для «не-
домужчин», т. е. женщин (тема, которая станет предметом более
детального обсуждения ниже, обсуждалась во всех
подробностях, напр., в изд.: Фрейд 1953—1965/V: 363—367; Там же/ХХ1:
153-157; Там же/ХХШ: 275-278; Фенихель 1945: 74 и ел.; Уайл-
ден 1972: 283 и ел.; Митчелл 1974: 74—91). Существенный
недостаток психоаналитической концепции эксгибиционизма в том,
73
Ил. 6. Реклама модного магазина
(источник: New Yorker. 1977. 25 July. P. 16)
что она игнорирует подлинный эксгибиционизм женщин,
занимающихся стриптизом, позирующих обнаженными для
«мужских журналов» или каким-либо иным образом обнажающих
свое тело с коммерческой или/и целью сексуальной стимуляции
(см. выше (№ 2) о мужском эксгибиционизме в гей-журналах).
Женский эксгибиционизм задействует как презентацию зада,
так и фронтальную презентацию гениталий, но, в отличие от
мужского, элементы агрессивности или угрозы, как правило,
отсутствуют в нем. От мужчины-наблюдателя эксгибиционистка
пытается добиться сексуального возбуждения, а не чувства
страха. Только в той мере, в какой женский эксгибиционизм
представляет собой или попытку возбудить мужчину — с тем чтобы затем
его отвергнуть, или демонстрацию ягодиц в акте анальной
агрессии («поцелуй меня в жопу»), его можно назвать агрессивным
поведением. Но эта разновидность агрессии может
практиковаться также и мужчинами (то есть в стриптизе [англ. «tease» — прово-
кативная насмешка, издевка. — Д. С.) в роли насмешника равным
образом может выступать как вагина, так и пенис, ягодицы же
демонстрируются представителями обоих полов). Таким образом,
можно отметить, что при прочих равных условиях мужской
эксгибиционизм сопряжен с более высоким в целом уровнем
агрессии, чем женский (возможно, именно поэтому мужской эксгиби-
74
ционизм наказуем, в то время как женский вызывает к себе тер
пимое отношение в обществе). Однако важно, что женский
эксгибиционизм, направленный на других женщин, существенным
образом отличается от эксгибиционизма, объектом которого
выступает мужчина. Женщины, позирующие, например, для рекламы
модной одежды, как правило, не очень «сексуальны» с мужской
точки зрения: такая женщина чаще всего худа, у нее узкие
бедра и маленькая грудь. Графические рекламы, в отличие от
фотографических, в своем преувеличении «удлиненного, тонкого
силуэта» заходят еще дальше (см. ил. б). Общий эффект
заключается в сокращении собственно женских сигналов и приросте
мужских черт в образе, причем настолько, что женщины,
демонстрирующие свое тело на этих рекламах, отчасти похожи на
мужчин и вызывают скорее благоговение и трепет, нежели
сексуальное возбуждение. С психоаналитической точки зрения эта
эксгибиционистская маскулинизация женщины является,
конечно, свидетельством ее фаллизации.
На самом деле существует довольно много способов,
посредством которых склонность к сексуальной демонстрации своего
тела может быть удовлетворена опосредованно. Можно,
например, собирать и экспонировать различного рода трофеи: мертвых
животных (или их части), оружие и предметы, снятые с убитых
солдат, ленты, кубки и прочие призы, добытые в спортивных
соревнованиях, и т. д. Фаллическая природа выставляемых на
всеобщее обозрение трофеев особенно хорошо видна на примере
трофеев, которые собирают представители некоторых
примитивных племен, в частности племени галла (Южная Эфиопия),
мужчины которого носят на голове фаллическое украшение (см.
ил. 7). Еще с первобытных времен оно означало, что его носитель
убил взрослого соперника и, следовательно, имеет право
[вступить в брак и] завести свою семью (Уиклер 1972: 54).
Нетрудно обнаружить элементы сознательного или
бессознательного сексуального эксгибиционизма в «эксгибиционизме»
актеров и актрис на сцене (иногда кастрационные тревоги
увязываются и с боязнью сцены, см.: Фенихель 1945: 346). Как
показывает Берглер в своем клиническом исследовании писателей
(1947), они также во многих случаях руководствуются эксгиби-
ционным импульсом, впрочем, и сами темы эксгибиционизма и
вуаеризма чрезвычайно распространены в художественной
литературе, что удостоверяется множеством примеров, обсуждаемых
у Килля (1976: 542—602). Нельзя отделаться от мысли, что в
«Путешествиях Гулливера» Джонатана Свифта или в «Гаргантюа и
Пантагрюэле» Франсуа Рабле авторы выставляют себя напоказ
75
Ил. 7. Фаллический налобник, используемый племенами Южной
Эфиопии в качестве знака общественного ранга
(источник: Уилкер 1972: 54)
в сексуальном плане («<...> у меня для такой Джилл найдется
подходящий Джек; и если Женские принадлежности не могут
насьггиться, у меня есть Инструмент неутомимый, столь же
щедрый по части подаяния, как их Vade Mecums по части мольб», —
говорит брат Жан в [английском] переводе Рабле Эркьюхарта и
Мотью (см.: Рабле 1955, кн. Ш: 27). Но даже если
недвусмысленная сексуальность почти или вообще отсутствует в тексте, он
может быть тем не менее бессознательно сексуализован, особенно
у писателя, который, ваяя текст, ваяет среди прочего
метафорический пенис, как я показал в моей статье о «Перверсии письма»
(1976). Таким образом, глагол «кастрировать», в данном случае —
«купировать» — показывает/устанавливает роль текста как
смещенного знака демонстрации пениса.
(5) Изнасилование. Сьюзен Браунмиллер (1975: 11)
называет изнасилование «подлинной мобилизацией пениса в качестве
оружия». Изнасилование действительно относится к числу
наиболее агрессивных из известных возможных применений
(разработанного) знака демонстрации пениса (оно может также
сопровождать избиение, нанесение увечий или убийство;
кастрация посредством пениса также случается, но лишь как элемент
фантазии). У нечеловекообразных приматов так называемые
76
«неистовые совокупления» самцов — ближайший эквивалент
изнасилования. У людей изнасилование прочно утверждает
доминирование насильника над его (мужской или женской) жертвой.
Сознательные или бессознательные фантазии о кастрации
воображаемого женского пениса часто ассоциируются с
изнасилованием (Флюгель 1924: 175 и ел.). Изнасилование может иметь
место как разновидность символической демаркации ареала
обживаемой территории (Эйбл-Эйбесфельдт 1970: 430) или на войне,
или в расовых междоусобицах (как в текущей ситуации
противостояния белых и черных в Америке), или в тюрьме и т. д. По
определению, оно не может быть совершено женщиной5, кроме
как в метафорическом смысле («она просто изнасиловала меня
своими воплями» — фраза, услышанная на вечеринке; ср.
выражение «быть выебанным», то есть стать объектом агрессии,
независимо от пола агрессора). Фантазии об изнасиловании —
важнейшая часть психологической жизни женщин, хотя Сьюзен Браун-
миллер утверждает, что эти фантазии, как и родственные им
мазохические женские фантазии, могут быть подавлены
феминизмом. Браунмиллер полагает также, что и масштаб
изнасилований как таковых может быть сокращен благодаря
политическим орудиям, имеющимся в распоряжении феминизма. Однако
представляется сомнительным, что поведение, прошедшее отбор в
процессе сотен тысяч лет эволюции линии гоминидов, может
быть полностью искоренено каким-либо путем, исключая разве
что экстремистское «кастрировать насильников!» (ср.:
Браунмиллер 1975: 380), то есть устранением их генов из общей популяции
(это вряд ли призыв к «евгенике», но лишь свидетельство
присутствия зерна биологической правды в крайней феминистской
позиции; и в самом деле, подобная позиция, похоже, совершенно
лишена чего-либо «евгенического», поскольку, придерживаясь ее,
вполне можно дойти до необходимости кастрации всех самцов
данного вида — что, естественно, приведет к исчезновению вида).
(б) Фелляция (минет). Пенис может быть взят в рот во
время гетеросексуальной любовной игры и особенно в мужских
гомосексуальных отношениях. В обоих случаях пенис может
выступать как обозначающее в знаке демонстрации пениса. К
примеру, психоаналитическая концепция одного из типов
гетеросексуальной фелляции такова:
Идея фелляции чрезвычайно распространена в бессознательных
фантазиях истерических женщин (globus hystericus). Анализ показывает, что эта
идея являет собой искаженное изъявление желания откусить и заключить
в себе пенис. Эта фантазия обильно сверхдетерминирована (overdetermined).
11
В каждом индивидуальном случае нижеперечисленные значения, похоже,
имеют различную относительную важность. Она может быть
осмыслена как: (1) смещение вверх генитальных желаний; (2) идея оплодотворения;
(3) месть мужчине, обладающему органом — предметом зависти, то есть
проявление активных кастрационных тенденций; и (4) присвоение
кастрированного пениса и идентификация с мужчиной (Фенихель 1945: 229).
Из этих четырех функций (3) и (4) наиболее актуальны для
знака демонстрации пениса. В этих случаях совершающая фел-
ляцию женщина интерпретирует мужской эрегированный пенис
как враждебную пенальную демонстрацию и затем реагирует на
нее посредством соответствующей враждебной фантазии. Фан-
тазируемое «откусывание» пениса6 есть процесс смыкания,
переходящий в процесс уподобления, то есть идентификации с
пенисом и (через метафору — см. ниже) с его обладателем. В
конечном счете эта идентификация ставит женщину в положение,
позволяющее ей фантазировать, что она также способна
подавать знак демонстрации пениса.
Прочие типы как гомосексуальной, так и гетеросексуальной
фелляции основываются преимущественно на эрогенности
полости рта и фантазиях, смещенных от груди, и не содержат (для
реципиента) знака демонстрации пениса в каком-либо смысле
(это еще один пример того, как эрегированный пенис не
подразумевает знака демонстрации пениса для данного
интерпретатора). Фрейд, к примеру, обсуждает подмену орального
удовольствия от соска оральным удовольствием от пениса в контексте
своего истолкования женской фелляции (Фрейд 1953— 1965/VÜ:
51—52). Эйбрехем (1968: 269) предлагает сходное истолкование
фантазиям мужской фелляции (см.: Кляйн 1975: 78).
Возможно, наиболее распостраненный вид гомосексуальной
фелляции — когда реципиент высоко оценивает пенис per se и
сосредотачивается на нем почти что как на предмете обожания
в отрыве от его обладателя (см. ниже (14) о почитании фаллоса;
чрезмерные пенисы, выставленные в гей-журналах, пользуются
неизменным успехом за счет подобного фаллицизма и
поощряют его). При такой фелляции могут иметь место фантазии
орального вовлечения и последующей идентификации с обожаемым
пенисом (процесс смыкания, переходящий в процесс
уподобления7). Феллируемый мужчина в подобных случаях может
активно участвовать в знаке демонстрации пениса, утверждая свое
доминирование над партнером, или же может оставаться индаф-
ферентным, будучи лишь «товаром» для феллирующего
мужчины (см. многочисленные литературные описания беспорядочной
половой жизни гомосексуалистов у Килля 1976: 225 и ел.).
78
Ил. 8. Manus obscena (источник: Бейтс 1975: 178)
(7) Фаллическая рука. Вытянутый в неприличном жесте
средний палец римляне именовали «digitus impudicus» или «in-
famis» (согнутые пальцы по обеим сторонам должны были
изображать тестикулы). Греческое «axtfxaXiÇetv» означало, что лицо,
на которое был направлен digitus impudicus, замешано в
«противоестественном грехе» (Райт, в: Найт, Райт 1957 [1866]: 66). В
современной американской культуре вытянутый средний палец
всё еще используется в качестве неприличного жеста, в грубом
переводе означающего «засунь себе в жопу!». Кое-где в Европе
существует другой жест, представляющий собой большой
палец, вложенный между указательным и средним. Римляне
называли его «manus obscena» (Бейтс 1975: 178; см. ил. 8).
Вербальное обозначение этого обсценного жеста на нескольких
языках — «fig» (ср. «mano fica» по-итальянски, букв.: фиговая рука;
um. Fica — «пизда»; т. е. mano fica — это демонстрация руки
(пальцев) как (из) пизды; «фиг» — эвфемизм пениса в русском
языке (используется только во фразеологии, как и другой
вариант — «фига». — М.К)). Любопытно, что фаллические
комбинации из пальцев применялись и продолжают применяться
в качестве защитительных от зла (apotropaic i. е. «warding off
evil») нужд (см. ниже (12)). Жест, родственный фаллической
руке — «manus cornuta» античности, когда указательный палец и
мизинец имитируют рога. Жест этот использовали для
оскорбления мужчины, которым хотели указать, что они рогоносцы
(Там же, 180; жест использовался и для подобных
«защитительных» нужд).
Другой родственный жест — вскинутая вверх рука с ладонью,
сжатой в кулак, как принято при выражении эмоций
политического характера (крик «Власть народу!» часто сопровождает
воздетый кулак на различных политических манифестациях в Соеди-
79
ненных Штатах). В том, что кулак как жест — это знак агрессии,
не может быть сомнений (Моррис 1967,160 рассматривает его как
визуальный сигнал удара, который действительно может быть
нанесен). Следует, однако, признать этот жест также
специфическим фаллическим жестом агрессии. Имеется, к примеру, тесная
семантическая ассоциация между таким лозунгом, как « Up with
the people!» («Вместе с народом!»), сопровождаемым
выбрасыванием вверх кулака, и непристойностью «Up your ass!» («Глубоко в
жопу!»), сопутствующей выдвижение вверх среднего пальца. Еще
прозрачнее лозунг «Up the establishment!» (букв.: «По боку
истеблишмента!»), акцентируемый жестом воздетого кулака. Помимо
того, во многих странах Запада в качестве непристойного жеста
используется поднятый кулак одной руки, когда ладонь другой
сжимает предплечье первой (вариант: удар рукой по бицепсу другой,
сжатой в кулак. — М.К.). В принципе невозможно разграничить
секс и агрессию как компоненты мануального фаллицизма.
(8) Вербальный фаллицизм. У человеческих особей
характерным средством прявления враждебности служит язык, и
некоторые из наиболее распространенных актов
лингвистической враждебности (наиболее часто подпадающие цензуре в
печати и прочих массмедиа) имеют прямое отношение к знаку
демонстрации пениса8. Ниже приводится ряд примеров, взятых
из трех языков:
(8а) Fuck you! (Ебись ты раком!)
б) (Go) fuck yourself! (А не пошел бы ты отъебаться!)
в) Shove it (up your ass)! (На хуй с пляжа (иди)!)
г) Stick it (up your ass)! (Засохни, увянь!)
д) Suck my cock! (Отсоси!)
(9a) Va te faire foutre! (Ебать тебя раком!)
б) Qu'il aille se faire foutre? (Почему бы тебе не
отправиться на хуй (от-(ъ)ебаться)?)
(10а) Ёб твою мать!
б) Иди на хуй!
в) Еби ж тебя в рот!
(Весьма богатым источником подобных примеров может
служить находящийся в процессе подготовки журнал «Maledic-
tia: An International Journal of Verbal Agression», редактируемый
Рейнольдом Эменом в Уокеше, штат Висконсин.)
Первый из примеров под цифрой (8) относится к числу
нестандартных для английского языка безличных конструкций
80
повелительного наклонения (как «damn you!» (букв.: «будь
проклят!») или «to hell with you!» («отправляйся в ад!»)), и может
быть интерпретировано адресатом как:
(11) I fuck you!
или же:
(12) Fuck yourself! (возвратное местоимение по сути
восстанавливается).
В то время, как в примере (11) адресующий вербализует
агрессивный акт совокупления с адресуемым, в примере (12)
говорящий велит адресуемому/адресуемой совершить этот же акт с
самим/самой собой (то же самое в примерах (86), (8г), (8д)).
Заметим, что интерпретации примера (8а), данные в примерах (11) и
(12), не являются, прямо говоря, результатами анализа
возможных глубоких лингвистических структур, но скорее — грубые
парафразы того, как пример (8а) мог бы быть интерпретирован.
Как показал Квант Фук Донг (1967), слово «fuck» в выражении,
подобном (8а)9, не есть даже глагол в трансформационалистско-
генеративном смысле (он зовет его «эпитетом», который может
быть подвергнут анализу как «квазиглагол» и «NP»
(лингвистическое обозначение «noun phrase». — M.К.) и не является даже
правильно высказанным императивом. В любом случае, в плане не-
вроанатомического субстрата обеденные выражения, подобные
тем, что приведены в примерах (8)—(10), могут радикально
отличаться от выражений, поддающихся нормальному анализу в
трансформационалистско-генеративньгх рамках. Свидетельством
тому — синдром Жиля де ля Туретта, при котором неожиданные
вспышки непристойной речи случаются спорадически и
совершенно вне всякого контекста. Другим свидетельством служит
факт того, что тотальные во всем остальном афатики способны
порою разражаться длинными потоками непристойностей.
По поводу остальных приведенных выше фаллических
«эпитетов» заметим, что в примерах (8в), (8г) и (9а) и (96)
упоминаются половые акты имгглицитно-анального свойства — факт,
хорошо согласующийся с психоаналитическим наблюдением о том,
что враждебная или садистская сексуальность имеет часто
анальную фиксацию. В примере (8д) адресующий приглашает
адресуемого принять в качестве доминируемого участие в акте фелля-
ции; так же как в примере (106) и, менее прямо, — в (10в).
Последний пример, (10а), являет собой характерное славянское
ругательство, которым говорящий заявляет об использовании
своего пениса не непосредственно против адресуемого, но против
6 Заказ № К-7531
81
его матери. Только в двух примерах (8д) и (106) имеет место
недвусмысленное упоминание демонстрируемого и
используемого пениса, но во всех случаях употребление пениса
подразумевается, даже если говорящий — женщина (что происходит не
слишком часто10, особенно у русских).
Следует заметить, что глагол «to fuck» (так же, как «to screw»
и русское «ебать/поеть») понимается большинством (и
мужчинами и женщинами) как то, что мужчина делает с женщиной, а не
наоборот. В общем употреблении это преимущественно
фаллический глагол. Это не значит, однако, что он не может
относиться к женскому грамматическому субъекту. Поэтому такая
фраза, как
(13) Она выебала его,
совершенно нормальна, но скорее всего будет означать, что она
предприняла некоего рода агрессию против него (к примеру,
отвоевала у него алименты в большем размере, чем ей
полагалось). Но фраза
(14) Он выебал ее
имеет равные шансы быть воспринятой в качестве относящейся
как к совокуплению, так и к акту агрессии (либо он переспал с
ней, либо уволил ее с работы без всякого повода). В обеих
фразах ассоциация между пенисом и агрессией очень тесна.
(9) Вокальный фаллицизм. Человеческий голос становится
эротическим (как правило, фаллическим) в различных
контекстах. Это может быть следствием того, что голос является
вторичной сексуальной характеристикой, отличающей мужчин от
женщин. Но голос и произношение, как мужские, так и женские,
подвержены фаллицизации. В то время, как голос есть часть,
способная репрезентировать человека в целом (скажем, можно
узнать человека по голосу), вокальный фаллицизм параллелен
общим процессам фаллической метафоры (см. ниже (15)).
Фенихель отмечает: «Говорить — значит иметь потенцию;
неспособность говорить — скажем, заикание, немота — означает
кастрацию» (1945: 313; см. особое «женское» качество голосов
castrati, специфически сохраняемое посредством кастрации,
хотя и не кастрации в психологическом плане). В своей статье
«Фаллическая репрезентация голоса» (1963) Элвин Саслик
анализирует высказывания тридцатипятилетней
профессиональной актрисы, из которых отдельные заслуживают быть
процитированными здесь:
82
Вчера вечером я хорошо владела своим голосом. Я играла на нем как
на инструменте. Я мысленно рисовала свой голос таким, как бы мне
хотелось, и каждый раз попадала в точку. Не имеет значения, что я читаю.
Всё то время, что я демонстрирую себя, я наслаждаюсь (Саслик 1963: 351).
Я проникаюсь любовью и восторгом, прислушиваясь к своему голосу на
сцене. Его образ в разнообразных ситуациях возникает в моем уме. Он —
мое орудие (Там же; NB: как «инструмент», так и «орудие» — эвфемизмы
«пениса» в английском языке).
Театр заменил в моей жизни секс. На сцене я прихожу в экзальтацию.
Произнося заряженную эмоциями речь, я почти достигаю высшего
наслаждения. Затем накатывает расслабляющее чувство исполненности —
то, что я, мне думается, должна была бы получать от полового акта (Там
же: 352).
Мой голос становится резким и растет, растет — не как у нормальной
женщины. Иногда дома он так тверд, что я почти ощущаю его (Там же:
354; ср. англ. «hard on», то есть «эрекция»).
Очевидно, что демонстрация этой женщины самой себя на
сцене являет собой смещенную («von Unten nach Oben», как
сказал бы Фрейд) демонстрацию пениса. Сравним со следующими
словами героя романа Джозефа Хеллера «Что-то случилось»:
«Ком встает у меня в горле. И вот с чем я остаюсь — с комом в
горле вместо штанов, и я теряю способность говорить и даже не
в состоянии признаться ей <...>». Этот и прочие примеры
обсуждаются в статье «Гений чистой красоты и вавилонская
блудница», в которой я даю фаллическую интерпретацию
вдохновляющего голоса женщины, предмета обожания A.C. Пушкина.
Сродни вокальному фаллицизму использование языка при
смещенной демонстрации пениса (Фрейд опять же назвал бы
это «Verlegung von Unten nach Oben» [нем. «смещение снизу
вверх», т. е. располагать выше то, что должно быть ниже)).
Некоторые разновидности показывания языка, к примеру, где
адресующий дразнит, насмехается или издевается над адресатом,
кажутся проявлением враждебности с фаллическими
обертонами. Смит, Чейз и Кац сообщают, что язык может быть
показан при заигрывании, переговорах с проституткой и поведении,
предшествующем соитию (1974: 220). Джонс (1951) и Флюгель
(1925) обсуждают фаллическую значимость языка. Описание
Джонса особенно суггестивно. Он говорит о языке как о
«красном заостренном органе, обладающем опасными
возможностями, способном двигаться самостоятельно, обычно скрытом
потаенно, но способном высовываться (как при вызывающем и
запретном проявлении чувств у детей), способном выделять
жидкость (слюну), каковая есть распространенный символ се-
6*
83
мени» (Джонс 1951: 312). Нижеследующая история,
рассказанная мне другом, иллюстрирует эквивалентность пениса и
языка вполне красноречиво:
Хозяин средневекового замка решил отправиться в путешествие.
Однако, не полагаясь на верность своей прекрасной супруги, он оснастил ее
поясом целомудрия, снабженным смертельными лезвиями, устроенными так,
чтобы отсекать всякий предмет, проникающий в ее вагину. Лишь затем он
позволил себе отбыть. Вернувшись месяцем позже, он собрал всех своих
вассалов, выстроил их и приказал им по очереди совлечь с себя одежды. К
превеликому своему ужасу, он обнаружил, что все без исключения были
лишены пенисов. Наконец, дойдя до верного слуги, которому он вверил замок на
время своего отсутствия, хозяин сказал: «Нет нужды тебе раздеваться, мой
славный, скажи мне лишь, как всё это случилось». Странные,
нечленораздельные звуки стали вырываться изо рта слуги, и тот бежал из залы.
(10) Фетишизм. Некоторые типы мужчин-фетишистов
бессознательно верят в существование женского (изначально
материнского) пениса и способны достигнуть оргазма, лишь
фиксируясь на определенной части женского тела,
репрезентирующего этот пенис. Парафраз бессознательного хода мыслей
фетишиста ножек, к примеру, дается Фенихелем следующим
образом: «Мысль, что существуют человеческие особи,
лишенные пениса, делает сексуальное возбуждение невозможным для
меня. Но теперь я вижу символ пениса у женщины; это
помогает мне отбросить страх и позволить себе быть сексуально
возбужденным» (1945: 341; ср.: Фрейд 1953-1965/XXI: 152-157). В
терминах семиотики этот тип фетишиста не способен
реагировать на различные женские знаки демонстрации, пока он не
вообразит женщину также подающей знак демонстрации
пениса. Она, впрочем, очевидно, не способна на подобный знак, так
что ему приходится довольствоваться символической заменой.
Заметим, что фантазируемый знак демонстрации пениса
совершенно лишен здесь референта, касающегося вопроса о
доминировании. Знак как таковой (signans и signatum) — всё, что
требуется фетишисту для успокоения. Известны, однако, и иные
виды фетишизма, которым полагался бы иной анализ (см.
обзор литературы на эту тему: Фенихель 1945: 341—344).
(11) Трансвестизм. В процессе психоаналитических
исследований поведения мужчин-трансвеститов Фенихель обнаружил,
что в корне этой перверсии лежит бессознательная фантазия
мужчины о себе как девушке с фаллосом. В то время, как
некоторые мужчины-гомосексуалисты подменяют любовь к
матери идентификацией себя с нею, и в то время, как большинство
84
фетишистов отказываются признать, что женщина не имеет
пениса, мужчины-трансвеститы соединяют в себе обе эти
характеристики. Они преодолевают кастрационное
беспокойство, воображая, что женщина обладает пенисом, и затем
идентифицируют себя с ней. Одежда трансвестита сама по себе
также может быть отмечена фаллическим аспектом (Фени-
хель 1945: 344), и, таким образом, «дефилирование»
трансвестита в женском наряде может обернуться фаллической
демонстрацией. Или же всё тело трансвестита может быть
полностью фаллицизировано, как видно из фантазии протагониста
(главного героя) «Я хочу то, что я хочу» Джеффа Брауна:
Женщины были так роскошны и столь красиво одеты, что почти
лишались чувств от одного лишь экстаза быть самими собой. Но я был(а)
прекраснее всех. Я любил(а) отправляться на бал в длинном «роллс-ройсе»,
мягко освещенном. Я чувствовал(а) себя спокойно и уверенно в футляре
черного бархата, обернув плечи черным шифоновым боа. <...> Стоило
мне появиться на тайном балу, как все разевали рты (цит. по изд.: Килль
1976: 353; курсив наш).
Что касается женского трансвестизма, то он становится всё
более редким в западной культуре, где так или иначе мужская
одежда часто становится моделью для женской (или же
можно было бы сказать, что женский трансвестизм попросту
становится институционализированным). В женском трансвестизме
роль зависти к пенису, конечно, подчеркивается
психоаналитиками. Любопытное явление отрицания какого-либо различия
между полами относится к феномену «унисекс» в
моделировании одежды (см.: Готдинер 1977).
(12) От-зла-защитительный фаллицизм. Фаллические
изображения различного рода использовались на протяжении всей
человеческой истории для отвода злых сил (известны также
другие защитительные средства, такие как заклинания,
исступленные рецитации тайных формул, изображения женских
гениталий — хотя последние, похоже, встречаются реже, чем
изображения мужских гениталий). Фаллические амулеты, к
примеру, репрезентирующие мужской половой орган с
различной степенью проработки, известны многим культурам.
Райт утверждает, что в Неаполе трудно было найти
крестьянина, не имевшего при себе амулета, подобного тому, что
изображен на ил. 9 (Найт, Райт 1957: 65). Эйбл-Эйбесфельдт
сообщает о фаллических амулетах, всё еще используемых в
Японии и предназначенных оградить их владельца от
автомобильных аварий (1970: 430). Многочисленные свинцовые меда-
85
Ил. 9. Разновидность фаллического амулета, который неапольские
крестьяне носили в XIX веке
(источник — работа Райта в: Найт, Райт 1957: 79)
ли с фаллическими и фаллоимитирующими орнаментами
были найдены в реке Сене (Найт, Райт 1957: 60). В
древнегреческих и древнеримских садах изображения Приапа
предназначались для отпугивания ворон. Во многих
средиземноморских странах дурной глаз отводится при помощи амулета,
имеющего одну из специфических форм manus obscena
(неприличного жеста). Уиклер цитирует относящееся к XII веку
сообщение о том, что островитяне Индонезии, «верящие, что
ветер и водяные смерчи вызываются злыми духами, берут
свой фаллос в руку и тычут им в нужном направлении,
чтобы отогнать злого духа» (1972: 58).
Психоаналитическая интерпретация защитительного фалли-
цизма обстоятельно представлена в знаменитой статье 3.
Фрейда о голове Медузы:
Продемонстрировать пенис (или один из его суррогатов) — значит
сказать: «Я не боюсь тебя. Я бросаю тебе вызов. У меня есть пенис». Это
еще один способ отпугивания Злого Духа (Фрейд 1953— 1965/XVTII: 274).
Что касается Злого Духа как такового (или дурного глаза), то,
как было установлено во многих контекстах, это кастрационный
фактор (Там же/XVH: 240; Ференци 1945: 139; Флюгель 1924: 188;
Килль 1976: 21—22; Лаферьер 1978). Использование апотропеи-
ческих фаллосов, таким образом, расширяет кастрационный
спектр, о чем ниже будет говориться более детально.
(13) Пространственный и фигуративный фаллицизм.
Репрезентация (через резьбу, рисунок и т. д.) знака демонстрации
пениса может быть использована для мечения разного рода
ареалов жизни социума. Очевиднейший пример — так называемый
«итифаллический герм», описанный Геродотом, — тип античной
86
Ил. 10. Итифаллический герм (Гермес Сифносский, 490—480 гг.
до н. э.) (источник: Виклер 1967: 131)
скульптуры, состоящей из каменного столба квадратного сечения,
увенчанного мужской бородатой головой, и помещенных
впереди эрегированного пениса и тестикул (см. ил. 10). Эти
скульптуры использовались как межевые камни или сторожевые тотемы
для предотвращения вторжения незваных гостей (см.: Лулье
1931). Первым, кто уловил разительную параллель между
встречающейся в некоторых географических районах демонстрацией
пениса у некоторых обезьян Старого Света и пенальной
демонстрацией итифаллического герма, был Вольфганг Виклер (1967:
132; 1972: 54—58). Н.-О. Браун совершенно прав, разделяя культ
фаллических гермов и фаллицизм Дионисия и Деметры (1947:
34). В то время как итифаллический герм являет собой знак
враждебности, «употребление фаллоса как символа плодородия
неотделимо от вегетативной магии, исходя из представления о
том, что ритуальный половой акт способствует плодовитости
сельхозугодий» (Там же). Итифаллическим гермам аналогичны
фаллические изображения бога Легбы, помещавшиеся, согласно
сведениям, у входа в каждый дом африканского народа йоруба
(Хартланд 1917: 817). Примечательны также обособленные
фаллосы, располагавшиеся вдоль обочин дорог во время периода
Синто в Японии.
87
Ил. 7 1. Эротическая книжная заставка
(источник: Кронхаузен и Кронхаузен 1970: 18)
Поведение людей в разных районах земного шара полно
знаков, которые, не являясь более знаками демонстрации пениса per
se, имеют тем не менее очевидное родство с ними. Национальные
коллективы, к примеру, располагают флагами и прочей
символикой, почитаемой как священная («звезды и полосы навсегда»),
присутствие которой в данной географической области означает,
что другая нация не должна туда вторгаться. Стоит, однако,
сравнить английское выражение «flag is up» [флаг поднят],
описывающее эрекцию, и американское «flag waver» [машущий флагом]
(эксгибиционист) или русское сленговое «дать красный флаг»,
подразумевающее менструацию, то есть время, когда
эрегированный пенис не должен (в согласии с общим употреблением и
смыслом) вторгаться на территорию вагины. Всевозможная
символика, армейские мундиры, гербы и т. п. имеют общее со знаком
демонстрации пениса, хотя и демонстрация женских гениталий
тоже не исключается. «Герб», к примеру, может отсылать к
женскому сраму (см.: «Giles Goat Boy» [«Жиль-Кобелёк»] Джона
Барта). Юмористически-порнографическая книжная заставка (ил. 11)
с отчетливо агрессивным титулом «In hoc signo vinces» [лат.
«Согласно знаку сему, ты победишь») (отсылающая к видению
римского императора Константина I перед его победой над Максен-
цием) содержит как мужские, так и женские гениталии.
88
Вообще говоря, смысловую нагрузку флага или герба
можно перефразировать как: «Не вторгайся на мою территорию,
не то я отомщу». В терминах генитальной демонстрации это
эквивалентно предостережению не забывать, что знак
демонстрации пениса сопровождает знак презентации зада; в терминах
же психоаналитики это означает, что кастрация является
следствием неуважения к пенису.
Крайней степенью человеческой алчбы захвата всё новых
территорий является, конечно, война — вид деятельности, в
процессе которой особи мужского пола орудуют разнообразными
фаллическими объектами — копьями, мечами, ружьями,
пушками, ракетами, чтобы, уродуя и убивая друг друга, расширять и
защищать национальные территории. Древнегреческие гоплиты
и этрусские воины носили различные виды доспехов, но
оставляли гениталии неприкрытыми и, убив очередного противника,
отрезали его пенис (Виклер 1972: 53). Еще одна
порнографическая книжная заставка (ил. 12) изображает штурм крепости в
виде пениса, устремляющегося к женским гениталиям.
Изнасилование, конечно, чаще происходит на войне, чем в каком-либо
другом контексте. Исходя из всех этих враждебных ассоциаций,
связанных с фаллосом или его репрезентантами на войне, трудно
избежать впечатления, что война — своего рода знак пениса,
направляющего энергию действия не по прямому назначению.
Таким образом, хотя война, как заметил Дарвин, и является
частью процесса естественного отбора на манер, наиболее
предпочтительный для генов наиболее агрессивных самцов, в
настоящее время мужские особи определенного вида имеют
возможность полностью ликвидировать генофонд своего вида путем
метафорического применения знака демонстрации пениса, то
есть неограниченного применения ядерного оружия и тем самым
собственной гибели вместе с противником.
(14) Фаллические культы. В глубинах человеческой истории
и во многих человеческих культурах можно обнаружить
религиозные обряды, связанные с почитанием фаллоса или бога,
персонифицирующего фаллос и ассоциируемые с ним
производительные силы11. Наилучший пример — греко-римский бог
плодородия Приап (ПрюстсоС)12, известный как сын Дионисия и
Афродиты и изображаемый чаще всего в виде человечка с
огромными гениталиями. В своем новаторском «Трактате о
культе Приапа» (см.: Найт, Райт 1957 [ориг. 1786]) Ричард Пейн
Найт обрисовал некоторые принципиальные черты древнего
культа этого бога, хотя он и использовал термин «Приап» очень
уж вольно, подразумевая всё разнообразие фаллических куль-
89
Ил. 12. Эротическая книжная заставка
(источник: Кронхаузен и Кронхаузен 1970: 59)
тов (включая даже индийский «лингам», или священный
фаллос). Наиболее полный современный труд на эту тему — «De
Priapo» Хертера (1932). Другие, заслуживающие упоминания
работы (не все из них, впрочем, имеют большую научную
ценность): «Мужской крест» (1891), содержащий (помимо прочих)
откровение о том, что крест — не христианского
происхождения, но был широко распространен в различных европейских
и азиатских культурах как фаллический объект различной
формы (к примеру, «crux ansata» — греческий Т с вытянутой
вверх петлей наверху, как у Изиды в Древнем Египте), и что
золотой телец израэлитов был на самом деле коническим
фаллическим объектом (ср.: Найт, Райт 1957: 123); «Сексуальный
символизм в религии» Хеннея (1922); «Фаллицизм в Японии»
Бакли (1895); «Фаллические объекты, монументы и руины»
(Аноним 1889); статья Хартланда «Фаллизм» в «Энциклопедии
религии и этики» (1917); «Саивизм и фаллический мир» Бхат-
тачарьи (1975); «Фаллос: Символ и его история в мире мужчин»
Вангаарда (1972: 1910). Этот список дает лишь поверхностное
представление об обширной, но зачастую темной и
малодоступной литературе по теме фаллицизма. Но даже ее беглый
просмотр показывает, что «нет веры, известной человеку, в
которой не могли бы быть прослежены фаллические черты» (Бхат-
тачарья 1975Д: 11).
90
Ил. 13. Робин-Весельчак и его почитатели
(источник: статья Райта в изд.: Найт, Райт 1957: 85)
Ил. 14. Ex voti из воска (источник: Там же: 15)
Фаллический культ подразумевает «ритуальную презентацию
подношения, выражающего особую благодарность божеству или
объекту поклонения, сопровождаемую поклонами и прочими
актами, выражающими смирение и подобострастие, и обычно —
произнесением тайных формул — славословии, молитв,
благодарностей или поучительных историй» (Хартланд 1917: 816). Не
всякий фаллический культ, однако, настолько серьезен, как это
подразумевает определение Хартланда. Непристойное веселье может
охватить почитателей различных видов фаллического культа; и
в самом деле, часто религиозный фаллицизм являет собой
попросту праздник необузданного эротизма. Специфическим
примером служат «The Mad Merry Pranks of Robin Goodfellow»
(«Шальные выходки Робина-Весельчака» — название баллады XVH века).
На одной из иллюстраций к балладе (ил. 13) Робин-Весельчак
изображен в виде козлоподобного демона, осуществляющего
демонстрацию эрегированного пениса, в то время как его
почитатели пляшут вокруг него (см.: Найт, Райт 1957: 77). Другие
примеры — хорошо известные древнегреческие дионисийские обряды
и древнеримские Вакханалия, Либералия и Флоралия (римские
празднества, обычно начинавшиеся с процессии, несшей
огромный фаллос, торжественно короновавшийся затем женщинами).
В Древнем Египте на праздниках Осириса женщины носили
изображения этого бога по деревням, манипулируя прикрепленными
к изображениям гипертрофированными фаллосами при помощи
веревок. Найт описывает любопытный обряд плодородия,
практиковавшийся в итальянском городе Изернии в связи с праздни-
91
ками «приапических» святых Косьмы и Дамиана: женщины,
желавшие иметь детей или найти любовников, прежде всего
покупали фаллические ex voti (ритуальные подношения, иногда
имевшие и такую, фаллическую, форму), сделанные из воска (см.
ил. 14), и затем почтительно подносили их Косьме и Дамиану в
помещении местной церкви, произнося слова наподобие: «Santo
Cosimo benedetto, cosi lo voglio» («Благословенный святой Кось-
ма, да будет так») или «Santo Cosimo, a te mi raccomando»
(«Святой Косьма, препоручаю себя тебе», см.: Найт, Райт 1957: 13—23).
Примеры можно множить, но нет необходимости
воспроизводить пространные описания, приводимые в литературе. Нам
же важен лишь факт того, что фаллический культ — это
разновидность знака демонстрации пениса, причем доминирование
приписывается владельцу фаллоса (или самому фаллосу)
посредством других знаков, таких как поклоны перед фаллосом,
молитвы ему, его коронование, подношения (включая
фаллические) ему и т. д. Похожий феномен — описываемое в
психоаналитической литературе «благоговение перед пенисом»
(противоположное «зависти к пенису»), когда некоторые
пациентки, особенно дочери наделенных властью или знаменитых
отцов, манифестируют почти религиозное обложение пениса:
Если благоговение перед пенисом утверждается рано и решительно
предшествует представлению о современном пенисе, то благоговение остается
доминантной и требовательной разновидностью отношения к
противоположному полу, но может варьироваться от религиозной сверхподчиненности
мужчине, при которой избранный партнер должен казаться особенно
богоподобным, до отношения, основанного на страхе и нужде в неприкрытом
мазохистском унижении. Эти формы отношения могут быть естественным
образом направлены на мужчину в целом, на его характерные свойства или
же ясно фокусироваться на половом органе. Выбранный мужчина должен
быть эффектным — большим в ряде отношений — или являть собой
иллюзию этого, чтобы отношения вообще могли сохраняться (Гринэкр 1971: 36).
Следует заметить, однако, что в фаллическом культе то,
что начинается всего лишь со знаков демонстрации пениса и
ответных знаков подчинения репрезентанту пениса, может
перерасти в откровенную оргию. Подобная оргия может быть
определена семиотически как «процесс уподобления»: присутствие
репрезентанта гениталий побуждает собравшихся испытать в
деле собственные гениталии. Еще более откровенным
подстрекательством к оргии было, к примеру, частое присутствие kteis,
символического влагалища (в которое иногда вставлялся
фаллос), на древнегреческих и древнеримских празднествах. Но
если фаллос подчас бывал единственным генитальным репре-
92
зентантом на подобных празднествах, я не нашел ни одного
свидетельства того, что таковым единственным генитальным
репрезентантом бывали kteis. Равным образом, на
древнеримских свадьбах невеста садилась на изображение Приапа в знак
того, что брак будет плодоносным, но я не мог найти ни
одного описания, когда бы жених вставлял свой пенис (или его
репрезентант) в kteis. Можно было бы также заметить, что в
связи с древними оргиями часто упоминается еще один процесс
уподобления (то, что Фрэзер назвал бы образцом
гомеопатической магии) — тестирование человеческих генеративных сил с
целью стимуляции продуктивности сельхозугодий.
(15) Фаллическая синекдоха. Некоторые части
человеческого тела способны репрезентировать тело в целом (pars pro toto,
род метафоры). К примеру, человек высокого роста может быть
назван «ногами» (характерно для английской разговорной речи,
но не для русской. — М.К.). Персонаж одной из повестей
Гоголя — «Нос» (по замыслу автора — настоящий нос, не столько
«репрезентирующий» человека, сколько замещающий его. —
М.К.). Слабый, женственный мужчина может быть назван
«пиздой» (сленговое обозначение вагины), как и любая
женщина (то же и в русском языке (проблематично для русской речи
по отношению к мужчине. — М.К.)). Особо неприятный
человек, мужского или женского пола, может быть назван «хуем»
(в оригинале: «prick». —М.К.) (сленговое обозначение пениса).
(Сравните русское «поц» (с идиш. — М.К.) или «хуй» (в русской
речи невозможно по отношению к женщине. — М.К.)). Однако
из всех частей человеческого тела, мужского или женского,
пенис наиболее употребим и наиболее тщательно разработан как
знак. Более того, уравнение «пенис» = «тело» — не только лишь
односторонний знак; синекдоха может быть понята как totum
pro parte так же, как и pars pro toto — не только человеческое
тело в целом (totum) представляет одну из его частей (член), но
и эта часть (член) представляет тело как таковое (toto) (см.:
Лаусберга 1960: 573, 581 на предмет этих двух видов
метафоры). Так, к примеру, в мужских фантазиях утробной регрессии
не только пенис может замещать человека (о таких pars pro toto
говорит Ференци в его «Identifizierung des ganzen Organismus
mit den Exekutivorgan» («Идентификация [всего] организма с
половым членом») — Ференци 1972: 351), но и обратно, человек
в целом может быть представлен как совершающий то, что в
нормальной ситуации должен совершать пенис, как в
некоторых разновидностях порнографического искусства (см. ил. 15;
93
Ил. 15. Китайский эротический рисунок (XVI в.)
(источник: Хервуд 1975: 156)
этот totum pro parte Ференци называл «Genitalisierung des ganzen
Organismus» («генитализацией всего организма») — см.: Там же).
В своих ранних психоаналитических работах Фрейд
распознал метафорическую силу гениталий, не обозначая, однако, ее
риторическим термином:
Всё большее закрывание человеческого тела, идущее в ногу с
цивилизацией, не дает сексуальному любопытству угаснуть. Это любопытство
стремится дополнить сексуальный объект, обнаруживая его скрытые
части. Оно, однако, может отклониться («сублимироваться») в направлении
[изобразительного] искусства, если его предмет может быть смещен от
гениталий к телесной форме в целом (Фрейд 1953— 1965/VII: 156; курсив наш).
Фрейдовская теория прекрасного в визуальных искусствах
превращает целое в сублимированную синекдоху его части. В
«Толковании сновидений» Фрейд высказывает также
соображение, что в «явном [лежащем на поверхности] содержании»
(«manifest content» vs. «латентное содержание») (см. также
отличный справочник: Психоаналитические термины и понятия.
М.: Класс, 2000) пенис может быть репрезентирован
собственным телом человека или чужим телом. Напротив, в случае
человека-волка уже пенис репрезентирует тело в целом (Фрейд
1953—1965/XVII: 102). (См. об этом специальную статью
Валерия Мерлина в наст. изд. — Д.И.) Позднейшие исследования
94
других психоаналитиков фокусировались на том, как мужской
половой орган метафорически функционирует в
разнообразных фантазиях как мужчин, так и женщин. Отто Фенихель в
его знаменитой статье «Das Madchen als Phallus» («Девица как
фаллос»; 1954 [1936]) описывает особый тип «фаллической
женщины»13. Например, одна пациентка воображала себя
ребенком, висящим под животом ее отца вместо пениса. Другая
пациентка идентифицировала себя с талисманом, который ее
отец возил по всему свету в своем кармане. Знаменитый миф
об Афродите был сжато интерпретирован Н.-О. Брауном так:
«Афродита, персонификация женственности, — всего лишь
пенис, отрезанный и брошенный в море; пенис, потерянный
Отцом-Небом при совокуплении с Матерью-Землей» (1966: 62).
Вообще, когда всё тело женщины фаллицизируется, ее
представляют девственницей, безразличной к мужчинам и
непробиваемой («целка»; абсолютно холодной); потеря
девственности (часто на самом деле сопровождаемая потерей крови)
становится равнозначной кастрации (в психоаналитическом
смысле).
Фенихель (1954: 11) обнаружил, что комический образ
балаганного клоуна, или Пульчинелло, — персонификация пениса
(как ранее заметил Джонз в своих заметках по поводу
фаллического образа Пульчинелло, имя этого персонажа происходит
непосредственно от неаполитанского «polecenella», то есть
индюшонок-самец — см.: Джонс 1961 [1916]: 99—100; ср. «Hanswurst»
(название клоуна, букв.: «сосиски под названием Ганс»),
фаллический образ венской народной комедии). В работе «Тело как
фаллос» (1933) Бертрам Льюин описал пациента,
относившегося к своему пенису как к собственному телу в целом (31). Другой
пациент сравнивал намыливание и мытье себя во время болезни
с мастурбацией (Там же: 41). Льюин дает свою версию
«неприличного рассказа»: «Теперь, спросим мы, как может этот
человечек удовлетворить сексуально эту бабищу? Ответ таков: он
сует свою голову и плечи в ее вагину, шевелит ушами и блюет»
(Там же: 26). Обсудив множество примеров, Льюин выделяет
четыре разновидности уравнения «пенис» = «тело»:
(15) а) Чье-то тело является чьим-то пенисом;
б) Чье-то тело является чужим пенисом;
в) Чужое тело является чьим-то пенисом;
г) Чужое тело является чужим пенисом.
(Там же: 43)
С точки зрения семиотики, все эти четыре уравнения
относятся к разновидности синекдохи totum pro parte, в то время
95
Ил. 16. Автопортрет семилетнего мальчика
как с психоаналитической точки зрения направленность
синекдохи (от частного к целому) репрезентирует защиту, в силу
разных причин, в зависимости от случая, о котором идет речь,
субъект находит проблематичным иметь дело с пенисом per se
(то есть пенис выступает как «эго-дистонический»
семантический материал), и потому внимание смещается от пениса к
более «32о-синтоническому» синекдохическому суррогату.
Теперь может быть представлена разновидность
метафорического уравнения «пенис» = «тело», а именно: «пенис» =
«персона». Это новое уравнение репрезентирует наложение
риторического (связанного с речью и ее стратегиями) процесса
персонификации (тгроаожолоиос) на базисную фаллическую метафору.
Примеров тому множество: и в самом деле, некоторые из
приведенных выше — скажем, фигура Пульчинелло как
персонификация пениса — репрезентируют к тому же
персонифицированную фаллическую метафору. В рассуждении по поводу
детских фантазий о воображаемом пенисе внутри матери Мелани
Кляйн ясно отдает себе отчет в том, что тут задействованы и
метафора, и персонификация: «<...> на этом раннем этапе
развития принцип pars pro to to держится крепко, и пенис
репрезентирует отца собственной персоной» (Кляйн 1949: 189, курсив
наш). Имена персон (обычно мужских) относятся к особенно
распространенным фаллическим метафорам (но я не смог
найти ни одного примера женского имени, функционирующего как
метафора женских гениталий). В английском языке, к
примеру, имя мужчины может отсылать к его пенису: «Я покарал
96
главу <...> обезглавливанием в буквальном смысле, убив Май-
рона, чтобы могла родиться Майра», — говорит Майрон о
своей кастрации в романе Гора Видала; «<...> у меня для такой
Джилл найдется подходящий Джек», — говорит брат Жан о
своих фаллических способностях в [английском] переводе
Рабле Эркьюхарта и Мотью (ср. англ. выражение «to jack off»,
означающее мастурбацию). В английском языке имя «Питер»
может также относиться к пенису. В армянском уменьшительная
форма мужского имени может отсылать к его пенису.
Семилетний мальчик нарисовал автопортрет и подписал его
поразительно фаллическим образом (см. ил. 16). В Древней Греции
(особенно в Лампаске) бог ПрСостсос был придуман специально как
персонификация пениса. Другими древними богами,
персонифицировавшими пенис, были: Фалес (разновидность демона),
Мутунус (или Тутунус), Либер (латинское имя Вакха) и Фасци-
нус (см.: Хартланд 1917: 822; Хаммонд и Скаллард 1970: 802,
876). Особенно релевантно для персонифицированной
фаллической метафоры размежевание в латинском языке «fascinum»
(или «fascinus») и «Fascinus»: первое (грамматически в среднем
или мужском роде) относилось к пенису как таковому или его
защитительному изображению, которое носили на шее
женщины и дети (ср.: Найт, Райт 1957: 28), в то время как второе
(грамматически только в мужском роде) относилось к
персонификации пениса, то есть к божеству14.
Фамилии также могут носить фаллическое значение. В
большинстве современных западных культур, к примеру,
девушка теряет свою «девичью фамилию» (фамилию отца),
когда отец «отдает» ее замуж. Согласно идеализированному
стандарту прошлого, она также теряет девственность вскоре после
потери «девичьей фамилии». Но если, как отмечает Фенихель,
в психологическом смысле девица (Madchen) является
фаллосом и если потеря ею девственности есть кастрация, то одним
из признаков этой кастрации является одновременная
«кастрация» ее фамилии. Привычная практика лишения женщины ее
фамилии при вступлении в брак — еще один путь к сотворению
(психологически реального, фактически неверного) мифа о
женщине как кастрированном существе.
Возможно, наиболее яркими примерами
персонифицированной фаллической метафоры могут служить обсценные гибриды
пениса и человека (персоны; здесь и далее английское слово
«person» переводится как «персона». — М.К.), часто встречающиеся в
порнографическом искусстве. Ил. 17 показывает это очень
хорошо, а заодно содержит и персонификацию женских гениталий.
7 Заказ № К-7531
97
Ил. 7 7. Борьба сумо. Японский живописный альбом конца XIX в.
(источник: Кронхаузен и Кронхаузен 1968)
Изобилие свидетельств персонификации пениса таково, что
особую актуальность приобретает вопрос: насколько сама идея
персоны могла бы зависеть от изначального знака
демонстрации пениса? На первый взгляд может показаться, что между
двумя этими идеями нет вообще никакой связи. Обычные
словарные определения термина «персона» содержат лишь
аллюзии на латинскую этимологию («persona» или маска, от «per
sonare» — звучать (сквозь); в пособиях же по риторике
обсуждается «Actio personae» («просопопоэйя») и «sermocinatio» («это-
поэйя») — без всяких ссылок на пенис. Но разве обширнейшая
литература по современному феминизму не установила, что с
человеческими существами без пенисов обращались как с
низшими созданиями, как с объектами, как с рабами — короче, как
с чем угодно, но не с персонажи? В 1894 году Верховный суд
Соединенных Штатов постановил: суд низшей инстанции был
полномочен репшть, что «женщина» не есть «персона» — в результате
женщина не была допущена в бар в Виргинии (Миллер, Свифт
1976: 83). Даже самые абстрактные, философские или
психологические дискуссии об идее персоны не смогли избежать
уклона в «мужской шовинизм»:
Слово «персона» — латинское; греки используют «7upoaco7i:ov»,
означающее «лицо», в то время как на латыни «persona» означает «личину» или
«наружность человека» (то есть мужчины: в оригинале «man». — M.К.).
(Хоббс «Левиафан», цит. по: Браун 1966: 90).
98
Заметим, что при нормальном положении вещей другая
персона может воздействовать на меня, только затрагивая мои
чувства. Если я каким-либо образом подпадаю под это влияние (в
оригинале: «him», поскольку, если хотят сказать о ком-то, то по-
английски говорят «about him» — так, будто этот некто —
мужчина; любопытно, что русское «персона» (как и «личность») —
«женского» рода. — М.К.) влияние, я должен заметить его...
(Эйер 1963: 121, курсив наш).
Чтобы понять важность языка для функционирования эго, следует
осознать, что, для того чтобы кто-либо мог понимать, контактировать и
обдумывать бесконечный поток своих [его, в оригинале: «his». — M.К.]
переживаний, он должен быть способен упорядочивать свои (его, см. выше. —М.К.)
переживания по категориям... (Лидз «Личность: ее развитие в течение
жизненного цикла» («The Person: His Development throughout the Life
Cycle»), цит. по: Миллер, Свифт 1976: 56, курсив наш).
Подобные примеры, безусловно, отражают общую
тенденцию неотмеченности (немаркированности) мужских
грамматических форм в английском (и в индоевропейских языках
вообще), способных вследствие этого отсылать либо к мужским
человеческим особям, либо же к любым особям этого вида
безотносительно к их полу (см. в изд.: Уог 1978 — дискуссию об
этом в терминах теории маркирования). Или, если
воспользоваться категориями риторики, мужские элементы стали
метафорическими репрезентантами всех элементов, вместе взятых
(«per speciem genus», лат. по типу каждого вида), так что
имеет место некая двусмысленность в отношении специфических
и родовых элементов. Проблема, однако, в том, что два
полюса этой двусмысленности контаминировали друг друга. Одно
исследование, проведенное среди школьников, показывает,
например, что слово «человек» (в оригинале: «man». — М.К.) в
таких фразах, как «человек должен работать, чтобы есть» или
«по всему свету человек счастлив», воспринималось
большинством детей обоих полов как относящееся к мужским, но не
женским персонам (Миллер, Свифт 1976: 24). Ряд
социологических исследований «ясно указывает, что [мачоистский] человек
[man] как мужчина настолько заслоняет человека-просто-челове-
ка [man] — объекта-как-человеческое-существо, что последнее
оказывается неточным и вводящим в заблуждение при
употреблении в целях как понятийных, так и коммуникативных» (Там
же: 25). Под «неточным» и «вводящим в заблуждение» авторы
подразумевают, в сущности, «диктуемое мужским шовинизмом»,
то есть способствующее дальнейшему доминированию мужчин
над женщинами.
7*
99
Сравнительное «высшее», или «доминирующее», положение
мужских форм в контексте абстрактной лингвистической
иерархии предстает очевидным символом «высшего», или
«доминирующего», положения мужчин по отношению к женщинам:
родовые
формы
(человеческие)
- он —
человек
тип [guy]
поэт
и т. д.
немаркированное
маркированное
специфические
формы
(мужские)
мужчина
парень [guy]
поэт
и т. д.
специфические
формы
(женские)
она
женщина
девчонка [gal]
поэтесса
и т. д.
Если бы иерархия грамматических родов была обратной, то
есть мужские формы были бы означены, а женские нет, вряд
ли феминисткам было бы на что жаловаться («возвышение
женщины», «в начале сотворила Богиня...» и т. д.), но крайне
сомнительно, чтобы подобный лингвистический порядок
отмеченности мог сохраниться в западной культуре с ее
характерной ориентацией на «мужской шовинизм» в ее разнообразных
иерархиях социального доминирования. Грамматическая
«неотмеченность» (немаркированность) мужского рода является
попросту отражением общей немаркированной
«неотмеченности» бытования мужчиной: «<...> ясно, что в том, чтобы быть
мужчиной, нет ничего особенного» (Бовуар 1961: XV).
100
Интегральная взаимосвязь мужских гениталий с
доминированием мужчин над женщинами и враждебным отношением к ним
признается некоторыми из особо радикальных феминисток.
Джули Лоэш, например, изобретает следующие термины: «тес-
терия» (по аналогии с «истерией») (на языке оригинала
соотносится как с «тестикулами», так и со словом «testy» (см. ниже). —
М.К.) — «состояние, характеризуемое ребяческими,
неадекватными эмоциональными реакциями», ведущее к «таким мужским
изобретениям, как война, капитализм, тоталитаризм,
индустриализм и прочим зверствам»; «членаыостъ» («член» + «наглость»
[«penisolence» = «penis» + «insolence»]) — «настырная и
агрессивная попытка укротить свою нужду путем укрощения других
людей» (цит. по: Миллер, Свифт 1976: 67—68).
Анн Шелдон предлагает следующее:
«фаллостер» («фаллос» + «филистер») — персона, виновная в
«раздражительном [testy] мужском высокомерии» или «ошибочном [phallacious]
фрейдистском сексизме» (Шелдон 1970: 4).
В этих примерах мужские гениталии функционируют как
метафорические репрезентации персон, обладающих такого
рода гениталиями («фаллостер»), или же агрессивного
поведения подобных персон («тестерия», «членаглость»). Архаическая
связь знака демонстрации пениса с мужской агрессией живет
и здравствует.
Раньше или позже в любой дискуссии о пенальных знаках
приходится касаться понятий кастрации и кастрационного
комплекса. Под «кастрацией» я подразумеваю удаление пениса, то
есть стандартный психоаналитический смысл слова, в каком оно
употреблялось до сегодняшнего дня в течение трех четвертей
столетия. Как ни странно, большинство словарей
английского языка даже не упоминают этого значения слова и говорят
вместо этого преимущественно о: (1) холощении (удалении тес-
тикул или яичников), (2) лишении жизненной силы или
выхолащивании и (3) купировании текста — как если бы словари
давали психоаналитическое значение слова только посредством (пир-
совской) концепции «знака», то есть путем редукции — своего
рода «кастрации» записи одного из его значений.
Вместо простого перечисления или повторения
доказательства наличия кастрационного комплекса как у маленьких
мальчиков, так и у девочек см.: Лапланш, Понталис 1973: 74—78),
будет полезнее поразмыслить здесь, каким образом кастрация
могла развиться в модель поведения, связанную с пенальной
демонстрацией. То есть стоило бы рассмотреть вопрос о том,
101
как {+ пенис} и {- пенис} формируют соотношение в рамках
класса эквивалентности.
Если, как кажется весьма вероятным из исследований Вик-
лера и Маклина, пенальная демонстрация была одним из
компонентов поведения, обусловленного географическим
проживанием, в период развития раннего гоминида, то в некий момент
в усиленно эволюционировавшем мозгу гоминида должна была
возникнуть мысль, что одним из путей преодоления
агрессивной пенальной демонстрации могло бы быть уничтожение
демонстрируемого пениса, то есть, коль скоро нейрохимические
процессы стали позволять самцам-демонстрантам
«задумываться» о том, что они делают, то рано или поздно мысль о
кастрации должна была прийти им в голову. Селекционная ценность
реализации подобной мысли очевидна: животное, наказанное
кастрацией за попытку пенальной демонстрации, было по
определению не способно передать дальше свои гены, в то время
как кастрирующее животное обретало тем большую
возможность это сделать. Точно так же, как естественный отбор
жалует изнасилование и войну, он должен жаловать и кастрацию.
Гены раннего гоминида, кастрировавшего максимальное число
оппонентов, должны были иметь наибольший шанс уцелеть
среди моря прочих генов.
Тут можно было бы возразить, что для более «крутого»
гоминида должно было быть проще убить
оппонента-демонстранта, нежели кастрировать его. Однако убийство
представителей собственного вида — редкость в мире приматов и по
большей части было обойдено отбором, хотя убийство других видов
животных для употребления в пищу вполне распространено, то
есть должен был существовать некий промежуточный
механизм, при посредстве которого ранние гоминиды развились из
приматов, охотившихся только на другие виды, в приматов,
убивавших представителей собственного вида. И таким
механизмом, по моему предположению, могла быть кастрация,
усиленная разновидностью фаллической метафоры,
обсуждавшейся выше. Если нервная система ранних гоминидов была
оснащена чем-то, посредством чего части могли репрезентировать
целое и наоборот, то любая нейромеханика, удерживавшая их
от убийства собратьев по биологическому виду, могла быть
обойдена. «Метафорическая» (синекдохическая)
нейромеханика, способная репрезентировать убийство как символическую
кастрацию, могла освободить организм от каких бы то ни было
нейромеханических тормозов, удерживавших его от убийства
собратьев по виду. Факт того, что бессознательное сегодняшних
102
человеческих особей так легко уравнивает убийство с
кастрацией (см. «Заключение» в «Эго и Я», см.: Фрейд 1953—1965/XIX:
57—59), может быть понят как архаический след этого сдвига
в нервной системе. Наглядную иллюстрацию ассоциации
между убийством и кастрацией можно наблюдать в сцене из
фильма «Эль Топо», где злодей, подвергшийся кастрации, своими
руками сводит счеты с собственной жизнью. Другим примером
этой ассоциации может служить практика кастрации
соперника после его убийства, до недавних пор бытовавшая среди
племен галла в Южной Эфиопии (Виклер 1972: 54).
Что касается того, каким образом поведение, обусловленное
кастрационным комплексом, реализовывалось на практике, то,
возможно, применялись специально сконструированные орудия,
но разумнее было бы постулировать, что изначально пенис
откусывался. Свидетельством тому может быть: (1) скрежет
зубовный (бруксизм), случающийся у мужчин при ночной поллюти-
ческой эрекции, то есть во время так называемых периодов REM
(«rapid eye movement») — см.: Маклин 1973: 57), и (2) скрежет
зубовный, издаваемый самцом беличьей обезьяны при
агрессивной демонстрации пениса (Там же: 48). Некоторое внимание
Маклин уделяет нейрологической связи между скрежетанием
зубами и демонстрацией пениса (Там же: 58).
Психоаналитическая литература конечно же полна ссылок, указьшающих на
тесную связь между кусанием и кастрацией. Распространенная
фантазия «vagina dentata», к примеру, или распространенный же
страх маленького мальчика, что животное откусит его пенис,
указывают на четкую связь между кусанием и кастрацией.
Прежде чем оставить тему кастрации, — краткое замечание
об отношении кастрационного комплекса к феминизму, в то
время как, с одной стороны, многие феминистки отрицают
наличие кастрационного комплекса у обоих полов и, в частности,
зависть к пенису у женского пола, с другой — феминистская
литература изобилует фаллоцентрической терминологией и
образностью. Жермен Греер, к примеру, озаглавила свою книгу
«Женщина-евнух» (1972). Кайси Миллер и Кейт Свифт (1976),
осуждая «сексизм» такого выражения, как в отношении самих
себя (т. е. мужчин), так, в определенном смысле и в отношении
«кастрирующая женщина», тем не менее утверждают, «что
именно мужчины являются активными исполнителями акта
кастрации как в отношении самих себя (т. е. мужчин), так, в
определенном смысле, и в отношении женщин» (151). Негативная
оценка мужчин, подразумеваемая такими терминами, как «те-
стерия», «членаглость» и «фаллостер», уже обсуждалась выше.
103
При наличии настолько фаллоцентрической концепции
мужчин в феминистской литературе удивительно ли, что
мужчины воспринимают феминистскую атаку на них как
специфически ориентированную на их гениталии? Если,
согласно крепко обоснованному семантическому процессу
фаллической метафоры, феминистки составляют уравнение
«мужчина» = «пенис», то посредством очень похожего языкового
процесса, оперирующего метафорами, мужчины
интерпретируют феминистскую атаку на «членаглость» [«penisolence»] как
атаку на член [penis], сознательно или бессознательно
выстраивая уравнение «удаление членаглости» = «удаление члена».
Лишь самое настоятельное усилие при участии как мужчин,
так и женщин освободиться от этой архаической, возможно
даже нейрологически закрепленной, метафоры сделает
возможным интеллигентный диалог о возможной перестройке
отношений между мужчинами и женшинами.
Примечания
1 Английский вариант данной статьи был опубликован в
итальянском научном журнале: Rancour-Laferriere D. Some Semiotic Aspects of
the Human Penis//Versus: Quaderni di studi semiotici. Roma: Bompiani,
1979. Settembre-Dicembre. № 24. P. 37-82.
Благодарю Барбару Милман и д-ра Пола Маклина за
конструктивную критику и интеллектуальную поддержку.
2 См. ниже с. 96 и ел.
3 Возможно, в генетическом фонде сохранялись также гены
наиболее сексуально привлекательных в группе самок (то есть тех,
которые чаще прочих находились в состоянии течки, или тех, кто «презен-
тировал» свои задние части в наиболее провокативной форме). Но
большинством студентов, изучающих эволюцию человека, такая
возможность не рассматривается — отбросить мужские шовинистские
условности — задача не из легких. На самом деле гипотеза,
учитывающая роль женщины, скорее дополняет, чем противостоит
гипотезе, ориентированной на мужчину. Не существует никакого основания
для допущения причин, по которым в данном случае сексуальный
отбор не мог бы осуществляться двуполо. Следует также отметить, что
во время течки самки некоторых приматов становятся очень
агрессивными (см.: Уиклер 1967: 78) и что, по крайней мере, у двух видов
самка, находящаяся в течке, стремится найти самцов, занимающих самые
высокие места в иерархии (Там же). Таким образом, хотя по большей
части агрессивное или доминантное поведение и остается связанным
с самцами-приматами, оно также косвенным образом связано и с
самками и должно играть известную роль в сексуальном отборе.
104
4 Следует также заметить, что среди позвоночных высокий
уровень содержания андрогена у самцов обычно (хотя и не всегда)
коррелирует с более высоким, чем у самок, уровнем агрессивности
самцов (Уилсон 1975: 250—255). С другой стороны, уровень содержания
эстрогена, в том, что касается агрессии, представляет собой более
сложный вопрос (Там же). Было также показано, что уровень
содержания мочекислой фосфатазы у самцов повышается и при
сексуальном возбуждении, и в случаях пробуждения ярости (более подробно
см.: Цукерман 1971: 91—93). Считается, что кислая фосфатаза секре-
тируется предстательной железой.
5 Заметим, что известны случаи, в том числе живописанные в
литературе и кинематографе, когда некая женщина 'dominatrix',
пристегнув твердый фаллоимитатор (крепится кожаными ремнями на
бедрах и располагается на месте мужского члена), — насилует в
задний проход как мужчину (которого для этого удерживают ее
помощники), так и, соответственно, женщину, — беспомощных перед
такого рода пенетрацией. Следовательно, в «техническом смысле»
изнасилование, совершаемое женщиной, сегодня вполне возможно. [Примеч.
науч. ред.)
6 Кляйн (1949: 167) сообщает о кастрационных фантазиях в том
числе и в контексте гомосексуальной фелляции.
7 Даже антифрейдист К.-А. Трипп в своей работе
«Гомосексуальная матрица» настаивает:
<...> романтическая идеализация полового партнера может иметь
место только там, где прячется надежда стать лучше путем обладания и
«орального усвоения» чаемых качеств партнера. Этот подход очевидным
образом лежит в основе всех связей между поцелуями, обожанием и
употреблением рта в половых отношениях (1975: 101).
8 Это не значит, что все проявления вербальной враждебности
имеют фаллическую природу, поскольку многие из них — анального
происхождения, скажем: «Поцелуй меня в жопу!»
9 В противоположность такому выражению, как «Не fucked her»
(«Он выебал ее»).
10 И просто невозможно в случае примера (8д).
11 Фаллос понимается здесь как принадлежность мужского пола,
хотя некоторые ученые употребляют этот термин по отношению к
почитаемым гениталиям обоих полов (греческое «kteis», «xxeiç», или
индуистское «yoni» (а также то же слово в иврите «йони» = «йерй», см.
об этом в данном сборнике статью Марины Аптекман. — Д.И.), с
другой стороны, недвусмысленны и относятся только к почитаемым
женским гениталиям).
12 На самом деле Приап был импортирован из Греции.
Изначальным древнеримским фаллическим богом был Тутунус/Мутунус, или
Фасцинус.
105
13 Другие типы, вместо того чтобы быть фаллосом, обладают
фаллосом (или фаллосами). Норман Килль (1976) в главе о «фаллической
женщине» смешивает примеры: (1) женщин, являющихся фаллосами,
(2) женщин, обладающих фаллосом (или фаллосами), и (3) женщин, в
различных отношениях «мужеподобных» [«маскулинных»] или
ведущих себя как мужчины.
14 Заметим, что, в то время как орган, которым обладает
мужчина, может быть персонифицирован — организм, который носит в себе
женщина, то есть ребенок, в конце концов становится персоной.
Библиография
[Аноним] Anon.
1889 Phallic Objects, Monuments and Remains. Приватное издание.
1891 The Masculine Cross: or A History of Ancient and Modern
Crosses and their Connection with Mysteries of Sex Worship. Приватное
издание.
[Бакли] Buckley, E.
1895 Phallicism in Japan. Chicago: Univ. of Chicago Press.
[Бейтс] Bates, J.A.V.
1975 The Communicative Hand//The Body as a Means of Expression/
Ed. J. Benthall, T. Polhemus. New York: Dutton. P. 175-194.
[Берглер] Bergler, E.
1947 Psychoanalysis of Writers and Literary Productivity//Psychoanalysis
and the Social Sciences/Ed. G. Roheim. New York: IUP. Vol. 1. P. 247-296.
[Билц] Bilz, Rudolf
1940 Pars pro toto: Ein Beitrag zur Pathologie Menschlischer Affekte
und Organfunktionen. Leipzig: Georg Thieme.
[Бовуар] Beauvoir de, Simone
1961 (1949) The Second Sex/Trans., ed. H.M. Parshley. New York:
Bantam.
[Браун] Brown, N.O.
1947 Hermes the Thief: The Evolution of a Myth. Madison: Univ. of
Wisconsin Press.
1966 Love's Body. New York: Vintage.
[Браунмиллер] Brownmiller, Susan
1975 Against Our Will: Men, Women and Rape. New York: Simon &
Schuster.
106
[Бхаттачарья] Bhattacharya, В.
1975 Saivism and the Phallic World: In 2 vols. New Delhi: Oxford;
IBH.
[Вангаард] Vangaard, Thorkill
1972 (1910) Phallos: A Symbol and its History in the Male World.
London: Cape.
[Виклер] Wickler, W.
1966 Ursprung und biologische Deutung des Genitalprasenttierens
mannlischer Primaten // Z. Tierpsychol. Vol. 23. P. 422—437.
1967 Socio-Sexual Signals and their Intra-specific Imitation among
Primates // Primate Ethology / Ed. D. Morris. London: Wiedenfeld and
Nicholson. P. 69-147.
1972 The Sexual Code: The Social Behavior od Animals and Men.
Garden City: Doubleday.
[Готдинер] Gottdeiner, Mark
1977 Unisex Fashions and Gender Role Change//Semiotic Scene. Vol. 1.
№ 3. P. 13-37.
[Гринэкр] Greenacre, Phyllis
1971 Emotional Growth: Psychoanalytic Studies of the Gifted and a
Great Variety of Other Individuals. New York: IUP. Vol. 1.
[Грир] Greer, Germaine
1972 The Female Eunuch. New York: Bantam.
[Джолли] Jolly, Alison
1972 The Evolution of Primate Behavior. New York: Macmillan.
[Джонс] Jones, Ernest
1951 Essays in Applied Psycho-Analysis. London: Hogarth. Vol. II.
1961 (1912) Papers on Psycho-Analysis. Boston. Beacon.
[Добжанский] Dobzhansky, Theodosius
1962 Mankind Evolving. New Heaven: Yale University Press.
[Докинс] Dawkins, Richard
1976 The Selfish Gene. New York: Oxford University Press.
[Донг, Квант Фук] Dong, Quang Phuc
1967 English Sentences Without Overt Grammatical Subject//Mime о :
MIT, Linguistics Department. (Рукопись.)
107
[Килль] Kiell, Norman
1976 Varieties of Sexual Experience. New York: IUP.
[Кляйн] Klien, Melanie
1949 The Psycho-Analysis of Children. London: Hogarth.
1975 Envy and Gratitude and Other Works, 1946-1963. London: Hogarth.
[Кофорд] Koford, C.B.
1963 Group relations in an Island Colony of Rhesus Monkeys // Primate
Social Behavior/Ed. С Southwick. Princeton (NJ): Van Nostrand. P. 136-152.
[Крамер] Kramer, Chéris
1975 Women's Speech: Separate but Unequal? // Language and Sex:
Difference and Dominance / Ed. B. Thorne and N. Henley. Rowley (MA):
Newbury House. P. 43—56.
[Кронхаузен и Кронхаузен] Kronhausen, Phyllis and Eberhard
1968 The First International Exhibition of Erotic Art. Copenhagen:
Kronhausen.
1970 Erotic Bookplates. New York: Bell.
[Крук] Crook, John Hurrell
1972 Sexual Selection, Dimorphism, and Social Organization in the
Primates // Sexual Selection and the Descent of Man 1871—1971 / Ed.
B. Campbell. Chicago: Aldine. P. 231-281.
[Кэмпбелл] Campbell, Bernard G.
1974 Human Evolution: An Introduction to Man's Adaptations.
Chicago: Aldine.
[Лакан] Lacan, Jacques
1966 Ecrits. Paris: Seuil.
[Лапланш, Понталис] Laphlanche, Jean andJ.-B., Pontalis
1973 Vocabulaire de la Psychoanalyse. Paris: PUF.
[Лаусберг] Lausberg, Heinrich
1960 Handbuch der literarischen Rhetorik. 2 vols. München: Max Hueber.
[Лаферьер] Laferriere, Daniel
1976 The Writing Perversion//Semiotica. Vol. 18. P. 217-233.
1977a What is Semiotics // Semiotic Scene. Vol. 1. P. 2—4.
19776 Five Russian Poems: Excercises in a Theory of Poetry. Engle-
wood (NJ): Transworld.
1978 The Identity of Gogol's «Vij» // Harvard Ukrainian Studies.
Cambridge (MA): The Institute, 1978. Vol. П. № 2. June. P. 211-234.
108
[Льюин] Lewin, В.
1933 The Body as Phallus // Psychoanalytic Quarterly. Vol П. P. 24-47.
[Лулье] Lullies, R.
1931 Die Typen der griechischen Herme. Königsberg. Приватное
издание.
[Маклин] MacLean, Paul
1964 Mirror Display in the Squirrel Monkey, Saimiri sciureus // Science.
Vol. 146. P. 950-952.
1965 New Findings Relevant to the Evolution of Psychosexual Functio-
na of the Brain // Sex Research: New Developments / Ed. John Money. New
York: Holt. Reinhart and Winston. P. 197-218.
1973 A Triune Concept of the Brain and Behavior. Toronto: University
of Toronto Press.
[Марк] Mark, V.H. and F.R. Ervin
1970 Violence and The Brain. New York: Harper & Row.
[Миллер, Свифт] Miller, Casey and Kate Swift
1976 Words and Women. New York: Anchor: Doubleday.
[Митчелл] Mitchell, Juliet
1974 Psychoanalysis and Feminism. New York: Random House.
[Моррис] Morris, Desmond
1967 The Naked Ape: A Zoologist's Study of the Human Animal. New
York: McGraw-Hill.
[Мохр, Тернер, Джерри] Mohr, J.W., R.E. Turner and M.B. Jerry
1964 Pedophilia and Exhibitionism. Toronto: Univ. of Toronto Press.
[Найт, Райт] Knight, Richard Payne and Thomas Wright
1957 (1786, 1866) Sexual Symbolism: A History of Phallic Worship.
New York: Julian Press.
[Рабле] Rabelais, Francois
1955 Gargantua and Pantagruel / Tr. sir Th. Urquhart, P. Motteux.
Chicago: Encyclopedia Britanica.
[Саган] Sagan, Carl,
1977 The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human
Intelligence. New York: Random House.
[Саслик] Suslich, Alvin
1963 The Phallic Representation of the Voice //Journal of the American
Psychoanalytic Association. Vol. 11. P. 345—359.
109
[Себеок] Sebeok, Thomas, A.
1976 Contributions to the Doctrine of Signs. Bloomington/Iisse: Research
Center for Language and Semiotic Studies, Peter de Ridder Press.
[Смит, Чейз, Катц] Smith, W.John,Julia Chase and Anna Katz
1974 Tongue Showing: A Facial Display of Humans and Other Primate
Species//Semiotica. Vol. 11. P. 201-246.
[Тайгер и Фокс] Tiger, Lionel and Robin Fox.
1971 The Imperial Animal. New York: Holt, Reinhart and Winston.
[Татл] Tuttle, Russell, ed.
1975a Sociecology and Psychology of Primates. The Hague: Mouton.
19756 Primate Functional Morphology and Evolution. The Hague: Mouton.
[Торн и Хенли] Thorne, Barrie and Nancy Henley, eds.
1975 Language and Sex: Difference and Dominance. Rowley (MA):
Newbury House.
[Уайлден] Wilden, Anthony
1972 System and Structure: Essays in Communication and Exchange.
London: Tavisotck.
[Уилсон] Wilson, Edward, O.
1975 Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge: Harvard University
Press.
[Уог] Waugh, Linda,
1978 Marked and Unmarked — A Choice Between Unequals in
Semiotic Structure // Paper presented at third annual meeting of the Semiotic
Society of America. (Рукопись.)
[Фенихель] Feinichel, Otto
1945 The Psychoanalytic Theory of Neurosis. New York: Norton.
1953 The Psychology of Transvestitism // Collected Papers of Otto
Feinichel. New York: Norton. First Series.
1954 (1936) The Symbolic Equation: Girl = Phallus // Collected Papers
of Otto Feinichel. New York: Norton. Second Series. P. 3—18.
[Ференци] Ferenczi, Sandor
1972 (1919-1933) Schriften zur Psychoanalyse. Frankfurt: S. Fischer.
Vol. 2.
[Фокс] Fox, Robin
1972 Alliance and Constraint: Sexual Selection in the Evolution of
Human Kinship Systems// Sexual Selection and the Descent of Man 1871—
1971 /Ed. B.G. Campbell. Chicago: Aldine. P. 282-331.
110
[Флюгель] Flügel, J.P.
1924 Polyphallic Symbolism and the Castration Complex //
Internationaljournal of Psycho-Analysis. Vol. 5. P. 155—196.
1925 A note on the Phallic Significance of the Tongue and Speech //
International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 6. P. 209—215.
[Фрейд] Freud, Sigmund
1953—1965 The Standard Edition of the Complete Psychological Works
of Sigmund Freud. In 24 vols. /Tr. under the direction of James Strachey.
London: Hogarth Press.
[Хаммонд и Скаллард] Hammond, N.G.L., and Scullard, H.H.,
1970 The Oxford Classical Dictionary. Oxford.
[Хартланд] Hartland, E.S.
1917 Phallism // Encylopedia of Religion and Ethics / Ed. J. Hastings.
New York: Scribner's. Vol. IX. P. 815-831.
[Хевес] Hewes, G.W.,
1957 The Anthropology of Posture // Scientific American. Vol. 196.
P. 123-132.
[Хенней] Hannay, J.B.
1922 Sex Symbolism in Religion. 2 vols. London. Приватное издание.
[Хервуд] Hurwood, Bernhardt, ed.
1975 The Whole Sex Catalogue. New York: Pinnacle.
[Хертер] Heiter, Hans
1932 De Priapo. Giessen: A. Topelmann.
[Цукерман] Zuckerman, Marvin
1971 Physiological Measures of Sexual Arousal in the Human
//Technical Report of the Commission on Obscenity and Pornography.
Washington (V.S.): Govt. Printing Offices. Vol. I. P. 61-101.
[Шелдон] Sheldon, Ann,
1970 Letter to Editor//Village Voice. Dec. 17. P. 4.
[Шульц] Schultz, J.H.
1966 Organtsorrungen und Perversionen im Liebesleben. München:
E. Reinhardt.
[Эйбл-Эйбесфельдт] Eibl-Eibesfeldt, Irenaeus
1970 Ethology: The Biology of Behavior. New York: Holt, Rinehart and
Winston.
Ill
[Эйбрехем] Abraham, Karl
1968 Selected Papers of Karl Abraham, M.D. New York.
[Эйр] Ayer, AJ.
1963 The Concept of a Person. New York: St. Martins Press.
[Эко] Eco, Umberto
1976 A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
[Элиаде] Eliade, Mircea
1962 (1956) The Forge and the Crucible. New York: Harper and Brothers
»
я
Мир
компаратибистских
схолии
Этапы синтеза в очерчивании
конкретики сюжетов
â
ш
8 Заказу К-7531
Михаил Д. Клебанов
К ТРАНСГРЕССИИ
ВНУТРЕННЕГО ОПЫТА,
ИЛИ БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
ОЗНАЧАЮЩЕГО
Пределы эротографической стилистики
у Жоржа Батая и Пьера Гийота
Одна-единственная фраза, которая никогда не кончается, красота
которой заключается не в ее способности «запечатлевать» (реальность, к
которой она предположительно отсылает), но в прерывистом
непрекращающемся дыхании, как если бы перед автором стояла задача
представить нам не воображаемые сцены, но сам язык, причем таким образом,
что моделью этого нового мимесиса были бы уже не приключения
какого-то героя, а приключение самого означающего, того, что с ним
происходит1, —
кажется, что при желании, именно к этой одной-единственной
фразе Ролан Барт мог бы свести свое и без того довольно
лаконичное предисловие к роману Пьера Гийота «Эдем, Эдем,
Эдем» (далее — «Эдем»). В самом деле, она дает весьма емкое
описание как общей формы этого примечательного
произведения, так и его основных стилистических особенностей — с виду
немногочисленных. Однако, хотя этот «дыхательный» мимесис
может показаться обманчиво простым в сравнении с
традиционным, «фигуративным», автор предисловия удостаивает его
оценки чрезвычайно высокой:
<...> этот текст никогда не перестанет очаровывать: не поддающийся
классификации и ускользающий от определений, он является в высшей
степени новаторским и возвращает нас к истокам письма2.
Между тем, за несколько лет до выхода в свет первого
издания «Эдема», предваренного означенным предисловием, в
проницательном и почти некрологическом эссе, посвященном
самому, должно быть, популярному эротическому тексту
Жоржа Батая, Барт замечает дословно следующее:
115
«История глаза» — это не глубинное произведение: в нем всё лежит на
поверхности <...> здесь мы имеем дело с обозначением без означающего
(или с обозначением, в котором есть только означающие); и немалое
великолепие, и немалая новизна этого текста определяются тем, что
техника, которую мы пытаемся здесь описать, ведет к литературе под
открытым небом, к литературе, расположенной по ту сторону от всякого
расшифровывания <...>3.
Итак, как мы видим, Ролан Барт использует довольно схожую
аргументацию и фразеологию, пытаясь дать общую
характеристику текстов Гийота и Батая. Может даже сложиться впечатление,
что речь идет об авторах, довольно близких — по меньшей мере
в плане формально-стилистических особенностей манеры письма.
И как следствие, тем более уместным кажется вопрос, встающий
при прочтении бартовского предисловия к «Эдему»: почему в
списке авторов «предшествующих ему действий», среди которых
числятся такие вполне предсказуемые персонажи, как Сад,
Жене, Малларме и Арто, начисто отсутствует Жорж Батай?
Возможно, было проще приблизиться если не к ответу на
этот вопрос, то к пониманию причин, его вызвавших,
обратившись к двум другим предисловиям, окаймляющим в преддверии
«одной-единственной фразы» вопрос-ответ самого Барта: «Что
случилось с означающим». Авторство этих предисловий
представляется столь же неслучайным в свете авторства книги,
которой они предшествуют: но помимо нескрываемо (и вполне
оправданно) хвалебного тона, их объединяет с написанным Бартом как
минимум еще одно красноречивое, хотя и не столь
бросающееся в глаза обстоятельство: неупоминание имени Батая.
При этом нельзя сказать, чтобы речь шла о лицах, с Батаем
не знакомых или же не считавших его достойным какого-либо
внимания. И всё же Филипп Соллерс — назвавший «Небесную
синь» не менее чем «ключевой книгой всей нашей
современности»4, — начиная разговор логичным образом с Сада (более того:
«ни на что подобное со времен Сада еще никто не
отваживался»5), поминает затем не только Лотреамона, но и Фрейда,
Лакана, Бланшо, вплоть до, qui bono, Маркса и Энгельса, однако
автор «ключевой книги» оказывается странным образом
обойденным. Но менее ли странно, что ближайший и многолетний
соратник Батая, Мишель Лейрис, хотя и предпочитающий в
своем тексте ни на кого не ссылаться, не счел нужным по такому
случаю вспомнить о нем?
Сторонний наблюдатель мог бы в свою очередь задаться
вопросом: насколько вообще в таком случае уместно говорить
116
о Батае в контексте творчества Гийота? Не является ли
риторическое сходство бартовских наблюдений за двумя авторами
чисто поверхностным, в то время как под поверхностью все-
таки скрываются некие корневые, непреодолимые различия?
Похоже, однако, что для сегодняшних наблюдателей этот
вопрос, как правило, не стоит. Беглый просмотр критических и
академических материалов последних лет, так или иначе
связанных с Гийота, показывает, что их авторы зачастую не
обходятся без того, чтобы не припомнить Батая под тем или иным
предлогом, а подчас и не находят ничего предосудительного в
перечислении этих имен через запятую6. Однако этим дело не
ограничивается: в отдельных случаях о Гийота прямым текстом
говорится как о не менее чем идейно-духовном наследнике
Батая.
Гийота был не только современником ситуационистов, но также, как
романист и мыслитель, находился под влиянием Батая, оказавшего
ключевое влияние на ситуационистов7, —
заявляет Эндрю Хасси из Университета Уэльса, после чего
переходит к разговору о политике... Идея преемственности между
Батаем и Гийота, похоже, стала настолько общим местом, что
даже в коммерческих (особенно англоязычных) анонсах к тому
же «Эдему» первый непререкаемо фигурирует в списке
«литературных предшественников» последнего.
Определенный свет на причины этого странного контраста
между молчанием старшего и энтузиазмом младшего
поколения современников Гийота по данному вопросу проливает, как
кажется, Стюарт Кендалл, рецензент объемистого
биографического эссе о писателе, подготовленного Катрин Брюн.
Отдавая должное всё той же тенденции,
Гийота<...> должно быть, единственный из ныне живущих писателей,
столь же способный изумлять читателя глубиной и шокирующим
величием своих произведений, что и маркиз де Сад, Лотреамон, Рембо, Арто,
Батай или Жене,
он, однако, замечает:
<...> хотя имя Гийота регулярно всплывает, мимоходом, когда речь
заходит о литературном эксперименте, постколониальном письме или цензуре
<...> даже знатоки (рецензенты, критики, историки литературы и мысли)
редко обсуждают его творчество сколь-либо серьезным образом8.
Отсюда можно, в частности, предположить, что
многочисленные, якобы самоочевидные упоминания Гийота и Батая в
117
единой связи, как правило, оказываются не подкрепленными
«сколь-либо серьезными» обоснованиями очевидности
подобной связи.
В то же время, если обратиться к самому эссе Брюн, как,
несомненно, одному из этих редких образцов серьезной работы
на тему Гийота, можно обнаружить другую, не менее
интересную тенденцию, заставляющую вспомнить скорее
вышеозначенные предисловия к «Эдему»: на всем протяжении более чем
четырехсот страниц этой скрупулезнейшей монографии имя Ба-
тая почти не встречается. Те же случаи, когда оно все-таки
звучит, вряд ли позволяют сделать какой-то, даже
приблизительный, вывод о воздействии этого персонажа на героя
монографии Брюн. В частности, два таких случая отылают к
коллоквиуму под названием: «Навстречу культурной революции:
Арто, Батай», в котором Гийота по настоянию Соллерса принял
участие в 1972 году; причем обращает на себя внимание такой
факт: доклад, представленный Гийота, назывался «Арто и язык
тела», что вполне красноречиво обозначает мотивы его
выступления на этом мероприятии. Исходя из такой информации,
можно только догадываться об его осведомленности о Батае и
его наследии в период, предшествующий коллоквиуму.
Что же касается публичных высказываний самого Гийота, то
и они вовсе не спешат подтвердить предположения о некоем
детерминирующем влиянии на него Батая. Сверх того: вряд ли
можно обойти вниманием одно весьма примечательное в этом
смысле высказывание, зафиксированное российской
переводчицей Гийота, Марусей Климовой, в одном из сравнительно
недавних (2003 год) интервью с ним, согласно которому писатель не
только «не читал еще ни Сада, ни Жене и только краем уха
слышал имя Батая» на момент выхода в свет своего первого
«шумного» романа «Могила для 500 000 солдат», но и «так до сих пор
и не прочел его [Батая] фантазий»9. Однако, какие бы
толкования этой фразы вообще и слова «фантазий» в частности ни были
допустимы, кажется, что Гийота совершенно недвусмысленно
формулирует свое отношение к тенденциозности критиков на
предмет его «литературных предшественников», отвечая на
соответствующий вопрос Маруси Климовой так:
Да, когда говорили о «Могиле», чаще всего вспоминали Сада, иногда
Жене и еще Батая. <...> Пожалуй, чаще всего Арто. <...> Впрочем, я
допускаю, что критики это делали из-за лени, из чистого автоматизма.
<...> Однако в одном я твердо убежден (а сегодня это столь же
актуально, как и раньше), что как для критики, так для писателей и художников
и конечно же для читателей, я, без сомнения, являюсь одним из тех, кого
118
французы всегда обожали больше всего: я вхожу в ряд великих
«проклятых поэтов», то есть вознесшихся над обыденным человеческим
сознанием нонконформистов, наделенных пугающей и завораживающей
сверхчеловеческой свободой10.
Диагноз, который ставит Гийота своим «вчерашним»
критикам, представляется столь же верным и для критиков
«сегодняшних». Очевидно, что в то время, как писатель желает видеть себя
частью значительно более широкой культурной традиции
(неспроста упоминая Бодлера как ее зачинателя), указанные им
пороки критиков побуждают их ограничиваться отсылками к
ее составляющим, наиболее «актуальным» хронологически
(непосредственно воплощая тем самым метафору близорукости).
Но в таком случае должна быть очевидной и поверхностность
всякого мимолетного сопоставления Гийота с тем же Батаем.
Или, возможно, с Батаем в первую очередь. Даже сегодня
желающие прибегнуть к такому сопоставлению, не говоря уж об
установлении зависимости одного из них от другого, явно не
могут делать вид, будто речь идет о вещах, само собой
разумеющихся, — если, конечно, они хотят избегнуть упреков в
безосновательности: поскольку между текстами Батая и Гийота
действительно может существовать глубинная связь — по ту сторону
слепящей глаза своей навязчивой броскостью эротической
доминанты, — постольку же ее природа нуждается в
основательном прояснении.
Когда Гийота говорит: «Барт, Соллерс и Лейрис написали
предисловия к "Эдему", но опять-таки эти люди просто
поддержали меня в трудный момент, когда эту книгу собирались
запретить»11, — легко убедиться, что его благодарность по
отношению к «этим людям» не мешает ему вполне трезво
осознавать, что «никто и никогда всерьез не связывал его творчество
с Новым романом»; надо думать, что подобный же подход
должен бы распространяться и на перечисление в означенных
предисловиях имен, которые постольку-поскольку «припоминали
чаще всего, когда говорили о "Могиле"». Именно в свете этого
предстает особо ценным факт дружного молчания всех этих
предисловий о Жорже Батае. Ибо поскольку возможность
неосведомленности их авторов по части Батая в данном случае,
повторим, исключена, напрашивается вывод о том, что его
имени, должно быть, несвойственно автоматически всплывать в
сознании этих весьма авторитетных лиц при разговоре о Гийота:
если, конечно, они не воздерживаются от его упоминания
сознательно, — но каковы бы могли быть причины подобного воз-
119
держания?12 А если верно первое предположение, то в чем, в
таком случае, отличие Батая от других «чаще всего вспоминаемых»
имен?
Вследствие этого более важным, нежели то, из каких
соображений авторы предисловий к «Эдему» молчат о Батае,
может оказаться то, как они о нем молчат. Молчание о чем-то,
будь оно сознательным или бессознательным, неизбежно
связано с риском проговориться. Возможно, поэтому, что каждый
из этих авторов допускает в своем тексте соответствующие
«оговорки» на свой манер; однако наиболее отчетливое
ощущение «негласного присутствия» Батая вызывает именно
рассуждение Ролана Барта — и особенно там, где он ведет речь о
«приключении означающего».
Вспомним, что, согласно Барту, означающее пускается на
поиски приключений в процессе «представления языка»,
подменяющего у Гийота традиционное «представление сцены».
Уподобляя этот процесс «прерывистому непрекращающемуся
дыханию», и, таким образом, вводя в разговор категорию ритма,
Барт перекликается с Мишелем Лейрисом, в первых же
строках своего безымянного текста отмечающим, что «трижды
озвученное слово "эдем" производит эффект вбиваемого
молотком гвоздя»13. Действительно, метонимия в «Эдеме»
наблюдается не только между языком и желанием, как отмечает
Барт, но и между текстом и его заглавием: кажется очевидным,
что напряжение, пронизывающее «Эдем», строится, помимо
прочего, на контрасте между бесконечностью «фразы» и
энергией ее коротких, отрывистых сегментов; фраза извивается как
сколопендра, координацию между частями которой трудно
уловить, ее ритм и вправду очень сбивчив, но движение —
непрерывно. Можно утверждать, что налицо исступленное письмо
в чистом виде и, в частности, в том смысле, в каком оно может
быть противопоставлено «вкрадчивому», по определению Дер-
рида, слову, которому столь отчаянно пытался противостоять
Антонен Арто. Во всяком случае, учитывая неподдельный, судя
по всему — и несмотря на то, что именно его «чаще всего»
поминали нерадивые критики, — интерес Гийота к Арто и его
идеям о произведении искусства как досаждающем экскремен-
те, который должен быть удален из тела автора14, а также не
упуская из виду замечания Барта об «одной-единственной
фразе» как «субстанции слова»15, — вполне можно было бы
заключить, что автору «Эдема» удалось найти весьма эффективный
способ — точнее говоря, язык, — позволяющий идти в ногу с
этими идеями...16
120
Однако прежде всего топика ритма, — «дыхательная»
репрезентация которой своим «виталистическим» манером
заставляет вспомнить о Леви-Строссе, утверждавшем происхождение
тональной гаммы от природных ритмов, — нагружена
неприкрытыми, в этом можно не сомневаться, буквально лежащими на
поверхности эротическими коннотациями. Отчасти
эротическими до физиологичности (отчего воспоминание о Леви-Строссе
представляется тем более уместным). Прозрачность метафоры
дыхания в применении к языку такой книги, как «Эдем»,
очевидна не только потому, что и «прерывистое дыхание» — и притом
тяжелое, а язык «Эдема» тяжел, — и ритм фрикций напрямую
отсылают к физиологии секса: и особенно секса, несущего
отпечаток насилия («главным для меня было показать насилие и
секс через насилие. Секс и насилие всегда связаны»17). Сам этот
язык, построенный на коротких, от одного до десятка слов,
выдохах, разорванный вдохами-паузами запятых, эта «фраза»,
ползущая неравномерными толчками, превращают всю книгу
в одну огромную метафору; разрыв между стилем и
содержанием здесь сведен практически на нет — что и позволяет
Барту говорить о «приключении означающего» как синтезе
приключений «того, что происходит», и самого языка (langue) в его
представлении автором (жест, к слову сказать, сам по себе
непристойный18).
Но в таком языке, языке, чье основное предназначение —
представлять то, что происходит, и быть представленным
посредством того, что происходит, — главенствующая роль
должна принадлежать элементам, ответственным за
репрезентацию действий и событий, то есть глаголам. Секс и насилие,
коль скоро они оказываются как интенционально, так и налич-
но преобладающей темой у Гийота, — это прежде всего
действия, чья энергия требует глаголов для качественной ее
трансляции в текст. Обратимся к тексту непосредственно, изъяв из
бесконечной «фразы» вполне характерный отрывок:
Солдат сбривает щетину вокруг своих губ, проститутка трогает ногой
обмякший член солдата, который, приложив свои омытые водой губы к
теплому зеркалу, целует их залитое солнцем отражение; спарившиеся
Рико, Ваззаг отступают между простыней к краю террасы; шерсть Ваз-
зага трется о плоские ягодицы Рико; сверху в зеркале отражаются алый
торс — натянутая у лобка кожа — раскрасневшееся смеющееся лицо Ваз-
зага; солдат, с бритвой в кулаке, бросается на проститутку, пальцами
стискивает ее обтянутые тканью соски; навалившись на женщину, он
вращается на животе, засовывает голову между ляжек шлюхи, в ворох
измятой ткани; проститутка, разведя клапаны ширинки, хватает
отвердевший член, водит им по своим губам; солдат обнажает вагину; медлен-
121
но сбривает растительность — выросшую с полнолуния, рассеянно
слизывая губами осевшую в грязных швах платья пыльцу, устремив
затуманенный оргазмом взгляд на сморщенную приподнятую ступню Ваззага; в
комнате для случки шлюхи ставят расстегнутых солдат к стенке,
всасывают оставшуюся сперму, потом выплевывают ее на окрашенные хной
пальцы, кормят ею друг друга; головы задремавших солдат
свешиваются им на плечи...19
Достаточно выделить в этом тексте все глаголы подряд,
чтобы убедиться, что именно они задают его неровный, но
настойчивый и агрессивный ритм; каждый его сегмент-фрикция
кажется насаженным на очередной глагол, вокруг которого
вращается то, что, в сущности, и образует «плоть» романа —
фразы, пронизанной этими уколами-ударами глаголов. «Быть
в языке, а это примерно то же, что быть в ударе»20 —
чрезвычайно меткое в данном контексте замечание Барта, во всяком
случае, более точное, чем разговор о субстанции-как-ткани как
таковой; сама по себе «субстанция» была бы чересчур
абстрактной метафорой, чтобы передать энергическое своеобразие
этого текста, не будь она структурирована беспрерывным
ритмом глаголов. Иное дело — субстанция дышащая: именно
дыхание придает ей красоту, как подтверждает Барт; и так, дыша
сбивчиво, она становится еще прекраснее, периодически
задыхаясь, отдуваясь деепричастиями как искаженным эхом
глаголов (во французском языке эффект усиливается их
морфологической неотличимостью), — и порой осыпаясь чередой
эпитетов и наименований.
Впрочем, если уж мы коснулись красоты текста Гийота,
необходимо сказать, что она, конечно, не сводится к «дыханию»
как таковому. Не меньше, чем заданный глаголами ритм,
завораживает здесь сама «субстанция», плоть текста, пересекаемый
на своем пути означающим ландшафт со всеми его деталями и
атрибутами — к ним мы еще вернемся. Можно сказать даже, что
этот ландшафт, эти детали куда более заметны, куда успешнее
притягивают взор, выступая на передний план. Так, например,
Мишель Лейрис, вглядываясь в текст «Эдема», видит прежде
всего нагромождение наделенных резко негативным — хотя и
эстетически насыщенным — зарядом объектов:
<...> этот текст <...> способен вызвать омерзение, какое вызывают,
например, разложенные на столе магистратуры или полицейского
участка вещественные доказательства, однако не подлежит сомнению, что он
излучает неподражаемую поэзию. <...> Люди, животные, одежда и
прочая утварь свалены в кучу каким-то воистину паническим образом, что
и вызывает в памяти миф об Эдеме <...>21.
122
Действию же придается явно второстепенное значение:
<...> живые существа и вещи участвуют в разворачивающемся здесь
действии на равных и предстают именно такими, каковыми они на самом
деле и являются в суровой данности их физического присутствия.
Лейрису на свой манер вторит Филипп Соллерс:
<...> продлить власть одной фразы на материальное копошение,
разделенное и несомое непрекращающимися импульсами. <...> С первой же
страницы «Эдема» вот этот неслыханный театр: кремень, сгустки, пот,
масло, ячмень, пшеница, мозги, цветы, колосья, кровь, слюна,
экскременты... Золотое пространство незаметно изменяющихся и пульсирующих
материй и тел22.
После этого уже неудивительно, что «более близкий нам»
Стюарт Кендалл, заявляя: «<...> читать Гийота — как таращить-
ся на груду внутренностей» , — не считает нужным заметить,
что груда эта неприкрыто шевелится и даже, возможно, живет
собственной жизнью... Между тем уже в первых строках
«Эдема» можно узреть яркие примеры доминирования глаголов,
берущих на себя роль означающих, выстраивая красочные
ряды артефактов в соответствии с заданной им функцией:
Их размеренные движения источают смешанные с потом и гарью
запахи, пропитавшие их лохмотья, волосы, плоть: масло, гвоздика, хна,
сливки, индиго, сурьмяная сера, — у подножья Феркуса, за отрогом, на
котором сгрудились обгоревшие кедры, ячмень, пшеница, пасеки,
могилы, водопой, школа, помойка, смоковницы, мешта, заляпанные
ошметками мозгов стены, алеющие фруктовые сады, трепещущие от огня
пальмы, — полыхают: цветы, пыльца, колосья, ветви, очистки, перья,
обрывки бумаги, тряпья, испачканные в молоке, дерьме, крови <...>24.
Тут действительно трудно говорить о «приключении какого-
то героя»: можно ли с уверенностью утверждать, что роль
«героев» в «Эдеме» отведена, скажем, солдатам и проституткам — а
не лохмотьям, волосам, пасекам, могилам, цветам и колосьям?
Не было ли бы более точным сказать, следуя Барту, что
подлинными героями — и текста, и языка — являются тут именно
события, фиксируемые и управляемые глаголами, в то время
как «люди, животные, одежда и прочая утварь» в едином
ансамбле с запахами и красками оказываются лишь
содержанием этих событий — безусловно, достаточно красочным и
пахучим, чтобы дезориентировать органы чувств наблюдателя,
рисуясь самым существенным и важным?
Впрочем, не исключено, что эта способность
«статистов-существительных» «Эдема» отвлекать на себя внимание даже
проницательных критиков имеет под собой и более серьезные
123
основания. Как утверждает Жиль Делёз — если мы решимся
прислушаться к его мнению, — одним из важнейших аспектов
логики смысла является его принципиальная нейтральность.
Между тем, как следует из той же «Логики смысла»,
принимающий сторону стоиков Делёз проводит границу не между
различными типами тел — по платоновскому рецепту, — но
между телами вообще и событиями, причем смысл согласно этой
схеме оказывается как раз на стороне событий. Из чего
естественным образом следует, что события как таковые тоже по
сути своей нейтральны, и «расцвечивают» их именно тела —
вкупе с их свойствами, — с которыми эти события происходят.
Даже не будучи безальтернативной, подобная логика, кажется,
вполне способна вскрыть причины повышенного интереса
критиков Гийота к заполняющим его текст телам (категория,
равным образом распространяющаяся на всевозможные виды
утвари), и, соответственно, объяснить, почему внимание Рола-
на Барта к не столь броскому «тому, что происходит», похоже,
подводит его ближе других к пониманию этого текста.
Чтобы выяснить, какие значения может подразумевать
поверхностный характер сопоставления текстов Гийота и Батая,
вернемся к бартовской «Метафоре глаза». Как можно из нее
понять, Барт строит свое рассуждение об «Истории глаза» как
«не глубинном произведении», где «всё лежит на поверхности»,
исходя из «неопределенности метафорического строя»,
которую он усматривает в «цикле превращений» находящегося в
основе «Истории» объекта — то есть собственно Глаза.
Неопределенность же эта, согласно Барту, состоит в том, что, несмотря
на открытый и целенаправленный эротизм (по сути,
порнографичность) не только батаевского текста в целом, но и ряда
ипостасей, принимаемых Глазом по мере прохождения сквозь
строй метафор, невозможно говорить о наличии в этом строю
какой-либо иерархии, и в том числе эротически
детерминированной25, а отсутствие иерархии среди метафор в свою очередь
превращает его в цепь означающих без определенного начала
и конца. Барт, относясь к этому явлению, говорит о
разворачивании метафоры (сиречь хождении «объекта») по кругу.
Математический смысл этого приема, однако, в той же мере
позволяет расположить стадии превращения объекта, или же цепь
означающих, вдоль не имеющей начала и конца прямой.
Итак, «История глаза» разворачивается по бесконечной оси —
при этом будучи «вся на поверхности». Что же это за
поверхность? Топологическая метафора, к которой прибегает Делёз,
124
проводя границу между «телами» и «событиями», не
подразумевает разделения некоего, условно говоря, трехмерного
пространства надвое. Напротив, она — во всяком случае,
изначально — основывается на принципе ленты Мёбиуса, задающем
соотношение односторонней поверхности и обладающего
глубиной пространства как такового. Безотносительно к тому,
насколько (математически) корректно и последовательно эта
метафора эксплуатируется Делёзом26, она вполне конкретным
образом отводит телам место «в глубине», в то время как
события располагаются на поверхности — которая фактически
одновременно служит и «границей».
Если «История глаза» являет собой, как говорит Барт,
историю метафорических превращений объекта — и ее «немалое
великолепие и немалая новизна»27 начинаются с превосхождения
архетипа «истории объекта» как такового28, — то главенствующее
место в ней должно принадлежать не самому объекту (сколь
метаморфным бы он ни казался), но ряду его превращений: то
есть последовательностью того, что произошло с цепью
означающих. В конечном счете можно утверждать, что «История
глаза» в основе своей есть история событий, — в каковом качестве
она действительно разворачивается вся на поверхности: она —
«не глубинное произведение», и в этом, в сущности, ее смысл.
И всё же — с этим трудно спорить хотя бы ввиду ее
заглавия — «История глаза» — это прежде всего история объекта.
Батай, как указывает Барт в самом начале «Метафоры глаза»,
не ставит здесь целью описание похождений «человеческих»
персонажей; в дальнейшем эта тенденция «деперсонализации»
у него лишь усиливается, вписываясь в общую концепцию
«внутреннего опыта» как неограниченной траты. Персонажи
утрачивают индивидуальность, становясь в конечном счете не
более чем носителями тел, коим вверяется наипочетнейшая
обязанность «взаимодействовать с внешним миром через
посредство целого ряда сакральных, магических телесных
субстанций»29. Однако, как можно наблюдать на примере
«Истории глаза», особая примета батаевского дискурса в том, что не
только тела его персонажей то и дело исторгают самые
разнообразные субстанции — сама метафора, вокруг которой он
построен, делает это, меняя природу источаемых субстанций в
соответствии с очередной инкарнацией объекта. Повторяя
конвульсивные жесты человеческих тел, ведущих разговор с
«внешним миром» на языке своего естественного содержимого —
телесных жидкостей, метафорический глаз привносит в этот
язык дополнительное разнообразие: не только количественное
125
и качественное, но и метафорическое, и символическое. В этой
связи Барт говорит о «двух цепях метафор, или же
означающих», относя степень свободы их (метонимического)
взаимопереплетения к числу высших достоинств анализируемого им
текста. Для него, впрочем, это служит иллюстрацией того, как
батаевская идея трансгрессии действует в приложении к
сфере сексуального:
Так трансгрессии ценностей, провозглашенному принципу эротизма,
начинает соответствовать — а может, даже обосновывать его —
техническая трансгрессия языковых форм, ибо метонимия есть не что иное, как
взломанная синтагма, насилие над пределами означивающего
пространства; оставаясь на уровне дискурса, она дозволяет своего рода
контрразделение объектов, применений, смыслов, пространств и свойств, чем и
является эротизм: вот почему в конечном итоге метафора и метонимия
оказываются в «Истории глаза» орудиями попрания, трансгрессии
самого секса30.
Как можно заключить отсюда, подобно тому, как
трансгрессия индивидуальности человеческих субъектов, исполняющих у
Батая свое основное предназначение в качестве участников
эротических сцен, результирует в трансгрессию сексуальности
(«аморальности» — в релевантном контексте католической
морали) как таковой путем «придавания их судьбе религиозного, а
тем самым общезначимого смысла»31, — тот же процесс
происходит и на уровне языка: «техническая трансгрессия языковых
форм» в результате произвольного смешения буквальных и
метафорических «объектов, применений, смыслов, пространств
и свойств» выливается в «трансгрессию самого секса». Причем в
обоих случаях «сексуальное» оказывается превзойденным при
помощи его же оружия. Но это свободное соотношение
элементов двух взаимозависимых «цепей метафор» — объектов и
действий — порождает еще одно, помимо акцентируемого Бартом,
важное следствие: картину утилизации своего рода
универсального языка субстанций рядом объектов, не только способных
репрезентировать в этой функции человеческие тела
посредством того или иного тропа, но и сводимых к некоему,
соответственно, универсальному телу-объекту — для которого этот язык,
в сущности, и предназначен. В этом свете можно сказать, что,
повторяя вслед за Бартом (и пользуясь выбранными им
обозначениями): «метафорический глаз метафорически плачет», — мы
подразумеваем: «тело говорит на единственном доступном ему
языке — языке действий». И если язык субстанций, даже и не
будучи единственной разновидностью языка действий, является,
согласно Батаю, оптимальным средством взаимодействия тела с
126
тем, что его окружает, то, согласно Делёзу, он наиболее
наглядным образом иллюстрирует взаимосвязь тел с «осмысляющими»
их действиями-событиями. Плачущий глаз — во что бы он ни
обращался — омывается субстанцией — какой бы то ни было,
скользящей по его поверхности, как это свойственно событиям:
нейтральным постольку, поскольку речь идет об «освобождении всех
отношений смежности терминов ограниченного ассоциативного
поля»;32 приобретающим эротическую окраску постольку,
поскольку объекты, по чьей поверхности они перемещаются, ока-
зьшаются более или менее эксплицитно сексуальными (в
экстремуме — способными к самостоятельному производству
настоящих телесных субстанций).
С такой точки зрения на двойной «ряд означающих»,
усматриваемый Бартом в «Истории глаза», конечно, не столь уж
важно, являются ли ее «подлинным» героем метафорические
объекты, а не человеческие субъекты: и те, и другие в конечном
счете подпадают под категорию тел, на поверхности которых
переливаются субстанции и разыгрываются события. А между
тем особое внимание тут следовало бы уделять именно
субстанциям и событиям — и не только ввиду их предполагаемой
коммуникативной и осмысляющей функции, но и оттого, что,
похоже, именно их сходство с наибольшой долей вероятности
приводит к поверхностным уподоблениям, как это, собственно,
и имеет место в случае Батая и Гийота: когда субстанции, как
правило, телесны, а события в массе своей складываются в
сцены «секса и насилия». И коль скоро речь идет о литературе,
то различия — а тем более глубинного свойства — нужно искать
в языке: языке описания событий.
Процитируем еще раз одну из самых, пожалуй,
комплиментарных в «Метафоре глаза» сентенций:
<...> согласно закону, по которому бытие литературы определяется
как техника, настоятельность и свобода этой поэмы произведены
выверенным искусством — тем, что сумело ограничить свое ассоциативное
поле и высвободить в нем все отношения смежности терминов.
Сколько бы ни упрекали Барта в излишней привязанности
к технической стороне батаевского письма33, «на стороне слов»
сила и новизна идей, естественно, поверяется прежде всего
авторской способностью найти самую, насколько возможно,
подходящую форму для их выражения и воплощения: и нигде это
испытание не оказывается более сложным и ответственным,
нигде «экзистенциальные обстоятельства и их отношения с на-
127
пряженным духовным опытом» не могут быть выявлены и
запечатлены с большей выразительностью и яркостью, чем в
«наиболее литературных произведениях». Владение
«искусством», или даже «техникой», слова может оказаться ключом к
максимально адекватному способу представления авторской
позиции вообще — вплоть до самых базисных ее аспектов,
включая и философские, и метафизические: и в этом свете
можем ли мы говорить о каком-то прогрессе, достигнутом Ба-
таем в сравнении с тем же Садом, не имея оснований
констатировать радикализацию используемого им языка? Очевидным
образом Барт так не считает; и, кстати, вряд ли можно
обвинять его в игнорировании «экзистенциальных обстоятельств»,
когда под занавес своего эссе он пишет:
Эротический язык Сада не имеет иной коннотации, кроме своего века,
это письмо; язык Батая соотносится с самим его бытием, это стиль, между
тем и другим что-то рождается, что-то, что преобразует всякий опыт в
оступившийся, преступный язык... это и есть литература34.
Попытка разграничить язык философии и язык
литературы рискует оказаться неблагодарным занятием в век, всячески
старающийся свести их воедино;35 она тем более
проблематична применительно к такому автору, как Батай. Вопрос,
которым задается Барт: «Кто этот писатель — романист, поэт,
эссеист, экономист, философ, мистик?» — недостаточно объяснить
одной лишь неготовностью иметь дело с Батаем во всей его
личностной целостности. Казус, должно быть, в том, что
каждый, к добру или худу, волен подходить к столь многоликой
фигуре в соответствии со своими партикулярными интересами.
Если Мишеля Фуко более всего волнует потребность доказать
«крушение философской субъективности» как следствие
«конца философа как суверенной и первейшей формы
философского языка»36, — то вполне закономерно, что для него нет
существенного различия между языком Сада и Батая, речь он ведет
главным образом о языке философии, который неким
самоочевидным образом подразумевается и как язык литературы37.
Довольно заявить, что Сад «первым заговорил на языке
сексуальности», обозначившей сразу пределы «сознания, закона и
языка», — чтобы одарить самого себя позицией, с которой
допустимо оценивать последующие достижения Батая чуть ли не
количественно, фактически сводя их к линейно-директивному
«стремлению выйти за предел», уже указанный Садом:
Тому языку, в котором трансгрессия обретет свое пространство и свое
озаренное бытие, еще только предстоит родиться. Несомненно, что имен-
128
но у Батая можно найти прокаленные истоки и обнадеживающий пепел
такого языка. <...> Легче ли будет, если по аналогии сказать, что
трансгрессивному еще только предстоит найти язык, который будет для него
тем же, чем была диалектика для противоречия? Гораздо лучше будет
пытаться говорить об этом опыте, заставить его говорить — в самой
полости его языка, как раз там, где ему не хватает слов. <...> Там, где смерть
Батая оставила его язык. И пусть теперь эта смерть обращает нас к
чистой трансгрессии его текстов, и пусть они будут прибежищем для всякой
попытки найти язык для мысли предела. Пусть станут они прибежищем
этого проекта, может быть, руинами уже38.
Фуко неудержимо хочется говорить о смерти и руинах; нет,
следовательно, ничего странного в том, что он не мыслит
лучшего о батаевских текстах, чем как о сожжении того
«недискурсивного языка, который уже два столетия упорствует и ломает себя
в нашей культуре»39 — то есть того же языка Сада, не мыслит для
них лучшей судьбы, чем стать пеплом для удобрения полей, на
которых, возможно, взойдут некие всходы нового,
принципиально иного языка «трансгрессивного», — а возможно (и даже
скорее всего, если верить самому Фуко), и не взойдут. Не уместно
ли было бы в таком случае счесть подход Барта,
предпочитающего обсуждать наличные достоинства литературного языка
Батая, как минимум, более содержательным?
Но именно тут и дает о себе знать вся сложность
взаимопереплетения литературного и философского языков. Можно ли —
предварительно, конечно, озаботившись соответствующим
интересом и выполнив необходимый компаративный анализ —
свести различия между текстами Сада и Батая исключительно
к вопросам стиля? Или, напротив, можно ли свести даже
стилистические различия между ними к сугубым лишь вопросам
литературы? Если стиль Батая существенно отличается от
стиля Сада, то не потому ли, что ему необходимо выразить нечто
существенно иное, для чего и требуется использовать, а при
надобности и измыслить, попросту говоря, иной язык? Именно
в этом Барт и усматривает подлинное отличие Батая от его
предшественника, как и его подлинное новаторство: на уровне
языка Сад при всем своем радикализме остается дитятей
своего века: он никак не «трансгрессирует» стилистические нормы
современной ему литературы — в то время как Батай
действительно нуждается в новом, собственном стиле, и творит его.
«"Совершенное счастье" литературы — слияние текста со своим
объектом — дается в своем ускользании, в своей
недостижимости»40. Новое бытие, новый опыт, новое сознание требуют нового
языка — «преступного», должно быть, еще и потому, что
преступает он не только закон, но и сознание, и язык своих предшест-
9 Заказ № К-7531
129
венников на манер, для которого, видимо, недостаточно
присутствия сексуальности как таковой. Недаром, сравнивая Сада и
Батая, Барт готов признать стиль только за последним — точнее,
охарактеризовать именно его письмо как «стиль»: для чего он
и вводит разграничение между стилем и собственно
«письмом»41.
И разграничение это, надо думать, основано не только на том,
что эротизм Сада «по существу своему синтагматический», что
«его эротика комбинационна», и оттого «в этом проекте нет
никакой трансгрессии сексуального» — если понимать под
трансгрессией сексуального умение выйти за пределы
«ограниченного материала эротизма». Впрочем, комбинационность и сама по
себе может посодействовать выявлению иных различий:
Так как может быть дано только определенное число мест эротизма,
Сад вывел из них все фигуры (или сцепления персонажей), которые
задействуют эти места, первичные единицы дискурса в ограниченном
количестве, ибо ничто так не ограничено, как материал эротизма, вместе с тем
эти единицы достаточно многочисленны, чтобы вступать в бесконечные
на первый взгляд комбинации (места эротизма обращаются позами, а
позы — сценами), развитие которых составляет ткань садовского
повествования42.
Безотносительно к тому, действительно ли комбинаторный
характер садовской эротики оказывает решительное влияние на
структуру садовского повествования, представляется очевидным
сам факт наличия повествования, вполне конвенционально и
плавно разворачивающегося по мере тасования комбинаций и
смены соответствующих сцен. Между тем Батай из текста в
текст последовательно стремится к разрушению повествователь-
ности:43 эта тенденция, заметная уже в «Истории глаза», более
фрагментарной и сюжетно-разорванной, чем условно-сюжетные,
но всё же отчетливо-поступательные построения Сада,
достигает особой резкости и силы в таких поздних работах, как «Аббат
С.» и «Divinus Deus». Саморазрушение и самоутрата как
сокровенный принцип «внутреннего опыта» закономерным образом
находят отражение в батаевской стилистике, способствуя
формированию языка, подобающего для описания происходящего с
персонажами, утрачивающими в процессе письма
индивидуальность и всё остальное:
«Неправильный стиль» Батая, бросающийся в глаза каждому
читателю даже в переводе, — неловкие, неуравновешенные фразы, странный
порядок слов и не менее странные их сочетания, порой напоминающие
«автоматическое письмо» сюрреалистов, — имеет те же последствия для
его героев, что и собственно повествовательные аномалии: он превращает
130
текст в сплошную, нерасчлененную массу <...>. Кажется, будто этот язык
всецело воспроизводит взбудораженную, неспокойную и неровную речь
персонажей-невротиков, не неся в себе рациональной авторской интенции
завершения, эстетической организации произведения. Автор словно не
мешает своим героям погружаться в хаос их собственного безумия,
«растворяться в сверкающем кошмаре», как сказано в «Моей матери»44.
И здесь отношения между философией и литературой, как
и во всем остальном, должны быть тщательно выверены. Надо
полагать, что М. Фуко подразумевает именно «философского
субъекта», утверждая, что язык Сада «не имеет абсолютного
субъекта», в то время как язык Батая явственно обнаруживает
за собой «настойчивый и зримый субъект»45, поскольку субъект
литературный кажется куда более отчетливым и «зримым» в
текстах Сада, нежели в текстах Батая, где ни субъект автора,
ни субъект героя не оказываются достаточно сильны, чтобы
предотвратить распад последнего:
<...> преобладающий в этих текстах «слабый» модус, модус
бессильного самораспада, энтропического растворения в мире, знаменует собой
инстанцию героя, который в самом своем крушении парадоксально
образует бытийный центр тяжести произведения, притягивающий к себе
завороженного автора46.
Здесь сам статус личности в литературном тексте неизбежно
оказывается под вопросом: «Каким образом — и какой ценой —
можно в рамках культуры XX века писать о человеческой
личности?» «Парадоксальный, экстремальный» ответ Батая, в
сущности, таков: он «со всей недвусмысленностью показывает крушение
личности героя, сопряженное с крушением мира и литературы47.
За «два столетия», минувшие со времен Сада, «упорствующий и
ломающий себя язык» не мог не претерпеть кое-каких — и, в
частности, качественных — изменений.
Но если «стиль» Батая и вправду оборачивается
«литературой крушения», если действительно налицо язык, чья
способность свидетельствовать о распаде личности как единственный
метод говорить (и писать) о ней подтверждается всей его сутью
и структурой, то под вопросом оказывается уже не судьба
личности, но языка, его дальнейшего развития: можно ли
«трансгрессировать» такой стиль, такой язык? Если пределами
оказываются «пепел языка» и «крушение личности», можно ли
раздвинуть их, пойти еще дальше?
Очевидно, что одним из возможных ответов будет: устранить
личность вообще, вывести ее за пределы текста — в инстанции
героя или же автора. А заодно — или даже как следствие —
спутать и прочие карты. Барт, заводя разговор об «Истории глаза»,
9*
131
затрудняется определить ее жанр, но всё же склоняется от
«романа» к «поэме»; его аргументация при этом вполне узнаваема:
«роман развертывается посредством случайных комбинаций
реальных элементов; поэма — посредством точного и полного
разведывания виртуальных элементов»48. «Эдем, Эдем, Эдем»,
однако, озадачивает его в этом отношении заметно больше,
насколько можно судить по выданной данному произведению
характеристике: «не поддающийся классификации и
ускользающий от определений». Итак, если сочинение Батая можно
назвать хотя бы поэмой, то отчего же невозможно
классифицировать сочинение Гийота?49
Дело, наверное, вот в чем: если ранг «поэмы» больше
подходит для текста, где «мотивные структуры преобладают над
связностью событий»50, — при том, что в число заслуг Батая
входит преодоление связности событий как таковой,
характерной для Сада и традиционного романа вообще, — то к какому
рангу молено отнести текст, сплошь состоящий из одних
событий? Можно было бы назвать его дневником; самое, должно
быть, неконвенциональное по форме произведение Батая,
«Невозможное», действительно более всего походит на дневник —
но при отсутствии субъекта, о чьем дневнике может идти речь?
Самого ли автора, полностью отстранившегося не только от
собственного текста, но и от всякой, хоть мало-мальски
положенной дневнику, темпоральности?
Этот рывок между тем, что можно, не слишком
задумываясь, назвать романом, и тем, что затруднительно как-либо
назвать, безусловно, заслуживает особого внимания. У Филиппа
Соллерса могли быть свои, никак не связанные даже с
литературой причины заявить: «Эдем, Эдем, Эдем: ни на что
подобное со времен Сада еще никто не отваживался»51, — но вряд ли
тут есть хотя бы доля случайности. Почему «Эдем, Эдем, Эдем
необходимо читать иначе, уже никак не соотнося с Садом?»
Повторим: ответом может быть устранение из текста
личности — в широком смысле. Или точнее: устранение
одновременно субъекта как носителя инстанции и объекта как носителя
образа. Что в конечном счете означает: изъять из текста тело,
оставив события наедине с их содержанием, то есть с реальными
телами и вещами. Соллерс говорит об «эксплуатации
сексуальных образов (сексуальность вместо секса)». Устранение
сексуальных образов оставляет голый секс наедине со своими
событиями: в случае Гийота — в милой компании событий насилия.
Сколько бы Батай ни разрушал индивидуальность своих
персонажей, даже полностью разрушенные, они всё так же присут-
132
ствуют. Батай неуклонно нуждается в объектах (не столь уж
важно, опять же, исполняют ли их роль люди или же
искажаемые тропами предметы) как в некоем обосновании, даже
поводе для описания их «превращений» — которые, между прочим,
превосходят «просто приключения», будучи не плодом
воображения, а самой его субстанцией;52 так возникает «двойная цепь
означающих», при помощи которой Батай трансгрессирует
замкнутый круг сексуальных «приключений». В то же время
отбрасывание липшей «цепи», избавление от объектов и образов
позволяет Гийота трансгрессировать сексуальное более простым и
притом более радикальным и решительным образом, превращая
весь свой текст в сплошную су&стащию_слова, в безостановочное
«приключение означающего» на пути сквозь бесконечную цепь
беспристрастных и бесхитростных событий:
«Сознательное убийство любой сексуальности, чистой или нечистой,
по одной простой причине: принять ту или иную сексуальность — значит
поверить в невозможную адекватность мысли и секса53.
А заодно «трансгрессировать» и самого Батая, разрывая
зависимость происходящего, «субстанции воображения», от
объектов, омываемых субстанцией в прямом и переносном смысле: у
Гийота сам язык становится субстанцией, беспрерывно
артикулируемой глаголами. Батай растворяет индивидуальность своих
персонажей, разрушая их личности, а может и вовсе затмить их
неодушевленным метаморфирующим предметом, — у Гийота
растворяется функция персонажа вообще, его просто нет, что,
кстати, и помогает ему совершенствовать эффект
дегуманизации, и без того в изобилии мотивированный в его тексте
факторами этического свойства. Можно было бы поэтому сказать, что
движение от Батая к Гийота — это в буквальном смысле
буквальное движение от обезличивающего к обесчеловечивающему:
апофеоз этого движения просматривается уже в самом названии
«поворотного» романа «Могила для 500 000 солдат», в гнетущей
связи массовых могил и массового насилия.
Но помимо этого сдвиг между Батаем и Гийота — это,
конечно, движение от языка к языку. Может быть, даже прежде всего.
«Тому языку, в котором трансгрессия обретет свое пространство
и свое озаренное бытие, еще только предстоит родиться»: Фуко
находит у Батая «прокаленные истоки» такого языка — но из них
ли исходит тот «ошеломляюще новый язык»54, на котором
говорит Гийота? Кажется, во всяком случае, что этот новый язык
заслуживает быть опознанным как язык предела по отношению к
этим истокам. Комментируя небезызвестное признание из «Вну-
133
треннего опыта» о «глазе, раскрывающемся на вершине черепа»,
Фуко говорит:
Итак, этот непреклонный, неминуемый язык <...> оказывается
крутообразным языком — тем, что отсылает к самому себе и замыкается на
постановке под вопрос своих пределов: будто был он не чем иным, как
малым ночным шаром, откуда струится причудливый свет, намечая
пустоту, откуда он идет, и неминуемо обращая туда всё, что он освещает и
чего касается. <...> Шар глаза, глазное яблоко обладает волшебной силой
разрастания — наподобие силы яйца, которое вдруг разбивается само по
себе, взрываясь к этому центру ночи и крайнего света, которым оно было
и вдруг перестало быть. Глаз — это фигура бытия, которое есть не что
иное, как трансгрессия своего предела55.
Что можно еще вычесть из этой лаконичной формулы?
Только фигуру: оставив, таким образом, лишь предел, намертво
связанный со своей трансгрессией — ведь они немыслимы друг без
друга. Предел, на котором происходит само событие
трансгрессии: если речь идет о глазе, то это — его поверхность. Почему,
кстати, Фуко то и дело говорит о «пространстве трансгрессии»?
Его попытка дать ей определение выглядит более точной:
Трансгрессия — это жест, который обращен на предел; там, на
тончайшем изломе линии, мелькает отблеск ее прохождения, возможно, —
также вся тотальность ее траектории, даже сам ее исток56.
Дело тут, конечно, не в заведомой произвольности
топологической метафоры — а в том, что предел всегда оказывается на
измерение меньше того, что он ограничивает. Если двумерное
пространство плоской [приземленной) мысли ограничивается
линией — то пределом глубины тела будет служить,
соответственно, поверхность. «Кругообразный язык», замкнутый в глубине
универсального глаза, в момент своей трансгрессии становится
языком своего предела, универсальным языком поверхности,
языком событий.
Превзойти язык предшественника означает, в частности:
преуспеть в том, в чем ему не удалось превзойти язык своего
предшественника — такова, во всяком случае, простейшая схема
эстетической диалектики в манере Адорно. Язык такого текста,
как «Эдем», может казаться обманчиво простым: недаром,
однако, Ролан Барт в своем предисловии к нему сразу же
оговаривается, что в данном случае «традиционные составляющие
дискурса (тот, кто говорит; что он рассказывает; способ, которым он
изъясняется) были бы избыточными»0'. Впрочем, оно и
неудивительно для текста, представляющего собой сплошное
«приключение означающего», ведь, как утверждает Делёз в «Логике
134
смысла», означающее всегда в избытке. Существенное отличие
языка Гийота от языка Батая еще и в том, что «литературные»
тексты последнего, даже самые сумбурные и эксцентричные, в
конечном счете оборачиваются всё той же сменой сцен, хоть и не
происходящей в соответствии с поступательным
«комбинационным» развитием замысла, как у Сада, но всё же так или иначе
темпорализованной. В самых крайних случаях, когда
хронологический порядок сцен кажется нарушенным, темпоральность
неизбежно присутствует внутри самих сцен. Рассуждая об особом,
доминирующем у Батая «времени ожидания экстаза», С. Зенкин
пишет:
Главный временной вектор батаевского текста обращен не назад, а
вперед, его содержанием является не припоминание, а предчувствие, не
энтропический упадок, а энергетическое назревание58.
Противопоставление этого «вектора» вектору Пруста,
устремленному, казалось бы, в прямо противоположном направлении,
заставляет вспомнить всевозможные попытки показать, что
время Пруста имеет несколько более сложную природу, — и, в
частности, рассуждения Делёза о том, что прошлое, в котором оно
пытается обустроиться, не является однозначным результатом
«припоминания», но требует для своей реконструкции других
методов: о которых, как уверяет Ж.-Ф. Лиотар, мог бы немало
поведать Фрейд, «что бы о том ни думал Делёз»59. Очевидно,
впрочем, что, где бы ни находилось прошлое в момент, когда его
настигает Пруст, — в тексте как таковом оно располагается вдоль
вполне отчетливой хронологической шкалы. Представляется
поэтому, что по-настоящему адекватной иллюстрацией делёзовской
идеи эона как времени событий — в противоположность хроносу
как времени тел — может служить именно «Эдем» Гийота, где
смена сцен окончательно уступает место смене собьггий-самих-по-
себе, между которыми весьма непросто установить
хронологическую зависимость; распределяясь внутри «одной-единственной
фразы» как вдоль бесконечной прямой, всё их множество
происходит в совершенно особом, атемпоральном времени (но не
являющимся при этом, скажем, эсхатологическим временем или
же временем какого-либо хронотопа) — примерно так, как Делёз
и представляет себе эон. Таким образом, текст «Эдема» заменяет
чередование сцен одной огромной сценой, где события с их
разношерстным содержанием располагаются не столько в некоем
определенном порядке, сколько на манер дерридеанской «сцены
письма». Жиль Делёз называет такую конфигурацию событий
битвой (bataille).
135
Не будем отрицать: не требуется большого труда, чтобы
найти точки соприкосновения между Жоржем Батаем и Пьером Гий-
ота; слишком уж очевидны доминирующие у обоих
обеспокоенность и увлеченность родственной близостью секса и насилия,
секса и смерти. Но если язык одного из них превосходит язык
другого, то это неизбежным образом должно сказаться и на
умении отобразить и репрезентировать битву — как сцену, в равной
степени идеальную для событий секса, насилия и смерти. А
потому неизбежен вопрос: чья битва в ее текстовом отображении
производит более убедительное впечатление? Случайно ли, что ее
воплощение выглядит наиболее полнокровным у того, кто ощутил
на собственном опыте реальную войну? «Язык Батая соотносится
с самим его бытием, это стиль», — говорит Барт. Можно ли в
таком случае воздержаться от установления прямой связи между
содержанием опыта и силой стиля? Бретон клеймил Батая как
«завсегдатая библиотек», Сартр смеялся над его «распинанием
себя по часам» — тяжелые обвинения, когда дело касается
полноценности и правомочности опыта. Стилистическая эволюция Батая от
«Истории глаза» до «Divinus Deus», сопровождающая его опыт и
перекликающаяся с ним, направлена на дезорганизацию и
разрушение повествования, но его язык до самого конца остается
конвенционально устроенным языком сентенций, средством
описания — даже если он используется для описания метонимических
связей между объектами и событиями. В то же время эволюция
писателя Гийота — от ранних, непритязательных по форме
романов, через «Могилу» и «Эдем» к «Проституции» и далее — блещет
чередованием настоящих революций стиля; и это кажется
вполне сообразным его собственному наличному биографическому
опыту. Пример «Эдема» показывает, как Гийота, стремясь
передать этот опыт наивозможно более эффективным путем,
отбрасывает всё, что могло бы оказаться липшим: он попросту
отказывается от повествования и выдвигает на первый план желание —
как движущий мотив его главных и, в сущности, единственных
релевантных персонажей, секса и насилия, — и воплощающий его
«язык-дыхание» как подлинное содержание текста, язык как поле
брани глаголов, максимально насыщенный смыслом:
<...> нет больше ни Повествования, ни Заблуждения (ясно ведь, что
это одно и то же), остается лишь желание и язык, причем не желание,
выражающееся в языке, а они оба соединяются во взаимную нераздельную
метонимию60.
В «Проституции» автор идет еще дальше: он пытается
одновременно освободиться и от последних следов авторского при-
136
сутствия в виде письма как такового, заменяя его потоком
живой речи61 участников фактически одного, главного
представляемого события — круговорота проституции, и от
сковывающих условностей интеллигибельного языка, изо всех сил
стремясь подогнать эксплуатируемый язык как можно ближе
к искаженному желанием напряженно-насильственного секса
дыханию фигурантов; здесь это напряжение доходит до такой
силы, что «отдуваться» приходится уже не деепричастиями, но
целыми рекурсиями в более конвенциональную,
«паллиативную» речь. Так в этом тексте, окончательно переломном для
Гийота, то, что Барт назвал бы метонимией — на этот раз,
между параллельными мотивами проституции буквальной и
метафорической, — кладет отпечаток новой, беспрецедентной
яркости на мутирующий и крепнущий стгиь:
«Проституция», о которой писатель повествует в своем романе: та,
которой занимаются вымышленные герои, и та, о которой пытается
поведать нам сам рассказчик. Между этими двумя «планами» возникает
своеобразная перекличка, построенная на диссонансах и контрапунктах,
которая делает текст еще ярче и выразительнее и придает ему еще
большую достоверность. Автор как бы пытается подражать поведению про-
ститута, которым он мечтает стать, и для этого принимает перед своими
читателями характерные позы, кроме того, он сам начинает изъясняться
совершенно безумным языком этого необычного персонажа62.
К слову сказать, подход Гийота к проституции как
феномену также может предоставить удобный повод для
сопоставления его с Батаем, в частности, с мыслями, высказанными
последним по теме связи между проституцией, рабством и эротизмом
в «Слезах Эроса»63. Должно быть, сходный ход мыслей
подвигнул Мишеля Сюриа, биографа Батая, уподобившего Бога
«публичной девке, во всем похожей на других»64, предположить, что
«Гийота, похоже, говорит, что тоже мог бы поверить в Бога, при
условии, что тот был бы шлюхой»60. Представляется всё же, что
при всем уважении к подобным наблюдениям, как и при всей
возможной очевидности «общих мест» между Батаем и Гийота,
считать закрытым столь чувствительный вопрос, как
взаимосвязь (а тем более взаимозависимость, вектор которой ввиду
биографических обстоятельств слишком уж налицо) между
ними — пока что преждевременно, хотя бы принимая в расчет
всю оригинальность и новизну дискурса и стиля Гийота.
Публикация такого текста, как «Эдем, Эдем, Эдем», побудила
Филиппа Соллерса со свойственным ему экстремизмом
заявить, что «теперь появилась историческая возможность
полностью покончить с чтением Сада»66. В более умеренном тоне
137
можно было бы продолжить, что вдобавок появилась некая
возможность — а может и необходимость — если не покончить
с чтением Батая, то более внимательно присмотреться к нему.
Позволим себе поэтому в заключение процитировать Алена
Бадью, цитирующего — и надо думать, неспроста — Пьера Гий-
ота: «Не случайно Гийота так любит цитировать Жоржа Батая:
"Если уж ты начал думать, то нужно думать до конца"»67.
Примечания*
1 Барт Р. Что случилось с означающим // Гийота П. Эдем, Эдем,
Эдем. Тверь: Kolonna Publications, 2005. С. 9.
2 Там же. С. 10.
3 Барт Р. Метафора глаза//Танатография Эроса. СПб.: Мифрил,
1994. С. 96.
4 Батай Ж. Ненависть к поэзии. М.: Ладомир, 1999. С. 508.
5 Соллерс Ф. 17.. (19..) //Гийота П. Указ. соч. С. 11.
6 В качестве характерных примеров лишь академических статей
можно привести: Roudiez L.S. After the Age of Suspicion: The French
Novel Today by Charles A. Porter // Modern Philology. 1991. Feb. Vol. 88.
№ 3. P. 359—364; Boulé J.P. Une note sur la vie et l'oeuvre d'Hervé
Guibert//Nottingham French Studies. 1995. Spring. Vol. 34. № LP. 1-5; De
Almeida J.D. Statute of violence and of language in the violangue of Jean-
Pierre Verheggen. Linguas e Literaturas П Série, 2002 Vol. XIX. P. 117-129;
и т. п.
7 HusseyA. Algeria and Writing: The Theoretical Fictions of Pierre Guyo-
tat//Postcolonialisms and Politcorrectnesses, an International Conference
Organized by The Postgraduate School of Critical Theory and Cultural Studies,
University of Nottingham, and The British Council, Morocco, 12—14 April
2001; то же: http://^ostcoloшalweb.orgфolcUscourse/casablanca/hшseyl.htrnl.
8 Stuart K. Pierre Guyotat Essai Biographique (review) // SubStance. 2005.
Issue 108. Vol. 34. № 3. P. 136.
9 Беседа Маруси Климовой с Пьером Гийота. № 1 // Топос:
Литературно-философский журнал. 12.03.03. — http://vvww.topos.ru/article/976.
10 Беседа Маруси Климовой с Пьером Гийота. № 2 // Там же.
19.03.03. - http://vvww.topos.ru/article/1002.
11 Климова М. За границей № 15: Пьер Гийота//Там же. 13.10.05. —
http://vvww.topos.ru/article/4083.
12 Трудно поверить, что Барт и Соллерс сознательно опустили имя
Батая, сочтя его «недостаточно востребованным», а потому
недостаточно авторитетным в глазах публики в контексте их «акции в
поддержку Гийота». Надо полагать, что они достаточно хорошо представляли
* В силу сроков подачи настоящей статьи автор не успел учесть недавно
вышедший из печати ценный сборник трудов, имеющий прямое отношение к
рассматриваемой теме: Предельный Батай /Отв. ред. Д.Ю. Дорофеев. СПб., 2006.
138
себе его «целевую аудиторию», чтобы быть о ней лучшего мнения. Во
всяком случае, ничто не помешало Соллерсу упомянуть в своем тексте
того же Бланшо.
13 Аейрис М. J) Гийота П. Указ. соч. С. 7.
14 См.: Brun С. Pierre Guyotat: Essai Biographique (review). Leo
Scheer, 2005. P. 82.
10 Барт Р. Что случилось с означающим. С. 9.
16 «Из французских писателей мне ближе всех Антонен Арто,
прежде всего из-за его языка»; «Пьер Гийот — писатель "поколения
алжирской войны"» (интервью Маруси Климовой с Пьером Гийота // Русский
Журнал, 07.05.98. - htip://old.rass.n^um
17 Там же. Гийота подразумевает «Могилу для 500 000 солдат», но
это не менее верно и для Эдема.
18 На тему обсценных коннотаций представления языка см. статью
Д. Ранкура-Лаферьера «К постановке проблемы семиотики пениса»
(раздел «Локусы описания») в наст. изд.
19 Гийота 77. Указ. соч. С. 50—51.
20 Барт Р. Что случилось с означающим. С. 9.
21 Аейрис М. II Гийота П. Указ. соч. С. 7—8.
22 Соллерс Ф. Указ. соч. С. 14.
23 Stuart К. Op. cit. Р. 138.
24 Гийота 77. Указ. соч. С. 15.
25 Барт Р. Метафора глаза. С. 96.
26 Так, говоря о различии между досократиками и платониками,
Делёз использует термины «глубина» и «высота», чтобы выразить
соположение соответственно тех и других с «поверхностью смысла»,
и таким образом откровенно вводит два различных, расположенных
по обе стороны этой поверхности пространства.
27 Барт Р. Метафора глаза. С. 96.
28 См.: Там же. С. 93.
29 Зенкин С. Блудопоклонническая проза Жоржа Батая // Батай Ж.
Ненависть к поэзии. С. 31. «В мире Батая источником сакральных
субстанций является не божественное, а именно человеческое тело»
(Там же).
30 Барт Р. Метафора глаза. С. 99.
31 «<...> герои самого Батая при всей своей сознательной
аморальности сохраняют возможность общения с другими людьми благодаря
страдательной стороне своей личности. Их аморализм — не
индивидуалистический, неоромантический имморализм Жене, в их диалектике
самоутверждения/самоутраты доминирует второй член, придавая их
судьбе религиозный, а тем самым общезначимый смысл. В этом суть
батаевской «трансгрессии», батаевского «блудопоклонничества»
(Зенкин С. Указ. соч. С. 41; см. здесь же ссылку на Маргерит Дюрас).
32 Барт Р. Метафора глаза. С. 98.
33 Комментируя «Метафору глаза», С. Фокин неспроста
утверждает, что Барт «словно бы боится живого Батая: д/^я анализа отбирает
наиболее литературные его произведения (эротические романы), делая
139
вид, что ему неведомы ни экзистенциальные обстоятельства их
создания, ни их внутренние связи с другими работами писателя, ни их
отношения с его напряженным духовным опытом» (Танатография Эроса.
С. 323). Трудно отрицать, однако, что хотя бы на чисто формальном
уровне сопоставление Батая с Гийота требует для вящей корректности
соотнесения по возможности жанрово близких трудов обоих.
34 Барт Р. Метафора глаза. С. 100.
35 «Вместе с Хайдеггером достигает кульминации
антипозитивистское и антимарксистское усилие препоручить философию поэме. <...>
Предлагаемый им путь — не путь философии, реализовавшийся на его
взгляд в технике, а путь, который предчувствовали Ницше и даже
Бергсон, который был продолжен в Германии философским культом
поэтов, а во Франции — литературным фетишизмом (Бланшо, Деррида,
да и Делёз...) и уступил живость мысли художественному условию»
(Бадью А. Манифест философии. M.: Machina, 2003. С. 38).
зь Фуко М. О трансгрессии//Танатография Эроса. С. 123.
37 О погружении философии в язык. См.: там же. С. 130.
38 ФукоМ. Указ. соч. С. 116, 121.
39 Там же. С. 120.
40 Зенкин С. Указ. соч. С. 43.
41 К вопросу о глубинных различиях между Садом и Батаем см.
работу М. Сюриа «Жорж Батай, или Работа смерти», в частности, о
противопоставлении «либертена» «дебоширу».
42 Барт Р. Метафора глаза. С. 100.
43 «Борьба с повествовательностью, со стереотипами «правильной»
романической прозы сделала Батая предшественником Нового
романа 50—60-х годов» (Зенкин С. Указ. соч. С. 45).
44 Там же. С. 46.
45 Фуко М. Указ. соч. С. 121.
46 Зенкин С. Указ. соч. С. 50.
47 Там же.
48 Барт Р. Метафора глаза. С. 94.
4У Впрочем, при желании можно расширить ранжир «поэмы» до
сколь угодных пределов: «Строго говоря, Гийота не пишет романы: он
пишет эпические поэмы, вынужденные скрываться под маской
романов, хотя и без особого успеха, на сцене сегодняшнего литературного
рынка» (Stuart К. Op. cit. Р. 137).
50 Зенкин С. Указ. соч. С. 45.
51 Соллерс Ф. Указ. соч. С. 11.
52 Барт Р. Метафора глаза. С. 93.
53 Соллерс Ф. Указ. соч. С. 14.
54 Foucault M. Il у aura scandale, mais... // Le Nouvel Observateur.
1970. 7 sept. № 304. P. 40.
55 Фуко M. Указ. соч. С. 125.
56 Там же. С. 46.
°7 Барт Р. Что случилось с означающим. С. 9.
58 Зенкин С. Указ. соч. С. 15.
140
59 Лиотар Ж.Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб.: Аксиома, 2001. С. 26.
60 Барт Р. Что случилось с означающим. С. 10.
61 «"Проституция" является первой книгой писателя, где он
окончательно переходит от "письма" к "речи", то есть фонетической
фиксации устной речи» [Климова М. В мире шлюх // Гийота П.
Проституция. Тверь: Kolonna Publications, 2002. С. 13).
62 Brun С. Une oeuvre balistique: petit exercice de lecture appliquée //
Pierre Guyotat: Conferences — Débats — Rencontres, Centre Pompidou,
Paris, 22 October, 2005 (цит. по: Климова M. За границей № 19:
Трудности перевода//Топос: Литературно-философский журнал. 10.11.05. —
http://vWw.topos.ru/article/4179).
63 БатайЖ. Слезы Эроса//Танатография Эроса. С. 290—291. См.
продолжение предыдущей цитаты из выступления Катрин Брюн:
«Таким образом, действие выходит за рамки отдельно взятого
алжирского борделя, а проституция перестает быть сферой исключительно
сексуальных желаний и охватывает собой все экономические и
политические устремления человечества. Именно она является главным
ключом к тайне вселенной, общей метафорой устроения мира».
64 Батай Ж. Divinus Deus // Батай Ж. Ненависть к поэзии. С. 417.
65 Surya M. Mots et monde de Pierre Guyotat: «Lignes», octobre 2000
(цит. по: Климова M. В мире шлюх. С. 15).
66 Соллерс Ф. Указ. соч. С. 11.
67 Климова М. За границей № 19.
A.A. Аствацатуров
ЭРОТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ
И СИМУЛЯКРЫ СОЗНАНИЯ
У ГЕНРИ МИЛЛЕРА
Американский писатель Генри Миллер (1891—1980) вошел в
историю литературы как автор скандально знаменитого
романа «Тропик Рака» (1934), который и по сей день видится многим
всего лишь «библией» сексуальной революции и эпатирующим
вызовом чопорной буржуазной морали. Нас в данном случае
интересует не столько хабитуально-социальное бытование мил-
леровской литературной продукции и ее влияние на
неокрепшие умы молодых людей, сколько сами внутренние
конструкции тех текстов Миллера, основной темой которых так или
иначе оказывается секс. В настоящей небольшой статье мы
сделаем попытку рассмотреть ряд аспектов проблемы
сексуальности в романах американского прозаика и связать ее с
магистральными составляющими его мировоззрения.
В основании мировосприятия Генри Миллера1 лежит, как
нам представляется, некое онтологическое отрицание любого
трансцендентного проекта, идеалов и ценностей, внеположных
человеку. Их конструирование он считает осуществлением
насилия над миром, применением к нему власти. Репрессивная
модель, которую Миллер отрицает, находит, по его мнению,
свое воплощение прежде всего в том видении мира, которое
предлагает христианство. В «Тропике Рака» Миллер заявляет
о своем желании «пнуть Бога» под зад коленкой2, а в
«Тропике Козерога» — плюнуть ему в лицо: «Сам я не более
нуждался в Боге, чем Он во мне, и пусть только один такой явится,
твердил я себе, — я встречу Его без церемоний: подойду и
плюну ему в лицо»3. Здесь речь идет прежде всего о боге чужом,
142
навязанном человеку, каковым является иудео-христианский
Бог. В более позднем тексте «Колосс Маруссийский» Миллер
избирает не столь эпатирующую форму атаки на христианство
и обстоятельно, в духе традиционно философско-эссеистиче-
ской прозы, объясняет природу своей неприязни к христианству.
Иудео-христианский Бог, по его мнению, в отличие от бога
языческого, не сопричастен человеку. Он разорвал с человеком все
отношения, за исключением одного — отношения «господин —
раб». По мнению Миллера, христианство сделало Бога
всевидящим оком, вменив ему в обязанность надзирать и
наказывать. Оно превратило его в Бога мести, в механизм насилия.
«Если бы мы еще верили в Бога, мы бы сделали из него Бога
мщения, — заявляет Миллер Ребекке в романе «Сексус»4.
Возведенный в абсолют, отчужденный от мира и человека, Бог как
производная субъекта обречен на смерть. «Бог умер!» —
повторяет Миллер в «Аэрокондиционированном кошмаре» слова
Фридриха Ницше5. Бог трансформировался в чистую идею,
утратившую жизненные основания.
Поклонение мертвому Богу приводит европейца к
абсолютизации разума. Реальность, изменчивая жизнь объявляется
несущественной, и взгляд устремляется сквозь нее к
трансцендентному идеалу. Истина оказывается по ту сторону
чувственно воспринимаемого мира. Соответственно дух отделяется от
материи и торжествует над ней. Личность, подчиняющаяся
диктату разума, утрачивает целостность видения реальности,
единство духовных и телесных устремлений. Схемы и
стереотипы порабощают тело, накладывая на всё, что с ним связано,
строжайшее прогностическое табу. Причина этому — досужее
стремление считать наличествующую реальность проекцией
трансцендентного.
Знание, к которому обращается личность в поисках ответа
на важнейшие вопросы, является чужим, внешним по
отношению к ней и, в сущности, навязанным ей извне. Человек,
пребывающий в пространстве европейской цивилизации, в этом
пресыщенном царстве разума, всегда опирается на выработанные
культурой авторитеты и ценности.
Он редко оспаривает их власть над собой, поскольку
принципу репрессии и власти подчинено его собственное видение
мира.
Обращаясь к предмету или явлению, европеец стремится
обнаружить в нем главное свойство. Все остальные качества
мыслятся как второстепенные, производные главного, подчиня-
143
ющиеся его власти. Подобная модель обнаруживается в любом
подходе к освоению и структурированию реальности, который
предлагается европейцами в области теологии, эстетики и
социальной мысли.
Произведенный человек вполне готов к успешному
существованию в пространстве современной индустриальной культуры,
где безоговорочно правит отчужденный от тела мира всеобщий
разум. Здесь индивидуальность окончательно нивелируется,
человек внутренне умирает, превращаясь в робота.
Механизированной становится даже его частная жизнь, подчиненная индустрии
развлечений6.Существование такого человека нельзя назвать
жизнью. Это, скорее, разновидность смерти — бессознательной,
автоматизированной экзистенции, именуемой Миллером
«смертью в жизни»7.
Конструируя душу человека, репрессивная культура
изгоняет тело, производя своеобразную «ампутацию» человеческого
«я». Всё связанное с телом она объявляет непристойным. Но
было бы непростительной ошибкой считать, что культура
индустриального мира полностью изгоняет секс и тело. В
стремлении управлять всем комплексом человеческих желаний она
рождает целую индустрию секса, которая всегда вызывала у
Миллера глубокое отвращение. Культура берет тело и секс под
контроль. Отделяя секс от человеческого «я», она при этом
заставляет его быть чисто механическим, бессознательным
актом. В романе Миллера «Сексус» такого рода разделенность
свойственна первой жене Миллера-повествователя Мод, и это
не случайно, поскольку она — своеобразный инструмент
культуры, подавляющий волю главного героя. Мод ненавидит секс
и не желает признавать, что у нее есть гениталии. Когда
Миллер пристает к ней в постели, она обычно делает вид, что спит,
и именно делает вид, потому что на самом деле без секса
обойтись не может. В романе мы становимся свидетелями
альковной жизни Мод и Миллера. Здесь существенно то, что секс из
праздника жизни превращается в изнурительную, хотя и
необходимую механическую работу. Мод ненавидит в этих
отношениях спонтанность и всегда предается сексу размеренно и
обстоятельно.
В поисках психологических обоснований пассивной
подчиненности европейца различным формам репрессии Миллер
обращается к психоанализу, в частности, к теории «травмы
рождения», выдвинутой учеником Фрейда Отто Ранком (1884—
1939). Уильям Гордон, авторитетнейший исследователь творче-
144
ства Генри Миллера, совершенно справедливо, на наш взгляд,
придает важное значение влиянию идей Ранка на мировидение
американского писателя8.
Отто Ранк отходит от постулатов фрейдовской школы с ее
образом человека как суммы биологических функций и
говорит о человеке, страдающем и испытывающем внутренний
страх9. В теории и практике Ранка центральное место
занимает идея индивидуальной воли. Соответственно он
существенным образом пересматривает концепцию терапии. Если Фрейд
и его ученики рассматривали волю пациента как зло10, как
источник упрямого сопротивления воле психотерапевта, которое
необходимо подавить, то Ранк видит в ней стержень
человеческой личности. Он ставит перед врачом задачу не навязать
пациенту свою волю (этого-то как раз пациент и ждет), а
провести терапевтический сеанс таким образом, чтобы поддержать
волю пациента, дать ему возможность принять ее в себе
(почувствовав ее в себе, не отвергать невротически, скрываясь за
всякими нормами, а действовать, чувствовать и выносить
суждения сообразно .ее (воли) направленности, т. е. фактически быть
собой) и сконцентрировать. Цель ранковской терапии не
научить или воспитать человека, а, скорее, помочь ему
самоосуществиться. При этом важно, чтобы пациент преодолел
чувство вины и страха11.
В основании ранковского понимания задач терапии лежит
«теория травмы рождения». Шок, вызванный отделением
ребенка от материнской груди, по мнению Ранка, — первая точка
всего последующего развития личности. Именно акт рождения,
а не репрессия окружающего мира, как полагал Фрейд,
вызывает у человека страх12, боязнь потерять связь с большим
целым, с матерью. Это чувство становится источником неврозов.
Оно тождественно страху перед обретением собственной
индивидуальности, перед необходимостью вести самостоятельное
существование и брать на себя ответственность принятия
решений. Страх рождения есть боязнь собственного «я». Он
неразрывно связан с ощущением вины13. Человек испытывает страх
перед новой жизнью, бессознательно стремится к состоянию
зависимости; он хочет вернуться в бессознательное, утробное
состояние, отказавшись от воли. Такого рода индивидуума Ранк
именует нормальным. Если страх рождения (боязнь обрести
индивидуальность) смешивается со страхом смерти (боязнь
потерять индивидуальность), то в этом случае мы имеем дело
с невротическим типом. Невротик не в состоянии реализовать
собственную волю и в то же время отказывается принять волю,
10 Заказ № К-7531
145
навязываемую ему извне коллективом. Победить страх
рождения и сформулировать свою индивидуальность способна,
согласно Ранку, лишь творческая личность.
Вслед за Ранком психологическим препятствием,
мешающим человеку самоосуществиться, Миллер считал страх. «Нами
движет страх, — заявляет он в эссе "Мир секса". — Мы —
марионетки, он — кукловод»14. В работе «Книги в моей жизни» он
также напоминает о страхе: «Мы убеждаемся, что единственный
настоящий враг человека — это страх...»15 Речь идет о страхе
перед жизнью, перед ее непредсказуемостью и изменчивостью,
перед новым опытом, способным открыть человеку
неожиданную грань его «я». «Что же так пугает людей? — задается
Миллер вопросом в "Аэрокондиционированном кошмаре". — То,
чего они не понимают. В этом отношении цивилизованный
человек ничуть не отличается от дикаря. Новое всегда несет с
собой ощущение оскорбления чувств, святотатства. То, что
отжило, — священно, то, что ново, что не такое, всегда несет
зло, опасность, грозит гибелью»16.
Страх для Миллера связан с ощущением вины. Ранковская
терапия стремится избавить пациента от этого ощущения. В
свою очередь, Миллер говорит о необходимости пренебречь
чувством вины, угрызениями совести и не противиться
естественным желаниям17. Вина возникает в ситуации конфликта
с внеположными эстетическими ценностями, укорененными в
человеческим сознании. Данный конфликт неизбежен, ибо
личность, стремящаяся к изменению, к новому опыту, к
невозможному, ощущает привязанность к статичным схемам.
Разорвать с ними связь непросто, ибо человеку внушили
представление об их априорности. Всякое действие совершается
личностью с оглядкой на них. Отклонение видится ей греховным и
вызывает чувство вины и страха. В результате, полагает
Миллер, у человека появляется желание снять с себя
ответственность за собственную судьбу. О стремлении пациента
переложить ответственность на лечащего врача, т. е. на внешнюю
силу, говорит в своей работе «Терапия воли» и Отто Ранк18.
Развивая идеи Ранка, Миллер размышляет о европейцах и
американцах, неспособных строить собственную судьбу и потому
с облегчением принимающих поддержу извне в виде парадигм
мышления и поведения, предложенных культурой-властью19.
Это — люди, соответствующие типу индивидуальности,
который Ранк называл «нормальным», продукты гигантской
индустриальной машины, мертвые куклы-автоматы. Они всегда в
согласии с собой, ибо ведут бессознательное существование.
146
Рядом с ними в текстах Миллера всегда появляются и те, кого
Ранк причислял к разряду невротиков. Миллер неоднократно
подчеркивает, что в рамках культуры для человека есть
только два пути: подчинение или безумие20. Те, кто выбирают
второй путь, отрицают культуру и власть. Но это отрицание не
конструктивное, а невротическое. Миллер почти не использует
понятие «невроз», заменяя его словами «безумие» или «амок». В
романе «Тропик Козерога» он выводит целую галерею
персонажей, впадающих в это состояние. Невротик ненавидит власть
цивилизации. Но он не в силах противопоставить ей свою волю,
ибо власть интроецирована внутрь его психического аппарата.
Она кажется тотальной, непреодолимой и ошибочно
отождествляется невротиком с жизнью в целом. Миллеровский
невротик считает жизнь злом и отрицает ее. «Жизнь как ноша, жизнь
как поле боя, жизнь как проблема — это всё ущербный взгляд
на жизнь», — заявляет Миллер невротичному Конраду Морри-
кану21.
У Ранка Миллер заимствует не только представление о
страхе или классификацию психологических типов, но прежде всего
стержень теории австрийского психоаналитика, а именно
концепцию травмы рождения. Миллер, так же как и Ранк, полагает, что
в страхе перед жизнью и собственным «я» человек стремится
обратно в материнскую утробу, к бессознательному
существованию, к защищенности от внешнего мира. «Нет ничего
удивительного в том, — пишет Миллер в эссе "Время убийц", — что
человек отдаляется от матери, не замечает ее или видит в ней
только помеху. Человек стремится к уюту и надежности ее утробы,
жаждет той тьмы и покоя, которые для неродившегося то же,
что для истинного рожденного — сияние дня при вступлении в
мир»22. В миллеровских текстах мы постоянно сталкиваемся с
различными образами, метафорами, сравнениями,
воссоздающими идею утробного существования человека.
Невротическому отрицанию реальности, утробному
существованию людей Миллер противопоставляет неоязыческую
концепцию освобождения человека, в которой секс играет
важнейшую роль. В ее основании лежит идея сопричастности
бога (идеала) человеку, невынесенность бога в
трансцендентную область. В «Колоссе Маруссийском» Миллер воссоздает
образ утопического прамира, мира ницшевских гипербореев23.
Между богом и человеком еще не установились, как это
произойдет в христианском сознании, отношения власти. Боги и
люди равноправны. Люди создают богов, равно как и боги
10*
147
рождают людей: «Боги были соизмеримы с человеком. Их
создал человеческий дух»24. Эти рассуждения Миллера
обнаруживают влияние идей Фридриха Ницше, который в
«Веселой науке» говорит, что язычники владели искусством
создавать себе богов.
Соответственно в миллеровском прамире разум остается
производным тела. Он не абсолютизируется и не господствует
над материей, как в христианизированной культуре. Сознание
человека свободно, оно еще не научилось моделировать схему
власти. Христианское мировидение видит в человеке хозяина
земли, венец природы, высшую форму жизни. Миллер, в свою
очередь, определяя отношение человека к миру, опирается на
идеи французского мыслителя Реми де Гурмона, высказанные
им в работе «Естественная философия любви». К этой книге
Миллер отсылает читателя уже в самом начале своего
первого значительного произведения «Тропик Рака»25. По мысли
Реми де Гурмона, человек — отнюдь не высшая форма жизни,
а лишь одна из ее многочисленных форм26. Миллер полностью
солидаризируется с этой мыслью. Для него европейская
культура порочна именно потому, что она считает человека венцом
природы, мерой всех вещей и ставит его над миром, изымая его
разум из животной стихии.
Процесс освобождения личности Миллер метафорически
передает как путешествие в утробу мира, о котором он
подробнейшим образом рассказывает в романе «Тропик Козерога».
Концепция этого пути сложилась путем приведения к единому
знаменателю множества теорий построения личности,
выработанных человеческой мыслью. Она отсылает нас к древнейшим
ритуалам, даосизму, древнеиндийской мудрости с ее идеей
реинкарнации, странствиям Данте, мифогенной идее вечного
возвращения, позаимствованной Ницше из архаических культур (здесь
можно было бы адресовать читателя к известной (одноименной)
книге покойного румыно-американского мифолога Мирчи
Элладе), исследованиям в области психоанализа К.-Г. Юнга и Отто
Ранка. Поскольку мир существует лишь в восприятии
личности, то путешествие в его утробу следует понимать как
ограниченное рамками человеческого «я». Речь идет прежде всего о
внутренних процессах в сознании индивида. По мысли
Миллера, сознание должно как бы развиваться вспять, двигаясь в
обратном своему обычному вектору направлении. Цель
данного движения — точка предсуществования личности, состояние
накануне рождения человека как социального существа, когда
в нем еще не сформировалось коллективное «я». Личность
148
разрушается, обнаруживая в себе «магнетическое ядро»,
чистое «я», недоступное воздействию репрессивной культуры и не
впадающее в антропоцентрические заблуждения.
Заново родившись, «я» обнаруживает себя в утробе мира, в
средоточии жизни, с которой оно воссоединяется. Реальность
предстает перед взором свободной личности в своем
изначальном виде. Она бесструктурна, неоформлена и кажется уже
почти выделившейся из небытия, но еще не ставшей бытием.
Миллер неоднократно подчеркивает, что внешние формы
проявления мира — отчасти мнимости, ибо они суть производные
сущности жизни, пустоты. В «Колоссе Маруссийском» Миллер
воссоздает ощущение чистого присутствия через описание
Греции, в котором доминируют образы пустоты, чистоты,
бесструктурности, неделимости27. Опыт вглядывания в пустоту,
вслушивания в молчание заставляет ощутить неподлинность
разума, выскальзывание сознания из схем и идеалов,
навязанных культурой-властью. Личность освобождается от своей
цивилизованной души: «Я собираюсь перешагнуть порог — сейчас.
Перешагиваю. Полная тишина, даже себя не слышу. Меня там
просто нет, чтобы услышать, как я разлетаюсь на миллиард
мелких осколков. Там только Агамемнон. Плоть распалась,
едва с его лица сняли маску <...>. Я порвал с цивилизацией и ее
культурным отродьем. Я отказался от нее, когда вошел в
гробницу. С этого момента я — кочевник, духовный никто»28.
Человек выходит за пределы себя, осуществляя акт самоотречения,
свойственное свободной личности29. Речь идет об отречении от
лживых внешних оболочек, из которых состоит коллективное
«я». «Для начала нужно, — пишет Миллер в "Тропике
Козерога", — чтобы тебя уничтожили, чтобы свелись к нулю
непримиримые аспекты твоего сознания. Ты должен полностью
аннигилировать как человеческое существо, чтобы заново родиться
личностью»30. Преодоление человеческого (коллективного «я»)
сопряжено с обретением индивидуумом своего подлинного «я».
Личность как бы возвращается к самой себе, становясь
самотождественной.
Сопричастность Бога и мира человеку сводит в единый
вектор духовные и телесные устремления последнего. Разум, дух
предстает разлитым в материи. Личность обретает цельность.
Ее мысли становятся телесными, а телесные импульсы —
одухотворенными. Человек превращается в «мыслящее тело». Если
в христианизированной культуре тело и его реакции, в том
числе сексуальное влечение, репрессируются, то в идеальном
языческом пра-мире, который воссоздается в «Колоссе Марус-
149
списком», оно освобождается. Индивидуум, считает Миллер,
должен ощущать тело с максимальной полнотой,
прислушиваться к его потребностям, тренировать его. Ему необходимо
концентрироваться на реакциях тела в отношении к
окружающей реальности, ибо они адекватны, в отличие от статичных
антропоцентрических схем, уводящих сознание от жизни. «Наше
собственное физическое тело, — говорит Миллер в "Дьяволе в
Раю", — обладает той мудростью, которой мы, обитающие в
этом теле, лишены»31.
Миллеровская концепция возвращения к физическому телу
как основе преодоления человеком себя созвучна многим про-
ницшеанским теориям интеллектуалов XX века и, в частности,
установкам Жоржа Батая. Опираясь на идеи своего учителя
Александра Кожева, гениального комментатора Гегеля, Батай
приходит к выводу, что «человек — не то, что он есть, но то, чем
он может быть, не отрицая себя, не отрицая своего
природного, животного существа»32.
Подлинный индивидуум, ставший мыслящим телом и
принадлежащий миру, проникнут всеобщим эротизмом
мироздания, и потому Миллер рассматривает его исключительно как
носителя сексуальной энергии, как существо, непрерывно
вступающее в половую связь. Миллеровский персонаж — человек не
мыслящий, не переживающий, не действующий. Это человек
прежде всего совокупляющийся. И не просто человек. В фокусе
Миллера, в центре каждого из его текстов оказывается
именно мужчина (Миллер-персонаж, Миллер-повествователь),
который проделывает весь этот путь к миру, к пустоте, к своей
сущности. Не случайно в 1960-е годы Миллер стал подвергаться
агрессивным нападкам со стороны феминисток за пропаганду
откровенно мужской точки зрения на мир (примитивной,
разумеется, по их мнению), за изображение женщины
исключительно как объекта сексуального влечения мужчины. Последнее
утверждение действительно справедливо. Но из этого, однако,
не следует, что Миллер ставил мужчину выше женщины.
Скорее наоборот. Женщина — не приложение к мужчине, не его
неудачная копия. Женщина для мужчины, с точки зрения
Миллера, — нечто иное, новое, не поддающееся пониманию,
изначально отделенное от него. Мужчине необходимо пройти
сложный путь к аннигиляции социальной личности, к
обретению собственного тела, в отличие от женщины. Ей этого не
требуется, ибо она едина со своим телом, и никакая культура
не в состоянии разорвать данное единство. В мужчине есть
разрыв — проблема, которой не может быть в женщине. Заме-
150
тим попутно, что подобного рода критика в отношении
Миллера, с точки зрения историка литературы, вообще
малопродуктивна. Ведь миллеровские романы — не слепок социальной
жизни. Это — космогонии. А соответственно, персонажи —
субъекты космогонического действа, представляющие разные
импульсы вселенной.
С точки зрения Миллера, женщина является для
«неполноценного» мужчины своего рода средством познания мира и
самопознания33. Вступая с женщиной в сексуальный контакт,
мужчина приобщается к бесформенной пустоте, основанию
мира и преодолевает свое коллективное «я».
Излагая свое видение женщины, Миллер ориентируется в
первую очередь на непосредственно предшествовавшую ему по
времени сюрреалистическую традицию. В то же время он,
несомненно, использует опыт изображения женщины,
предложенный и Джеймсом Джойсом в его масштабно-глобальном
романе «Улисс»34. Заключительной главой этого произведения
(«Пенелопа») Миллер, как известно, всегда прилюдно
восхищался. Этот текст представляет собой монолог засыпающей
женщины, центральной героини романа — Молли Блум.
«Поисковое» отсутствие знаков препинания, синтаксическая
неструктурированность получающегося потока сознания создают
ощущение языка не как системы, а как своего рода магмы, вечно
движущейся и «становящейся». Внутренний мир женщины
оказывается сродни самой жизни, всегда, как известно со
времен Гераклита и элейцев, пребывающей в изменении. Здесь на
полшага отступает рассудок и говорить начинает
бессознательное, т. е. самое тело женщины, неразрывно увязанное с
материей жизни. Оно кажется поистине бесконечным,
преодолевающим собственные границы, исполненным безмерного
сексуального желания (знаменитое вечное «Да» Молли), которое никогда
не может быть удовлетворено.
В свою очередь, для автора «Тропика Рака», как и для
сюрреалистов, женщина есть воплощенный Абсолют30. Именно в
ней, с точки зрения Миллера, открывает себя насыщенная
пустота (звучащее молчание), рождающая внешние формы мира.
Женщина являет собой чистое присутствие и, будучи соприча-
стна материи мира, заключает в себе все ее свойства. Она
иррациональна, беспредельна и пребывает в становлении.
Женщина персонифицирует у Миллера бессознательное, всё то, что
в мужском рациональном мире оказывается
репрессированным36. Такова Мара (Мона), героиня трилогии Миллера «Роза
151
распятия». Она возвращает герою-повествователю (Миллеру)
ощущение глубинных ритмов жизни. Мара страшит Миллера,
как страшит бесконечность, пустота и неопределенность и в то
же время влечет его к себе37. Она протеична (постоянно
находится в становлении) и непознаваема в своих бесчисленных
масках. Ускользая от обозначения, т. е. называния и познания,
Мара даже меняет свое имя и становится Моной38. Именно эта
неясность, неопределенность характера героини завораживает
Миллера, ибо он ощущает в ней дыхание пустоты. И Миллер
уходит из семьи к Маре, соединяется с ней узами брака, считая,
что именно она подарила ему свободу и помогла
самоосуществиться.
О прототипе Мары, второй жене Миллера Джун Мэнс-
филд, Альфред Перле пишет: «Джун просто посчастливилось
придать его прихотливому воображению конкретную
направленность — именно потому, что она есть нечто несуществующее,
пустая раковина. Эта ее пустота как раз и позволила Генри ее
вылепить. Она была как чистый лист бумаги, заправленный в
его пишущую машинку...»39 Перле несколько упрощает
проблему, но тем не менее схватывает основное свойство Джун —
пустоту, безликость, отсутствие определенного содержания ее
внутреннего мира40.
Подобно Маре-Джун загадочная японка Хоки (Хироко То-
куда, пятая по счету жена Миллера и центральный персонаж
его позднего текста «Бессонница») также оказывается опасно
притягательной, ибо ее душа не поддается объяснению.
Японка — певица, актриса, постоянно меняющая маски,
проживающая в своих песнях чужие жизни и переживающая в них чужие
эмоции. Она всегда другая, не равная самой себе. Она, как и
мир, пребывает в постоянной изменчивости. В японке
отсутствует сущность — главное, на чем всё должно держаться.
Глаза, как известно, — метафора души: «Когда она стирала
краску, оставались два черных провала, заглянув в которые можно
было увидеть воды Стикса». Душа японки несет в себе
пустоту, беспредельность, смерть. Говоря в «Бессоннице» о японке,
Миллер вспоминает Джун.
Это представление о женщине в чем-то перекликается с
известными идеями французских мыслителей новейшего
времени — Жоржа Батая и Жака Лакана: «<...> и для Батая, и для
Лакана, — пишет исследователь (С. Фокин), — женщина не есть
объект наслаждения, а тем более объект подавления; не имея
в силу физиологических особенностей организма никакого
предела в достижении наслаждения, женщина в сущности сво-
152
ей беспредельна; познавал беспредельность женщины, мужчина
открывает собственную неопределимость и ограниченность»41.
Описанная нами модель реализуется в физиологическом и
бытовом срезах той жизни, которая воссоздается в ранних романах
Миллера. Сексуальное желание полностью заполняет
внутренний мир женщины, заставляя ее отбросить стереотипы
коллективного «я», фальшивую маску социальной личности: «Ей
только покажи хуй с полено — и дальше ты ее хоть по стенке
размазывай. Расстегнутой ширинки достаточно, чтобы довести ее
до экстаза. Стыдно сказать, что Керли с ней вытворял. Он
получал дикое наслаждение, унижая ее. Едва ли я мог
осуждать его за это: надо было видеть, какой строгой неприступной
фифочкой выглядела она в своих парадно-выходных.
Посмотришь, как она держится на людях, так руку дашь, что пизды
у нее и в помине нет»42 («Тропик Козерога»).
Беспредельным животным неистовством в сексуальных
отношениях отличается и Мара, героиня романа «Сексус»: «Как
и в первый раз, она беспрерывно кончала, взвизгивая и даже
похрюкивая по-поросячьи. Рот ее показался мне выросшим во
много раз: огромный, широко раскрытый, искаженный
похотью, глаза закатились, словно в эпилептическом припадке»43.
Безграничность желания женщины оборачивается в
«Тропиках» невозможностью полностью удовлетворить сексуальную
потребность. О своей бывшей приятельнице Илоне Миллер
повествователь говорит: «Она лежала в Лондоне на Тоттенхем-
Корт-роуд и, задрав юбку, дрочила. В ход шло всё — свечи,
шутихи, дверные ручки. Во всей стране не было ни одного
фаллоса, который подошел бы ей по размерам...»44 Беспредельность
самой женщины, соприродной бесконечному миру, ее
бесформенность реализуется в образах невообразимо крупных, очень
полных и пышущих здоровьем героинях Миллера. Их облик
начисто лишен декадентской болезненности и неизменно
наделен пугающей избыточной телесностью. Приведем несколько
примеров. Вот образ женщины на полотне Дюфрена, которое
описывает Миллер в романе «Тропик Рака»: «Здоровая, крепкая,
мясистая голая баба, розовая, как ноготь, с глянцевыми
волнами тела <...>. Тело, которое возбуждает, росистое как заря. Всё
в движении, ничего мертвого, застывшего»40. О жене Бориса
Миллер говорит: «Она весит больше восьмидесяти килограммов,
эта дама. Борис весь умещается у нее на ладони <...>. Размеры
этой женщины грандиозны. Они-то и пугают его более всего
прочего»46. Здесь появляется мотив страха, который присутствует
и в словах Карла о Жинетт, подруге Филмора: «Она здоровая,
153
огромная бабища, притом довольно дикая. Я с удовольствием
подъехал бы к ней, да ведь без глаз можно остаться. У
Филмора всё время руки и морда были исцарапаны»47. А вот
впечатления самого Миллера: «Ее звали Жинетт. Это была крупная,
пышущая здоровьем девка крестьянского типа с
полусъеденными передними зубами. Жизнь била в ней ключом, а в глазах
горел сумасшедший огонь»48.
Бесформенность и безграничность женского тела
неизменно контрастирует в романе с ограниченностью мужского49,
которое кажется буквально крошечным, почти исчезающим.
«Мужчины, — говорит Миллер об Илоне, — влезали в нее
целиком и сворачивались калачиком <...>. Бедный Карол... он мог
только свернуться калачиком внутри нее и помереть там. Она
вздохнула — и он выпал оттуда, как дохлый моллюск»50.
Миниатюрным по сравнению со своей огромной женой выглядит в
романе Борис: «Борис весь умещается у нее на ладони»51.
Женщина в романе неизменно доминирует над мужчиной,
доставляя ему тем самым мазохистское удовольствие. Ее
бесформенность пугает, но по этой же причине и влечет к себе: Борис
боится своей жены и в то же время боготворит ее. Филмор, в
свою очередь, заворожен и одновременно смертельно напуган
своей «здоровенной девкой» Жинетт: «Но через несколько
минут она уже громко смеялась, рассказывая, как они с
Филмором дрались в постели. "Ему нравилось, когда я дралась с
ним, — заявила Жинетт. — Он настоящий дикарь"»52.
Мужское начало, как можно заметить, статично и
познаваемо. Женское — более динамично. Оно всё время как бы
уклоняется от однозначного понимания. Женщина — становящаяся
субстанция, и ее основное свойство — неопределенность.
Именно поэтому многие женщины в романах Миллера кажутся
законченными лгуньями. Всё, что они сами о себе сообщают,
оказывается по меньшей мере недостоверным. Мара («Сексус»)
рассказывает о своей семье, но Миллер, и вместе с ним
читатель, сомневается в том, что она говорит правду. В «Плексусе»
мы выясняем, что всё на самом деле обстояло иначе. Кроме
того, Миллер так никогда и не узнает, за что ей платили
деньги мужчины, в компании которых она проводила время. Мара
старается убедить Миллера, что они давали ей деньги просто
за общение, но у него есть все основания в этом сомневаться.
Илона из романа «Тропик Рака» — неисправимая врунья, и
«ее глотка была полна лжи и фальшивых обещаний»03. О
внешне милой, доброй, неопытной девушке, выпросившей у
Миллера крупную сумму денег («Тропик Рака»), мы так и не можем
154
с уверенностью сказать, была ли она в действительности той,
за кого себя выдавала, или же герой попросту столкнулся с
ловкой аферисткой. Неясна и фигура Жинетт («Тропик Рака»).
Она может быть как искренней женщиной, любящей
Филмора, так и шлюхой-хитрованкой, пытающейся заманить в свои
сети богатенького американца. Сведения о ней, полученные
Миллером от ее подруги, нисколько не проясняют ситуацию,
ибо сама подруга обладает тем же качеством
«неопределенности», и ее слова могут оказаться как правдой, так и ложью.
Таким образом, миллеровские женщины оказываются в
своем роде беспредельны и пустотны. Центральным, осязаемым
образом насыщенной пустоты в ранних текстах Миллера
оказывается вагина. Ван Норден («Тропик Рака»), заложник
человеческого, не находит в ней никакого смысла. Ему не
помогает даже электрический фонарик54. Взгляд Ван Нордена
устремлен к поверхностной стороне вещей, вне пределов которой для
него ничего не существует. Он видит в вагине пустоту, но не
насыщенную смыслом, а пустоту абстракции55. В свою очередь
Миллер сакрализует женское лоно56, отождествляя его с лоном
мира. Оно — живое, зримое воплощение сущности бытия,
пустоты, но не пустоты абстракции, а напряженной пустоты,
концентрирующей в себе еще не родившиеся формы бытия. Здесь
берет свое начало сама жизнь. Вагина для Миллера —
средоточие бесконечного, Абсолюта, в котором соединились все
полюсы мира и вся история человечества: «Когда я смотрю вниз, в
эту расселину, я вижу в ней знак равенства, мир в состоянии
равновесия, мир, сведенный к нулю без остатка. Не нуль, на
который Ван Норден направлял свой электрический фонарик,
не пустоту, разочаровывающую возбужденного мужчину.
Просто арабский нуль, значок, из которого вырастают
бесчисленные математические миры, точка опоры, где
уравновешиваются звезды и мимолетные мечты, машины легче воздуха,
невесомые протезы и взрывчатые вещества, делающие эти протезы
необходимыми»57. И если Миллера это зрелище завораживает
бесконечной чередой всё новых и новых смыслов, то у Ван
Нордена оно вызывает скуку, ощущение полнейшего абсурда,
от которого он скрывается, погружаясь в книгу, источник
чужой мудрости. Миллер чувствует, как его сознание,
преодолевая свою извечную ограниченность, выскальзывает за пределы
рационального. Он видит себя превращающимся в
сверхчеловека, в ницшевского гиперборея, в танцующее дионисийское
существо. Вся мудрость, накопленная европейской культурой,
все знания и чувства отрываются от его «я». Чужие истины
155
выглядят лживыми, и герой готов принять мир и свое «я», не
испытывая страха и вины. Он отвергает предложенные ему
цивилизацией картину мира, этические установки и, наконец,
путь (судьбу) и, вернувшись к истоку бытия (и к истоку своей
личности), как бы заново из пустоты, из нуля строит мир,
одновременно осуществляясь.
В «Тропике Козерога» женская вагина вновь ассоциируется
с вящей бесконечностью (хотя на сей раз иронически) и
вмещает всё, что есть во вселенной: «Но что это была за пизда! Как
вспомню... Гигантская — темный подземный лабиринт, в
котором предусмотрено всё: и диваны, и укромные уголки, и
резиновые зубки, и оросительные приспособления, и мягкие
гнездышки, и гагачий пух, и листья шелковицы»08. Проникновение
в нее приобщает Миллера к неантропоморфному миру, к
средоточию жизни и разрушает его человеческое, личностное
начало. Вступив в сексуальный контакт, он обезличивается,
перестает быть собой, венцом вселенной и оказывается одной из ее
форм: «Иногда это было как на пляжных катальных горках:
крутой спуск, бултых! — и тебя обдаст щекотом крабьих
клешней, встревоженно всколыхнется камыш и целая стая мелкой
рыбешки заплещется плавниками о твое тело, будто трогая лады
гармоники. <...> Ничто не имело ни имени, ни формы. <...>
Временами невозможно было понять, то ли я в ней, то ли она во
мне. <...> Любовь между тритонами — и без цензурных
ограничений. Любовь без пола и без лизола»09.
Путь освобождения через связь с женщиной, через секс, как
показывает Миллер во всех своих текстах, неразрывно связан
с чувством вины и со страхом. Любовь мужчины к женщине
тождественна его завороженности перед иррациональной
пустотой явленного ему во плоти абсолюта. Зрелище
бесформенной сущности мира заставляет мужчину страдать, ибо оно
невыносимо для человеческого коллективного «я», которое
начинает распадаться. Личность испытывает боль, когда от нее
отрываются составляющие «я» внешние оболочки,
сформированные принципом реальности. Эта боль (страдание) вызвана
невротическим страхом рождения, о котором говорил Отто
Ранк, страхом остаться без «внешней защиты» и чувством
вины. Человек боится обрести себя, родиться в мир, пережить
одиночество и, как правило, бессознательно сопротивляется
процессу распада своего коллективного «я». Он цепляется за
свои чувства (любовь-страдание), которые суть продукт
сопротивления этому распаду, и «застревает» в них, искусственно
156
накручивая и взвинчивая себя. Это приносит ему удовольствие.
С точки зрения Миллера, большинство мужчин — мазохисты,
продлевающие свои фиктивные эмоции, желающие жить с
ними, упиваться ими, прислушиваться подолгу к своим
внутренним страданиям60.
Таков Филмор, персонаж романа «Тропик Рака». Филмор
не в состоянии расстаться со своей любовницей Жинетт, к
которой привязан страхом и чувством вины. В аналогичной
ситуации оказывается и сам Миллер в романе «Сексус» и в тексте
«Бессонница»61. Он страдает от своего чувства соответственно
к Маре и к Хоки, и не желает избавляться от этого страдания,
поскольку получает мазохистское удовольствие.
В свою очередь, свободный человек должен пройти этот
путь до конца, не останавливаясь посреди дороги как невротик-
мазохист. Ему надлежит погрузиться в стихию секса и достичь
предела собственных чувств, «дна», бездны, то есть слиться с
пустотой, обезличиться. Слияние будет означать разрыв с
прошлым, с лживым человеческим «я». Личность освободится от
неподлинных невротических, слишком человеческих чувств,
чужих идей, навязанных ей стереотипов. В романе «Тропик
Рака» Миллер предстает перед читателем уже прошедшим этот
путь. Он достиг пределов любовного чувства и преодолел их,
утратив личность и обретя тем самым свободу. «Мы начали
вместе пляску смерти, — говорит Миллер о Моне и о себе, — и
меня затянуло в водоворот с такой быстротой, что когда я
наконец вынырнул на поверхность, то не мог узнать мир. Когда
я освободился, музыки уже не было, карнавал кончился и я
был ободран до костей»62. В итоге Миллер приходит к выводу,
что женщина не может быть целью или финальной пристанью.
Она необходима лишь как средство самопознания.
В такой ситуации секс освобождается от власти
субъективного. Он не является чисто механическим актом, как у
стандартизированной личности индустриального мира. Напротив, он
принадлежит подлинной, независимой от человека жизни
вселенной и обретает сверхчеловеческое измерение63. Всё
личностное растворяется в сексуальном действе. И тогда мужчина
обнаруживает себя в мифологическом Царстве Ебли («Тропик
Козерога»), на территории «нейтральной», по выражению
Миллера, т. е. на территории, где не работают ценности
репрессивной антропоцентрической культуры: «<...> нельзя не уверовать
в реальность царства, которое, за неимением более
подходящего слова, было названо Царством Ебли, хотя на самом деле это,
конечно, нечто большее, нежели просто ебля; посредством же
157
ебли ты лишь делаешь первый шаг на пути к нему. Всяк в свое
время водружал знамя на территории этого царства, и, однако
же, никому еще не удавалось закрепить его за собой навечно.
Оно имеет обыкновение исчезать так же неожиданно, как
появляется, порой во мгновение ока. Это Ничья земля, провонявшая
останками невидимых вооруженным глазом мертвецов <...>.
Пожалуй, единственное, что имеет характер постоянства, — это
идея "нейтральной зоны"»64.
Отречение от человеческого, «романтическое» одиночество
среди людей позволяет человеку воссоединиться с жизнью,
принять ее. Он оказывается в средоточии мира. Избавление
от антропоцентризма помещает героя «Тропика Рака» не над
вещами, а среди них. Миллер чувствует, как сквозь него
протекают силы, приводящие в движение планеты, как
осуществляет себя чувственная, внечеловеческая энергия мира, та, что
наполняет собой вещи. Отсюда в «Тропиках» возникает
особое понимание сексуальности. Миллер представляет ее как
производную некоего общего влечения вселенной. Подобно
Жоржу Батаю65, Миллер воссоздает в своих романах
«вскрытое» пространство внешней реальности, где проявляет себя
неорганическая сексуальность. Это сексуальность вещей, изъятых
из антропоцентрического культурного пространства. Она не
имеет отношения к привычной чувственности, принципу
удовольствия или необходимости продолжения рода, ибо связана
с преодолением индивидуумом пределов сугубо человеческого
начала. Сексуальность персонажей романа «Тропик Рака»,
будучи проявлением неорганической сексуальности вселенной,
всегда предстает предельно обезличенной. В ней нет
экстатического чувственного восторга, в ней нет ничего патогенного, и
она никак не связана с биологической потребностью человека
к размножению. Сексуальность проявляется как желание
перестать быть субъектом и превратиться в объект, в используемую
вещь.
Именно поэтому Миллер уделяет, например, в романе
«Тропик Рака» такое большое внимание проституткам, ибо они
лучше, чем кто бы то ни было, являют собой идею человека-вещи.
Здесь его интересуют не те, которые стесняются своей
профессии (Клод), а те, существо которых полностью с ней сливается,
такие как, например, Жермен. Клод, испытывающая стыд,
вину, остается в пределах человеческого. И это делает ее
неинтересной в глазах повествователя: «Нет, Клод была совсем
другой. В ней всегда чувствовалась какая-то застенчивость,
158
даже когда она залезала с тобой под простыню. И эта
застенчивость обижала. Кому нужна застенчивая шлюха?»66 В свою
очередь, Жермен почти гордится своей работой и не
испытывает вины. С ее образом Миллер не связывает вообще никаких
человеческих переживаний: «Когда мы познакомились
поближе, ее товарки подтрунивали надо мной, говоря, что я влюблен
в нее (ситуация, казавшаяся им невероятной), и я отвечал:
"Конечно, я влюблен в нее и буду всегда ей верен". Это была ложь.
Для меня любить Жермен было так же нелепо, как любить
паука»67. Собственно, и сама Жермен не испытывает эмоций,
связанных с чисто человеческим, привязывающим нас к
другим: «Но главным для нее был самец как таковой. Мужчина!
Она стремилась к нему! <...> Жермен была шлюхой до
кончиков ногтей, даже ее доброе сердце было сердцем настоящей
шлюхи, — вернее, оно было не столько добрым, сколько
ленивым и безразличным; веселое сердце, которое можно затронуть
на минуту, не нарушив его безразличия; большое и вялое
сердце шлюхи, способное быть добрым, не привязываясь»68.
Жермен полностью растворяется в своем ремесле. Ее
индивидуальность нивелируется, и она окончательно становится предметом,
вещью среди вещей, соединяясь с жизнью и превращаясь в
носителя неорганической сексуальности.
Личность, изображаемая как пассивный агент сексуальной
энергии мира, предстает предельно деиндивидуализированной
и зачастую редуцируемой к гениталиям, как Илона или
Жермен из романа «Тропик Рака»: «Вот Илона — это просто
воплощенная манда. <...> Илона — единственная из миллиона! Пиз-
да и стеклянная задница, в которой вы можете прочесть всю
историю средних веков»69. Жермен также обезличена и
метонимически замещена «кустом» своих лобковых волос, который,
подобно гоголевскому носу, «отделяется» от нее и начинает
вести самостоятельное существование: «И опять этот большой
пушистый куст произвел на меня магическое впечатление. Для
меня он тоже стал вдруг чем-то самостоятельным. Тут была
Жермен, и тут был ее розовый куст. Мне они нравились по
отдельности. И мне они нравились вместе»70.
В романе «Тропик Козерога» этот прием метонимического
замещения используется гораздо чаще. Миллер почти доводит
его до истощения, создавая знаменитую и часто цитируемую
«классификацию» вагин, которая занимает почти целую
страницу: «Есть пизды хохотливые и пизды говорливые; есть
истеричные, припадочные пизды, по форме напоминающие
окарины, есть подсадные сейсмографические пизды, регистрирую-
159
щие спады и подъемы живительной влаги; есть пизды-людоед-
ки, которые распахиваются как китовая пасть и заглатывают не
разжевывая; есть также пизды-мазохистки, захлопывающиеся
как устрицы: у них твердые створки и внутри нет-нет, да и
попадется одна-другая жемчужина; есть неуемные
дифирамбические пизды: эти начинают выплясывать при одном только
приближении пениса и бурно изливаются в экстазе; есть пизды-
дикобразки, которые в рождественские дни сбрасывают иглы
и выбрасывают красные флажки; есть пизды-телеграфистки,
практикующие азбуку Морзе <...>»71 и т. д. Женщина
предельно обезличена, а вот ее алкающая вагина, напротив,
иронически антропоморфизирована, наделена чисто человеческими
свойствами. Эти составляющие Миллер иронически
подчеркивает, но лишь затем, чтобы «разоблачить» их, растворив в
некоем общем пространстве «сверхпизды» (super-cunt)72. Оно
хранит в себе мощнейший импульс сексуальной энергии и является
началом и одновременно целью всего сущего.
Персонаж Миллера утрачивает суверенность
человеческого. В нем открывается безличное влечение вселенной.
Персонаж превращается в мыслящее тело, постоянно изменчивое.
Таковым в «Тропиках» предстает сам Миллер, вовлеченный в
поток жизненного становления. Миллер ощущает это
турбулентное движение Вселенной, которое захватывает и его
самого, он явственно радуется этому ощущению, осознавая, что он
жив, ибо свободен от репрессивного воздействия
механизированной цивилизации. Вот почему Миллер постоянно заявляет
о том, что любит всё движущееся, текучее: «"Я люблю всё, что
течет", — сказал великий слепой Мильтон нашего времени. Я
думал о нем сегодня утром, когда проснулся с громким
радостным воплем; я думал о его реках и деревьях и обо всем том
ночном мире, который он исследовал. Да, сказал я себе, я
тоже люблю все, что течет: реки, сточные канавы, лавы,
сперму, кровь, желчь, слова, фразы. Я люблю воды, льющиеся из
плодного пузыря»/3.
Как человеческое тело, так и остальные элементы мира
представляют собой овеществленные, облаченные в плоть
этапы движения жизни. Сексуальная энергия мира перетекает из
одного тела в другое. В «Тропике Рака» вещи, увиденные
повествователем, лишаются четких очертаний и границ. Они
теряют твердость, превращаясь в единую текучую материальную
субстанцию: «Предвечерний час. Индиго, стеклянная вода,
блестящие, расплывчатые деревья. Возле авеню Жореса рельсы
сливаются с каналом. Длинная гусеница с лакированными бо-
160
ками извивается, как "американские горки" луна-парка» 74.
Другой пример: «<...> the buses whizzing by, the sun beating down
into the asphalt and the asphalt working into me and Germaine, into
the asphalt and all Paris in the big fat belfries»75 («...мчащиеся мимо
автобусы и солнце, жгущее асфальт — асфальт, вливающийся
в меня и Жермен, — асфальт и весь Париж с его большими
толстыми колокольнями»76). Характерно описание Миллером
парижской толпы: «Но насколько приятнее было болтаться в
человеческой похлебке, льющейся мимо вокзала Сен-Лазар, —
шлюхи в подворотнях; бутылки с сельтерской на всех столах;
густые струи семени, текущие по сточным канавам. Что может
быть лучше, чем болтаться в этой толпе между пятью и семью
часами вечера, преследуя ножку или крутой бюст или просто
плывя по течению и чувствуя легкое головокружение»77. О теле
Жермен Миллер пишет следующее: «Баржи, пльшущие мимо,
их корпуса и мачты, и весь поток человеческой жизни, текущей
через тебя, и через меня, и через всех, кто был здесь до меня
и будет после меня, и цветы, и птицы в воздухе, и солнце, и
аромат, который душит, уничтожает меня»78. Наконец, финал
романа являет нам образ повествователя, сквозь тело
которого протекает река Сена, река жизни: «Солнце заходит. Я
чувствую, как эта река течет сквозь меня, — ее прошлое, ее
древняя земля, переменчивый климат»79.
Индивидуум, оказавшийся в средоточии внечеловеческой
жизни, достигший «Царства Ебли», превратившийся в агента
сексуальной энергии мира, является, с точки зрения Миллера,
художником, преодолевшим извечную разорванность души и
тела. Искусство, таким образом, черпает свои силы в
сексуальной энергии мира, а творческий процесс оказывается
специфической формой сексуального контагиозного акта. Поэтому в
романе «Тропик Козерога» подлинным покровителем искусства
выступает не Аполлон, а провокативный бог плодородия сати-
роподобный Приап: «Своим длиннющим хуем он запел так
грациозно, так изящно, что белые кондоры спустились с небес
и пообсирали зеленеющие заливные луга огромными
пурпурными яйцами. Наш Христос Бог восстал со своего каменного
ложа и, как был весь в следах от метательных колец, так и
пустился в пляс, точно горный козел. Звеня кандалами, из
Египта явились феллахи, а следом — воинственные игороты и
занзибарские улиткоеды»80. Искусство, наполненное сексуальной
энергией, выполняет ритуальную функцию. Оно преображает
реальность, сообщая человеческой жизни подлинно значимый
смысл81.
II Заказ № К-7531
161
Примечания
1 Подробнее о целостном мировосприятии Г. Миллера в
культурном контексте эпохи см.: Hassan I. The Literature of Silence. New York,
1967; Gordon W. The Mind and Art of Henry Miller. Louisiana, 1967;
Blinder C. A Self-Made Surrealist: Ideology and Aesthetics in the Work of
Henry Miller. Rochester (NY), 2000.
2 Миллер Г. Тропик Рака. СПб., 2000. С. 22.
3 Миллер Г. Тропик Козерога. СПб., 2000. С. 22.
4 Миллер Г. Сексус. СПб., 2000. С. 459.
5 Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар. М., 2001. С. 157.
6 Подробнее см.: Миллер Г. Мудрость сердца//Миллер Г. Черная
Весна. СПб, 2000. С. 500-501.
7 Миллер Г. Книги в моей жизни. М, 2001. С. 100. Тема «смерти в
жизни» характерна для творчества литераторов 1920-х годов,
воссоздававших индустриальный мир. См, в частности, ряд работ,
посвященных поэме Т.-С. Элиота «Бесплодная Земля»: Brooks Cl. The Waste
Land: Critique of the Myth // The Merril Studies of the Waste Land.
Columbus (Ohio), 1971. P. 38-39; Smith Gr. T.S. Eliot's Poetry and Plays.
Chicago, 1958. P. 69-72; Drew E. T.S. Eliot: The Design of His Poetry.
New York, 1959. P. 63.
8 См.: Gordon W. Op. cit. P. 47-58.
9 См.: Rank 0. Will Therapy: An Analysis of the Therapeutic Process
in Terms of Relationship. New York, 1936. P. 171.
10 См.: Ibid. P. 16.
11 См.: Ibid. P. 24.
12 См.: Ibid. P. 173.
13 См.: Ibid. P. 110.
14 См.: Миллер Г. Мир секса//Миллер Г. Черная Весна. СПб., 2000.
С. 464. Подчеркнем, что в арахических культурах образ нити и
марионеток поистине архетипичен. См. соответствующие соображения
Мирчи Элиаде: «Уже с архаических времен в этой (зевсовой) золотой
веревке видели или нить, которая связывает Вселенную в
неразделимое целое, или воплощение тех нитей, что привязывают человека к
высшим силам» [Элиаде М. Нити и марионетки // Элиаде М.
Мефистофель и андрогин. СПб., 1998. С. 309-310).
15 Миллер Г. Книги в моей жизни. С. 187.
16 Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар. С. 154.
17 См.: Миллер Г. Тропик Козерога. С. 29.
18 См.: Rank О. WÜ1 Therapy. Р. 35.
19 См.: Миллер Г. Мир секса. С. 507.
20 См.: Миллер Г. Книги в моей жизни. С. 100.
21 Миллер Г. Дьявол в Раю//Миллер Г. Время убийц. М., 2000. С. 72.
22 Миллер Г. Время убийц. С. 400.
23 См.: Миллер Г. Колосс Маруссийский. СПб., 2001. С. 116.
24 Там же. С. 278.
25 См.: Миллер Г. Тропик Рака. С. 23.
162
26 См.: Gourmont Remy de. The Natural Philosophy of Love. L., 1992. P. 2.
По контрасту с этим можно было бы вспомнить недоброй памяти
самоненавистнические штудии из поколений, предшествующих Миллеру, а
именно — Отто Вейнингера, о рецепции которого в творчестве
изучаемого нами американского автора мы не будем здесь распространяться в
силу эксплицитной неразработанности данного топика. О важности вей-
нингеровской проблематики для культуры модернизма (хотя бы в его
русской ипостаси) см. целый ряд работ, который мы не можем
воспроизвести здесь за недостатком места. В частности, стоит упомянуть
соответствующую «вейнингеровскую» главу в монографии американской
исследовательницы Лоры Энгелыптейн: Engelstein L. The Keys to
Happiness. Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siecle Russia. Princeton. 1992
(рус. пер.: M., 1996). См. также: Gilman S.L. OttoWeininger and Sigmund
Freud: Race and Gender in the Shaping of Psychoanalysis // Eds. N.A.
Horowitz, B. Hyams. Jews and Gender: Responses to Otto Weininger. Philadelphia:
Temple University Press, 1995; Le Rider J. Le case de Otto Weininger: Racines
de rantifeminisme et de l'antisémitisme. P., 1982.
27 Подробнее см.: Аствацатуров A.A. Апология тела в тексте
Генри Миллера «Колосс Маруссийский» // Миллер Г. Колосс Маруссий-
ский. СПб., 2001. С. 295-316.
28 Миллер Г. Колосс Маруссийский. С. 115.
29 См.: Миллер Г. Книги в моей жизни. С. 266.
30 Миллер Г. Тропик Козерога. С. 54.
31 Миллер Г. Дьявол в Раю. С. 76—77.
32 Фокин CA. Философ-вне-себя: Жорж Батай. СПб., 2002. С. 19.
33 Ср. специфическую концепцию женщины у Мишеля Лейриса:
Аейрис М. Возраст мужчины. СПб., 2002. С. 162 — 163.
34 Восхищение Миллера Джойсом в 1920-е годы сменяется позднее
критической оценкой, см.: Миллер Г. Вселенная смерти // Миллер Г.
Аэрокондиционированный кошмар. С. 344 — 353.
35 См.: Фокин С.А. Философ-вне-себя: Жорж Батай. С. 96.
36 О соотнесении женщины с бессознательным см., напр.: Gilmore D.D.
Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity. New Heaven,
1990, или: Frosch S. Sexual Difference: Masculinity and Psychoanalysis. L.,
1994. Для фиксации становления концепции «женственности» в
Новом времени западной истории см. важную монографию Сильвии Бо-
венчен: Bovenschen Sylvia. Die imaginierte Weiblichkeit. Frankfurt am
Main, 1979. Важные типологические замечания (на основе онтологии
A.A. Любищева и Ю.А. Шрейдера) содержатся в работе: Чебанова
СВ. Типология мнимостей, относящихся к представлениям о поле //
Мифология и повседневность: Тендерный подход в
антропологических дисциплинах/ К.А. Богданов, A.A. Панченко (ред.). СПб., 2001.
С. 424—439. См. также предварительный вариант работы: Григорьева
Елена. О некоторых психоаналитических коннотациях мотива андро-
гина в русской литературе конца XIX — начала XX века // Studia
Russica Helsingiensia et Tartuensia. Модернизм и постмодернизм в
русской литературе и культуре. Helsinki, 1996. С. 338—343 (ср. с публику-
п*
163
емым в наст. изд. измененным вариантом этого текста). Для
углубления в чисто русскую специфику «Серебряного века» в данной теме см.
также: Обатнин Г. Иванов-мистик: (Оккультные мотивы в поэзии и
прозе Вячеслава Иванова (1907-1919). М., 2000. С. 103-104.
37 Подробнее об этом образе см.: Gordon W. Op. cit. P. 147.
38 Об этой смене имен в романе «Сексус» см.: Hassan I. Op. cit P. 89.
39 Перле A. Мой друг Генри Миллер. СПб., 1999. С. 77.
40 О Джун см. также: Brassai G. Henry Miller. The Paris Years.
Translated from the French by Timothy Bent. N.Y., 1995. P. 85 - 101.
41 Фокин С. Батай и С. Вайль: Насилие и политика// Ступени. 2000.
№ 1 (11): Боль. Насилие. Фашизм. СПб., 2000. С. 91. Женщина,
однако, не есть лишь объект наслаждения и подавления. © Здесь
содержится принципиальное возражение разного рода феминистам-$&л*н-
нологам. Для описания их взглядов русской постсоветской наукой см.:
Зверева Г. И. Чужое, своё, другое... Феминистские и тендерные
концепты в интеллектуальной культуре постсоветской России // Альманах
тендерной истории «Адам & Ева» /Ред. Л. Репина. СПб., 2003. С. 389—
428, а также: Пушкарева H.A. От his story к her story: Рождение
исторической феминологии // Там же. С. 365—388.
42 Миллер Г. Тропик Козерога. С. 234.
43 Миллер Г. Сексус. С. 69-70.
44 Миллер Г. Тропик Рака. С. 28.
45 Там же. С. 45.
46 Там же. С. 46.
47 Там же. С. 341.
48 Там же. С. 342.
49 Подробнее об авангардной традиции изображения женского
начала см.: Токарев Д. Курс на худшее: Абсурд как категория текста
у Даниила Хармса и Семюэля Беккета. М., 2002. С. 63—67.
50 Там же. С. 28.
51 Там же. С. 46.
52 Там же. С. 344.
53 Там же. С. 28.
54 Там же. С. 172-173.
55 См. подробнее: Gordon W. Op. cit. P. 99.
56 Впрочем, Эрика Ионг полагает, что Миллер как раз дероманти-
зирует и демистифицирует женское лоно: Jong Е. The Devil at Large:
Erica Jong on Henry Miller. N.Y., 1993. P. 107.
57 Там же. С. 292.
58 Миллер Г. Тропик Козерога. С. 237.
59 Там же. С. 237 — 238. Интересно сопоставить это описание с
аналогичными эпизодами из текстов абсурдистско-авангардной
традиции. О последней см. недавнюю статью Д.Г. Иоффе, которая,
помимо прочего, содержит достаточно подробную библиографию по
данной теме (текст опубликован в наст. изд.).
60 Ср.: Делез Ж. Представление Захер-Мазоха (Холодное и
Жестокое) // Венера в мехах. Делез Жиль. Представление Захер-Мазоха;
164
Фрейд 3. Работы о мазохизме. М., 1992. С. 248-259; Делез Ж.
Критика и клиника. СПб., 2002. С. 76 - 79.
61 Подробнее см: Аствацатуров A.A. Искусство и эрос в романе
Генри Миллера «Сексус»//Миллер Г. Сексус. С. 589—606;
Аствацатуров A.A. Образ пустоты в тексте Генри Миллера «Бессонница, или
Дьявол на воле» // Преломления. СПб., 2003. Вып. 2. С. 332—346.
62 Миллер Г. Тропик Рака. С. 219.
63 Секс в романах Миллера ни в коем случае нельзя воспринимать
как вовлеченность героя в дурную бесконечность телесных отношений.
04 Миллер Г. Тропик Козерога. С. 249. См. также комментарии
Ларисы Житковой: Житкова А. Комментарии // Миллер Г. Тропик
Козерога. С. 503-504.
65 См. подробнее: Фокин С.А. Философ-вне-себя: Жорж Батай.
С. 67-68.
66 Миллер Г. Тропик Рака. С. 72.
67 Там же. С. 71.
68 Там же. С. 70-71.
69 Миллер Г. Тропик Рака. С. 28-29.
70 Там же. С. 69.
71 Миллер Г. Тропик Козерога. С. 252—253.
72 См.: Там же. С. 253.
73 Миллер Г. Тропик Рака. С. 303.
74 Там же. С. 24.
75 Miller H. Tropic of Cancer. N.Y, 1961. P. 17.
76 Миллер Г. Тропик Рака. С. 39-40.
77 Там же. С. 38.
78 Там же. С. 69.
79 Там же. С. 370.
80 Миллер Г. Тропик Козерога. С. 251.
81 См. контрастные замечания по этому поводу у Р.-Дж. Коллинг-
вуда: Коллингвуд Р.-Дж. Принципы искусства. М.: Языки русской
культуры, 1999.
Владимир Хазан
«МОГУЧАЯ ДИРЕКТИВА ПРИРОДЫ»
Три этюда об эротических текстах
и подтекстах
1. Technikë sub specie erös
...if civilization is any good, it has to help us
to forget our bodies, and then time passed
happily without our knowing it.
D.H. Lawrence. Lady Chatterley's Lover1
В книге новелл H. Каржанского «Первая любовь» (см.: Кар-
жанский 1918), воспринимавшейся современниками как
эротическое откровение2, рассказывается о том, как два ссыльных
революционера попадают в северное племя юраков, которые,
по заведенному у них древнему обычаю, предоставляют на ночь
гостям двух девственниц (новелла «Первая любовь»).
Оставшись в юрте один на один со своей избранницей Юшей, юный
герой-рассказчик, не знавший еще женского тела, обретает,
после первых минут естественного смущения, власть над собой
или, как говорит он сам, подчиняется природе, которая «дала
свою могучую директиву» (Там же: 25). На этом, однако,
непривычные для ублажаемых гостей любовные испытания не
оканчиваются: в юрте, где герой-рассказчик находится с Юшей, на
ее крик собирается всё племя, которое предается здесь
безудержному веселью, сопровождаемому неописуемым галдежом и
неистовыми танцами. Первобытный обычай юраков
предписывает принародное совокупление гостя с представительницей их
племени.
Начал было я злиться на плутовку Юшу, — сообщает рассказчик, — но
сейчас же — к чести моей скажу — понял, что только с нашей грязненькой
точки зрения это шокирует, а для глаза человека природы это и весело
и забавно. И, поддерживая шутку Юши, я и сам начал делать всякие
непристойности и вдруг весело завопил благим матом:
— Эй-во-ой!» (Там же: 26).
Мораль этой забавной новеллы в духе Петрония в общем-
то немудреная: просыпающийся в человеке стихийный ин-
166
стинкт — «могучая директива природы» — оказывается гораздо
сильнее безнадежных попыток цивилизованного сознания
овладеть собой. В то же время вовсе не просто отмахнуться от
обступающих его вопросов, и главного из них: почему чем толще
и массивней ограда, возводимая человеком, дабы оградить себя
от прямого вмешательства природных сил, тем таинственней
и изощренней царящие над ним древние эротические
инстинкты? Говоря несколько общо и схематично, гуманизация
истории и процесс культурного утончения и одухотворения
человека не только не устраняют этих инстинктов, а продольно
движутся по пути их всемерного углубления и развития. Больше
того, эротическая стихия легко подчиняет себе логические
доводы прогресса, т. е. ту сферу рационального, которая
выступает продуктом многотысячелетней мысли. В первом этапе
это соображение развивается на материале взаимоотношений
Эроса с Техникой.
Бурное вторжение техники в человеческую жизнь имело
непосредственное влияние на телесную3, в том числе, естественно,
и эротическую область. Простой пример: в связи с появлением
автотранспорта возникло новое пикантное уединение для
отправления эротических нужд4. Автомобиль оказался
своеобразным «местом свиданий», т. е. стал частью
заповедно-романтического топоса, который раньше составляла какая-нибудь
пустынная беседка в заброшенном саду или sancta sanctorum — будуар
красавицы, путь к которому стоил герою немалых душевных
сил и физических испытаний. Ср., к примеру, у И. Северянина
(«В лимузине», 1910): «Она вошла в моторный лимузин, / Эскизя
страсть в корректном кавалере» (Северянин 2004: 108).
То, что «место свиданий» было не статичным, а движущимся
и потому лишь на мгновение приоткрьшающим любовную тайну,
придавало происходившему внутри стремительно уносившегося
авто волнующую загадочность. Размеры этой загадочности
должны были, по идее, расти прямо пропорционально техническим
возможностям мотора. Вот, к примеру, типичный образец
связанного с данной темой описания из прозы начала XX века:
Казалось, никогда еще женщины так не тянулись к любви, как в эту
неподвижную осень. Прозрачный воздух был насыщен неслышными
словами прощания. Через гигантские железные мосты мчались изящные
экипажи, отсвечивали лаком автомобили; едва можно было уловить профили
молодых женщин; от быстрой езды у всех были прищурены глаза и бледные
лица. Наклонясь к ним, сидели молодые мужчины в цилиндрах, темных
шляпах, военных фуражках. Все казалось загадочным (Дымов 1912: 23).
167
Забавно, что связь пола с мотором на заре развития
автомобильной техники прослеживается даже в такой тонкой области,
как женская эстетическая интуиция. Как это ни покажется
парадоксальным, но именно женщине, чаще всего мало что
смыслившей в технике, обязана своими достижениями конструкторская
мысль, желавшая удовлетворить потребителя известным
комфортом и дизайном автомодели. Поскольку же главным
«инспектором» удобств/неудобств в автомобиле, а также того, насколько он
«стилен», «моден» и пр., нередко являлся женский капризный
вкус, то вполне серьезно можно говорить о его влиянии на
машиностроение. См. на эту тему статью под весьма красноречивым
заголовком «Women's Influence in Motor Styles» («Женское
влияние на конструкцию автомобилей») в «The New York Times», в
которой, в частности, говорилось о том, что возможность
расположиться на автомобильном сиденье с таким же удобством, как в
кресле в собственном будуаре, является одним из важнейших
источников машинного дизайна (1920. January 4. Р. 12).
В качестве стимулятора эротического волнения транспорт
создавал новые варианты телесно-физического поведения, я бы
даже сказал, новые стратегии жизни плоти или, по крайней
мере, неведомые доныне связи конкретной человеческой особи
с социальным экстерьером (о выведывании телесных тайн
посредством техники см.: Rabinbach 1990). Возникновение «любви
в трамвае» (см. стихотворение М. Струве под таким названием:
Струве 1914: 7) и как нового эротического ареала, и, самое
главное, как нового психофизиологического топоса не могло не стать
источником продуцирования нетривиальных образов страсти,
да и, пожалуй, всего строя душевной жизни. Изображение
эротического акта в манере «технических» метафор — лишь один
из вариантов этих примечательных новаций. В стихах Анны
Гриановой, обращенных к В. Баяну, героиня сначала
предается скуке — «Рисовала от скуки головки, / Вышивала турецкую
ткань», а когда появляется он, летчик, пробуждается к
подлинной эмоциональной жизни, и ее «разбитый биплан» вновь
воспаряет ввысь:
Посвящала кому-то мотивы
И, пилот экзотических стран,
Вдохновенно и властно пришли Вы
Окрылить мой разбитый биплан!..
(Грианова 1920: 4)
От литературы не могли укрыться тайные и вроде бы
«нечаянные» телесные прикосновения людей в автобусной или
168
трамвайной давке, стимулирующие воображение и
возбуждающие своей вымышленной или взаправдашней любовной
игрой. Ж. Гюисманс в «Парижских арабесках», построенных на
метких наблюдениях за бытом и нравами французской
столицы конца XIX — начала XX века, так описывал «знакомства»
частей человеческого тела, в частности, такого выразительного
эротического символа, как ноги, в движущемся транспорте:
Без слов, без жестов, какую пламенную, какую мечтательную фразу
способна выразить нога, которая мимолетно приближается, чтобы
коснуться ноги соседки, и, словно ласкающаяся мурлыкающая влюбленная
кошка, слегка отодвигается, чувствуя, как та отстранилась от пожатия,
потом возвращается и, встретив менее упорное сопротивление, нежно
пожимает ступню! (Гюисманс 1912: 2).
Сходные или близкие мотивы и образы имеются и в русской
литературе. Вот, к примеру, упомянутое уже стихотворение
М. Струве «Любовь в трамвае»:
Влюбленность — осенью. Прощанье — в мае.
Улыбки — вечером. А утром — слезы.
В садах — галантности. Любовь — в трамвае.
В гробу — торжественность. К венцу — плерезы.
(Струве 1914)
Или субвариант этой темы — отсутствие у возлюбленных
средств на автомобиль, когда они вынуждены в качестве
места свидания довольствоваться более дешевым видом
транспорта — трамваем и даже трамвайной остановкой (стихотворение
В. Королевича «Трамвайные остановки», 1916):
Ты приезжала на номере пять,
Издали дарила мне улыбку,
Как бы хотел я целовать
Твой взгляд волнующе зыбкий.
У меня нет денег на автомобиль.
Мои свиданья всегда у трамваев,
В этом их прелесть, их радостный стиль!
Как остро я тебя вспоминаю.
(Королевич 1916: 2)
В сборнике поэта-эмигранта Д. Кнута «Сатир», о котором
пойдет речь в третьем этюде, есть стихотворение, целиком
посвященное эротическим наваждениям в парижской подземке:
За правду бьют неправедные судьи,
Но вот — люблю вечернее метро,
169
Где греют спину ласковые груди,
Где греет душу женское бедро.
Да, я люблю таинственное бремя
Разнообразных грудей, плеч и рук.
Здесь общему любовнику (в гареме
Нечаянном) газета — щит и друг.
О, плотский жар соборного угара,
Животное обильное добро...
Вхожу, как в роскошь бани Ренуара,
В густую плоть вечернего метро.
Внедряюсь в стан, любовный и жестокий,
Пружинных тел, ярящихся тайком.
Включаюсь в магнетические токи
Чувствительным прямым проводником.
Дрожит направо девочка худая,
Налево — женщина лет сорока...
Ярись, ярись, креолка молодая!
А снизу шарит нежная рука...
Как сладостно, когда невидной дланью
Ты пред собой сочувствие найдешь
И живота, разъятого желаньем,
Внимаешь сзади бешенство и дрожь,
И, продвигая бережно колено
В раздавшийся сочувственно проход,
Ты слышишь сам, как расцветают члены,
Ты семени воспринимаешь ход.
(Кнут 1997-1998/1: 138-139)
Ср. еще в повести также эмигрантского писателя, В.
Варшавского, «Уединение и праздность», где один из персонажей
по имени Биль говорит, что уже четыре месяца не занимался
любовью.
Правда, раза два притерся в автобусе. Знаешь, я всегда езжу на
площадке или в первом классе. На площадке я люблю стоять в углу, спиной
к публике. Чувствую, что кто-то на меня наваливает. Я думал, что это
какой-нибудь парень, и обернулся — думаю: «Дать ему в бок локтем?»
Вдруг вижу — девчонка (Варшавский 1932: 61).
В традиционный одоро-эротический букет (например,
сирени, шире — цветов и растительности вообще или еще шире —
«классически» пахнущего пейзажа) вмешались новые —
«технические» запахи, скажем, бензина, и это неожиданное смешение
170
ароматов природы и «выхлопных газов» индустриальной
цивилизации чувствительно уловил тонкий нюх стихотворцев:
«Бензина запах и сирени» (А. Ахматова «Прогулка», 1913), «И
сирень бензином пахнет» (О. Мандельштам «Теннис», 1913), «Он
выставляет розу с резедой / В клубящуюся на версту корзину, /
Где семафоры спорят красотой / Со снежной далью, пахнущей
бензином» (Б. Пастернак «Gleisdreieck», 1923), ср. с менее
хрестоматийным случаем:
Небо над всеми нами
Безоблачно. Какой вкусный хлеб!
Какое светлое, беззлобное вино!
Радость. Радость. Радость.
Жасмин и бензин.
Жасмин — и бензин —
(Вейдле 1965: 194)
примеры предложенного типа можно множить. Сюда же
следует отнести и новую — машинную — акустику, искушающую
природный мир нарушить устойчивую условность таких
традиционных эротических символов и метафор, как, допустим,
пение соловья, см. у Б. Поплавского в «Розе смерти» (1928):
«Соловьи поют, моторам вторя» (Поплавский 1999: 57). Да и
само появление «технических» эпитетов рядом с
традиционными обозначениями страсти может быть смело приписано к но-
воприобретениям эротики на фоне нового
«машинно-моторного» пейзажа. См., к примеру, в стихотворении В. Баяна «Старым
пророкам. Ответ Т.Л. Щепкиной-Куперник на ее посвящение»
(1920):
По дебрям дремучих фантазий
Из ваших цветущих садов
Умчимся в моторном экстазе
В просторы косматых веков.
А вам подарим, в утешенье,
Красивый и гордый поклон,
Что в ваших морях вдохновенья
Родился великий циклон!..
(Баян 1920: 4)
На рубеже XIX и XX веков техническая прагматика в
особенности глубоко вошла в плоть и кровь того мира, который
издревле считался ненарушимо принадлежащим
исключительно духовно-чувственной сфере. Любопытно, что в поисках
новых форм экспрессивности сами любовные признания своего
171
рода параллелизовали автомобильный и эротический дискурс,
как, предположим, в «Zoo, или Письма не о любви» (гл.
«Письмо тринадцатое») В. Шкловского, где органично соединился
опыт автора-автомобилиста и влюбленного:
Твоя повадка однообразна: веселая встреча, цветы, любовь
мужчины, которая запаздывает, как всасывание свежего газа в цилиндр
автомобиля.
Мужчина начинает любить через день после того, как он сказал
«люблю».
Поэтому не нужно говорить этого слова.
Любовь всё растет, человек загорается, а тебе уже разонравилось.
В технике автомобиля это зовется опережением выпуска.
(Шкловский 2002: 298)
См. еще описание любовного трепета в стиле
своеобразного «машинного маньеризма» в стихотворении К. Большакова
«Мягко в моторе взорили сердце» (1913):
Мягко в моторе взорили сердце.
Мягко коснулись кожей перчатки.
Смехом труверить. Сладко смотреться.
Сладко труверить... «Скучно вы сладки».
Скучно поверить только в возможность,
Шпильте гвоздикой трепет загрезный.
Так невозможно — быть осторожным.
О, улыбнитесь, вы не серьезны.
Стрелить во взоре нежностью синей,
Мягко в моторе плыли догадки.
Сердце, под гримом бледнея, стынет
В вашей душенной гвоздикой перчатке.
(Большаков 1991: 286)
Поэтический мотив усиления и обострения волнующей
загадочности происходящего в мчащемся транспортном средстве
(конный экипаж, автомобиль, поезд, лифт и пр.) хорошо
увязывается с общим представлением о том, что техника делает
эротическую жизнь изощренней. На новом витке развития
цивилизации Техника как бы экзаменует Эрос, который,
оставаясь самоценным, признает над собой власть не суждений, а
инстинктов. Поскольку социальная регуляция Эроса кладет
предел свободе, фрейдовское понимание истории тела как
истории подавления тела, его ограничения и несвободы
фактически выражает идею цивилизации как свертывания и
обуздания природных инстинктов. Можно было бы сказать, что
технический топос в качестве могущественнейшего средства ци-
172
вилизации создает своего рода обратный процесс тому, который
описал Фрейд: от принципа удовольствия к принципу
реальности; в коммуникационной цепи «Техника — Эрос» действует
прямо противоположная тенденция — от принципа реальности
к принципу удовольствия.
Весьма агрессивными — с точки зрения освоения и присвоения
эротических коннотаций — выглядят интермедиальные средства,
в особенности телефон. Преодоление разлуки как аннигиляция
пространства чревато наделением телефонного посредника
чертами эротического мифа. К слову сказать, работа первых
телефонных станций как гигантских фабрик совокуплений внешне
выразительно поддерживалась операционной деятельностью
телефонисток, втыкавших штыри в телефонные гнезда для соединения
абонентов. Это, в принципе, не препятствует другим имагинаци-
ям и образным параллелям: например, встречаемое у Э. Паунда
уподобление телестанции сознанию (см.: Nanny 1973: 20), что
восходит к «обратному» бергсоновскому сравнению (в книге
«Материя и память») — человеческого мозга с телефонной
диспетчерской. Однако сейчас меня интересуют возможные здесь
хитроумные писательские ловушки — уловки и обманы ожиданий. Так,
например, в начале рассказа И. Эренбурга «Кафе "Олимпия"»
читатель и вправду попадает в одну из таких «ловушек»:
«Телефонная станция автоматически совокупляет души Альфреда и
Мари» (Эренбург 1926: 53). В дальнейшем эротический миф теле-
медиальности подвергнут в рассказе грубоватой
«разоблачительной» экспликации: оказывается, совокупление происходит не
столько в метафорическом, сколько в прямом, физическом
смысле, — соединяются, иными словами, не души, а тела; а поскольку
местом действия служит телефонная будка (еще одно неизвестное
человечеству доныне место любовных встреч), то она и становится
импульсом для, возможно, не особенно тонкой, но вполне
безотказной «мистификации»:
В одной из 18 телефонных будок господин Верру находит
выключатель. Свет задавлен, как назойливый жучок. Длинная коробка, гроб в
непривычно вертикальном положении, наполняется густым дыханием и
духами «Шипр» Убигана, 34 франка флакон. Сердце господина Верру
вместо 70 положенных сокращений проделывает 80, может быть, даже 90.
Через 3 минуты телефонный разговор закончен. Вне забот
автоматической станции, души двух мечтательных существ соединены. Пятидеся-
тифранковый билет переходит из псевдокрокодилового бумажника в
чулок «той самой». Один из 30 кранов, зеркала, пудра возвращают
обоим первоначальную окраску: солидно-охровую — служащему
«Лионского Кредита», абрикосово-девственную — «той самой» (Там же: 63—64).
173
Ср. едва ли не рифмующееся с этим описание в романе
Бруно Ясенского «Я жгу Париж» (1928), в котором «король
американского металлического треста» мистер Давид Лингслей
страдает от недостатка времени удовлетворить свою сексуальную
страсть. «Это была как раз та жизненная функция, для
которой у него постоянно не хватало времени, которую он
принужден был отправлять между двумя телефонными звонками —
всегда второпях и всегда не вовремя» (Ясенский 1963 (1928): 86).
Целесообразное рассмотрение телефона как знаменательного
технического символа культуры (см.: Тименчик 1989)
свидетельствует о его несомненных сюжетостроительных потенциях в
художественном тексте, как, скажем, в раннем кино, где он
усиливал драматизм действия, или как в одноактной пьесе Ж. Кокто
«Человеческий голос», в которой героиня, разговаривая по
телефону со своим бывшим любовником и решая свести счеты с
жизнью, обматывает шнур вокруг своей шеи. Джон Брукс
справедливо пишет по этому поводу:
Любопытно, что решающая роль телефона в современной любви —
его способность прерывать любовный роман одновременно и более
легким, и более тяжелым способом, чем это было бы сделано иными
средствами, и его способность одновременно и ослаблять и усиливать
жизненные напряжения и отклонения — только одно из значений указанных двух
работ. В них телефон — дающее и берущее начало, глоток воздуха и
петля для самоубийства. С этой точки зрения, телефон выполняет
символическую роль Бога (Brooks 1977: 218)5.
Тот же Дж. Брукс замечает, что в произведениях
художественной литературы женщины с телефонной трубкой в руке
испытывают более сильные эмоции, нежели мужчины (см.: Там же: 221)6.
Это мнение не представляется самоочевидным, хотя постановка
вопроса о «половых» аспектах телемедиальности, безусловно,
выглядит более чем уместной и оправданной. Касаясь этой
проблемы в связи не с теле-, а радиосвязью, замечу, что, — по крайней
мере, в русской поэзии — образ радио (радиоточки,
радиоприемники) нередко сопряжен с пением, причем, как правило, пением
женским, см., к примеру, «Радио» (1932) М. Струве7, «Я в львиный
ров и в крепость погружен» (1937) О. Мандельштама, возможно,
«Télégraphie sans fil» (1926) Б. Поплавского и др. Даже в тех
случаях, когда «половой» признак голоса прямо не указан, контекст
стихотворения делает его отнесение к женщине весьма
вероятным, см., к примеру, «Радио» М. Лопатто: «Для нас в эфирных
волнах голос пел / О нежности воздушной и условной» (Лопатто
1959: 35) или «По радио... По темным переливам» Ю.
Трубецкого: «По радио... По темным переливам/Глухой тоски, по мутным
174
облакам, / Стремящимся над обнаженной нивой, / Куда? Бог
весть — не понимаю сам... <...> По радио... Я подожду немного. /
Как строчки падают! (дрожит рука...) /Над глинистой,
разъезженной дорогой/Клубятся грозовые облака» (Трубецкой 1962:19—20).
Материализация женского облика по теле-, радиоголосу
отчасти напоминает сюжет рассказа Аполлинера «Король-луна»
(из книги «Убиенный поэт», 1916), где описана сексуальная
оргия с воскрешенными посредством фонографа телами
давно умерших красавиц, что при всей пикантности сюжета
сопряжено с мыслью о бессмертии как памяти всех когда-либо
посетивших землю человеческих существ, чье бытие запечатлено в
разнообразных материальных и духовных субстанциях.
Попадая в таинственное подземелье, герой рассказа наблюдает
оргию (а затем и сам участвует в ней) оживления — с помощью
специального технического приспособления, напоминающего
фонограф, — давно почивших красавиц:
Сперва молодые люди внимательно разглядывали какие-то альбомы,
коих там было великое множество; издали мне показалось, что в них
были фотографии обнаженных тел, а также академические рисунки с
натуры — мужчины, женщины, дети. Когда же эффект от разглядывания
наготы был достигнут, молодые люди разлеглись в откровенно
непристойных позах. Выставив напоказ свое мужское достоинство, они открыли
шкатулки и запустили механизмы, валики которых начали медленно
вращаться как в фонографе. При этом каждый опоясался ремнем,
который одним концом соединялся с аппаратом; тем самым они мне чем-то
напомнили Иксиона, ласкающего облачный призрак — невидимую Геру.
Они вытягивали руки, словно касаясь желанных податливых тел, их губы
страстно лобзали воздух. Вскоре движения их стали еще сладострастней,
еще судорожней, и они совокупились с пустотой. Я был в полном
смущении, как если бы оказался невольным свидетелем возбуждающих игрищ
компании чтителей Приапа; из их уст вырывались восклицания, слова
любви, сладостные стоны, звучали какие-то давно забытые имена, во
всяком случае, я разобрал имя благочестивой Элоизы, Лолы Монтес, какой-
то окторонки, родившейся, по всей видимости, в XVTH веке на
плантациях Луизианы; кто-то повторял: «Паж, мой прекрасный паж». <...>
«Все дело в шкатулках, — подумал я, — это своего рода кладбища,
откуда эти некрофилы выкапывают трупы своих возлюбленных».
Догадка привела меня в восторг, мне захотелось присоединиться к этим
развратникам, и, протянув руку, я незаметно от всех схватил лежащую у
двери шкатулку, открыл ее, повторил движение, которым молодые люди
приводили механизм в действие, закрепил на талии пояс, и тут же моему
восхищенному взору предстала обнаженная женщина, улыбающаяся мне
чувственной сладострастной улыбкой (Аполлинер 1999 (1916): 344—345)8.
Сконструированная аполлинеровской фантазией машина
вырывает женщину, готовую к страсти, из ее собственного времени
175
и места и свободно перемещает в другую эпоху, доставляя к
испытывающему к ней эротическое желание мужчине из
будущего. Одной своей гранью касаясь мифа (в данном случае
непосредственно указанного в тексте — о вожделеющем Геру Иксионе9),
идея любви, транспортируемой из прошлого в настоящее, тесно
связана с известным учением Н.Ф. Федорова о воскрешении.
Ветхозаветная максима о любви, побеждающей смерть,
приобретает в таком проекте машинного эзотеризма, невзирая на
саркастическое авторское озорство, достаточно вещественные очертания.
Судя по всему, для Аполлинера оказался небезразличен
опыт Вилье де Лиль-Адана (названного Реми Гурмоном «новым
Гёте»), который, по его словам, был «если и менее
сознательным, менее совершенным, то зато более резким и извилистым,
более таинственным, более человечным, более нам близким»
(Гурмон 1913: 35). Вилье де Лиль-Адан одним из первых среди
писателей его поколения обратился к художественному
осмыслению революции, произошедшей в последней трети XIX века в
способах и средствах медиальности. Главный герой его романа
«Ева будущего» («L'Eve future», 1886) реальный создатель
фонографа Т.-А. Эдисон в размышлениях о потенциальных
возможностях своего детища как машины, дарующей человечеству,
среди прочих исторических ретроспекций, новые формы
бессмертия, поминает галерею мировых красавиц, по преимуществу
мифологических или библейских, — Венера, Европа, Психея,
Далила, Рахель, Юдифь, Клеопатра, Аспасия, Фрейя, Манека,
Таис, Акедиссерил, Роксалана, Балкис, Фрина, Кирка, Деянира,
Елена и др., «вплоть до красавицы Полины!10 вплоть до
гречанки, окутанной вуалью закона! вплоть до леди Эммы Харт
Гамильтон» (Villiers de L'Isle-Adam 1957 (1886): 27) — подлинные и
точные портреты которых, существуй фотография во
времена большинства из них, могли бы составить бесценный альбом
земной и неземной красоты («Hélas! n'est-ce pas dommage qu'on
n'ait pas les photographies de tout ce monde-là? Quel album!» —
фр. «Увы! Не правда ли, какая ужасная незадача, что у нас нет
качественных фотографий всех уголков земного шара? Какой
бы вышел альбом!»).
В изображении Вилье де Лиль-Адана палеонтологический
прииск Эдисона сплошь состоит из беспримесных золотых
слитков. Фотографический дискурс (т. е., по существу, нечто
объективно-рациональное) (см.: Барт 1997) походит на
мифологический сон, на авантюрный сказочный поиск скрытой в
глубине веков божественной женской красоты. И вот странная
вещь: альянс Техники с Эросом почти неизбежно чреват воз-
176
никновением мифологической перспективы, как будто бы
самое смелое техническое новшество исподволь корректируется
первоначальными основами жизни. Как искусство, которое при
соприкосновении с проективными возможностями науки и
техники, дарующими людям бессмертие (фонограф, фотоаппарат
и пр.), неожиданно избирает иные
ассоциативно-метафорические возможности, становящиеся для него доминирующими и
приоритетными (говоря несколько упрощенно, но по существу
следуя аутентичной логике предмета: в борьбе со смертью
искусство зачастую заинтересовывается именно философией
смерти)11, так и Техника при встрече с Эросом обнаруживает
тягу к иррациональным дискурсам. Этот лежащий на
поверхности и видимый без специального исследования сдвиг можно
проиллюстрировать бесконечным количеством примеров.
Впечатляющая приверженность самых дерзких авангардистских
проектов древним мифам и архетипам12 с особой силой
проявилась, к примеру, в творчестве В. Хлебникова, см., в частности,
в его очерке «Радио будущего» (1921) сравнение теле-,
радиопроводов с волосами — древней мифологемой растительности,
поднимающейся над покровом земли или тела животного:
Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи
проводов рассыпались точно волосы, наверное, будет начертана пара костей,
череп и знакомая надпись: «Осторожно», ибо малейшая остановка
работы Радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату
ею сознания (Хлебников 2001/Ш: 269)13.
Кстати сказать, наряду с осознанием технического прогресса
на фоне мифа, вечных ситуаций и онтологических ценностей,
справедлива и обратная зависимость: постижение онтологии
человеческого бытия через промышленно-индустриальный код.
Древний закон входит в каждодневный мир людей,
преображенным суетной индустриальной реальностью. Занимательно, что,
иллюстрируя мильтоновский «Потерянный рай» (изд. 1827 г.),
английский художник Джон Мартин изобразил на обложке
угольные шахты, туннели и железные сооружения
газоперерабатывающих заводов (см.: Briggs 1979: 13). Мильтоновская поэма о
вечном как бы читалась в контексте окружающей действительности,
чему есть многочисленные параллели в художественной сфере
противостояния и противодействия живого,
биолого-органического, телесно-эротического железному, техническому, милитанско-
му, см., например, в стихотворении И. Соколова «Поэт» (1921):
Противогазная маска системы Кумант-Зелинского,
Танк, гаубица, торпеда Уайтхеда,
12 Заказ № К-7531
177
Миномет, Блерио, Цеппелин — и всё для кого?..
О, эти брюхатые чудовища Кильского или Марсельского
рейда.
Радиотелеграф своими длинными пальцами прощупывает
весь мир.
На Ходынке у туловища радиостанции на палках развешаны
живые нервы.
Чикаго, Манчестер, Канштад, Калькутта, Памир.
А я в стихах к вам пристаю — и с чем же! — с каплей своей
спермы.
(Цит. по: Очеретянский, Янечек 1995: 262)
На этой актуальной для эпохи начала XX века параллели
техники и мифа построено немало художественных текстов,
сошлюсь хотя бы на стихотворение С. Рафаловича:
Тщетно на землю легла паутина
Гладко укатанных рельс.
Знал ли тебя, паровая машина,
Мудрый мой брат Парацельс?
Тщетно в пучине мятежной и жадной
Ожил стремительный винт.
Брат мой Тезей, без клубка Ариадны
Страшно войти в лабиринт.
Тщетно пропеллер возносит до неба
Суетность быстрых затей.
Ты ли огня не похитил у Феба,
Дерзкий мой брат Прометей?
Сблизились дали и в безднах бездонных
С глубью сравнялася высь.
Распятый брат мой, о вечно плененных
Тщетно, но жарко молись!
(Рафалович 1918: 142-143)
Синхрония прогресса в форме его технических достижений
оказывается диахроничной по отношению к базисным условиям
течения мировой истории и частной человеческой жизни. Эрос
«мифологичнее» истории, и поэтому нет ничего удивительного,
что, соприкасаясь с Техникой, он дарует ей то природное
наслаждение, которое отродясь существует, по крайней мере как
потенция, в любом живом организме. Несколько заостряя, можно
было бы даже сказать, что Эрос стремится слить Технику с
Природой.
178
2. Шарм и плен танца
В твоих руках, ногах и шее
Тугой энергии подъем,
Все пристальнее и светлее
Кидающейся напролом.
A.B. Чичерин. Танцовщицеu
Танец на рубеже веков ощущали как явление, стоящее в
ряду технических изобретений15. Древнейшее искусство вдруг
приобрело модернизированный характер и соединило разные
времена и цивилизации, разные культуры и ментальности,
разные способы восприятия меняющегося мира.
Наступление масскультуры сопровождалось ее сильной
эротизацией из-за внедрения в местах народных развлечений.
Можно сказать, что площадно-балаганный авангард
прописывался там, где издавна царил грех разврата: в кварталах
скопления дешевой любви и телесной коммерции, алкогольных
испарений и непритязательных развлечений.
Танец сильно повлиял на устранение достаточно
устойчивых перегородок в культуре, ранжированной на «высокое» и
«низкое», смешав притон с самым изысканным
аристократическим partie. Кафешантанная жизнь, тацевальные залы, в
представлении высшего света, традиционно относились к разряду
злачных мест, в которых обитала соответствующая публика —
проститутки, сутенеры, «темные личности» и пр. Сошлемся
хотя бы на выразительный эпизод в мопассановском «Милом
друге», когда Клотильда в поиске острых ощущений просит
Дюруа повести ее в один из таких танцевальных залов под
названием «Белая королева»:
Когда они вошли в танцевальный зал, она, испуганная, но довольная,
прижалась к нему, не отводя восхищенного взора от сутенеров и
публичных женщин. Время от времени она, словно ища защиты на случай
опасности, указывала Дюруа на величественную и неподвижную фигуру
полицейского: «Какая у него внушительная осанка!» Через четверть часа ей
всё это надоело, и Дюруа проводил ее домой (Мопассан 1992: 168).
Превращение бульварной жизни в важный элемент
культуры, с одной стороны, доступной и притягательно-дозволенной
для всех, а с другой — введенной в какие-то ограничительные
рамки, означало, по существу, наступление конца эры
элитарного искусства. То, что складывалось на нижних этажах
социальной лестницы в дешевых дансинг-холлах и кафешантанах,
прорвалось в виде мощного потока демократического этоса,
179
потеснив конкурентные «высокие образцы». Тотальное
наступление массового фактора с его упрощенностью, неизменным
«низким вкусом», деаристократизацией — тем, что американцы
называют «cheap style» — «дешевый, низкопробный стиль»,
стало в эпоху fin de siècle в мире почти повсеместным.
Конец Первой мировой войны совпал с бурным
вторжением в европейскую культуру африкано-американских ритмов и
мелодий, завезенных в Старый Свет Американским
экспедиционным корпусом. Они поражали своей аритмичностью, ни на
что не похожей новизной, несовпадением с общепринятым.
Европа отдалась новому увлечению, почти не сопротивляясь.
Тупик, к которому пришла европейская цивилизация, а
вместе с ней ее культура и искусство, нашел в особенности
яркое выражение в книге О. Шпенглера «Закат Европы» («Der
Untergang des Abendlandes». Bd. I, 1918; Bd. П, 1922).
Обреченность европейской культуры, по крайней мере в ее
классическом виде, и фетиш африканской музыки представляли собой
как бы две стороны одной медали, выражая общую
потребность в приливе новой, свежей крови. Это нашло своих
приверженцев и поклонников среди самых утонченных ценителей
изящного (сошлюсь хотя бы на негритянский кэк-уок, который
Дебюсси ввел в цикл своих музыкальных композиций
«Детский уголок» (1906-1908)).
Важнейшим элементом художественной жизни становится
в это время джаз, природа которого многими его апологетами
связывается с творческим выходом из-под контроля
рационально исчисленной музыкальной гармонии. Робер Коффин,
бельгийский поэт, критик и один из первых любителей и
пропагандистов джаза в Европе, писал: «Джаз был начальной формой
сюрреализма. Негры первыми почувствовали необходимость
нейтрализовать рациональный контроль, чтобы оставить
открытым поле для спонтанных манифестаций подсознания»
(Coffin 1932: 246).
Европой овладели не только африканские ритмы и телесно-
танцевальные движения (ragtime и пр.), но и живописные
краски и скульптурные формы. Весь этот новый, пестрый и шумный
культурный слой, охвативший как визуальные, так и перформа-
тивные искусства, был связан с волной «негрофикации»,
«потемнением» Парижа, столицы европейского авангарда, на что
литература отозвалась почти немедленно: Г. Аполлинер пишет
предисловие к «Premier album de sculptures nègres» (1917) и относит
действие своей пьесы «Груди Тиресия» в Занзибар. Б. Сандрар
комплектует «Anthologie nègre» (1921); на основе одной из во-
180
шедших в "нее легенд он пишет либретто к балету «La creation
du monde» (1923) на музыку Д. Мило (хореограф Ж. Борле,
художник Ф. Леже). А. Салмон создает трактат «L'Art nègre»
(1922), он же одним из первых вводит во французскую
литературу образ black dancer или black singer, которого (-ой) почти не
знала предшествующая традиция. Главная героиня его повести
«Négresse du Sacré-Coeur» (1917—1919) — негритянка Кора,
певичка и танцовщица из монмартрского кабаре, дикарка с
«варварским» голосом, очаровывающим своей плотской силой и
природно-естественным эротизмом16.
Проникновение в парижскую культурную жизнь африкано-
американской танцевально-джазовой волны едва ли не
поглотило целиком традиционное искусство или, по крайней мере, стало
одним из важнейших факторов и элементов международного
авангарда. Африканский художественный примитив с
необыкновенной скоростью распространяется в эти годы в Америке, а
затем по всей Европе, заражая «высокую» культуру дикарскими
танцами, причудливыми музыкальными ритмами, экзотичными
живописными формами и пр. Ж. Кокто в письме А. Глезису,
совпавшем по времени с его работой над знаменитым
критическим эссе «Петух и Арлекин. Заметки вокруг музыки» (Le Coq et
l'Arlequin (Notes autour de la musique))17, писал:
Я всё больше и больше делаюсь противником импрессиокгастического
декаданса, что не мешает мне признавать индивидуальную ценность
некоторых импрессионистов и единство стиля этого течения. Да... конечно,
Ренуар, но я говорю о явлениях менее значительных, чем Ренуар, чем
Вагнер... <...>. Привези мне снова много негритянских рэгтаймов и
сколько сумеешь замечательной русско-еврейско-американской музыки (цит.
по: Steegmuller 1970: 210).
Смерть традиционного танцевального искусства/балета
констатирует примерно в это же время «отец футуризма» Т.Ф. Ма-
ринетти. Свой «Манифест о футуристическом танце» (1917) он
начинает словами о смерти славного в прошлом итальянского
балета, который ныне «мертв и похоронен», а его место
заняла «стилизация дикарских плясок, элегантных версий
экзотических танцев, модернизирующих хореографию древних».
Живописный колорит традиционного балета отжил свое:
«парижский красный перец + плюмаж + щит + пика +
экстатическое поклонение идолам потеряли свое значение + дуновение
происходящего на Монмартре18 — и в итоге превращение
[классического балета] в эротический пассеистический анахронизм
для иностранцев...» (Marinetti 1972: 137).
181
Выразительным живописным аналогом этого приговора
явилась картина английского художника Джона Саутера (John
Souter) «Распад» («Breakdawn»), впервые выставленная на
вернисаже Королевской Академии в 1926 году. На ней изображен
сидящий на обломках классической статуи черный
саксофонист, играющий для белой танщовщицы (см.: Gloves-Smith 1981:
73; Godbolt 1984: 27-28; Blake 1999: 89-90).
Едва ли не слепком с этой пластической мизансцены,
передающей смерть эпохи классического европейского искусства и
рождение на его руинах варварских созвучий, под которые
начала плясать вся Европа, явилась короткометражная
двадцатиминутная лента Жана Ренуара «Чарльстон» (1927). Фильм
начинается с того, что разрушенная, опустошенная Европа
лежит, закованная льдом. Сюда из Африки является чернокожий
исследователь (его играет Джонни Хаггинс), он сажает свой
летательный аппарат в парижской пустыне, где встречается с
последним из оставшихся человеческих существ. Этим
существом оказывается девушка, делящая свое одиночество с
обезьянкой. Девушку играла тогдашняя жена Ренуара Катрин Эсс-
линг (кинематографический псевдоним Андрианы Хехлинг,
последней модели О. Ренуара, отца режиссера). Собственно,
никакого сюжетного действия в фильме нет, кроме того, что
сначала она, а за ней и он начинают, как заводные куклы,
лихорадочно танцевать нескончаемый чарльстон. И когда,
покачиваясь от изнеможения, он вновь забирается в свой
летательный аппарат, в кадре появляется афишная тумба,
объявляющая о фильме «Нана»: ироничный Ренуар напоминал зрителю
о своей предыдущей работе, завершенной за год до
«Чарльстона», главную роль в которой сыграла та же Катрин Эсслинг.
Возникавшее здесь по воле режиссера сравнение
обворожительной Наны, этого гения секса, перед чарами которой не мог
устоять ни один мужчина, с танцоршей из «Чарльстона», в
версии Ренуара и Эсслинг, было явно не в пользу героини Золя: она
оказывалась и менее эротичной, и менее обнаженной,
поскольку одеяние героини «Чарльстона», по крайней мере, по тем, еще
относительно сдержанным, временам имело достаточно
условный харатер.
Эротизация тела опосредуется в танце разными способами,
включая одежду как внешний атрибут телесной субстанции.
Известно, что полуобнаженная натура вызывает подчас более
острые чувства, чем натура обнаженная. Движение женских одежд
в танце привнесло новые эротические краски в традиционные
сценические зрелища. Рождаемое танцем эротическое возбуж-
182
дение способствовало возникновению новых пикантных
фетишей, например женского нижнего белья в канкане. Французский
оборот «voir c'est avoir» («лицезрение есть обладание») как нельзя
лучше передавал эту психологическую особенность
хореографического спектакля, по крайней мере для мужской части
публики. Но дело было не только в прямых эротических импульсах,
но и в тех потенциальных психологических вакансиях, которые
в скрытых, неявных формах готовы были заполнить
прихотливое воображение. Его возбудителями служили световые
эффекты, неожиданные корреспонденции между телом и одеждой.
Легендарная танцовщица Л. Фуллер (1862—1928)
(упоминающаяся в «Манифесте футуристического танца» Маринетти)
рассказывала в автобиографии, как однажды она нашла у себя в
спальне сочетание нужного ей света, одежды и тела:
Зеркало было расположено как раз против окна. Длинные желтые
занавеси были опущены, и сквозь них солнце бросало в комнату янтарный
свет, который полностью обволакивал меня и озарял мое платье, давая
эффект неожиданной прозрачности. Золотые блики играли на складках
искрящегося шелка, и мое тело на этом фоне приобретало исчезающий в
тени контур. Это был момент сильного эмоционального впечатления.
Бессознательно я почувствовала, что присутствую при величайшем открытии,
что нашла дорогу, которой с тех пор следую. Трепетно, почти
священнодействуя, я привела шелк в движение и увидела, что добилась такой
плавной его волнистости, которой еще не знала. Я сотворила новый танец.
Почему мне не приходило это в голову до сих пор? (Fuller 1913: 33).
Фуллер, обнаруживающая ход к особому трепету одежд,
тонко играла этим сексуальным элементом танца. В самом
неясном ответе на вопрос, какова морфологическая роль ее
экстравагантных танцевальных одеяний — то ли они
бронируют тело, выступая недоступной преградой, то ли, напротив,
искушают пьянящей несуществуемостью, — скрывался
источник острого эротического возбуждения (подробней см.: Town-
send 2001: 73—96). Игра на этих полуосознаваемых эротических
коннотациях собственно и составляла особый стилевой шарм
Фуллер, с которой связана целая эпоха не только в искусстве
танца, но и — через писавшего о ней С. Малларме — с
французским символизмом вообще.
Обитавшая в эмиграции на Западе русская литература не
могла естественным образом не реагировать на эти процессы.
Дансинговая тема, шире — эротико-музьгкально-танцевальный
топос как один из элементов культуры и индустрии
европейских развлечений, причем с хорошо осязаемыми эротическими
подтекстами, оказались в ней весьма широко разработанными.
183
Ряд эмигрантских авторов писал о джазе как знамении
времени, пришедшем на смену танцевальной классике, — вальсу и
танго (см., к примеру: Горный 1931: 2—3), ср. в стихотворении
жившего в Харбине Г. Гранина (наст, фамилия Сапрыкин)
«Звуки джесса сплетаются снова» (Гранин 1933: 10).
Влиятельную роль в освоении русскими эмигрантами
мирового художественного авангарда сыграл Чаплин (см.: Khazan
2004: 163, 174, 176), который некоторыми биографами,
отражающими мнение и вкусы широкой публики, воспринимается
прежде всего как танцор, в основе искусства которого лежит
музыка и танцевальная техника (см., к примеру: Leprohon 1935:
142; из более новых работ о «хореографичности» чаплинского
феномена см.: Franklin 2001: 35—72)19.
Танцевально-джазовый ландшафт европейских столиц, по
преимуществу Парижа, по-разному отражен в эмигрантских
текстах. Органично вписывался в общую тональность сугубо
эмигрантского ощущения фантомности бытия,
недостижимости чуда в декорациях прозаически реального мира контраст
праздничного танцевального представления и наступающего
после его окончания будничного одиночества. В стихотворении
парижанина Г. Евангулова «В казино» любовно-эротическое
томление, которое вызывает танцующая женщина, обостряет
сознание невозможности обладания ею в реальности:
От тебя пышет жаркой степью —
Вскинь наверх свой профиль острый!
Ты танцуешь тустеп,
Дрожат твои ноздри
И развевается грива
Твоей прически,
Твое плечо скидает
Газовый шарф
Движеньем ленивым,
А в потолке сверкает газовый шар.
Аплодисменты,
Гул,
Комплиментов дребедень,
Задыхаясь, ты поправляешь кружева и ленты,
И на стул
Устало падают плечи —
Как крылья лебедя,
Как лепестки магнолий.
А я, опьяненный внезапной пляской, ухожу...
И за мной плетется ажурная
Тень
Твоих ресниц.
184
Мне будет долго сниться
Запаха магнолии тело...
Я иду выплясывать свой будничный день
И недели...
(Евангулов 1921: 38-39)
О том же, по существу, у Е. Шаха (стихотворение «Было
душно, тесно, неприятно», 1925):
Было душно, тесно, неприятно,
Я сидел под самым потолком,
И прожекторов цветные пятна
Там, на сцене, двигались с трудом.
Там, в великолепнейших декорах,
Где оркестр неистово гремел,
В наглых и сверкающих уборах
Громоздились горы голых тел.
В Индии, в Египте и в Версале,
Будь то жрицы или короли,
Одинаково все танцевали,
Изгибались, бедрами трясли.
И в антракте я пошел со скуки
Вниз смотреть, опершись о барьер,
Я пошел на варварские звуки,
Как на канонаду офицер.
Оглушали злые инструменты —
Саксофон, трещотки и банджо —
А танцующие словно лента
Между столиков, покрашенных свежо.
Лента извивалась и блестела,
Образовывая странный бант;
И толпа со мною вниз глядела,
Слушала грохочущий джаз-банд...
И опять смотрел я в темном зале,
Между тысячами жадных глаз,
Как тела на сцене танцевали...
Аплодировал им каждый раз...
И когда я вышел на бульвары,
Сразу стало грустно без людей.
Ветер, дождь, пустые тротуары
И ряды тоскливых фонарей.
(Шах 1927: 108-109)
185
«Музыкально-африканский» Париж подсказывает
ключевую колористическую метафору в стихотворении Ладинского
«Дансинг» (1929) — черные музыканты, что, в свою очередь,
определяет его заглавную образную оппозицию — юг/север,
лето/зилш, вообще излюбленную этим автором:
Бьется сердце, как маленький ад,
В пекле негры вращают белками,
Африканские пальмы шумят
Над пылающими головами.
Но, плененная странной зимой,
Черным холодом смокингов бальных,
Вы живете в стране ледяной —
За пределами окон хрустальных —
И в туманных канадских мехах,
За фальшивым полночным румянцем,
Ждете солнца любви. В этих льдах
Нестерпимо дышать чужестранцам.
Мы летим по паркетным волнам20.
Уплывает земля! Саксофоны
Возвещают томительно нам
Розовеющие небосклоны.
Так в холмистой блаженной стране,
Где холодные звезды мерцают,
В адской сгуже к далекой весне
Хрипловатые трубы взывают.
(Ладинский 1929: 3)
Эксплуатацию той же оппозиции для описания, как
«танцуют наши северные девы / Привезенный с бананами чарльстон»,
встречаем в «Главе из поэмы» А. Эйснера:
И вижу: свет костра на влажных травах,
И хижины, и черные тела —
В бесстыдной пляске — девушек лукавых,
Опасных, как зулусская стрела;
На копья опираясь, скалят зубы
Воинственные парни; а в лесу
Сближаются растянутые губы
Влюбленных, с амулетами в носу...
Но в этот мир, таинственный и дикий,
В мир, где царят Майн-Рид и Гумилев,
Где правят людоедами владыки
На тронах из гниющих черепов, —
186
Ворвался с шумом, по-иному знойный,
Реальный мир, постылый и родной, —
Такой неприхотливый и нестройный,
Такой обыкновенный и земной!
И я увидел: шелковые платья,
И наготу девических колен
И грубовато-близкие объятья —
Весь этот заурядный плоти плен.
(Эйснер 1927: 42-43)
Дансинговая поэтика фокусируется не только на танце как
искусстве и сценическом представлении, но она валентна и рес-
торанно-кафейной тематике (в нижеследующем случае речь идет
о Берлине — стихотворение принадлежит жившему там в первой
половине 20-х, а затем вернувшемуся на родину Л.С. Гордону):
В углу валяется опрокинутый столик,
Под каблуком хрустит стекло.
Сжаты виски тугою болью,
Потные волосы брошены на лоб.
Стучат ножами в тарелки, бутылки, бокалы,
Ногами отбивают безумью такт:
— Как за ночь медь греметь не устала,
Крылом мелькать дирижерский фрак?
Сердце стынет в тревожном фокстроте.
— Кружит пену в морях ураган —
Негры в красном — лакей со счетом,
В падучей вопит джаз-банд.
Темным ангелом поет артистка
И бьется в руках, визжа, банджо.
А волосы женщин так душно, так низко
Наклонились к лицу — на лице ожог.
И воздуха нет — глоток короткий,
Тонет лоб в пахучих мехах.
...Гладя шелк на коленях кокотки,
Нищий говорит о своих стихах.
(Гордон 1925: 22)
Более прозаически, хотя и не без выплаты обязательной
дани незаурядной экзотичности темы, изображены
танцовщицы, мать и дочь — кафешантанные «пролетариатки», у М.
Струве (стихотворение «Танцовщицы»):
В глаза от рампы — яркий свет,
Поет и пляшет на эстраде.
187
В таком же, как она, наряде,
С ней дочь четырнадцати лет.
Воланы газа и трико,
И на чулках — разводы стрелок.
Под стук ножей и звон тарелок
Работать вовсе не легко.
Тяжел для старшей каждый час.
В одном — надежда и спасенье:
Ребенок вызвал вожделенье
Толпы, скучающей не раз.
И это окрыляет мать,
А дочь спокойна и покорна:
Так пахарь, бросив в землю зерна,
Мечтает урожай продать.
Угоден Богу всякий труд,
И жизнь тяжелая земная.
Для них открыты двери рая,
И будет благ небесный суд.
(Струве 1928: 2)
Среди авангардистских интерпретаций танцевальной темы
выделим «Танец закройщика» С. Шаршуна из его «поэзии в
прозе» (как сам автор определяет характер книги) «Н-е-б-о к-о-
л-о-к-о-л» (1938): экспрессия метафорического танцевального
хаоса передана здесь едва ли не парнаховскими
стилистическими красками:
[Портной] Заметил лотос, рассыпается в длину. Сшивает пол с
потолком. Гончая собака, зебра, антилопа, миноноска, растерявшийся компас
в чахотке. Глаза шестерни. Выпил, проглотил язык.
Каскад музыкальных заказов, призраков.
Стуки, трещотки, визги, хлопы, трели кастаньет, дождь цикад.
Дроби, пулеметы, взрывы ладош.
Крылья. Цель и средство бегут от конца. Пауком, опрометью,
торопясь на костылях-рычагах, лапках, хоботах. Цепляясь, ранясь, колясь,
бреясь: крючьями, щупальцами, волосиками, колесиками, иглами,
когтями — скорпионясь.
Выветривает мозг. Разбрасывает искры локомотивчиком,
мотоциклеткой. Пылает факелом. Дает сигнал SOS.
Расхудилась спираль. Фыркает, визжит пила.
Джаз-банд, банты, бандажи, грыжа. Хлюпают шарнирами складные
кастаньеты.
Прыгнул в ком узлов.
Гальванят лагво-лапки. Роспись, передергиванье, галоп и звон
бутылок. Обезьяний скок. Взбучил облаками пену.
188
Припадок у каждой воронки.
...Первый раз прилег молчать. Разрыхлился в туман.
Ему стелят — красный балдахин.
Он (согнувшись верблюдом, отдыхает в болотном костюме
крокодила, заплесневевшего креозотом моли.
Выгнетая из себя красные веснушки, превращается в мел) (Шаршун
1938: 25-26)21.
Однако одним из самых интересных стихотворений в
танцевальной антологии русской эмиграции «первой волны», задайся
мы целью таковую собрать, могло бы оказаться стихотворение
Кнута «Танец живота», до сих пор не опубликованное и
приводимое здесь впервые:
Гвоздем вонзался в уши ржавый визг жести.
Жирный садист-турок разбивал барабан вдребезги.
Толпа клокотала в напоре. Напролом. В исступленье.
Пролезть!
Молча душили. Воздуха! Хрипы, оскалы челюстей.
Восток в Folies-Bergere! О, нагой исступленный живот.
Забыться! Схватить! Взреветь! Разверзлись в угаре омуты.
Удары судорог. Дрожь. В пролете раздвинутых ног
Жадные желтые шарики бились в истерике хоботом.
На подмостках кружил ураган. Барабанный хлестал потоп.
Корчился в пляске живот. Взметнулся. Откид. Круженья.
Скрежеща, стервенели самцы. Эта страсть, этот скрип,
этот пот!
Какой-то горбун скулил в собачьей тоске вожделенья.
Восток в Folies-Bergere! Фатьма и таверны Парижа!
Какой великолепный бред в сумасшедшем пульсе.
Бушевал барабанный град. Задыхались. Ближе, ближе!
О, корчи, нагой живот и пляска любовных конвульсий22.
Место действия кнутовского стихотворения — знаменитый
танцевальный зал Folies-Bergere, первый парижский мюзик-холл,
открытый 2 мая 1869 года и вошедший благодаря картине Э.
Мане «Бар в "Фоли-Бержер"» (1881—1882) в историю не только
танцевальной эстрады, но и в историю живописи. Из других
русских эмирантов, упоминавших о Folies-Bergere, славившемся
своими свободными нравами, вспоминается еще рефрен песенки
А. Вертинского «Мой падший ангел из "Фоли-Бержер"».
С точки зрения историко-литературной, стихотворение «Танец
живота» интересно тем, что свидетельствует о подготовке Кнутом
к печати сборника стихов «Бычий край», выходу которого, по
189
всей вероятности, помешала Вторая мировая война. Правда, в его
книге стихов «Насущная любовь» (Париж, 1938) «Бычий край»
был проанонсирован как книга рассказов, печатавшихся в 30-е
годы в эмигрантской периодике, в основном в газете «Последние
новости». Скорей всего, название было условным и до некоторой
степени универсальным, так что оказалось приложимым к
разным текстовым собраниям — будь то стихи или проза: Бычий —
от названия реки Бык в Бессарабии, родине Кнута.
Поэт здесь не впервые обратился к теме эротического
восточного танца. «Танец живота» имеет в его поэзии «двойняшку» —
стихотворение «Восточный танец», включенное в сборник
«Вторая книга стихов» (Париж, 1928), которое когда-то, не без
ехидных оговорок, но все-таки скорее сочувственно отметил В.
Набоков (Набоков 1999: 655). Наличие в творчестве Кнута двух
текстов, по-разному и в разное время написанных, но в общем-
то об одном и том же, свидетельствует о его обостренном
интересе к этой теме. Однако вопрос об эротизме Кнута, который
отчасти мною уже рассматривался внутри еврейских коннотаций
его творчества (Хазан 2001: 142—154), имеет весьма сложную
конфигурацию и тесно связан с оппозицией «женственности» и
«мужественности» в литературе русской эмиграции, которой
посвящен последний этюд.
3. О «женственности» и «мужественности»
литературы русской эмиграции
Что вы, наморщивши лбы, в лицо мне уперлись, Катоны,
И осуждаете труд новый своей простотой?
В гладком рассказе моем веселая прелесть смеется.
Нравы народа поет мой безмятежный язык.
Петроний. Сатирикон
Литература русской эмиграции «первой волны» (1920—1940),
в особенности если говорить о так называемом «незамеченном
поколении» — генерации, творчески сформировавшейся уже в
изгнании, знакомит с типом эротического неудачника, своего
рода эмигрантского «человека из подполья» Достоевского.
Переносимые эмигрантами муки Эроса теснейшим образом
связаны со всем комплексом психологических «фобий» и
«маний» и приоткрывают многие тайны духовной жизни в
изгнании. Относясь к эротическому одиночеству как к одной из
форм тотального одиночества вообще, Б. Поплавский писал о
своих сверстниках, что
190
<...> это не страдающие юноши с иконописными лицами, а скорее
стадо наэлектризованных одиночеством, лопающихся от темперамента,
сходящих с ума от полнокровия жеребцов. Потому что эмиграция есть
раньше всего несчастие холостой жизни, крови, не имеющей применения,
кипящей без исхода, потому что эмиграция есть разлука с любимой, а
жена — публика — аудитория в России, то есть сама Россия — жена,
разошедшаяся со своим мужем, разлучница, изменившая с талантливым
проходимцем, но всё же любимая (Поплавский 1934: 205—206).
По невыверенной документально, но весьма ходовой и, по
всей видимости, правдоподобной статистике, количество мужчин
в эмиграции первой волны значительно превышало количество
женщин (по некоторым, наиболее решительным, утверждениям,
в пропорции 2 к 1), и этот демографический дисбаланс
серьезно углублял общий бытовой кризис тех, кто не просто оказался
за пределами родного отечества, но и — что еще трагичней и
непоправимей — за пределами привычных социальных и интимных
связей23.
Нерастраченные, невытекшие эмигрантские потенции имеют
разнообразные типологии оправданий и объяснений: одна из
самых явных и закономерных — маргинальное существование:
бедствование, безденежье, бездомье. Впрочем, всё это
отступает на второй план перед тем, что Б. Поплавский в романе
«Аполлон Безобразов» назвал «трансцедентальной униженностью»:
робостью, перманентной, неизлечимой боязнью быть
оскорбленным, пароксизмами уязвленной гордости, тихим отчаяньем от
невозможности заинтересовать мир уникальностью своего «я».
Острое переживание изгнанником наличия в себе комплекса
неполноценности как следствие общей придавленности и
приниженности в чужом топосе и окружении запечатлено в
многообразном количестве свидетельств. См., например, портрет
эмигранта, своего рода alter ego автора и его друзей по поколенью, в
поэме С. Шаршуна «Долголиков»:
Его лицо — отпечаток, больше всего — тайных страданий, любовных
неудач и, как мы уже сказали, пыток уязвленного, щепетильного
самолюбия и глупейших недоразумений, вытекающих из беспомощности и
наивности, благодаря его отмежеванности.
Человек — исключительной тонкости, нервности, даже граничащей,
может быть, с предвидением, и по отношению к внешнему миру он чист
как стекло, как один человек на сто тысяч, — но это пластинка высокой
чуткости, которую способны воспламенить — строка поэзии или газеты,
музыкальная фраза или чужая мыслящая, направляющая,
приказывающая, всё равно, хорошая или дурная, — воля. Он примет и соединится
одинаково искренне и пламенно. <...>
В любовных делах, откуда всегда сыр-бор загорается, — вечно
виноваты сами! В одном случае — поторопился, в другом, уже не решаясь, —
191
пропустил. Непременно мимо — или перелет, или недолет (Шаршун
1961: 8-9).
Ср. в упомянутом «Аполлоне Безобразове» Б. Поплавского:
Я сутулился, и вся моя внешность носила выражение какой-то
трансцендентальной униженности, которую я не мог сбросить с себя, как
кожную болезнь.
Я странствовал по городу и по знакомым.
Тотчас же раскаиваясь в своем приходе, но оставаясь, я с
унизительной вежливостью поддерживал бесконечные вялые и скучные
заграничные разговоры, прерываемые вздохами и чаепитием из плохо вымытой
посуды.
<...> Я смертельно боялся войти в магазин, даже если у меня было
достаточно денег.
Я жуликовато краснел, разговаривая с полицией (Поплавский 1993:
22-24)24.
Почти в унисон звучат признания В. Варшавского в
автобиографической повести «Семь лет»:
На углу, как подводный грот, пробитый в темной глыбе дома, ярко
освещенный аквариум бистро. У стойки, крича и смеясь, толпятся
мужчины и женщины и смотрят на улицу.
Мне захотелось войти. Но я боялся. Когда я буду заказывать пиво, по
моему выговору все сразу догадаются, что я не такой, как они.
Ближайшие, взглянув на меня с безотчетно-неприязненным удивлением, слегка
нахмурятся и на минуту замолкнут.
<...> Перед высокими железными дверями стоят ажаны. Они
неодобрительно замолкают, когда я прохожу мимо, и я долго чувствую на
затылке и спине их тяжелый испытующий взгляд (Варшавский 1950: 7).
А вот исповедь, не предназначавшаяся для публикации, —
запись в дневнике А. Ладинского от 16 мая 1932 года, но
органично вплетающаяся в общую канву травматических
комплексов эмигранта:
Иногда на улицах смотришь на молодых женщин — они так свои зады
обтягивают, что такому похотливому типу, как я, нельзя на них смотреть —
и делается обидно, что так мало достается мне на жизненном пиру. Стал
я форменной шляпой. Да и капиталы мои таковы, что не до авантюр.
Недавно меня на Avenue Opéra завлекли в свой элегантный автомобиль две
«амазонки». Это никакого впечатления на меня не произвело: просто
приняли меня за англичанина и хотели попользоваться моими фунтами. А
вот на днях в сквере Трокадеро сидела недалеко от меня очень красивая
и нарядно одетая женщина и читала книгу. Ветер развевал ее юбку, и я
видел ее ноги, чулки, подвязки и в розовом белье часть белой круглой
ноги. Дама мало обращала внимания на шалости зефира, и это зрелище
распаляло меня. И в то же время с необыкновенной грустью я думал, что
она не для меня, что у меня не хватит смелости и уменья с нею
познакомиться, да, вероятно, ничего бы и не вышло из такой попытки. Конечно,
192
это похоть, но разве могут вызывать любовь такие позы? (РГАЛИ. Ф. 2254.
Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 44-44об.).
Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что
основных своих успехов литература «незамеченных» добилась
именно на том направлении художественных поисков, которое
можно было бы условно назвать безгероичным, «женственным»,
лишенным маскулинности и мускульности. Недаром таким
сочувственным интересом в эмигрантской среде пользовался
роман Д.Т. Лоренса «Любовник леди Чаттерлей» (1928; русский
перевод — 1932 г.) — одна из первых попыток в новой
европейской литературе безбоязненно придать откровенной
сексуальности целомудренные черты25. В одной из сцен романа, перед
тем как происходит первое сближение Конни Чаттерлей с Мел-
лерсом,
он в страхе посмотрел на нее. Она отвернула лицо и горько, слепо
рыдала, со всем отчаянием своего потерянного поколения (Лоренс 1932: 144).
«Незамеченные» ощущали свою социальную потерянность
и отверженность, которые не могли не отразиться и на
эротической жизни, не менее остро, нежели героиня популярного
романа английского писателя. В каком-то широком смысле всё
их творчество — сплошь горькое оплакивание трагедии
изгнания («При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда
вспоминали о Сионе» — Пс. 136: 1).
Одновременно с этим в литературе молодых русских
изгнанников сформировалась некая область «мужского» совлечения,
если воспользоваться образом В. Шершеневича, «фигового
листка со слова» (Шершеневич 1996 (1920): 451)26. В этом смысле
литература русской эмиграции генерировала эротические образы,
немыслимые на «другом берегу» — в советском искусстве.
Времена называния своими именами подробностей эротического
акта или изображения обнаженного тела в советской
литературе быстро прошли, и в зрелое сталинское время в СССР
восторжествовал девичий стыд бесполой социалистической морали.
Если в 20-е годы еще могли появляться такие вещи, как,
предположим, «Песнь песней» (1920) В. Шершеневича, «Эротические
сонеты» (1922) А. Эфроса27, изображение полового акта в стихах
(см. «Любовное» А. Бейленсона (Бейленсон 1924: 13), «Чепуха»
(1919) Б. Земенкова28), или рассказ Б. Пильняка «Нижегородский
откос» (1927), исследующий «эдипов комплекс» юноши,
влюбленного в собственную мать, то в 30-е годы и далее качество,
которое эмигрант Б. Поплавский определил как «героизм
откровенности» (Поплавский 1932: 97), было в советской идеологии, а ста-
13 Заказ № К-7531
193
ло быть, в литературе и искусстве и шире — культуре в целом,
полностью изъято из обращения. Сошлюсь, возможно, не на
самый показательный, но весьма экстравагантный пример — на С.
Эйзенштейна, предложившего руководителю Главного
управления кинематографии Б.З. Шумяцкому поставить фильм о Луке
Мудищеве, по наивности не учтя того обстоятельства, что
невинный зав. киноделами Советского Союза совершенно не ведал,
кого тот, собственно, имел в виду (см.: Эйзенштейн 1997/П: 439).
Одним из первых, кто заговорил в литературе эмиграции о
проблемах пола, был В. Парнах, эротическая струя поэзии
которого сильно повлияла на поэтов младшего поколения —
А. Гингера, Б. Поплавского, Д. Кнута и др. (подробнее об этом
см.: Khazan 2004). В. Парнах, талантливый поэт и
экспериментатор, без смущения вводивший в стихи образы фалла или
мужского семени, преследовал цель утвердить примат
человеческого тела и его членов над безудержной механизацией
жизни и сокращением природного права творить бытие по его
(права) причудливым правилам и законам. Отстаивая последние
вовсе не ради крикливой и эпатажной откровенности, он писал
в стихотворении «Мужского семени забил потоп» (1920):
Мужского семени забил потоп.
Земли не видно. Ритм глухой объял.
Однообразие нещадных стоп.
Неутомимо. Натиск и обвал.
Хлынь! Судороги ускорений. Фал<л>
Орудует воинствующий, жалящий,
Плодотворя и требуя влагалища.
(Парнах 1922: 25)
Ср. у него же ассоциацию восприятия джаза с «ненасытным
фал<л>ом» («В ухо мое заскакивает мотор»):
Jazz-band'a раздор,
Возгласы мусульман.
Жонглируют тяжестью плит.
Мой слух, как ненасытный фал<л>,
Томится и плодотворит!
(Там же: 13)
Отголоски парнаховского Эроса — не обязательно прямые,
цитатные или непосредственно завещанные, а скорее связанные
с продолжением темы — находим в ряде произведений
писателей-эмигрантов, для кого «героизм откровенности» превратился
в важнейший элемент творчества, см., к примеру, образ
мужского семени в рассказе В. Яновского «Тринадцатые» (Яновский
194
1930: 130)29 или другой пример, претендующий на более тесное
интертекстовое сходство или даже родство с приведенным пар-
наховским фрагментом: не исключено, что слово «неутомимо»
использовал поэтически чуткий Д. Кнут в стихотворении
«Земля израильская» (1939):
Всё тот же голос во вселенском баре,
Бессонный, мировой, неотвратимый,
О половом неутолимом жаре
И те же (Всем! За грош!! Неутомимо!!!)
Кинематографические хари
На стенах града — Иерусалима.
(Кнут 1997-1998Д: 203)30
Коль скоро упомянуто имя Д. Кнута, необходимо сказать
о сборнике его эротических стихотворений «Сатир» (Париж,
1929) — явлении в литературе эмиграции совершенно
уникальном, не имеющем, сколько мне известно, по крайней мере в
поэтическом жанре, каких-либо аналогий. Далее я попытаюсь
не столько оценить художественное качество стихотворений,
составивших сборник, сколько указать на каузальность их
происхождения.
Несущий на себе, пользуясь образом Катулла, «легкой
мысли нескромную усмешку», кнутовский «Сатир» в единственном
появившемся на него отклике Б. Харитона, напечатанном в
рижской газете «Сегодня» (1929. № 122. 4 мая. С. 8)31, был
объявлен переходящим грань допустимого, оглушающим
подчас «махровой похабщиной в стиле Баркова». Рецензент, по-
видимому, излишне сурово отнесся к этому поэтическому
озорству и недооценил ни его иронии, ни литературной игры.
Впрочем, одним озорством, по-видимому, дело не ограничивалось.
«Сатир» — цикл, состоящий всего из шести стихотворений,
первое из которых названо «Вступлением», остальные не
озаглавлены (приведен полностью в приложении к настоящей
статье). Все стихотворения объединены общей эротической темой
и воспевают древнюю пружинистую готовность самца к
половой любви, противостоящую физической дряблости и
постыдному бессилию современного автору мужского племени.
Своей кульминации эта главная тема сборника-цикла достигает в
заключительном стихотворении:
Где наших предков игры и забавы,
Охоты на разгоряченных жен...
Тогда нередко видели дубравы,
Как шла сама добыча на рожон.
13*
195
Где наших предков игры и погони!
В игре терялся фиговый листок...
Теперь, встречая женщину в вагоне,
Мы говорим: простите, ваш платок?..
Уже исходит женщина надеждой,
Другая — рядом — жухнет от тоски,
Мы ж, холостые жуткие невежды,
Сидим, поджав хвосты под пиджаки.
Мы не глядим — не смеем! — что вы, сразу! -
Мы вежливы — и лишь издалека
Мы изредка обхаживаем глазом
Упрямый профиль чуткого соска.
Где наших предков честное веселье!
Ложились прямо и открыто встарь.
Над легшими любовно не висели
Будильник, расписанья, календарь...
И женщины показывали сразу
Веселые сокровища свои
Сатирам простодушным и чумазым,
Охотникам за радостью в любви.
Теперь не то — в шофере иль в спортсмене
Лишь изредка — и то издалека —
Нам раскрывают женщину колени,
Но немощна бессильная рука.
Таинственно мерцает треугольник —
Знак неги, лик блаженства и весны,
Но прячется под шляпою невольник,
Закованный в печальные штаны...
О, лишь порой, в метро, где грузен воздух,
В ночном кафе, куда загонит рок,
Нам вспыхивает счастье в темных гнездах
Меж белых высоко взнесенных ног.
(Кнут 1997-1998Д: 139-140)32
«Сатир», для которого весьма важен и поучителен опыт
предшественников, помимо открытого и откровенного сексуального
содержания, полон скрытых хитровато-лукавых намеков,
игровых пародических деталей, глубоких, не бросающихся
мгновенно в глаза подтекстных импликаций. Уже во «Вступлении», в
котором поэт рассуждает о ведущих «судьбу людскую» демонах-
196
искусителях, ловко усевшихся на плечах человека, он, как
кажется, с совершенно осознанным намерением использует
собственную фамилию для создания острого обеденного образа:
Что на путях любви, добра и зла
Ведут нас, на плечах усевшись ловко,
Как армянин классический — осла:
Маня висящей на кнуте морковкой.
(Там же: 135)
Кнут (как фамилия) в соединении с эвфемистическим
обозначением мужской гениталии («морковка») создает
замечательный эффект фривольно-игривого оживления второго,
дополнительного смысла. Как логическое продолжение, в
приведенном выше финале цикла появляется противоположный
половой полюс — женские гениталии, изображение которых
опирается на широко разветвленную культурную традицию, см.
хотя бы «ненасытный зев причудливого рта, светлеющий в
таинственно густой черной чаще» в стихотворении «Une négresse
par le démon secouée...»33 (впервые — 1866 г.) С. Малларме:
Et, dans ses jambes où la victime se couche,
Levant une peau noire ouverte sous le crin,
Avance le palais de cette étrange bouche
Pâle et rose comme un coquillage marin.
(Mallarmé 1945: 31)
И, между бедрами под приоткрытой кожей,
Где чаща черная таинственна густа,
Светлеет розовый, на перламутр похожий,
Ненасытимый зев причудливого рта.
(Малларме 1995: 53)
Отмечу, кстати, весьма симптоматичную параллель сатира
Кнута с démon'ом (страсти) Малларме; кроме того, раздел книги
стихов французского поэта, который состоит единственно из
этого стихотворения, называется «Du pâmasse satyrique»
(«Сатирический Парнас»), ср. с необъяснимой внутри самого «Сатира»
кнутовской мистификацией: на обложке сборника указано
несуществующее издательство «Монастырь муз», что, возможно,
намекает на Монпарнас — парижский бульвар, традиционное
место встреч артистической богемы, где собирались русские
писатели-эмигранты. См. в воспоминаниях Ю. Терапиано:
Как-то один из участников таких собраний обмолвился: «Монастырь
муз». Действительно, многие проходили на Монпарнасе своеобразную
аскезу. Сколько огня, искреннего желания проникнуть в суть литературных и
197
метафизических вопросов, сколько споров, сколько усилий, сколько
прочитанных книг требовалось от «монпарнасцев»! (Терапиано 2002 (1953): 81).
«Сатир», безусловно, вызывающе ироничен. В нем всё,
начиная с посвящения никому не ведомому брату Николаю («Брату
Николаю — с монастырским приветом»), оснащено
игриво-игровыми коннотациями. Посвящение имеет не биографическую, а
сугубо литературную основу и рассчитано — путем совмещения
монастырского аскетизма и светской приверженности греху —
на создание иронического эффекта. Брат Николай не реальное
лицо, а условный образ, вероятно, рожденный по ассоциации с
монастырем. У Кнута в самом деле был брат, но не Николай, а
Симха, описанный в воспоминаниях В. Яновского:
Когда из вежливости я иногда осведомлялся у Кнута, как поживает
его брат, то получал неизменный ответ:
— Что ж, выбор у него небольшой: либо тюрьма, либо больница.
Симха действительно стал профессиональным вором по классу
карманников; он работал не один, а с целым коллективом и был членом
влиятельнейшего союза. Раз при случайной встрече Симха мне сообщил
с гордостью, что его отправляют на гастроли в Лондон. Не знаю, что с
ним сделала война (Яновский 1993: 233—234)34.
Но даже если отвлечься от игровой природы «Сатира» и
сосредоточить внимание исключительно на его «обсценном»
содержании, то и в этом случае нет, как думается, оснований
приводить в боевую готовность арсенал противоаморальной
критики. «Сатир» как эротический сборник (или пусть как цикл)
уникален для литературы эмиграции, но он и симптоматичен,
он единствен, но и выражает определенную эротическую
тенденцию. Последняя не является чем-то магистральным для
этой литературы, но она далеко и не маргинальна. Она суща и
существенна как форма постижения темных и таинственных
сторон человеческой страсти - будь то лесбийская любовь, как
в повести Л. Червинской «Ожидание» (Червинская 1938: 3—42),
или соперничество матери и дочери за мужчину, являющегося
мужем и отчимом, в результате чего мать сходит с ума, а дочь
отказывается воспользоваться плодами победы, как в романе
А. Таль «Грех». Наконец, она поднимается до подлинных
художественных высот, как в «Митиной любви» и «Темных аллеях»
И. Бунина.
Кнут, как мне уже приходилось писать (см.: Хазан 2000), при
всех самобытных и неоранжерейных рефлексиях его
творческого дарования, поэт достаточно литературный, его эротика,
даже самая смелая и рискованная, почти всегда соотносима с
предшествующей культурной традицией и, как правило, не
198
нарушает принятых в ней конвенций. Одно из самых
«плотских» стихотворений его первого сборника, «Моих
тысячелетий» (Париж, 1925), «Жена», при всей внешней
несоотнесенности содержания с какими-либо определенными литературными
контекстами, представляется импульсированным, причем
именно «книжным», чисто «литературным» источником. Вот его
полный текст:
Ты рыжей легла пустыней.
Твой глаз
Встает, как черное солнце,
Меж холмами восставших грудей.
Вечер огненный стынет.
С сердцем, растресканным жаждой
(Уже не однажды, не дважды...),
Ищу и ищу колодца.
Здесь гибли верблюды и люди.
Под реянье вечных мелодий.
С предсмертным криком о чуде.
Было.
Есть.
Будет.
Под песками отлогих бедер
Узко
В тугом молчанье
Ходит тугой мускул
От ветра моих желаний.
Будет самум. Тучи!
А мы босы и наги.
В тоске и жажде
Влаги
Распаленный требует рот.
Скоро самум! Могучий
Мелко бьется живот.
За легким взгорьем
Стоит и ждет верблюд.
Скоро последний труд!
Скоро в песках самума — встреча, крик, борьба.
Алчба!..
Господи спаси и помилуй.
(Кнут 1997-1998Д: 78-79)
199
Представляется, что «Жена» написана с оглядкой на очерк
A. Блока «Взгляд египтянки» (очерковый цикл «Молнии
искусства»)35. В нем рассказывается об увиденном Блоком в
Египетском отделе Археологического музея Флоренции изображении
на папирусе молодой девушки-египтянки. Останавливаясь в
заключительной части этого короткого очерка на поразивших его
глазах древней красавицы, Блок так передает «содержание
взгляда»:
Глаза смотрят так, что побеждают всё лицо; побеждают, вероятно,
и тело и всё окружающее. Полное равнодушие и упорство устремления,
вне понятий скромности, стыда или наглости; единственно, что можно
сказать про эти глаза, это — что они смотрят и будут смотреть, как
смотрели при жизни. Помыслить их закрытыми, смеженными, спящими —
невозможно. В них нет ни усталости, ни материнства, ни веселья, ни
печали, ни желания. Всё, что можно увидеть в них, — это глухая
ненасытная алчба; алчба до могилы, и в жизни, и за могилой — всё одна и та же.
Но никакого приблизительного удовлетворения этой алчбы не может
дать ни римский император, ни гиперборейский варвар, ни олимпийский
бог. Глаза смотрят так же страшно, безответно и томительно, как
пахнет лотос. Из века в век, из одной эры — в другую эру (Блок 1960—1963/
V: 399).
Очень похоже, что последняя фраза вкупе с цепочкой
следующих друг за другом глаголов во всех трех временах —
настоящем, будущем и прошедшем (глаза «смотрят и будут смотреть,
как смотрели») способна прояснить загадачно-эллипсоидное
«Было. / Есть. / Будет» у Кнута, а «алчба» в предпоследнем стихе
«Жены» эхом повторяет «алчбу», нагнетаемую в приведенном
блоковском фрагменте36.
Современники небеспричинно относили Кнута к числу
поэтов-виталистов. Ограничусь только одним на сей счет отзывом
о нем в рижском журнале «Норд-Ост» — здесь говорилось, что
кнутовские стихи отличимы «своим душевным полнокровием,
стихийно-биологической радостью жизни» (Кульков 1932: 10).
Органично сочетавший в своей поэтике тягу к телесности
с превозношением высокой интеллектуальной мудрости, Кнут
в «Сатире», как мне кажется, попытался отыскать важную для
его жизненной и творческой программы форму морали. Сей
моралью было противостояние мужественности (в значении
мужской потенции, плотской энергии) — душевной
размагниченности, болезненной усталости и малодушию (всего того, что
B. Ходасевич по отношению к герою романа С. Шаршуна
«Путь правый» Самоедову назвал «сексуально-патологическим
казусом». — Ходасевич 1934: 4) — незамоленным, как тогда ви-
200
делось, грехам молодого поколения эмигрантов, оказавшихся
по не зависевшим от них историческим обстоятельствам
обреченными на постылое одиночество и бесполезную свободу.
В этом смысле кнутовская версия соотношения в мужчине
рационально-культурного и природно-животного в полной мере
отражала одну из важнейших оппозиций тендерной
проблематики вообще и в данный исторический период в частности37.
Если к кнутовскому Эросу отнестись без подозрительности и
предвзятости, свойственной господствовавшей не только в
Советском Союзе, но и в эмиграции критической тенденции
одергивать излишне ретивых эротических авторов, обвиняя
их в бесстыдстве и скабрезности28, «Сатир» представляется
далеко не столь экзистенциально шутливым, как может
показаться на первый взгляд. Сквозь его блудливую,
игриво-пародическую оболочку проступает явственное утверждение
«могучей директивы природы» как основы земного человеческого
существования.
Примечания
1 Lawrence 1961 (1928): 77. Русский перевод Т.И. Сухомлиной-Ле-
щенко — «<...> если цивилизация на что-нибудь пригодна, она
должна была бы помочь нам забыть о нашем теле, и тогда время
проходило бы незаметно и легко» (Лоренс 1932: 93.)
2 Так, в частности, эмигрант второй волны Ю. Трубецкой писал в
эмиграции, что перед новеллами Н. Каржанского «покраснели бы
Боккаччо и Поджо Браччолини» (Трубецкой 1955: 8).
3 Я не касаюсь здесь самой по себе сложной и многоплановой связи
технических открытий с жизнью тела. Ограничусь лишь
небезынтересным суждением «отца футуризма» Ф.-Т. Маринетти,
боготворившего скорость, изменившую мир привычных атрибуций и (пере)
движений человеческого тела, его функционирование по изначально
предписанным ему правилам и законам. По не лишенному
экстравагантности представлению Маринетти, Шехина (Божественное
присутствие) сконцентрировалась в несущихся с большой скоростью
транспортных средствах, например, поездах. При этом для Маринетти
было крайне важно связать «вечные» телесно-органические акты и
функции с перестраивающими природную реальность скоростями: в
поезде он особо выделял вагон-ресторан — «есть в скорости»
(Маринетти 1923: 193); ср. в другом месте — в одном из его многочисленных
футуристических манифестов, «Воображение без проводов и слова на
свободе»: «Размножение человека механическим путем. Новое
механическое чувство. Совершенное слияние инстинкта со скоростью
мотора и побежденными силами природы» (цит. по: Тастевен
1914/Приложение: 14).
201
4 О «любви в автомобиле» см.: Левинг 2004: 242—254.
J То же наблюдение в равной мере приложимо и к раннему кино,
столь же немыслимому без поезда, как и без телефона. Анализируя,
правда, не фильм, а спектакль «Au téléphone», поставленный De
Lord'ом в парижском «Grand Guignol», T. Gunnig пишет, что телефон
для героя означает не столько возможность преодоления
пространства и времени, сколько подчеркивает его удаленность от событий и
беспомощность в них вмешаться (см.: Gunning 1991: 192).
6 Проблему женского голоса и медиальных средств следовало бы
рассмотреть в более масштабной перспективе и прежде всего с
точки зрения эротогенного мифа, на котором построены
многочисленные, по преимуществу поэтические тексты, см., к примеру, «Телефон»
(1924) И. Сельвинского:
Был нездоров. Ты позвонила.
Запросто. Как звонят подружке.
Трубка наволоку затенила.
Голос твой лежал на подушке.
Я никогда не думал, что голос
Может быть полон запаха лилий,
Что он — округлый, как этот глобус,
Что мир его — мир таинственных линий.
Взойдет звуковая волна к вершинке —
И всё засверкает в хрустальных звонах,
Как будто с капелью хвойные льдинки
Падают в отсветах нежно-зеленых.
Но тут вершинка с тоской голубиной
Устремляется в дымные дебри,
И голос уходит в низины, в глубины,
И я растворяюсь в грудном этом тембре,
И я наливаюсь медвежьей кровью,
Хоть нет для меня ни тропы, ни лаза...
А ты лишь спросила: «Ну, как здоровье?»
Ты только сказала: «Скорей поправляйся».
(Сельвинский 1962: 24)
7 Приведу в качестве иллюстрации «сводный» фрагмент из этого
стихотворения:
Радио пело едва-едва.
Был печален заглушённый голос.
И всё те же страшные слова
Возникали, никли и боролись.
202
Эта музыка меня свела с ума —
Всё печальнее, всё глуше.
И навязчивая тьма
Обволакивает души.
Тряски, шумы, свисты заливают.
И надрывный женский голос: «Да!»
И сейчас же скрипки покрывают
Громким воплем: «Навсегда!»
(Струве 19326: 3)
8 Воображаемые эротические забавы другой своей гранью имеют
неживую, но материальную и говорящую куклу (механизмы,
«оживляющие» неорганическую природу, известны человечеству с давних
времен, см., к примеру, о механическом устройстве знаменитого страс-
бургского петуха, сообщавшего время, в кн.: Chapius et Gelis 1928).
Первая говорящая кукла, созданная Дж. Мельцелем (более, кажется,
известным изобретением метронома), появилась в 1823 г. с
разумеющимся в этом случае «Mama» и «Papa» на устах (конструктор
усовершенствовал более ранний, 1778 г., вариант своего предшественника
Кемпелена). Позднее, в конце 80-х годов XIX в., Т. Эдисон,
вложивший фонограф в полое тело куклы, «научил» ее петь детскую
песенку «Mary had a little lamb» — научный патент, подвергавшийся в
дальнейшем многообразным модификациям, в том числе пародическим,
см., к примеру, ироническое развитие Ж. Кокто сходной идеи в
применении к механически самозвучащему роялю, внутри которого
находится патефон («Изобретение 1943»). Из последних заслуживающих
внимания работ на тему говорящих кукол см.: Tiffany 2000.
9 Согласно этому мифу, царь лапифов Иксион домогается любви
Геры, материализуя ее образ из облака.
10 Имеется в виду Полина Бонапарт (1780—1825), сестра
Наполеона (по первому мужу — Леклерк, по второму — княгиня Боргезе).
11 Более подробно см.: Хазан 2004а: 353—364.
12 Ср. с наблюдением современного исследователя:
Авангард — особенно на ранних этапах истории — обнаруживает
достаточно большую степень зависимости от сохранившихся в языке
остатков «мифа», и в то же время клишированный смысл постоянно
подвергается атаке. «Воскрешение слова» стало одной из центральных метафор
для раннего русского авангарда. Пытаясь угадывать в словах некогда
живую мифологическую реальность, дорациональный, чувственный опыт
и относясь к языку как к своеобразному полю для археологических
раскопок, авангардное искусство в 1910-е годы разрабатывало особые
техники «оживления», «воскрешения» реальной значимости и предметного
переживания многих расхожих образов и архетипов европейской
культуры (Бобринская 2003: 25).
203
Мифо-архетипический инструментарий, который воплощает
«вековой прототип» человеческого бытия, служит своего рода
контрапунктом в коммуникации техники и тела. С этим связаны те
гуманизирующие функции органопроекции (термин, который вслед за Э. Каппом
и другими учеными повторял о. П. Флоренский, см. называющуюся
так главу в его книге «У водораздела мысли»). О мифе в литературе,
помимо широкоизвестных работ К.-Г. Юнга и М. Элиаде, см.: Vickery
1966; Righter 1975; Базанов 1978; Cook 1980; White 1971; Kodjak 1985;
Biderman 1993, и мн. др.
13 См. к этому у Л. Деллюка, писателя и деятеля раннего
французского кинематографа, т. е. принадлежавшего к искусству, в
особенности тесно соприкасающемуся с техникой (рассказ «Телефон»):
«Классический и металлический, он [телефон] мог бы в доброжелательных
психологиях возбуждать воспоминания о роге Зигфрида или трубе
Роланда» (Деллюк 1924: 145).
14 Чичерин 1927: 17.
15 Ср. у В. Шкловского в «ZOO» в одном ряду: «Век пара,
электричества и шимми ускорил темп жизни» (Шкловский 2002: 216).
16 Нечто сходное выражено в упоминавшихся выше стихах О.
Мандельштама, воплотившего в словесных образах впечатление о
радиопении негритянской певицы Мариан Андерсон («Я в львиный ров и в
крепость погружен...»):
Как близко, близко твой подходит зов —
До заповедей роды и первины —
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины...
17 Это эссе было опубликовано отдельной книжкой (Paris, 1918).
Перевод на русский язык (в отрывках), сделанный А. Эфросом,
напечатан в журнале «Современный Запад» (1923. № 4. С. 37—72).
18 В это время Монмартр представлял собой центр мирового
авангарда живописцев.
19 Чаплинское искусство танца и сам Чаплин-танцор
воспринимались в сексуализованно-перверсивном плане (о Чаплине как
гомосексуалисте см., по крайней мере, у двух его биографов: Ulm 1940: 297;
Milton 1996: 181-182).
20 Выражение «паркетная волна» использовала жившая в Праге
Э. Чегринцева в своем стихотворении «Вальс»:
Опустевшие столики пеной
оседают за нами в вине,
и качается жизнь, как сирена,
на блестящей паркетной волне.
(Чегринцева 1933: 17)
21 «Танец закройщика» включен в первое издание книги, во втором,
вышедшем в Париже в 1965 г., его нет. Один из экземпляров первого
издания, подаренного М.О. Цетлину и хранящегося ныне в Националь-
204
ной библиотеке Израиля (Иерусалим), автор сопроводил следующей
надписью: «Михаилу Осиповичу Цетлину, худшая из моих скверных
книг. 4.Ш <19>40» (благодарю Е. Ильину, обнаружившую этот
автограф).
22 Автограф стихотворения из ненапечатанной книги Д. Кнута «Бычий
край» хранится в Отделе рукописей Российской государственной
библиотеки (коллекция М.И. Чуванова). Ф. 784. Карт. 23. Ед. хр. 25. Л. 4.
23 Разумеется, речь идет не только о провербиальном поиске
женщины — те же проблемы переживали в изгнании и сами
представительницы слабого пола от отсутствия любви, тепла, дружеского
локтя, от усталости и неудовлетворенности случайными связями, см., к
примеру, рассказ И. Одоевцевой «Зимние звезды» (Одоевцева 1928).
24 Любопытно, что два критика, совершенно по-разному смотревших
на литературу, — В. Ходасевич и Г. Адамович, были едины в
определении музы Поплавского как «женственной». Ходасевич, сравнивая его с
Н. Тройским, писал: «Поплавскому жизнь открывалась как слезная
мещанская драма, герой которой вызывает жалостливое сочувствие
своему медленному, повседневному, безысходному мучению. Тройский
созерцал в жизни высокую и героическую трагедию. Поплавский в
житейской драме не видел смысла. Его поиски веры, видимо, были
искренни, но бесплодны. Отсюда — женственный, неврастенический стыд
Поплавского перед персонажами драмы, его желание не выделиться из
их среды, смешаться с ними и разделить с ними участь. Тройский знал
или предчувствовал, что трагедия имеет своеобразное религиозное
оправдание и очищение. Отсюда — его мужественное приятие мира
таким, каков он есть, и подлинно трагическое, подлинно поэтическое
дерзание "с высоты взирать на жизнь"» (Ходасевич 1936: 3), ср. у
Адамовича: «Отсюда тягостный порок Поплавского: ему нельзя было
верить. <...> Все неслось, все стремительно летело куда-то в этом
измученном и духовно-женственном сознании, неспособном дать ровный блеск,
но сиявшем несравненными вспышками» (Адамович 1935: 2).
25 Хотя несколько лет спустя Ю. Мандельштам объяснял успех
романа Лоуренса недоразумением, тем, что популярность ему
«создали эротические эпизоды» (М<анделыптам> 1934: 4).
26 Кстати сказать, оппозиция «женского» («женственного»)
«мужскому» («мужественному») имела свои декларированные прецеденты
в истории русской литературы. Обращусь за примером к тому же
В. Шершеневичу, писавшему в книге-манифесте имажинизма «Кому
я жму руку» (1920): «Нужность поэта проистекает от физиологично-
сти его творчества. Бесполое творчество — это роковое свойство
наших дней. Имажинизм есть эра мужского, животного, телесного
мироощущения, когда быть Фомой Неверующим важнее, чем быть
бесполым Иоанном» (Шершеневич 1996 (1920): 436)*.
* О «полом/бесполом» в культуре русского литературного универсума см.
две работы, публикуемые в наст, изд., — Е. Григорьевой и М. Аптекман,
содержащие обширную библиографию по этой теме. (Примеч. Д.И.)
205
См. эпиграмму на него, принадлежащую Г. Шенгели:
«Эвоэ, Эвоэ!» — кончился полет...
И вот — среди сконфуженных поэтов —
Крылами плещется Абрам Эрот,
Создатель эфротических сонетов.
28 В этом стихотворении с прозрачно-таинственным посвящением
«Ирине — она знает про что» — редкий случай в русской литературе! —
изображен оральный половой акт:
В черном студне известь и лужа,
И вот уже трет твое грудь бедро.
Антикварий на улицу вышел. Ужас,
Как лавой живое присутствием дрожь.
И вот уже чудится палачам.
Хрипа и треска спор. Мышь...
Под резцами демониста холода
Пальцы выточились в багряные формы.
И если высосется сейчас электричество,
Лучше заранее очи режь,
Потому что галлюцинаций такое количество,
Что они становятся в очередь.
В голове от газет... Деникин, Махно...
А шкап на живот надвигает твой зад;
А дальше... дальше между моих ног
Выплыли твои удушливые глаза.
Подняли со стен холсты давно гам:
Лишь сердце четко, как Ундервуд.
Дай тебе Господи, но только лишь по ногам
Скользил чтоб налитый кровью уд.
Конечно, у тела твоего есть взятка,
Потом слеплено два тела в ком один.
У меня дома кошмар лихорадки,
Прессовался в углах, говорил один на один.
Схватил себя, обезумев, под мышки, нес,
А сзади шум ночи ворчал и припрыгивал,
И крепко держали капканы одышки,
И улицы к двери отбрасывал прыти вал.
Душа не глуха, но часов глухарь
В тону мазал: ужасы? пусть себе!
Я, прикрывшийся бромом, испуганно шептал:
Чепуха!
Слыша, как долговязый рассвет гонится за кем-то
по улице.
206
И так как из зрака язык твой не шел,
Разворачивая без боли слизь,
Утром я себя нашел
Обсасывающим портьеры кисть.
(Земенков 1921: 8-9)
29 Рассказ, пришедшийся не по вкусу Бунину, которого возмутило,
что ему пришлось принять участие — пусть и косвенное — в том же
номере «Чисел», где были напечатаны «Тринадцатые» (он отвечал
здесь на писательскую анкету), см. бунинское письмо Г. Адамовичу от
15 октября 1930 года в: Новый журнал. 1973. № ПО. С. 159.
30 О другом возможном парнаховском подтексте «Земли
израильской» (стихотворение «Мировой кафешантан», 1914) см.: Кнут 1997—
1998/1: 355.
31 Единственная рецензия, как можно полагать, главным образом
объясняется тем, что Кнут не особенно афишировал эту свою
книжку, и поэтому обычно хорошо информированные критики остались в
неведении о ее выходе, см., к примеру, у Г. Адамовича, который
писал в 1930 г., что Кнут «выпустил до сих пор две книги стихов»
(Адамович 1930: 16), имея в виду сборники «Моих тысячелетий» (1925) и
«Вторую книгу стихов» (1928) и не упоминая «Сатира».
32 Эротическое волнение, вызываемое женскими ногами в момент,
как он назван, «любовного тика», см. в стихотворении «Пять стоп»
(1922) близкого Кнуту по творческим конвенциям А. Гингера:
И если лунные прикосновенья
Приятны для того, кто одинок, —
Приму ли бедные поползновенья
Послушных и волнующихся ног?
(Гингер 1925: 17)
33 «Негритянке, охваченной демоном [страсти]...». Касаясь этой
параллели, но перенося проблему интертекстуальности эротических текстов
в более общий план, замечу, что доказательность намеренных цитат и
аллюзий затруднена из-за обиходности и провербальности, хотя зачастую
и «подпольной», «общих мест», так или иначе связанных с этой темой.
Приведу для иллюстрации данного соображения лишь один пример:
строфу из стихотворения О. Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса» (1915) — «Как журавлиный клин в чужие рубежи, —/На головах
царей божественная пена, —/Куда плывете вы? Когда бы не Елена,/Что
Троя вам одна, ахейские мужи?» (Мандельштам 1990Д: 104) — по
смыслу выглядит совершенным подобием следующему месту из оды И.
Баркова «Победоносной героине пизде»:
Представь на мысль плачевну Трою,
Красу пергамские страны,
Что опровержена войною
Для Менелаевой жены.
Когда бы не было Елены,
207
Стояли бы троянски стены
Чрез многи тысячи веков*
Пизда ее одна прельстила,
Всю Грецию на брань взмутила
Против дарданских берегов.
(Барков 1992: 43)
Если учесть главный поэтический нерв стихотворения — строчку,
которой открывается заключительная строфа, «И море, и Гомер — всё
движется любовью», предположение о зависимости манделыптамов-
ского текста от обеденного прославления любви И. Барковым
окажется не столь уж невероятным, хотя и недостаточным с точки зрения
прямых доказательств.
34 Об использовании этого сюжета в рассказе Яновского
«Прохожий» (Яновский 1944) см.: Хазан 2005.
35 Очерк был написан Блоком еще в 1909 г. по впечатлениям от
путешествия по Италии, но при жизни поэта не печатался; впервые
увидел свет в его «Собрании сочинений» (Берлин, 1923. Т. 7), т. е.
именно в то время, когда, по всей видимости, Кнут работал над
своим стихотворением.
36 См. к этому же выражение Кнута из его письма (от 13 сентября
1947) о своей избраннице — последней жене, Виргинии Шаровской:
«...только глаза у нее тысячелетние» (Кнут 1997—1998/П: 292).
37 О рациональном и животном в маскулинной
самоидентификации во Франции эпохи рубежа XIX и XX вв. см.: Maugue 1987, в
особенности р. 28—38.
38 Весьма поучительным в этом смысле выглядит обсуждение
эмигрантской критикой романов Е. Бакуниной «Тело» (1933) и
«Любовь к шестерым» (1935), см.: Павловец 1999: 104—106. Присовокупим
к этому критическое раздражение написанным в форме дневника
романом С. Аничковой (баронессы Таубе) «Записки молодящейся
старухи» (Париж, 1928) — об эротических ощущениях 53-летней
женщины (см. реакцию ТРБ [П. Пильского] в рижской газете «Сегодня»
(1928. № 278. 13 октября. С. 8)); ср. в журнале «Воля России» (1929.
No 1. С. 128). См. еще возмущение Е. Зноско-Боровского стихами
Б. Божнева: «То там, то тут натыкаешься на отдельные строчки или
на целые вещи, изобличающие то же грязное воображение, тот же
неразделенный, болезненный эротизм. Вот смерть сидит в уборной
под медной цепочкой и рвет бумагу; вот сам поэт в писсуаре сочиняет
стихи, читая объявления врачей и посматривая на проходящие пары
влюбленных. Бессильная, больная, безликая розановщина, писсуар-
ная поэзия, говоря стилем автора» (Зноско-Боровский 1926: 159) или
резкий отзыв В. Ходасевича (Возрождение. 1932. № 2431. 28 января.
С. 4) на роман В. Яновского «Мир» (Берлин, 1931), хотя в статье «О
порнографии» (Ходасевич 1932: 3—4) Ходасевич отстаивал право
художника на эротику.
208
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Адамович 1930 — Адамович Георгий. Литературная
неделя//Иллюстрированная Россия. 1930. № 7. 8 февраля.
Адамович 1935 —Адамович Георгий. Памяти
Поплавского//Последние новости. Paris, 1935. № 5320. 17 октября. С. 2.
Аполлинер 1999 — Аполлинер Гийом. Эстетическая хирургия.
Лирика. Проза. Театр / Пер. с фр., сост., предисл. и коммент. М. Ясно-
ва. СПб.: Симпозиум, 1999.
Базанов 1978 — Миф — фольклор — литература/ Отв. ред. В.Г. Ба-
занов. Л.: Наука, 1978.
Барков 1992 — Барков Иван. Девичья игрушка, или Сочинения
господина Баркова/Изд. подгот. А. Зорин и Н. Сапов. М.: Ладомир,
1992. («Русская потаенная литература»)
Барт 1997 — Барт Р. Camera Lucida. Комментарии к фотографии/
Пер. М. Рыклина. M.: Ad Marginem, 1997.
Баян 1920 — Баян В. Старым пророкам. Ответ Т.Л. Щепкиной-Купер-
ник на ее посвящение Ц Пьяные вишни. 2-е изд. Севастополь: Таран, 1920.
Бейленсон 1924 — Бейленсон А. Безумия. М., 1924.
Блок 1960—1963 — Блок Александр. Собрание сочинений: В 8-ми
томах. М.; Л.: Гослитиздат, 1960—1963.
Бобринская 2003 — Бобринская Екатерина. Русский авангард:
истоки и метаморфозы. М.: Пятая страна, 2003.
Большаков 1991 — Большаков Константин А. Бегство пленных,
или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного
полка Михаила Лермонтова: Роман; Стихотворения / Вступ. ст.,
подгот. текста H.A. Богомолова; Послесл. А. Немзера. М.: Худ. лит.,
1991.
Варшавский 1932 — Варшавский Владимир. Уединение и
праздность//Числа. Париж, 1932. № 6. С. 51-76.
Варшавский 1950 — Варшавский Владимир. Семь лет. Париж, 1950.
Вейдле 1965 — Вейдле Владимир Открытка с Аппиевой дороги //
Воздушные пути: Альманах IV / Ред.-издатель Р.Н. Гринберг. Нью-
Йорк, 1965.
Гингер 1925 — Гингер Александр. Преданность: Вторая книга стихов.
Париж: Канарейка, 1925.
Гордон 1925 - Гордон A. Dancing//Жар-птица. Berlin, 1925. № 13.
Горный 1931 — Горный С. Вальс — танго — джацц: (Монолог
человека с седеющими висками) //Руль. 1931. № 3277. 6 сентября.
Гранин 1933 — Гранин Г. «Звуки джесса сплетаются снова» //
Рубеж. 1933. № 20.
Грианова 1920 — Грианова Анна. Вадиму Баяну // Пьяные вишни.
2-е изд. Севастополь: Таран, 1920. С. 4—5.
Гурмон 1906 — Гурмон де, Реми. Страницы из записной книжки о
Вилье де Лиль-Адане // Весы. 1906. № 6.
Гурмон 1913 — Гурмон де, Реми. Книга масок // Рис. Ф. Валлотона;
Пер. с фр. Е.М. Блиновой и М.А. Кузмина. [СПб.:] Книгоизд-во
«Грядущий день», 1913.
14 Заказ №К-7531.
209
Гюисманс 1912 — Гюислганс Ж.-К. Кондуктор омнибуса / Пер.
Ю. Спаского//Ж.-К. Гюисманс. Собрание сочинений. М.: Изд-во К.Ф.
Некрасова, 1912. Т. 3.
Деллюк 1924 — Деллюк Луи. В дебрях кинематографа/Пер. Е. Та-
раховской; ред. А. Эфрос. М.; Л.: ГИЗ, 1924.
Дымов 1912 — Дымов Осип. Томление
духа//Литературно-художественные альманахи изд-ва «Шиповник». Кн. 17. СПб., 1912.
Евангулов 1921 — Евангулов Георгий. Белый духан. Париж, 1921.
Земенков 1921 — Земенков Борис, Краевский Александр, Шершеневич
Вадим. От мамы на пять минут. М., 1921.
Зноско-Боровский 1926 — Зноско-Боровский Евг. А. Парижские
поэты//Воля России. Прага, 1926. № 1.
Каржанский 1918 — Каржанский Николай. Первая любовь. М.:
Книгоизд-во «Змий», 1918.
Кнут 1997—1998 — Кнут Довид. Собрание сочинений: В 2-х томах/
Сост. и коммент. В. Хазана; вступ. ст. Д. Сегала. Иерусалим, 1997—
1998.
Королевич 1916 — Королевич В. Смуглое сердце. М.: Книгоизд-во
«Единорог», 1916.
Кульков 1932 — Кульков Л. [Рец. на «Современные записки». Кн. 48] //
Норд-Ост. Рига, 1932. № 2.
Ладинский 1929 — Ладинский Ант. Дансинг // Последние новости.
1929. № 2988. 28 мая.
Левинг 2004 — Левинг Ю. Вокзал — Гараж — Ангар: Владимир
Набоков и поэтика русского урбанизма. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха,
2004.
Лопатто 1959 — Лопатто Михаил. Стихи. Париж, 1959.
Лоренс 1932 — Лоренс Дэйвид. Любовник леди Чаттерлей. Берлин:
Петрополис, 1932.
Малларме 1995 — Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М.:
Радуга, 1995.
Мандельштам 1934 — М<анделъштам> Юрий. Повести Лоуренса //
Возрождение (Париж). 1934. № 3249. 26 апреля.
Мандельштам 1990 — Мандельштам Осип. Сочинения: В 2-х томах.
М.: Худ. лит., 1990.
Маринетти 1923 — Маринетти Ф.-Т. Новая религия — мораль
скорости: (Футуристический манифест) // Современный Запад. М., 1923.
Кн. 3. С. 192-196.
Мопассан 1992 — Мопассан Ги де. Собрание сочинений: В 6 т. СПб.:
изд-во «Эпоха», 1992. Т. 3.
Набоков 1999 — Набоков В. В. Русский период// Собрание
сочинений: В 5 т. СПб.: «Симпозиум», 1999. Т. 2. С. 655-656.
Одоевцева 1928 — Одоевцева Ирина. Зимние звезды //
Иллюстрированная Россия. 1928. № 2 (139). С. 1-7.
Очеретянский, Янечек 1995 — Очеретянский, Александр, Джеральд
Янечек. Антология авангардной эпохи: Россия: Первая треть XX
столетия (Поэзия). Нью-Йорк; СПб., 1995.
210
Павловец 1999 — Павловец M. Г. Бакунина Екатерина Васильевна
(1889—1976). «Тело»//Литературная энциклопедия русского
зарубежья: (1918-1940). М, 1999. Т. 3. Ч. I. С. 104-106.
Парнах 1922 — Парках Валентин. Карабкается акробат. Париж:
Изд-во «Франко-русская печать», 1922.
Поплавский 1932 — Поплавский Борис. Среди сомнений и очевид-
ностей//Утверждения. 1932. № 3. С. 96—105.
Поплавский 1934 — Поплавский Борис. Вокруг «Чисел» //Числа.
Paris, 1934. № 10. С. 204-209.
Поплавский 1993 — Поплавский Борис. Домой с небес. СПб.: Изд-во
«Logos»; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993.
Поплавский 1999 — Поплавский Борис. Сочинения/ Общ. ред. и
коммент. С.А. Ивановой. СПб.: Летний сад; Журнал «Нева», 1999.
Рафалович 1918 — Рафалович Сергей. «Тщетно на землю легла
паутина»//Весенний салон поэтов. М.: Книгоизд-во «Зерна», 1918. С. 142—
143.
Северянин 2004 — Северянин Игорь. Громокипящий кубок.
Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы / Изд. подг. В. Н. Те-
рехина, Н. И. Шубникова-Гусева. М.: Наука, 2004.
Сельвинский 1962 — Сельвинский Илья. О времени, о судьбах, о
любви. М.: Советский писатель, 1962.
Струве 1914 — Струве М. Любовь в трамвае // Очарованный странник:
Альманах интуитивной критики и поэзии. Петроград, 1914. Вып. 3. С. 7.
Струве 1928 — Струве Михаил. Танцовщицы// Последние новости.
1928. № 2589. 24 апреля.
Струве 1932а — Струве Глеб. О молодых поэтах: Довид Кнут — Ладин-
ский — Смоленский//Россия и славянство. Париж, 1932. № 191. 23 июля.
Струве 19326 — Струве Михаил. Радио//Последние новости. Paris,
1932. 24 декабря. № 4294. С. 3.
Тастевен 1914 — Тастевен Генрих. Футуризм: (На пути к новому
символизму). С приложением перевода главных футуристических
манифестов Маринетти. М.: изд-во «Ирис», 1914.
Терапиано 2002 — Терапиано Юрий. Встречи: 1926—1971. М.: Intrada,
2002.
Тименчик 1989 — Тименчик Роман Д. К символике телефона в
русской поэзии // Зеркало. Семиотика зеркальности. Труды по
знаковым системам. XXII. Тарту, 1989. С. 155—163. (Ученые записки
Тартуского гос. университета. Вып. 831).
Трубецкой 1955 — Трубецкой Юрий. Литературный НЭП // Новое
русское слово. New York, 1955. 30 января. № 15618. С. 8.
Трубецкой 1962 — Трубецкой Юрий. По радио... По темным
переливам//Современник. Торонто, 1962. № 6. С. 19—20.
Хазан 2000 — Хазан Владимир. Довид Кнут: Судьба и творчество.
Lyon: Centre d'études Slaves Andre lirondelle; Université Jean-Molin, 2000.
Хазан 2001 — Хазан Владимир. Особенный еврейско-русский
воздух: К проблематике и поэтике русско-еврейского литературного
диалога в XX веке. Иерусалим; М.: Гешарим-Мосты культуры, 2001.
14*
211
Хазан 2004а — Хазан В. О симулякрах бессмертия и условностях
искусства // Философия космизма и русская культура. Белград, 2004.
С. 353-364.
Хазан 20046 — Хазан Владимир. Из наблюдений над семантической
поэтикой радио и телеграфа в поэзии XX века // Wiener Slawistischer
Almanach. 2004. Bd. 53. S. 43-71.
Хазан 2005 — Хазан В. «Петитная ерунда»: (Из наблюдений над
русской эмигрантской литературой: гипотезы и аргументы) //
Вопросы литературы. 2005. № 5. С. 329-339.
Хлебников 2001 — Хлебников Велимир. Собрание сочинений: В 3-х
томах. СПб.: Академический проект, 2001.
Ходасевич 1932 — Ходасевич Владислав. О
порнографии//Возрождение. Париж, 1932. № 2445. 11 февраля.
Ходасевич 1934 — Ходасевич Владислав. «Путь правый» //
Возрождение. Париж, 1934. № 3249. 26 апреля.
Ходасевич 1936 —Ходасевич Владислав. Два поэта//Возрождение.
1936. 30 апреля. № 3984. С. 3.
Чегринцева 1933 — ЧегринцеваЭ. Вальс//Скит. Вып. I. Прага, 1933.
С. 10.
Червинская 1938 — Червинская Лидия. Ожидание // Круг.
Альманах. Париж: Дом книги, 1938. Кн. 3.
Чичерин 1927 — Чичерин A.B. Крутой подъем. М., 1927.
Шаршун 1938 — Шаршун Сергей. Н-е-6-о к-о-л-о-к-о-л: Поэзия в
прозе (1919-1929). Париж, 1938.
Шаршун 1961 — Шаршун Сергей. Долголиков: Поэма (Из эпопеи
«Герой интереснее романа»). Париж, 1961.
Шах 1927 — Шах Е. Семя на камне. Париж: Изд-во «Родник», 1927.
Шершеневич 1996 — Шершеневич Вадим. Кому я жму руку // В.Г. Шер-
шеневич. Листы имажиниста: Стихотворения. Поэмы. Теоретические
работы / Сост., предисл., примеч. В.Ю. Бобрецова. Ярославль: Верх-
Волж. кн. изд-во, 1996. С. 417-451.
Шкловский 2002 — Шкловский Виктор. ZOO. Письма не о любви,
или Третья Элоиза// «Еще ничего не кончилось...» / Предисл. А.
Галушкина; Коммент. А. Галушкина, В. Нехотина. М.: Изд-во
«Пропаганда», 2002.
Эйзенштейн 1997 — Эйзенштейн Сергей. Мемуары: [В 2-х томах].
М.: Редакция газеты «Труд»: Музей кино, 1997.
Эйснер 1927 — Эйснер А. Глава из поэмы // Воля России. 1927.
Кн. VIII-IX. С. 42-45.
Эренбург 1926 — Эренбург Илья. Условные страдания завсегдатая
кафе. Одесса: изд-во «Новая жизнь», 1926.
Яновский 1930 — Яновский Владимир. Тринадцатые//Числа. 1930.
№ 2-3. С. 129-145.
Яновский 1944 - Яновский В. Прохожий//Новоселье. 1944. № 1.
Яновский 1993 — Яновский B.C. Поля Елисейские. Книга памяти.
СПб.: Пушкинский фонд, 1993.
212
Ясенский 1963 — Ясенский Бруно. Я жгу Париж. Курск: Курское
книжное изд-во, 1963.
Biderman 1993 — Myths and Fiction / Ed. by Shlomo Biderman and
Ben-Ami Scharfstein. Leiden: The Netherlands: EJ. Brill, 1993.
Blake 1999 — Blake Jody. Le Tumulte Noir: Modernist Art and Popular
Entertainment in Jazz-Age Paris, 1900—1930. The Pennsylvania State
University Press, 1999.
Briggs 1977 — Briggs Asa. The Pleasure Telephone: A Chapter in the
Prehistory of the Media // The Social Impact of the Telephone / Ed. Ithiel
de Sola Pool. Cambridge; L.: The MIT-Press, 1977.
Briggs 1979 — Briggs Asa. Iron Bridge to Crystal Palace: Impact and
Images of the Industrial Revolution. L.: Thames and Hudson Ltd, 1979.
Brooks 1977 — Brooks John. The First and Only Century of Telephone
Literature // The Social Impact of the Telephone / Ithiel de Sola Pool (ed.).
Cambridge; L.: The MIT-Press, 1977. P. 208-224.
Chapius et Gelis 1928 — Chapius, A. et E. Gelis. Le monde des
automates: Etude historique et technique. P., 1928.
Coffin 1932 — Coffin Robert. Aux frontiers du jazz. Paris, 1932.
Cook 1980 — Cook Albert. Myth and Language. Bloomington:
University of Indiana Press, 1980.
Franklin 2001 — Franklin Paul B. The Terpsichorean Tramp: Unmanly
Movement in the Early Films of Charlie Chaplin // Dancing Desires:
Choreographing Sexualities on and off the Stage / Ed. by Jane C. Desmond.
The University of Wisconsin Press, 2001.
Fuller 1913 — Fuller Loie. Fifteen Years of a Dancer's life. Boston: Small,
Maynard, 1913.
Gloves-Smith 1981 — Gloves-Smith John. The Primitive: Objectivity and
Modernity/^ British Sculpture in the Twentieth Century (Exhabition
Catalogue). Whitechapel: Whitechapel Art Galery, 1981.
Godbolt 1984 - Godboltjim. A History of Jazz in Britan, 1919-1950.
London, 1984.
Gunning 1991 — Gunning Tom. Heard over the Phone: «The Lonely
Villa» and the Lorde Tradition of the Terrors of Technology//Screen. 1991.
Vol. 32. № 2. Summer. P. 184-196.
Khazan 2004 — Khazan Vladimir. Some Observations on the Early
Years of Emigré Poetry // Русская эмиграция: История. Литература. Ки-
нолетопись. Иерусалим; М.: Гешарим-Мосты культуры, 2004.
Kodjak 1985 - Myth in Literature /Ed. A.Kodjak et al. Columbus (ОН):
Slavica Publishers, 1985.
Lawrence 1961 — Lawrence D.H. Lady Chatterley's Lower/With an
Introduction by R. Haggart. Harmondsworth: Penguin Books, 1961.
Leprohon 1935 — Leprohon P. Chariot ou la Naissance d'un Myth. P., 1935.
Mallarmé 1945 — Mallarmé Stephane. Ouvres completes. Paris: Gallimard,
1945.
Marinetti 1972 — Marinetti [Filippo Tommazo]. Selected Writings / Ed.,
213
and with an introduction by R. W. Flint. N. Y.: Farrar, Straus & Giroux,
1972.
Maugue 1987 — Maugue Annelise. L'Identité masculine en crise au
tournant du siècle. Paris, 1987.
Milton 1996 -Milton Joyce. Tramp: The Life of Charlie Chaplin. N. Y.:
Harper Collins, 1996.
Nanny 1973 — Nanny Max. Ezra Pound: Poetics for an Electric Age.
Bern: Francke, 1973.
Rabinbach 1990 — Rabinbach Anson. The Human Motor: Energy, Fatigue,
and the Origins of Modernity. N. Y.: Basic Books, 1990.
Righter 1975 — Righter William. Myth and Literature. L.: Routledge
& K. Paul, 1975
Steegmuller 1970 — Steegmuller Francis. Cocteau: A Biography. Boston:
Little, Brown, & Co., 1970
Tiffany 2000 — Tiffany Daniel. Toy Medium: Materialism and Modern
Lyric. Berkeley; Los Angeles; L.: University of California Press, 2000.
Townsend 2001 — Townsend Julie. Alchemic Visions and Technological
Advances: Sexual Morphology in Loie Fuller's Dance //Dancing Desires:
Choreographing Sexuaüties on and off the Stage / Ed. by Jane C. Desmond.
The University of Wisconsin Press, 2001.
Ulm 1940 — Ulm Gerith von. Charlie Chaplin. King of Tragedy. Caldwell,
Id.: Caxton, 1940.
Vickery 1966 — Myth and Literature: Contemporary Theory and Practice /
Ed. by John B. Vickery. Lincoln: University of Nebraska Press, 1966.
ViUiers de L'Isle-Adam 1957 — Villiers de L'Isle-Adam. L'Eve future. P.:
Le Club du Meilleur livre, 1957.
White 1971 — White, John J. Mythology in the Modern Novel: A
Study of Prefigurative Techniques. Princeton (NJ): Princeton University Press,
1971.
Приложение
Д. Кнут
САТИР
Вступление
В конце концов, друзья, вполне возможно,
Что демоны ведут судьбу людскую,
Что в их игре, большой и осторожной,
Для них едим, плодимся и тоскуем.
Что на путях любви, добра и зла
Ведут нас, на плечах усевшись ловко,
Как армянин классический — осла:
Маня висящей на кнуте морковкой.
214
Спокойно говорю: мне все равно.
Мне нравится встречать и трогать женщин,
Меня нередко веселит вино,
Люблю стихи, серебряные вещи...
И если я, в конце концов, добыча
Той тьмы, в которой я мерцал вначале,
Мне все равно: я все учел и вычел —
Мне соловьи о радости свистали.
Пусть эти демоны меня морочат,
Когда в моих руках моя подруга,
Пусть, тайно управляя мной, хохочут
В злорадный час чертовского досуга,
Пусть только потому, что близорук я,
Мне часто мир — как музыка прекрасен,
Сдаюсь, охотно поднимаю руки —
Пляшите, черти. Я на все согласен.
I
О чем здоровый думает мужчина
В часы мужских раздумий и мечты?
Читатель, дяде твоему и сыну
Подобно — все о том же, что и ты.
Будь он чертежник, водолаз, приказчик,
Чиновник, арендатор иль поэт,
Мясник, портной, философ завалящий,
Он не о славе думает, о нет!
Не о наживе, как это ни странно,
Не Бога хочет он в ночи бороть,
Не мысли мудрых жгут его обманом,
Но женщина его пружинит плоть.
Я, нижеподписавшийся мужчина,
Сравнительно — почти анахорет,
Не вижу больше смысла и причины
Хранить наш древний, наш мужской секрет.
Я говорю: ни банки, ни парламент
Мужского не убили естества...
О, дайте мне для этих слов пергамент,
Чтоб не стирались честные слова.
Безмерной женской прелестью — телесной —
Согрета нам земная полумгла.
Любая нам прекрасна и прелестна,
Мила, желанна, радостна, тепла.
215
И ссудо-сберегательные кассы,
Куда в визитке едет свинопас,
Нас научили скопческим гримасам,
Но все ж не вовсе оскопили нас.
Я признаюсь от имени собратий:
Мы не встречали женщины такой,
Которой не раскрыли бы объятий,
К которой не тянулись бы рукой.
П
Тому дней пять... дней шесть тому назад
Я проходил коммерческим пассажем,
Где издавна незыблемо стоят
Два манекена в светском антураже.
Я с давних пор привык там видеть их:
Все так же, не меняя поз и жестов,
Стоят — невеста и ее жених.
И вечно так — счастливая невеста
С улыбкою глядит на жениха,
Он смотрит вбок, не выдавая страсти...
Они вдвоем — как будто два стиха,
Рифмующиеся с полночным счастьем.
И вот я мимо шаркаю спеша,
Так, этаким чиновником бесполым,
Как вдруг — хлебнула радости душа! —
Невеста предо мной стояла голой.
Поймите, ведь — папье-маше! Но — вдруг!
И я, облезлый, рыхлый и лядащий,
Опять окреп, опять — упруг и туг,
Вновь — стоющий, стоящий, настоящий.
Ш
Адам, не зная скуки и труда,
Как юный зверь резвился в кущах рая.
Он с Евой жил, не ведая стыда,
Блаженно жил, почти не вынимая
Ленивых рук из примитивных брюк...
(А впрочем, если верить старой книге,
Тогда еще не знали хитрых штук:
Под фиговым листом висели фиги!)
А нам достались лишь грехи его —
Хлеб труден и любовь не легче хлеба.
216
Адам не знал: «зачем» и «для чего»,
Не трогал звезд, не тыкал пальцем в небо.
Как музыку, умел он слушать лень
(Подумайте: ведь это было, было!)
Не мудрствуя, ложился с Евой в тень,
Не мудрствуя, бросался на кобылу...
А мы, забыв дух травки полевой,
Смешное племя чучелообразных,
При виде жен глотаем волчий вой,
Рыща — в трамваях — по лесам соблазнов.
IV
За правду бьют неправедные судьи,
Но вот — люблю вечернее метро,
Где греют спину ласковые груди,
Где греет душу женское бедро.
Да, я люблю таинственное бремя
Разнообразных грудей, плеч и рук.
Здесь общему любовнику (в гареме
Нечаянном) газета — щит и друг.
О, плотский жар соборного угара,
Животное обильное добро...
Вхожу, как в роскошь бани Ренуара,
В густую плоть вечернего метро.
Внедряюсь в стан, любовный и жестокий,
Пружинных тел, ярящихся тайком.
Включаюсь в магнетические токи
Чувствительным прямым проводником.
Дрожит направо девочка худая,
Налево — женщина, лет сорока...
Ярись, ярись, креолка молодая!
А снизу шарит нежная рука...
Как сладостно, когда невидной дланью
Ты пред собой сочувствие найдешь
И живота, разъятого желаньем,
Внимаешь сзади бешенство и дрожь,
И, продвигая бережно колено
В раздавшийся сочувственно проход,
Ты слышишь сам, как расцветают члены,
Ты семени воспринимаешь ход.
217
V
Где наших предков игры и забавы,
Охоты на разгоряченных жен...
Тогда нередко видели дубравы,
Как шла сама добыча на рожон.
Где наших предков игры и погони!
В игре терялся фиговый листок...
Теперь, встречая женщину в вагоне,
Мы говорим: простите, ваш платок?..
Уже исходит женщина надеждой,
Другая — рядом — жухнет от тоски,
Мы ж, холостые жуткие невежды,
Сидим, поджав хвосты под пиджаки.
Мы не глядим — не смеем! — что вы, сразу!
Мы вежливы — и лишь издалека
Мы изредка обхаживаем глазом
Упрямый профиль чуткого соска.
Где наших предков честное веселье!
Ложились прямо и открыто встарь.
Над легшими любовно — не висели
Будильник, расписанья, календарь...
И женщины показывали сразу
Веселые сокровища свои
Сатирам простодушным и чумазым,
Охотникам за радостью любви.
Теперь не то — в шофере иль в спортсмене
Лишь изредка — и то издалека —
Нам раскрывают женщину колени,
Но немощна бессильная рука.
Таинственно мерцает треугольник,
Знак неги, лик блаженства и весны,
Но прячется под шляпою невольник,
Закованный в печальные штаны...
* * *
О, лишь порой, в метро, где грузен воздух,
В ночном кафе, куда загонит рок,
Нам вспыхивает счастье в темных гнездах
Меж белых высоко взнесенных ног.
щ
и
Специфика
русской парадигматики
Отдельные case-studies
русского литературоцентричного
звена науки о культуре
Ê
M. В. Михайлова
ЭРОТИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА
В ПРОЗЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЬНИЦ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Исследование в рамках темы «Эротика в прозе русских
писательниц Серебряного века» в настоящей работе будет
проведено в основном на основе анализа произведений, которые
произвели в свое время большое впечатление на русского
читателя, приобрели, можно сказать, скандальную известность (см.:
Богомолов 1996).
Эта своего рода известность, о которой мы говорим, была
главным образом связана с тем, что их авторы — женщины —
вольно или невольно затронули те сферы, заглянули в те
пограничные области, которые раньше были, безусловно,
прерогативой «мужской литературы» и даже в целом, по-видимому, не
существовали в ареале русской словесности, которая в этом
отношении достаточно аскетична. В ней даже «мужской» вариант
освещения некоторых проблем прививался с большим трудом,
являясь по-своему эпатажным.
Как предельно брутальная и скандальная была воспринята
повесть жены поэта-символиста Вяч. Иванова Л.Д. Зиновьевой-
Аннибал «Тридцать три урода» (на первое издание был наложен
арест), сюжетом которой стала любовь двух женщин: актрисы
Веры и ее молодой ученицы, которую она обращает в свою
«веру»: поклонение красоте тела и безраздельной, одухотворяющей
любви друг к другу. Повесть стала эстетическим отображением
религиозно-философских идей, проповедовавшихся
содружеством посетителей ивановской «Башни» и, в частности, самим
Ивановым, который свои теории поверял практикой (попытка
создания новой Церкви через семью, включающую в себя соеди-
221
ненных сексуальной близостью иногда чередуемых партнеров).
[О бытовых и любовно-креативных практиках «Башни» см.:
Шишкин 1994; Богомолов 1999.]
Образ главной героини привел Иванова в восторг, и он же
попытался дать объяснение, почему всё внимание морализатор-
ская критика сосредоточила именно на «рискованной» фабуле
произведения: «Здесь подлинный язык страсти, и он не может не
потрясти всякого», но «так интенсивно это впечатление страсти,
что глубокий замысел почти не виден за красным покрывалом
цвета живой крови» (ОР РГБ). Однако это произведение не было
отвлеченным рассуждением о природе страсти, хотя и звучало
как протест против задавленности, угнетенности чувств,
выработанных «дрессированной жизнью» цивилизованного общества.
Посвященное Иванову, оно было и обращено лично к нему,
являясь как бы предупреждением о возможном исходе этих так
называемых «орпхасгично-дионисийских» экспериментов (о
комплексной природе этого понятийного субстрата см. исследование
профессора Сорбонны Мишеля Маффезоли: Маффезоли 1993).
Одновременно с этим произведение стало определенным
прорывом в отношении «предельно-допустимого» в женском
творчестве вообще. История страсти-поклонения, написанная в форме
интимного дневника девушки, постигающей ее уроки и
начинающей тактильно осознавать свое тело («Она целовала мне
глаза, и губы, и грудь и гладила мое тело. Да, у меня прекрасное
тело!» — Зиновьева-Аннибал 1999: 25), поражала своей
напряженной достоверностью, но и воспринималась как манифест новой
женственности, которая станет «венком силы и любви над
жизнью мужчин», поможет открыть «добрую красоту вещей», как
писала сама писательница в одной из своих теоретических
заметок (Весы 1904: 60; о возможных вариантах «рассмотрения»
собственного тела см.: Фишер 1979).
Между тем в сборнике рассказов «Трагический зверинец»
(1907) «покрывало», о котором писал В. Иванов, стало уже
полностью прозрачным. И это позволило А. Блоку связать с
именем писательницы грядущие открытия русской литературы.
«Того, что она могла дать русской литературе, мы и
предположить не можем», — написал он после ее ранней смерти. Поэт
считал, что в этой книге «страсть» соединена со «страданием»,
наконец обуздано «дикое, порывистое, тревожное», что
переполняло душу художницы ранее, и она сумела гармонично
соединить «детски-дерзостное» и «женски-таинственное» (Блок
1962: 226). Зиновьева-Аннибал действительно одной из первых
сумела заставить заговорить «женское тело и женскую душу»
222
(Городецкий 1908: 97). Мы бы добавили: и женскую душу в
теле девочки-подростка.
Столь же неожиданными для русской читающей публики,
как и откровения на тему бисексуальности взрослых людей в
«Тридцати трех уродах», были в «Трагическом зверинце»
страницы, посвященные пробуждению чувственности ребенка,
которая часто может быть направлена на существо того же пола. До
Зиновьевой-Аннибал не было в русской литературе писателя,
который осмелился бы и сумел так остро, напряженно и в то же
время необыкновенно возвышенно, а следовательно, и
одухотворенно обнажить проявления сексуального влечения детей.
Эротическая искра делает прекрасным мир вокруг двух девочек:
Она (Таня. — М.М.) смотрит на меня, и вдруг ее руки обвивают мою шею,
и темно-красные, как переспевающая на солнце земляника, губы
нажимаются мягко и плотно на мои губы. И вдруг новое чувство, неиспытанное,
ударилось мне в сердце, в мозг, каждою кровинкою стукнулось о каждую
живую жилку мою, и сдвинулись травы и цветы, как те морские тростники,
когда столкнется с мели и поплывет чёлн. Видела близко и неподвижно
полный, кроткий и неумолимый, как нечеловеческий, взгляд
золотисто-карих, немигающих глаз Тани: в них не было ни страха, ни надежды. Только
их видела близко-близко — и мы плыли мимо колокольчиков и куриной
слепоты, лютиков и одуванчиков и спиральных цепких усиков
мышиного горошка, и всё щекотали лоб высокие, сгибающиеся травы мягкими,
перистыми кистями и сыпали сладко-пахучую сухую пыль... или то ветер
сладко-пахучий щекотно прикасается, вея медом и прохладною мятою?
Или то стрекоза с медно-синим узким, длинным тельцем дотронулась до
моего лба? <...> Вздрагиваю и смеюсь. Какая Таня худенькая! Какое
угловатое тело! (Зиновьева-Аннибал 1999: 118—119).
Мир как воплощение таинства любовного сближения и
сближение как некая возможность открытия и слияния с
миром — вот, думается, что хотела сказать писательница в этих
строках.
Но любопытно, что экскурс в эротические сферы Зиновьева-
Аннибал начинает с попытки «определить» природу мужского
возбуждения. И здесь она прибегает к сильнейшему средству в
создании эротической ассоциации — запаху, ставя его на первое
место при характеристике мужского желания. «Аромат»
женщины настойчиво переводится в категорию «запаха» —
раздражающего, пьянящего, заставляющего мозг мужчины погрузиться в
туман. Для мужчины женский запах — сильнейший афродизиак,
что доказывают признания героя пьесы Зиновьевой-Анниб ал
«Кольца» — Вани. Чрезвычайно бесстыдно и откровенно
говорится о запахах соленой рыбы, гнилой морской травы, источаемых
женщиной, тех, что порождают слепое, темное, ненасытное вож-
223
деление, «толкающее» на поиски самки, гонящее и гонящее
вперед. Зиновьева-Аннибал вкладывает в уста героя просторечный
синоним слова «пахнет» — «несёт» («Это чем несёт с моря?»; при
этом Ваня мучительно нюхает воздух), дабы подчеркнуть
вихревое, неодолимое, засасывающее начало этого эротического
импульса. В памяти невольно возникают биологические параллели:
так летит на «сильный, нужный запах» самки бабочка
шелкопряда, так находят под землей друг друга черви, так совершает свой
прыжок бык, покрывая корову (последнее фигурирует в самом
тексте «признания» Вани: «<...> в тумане красный свет мигнул —
и... прыжок быка»).
Самый приземленный вариант желаемого соития, в котором
доминируют духота, пот, сальные выделения (всё,
сопровождающееся сильными обонятельными эмоциями), рисует
писательница, когда рассказывает о случайной встрече с «незнакомкой».
«Лица не запомнил, — как в бреду признается Ваня. — Было ли?
Всё равно. Так себе — здоровое. Глаза плавали в синеватых
белках, студенистые, мутные, сосущие. Рот большой, голодный,
губы вывернуты... Нельзя глядеть — и толкает. На лбу душном
<...> сальные завитки темные в шпилечках прижаты». И все эти
ощущения связываются героем с зовом самой жизни: «Кто
этого призыва не понимает, отец, — тот за штатом у жизни» (Там
же: 279). Для Вани весь мир пронизан запахами. Их источает
всё вокруг. Они часто несут смерть: даже фиалка, если ею
надышаться, — умрешь; даже звезды в небе — пахнут, а «небо без
дна... синее до жадности, — жадно, жадно, жадно синее... Тону
в нем и еще хочу, глубже хочу еще» (опять отчетливый
«метонимический» перенос эротического ощущения! — М.М.) (Там
же: 275).
В пьесе также явственно ощутимы египетские ассоциации,
отсылающие к символу страсти — Клеопатре, упоминание о
сфинксах также эротизировано. Египетская тема возникает и
как намек на «Три свидания» В. Соловьева, в которых
описывалась его встреча с Софией в Египте. Неоднократно возникающие
в тексте розы призваны одновременно символизировать и
безгрешность (атрибут Девы Марии) и напоминать о священном
цветке Венеры (возникает даже особый запах увядающих роз —
тлетворный и манящий). Иными словами, женщина в
воображении мужчины балансирует на грани греха и невинности.
О том, насколько доминирующим в мужском сознании, по
мнению писательницы, является именно этот вариант
«поглощения» (растворения в лоне?), свидетельствует почти дословное
повторение данного варианта «поглощения» в отрывке «Лон-
224
дон» (но с явным «прописыванием» ассоциации: рот — пещера —
женское интимное лоно):
Против меня сидит девушка. Лицо — как тело голое, и в голости, где
все черты стерты, перед моим взглядом — сочный рот, широкий как всту-
пилище в пещеру; и мутно-белесоватые глаза поблескивают влажно, и
устанавливается простой, открытый голый взгляд на мои глаза, даже без
наглости, без всего — просто факт... И ужас провала, засасывающего
провала, охватывает меня... (Там же: 211).
На аналогичном принципе зрительной ассоциации
построена вся канва пьесы писательницы «Певучий осел», где Алоцвет,
брызжущий соком, призван символизировать «всемогущий»
фаллос: недаром цветок возбуждает даже безгрешное Сердце
Розы! «Красный, красный, красный. / Дай мне притронуться.
Как бьется сердце / От света алого! <...>/<...> с небес и от земли
несется / Пьянящий, благовонный дух», — произносит она в
самозабвении (Там же: 323).
В «Кольцах» Зиновьева-Аннибал устами одного из героев
слагает гимн мужской страсти, противопоставляя ее любви и
пытаясь провести границу между мужской и женской
чувственностью. Страсть — там, где «судороги сладкие по спине
забегают», где кровь, бешенство, насилие. «Жизнь рождена не
любовью. Страсть и смерть родили жизнь», — утверждает Ваня. И
он развивает эту мысль:
Страсть — зверь. Зверь безгрешен чутьем. <...> Я каждую помню, кто
десять минут, кто пять, кто три минуты мне дала. <...> Все минутки в одну
вечную сплетаю... вот мой труд до кровавого пота! <...> Каждой-то,
каждой, что и мимоходом где встретилась, — в глазок, так, под веко заглянул
и свою узнал, свою нужную, свою неизбежную. Вот страсть мужчины.
Всех помнить для вечности и всем изменять. А у женщины... по-иному
страсть! Женщине смен не нужно. Женщина все смены зараз в одной
минуте имеет (Там же: 268, 273—274).
Но мужчина жаждет вовлечь женщину в свое понимание
страсти как самозабвения и таким образом сделать ее равной
себе (или подчинить?) и поэтому призывает:
Страсть одну возьми. Вот накатила она — и всё ты забыла в ней. Всё,
что женщина в мире. И всё обняла в ней, всё, что — мужчина в мире. Мир
приняла — и, проснувшись от нее, того не узнала, кто был тебе мужем.
Мир был тебе мужем. А муж — мировым рогоносцем (Там же: 274).
Вся пьеса, собственно, является исследованием
всевозможных вариантов любовного чувства — любви-страсти,
любви-упоения, любви-ослепления, любви-жертвенности, любви-служения.
Страдания Аглаи, истомленной бесплодной ревностью, безна-
15 Заказ № К-7531
225
дежное растворение в любви доктора Пущина, иррациональное
ослепление вожделением у Алексея,
мучительно-гедонистическое прожигание жизни Вани, замыкание в себе отчаявшейся
Анны... Но наиболее убедительным, «сжигающим» и
«растворяющим» Мировой Океан Мысли и Духа получилось рассмотрение
Страсти.
Для героя, мучимого любовным томлением, каждый
окружающий его предмет «создан, и ожил, и просит любви». Что уж
говорить о людях (характерно, что автор избегает слова
«женщина») — «в коротких юбках и длинных талиях, с ангельскими
лицами и кудрями, очень красивыми, но однообразными, или
те, в коляске, или тоже по тротуару тягуче шествующие в
тесных шелках, с узкими, строгими и дивно выточенными
чертами и голубым шелком сиренных глаз» (Там же: 208).
Показателен этот «тягучий», «засасывающий» телесный контекст, в
котором одежда подчеркивает черты фигуры, «выпирающей»
из тесных границ, в котором главный компонент — влага,
водоворот, омут... Телесность женщины сопряжена с
низменно-грубым, приоткрывающим, делающим доступным сокровенное:
«Засучены рукава бурого гладкого лифа, заголены крепкие
руки повыше краснеющих локтей и без перехода кончаются
толстыми, короткими, совсем голыми кистями» (Там же: 211).
Но немало в женской литературе тех лет и текстов, в
которых настойчиво проводится мысль о необходимости «исхода» из
эротической сферы как условия подлинного освобождения
женщины в мире, пронизанном мужским эротизмом и
существующем по законам мужской страсти. Среди них — повесть Веры
Рудич «Ступени» (1913), выдержавшая несколько изданий,
типичная автобиография интеллигентной пролетарки (так в ту
пору именовались работницы интеллектуального труда). В
«Ступенях» самым подробным образом прослежена судьба
женщины, решившейся самостоятельно зарабатывать себе на хлеб:
изнурительная работа корректором или наборщицей, нередко в
две смены, не оставляет никакой надежды на проявление
духовной жизни. Вот как описывает эту жизнь автор: «Работа,
непривычная, тяжелая, одуряющая», «работа в машинной наборной, в
душном, пропитанном типографскими запахами воздухе, под
однообразный резкий звук падающих матриц, гул и лязг машин
в полном ходу, под нервные окрики метранпажей, охваченных
лихорадочной ночной спешкой» (Рудич 1913: 53). Единственная
радость — это надежда на любовь, но и она быстро гаснет при
соприкосновении с реальной действительностью (автор
усиленно подчеркивает, что одна из причин одиночества — некраси-
226
вость героини и унизительные варианты близости с мужчиной,
которые могла предложить ей жизнь). И «Ступени» становятся
рассказом о преодолении обстоятельств «сексуального
закабаления». Семнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать пять,
наконец сорок лет — вот основные вехи женского биологического
возраста. И именно последняя «ступень» открывает в героине
неистощимую потребность в творчестве.
Душа — какая-то омытая, просветленная, как вечернее небо, — так и
замирает неясным ожиданьем ночи, тишины, ждет стола с белой лампой
у открытого окна, в которое плывет ночная свежесть и запах цветущих
лип, ждет наслаждения тех минут, когда на белой странице рука нервно
пишет короткие строки стихов, находя слова для того, что неведомо
откуда встает в мозгу и таким вихрем клубится там, что подымает с места:
встаешь и ходишь по комнате с невидящими глазами, с остановившейся
улыбкой, вся напряженная до боли сладким наслаждением творчества
(Там же: 71).
Сам процесс творчества одаряет немыслимым ощущением
счастья, «замещает» эротическое удовлетворение. Героиня в
своих записях прямо приравнивает творческий процесс к
сексуальному наслаждению:
<...> то же растущее напряжение всего существа в одном стихийном,
непреоборимом желании творчества — там тела, тут — духа, те же
невидящие глаза, неслышащие уши, потом яркий миг, когда напряжение
выливается в творческом порыве. И потом на время та же усталость и
какое-то холодное, иногда неприязненное даже отчуждение от того, что за
минуту заслоняло весь свет (Там же: 73—74).
Именно творчество (при этом не уточняется качество
создаваемых героиней текстов, да это, по сути, и не важно!) помогает ей
понять, что столь мучающее женщину «вечно-мужское» не
должно быть властно над ней. Сексуальное желание отныне перестало
быть для героини «тяжелым бременем, библейским проклятием»,
оно наконец заняло то место, на котором и «должно стоять у
одиноких трудящихся женщин», «место праздничного украшения
жизни, как наслаждение "отпуском", свободой, зеленью деревьев,
солнцем, запахом трав, всем, что так и подымает человека бурной
радостью, про что он вспомянет с доброй мечтательной улыбкой,
когда вернется опять "из отпуска'' к будням, со свободы в ярмо»
(Там же: 78). Показательно, что, создавая кодекс «новой
женщины», А. Коллонтай одним из пунктов выделила именно умение
«отводить любовным переживаниям то подчиненное место, какое
они играют в жизни мужчины» (Коллонтай 1913: 163).
Совершенно неожиданный и парадоксальный рецепт
выхода из подобной ситуации «зависимости» предложила писатель-
is*
227
ница Надежда Санжарь, прошедшая путь от няньки,
продавщицы, швеи, горничной, писаря в тюремной канцелярии, куколь-
ницы — до литератора (см.: Санжарь 1996а; Санжарь 19966). В
1910 году она опубликовала «Записки Анны» — своеобразный
манифест безбрачия для творчески одаренных женщин.
Считая мужчин людьми, недостойными ее души и тела, она
выступила с призывом посвятить жизнь духовной работе по
созиданию гармоничной личности. При этом она не отказывалась и от
рождения ребенка, но считала, что надо рожать только
талантливых детей. Поэтому писательница обратилась с письмами к
выдающимся людям своего времени (среди них были Л.
Андреев, В. Иванов, А. Блок) с просьбой помочь ей в этом. Как ни
странно, такое поведение не отвратило, например, А. Блока,
отнесшегося к писательнице хотя и с «досадой», но
испытавшего к ней и «уважение». Поэт обнаружил за нелепыми
просьбами трагедию интеллигентной женщины, поставленной перед
необходимостью выбора, и в книге увидел «<...> не одни
чернила, но и кровь; кровь, будто запекшуюся между отдельными
страницами... кровавые и мучительные слова» (Блок 1962: 439).
Впоследствии свои идеи Санжарь оформила в целостную
теорию брака как духовного сожительства двух людей, где
взаимное влияние друг на друга способствует изменению личности и
аналогично «духовному зачатию», а написанные в результате
этого союза книги и возникшие идеи становятся «духовными
детьми» этой пары.
Но все-таки воображению писательниц рисовалась отнюдь
не гармоническая утопия сексуальных отношений. Скорее им
виделись трагедии и драмы сексуальных битв, в которых
женщина оказывается поверженной. И Анна Map в романе
«Женщина на кресте» (1915) совершает содержательный прорыв в
литературе, позволив себе исследовать такое
психофизиологическое явление, как мазохизм. Она была убеждена, что
«садизм» и «мазохизм» — слова, приобретающие вульгарное
звучание, только когда они произносятся обывателем (см. также:
Грачева 1996). На самом деле — это:
две силы, самые страшные силы человеческого духа. <...> И всё, что
ведет к разгадке, углублению, толкованию, выяснению этих сил, пора
также признать ценным, <...> насущно-важным. О здоровом (возьмем на
мгновение это дикое слово), обычном человеке может рассказать самый
ничтожный художник. Даже ремесленник создаст нечто, нужное
обывателю. Порок, грех, уклонения, помешательство (ибо с точки зрения
обывателя мазохизм тоже помешательство) требуют для анализа
исключительного ума и <...> гибкого таланта (Map 19176: 9—10).
228
Этого взгляда ей не простили. После выхода романа ее
перестали принимать в некоторых домах. Против нее ополчились
литературные критики. Причем почти никто из них не отказал
писательнице в одаренности, возмущение вызвала «острота и
пряность» сюжета, в котором основную роль играли
садистические и мазохистские эпизоды, элементы лесбийской любви. Но
негодование вызвали не столько сами темы — поскольку в
русской литературе уже существовали «Крылья» М. Кузмина и
даже «Тридцать три урода» Л. Зиновьевой-Аннибал,
затрагивавшие гомосексуальные мотивы, — сколько то, что их подняла
женщина, поведшая разговор с «неженской
последовательностью» (Савинич 1916), оказавшаяся, таким образом, на
«вершинах бесстыдства» (Астахов 1916). Это была та самая
беспощадная «мужская критика», преследование и травлю со стороны
которой в качестве одной из причин трагической смерти Анны
Map назвала известная поэтесса Любовь Столица в статье,
посвященной памяти безвременно ушедшей писательницы (см.:
Столица 1917).
Роман «Женщина на кресте» был уже не просто
автобиографической прозой, а родом интимного дневника. Читатель
должен был воспринять его как манифест, программное
заявление, обнажающее суть женского начала. И на самом деле, на
первый взгляд весь роман — подтверждение тезиса о
мазохистской природе женского естества. Ведь героиню не влечет
традиционный путь религиозного страстотерпства. Она убеждена,
что «монашеский подвиг <...> так же печален, как и труден». В
монастыре «женщина оторвана от жизни, обречена на
бездетность и аскетизм, брошена на отвлеченность, где ей часто
пусто и холодно и не на что опереться». В конце концов,
размышляет главная героиня, Алина, «не всех влечет Сиенская и не
всем понятен язык Терезы. В монастыре женщина не
принадлежит себе. Это еще полбеды, но она не принадлежит никому
в отдельности — это уже несчастье» (Map 1918: 2).
Но при этом ее воображение возбуждает мысль, что в
«монастыре наказывают», и это способно примирить ее с
монастырской жизнью. Тогда она начинает мечтать о пребывании в
обители, «ужасаясь, трепеща и вместе с тем наслаждаясь своим
страхом». Одновременно богатая, обеспеченная, изысканная,
прекрасно образованная женщина мечтает о том, чтобы
возлюбленный сек ее розгами, и, можно сказать, вымаливает это
как величайшую награду. От этого она также получает
утонченное наслаждение. Впрочем, как и он, наблюдая ее слезы и
унижение. И в итоге она, отдав своему возлюбленному, Генриху
229
Шемиоту, всё свое состояние, идет к нему в услужение,
замещая умершую экономку-рабыню Клару, ранее, видимо,
проделавшую тот же путь.
В повествовании очевидна эстетизация мазохистских
переживаний. Героине важна не просто доставляемая
возлюбленным боль, но и обстановка, в которой происходит истязание:
Ах, она с закрытыми глазами видела хрустальную вазу с двумя
ручками по бокам и плоским, словно срезанным горлышком. На ней два
белых матовых медальона, где золотые монограммы Шемиота перевиты
фиалками. Она наполнит ее водой и опустит туда розги, краснея и
волнуясь. Они не очень длинны, жестки, матовы. Потом они станут гибкими
и свежими. Они так больно будут жалить ее тело (Там же: 137).
И прячет она розги «среди вуалей, страусовых перьев,
кружев, отрезков шифона» (Там же: 142). Важно отметить, что,
рисуя сладострастные картины, возникающие в воображении
Алины, писательница создает совершенно иной временной план, чем
тот, в котором протекает реальное действие. Время явно
замедляется, становится тягучим, обволакивающим, напоминает
патоку, в которую с готовностью погружается и... тонет героиня.
Откровенное описание того, что с общепринятой точки
зрения является перверзиями, было воспринято как вызов
общественной морали, как ложь и поклеп, возведенный
писательницей на представителей обоих полов. Она же, как могла,
защищалась, говоря в свое оправдание, что получает множество писем
«от женщин умных, тонких, интеллигентных», которые клялись
ей, «что все они — Алины» и что их возлюбленные говорят
«словами Шемиота». «Я пугаюсь, — писала она критику Е. Колтонов-
ской, — того количества Генрихов, которые приходят ко мне и
говорят: "Ваш Шемиот мало жесток" (ИРЛИ. 1916 (?); курсив
мой. — М.М.). Но на страницах романа «Женщина на кресте»
жестокость неотделима от любви. И писательница настойчиво
напоминает, что Шемиот «любил ее (Алину. — М.М.) больше
всего на свете» (Map 1918: 137), правда, эта любовь с особой
силой вспыхивала тогда, когда он наблюдал за ее
приготовлениями к наказанию. И «взрыв нежности и любви»
улетучивался, как только наказание заканчивалось.
Безусловно, главное, что потрясает читателя романа, — это
непреодолимая тяга героини к получению уже не душевной, а
физической боли. Вернее, душевные терзания — это приправа,
аккомпанемент к главному событию. Писательница тщательно
исследует генезис «странного» пристрастия своей героини и
обнаруживает его источник в условиях воспитания и окружения. А
это подталкивает читателя в сторону размышлений не о врож-
230
денных склонностях, а о привитых навыках. Стоит вспомнить в
связи с этим бессердечие матери Алины, у которой для дочери
находились только слова: «Вы здесь, Алина? Кто пустил вас ко
мне?» (Там же: 25). И при этом взгляд матери тускнел и
становился презрительным. Единственное, на что могла рассчитывать
дочь, — это чтение вместе с матерью «большой книги без
картинок». (И это демонстрирует, как точна в передаче деталей Map:
книга «без картинок» в восприятии ребенка означает
бесконечную скуку.) Не менее показательны и методы воспитания
приставленной к Алине англичанки мисс Уиттон, которая
предпочитала сечение розгами всем другим способам воздействия.
Недаром Алина в представляющейся ей сцене наказания видит себя
«маленькой и ничтожной, рабой и ребенком, любовницей и
сестрой». Она словно репетирует эту сцену, «задыхаясь от волнения,
улыбаясь блаженно, страдальчески и бессмысленно, с пылающей
головой, губами, закрытыми глазами, в позе разложенной перед
наказанием девочки» (Там же: 143; курсив мой. — М.М.).
Но еще более страшным становится обвинение костелу,
провоцирующему и благословляющему женское подчинение,
обвинение, которое раньше было немыслимо в устах Анны
Map, беспрекословно уверовавшей в правду католичества! Это
обвинение между строк ясно прочитывается в сцене исповеди,
на которую все-таки решилась Алина Рушиц (хотя и кается она,
как не преминула сообщить писательница, «с увлечением», а
идя в костел, опускает «густую вуаль, как перед свиданием»
(Там же: 130, 131) . Но всё же это не повод к тому, чтобы,
«разглядывая эту молодую изящную женщину, нежно пахнущую
вербеной, красиво закутанную в дорогие меха», «задыхаться от
ненависти», «от бешенства <...> проглатывать слова, произнося
оскорбительные прозвища», «язвить, браниться, насмехаться,
выплескивать в ее лицо ее же признания, подчеркнутые, утро-
енно-безобразные» (Там же: 131), как это делает ксёндз. По
сути, он во всем оправдывает мучителя Алины, считая даже,
что тот недостаточно изобретателен в своих пытках, и
благословляет его на подобные «деяния»: «Да, да, всех распутниц
нужно сечь, гнать, унижать, выставлять к позорному столбу,
обрекать на голодную смерть, заточение, вечный позор...»
«Благодари Бога», обращается он к Алине,
за розги от соблазнителя... Проси, жди их... В любви вместо
сладости, позорного пира плоти, вместо роскоши чувств ты нашла унижение,
слезы, позор, боль. Терпи, смиряйся, кайся... Ползай на коленях перед
своим соблазнителем... Не смей вытереть плевков с лица... Ты сама
гналась за ним... Ты совратила его, искусила и сама бесстыдно влезла в его
231
кровать. Я требую, чтобы ты снова попросила у него розог... снова... что?
Тридцать, сорок розог... до крови, до потери сознания... (Там же: 131—132;
курсив мой. — М.М.).
Так становится очевидным, что на страже садистических
интересов мужчины стоит авторитет Церкви, свято
почитаемый в свою очередь обществом и самой Анной Map, и
убеждение, что Церковь сама склонна во всем и всегда винить
женщину и оправдывать мужчину. Недаром ксёндз убежден в
справедливости своей «расправы» над прихожанкой и уверен, что
действовал в соответствии со словом Божиим. «Эта
распутница еще не совсем во власти Сатаны... Милосердие Бога
бесконечно», — думает он (Там же: 132). Поэтому можно сделать
вывод, что вопрос о причинах склонности женщины к
истязаниям остается в произведениях писательницы открытым и не
столь однозначно решаемым, как это принято думать.
Тем не менее очевидно, что Map действительно глубоко
проникла в тайны женской психологии, обнаружив удивительную
способность женщины получать чувственное наслаждение
даже от боли и, несмотря на боль, трансформировать болевые
ощущения в радость и экстаз. Другое дело, что эти свойства
удивительно умело, в «свою пользу» обратили окружающие,
«приспособив» эти качества для удовлетворения собственных
потребностей и нужд, научившись ими манипулировать во вред их
носительницам.
Конечно, следует сказать отдельно и об ее открытиях
природы женского религиозного исступления, в котором особую
роль играет эстетическое начало. Именно переживание
красоты службы, убранства собора и т. п. становится источником
глубоких религиозных чувств женщины (характерно, что
многие героини этой писательницы испытывают даже сомнение в
истинности такого религиозного чувства, т. е. дают себе отчет
во «внебожественных» источниках его появления!). Не менее
важную роль играет и глубокое переживание собственной
греховности и способности к возрождению. Недаром любимым
образом-архетипом среди святых для героинь Анны Map
становится Мария Магдалина, восторг перед которой рождается,
как уверена писательница, еще в детстве. В рассказе «Бог» она
описывает, как маленькая девочка замирает от восторга,
слыша рассказ о падшей из Магдалы, которая смогла «целовать
ноги» Христа, когда «все смотрят и смеются» (Map 1917а: 87).
Map выстроила собственную женскую иерархию ценностей:
«<...> сначала она — грешница, а потом — святая, сначала любовь,
а потом — вера». Вот и спешит Алина Рушиц стать «прелюбодей-
232
кой и распутницей», потому что это «настоящий, «смертельный
грех», который «равняет ее с великими грешницами» (курсив
мой. — ММ.). В своем последнем романе Map глубоко
затронула тему гордыни, что, несомненно, сближает ее с традицией
русской литературы, идущей от Достоевского. Она вообще, как
кажется, поставила в своем последнем романе задачу
исследовать саму природу греха, его притягательности именно ввиду
того, что за ним должно следовать невыносимое по тяжести
искупление. И когда Алина решает изменить Генриху Шемиоту
с его сыном Юлием, она думает о «грехе, который бросил бы»
ее «ничком, в прах между двумя — небом и Генрихом», и о том,
что именно «Шемиот может потребовать» от нее «как
искупление» (Map 1918: 140). И Юлию она честно признается, что не
желает его как любовника, а только «жаждет» его «как грех,
тяжкий грех» (Там же: 138) перед его отцом. Впрочем, это не
помешало ей почувствовать, что «поцелуи Юлия
сладострастны по-иному», а писательнице отметить, что измена происходит
на той же постели «с занавесками лунного цвета», «и качание
цветущих деревьев за окном, и голубое небо, и щебет ласточек,
и солнце, и слезы, и тоска, и сладострастье греха среди
поцелуев и жадности рук» — те же самые (Там же: 140, 141). И всё же
то, что лишено мистических, острых, по-особому волнующих
переживаний, оставляет Алину равнодушной. Не случайно в
романе сцена первой близости Алины и Генриха, сцена,
которая должна была бы стать вершиной эротического волнения,
изображена довольно буднично. «Только боль поняла она в
тайне слияния. Оно показалось ей чрезвычайно простым,
чересчур физиологичным и менее всего мистическим» (Там же: 122).
Надо сказать, что не Map явилась первооткрывательницей
темы «жажды греха». Десятью годами раньше к ней
прикоснулась Л. Зиновьева-Аннибал. В уже упоминавшемся ее
«Трагическом зверинце» присутствовали и намеки на лесбийские
отношения между девочками в школе диаконис, и жгучая
сладость тайны унижения, боли, стыда, возникающих при одной
мысли о грядущем наказании. Героиня «Трагического
зверинца» маленькая Вера выступила даже в какой-то степени
совратительницей своего брата, заставив его в темноте чулана бить
себя. Таким образом, она и его и себя повязала общей тайной
сокровенной игры в мучителя и жертву. Но у Зиновьевой-Анни-
бал эти темы были даны пунктиром, можно сказать, потонули
в водовороте сложной философской проблематики сборника,
которая именно в целом оказалась принципиально новаторской.
Впервые в русской литературе ребенок был дан не как сосуд
233
непорочности и нравственной целостности и ценности, но душа
его предстала как поле битвы Дьявола и Бога. Поэтому
критика только ужасалась и вздыхала по поводу появившихся
откровений, не акцентируя отдельно внимания на выставленных на
всеобщее обозрение «пороках».
В центр же произведений эти проблемы поставила именно
Анна Map. Но, как и Зиновьева-Аннибал, она не ограничилась
описанием присущих женщине мазохистских интенций, а, как
было показано, ввела их в широкий круг религиозных и
философских размышлений. Однако глубина и основательность
исследования ею мазохистских «качеств» женщины были столь
неоспоримы, что позволили некоторым критикам сделать даже
предположение, что в этих-то самых «качествах» и кроется
психологическая причина распространения проституции. При этом
подчеркивалось, что писательница говорила не о каких-то
исключительных особах, а о женщинах самых обычных... В романе она
прямо заявляла, что, пытаясь найти образцы среди святых
женщин, ее героиня «оставляла в стороне мудрых и блестящих» и
интересовалась только теми, которые не писали сочинений, не
проповедовали Ватикану, не основывали монастырей и вообще не создавали
ничего необычайного. Они только любили, только страдали, только
подчинялись (Там же: 37).
В этом же романе бросается в глаза символико-эротический
подтекст даже описаний природы. Языческая пышность
окружающего мира возникает всякий раз, когда мы видим героиню
на прогулке. «Дорога, по которой шла Алина, вела между
двумя рядами старых акаций. Глубокие канавы наполнились
травой, ромашками, незабудками, колокольчиками и лютиками.
Развалившийся плетень скрылся под густой сеткой темно-синих
и лиловых вьюнков. <...> Великолепные, блестящие ужи, чуть-
чуть шевеля головкой и язычком, грелись на лопухах. При
шорохе <...> шагов они соскальзывали в траву и исчезали,
задевая былинки. Хотелось взять в руки чудесных, ярко-зеленых
ящериц, до того они выглядели нарядными и милыми.
Маленькие птички порхали, щебетали, дрались и любили друг друга в
кустарниках» (Там же: 53). Можно констатировать несомненное
усиление эротической концентрированности пейзажей. Если
первое описание сада подчеркнуто нейтрально:
Правая сторона ушла под абрикосы, сливы, вишни, яблоки; на левой
росли акации, кусты шиповника, сирени, жасмина и бесчисленное
количество роз. Аллея из молодых подрезанных туй одним концом упиралась
в дом, а другим — в группу старых каштанов. Там стояла каменная
скамья и каменный круглый стол, —
234
то дальнейшее «знакомство» с садом нацелено на создание
визуальных образов определенного плана. Они уже очевидно
чувственны, полны эротического подтекста:
Маленькие площадки засеяли крупными анютиными глазками, словно
вырезанными из черного бархата с неожиданно голубо-золотым глазком
посередине. Эти хрупкие драгоценности, упавшие с неба, были приколоты
к земле на коротеньких стебельках, как бы неотделимы от нее. Вокруг них
выросли и качались нарциссы, белые, душистые звезды, такие нежные, что,
казалось, они должны были завянуть при первом колебании ветра. И когда
Алина вдохнула их пряный, сладкий, чуть-чуть удушливый запах, она
ощутила трепет, дрожь ожидания, волнение, как перед объятием (Там же: 51).
Идиллический пейзаж возникает в романе лишь однажды
как намек на возможность иных — мягких, человечных —
отношений между Алиной и ее возлюбленным.
Ах, какой это был чудесный осенний день — прозрачный, теплый,
тихий, весь продушенный нежным запахом влажной земли, гниющих
листьев, не то сухих плодов, не то каких-то других, исключительно осенних
растений. Они увидели совсем зеленую птицу, медленно перелетавшую с
дерево на дерево, словно заблудившуюся из сказочной страны. Они увидели
снова молодого орла, низко-низко кружившегося и высматривавшего
добычу. Они повстречали пару ослят, бродивших между кустарниками.
Но описание завершается эпизодом, призванным вернуть
героиню к действительности, пробудить от радужного сна. В
конце прогулки Алина и Генрих Шемиот
натолкнулись на крестьянина, несшего две огромные рыбы <...>. Когда,
запыхавшийся и потный, он вынул их, чтобы показать Шемиоту, рыбы
еще вздрагивали. Они были великолепны, отливая на солнце
перламутром, словно выточенные из серебра с чернью, с алыми жабрами.
Восхищенная Алина засмеялась. Потом ей стало жутко видеть эти
вздрагивания, судороги, пляску в воздухе, и она с грустью подумала, что сама она
очень похожа на рыбу, задыхающуюся в руках Шемиота (Там же: 121).
Религиозный контекст эротических переживаний составляет и
особенность дара знаменитой «ведьмы» Ренаты — Нины
Петровской (см.: Петровская 1989; Петровская 1990; Белый 1993; Гарет-
то 1989; Гроссман 1994; Линте 1998). Подавляющее большинство
ее рассказов написано от лица мужчины и, по сути, рассказывает
или, по крайней мере, претендует на рассказ о мужских любовных
переживаниях. Этот аспект, может быть, формально сближает ее
с Зинаидой Гиппиус, хотя на самом деле идейно-эстетические
задачи у этих писательниц были принципиально различны. Задачей
Петровской, как думается, было желание вдохнуть в душу
мужчины то представление об идеальной любви, которым обладала
она сама и которое считала наиболее характерным для женщины.
235
Проза Петровской — пример настойчивых попыток
расширения горизонта женской прозы. Даже уже упоминавшийся
прием — герой-мужчина — может быть рассмотрен как одна из
этих попыток. Но она, имевшая прекрасный биографический
материал для воссоздания всевозможных переливов любовного
чувства (ее бурная личная жизнь была притчей во языцех в
литературных кругах), в своем творчестве предпочитала обращаться
к более глобальным, как ей представлялось, вопросам.
Исключительно теме любви посвящен сборник 1908 года «Sanctus amor» (из
10 рассказов), который создавался под впечатлением разрыва
Петровской с В. Брюсовым. И именно его поэт оценил несколько
высокомерно на «три с плюсом». Но любовная тематика
осложнена в рассказах сборника проблемами экзистенциального
характера: это и поиски идеала, путей избавления от душевной
сумятицы и житейской маеты, надежды на всепрощение.
Безусловно, к ним в высшей степени приложима характеристика
личности писательницы, данная Брюсовым: «У тебя душа самобытная,
у тебя оригинальный, свой взгляд на всё, у тебя острая, меткая,
тонкая наблюдательность, у тебя понимание стиля» (ЛН 1976:
773).
Петровская выстраивала многослойные мизансцены, где на
первом плане двигались ее персонажи, а далее возникали
непроницаемые глубины, изредка взрываемые потоками света.
Движение фабулы разлагалось, по словам А. Белого,
на механику обыденности и механику любовного священнодействия.
Герои и героини рассказов ходят как манекены, опьяненные любовью
<...>. Все герои рассказов носят одно лицо, и героини тоже. Личность их
испаряется (Весы 1908: 91).
Петровскую действительно не интересовал внутренний мир
ее персонажей. Ей было важно передать свои собственные
мысли, ощущения, переживания. Поэтому ее герои и героини
мыслят и выражают свои мысли и чувства совершенно одинаковым
образом. И это происходит не от неумения, а в результате
исполнения четко поставленной задачи. Писательнице необходимо
вывернуть наизнанку свою душу, перелить в слова и краски свой
внутренний мир. Но при этом она не боится вместо героев
«подставлять» кукол, которые произносят ничего не значащие
фразы, механически совершают обезличенные действия. В ее
рассказах больший вес приобретают фон, природа, пейзаж, время суток,
движение теней, ритм фразы, повторы, т. е. всё то, что способно
как бы помимо, а не через психологию героев выразигь
мучающие автора проблемы.
236
Писательница смотрит на мир из глубин Космоса, который
и ассоциируется у нее с ее собственной душой. На серебристо-
ледяном фоне безудержных пространств ставились ею
религиозные вопросы, отчаянные и неразрешимые. Вот откуда такие
зияющие провалы, клубы туманов и еле пробивающийся свет.
И уход в бездну начинает просвечивать эротическим слиянием.
Такова концовка рассказа «За гранью»:
Годы идут. Хаос бушует и бьется вокруг...
И есть у меня только одна надежда, что смерть милосерднее жизни,
что в тот миг, когда спадут цепи земли, Единый сжалится надо мной, не
пошлет одиноко скитаться во тьме холодных пространств, а сольет меня
с той сладковейной тишиной, где потонет навеки моя усталая душа
(Петровская 1990: 217).
Рассказ «Последняя ночь» — это ожидание прихода
Спасителя, сопровождаемое нарастанием экстатического состояния,
приводящего к самоубийству, которое обещает наконец
сладостное освобождение от бренности плоти и слияние в духе со
Всемогущим.
Не уходи! Я твой...
Там на столе за книгами есть блестящий холодный предмет.
Я приложу его к виску. Порвется слабая земная нить. Снопы света
ворвутся
В мозг. Белые крылья дрогнут за плечами. Рухнут в бездонность тяжкие
стены...
Тогда из тьмы как молния сверкнет Твой светозарный белоогненный
лик.
Рванется навстречу освобожденная душа...
И мы будем едино — Ты во мне и я в Тебе...
Я твой!.. Иду!.. (Там же: 221).
Нельзя не заметить эротического наполнения отрывка. Речь
идет не столько о духовном слиянии с Божественным, сколько
о вполне физическом растворении друг в друге любящих. На
это содержится намек в посвящении рассказа Андрею Белому,
бывшему в 1903 году возлюбленным Петровской. Об этом
говорит и нарастание кроваво-алого тона страсти, сокрушающей
духовный настрой: «Огнем необоримого волнения горит мое
тело. Оно отяжелело, всё громадное, горячее <...>. А! Это —
тело! Это кровь поет свои пьяные песни...» (Там же: 220—221).
Так писательница начинала разрабатывать ту конкретику
экспрессивного обнажения внутреннего мира в его таинственных
первоосновах, впрямую соприкасавшихся с эротическим
уровнем подсознания, на которую оказалась способна женская
проза начала XX века.
237
Как мы видим, «экспансия» женского творчества в области
«эротических обретений» литературы Серебряного века
проходила болезненно, неравномерно. (О «ролевом месте» женщины,
простертой между «заботой» и «творчеством», см.: Энгель 1994.)
Результаты подобных «женских жизнедействий» были
различны. Однако к этому времени в женщинах накопилась столь
значительная энергия творческого порыва, требовавшая выхода, что
препятствием в данном процессе не могла служить уже никакая
субстантированная социумная стратификация. И думается, что
вдумчивое прочтение «женской прозы» может опровергнуть
знаменитое скептическое отношение Розанова к феминным
инициативам в художественной области. Как известно, он считал,
что «она (писательница. — М.М.) больше задумывается, чем
надумывает, и предпочитает больше грезить, нежели видеть»
(Розанов 2003: 83; об этом также см.: Энгелынтейн 1996).
Мы же утверждаем: писательницы Серебряного века многое
смогли увидеть в поистине первозданной ясности, осмыслить и
претворить в своих работах. И этому способствовала в свою
очередь их соматическая идентичность (в терминологии Ирины Бы-
ховской, см.: Быховская 2000), послужившая своего рода
проводником-инструментом для освоения нового (эротического)
художественного пространства (см. интересные размышления на эту
тему: Найман 1997; Тернер 1991; Сулейман 1986; Попкин 1993).
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Астахов 1916 — Астахов М. Вершины бесстыдства//Московские
ведомости. 1916. 14 июля.
Белый 1993 — Белый А. Письма к Нине Петровской // Минувшее.
М.; Париж, 1993. Вып. 13. С. 197-214.
Блок 1962 — Блок А. Собр. соч.: В восьми томах. М.; Л., 1962. Т. 5.
Богомолов 1996 — Богомолов H.A. «Мы два грозой зажженные
ствола...»: Эротический дискурс в русском модернизме // Анти-мир
русской культуры: Язык, фольклор, литература. М., 1996. С. 309—336.
Богомолов 1999 — Богомолов НА. Русская литература начала XX века
и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999.
Быховская 2000 — Быховская ИМ. Homo Somatic os: Аксиология
человеческого тела. М., 2000.
Весы 1904 — Зиновьева-Аннибал А. [Рецензия на изд.: Leblanc
Georgette. Le choix de la vie. Paris, 1904] //Весы 1904. № 8.
Весы 1908 — Белый A. [Рецензия на изд.: Петровская Нина.
Sanctus amor] //Весы. 1908. № 3.
Гаретто 1989 — Гаретто Е. Жизнь и смерть Нины Петровской //
Минувшее. М.; Париж, 1989. Вып. 8. С. 7—16.
238
Грачева 1996 — Грачева A.M. «Жизнетворчество» Анны Map // Лица.
М.; СПб, 1996. Вып. 7. С. 56-76.
Городецкий 1908 — Городецкий С. Огонь за решеткой // Золотое
руно. 1908. № 3-4.
Гроссман 1994 — Grossman, J.D. Valéry Briusov and Nina Petrtovskaia:
Clashing Models of Life in Art// Creating life: The Aesthetic Utopia of Russian
Modernism/Ed. Papemo, I.A., Grossman, J.D. Stanford, 1994. P. 122-151.
Зиновьева-Аннибал 1999 — Зиновьева-Аннибал Л. Тридцать три
урода. М, 1999.
ИРЛИ - ИРЛИ. Ф. 629. Ед. хр. 25. Л. 8.
Коллонтай 1913 — Коллонтай А. Новая женщина // Современный
мир. 1913. № 9. С. 151-185.
Линте 1998 — Linthe, M. Nina Petrovskaia — Autorinnenschaft
zwischen Symbolismus und Emigration//Wiener Slawistischer Almanach. 1998.
Vol. 42. P. 75-99.
ЛН 1976 — Валерий Брюсов. M., 1976. (Литературное наследство.
Т. 85).
Map 1917а — Map Анна. Идущие мимо. Изд. 2-е. М., 1917.
Map 19176 — Map Анна. Юлия Свирская//Журнал журналов. 1917.
№ 12. С. 9-10.
Map 1918 — Map Анна. Женщина на кресте. М., 1918.
Маффезоли 1993 — Maffesoli Michel. The Shadow of Dionysus: A
Contribution to the Sociology of the Orgy / Tr. from the Spanish by Cindy Linse
and Mary Kristina Palmquist, Albany: State University of New York Press, 1993.
Найман 1997 — Naiman E. The Creation of the Collective Body:
Utopia, Misogyny, and the Russian philosophical Tradition//Sex in Public:
The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton, 1997. P. 27—79.
OP РГБ - OP РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 3.
Петровская 1989 — Петровская H. Воспоминания//Минувшее. М.;
Париж, 1989. Вып. 8. С. 17-138.
Петровская 1990 — Петровская П. За гранью; Последняя ночь//
Юлия, или Встречи под Новодевичьим: Московская романтическая
повесть конца XIX - начала XX века. М., 1990. С. 213-221.
Попкин 1993 — Popkin С. Narrative Desire and Discretion // Sexuality and
Body in Russian Culture /J.T. Costlow (et all. eds.). Stanford, 1993. P. 139-156.
Розанов 2003 — Розанов В. Около народной души. М., 2003.
Рудич 1913 - Рудич В. Ступени. СПб., 1913.
Савинич 1916 — Савинич Б. [Рецензия на изд.:] Анна Map.
Женщина на кресте // Утро России. 1916. 9 июля. № 190.
Санжарь 1996 — Санжарь Н.Д. «"Задирать нос выше мозга", или
"Почему люди такие дряни?"»: Письма Н.Д. Санжарь к A.C. Суворину,
Вяч.И. Иванову, A.A. Блоку и A.C. Серафимовичу//Philologica. 1996.
Вып. 5-7. С. 313-358.
Санжарь 1996 — Санжарь Н.Д. Письма Н.Д. Санжарь к A.A.
Блоку//Лица. 1996. Вып. 7. С. 79-111.
Столица 1917 — Столица Л. Фиалки на гроб Анны Map //Женское
дело. 1917. № 6-7.
239
Сулейман 1986 — Female Body in Western Culture / Ed. Suleiman,
S.R. Harvard, 1986.
Фишер 1979 — Fischer S. Body Experience in Fantasy and Behavior.
N.Y., 1979.
Тернер 1991 — Turner В.S. Recent Developments in the Theory of the
Body // The Body: Social Process and Cultural Theory / M. Featherstone
(et. all. eds.). L, 1991. P. 2-38.
Шишкин 1994 — Shishkin A. Le banquet platonicien et soufi à la «Tour»
pétersbourgeoise: Berdiaev et Viacheslav Ivanov// Cahiers du Monde Russe.
Vol. 35. № 1—2: Une maitre de sagesse au XXe siècle: Viacheslav Ivanov et
son temps. 1994.
Энтель 1994 — Engel В.A. Between the Fields and the City: Women.
Work and Family in Russia (1861-1914). Cambridge, 1994.
Энтелынтейн 1996 — Энгелъштейн Л Ключи счастья: Секс и поиски
путей обновления России на рубеже XIX—XX веков. М., 1996.
Денис Г. Иоффе
К ВОПРОСУ
ОБ ЭРОТИЧЕСКОМ СУБСТРАТЕ
ФЕНОМЕНА МОДЕРНИСТСКОГО
ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА:
СЛУЧАИ БЛОКА И ХАРМСА
Моделирование текстов жизни
и текстов поэзии1
Французы называют этот запах женщины
красивым словом cassolete (что означает флакон духов).
Из современного популярного руководства
для начинающих любовников.
I
Особая зависимость Даниила Хармса от топики тактильной
женской сексуальности, от женского благосклонного внимания
сегодня стала, судя по всему, неким общим местом в
аналитической реализации его «личного образа», в воссоздании его в
нашем общем исследовательском и читательском сознании.
Впору повторить вслед за Хармсовой второй (и последней)
женой Мариной Малич-Дурново:
Что составляло для него (Хармса. — Д.И.) главный интерес? Чем он
внутренне жил, помимо писаний? Я думаю, очень важную роль в его жизни
играла область сексуального. Судя по тому, что я видела, это было так. У него,
по-моему, было что-то неладное с сексом. И с этой спал и с той <...>.
Бесконечные романы. И один, и другой, и третий, и четвертый... бесконечные!2
Мы знаем, что это отнюдь не случайное высказывание
Марины. Она не устает повторять вполне созвучные этому вещи:
Я в конце концов устала от всех этих непонятных мне штук. От всех
этих бесконечных увлечений, романов, когда он сходился буквально со
всеми женщинами, которых знал. Это было, я думаю, даже как-то
бессмысленно, ненормально*.
Этот мотив некоей стыдливой «ненормальности» (на почве
гиперактивной эротической зависимости от всё новых женских ге-
16 Заказ №К-753!
241
нитальных услад) целокупно-сексуального бытия Даниила
Ивановича может быть (при желании) вычленен, достаточно
недвусмысленно, из доступных ныне «квазизвуковых» воспоминаний
Марины Малич4.
Здесь также надо отметить, что сексуальная константа
жизни и творчества рассматриваемых нами авторов, относящихся
как к русскому символизму, так и к ОБЭРИУ, была в своё
время детально исследована в пионерской штудии H.A.
Богомолова «Мы два грозой зажженные ствола...».
Нас же в последующем размышлении о некоторых аспектах
творчества Хармса и Блока будет интересовать отнюдь не
формирование и описание Общей Теории Сексуальности
рассматриваемых авторов, но лишь один специфический мотив, лишь одно
примечательное свойство «жизненно-творческой» поэтики как
Хармса (в выборе для этого Д.И.Х. сомнений быть не должно) —
так, по нашему мнению, и Блока. Мы заранее просим наиболее
чувствительных в этом вопросе коллег набраться изрядного запаса
толерантности и терпения, ибо речь пойдет о материях
наиделикатнейших, в частности о таких, которые «академическая бумага»
терпит с изрядным трудом5. Темой нижеизложенного является
эксплицитная тяга Даниила Хармса (и, как мы попытаемся
показать далее, — А. Блока) к женским гениталиям — а в частности, к
небольшим женским органам, источающим необыкновенно
притягательный для Хармса (на вкус и на запах) «любовный сок», ту
самую загадочную «дамскую влагу» — клиторно-вагинальную
секрецию, которая выделяется у женщин, находящихся в
сексуально-возбужденном состоянии. (Сексологи-химики утверждают, что
эта субстанция называется бартолиновой секрецией. Выделяется,
соответственно, из бартолиновых же желез.)
Упоминания об этой Хармсовой обонятелъно-вкусовой
страсти в его текстах воистину многочисленны. Приведем лишь
наиболее характерные из них6.
Здравствуй. Ты снова тут.
Садись пожалуйста на эту
Атаманку,
Возьми цветочек со стола и погляди вокруг:
<...> Эстер: А что ты сделаешь со мной?
Тебе, creboy,
Раздвину ноги
И суну голову туда
И потечет моих желаний
Эстерки длинная вода.
(«Цирк Шардам». С. 171)
242
В.H. Сажин датирует это стихотворение февралем 1928 года7.
<...> из руки перо валилось
на меня жена садилась
Я отпихивал бумагу
Цаловал свою жену
Предо мной сидящу нагу
Соблюдая тишину.
Цаловал жену я в бок
В шею в грудь и под живот
Прямо чмокал между ног
Где любовный сок течет
А жена меня стыдливо
Обнимала теплой ляжкой
И в лицо мне прямо лила
Сок любовный как из фляжки
Я стонал от нежной страсти
И глотал тягучий сок
И жена стонала вместе
Утирая слизи с ног.
И прижав к моим губам
Две трепещущие губки
Изгибалась пополам
От стыда скрываясь в юбке.
По щекам моим бежали
Струйки нежные стократы
И по комнате летали
Женских ласок ароматы.
(Начало января 1930.
Цирк Шардам. С. 265-266).
Несколько избыточно навязчиво, на наш взгляд, увязывает
В.Н. Сажин эротическую тематику, явленную в этом
стихотворении, с чтением гностической и оккультной литературы,
которая могла быть на тот момент в распоряжении Хармса (см.:
Хармс Д. ПСС. Т. 1. С. 368-369).
Или другой весьма известный стих, детально
рассматриваемый, в частности, в упоминавшейся выше статье Н. Богомолова:
Ты шьешь. Но это ерунда.
Мне нравится твоя манда
Она влажна и сильно пахнет.
Иной посмотрит, вскрикнет, ахнет
И убежит, зажав свой нос.
И вытирая влагу с рук
Вернется ль он. Еще вопрос
Ничто не делается вдруг.
243
А мне твой сок сплошная радость.
Ты думаешь, что это гадость,
А я готов твою пизду лизать, лизать
Без передышки
И слизь глотать до появления отрыжки.
(1931. Цирк Шардам. С. 435)
Знает ли русская литература более эксплицитное
поэтическое описание куннгиингуса? Едва ли.
К этому фрагменту примыкает и другой:
Почто сидишь
и на меня нисколько не глядишь
а я значок поставив на бумаге
лишь о твоей мечтаю влаге
ужель затронул вдруг тебя мой взгляд манящий
ужели страсть в твою проникла грудь
и ты глядишь теперь сюда всё чаще
так поскорей же милая моею будь.
(1931. Там же)
Много у Хармса и разрозненных фрагментов, по духу
подходящих к теме нашего размышления, — например, из
стихотворения «Сладострастная торговка»:
И половых приборов части
нагой торговки блещут влагой,
и ты, наполнив грудь отвагой <...>.
(Там же. С. 506)
Из комедии в трех частях «Фома Бобров и его супруга».
Бабушка:...
А жена его просто неприличная дама. Дома ходит совершенно голой
и даже меня, старуху, не стесняется. Прикроет неприличное место
ладонью, так и ходит. А потом этой рукой за обедом хлеб трогает. Просто
смотреть противно. Думает, что если она молодая да красивая, так уж ей
всё можно. А сама, неряха, у себя, где полагается, никогда как следует не
вымоет. Я, говорит, люблю, чтобы от женщины женщиной пахло. Я, как
она придет, так сразу баночку с одеколоном к носу. Может быть,
мужчинам это приятно, а меня, уж извините, увольте от этого. Такая
бесстыдница! Ходит голой без малейшего стеснения. А когда сидит, то даже ноги
как следует не сожмет вместе, так что всё напоказ. А там у нее ну
просто всегда мокро. Так другой раз и течет. Скажешь ей: ты бы хоть пошла
да вымылась, а она говорит: ну, там не надо часто мыть, и возьмет
платочком просто вытрет. Это еще хорошо, если платочком, а то и просто
рукой. Только еще хуже размажет. Я никогда ей руки не подаю, у нее
вечно от рук неприлично пахнет. И грудь у нее неприличная. Правда,
очень красивая и упругая, но такая большая, что, по-моему, просто
неприлично (1933 год. «Цирк Шардам». С. 513).
244
В этом пространном физиологическом нарративе Хармс,
как нетрудно заметить, сущностно отождествляет сам себя с
бабушкой-старухой, то бишь «позволяет» бабушкиным глазам
и рецепторам запаха крайне заинтересованно и пристрастно
«замечать» всё то, что он сам с удовольствием видит и
чувствует, но не хочет по каким-то причинам (возможно, ради
пресловутого шкловского эффекта «остранения») описать от первого
лица. (Следует также, вероятно, обратить внимание на то, что
происходит это всё «не просто остраненно», но как
совершенно экстремальное остранение: он смотрит на всё это как бы
старухиным взглядом, то есть диаметрально противоположным
своему собственному: пол, возраст — и ненависть к старухам
как таковая.)
Марине
Куда Марина взор лукавый
Ты направляешь в этот миг?
Зачем девической забавой
Меня зовешь уйти от книг,
Оставить стол, перо, бумагу
И в ноги пасть перед тобой,
И пить твою младую влагу
И грудь придерживать рукой.
(1935. ПСС. Т. 1.С. 277)
Но художник усадил натурщицу на стол и раздвинул ее ноги. Девица
почти не сопротивлялась и только закрыла лицо руками. Амонова и
Страхова сказали, что прежде следовало бы девицу отвести в ванну и вымыть ей
между ног, а то нюхать подобные ароматы просто противно. Девица
хотела вскочить, но художник удержал ее и просил, не обращая внимания,
сидеть так, как он ее посадил. Девица, не зная, что ей делать, села обратно.
Художник и художницы расселись по своим местам и начали срисовывать
натурщицу. Петрова сказала, что натурщица очень соблазнительная женщина,
но Страхова и Амонова заявили, что она слишком полна и неприлична. Зо-
лотогромов сказал, что это и делает её соблазнительной, но Страхова
сказала, что это просто противно, а вовсе не соблазнительно. «Посмотрите, —
сказала Страхова. — Фи! Из неё так и льется на скатерть. Чего уж тут
соблазнительного, когда я отсюда слышу, как от нее пахнет». Петрова сказала, что
это показывает только ее женскую силу. Абельфар покраснела и
согласилась. Амонова сказала, что она ничего подобного не видела, что надо
дойти до высшей точки возбуждения и то так не польётся, как у этой девицы.
Петрова сказала, что, глядя на это, можно и самой возбудиться и что Золо-
тогромов, должно быть, уже возбужден. Золотогромов сознался, что
девица сильно на него действует. Абельфар сидела красная и тяжело дышала.
«Однако, воздух в комнате делается невыносимым!» — сказала Страхова.
Абельфар ерзала на стуле, потом вскочила и вышла из комнаты. «Вот, —
сказала Петрова, — вы видите результат женской соблазнительности. Это
245
действует даже на дам. Абельфар пошла поправиться. Чувствую, что и мне
скоро придется сделать то же самое». «Вот, — сказала Амонова, — наше
преимущество худеньких женщин. У нас всегда всё в порядке. А вы и
Абельфар пышные дамочки, и вам приходится много следить за собой».
«Однако, — сказал Золотогромов, — пышность и некоторая нечистоплотность
именно и ценится в женщине!» (Середина 1930-х. «Цирк Шардам». С. 674—675).
Ва-ва-ва! Где та баба, которая сидела вот тут, на этом кресле?
— Почем вы знаете, что тут сидела баба?
— Знаю, потому, что от кресла пахнет бабой. [Нюхает кресло.)
— Тут сидела молодая дама, а теперь она ушла в свою комнату
перебирать гардероб (Август 1936. Там же. С. 696).
И далее:
Что такое цветы? У женщин между ног пахнет значительно лучше.
То и то природа, а потому никто не смеет возмущаться моим словом
(Вторая половина 1930-х. Там же. С. 849).
Лекция
— Я думаю так: к женщине надо подкатываться снизу. Женщины это
любят и только делают вид, что они этого не любят. <...>
— Женщина устроена так, что она вся мягкая и влажная. <...>
— Если женщину понюхать. <...>
— Трах! Трах! — сыпались на Пушкова удары.
— Бабий хвост! — кричал Пушков, увертываясь от ударов. — Голая
монашка <...> (12 августа 1940. Там же. С. 864).
Интересно, а что, собственно, Хармс имеет в виду под
выражением «бабий хвост»? Вероятно, народное выражение,
отсылающее к женскому органу вообще, также «просится» сюда:
«мокрохвостка» и «вертихвостка»; в последнем случае,
впрочем, уже «происходит», в некотором смысле, «чистый Батай».
Неужели Хармс и здесь имел в виду женский клитор? (Еще
один женский «хвостик» фигурирует в черновом варианте
стихотворения, посвященного жене художника П.И. Соколова —
Галине Николаевне Леман-Соколовой:
<...> вы проскачете Галина
сидя в бане возле нас
ваша круглая долина
в окруженье малых глаз
ваши свежие ланиты
нам напомнят молоко
зубы мелкие разбиты
друг от друга далеко
ваш Галина хвостик вкусный
в твердый кинем подстаканник <...>
(Там же. С. 951)
246
Разумеется, этот «вкусный хвостик» Галины, по всей
видимости, лишь не более, чем шуточный элемент, не несущий
какой-либо специфической физиологической нагрузки... И всё же
смысловой ряд то и дело встречающихся «женских хвостов» не
может не взалкать некой концептуальной интерпретации. Мы
не можем настаивать именно на «клиторском» варианте
подтекста, но отрицать возможность «такого» прочтения у нас опять
же нет никаких оснований.)
Или, изрядно фантазируя, можно представить для
замещения топики «женского хвоста» некий длящийся, тянущийся
шлейф одора, связанный с возбужденно-женскими
вагинальными выделениями, которые умеет обонять Хармс?
Я не стал затыкать ушей. Все заткнули, а я один не заткнул и потому
я один всё слышал <...>.
Вот пробежал трамвайный кондуктор, за ним — пожилая дама с
лопатой в зубах. Кто-то сказал: «Вероятно, из-под кресла...» Голая еврейская
девушка раздвигает ножки и выливает на свои половые органы из чашки
молоко. Молоко стекает в глубокую столовую тарелку. Из тарелки
молоко переливают обратно в чашку и предлагают мне выпить. Я пью; от
молока пахнет сыром... Голая еврейская девушка сидит передо мной с
раздвинутыми ногами, ее половые органы выпачканы в молоке. Она
наклоняется вперед и смотрит на свои половые органы. Из ее половых органов
начинает течь прозрачная и тягучая жидкость... (1940. Там же. С. 880).
Характерен комментарий В.Н. Сажина к этому пассажу:
«"Голая еврейская девушка"; "из чашки молоко" — действия,
описываемые в этом фрагменте, идентифицируются с микве — священным
обрядом очищения половых органов женщины у евреев».
Ценя В.Н. Сажина как знатока еврейской традиции, тем не
менее важно заметить, что:
• обряд микве никак не может происходить при участии
молока, заменяющего собой воду;
• (наблюдающий нарратор = автор-)мужчина ни в коем
случае не может присутствовать на подобной, табуированной
для мужского взгляда, церемонии;
• в микве — небольшой ванне — происходит омывание-купа-
ние всего тела женщины, а не только каких-то отдельных
его частей;
• обычно обряд микве есть лишь прелюдия к церемонии хупы —
самого бракосочетания и призван не только «очистить
половые органы» per se, но в целом, магистрально инициировать
женщину для брака, подвергнув ее общей
символически-очистительной церемонии, где генитальная тема если и
акцентируется, то лишь в контексте избавления от «грязной сквер-
247
ны» и «нечистот», связанных с менструационным циклом:
рабанит, производящая омывание брачащихся женщин,
отнюдь не (целенаправленно) моет их партикулярные половые
органы [об этом см., в частности: Kaplan, A. Waters of Eden: An
Exploration of the Concept of mikvah: Renewal and Rebirth. New
York, 1976; а также ценный сборник, посвященный этой
проблеме: Women and Water: Menstruation in Jewish life and Law /
Rahel R. Wasserfall (ed.). Hanover (NH): University Press of New
England, 1999. Вместе с тем есть немало ивритоязычных работ
по теме, кои мы здесь не приводим, дабы не утяжелять взор
среднего хармсоведа, которого весьма трудно причислить к
заматерелым в боях гебраистам].
А. Кобринский (справедливо) критикует Сажина за
неточные комментарии, сам, однако, совершенно несвободен от порой
не менее проблематичных заявлений (см. его рецензию:
Кобринский A.A. [Рец. на кн.: Хармс Д. Цирк Шардам. СПб., 1999;
Хармс Д. Дней катыбр. М., 1999//Новая русская книга. № 3.
http:y^Www.gelman.ru/slava/nrk/nrk3/2^ Так, давая свое
определение концепту «микве», Кобринский пишет: «миква — бассейн
с проточной водой для ритуального омовения (и само
наименование этого омовения), используется как мужчинами, так и
женщинами <...>».
В плане распространенности мужского участия в данном
ритуальном действии хотелось бы все-таки, чтобы А. Кобринский
чуть подробнее остановился на, как он сообщает, практике
мужских купаний в микве. Или чуть выше Кобринский
замечает: «Слово "Шибейя!", завершающее текст "Все люди любят
деньги..." (с. 1096), Сажин переводит с иврита как "Проблема!",
тогда как правильно было бы переводить как "Что проблема!"
(или: "Что является проблемой!")». Здесь, конечно, критик
Сажина ближе к лингвистической «истине», но отчего бы не дать, раз
уж речь пошла о подобной конкретике нюансов, точную иврит-
скую транскрипцию этого слова (каковая бы звучала «ше бэайя»),
показав, кроме этого, и как это должно было бы выглядеть с
ивритским (rriOZ?) оригиналом. Да и правильный перевод от
этого не пострадал бы (глася: «что есть проблема»).
В свете всего этого мы не станем повторять вслед за В.Н. Са-
жиным, что описываемый нарратив однозначно
«идентифицируется» как микве (Цирк Шардам. С. 1097). Неизвестно
прежде всего, знал ли Хармс вообще о подобном обряде и его
деталях. Определенное сходство, возможно, и имеется: голая в в -
рей екая девушка + жидкость. Однако этого явно недостаточно
(не всякая голая еврейка, льющая себе между ног какую-либо
248
жидкость, должна непременно быть объявлена врачующейся).
Извинить скоропалительность «еврейски-ориентированных» ин-
терпретаторских выводов В.Н. Сажина может, вероятно,
национальность Хармсовой первой жены Эстер и, разумеется,
известный симпатический интерес, постоянно проявлявшийся поэтом к
окружавшим его евреям вообще8.
Из всего сказанного можно со вполне определенной ясностью
вычленить краеугольный ряд мотивов, наполняющих хармсов-
скую поэтику сексуального. Для многих (особенно для
вышеприведенных) текстов Хармса, так или иначе связанных с
сексуальной тематикой, характерен ряд специфических черт. В первую
очередь следует подчеркнуть, что доминирующее влечение
Хармса к женщине питалось почти исключительно
физиологическими особенностями женской вульвы. Именно дамское межножье
с необыкновенной силой привлекало воображение поэта. Здесь
у него доминировали преимущественно два рецептора:
обонятельный (запах) и вкусовой.
Хармсу (если судить по тем фрагментам, которые мы
привели выше) необыкновенно нравится обонять женские половые
органы, а также вкушать их текущую секрецию с помощью ласки
lingere9. Пресловутый «запах женщины» для Хармса — это в
значительной мере запах сексуально возбужденной женщины, запах
ее вагины — некий сигнал бытия и «силы» ее женственности per se.
Наше рассуждение о данных материях столь «откровенным» (и
кого-то, вероятно, шокирующим) языком оправдано любовным
дискурсом самого Хармса, где, как мы видели, фигурируют
достаточно некамуфлированные физиологические референции.
Подобное глубинно-физиологическое пристрастие к женскому
половому органону может быть найдено среди малоизвестных (и
малодоступных) стихов Брюсова и его товарища по ночным
борделям — Бальмонта10, а также и у некоторых других русских
поэтов Серебряного века.
Однако в качестве гипотетического старшего собрата
Хармса по гипертрофированному (крайне необычному) поэтическому
и жизненному пристрастию к женским гениталиям мы хотели
бы представить не их, но другого автора — «младшего»
символиста, а именно — A.A. Блока.
II
Вопрос о влиянии Блока на Хармса и его товарищей уже
поднимался, хотя и без достаточной деталировки11. Здесь самое
время концептуально оговориться: в случае с А. Блоком у нас будет
249
иметь место анализ совершенно иного уровня эксплификации
иконографического мотива. Блок, в отличие от Хармса, был
принужден типом своего характера — и отчасти типом времени, в
котором жил (последнее подразумевает также то, что Блок
печатался, а Хармс зачастую нет), — глубоко упрятывать свои
смысловые интенции, уходить в бесконечные двусмысленности и
квазисуггестивные аллюзивы. Это также объяснимо значительно
большей публичной оголенностью его стихов. Он не
маскировался «дураковатой» личиной «детского поэта». (Хочется также
добавить, что это была маскировка в целях элементарной личной
безопасности, а не только «карнавальное юродство». Кроме того,
это единственное, что, по сути, давало ему хлеб насущный.)
Поэтому для понимания того, что мы попытаемся увидеть
в одном специально выбранном для этой цели блоковском
тексте, нам понадобится гораздо большая исследовательская
осторожность и деликатность, как и несравненно больший кредит
реципиент-доверия. В отличие от Даниила Хармса, всё
называющего своими именами, Александр Блок, по своему
всегдашнему (жизненно-творческому) обычаю (ставшему воистину
притчею во языцех, связанному со словом «невыразимое» и
«несказанное»), пугливо бежит ясности, уплывает в болотные
топи собственных тягостных мечтаний.
Преемственности между Блоком и Хармсом не
наблюдается; типологического сходства в репрезентации и стилистике
этой репрезентации также, буде даже мы примем
предположение о наличии «клиторской темы» у Блока. Даниил Хармс
присутствует в нашем тексте во многом для того, чтобы живо и
однозначно продемонстрировать, что эта тема вообще
возможна и откровенно выражена в более или менее
хронологически близкий Блоку период. Вместе с тем следует
подчеркнуть, что разница между стилистикой и тематикой Блока и
Хармса весьма велика и видна невооруженным взглядом, она
не может (и не должна) быть проигнорирована, поэтому в
основу нашего исследования никак не может быть положен
постулат об их сущностном сходстве.
Стоит заметить, что для «обнаружения» в скрытом виде (у
Блока) столь шокирующего мотива нам потребовался автор (Хармс),
у которого этот мотив выражен весьма прямолинейно, — с тем
чтобы пронаблюдать возможные мотивные и смысловые
коннотации этого детально и пристально рассматриваемого нами
элемента.
Здесь также необходимо учитывать специфику жизнетвор-
ческой и литературной программы символистов, которая сегодня
250
столь плодотворно изучена в трудах З.Г. Минц, И.А. Паперно,
Ольги Матич, Дж.Д. Гроссман, Майкла Вахтеля, И. Мазинг-Де-
лич, A.B. Лаврова, Are Хансен-Леве, Б.Г. Розенталь, Дж. Малмста-
да и некоторых других. Кроме того, разумеется, следует отметить
и немецкоязычные схолии на ниве академического осмысления
понятия «жизнетворчество». Упомянем недавно опубликованную
интересную монографию (докторскую диссертацию, вышедшую
под водительством Ааге Хансен-Леве и Ренаты Деринг-Смирно-
вой) Дениэлы Риппл [Rippl D. Zhiznetvorchestvo oder die vor-schrift
des texts: Eine Untersuchung zur GescHechter-Ethik und Geschlechts-
Aesthetik in der Russischen Moderne. München, 1999) и сборник
трудов под концептуальной редактурой Шаммы Шахадат:
Lebenskunst — KunsÜeben. Жизнетворчество в русской культуре ХУШ—
XX вв. [Lebenschanen in der russischen Kultur vom 18—20.Jhd.] /Ed.
Seh. Schahadat. München, 1998, см. также итоговую монографию
исследовательницы: Idem. Das Leben zur Kunst machen Lebenskunst
in Russland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert y/ Theorie und Geschichte
der Literatur und der Schonen Künste. München: Wilhelm Fink Verlag,
2004. Bd. 108.
Общую проблематику наших размышлений следует ввести
в такую канву, которая могла бы предложить адекватный охват
неких общеконтекстуальных рефлексий, связанных с
исторически фиксированным — дошедшим до нас — феноменом
символистского жизнетворчества. Хотелось бы, помимо всего,
попытаться понять, что происходило в этой сферической жиз-
нетекстовой бытийственности, метаморфируя и переходя в
субстрат тех времен. Жизнь транскрибирована в текст,
реальность и ее постулат верно схвачены, распознаны и воплощены
в той или иной поэтике. В первую голову, вероятно, это
проявляло себя в ролевой игре «публичной issue», умением выйти в
заголовки, продать и преподать себя в беспрецедентном на
русском полюдье свете «богемной рампы». Жизнь обрела
зрителя как бы помимо себя самой. Автор-жизнетворец становится
внеположным по отношению к субстрату собственного текста,
выбираясь за скобки, становясь наблюдателем самого себя.
Греки были способны называть это словом Ek-stasis.
Валерий Брюсов может по праву считаться одним из
центральных и главнейших русских поэтических эротоманов.
Наиболее эксплицитнь1е его тексты проанализированы в свое время в
уже упоминавшейся статье H.A. Богомолова «Мы два грозой
зажженные ствола». В нашем контексте (в ракурсе предстоящего
ниже рассмотрения поэмы Блока) важны и некоторые другие его
стихотворения. Например, любопытный (особенно для темы на-
251
стоящей статьи) вирш «Фиалка», впервые опубликованный в
сборнике Емельянова-Коханского (без указания, впрочем, брк>
совского авторства):
Томимая засухой летней,
Фиалка в лесу погибала
И к небу с мольбою последней
Свои лепестки обращала...
По небу суровая туча
Без капли дождя проносилась,
И молния вспышкой могучей
Угрюмо по черни змеилась...
Но стало ей в роще зеленой
Цветок погибающий жалко,
И капельки влаги студеной
Упали над бедной фиалкой.
(Брюсов Валерий. Неизданное и несобранное / Сост. Василия Молодя-
кова. М., 1998. С. 5.)
К этому может примыкать брюсовское стихотворение 1908
года «Алая роза» (Василий Молодяков в своих лаконичных
комментариях упоминает имя Мирры Лохвицкой — довольно провока-
тивной писательницы тех лет, чьи строки были обращенны к
Бальмонту «Розой бледной, розой чайной воплоти меня, поэт!»):
Лаской тайной и усталой
Дай прощанье обмануть!
Розой полной, розой алой
Над моей мечтой побудь!
Я целую утомленно
В предвкушении тоски
Розы нежно наклоненной
Огневые лепестки.
Как пчела, вонзаю жало
В сладко пахнущий цветок,
Розы полной, розы алой
Выпиваю пряный сок.
Ночь плывет, уже сквозь шторы
Проступает трепет дня.
Близок страшный час, в который
Ты исчезнешь для меня.
Ах! Как мигов было мало!
Как был краток каждый миг!
К розе полной, к розе алой,
Упоенный, я приник.
252
Лепесток, другой и третий
Гаснет в жаркой ласке губ...
Ночь плывет. В холодном свете
Распростерта ты — как труп.
(Там же. С. 28)
Кажется, Брюсов, нимало не камуфлируясь, описал некий
эротическо-оральный акт, о природе которого можно вполне
недвусмысленно догадаться.
Этот мотив достигает своего апофеотического
кульминационного пика, поистине Гимна Куннгиингусу, в стихотворении
1910 года, озаглавленном «На пиру», привлекшем внимание
также и H.A. Богомолова:
Придвинься, девушка, на ложе:
Здесь мало места для двоих.
Приятна пальцам ощупь кожи
Твоей и пух волос твоих.
Кругом все розами венчанны,
Рабы разносят кубки вин...
Но я сквозь дым благоуханный
Впиваю аромат один.
Что розы? Запах их случаен
И горек аромат вина!
Но, вечный грешник, не раскаян,
Твой теплый запах пью до дна.
Что делит нас? — немного тканей!
Я слышу тела теплоту
Чрез них и яд благоуханий
Ловлю ноздрями на лету!
Предвижу: Август, мутный разум
Теряя, даст условный знак:
Померкнут факелы, и разом
Накроет залу дымный мрак.
О, не вопью ль тогда всем телом,
Руками, грудью, языком,
Всем существом похолоделым —
Что скрыто в запахе твоем.
Он, едкий, он, паляще-острый,
Войдет в мой рот, войдет в мой дух,
Мы будем сплетены, как сестры,
Единый трепет будет двух.
253
Вдохну и выпью аромат твой,
Упьюсь твоею влагой я...
Клянусь, клянусь великой клятвой:
Я — твой! Иль, может, я — твоя!
(Там же. С. 28-29)
Наверное, ни у кого не возникнет недоуменных вопросов: о
каком таком запахе говорит здесь Брюсов и что именно он нарра-
тивизирует в данном стихотворном тексте? (Даже у наиболее
стыдливых из нас — таких как З.Г. Минц или O.A. Кузнецова,
комментатор нового академического Собрания сочинений Блока.)
Всё меж тем относительно ясно. Брюсов воспел оральный
секс с «милой подругой», чья личность, конечно, может быть
темой для отдельных спекуляций, в которые мы на данном
этапе углубляться не решимся.
Характерно еще и то, что в процессе своего авторско-истори-
ческого развития Брюсов начинал всё больше отходить от
радикальных жизнетворческих представлений и воплощений, уступая
в этом отношении пальму первенства персонажам плана
Иванова и Белого. (Особняком мы оставляем загадочно-религиозную
фигуру опростившегося Александра Добролюбова и его
несчастной сестры — просто Марии.) Хотя в стратегическом смысле эта
константа жизнетворчества всегда была в определенной
степени актуальна для брюсовского текста. Вспомним спиритический
опыт, инвенции в любовность огненно-ангельской Ренаты, дамы,
разновременно объединившей в своем интимном лоне два таких
несхожих между собой органона, как Бальдр и Локи. Не станем
также забывать, что Петровская была той чуть ли не
единственной, если нам позволено столь вызывающе неделикатно судить
об этих матерях, женщиной, с которой был «моментально-
реальный плотский секс» у Андрея Белого. (О типе отношений
с «Асей» Тургеневой мы не можем распространяться слишком
подробно, вместе с тем топика «женских образных увлечений»
Андрея Белого полноценно исследована в целой серии статей
Моники Спивак, написанных как бы на «сходную» тему.)
В свое время Роман Гуль написал специальное эссе,
изданное в виде брошюры, увязывающее аморфную (квазиимпотент-
скую и чуть ли не «бестелесную») сексуальность автора
«Петербурга» с его литературой (см.: Гуль Р. Пол в творчестве. Берлин:
Манфред, 1923).
Тем не менее факт остается фактом: Любовь Дмитриевна
Блок, распустивши косу, по собственным воспоминаниям,
«выбежала раскрасневшись» из номера Белого, когда оба они
устыдились и у смерд елись нечаянной «радости плоти».
254
См. об этом релевантный «кусок» ее воспоминаний, впервые
полноценно опубликованный в pendant к интересной статье:
Муръянов М. Ф. Литературный дебют Александра Блока
(Стихи о «Голубиной книге»: текст, контекст и подтекст) // Philologica.
1996. Т. 3. № 5/7. С. 50-56.
Как бы там ни было, Нина Петровская оказалась несколько
более удачливой в деле вычленения сексуальных энергий
Андрея Белого. (О Нине Петровской существует много
разномастных материалов. См. Библиографию в статье Марии В.
Михайловой, публикующуюся в наст, изд., а также недавно вышедший
объемистый том переписки Петровской с Брюсовым,
подготовленный опытными текстологическими дланями H.A.
Богомолова и A.B. Лаврова.) Мы действительно мало знаем о сексе
Белого с «Асей» Тургеневой, однако «Ася» в дальнейшем, как
известно, в годы эмиграции отошла к «среднему» имажинисту, — у
которого, по Маяковскому, «не вкусы, но вкусики» — к поэту Ку-
сикову. С единственной «формальной» женой — Клавдией
Николаевной (сделавшей очень много для сохранения беловского
наследия — см. недавний сборник воспоминаний, вышедший в
Петербургском издательстве Ивана Лимбаха под научной
редактурой Дж. Малмстада) — открытой теософкой, у Белого, мы
не знаем, был ли какой-нибудь полновесный и
продолжительный половой контагиоз. Так или иначе, но символистский эрос
имел самое непосредственное отношение к феномену жизне-
творчества. Все мыслимые треугольники — Иванова,
Зиновьевой, Сабашниковой, Волошина, Мережковского, Философова,
Гиппиус, Злобина, Белого, Петровской, Брюсова, далее —
Гумилева или Черубины да Габриак (Дмитриевой) и прочих —
составляют костяк пенетрирования текста жизненного в
литературный, и наоборот.
Осторожность в выводах между тем необходима вдвойне, ибо
здесь нами допускается весьма серьезная и отчасти грубоватая
методологическая редукция. Ни Блок, ни Белый не могли и не
хотели описывать клитор и вульву в качестве таковых и «как
таковые». Ибо всякое прямое называние противоречит,
по-видимому, всему мировосприятию и миропредставлению символистов.
(Добавим, что, как это явствует из беловской «Эмблематики
смысла», символ есть сплетение духа и формы, поэтому прямое
называние, должно быть, всего одна из форм) Подобный казус
намеренного ухода от прямоты «называния» и, как следствие,
семиотического о-значивания выступает, можно предположить,
также и не в качестве эсотерического иносказания (используемого
для передачи смысла особого рода). У Блока имеет место совер-
255
шенно другой тип и уровень деформации реальности «страшного
мира» в творчестве, нежели у Хармса. Связь с конкретным
предметом обозначения настолько отдаленная, что может
трактоваться скорее как импульс, но менее всего как конкретный
денотат.
III
Во второй половине ноября 1905 года Блок начинает писать
одну из первых своих «Поэм» — «Ночную Фиалку» (с
подзаголовком «Сон»). Завершение текста придется на начало мая 1906 года.
Поэма представляет собой рефлективно-постфактумное, зело
тягостное (как для пишущего, так и для читающего) болотное
описание некоего «сновидческого» путешествия, якобы предпринятого
автором то ли наяву, то ли во сне. Но ведь и сон — тоже форма
жизни. Поэма относительно слабо поддается какому-то единому
интерпретаторскому коду, и обычно «общие» исследователи
предпочитают вообще никак не анализировать ее содержание,
манкируя доскональностью, подчеркивая лишь и без того
самоочевидные вещи (как то банально-навязшие и никак не толкуемые бло-
ковские выражения плана: «королевская чета», «скандинавский
эпос», т. е. всё то, что и сам поэт называет своими именами). До
понимания какого-либо «центрального», импульсово-доминантно-
го мотива, легшего в основу как самого сюжета поэмы, так и
оригинального акта написания этого текста, «традиционные» его
исследователи, к сожалению, обычно не поднимаются12.
Для осуществления настоящей попытки интерпретирования
этого весьма туманного текста нам придется воспользоваться
мемуарными свидетельствами, которые отчасти и послужили
изначальным толчком к написанию нашей статьи. На данном
этапе нам бы не хотелось входить в деталировку крайне
непростого вопроса изначальной легитимности использования
мемуарных, автобиографических источников при ведении
исторического исследования — как и их credibility13.
В 2001 году в московском издательстве БСГ-Пресс (за год до
этого в том же издательстве были опубликованы и мемуары
Марины Малич, принесенные на крыльях феерического вояжа
В.И. Глоцера) вышло переиздание знаменитой трехтомной
мемуарной эпопеи Романа Гуля «Я унес Россию: Апология
эмиграции». В третьем томе этой работы, озаглавленном «Россия
в Америке», мы, в частности, встречаемся с описанием встреч
Гуля с небезызвестным Н. Валентиновым (псевдоним Н.
Вольского), автором разных книг, в том числе и важного тома «Два
256
года с символистами», где была развернута любопытная
панорама личных контактов Валентинова с известными деятелями
«младшего поколения» русских символистов в 90-е годы XX
века. Вот что пишет Гуль о своем разговоре с Валентиновым,
когда речь зашла о творчестве Александра Блока и его поэме
«Ночная Фиалка»:
Насколько хорошо Н. Валентинов относился к Белому и всё ему
прощал, настолько он ненавидел (действительно ненавидел) Александра
Блока. Н.В. сам рассказывал, как в «Русском Слове» он, как редактор,
наложил на Блока «табу». Блок часто присылал в газету стихи, но все они,
как говорил Вольский, «летели в мусорную корзину»: «Я лично его не
знал, но, по чести скажу, ненавидел».
Ничего не понимая, я пристал к Н.В., чтоб он объяснил мне причину
этой ненависти. Можно любить или не любить Блока, я тоже в нем кое-
чего не люблю, говорил я, например, эту «Жену облеченную в солнце»,
но Блок — большой поэт, и тут нет никакого спора, он, конечно, был бы
украшением «Русского Слова».
— Дело не в поэте. А в человеке, — сказал Вольский. — Я его презирал!
— Но почему же?! — приставал я.
Наконец Вольский сдался.
— Хорошо, я скажу, но пусть это останется между нами. (И Гуль
конечно же эту просьбу выполнил по мере сил. — © Д.И.)
Как-то Белый, когда был в ссоре с Блоком и с ним не встречался,
рассказал мне, что у Блока подразумевается под «ночными фиалками».
И после этого Блок мне физически опротивел.
— Не представляю себе, что же тут может подразумеваться под
«ночными фиалками», — приставал я.
Вольский никак не хотел говорить, но наконец:
— Хорошо, я вижу, вы так заинтригованы этими «ночными
фиалками», что я скажу вам. Так вот, подразумевается под «ночными
фиалками» некая небольшая часть женских гениталий, по-медицински это —
клитор. А по-простонародному — с.ь14.
И вот этими «ночными фиалками» (конечно, у проституток) он и
занимался, их любил. Как только я услыхал это от Белого — кончено, Блок
мне физически опротивел. И я побороть себя уже не мог. Да и не хотел.
Потому и летели все его стихи в мусорную корзину. За все эти годы
только раз я сделал исключение для стихотворения, которое отвечало моим
взглядам на предвоенное развитие российской промышленности, что-то
такое — «Разгорается... Америки новой звезда».
В 1964 г. в [городе] Плесси Робенсон после невероятно мучительной
болезни Н. Вольский скончался. Заместителя такому эмигранту не
нашлось [Гуль Р. «Я унес Россию...». Т. 3: Россия в Америке. С. 156—157).
Стоит обратиться непосредственно к тексту поэмы «Ночная
Фиалка», дабы попытаться уяснить, есть ли там какие-либо
намеки, что позволили бы увидеть связь между иконографией
этой поэмы и словами Вольского о «ночных фиалках»
(переданных Гулем со слов Валентинова).
17 Заказ №К-7531
257
Любопытно, что в своей книге «Два года с символистами»
Валентинов-Вольский не пожелал раскрывать всех известных
ему скабрезных «тайн» о частной жизни описываемых им
людей, о чем недвусмысленно и сказал в тексте своих
воспоминаний15.
Пестрящая «темными местами» поэма Блока тем не менее
позволяет сфокусировать читательское внимание на ряде
«рекуррентных» аспектов «цвета», «настроения», «запаха» и общего
топографического (влажно-трясинно-болотного) антуража
описываемого «путешествия за город» (а именно об этом
декларативно (хоть и обиняково) повествует поэма).
Там мы встречаемся с такими ключевыми моментами
поэтики этого текста, как:
• влажность;
• топкость и трясинность болота;
• разломы краев;
• краснота, лиловость, цветенье.
Присутствие проституированных — продажных женщин
всплывает то тут, то там.
Дождь начинал моросить.
Далеко, у самого края,
Там, где небо, устав прикрывать
Поступки и мысли сограждан моих,
Упало в болото, —
Там краснела полоска зари.
[Блок Александр. Собр. соч. / Ред. и сост. В.Н. Орлов. М., 1982. Т. 2.
С. 160.)
Аллегорией чего (если мы заняты «физиологическим»
аспектом проблемы) здесь может быть «краснеющая полоска зари»?
Акцентировка проститутской доминанты многих
описываемых женщин начинается в самом начале поэмы:
Разное видели мы:
Он видел извощичьи дрожки,
Где молодые и лысые франты
Обнимали раскрашенных женщин <...>
(Там же. С. 160)
Здесь, как нам кажется, запускается в аккузативной форме
машинерия физиологии «смещенного» маневра в попытке
обозначить альтернативными словами, скажем прямо, достаточно
известные всякому (едва ли не со школьной скамьи) «простые
вещи»:
258
Над равниною мокрой торчали
Кочерыжки капусты, березки и вербы.
И пахло болотом.
(Там же. С. 161)
Помимо особой важности болотной константы в блоковской
поэтике (к которой мы еще вернемся, помимо прочего,
поскольку в свойствах болота — «текучее засасывание предмета в себя»,
а также «влажность», душная мокрота, возникающая от
поднимающихся испарений и внутренних жидкостных выделений),
здесь следует обратить внимание на такие «знаковые»,
физиологически денотированные слова-маркеры, как: «мокрая
равнина», «торчащие кочерыжки»... Мокрая равнина «влагает» в себя
«кочерыжку». Возможно, здесь следует вести речь о неосознан-
но-мифопоэтическом вхождении поэта в архаическую
эротическую мифологему «матери-сырой земли», — в том числе
репрезентирующую землю, как обычный женский половой орган16.
Сходные мотивы продолжаются и далее:
<...> На болоте, от кочки до кочки,
Над стоячей и ржавой водой
Перекинуты мостики были,
И тропинка вилась
Сквозь лилово-зеленые сумерки
В сон, и в дрему, и в лень,
Где внизу и вверху,
И над кочкою чахлой,
И под красной полоской зари, —
Затаил ожидание воздух
И как будто на страже стоял,
Ожидая рассвета
Нежной дочери струй
Водяных и воздушных.
(Там же. С. 161-162)
Как видим, здесь в целом продолжаются
фаллически-предстоящие аллюзии — в сравнении с «лежащей» болотной,
ржавой землей» — кочки (чуть ранее были — коче(рыжки). Вода
«стоячая» — следовательно, имеет соответствующий «воздух»
(запах-дух) — и действительно — «воздух затаил ожидание»,
«стоял». И уж совершенно эксплицитное в нашем «гениталь-
ном» женском контексте сообщение о «водяных струях нежной
дочери». Рассветная Заря обретает антропоморфные,
отчетливо женские черты, среди которых находится место и наиболее
занимавшему поэта признаку — влажности и специфически
благоухающему воздуху — особой аурной атмосфере, описать
которую силился в этой поэме Блок.
17*
259
'Городские проститутки' не отпускают Александра Блока.
Эти антиномические инфернальные незнакомки подспудно
присутствуют во многих блоковских текстах17, не дают они
возможности пропустить себя и здесь:
В час презренья к лучшим из нас,
Кто, падений своих не скрывая,
Без стыда продает свое тело
И на пыльно-трескучих тротуарах
С наглой скромностью смотрит в глаза, —
Что в такой оскорбительный час
Всем доступны виденья.
Что такой же бродяга, как я,
Или, может быть, ты, кто читаешь
Эти строки с любовью иль злобой, —
Может видеть лилово-зеленый
Безмятежный и чистый цветок,
Что зовется Ночною Фиалкой.
(Там же. С. 162)
Этот фрагмент, — без всякого сомнения, центральный в
нашем анализе, ибо «единым блоком» однозначно увязывает в
единое целое оба свои составные элемента:
• говорит, по сути, о проститутках;
• говорит, в непосредственной связи с ними, о некоем лиловом
цветке■, именуемом «Ночной Фиалкой».
Аллегорическое именование женского полового органа архе-
типическим словом «цветок» является совершенно нормативным
в литературе, бытуя чуть ли не своего рода «общим местом».
Кроме того, ведь именно об этом писал Роман Гуль (со слов
Валентинова): о «ночных фиалках», которые интерпретируются
как клиторы, присущие проституткам, к которым (как и к их
обладательницам) был столь сильно, столь обсессивно привязан
Блок. И действительно — как мы видим, акт «узревания», учув-
ствования «Ночной Фиалки» может происходить, по Блоку,
именно в некий «проститутский час», конечно же по
преимуществу не дневной, но ночной. Ибо Ночная Фиалка, а в
особенности ее болотистое цветенье, как можно заметить, неким
незримым образом связаны с проститутками, с их деятельностью, с их
физическим одорическим бытием. Дальше Блок уходит в более
привычные туманные места, где связь проституток и ночных
фиалок будет уже не столь эксплицитно доступна
«ангажированному читателю». В приведенном же фрагменте, по счастью, «всем
доступны виденья». Надо добавить, что целый ряд
присутствующих в тексте блоковских аллитерационных автохарактеристик
(к примеру — «бродяга как я», вероятно, отражает блоковские
260
широко известные ночные «брожения» — хождения по злачным
местам Петербурга, посещение им вольных дев, алкогольный угар
и проч.) позволяет заключить, что данный «литературный текст»
представляет собой живой коррелят с «жизненным текстом»
автора, живописуя, как можно предположить, некие реальные
обстоятельства, окружавшие поэта в этот период его жизни18.
Исходя из осмысления «Ночной Фиалки» в контексте бло-
ковской «проститутско-клиторской (женско-сексуальной)»
темы, можно попытаться взглянуть и на другие избранные
аспекты этого поэтического текста.
И запомнилось мне,
Что в избе этой низкой
Веял сладкий дурман,
От того, что болотная дрема
За плечами моими текла,
От того, что пронизан был воздух
Зацветаньем Фиалки Ночной,
От того, что на праздник вечерний
Я не в брачной одежде пришел,
Был я нищий бродяга,
Посетитель ночных ресторанов...
В контексте «женского полового запаха», который
сопутствует любому «адекватному» общению между субъектами
обоюдного желания, весьма важно обратить внимание на такие
выражения амбивалентно обозначенного «сексуального» присутствия
женщины в закрытом помещении, как: «сладкий дурман»,
«болотная дрема» вечернего праздника, «пронизанного зацветаньем
фиалки ночной». По нашему мнению, под этим последним
выражением («зацветанье фиалки ночной») Блок имел в виду
предположительное возбуждение женских гениталий, гфинадлежащих
некой даме, возможно, встреченной им во время очередных
похождений.
Здесь значима натуралистичность описываемых предметов,
но также и их потенциально высоко-аллегорическая суть.
Строчка из «Ночной Фиалки» — «Пробивается бледная
травка» (С. 166), — имеет ряд любопытных параллелей в близком
по времени написания поэтическом сборнике «Пузыри земли»19.
На земле еще жесткой
Пробивается первая травка.
И в кружеве березки —
Далеко — глубоко —
Лиловые скаты оврага.
(Там же. С. 148)
261
Кажется, должно быть понятно «проницательному»
читателю, что поэт, известный своими эротическими ночными
похождениями, может иметь в виду под метафорой (осмелимся даже
утверждать, что в некотором роде это «симиле») «лиловые
скаты оврага». Ведь интересно же, что это за овраг и почему его
склоны (разломы?) лилового (красного? розового? впрочем, это
лишь тема для спекуляции...) цвета.
О мифопоэтическом уподоблении «тела земли» женским
гениталиям уже говорилось нами ранее (см. примеч. 14).
Важность «болотной темы» у Блока уже отмечалась
некоторыми исследователями20.
Тематика «дыры», «ока», двусмысленных «скважин» у мате-
ри-сырой земли весьма популярна в «болотной топике» поэта
периода «Пузырей земли».
Болото — глубокая впадина
Огромного ока земли.
(Блок. Указ. соч. С. 155)
Далее, идя по ходу развития «сюжета» «Ночной Фиалки»,
мы можем встретить и такую любопытную сцену:
...и прядет и прядет королевна,
Опустив над работой пробор.
Сладким сном одурманила нас,
Опоила нас зельем болотным,
Окружила нас сказкой ночной,
А сама всё цветет и цветет,
И болотами дышит Фиалка,
И беззвучная кружится прялка,
И прядет и прядет и прядет...
(Там же. С. 166)
По нашему мнению, здесь может обиняково и аллюзивно
идти речь о метафорическом описании процесса женской
мастурбации (который, возможно, вовсе не был чужд и самому
Блоку. (Хотя, с другой стороны, в каком смысле ему могла быть
не чужда лс е нс к ал мастурбация?)21
Пряжа, верчение веретена имеют эксплицитно сексуальную
окраску вообще22, а в данном контексте — особенно. Ибо фиалка
зацветает и цветет как бы параллельно процессу прядения.
Ночная сказка имеет ощутимо болотный привкус, а прялка всё
кружится.
Я сижу на болоте.
Над болотом цветет,
Не старея, не зная измены,
262
Мой лиловый цветок,
Что зову я — Ночною Фиалкой.
(Там же. С. 167)
Возможно, Блок анонсирует здесь свой поэтический
«copyright», ибо это именно он, в русском поэтическом универсуме,
додумался назвать этот (всем известный) лиловый цветок
именем ночной фиалки.
Но Ночная Фиалка цветет,
И лиловый цветок ее светел.
И в зеленой ласкающей мгле
Слышу волн круговое движенье
И больших кораблей приближение. <...>
Так заветная прялка прядет. <...>
<...> Что нечаянно Радость придет
И пребудет она совершенной.
И Ночная Фиалка цветет.
(Там же. С. 167)
О природе этой «радости», которая придет и пре-будет
совершенной, можно только гадать. (Помимо эксплицитного отсыла
к иконе Богоматери, здесь возникает целый суггестивный ряд
интерсубъективных смыслов, который мог бы стать предметом
отдельной исследовательской рефлексии.) Стоит заметить,
однако, что обычно «цветенье ночной фиалки» (если только
она по-настоящему «расцветает и цветет») должно результиро-
вать в бурный (возможно, multiple) женский оргазм, который
и станет той самой «совершенной» радостью. Нельзя не
подчеркнуть иномирно-преувеличенную спекулятивность подобного
посыла, но и с ходу отвергать его, по нашему мнению, было бы
ошибкой.
Уместно было бы обратиться к берлинским блоковским
мемуарам Андрея Белого — человека, чьи воспоминания, по
недвусмысленным словам Гуля, и стали собственно основой для
нашей (разумеется, далеко не единственно возможной, а лишь
«потенциальной») интерпретации поэмы «Ночная Фиалка». В
первом номере им же редактируемого журнала «Эпопея»
Белый сознательно выкроил некоторое место для описания
рассматриваемого нами текста. В этих размышлениях блоковского
друга/врага мы можем почерпнуть кое-что вполне
немаловажное в связи с занимающей нас тематикой «природы» блоков-
ских ночных фиалок. Ибо природа блоковских эвфемистически
263
названных «Незнакомок» давно разгадана, и теперь, вероятно,
пришел черед раскрытия значения странных лиловых цветков —
блоковских «ночных фиалок».
Белый изначально подчеркивает важность душных «ржавых
болот» для произрастания Ночной Фиалки в творчестве его
друга/врага23.
В этом же разделе своих воспоминаний, озаглавленном — на
уровне отдельной небольшой главки — «Ночная Фиалка», —
Белый, по нашему мнению, описывает некий эпизод своего
общения с Блоком, который можно рассматривать и как
своего рода, реконструкцию того, о чем много позже говорил
Валентинов Гулю.
Вот эти фрагменты:
<...> однажды он был особенно доверчив со мною; сидели в столовой —
за чаем; повел в свою спальню, сказав, что ему нужно что-то поведать,
отдельно, — без «Любы»; меня усадив на диван, он пытался мне выразить, что
теперь он пришел к удивительному, очень важному внутреннему узнанью;
узнанье связалося с восприятием сильно-пахнущего фиалкою
темно-лилового цвета:
— Ты знаешь, он пахнет так душно: лиловый цвет такой и ночной...
и далее:
<...> A.A., наклоняя лицо надо мною, с волнением всё пытался сказать,
как он много узнал от вживания в едко пахучий фиалковый,
темно-лиловый оттенок; оттенок его как-то странно увел от прошедшего; и
открылся ему такой темный, лиловый и новый, огромнейший мир. Что такое
фиолетовый цвет? И — A.A. посмотрел на меня испытующе.
Я же смутился.
Далее сцена несколько обостряется:
<...> пока A.A. тихо, взволнованно пересказывал мне восприятие этого
темно-лилового цвета, я чувствовал нехорошо себя: точно поставили в
комнату полную углей жаровню; угар я почувствовал; тот угар
Люцифера; «пасть ночи», которая мне распахнулась однажды от разговора с A.A.
на лугу, я увидел вторично; увидел A.A. уходящим в глубокую ночь; знал:
ответить ему не могу, потому, что A.A. — не поверит, обидится; я ответил:
— Да, в этом лиловом оттенке — предел утонченности23.
Ситуация между тем отнюдь не улучшалась, и Белому
становилось все хуже:
И опять стало душно; <...> и это смешенье — темно-лиловый оттенок,
фиалковый, люциферический запах; так откровенностью со мной A.A.
был раздавлен <...>.
<...> не видел моих тайных мыслей: испуга за Блока, ведомого в
«темно-лиловую» ночь из слепительной розово-золотой атмосферы; тут он
прочитал мне «Ночную Фиалку» свою в неотделанном виде; он выразил
264
в ней переживанье «лилового» цвета и новых узнаний, соединенных с
«лиловым» (Там же. С. 281).
Ночная Фиалка, и восприятие лилового цвета — вызревающий
лейтмотив того времени для A.A.; и из этого лейтмотива рождается Ночь, им
написанная.
<...> Очень долго сидели с A.A. на диване в ту ночь; он — читал мне
набросанную «Ночную Фиалку», взволнованно посвящая в свои
восприятия лилового цвета; а мне было душно.
Долго мы просидели вдвоем; после тихо вернулись мы к чаю; молчал:
восприятие узнанного давило; Л.Д. с Александрой Андреевной
посматривали на нас; они знали: нельзя расспрашивать о разговоре вдвоем; было
грустно и душно; и я поскорее ушел. A.A. так-таки ничего и не заметил; тяжелое
впечатление вызвал мне он знакомством с лиловой тайной (Там же. С. 286).
А вот фрагмент «берлинской» редакции воспоминаний
Андрея Белого «Начало века», помогающий прояснить некоторые
важные нам моменты. Наш (согласно H.A. Богомолову)
источник: РГАЛИ. Ф. 53. Оп. № 1. Ед. хр. 27. Л. 177-178.
Недаром же в 1905 году увлечение фиолетовым тоном меня за A.A.
испугало: через шесть лет уже те вдыхания тона в себя у A.A. ведь
исторгли горчайшую фразу о состоявшемся в нем опознании этого
красочного оттенка: «Лиловые миры захлестнули и Лермонтова... и Гоголя. От них
погибли: и Врубель, и Комиссаржевская».
Всё это мне вспомнилось в разговоре с A.A.; и подумывал я: «Лиловые-
то миры завели его в ночь! Ночь оказалась порогом и испытанием. <...>
Припоминалися слова Минцловой о губящих нас силах: и о враге, нас
губящем; я знал, увлечение A.A. Стриндбергом, автором «Ада», есть
притяжение к человеку, переживающему родственное с A.A. <...> Этот «ад»
и все преследующие его черти, с ним связанные, в представлении моем
объяснялись испытанием порога <...>.
Здесь необходимо учитывать всю многократно
акцентировавшуюся (в частности, в известных работах Александра В.
Лаврова и Лазаря Флейшмана, посвященных изучению наследия
Белого-мемуариста) ненадежность и эксцентричность Белого
именно в качестве исторического «воспоминателя».
Действительно, на Белого в данном отношении крайне проблематично
полагаться. Этот аспект неминуемо привносит дополнительную
долю зыбкости в наши рассуждения и добавляет ощутимый
обертон «необязательности» принятия выстраиваемых
интерпретационных ключей к «Ночной Фиалке». Вместе с тем из
приведенных фрагментов становится вполне очевидным, что в
иконографии рассматриваемоей нами поэмы кроется некая
вполне доминантная и всеобъемлющая (по внутренней
концепции Блока) подоплека.
265
Что мы можем сообщить об этой «подоплеке»? Как видно
из воспоминаний Белого, а также из самого текста поэмы,
данный предмет обладает по меньшей мере двумя заметными и
важными качествами: темно-лиловым цветом и едким запахом,
могущим ассоциироваться с «ржавым болотом»,
производящим удушающий эффект на того, кто его «обоняет».
Заметим, что именно клитор (особенно, сексуально
«натруженный») имеет характерный темно-лиловый цвет, как,
впрочем, и запахом он может обладать достаточно своеобычным, не
лишенным едкости.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что той
самой загадочной «лиловой тайной», связанной с поэмой
«Ночная Фиалка», является (может являться) не что иное, как
клитор (хотя, почему бы и не малые губы, куда как лепестковые —
не говоря о том, что бартолиповы железы сидят именно в них...)
Причем, принимая во внимание обстоятельства, связанные
с образом ночной жизни и «покупного секса» в творческом
мироздании Блока25, надо думать, что речь идет именно о клиторе
проституток — тех самых «незнакомок», которых, насколько
мы можем судить, так любил Блок.
Об этой «лиловости» и «ночных фиалках» можно сделать
вывод на основе мотивно-семантических сопряжений, что они
действительно относятся к теме «страшной» женственности,
понятой как «ад», «мать-сыра земля», хтоническое «болото».
Кроме того, следует добавить, что — как известно — «болотную»
тематику принято сопрягать с комплексом Петербурга и
«петербургского текста», и, вероятно, в «Ночной Фиалке» также
присутствует, в частности, именно эта коннотация. Как
показала З.Г. Минц, блоковская тема города и болот, ядовитых
испарений, в сочетании с продажной любовью отсылает ко вполне
реальным контаминациям из Гоголя и Достоевского.
Таким образом, выстраивается определенный модус, где
Блок в своем (жизне)творчестве вплотную приближается к
специфическим стратегиям так называемого «мистического
гностицизма», соединявшего грубую материю физиологии с
мистическим (в том числе буквенным) «обожением человека». (О «симо-
нидском» конструировании поэтического «лирического мифа»
у Блока см. некоторые соображения Д.М. Магомедовой.)
Мы бы хотели процитировать любопытную в общем
контексте восточно-центричную топику «двуполой сексуальности»,
фокусирующейся вокруг дескриптивного клитора как фаллоса
в средневековых китайских текстах. См. на примере такого:
266
<...> — Что ты городишь, женщина, если это не сын и не дочь, то кто
же все-таки у меня уродился? Чудеса, да и только!
— Всю жизнь я принимаю младенцев, но такое дитя еще ни разу
принимать не доводилось! Сама ничего не могу понять! Извольте взглянуть.
Дацин, откинув дверную занавеску, вошел в горницу. Он взял на руки
младенца, и что же он увидел? А вот что:
Пониже животика, в самой промежности,
Вырос странный по форме бутончик сирени
Иль лепесток цвета атотита.
Простершись наружу, он прячется внутрь,
А потому понять никак невозможно:
То ли что-то выперло здесь,
То ль появилась вмятина и углубление.
Он очень похож на сплющенный клецок-хуньтунь,
Такой же продолговато-овальный.
И всё же чего-то в нем не хватает.
А еще он похож на обычный пельмень,
В который мясную начинку вложили.
Он далек и от Янь и от Инь — Темной силы,
И находится между Янь и Инь посредине.
Словом, есть в нем мужское начало,
Но присутствует женское тоже, пониже...
(Ли Юй, или Старец Ли в бамбуковой шляпе, XVII век // Книга
дворцовых интриг: Евнухи у кормила власти в Китае / Сост. и пер. Д.Н.
Воскресенского и В.Н. Усова. М., 2002. С. 189. Гл. «Двуполое чадо»)
Тема же собственно «страшного» фиолетового
дурман-тумана, из которого произрастает цветок Ночной Фиалки, далеко не
одинока у Блока. В своей статье «С площади на "Луг Зеленый"»
поэт, в частности, писал:
<...> всадник видит молочный туман с фиолетовым просветом.
Точно гигантский небывалый цветок — Ночная Фиалка — смотрит в очи ему
гигантским круглым взором невесты. И красота в этом взоре, и отчаянье,
и счастье, какого никто на земле не знал, ибо узнавший это счастье будет
вечно кружить и кружить по болотам от кочки до кочки, в фиолетовом
тумане, под большой зеленой звездой26.
Семантике цвета в «лиловых мирах» Блока необходимо
уделять особое внимание в общем разговоре о вопросе «цвета»
в русском символизме, как это освещают, в частности,
некоторые работы Ore Ханзен-Лёве27. О «двойниках», о «жизни,
ставшей искусством», Блок пишет в своей известной программной
статье «О современном состоянии русского символизма».
Понимать деталировку и акцентировку едкости лилового цвета
Ночной Фиалки необходимо не безотрывно от блоковского
символистского мировосприятия, теургически
конструирующего эти самые «страшные» лиловые миры:
267
<...> если эти миры существуют, а всё описанное могло произойти и
произошло (а я не могу этого знать), то было бы странно видеть нас в
ином состоянии, чем мы теперь находимся; нам предлагают: пой, веселись
и призывай к жизни, — а у нас лица обожжены и обезображены лиловым
сумраком28.
Вероятно, речь идет о том самом адовом пламени, о
котором в своей статье вспомнил Блок не без помощи брюсовских
строк:
Как Данте, подземное пламя должно тебе щеки обжечь.
Блок обескураженно вопрошает:
Отчего померк золотой меч, хлынули и смешались с этим миром
лилово-синие миры, произведя хаос, соделав из жизни искусство, выслав
синий призрак из недр своих и опустошив душу?29
Итак, блоковские лиловые миры суть эксплшштнснюрочные
знаки эротического Инферно, символического диаволизма, который
столь плодотворно исследовал в своих монографических
работах венский славист Ore Хансен-Леве, см.: Hansen Loeve A.A. Zur
Mythopoetik des russischen Symbolismus // Mythos in der Slawischen
Moderne, Wiener Slawistischer Almanach / Ed. W. Schmid.
Sonderband 20. Wien, 1987. P. 61—104; см. и его большую монографию:
Hansen-Loëve A.A. Der Russischer Symbolismus. System und entfal-
tung der poetischen motive: Diabolischer Symbolismus. Wien, 1989
(рус. пер.: СПб., 1999). Лиловая тема обсуждается Хансен-Леве
также и во втором томе масштабного компаративного труда, см.:
Hansen-Loëve A.A. Russische Symbolismus. System und Entfaltung der
Poetischen Motive: Mythopoetischer Symbolismus. Kosmische
Symbolik. Wien: Verlag Der Österreischischen Akademie Der
Wissenschaften, 1998 (рус. пер.: СПб., 2003). Процитируем некоторые
соображения немецкого исследователя, которые увязывают, что
весьма важно для нас, мистически осмысляемые демонические
цвета фиолетового (фиалкового) с лиловым (в том числе
эсхатологически описанными в апокалипсической трансгрессии) мирами
русского «космического и мифопоэтического символизма»:
Фиолетовая или лиловая окраска начинает приобретать значение только
в переломный момент для мифопоэтического символизма, на переходе к
карнавальной деструкции — на рубеже «Символизма 3», а в «Символизме 2»
играет как бы подчиненную роль. Здесь невольно приходит на ум
преобладание фиолетово- и коричневато-золотистых полутонов в символистской
живописи, к примеру, у Врубеля — в точности таких же, что на
деструктивной палитре Блока. У Бальмонта и Городецкого этот процесс еще сокрыт
в равноценной многоцветности мира красок, где лиловый цвет фиалки —
лишь один из многих значащих цветов; у Блока, Белого и Волошина фио-
268
летовый (лиловый) — поначалу самое общее отражение некоего
демонического потемнения синего и голубого» (с. 448-^49 рус. изд.)
И немного далее в той же работе венско-мюнхенского
слависта читаем:
Трансформацию мифопоэтической цветовой символики в гротескно-
карнавальную демонстрирует стихотворение Блока «Боре»:
Редкий падает снежок
Перед нами — семафора.
Зеленеет огонек.
Небо в зареве лиловом,
Свет лиловый — на снегах.
Некоторые исследователи выводят уникальную цветовую символику
Пузырей земли Блока (использование, в частности, таких цветов, как
черный, фиолетовый, голубой) из общей символики масонства, ссылаясь на
то, что в это время Блок активно изучал сочинения вольных каменщиков
XVTQ века в ходе своих штудий для статьи Болотов и Новиков 1904 года.
Заметим, что главным символическим цветом у масонов был все-таки не
фиолетовый, как предполагают исследователи, а голубой или
бирюзовый» (Там же. С. 474—475).
Таким образом, рассматривая «Ночную Фиалку» — лиловый
цветок, — наряду с «клиторской» версией нужно обязательно и
непременно соотноситься с диаволическими воззрениями Блока-
символиста — периода, непосредственно примыкавшего к
изрядно эсхатологическому времени преддверия и самого
наступления Первой русской революции. Как пишет H.A. Богомолов,
анализирующий статью Блока «О современном состоянии
русского символизма»,
<...> на первый план выступают образы визуальные, долженствующие
обрисовать те новые [лиловые] миры, в которых оказался художник.
Напомним, что их первоначальный цвет — пурпурно-лиловый, но позже
начинаются сине-лиловые сумерки, означающие хаос, а то и гибель. При
этом Блок решительно утверждает объективность и реальность тех миров
(Богомолов. Указ. соч. С. 194).
В настоящей работе мы соприкоснулись со специфическим
эротическим миром так называемого «куннилингуса», о котором
пишут многие сексологи при самых различных контекстах своей
деятельности. Вот, к примеру, одна из них — весьма
«красноречивый» пример «популярной» и общедоступной сексологии жизни, де-
монстрирующий помимо прочего (в конце пассажа) очередное
сравнение клитора с жизнью флоры семейства цветковых:
Так как рот и гениталии — две области тела, особенно богатые
нервными окончаниями, то можно считать почти что предопределенным приро-
269
дой их прямой контакт при занятиях любовью. <...> В более тонком
плане, некоторые женщины находят в куннилингусе удовольствие,
поскольку этот акт, подобно низкому поклону или омовению ног, кажется им
символом почитания. Вы склоняетесь перед ней в покорной позе, чтобы
подарить удовольствие особого рода. Многим женщинам это по душе. Если
вы желаете узнать, как именно играть эту музыку, примите к сведению
следующие советы: французы называют запах женщины красивым
словом cassolete (что означает флакон духов), подразумевая под этим запах
ее волос и кожи, одежды, запах ее сексуальности, всего ее существа.
Несмотря на это, многие мужчины отказываются от орального секса, не
понимая прелести запаха женского тела, особенно возбужденного. <...>
Между тем в древнекитайской живописи женские половые органы
обычно изображались в виде цветка пиона. Представьте себе, что вы
вдыхаете его аромат и ваше лицо погружается в благоуханную нежную мякоть
розовых лепестков (цит. по: http://vvww.med2000.ru/med/msex20.htm).
Запахи, в том числе эксплицитно
сексуально-маркированные, — совершенно особая тема в жизни человеческой
культуры, куда мы не имеем возможности углубиться в силу рамок
нашей статьи30.
Надо сказать, что тема «влаги» и «фиалок» связана с женской
прозой Серебряного века. Я имею в виду.Анну Map, жизнетвор-
чество которой в свое время исследовано А. Грачевой. Не случайно
некрологическая эпитафия, посвященная смерти писательницы,
имела стойко «фиалковый» запах (см.: Столица Л Фиалки на гроб
Анны Map//Женское дело. 1917. № 6—7. С. 7—9). Фиалки
нередко появлялись в немногочисленных литературных текстах Map:
Ах, она с закрытыми глазами видела хрустальную вазу с двумя
ручками по бокам и плоским, словно срезанным горлышком. На ней два
белых матовых медальона, где золотые монограммы Шемиота перевиты
фиалками. Она наполнит ее водой и опустит туда розги, краснея и
волнуясь. Они не очень длинны, жестки, матовы. Потом они станут гибкими
и свежими. Они так больно будут жалить ее тело.
Однако наиважнейшая связь в данном «женско-писатель-
ском» контексте проявляется между Блоком и Лидией Зиновь-
евой-Аннибал (речь идет о цикле «Незнакомки», а это именно
тот отрезок времени, о котором мы говорим, — период,
окрашенный в явно «сниженные» «демонические», урбанистически-про-
ституированные тона кабацко-пьяной ночной жизни поэта). Как
подробно показал A.B. Лавров (см. его: Блоковская
«Незнакомка» в рассказе Л.Д. Зиновьевой-Аннибал // Лавров A.B. Этюды
о Блоке. СПб., 2000. С. 160—170), общение двух персоналий было
весьма проникновенным, дружеским и обоюдно
заинтересованным. В рассказе «Голова Медузы» Зиновьева-Аннибал немало
использовала почти прямые цитаты и заимствования из блоков-
270
ских экзерсисов. Во многих случаях это несло в себе
доминанты «эротизма», «жидкости-воды», «мистики ночи» и т. п.
Образ поэта зримо присутствует в тексте Зиновьевой-Анни-
бал. Как пишет Лавров:
Блоковские мотивы в «Голове Медузы» демонстративно выведены на
поверхность. Сам поэт более чем прозрачно замаскирован под
фамилией, которой обязан своему поэтическому шедевру: Незнакомов. Внешний
облик художника Незнакомова обладает не меньшей определенностью:
«Совершенно прекрасное лицо, холодное, строгое в окружении светлых,
скульптурных кудрей странно сочеталось с мертвенностью
голубо-тусклых глаз». Это не просто портрет Блока — это тот его специфический
образ, который воспринимали современники в период искушения разного
рода декадентскими ядами, образ, запечатленный в знаменитом
портрете К. Сомова [Лавров. Указ. соч. С. 164).
Сам текст «Головы Медузы» содержит немало важных
деталей, интересно сочетающихся со «смысловым континуумом»
«Ночной Филаки» (запах, сладострастье обоняния, подспудная
эротичность нарратива):
<...> наклонялся, принюхиваясь, толстыми, вздутыми, как волдыри,
ноздрями к мерцающим под сквозною вуалью ткани плечам. <...> Рыжий
барон <...> испитой, высокий, с намекающим, двойственным взглядом
серых бесстыдных глаз и повислым носом с тонкими расширенными
крыльями, зорко и жадно следил за соседом <...> (Зиновьева-Аннибал цит.
по: Лавров. Указ. соч. С. 165).
Мотив провокативной влаги, женской змеистой стати, вина,
эротического опьянения находит свое явное выражение в
«Голове Медузы».
И в алом сердце своего стакана Незнакомов видел невидимые ему
черные глаза из бледного строгого лица, жесткие, неумолимые, далекие...
И ему становилось пронзительно, как от ледяной иглы, и стыли длинные
красивые руки, нежные, как женские. И не мог оторваться. И змеились
там, во влаге, блестящие волосы... Он не отрывал глаз от видения в алом
сердце красного вина (цит. по: Лавров. Указ. соч. С. 166).
A.B. Лавров делает важное суммирующее замечание о еди-
нообщем корреляте, сближающем творческие установки
Блока и супруги Вячеслава Иванова:
Художественная задача, которую ставила Зиновьева-Аннибал в
своих прозаических вариациях на темы Незнакомки, думается, была не в
последнюю очередь продиктована теми специфическими условиями
литературного быта и нормами поведения, которые складывались вокруг
ивановской «башни». Артистизм и маскарадное начало были
императивными особенностями этого поведения, генерализирующая идея
взаимопроникновения жизни и искусства, мифотворческого преображения, сим-
271
волизации одномерной реальности порождала всевозможные игровые
задания и провоцировала к перевоплощениям эстетического в бытовое и
бытового в эстетическое (Там же. С. 167—168).
Как описывает М.В. Михайлова (см. ее статью, публикуемую
в наст, издании), «самый приземленный вариант желаемого
соития, в котором доминируют духота, пот, сальные выделения
(всё, сопровождающееся сильными обонятельными эмоциями),
рисует писательница, когда описывает случайную встречу с
"незнакомкой"». Цитируя саму Зиновьеву-Аннибал:
«Лица не запомнил, — как в бреду признается Ваня. — Было ли? Всё
равно. Так себе — здоровое. Глаза плавали в синеватых белках,
студенистые, мутные, сосущие. Рот большой, голодный, губы вывернуты... Нельзя
глядеть — и толкает. На лбу душном <...> сальные завитки темные в
шпилечках прижаты». И все эти ощущения связываются героем с зовом
самой жизни: «Кто этого призыва не понимает, отец, — тот за штатом у
жизни» [Зиновьева-Аннибал. Тридцать три урода. М., 1999. С. 279),
М. Михайлова пишет: «Для Вани весь мир пронизан запахами.
Их источает всё вокруг. Они часто несут смерть». И тут
возникает в более чем эксплицитно-эротическом контексте образ
фиалки:
...даже фиалка, если ею надышаться, — умрешь; даже звезды в небе —
пахнут, а небо без дна... синее до жадности, — жадно, жадно, жадно
синее... Тону в нем и еще хочу, глубже хочу еще (Там же. С. 275).
М.В. Михайлова подчеркивает значимость «запахов» в деле
усиления мужского эротического напряжения.
Но любопытно, что экскурс в эротические сферы Зиновьева-Аннибал
начинает с попытки «определить» природу мужского возбуждения. И
здесь она прибегает к сильнейшему средству в создании эротической
ассоциации — запаху, ставя его на первое место при характеристике
мужского желания. «Аромат» женщины настойчиво переводится в категорию
«запаха» — раздражающего, пьянящего, заставляющего мозг мужчины
погрузиться в туман. Для мужчины женский запах — сильнейший афроди-
зиак, что доказывают признания героя пьесы Зиновьевой-Аннибал
«Кольца» — Вани. Чрезвычайно бесстыдно и откровенно говорится о запахах
соленой рыбы, гнилой морской травы, источаемых женщиной, тех, что
порождают слепое, темное, ненасытное вожделение, «толкающее» на
поиски самки, гонящее и гонящее вперед. Зиновьева-Аннибал вкладывает в уста
героя просторечный синоним слова «пахнет» — «несёт» («Это чем несёт с
моря?»; при этом Ваня мучительно нюхает воздух), дабы подчеркнуть
вихревое, неодолимое, засасывающее начало этого эротического импульса.
Мария Михайлова также указывает на имманентное лите-
ратуроцентричное присутствие сильно пахнущего «цветка
Венеры» в анализируемом ею уже другом тексте писательницы:
272
В пьесе также явственно ощутимы египетские ассоциации, отсылающие
к символу страсти — Клеопатре, упоминание о сфинксах также
эротизировано. Египетская тема возникает и как намек на «Три свидания» В.
Соловьева, в которых описывалась его встреча с Софией в Египте. Неоднократно
возникающие в тексте розы призваны одновременно символизировать и
безгрешность (атрибут Девы Марии) и напоминать о священном цветке
Венеры (возникает даже особый запах увядающих роз — тлетворный и
манящий). Иными словами, женщина в воображении мужчины балансирует на
грани греха и невинности.
Свидетельство Романа Гуля и Валентинова есть лишь один
странный штрих к интертекстуальному ангажированному
(сознаемся) прочитыванию этого текста Блока — деталь, которая ни
в коей мере не может обязывать всякое прочтение. Вместе с тем
«пройти мимо» этого свидетельства, не попытавшись «вникнуть»
в потенциал, таимый в нем, нам показалось неверным.
Мы попытались «прочесть» Блока с помощью
навязываемого нам Белым—Валентиновым—Гулем способа узнавания
«отсутствующей» в тексте поэмы детали.
Насколько это было сделано убедительно — вопрос отдельный.
Даниил Хармс и его «жизненный текст» выступили тут в роли
небходимого оттеняющего лакмуса, дозволяющего выгодно
представить недостающий лейтмотив «заданного» зрения.
Возможно также, что более адекватная карта прочтения оказалась
безнадежно утерянной в харольд-блумовском «страхе влияния».
Так, сквозь столь «скабрезный» жизненный и творческий прак-
сис, и прощупьшается, по всей видимости, наиболее неожиданная
связь между Даниилом Хармсом и его старшим коллегой —
Александром Блоком, связь, заключающаяся в особенном
(отчасти болезненном) пристрастии к женским гениталиям, которые
столь по-разному живописуются (если живописуются) в
поэтических текстах каждого из поэтов31.
Примечания
1 Фрагмент данной статьи был опубликован в изд.: Митин журнал.
СПб.; Прага, 2003. № 61. С. 231-268.
Автор благодарен Елене Григорьевой, Владимиру Паперному и
Михаилу Клебанову за ценные замечания, полученные в процессе работы
над настоящим текстом, изначально «заказанным» и «инспирированным»
А.Б. Устиновым для одного из его ОБЭРИУ-тологических сборников.
2 Глоцер В. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. М., 2000. С. 76.
Нельзя забывать и свидетельства самого Хармса: «Меня мучает "пол".
Я неделями, а иногда и месяцами не знаю женщины» (Дневниковые
записки Даниила Хармса / Публ. А. Устинова и А. Кобринского // Минув-
18. Заказ № К-7531
273
шее. M.; СПб., 1993. № 11. С. 506; «Ужасно, когда женщина занимает
так много места в жизни» (Там же. С. 441). В списке занимающих его
предметов Хармс отмечает: «Половая физиология женщин» (Там же.
С. 472). Процитируем и еще одного современного исследователя:
В контексте русской литературной традиции творчество Хармса резко
выделяется эскалацией сексуальности, занимающей не столько отдельное
тематическое место наряду с другими темами его творчества, сколько
вполне концептуальное положение. К сексуальным определениям у
Хармса сводятся природа человека, его ценностный космос, мотивация,
направленность и смысл деятельности.
И, далее, важный пассаж:
Единственной сферой, которая является более или менее устойчивой
в метаморфичном мире Хармса, оказывается секс. Сексуальность
становится для писателя, во-первых, моментом самоидентификации человека,
во-вторых, — вне разума и смысла лежащей коммуникативной энергией.
Художественный опыт Хармса в этом отношении тем разительней, что
в его творчестве homo sexualis выступает в явно отмеченных двух
крайних ипостасях: сексуальная машина и сексуальный мечтатель. Эти резко
означенные ипостаси не оставляют возможности для «промежуточного»
(любовного, эротического и т. д.) толкования данной тематики. Здесь
Хармс уходит, пожалуй, дальше всех от устойчивой асексуальной
традиции, которая утверждалась в русской литературе XIX в., а так
называемый «эротизм» начала XX в. был лишь ее продолжением. <...>
Проблема пола, проникшая в русскую литературу и публицистику в конце XIX —
начале XX в., не изменила кардинальным образом устойчивую традицию,
в которой асексуальность поддерживалась утверждением греховности и
«сатанизма» сексуального начала. Апология пола, начинающаяся,
пожалуй, с B.C. Соловьева и поддержанная В.В Розановым, Н. А. Бердяевым,
А. Белым и т. д., строилась на следующих основаниях: а) дуализм
«низкого», «животного» (т. е. секса) и высокого, духовного (т. е. любви); б)
неизбежность секса как способа воспроизводства; в) традиционное
христианское понимание святости ребенка и отсюда — оправдание коитуса
при условии, что он одухотворен любовью и движим исключительно
семейными целями. <...> Что же происходит у «советского» писателя
Даниила Хармса? Деконструкция человека <...> не отнимает сексуальности: в
то же время Хармс с достаточной последовательностью пользуется
критерием сексуальности для выделения двух групп людей: одну из них
составляют мужчины и женщины, в другую входят дети, старухи и просто
«человек», как правило, наделенный властной функциональностью.
Вторая группа с ее подчеркнутой асексуальностью вызывает постоянно
прокламируемую ненависть Д. Хармса. Более того, «старуха» и «человек»
являются агрессивной помехой в сексуальном поведении личности. <...>.
<...> у Хармса в непримиримой оппозиции оказываются человек
сексуальный (= личность, индивидуум) и человек асексуальный (= безликая
агрессивная функциональность) (Бернштейн Е.П. Авангард как жертва Дании-
ла(у) Хармса(у) // Литературный текст: Проблемы и методы.
Исследования IV. Сборник научных трудов. Тверь, 1998. С. 131, 138—139).
274
Сексуальность Хармса уже получала исследовательское внимание
в западной славистике, см.: Roberts Gr. Guilt without Sex: Women and
Male Angst in the Fiction of Daniil Kharms // Gender and Sexuality in
Russian Civilization / Ed., introd. Barta P.I. L.: Routledge, 2001. P. 279-
292; Jaccard J. -P. L'Impossible éternité: Reflexions sur le problème de la
sexualité dans l'œuvre Daniil Harms //Amour et erotisme dans la littérature
russe de XXe siècle / Ed. Heller L. Bern: Peter Lang, 1992. P. 214-221.
(Actes du Collogue de juin 1989 organise par l'Université de Lausanne,
avec le concours de la Fondation du 450eme anniversaire).
3 Малич. Указ. соч. С. 91.
4 Не следует забывать при этом об известном здоровом скептицизме,
каковой может, не без некоторого умысла, быть проявлен по отношению
к этому плоду «собирательно-редакторских» рук В.И. Глоцера. Из ряда
скептических мнений о достоверности как редакторской работы
Глоцера, так и самой сути воспоминаний Марины Малич, см., напр., такой
недобрый критический экзерсис: Сажин В.Н. Марина Дурново. Мой муж
Даниил Хармс//Новая русская книга. СПб., 2001. № 2. С. 48-^9.
Здесь может быть актуальна и очень важная в русском (и
международном) мифопоэтическом модернизме (авангард как его
интегральная часть) проблема авторской искусственной «маски». Как
пишет автор, вплотную занявшийся этой проблемой (как раз на
материале Хармса и едва ли не впервые в нашей науке):
При переходе от комбинаторного макета к маске задействуется
фундаментальная интуиция поверхности (и фактуры). Как нам
представляется, упомянутый ранее проволочный октаэдр (модель конфигурации) —
нечто большее, чем метафора. Образ многогранника как некой
совершенной фигуры является одной из констант поэтического мира Хармса.
Мысля грани не как проволочные, но как сплошные и освещенные — мы
к дискретно-комбинаторному примитиву добавляем интуиции
пластические и континуальные [Шифрин Б.Ф. Маска и естество: морфологическая
тема Даниила Хармса // Школа органического искусства в русском
модернизме. Studia sllavica Finlandensia. Helsinki, 1999. T. XVI/2. С. 175-196).
Проблеме взаимоотношения «автора-и-персонажа» у Хармса
отчасти посвящена давняя кандидатская диссертация ведущего поэтических
разделов московского журнала «НЛО» Ильи Кукулина: Кукулин И.В.
Эволюция взаимодействия автора и текста в творчестве Д.И.
Хармса/Российский Государственный Гуманитарный Университет,
Историко-филологический факультет. М.: РГГУ, 1997. Сама диссертация
сегодня кажется совершенно «малоактуальной» (т. е. «стремительно
постаревшей») ввиду последних очень плодотворных лет
международного хармсоведения; впрочем, невероятную (даже по тем временам)
библиографическую скудность научного аппарата этой «ученой»
работы (см. полную библиографию диссертации: http:y^arrns.lipetsk.ru/texts/
kuk2g.html) извинить вряд ли возможно, и авторитет
диссертационного формального руководителя академика М.Л. Гаспарова играет здесь
с Ильей Кукулиным, думается, несколько злую шутку. См. весьма
!8*
275
характерные слова М.Л. Гаспарова о Кукулине в письме от 19
октября 2001 года: «Это бывший мой аспирант, ленивый и чудаковатый,
написавший когда-то очень эссеистичную диссертацию о Хармсе»
(http://magazmes.iTiss.ru/nlo/2006/77/gal9.html). Тем не менее ряд
замечаний этого московского диссертанта о «шаманизме Хармса», хотя
они и сделаны при полном и досадном отрыве от профессионального
поля интердисциплинарного многоссылочного изучения шаманисти-
ческой парадигмы (в антропологии и истории), где книга Е.С. Новик
смотрится крайне сиротливо, тем не менее заслуживают
читательского внимания.
5 У нас имеются достойнейшие предшественники, которые, по сути,
проторили и легитимизировали открытый способ работы с табуирован-
ными означающими и означаемыми. См. работы Б. Успенского, Ю.
Левина, В. Живова, М. Шапира, А. Жолковского, многие из которых опубн
ликованы в сборниках «Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор.
Литература» (М., 1996) и «Русская альтернативная поэтика» (М., 1990).
Немало в данной связи сделал и Алексей Плуцер-Сарно. (См. также
примеч. 28 редакторского Вступления в настоящем сборнике.)
Важна работа Николая Богомолова: Богомолов H.A. «Мы два грозой
зажженные ствола» // Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор.
Литература. М., 1996. С. 297—328, где дается важный анализ
сексуально-порожденных творений рассматриваемых литературных движений,
включая необходимую библиографию по теме.
В определенном смысле ценна и специальная штудия Д.В. Токарева,
посвященная психологическому и философскому анализу сексуального в
поэтике Хармса 30-х годов: Поэтика насилия: Даниил Хармс в мире
женщин и детей//Национальный Эрос и Культура/Г. Д. Гачев, Л.Н.
Титова. М., 2002. Т. 1.С. 345—404. В своей «идейной» работе Токарев во
многом опирается на мысли М.Н. Золотоносова (в особенности на его
известную работу: Слово и Тело, или Сексагональные проекции русской
литературы: Неформальное введение в антологию фаллистики^
Петербургские чтения. СПб., 1992. № 1. С. 182—215). В этой недавней статье
Д.В. Токарев, среди прочего, акцентирует, в том числе и сходные с
нашим видением хармсовского отношения к Женщине и Сексу моменты.
А именно: особое «сексуальное притяжение, которым обладает
женщина, а точнее женское тело и особенно всё, что связано с женскими
половыми органами» (С. 346). Или — подчеркивание всегдашней сексуальной
готовности женского тела, доступной Хармсу обонятельно, что особенно
акцентирует хармсовское понимание женской сексуальности, как
доминантной, заполняющей собой «мужскую» (С. 351).
К сожалению, наряду с этим, исследователь уходит в гораздо
более методологически зыбкие размышления, где он говорит о таких
однозначно присущих Хармсу болезненных аспектах, как садизм,
импотенция, эксгибиционизм и вуайеризм, что, несомненно, открывает
простор для самых разных квазинаучных спекуляций.
(Смущают и такие обескураживающие заявления Токарева, как:
«<...> подобно тому, как женщина притягивает и одновременно от-
276
талкивает его (т. е. Хармса. — Д.И.), ненависть к детям скрывает
неосознанное желание самому стать ребенком» (С. 346)).
Эксплифицируя логику вышесказанного, получим нехитрую
максиму: все, кого я ненавижу, = подсознательно хочу ими стать.
Механика работы этого странного силлогизма остается неразработанной.
В дополнение см. также небольшой текст Ф.В. Кувшинова «Тело
Д.И. Хармса» (http://xaiTns.lipetsk.ni/texts^uv3.hnTil).
6 Ввиду отсутствия «конвенционально-академического» Полного
собрания сочинений Хармса (по ряду авторитетных мнений,
существующее: Хармс Д. Полное собрание сочинений: В 6 т. / Ред. В.Н. Сажин.
СПб., 1997—2001 отнюдь не отличается слишком большими
текстологическими достоинствами — об этом см.: Мейлах М. Примечания//
Даниил Хармс. Дней Катыбр / Ред. М. Мейлах, В. Эрль. М., 1999. С. 517,
на что В.Н. Сажин частично ответил, упрекнув М. Мейлаха в
«избыточной самоуверенности» (Сажин В.Н. Послесловие//Д. Хармс.
Полное собрание сочинений. Неизданный Хармс. СПб., 2001. С. 277)), мы
из соображений удобства будем в основном цитировать хармсовские
тексты по наиболее «объемистому» (1120 страниц) однотомнику
Хармса, изданному в 1999 г. в Санкт-Петербурге под названием «Цирк
Шардам» (под ред. В.Н. Сажина). Михаил Мейлах меж тем дал
поистине истребительную (в духе Долинин—Эткинд) рецензионную
оценку всего сажинского проекта: Трансцендентный беф-буп для
имманентных брундесс//Критическая Масса. 2004. № 1. С. 131—135. В этом
тексте содержится завуалированная ремарка в наш, думается, адрес.
М. Мейлах, в частности, пишет: «<...> Интернет уже наполнен
рассуждениями о том, предпочитал ли он (речь, естественно, о Д. Хармсе. —
Д.И.) cunnilingus'y fellatio или наоборот...» Поскольку мы не знаем ни
единого сетевого (или любого другого) аналитического (референтивного)
текста, который увязывал бы творчество Хармса с языково-лижущим
cunnilingus'oM (про минетообразное fellatio надо спросить у Мейлаха:
кажется, никто до сих пор не заподозрил Хармса в гомосексуализме, в
то время как Хармс 'нигде не пишет' о факте собственной
заинтересованности в пассивном получении именно такого вида ласок от женских
субъектов любви), кроме текста нашего сочинения, опубликованного на
сайте «Митиного журнала» (http:y/www.mitin.coin^ мы
вынуждены принять сардоническую инвективу уважаемого хармсоведа
именно на наш счет. В качестве «мотивации» утверждения, что Хармс,
как ни странно, был весьма заинтересован в именно cunnilingus'e, мы
просим МЕихаила Мейлаха перепрочесть приводимые нами в данной
статье тексты Д.И.Х. Станет ли исследователь утверждать, что:
• это тексты не-Хармса, но, скажем, какого-нибудь «Валерия
Сажина» (или «В. Глоцера», далее можно подставлять по вкусу);
• в них описан не-авторский cunnilingus, но «куннилингус» в своей над-
персональной абстрактности;
• описан, но как бы случайно, и им можно пренебречь для
формирования «сенсуально-сексуального» образа поэта?
277
' Мы цитируем по популярному изданию В.Н. Сажина со всеми
возможными «описками», понимая, ввиду недавнего комментария
М. Мейлаха в «Критической массе» за 2004 год, всю академическую
нестрогость подобного процесса.
8 Из многочисленных прямых и косвенных свидетельств хармсов-
ского относительно приязненного интереса к евреям см., к примеру,
весьма красноречивые слова Марины Малич: «У нас было много
друзей-евреев, прежде всего у Дани. Он относился к евреям с какой-то
особенной нежностью. И они тянулись к нему» [Глоцер В. Марина
Дурново... С. 78).
9 Своеобразную психологическую интерпретацию этой сексуальной
«перверсии» Хармса дает в своей вышеупомянутой статье Д.В. Токарев.
Для этого исследователя пристрастие Хармса к куннилингусу
представляет собой опосредованное следствие фобического феномена vagina
dentata, т. е. той самой страшной «зубастой вагины», которая может
поглотить половой член мужчины, лишая его фаллоса. Во фрейдовской
психологии данный мужской «страх кастрации», как известно,
«балансируется» женской penis envy — ревностью женщин к мужскому
фаллосу и обсессивной неудовлетворенностью его (у них) изначальным
отсутствием. Замена «обычного» полового акта с женщиной на «лишь»
оральную его форму (да и то не «нормативную» в контексте обычного
мужчины), т. е. не знаменитый «минет» (известный, например, по не
менее знаменитому поэтическому фрагменту Иосифа Бродского,
«приучившего ее к...»), но изощренную и относительно менее
распространенную среди мачоистского мужского поголовья практику куннгыингуса,
мотивируется Токаревым таким образом:
Если нормальный половой акт представлялся Хармсу неким
поглощением, поеданием (архитипический феномен vagina dentata) женщиной
мужской индивидуальности, следствием чего является разрушение
структуры сознания и растворение в родовой стихии, то направленность этого
поглощения будет прямо противоположной при вышеуказанной
перверсии (в том ее варианте, когда активную роль играет мужчина).
Токарев здесь говорит о форме орального секса Хармса, при
котором именно поэт играет доминирующую «ласкающую» роль, а
женщина выступает лишь пассивным объектом, получающим
удовольствие от его действий:
теперь уже мужчина поглощает женщину, а не наоборот (как было бы при
vagina dentata. — Д.И.). Так каннибалистское поедание женщины
превращается в символический акт не только поедания мира как такового, но и
текста, который, не в силах преодолеть притяжение материального, является
его отражением. Попытки оборвать текст, остановить его поступательное
движение, свойственные прозаическому творчеству Хармса, выступают как
реализация этой агрессивности, направленной на достижение добытийствен-
ной пустоты, абсолютного ничто, стремление к которому вытесняет в
творчестве Хармса 30-х годов желание преобразить мир за счет трансформации
сексуальной энергии в творческую (Токарев. С. 377).
278
10 См.: Богомолов H.A. «Мы два грозой зажженные ствола...». О
совместном хождении по московским ночным борделям Брюсова и
Бальмонта см. брюсовские (весьма, как сетуют многие исследователи,
неаккуратно и неполно, с досадными купюрами, происходящими из
общего настроя советского времени) опубликованные «Дневники
1891-1900» (М., 1927. С. 19-20).
См. также немало описывающий «проспггутско-бордельную»
топику недавно опубликованный текст В.Я. Брюсова «Декадент», созданный
в период «символического созревания» в ту пору еще весьма юного
поэта: Брюсов Валерий. Декадент//Вступ. ст., публикация и примечания
H.A. Богомолова//Эротизм без берегов/Ред., сост. М.М. Павлова. М.,
2004. С. 297-349.
Ступив на весьма скользкую и «некрасивую» стезю «слухов» и
«рассуждений о грязном белье великих», всё же упомянем и «тему»
венерической болезни Блока, каковой (болезнью) русский поэт
предположительно заразился в некоем петербургском публичном доме,
располагавшемся неподалеку от школы, где собственно он (Блок) и
учился. Эту информацию, со слов A.B. Лаврова, который, видимо,
рассказал об этом Г.А. Левинтону, а тот в свою очередь передал это
Ольге Матич, мы находим доступно опубликованной именно
благодаря последней: ее она и приводит в примечании за номером 4 к своей
недавней статье (ссылаясь также и на архивный дневник тетки Блока,
где М.А. Бекетова также двусмысленно писала о рецидиве этой самой
«страшной болезни» «Сашуры»), см.: Матич Ольга. Александр Блок:
Дурная наследственность // Тело в русской культуре / Сост. Г.И.
Кабакова, Ф. Конт. М., 2005. С. 290. Сведения эти, как пишет Матич,
изначально исходят от покойного академика Д. С. Лихачева,
которому (согласно словам A.B. Лаврова, переданным по приведенной выше
цепочке) указал на здание бывшего борделя, где Блок (по
предположению) и заразился венерической болезнью, известный друг поэта
Евгений Иванов. За достоверность подобного сообщения, думается,
никто из живущих ручаться не сможет. Нам этот провокативный
сюжет показался достойным упоминания в контексте перманентной «об-
сессивной и амбивалентной власти», исходившей от встречавшихся-
Блоком на его жизненном пути городских проституток и под
призрачной властью которых он довольно долго находился. Дальнейшее
развитие этой темы см. в большой недавней монографии
исследовательницы: Matich О. Creating Love's Body: Experimental Life in Russian Fin
de Siècle. Madison: Wisconsin University Press, 2005, имеющей
специальную главу «The Case of Alexander Blok. Marriage, Genealogy,
Degeneration», в которой имеется, в свою очередь, подглавка «Venereal disease
and fear of degeneration» (p. 106—111) — в расширенной форме
повторяющая уже упомянутую топику венерической болезни Александра
Блока, под знаком которой, по мнению берклийской
исследовательницы, прошла едва ли не вся супружеская жизнь четы Блок. От себя
отметим небезынтересный момент (к коему следует присмотреться),
что для автора факт заболевания Блоком венерической болезнью, а
279
именно сифилисом — дело совершенно доказанное, лишь по
ханжеству предшествующих литературоведческих эпох скрывавшееся от
широких масс; так, на с. 109 О. Матич утверждает, что в своей
автобиографии 1918 года Блок самолично подтвердил, что его болезнь
сыграла большую роль в создании неземного образа «Прекрасной Дамы»,
натурально имея в виду, разумеется, сифилис, и ничто иное, и далее
Ольга Матич дает в подтверждение своих слов ссылку на седьмой том
известного восьмитомного собрания поэта [Блок Александр. Собр. соч.:
В 8 т./Под общ. ред. В.Н. Орлова, A.A. Суркова, К.И. Чуковского. М.;
Л. 1963. Т. 7. С. 343). Между тем на указанной странице Блок пишет
вполне невинно: «Начало богоборчества. Она продолжает медленно
принимать неземные черты. На мое восприятие влияет и филология,
и болезнь, и мимолетные страсти...» Почему бы нам не
предположить, что под «болезнью» может скрываться обычный сезонный
грипп, петербургская простуда или любой другой из более
«приличных» недугов, нежели отнюдь не иносказательное и
обескураживающе некамуфлируемое (как, видимо, предлагает О. Матич) называние
поэтом собственного сифилиса per se, который столь неожиданным и
нетривиальным способом формирует топику образов о Прекрасной
Даме. Нашего скептицизма лишь прибывает, когда мы вспоминаем,
что немного ранее автор на полном серьезе приводила скандально
известную своим в высшей степени неряшливым и невразумительным
научным аппаратом книгу одного петербургского (ныне
кембриджского) литературного психолога «Содом и Психея» в качестве чуть ли
не единственного доброкачественного примера правильного обозначения
«болезни Блока» как именно сифилиса — той же болезни, от которой,
по ценному мнению все того же автора «Содома и Психеи»,
скончались такие многогрешные пациенты, как Нищие и Врубель. Нам
трудно разделить столь высокую степень уверенности указанных авторов,
но это не значит, разумеется, что саму тему венерической болезни
Блока и ее точного обозначения следует как-либо замалчивать или
табуировать. Добавим, что помимо этого в той же общей блоковской
главе книги О. Матич содержатся весьма интересные размышления
о взглядах Андрея Белого на Л.Д. Блок как на своего рода «третий
глаз», особым образом фокусирующий их с Блоком «мистический
треугольник», с обязательным упоминанием эпохально значимого
здесь стихотворения B.C. Соловьева «Прекрасная Дама» (с. 98). Кроме
прочего, заслуживает упоминания (в нашем контексте) специальная
глава (четвертая) указанной книги, озаглавленная «Blok's Femme
Fatale» (p. 126—161), где проводится интересная и неожиданная
параллель о связи образа «Незнакомки» и эллинистического (родом из
ареала Средиземного моря) так называемого фаюмского портрета,
который, как писал один ныне покойный полубукеровский автор,
встречается всё чаще и чаще...
11 См.: Сажин В. Блок у Хармса//НЛО. 1995. № 16. С. 140-147;
Кукулин И. «Двенадцать» Блока, жертвенный козел и сюжетосложе-
ние у Даниила Хармса// НЛО. 1995. № 16. С. 147-154.
280
Блока в контексте обэриутов упоминает и Александр Кобринский:
Поэтика ОБЭРИУ в контексте русского литературного авангарда. М.,
1999. Т. 1. С. 12. (Кобринский более заинтересован в Андрее Белом,
и это вполне закономерно.)
Определенные «смысловые» параллели могут возникнуть между
Хармсом и Ватиновым в нашем ключе «текущей женщины», в блоков-
ском контексте «цветка-запаха» женского тела (в т. ч. «проститутско-
го»). Можно упомянуть для примера такие два стихотворения раннего
Вагинова, как «Куртизанка»:
Старуха гладила морщинистые сосцы,
Хлопала себя по отвислому животу
И говорила: «Как мне тяжело, невмоготу».
А в окне от смеха дрожали торцы.
«Да, всё на свете только дым,
А давно ли моя кожа была как атлас,
Глаза сверкали блеском неземным
И в окне от страсти дрожала грязь?»
И старуха голая стала искать
Временем нетронутый уголок,
Хлопать по ляжкам и груди мять,
Пальцами искать чувственности сок.
Но по-прежнему в окне смеялись торцы,
Где-то скрипел петлями сарай;
Старуха, перестав мять сосцы,
Слышала, как кто-то шептал: «Умирай!»
(Вагинов К. К. Стихотворения из альбома, подаренного K.M. Маньков-
скому / Публикация С.А. Кибальника // Ежегодник рукописного отдела
Пушкинского дома на 1992 год. СПб., 1996. С. 180)
или стихотворение «Женщина»:
У женщины есть нежные, пушистые крылья,
Это — ее розовые, как бутоны, бедра,
Где прячутся неземные ароматы, как эскадрилья,
Готовая вылететь во всякое время бодро.
Когда женщина идет, покачиваясь в изящных ботинках,
Разве это не крепость, которая сама себя предлагает,
А ее корсет разве не корзинка,
Где ее груди, как фрукты, взоры ласкают?
Девочки, девушки, женщины, вы не великолепный инструмент,
Вы не сосуд Диавола или Бога,
А просто ресторанный счет или документ,
Где каждый из нас расписывается понемногу...
(Там же)
281
Тема «влажности», «женского запаха», «цветка женщины»
продолжается в разных дополнительных поэтических экзерсисах Вагинова.
См., напр.:
Вы ароматили, как роза чайная!
Вы были остры, как старый бри!
Моя хорошая, моя случайная,
Моя малютка и комбри!
Я вас любил, как любят устрицы,
И вас черпал я до дна.
Моя хорошая, о, златоустица!
И мелодичная, как плеск вина1
(Там же. С. 198)
Или еще интересные «морские» аллюзии (известны сравнения
женских половых органов с разнообразными морскими запахами, с
рыбой, с моллюсками, улитками, устрицами):
Ты — раковина неведомого моря,
Сохранившая моря прибой,
Ты вечно с землею споришь,
Ты вечно готова на бой.
В твоих розоватых извивах
Сохранились свежесть и аромат волны,
И ты воспоминаниями жива,
Которые другим не нужны.
А я, как смешной обломок,
Упавший с неведомой высоты,
Буду искать среди Содома
Покинутые лазоревые следы.
(Там же. С. 211)
Завуалированными «телесно-эротическими» намеками пестрят и
многие другие вагановские строчки. См., напр., из «Ночи на
Литейном»:
Мой бог гнилой, но юность сохранил,
И мне страшней всего упругий бюст, и плечи,
И женское бедро, и кожи женской всхлип,
Впитавший в муках муку страстной ночи.
И вот теперь брожу, как Ориген,
Смотрю закат холодный и просторный.
Не для меня, Мария, сладкий плен
И твой вопрос, встающий в зыби черной.
{Ватное Константин. Стихотворения и поэмы / Подготовка текстов
А. Герасимовой. Томск, 1998. С. 43)
Дополнительные соображения см. в посвященной Ваганову
специальной главе интересной монографии Стивена Хатчинса: Hutchings S. С.
282
Russian Modernism: Transfiguration of the Everyday. Cambridge, 1997.
См. также книги двух немецких исследовательниц (занимающихся в
основном прозой Вагинова), опубликованные Отто Загнером: Bohnet
Christine. Der metanktionale Roman: Untersuchungen zur Prosa Konstantin
Vaginovs. München: Otto Sagner, 1998; Heyl Daniela von. Die Prosa
Konstantin Vaginovs. München: O. Sagner in Kommission, 1993.
Как пишет одна из тех немногих исследовательниц, кто
специально обратился к вопросу хармсовского «жизнетворчества», — Анн Ко-
мароми, уместно вести разговор о своего рода «абсурдистском жизне-
творении» Чудодея, адаптируемом для создаваемых поэтом текстов.
Исследовательница убедительно показала особый способ
синкретического «преодоления» наследия предшествующих Хармсу
авторов-модернистов, осуществлявшийся посредством обращения к
традиционной для русского персонажа образной системе «поэта-пророка» и
одновременно «юродивого шута», см.: Komaromi Ann. Daniil Charms and
the Absurd life-Creation//Russian Literature. 2002. Vol. LIL P. 419-437.
12 Важнейшими современными блоковедами являются (или
являлись до недавнего времени) волею случая представительницы именно
прекрасного пола — две весьма заслуженные академические дамы —
З.Г. Минц и Аврил Пайман (этим замечанием мы ни в коей мере не
хотим «проигнорировать» выдающихся блоковедов-мужчин —
исследователей плана В.Н. Орлова и Д.Е. Максимова). Они представляют
собой образец по-советски «деликатного» текстоведения, где весьма
многое в личной (реальной) и интимно-текстовой жизни Блока
стыдливо бежит исследовательского избирательного называния. «Ночную
Фиалку», как правило, авторы традиционных монографий длительное
время вообще никак концептуально не интерпретировали, ибо нельзя
же назвать адекватной, проникновенной «исследовательской
интерпретацией» те несколько довольно маловыразительных строк,
которые уделяют авторы объемистых монографий тексту этой не самой
заурядной и относительно замысловатой поэмы. См., к примеру: Ру-
тапА. The Life of Aleksandr Blok. Oxford (NY). 1979. V. 1. P. 226-227;
Reeve F.D. Aleksandr Blok: Between Image and Idea. N.Y., 1962. P. 80-
81. На это опосредованно указывает, в частности, и Богдан Сагатов в
примечаниях к своей статье (вкупе с текстом покойного С. Ясенско-
го эти две статьи являются, насколько мы осведомлены (и
натурально будем рады поправке), единственными исследованиями,
посвященными разбору иконографии данной поэмы Блока), см.: Sagatov В.
Blok's Nocnaja Fialka: The Self Through Dream // Aleksandr Blok
Centennial Conference / Ed. W.N. Vickery. Columbus: Ohio, 1984. P. 271-287.
См. также и тоскливо советские монографии этого же типа, напр.:
Минц З.Г. Лирика Александра Блока. Тарту, 1975. В этой, последней,
работе З.Г. Минц в хронологически соответствующей главе «Лирика
Блока периода первой русской революции» вообще не упоминает
«Ночную Фиалку». Об этом стихотворении (в контексте
постулируемой гоголевской константы «двойничества», абсорбируемой Блоком)
речь заходит в ее статье «Блок и Гоголь», где «лирический герой (глав-
283
ный персонаж, от лица которого ведется повествование
рассматриваемой нами поэмы. — Д.И.) наделен поэтическим зрением — ему и
среди пошлости городской жизни «доступны виденья», и он ищет свой
«безмятежный и чистый цветок» и идет за ним, см.: Минц. Блок и
Гоголь//Блоковский сборник П. Тарту, 1972. С. 149.
Поясняя этот момент, Зара Минц пишет, в частности: «Как
известно, сюжет "Ночной Фиалки" был увиден Блоком во сне» (С. 149).
Подобная постановка вопроса, по нашему мнению, выглядит несколько
упрощенной, редуцированной к вульгарно-биографической
самоограниченной интерпретации поэтического текста (на уровне его
непосредственного генезиса). Вместе с тем отрицать явную и эксплицитно «сно-
видческую» природу той текстопорождающей практики, что легла в
основу написания «Ночной Фиалки», было бы в общем неверно. (Блок
не скрывает, а, наоборот, всемерно акцентирует именно эту — онейри-
ческую ипостась описываемого в поэме нарратива.) Сон, о котором
здесь идет речь, несомненно, насколько мы можем судить, имел
место в ночь с 16 на 17 ноября 1905 г. Но, по нашему мнению, этот сон,
о котором Блок сообщает в письме Евг. Иванову, в свою очередь,
являлся лишь отражением той практики, которая была релевантна для.
блоковского бытия в это время (ночные хождения по питейным и
злачным местам, плотное общение с проститутками). То есть сон
здесь выступает не столько в роли некоего единственно значимого
импульса, но лишь работает как часть целой системы факторов,
оказывавших влияние на Блока.
Во многом пионерская монография Л.К. Долгополова «Поэмы
Блока и русская поэма конца XIX — начала XX века» (Л., 1964) в
своих страницах, относящихся к разбору текста поэмы, стремится по
возможности аккуратно суммировать «проявительный» рубеж
интеракции «жизненного текста» автора и «художественного текста» поэмы.
Делается это, как кажется, весьма осторожно, вдумчиво, и, несмотря
на естественные цензурные ограничения, Долгополову удается
сформировать относительно адекватное отношение к рассматриваемому
им тексту:
Аллегория «Ночной Фиалки». <...> это аллегория размышлений и
ощущений. Это не прямое иносказание. Герой поэмы находится во
власти самых разнородных воздействий, вызванных происходящим в
действительной жизни. <...> «Ночная Фиалка» — поэма впечатлений...
(Долгополое. Указ. соч. С. 60).
Впрочем, особенно активно жаловаться на отсутствие интересных
и умных интерпретаций, наверное, «грех», ибо поэме посвящена
специальная блестящая статья (имеющая в своих конечных
интерпретационных выводах определенный диссонанс с нашими
размышлениями): Ясенский СЮ. Роль и значение реминисценций и аллюзий в
поэме «Ночная Фиалка» // Александр Блок: Материалы и исследования.
Л., 1991. С. 70—78. Все необходимые узлы в метафорической
структуре плана композиции поэмы подмечены Ясенским с замечательной
284
полнотой. Особенно ценно, на наш взгляд, увязывание генезиса
создания поэмы с творчеством Гейне вообще и в особенности с его книгой
«Путевые картины. Часть третья. Италия» (1828 г.), где, как сообщает
Ясенский, рукой Блока (в личном экземпляре поэта) были
подчеркнуты слова «ночная фиалка» (Там же. С. 71). Отсюда идет подспудный
след к постулируемому «некрофильскому субстрату» темы «ночной
фиалки» в плане поэтики, как это осторожно формулирует исследователь:
«Греза-воспоминание рассказчика (речь идет о тексте Гейне, где
сохранился карандашный отчерк руки Блока. — Д.И.) о своей мертвой
возлюбленной Марии, о ночи, проведенной у ее тела, о "странном
аромате" ночной фиалки, по-видимому, скрестилась в сознании Блока с
мифом о ее смерти (стихотворения "Вот он — ряд гробовых ступеней"
(1903), "Гроб невесты легкой тканью" (1904))» [Ясенский. Указ. соч.).
Нелишне будет (вслед за Ясенским) увязать поэтику блоковской
«ночной фиалки» с мистической эстетикой немецких романтиков. Тут
весьма логично было бы вспомнить об «эпохальной» книге, вышедшей
при жизни Блока (на которую, к сожалению, ни разу не ссылается
Ясенский), отразившей, как можно предположить, многие «коллективные
представления» (в том числе и) русских декадентов, бытовавшие в
релевантном хронотопическом субстрате (Петербург 1914 года — время
и место первоиздания книги) о мистическом слое немецкого
романтизма: мы имеем в виду знаменитую (фактически дебютную) книгу
двадцатитрехлетнего В.М. Жирмунского «Немецкий романтизм и
современная мистика», переизданную в Санкт-Петербурге в 1996 году (где,
думается, особенно соположена Блоку глава «Мистическая любовь»).
Помимо Гейне, Блоку был весьма близок персонаж из романа Новали-
са — Генрих фон Офггердинген, проводивший жизнь «в погоне за
голубым цветком», как это в сходном духе резюмирует сам карандашно-
маргиналиевьш (от «маргиналия») Блок: «жизнь станет сновидением, а
сновидение — жизнью» [Ясенский. Указ. соч.). Из многочисленных
разноязыких работ о Новалисе нам представляется наиболее близкой
«мистическому сознанию» Блока недавняя объемистая монография
СО. Прокофьева «Вечная Индивидуальность: Очерк кармической
биографии Новалиса» (М., 2000), в особенности ее главы «Герольд спири-
туального христианства», «Источники инспираций Новалиса».
«Немецкое» влияние в этой поэме усиливается, как справедливо
замечает исследователь, в том, что само любимое поэтом название
поэмы «Ночная Фиалка» — это калька с немецкого «Nichtviole», что по-
русски значит «вечерница». Замечая по ходу дела, что это слово служит
еще и обозначением астрономического тела Венеры, исследователь
показывает общую эссенциальность отождествления «ночного цветка
фиалки» с чаемой девой, — по сути, с тайно-видным объектом блоков-
ского интимного желания. При этом, к сожалению, не строится
никакая логическая связь между «венериным цветком», т. е. ночной
фиалкой, и всем культовым комплексом представлений и аспектных
характеристик, естественно бытующим в божественной «сфере Венеры».
Помимо обычных деталировок [венерического] любовного дискурса, нам
285
бы хотелось обратить внимание на один — зело специальный, а именно
на римскоизвестный Mons Veneris, эвфемистически называемый
холмом Венеры — не является ли он (и вообще вся болотновязкая
женская паховая область, покрытая мхом волос) наиболее натуральным
местом для произрастания цветков Венеры — сиречь ночных фиалок?
Мы готовы солидаризироваться с такими значимыми мыслями
Ясенского, как наблюдения, выраженные в подобных размышлениях:
«По сути дела, это (поэма "Ночная Фиалка". — Д.И.)
автобиографические реминисценции собственного жизненного "текста"» (Ясенский.
Указ. соч. С. 66).
Ценно и концептуальное сближение, проделываемое Ясенским
(как и нами в настоящей работе), поэтики «Ночной Фиалки» и
влажной топики болот, «пузырями земли» — вязкой и душнотелой доминан-
то-составляющей блоковской поэзии этого периода.
Между тем наши интерпретации могут радикально разниться в
деталях; так, к примеру, исследователь пишет: «Бархатцы — высокие
растения с желтыми цветками служат в поэме знаком "мещанского
мира", загадочно сопоставленного с миром "Ночной Фиалки"» (Там
же. С. 67). Как можно судить по приводимой в нашей статье
информации, ворсистая «бархатность» этих растений вовсе не обязательно
символизирует блоковскую презрительную оторопь и специально
декларируемую ненависть к мещанству, — как и «загадочность»
этого сопоставления может изрядно пойти на убыль, если принять во
внимание приводимые нами слова Гуля—Валентинова—Белого.
Впрочем, ничего «твердого», плана conclusive evidence, мы сказать этим не
хотим, да и не собирались. Можно лишь сожалеть, что мемуарная
книга Гуля (тогда — на момент писания Ясенским своей важной
статьи — еще не переизданная в России) не была, очевидно, под рукой
исследователя.
Тем временем, как верно подмечает исследователь, о некой
специфической терпкости «вина» «Ночной Фиалки» загадочно говорит в своих
воспоминаниях о Блоке его друг Евгений Иванов, где «тайна» ночной
фиалки увязывается именно с этой вкусовой «терпкостью»: в некоем
заведении Иванов и Блок пьют вино — «вино недорогое, но "терпкое",
главное — с илиловатым отливом^ ночной фиалки, в этом вся тайна...»
(Воспоминания Евгения Иванова об Александре Блоке // Блоковский
сборник. Тарту, 1964. № 1. С. 406). Можно, разумеется, лишь гадать, что же
за загадочная вкусовая терпкость сокрыта во всей тайне ночной
фиалки... Мы между тем вольны напомнить о весьма специфических
вкусовых свойствах, скажем, у женской вагинальной секреции, особенно
ощутимой во время половых контактов; «пробовать» «это» на вкус —
удел адептов куннилингуса, к которым относился (по собственным
декларациям) Даниил Хармс. Относился ли к ним и Александр Блок —
большой вопрос и тайна великая. Известно, к примеру, что в период
писания поэмы сам процесс творчества для Блока был не чем иным,
как, по его манифестационным словам, «моим анатомическим
театром» [Блок A.A. О современном состоянии русского символизма // Собр.
286
соч. в шести томах/Ред. В.Н. Орлов и др. Л., 1982. Т. 4. С. 145). И там
же: «...иначе говоря, я уже сделал собственную жизнь искусством».
Вместе с тем, отрицать вполне значимый жизненный подтекст поэмы как
в плане генезиса ее создания, так и в ракурсе достаточно конкретных
психосоматических событий, сопутствовавших написанию, не будет ни
один из исследователей этой загадочной поэмы. Как верно
подмечает Ясенский, под «Nichtviole» — «ночной фиалкой» —
подразумевается русская вечерница — «ночная красавица» — Hesperis matronalis (ал-
люзив «вечерницы» не как цветка, а как цветочницы = как «ночной
бабочки» — путано-именования проституированного инвалютного
существа, остается избыточно «модерновым», нисколько не
релевантным, насколько мы можем судить, для словесного мира времен
Блока). Это то самое растение с душистыми цветами лилового цвета, одор
которых нарастает с приходом темного времени суток. Ясенский
весьма сильно акцентирует ярко выраженный мотив чувственности и
страстности, обычно связываемый с этим цветком, а также давнюю
личную привязанность к нему Блока (первый букет своей невесте
поэт, по свидетельству его тещи А.И. Менделеевой, составил именно
из них (см.: Ясенский. Указ. соч. С. 71)). В постмодернистски
заостренное заключение добавим, что спецкурс «Утопии в литературе» (в том
числе модернистско-эротические) в Университете Хайфы в свое
время вела исследовательница из Киева Лариса Львовна Фиалкова (она,
напр., лично знала Ю.М. Лотмана, и письма ей Юрия Михайловича
были опубликованы Б.Ф. Егоровым в большом темно-зеленом томе
лотмановских «Писем».) О «Ночной Фиалке», впрочем, сама
Фиалкова особо не распространялась, насколько мы можем припомнить.
13 «Типологии» и методологии мемуарного дискурса мы намерены
посвятить отдельную работу. Из ценных теоретических работ,
посвященных теории мемуарной литературы, можно порекомендовать, в
частности: Folkenflik R. The Culture of Autobiography. Stanford, 1993.
Весьма ценен сборник, вышедший в 1980 году под редакцией Дж. Олни,
и в нем заслуживают специального внимания такие штудии, как:
Gusdorf G. Conditions and limits of autobiography // Autobiography: Essays
Theoretical and Critical/ Obey,J. (ed.). Princeton, 1980; Mandel B.J. Full
Life Now//Ibid. P. 49—72. Весьма ценны и англоязычные исследования:
Lejeune P. On Autobiography. Minneapolis, 1989; Maclean M. Narrative
Performance. L., 1988; Linton M. Ways of searching and the contents of
memory // Rubin D. Autobiographical Memory. Cambridge, 1986; Bruss E.
Autobiographical Acts. John's Hopkins University press, 1976; The
Remembering Self: Construction and Accuracy in Self-Narrative / Neisser U. (ed.).
Cambridge, 1994; SturrockJ. The Language of Autobiography. Cambridge,
1993; Thompson P. Voices of the Past Oxford, 1988; Theoretical Aspects of
Memory / Gruneberg M., (ed.). L., 1994; GunnJ. Autobiography: Toward
a poetics of Experience. Philadelphia, 1982; Spengemann W. The Forms of
Autobiography. Yale, 1980; Stanley L. The Auto/Biographical. Manchester,
1992; SturrockJ. The Language of Autobiography. Cambridge, 1993;
Peterson L. Victorian Autobiography. L., 1986. P. 18—124; Rosen H. Spea-
287
king from memory: The study of autobiographical discourse. L., 1998.
P. 19—20; Pascal R. Design and Truth in Autobiography. Harvard, 1960. He
утратили актуальность и экзерсисы ныне покойного «квазинациста»
Поля де Мана и его друга, также ушедшего «алжирского семита», Жака
Деррида: De Man P. Autobiography as Defacement//Derrida J. The Ear of
The Other: Otobiography, Transference, Translation. New York, 1985;
Jefferson A. Autobiography as intertext: Barthes, Sarrante, Robbe-Grillet //
Intertextuality: Theories and Practices / Worton M. (ed.). Manchester, 1990;
Fischer M. Autobiographical Voices and Mosaic Memory // Autobiography
and Postmodernism/Ashley К (ed.). Harvard, 1994. Имеет значение и
недавняя монография: Николина НА. Поэтика русской
автобиографической прозы: Учебное пособие для студентов, аспирантов,
преподавателей-филологов (Филологический анализ текста). М.: Флинта:
Наука, 2002, к сожалению не вполне учитывающая вышеприведенные
западные исследования. Комплексу мемуарного дискурса на русской
почве XX века посвящена ценная сборная публикация, вышедшая в
Принстоне под редакцией Дж. Харрис: Harris J.G. Autobiographical
Statements in Twentieth-Century Russian Literature. Princeton, 1990. P. 3-45.
В данном издании имеется и необходимая «русскоцентричная»
библиография по данной топике.
14 Здесь речь идет о слове «сикель», или «секель», — так в
просторечии назывался клитор. См.: Blinkiewicz В. Russisches sexuelles und
skatologisches Glossar / Transkribiert von Prof. Joh. K. //Anthropophyteia.
1911. Bd. VTQ. S. 24—27; а также скромную штудию Драммонда и Пер-
кинса: Dictionary of Russian Obscenities / Compiled by D.A. Drummond
and G. Perkins. 3rd, revised edition. Oakland (CA), 1987. P. 71.
Слово «сикель» встречается, в частности, в пушкинской лицейской
поэме «Тень Баркова»: Пушкин A.C. Тень Баркова: Тексты.
Комментарии. Экскурсы / Изд. подгот. И.А. Пильщиков, М.И. Шапир. М.;
2002. С. 146. (Philologica russica et speculative. Tomus П) (реконструкция
текста M.А. Цявловского):
Воспел победу елдаков
Над юными пиздами.
У стариц нежный секелёк
Зардел и зашатался
(реконструкция текста И.А. Пильщикова и М.И. Шапира — «Заныл и
зашатался». — С. 37), т. е. клитор эригировался, немало возбудился —
и встал. (Благодарим Игоря Пильщикова за это указание.)
15 См.: Валентинов Н. Два года с символистами. М., 2000. С. 366.
16 См.: Рабинович Е.Г. Земля//Мифы народов мира. В 2 т. М., 1994.
Т. 1.С. 466—467. Важна недавняя статья В.И. Зазыкина с необходимой
up-to-date библиографией: Зазыкин В.И. Земля как женское начало и
эротические символы, связанные с ней // Национальный Эрос и
культура. М., 2002. Т. 1. С. 39—88. Ср. с «целомудренным»
интерпретированием «земли» в контексте поэмы Блока «Ее прибытие» у Зары Минц:
«"Земля" здесь (в тексте Блока. — Д.И.) не только традиционный ро-
288
мантический образ достигнутого счастья, антоним "бурного моря"
борьбы и страданий. "Земля" здесь — это и понятие, идущее от
демократического, реалистического миропонимания, антоним "неба"...».
«"Земля" — это и родина — образ, <...> которому суждено будет занять
столь важное место в поэзии Блока» (Минц З.Г. Лирика Блока
периода первой русской революции. С. 63). Даже если отвлечься от
характерной «методологической» риторики, к которой, как можно легко
догадаться, обязывала Зару Григорьевну ее позиция «советского
преподавателя», не может не бросаться в глаза некоторая
фрагментарность подобного интерпретирования мифопоэтического (об ином
говорить было бы странно) образа «земли». «Счастье» и «родина»,
разумеется, никак не исчерпывают «земельной» иконографии (хоть бы
и у Блока), а по большому счету, лишь уводят от магистрально-нор-
мативного осмысления «земли» в традиционно хтоническом и
нормативно-принятом облике. Литература, посвященная хтоническому par
excellence аспекту мифологии землщ ее укорененности и родовой
связанности с «нижайшим» пантеоном «мира мертвых», «подземным
царством», необычайно велика (еще со времен старой
немецкоязычной штудии Альтхайма: Altheim F. Terra Mater. Giessen, 1931). В
своей известной монографической штудии о дакском загадочном
боге-пифагорейце Залмоксисе Мирча Элиаде увязывал известную хтоничес-
кую природу этого персонажа (встречающегося еще у Геродота) с
этимологией его имени: Zalmoxis от общего корня zamml, означавшего
землю (тракийский zemelen, вычленяя общеиндоевропейский корень,
обозначающий, по Элиаде, «почву», «землю» —ghemel — zam). Не
случайно, что этот «умирающий» бог уходил «под землю» через пещеру.
См.: Eliade M. Zalmoxis. The Vanishing God: Comparative Studies in the
Religions and Folklore of Dacia and Eastern Europe. Chicago, 1972. P. 44—
45. Упомянем для примера такие важнейшие штудии, имеющие
прямое отношение к хтонической («подземной»), демонологической ми-
фографии земли: Dietrich B.C. Death, Fate and the Gods. The
Development of a Religious Idea in Greek Popular Belief and in Homer. Berlin;
New York, 1974; Marquardt P.A. A Portrait of Hekate // American Journal
of Philology. 1981. 102. № 3. P. 243-260; Karouzou S. An Underworld
Scene //Journal of Hellenic Studies. 1972. № 92. P. 64-73; Pollard J.R.
Seers, Shrines and Sirens. L., 1965; West D.R. Some Cults of Greek
Goddesses and Female Demons. Munster, 1995, где исключительно хтониче-
ско-земельную окраску имеет целый ряд мифологических
персонажей, напр., собачьерожая Геката, сопровождаемая в своей
иконографии жуткими «псами» (мифопоэтические псы — очевидно хтоничес-
кие животные, как показывают исследования A.B. Гуры; см.: ГураА.В.
Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
С. 20—22; здесь же отдельная подглавка «Хтоническая символика»
(С. 201—205); выходит, не случайно так боялся собак, по
воспоминаниям дочери, глубокий знаток мифологии Вячеслав Иванов). О
«низшем» аспекте земли существует и масса других работ, в том числе из
«ближнего» к З.Г. Минц круга исследователей (напр., известная пионер
19 Заказ №К-7531
289
екая и фундаментальная штудия Б.А. Успенского, посвященная
«экспрессивному аспекту» языка, во многом занята фиксацией мифопо-
этического «низшего» образа именно «матери-сырой земли»). Полная
оторванность исследовательницы в интерпретировании «земельных»
образов Блока от мифопоэтической топики вряд ли может быть
полностью оправдана. А для З.Г. Минц подобное интерпретирование Блока
отнюдь не случайно. Даже блоковский цикл «Пузыри земли»
понимается исследовательницей исключительно в терминах блоковской
немного прямолинейной «символизации добра»: «Болотный попик воплощает
в себе именно добрые силы природы» (Минц З.Г. Поэтика Александра
Блока // Минц З.Г. Лирика Блока первой русской революции. СПб.,
1999. С. 47). (Слово «добрые» выделено в тексте курсивом.) Полное
отсутствие глубинного «мифопоэтического» референтивного
инспектирования текстов Блока весьма характерно для работ покойной
исследовательницы. Отсутствие «нормативных» общегуманитарных аппаратных
ссылок лишь с трудом может быть оправдано. Некоторые «птенцы
гнезда» поздней тартуской кафедры (напр., велеречивый из «птенцов»
Глеб Морев в № 46 глянцеватого журнала «НЛО») ведут речь о каком-
то особом драконовском запретном коде, неизменно «вырубавшем» все
«иноземные» гуманитарные цитирования и сноски из трудов несчастных
советских исследователей. Трудности с упоминанием западных работ
в советских публикациях в общем довольно известны. Вместе с тем
«подкожная» еретичность подобного «обобщительного» высказывания
становится особенно заметной при открытии трудов, скажем, Елезара
Мелетинского, В.В. Бибихина, Игоря Смирнова или тех же
блистательных академиков — Топорова, Иванова, Успенского, которые в
параллельные по времени, т. е. самые что ни на есть «застойные», годы
относительно легко указывали в своих советско-академически публикуемых
работах все (или почти все) релевантные западные источники. В обширной
же блокиане Зары Минц, ныне переизданной в трехтомном масштабном
исполнении издательства «Искусство», сносок, увы, практически нет и
вовсе. (Имеются в виду исследования «общего» «междисциплинарного»
филолого-компаративистского и историко-культурного характера, которые,
по-видимому, не в первую очередь интересовали покойного блоковеда.)
Блоковская «разрешенная» «демоничность» упоминалась З.Г. Минц
лишь в самопонятном и безобиняковом контексте злого фабрично-капи-
талистичного и «мещанского» «города», а также в связи с семантикой
обозначения «красного», и отчасти «черного», цвета, легко (и, как всегда,
без каких-либо историко-культурных ссылок) увязываемого с кровью, см.:
Минц 3. Лирика Блока периода первой русской революции. С. 89.
17 Для необходимого отрезвляющего контраста см. серию
взвешенно-скептических статей оригинационно-тартуского филолога Михаила
Безродного: Безродный М. О символике драмы Блока «Незнакомка» //
Тезисы докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам: Русская литература /
Отв. ред. М. Плюханова. Тарту, 1986. С. 42-46; Он же. Поэтика
эпиграфа: (Из комментария к драме Блока «Незнакомка») // Актуальные
проблемы теории и истории русской литературы: Труды по русской и славян-
290
ской филологии. Литературоведение / Отв. ред. Ю.М. Лотман. Тарту,
1987 (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 748). С. 143—149; Он же. К
характеристике аватарской мифологии А. Блока//Функционирование
русской литературы в разные исторические периоды: Труды по русской и
славянской филологии. Литературоведение/Отв. ред. А.Э. Мальц.
Тарту, 1988 (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 822). С. 104—108; Он же. Из
комментария к драме Блока «Незнакомка» // Биография и творчество
в русской культуре начала XX века: Блоковский сборник IX. Памяти
Д.Е. Максимова / Отв. ред. З.Г. Минц, В.И. Беззубов. Тарту, 1989 (Уч.
зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 857). С. 58—70.
См. любопытную статью йельской славистки Хилари Финк, дающую
возможный интуитивно-философский подтекст образу блоковской
Незнакомки: Fink H. From the Aesthetic to the Ethical: A. Kierkegaardian
Reading of Blok's «Neznakomka» // Slavic and East European Journal. 2000.
Vol. 44, № 1. P. 79—91. В этой статье, помимо прочего, весьма занятно
«киркегардианское» обыгрывание знаменитого блоковского in vino Veritas
кричат (p. 81—82). См. также: Иованович М. Незнакомка» Блока и ее
историко-литературный контекст // Zbornik za slavistiku. Belgrade, 1980.
V. 19. P. 43—58; BowltJ. Alexandr Blok: The poem «The Unknown lady» //
Texas Studies in Literature and Language. 1975. V. 17. P. 352—359. Ср.
«суммирующие» слова З.Г. Минц (исследовательница предлагает схему, в
соответствии с которой «Прекрасная дама» => «Падшая звезда» ==>
«Проститутка». — С. 143): «Героиня "второго тома" (т. е. Незнакомка. — Д.И.)
и тесно связана со своей предшественницей — Прекрасной Дамой, и
вместе с тем резко отделена от нее, противопоставлена ей как "антитеза"»
[Минц З.Г Лирика Блока периода первой русской революции. С. 77).
Или в другом месте: «Ее (Незнакомки. —Д.И.) невинность и скромность
оказьюаются обманом, сама она — проституткой, "вольной девой"; ее
жилище, казавшееся храмом, — публичный дом. <...> Для Блока
притягательность "падших дев" — один из главных мотивов <...>» [Минц З.Г.
Блок и Гоголь. С. 146). Ср. знаковую характеристику блоковской
Незнакомки у Юрия Анненкова:
Студенты, всяческие студенты, в Петербурге знали блоковскую
«Незнакомку» наизусть. И «девочка» Ванда, что прогуливалась у входа в
ресторан «Квисиана», шептала юным прохожим:
— Я уесь Незнакоумка. Хотите познакоумиться?
«Девочка» Мурка из «Яра», что в Большом Проспекте, клянчила:
— Карандашик, угостите Незнакомочку. Я прозябла.
Две девочки от одной хозяйки с Подьяческой улицы, Сонька и
Лайка, одетые как сестры, блуждали по Невскому (от Михайловской улицы
до Литейного проспекта и обратно), прикрепив к своим шляпам черные
страусовые перья.
— Мы — пара Незнакомок, — улыбались они, — можете получить
электрический сон наяву. Жалеть не станете, миленький-усатенький (или хо-
рошенький-бритенький, или огурчик с бородкой) <...> (Анненков Ю.
Дневник моих встреч. М., 2001. С. 31).
19*
291
Интересно, что в комментариях O.A. Кузнецовой (в изд.: Блок A.A.
Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах. М., 1997. Т. 2. С. 760—
763) их автор не сочла возможным привести важный список
опубликованных материалов об этом знаковом тексте. Характерно, что весь
образ «незнакомки» трактуется комментаторами новейшего ПСС
совершенно, на наш взгляд, маловразумительно. В общей методологии
комментирования этого блоковского новоакадемического расшиоЬровыва-
ния восстают из праха древние (родом из совдеповского
литературоведения) идеи прекраснодушного лицемерного ханжества, «запрета»
говорения об интимном, соромном. Ибо, как известно, «у советских женщин
секса нет». Слова <<гфосгитутка>>, «блудница», «вольная дева легкого
поведения» и прочие из того же семантического ряда вообще не
упоминаются в этом позиционно академическом тексте «расшифровки» данного
текста. Что хотел сказать Блок этим замысловатым произведением? Кого
он описал? К кому ходил, чьего общества искал в уютных кабинетах
кабаков, в «домах» на Подьяческой, в бесчисленных ужинах и
«заказанных беседах»? Комментаторы несколько раз упоминают вопрошение
Н.Я. Абрамовича: «Кто эта незнакомка?» Ответа они почему-то не дают.
Антиномийная поэтическая метафизика многих русских авторов была в
свое время блестяще рассмотрена в работе американского ученого Дени-
эла Ранкура-Лаферьера («Гений чистой красоты и вавилонская
блудница»), где дается психологический аккузатив причинной возможности
единовременного уживания в пушкинском сознании «мимолетного виденья» и
«<...> Mde Керн, которую с помощью Божией я на дняхуёо». Нечто похожее,
кажется, происходило и с Блоком. Помимо отсутствия слова
«проститутка», помимо отсутствия снесения со всем научным аппаратом
исследований, вплотную занимающихся образом «незнакомки» (см. далеко не
полный список, приведенный выше), следует указать на еще одно важнейшее
мемуарное упущение. Почему авторы Комментария исключили из
числа легитимных источников, важных для понимания Блока, именно Юрия
Анненкова? Неужели они решили следовать желчной ремарке
Адамовича, воспроизведенной в воспоминаниях Ю.Г. Оксмана, в свою очередь
передававших шепотные слова Ахматовой, дескать: «Жалкое
впечатление произвел Юрий Анненков» (Человек жизнерадостный и
жизнедеятельный...: (набросок портрета Ю.Г. Оксмана по материалам его архивов:
Обзор Д.А. Зайцева) //Встречи с прошлым. 1990. № 7. С. 566). И там же,
рядом: «По словам Адамовича, Георгий Иванов сознательно
фальсифицировал свои мемуары и даже не оспаривал этого в разговорах с друзьями...»
Ну так это Жорж Иванов — не Анненков. Последний между тем
оставил нам самый эксплицитный и ценный ответ на вышеуказанный
вопрос Н.Я. Абрамовича (см. цитату из Анненкова выше). Как пишет
в недавней статье Ольга Матич, весьма взвешенно настаивая на «пад-
шести» и общей антитетичной «инфернальности» образа блоковской
Незнакомки:
Поэт отождествляет антитезу символизма со своей дамой под вуалью.
Ее зовут «Незнакомкой», таинственной женщиной с петербургской улицы,
292
через современное лицо которой просвечивает древняя Дева. <...> Она
приходит облаченной в шелковые покровы, туманы и духи, повествующие о
древности. <...> Символизируя ее связь с подземным миром и смертью,
перья на ее шляпе — «траурные». Она — мертвое тело истории, чье перворож-
дение поэт открывает за темной вуалью. <...>. В своем докладе 1910 года
Блок утверждает синкретизм Незнакомки, описывая ее как «дьявольский
сплав из многих миров» (Матич О. Покровы Саломеи: Эрос, смерть и
история//Эротизм без берегов/Ред., сост. ММ. Павлова. М., 2004. С. 102—103).
См. также свидетельство Федора Степуна: «Проститутки с
Подьяческой улицы, гуляя по Невскому с прикрепленными к шляпам
черными страусовыми перьями, рекомендовали себя проходящим в качестве
Незнакомок» (Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Л., 1990. С. 318).
Между тем важнейшую парадигматическую тему прочной связи
мифопоэтических образов «блудницы» и урбанистического поэзиса
международного символистского движения можно найти (без
привлечения русского материала) в замечательной книге Шарон Гирш,
опубликованной не так давно издательством Кембриджского
университета: Hirsh S.L. Symbolism and Modern Urban Society. Cambridge University
Press (England), 2004, в особенности гл. 4 «The Sick City» и гл. 5 «The City
Woman» (p. 103—217). Мы развиваем тему «городской женщины» и
поэтики символизма в нашей специальной работе: The Discourses of
Love: preliminary observations regarding Charles Baudelaire in the context
of Brjusov's and Blok's vision of the 'urban woman' // Russian Literature.
Amsterdam, 2007. В отношении темы «городов блудниц» (важной с
библейских времен) существует самостоятельная компаративная
библиография. Укажем в качестве характерного и удачного примера на недавнюю
очень интересную статью Сергея Неклюдова, выполненную на русском
материале: Тело Москвы: К вопросу об образе женщины-города в русской
литературе^Тело в русской культуре/Сост. Г.И. Кабакова, Ф. Конт. М.,
2005. С. 361-386.
18 Речь идет об обстоятельствах написания поэмы, где была
отражена непосредственная жизнь поэта, конкретные обстоятельства,
имевшие место, в частности, в некоем конкретно произошедшем, уже
упоминавшемся дне — 16 ноября 1905 г. и сне, имевшем место тогда же.
См. текст письма от 3 декабря 1905 г. Блока к его близкому другу —
Евг. Иванову:
Милый Женя.
Сейчас с радостью сижу дома и не иду к Мережковским. А ты, верно,
там. Если б ты знал, что было со мной всю неделю! Два раза в день ходил:
сначала в Публичную библиотеку (Венгеров дал работу, а потом — на
«литературные собрания», откуда, пьяный, возвращался утром. <...>
<...> 16 ноября мне приснилось нечто, чем я живу до сих пор. Такие
изумительные сны бывают раз в год - два года... [Блок Александр. Собрание
сочинений в восьми томах / Под ред. В.Н. Орлова, A.A. Суркова, К.И.
Чуковского. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 141-142. Курсив наш. - Д.И.).
293
Словарь «Русские*писатели XX века. Библиографический словарь»
(М.: Просвещение, 1998. Т. 2), в частности, пишет об интересующем нас
периоде, устанавливая тем самым некий «исследовательский
консенсус» (по крайней мере, для поголовья российских авторов):
Единый, всеобъемлющий образ Вечной Женственности распадался в
сознании поэта на разнородные женственные лики. Это и загадочная
«Незнакомка», и «площадная проститутка», и просто встречная
женщина. <...> Лирический герой произведений тех лет (1904—1907) —
окунувшийся в стихию жизни поэт, «посетитель ночных ресторанов», во многом
разуверившийся, но всегда готовый принять от изменчивого мира миг
«нечаянной радости». Именно так — «Нечаянная Радость» — Блок назвал свой
второй сборник (1907). «Нечаянная Радость» — первые жгучие и горестные
восторги — первые страницы книги бытия. Чаши отравленного вина,
полувоплощенные сны. С неумолимой логикой падает с глаз пелена,
неумолимые черты безумного уродства терзают прекрасное лицо. <...>
Добавим, однако, что образ «Нечаянной Радости» был далеко не
однозначен для Блока. В конструкт этого момента входила, без
сомнения, и парадигматика иконического осмысления Богородицы, которая
знает знаменитую икону «Нечаянная Радость» (радость, которую не
чаяли постигнуть). Как пишет православный популярный источник,
«икона Божией Матери, именуемая «Нечаянная Радость», пишется так:
в комнате, вверху — икона Божией Матери, а внизу около нее —
коленопреклоненно молящийся юноша. Предание об исцелении некоего
юноши от плотской страсти через эту святую икону описано в книге
святителя Димитрия Ростовского «Руно Орошенное».
Юноша молился по привычке перед образом Пречистой и вдруг
увидел, что изображение ожило, язвы Господа Иисуса раскрылись и
кровоточат. В страхе он воскликнул: «О Госпожа, кто это сделал?» На что
Богородица отвечала: «Ты и прочие грешники грехами своими вновь
распинаете Сына Моего». Тогда только раскрылась перед ним бездна его
грехопадения, долго молил он в слезах Богородицу и Спасителя о
помиловании. Наконец была дана ему не чаянная им уже радость прощения и
оставления грехов.
О важности истории «Руна Орошенного» для судеб русского жизне-
творчества (в контексте алхимии и аргонавтизма) см. нашу подробную
статью: Жизнетворчество русского модернизма sub specie semioticae //
Критика и Семиотика. 2005. Т. 8. С. 126-179.
19 См. об анализе этих фрагментов, в частности, у В.Н. Орлова:
Александр Блок. Очерк творчества. М., 1956. С. 82—84.
Сравните сходные мысли, выраженные и у Л.И. Тимофеева:
Творчество Александра Блока. М., 1963. С. 44—51.
20 О болотной тематике в контексте Блока говорит и В.Н. Топоров,
см.: Топоров В.Н. «Куст» и «Серебряный голубь» Андрея Белого: К
связи текстов и о предполагаемой «внелитературной» основе их // Бло-
294
ковский сборник ХП / Отв. ред. А. Мальц. Тарту: ТОО «ИЦ-Гарант»,
1993. С. 91-109.
21 Для несколько провокативного примера см. стихотворение
«Превратила всё в шутку с начала...», написанное 29 февраля 1916 г.
после некоего эпизода, когда очередная пассия Блока — оперная певица
Л.А. Андреева-Дельмас не пришла к нему на встречу.
В финальной строфе там есть такие строки:
Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое...
Это «дело» как обычно комментировалось — в духе «приличий» и
первого, что приходит на ум, — «писание поэтом стихов», то, к чему
он должен всегда возвращаться. Однако, думается, этим старинным
делом может лаканиански оказаться как само вытесняемо-умалчиваемое
занятие предосудительной мастурбацией (см.: Захарьин Дмитрий.
Просветительская болезнь Mensturpatio: История неприличного в слове
и жесте // Lebenskunst — Kunstleben. Жизнетворчество в русской
культуре XVTQ—XX вв. / Hrsg. Schahadat Schamma. München: Otto Sagner,
1998. P. 49-89).
22 Сексуально-маркированная аллюзивность образа веретена может
быть спекулятивно (как едва ли не всё в психоанализе) усмотрена, к
примеру, в волшебных (но при этом непропповских) сказках. В
частности — у Шарля Перо, где известное инициационное «укалывание»
девушки имеет особую сексуально-маркированную 'фаллически-пенет-
рирующуюся' значимость.
О механизме формирования подобной психологии см. (помимо
известной работы Эриха Фромма), напр.: Дикман X. Сказание и
иносказание: Юнгианский анализ волшебных сказок. СПб., 2000
(особенно гл. «Сказочные мотивы в сновидениях и фантазиях» — с. 62—87).
О сильнейшей связи пряденья с куньим пушистым мехом, где
кажущаяся омонимичность индоевропейского вагинального слова «сипа»
весьма красноречива (оттуда происходит и вульгарно-английский
известный вариант «cunt» или французский арагоновский увяз «Гсоп»)
весьма красноречива), вообще с куницей, общей эксплицитной сексо-
родовой символикой и женским телом в мифопоэтической народной
традиции см. специальную главку «Мотивы пряденья и ткачества» в
ценной монографии: Гура A.B. Символика животных в славянской
народной традиции. М., 1997. С. 218—251.
Вместе с тем очень естественно было бы предположить здесь и
дополнительный аспект «парок», «пряденья нити жизни-судьбы» (в
плане предсказания и созидания будущего). См. об этом различные
статьи в сборнике: Понятие судьбы в контексте разных культур / Ред.
Н.Д. Арутюнова. М., 1994; а также: Горан В. П. Древнегреческая
мифологема судьбы. Новосибирск, 1990 (особенно подглавку «Следы
веры в магию в образе Судьбы-Пряхи» — с. 88—96). Очень полезна
монография Е.В. Приходько, содержащая всю небходимую научную
295
библиографию по теме: Приходько Е.В. Двойное сокровище:
Искусство прорицания в Древней Греции. М., 1999.
23 См.: Белый Андрей. Эпопея. Берлин. 1922. Т. 1. С. 264.
24 Там же. С. 278-279.
25 См.: Блок Л. Д. Неопубликованный фрагмент воспоминаний из
«Быль и небылицы о Блоке и о себе» // Philologica. 1996. V. 3. С. 50—53.
26 Блок А. Безвременье. С площади на «Луг Зеленый» // Собр. соч.
в шести томах / Ред. В. Орлов. Л., 1*982. Т. 4. С. 29.
27 Заметим, что взгляды Блока на цветовую символику русского
символизма в общем описываются поэтом в тексте апокалиптического
1905 года под названием «Краски и слова» (ср., напр., с известным
текстом Андрея Белого «Священные цвета»). Для общего
дескриптивного описания, перечисляющего все основные цвета, встречающиеся
в трех томах лирики Блока, см.: Миллер-Будницкая Р.З. Символика
цвета и синэстетизм на основе лирики Блока // Известия Крымского
пединститута. 1930. Т. 3. С. 79—144. См. также не так давно
написанную интересную статью H.A. Фатеевой «Три цвета: голубой, черный,
красный: Поэзия Блока как источник интертекстуальных
заимствований» (http://vvww.humlang.newmaü.ru/articles/blok.h как и ставшую во
многом «классической» работу: Тарановский Кирилл. Некоторые черты
символики Блока» // О поэзии и поэтике. М., 2000. В контексте общего
разговора о цветовых мирах Блока важна также и общая
систематизирующая монография: Peters J. Farbe und licht: Symbolik bei Aleksandr
Blök. München, 1981. О синэстезии per se см. многие специальные
работы, напр.: Harrison John Е. Synaesthesia: the strangest thing. Oxford; New
York: Oxford University Press, 2001; Dann Kevin T. Bright Colors Falsely Seen:
Synaesthesia and the Search for Transcendental Knowledge. New Haven: Yale
University Press, 1998.
Блоку, возможно, была знакома работа Жюля Милле: Millet, Jules.
Audition colorée. P., 1892, или небольшая брошюра Анри Лорре: Laures
Henry. Les synesthésies. Paris: Bloud, 1908. (Bibliothèque de psychologie
expérimentale et de mètapsychie; v. 6). Обе книги, впрочем, отсутствуют
в известном нам списке книг из личной библиотеки Блока. О синэсте-
тизме в контексте Белого см. важную монографию Кастеллано: Castel-
lano С-A. Synaesthesia: Imagination's Semiotic in Andrey Bely's «Peterburg».
Michigan, 1981; а также весьма интересную статью Ами Манделкера:
Mandelker A. Synaesthesia and Semiosis: Icon and Logos in Andrei Bely's
«Glossalolija» and «Kotik Letaev» // Slavic and East European Journal. 1990.
Summer. Vol. 34. P. 157—178. В отношении уайльдобразного
декадентства см.: Severi R. Oscar Wilde & Company: Synaesthesie fin de siècle.
Bologna, 2001. См. также свод важных текстов, представленных в
сборнике Бар-Коэна и Харрисона: Synaesthesia: Classic and Contemporary
readings /Ed. by Simon Baron-Cohen and John E. Harrison. Cambridge
(MA): Blackwell, 1996.
28 Блок А. О современном состоянии русского символизма//
Собрание сочинений в шести томах / Ред. В. Орлов. 1982. Т. 4. С. 147. Об
296
этом см.: Богомолов H.A. К истолкованию статьи Блока «О
современном состоянии русского символизма» // Богомолов H.A. Русская
литература начала двадцатого века и оккультизм. М., 1999. С. 186—203.
29 Там же. С. 148.
30 См. об этом, в частности: James Vaughn Kohl and Robert T. Francoeur.
The Scent of Eros: Mysteries of Odor in Human Sexuality / Foreword by
William Hartman and Marilyn Fithian. New York: Continuum, 1995; а также:
Hopson Janet L Scent Signals: the Silent Language of Sex. New York: Morrow,
1979. Co времен Ивана Блоха [Bloch Iwan. Odoratus Sexualis: a Scientific
and Literary Study of Sexual Scents and Erotic Perfumes. New York: Gargole
Press, 1934; и Дэна Макензи: McKenzie Dan. Aromatics and the Soul: a Study
of Smells. L.: W. Heinemann, 1923; наука «биофизики запахов»
продолжает развиваться; см. исследование о Люке Турине, современном
биохимике, авторе теории о запахах и их возбудителях: Burr Ch. The Emperor of
Scent a Story of Perfume: Obsession, and the Last Mystery of the Senses. New
York: Random House, 2002. См. также популярное исследование: Glaser
Gabrielle. The Nose: a Profile of Sex, Beauty, and Survival. New York: Atria
Books, 2002; или другое не менее популярное о так называемом «органе
Якобсона» (связь с P.O. исключена): Watson Lyall. Jacobson's Organ and the
Remarkable Nature of Smell. New York: W.W. Norton, 2000; кроме этого,
см. прекрасную сборную антологию, посвященную осмыслению роли
запахов в жизни различных культур: Ароматы и запахи в культуре:
Исследование по культуре повседневности / Сост. Ольга Б. Вайнштейн. В
2-х кн. М.: НЛО, 2003, где в нашем конктесте важны психоаналитические
работы Фрейда: Фрейд о запахах / Сост. Е. Марунина. С. 183—188;
кроме этого: Ле ГерерАнник. Три истории о носе и происхождение
психоанализа/Пер. Е. Маруниной. С. 188—206; Куперман В., Зислин И. Обоняние
как инструмент визионера. С. 206—218; и в особенности: Стил В. Объект
желания: фетиш в современной парфюмерии/Материал Е. Жирицкой.
С. 218—225. Из заключительного раздела Книги первой («Запах, тело и
гигиена») в нашем контексте компаративно важны работы: Вшарелло
Жорж. Чистое и грязное: Телесная гигиена со времен Средневековья:
(Главы из книги) / Пер. М. Неклюдовой. С. 519—557; Лапорт Доминик.
Non ölet — Не пахнет / Пер. А. Васильевой. С. 557—573. Топика запахов
муссируется и в таких «проблематичных» «желтых» книгах, как: Cunni-
lingus Connie. Ekstase i Carmencita, K0benhavn: Attika, 1999; Home Stewart.
Cunt L.: Do-Not Press, 1999.
Вспоминается, кроме всего прочего, стихотворение довольно
раннего Константина Вагинова:
Ароматы
Запах роз — волнует и пленяет,
Запах ландыша — зовет куда-то вдаль.
Запах водопада свежестью ласкает,
Запах звезд струит печаль.
297
Аромат луны звучит как клавесины
В старом замке, в голубой стране,
Где лепечут нежно апельсины
И живут в каком-то странном сне.
Запах солнца, пряный и пурпурный,
Зажигает страсть в потухнувшем пруде,
Он мотив каскадный и ноктюрный,
Он кусочек олова в воде.
Ароматы властвуют повсюду,
Ароматы — это целый мир
С музыкой, подобно изумруду,
С розами как оргия иль пир.
{Ватное. Указ. соч. С. 190-191)
О тактильно-ароматической «женской розе» оставил любопытный
текст и Франсис Понж:
La parole étouffée sous les roses [фр. Язык (слово), пахнущее розами).
Назвать девочку Розой — это слишком, это значит всегда хотеть
видеть ее обнаженной или в бальном платье, когда, душистая после
нескольких танцев, сияющая, взволнованная, влажная, она краснеет, блестя
жемчужинами пота. <...>
Зеленый лист, зеленый стебель с карамельными отливами и шипы —
не дай бог! Сделанные вовсе не из карамели. <...> О, тщеславие спирале-
узорчатых влепестилищ! Павлиний хвост — это тоже как бы цветок,
цветоложе с чашечкой... Зуд у них, что ли, чесотка: если пощекотать —
раскрываются, выпячиваются, растопыриваются. Они растопыривают свои
оборки, свое исподнее. <...>
Плоть, перемешанная с платьем, и будто ее замесили на атласе:
таково вещество этого цветка. Каждый одновременно и платье, и ляжка (или
корсаж или грудь), которую можно схватить меж двух пальцев —
наконец-то! — и так держать; приближать, удалять от ноздрей, бросать,
забывать и вновь брать в руки; обладать ею, приоткрывать, рассматривать.
<...> [Ponge Francis. Le parti des choses. P.: Gallimard, 1942. Рус. пер. Д.
Кротовой и Б. Дубина (М., 2000)).
Вуайеристский, сексуально-детерминированньш тактильный взгляд
на «цветок» как на женщину, на лепестки — как на влажные и интимные
женские части здесь весьма очевиден.
31 Экзистенциальное описание мужского болезненно-блаженного
(отчасти топического) бытия во влажном пространстве женских
гениталий дал в свое время Сартр в романе «Тошнота» (мы
благодарны Д.В. Токареву за привлечение нашего внимания к этому
фрагменту цитации):
<...> ласкать на расцветшей белизне простыней белую расцветшую
плоть, которая тихо клонится навзничь, — <...> буду касаться цветущей влаги
подмышек, жидкостей, соков, цветения плоти, проникать в чужое существо-
298
вание, в красную слизистую оболочку, в душный, нежный-нежный запах
существования и буду чувствовать, что я существую между мягких,
увлажненных губ, губ, красных от бледной крови, трепещущих губ, разверстых губ,
пропитанных влагой существования, увлажненных светлым гноем, буду
чувствовать, что я существую между сладких, влажных губ, слезящихся, как
глаза? [Сартр Ж.-П. Тошнота//Сартр. Стена. М., 1992. С. 107).
Кажется, что именно о таком влажно-вагинальном
жизненно-литературном существовании, при известной доле субъективного
идеализма, немало думали герои этой статьи — Хармс и Блок.
Недавно опубликованное Юрием Фелыытинским (см.: http://
lib.uclm.iTj/Ub/fflSTORY/FELSH 1 lNSKY/^ письмо современника Харм-
са и Блока — известного революционера Льва Троцкого, адресованное
жене — Наталье Ивановне Седовой, заслуживает (в силу уникальной
своей куннилингусовой природы) того, чтобы привести здесь отрывок
из него:
Это письмо отправляю другим путем 19/VH 1937 [г.], 13 часов.
Сейчас буду обедать — После того, как отправил тебе письмо,
мылся. Около 10 1/2 приступил к чтению старых газет (для статьи, читал,
сидя в chaise longue под деревьями, до настоящей минуты...
Физическое самочувствие хорошее. Моральное — вполне
удовлетворительное, как видите, из юнкерского (58-летний юнкер!) тона этого письма...
Обедал. Лежа, читал Temps. Заснул (недолго). Сейчас 3 1/2. Через 1/2
часа чай. Отложить прогулку? А вдруг дождь. Пожалуй, пойду сейчас. —
Наталочка, что вы делаете теперь? Отдыхаете (от меня) ? Или у тебя
операция? Опять флюс? Как бы хотелось, чтоб ты оправилась полностью. Как
бы хотелось для тебя крепости, спокойствия, немножко радости.
С тех пор, как приехал сюда, ни разу не вставал мой бедный хуй. Как
будто нет его. Он тоже отдыхает от напряжения тех дней. Но сам я, весь, —
помимо него, — с нежностью думаю о старой, милой пизде. Хочется
пососать ее, всунуть язык в нее, в самую глубину. Наталочка, милая, буду
еще крепко-крепко ебать тебя и языком, и хуем. Простите, Наталочка,
эти строчки, —
кажется, первый раз в жизни так пишу Вам.
Обнимаю крепко, прижимая все тело твое к себе. Твой Л.
Текст письма доступен по адресу: http://hb.irj/niOCKIJ/letter.txt, где
для неопровержимой доказательности его аутентичности приводится
и фотокопия.
И.Е. Лощилов
«ЗАТО В ТЕЛЕСНЫХ КАЧЕСТВАХ -
НЕХВАТКА»:
«соматический эллипсис»
и символика Каббалы
в «Столбцах» Николая Заболоцкого
Слово, давшее название (имя)1 первой и главной книге
Николая Заболоцкого — «Столбцы», было найдено поэтом при
создании стихотворения, озаглавленного в рукописном
«Арарате» «Столбцом о черкешенке», переименованного в «Столбцах»
1929 года в «Черкешенку» и исключенного из всех
последующих вариантов. Подобно выброшенному ключу, оно навсегда
покинуло корпус «Столбцов», не только дав название книге
причудливых стихотворений, но и определив важные
особенности формы и онтологии «столбца», его целей и тайных «задач»,
по-разному решаемых в других образцах этого авторского
квазижанрового образования. В отличие от распространенных
определений поэтических текстов (стихи, стихотворения),
содержащих во внутренней форме идею ряда, горизонтали,
слово «столбцы» подчеркивает вертикальное измерение
поэтического текста, неизменно присутствующее и в любом
«нормальном» стихотворении.
В первом издании «Столбцов» 1929 года шестым по месту в
сборнике идет «Черкешенка». Этот столбец следует сразу же
за верно датированным (янв. 1927) «Офортом» и снабжен
«ложной» датировкой — «янв. 1926». На самом деле он был написан
ровно через год после указанной даты, в начале 1927 года, и
через пять дней после «Офорта»:
В начале ноября 1926 года Заболоцкий был зачислен в команду крат-
косрочников 59-го стрелкового полка 20-й пехотной дивизии, где в
течение года отбывал воинскую повинность. <...> Полковой врач стал охотно
определять его в лазарет, когда Заболоцкому было необходимо сосредо-
300
точиться и записать уже жившее в его сознании новое стихотворение.
4 ноября он написал «Море», 25 января — «Офорт», 30 января — «Столбец
о черкешенке», а 26 февраля, стоя на ночном посту у знамени полка,
сочинил стихотворение «Часовой», которое потом читал товарищам по
службе (Заболоцкий 1998: 9&-99).
В датированном 20 сентября 1926 года тексте «Мои
возражения А.И. Введенскому, авторитету бессмыслицы», Николай
Заболоцкий писал:
Кирпичные дома строятся таким образом, что внутрь кирпичной
кладки помещается металлический стержень, который и есть скелет
постройки. Кирпич отжил своё, пришел бетон. Но бетонные постройки
опять-таки покоятся на металлический основе, сделанной лишь
несколько иначе. Иначе здание валится во все стороны, несмотря на то, что
бетон — самого хорошего качества. <...> Вовсе не нужно строить эту
основу по принципу старого кирпичного здания, бетон новых стихов требует
новых путей в разработке скрепляющего единства. Это благодарнейшая
работа для левого поэта (Заболоцкий 1995: 182).
В поэтической практике Заболоцкого поиск «новых путей в
разработке скрепляющего единства» привел к востребованию
основательно «забытого старого».
Строительно-архитектурная метафора возникает здесь
отнюдь не случайно. Согласно записям Леонида Липавского 1933—
1934 годов, на вопрос о наиболее интересующих Заболоцкого
предметах поэт ответил: «Архитектура, правила для больших
сооружений. Символика. Изображение мыслей в виде условного
расположения предметов и их частей. Практика религий по
перечисленным вещам. Стихи. Разные простые вещи — драка,
обед, танцы. Мясо и тесто. Водка и пиво. Народная астрономия.
Народные числа. Сон. Положения и фигуры революции.
Северные народности. Музыка, ее архитектура, фуги. Строение
картин природы. Домашние животные. Звери и насекомые.
Птицы. Доброта — Красота — Истина. Фигуры и положения при
военных действиях. Смерть. Книга, как ее создать. Буквы,
знаки, цифры. Кимвалы, Корабли» (Воспоминания 1984: 52—53;
Липавский 1998: 175).
Книга «Столбцы» 1929 года состоит из 22 стихотворений
(это, по сути, соответствует числу Великих Арканов Таро, а
также букв магического еврейского алфавита)2, значимо
неравномерно сгруппированных по четырем разделам. В книге «Се-
фер Иецир(а)» о деянии Творца сказано: «Он создал нечто из
хаоса, из ничего сделал нечто и вырубил большие столбы из
воздуха необъятного, и вот знак: одна буква — со всеми и все с
одной. Он смотрел, перемещал и сделал всё созданное и все
301
слова одним способом и знак этому: 22 предмета в одном теле»
(Папюс 1992: 264; курсив мой. — И.Л).
Согласно нашей гипотезе, «Столбцы» Заболоцкого восходят
к этим воздушным столбам и структурно воспроизводят
космогоническое деяние Творца в сниженном и как бы
«уменьшенном» варианте, максимально приближенном к быту и реалиям
Ленинграда конца 20-х годов. (О перманентно-воскрешающем
акте творения см. специальную главу, посвященную
Заболоцкому в изд.: Мазинг-Делик 1992.)
Столбец Заболоцкого, как колонка строк, напечатанных в
столбик, — точнее, визуальный образ этой колонки, —
послужил поэту метафорой неосязаемого воздушного столба,
каждый из которых является онтологической константой (см.:
Степанов, Проскурин 1993)3. Внося на протяжении трех
десятилетий изменения в композицию сборника, Заболоцкий «смотрел»
и «перемещал» поэтические эквиваленты этих констант в
поисках их оптимального взаиморасположения. Характер
взаимосвязи столбцов в составе ансамбля сборника тяготеет к тому,
чтобы воспроизвести коллизию, лежащую в самой основе
символического мышления: «<...> хотя 22 буквы еврейского
алфавита равны Богу, Бог не равен ни одной из них в отдельности
(в том числе и второй — дыханию), и это при сохранении того
условия, что в каждой из сфиро он присутствует, в каждой
получает воплощение. Фактически это и есть закон символа»
(Курганов 1997: 218). Существенно при этом и то, что
«металлический стержень» структуры алфавита остается
практически невидимым за «кирпичной кладкой» стиха молодого
Заболоцкого.
В заключении статьи итальяно-венгерской
исследовательницы Лены Силард «Карты между игрой и гаданьем» говорится о
том, что макроструктура сверхповести Велимира Хлебникова
«Зангези», во многом воспроизводящая структуру инициации,
«явилась путем посвящения для многих поэтов следующего
поколения, в частности, для обэриутов» (Силард 2000: 302). И
вправду, «Архитектоника "Зангези" указывает на некий sui
generis выход из границ литературного текста: путь Зангези по
плоскостям колоды ведет не только учеников и верующих —
персонажей "сверхповести", — он ведет и читателя, и зрителя»
(Там же). Для Введенского и Хармса, получивших в 1926 году
заказ для экспериментального театра «Радикс», было
существенно, что репетиции их пьесы «Моя мама вся в часах» проходили
в Белом зале Института художественной культуры на Исаакиев-
ской площади — «в том самом помещении, где три года назад
302
художник Татлин устраивал грандиозное зрелище — новаторское
представление поэмы Хлебникова "Зангези". Вместе с Хармсом
и Введенским на репетициях "Радикса" в Гинхуке стал бывать и
Заболоцкий» (Заболоцкий 1998: 82). Наряду с литературными
источниками композиционного эксперимента не следует
забывать и о том, что «в послереволюционные годы центр тяжести
был на гностике и пифагорействе. Во всяком случае, русская
поэзия, вопреки распространенному мнению, в то время далеко
не сводилась к фабричному космизму, с одной стороны, и к
раннему советскому авангарду — с другой. Одновременно с ними шел
расцвет эзотерического идеализма и неомистицизма, особенно в
Петрограде» (Марков 1994: 155).
Тщательная датировка текстов сборника поэта-дебютанта
выполняет, как нам представляется, две функции. Первая из
них связана с читательским планом и одним из возможных
способов нарушения привычных границ коммуникации
посредством поэзии, другая — с авторским планом и устанавливает
«кровное родство» между словом поэта и (через
специфическим образом осмысленные сугубо биографические контексты)
его онтологическими параметрами: биографией,
происхождением, личностью. Речь идет о
нахождении конечным и невечным героем пути к бесконечной и вечной
жизни, к жизни, понимаемой как форма бессмертия, когда предел ее
становления отодвигается всё дальше и дальше. Только обращение к
смерти, к распаду, к жертве, совпадающей с самим героем, может решить
эту задачу. То, что происходит с младшим сыном Бога в «основном»
мифе (уничтожение и становление, смерть и жизнь, известно и поэту,
претерпевающему в творчестве крайние муки индивидуации. Происходящее
с поэтом во время творения (судьба поэта) интериоризируется в текст.
Отсюда сопричастность текста поэту и поэта — тексту, их под известным
углом зрения изоморфность, общность структуры и судьбы.
Далее В.Н. Топоров говорит о «химической» связи текста и
поэта, у которых «одна мера и одна парадигма. Это поэтика,
наиболее непосредственно и надежно отсылающая к двум
пересекающимся "эк-тропическим" пространствам: Творца и
творения» (Топоров 1998: 39). Как показано в работе: Партон 1995,
для воплощения интенций такого рода многим адептам нового
искусства в России эпохи модерна потребовалось изменить
сложившийся к концу 19-го столетия характер отношений
«эзотерического» и «экзотерического» аспектов творчества.
В первом аспекте подобная датировка осознанно
сфокусирована на возможности или даже необходимости осуществления
определенной перегруппировки загадочных поэтических текс-
303
тов. Она имела бы смысл в контексте поиска некоего
объединяющего «смыслового» ядра, что могло быть необходимо в первую
очередь для того, чтобы спровоцировать особого рода «манипу-
лятивную» активность читателя-реципиента. От такого читателя,
в частности, может потребоваться умение специальным образом
перераспределить столбцы, руководствуясь принципом
хронологии. Этот процесс отчасти напоминает деятельность
«профессиональной цыганки», которая тасует карточную колоду, прежде
чем разложить карты для гадания. Как показано в работе Л. Си-
лард о принципах композиции сверхповести «Зангези» —
«колоды», состоящей из 22 (21+1) «плоскостей слова», — Таро у
Хлебникова отчетливо противопоставляется каббале (при том, что,
«хотя история появления карт Таро до сих пор весьма
затуманена, их соотнесенность с каббалистикой более или менее
очевидна» (Силард 2000: 296). Как пишет исследователь,
люди, больше всего оперировавшие гадальными картами Таро, — цыганки-
гадалки представления не имели о философии каббалы, но именно это и
позволяет — при учете глубинно-символической ориентированности Таро
на каббалу — рассматривать Таро чем-то вроде каббалы, спустившейся в
субкультуру, или, точнее, субкультурным аналогом каббалы, восходящим
к затерянному в памяти времен общему источнику (Там же: 296).
Внимание к Таро генерации художников, пришедших на
смену символистам теургического склада, ориентированным на
каббалу, «обусловлено демонстративной переориентацией на
низовую культуру, на субкультуру, неглижируемую "высокой
эстетикой" (Там же: 296—297). Для Заболоцкого символистское
мифотворчество было «покушением с негодными средствами».
И. Синельников вспоминает: «Помню, мы говорили, что если
символисты бесплодно мечтали о создании мифов, то
"Торжество Земледелия" приближает осуществление этой идеи»
(Заболоцкий 1995: 101).
Колода Таро, утратившая — или никогда не имевшая —
жесткой привязки к еврейскому алфавиту и распространившаяся в
странах, где пользуются как латиницей, так и кириллицей,
позволяет конструировать на своей основе мифологическую систему
(неомифологическую, разумеется) — по аналогии с каббалой —
на основе славянской письменной традиции (ср. антропоморо^)-
ные образы русских букв в «Ключах Марии» Есенина). Подобно
тому, как Веды, Коран и Евангелие реализуют у Хлебникова
единый сакральный «прототекст» (Единую Книгу), принцип «зву-
кобукв, соотнесенных с числом», явленный в антропоморфных
образах Великих Арканов Таро, носит более универсальный и
«символогенный» характер, нежели тот или иной из историче-
304
ски известных алфавитов. Это именно мифологический — а не
исторический — алфавит в наиболее «чистом» виде. «Алфавит
есть одновременно код и текст, излагающий этот код. В первом
качестве (как код) алфавит принадлежит парадигматике, во
втором (как текст) — представляет собой некоторую синтагматику»
(Степанов, Проскурин 1993: 40). В интерпретации П.Д.
Успенского, Таро одновременно и «философская машина», подобная
изобретениям Раймунда Люллия (своего рода «философские счеты»,
позволяющие вкладывать в иконические знаки «идеи, трудно
выразимые (или вовсе не выразимые) в словах» (Успенский 1993:
224), и сводный конспект (синопсис) герметических наук,
имевший некогда инициационньш смысл.
Тогда вместо открывающей сборник тройки «Красная
Бавария» (авг. 1926), «Белая ночь» (июль 1926) и «Футбол» (авг. 1926)
мы получаем другую, несравненно более «осмысленную»
триаду: «Черкешенка» (янв. 1926) — «Белая ночь» (июль 1926) —
«Красная Бавария» (авг. 1926). При этом новый смысл
внедряется уже чисто поэтическими средствами: звукокомплекс ч-р-н
из названия первого столбца приходит во взаимодействие со
«стертыми» цветовыми эпитетами в словосочетаниях, давших
названия двум другим, что находит соответствие в триаде
алхимических операций («Работа в Черном [Nigredo]», «Работа в
Белом [Albedo]» и «Работа в Красном [Rubedo]») и тройке
«материнских» букв каббалистического алфавита4.
Если сознание читателя активизировано смутными пушкин-
ско-лермонтовскими ассоциациями, то в читательском
подсознании слово как бы «окрашивается» в траурный черный цвет.
«Категория смерти <...> представлена целым набором знаков
<...>. Центральным событием стихотворения ["Черкешенка"]
является смерть» (Кекова 1987: 15). Резонно было бы задаться
вопросом: о чьей, собственно, смерти идет речь?
Чтобы ответить на него, следует еще раз вернуться к
«странностям» датировки «Черкешенки». Стихотворение, написанное
через пять дней после «Офорта», автор пометил январем
предыдущего, 1926 года — месяцем, когда от брюшного тифа
безвременно скончалась мать поэта, Лидия Андреевна
Заболотская. К 100-летнему юбилею в Кирове в составе текста
воспоминаний двоюродного брата Заболоцкого, Леонида Владимировича
Дьяконова, был опубликован трогательный человеческий
документ — свидетельство о последних днях ее жизни.
Наталья Алексеевна Заболоцкая, сестра поэта, сберегла и отдала мне
свой детский дневник — дневник того года, когда умерла ее мать. <...> На
лицевой стороне обложки написано крупно: «Дневник Н.З.». На обратной
20 Заказ № К-7531
305
стороне одна строка: «Я недавно хворала брушным тифом». И далее
записи под числами по старому и новому стилю: «31 декабря, 13 по-новому,
в среду 1926 года в городе Уржуме. Сегодня я встала в 8 часов и в одной
рубашке побежала на печку и попросила у Маруси кусок серого хлеба.
Она дала. Я его съела и слезла чай пить. Было уже 9 часов. Через два часа,
в 11, Маруся пошла в больницу к маме, а когда пришла, то сказала, что
кроме тифу у мамы еще воспаление мозговой оболочки и мама,
вероятно, скоро умрет. А когда спросила сиделку, она сказала, что с минуты на
минуту они ожидают, что мама умрет. <...> 6января, ст. 19 января.
Вторник. Сегодня вечером у нас умерла мама. К нам в 9-м часу вечера пришла
сиделка и сказала, что мама умерла. Мы очень плакали. Мне очень ее
жалко. <...> 8 января, по с. 22 января. Пятница. Сегодня я встала <,> не
смотрела во сколько часов. Наверно <,> в 8 или в девятом часу. Сегодня
мамочку похоронили около бабушки. Я и Люся не ходили на кладбище. Веруш-
ка и Маруся нам оставили по 1 конфетке, по 3 финика и пять пряников.
У мамочки был гроб голубой. И теперь мне очень скучно и целовать
некого. Я, как лягу спать, всегда плачу о мамочке». Этот детский дневник
свой отдала мне Наташа Заболоцкая 14 мая 1959 года. Я воспроизвожу его
полностью со всеми его ошибками, с путаницей в датах. Дневник
по-своему, по-детски, но ярко рисует семью Николая Заболоцкого в трудное
время, когда хворает и умирает его мать (Дьяконов 2003: 58—59).
Согласно нашей гипотезе, Заболоцкий откликнулся на это
трагическое событие по прошествии года — в январе 1927 года.
Женский, «внутреннейший» двойник героя, появившегося
лишь в последнем строфоиде, — черкешенка, — оказавшись в
чуждом образу ленинградско-петербургском пространстве,
разрывается изнутри бурным потоком внутреннего Терека5 и
низвергается, подобно гностической Софии, создающей мир
самим своим «опрокидыванием»: «<...> и трупом падает она, /
смыкая руки в треугольник» (Заболоцкий 2002: 347). Замещение
мать > буква-мать > черкешенка происходит с полным
трезвого трагизма осознанием того, что говорит о Матери Жак Дер-
рида: «<...> вы родились, не забывайте, и вы можете писать
только против вашей матери, которая носила в себе вместе с
вами то, что она принесла вам для того, чтобы писать против
нее; ваше послание, которым она была беременна и полна, вы
оттуда не выйдете» (Деррида 1999: 245—246)6.
Стихотворение состоит из 40 стихов, напечатанных в
столбик и разделенных автором на четыре строфоида7, два из
которых содержат по 12 стихов и два — по 8. Такое
асимметричное по вертикали членение смутно напоминает структуру
сонета, каждый из элементов которого «разросся» в несколько раз.
Речь идет не о точном соответствии числа строк и не о
точности пропорции, но скорее о движении поэтической материи в
соответствии с актуальным в обэриутских кругах понятием
306
«некоторого равновесия с небольшой погрешностью». Важно
увидеть столбец как «разбухший» сонет, дабы ощутить его
фактуру и «двухцентровость», свойственную сонету. P.O. Якобсон
(вслед за Хопкинсом) говорил о «симметричной трихотомии»,
присущей сонетной форме и выполняющей роль смыслового
контрапункта, то есть наряду с выраженными в классическом
сонете симметриями (414 и 313) есть еще одна, как правило,
смысловая: 717 (см.: Якобсон 1987: 88). Сама структура сонетного
канона, где предполагается наличие «большого» (голова) и
«малого» (хвост) центров, напоминает структуру яйца в качестве
«реального объекта», соответствующего языковым (знаковым)
реальностям текста.
На основании анализа текста Столбцов-29 исследователь
Е.В. Красильникова приходит к следующим выводам о
природе стиха у Заболоцкого:
<...> отбор языковых единиц разных уровней и их линейное
столкновение активизирует их в тексте. Это можно сопоставить с видимостью и
энергией живописных мазков у художников экспрессионистов. <...> М.
Ларионов говорит о «выращивании живописи», то есть росте ее на глазах
зрителя. <...> «Мысль и материя едины». Это философское кредо поэта-мониста,
как кажется, приложимо и к материи стиха. Причем, как и в любой
полностью живой материи, есть элементы прозрачно означенные
(сознательно наполненные) и есть движение звуков, в которых отсветы смысла только
мерцают, как в светляках (Красильникова 1995: 460-^61).
Каждое из стихотворений-столбцов поэт словно бы
«выращивает» из буквы мифологического Алфавита. Первые следы
такого отношения к поэтическому творчеству у Заболоцкого
мы можем обнаружить в созданном летом 1926 года
стихотворении «Disciplina clericallis», композиция которого восходит к
пропорциям алхимического рецепта о «выращивании» в
реторте homunculus'a (анонимная масонская рукопись XVTH века «О
философских человеках, — кто они суть в самом деле и как их
рождать?»8, опубликованная А.Н. Пыпиным, оказалась в сфере
интересов поэтов начала XX века, в первую очередь Михаила
Кузмина и Александра Блока (см.: Богомолов 1995: 153—158)).
Внешне асимметричная композиция «Черкешенки»
скрывает симметрию. Если мы, пренебрегая членением на строфопо-
добные участки, разделим текст ровно пополам, в центре
окажутся следующие строки: «<...> ей Тула делает фокстрот, /
Тамбов сапожки примеряет, / но Терек мечется в груди, / ревет
в разорванные губы <...>» (Заболоцкий 2002: 347)9. «Фокстрот»
здесь — не танец, как в одноименном столбце, но название
популярной в двадцатые годы женской прически10. Таким обра-
20*
307
зом, в центре стихотворения (в его «пуповине») локализован
образ стихии, разрывающей тело на части, связанный с
присутствием кавказского локуса в ленинградском. Ему
предшествует построение векторных «стрелок», отсылающие
соответственно к телесным верху и низу — голове («фокстрот») и ногам («са-
пожки»/«два огромных сапога»). Тамбов и Тула здесь — знаки
провинциальных пространств, в самом общем виде сводимые
к идее периферии — текста, антропоморфного тела и тела
геополитического ('империя').
Текстовая периферия — начало и конец текста —
подхватывают «стрелки», исходящие из композиционного центра. В
первой строфе множество образов свидетельствует о
«приуроченности к верху», по терминологии СВ. Кековой:
Когда заря прозрачной глыбой
придавит воздух над землей,
с горы, на колокол похожей,
летят двускатные орлы;
идут граненые деревья
в свое волшебное кочевье;
верхушка тлеет, как свеча,
пустыми кольцами бренча;
а там над ними, наверху,
вершиной пышною качая,
старик Эльбрус рахат-лукум
готовит нам и чашку чая.
(Заболоцкий 2002: 347;
курсив мой. — И.Л)
Образ горной вершины замещает здесь образ человеческой
головы, и в пространстве читательской рецепции происходит
совмещение масштабов изображаемого - это и антропоморфный
образ, и образ ландшафтный, и, наконец, образ самого текста
(образ столбца).
Столбец воспроизводит антропологическую структуру,
параметры которой соотносимы с параметрами вертикальной («И я
стою <...>») фигуры человеческого тела (верх/низ, правое/левое,
впереди/сзади). Наряду с цитируемым молодым поэтом в статье
«О сущности символизма» (конец 1921 — начало 1922 г.)
фрагментом сонета Шарля Бодлера «Соответствия» («Природа —
строгий храм, где строй живых колонн / Порой чуть внятный
звук украдкою уронит, / Лесами символов бредет, в их чаще
тонет <...>» [ср. английские версии перевода названия книги
«Столбцы»: «Columns» и «Scrolls»]) несомненно влияние (не
возьмемся утверждать — прямое или опосредованное)
восходящего к философии Николая Фёдорова противопоставления
308
вертикального (связанного с активным, живым, мужским
[сыновним] и человеческим) и горизонтального (пассивного,
мертвого, женского, животного). Поэт говорил: «Книга будет
называться "Столбцы". В это слово я вкладываю понятие
дисциплины, порядка...» (Воспоминания 1984: 105). В этой связи следует
вспомнить о соприродных алфавитному принципу концептах
'порядок', 'мировой порядок', 'священный порядок, ритуал',
'число', 'ритм' (см.: Степанов, Проскурин 1993: 74).
Финал «Черкешенки», где локализован образ абсолютного
телесного низа («два огромных сапога»), подтверждает наше
предположение о сознательном конструировании стихового
массива столбца по образу тела в его отношении с миром;
граница между ними стирается на глазах читателя.
И я стою — от света белый,
я в море черное гляжу,
и мир двоится предо мною
на два огромных сапога —
один шагает по Эльбрусу,
другой по-фински говорит,
и оба вместе убегают,
гремя по морю, — на восток.
(Заболоцкий 2002: 347)
Нетрудно разглядеть эмблематический субстрат
стихотворения — пересечение двух треугольников, один из которых
обращен вершиной вверх, а другой — вниз, символизирующее
взаимодействие двух начал — мужского и женского, жизни и
смерти, черного (море) и белого (я). 'Овулярное' непосредственно
связано с 'лактационным': «И выплывает вдруг Кавказ / пяти-
сосцовою громадой». Сравнение горы с колоколом выявляет в
образе геометрическую природу треугольника, обращенного
вершиной верх.
Если центральным «событием» в сюжете стихотворения
является смерть черкешенки, то самый факт создания
вертикального «Столбца о черкешенке» («аккуратная колонка строк,
посвященных черкешенке», — Заболоцкий 1998: 138) означает
воскрешение, преодоление смерти, продолжение жизни — но в ином
(собственно, поэтическом) измерении. 'Жизнь' и 'поэзия'
относятся здесь как живописный 'натюрморт' и 'офорт' в
изобразительном мире сборника (во всех его редакциях, от 1929 до 1958 г.).
Этот аспект отчетливо виден, если сопоставить финальный
строфоид («И я стою — от света белый, / я в море черное гляжу»), где
«сходятся» вертикальное стояние автора/лирического героя и
«поставление в праотцев место» сплоченных в массив горизон-
309
тальных поэтических строк, — с несомненно программным
финалом столбца «На лестницах», где жизнь
кота-отшельника-висельника продолжает охраняемый броней/скорлупой герой —
свидетель его «страстей»: «И я на лестнице стою, / Такой же
белый, важный. / Я продолжаю жизнь твою, / Мой праведник
отважный» (Заболоцкий 2002: 93).
Исповедуемое Заболоцким («монистом») отношение к
созданию поэтического текста связано с проблемой
перевода/трансформации/[трансмутации] в пределах дихотомии природа >
культура посредством комбинирования знаков самой разной природы.
При моделировании столбца, понимаемого как «развитие,
разделение и перемещение» буквы > [тела], в вертикальной
колонке строк возникает система взаимных проекций
разноуровневых знаков и знаковых взаимодействий:
буква > дерево > колонна > столбец > сфера > яйцо/семя > антропоморф
ное тело.
В «Нобелевской лекции» Иосиф Бродский говорил:
Человек принимается за сочинение стихотворения по разным
соображениям: чтобы завоевать сердце возлюбленной, чтоб выразить свое
отношение к окружающей его реальности, будь то пейзаж или государство.
<...> Он прибегает к этой форме — к стихотворению — по соображениям
скорее всего бессознательно-миметическим: черный вертикальный
сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его
собственном положении в мире, о пропорции пространства к его телу
(Бродский 2000: 311).
Случай Заболоцкого — случай осознанно-миметического (а
то и прямо — жизнетворческого, см. об этом в: Мазинг-Делик
1998) отношения к этой коллизии.
Тогда характер отношений поэт > текст возвращает Автора
на стадию зеркала — «частный случай функции imago, которая
заключается в установлении связей между организмом и его
реальностью — другими словами, между Innerwelt [нем.
внутренний мир] и Umwelt» [нем. окружающая среда] (Лакан 1997: 10).
Буквы при таком переживании текста играют расчленяющую
роль: «Тело, на которое проецируются буквы, одновременно и
дифференцируется, и подвергается символизации. Серж Леклер
проницательно заметил, что символическое членение тела
происходит по типу его алфавитизации. На тело проецируются
буквы, тело буквально превращается в текст. Буква — как элемент,
фиксирующий различие, — проецируясь на тело, членит его,
фиксирует различия в теле» (Ямпольский 1998: 231)и. В этом
аспекте столбец предстает не столько 'мировой горой' («Ара-
310
рат»), но — в первую очередь — 'мировым древом' [бук > буква),
местом, где приносится 'жертва в центре мира', 'жертвенным
столпом' (см.: Степанов, Проскурин 1993: 14—29).
Известный французский психоаналитик Жак Лакан
говорит в работе «Инстанция буквы в бессознательном, или
Судьба разума после Фрейда» о связи конфигураций букв Т и Y с
образом креста Голгофы и «животворящего Лакан древа»
(Лакан 1997: 62—63), но эти контексты были востребованы и в
русском Серебряном веке, например, в лекции H.H. Евреинова
«Театр и эшафот»:
В древних рукописях он (крест) ставится вместо имени, чтобы показать,
что написанному — конец. Буква, которая в азбуке является последним
знаком алфавита, есть крест, и она носит имя «завершения, конца», т. е.
tarn, или, по вавилонскому произношению (принятому также и у евреев), —
taw. Этому соответствует то, что бога года, по мифу, в конце круговорота
«вешают на кресте», или немецкий театр марионеток «Kasperlespiel», где
злой (черный) хочет повесить (крест) доброго (светлого), но последний
вешает его самого (цит. по: Подорога 2001: 77).
Об архетипической значимости темы «нитей» и
«марионеток» см. соответствующие работы Мирчи Элиаде.
Дистопийный опыт созерцания себя-как-другого в колонке
строк (и матери-в-себе или даже себя-вместо-покойной-матери)
органически приводит поэта к «изобретению» лирического героя
принципиально нового типа — «недоноска или ангела» — героя,
вокруг которого структурируется поэтический мир «Столбцов»
во всех последующих вариантах и редакциях. Этот герой
«подставлен вместо собственной — пустой — авторской позиции»
(Шром 1999: 133), и именно с ним, как с субъектом
высказывания, должен «воязычиться» субъект восприятия — читатель,
переходящий на «внутреннюю точку зрения» (Федоров 1984: 42).
Согласно Лакану,
связь человека с природой искажена наличием в недрах его организма
некой трещины, некоего изначального раздора <...> [, связанного со] <...>
специфической для человека преждевременностью рождения <...> [, о
которой свидетельствует] <...> беспомощность новорожденных в первые
месяцы после рождения и отсутствие у них двигательной координации
<...> [, как и] <...> наличие у ребенка определенных гуморальных остатков
материнского организма (Лакан 1997: 10—11).
Переживания, связанные со смертью матери, и опыт
армейской службы12 («За море стелются отряды, / вон — я стою, на
мне — шинель / (с глазами белыми солдата / младенец
нескольких недель)» (Заболоцкий 2002: 319)) переплавляются в буквы,
311
которые замещают освободившееся родительское место и как
бы заново рождают Заболоцкого — но уже в статусе Поэта
(Мать/Младенец ['недоносок или ангел'] = Буква/Поэт).
Стадия зеркала <...> представляет собой драму, чей внутренний
импульс устремляет ее от несостоятельности к опережению — драму,
которая фабрикует для субъекта, попавшегося на приманку пространственной
идентификации, череду фантазмов, открывающуюся расчлененным
образом тела, а завершающуюся формой его целостности, которую мы
назовем ортопедической, и облачением, наконец, в ту броню
отчуждающей идентичности, чья жесткая структура и предопределит собой все
дальнейшее его умственное развитие (Лакан 1997: 11).
В литературе, посвященной поэтике сборника Николая
Заболоцкого «Столбцы», широко распространены суждения о
«буйном физиологизме», «антиэстетизме», «эротизме» —
характеристиках, которые находят в культурной памяти читателя
соответствие в ощущении фламандско-рубенсовского
колорита и «раблезианства».
Проблеме лирического героя раннего Заболоцкого
посвящена специальная работа Т. Савченко (см.: Савченко 1968).
Исследователь С. Руссова пишет:
Отсутствие в «Столбцах» привычного героя, на что единодушно
указывают исследователи творчества Заболоцкого, на наш взгляд,
оборачивается присутствием лирического героя лебядкинского типа, чьими
глазами мы смотрим на окружающий мир (Руссова 1991: 59).
Между тем природа лирического героя «Столбцов» не
исчерпывается ни «лебядкинскими» обертонами, ни спецификой
«детского образа видения». Если окружающий героя мир
характеризуется избыточной телесностью, витальностью и
эротизмом, сам он — и это далеко не всегда осознается читателем —
обладает прямо противоположными характеристиками: ему
присущи нехватка и недостаток 'телесного'.
Е. Перемышлев в примечаниях к статье «В "двойном
освещении"» (Труды 1994: 75) обратил внимание на то, что,
редактируя в 1958 году «Столбцы», Заболоцкий кардинальным
образом изменяет последнее четверостишие «Белой ночи». Было:
«Так недоносок или ангел, / Открыв молочные глаза, / Качается
в спиртовой банке / И просится на небеса» (Стоябцы-29), стало:
«И ночь, подобно самозванке, / Открыв молочные глаза, /
Качается в спиртовой банке / И просится на небеса» [Свод-58).
Исследователь подмечает: «<...> редактируя позднее
стихотворение, Заболоцкий убрал 'раритетность', но оставил
соответствие с пушкинской поэмой ["Медный всадник"]»: «И не пуская
312
тьму ночную / На золотые небеса, / Одна заря сменить другую
/ Спешит, дав ночи полчаса» (Труды 1994: 75).
«Ночь» «подобна самозванке» потому, что занимает в
структуре стихотворения место, законно принадлежащее образу
заспиртованного в петровской кунсткамере эмбриона, значение
которого в художественном мире «Столбцов» чрезвычайно
велико. Осмелимся предположить, что в Своде- 58 автор не
просто скорректировал текст 1929 года «по
объективно-эстетическим соображениям», «в связи с изменением вкусов поэта» или
«под влиянием осознанного или неосознанного 'внутреннего
редактора'» (Заболоцкий 1995: 721), но в расчете на будущего
читателя-интерпретатора, который «по подлинном
востребовании» (Виролайнен 1995: 338), сличая варианты текста, найдет
спрятанный самим же автором «ключ». «Спрятывание ключей»,
сознательная герметизация текста были в ходу у Заболоцкого
еще в 20-е годы: «Иногда, написав стихотворение, он выбрасывал
начало» (Заболоцкий 1995: 105).
Доминантным признаком лирического героя «Столбцов»
является мотив неполноценности/недоношенности/нехватки [èlleipsïs),
разворачивающийся как в речевом плане (в той мере, в какой
«Столбцы» отклонялись в 1920^ годы и продолжают отклоняться
от представлений о «нормальной», «правильной» — благозвучной,
исполненной смысла, богатой метафизическим потенциалом —
поэзии), так и в телесном (включая половой) аспектах. Мотив
телесного ущерба связан с мотивом противоестественного рождения.
Парадокс состоит в том, что между искусственным
происхождением и преждевременным рождением нет противоречия: герой
как бы раздваивается на так и не обретшего полноценной плоти
заспиртованного эмбриона и его двойника, чудом ожившего в
ленинградско-петербургском пространстве, изображенном как
одна из «скорлуп», покрывающих его существо, соприродное
образу цыпленка13 из «Свадьбы». Здесь наиболее отчетливо
противопоставлены инфантильность («Он глазки детские закрыл...»)
воспринимающего (точнее, не-воспринимающего) образы
внешнего мира сознания и избыточная до чудовищности телесность
этих образов («Мясистых баб большая стая...» и т. д.).
Ближайший источник образа цыпленка — алхимический
«гомункул», прежде всего в интерпретации Гёте («Фауст»), а
также восходящий к нему образ «недоноска» из одноименного
стихотворения Евгения Баратынского (см.: Мазур 1999; Бочаров
2001). Гомункул, созданный Вагнером во второй части Фауста,
так же как герой «Столбцов», неполноценен телесно и лишен
половой определенности:
313
Протей
(с удивлением)
Самосветящий карлик!
Никогда подобного не видывал я!
Фалес
Да!
Вот от тебя он жадно ждет совета:
Произойти на свет желал бы он.
Он говорил мне — как ни странно это, —
Что вполовину только он рожден.
В душевных свойствах нет в нем недостатка,
А вот в телесных качествах — нехватка.
Теперь ему стекло лишь вес дает.
Протей
[Гомункулу)
Ты — истинный сын девы: существуешь,
Когда еще и быть не долженствуешь!
Фалес
(тихо)
Еще одно в нем хоть кого смутит:
Мне кажется, что он — гермафродит.
(Гёте 1962: 386)
Воля к полному, истинному рождению приводит гётевского
Гомункула, разбившего свою колбу о трон Галатеи, к гибели:
[Гомункул]
Хочу родиться в высшем смысле слова,
Жду не дождусь разбить свое стекло;
Но, как вокруг ни посмотрю, так снова
Боюсь: как будто время не пришло
Отважиться на это.
(Там же: 369)
Фалес
Гомункул горит: обольщенный Протеем,
Он яркий, чарующий свет издает.
То признак могучего к жизни стремленья.
Мне слышатся робкие стоны томленья —
314
Он хочет разбиться о блещущий трон...
Сверкает, блестит, разливается он!
(Там же: 393)
Здесь кроются зачатки катастрофизма, присущего
поэтическому мышлению Заболоцкого, яркими примерами
которого могут служить стихотворения «На лестницах» или
центральная часть «Безумного волка».
В поэтическом мире Заболоцкого фактически оставшийся
неназванным герой-недоносок связан с мотивом «отпадения» от
мира и его женской глубинной сущности14. «Живое
преобразуемо, пресуществимо. Прерванное развитие — алхимический
аборт. Абортируемое тело — металл-недоносок» (Рабинович
1979: 229). Об этом завуалированно пишет и Рафаэль Патай (на
средневековом еврейском материале, см.: Patai 1994). Как
алхимическое тело способно разворачиваться в развитии вплоть до
абсолютного совершенства золота, так и человек у
Заболоцкого, если воспользоваться речением Пико делла Мирандолы,
«может стать и растением и животным, но он может стать и
ангелом, и сыном Божьим» (цит. по: Бахтин 1990: 403).
«Нехватка» тела буквализируется в травматических образах
инвалидов («На рынке»):
Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат, —
Его кормилец на базаре.
А на обрубке том — костыль,
Как деревянная бутыль.
Росток руки другой нам кажет,
Он ею хвастается, машет,
Он палец вывихнул, урод,
И визгнул палец, словно крот,
И хрустнул кости перекресток,
И сдвинулось лицо в наперсток.
А третий, закрутив усы,
Глядит воинственным героем.
Над ним в базарные часы
Мясные мухи вьются роем.
Он в банке едет на колесах,
Во рту запрятан крепкий руль,
В могилке где-то руки сохнут,
В какой-то речке ноги спят.
На долю этому герою
Осталось брюхо с головою
315
Да рот, большой, как рукоять,
Рулем веселым управлять.
(Заболоцкий 2002: 81)
Этот парад увечных тел отбрасывает рефлексы на другие
образы, где «эллиптичность» растворена в градациях словесной
ткани столбца («Бродячие музыканты»):
Глухим орлом
Был первый звук. Он, грохнув, пал,
За ним второй орел предстал,
Орлы в кукушек превращались,
Кукушки в точки уменьшались,
И точки, горло сжав в комок,
Упали в окна всех домов.
Тогда горбатик, скрипочку
Приплюснув подбородком,
Слепил перстом улыбочку
На личике коротком,
И, визгнув поперечиной
По маленьким струнам,
Заплакал, искалеченный:
— Тилим-там-там!
(Там же: 90-91)
Следствия телесной нехватки — прозрачные намеки на
отсутствие потенции («Торчком кусты над нею встали / В ножнах из
разноцветной стали, / И тосковали соловьи / Верхом на веточке.
Казалось, / Они испытывали жалость, / Как не способные к
любви» (Там же: 71—72)) и онанизм («Если кто любить не может, / Но
изглодан весь тоскою, / Сам себе теперь поможет, / Тихо плавая
с доскою» (Там же: 64)). Первый пример отмечен особой остротой:
в разных поэтических традициях «соловьи», ставшие у
Заболоцкого «импотентами», связаны с мотивом любви (ср. сюжет о любви
Соловья и Розы) и любовного свидания (см.: Золотарева 2005).
Лирический герой «Столбцов» с трудом поддается
«уловлению», ибо оказывается как бы «распыленным» в мире
«Столбцов». Он — главный фокус этого мира, где точки зрения (и
особенности зрительного аппарата) автора, героя и читателя
предельно сближены. Всё, что попадает в поле зрения героя,
окрашивается спецификой его болезненного зрения и
начинает обнаруживать свою соприродность герою и самому строю
его поэтической речи.
Герой такого типа «вызревал», кроме прочих источников, в
прозе Розанова:
316
Да просто я не имею формы (causa formalis Аристотеля). Какой-то
«комок» или «мочалка». Но это от того, что я весь дух и весь — субъект:
субъективное действительно развито во мне бесконечно, как я не знаю ни
у кого, не предполагал ни у кого. «И отлично...» Я «наименее рожденный
человек», как бы «еще лежу (комком) в утробе матери» (ее бесконечно
люблю, т. е. покойную мамашу) и «слушаю райские напевы» (вечно как
бы слышу музыку — моя особенность). И «отлично! совсем отлично!» На
кой черт мне «интересная физиономия» или еще «новое платье», когда я
сам (в себе, «комке») бесконечно интересен, а по душе — бесконечно стар,
опытен, точно мне 1000 лет, и вместе — юн, как совершенный ребенок...
Хорошо! Совсем хорошо... (за нумизматикой) (Розанов 1990: 34).
Лирический герой (ЛГ) «Столбцов», присутствие которого
«рассредоточено» в картинах, разворачивающихся перед
внутренним взором читателя, может быть определен между
парами склонных к инвертированию понятий, в зависимости от
языка описания традиции.
Алхимия
Таро
Недоносок
Свинец
Дурак (21/0)
ЛГ «Столбцов»
Гомункул
Повешенный (12)
Ангел
Золото
Абсолют (21/22)
Интересующий нас тип субъекта поэтического
высказывания приходится отдаленным и совсем непохожим, но всё же
родственником центральному мифологическому персонажу
творчества Елены Генриховны Гуро — нерожденному, но тем не
менее в соответствии с логикой мифа, преждевременно
умершему юноше-сыну15. Заболоцкий и Гуро, по-видимому, при
помощи разных кодов «прочитали» «основной миф русского
футуризма» (Топоров 1995: 401—403), закономерно вырастающий
из символистской мифологии (София и «невоскресший
Христос» Блока) и уходящий корнями в глубинные слои сознания и
подсознания европейской культуры. Лирический герой
«Столбцов», подобно Бедному Рыцарю Гуро, как бы стоит между
Христом и Заратустрой (см.: Гурьянова 1994: 73), однако
сверхчеловеческое утверждается у Заболоцкого «от обратного», через
недочеловеческое.
В 1921 году Заболоцкий писал своему другу М.И.
Касьянову: «Толстой и Ницше одинаково чужды мне, но божественный
Гёте матовым куполом скрывает от меня небо, и я не вижу
через него Бога. И бьюсь. Так живет и болит моя душа»
(Заболоцкий 1995: 46). Уместно вспомнить, что во второй части
«Фауста» героя ожидает встреча с четырьмя седыми женщинами,
317
чьи имена — Вина, Забота, Нужда и, что особенно важно в
предлагаемом контексте, Нехватка.
Заболоцкий воспроизводит в книге драму
самоидентификации и структуру обряда жертвоприношения как
контаминацию умерщвления и поглощения ради передачи знания
посредством буквенных манипуляций, само же знание
представляет собой некоторую «пустую» величину. Поэта интересовала
проблема «Книга, как ее создать», а не вопрос «О чем
говорится в книге?». Он занят поисками онтологических опор для
поэтического текста, и эти поиски привели его к проблеме
мифологического знания. В таком случае знание в картине мира
Заболоцкого и состоит в знании о механизмах его
воспроизведения16. Поэт моделирует ситуацию передачи знания,
которая в традиционных культурах осуществляется в рамках
посвятительного обряда и ритуала. Этим нетрудно объяснить и
тот факт, что в сборнике мы найдем немало намеков на
традиционные институты передачи знания, но вряд ли можно
говорить о прямых соответствиях между столбцами и
картами Таро. Далекая от какой-либо буквальности привязка
позволяла поэту на протяжении многих лет искать всё новые и
новые способы взаиморасположения столбцов (см.: Лощилов
1997).
И.П. Смирнов аргументирует мысль о «компрометации
авторского ума» у обэриутов тем, что «Заболоцкий назвал свой
первый сборник стихов "Столбцами" (1929), отождествив
поэтическое всего лишь с графической формой текста» (Смирнов
1994: 301). Если это и «самоумаление», то оно поистине паче
гордости, ибо поэт одновременно создает информационное
пространство «закрытого доступа», и на этом уровне
поэтическое отождествляется с демиургическим.
В композиционном центре «Городских столбцов»
(«Фокстрот» — 12-й из 25 столбцов в Своде-58) теплится жизнь гарпо-
кратического существа, рожденного в браке МузыкиДМузы] и
Музыканта: «И так, играя, человек / Родил в последнюю
минуту / Прекраснейшего из калек — / Женоподобного Иуду. / Не
тронь его и не буди, / Не пригодится он для дела — / С
цыплячьим знаком на груди / Росток болезненного тела»
(Заболоцкий 2002: 86).
Существенно, что «рождение» героя происходит в
столбце, который в свете антропоморфически-автореферентного
кода предстает своего рода анти-«Черкешенкой» (анти-мате-
рью: зачатие и рождение происходит без участия женского
начала)17.
318
«Верх»
«Низ»
«Черкешенка»
Когда заря прозрачной глыбой
Придавит воздух над землей,
с горы, на колокол похожей <...>
<...> и мир двоится предо мною
на два огромных сапога <...>
«Фокстрот»
В ботинках кожи голубой,
носках блистательного
франта <...>
<...> Парит по воздуху герой,
Стреляя в небо пистолетом.
«Фокстрот», таким образом, строится как результат
переворачивания, инверсии, ротации буквы-тела-столбца, что находит
соответствие в архетипическом образе дерева жизни,
обращенного ветвями вниз (см.: Кагаров 1928; Степанов, Проскурин
1993: 94-99; Ямпольский 1998: 314-342).
«Самовар» — один из самых «незаметных» столбцов. Он
как бы «спрятался» в составе сборника. «Самовар» —
единственный из столбцов, датированный 1930 годом и, таким
образом, самый поздний по времени создания из текстов,
составивших в Своде 58 «Городские столбцы». В состав Столбцов-29
он не вошел по той простой причине, что ко времени
подготовки сборника к печати еще не был написан. Ко времени
создания стихотворения самовар как характерный предмет русского
быта уже накопил в различных художественных системах
богатый символический и семантический потенциал (см. об
этом: Ермилова 1989: 86—100).
В воспоминаниях И. Синельникова читаем:
Другая принесенная мною книга, очень заинтересовавшая его, —
«Неизданный Пушкин» (Собрание Отто-Онегина). Он обратил внимание на
варианты «Графа Нулина», где немало примеров переосмысления и
сохранения привычных вещей. Вскоре он написал поэму «Падение
Петровой», в которой я узнавал применение тех же приемов (Заболоцкий 1995:
104; Шром 1999).
Что общего между ранними редакциями «Графа Нулина» и
«Падением Петровой» (11—15 ноября 1928 года)? Восходящее к
фольклору эротическое «переосмысление и остранение» образа
самовара:
Не спится графу — бес не дремлет
[Вертится Нулин — грешный жар
Его сильней, сильней объемлет,
Он весь кипит, как самовар,
Пока не отвернула крана
Хозяйка нежною рукой,
Иль как отверстие волкана,
Или как море пред грозой,
Она руками делала движенья,
сгибая их во всех частях,
как будто страсти приближенье
предчувствовала при гостях.
То самоварчик открывала
посредством маленького крана,
то колбасу ножом стругала —
белолица, как Светлана <...>.
319
Или... сравнений под рукой Петрова входит, розовая вся,
У нас довольно, — но сравнений снова плещет самоварчик,
Боится мой смиренный гений: хозяйка, чашки разнося,
Живей без них рассказ простой]. говорит: «Какой вы мальчик! <...>
(Пушкин 1977-1979/IV: 385) (Заболоцкий 2002: 369-371)
Подобная семантизация образа встречается, например, в
загадках. Ссылаясь на Д.И. Садовникова, исследователь
русских загадок В.В. Митрофанова пишет, что «дети их
загадывают совершенно спокойно, не подозревая о втором смысле,
девицы — на ушко, а парни — громко смеясь» (Митрофанова 1978:
118). Далее исследователь говорит не без некоторого
глубокомыслия, вполне, впрочем, объяснимого в контексте года
издания книги:
Возможно, что функциональный смысл этих загадок действительно
ведет к свадебному обряду. Такие загадки, как загадка про самовар («У
девушки-сиротки загорелося в середке, у доброго молодца покапало с
конца»), могли задаваться и составляться для некоторых моментов
свадебного обряда. Именно там, в обряде, а не в пустом зубоскальстве
можно найти практическое оправдание их существования (Там же: 118).
Разумеется, и Заболоцкому потребовался образ самовара в
качестве эротической метафоры не для «пустого зубоскальства».
Дабы воссоздать высокий строй мысли поэта, напомним один
момент из воспоминаний Лидии Липавской. Обсуждая с
Леонидом Липавским книгу Джеймса Хопвуда Джинса (1877—1946)
«Вселенная вокруг нас» (М.; Л., 1932), Заболоцкий говорил:
Вселенная имеет свой непонятный путь. Но посмотрите на интересньш
чертеж в книге — распределение шаровых скоплений звезд в плоскости
Млечного Пути. Не правда ли, эти точки слагаются в человеческую
фигуру? И Солнце не в центре ее, а на половом органе, Земля — точно семя
вселенной Млечного Пути (Воспоминания 1984: 54).
«Офорт» — четвертый по счету столбец в составе
окончательного варианта сборника. «Самовар» — четвертый, если
считать с конца. Если мы заглянем в Корректуру-33, то увидим, что
«Офорт» занимает здесь пятую позицию (Заболоцкий 1987: 25).
Однако и «Самовар» в предполагавшемся сборнике (Там же:
59) не четвертый, а пятый! Похоже, что автор сознательно
«удерживал» их на равном расстоянии от центра. В
окончательном варианте «Самовар» оказался на 22-м месте, обозначив
тем самым границу и предел «Столбцов» в редакции 1929 года.
Оба стихотворения венчаются образами цветов («Цветик-
незабудка на высоком стебельке» и «За стеклышком —
розмарин»), отсылающими к «ростку болезненного тела» из централь-
320
ного «Фокстрота». Действие «Офорта», как пишет А. Юнгтрен,
«начинается в "оглушительном зале" и завершается в "городской
коробке", т. е. обычном ленинградском доме» (Юнггрен 1981:
176). «Самовар» открывается причудливым определением:
«Самовар, владыка брюха, / Драгоценный комнат поп!» В финале:
«И вся комнатка-малютка/ Расцветает вдалеке, / Словно цветик-
незабудка/На высоком стебельке» (Заболоцкий 2002: 98).
Речь идет о сложных трансформациях одного и того же
пространства. В «Самоваре» осуществляется проекция и
«стягивание» некой «городской коробки» (она же —
«комнатка-малютка») на блестящую сферическую поверхность самовара.
Если в «Народном доме» «молодчик оплеванный»
возвращается перед плоским зеркалом в младенчество, то сферическая
зеркальная поверхность — зримый образ даже не «квадратуры
круга», но «кубатуры шара» — позволяет герою «вспомнить»
себя до рождения: это та комнатка с самоваром, где
свершилось зачатие «неудачно рожденного» героя («Ивановы»).
Вспомнить/прозреть самое сцену злополучного рождения нам дано в
следующем сразу за «Самоваром» столбце «На даче». Детали
и участники этой протосцены (лошадь, тарантас, дядя и др.)
сообщают новый смысл художественному миру «Столбцов».
А. Юнггрен дает примечательный комментарий к слову
«постояльцы» в «Офорте»:
Жители города, сопровождающие всадника-покойника в
торжественном шествии и ведущие под уздцы его лошадь, названы «постояльцами».
Такой лексический сдвиг, выделяющий значение «кратковременного
местопребывания», отсылает к представлению о том, что человек — гость
на земле. Ср. такую же циничную метафору у Д. Бурлюка:
Мы в этом мире постояльцы —
раздельно номера заняв,
покуда смерть на наши пяльцы
не вышьет черепа устав.
Мы в мире сем скоропришельцы,
и каждый тянется — устав,
свое беречь для жизни тельце,
дней календарь перелистав.
(Юнггрен 1981: 174-175)
Взгляд на человека как на временного гостя в этом мире
восходит у Заболоцкого также к оценке земной жизни глазами
бесплотного духа Ариэля, который поет в начале второй
части Фауста, сопровождаемый звуками эоловых арф:
В дни, когда весна сияет,
Дождь цветов повсюду льет,
21 Заказ № К-7531
321
Поле в зелень одевает,
Смертным радости несет, —
Крошек эльфов дух великий
Всем спешит смягчить печаль;
Свят ли он иль грешник дикий,
Несчастливца эльфам жаль.
(Гёте 1962: 245; курсив мой. — И.Л)
Между несчастливцем, увиденным глазами гётевского
Ариэля, и постояльцами Заболоцкого стоит еще одна вариация на
тему земной жизни, увиденной глазами не обретшего
полноценной плоти существа, полного участливого сочувствия к
бренности земной жизни; это уже не бесплотный дух, а «Недоносок»
Баратынского. Вот как звучит мотив «недоноска-гомункула» в
его аранжировке:
Смутно слышу я порой
Клич враждующих народов,
Поселян беспечный вой
Под грозой их переходов,
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца.
(Баратынский 1958: 203; курсив мой. — И.Л)
Постоялец — слово-маска, за которой смутно угадывается
(как бы «за стеклышком» спиртовой18 банки) другое слово
(поселенец).
В интересной статье А. Юнггрен, посвященной анализу
«Офорта», содержится близкий к исчерпанию
функциональный стиховедческий анализ стихотворения.
Особенность структурной организации стихотворения заключается в
том, что от начала к концу происходит разложение метрической системы,
заданной первыми двумя строками, т. е. текст движется от стихотворного
к прозаическому. Первая, вторая строки максимально спаяны между собой:
они изометричны (амфибрахий), изосиллабичны (одиннадцатисложник) и
представляют собой явный монорим («зал» — «бежал»). Дальнейшему
смысловому членению текста: 3—6, 7—10, 11—14 строкам — соответствует деление
на такты, по которым происходит накопление негативных признаков. На
первом такте б строка вносит отклонение от принципа изосиллабизма (8
слогов против 11 в 1—5 строках) и рифмованности, разрушая ожидание
перекрестной рифмы («идет» — «поет», «под уздцы» — «наверх»).
Признаки-деструкторы, возникшие в 6-й строке, переходят в следующее
четверостишие в качестве структурного принципа: 7—10 строки уже не
содержат рифм, 10 строка укорочена (8 слогов против 12 в 7—9 строках). На
этом такте выделяется еще один негативный признак: 8 строка,
написанная анапестом, на фоне амфибрахиев вносит отклонение от принципа
322
изометризма. В последнем четверостишии выделенные
признаки-деструкторы аккумулируются и усиливаются: 11—14 строки нерифмованны и не-
изосиллабичны, причем количественный разброс слогов увеличивается по
сравнению с предыдущими двумя четверостишиями: это 12, 9, 13, 8
слогов против 11, 11, 11 и8в 3—6-й строках и 12, 12, 12 и 8 в 7—10-й.
Четверостишие написано анапестом со сбоями в 3-й стопе 11-й строки и 2-й
стопе 14-й строки в противоположность выбранному изначально
амфибрахию» (Юштрен 1981: 177).
Следует обратить внимание на «четырнадцатистишность»
«Офорта», которая, в контексте европейской поэтической
традиции, однозначно намекает на «королевскую» форму
поэтического высказывания — сонет, несмотря на то что «Офорт» —
самый, пожалуй, изученный и «описанный» из столбцов, в
отличие от «Самовара», которому, насколько нам известно, не
посвящено ни одного сколько-нибудь вразумительного
исследования.
«Самый сильный по мысли и образности» участок текста —
так называемый сонетный замок — не венчает здесь
стихотворение, как предполагается в классическом сонете, но,
напротив, вынесен в начало: «И грянул на весь оглушительный зал: /
"Покойник из царского дома бежал!"» (Заболоцкий 2002: 75).
Итак, перед нами слабо выраженный, «распадающийся» под
действием «признаков-деструкторов» сонет, к тому же еще
перевернутый «вверх ногами» (ср. нашу интерпретацию соотношения
«Фокстрота» и «Черкешенки»). Форма «Офорта» репрезентирует
в плане выражения образ царственного эмбриона19, важнейший
для. понимания «Столбцов» как единого целого.
Не менее причудливые отношения с сонетным каноном и у
«Самовара». В «Поэтическом словаре» А. Квятковский описывает
правила внутренней композиции сонета следующим образом:
Каждая строфа С. — это законченное целое. Первый катрен является
экспозицией, в нем утверждается основная тема стихотворения, во втором
катрене развиваются положения, высказанные в первом катрене; таким
образом, оба катрена ведут линию подъема. Дальше начинается
нисхождение темы: в первом терцете намечается ее развязка, во втором —
происходит быстрое завершение развязки, которое находит наиболее яркое
выражение в заключительной строке С. (Квятковский 1966: 276).
В первом катрене «Самовара» заявлена тема
«недоношенного» сонета — самовар — и дана ее минимальная парадоксальная
разработка. Человек, отраженный в сферическом зеркале
самовара, видит в искривлении собственного отражения черты
эмбриональной пластики. «Термины детской анатомии» (Кеко-
ва 1987: 7) — грудка и ножка — преобразуются в названия частей
21*
323
«нормального» тела, имеющие репрезентации в анатомии
зародышевой^ пренатаяъной: спиралевидное ухо, изоморфное
эмбриону, и непропорционально увеличенный лоб, создающий
образ потенциально заложенного «церебро-сперматического
единства» (Топоров 1983: 253). В следующем четверостишии
тема самовара разрастается до своего рода одического
восхваления. Тему «подъема» составляет, таким образом, обращение
к самовару как воплощению власти — мирской и духовной,
способной карать и миловать.
Терцеты в «Самоваре» «разрослись» до катренов, что делает
«сонетное» начало трудноразличимым. Однако законы
сонетной композиции соблюдены строго: в третьем четверостишии
появляется женский лирический субъект и образ льющейся в
чашку горячей жидкости, в контексте фольклорных
ассоциаций связанный с оплодотворением. «Быстрое разрешение
развязки» происходит в последнем катрене; лирический субъект
«Столбцов» — он же их невидимый главный герой, —
воссоединившись со своей женской сущностью и обретя андрогинное
состояние, «вспоминает» собственное зачатие в «комнатке-малютке»,
которая «расцветает» «на высоком стебельке» в его/ее
предсмертном видении (зрительном эксцессе), за которым открывается
выход в бессмертие. Это состояние дается, однако, «герою»
ценой деградации поэтического голоса. «Самовар», как и
«Купальщики», не только не являются «столбцами» (графика
нормализована в катренах), но еще и воспроизводят интонацию
нехватки умственной: голоса лирических героев здесь — голоса
жизнерадостных идиотов («Купальщики»)20 или женоподобных
имбецилов («Самовар»). Такова специфика поэтической
мысли Заболоцкого, осознающего себя одним из завершителей
поэтической эпохи Серебряного века: важнейший в этом
контексте мотив андрогина/гермафродита «оборачивается» образом
импотенции21.
Изоморфное зачатию в рамках мифологического мышления
воскресение происходит в симметричном «Самовару»
«Офорте». Погибший в результате телесного аффекта
«женоподобный» идиот-«Иуда», чей предсмертный «писк» слышит читатель
в «Самоваре», воскресает царем в графическом пространстве
«Офорта»22.
В цитированной выше словарной статье А. Квятковский
приводит один из лучших русских сонетов, написанных в XVÏÏI веке
и принадлежащий перу А. Сумарокова:
О существа состав, без образа смешенный,
Младенчик, что мою утробу бременил
324
И, не родясь еще, смерть жалостно вкусил,
К закрытию стыда девичества лишенной!
О ты, несчастный плод, любовью сотворенный!
Тебя посеял грех, и грех и погубил;
Вещь бедная, что жар любви производил,
Дар чести, горестно на жертву принесенный!
Я вижу в жалобах тебя и во слезах:
Не вображайся ты толь живо мне в глазах,
Чтоб меньше беспокойств я, плачуща, имела.
То два мучителя старались учинить:
Любовь, сразивши честь, тебе дать жизнь велела,
А честь, сразив любовь, велела умертвить.
(Цит. по: Квятковский 1966: 277)
Стоящий близко к истокам русской сонетной традиции,
сонет Сумарокова связан, как нам кажется, со «Столбцами»
тесной связью23. Сохраняя (но и маскируя) эстетически
шоковый характер образа, Заболоцкий эксплуатирует его,
разумеется, не ради актуализации диалектики чести и любви, но ради
богатого метафизического потенциала рискованного образа
«почти амфибии, пребывающей где-то между бытием и
небытием», если позволительно воспользоваться в данном случае
Лейбницевым определением мнимого числа (см.: Дуганов 1993:
46). Сонетный канон — недостижимый идеал кристаллической
формы во внутреннем плане «Столбцов», и только в «Офорте»
и «Самоваре» читателю дано ощутить его природу, в контексте
которой каждый из столбцов выглядит скоплением уродливых
амебообразных словесных масс. Если восьмистрочное
«Движение» составляет телесный минимум столбца, содержа как бы «в
яйце» потенцию его двуцентровости, то в таких столбцах, как
«Цирк» или «Народный дом», сонетность не ощущается
читателем из-за невероятно разросшегося гибридного тела текста24.
В «Самоваре» мы, вполне в соответствии с этимологией
слова «сонет» (um. «sonetto», от «sonare» — звучать, звенеть), слышим
звонкий голос женоподобного идиота, «вспомнившего»
причинное мгновение собственного зачатия и разбивающего скорлупу
земного воплощения, в то время как в «Офорте» — «трубный
глас» его, идиота, воскресения в запредельном основному «на-
тюрмортному» пространству «Столбцов» пространстве гравюры.
В «Театре Серафима» Антонен Арто декларирует:
Я собираюсь решиться на нечто ужасающе женское. <...> Чтобы
испустить этот крик, я опустошаю себя. Я избавляюсь не от воздуха, но от
325
самой силы этого звука. Я воздымаю перед собой свое тело мужчины. И,
бросив на него «взгляд», ужасным образом всё вымеривающий, я шаг за
шагом вынуждаю его вернуться внутрь себя (Арто 1993: 190).
Малозаметный среди «Столбцов» «Самовар» — нечто
ужасающе женское Заболоцкого, смысл и значение его
проясняются лишь в сложном взаимодействии с другими столбцами.
Прекрасный чайник англичан, вокруг которого
разворачивается драматический диалог Корнеева и Агафонова в
«Испытании воли» (1931), связан с «Самоваром». Здесь важна идея
преемственности и предшествия, связывающая «Городские
столбцы» со «Смешанными», лукавый намек на глубинную
связь двух циклов, но и энигматическое сокрытие оснований
этой связи, «отвод глаз». Драматическая форма отсылает к
центральной «Поэме дождя». «Домашняя семантика»
противостоит архаике стиля, а способный независимо от воли людей
«вечно возвращаться» чайник индексирует тот модус контакта
с реальностью, который поэт обрел, завершив работу над
«Городскими столбцами» созданием «Самовара». Именно чай,
чайник и самовар в поэтическом идиолекте Заболоцкого служат
окончательному обузданию «боевых слонов подсознания» в
финале «Смешанных столбцов»: «И слон, рассудком
приручаем, / Ест пироги и запивает чаем» (Заболоцкий 2002: 135).
«Приручению» подлежат внутренние конфликты,
остроумно сформулированные Жаком Лаканом (французский
мыслитель и психотерапевт был всего на два года старше
Заболоцкого, и принадлежность к одному поколению в ментальной
ситуации Европы, как и к единой культурной парадигме, — при всех
различиях — «оправдывает» параллель):
<...> символическая функция фаллоса является осью символического
процесса, который у обоих полов завершает поиск ответа на проблему
пола комплексом кастрации». <...> ребенок в своем отношении к матери —
отношении,' определяемом с точки зрения анализа не витальной
зависимостью ребенка от матери, а его зависимостью от ее любви, т. е. желанием
ее желания, идентифицирует себя с воображаемым объектом ее желания
в той мере, в какой сама мать символизирует его в фаллосе (Лакан 1997:
107-108).
Если мысль Лакана, неустанно оговаривающегося о
принципиальной нехватке языковых средств для артикуляции этой
сущностной коллизии, локализует ее в «зазоре» между Речью
и Письмом, Заболоцкий решает сходную задачу сугубо
поэтическими средствами.
В заключение отметим, что в шестых от начала и конца
стихотворениях «Смешанных столбцов» («Меркнут знаки Зодиака»
326
и «Царица мух») находит амбивалентное поэтическое
воплощение коллизия отцовства: в композиционном центре второго из
столбцов поэт «сводит» одно из ветхозаветных имен Бога (Эло
хим) с этимоном своего родового имени («На болота влажный
туф <...>»)25. Столбец «Меркнут знаки Зодиака» состоит из 61
стиха, и, в соответствии с «законом Якобсона» («<...>
центральная строка стихотворения с нечетным числом строк — центр
симметрии стихотворения — должна быть так или иначе
выделена» (Левин 1998: 275)), его центр приходится на стих 31, где
слиты семантика еды/поглощения и кастрации: «<31> Людоед у
джентльмена <32> Неприличное отгрыз» (Заболоцкий 2002:
111). Согласно Лакану, «на том месте, где призывается <...> Имя
Отца, может в Другом отозваться просто-напросто дыра,
которая самим отсутствием эффекта метафоры спровоцирует
появление такой же дыры вместо фаллического значения» (Лакан
1997: 111).
Примечания
1 Созвучие (в мифопоэтической картине мира — родство) имени
Автора и имени Книги [с-т-л-6-ц — з-б-л-ц-) едва ли не первым
«расслышал» и выявил Е.А. Евтушенко в стихотворении «Художница», где
есть строки: «Рисунки-сорванцы / похожи на "Столбцы" / когда-то
молодого Заболоцкого» (Евтушенко 1984: 86).
2 «Число 22, представляющее собой число букв финикийского, а
затем и древнееврейского алфавита, в культурном ареале Ближнего
Востока с незапамятных времен имело сакральный смысл и не
утратило этого качества во всех культурах, так или иначе хранящих связь с
этой традицией. Особыми значениями оно наделяется в библейско-
евангельских и каббалистических текстах. Как в Ветхом, так и в
Новом Завете числу 22 предназначена структурообразующая роль:
вспомним, например, алфавитные псалмы Псалтири. <...> Вспомним
Откровение Иоанна Богослова, не соблюдающее принципа алфавитности, но
придерживающееся деления на 22 "главы"» (Силард 2000: 294). О
каббалистической нумерологии см. классические работы Гершома Шоле-
ма, начиная с труднодоступного изд.: Scholem 1933. См. также
недавно изданную в русском переводе работу Матитьягу Глазерсона (Глазер-
сон 2002).
Забавно, что один из старейших литературных журналов
«русского Израиля» имеет лаконичное название «22».
3 Ср. в «Записной книжке» 1928 года (№ 13) Хармса: «Сефер Ие-
цира. (Гилхот Иецира). (книга творения) (правило со-творения).
Антропоморфические» (Хармс 2002/1: 237). В «Записной книжке» № 17
(апрель 1929 — январь 1930, лист 71) есть запись реплики
Введенского в споре с Заболоцким: «Коля<,> я согласен с тобой в вопросе об
327
отделах, как о вопросе "свободы". (Упрёк Введ.), но<,> Коля<,> твой
разговор уже каббала» (Там же: 331).
4 Как писал весьма популярный в «русском литературном
модернизме» «свободный маг» Папюс: «Точкой отправления для всей
Каббалы является еврейский алфавит. Он состоит из 22 букв, которые не
случайно помещены в известном порядке. Каждая буква по своему
положению соответствует числу, по форме — иероглифу, и по
соотношениям с другими буквами — символу» (Папюс 1992: 68). Далее говорится
о делении двадцатидвухбуквенного алфавита на три группы: 3 буквы-
матери, 7 (3 + 4) «двойных» и 12 «простых». Сходные описания
содержатся и у другого современника Заболоцкого — Мэнли Холла, его
работе «Энциклопедическое изложение масонской, герметической,
каббалистической и розенкрейцеровской символической философии», см.
в особенности главу «Каббала — тайная доктрина Израиля» (Холл 2003
[1928]: 501—546). О дальнейшем развитии этих концепций см.: Глазер-
сон 2002.
5 «Кавказ — территория реконструкции. На территории Кавказа
реконструируется первосостояние и первокачество: Кавказ
конструируется как абсолютная Родина (ср. "яфетическую теорию" Марра,
ориентированную на миф о "библейской горе", роль кавказского
материала в индоевропейских и ностратических реконструкциях)».
Предшествующий «Столбцам» замысел объединения поэтических
текстов отразился в частично сохранившемся рукописном сборнике
«Арарат» (см.: Заболоцкий 1998: 136). В нашем случае можно
предположить и непосредственное влияние яфетидологических построений
на ход мысли поэта, связанного с культурным пространством
советского Ленинграда 20-х годов XX века. 11 ноября 1921 года
Заболоцкий писал М. Касьянову: «Только что начинаю посещать лекции и
начинаю зарываться в глубины человечества сумерийские, хамитские
и пр. и пр. эпохи» (Заболоцкий 1995: 47).
6 Как прозорливо отмечает О. Лекманов, поводом к написанию
произведения А.И. Введенского «Потец» «послужила смерть отца,
воспринятая Введенским как трагедия. Трагедия, "спрятавшаяся" за
текстом, и ее буффонадное воплощение в тексте — вот два полюса, меж
которых разворачивается <...> фабула» (Лекманов [б. д.]). В
примечании автор исследования отсылает к фрагменту из дневниковых
записей Е.Л. Шварца 1955 года: «Мать Хармс очень любил. В двадцатых
годах она умерла, и Введенский с ужасом рассказывал, как спокойно
принял Даниил Иванович ее смерть» (Шварц 1990: 512). СВ. Кекова
пишет: «У Заболоцкого карнавальное содержание из образов
практически выхолощено: в мире "Столбцов" смешное вытесняется
страшным, а сам карнавал воспринимается как праздник безумия. <...> В
раннем творчестве и движение поэтического сюжета, и семантическая
структура текста обусловлены соотношением категорий безумия и
смерти. <...> Следует специально отметить, что в таких случаях, когда
слово 'смерть' или слова того же семантического поля в тексте не
присутствуют, а присутствуют только знаки смерти (то же можно сказать
328
и о безумии), текст приобретает коннотативную окраску, которая
возникает в силу ассоциативной связи определенных смысловых сфер с
центральными категориями мироощущения раннего Заболоцкого»
(Кекова 1987: 12, 15-16).
7 Под «строфоидом» мы, вслед за Т. Царьковой, понимаем
«авторское, тематически обусловленное, графическое разделение астрофи-
ческого стихотворения на части, содержащие любое количество
строк» (Царькова 1978: 133).
8 «Сие происходит следующим образом: возьми колбу самого
лучшего хрустального стекла, положи в оную самой чистой майской росы,
в полнолуние собранной, одну часть, две части мужской крови и три
части крови женской; но заметить должно, чтоб сии особы, если
только можно, были целомудренны и чисты; потом поставь стекло оное с
сиею материею, покрыв его слепою крышкою, сохранно на два месяца
для гниения в умеренную теплоту, — и тогда на дне оного ссядется
красная земля <...>» (Пыпин 1896: 64). Пятьдесят шесть стихов «Disciplina
clericallis» принадлежат соответственно репликам Хлои, персонажа по
имени Я, и Философа: 12 (Хлоя) + 8 (Я) + 8 (Хлоя) + 8 (Я) + 8 (Хлоя) +
12 (Философ). Стихотворение строится из трех женских «реплик»
(Хлоя), двух мужских (Я) и одной «философской», «чистой» (Философ).
Можно указать и отдельные текстуальные переклички: «А потом,
немного треснув, /В ящик бархатный ползет <...>» > «<...> если же,
напротив того, выбросишь вон сию землю, то делается она илом, наподобие
жабы, и ползет в землю» (Там же: 66). В контексте распространенных
в оккультной литературе соответствий, кровь является аналогом
жизненной силы, а та, в свою очередь, находит у Заболоцкого близкое к
буквальности соответствие в поэтическом слове: «Если сок твой
неизменен [ср. требование целомудрия "доноров" в масонской рукописи. —
И. А], / Трубадурская душа, / Если песни, как каменья, / Упадают и
блестят <...>». Видимо, именно через этот — общий — источник,
молодой Заболоцкий вступает в полемику с Кузминым, «обескровившим»
рецепт («туман и майская роса» вместо майской росы и крови, см.:
Богомолов 1995: 155). Ср. поэтически развернутую в предельно
конкретных образах «Столбцов» («Движение» и «Игра в снежки»)
метафору: «Экипаж, лошадь, кучер — вот вся философия, вот вся Магия,
разумеется, при условии считать этот грубый пример лишь
аналогическим типом и уметь наблюдать. <...> Лошадь превратилась в
изображение крови, или, лучше, жизненной силы, действующей в нашем
организме, и тогда, конечно, вы найдете, что экипаж является
изображением нашего тела, а кучер — воли» (Пагаос 1913Д: 17—18).
Подробнее об источниках и архитектонике этого текста говорится в
нашей статье: Лощилов 2005.
9 В самом консонантном составе слова «черкешенка» взрывной
заднеязычный и шипящий как бы «прорывают» цветосемантический
ассоциативный потенциал слова: ч-р-[л:-ш]-н-[к].
Ср. в повести Андрея Платонова «Котлован»: «— А ты кто? —
Я был поп, а теперь отмежевался от своей души и острижен под фок-
329
строт. Ты погляди! — Поп снял шапку и показал Чиклину голову,
обработанную как на девушке» (Платонов 1990: 154).
11 Приведем в этой связи эпизод из жизнеописания Заболоцкого,
свидетельствующий, кажется, об исходно ритуальной (пре-эстетиче-
ской, по H.H. Евреинову) природе мышления молодого поэта:
Через несколько дней после возвращения из армии Николай
Алексеевич, одетый в длинную солдатскую шинель, в ботинки с обмотками и при
этом — в штатскую клетчатую кепку, пришел на Большую Пушкарскую
навестить Катю Клыкову. Вот как она вспоминала о той встрече:
«Заболоцкий пришел с каким-то особенно лукавым и многозначительным
видом. Когда мы вышли из полутемной кухни-прихожей, я увидела на его
щеках нарисованные черной тушью фигуры — что-то вроде трезубца с
переломанной под прямым углом ручкой и ромб. Он попросил меня
пойти с ним погулять. Я поняла, что он хочет удивить прохожих. Мы
торжественно, под руку прошли по Большому проспекту, свернули на Камен-
ноостровский. Начинало смеркаться. Ни один встречный не обратил на
нас внимания! Когда мы вернулись, я не могла удержаться от смеха»
(Заболоцкий 1998: 130).
Возможно, речь идет о конфигурациях двух из трех «материнских
букв» каббалистического алфавита: меж и шин (третья — алеф).
Именно эти ивритские «буквенные герои» становились нередко
«фигурантами» стихотворений «русских поэтов-розенкрейцеров» 30-х годов XX
века, см.: Никитин 2002.
12 Видимо, маскулинно-инициационный аспект армейской жизни
конца 20-х годов XX века позволил осмыслить как в известном
смысле позитивный и крайне болезненный тюремно-лагерный опыт.
«Формирование же я символизируется в сновидениях <...> укрепленным
лагерем и стадионом <...>» (Лакан 1997: 11). Далее речь идет о
«субъективных тупиках», обусловленных исторической попыткой осуществить
свободу в рамках «концентрационно-лагерной формы социальных
взаимоотношений». Реплику Заболоцкого из воспоминаний Бориса
Слуцкого следует объяснить не только стратегией «отговорки», но и
установкой на преобразование «негативного опыта» лагерной жизни в
инициационный и в конечном счете «позитивный» опыт: «В другой раз
на общий чересчур вопрос о шести лагерных годах: — Ну, как там
было? — он ответил, не распространяясь: — И плохо было, и очень
плохо, и очень даже хорошо» (Заболоцкий 1995: 751).
13 О генезисе образа «цыпленка» см.: Мазинг-Делик 1987.
14 В прозе Даниила Хармса мотив недоноска связан с мотивом
рождения из икры (см.: Жаккар 1995: 120—121, 352—353).
15 См. об этом нашу работу: Лощилов 1999.
16 Вспоминая беседы в кругу участников ОБЭРИУ, Лидия Липав-
ская пишет:
Яков Семенович, который тоже участвовал в этих разговорах,
вспоминал, как Николай Алексеевич рассказывал египетскую легенду. За точность
передачи Яков Семенович не ручается, но содержание помнит хорошо.
330
Какому-то мудрецу или жрецу один из богов сообщил тайну мира и
жизни. Тайна мира была записана на большой таблице с помощью 52
иероглифов, изображавших слова и мысли. Затем эти иероглифы были заменены
знаками игральных карт четырех мастей: туз, двойка, тройка и т. д. Потом
бог велел мудрецу разрезать таблицу на 52 части и перетасовать их. По
этой легенде, люди играют в карты, раскладывают пасьянсы в надежде
раскрыть смысл зашифрованных в виде знаков игральных карт иероглифов,
чтобы узнать тайну мира и жизни, заключенную в определенном, но
неизвестном нам расположении карт. Число возможных перестановок 52 карт
равно 52! (математическая формула: 52 факториал). Это число так
велико, что практически его можно считать бесконечным. Поэтому вероятность
познать тайну жизни и мира близка нулю. Николаю Алексеевичу нравилась
эта легенда (Воспоминания 1984: 55—56).
17 Н. Шром полагает, что «Заболоцкий, вслед за Н. Бердяевым, а
в большей степени за О. Вейнингером, усматривал первопричину
человеческой смертности в греховной любви Адама и Евы, а точнее, что
для Заболоцкого принципиально, — в грехопадении Адама,
соблазненного Евой» (Шром 1999: 129).
18 Ср. финал столбца «Белая ночь» в редакции 1929 г.: «Так
недоносок или ангел, / Открыв молочные глаза, / Качается в спиртовой
банке / И просится на небеса».
19 «Образ младенца занимал одно из центральных мест в
натурфилософских построениях, и прежде всего в алхимии, символизируя
последний этап трансмутации, когда материя предстает в очищенном,
возрожденном к новой жизни состоянии» (Бобринская 2003: 157).
20 Помещая в центр поэтического мира «Столбцов» образ,
синтезирующий черты эмбриона и гомункула, Заболоцкий, видимо,
прекрасно ощущал то, о чем в одной из «Лекций о Прусте» говорил М.К. Ма-
мардашвили:
Алхимия полагает, что можно в терминах описываемых веществ,
реально, в этой жизни, разрешить, размыть и растворить ее неизбывные
антиномии. Например, антиномию души и тела. <...> Мечта родить в
реторте тело, которое целиком есть дух, — и есть алхимическая идея. Из
алхимической идеи, кстати, родилась и социалистическая идея (Мамар-
дашвили 1995: 113).
21 Обретение истинного я в «Столбцах и поэмах» восходит к
герметическому сюжету об обретении духовного двойника, называемого
Енохом, Гермафродитом или Королем. Обретшие его лишаются
половой определенности, подобно коту-висельнику из столбца «На
лестницах» или «Безумному волку»: «Но чтобы истину увидеть, / Скажи,
скажи, лихой медведь, / Ужель нельзя друзей обидеть / И ласку
женщины презреть?» (Заболоцкий 2002: 140). Аскетизму отшельников
противостоит стихия необузданных страстей, разлитая повсюду в
окружающем их мире. Мастерское изображение этой стихии
привело к тому, что критик П. Незнамов сказал о Заболоцком: «Словом,
это не поэт, а какой-то половой психопат» (Незнамов 1930: 79).
331
22 Царь в алхимии — один из символов золота. Как знать, не это ли
соответствие имел в виду поэт в разговоре с маленькой дочкой
Наталии Роскиной:
Как-то, когда он причесывался перед зеркалом, аккуратно
приглаживая редкие волосы, моя Иринка спросила его: «Дядя Коля, а почему ты
лысый?» Он ответил: «Это потому, что я царь. Я долго носил корону, и
от нее у меня вылезли волосы». И вот — воспоминание о его
добродушно-серьезном лице, которое в эту минуту я видела отраженным в
зеркале, воспоминание о спокойном естественном тоне, которым он произнес:
«...я царь...» (Роскина 1980: 98).
23 H.H. Мазур (вслед за В. Томашевским) называет среди
возможных источников «Недоноска» Баратынского сонет французского
поэта Эно (Jean Dehenault) «La Mere a l'Avorton»: «Смутное смешение
бытия и небытия, / Жалкий выкидыш, неразвившееся дитя, /
Отвергнутое бытием и небытием» (Мазур 1999: 166).
24 «В отличие от лирического стихотворения (в его сегодняшнем
понимании), возникшего вследствие истирания, разрушения и
выветривания тех же самых поэтических жанров XVTII—XIX веков и
усреднения их иерархических особенностей, столбцы сохраняют
иерархические черты составляющих их единиц» (Пурин 1994: 142).
25 Подробнее об этом см. нашу статью: Лощилов 2003.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Арто 1993 — Арто А. Театр и его двойник. «Театр Серафима» /
Пер. с фр. и коммент. С. Исаева. М., 1993.
Баратынский 1958 — Баратынский Е.А. Стихотворения и поэмы.
Л, 1958.
Бахтин 1990 — Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и
народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
Бобринская 2003 — Бобринская Е. Русский авангард: истоки и
метаморфозы. М., 2003.
Богомолов 1995 — Богомолов H.A. Михаил Кузмин: статьи и
материалы. М., 1995.
Бочаров 2001 — Бочаров С. Парадокс «бессмысленной вечности»:
От «Недоноска» к «Идиоту» // Петербургский сборник. СПб., 2001.
Вып. 3: Парадоксы русской литературы. С. 193—218.
Бродский 2000 — Бродский И. Поклониться тени: Эссе. СПб., 2000.
Виролайнен 1995 — Вирояайнен М.Н. Культурный герой Нового
времени//Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1995. С. 330—349.
Воспоминания 1984 — Воспоминания о Заболоцком. Изд. 2-е, доп. /
Сост. Е.В. Заболоцкая, A.B. Македонов и H.H. Заболоцкий. М., 1984.
Гёте 1962 — Гёте И.-В. Фауст: Трагедия: Первая и вторая части /
Пер. H.A. Холодковского. М., 1962.
Глазерсон 2002 — Глазерсон Матитъягу. Нумерология — огненные
буквы: Мистические прозрения в еврейском языке. Иерусалим, 2002.
332
Гурьянова 1994 — Гурьянова H. Толстой и Ницше в «творчестве
духа» Елены Гуро//Europa Orientalis. 1994. № 13. 1. С. 63-76.
Деррида 1999 — Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до
Фрейда, и не только. Минск, 1999.
Дуганов 1993 — Дуганов Р. В. Самовитое слово//Искусство
авангарда: Язык мирового общения. Уфа, 1993. С. 41—54.
Дьяконов 2003 — Дьяконов Л Вятские годы Николая
Заболоцкого / Ред.-сост. Н.И. Перминова. Киров, 2003.
Евтушенко 1984 — Евтушенко Е. Собрание сочинений: В 3 т. М.,
1984. Т. 3: Стихотворения и поэмы 1973—1983.
Ермилова 1989 — Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского
символизма. М., 1989.
Жаккар 1995 — Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского
авангарда. СПб., 1995.
Заболоцкий 1987 — Заболоцкий НА. Вешних дней лаборатория:
Стихотворения (1926—1937 годы) / Сост., вступ. ст. и примеч. H.H.
Заболоцкого. М., 1987. (Сер. «В молодые годы».)
Заболоцкий 1995 — Заболоцкий А. «Огонь, мерцающий в сосуде...»:
Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание.
Воспоминания современников. Анализ творчества/ Сост.,
жизнеописание, примечания H.H. Заболоцкого. М.: Педагогика-Пресс, 1995.
Заболоцкий 1998 — Заболоцкий H.H. Жизнь H.A. Заболоцкого. М.,
1998.
Заболоцкий 2002 — Заболоцкий НА. Полное собраний
стихотворений и поэм. М., 2002. (Новая библиотека поэта.)
Золотарева 2005 — Золотарева К.А. «Кукующие» соловьи и
кукушки в «Столбцах» Н. Заболоцкого//Русская филология. 16: Сб. науч.
работ молодых филологов. Тарту, 2005. С. 112—117.
Катаров 1928 — Кагаров Е. Мифологический образ дерева,
растущего корнями вверх // Доклады Академии наук СССР. Серия В. 1928.
№ 15. С. 331-335.
Квятковский 1966 — Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966.
Кекова 1987 — Кекова СВ. Поэтический язык раннего
Заболоцкого: (Опыт реконструкции). Автореф. дис. ... канд. филол. наук.
Саратов: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, 1987.
Красильникова 1995 — Красильникова Е.В. Николай Заболоцкий
(«Столбцы») И Очерки истории языка русской поэзии XX века: Опыты
описания идиостилей. М., 1995. С. 449—480.
Курганов 1997 — Курганов Е. Розанов и Флоренский. Проблема
мессианизма//Звезда. 1997. № 3. С. 211-220.
Лакан 1997 — Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или
Судьба разума после Фрейда. М., 1997.
Левин 1998 — Левин Ю.И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика.
М, 1998.
Лекманов [б. д.] — Лекманов О. Про «Потец» (некоторое
количество наблюдений) // Митин журнал. Вып. 52; в Интернете по адресу:
http://vavilon.ru/metatex0nj52/lekmanov.html
333
Липавский 1998 — Липавский Л. Разговоры // «...Сборище друзей,
оставленных судьбою»: «Чинари» в текстах, документах и
исследованиях: В 2 т. 1998. Т. 1. С. 17^-254.
Лощилов 1997 — Лощгиов И. Феномен Николая Заболоцкого.
Helsinki, 1997. — 311 с; новую версию книги, дополненную и исправленную, см.
в Интернете по адресу: http://rassvet.websib.ru/chapter.htm? 1&28.
Лощилов 1999 — Лощилов И.Е. Елена Гуро и Николай Заболоцкий:
К постановке проблемы // Школа органического искусства в русском
модернизме: Сб. ст. / Eds. N. Baschmakoff, О. Kuslina, I. Losèilov.
Helsinki, 1999. С. 148-164. (Studia Slavica Finlandensia. T. XVI/2.)
Лощилов 2003 — Лощгиов И.Е. «Царица мух» Николая
Заболоцкого: буква, имя и текст // Новейшие исследования русской культуры.
М.: Пятая страна, 2003. Вып. 3: «Странная» поэзия и «странная»
проза: Филологический сборник, посвященный 100-летию со дня
рождения H.A. Заболоцкого. С. 86—104.
Лощилов 2005 — Лощилов И.Е. О стихотворении Н. Заболоцкого
«Disciplina clericallis» // Sub Rosa. In Honorem Lénae Szilàrd. Köszohtö könyv
Lena Szilârd tisztéletere. Сб. в честь Лены Силард. Bydapest, 2005. S. 423-^32.
Мазинг-Делик 1987 — Masing-Delic Irene. «The Chickens Also Want
to Live»: A Motif in Zabolockij's «Columns» // Slavic and East European
Journal. 1987. 3. P. 356-365.
Мазинт-Делик 1992 — Masing-Delic I. Nikolay Zabolotzky: Columns
and the Triumph of Agriculture // Abolishing Death: A Salvation Myth in
Twentieth-Century Russian Literature. Stanford, 1992. P. 243-287.
Мазинт-Делик 1998 — Masing-De lie I. The Grusnickij Syndrome:
Vladimir Lugovskoj's Life Creation // Lebenskunst — Kunstleben. Zhiznetvoruestvo
v russkoj kuPture XVIII—XX w. [Lebenschaffen in der russischen Kultur
vom 18-20.Jhd.] /Ed. Schahadat, Seh. München. S. 209-224.
Мазур 1999 — Мазур H.H. «Недоносок» Баратынского // Поэтика.
История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию Вячеслава
Всеволодовича Иванова. М., 1999. С. 140—168.
Мамардашвили 1995 — Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. М.,
1995.
Марков 1994 — Марков В.Ф. О свободе в поэзии. СПб., 1994.
Мерлин 2006 — Мерлин В. Виртуальное во рту, или Русская сессия
Зигмунда Фрейда // Мерлин В. Производство удовлетворения.
Очерки симптомологии русского тела. М.: Знак, 2006. С. 84—144.
Митрофанова 1978 — Митрофанова В. В. Русские народные
загадки. Л., 1978.
Незнамов 1930 — Незнамов П. Система девок // Печать и
революция. 1930. № 4. С. 77-80.
Никитин 2002 — Никитин А.Л Rosa Mystica: Поэзия и проза
российских тамплиеров. М.: Аграф, 2002.
Пагаос 1913 — Папюс. Практическая магия (Черная и Белая): В 3 т.
СПб., 1913.
Папюс 1992 — Папюс. Каббала, или Наука о Боге, Вселенной и
Человеке. СПб, 1992.
334
Партон 1995 — Parton A. Avantgarde und mystische Tradition in
Russland 1900—1915 // Okkultismus und Avantgarde: Von Munch bis
Mondrian 1900-1915. Frankfurt am Main, 1995. S. 193-238.
Платонов 1990 — Платонов Л. Ювенильное море: Повести, роман.
Уфа, 1990.
Подорога 2001 — Подорога В. А. Материалы к психобиографии
СМ. Эйзенштейна // Авто-био-графия. К вопросу о методе: Тетради
по аналитической антропологии. № 1 / Под ред. В.А. Подороги. М.,
2001. С. 11-140.
Пурин 1994 — Пурин А. Метаморфозы гармонии: Заболоцкий //
Волга. 1994. № 3-4. С. 142-151.
Пушкин 1977—1979 — Пушкин A.C. Поли. собр. соч.: В 10 т. Л.,
1977-1979.
Пыпин 1896 — Пыпин А.Н. Homunculus: Эпизод из алхимии и из
истории русской литературы // Почин: Сборник Общества любителей
российской словесности на 1896 год. М., 1896. С. 51—66.
Рабинович 1979 — Рабинович В. Л. Алхимия как феномен
средневековой культуры. М., 1979.
Розанов 1990 — Розанов В.В. Уединенное. М., 1990.
Роскина 1980 — Роскина Наталия. Николай Заболоцкий // Роскина
Н. Четыре главы: Из литературных воспоминаний. Paris: YMCA-PRESS,
1980. С. 61-98.
Руссова 1991 — Руссова С.Н. «Антиэстетизм» Заболоцкого//Поэзия
русского и украинского авангарда: История, поэтика, традиции (1910—
1990 гг.): Сборник докладов научной конфернции 15—20 октября 1990
года. Херсон, 1991. С. 56-64.
Савченко 1968 — Савченко Т. Лирический герой в ранних
произведениях Н. Заболоцкого // Филологический сборник. Министерство
высш. и ср. спец. образования Казах. ССР. 1968. Вып. 8/9. С. 160—170.
Силард 2000 — Силард А. Карты между игрой и гаданьем: «Занге-
зи» Хлебникова и Большие Арканы Таро // Мир Велимира
Хлебникова: Статьи. Исследования (1911-1998). М., 2000. С. 294-302.
Смирнов 1994 — Смирнов И. П. Психодиахронологика:
Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
Степанов, Проскурин 1993 — Степанов Ю.С, Проскурин С Г.
Константы мировой культуры: Алфавиты и алфавитные тексты в
периоды двоеверия. М., 1993.
Топоров 1983 — Топоров В.И. Пространство и текст//Текст:
Семантика и структура. М., 1983. С. 227-284.
Топоров 1995 — Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ:
Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
Топоров 1998 — Топоров В.Н. Об «эктропическом» пространстве
поэзии (поэт и текст в их единстве) // От мифа к литературе: Сб. в
честь 75-летия Е. М. Мелетинского. М., 1998. С. 25—42.
Труды 1994 — Труды и дни Николая Заболоцкого: Материалы
литературных чтений. Сост. Л.А. Озеров. М., 1994.
Успенский 1993 — Успенский П. Д. Новая модель Вселенной. М., 1993.
335
Федоров 1984 — Федоров В. В. О природе поэтической реальности.
М, 1984.
Хармс 2002 — Хармс Д. Полное собрание сочинений: Записные
книжки. Дневник. В 2-х кн. СПб., 2002.
Холл 2003 — Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской,
герметической, каббалистической и розенкрейцеровской
символической философии. М., 2003.
Царькова 1978 — Царькова Т. Метрический репертуар H.A.
Заболоцкого//Исследования по теории стиха. Л., 1978. С. 126—151.
Шварц 1990 - Шварц Е.А Живу беспокойно... Л., 1990.
Шром 1999 — Шром Н. Чужое слово в антиавторском дискурсе:
Пушкин и Заболоцкий // Пушкинский сборник: К 200-летию со дня
рождения A.C. Пушкина. Вильнюс, 1999. С. 128—138.
Юнггрен 1981 — Ljunggren А. Обличья смерти: к интерпретации
стихотворения Н. Заболоцкого «Офорт»//Scando-Slavica. 1981. Т. 27.
С. 171-177.
Якобсон 1987 — Якобсон P.O. Работы по поэтике. М., 1987.
Ямпольский 1998 — Ямполъский М. Беспамятство как исток: Читая
Хармса. М., 1998.
Patai 1994 — Patai R. The Jewish Alchemists: A History and Source
book. Princeton, 1994.
Scholem 1933 — Scholem Gershorn Gerhard. Bibliographia kabbalistica:
die juedische Mystik (Gnosis, Kabbala, Sabbatianismus, Frankismus,
Chassidismus) Behandelnde Buecher und Aufsaetze von Reuchlin bis zur
Gegenwart (mit einem bibliographie des Zohar und seiner Kommentare
von Gerhard Scholem). Berlin: Schoken, 1933.
Е.И. Трофимова
«ВОЙНА И МИР» ОЛЬГИ ЗОТОВОЙ
Тендерная проблематика
в повести Алексея Толстого «Гадюка»
Повесть А.Н. Толстого «Гадюка», изданная в 1928 году,
вызвала достаточно широкий читательский резонанс. Ее не
только обсуждали, но и, в духе того времени, даже устраивали
своего рода «суды» над главной героиней — Ольгой
Вячеславовной Зотовой. Обвинители, как правило, расценивали ее
действия с социально-политической, то есть классовой, точки
зрения. Однако сегодня мы можем взглянуть на произведение и с
концептуально иных, например тендерных, позиций и, в
частности, учесть тезис У. Куайна о том, что наблюдение зависит от
теории и что конечное число фактов может иметь
бесчисленное количество интерпретаций (см.: Куайн 2000).
Сюжетно повесть Толстого — это рассказ о двух
революциях: внешней социальной и внутренней, менявшей общую
психологию общества и затрагивавшей основополагающую систему
ценностей, в том числе и отношения полов. Между этими
процессами существует прямая связь, которая придает
происходящим переменам особую остроту и драматизм, поскольку
столкновение идей и сил сопровождается коренной ломкой прежних
жизненных традиций и человеческих судеб.
Однако из множества явлений и процессов, сопровождавших
революционную эпопею, Алексей Толстой выбрал частный
аспект, связанный с феноменом, который можно условно назвать
«революционным трансвестизмом». Этот тип «переодевания»
женщины в мужчину был весьма распространен в периоды
социальных катаклизмов, войн и революций. В истории есть
немало примеров, когда по тем или иным причинам женщины
22 Заказ № К-7531 337
стремились облачаться в мужскую одежду, в военные доспехи,
подражать мужским поступкам, играть доступные лишь
мужчинам социальные роли1. Вспомним хотя бы Жанну д'Арк или
кавалерист-девицу Надежду Дурову.
В годы революции и Гражданской войны такие примеры
весьма многочисленны — сотни, а может быть и тысячи,
женщин переодевались в военную форму, вели «мужской» образ
жизни. Причин тому было много: от психофизических
отклонений, от стремления выжить и сохраниться в чудовищных
условиях разрухи и насилия до претворения в собственной
жизни типа так называемой «новой женщины».
Героиня повести «Гадюка», Ольга Вячеславовна Зотова,
принадлежала к буржуазной зажиточной семье, и жизнь, по ее же
словам, планировала соответствующе: «<...> муж — приличный
блондин, я — в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в
никелированном кофейнике. И больше — ничего!.. И это —
счастье...» (Толстой 1958: 195). Так репрезентировался
традиционный тип женственности. Однако Гражданская война
перевернула всё. Бандиты убили родителей, зверски изувечили ее саму,
разворовали и сожгли дом... Потеряв то, что составляло
основу и смысл существования, свою прежнюю «социальную
одежду», чудом выжив, Зотова встала перед выбором нового
положения и облика, новой своей роли во враждебном и страшном
мире. И в этом выборе немалую роль сыграл мужчина,
красный командир Дмитрий Васильевич Емельянов. Он поддержал
Ольгу вниманием (помог с жильем, затем взял в отряд),
возбудил ее воображение мечтами о новой яркой жизни, например,
рассказами о лихом, кровавом бое: «Тут уж — руби, гони...
Пленных нет...» (Там же: 197). Он вложил свое понимание
жизни в ее сознание. «Прожила бы, как все, — жизнь
просмотрела в окошко из-за фикуса... Скука. Надо когда-нибудь ведь
и погулять, не всё же на счетах щелкать...», — «диким
весельем блеснули его зубы». А от слов «хочешь не хочешь — гуляй
с нами» у нее кружилась голова и будто «память вставала из
тьмы ее крови», крича: «На коней, гуляй, душа!..» (Там же: 187).
Под влиянием конкретных обстоятельств, объективных и
эмоциональных, Зотова выбирает путь «революционного
трансвестизма», вступая в конный эскадрон Красной Армии.
Походы, жизнь среди солдат, постепенное подчинение
коллективистской идеологии — всё это способствовало превращению
барышни Зотовой в красного кавалериста товарища Зотову. Свой
«слабый» пол Ольга Вячеславовна почти переделала на
«сильный», и «за женщину ее мало кто признавал» (Там же: 209): она
338
«обстригла волосы», носила «кавалерийский полушубок, синие
с красным кантом штаны и <...> козловые щегольские
сапожки» (Там же: 195), подаренные Дмитрием Васильевичем, «могла
пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо,
ругалась не хуже других» (Там же: 209), «крыла матом», сделала
татуировку на руке и для всех была «только братишкой».
Исходя из приведенного описания можно было бы сказать,
что Ольга Вячеславовна достигла уровня мужчины и «стала
человеком» в понимании аристотелевском, согласно которому
мужчина — мера вещей, а женский — «слабый» — пол есть лишь
материал, коему придает форму господствующие мужской ум
и воля (см.: Аристотель 1984).
Война, несомненно, — высшая степень проявления
агрессивного характера человеческой цивилизации. Именно в это
время женщина наименее защищена и в наибольшей степени
подвергается всякого рода насилию и влиянию. Жизнь Зотовой в
эскадроне, ее стремление слиться с солдатской массой,
трансформация своего имиджа под товарища-бойца — результат
маскулинистской идеологии, усиливавшейся культом насилия,
царившего кругом. Подлинная же драма женщины, о которой
рассказывает Толстой, произошла позже, когда военный
коммунизм сменился либеральным нэпом.
Итак, писатель показал, что Зотова как бы стала «новой
женщиной». Изменилось ее классовое сознание: она воюет на
стороне красных, хотя сама — из богатой купеческой
старообрядческой семьи. «Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу.
Строгий, зажиточный дом отца, гимназия, сентиментальные подруги,
<...> сладкая тоска по северным, — каких в жизни нет, —
героиням Гамсуна, тревожное любопытство от романов Маргерита»
(Толстой 1958: 193); с презрением вспоминает ту уютную жизнь,
говорит о ней с ненавистью, употребляя новую для себя лексику:
«Ненавижу эту девчонку... Счастья ждала, ленивая дура. <...> Вот
сволочь!..» (Там же: 195). Она тонка, стройна, резка и
порывиста, походит на юношу, и позже её внешность вызывает
раздражение и такие высказывания, что Зотова-то и не женщина, мол,
«тоща и зла, как гадюка» (Там же: 209), и прочее.
С середины XVTQ века аристотелевская трактовка
женщины как недочеловека начинает представляться
несостоятельной, «слабый пол» объявляется «противоположным», и
возникает своего рода бинарная оппозиция. Разница между
мужчиной и женщиной становится принципиальной, женская роль
теперь определяется ее специфическим, или «природным».
Лозунгом становится высказывание, что биология — это судь-
339
6а, или — более категорично, как выразился Наполеон, автор
этого афоризма, — «анатомия решает судьбу» (Фрейд 1998: 189).
В таких рассуждениях незыблемы позиции традиционной
женственности, и для женщины невозможен какой-либо иной тип
жизни, хотя жизненные условия изменяются (см., например:
Heldt 1987).
По мысли автора, Ольга Вячеславовна, во многом
переиначив себя, не смогла изменить главного, а именно: своей
женской сущности, своей анатомии, а следовательно, судьбы. В
повести постоянна мысль, что женщине надо получить мужчину
и подчиниться ему, уничтожить в переносном и прямом
смысле своих соперниц, других женщин. «Олечка, сама того не
понимая, силилась вся перелиться в него [Емельянова. — Е.Т.]»
(Толстой 1958: 195), а однажды увидев улыбающуюся ему
женщину, догнала ее, «схватила за руку, сказала шепотом,
задыхаясь: "Ты что: смерти захотела?"... Бабенка ахнула, с силой
выдернула руку, убежала» (Там же: 205). При этом Емельянов не
был ни мужем, ни любовником Ольги, у них были
целомудренные отношения, хотя все в отряде и считали их мужем и женой.
Позже, когда ее соседка по коммунальной московской квартире,
«безобидная», но со «скрытым и практическим умом» 19-летняя
Сонечка Варенцова (по-домашнему Лялечка), выйдя замуж за
директора Махорочного треста, которого полюбила Ольга
Вячеславовна, устраивает ей по наущению соседей пошлый скандал
с визгом, взбешенная Зотова убивает ее. Со «знакомой дикой»
ненавистью она «<...> выстрелила и — продолжала стрелять в это
белое, заметавшееся перед ней лицо <...>» (Там же: 221).
С полей сражений, из кочевий Гражданской войны Ольга
Вячеславовна попадает в другой мир. Мир, где в той или иной
степени восстановлены былые принципы отношений полов, где
доминирование мужского как бы закамуфлировано, скрыто
(конечно, только в сравнении с тем, что творилось во время
войны). В середине 20-х годов общество, манипулируя женской
сексуальностью, восстанавливает в правах «куртуазность»,
кокетство, игру. На смену прямому насилию мужчины над
женщиной приходит насилие административное и бытовое.
Справедливости ради следует отметить, что в 20-е годы в Советской
России в области теории и практики отношений полов
наблюдались разнонаправленные, а зачастую и противоположные
тенденции. Формально-правовое и политическое равноправие
вполне сочеталось с бытовой репрессией женщин. Здесь
можно согласиться с М. Фуко, утверждавшим, что в истории
«освобождение и подавление парадоксально часто идут рука об
340
руку» (цит. по: Cosdow, Sandler, Vowles 1993: 15; см. также: Тем-
кина 2001). Конечно, Ольге Вячеславовне безумно трудно
примириться с такой ситуацией, и ее «мужская прямота» не может
ужиться с необходимостью лгать, изворачиваться,
подлаживаться, угождать. Даже трансформация внешнего облика —
облачение в женскую одежду — дается ей с большим психологическим
надрывом. Драма, приведшая героиню к настоящей трагедии, в
том, что она никак не может принять новых и, как она считает,
фальшивых правил игры. Окружающий мир постоянно
выталкивает ее, отторгает те качества, которые были взращены
прежним «революционным трансвестизмом». Ее уже не называют
ласковым словом «братишка», а только — «стервой со
взведенным курком» (Толстой 1958: 180). Отсюда постоянно
нарастающее сюжетное и психологическое напряжение повести.
Толстой отмечает и еще одну характерную черту времени:
манипуляцию женской сексуальностью в годы войны и
последующего мира. Сначала требовался отчаянный «братишка» или
комиссар, вроде Ларисы Рейснер, готовый положить жизнь за
мировую революцию, а спустя несколько лет были
востребованы фильдеперсовые чулки, кудряшки и милое глупое
щебетанье (см.: Волконский 1992: 352)2. Нэп, как оказалось, для
многих стал временем жестоких разочарований в идеалах, за
которые боролись и на фронтах Гражданской войны, и во время
революции. Цельный, бескомпромиссный характер Ольги
Зотовой, полностью поверившей в освобождающее и очищающее
влияние революционных перемен, в том числе и для женщины,
не позволил ей стать обывательницей в банальном значении
этого слова. Хотя жизнь продемонстрировала, что человек не
изменился к лучшему, как на это надеялась она и ее
соратники. Основой для трагедии и «потерь» изменившейся и ничего не
приобретшей женщины стали, по мысли автора, так
называемая природа женщины, ее биологическое предназначение и
отсутствие рядом мужчины, который выше и природы, и
женщины. A priori считается, что мужчина представляет собой
некую высшую власть и «всецело объемлет <...> женский мир,
[которого] он — источник существования» (Барт 1994: 65—66).
Бой за мужчину проигран, его нет рядом: Емельянов убит (а
ведь, «рассеки свистящий [его] клинок ее сердце — закричала бы
от радости: так любила она этого человека...». — Толстой 1958:
197); директор Махорочного треста женат и не хочет быть с
Ольгой («...Вы преследуете меня... Намеренье ваше понятно, —
пожалуйста, не лгите <...>». — Там же: 219). Нет мужчины в
жизни, нет и ей там положенного (природой, анатомией, судь-
341
бой и т. д.) места, что и дает право автору привести героиню к
преступлению и жизненной катастрофе.
Неспособность преодолеть приобретенный комплекс
«мужского» типа поведения, пойти изворотливым, так называемым
женским, путем для владения любимым мужчиной приводит
Зотову к любовной драме: ей предпочли Лялечку, обладавшую
искомой женственностью в полном объеме. Своеобразным
приговором Ольге Вячеславовне, пытавшейся открыто признаться
директору в любви, прозвучали его раздраженные слова: «<...>
да бросьте, это не для вас, вы показали себя на общественной
работе с хорошей стороны. <...> Из вас может выйти хороший
товарищ <...>» (Там же: 219). История кончается тем, что
отвергнутая, не пытавшаяся найти себя в новой жизни, высмеиваемая
соседями по коммунальной квартире, Зотова в состоянии
аффекта выстрелом из пистолета убивает Варенцову...
Хотя и трудно предположить, что Толстой осознанно ставил
перед собой задачу чисто феминистского свойства, тем не
менее как талантливый и проницательный писатель, как человек,
несомненно, знакомый с идеями 3. Фрейда, О. Вейнингера,
будоражившими русское общество конца XIX — начала XX
века, он сумел почувствовать и выразить в повести некоторые
проблемы женской эмансипации. Писатель по-своему хотел
осветить так называемый женский вопрос, постоянно проводя
мысль о биологической детерминированности жизни женщины
и о том, что, чем больше разведены жизни мужчины и
женщины, тем лучше для обоих полов (см., например: Энгелыптейн
1996: 219—412). Сближение и смешение полов в общении, не
говоря уже о равенстве — свидетельстве происходящего
упадка и катастрофы, — такова одна из идей А. Толстого в повести
«Гадюка», — поскольку приводят лишь к несостоявшейся
женской жизни и краху.
Таким образом, через драму героини писатель
демонстрирует тупиковый путь женской эмансипации, когда абсолютно
принимается маскулинистская система ценностей, личность
отказывается от своих суверенных прав, жизнь женщины
конструируется по мужскому типу и происходит полная
трансформация «своего» в «другое».
Вербально скрытой, но в действительности весьма
актуальной и в жизни, и в самосознании героини повести «Гадюка»
является проблема тела и сексуальности, а также
биологического, символического и метафорического аспектов их
восприятия. До трагедии, что привела Зотову в Красную Армию, ее
отношение к телу можно описать как традиционно мелкобур-
342
жуазное, «добропорядочное»: невинная девушка-невеста,
преданная жена, мать законных наследников. Тело
воспринимается не как источник собственных эротических удовольствий, а,
вкупе с девственностью, как награда будущему супругу, как
символ последующей «правильной» семейной жизни.
Революционный вихрь мгновенно сломал эту метафорическую
конструкцию: «неслыханные перемены» и «невиданные мятежи»
коренным образом меняют отношение героини к своему телу.
Этот процесс можно обозначить как десексуализацию
представлений о телесном. Выражается это не только во внешней
трансформации — смене одежды, маскулинизации облика, но
и в приятии образа жизни, манер и даже менталитета
противоположного пола. Ольга Вячеславовна живет как простой боец,
следует распорядку кавалерийской части, участвует в боях,
убивает врагов. С командиром эскадрона, которого любила,
ведет себя как обычный красноармеец. Будучи его вестовым,
нередко «ночевала с ним в одной избе и часто — на одной
кровати: он — головой в одну сторону, она — в другую, прикрывшись
каждый своим полушубком» (Толстой 1958: 199). Зотова
сознательно отрекается от своего тела и связанной с ним
сексуальности; она стремится спрятать его, закамуфлировать,
нейтрализовать. Это противоречие между биологической сексуальностью
и стремлением его идеологической элиминации приводит к
первому, но весьма показательному конфликту. Суровая
простота и целомудренность «товарищеских» отношений Зотовой
и Емельянова разрушаются, когда последний видит Ольгу
Вячеславовну во время утреннего обливания водой. «Обернулась:
на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и
странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и
присела так, что видны были только ее немигающие глаза. <...>
Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел. Случай был
незначительный, но всё изменилось с той поры. Всё вдруг
стало сложным — самое простое» (Там же: 202).
Десексуализация тела, достаточно широко
присутствовавшая в теории и практике большевиков, имела две крайности.
Одной из них была идея полиандрии (например, в случае Лили
Брик или героинь повестей А. Коллонтай). Подобная
концепция, в сущности, выводила тело из области частно-интимных
отношений, обобществляла его, превращая из объекта личных
чувственно-эротических переживаний в предмет практически
общедоступный. Артикулировалось это как принесенная
революцией свобода в отношении полов, пытавшаяся уравнять
права мужчин и женщин. Отношение к сексуальным/любовным
343
отношениям было слишком упрощенным, только как к
контактам (т. е. такой устойчивый стереотип, как склонность мужчин
к многочисленным сексуальным связям, не только
принимался, но и распространялся на женщин). Так, тело становилось
социализированным объектом, вполне вписывавшимся в
большевистскую концепцию тотального обобществления. Другим
полюсом революционной десексуализации был
революционный аскетизм, который часто выражался у женщин в «омуже-
ствлении» — мимикрии под противоположный пол. Мужепо-
добность — из-за невозможности биологической
трансформации — достигалась путем изменения внешнего облика, манеры
поведения, что позволяло камуфлировать формы женского
тела. Военная или полувоенная форма, сапоги, футболки,
короткая прическа, курение махорки, маскулинизированные,
часто вопреки грамматике, речевые формы («товарищ
Иванова») — всё было призвано нейтрализовать, свести к минимуму
внешнюю сексапильность женщины. И в жизни, и в
литературе появлялись характерные типажи женщин-комиссаров,
профессиональных большевичек, партийных работниц, одним из
демонстрируемых качеств которых было неприятие эротики,
сексуальности, телесности.
Весьма любопытный пример ненависти к телу можно
обнаружить, правда, у представителя другого пола, в одном из
классических произведений ранней советской литературы, романе
Н. Островского «Как закалялась сталь». Павел Корчагин и
Иван Жаркий, маниакально служащие делу революции,
однажды в санатории видят эстрадное исполнение современного
танца. Глядя на танцующую пару, они чувствуют почти
физическое отвращение к прильнувшим друг к другу мужскому и
женскому телам, к такой, по их мнению, «буржуазной» форме
выражения сексуальности: «<...> он в красном цилиндре,
полуголый, <...> но с ослепительно белой манишкой... Одним
словом, плохая пародия на дикаря. Она — смазливая, с большим
количеством материи на теле». Эта парочка «в вихлястом
фокстроте» крутилась на сцене. «Отвратительнее картины нельзя
было себе и представить», мужик и женщина, прилипнув друг
к другу, «извивались в похабных позах». Вдруг Жаркий
закричал: «Довольно проституировать! К черту!» (Островский 1979:
535—536). Для него это не просто разврат, но предательство
дела революции, новых идеалов и отношений.
Однако такой накал в идеологизации и десексуализации
тела был присущ лишь первым послереволюционным годам.
Под влиянием внешних и внутренних обстоятельств режим не
344
приемлет многие подобные идеи. Новым хозяевам России для
укрепления собственного положения приходилось
отказываться и от идей «свободной любви», и от революционного
аскетизма. С нэпом частично, неполно возрождались и некоторые
черты буржуазной семьи, а с ними были востребованы
символические, семантические и эстетические ценности женского тела.
Традиционные понятия женственности, привлекательности,
ухоженности, кокетства перестали определяться как
враждебные. И важно отметить: женщина демонстративно начинает
отождествляться исключительно с телом и его функциями
(детородными или сексуальными). Хотя конечно же в XX веке
уже невозможна была реставрация «женственности» по
викторианскому типу. Женщины стали пробиваться в сферы более
высокооплачиваемых профессий, доступным стало
образование (среднее и высшее), соответственно изменились отношения
в семье, стала меняться ее структура (вспомним к/ф «Член
правительства»). Женщины получили возможность работать и
стали меньше экономически зависеть от мужей, менее
нуждаться в семье как в социальном институте. В это время
увеличивается количество разводов, женщины позже вступают в брак,
предпочитая сначала получить образование, — всё это связано
с экономической и юридической самостоятельностью женщин.
Эмансипация, как мы видим, делает свою работу, но корни
женской дискриминации уходят значительно (в традиционном
смысле) глубже, и чаще всего женщина репрезентируется
биологически детерминированно.
Особенно наглядно женское тело используется в области
визуальных искусств — живописи,
монументально-декоративных жанрах, в плакате. В официальном искусстве 30-х годов
оно обретает некоторые канонические черты, сохранившиеся
вплоть до конца 90-х годов. Самый известный и яркий
пример — фигура колхозницы в знаменитой скульптуре Веры
Мухиной. Большое грузное и сильное тело, простонародное, с
грубыми чертами лицо, тяжелые, но абсолютно асексуальные
женские формы — всё это должно было формировать образ
мощной, трудолюбивой, плодовитой Родины-матери, которую
каждый должен почитать и испытывать сугубо
дочерне-сыновнее почтение. Идеологизированное женское тело почитается за
выраженную в нем народную силу, любить его должно за
воплощенную в нем заботу партии о народе. Далее
гипертрофированная его плодовитость никак не связана с естественной
способностью к деторождению. Такое тело производит на свет не
людей, а героев-тружеников.
345
Итак, героине Толстого не удалось переделаться в «сильный»
пол, обществом начинают активно подчеркиваться женские
отличия, то есть основной идейной конструкцией становится
«противоположность» женского мужскому, выстраивается иная,
отличная от революционного времени, концепция женственности,
и социум продолжает манипулировать женской сексуальностью.
Этого перелома, что вполне понятно, Ольга Зотова не приняла.
Она просто не знает, что ей делать со своим телом, ее
внутренняя драма во многом определяется психологическим
столкновением биологически детерминированных чувств с
идеологизированным разумом, продолжающим воспринимать собственное
тело как нечто ей не принадлежащее и подвергаемое репрессии
и ограничению. Но «ожидать случая, счастья, действовать по
мелочам — где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно
выдернуть голое плечико из платья — было не по ней» (Толстой
1958: 218—219). Так называемая новая репрезентация женского
тела, нашедшая воплощение в образе Лялечки, для Ольги
Вячеславовны была неприемлема и невыносима.
Трагический накал повести тем более высок, что в ее основе
лежит не только внешнее столкновение морали и аморализма,
правды и лжи, хорошего и плохого. В моральном отношении
Зотова ничем не лучше Варенцовой (если это не так, то, значит,
прав был Родион Раскольников). Жестокость Зотовой стоит
коллективной подлости соседей по коммуналке (см.: Мещерская
2000: 240—241)3. Корни драмы значительно глубже. Приведший
к кровавой развязке радикализм героини есть прямое следствие
тех катастрофических для многих индивидуумов исторических
метаморфоз (в том числе и тендерных), ломки представлений о
сексуальности, а также неумения, неготовности женщины к
самоидентификации и к повышению самооценки.
История Ольги Зотовой — прекрасный материал для
психоанализа4. Отметим, что табуированная — под воздействием
чрезвычайных внешних причин — сексуальность вытесняется в
область бессознательного, а оттуда выплескивается вовне в виде
невроза, преувеличенной ненависти к субъектам и
обстоятельствам, препятствующим нормальному осуществлению этой
сексуальности. Однако более интересной в данном случае выглядит
эта ситуация с точки зрения лингвистической теории
французского философа Жака Лакана, стремившегося
переориентировать психоанализ на расшифровку способов, которыми
конструируется человеческий субъект. Дж. Митчелл пишет:
Лакан предложил психоаналитической теории новую науку —
лингвистику, которую он развил и изменил применительно к концепции субъек-
346
тивности. Человеческое животное рождается в языке, и именно в
границах языка конструируется человеческий субъект. Язык не вырастает из
индивида, он всегда находится там, во внешнем мире, ожидая
новорожденного. Язык всегда «принадлежит» другому (Митчелл 1998: 72; см.
также: Boothby 1991: 21-41).
В сложившейся культуре слова «женское», «мужское» не
только указывают на биологические различия, но и выступают
оценочными категориями, формирующимися социумом,
закрепляются в сознании и общественном, и отдельной личности
посредством языка. Язык является тем универсальным
информационным полем, которое, с одной стороны, отражает
иерархическую структуру общественного менталитета, а с другой —
активно его формирует. Стоит вспомнить «критику языка»
Людвига Витгенштейна, считавшего, что изменение мира
невозможно без опережающего изменения языка. «Не может быть
нового мира без нового языка», — пишет его
последовательница, известная австрийская писательница И. Бахман, утверждая,
что предрассудки остаются в языке «как позорные пятна даже
после того, как сами они исчезают <...>» (Бахман 1976: 59).
Таким образом, как и любое представление о своем л, идея
сексуальности — всегда результат воздействия внешней для
субъекта среды, формирующей его язык и понятия. Героиня
повести «Гадюка» в этом отношении оказалась в весьма
своеобразной ситуации. Лексикон сексуальности, приобретенный в
прошлой дореволюционной жизни, был как бы отброшен,
дезавуирован, стал ненужным для новой формы бытия Зотовой.
Начав всё с нуля, она попадает в среду, где сексуальный
дискурс происходит в рамках противоположного пола, иного
языкового уровня, иной объективности. Ольга Вячеславовна,
порвав со старым мелкобуржуазным дискурсом сексуальности,
учится жить в другом, мужском, казарменном. Позже, попав в
ситуацию лингвистического вакуума, лишенная сексуального
нарратива, она не умеет формулировать собственные
представления об этой стороне своей индивидуальности. Скудость
такого рода вокабулярия, с одной стороны, делает ее личность
ущербной, неполноценной, «несформулированной», а с
другой — уводит сексуальность из области
интеллектуально-психической в область инстинкта.
В этом отношении весьма показательно описание Толстым
эротических переживаний Зотовой. Высказывание «женщиной
не рождаются, ею становятся» (Бовуар 1997: 310) можно
продолжить — и через опыт сексуальный. Отсутствие его приводит
к негативному восприятию своих желаний («<...> жизнь била ее
347
и толкла в ступе, а дури не выбила, и "это", конечно, теперь
начнется <...>» — Толстой 1958: 215) и к одновременному
стремлению и подавить, и найти способ их осуществления. «С темной
тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со
зрелой силой, просыпаются желания... Её девственность
негодовала... Но — что было делать? Мыться с ног до головы под
краном ледяной водой? <...> Это было не нужно, это было
ужасно...» (Там же: 216).
Отсутствие опыта — это и отсутствие «становления».
Утратив, загнав в область бессознательного одну культуру
сексуальности, Зотова вследствие «революционного трансвестизма» и
ассоциирования себя с мужской тендерной ролью не может
адекватно воспринимать ту сексуальную культуру, которая
развивалась в послереволюционном советском гражданском
обществе. Поэтому все ее попытки реализовать свои
инстинкты представляются окружающим прямолинейными, грубыми,
нелепыми, агрессивными, «неженственными». Однажды она
«решила: прямо пойти и всё сказать ему: пусть что хочет, то и
делает с ней... А так — жизни нет...» (Там же: 219). (Хочу
обратить внимание на подчеркиваемую автором полную женскую
зависимость от мужчины, арбитра, которому, по высказыванию
Р. Барта, изначально и принадлежит «верховная власть» — Барт
1994: 66.) Косноязычие сексуального словаря героини
рельефно выразилось во время её последней попытки поговорить с
директором Махорочного треста: «Ольга Вячеславовна
догнала его, резко и грубовато окликнула. <...> Пошла рядом, не
могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти.
Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно,
и злобно (курсив мой. — Е.Т.)» (Толстой 1958: 319). Героиня,
переживая сильные эмоциональные потрясения, пытается и не
может найти выхода из мучительнейшей для нее ситуации,
поскольку не имеет опыта конструирования своего поведения.
* * *
Идеи социального равенства, пропагандировавшиеся
большевиками и автоматически переносившиеся в область семейно-
любовных отношений, на поверку оказывались идеями
уравнительного характера. Причем «планка равенства»
устанавливалась по «мужскому росту». И, чтобы соответствовать этим
требованиям, женщина должна была или насиловать свою
природу, свое иное, рядиться в мужскую одежду, подражать
мужскому образу жизни, подчиняться аксиологии маскулинистской
348
парадигмы, или подстраиваться под нее. Равенство имело
сугубо формальный характер: после революции женщина могла
стать, например, депутатом и даже наркомом, но очень многие
«освобожденные» женщины стали всего лишь молотобойцами,
шпалоукладчицами, трактористками... В бытовой же сфере
женщине отводилась вполне консервативная роль воспроизво-
дительницы потомства, любовницы, домработницы, кухарки,
долженствующей удовлетворять физиологические и
гастрономические потребности мужчины (то есть женщины
продолжали нести ответственность за дом, даже если они при этом
работают).
Революционный экстаз прошел, и если раньше Александра
Коллонтай говорила и писала о «новой женщине», то позже
Надежда Константиновна Крупская предлагала иную,
победившую формулировку: «новая женщина» на производстве и
«прежняя» в быту.
Примечания
1 Можно предположить, что пример такого переодевания юноши в
женщину («японку» на маскарадном балу), красочно обыгранный
Ф. Сологубом в замечательном романе «Мелкий бес», был известен
А.Н. Толстому. На общую тему см., напр.: Thurston G.J. Sologub's «Melkii
Bes» // Slavic and East European Review. 1977. Vol. 55, № 1. P. 29-44; Ehre
M. Fedor Sologub's «The Petty Demon»: Eroticism, Decadence and Time //
The Silver Age of Russian Culture: Selected Papers from the Fourth World
Congress for Soviet and East European Studies. Harrogate 1990 / Ed.
Elsworth J.D. New York, 1992. P. 154-172; Green D. «Insidious Intent»: An
Interpretation of Fedor Sologub's «The Petty Demon». Columbus (Ohio),
1986; Ivanits L.J. The Grotesque in Fedor Sologub's Novel «The Petty
Demon» // Russian and Slavic Iiterarture: Selected papers in the Humanities
from Banff 1974 International Conference / Eds. Freeborn R., Milner-Gul-
land R.R., and Ward CA., eds. Cambridge (MA): Slavica, 1976. P. 136-174;
см. также: Elbaz R. The Changing Nature of The Self. Iowa: Iowa City
University, 1987. (Примеч. ред. — Д.И.)
2 Весьма любопытно наблюдение князя С. Волконского, очевидца
революционных и послереволюционных метаморфоз, в том числе и
«революционного трансвестизма». Говоря о так называемой
«эволюции большевизма» в начале нэпа, он пишет: «<...> в комнате № 28
сидит барыня в нарядном чёрном платье с отменными манерами. Это
тоже эволюция: вместо папахи с папироской» (Волконский 1992: 352).
3 Жестокие нравы коммунальной жизни 20-х годов XX века
красочно описывает княжна Е.А. Мещерская: «Не давая Алексееву и
Кантору выйти из коридора, Васильев избивал их. Его лицо в
нескольких местах было в ссадинах и кровоточило. Зато лицо Кантора было
349
настолько залито кровью, что невозможно было понять, что именно
разбито. У Алексеева кровь на лице смешалась с грязью: видимо,
Васильев возил его лицом по полу. <...> Я боялась, что дравшиеся
пустят в ход оружие, ведь у брата Кантора оно было так же, как у
Алексеева и Васильева, но драка возникла случайно, и револьвера ни
у одного при себе не было» (Мещерская 2000: 240—241).
4 Можно обратиться, напр., к работам Мелани Кляйн: Klein M.
Love, Guilt and Reparation and Other Works, 1921-1945. N.Y., 1977.
(Примеч. ред. — Д.И.)
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Аристотель 1984 — Аристотель. Политика // Собр. соч. В 4 т. М.,
1984. Т. 4. С. 376-644.
Барт 1994 — Барт Р. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Бахман 1976 — Бахман И. Тридцатый год // Три дороги к озеру.
М.: Прогресс, 1976. С. 27-63.
Бовуар 1997 — Бовуар С. де. Второй пол. СПб., 1997.
Волконский 1992 — Волконский СМ. Мои воспоминания: В 2 т. М.,
1992. Т. 2.
Куайн 2000 — Куайн У. Слово и объект. М.: Праксис; Логос, 2000.
Мещерская 2000 — Мещерская Е. Воспоминания. М., 2000.
Митчелл 1998 — Митчелл Д. Женская сексуальность. Введение //
Тендерные исследования. Харьков, 1998. № 1. С. 67—100.
Островский 1979 — Островский H.A. Как закалялась сталь //
Фурманов. Чапаев; Островский. Как закалялась сталь. М., 1979 (Б-ка
мировой литературы для детей). Т. 18. С. 253—570.
Тёмкина 2001 — Тёллкина А. К вопросу о женском удовольствии:
сексуальность и идентичность // Мишель Фуко и Россия: Сб. ст. / Под
ред. О. Хархордина. СПб.; М., 2001. С. 316-348.
Толстой 1958 — Толстой А.Н. Гадюка// Собр. соч.: В 10 т. М., 1958.
Т. 4.
Фрейд 1998 — Фрейд 3. Психоанализ и теория сексуальности. СПб.,
1998.
Энгелыытейн 1996 — Энгельштейн Л «Ключи счастья»: Секс и
поиски путей обновления России на рубеже XIX—XX веков. М.: ТЕРРА-
TERRA, 1996.
Boothby 1991 — Boothby R. Death and Desire: Psychoanalytic Theory
in Lacan's Return to Freud. N.Y.; L., 1991.
Costlow, Sandler, Vowles 1993 — CostlowJ., Sandler S., VowlesJ.
Introduction // Sexuality and Body in Russian Culture. Stanford (CA), 1993.
P. 1-38.
Heldt 1987 — Heldt B. Terrible Perfection: Women and Russian
Literature. Bloomington (IN), 1987.
щ
m
Казус Андрогина
и русская духовная
традиция
â
Елена Григорьева
К ВОПРОСУ О ТОПИКЕ
АНДРОГИНИЗМА В РУССКОМ
ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКОМ
МОДЕРНИЗМЕ
Компаративный взгляд
sub specie semiologiae1
Интерес к философским идеям и образам Платона является
базовым для первой волны русского модернизма, как для
декадентства, так и для (младо)символизма. Этот интерес обусловлен
не только общей идеалистической и утопической
направленностью символизма как течения, но и его методологическими
основами. Самоё понятие символа в интерпретации символизма
недвусмысленно восходит к Платону2. И если идеализм и
мистический эсхатологизм не были подхвачены последующими волнами
модернизма, то интерес к проблеме символа, знака только
возрастал. Можно даже говорить о возрастающей тенденции к
дальнейшему гипостазированию этой проблемы.
Возможно, что, перевалив и через нынешний рубеж
столетий, именно эта проблема символа и символизируемого
достигла определенной кульминации, поскольку была выпущена из
философского дискурса в массовую культуру. Тот факт, что
настоящая ситуация в развитии европейской культуры
предпочитает именовать себя постмодернизмом, задает некоторую
интенцию прочтения этой ситуации в отношении к стадиям и
фазам именно модернизма. В самой дефиниции
«постмодернизм» заключено некоторое терминологическое лукавство,
состоящее, с одной стороны, в переносе ответственности куда-то
в прошлое, а с другой — в указании на новизну. Эта новизна
заложена в исходных терминах — «модерн», «модернизм»,
равно как «Art Nouveau» и «Jugendstil», — подчеркивают новизну,
беспрецедентность и именно современность названного
направления культуры. Однако подобная характеристика предполага-
23 Заказ №К-7531
353
ет некую дилемму в именовании последующих, сменяющих ее
культурных парадигм. Что может наступить после модерна?
Еще более модерн? Отчасти это и происходит: модерн
сменяется модернизмом (в более локальных терминах:
«символизмом», «конструктивизмом» или «авангардом»), различие тонкое
в наименовании и весьма разительное в содержании.
Прибавление же «пост» являет собой почти отчаянную попытку
преодоления инерции эскалации качества и таит в свою очередь
опасность дальнейшего падения: пост-постмодернизм,
постпост-постмодернизм... Остается только надеяться на
имманентно присущее культуре отвращение к предсказуемым путям.
Однако кивок в имеющемся термине на модернизм и
одновременно синусоидальное отрицание его свидетельствуют о том,
что круг проблематики и мотивов, заложенный и
декларированный столетие назад, до сих пор осознанно не изжит и не
исчерпан. И это уже имеет непосредственное отношение к теме
моего исследования.
Не углубляясь в специальный анализ, что увело бы меня
слишком далеко в сторону, укажу лишь на некоторые
характеристики, позволяющие говорить о «кольцевой» композиции
культурной ментальности «условного» 20-го столетия. В первую
очередь это характерное для гуманитарной практики начала
века, повторяющееся уже в качестве признанной черты
постмодернистской ментальности, неразличение или стирание
границ между признанными различными способами (или
языками) осмысления бытия. Религиозная, мифологическая, научно-
филологическая, художественная и индивидуально-бытовая
практики на равных правах участвуют в порождении
конкретных текстов или дискурса, как сказали бы сейчас.
Беллетристика приобретает черты аналитического разбора своего
собственного строения с указанием на источники аллюзий и цитат
(А. Белый, Дж. Джойс, А. Ремизов), зачастую сочетаясь с
обнажением психоаналитической подоплеки и руководством по
герметическим наукам. Философские выкладки оформляются
в поэтической форме (Шопенгауэр, Ницше), при этом еще
имитируя форму сакральных текстов и т. д. — тенденция,
давно отмеченная исследовательской традицией. Полагаю, что
интерес к взаимному уподоблению полов, андрогинизму также
включается в эту тенденцию. Реакция на подобное, зачастую
«кощунственное смешение» (выражение А. Белого), наступает
в виде жесткой попытки отвлечения языка описания от языка
порождения в теории, например в структурализме, или в виде
создания жестких канонов и правил, подчиненных идеологиче-
354
ским задачам, в изящных искусствах. Соответственно,
постмодернизм вполне в гегелевском ключе, «отрицая отрицание»,
возвращается к принципу смешения языков и жанров.
Смешение тендерных ролей и образов не совсем синхронно с тем, что
происходит в искусстве, однако тоже переживает свои
подъемы и охлаждения.
Другой важной чертой, впрочем тесно связанной с
вышесказанным, мне представляется практика в начале и идеология в конце
«кольцевой композиции» непроницаемости языка, его неверифи-
цируемости ничем, кроме самого себя. Думается, что это
является универсальным свойством как модернизма, так и
постмодернизма в целом. С той разницей, что первая волна — условно говоря,
символизм — предоставляла языку свободу лгать, создавая свой
замкнутый в мотивных переплетениях мир смыслов, предполагая
при этом всё же наличие некой внеположенной языку истины,
призванной обнажиться после того, как уляжется пыль, поднятая
эсхатологическими обломками «страшного мира»,
разрушенного, не в последнюю очередь, тем фактом, что уже всё сказано.
Таким образом, цинизм на словах (в буквальном смысле) мог
не означать цинизма в чаяньях. Структурализм, оставаясь в
рамках тотального учения о знаках, пытался избежать
конечного аналитического цинизма при помощи туманной ссылки на
наличие «денотата» в качестве необходимой составляющей
знака. Постмодернизм же совершенно в духе мазохизма, как
его определяет Жиль Делёз (Делёз 1992: 291—301), меняет
причину и следствие местами, провозглашая ложь языка
движущей силой языковых порождений.
В качестве классического примера подобного подхода
можно привести конструктивную идею «Отчаянья» Набокова —
текста, строящегося на постоянном злорадном подчеркивании
неизбежной и предопределенной слепоты его читателя. Это как
бы констатация того, что читатель вербального текста будет
знать ровно столько, сколько ему продуманно определит автор.
Собственно, это принцип, на котором должен строиться любой
добротный детектив, только Набоков, в отличие от Агаты
Кристи, последовательно немилосерден к читателю. Визуализация,
впрочем, также не спасает от слепоты — достаточно вспомнить
«Ворота Расемон» Куросавы. То есть сам факт оперирования
знаками предопределяет состояние ошибочности восприятия.
Как кажется, прямым следствием признания неизбежности
условности и тотальности знака является и уже упомянутое
стирание границ между разновидностями дискурса (хотя,
возможно, следовало бы говорить о более мелком дроблении гра-
355
ниц), и определенное равноправие средств выражения, и
некоторая вседозволенность означения. Под последним я понимаю
ту ситуацию, когда выражению подлежат области, ранее
считавшиеся невыразимыми и в определенной степени таковыми
и остающиеся. И это, думаю, достойно доказательства. Я имею
здесь в виду некоторые «объекты» выражения, которые
можно охарактеризовать как «исчезающие при взгляде на них».
В частности, это положение предопределяет почти общую
закономерность неудачи фильмов ужасов, строящихся на
умопомрачительной и всё совершенствующейся технике
голливудских муляжей. Впрочем, «неудача», видимо, не совсем
корректное определение. Смотря по тому, что признается задачей
подобного рода продукции — возбуждение, продуцирование
ужаса или, напротив, его элиминирование. Представляется
очевидным, что визуализация ужаса приводит к его отмене.
Литература здесь оказывается в более выгодном положении,
хотя вопрос всё же не в принципе, а в степени. Поклонники
истинных мастеров ужаса, каким является, например, Альфред
Хичкок, прекрасно знают, что страх образуется и
скапливается между образами, например, в ожидании их появления, т. е.
скорее в пустых ячейках структуры, чем в значимых и
артикулированных ее элементах. Таким образом, ужас возникает
только в качестве побочного продукта видимо нейтрального
повествования. То же можно сказать по поводу эротических
переживаний, скорее ослабляемых, чем интенсифицируемых
натуралистичным изображением половых контактов
действующих лиц подобного специального типа дискурса. И напротив,
осознанный отказ от визуализации, изображения в подобной
ситуации производит желаемое действие, на первый взгляд в
качестве побочного или парадоксального. Примечательным
примером здесь выступает эпизод в «Week end» Годара, который,
полагаю, был бы воспринят Эйзенштейном или Пудовкиным как
совершенная утрата профессионализма. На протяжении десяти
минут экранного времени длится рассказ об эротических
развлечениях в menage a trois, что не может не восприниматься как
эпатирующий отказ от изображения.
Полагаю, что умножать примеры было бы бессмысленно —
- подобное явление неоднократно описано, в том числе и в
терминологии формальной школы, унаследованной
структурализмом, в качестве «минус-приема». Однако представляется, что
суть подобных отказов всё же не в использовании приема, а в
самом объекте отказа от артикуляции, в том, что именно
предпочтительнее не артикулировать, чтобы произвести желаемое
356
действие. И указание здесь на страх и сексуальность вполне
закономерно, поскольку сказанное обнажает известную
параллель с психоаналитическим методом лечения психических
расстройств. Этот метод основан в первую очередь на проговари-
вании, вынесении в область сознания, неких исключительно
влиятельных факторов, до этого абсолютно безмолвных. И
вследствие этой артикуляции происходит отмена их влияния, т. е. их
функциональное разрушение. Очень часто, в частности у
Фрейда, этим неартикулированным (вытесненным) фактором
парадоксальным образом оказывается именно слово или игра слов —
вспомним классический пример с Pas de Calais (букв.: «Шаг
Кале»; игра происходит со значением части Pas во
французском названии канала). Иными словами, в своей
психоаналитической практике Фрейд как бы реализует потенциальную
парадоксальность высказывания, имеющего глубокие
герметические корни: «Мысль изреченная есть ложь». Если же она есть
ложь, то и силы не имеет. Так, предполагается полнейшее
разоблачение магии слова при его осознанном произнесении.
Впрочем, разумеется, это касается не только слов, но и образов.
Вероятно, забавно было бы проследить, в какие именно
образные формы отливается бессознательный страх в сознательных
попытках выведения его на поверхность. Уже упоминавшиеся
фильмы ужасов очень часто оформляют этот страх в виде
покрытых слизью рептилий, одновременно напоминающих
полуразложившийся труп и недоразвившийся зародыш, что наводит
на размышления об онтогенетических и филогенетических
ассоциациях подсознания.
В этой связи меня будет занимать прежде всего оппозиция
выраженности (сознание) — невыразимости (бессознательное) в
приложении к проблеме разделения полов, поскольку, по сути
дела, психоаналитическая идея разделения на сознательное и
бессознательное в человеческой ментальности очередной раз в
истории культуры ставит вопрос о взаимоотношении полов, их
взаимной притягательности и отталкивании, весьма
показательным для наших рассуждений образом и именно в самом
начале интересующего нас периода. Во второй половине XX века в
науке эта проблема трансформируется в проблематике
функциональной асимметрии полушарий головного мозга,
проблематике, закономерно усложненной дальнейшими более
детальными исследованиями3. Схема асимметрии типов сознания
проецируется не только на тендерные различия, но и на
базовые закономерности развития и существования культуры.
Последнее в терминологии Тартуско-Московской школы получает
357
наименование мифологического и исторического типов
сознания4. Весьма показательно, что тема асимметрии полушарий в
преломлении оппозиции мифа и сциентизма была заявлена в
русской традиции в мемуарах Андрея Белого задолго до
строгой научной верификации этой проблемы в работах советских
нейрофизиологов и лингвистов группы Балонова-Деглина (см.:
Минц, Мельникова 1984; см. также: Минц 20046: 131-138).
Позволю привести здесь эту объемную цитату из текста
Белого, настолько она поражает вписанностью в гораздо более
поздние дискуссии:
Мое положение казалось безвыходным, если извне наблюдать меня;
правой рукою писал я «Симфонию», где лаборант Хандриков сходит с
ума от жизни в лаборатории; левой же — взвешивал на весах
анализируемую крупинку, находясь в той именно лаборатории, которую описывал
как сумасшедший дом; левое полушарие мозга исследует дарвинизм и
основы механики, а из правого в «Симфонию» излучаются мысли: «Мы живем
одновременно и в отдаленном прошедшем, и в настоящем, и в будущем.
И нет ни времени, ни пространства. И мы пользуемся всем этим для
простоты» («Возврат»); над химическою горелкою и над «Возвратом»,
начатым в гистологической чайной, совершалась «пляска на месте» или
проблема увязки эстетической тезы с естественнонаучною антитезою в
синтезе-символе, две проекции которого выглядели вовсе разно: в проекции
философии — метафизическою реальностью; в проекции естествознания —
химическим синтезом; или качественностью, не данной в тезе и антитезе;
задачею было: преодолеть метафизический привкус в философии, в
понимании синтеза и преодолеть до конца, но и осмыслить основы
механического мировоззрения как методическую эмблематику.
Понятие символа как конкретного синтеза (не Кантова или Гегелева) —
вынашивалось в годах (Белый 1989: 381—382; курсив мой. — Е.Г.).
Здесь множество ключевых слов, которые указывают на
четкое представление Белого о том круге проблем и мотивов,
в который вписывается противопоставление-взаимозависимость
мифологического и научного типа познания. Кроме уже
помянутой симметрии полушарий мозга5; это и четкое понимание
как конвенциональной, так и реальной природы символа (см.:
Grigorjeva 2003: 217—237), причем в контексте «вечного
возвращения» познания. В том числе это и упоминание химического
синтеза в паре с метафизической реальностью, что отсылает
нас к мистико-сциентистским построениям ренессансного типа6
и подтверждается в завершение указанием на
эмблематическую природу такого метода (см.: Григорьева 2000а). Для нас
важно и наличие мотивов, явно восходящих к Ницше, что
собственно следует уже из названия повести «Возврат» и
определения самого жанра текста как «симфонии». На этот же источ-
358
ник указывает и выражение «пляска на месте», упоминание
сумасшедшего дома и вневременности.
Этот комплекс вновь возвращает (прошу прощения за этот
почти каламбур) нас к «кольцевой» композиции сознания
двунадесятого столетия. Как в политике Европа до сих пор
распутывает узлы, завязанные Первой мировой войной, например на
Балканах, так и в сфере развития духа темы и мотивы конца-
начала века вновь и вновь актуализируются и подвергаются
трансформации. Боюсь утверждать, что проекцию названной
проблемы асимметрии систем мышления и культуры можно
наблюдать во всех сферах бытия европейской культуры, но
кажется очевидным, что в варианте тендерных
противопоставлений, смешений и перверсий эта проблема постоянно
будоражит самую обыденность человека 20-го столетия. В бытовой
сфере этот конфликт выражается в гонениях на женщин в
брюках или на трансвестита в чрезмерном макияже. В науке
эта тенденция проявляется в интенсивном интересе к темам
смены пола или андрогинизма. Необычайный интерес к
различным поворотам сюжета андрогина в искусстве и быту конца
XIX — начала XX века совершенно закономерно, без тени
мистики приводит к всплеску исследовательского энтузиазма по
изучению этого вопроса в публикациях конца 20-го столетия7.
Характерно изменение тональности в трактовке и отношении
к обыгрыванию этой оппозиции, что особенно заметно именно
в быту, — от резкой манифестации и болезненной реакции, до
спокойного, чуть иронического отношения, а кое-где вплоть до
вынесения на знамена под эгидой политической корректности.
Если же говорить о нейролингвистическом преломлении этой
проблемы, то и там был проделан путь от жесткой констатации
функциональных различий в работе полушарий мозга до
гораздо более сложной схемы переключений, замещений и
компенсации различных функций мозгового управления (см.: Cher-
nigovskaya 1996; Chernigovskaya 1999; Chernigovskaya 2001).
Однако обратимся всё же к истокам, хотя это и не очень
корректное определение, когда речь идет об исторической
рекуррентности. В мою задачу входит проследить некоторые
пересечения в репрезентации мотива андрогина в артистической,
философской и психоаналитической практике конца XIX —
начала XX века. Эта тема тесно связана с так называемым «нео-
мифологизмом» рубежа веков, который выражался, с одной
стороны, в исследовательском интересе к архаическим
культурам, а с другой — в использовании опознаваемых мифологем в
творческой практике и быту8. Часто, вполне в духе времени, эти
359
сферы тесно переплетались, как, например, в творчестве
Вячеслава Иванова, тонкого аналитика и поэта мифа,
известного также жизнетворческими опытами9.
В этой практике изучения-обыгрывания мифа ключевой
фигурой для русского символизма следует считать Фридриха
Ницше. «Рождение трагедии из духа музыки» — текст, в
значительной степени определяющий идеологию и образную
систему русского символизма. Поднимая проблематику
соприсутствия дневного (аполлонического) и ночного (дионисийского)
типов сознания в культурной ментальности человека, Ницше не
разделяет их впрямую по признаку «мужское — женское»,
однако — и это, очевидно, детерминировано всей традицией
языковых уподоблений культуры — он оформляет это разделение
провоцирующим подобные коннотации способом. И хотя,
повторюсь, оно определяется гораздо более общими архетипами
культуры, для нас важно, что после Ф. Ницше эти архетипы
оформляются согласованным с Ницше образом.
Приведу некоторые цитаты:
Поступательное движение искусства связано с двойственностью
аполлонического и дионисийского начал, подобным же образом, как
рождение стоит в зависимости от двойственности полов (курсив мой. —Е.Г.), при
непрестанной борьбе и лишь периодически наступающем примирении
(Ницше 1993: 59).
При этом дионисийское начало состоит, согласно Ницше,
ссылающимся здесь на Шопенгауэра, в абсолютной
безобразности, невыразимости в пластических или образных формах
архаического ужаса, разрушающего хрупкую иллюзию знако-
вости выражения:
Шопенгауэр описывает нам <...> тот чудовищный ужас, который
охватывает человека, когда он внезапно усомнится в формах познаваемых
явлений (курсив мой — Е.Г.). <...> Если к этому ужасу прибавить
блаженный восторг, поднимающийся из недр человека и даже природы, когда
наступает <...> нарушение principii individuationis, то это дает нам понятие
о сущности дионисического начала, более всего, пожалуй, нам доступного
по аналогии опьянения» (Там же: 61).
Таким образом, проблема соотношения полов и типов (или
состояний) сознания трактуется в преломлении проблемы
«выражение — отсутствие выражения». Иными словами, вопрос
приобретает черты семиотической диалектики10.
В дальнейшем гуманитарная культура будет склонна
оперировать именно этими понятиями. При встрече, столкновении
двух разделенных явлений последние характеризуются
непременно как отношение сознательного к бессознательному: Вос-
360
ток как подсознание Запада (или, помня Б. Гройса, «Россия как
подсознание Запада»). Вопрос — в наполнении
противопоставляемых феноменов и позиции наблюдателя. Женщина как
подсознание мужчины, мужчина как подсознание женщины. В
наиболее откровенной форме последнее положение было
высказано К.-Г. Юнгом, разработавшим, как известно, теорию комп-
лиментарности в каждом индивидууме «женского» и
«мужского» типов сознания. В применении к психологии идея тендерной
целостности индивидуального сознания была заложена в
теории ранней детской бисексуальности Фрейдом и развита в
дальнейшем Карин Хорни11. Примечательно, что у Юнга это
положение подкрепляется аллюзией на небезызвестный
схоластический диспут: «Habet mulier animam?» («Есть ли у женщины
душа?»), то есть таким образом противопоставляется
«мужская» душа душе «женской». Разумеется, у Юнга термины anima
и animus имеют в значительной степени метафорический
характер, однако также очевидно, что метафоры не выбираются
случайно.
Работы Юнга, посвященные обсуждению данной проблемы,
относятся к середине 20-х годов12. Пожалуй, говорить о ситуации
влияния русской литературы на немецкого
аналитика-философа было бы слишком смело13, тем не менее следует отметить,
что многие аспекты были проговорены по-русски значительно
раньше, уже в статьях Владимира Соловьёва, а также романах
Андрея Белого. По всей видимости, теоретическим выкладкам
основателей психоанализа предшествовала
художественно-философская практика, и не только отдаленного архаического ми-
фогенного прошлого, но и вполне близкого по времени и мысли.
Вопрос о взаимоотношении полов актуализируется для
русского символизма прежде всего Владимиром Соловьёвым,
посвятившим этой проблеме ряд статей под общим заглавием
«Смысл любви», где высшим смыслом и конечной целью
половой любви провозглашается идеальное созидание
богочеловека, или андрогина:
В эмпирической действительности человека как такового вовсе нет —
он существует лишь в определенной односторонности и ограниченности,
как мужская и женская индивидуальность (и уже на этой основе
развиваются все прочие различия). Но истинный человек в полноте своей
идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только
женщиной, а должен быть высшим единством обоих (Соловьёв 1990: 513)14.
Забавно, что психоанализ, прежде всего в лице Юнга, как
бы реализует для каждого индивидуума этот недостижимый, с
точки зрения В. Соловьёва, идеал в историческом времени.
361
Таким образом, уже намечен путь решения проблемы
асимметрии сознания как механизма продуктивного диалога. У Юнга эта
проблема решается посредством психоанализа, у Лотмана —
семиотической диалектики, у Вяч. Иванова — нейролингвисти-
ки. Характерно и то, что Соловьёв, оставаясь в рамках,
правда, не совсем ортодоксального христианства, использует
именно платоновское понимание андрогина:
Образ и подобие Божие, то, что подлежит восстановлению,
относится не к половине, не к полу человека15, а к целому человеку, т. е. к
положительному соединению мужского и женского начала, — истинный анд-
рогинизм — без внешнего смешения форм, — что есть уродство, — и без
внутреннего разделения личности и жизни, — что есть несовершенство и
начало смерти (Там же: 619)16.
Основой его размышлений, по всей видимости, является
прежде всего вопрос, дискутировавшийся ранними Отцами Церкви об
«образе и подобии» сотворенного человека17. Характерно, что
вновь проблема обретает семиотическое измерение — какое
существо выражает Бога более полно и адекватно? Получается, что
если на входе в систему имелся андрогинный Адам Кадмон (в
трактовке ренессансных каббалистов), то на выходе, по
Соловьёву, — Дева Радужных Ворот — София Премудрость, также
андрогинное существо.
Второй существенный аспект, также декларированный
Соловьёвым в связи с проблемой пола, — это разделение тела и
души:
Другое начало смерти, устраняемое высшим путем любви, есть
противоположение духа телу. <...> И <...> путь высшей любви, совершенно
соединяющий мужеское с женским, духовное с телесным (курсив мой. — Е.Г.),
необходимо уже в самом начале есть соединение или взаимодействие
божеского с человеческим, или есть процесс богочеловеческий» (Там же)18.
Заметим здесь в скобках, что, несмотря на фемининность
высшего существа по Соловьёву — Душа Мира, — «духовность»
в земной фазе процесса нисхождения ассоциируется всё же с
мужским началом, в то время как «телесность» — с женским.
Похоже, что Андрей Белый пародийно обыгрывает именно
этот круг мыслей Соловьёва в своем романе «Серебряный
голубь» (описание супругов Еропегиных):
Можно сказать, что скромный и благолепный образ Луки Силыча
выражал прекрасную душу супруги своей, а неказистый вид Феклы
Матвеевны был не чем иным, как смрадной душонкой своего богатого мужа:
словом, ежели бы самого вывернуть наизнанку [душой наружу) — сам бы
стал Феклой Матвеевной; а коли иначе — Фекла бы Матвеевна в Луку
Силыча превратилась всенепременно; оба были единого лика расколовши-
362
мися половинамщ но что сей лик был о двух головах и о четырех был
ногах, что каждая половина, с позволения сказать, зажила
самостоятельной жизнью — такое обстоятельство нарушало правильность
приведенного сравнения. Обе половины откололись давно друг от друга и теперь
глядели вовсе в разные стороны: одна половина зорко следила за работой
более чем десяти мельниц, разбросанных по уезду, занималась
коневодством и не пропускала ни одной сколько-нибудь смазливой юбки, другая
же половина замкнулась в себе: странно как-то замкнулась — с опаской,
с испугом, с ожесточением (Белый 1910: 52; курсив мой. — Е.Г.).
Мужская «душа» (анимус) охарактеризована у Белого
крайне негативно («смрадная душонка»), и равно негативно
представлена женская телесность. Это, по всей видимости,
обусловлено общей негативностью, «испорченностью» земного мира —
антитезиса. Проблема выражения, означения в мире
антитезиса дана также в диалектическом отрицании — душа выражает
неприглядность тела, тело представляет вывернутую
наизнанку «смрадную» душу.
Пародийная ориентация на Платона здесь распознается, так
сказать, нумерологически. Платоновские андрогины именно «о
четырех ногах». Собственно, более корректно говорить об ан-
дрогинности именно в таком варианте, разделяя, например, со
случаями гермафродитизма (см.: Элиаде 1999: 154).
Позволю себе напомнить соответствующее место у Платона:
Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как ныне —
мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе
признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя,
ставшее бранным, — андрогины, и из него видно, что они сочетали в себе
вид и наименование обоих полов — мужского и женского. Кроме того,
тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было
четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее — два лица,
совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в
противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных
частей две, а прочее можно представить себе по всему, что уже сказано
(Платон 1970: 116-117).
При этом платоновский андрогин явно не предполагает
никаких моральных оценок, это типичная мифологема, призванная
объяснить происхождение некоего феномена, в данном случае —
любовной тяги друг к другу расколотых половинок. В
платоновской легенде об андрогине также не затрагиваются вопросы
означения. И самое главное, у Платона вовсе не идет речь о
первичном единстве, человечество первоначально разделено даже на
большее число полов. Все эти пункты суть достижения
христианской теологии, которая при этом очень невнятно относилась к
проблеме изначального андрогинизма, в отличие от иудейской
363
кабаллисгической традиции. Философско-художесгвенная мысль
конца XIX — начала XX века объединяет проблему изначальной
гармонии человека (ветхозаветный Адам), проблему антагонизма
полов, в том числе и по признаку «духовности — материальности»,
проблему происхождения языка выражения в качестве утраты
изначальной нерасчленимости смысла и формы (того, что позже
Белый назовет «эмблематикой смысла», а также постарается
реконструировать в «Глоссолалии»), и проблему эсхатологического
восстановления начальной гармонии согласно диалектической
исторической триаде. По всей видимости, в персональной
космогонической системе Андрея Белого периода «Серебряного
голубя» можно говорить о том, что фаза гармонии «тезиса»
представлена платоновским андрогином. В фазе исторической
современности, «антитезисе», андрогин представлен расколовшимся на
супругов четвероруким квазимонстром, но эта же пара
трактуется и как разделение тела и души. Положительная программа
состоит в реконструкции целостности тела и души.
У Соловьёва андрогин из чудовища, соединяющего телесно
признаки обоих полов, трансформируется в существо, во всей
полноте сочетающее тело и душу. Андрей Белый подчеркивает
не столь явную у Соловьёва обратимость: женское тело =
мужская душа, мужская душа = женское тело. Здесь замечательно,
что это описание очевидным образом предвосхищает писхоа-
налитические выкладки Юнга.
Кроме того, образы Белого позволяют сделать некоторые
наблюдения о пространственном соотношении мужчины и
женщины, что, как я попытаюсь продемонстрировать ниже,
также немаловажно и для теории знака, и для теории
психоанализа, в том числе и в его гностическом, юнгианском
ответвлении. Соотношение мужчины и женщины в данном аспекте
характеризуется как доминирование пространственности,
объема в женском варианте при элиминировании этих
характеристик в мужском. Думается, что коллективная интуиция
подскажет читателям, что подобная трактовка вполне тривиальна.
Однако мне хотелось бы всё же подчеркнуть некоторые
существенные коннотации именно на примере Андрея Белого. Вот
характеристика одной из его героинь — Фёклы Матвеевны:
И не то чтобы слишком дородна была: а вся как бы обвисла <...> и
живот и груди так из нее и прут: подбородок надуется, и откинется вся
голова; а лицо нельзя назвать жирным лицом: одутловатое скорей <...>;
«недобрая полнота» <...> не раздобрела — опухла Фёкла Матвеевна
(Белый 1910: 50), -
и ее мужа:
364
В муже беспокоило ее <...> что он всё худел (Там же: 55).
Я думаю, что здесь существенно подчеркивание именно
«дурной пространственности» («недобрая полнота», «не
раздобрела»), что, по всей видимости, также указывает на
возможность превращения этой характеристики в позитивную в
идеальном синтетическом существе.
Образ жены Еропегина строится на реминисценциях из
рассказа Федора Сологуба «Маленький человек». Этот текст,
концептуально важный для. восприятия Андреем Белым
творчества Сологуба (он неоднократно цитирует этот рассказ в
своих критических статьях, посвященных Сологубу) и шире —
создания мифа о «страшной», неприемлемой
действительности, распадающейся на атомы (см.: Григорьева 1987: 134—142;
Григорьева 20006: 108—149). Супруги Еропегины
проецируются на пару Сараниных из рассказа Сологуба:
Якову Алексеевичу Саранину немного недоставало до среднего
роста; жена его, Аглая Никифоровна, из купчих, была высока и объемиста.
Уже и теперь <...> была дородна так, что рядом с маленьким и тощим
мужем казалась исполиншею (Сологуб 1992: 306).
Чтобы устранить такой недостаток своей супруги, Саранин
покупает у «подозрительного армянина» уменьшающие капли.
Жена меняет стаканы местами, и Саранин, выпив, начинает
уменьшаться и уменьшается вплоть до пылинки, которую
сдувает сквозняком, в то время как его супруга живет в свое удо-
.. to
вольствие и все толстеет и хорошеет .
В «Серебряном голубе» Фекла Матвеевна также
становится причиной похудения своего мужа, подливая ему зелье,
которое ей дает под видом лекарства глава секты голубей — жрец
смерти столяр Кудеяров. В конечном итоге Лука Силыч
уничтожается и становится, по сути дела, «невидимым» и
«бесплотным»:
Там, там, в спальне, лежит что-то бледное, жалкое, без языка <...>.
Сухую кожу да седенькую бороденку найдете, пожалуй, вы <...> тщетно
оно смотрит на мир бессмысленными глазами, тщетно оно шевелит
языком, тщетно пытается оно вспомнить — оно не помнит; Лука Силыч
отделился уже от этого; невидимый, он бьется в окна <...> бесплотный,
бессмертный <...>, праздно колотясь своей телесной душою (курсив мой. —
Е.Г.) о стены и шурша обоями так, как шуршат обоями прусаки» (Белый
1910: 206).
Характерно употребление Белым для описания
вычерпанного, высосанного объемистой супругой мужского тела и сознания
вполне фрейдовского определения оно, т. е., по сути дела, — если
365
перевести и остальные образы на язык психоанализа —
описывается вытеснение мужской половины в сферу
бессознательного, которое понимается здесь как невозможность выражения,
отсутствие языка, неартикулированность памяти.
Соответствующая работа Фрейда появляется только в 1923 году — «Я и
Оно» («Das Ich und das Es»), то есть на 13 лет позже
«Серебряного голубя». В основательной статье И. Дворкина «Ты и Оно:
По следам М. Бубера и 3. Фрейда» (см.: Дворкин 2002)
рассматриваются возможные ближайшие и отдаленные источники
концепции оно у Фрейда. В частности, Дворкин приводит
цитату из «Так говорил Заратустра» Ницше:
За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более
могущественный повелитель, неведомый мудрец, — он называется Само (Selbst). В
твоем теле он живет, он и есть твое тело. Больше разума в твоем теле, чем
в твоей высшей мудрости... Само всегда прислушивается и ищет: оно
сравнивает, подчиняет, разрушает. Оно господствует и является даже
господином над я... Само смеется над твоим я и над его гордыми скачками. «Что
мне эти скачки и полеты мысли? — говорит оно себе. — Окольный путь к
моей цели. Я служу помочами для я и суфлером его понятий» (Дворкин
2002: 144).
В принципе, понятие «Selbst» не идентично русскому слову
«Само» или «Оно», равно как и немецкому «Es»,
употребленному Фрейдом. В. Рынкевичем «Selbst» переводится как
«Самость» (см.: Ницше 1990: 28—29). Впрочем, Белый читал
Ницше в немецком оригинале. То есть позаимствовать напрямую
понятие «Оно» от Ницше Белый не мог. При этом, однако,
контексты и смысловые коннотации у Ницше и Белого весьма
сходны. Ницше, антихристианство которого строится на
последовательном воспроизведении евангельских формул, эту
песню, озаглавленную «О презирающих тело», начинает:
Презирающим тело хочу сказать я слово мое. Не обязаны они ни
переучиваться сами, ни переучивать других, пусть лишь расстанутся с телом
своим — и так станут немыми.
«Я — тело и душа», — говорит ребенок. И почему бы всем не говорить
как дети? (Ницше 1990: 28).
Весьма примечательный постулат, который, кажется,
напрямую отсылает к ситуации с потерянным телом и
невозможностью языкового выражения в анализируемом эпизоде
«Серебряного голубя». Не менее примечательно и то, что далее
следует практически аутентичная евангельская формула «будьте как
дети», и притом в таком преломлении синтеза тела и души,
который вписывается и в проблематику изначального андроги-
низма. И. Дворкин, как кажется, достаточно обоснованно воз-
366
водит понятие и «Selbst» («само»), и «Es» («оно») к
талмудическому истолкованию уже упомянутого места из Бытия (Берешит)
о сотворении человека20, впрочем, думается, что заимствование
всё же шло через адаптацию идеи христианской теологией.
Ницше бунтует против христианского пренебрежения телом,
призывая к полноте и гармонии сочетания тела и духа. Белый
указывает на негативность тела именно в «страшном мире». Но и
отсутствие тела в этом мире негативно, поскольку лишает душу
выражения и памяти. Как ни парадоксально, антихристианин
Нищие находит решение проблемы гармонии в ребенке. Белый
периода «Возврата» также не чужд подобной трактовки
гармонического соприсутствия тела и духа. Однако в период
написания «Серебряного голубя» поиски гармонии приводят Белого к
концепции преображенного андрогина соловьёвского толка. Но
Белый не проговаривает, не артикулирует этот образ
идеального андрогинного существа, оно дано, как всегда у него, в
негативе, в кривом зеркале антитезиса21.
Представляется важным отметить и то, что конфликт
женского и мужского в таком виде соотносится с достаточно
распространенной в самых различных культурах темой «женского
вампиризма», в том числе одной из важнейших и для
психоаналитической теории. Достаточно упомянуть о понятии кастра-
ционного комплекса. Менее известны в настоящее время,
однако не менее глубоки работы Карен Хорни, посвященные
этой проблематике, в значительной степени полемически
направленные против Фрейда, например, ее статья «Страх перед
женщиной. Сравнение специфики страхов женщины и
мужчины по отношению к противоположному полу» (Хорни 1993:
101-114).
Пространственные характеристики соотношения полов в
европейской культуре тяготеют к женской воплощенности в
полном объеме материи и мужской утонченности плоти, вплоть
до ее исчезновения в духовности или интеллекте. Культурная
традиция не всегда предлагает подобное распределение «про-
странственности» между мужчиной и женщиной, однако
налицо регулярное проявление именно указанного. Я бы даже
сказала, что культура периодически начинает яростно насаждать
нормы и стандарты красоты, предполагающие прямо
противоположное соотношение, однако первое представляется более
константным, начиная с древнейших форм культовых
изображений. Упомянем лишь некоторые яркие примеры.
В первую очередь в связи с символизмом, и особенно
«Серебряным голубем» Белого, можно вспомнить и «бабищу дебе-
367
лую — жизнь» Федора Сологуба. Эта идеологема определяет
сюжет «Маленького человека», опоенного уменьшающими
каплями объемистой супругой. Примечательно, что в полемике с
Сологубом Андрей Белый обвиняет его в том, что он «знаки
переменил на противоположные. Жизнь его называем смертью,
смерть — жизнью» (Белый 1908: 66). Различие это оказывается
не таким разительным, а противоречие кажущимся, если
вспомнить, что уже у Вл. Соловьёва жизнь в разделении полов есть
первейшая причина смерти:
Само по себе ясно, что, пока человек размножается как животное, он
и умирает как животное. <...> Смерть вообще есть дезинтеграция
существа, распадение составляющих его факторов. Но разделение полов, не
устраняемое их внешним и преходящим соединением в половом акте, —
это разделение между мужеским и женским элементом человеческого
существа есть уже само по себе состояние дезинтеграции и начало смерти
(Соловьёв 1990: 522).
Характерно, что в женском варианте европейская культура,
по всей видимости, склонна видеть всё же гораздо более
устойчивую, так сказать объемную, форму жизни при эфемерности
мужской.
Можно вспомнить и более ранний, исключительно
интересный поворот проблемы в «Госпоже Сурдис» Золя, где полная,
пошлая, по-буржуазному практичная женщина постепенно
прибирает к рукам слабовольного талантливого художника и
подменяет его творчество своим, слащавым и бескрылым. И более
поздних многочисленных великанш Феллини. Особенно
примечателен вариант «Казановы», где любовь как техника, механика,
искусство Казановы (механическая птичка, кровать — заводная
шкатулка, женщины — куклы) побеждается самой жизнью в
образе великанши, перед которой мужчины не более чем
карлики. Этот пример дает мне повод указать на еще одну
существенную коннотацию проблемы соотношения мужского и
женского, во всяком случае, в системе европейской культуры. Я
имею в виду, что, как правило, гипертрофия пространственного
элемента, кроме всего прочего, противопоставляется
мужскому умалению и в конце концов — полнейшей дезинтеграции,
как природа — культуре и, разумеется, интеллект — отсутствию
оного (см.: Михайлова 2000). А это, собственно, и значит в
переводе на «психоаналитический»: сознание в оппозиции
бессознательному.
Вспомним примечательный фильм другого итальянского
режиссера Марко Феррери «Большая жратва», где на фоне
умирающих от обжорства (в контексте Феррери читай — жизни)
368
мужчин единственная женщина, поглощая наравне с
мужчинами пищу, увеличиваясь в объеме, и не думает умирать, только
всё хорошеет. При этом все мужчины имеют какое-либо
культурное пристрастие: музыка, техника, архитектура.
Исключительно интересным примером, демонстрирующим,
что распределение сексуальных функций не зависит при этом от
пола партнеров, является Фассбиндер с «Горькими слезами
Петры фон Кант»: отчаянная попытка иссушенной интеллектуалки
протезировать свое почти не существующее тело при помощи
плоти в росписях на стенах мастерской и живой плоти юной
Брунгильды. Этому противопоставлению интеллекта и плоти
современный немецкий кинорежиссер Райнер Мария
Фассбиндер подчиняет и свою изысканнейшую трактовку «Отчаянья»
Набокова. Идея двойничества здесь объединяется с идеей
толстеющей, разбухающей, совокупляющейся, размножающейся
жизни, которой противостоит единичное и всегда
ошибающееся умствование.
В целом идея двойника в значительной степени «андрогин-
на» в своих коннотациях. Здесь наиболее актуализируется
вопрос, где проходит ось симметрии, разделяющая некое
разрушенное целое. Напомню, что платоновский сюжет имеет еще
один забавный поворот: Зевс, разделяя четырехруких за
непокорство, заявляет:
«А если они и после этого не угомонятся и начнут буйствовать, я <...>
рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке». <...>
«Существует, значит, опасность, что, если мы не будем почтительны к
богам, нас рассекут еще раз, и тогда мы уподобимся не то выпуклым
надгробным изображениям, которые как бы распилены вдоль носа, не то
значкам взаимного гостеприимства» (Платон 1970: 117).
Хочется акцентировать сравнение с надгробным выпуклым
рельефом, который, как известно, использовался еще в
египетской погребальной практике, затем усвоенной и эллинами в
качестве знака коммуникации живых с усопшим (см.: Павлов
1996: 34). Рельеф как бы выступал с той стороны границы
между жизнью и смертью. Таким образом, проблема расчленения
целостного смыкается с проблемой смерти и символического
сохранения — репрезентации умершего. Двойник часто именно
тень с того света. (См. об этом в важной компаративистской
статье: Абрамян 1977.)
Тот факт, что к чисто телесной зависимости симметричных
частей добавляется проблема человеческого сознания,
необходимого, по крайней мере, для опознания потерянной половины,
позволяет смещать ось симметрии вплоть до разделения тела и
24 Заказ Х° К-753 I
369
души. Мы уже видели на примере Белого, что андрогин в таком
случае может пониматься просто как объединение тела и души
в одном существе. Деление, как мы видим, может быть всё
более дробным, что в полной мере относится к разделению души
(инстинкта) и интеллекта (разума). Аспект единичности и вечной
ошибки интеллекта вновь возвращает нас к «Рождению
трагедии» Ницше, в частности, к его мысли о крушении трагического
мироощущения при появлении сократического типа сознания:
Ключ к природе Сократа дает нам то удивительное явление, которое
известно под именем «демон Сократа». <...> Этот голос всегда только
отговаривая. Инстинктивная мудрость показывалась в этой совершенно
ненормальной натуре только для того, чтобы со временем проявлять свое
противодействие сознательному познаванию. Между тем как у всех
продуктивных людей именно инстинкт и представляет
творчески-утвердительную силу, а сознание обычно критикует и отклоняет, — у Сократа
инстинкт становится критиком, а сознание творцом — воистину
чудовищность per defectum (Ницше 1993: 10).
По сути дела, Ницше утверждает, что вытеснение инстинкта
в сферу бессознательного происходит именно в сократическую
эпоху. Примечательно, что миф об Эдипе Ницше также
трактует в духе «горя от ума» — мудрость достигается всегда ценой
преступления против природы:
Эдип — убийца своего отца, муж своей матери, Эдип — отгадчик
загадок сфинкса! Что говорит нам таинственная троичность этих роковых
дел? Существует древнее, по преимуществу персидское, народное
верование, что мудрый маг может родиться только от кровосмешения. <...>
Ибо чем можно было бы понудить природу выдать свои тайны, как не
тем, что победоносно противостоит ей, т. е. совершает нечто
противоестественное? Миф как бы таинственно шепчет нам, что мудрость <...> есть
противоестественная скверна, что тот, кто своим знанием низвергает
природу в бездну уничтожения, на себе испытывает это разложение
природы. «Острие мудрости обращается против мудреца; мудрость —
преступное действие по отношению к природе»22 (Там же: 90).
Выражение Белого «кощунственные смешения»,
характеризующие пограничную и оттого чудовищную реальность (см.:
Григорьева 1985: 101—111), как нельзя более близко к
определению мифа у Ницше. Согласно концепции Ницше, в
мифологическом восприятии человека познание — это всегда
преступление. Таким образом, миф о Прометее и о первородном
грехе он трактует, замечая при этом, что «оба эти мифа находятся
между собою в той же степени родства, как и брат с сестрой»
(Ницше 1993: 91). Далее становится совершенно очевидным,
каким образом распределяются характеристики этих двух
вариантов мифа о преступном познании:
370
Лучшее и высшее, чего может достигнуть человечество, оно вымогает
путем преступления22, и затем принуждено принять на себя и его
последствия, а именно всю волну страдания и горестей, которую оскорбленные
небожители посылают, должны послать, на благородное, стремящееся
ввысь человечество, — суровая мысль, странно отличающаяся по своему
достоинству, которое она придает преступлению, от семитского мифа о
грехопадении, где любопытство, лживость притворства, склонность к
соблазну, похотливость — короче, ряд женских по преимуществу
аффектов, — рассматриваются как источник зла. <...> Арийцы представляют
себе грех как мужа, семиты — вину как женщину; изначальный грех был
совершен мужем, а изначальную вину допустила женщина (Там же: 92;
курсив мой. — Е.Г.).
Если вспомнить, что, согласно Ницше, до Сократа именно
инстинкт, т. е. дионисическое, ночное сознание определяло
внешнюю, деятельную сторону бытия, а затем произошло
выворачивание этой ситуации наизнанку, то можно сказать, что
и библейский миф о первородном грехе трактуется им как
ситуация постсократическая: в инстинктивной,
подсознательной сфере вины оказывается по преимуществу женский
комплекс. А это уже ставит знакомую ось симметрии в ситуацию
взаимоотношения полов. Возвращаясь к пространственным
характеристикам этой ситуации, сделаем несколько замечаний
к вопросу о «комплексе Фрейда». Разумеется, и в случае с со-
ловьёвским пониманием андрогинизма желаемое соединение
может произойти только на фоне исходного разделения.
Теория Фрейда производит это разделение весьма
примечательным способом. Так он, настойчиво выявляя у девочек чувство
неполноценности в связи с отсутствием пениса, как бы
изначально приписывает им пенис (т. е. ситуация мыслилась бы как
нормальная при наличии такового), а затем, констатируя это
отсутствие, нехватку, производит психологическую кастрацию
женщины, иными словами, излечивает от воображаемого
андрогинизма. Как кажется, именно гипертрофия пространствен-
ности в репрезентации женщины в культурном сознании
является попыткой выведения на поверхность самого интенсивного
и действенного страха — страха отсутствия, страха отсутствия
выражения. Этот собственно страх очень близок страху
смерти, у которой нет выражения, поэтому ей приписывается
множество самых устрашающих форм. Пространственный объем
женского элемента андрогинной пары — это яма, зияние,
отсутствие, вывернутое наизнанку, в переводе на
«психоаналитический» — «фаллическая женщина». Иными словами, перед нами
случай психоаналитического самолечения мужского по
преимуществу аффекта. Вывернутые относительно друг друга репро-
24*
371
дуктивные органы дают при попытках выражения гендерно-
сти перекрестный эффект гипертрофии объема в женском
варианте и его крайней редукции в мужском.
В заключение укажем еще на один достаточно отдаленный
источник, трактующий интересный нам аспект проблемы
примечательно сходным образом. Я имею в виду некоторые весьма
показательные тезисы гностической философской космогонии.
Впрочем, говоря об отдаленности этого источника, следует иметь
в виду, что это параметр весьма механический, поскольку тексты
гностиков, как ранние, так и преломленные в ренессансной
каббале, более чем активно абсорбируются мистико-философским
дискурсом конца XIX — начала XX века. То, что сейчас эти
положения воспринимаются как поэтически-метафорическая
система, лишь подчеркивает параллелизм с «новой» философией
Ницше и Соловьёва при общем разительном сходстве:
До того дня, как обежит душа всё, с теми сообщаясь, кого встретит,
оскверняясь, она в муке от тех, коих принять достойна. Когда же ощутит
она муки, в коих пребывает, и восплачет Отцу и покается,' смилостивится
над ней Отец и обратит чрево ее; извне обратит Он его внутрь, и обретет
душа свое отличие. Ибо они — не как жены. Ибо чрево тела — внутри тела,
как другие внутренности. Чрево же души обращено наружу, как естество
мужское, которое снаружи. Когда по воле Отца обратится внутрь чрево
души, оно приемлет крещение и от скверны наружной, той, которая была
излита на нее, тотчас становится чистым (Трофимова 1979: 190)24.
Как представляется очевидным после указания на эту
параллель, описанный принцип соотношения пространственности и
души с разделением полов весьма архаический и
универсальный в прото- и околохристианской мистической традиции.
Всплеск высокого мистического эсхатологизма на рубеже
XIX—XX веков в России, получившего выражение прежде всего
в ожидании фазы синтеза в развитии мирового духа и
разработке этой фазы в теории, приводит к осознанию основных
законов человеческого бытия в их многоаспектной
комплексности. Философско-художественные системы, построенные в
этот период, в значительной степени определили не только
художественное сознание последующей эпохи, но и
аналитические открытия, и научные направления всего 20-го столетия.
При этом стоит заметить, что процесс усвоения и разработки
системных космогонии символизма, особенно в позитивистской
науке, шел скорее по пути специализации, то есть дробления и
редукции, утраты универсальной цели и целостности. По всей
видимости, описанный мотив андрогина в его основных
типологических характеристиках, как и целый ряд других ключевых
372
мифологем, активизируется самой сверхзадачей любой
космогонии, каковой является синтетическое духовно-артистически-
интеллектуальное творчество Серебряного века. Когда
исчезает представление о сверхзадаче, целостное знание дробится на
дисциплинарные описания. И зачастую требуются усилия и
время, чтобы установить связь между элементами, связь,
которая была очевидна в мифе. Так было с переходом от кастраци-
онного комплекса к более тонким построениям Юнга. Так
было с практической отменой жесткой схемы функциональной
разделенности полушарий. Целостность обретается заново,
однако она не идентична исходной.
Закольцовывая повествование, заметим, что несомненная и
декларируемая синтетичность постмодернистской творческой
практики отличается от символистского синкретизма прежде
всего утратой пафосной сверхзадачи. Один этот факт
превращает некую цельную систему в подмножество во множестве
систем, в «игру в бисер», ни к чему не обязывающую и ничего
не обещающую. Синкретизм становится техническим приемом
в ряду других технических приемов.
Примечания
1 Данный текст представляет собой основательную авторскую
переработку предыдущего обращения к теме, сделанного в статье: О
некоторых психоаналитических коннотациях мотива андрогина в русской
литературе конца XIX — начала XX века// Studia Russica Helsingiensia
et Tartuensia. Модернизм и постмодернизм в русской литературе и
культуре. Helsinki, 1996. С. 338-343.
2 Об этом именно в терминах семиотики говорится у З.Г. Минц:
«Поэзия Вл. Соловьёва <...> нерасторжимо связана с той
символичностью, которая естественно вытекает из платоновско-романтического
'двоемирия' и представления о символической, знаковой природе
самой земной жизни» (Минц 1999: 337; см. также: Минц 2004а: 61).
3 См. публикации группы Балонова-Деглина: Балонов, Деглин 1976;
Черниговская, Балонов, Деглин 1983; Деглин, Балонов, Долинина 1983;
и др. Начало популяризации проблемы было положено в 1978 г.
публикацией Вяч. Иванова «Чёт и нечет: Ассиметрия мозга и знаковых
систем» (Иванов 1978).
4 Здесь следует указать на основополагающую работу «Мис]э—имя-
культура» (Лотман, Успенский 1973), а также статью «Ассиметрия и
диалог» (Лотман 1983). Характерно, что первая статья опубликована
в сборнике, посвященном М.М. Бахтину, чьи работы о диалогизме
художественного текста, вне всякого сомнения, встраиваются в
парадигму, объединяющую символистов, нейрофизиологов и
структуралистов в данном вопросе.
373
й Белый при этом делает ошибку в указании, какой рукой
управляет какое полушарие. Это говорит о том, что он, скорее, имеет в виду
пространственный образ, разделенный осью симметрии «право — лево»,
чем нейролингвистическую схему. Что, разумеется, не отменяет сути
прозрения.
6 Имеется в виду «алхимический брак». О мнемонических
системах и эзотерических, «каббалистических» моделях мироздания
существует множество работ, важнейшими (и, вероятно, наиболее
доступными) из которых я полагаю труды покойной Фрэнсис Йейтс, теперь
имеющиеся и в русских переводах (см.: Иейтс 1997; Иейтс 1999).
7 Литература, рассматривающая мифологему андрогина,
необычайно (и неожиданно) обширна, формат данной публикации не
позволяет составить подробную и аннотированную библиографию.
Хочется между тем упомянуть несколько исследовательских работ, важных
для перспективы данной статьи. Следует отметить обширный
иконографический материал, собранный в альбоме-монографии: Zolla 1981.
Исследование Handelman 1997 по древнеиндийской философской
космогонии оказалось очень важной параллелью к концепции андрогина
у гностиков (см. особо главу «The elimination of the androgyne
outcome». — Ibid.: 74—93), многое проясняющей в общности индо-европей-
ской мифологии. В отношении индологических параллелей весьма
интересна недавняя статья СИ. Рыжаковой «Третий пол: Hijra в
индийской культуре» (см.: Рыжакова 2001). Между тем проблема
гностиков рассматривается также в: MacDonald 1988. Работа Wasserstrom
1998 анализирует концепции андрогинизма у крупнейших
исследователей строения мифа и мистических систем Элиаде и Шолема.
Разумеется, следует отметить статью О. Матич (см.: Manch 1979),
выполненную на русском материале Серебряного века. Работа Money 1990
рассматривает проблему андрогинизма в исторической перспективе,
которую доводит вплоть до Фрейда, что также немаловажно для
моего изложения. В связи со специфически декадентским
преломлением проблемы упомяну статью: Pernot, Monneyron 1997.
Существенным событием в исследовании андрогинизма в русской культуре
Серебряного века стал том: RL 2000, в значительной своей части
посвященный именно указанной теме. Особенно релевантны оказались для
меня статьи: Carlson 2000; Михайлова 2000. Это только очень краткий
обзор малой толики исследовательских публикаций конца XX в., тем
не менее, думается, он дает некоторое представление о том интересе,
который вызывает миф об андрогине в самых разнообразных его
преломлениях.
8 Я имею в виду феномен, известный как «жизнетворчество».
Данный вопрос хорошо исследован. Упомяну две немецкие недавние
книги: Rippl 1999; Schahadat 1998, и одну американскую: Grossman, Paperno
1994, аналитически описывающие весь необходимый спектр проблем
по данному вопросу.
9 Не могу отказать себе в удовольствии указать на работу Лены
Силард «Орфей растерзанный и наследие орфизма» о мифологических
374
разысканиях Вяч. Иванова (см.: Силард 2002), вся книга (сборник
разновременных статей) также достойна упоминания в самых различных
аспектах, перекликающихся с нашей проблематикой.
10 Наиболее последовательным выразителем семиотической
диалектики второй половины XX в. является Юрий Лотман с его
идеями продуктивности диалога в асимметричных системах (см.: Лотман
2000; Лотман 1983: 15-30).
11 См., напр., «Отрицание вагины: Размышления по поводу
проблемы генитальной тревоги, специфичной для женщины» (Хорни 1993:
115-128).
12 См., напр., доклад «Душа и земля», прочитанный в Обществе
свободной философии в Дармпггадге в 1927 г. (см.: Юнг 1994: 134—157).
13 На данном этапе развития гуманитарной мысли, пожалуй, всё
же следует воздерживаться от подобных попыток установления
прямых и безусловных источников, хотя в нашем случае имеются
некоторые основания для подобных указаний. Рекомендую (несколько
контроверсальную. — Примеч. ред. Д.И.) работу А. Эткинда «Эрос
невозможного» о взаимоотношениях немецкого и русского
психоанализа, в особенности специальную главу, посвященную Сабине Шпиль-
рейн (см.: Эткинд 1993: 159—212). Русские пациенты вообще играли
довольно заметную роль в немецкоязычном психоанализе, вспомним
«случай Панкеева», которому посвящена статья В. Мерлина,
находящаяся в печати. Тем не менее говорить о том, что русская
литература и философская мысль повлияли на развернутый практический
метод психоанализа или исследований архетипов, было бы, на мой
взгляд, опрометчиво. Кажется, здесь имеет место случай проявления
именно «духа времени». Мы предполагаем, что неизолированные друг
от друга культуры вырабатывают сходные системы.
14 См. о проблеме андрогинного богочеловечества по Соловьёву:
Кожев 2000: 130, а еще более подробно, в том числе и в связи с
определяемым как гностический психоанализ Юнга см.: Matich 1979: 165—
175. Ольга Матич также прослеживает некоторые аспекты
преломления мотива андрогинизма у Бердяева, Гиппиус и Мережковского. См.
об этом соображения А.П. Козырева (см.: Козырев 1995). Здесь
также должна быть упомянута весьма интересная и вдумчивая статья
Марии Карлсон (см.: Carlson 1996).
15 Характерна здесь и чисто литературная этимологическая игра
русским языком — пол, половина. Не случайно тексты Вл. Соловьёва
были практически абсорбированы новейшими русскими
философскими течениями пронационалистического толка, в первую очередь
современными евразийцами во главе с А. Дугиным. И Вл. Соловьёв, и
Фёдоров выводят многие свои постулаты именно «из русского языка».
Характерно, что Андрей Белый никак не вписывается в эту линию, но,
напротив, уходит в своих мифоэпических изысканиях генезиса
прежде всего в немецкий язык (см.: Григорьева 1998). Конечно, не избегнул
влияния Соловьёва и Николай Бердяев. См. для одного из примеров
его относительно мало тиражируемый ныне пространный текст «Из
375
этюдов о Якове Бёме. Этюд П — Учение о Софии и андрогине: Я. Бёме и
русские софиологические течения», опубликованный в начале 30-х годов
в эмигрантском журнале «Путь» (1930. № 21. С. 34г-62). Под
определенным соловьёвским очарованием бытовала и сопутствующая Бердяеву
парадигма русского «софианства» (Флоренский, Булгаков, Владимир Лос-
ский и др.). Для общей информации на сей счет см. исследования
Модеста Колерова: Колеров 1994; Колеров 1997.
16 Попутно заметим то, что и Ницше, и наследующая ему по
времени классика психоанализа пользуются преимущественно
античными образцами, и это заставляет предположить особое соотношение
образа античного языческого мифа в качестве выраженного, т. е. в
значительной степени нейтрализованного, подсознания с христианским
сознанием.
17 См.: Origen 1981: 63, а также примеч. 20 наст, статьи со ссылкой
на работу: Дворкин 2002. В настоящее время этот аспект часто
муссируется в различных перспективах. Трактовку данного тезиса в связи с
проблематикой женского равноправия в «Телемской обители» у Рабле,
весьма близкой по мотивам к Соловьёву, см.: Rothstein 2001: 2—19.
18 Характерно, что и «сверхчеловека» Ницше Соловьёв трактует
примерно таким же образом, напр., в статье «Идея сверхчеловека»
(см.: Соловьёв 1990: 626—634). Это один из важнейших моментов,
отличающих русскую трактовку проблемы от ницшеанской немецкой
линии (Ницше с его «плеткой» и явной мужественностью
сверхчеловека, да к тому же в изводе Отто Вейнингера). «София», «Дева
Радужных Ворот», «Мировая Душа» — отчетливо феминные понятия, при
этом декларируемые в качестве вершины эсхатологической гармонии.
Однако, как можно видеть, эта фемининность особого рода, а
именно: среднего. См. об этом важную статью К. Гроберг: Groberg 1992.
Ср. с общим культурологическим описанием, проведенным недавно
белорусским ученым: Богин 2003. О том, как эволюционировал образ
«Софии», напр., у «соловьёвца» Белого см. интересную статью Елены
Глуховой «Миф о Софии в "Северной симфонии" А. Белого»,
доступную в Интернете по адресу: htip:/^ogm.narod.ru/glukhova.htm
19 Заглавие рассказа «Маленький человек» иронически отсылает к
дискурсу критического реализма. Поскольку у Сологуба этот мотив
«маленького человека» переплетается с мотивом мужской
несостоятельности, кажется, будет логичным предположить, что сологубов-
ский сюжет в суггестивном и доведенном до абсурда виде
представляет судьбу «маленького русского человека на рандеву».
20 Любопытен следующий пассаж: «Хорошо известен
талмудический комментарий на этот фрагмент Торы: "Человек, не имеющий
жены, не называется человеком". Литература Талмуда и Мидраша
рассматривает Первочеловека как Андрогина, который в дальнейшем
был рассечен на два человека — Мужчину и Женщину (см.: Берешит.
Гл. 1). Данный вывод основан не на платоновском "Пире", хотя
знакомство с его идеями у мудрецов не исключено. Двуполость
Первого Человека вытекает из процитированного нами фрагмента Торы.
376
Образ Андрогина относится к древнейшим представлениям,
распространенным в разных культурах. Очевидно, он присутствует и в Та-
нахе, и в Талмуде, и в каббале» (Дворкин 2002: 149). Действительно,
за идеей андрогина необязательно было обращаться к Платону, но для
русских авторов Платон был значим не только в этом, и к тому же
были доступны сочинения ранних Отцов Церкви, например,
упоминаемый Ориген. Ср. с конкурирующей «гностической космогонией» —
Жак Лакаррер, напр., даже говорит о специальных «seeds of the Spirit
as masculine Sperm — spermognosis» (англ. «семя Духа, как сперма,
рождает "спермо-гнозис"». Lacarriere 1977: 80—87). См. также
любопытный взгляд (в контексте гендерности гностической космогонии):
Pageis 1988, при том, что чисто телесно-креативные аспекты
гностической религиозной философии недавно исследованы Фемой Перкинс,
см.: Perkins 1995.
21 Трагедия Белого-писателя состоит в том, что эсхатологические
чаяния синтеза не могут быть описаны по техническим причинам.
Синтез может быть изображен структурно только идентично
антитезису. Для философа-публициста эта проблема решаемая, поскольку
для смены знаков достаточно декларации.
22 Удивительно, как тесно соприкасаются эти положения с
основополагающими идеями творчества А. Платонова. Возможно, впрочем,
что здесь связь идет «через Фёдорова», о чем «между строк» отмечает
и М. Хагемейстер (см.: Hagemeister 1989).
23 Здесь хочется напомнить разрабатывавшиеся Фрейдом понятия
«вытеснения», «комплекса вины» и «сублимации». О них см. в
недавно переведенном на русский язык под общей редакцией A.M. Бокови-
кова немецком томе «Энциклопедии глубинной психологии» (М.,
1998): Tiefen-Psychologie. Zürich: Kindler Verlag, 1977. Band Eins:
Sigmund Freud, Leben, Werk und Wirkung.
24 Ср. заглавие п. 132 «О браке ее, очищенной, с посланным с неба
Отцом мужем, ее братом первородным, с которым соединяясь они
становятся жизнью единой, как изначально» (цит. по: Трофимова
1979: 190). Ср. также издание оригинального гностического
(Библиотека из «новой находки» Наг Хаммади специального трактата «о
душе» (английский перевод с параллельным коптским текстом),
осуществленное Бентли Лейтоном: «Expository treatise on the soul» (Layton
1989: 2-7).
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Абрамян 1977 —Абрамян A.A. Об идее двойничества по
некоторым этнографическим и фольклорным данным //
Историко-филологический журнал. 1977. № 2. С. 177-191.
Балонов, Деглин 1976 — Балонов А, Деглин В. Слух и речь
доминантного и недоминантного полушарий. Л.: Наука, 1976.
Балонов, Деглин, Черниговская 1985 — Балонов А, Деглин В., Чер-
377
ниговская Т. Функциональная асимметрия мозга в организации речевой
деятельности // Сенсорные системы: Сенсорные процессы и асимметрия
полушарий. Л.: Наука, 1985. С. 99-115.
Белый 1908 — Белый А. Далай-лама из Сапожка//Весы. 1908. № 3.
С. 63-76.
Белый 1910 — Белый А. Серебряный голубь. М.: Скорпион, 1910.
Белый 1989 — Белый А. На рубеже двух столетий. М.: Худ. лит., 1989.
Богин 2003 — Богин И. Вечная Женственность. СПб., 2003.
Григорьева 1985 — Григорьева Е. Принцип пограничности в
«Симфониях» А. Белого // Ученые записки Тартуского ун-та. Tartu: Tartu
University Press, 1985. 645. С. 101-111.
Григорьева 1987 — Григорьева Е. Распыление мира в
дореволюционной прозе А. Белого // Ученые записки Тартуского ун-та. Тарту.
1987. 748. С. 134-142.
Григорьева 1998 — Григорьева Е. Пространство и время
Петербурга с точки зрения микромифологии// Sign Systems Studies. Tartu, 1998.
26. С. 151-185.
Григорьева 2000а — Григорьева Е. Эмблема: структура и
прагматика. Tartu: Tartu University Press, 2000. (Dissertationes Semioticae Univer-
sitates Tartuensis. 2.)
Григорьева 20006 — Григорьева E. Федор Сологуб в мифе Андрея
Белого//Блоковский сборник. Tartu: Tartu University Press, 2000. № 15:
Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX—XX веков.
С. 108-149.
Дворкин 2002 — Дворкин И. Ты и Оно: По следам М. Бубера и
3. Фрейда//Вопросы философии. 2002. № 4. С. 141-158.
Деглин, Балонов, Долинина 1983 — Деглин А, Балонов А,
Долинина И. Язык и функциональная асимметрия мозга // Ученые записки
Тартуского ун-та. Тарту, 1983. 635. С. 31—42. (Труды по знаковым
системам 16).
Делёз 1992 — Делёз Ж. Представление Захер-Мазоха//Леопольд
фон Захер-Мазох. Венера в мехах. М.: РИК «Культура», 1992. С. 189—
313. (Серия «Ad Marginem».)
Иванов 1978 — Иванов В. В. Чет и нечет: Ассиметрия мозга и
знаковых систем. M., J978.
Йейтс 1997 — Иейтс Ф. Искусство памяти / Пер. с англ. Е.В. Ма-
лышкина. СПб.: Университетская книга, 1997.
Иейтс 1999 — Иейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение / Пер. с
англ. А. Каватаскина, под ред. Т. Баскаковой. М.: Энигма, 1999.
Кожев 2000 — Кожев А. Религиозная метафизика Владимира
Соловьёва (1) / Пер. с фр. и примеч. А.П. Козырева//Вопросы
философии. 2000. № 3. С. 104-135.
Колеров 1994 — Колеров М.А. Братство Святой Софии: Веховцы и
евразийцы // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 142—167.
Колеров 1997 — Колеров М.А. Братство Святой Софии:
Документы // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 1997 год.
М., 1997. С. 89-134.
378
Козырев 1995 — Козырев А. П. Смысл любви в философии
Владимира Соловьёва и гностические параллели // Вопросы философии.
1995. № 7. С. 59-78.
Лотман, Успенский 1973 — Лотман Ю.М., Успенский Б. А. Миф-
имя—культура // Сборник научных статей в честь Михаила
Михайловича Бахтина: К 75-летию со дня рождения. Тарту, 1973. С. 282—303.
(Труды по знаковым системам 6.)
Лотман 1983 — Лотман М. Асимметрия и диалог. Тарту, 1983. С. 15—
30. (Труды по знаковым системам 16.)
Лотман 2000 — Лотман Ю. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000.
Минц, Мельникова 1984 — Минц 3., Мельникова Е. Симметрия и
асимметрия в композиции «Третьей симфонии» А. Белого. Тарту,
1984. С. 84—92. (Труды по знаковым системам 18).
Минц 1999 — Минц 3. Символ у Александра Блока // Поэтика
Александра Блока. СПб.: Искусство-СПб., 1999. С. 334—361.
Минц 2004а — Минц 3. О некоторых «неомифологических»
текстах в творчестве русских символистов // Поэтика русского
символизма. СПб.: Искусство-СПб., 2004. С. 59-96.
Минц 20046 — Минц 3. Симметрия и асимметрия в композиции
«Третьей симфонии» Андрея Белого // Поэтика русского символизма.
СПб.: Искусство-СПб, 2004. С. 131-138.
Михайлова 2000 — Михайлова М. Диалог мужской и женской
культур в русской литературе Серебряного века: «Cogito ergo sum» —
«Arno ergo sum» // Russian Literature. Amsterdam, 2000. Vol. XLVIII.
№ 1. P. 47-70.
Ницше 1990 — Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. с нем.
В.В. Рынкевича. М.: Интербук, 1990.
Ницше 1993 — Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки.
Предисловие к Рихарду Вагнеру// Сочинения в 2 томах. М., 1993. Т. 1.
Павлов 1996 — Павлов H Река и Солнце в едином
пространственном искусстве Древнего Египта. Художественные модели мироздания.
М.: Наука, 1996. Т. 1. С. 31-39.
Платон 1970 — Платон. Пир // Сочинения в 3-х томах. М., 1970. Т. 2.
С. 81-134.
Рыжакова 2001 — Рыжакова СИ. Третий пол: Hijra в индийской
культуре // Мифология и повседневность: Тендерный подход в
антропологических дисциплинах / Ред. К.А. Богданов, A.A. Панченко. СПб.,
2001. С. 439-451.
Силард 2002 — Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб.:
Издательство Ивана Лимбаха, 2002. С. 54—101.
Соловьёв 1990 — Соловьёв В. Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т. 2.
Сологуб 1992 — Сологуб Ф. Маленький человек // Капли крови:
Избранная проза. М., 1992. С. 306-323.
Трофимова 1979 — Трофимова М. Толкование о душе: Историко-
философские вопросы гностицизма. М., 1979.
Хорни 1993 — Хорни К. Женская психология. СПб., 1993.
Черниговская, Балонов, Деглин 1983 — Черниговская Т., Балонов А,
379
Деглин В. Билингвизм и функциональная асимметрия мозга. Тарту,
1983. С. 62—83. (Труды по знаковым системам 16).
Элиаде 1999 — Элиаде М. Испытание лабиринтом: Беседы с Кло-
дом-Анри Роке / Пер. с фр. А. Старостиной // Иностранная
литература. 1999. № 3. С. 151-208.
Эткинд 1993 — ЭткиндА. Эрос невозможного. СПб., 1993.
Юнг 1994 — Юнг К.-Г. Проблемы души нашего времени. М., 1994.
Carlson 1996 — Carlson M. Gnostic Elements in the Cosmogony of
Vladimir Soloviev // Russian Religious Thought / Eds. J.D. Kornblatt,
R.F. Gustafson. Madison: University of Wisconsin, 1996. P. 49—68.
Carlson 2000 — Carbon S.P. The Dichotomy of lilith and Eve in Fedor
Sologub's Mythopoetics// Russian Literature. Amsterdam, 2000. Vol. XLVIII.
№ 1. P. 1-14.
Chernigovskaya 1996 — Chernigovskaya T. Cerebral asymmetry — a
neuropsychological parallel to semiogenesis // Acta Coloquii. Bochum
publications in Evolutionary Cultural Semiotics. V. 27 / Eds. Udo Figge, Walter
Koch. 1996. P. 53—64. (Language in the Wurm Glaciation.)
Chernigovskaya 1999 — Chernigovskaya T. Neurosemiotic Approach to
Cognitive Functions //Journal of the International Association for Semiotic
Studies-Semiotica, 1999. V. 127. 1/4. P. 227-237.
Chernigovskaya 2001 — Chernigovskaya T. Factors Determining
«Functional Cerebral Asymmetry» in Homo Loquens // Труды
факультета этнологии Европейского университета в СПб. СПб., 2001. Вып. 1.
С. 325-330.
Grigorjeva 2003 — Grigorjeva Е. Lotman on mimesis. Sign Systems
Studies. An international journal of semiotics and sign processes in culture
and nature / Ed. Peeter Torop, Mihhail Lotman, Kalevi Kull. Tartu: Tartu
University Press, 2003. Vol. 31(1). P. 217-237.
Groberg 1992 — Grober g К. A. The Feminine Occult Sophia in the
Russian Religious Renaissance: A Bibliographical Essay // Canadian-
American Slavic Studies. 1992. Vol. 26. № 1-4. P. 197-240.
Grossman, Paperno 1994 — Creating Life: The Aesthetic Utopia of
Russian Modernism / Eds. Grossman J.D., Paperno I.A. Stanford, 1994.
Handelman 1997 — Handelman D. God inside out Shiva's Game of
Dice. New York; Oxford: Oxford University Press, 1997.
Hagemeister 1989 — Hagemeister M. Nikolaj Fedorov, Studien zu Leben,
Work und Wirkung. München, 1989.
Lacarriere 1977 — Lacarrière J. The Gnostics. New York, 1977.
Layton 1989 — The Nag Hammadi Codex II // Ed. Bentley Layton.
Leiden; N.Y.: EJ. Brill, 1989.
MacDonald 1988 — MacDonald D.R. Corinthian Veils and Gnostic
Androgynes // Images of Feminine in Gnosticism / Ed. K.L. King.
Philadelphia: Fortress Press, 1988. P. 276-297. (Studies in Antiquity and
Christianity, University of Claremont).
Matich 1979 — Matich 0. Androgyny and the Russian Religious
Renaissance //Western Philosophical Systems in Russian Literature. A Collection
380
of Critical Studies / Ed. Anthony Mlikotin. University of Southern California
Press, 1979. P. 165—175. (University of Southern California Series in Slavic
Humanities № 3).
Money 1990 — Money J. Androgyne Becomes Bisexual in Sexological
Theory — From Plato to Freud. Journal of the American Academy of
Psyschoanalysis. 1990. Vol. 18 (3). P. 392-414.
Origen 1981 — Origen. Homilies on Genesis and Exodus /Tr. Ronald
E. Heine. Washington (DC): Catholic University of America Press, 1981.
Pagels 1988 - Pagels E. Adam, Eve, and the Serpent. New York, 1988.
Perkins 1995 — Perkins Ph. Creation of Body in Gnosticism // Religious
Reflections on the Human Body / Ed. J.M. Law. Bloomington: Indiana
University Press, 1995. P. 21-46.
Pernot, Monneyron 1997 — Pernot D.3 Monneyron F. The Decadent
Androgyne. Myths, Representation, Fantasy // Revue d' histoire littéraire
de la France, 1997. Vol. 97 (6). P 1148-1154.
Rippl 1999 — Rippl D. Zhiznetvorchestvo oder die vor-schrift des texts.
Eine Untersuchung zur Geschlechter-Ethik und Geschlechts-Aesthetik in
der Russischen Moderne. München, 1999.
Rothstein 2001 — Rothstein M. Androgyne, Agape and the Abbey of
Theleme (Rabelais) //French Forum, 2001. Vol. 26 (1). P. 2-19.
RL 2000 - Russian literature. Amsterdam. 2000. Vol. XLVffl-I.
Schahadat 1998 — Lebenskunst — Kunstleben. Zhiznetvoruestvo v russkoj
kul'ture XVTQ—XX w. [Lebenschaffen in der russischen Kultur vom 18 —
20.Jhd.] /Ed. Schahadat Seh. München, 1998.
Wasserstrom 1998 — Wasserstrom S.M. Uses of the Androgyne in the
History of Religions // Studies in Religion. 1998. 27.4. P. 437-453.
Zolla 1981 — Zolla E. The Androgyne: Reconcilation of male and
female. New York, 1981. (The illustrated library of sacred imagination).
Марина Аптекмап
«И ДВОЕ СТАНУТ ОДНИМ»:
еврейская Каббала,
мифопоэтический андрогин и Адам Кадмон
в поэтике Серебряного века1
Симбиоз оккультного символизма и сексуальной
символики — одна из центральных аллегорий в поэзии русского
Серебряного века. Одним из основных образов, раскрывающих эту
символику, можно назвать, на наш взгляд, образ адрогина.
Символика андрогина и адрогинности появляется уже в
творчестве ранних символистов, к примеру у Вячеслава Иванова.
Однако представляется, что окончательная интерпретация
этого образа складывается позднее, в творчестве поэтов, близких
кругу акмеистов, и в первую очередь у Николая Гумилева и
Михаила Кузмина. Данная статья посвящена анализу
раскрытия образа андрогина и темы андрогинности в ее как
мистической, так и сексуальной интерпретации на примере текстов
Николая Гумилева «Адам» и «Андрогин», а также
стихотворения «Первый Адам» и поэтического цикла «Форель разбивает
лед» Михаила Кузмина.
Сам термин «андрогин», как известно, происходит от
сочетания греческих слов «andros» (AvBpoç; «мужчина») и «gynaikos»
(yvatxeioç; «женщина») и обозначает единого человека,
наделенного как женской, так и мужской ипостасями. Было бы
неверно не различать андрогина и гермафродита. Гермафродит есть
человек, наделенный внешними, как мужскими, так и
женскими, признаками. Андрогин же изначально не был наделен
какими бы либо определенными половыми признаками вообще,
обозначая совершенного человека, Адама, до грехопадения —
человека, в котором половая гармония и половое единство
отражали баланс между человеком и вселенной, микрокосмом и
382
макрокосмом. Каббалистическая трактовка первых глав
Книги Бытия утверждает, что «вначале Бог сотворил человека
мужчиной и женщиной, то есть андрогином, и лишь потом
разделил его на два разнополых существа, создав женщину из
Адамова ребра»2. Образ андрогина нередко встречается и у
Платона, в диалоге «Пир», где говорится, что «изначально люди
были созданы двойными существами, но они были настолько
сильны и мудры, что боги испугались их и разделили каждого
человека пополам». Мистическая концепция андрогина
прослеживается в христианском и еврейском каббалистическом
гностицизме, и источником ее является гностический апокриф о
сотворении человека и Первом Адаме3.
В каббалистической теософии первым существом,
возникшим из потока света, был Адам Кадмон — «предвечный
человек». Отдельные гностические каббалистические теории
утверждают также, что Бог не делал человека, но, будучи андрогин-
ным существом Сам по Себе, как андрогинный креационный
принцип породил его и пустил в сей мир. Таким образом,
согласно этой концепции, человек есть прямая эманация
Божественной субстанции4.
Соответственно, предвечный человек Адам Кадмон не
является человеком в полном смысле слова. Всемирно известный
мистик Яков Бёме утверждал, в частности, что «первый Адам
был не мужчиной, но и не женщиной, а их гармоническим
союзом — андрогином. Он мог рождать и рождаться без конца по
своей собственной воле и легко проходить сквозь камни и
деревья. Женское начало его андрогинной сущности заключалось
в наличии у него Божественной мудрости — Софии, иначе
называемой эманацией Божественной воли»5. Уйдя после
грехопадения в мир земной, Адам потерял свое духовное тело, заменив
его на бренную плоть. «Женское начало покинуло Адама,
превратив его в призрак, тень, одно лишь мужское и материальное
без духовного и женского». В каббалистическом символизме
Адам Кадмон является аллегорической репрезентацией
Божественного дерева жизни: Древа Сефирот. Иерархия сефирот в
Каббале представлена в виде трех вертикальных колонн, все
сефироты связаны между собой как ветки дерева и, мыслимые
как единое целое, образуют форму совершенного существа —
первоначального человека Адама Кадмона6.
Мудрость, потерянная земным Адамом в результате
первородного греха, интерпретируется в Каббале как утрата связи
между Адамом Кадмоном и земным Адамом, и одна из
основных идей каббалистического учения заключается в том, что
383
задача земного человека определяется как возвращение к
божественному состоянию первого Адама и, соответственно, как
возвращение в андрогинное состояние: «Через молитву и
праведную жизнь вернуть душу мистика в ее Небесную обитель, в
цельность первозданного человеческого образа»7. Однако
ранняя каббала, как и гностицизм, интерпретирует андрогинность
Адама исключительно как мистическую аллегорию, не
исключая ее сексуальной интерпретации. Сексуальная
интерпретация андрогинности Адама в сочетании с более ранней
мистической интерпретацией начинает играть серьезную роль не в
гностических учениях или каббалистической философии, а в
практическом применении этих теорий в алхимии 17-го столетия.
В алхимических трактатах андрогин предшествует
получению философского камня и описывается как «ни мужчина, ни
женщина, ни гермафродит, ни дева, ни развратница, но всё это
взятое вместе. Жизнь и смерть, соединенные в единое, могила
не вмещающая трупа, и труп, не заключенный в могилу»8.
Известный российский историк алхимии Вадим Л. Рабинович в
свое время заметил:
Дихотомия мужского и женского в алхимии — вещь вторичная,
вытекающая как следствие из первичной материи, всемирной субстанции,
которая заключает всё существующее, без различия пола и рода, всё
грубое, плодородное, с отпечатком чувственности. Выходит, идея
Божественной жизни у алхимиков изначальнее половых совокуплений, но при этом
половое совокупление аллегоризирует идею божественной жизни.
Чувственность — исходное отличие алхимически живого от неживого»9.
Алхимический текст «Aurora consurgens», написанный в
начале 16-го столетия, гласит: «Женщина растворяет мужчину
в себе, как душа растворяет в себе тело. Когда душа
расслабляет тело, а тело исправляет душу, тело и душа объединяются
и мужчина и женщина становятся одним»10. Алхимические
рисунки часто изображают Древо Сефирот вырастающим из
стоящего фаллоса «объединенного» человека, с мужским
туловищем, крыльями и двумя головами, мужской и женской,
объясняя изображение тем, что «корни Древа Сефирот посеяны в
матке андрогина, она же — Божественный фаллос».
Алхимический символизм вводит в тематику андрогина и
концепцию инцеста, отсутствующую или же не доминирующую
в ранней мистическо-философской интерпретации
андрогинности. Алхимическая загадка XVTI века так характеризует
андрогина: «Вот стою я, король и королева, брат и сестра. Я родила
сына, и он стал моим отцом, моим любимым и отцом моих
детей. И так друг через друга мы обрели бессмертие»11.
384
Важно упомянуть, что андрогинный союз в алхимической
литературе, несмотря на очевидную сексуальность
интерпретации, остается частью мистической традиции. Алхимические
тексты подчеркивают, что, несмотря на важность чувственного
начала, андрогинный сексуальный союз является всё равно
мистическим, нежели физиологическим совокуплением. «Я сходилась
миллиарды раз с моими братьями и отцами и рожала
миллионы детей, но всё равно осталась девственницей»12, — так
заканчивается характеристика андрогина в приведенной выше
загадке. «Соединение свершилось, и пара поднимается с ложа,
очищенная от грязи и черноты Божьим духом», — говорит трактат
ХУЛ века, описывая акт андрогинного совокупления.
В алхимической литературе сексуальная тематика, как и
тема инцеста, изначально несла в себе не собственно
сексуальную, но химическую аллегорию. Некоторые тексты не
скрывают, что за аллегорией стоит химическая шифровка. Например,
М. Майер в трактате «Atalanta Fugiens» прямо говорит, что
«Мужчина, входящий в женщину, обозначает азот, соединяющийся с
землей. Так появляется андрогин, рожденный между двух гор, Меркурия
и Венеры, ртути и серы. Это двойное существо, ребис, который
объединяет в себе две противоположности, он и он и она и оно в едином союзе»13.
Другие тексты оставляют за читателем возможность
разгадать алхимический шифр. Так, например, алхимический текст
начала XVII века, утверждающий, что «дракон может быть
побежден только союзом сестры и брата, они же — луна и
солнце», разумеет под «драконом» серебро, под братом — серу и под
луной — ртуть. Однако в дальнейшем химическая
терминология алхимической символики постепенно теряется, уступая
место мистически-сексуальной.
Символ андрогина играет важную роль и в мистической
литературе 18-го столетия, в первую очередь в текстах
шведского мистика Эммануэля Сведенборга. Однако андрогина он
истолковывает не как сексуальный союз мужского и женского, но
как союз человека и его духовной невесты, Софии. Через
объединение с Софией, утверждает Сведенборг, «человек
уподобится андрогину, то есть ангелу, ибо в нем (человеке. — Ред.)
внутренний, духовный Адам восторжествует над внешним, и,
соответственно, дух восторжествует над телом»14. Мистическая
литература XVTQ века, и в первую очередь масонские и розен-
крейцеровские тексты, также популяризировала концепцию
разделения человека на «внешнего», или «ветхого», и
«внутреннего Адама», где «внешний» Адам обозначал не столько тело,
25 Заказ № К-753 1
385
сколько земную душу, подверженную человеческим страстям,
а «внутренний» — Божественный дух. Победа духа над душой
определяла «совлечение ветхого Адама» и его перерождение.
В масонских трактатах процесс «совлечения ветхого Адама» во
многом близок описанию андрогинного союза и представляет
собой «мистический брак» масонского адепта и Божественной
премудрости Софии, где слово «брак» подразумевает не обряд,
а момент духовного совокупления, в процессе которого адепт
перерождается «к вечной жизни»15. Анонимная статья в
русском масонском журнале «Вечерняя заря» представляет этот
процесс таким образом:
Пребывшему же в жесточайшем испытании явится Свет в полной славе
своего сияния; и огненным крещением совлекутся одежды верхние,
облеченному же в новую ризу чистоты и непорочности сочетаться духовным
браком с Небесною девою, увидеть новую землю и новые небеса и вечно
рождать чад премудрости. <...> И, яко ближнему другу и наперснику
Премудрости, возделывать таинственные нивы животного ея сияния16.
Образ андрогинной любви, объединяющей в себе как
духовно-мистическую, так и алхимическую интерпретацию, впервые
широко вводится в художественную литературу в
произведениях немецких романтиков, в первую очередь фон Баадера и
Новалиса. В философской концепции романтиков андрогин
трансформируется в образ человека, соединяющего в себе все
эпохи и исторические периоды, человечество, заключенное в
едином индивидууме. А. Бусст утверждает, что
Сексуальный символ, символизируемый духовным гермафродитом,
то есть андрогином, лежит в самом центре любовной системы Новалиса
и представляет собой магическую связь, соединяющую человека и
вселенную. Это та самая сила, которая объединяет тело и дух, душу и природу
в одно целое. Таким образом, андрогин, символизирующий сексуальное
соединение, символизирует не метод духовно-телесной коммуникации, но
самое эту коммуникацию17.
Очевидно, что в своей интерпретации концепции андрогина
Новалис оперирует алхимической символикой18. В алхимии
главная интерпретация андрогинного союза, символизирующая
«великое делание» — производство философского камня, —
видна, например, в главной книге Новалиса «Генрих фон Оф-
тердинген», где алхимический андрогинный союз напрямую
связан с любовным союзом Розы и Гиацинта — и
одновременно с упоминанием о пророчестве Дельфийского оракула:
«Познай самого себя»19. Таким образом, делает вывод Бусст,
алхимический андрогин символизирует для Новалиса союз не только с
любимой, но и с самим собой, и с Софией, Божьей Премудростью, союз,
386
от которого напрямую зависит возвращение человечества в «золотой век»,
предшествовавший Адамову падению20.
Однако в чем заключается основное отличие
интерпретации Новалиса от классической алхимической интерпретации
андрогина? У Новалиса, как и у гностиков, андрогин
выступает в роли демиурга, однако символизирует он в первую очередь
не Божественного Творца, но поэта или художника. Вселенная
воспринимается Новалисом как продукт творческого,
созидательного воображения литератора или художника, которое
Новалис обозначает как «мыслительную интуицию». Андрогин
у него — продукт не алхимического или же гностического, но
творческого деяния.
Романтическая интерпретация образа андрогина как
существа, порожденного искусством, получает дальнейшее развитие
во французской оккультной литературе второй половины XIX
века, и в первую очередь в произведениях Пагаоса и Элифаса Леви.
Оккультная интерпретация образа андрогина, представленная
в этих текстах, получает литературное развитие в творчестве
французских символистов. Например, сэр Жозефен Пеладан
заявлял в 1890 году, что «красота женского тела, созданного
природой, — ничто по сравнению с нереальной красотой
андрогина, существа, созданного горним искусством»21. Во многом
аллегория андрогина у символистов близка андрогинной
аллегории у романтиков. Однако существует очень важное отличие
романтической интерпретации андрогинного союза от
представлений французских символистов. Французские оккультисты, а
вслед за ними и символисты, практически уничтожают
мистически-духовную сущность андрогинного союза, заменяя ее
гимном андрогину как образцу сексуальной чувственности. Так,
например, Леви пишет в «Истории высокой магии», что «Бог
есть активный гермафродит, постоянно включенный в процесс
совокупления с Самим Собой»22. Подобный же образ можно
встретить и у Бодлера и Рембо, которые самым тесным
образом были связаны с оккультным возрождением.
Интерпретация Леви напрямую противоположна интерпретации
Новалиса и Сведенборга, видевших идеал андрогинного союза в союзе
мужа и жены, как сексуальном, так и духовном. Леви же
напрямую связывает образ Адама — андрогина с отрицанием
института брака, объясняя, что брак ничем в принципе не
отличен от проституции. Женщина не должна подчиняться
мужчине, но быть с ним на равных, поскольку изначально она была
его полноценной половиной, и только грехопадение Адама
привело к разделению полов. Согласно Леви, чем через боль-
25*
387
шее количество совокуплений пройдут в жизни и мужчина и
женщина, тем более они приблизятся к «осознанию» в себе
андрогинного первоначала23. Леви впервые высказывает идею,
во многом построенную на аллегории инцеста в алхимической
символике андрогинного союза, что тройственный сексуальный
союз наиболее отражает в земной жизни Небесную концепцию
андрогинности, мотивируя это тем, что до падения Адам
обладал двумя женщинами сразу: Евой и Лилит. Леви также вводит
в литературный оборот алхимическую концепцию
андрогинного фаллоса как символа Древа Жизни — образ, практически
отсутствующий у немецких романтиков, которые
концентрировались на духовно-мистической, а не сексуально-чувственной
интерпретации андрогинного тела.
Идеи Леви получают дальнейшее развитие в работах уже
упоминавшегося выше Папюса и текстах Елены Блаватской.
Пагаос также определял Древо Сефирот как архаическое «Древо
Жизни, заключающее в себе мировую сексуальную энергию», и
также ассоциировал его с фаллосом, а Блаватская в «Тайной
доктрине» напрямую связывала образ фаллоса как Древа
Жизни с андрогинностью Адама Кадмона:
«Зогар» говорит нам, что великое Древо Жизни достигает небесной
долины и сокрыто между двумя вершинами. Из Каббалы можно ясно
увидеть, что древо это было египетским крестом в его фаллическом
аспекте и обозначало собой символ муже-женского начала. В Каббале,
объясняющей тайный смысл Книги Бытия, Божий свет является двояким,
или андрогинным, человеком, имя которому Адам Кадмон. Адам Кадмон
есть небесный человек, он же загадочный и «неназываемый» Тетраграм-
матон, первенец пассивного Божества и первое проявление тени этого
Божества. Древо жизни же есть не что иное, как твердый фаллос Адама
Кадмона24.
Таким образом, мы можем сказать, что алхимическая
аллегория 17-го столетия, согласно которой Древо Сефирот
вырастает из возбужденного фаллоса андрогина, получает новую
интерпретацию в творчестве оккультистов и мистиков конца
XIX века.
Как уже упоминалось, в то время как немецких романтиков
интересовала в первую очередь мистическая аллегория,
скрывающаяся за сексуальным символизмом образа андрогина,
французские поэты конца XIX века свели на нет
духовно-мистический символизм андрогина, сосредоточившись на
сексуальном и оккультном подтекстах андрогинной аллегории. Нам
представляется, что русская поэзия Серебряного века смогла
объединить обе эти интерпретации.
388
С одной стороны, влияние Новалиса и фон Баадера на
русский символизм, и в первую очередь на Вячеслава Иванова и
Андрея Белого, уже неоднократно отмечалось в критике. К
примеру, Лена Силард пишет: «Вячеслав Иванов находит
нужным и необходимым трижды передать идею мистического
брака Логоса с Душою Мира в образах единения Розы и Креста,
подчеркивая, что "мистический опыт был истинным
содержанием его жизни"»25. Однако заметим, что идея Новалиса о
«духовном браке Розы и Креста, символизирующая союз Логоса
и Мировой души», напрямую связана с романтической
интерпретацией андрогинности.
С другой стороны, многие поэты, входившие в
акмеистический кружок или же близкие акмеизму, испытали на себе
влияние оккультной литературы, в первую очередь текстов Пагао-
са, Блаватской и Леви. Один из таких поэтов — Николай
Гумилев. Оккультизм Леви и Пагаоса был близок мировоззрению
Гумилева, утверждавшего в 1907 году, что себя он считал
могущественным адептом оккультных наук: «Я один могу
изменить мир. До меня уже были попытки, но неудачные... Будда...
Христос...»26 Любовь Гортунгс вспоминала, что «Гумилев был
поклонником Леви, лично знал Пагаоса и пытался испробовать
на себе их каббалистические рекомендации, например, при
попытке вызвать дьявола»27. Однако даже в таких близких
оккультизму поэтах, как Гумилев, оккультная символика анд-
рогина напрямую соприкасалась с гностической и мистической.
Рассмотрим, например, стихотворение Гумилева «Андрогин»:
Тебе никогда не устанем молиться
Немыслимо дивное Бог-существо!
Мы знаем, ты здесь, ты готов проявиться.
Мы верим, мы верим в твое торжество.
Подруга, я вижу, ты жертвуешь много,
Ты в жертву приносишь себя самое.
Ты тело даешь для великого Бога,
Изысканно-нежное тело свое.
Спеши же, подруга. Как духи, нагими,
Должны мы исполнить старинный обет,
Шепнуть, задыхаясь, забытое имя
И вздрогнуть, услышав желанный ответ.
Я вижу, ты медлишь, смущаешься, что же?
Пусть двое погибнут, чтоб ожил один,
Чтоб странный и светлый с безумного ложа,
Как феникс из пламени, встал андрогин.
389
И воздух как роза, и мы как виденья...
То близок к отчизне своей пилигрим.
И верь: не коснется до нас наслаждение
Бичом ослепительно-грубым своим28.
В статье «Гумилев и оккультизм» Николай Богомолов
отмечает, что «андрогинная тема является одной из основных гуми-
левских тем, которая присутствует как открыто в
стихотворении «Андрогин», так и подспудно в многочисленных
контекстах». Однако удивляет категоричность, с которой Богомолов
утверждает, что в «Андрогине»
в первую очередь существенны платоновские ассоциации, и он может
восприниматься как простой пересказ известного мифа, с решительным
усилением антиэротической темы. Но смысл появления этого
стихотворения не вполне ясен из [самого] стихотворения, а проявляется лишь при
знании того, что, согласно оккультным доктринам [Пагаоса и Блаватской],
андрогины представляли собой одну из рас в истории человечества29.
Таким образом, H.A. Богомолов прослеживает лишь связь
Гумилева с современными поэту текстами Папюса и
Блаватской и, таким образом, соединяет андрогинный образ у
Гумилева исключительно с оккультной традицией. Нам же, в
отличие от Богомолова, представляется, что аллегория андрогина
описывается Гумилевым в более или менее «классической»
алхимической традиции, во многом соединяющей оккультную
традицию с масонским мистицизмом и мистицизмом
романтиков. Так, если исходить из алхимической традиции, очевидно,
что дивное Бог-существо — это полудемиург, получеловек:
предвечный Адам; и, таким образом, восклицание «мы знаем, ты
здесь, ты готов проявиться. / Мы верим, мы верим в твое
торжество» прочитывается как перепев уже упоминаемой выше
алхимически- каббалистической идеи, что успешный
андрогинный союз ведет к возвращению человечества в андрогинное
состояние и, соответственно, — к возвращению к «золотому
веку» и Божественному состоянию первого Адама.
Богомолов приводит текст пыпинского издания: Русское
масонство: 18 — первая четверть 19-го века/Ред. и примеч. Г.В.
Вернадского. Прага. 1916. С. 495—497 (переиздание: М., 1997;
впервые издано в: ПыпинА.Н. Homunculus: Эпизод из алхимии
и из истории русской литературы // Почин: Сборник Общества
любителей российской словесности на 1896 год. М., 1896):
Сие происходит следующим образом: возьми колбу из самого
лучшего хрустального стекла, положи в оную самой чистой майской росы, в
полнолуние собранной, одну часть, две части мужской крови и три части
390
крови женской; но заметить должно, чтоб сии особы, если только
можно, были целомудренны и чисты; потом поставь стекло оное с сею
матернею, покрыв его слепою крышкою, сохранно на два месяца для гниения
в умеренную теплоту, и тогда на дне оного ссядется красная земля.
После сего времени процеди сей менструм, который стоит наверху, в чистое
стекло и сохрани его хорошенько; потом возьми одну грань
тинктуры из царства животных, положи оную в колбу, поставь ее паки в
умеренную теплоту на один месяц, и тогда в колбе сей подымется кверху
един пузырек. Когда ты усмотришь, что показались первые жилки, то
влей смело туды немножко своего процеженного и согретого менструм,
сохрани поспешно колбу, закупорив ее тайно и крепко, старайся токмо,
чтобы не шибко шевелить оную, оставь ее паки бродить цельный месяц,
а оный пузырек будет делаться от часу большим; по прошествии четырех
недель паки влей туды немного оного менструм, и сие делай четыре
месяца сряду; однако ж всякой раз вливай более менструм, нежели
вначале. После сего времени, когда услышишь нечто шипящее и свистящее, то
подойди к колбе и, к великой радости и удивлению твоему, увидишь ты
в ней две живые твари.
Здесь примечай. Ежели кровь, из которой приготовлен оссег и из
которой выросли сии мущинка и женщинка, взята из людей
нецеломудренных, то мущинка будет вполовину зверь, також и женщинка будет
ужасного вида. Ежели кровь сия взята из особ целомудренных и всяко чистых,
то ты будешь радоваться ими и взирать на них с сердечным веселием,
сколь любезным естество их составило; но они будут не выше одной
четверти аршина; однако ж шевелятся и движутся, ходют взад-вперед в
колбе; в середине же вырастет деревцо, украшенное всякими плодами.
Ежели хочешь сохранить их и желаешь, чтоб они паче и паче
возрастали, то возьми две грани астрального камня прежде, нежели оный
увеличится, и столько же камня растений, сотри хорошенько обе тинктуры в
твоем сохраненном менструм, налей оные несколько в колбу чрез
трубочки, долженствующие быть на стороне колбы, дабы не было нужды часто
открывать оные и не входил бы в нее воздух, который вреден для сих
тварей, и налей на самое дно оные и потом заткни трубочки накрепко, и
тогда вскорости начнут произрастать всякие травы и дерева; однако ж ты
должен каждый месяц подливать сим образом; и так можешь ты сохранить
целый год. А по прошествии сего времени ты от них узнаешь всё то, что
тебе захочется знать из натуры; они тебя боятся и чтить, — но более
шести лет жить они не могут, на седьмом годку исчезают (кончаются).
Таким образом, строчка «Ты тело даешь для великого
Бога» также напрямую связана с возвращением человека и
человечества «в Божественное состояние»: в специальное
физически-искусственное «состояние близости к великому Богу», то
есть в состояние Адама Кадмона. Алхимический символизм
прослеживается и в строчке «пусть двое погибнут, чтоб ожил
один», и в отсылке читателя к образу феникса,
возрождающегося из пламени: «как феникс из пламени, встал андрогин».
Алхимические трактаты, как уже упоминалось выше, исполь-
391
зовали андрогинную аллегорию в описании химических
процессов. Андрогинный союз, таким образом, описывает
трансмутацию определенных металлов, в первую очередь серы и
ртути, в реторте, поставленной на огонь, в момент, напрямую
предшествующий получению философского камня.
Растворяясь друг в друге и таким образом уничтожая друг друга, сера
и ртуть образуют принципиально новое вещество, уже
упоминавшееся выше как ре бис, т. е. создают андрогина. Как пишет
анонимный автор 17-го столетия:
Вот мертвые лежат на ложе своем король и королева. Они сгорели в
огне, но дали жизнь сыну своему, бессмертному и прекрасному. И
разделились четыре элемента, и очистилось душой тело сыновье, и кровь
стала водой, а из пепла их выросло древо жизни. И двое стали одним,
слава Ему30.
Однако последняя строфа стихотворения Гумилева
напрямую связывает его интерпретацию образа андрогина с
интерпретацией данного образа у немецких романтиков, в первую
очередь у Новалиса. Усиление антиэротического начала,
мельком упоминаемое Богомоловым и проявляющееся в строках «И
верь: не коснется до нас наслажденье / Бичом ослепительно-
грубым своим», уводит развитие темы андрогина в тексте
Гумилева от французской символистско-оккультной интерпретации
в сторону мистическо-духовного видения немецких романтиков
(в духе ранней работы В.М. Жирмунского). Как уже
упоминалось, в литературе французского декаданса сексуальное
наслаждение лежит в центре андрогинной аллегории. У
романтиков же сексуальный союз остается в первую очередь
мистически-духовным союзом, а не физиологическим совокуплением. В
этом Гумилев опять же близок классической гностико-алхими-
ческой аллегории ренессанса и барокко, уже
рассматривавшейся выше, согласно которой обе стороны андрогинного
совокупления «проходят через огонь страсти, но остаются
девственниками». Таким образом, гумилевское стихотворение делает тот
же вывод, что и произведение Новалиса: пройдя через
аллегорический сексуально-мистический союз, союз Логоса и Девы,
он же союз Розы и Креста, земная пара родит андрогина,
предвечного Адама, который соединит материальное и духовное
начало в человеке и вернет человечество обратно в «золотой
век».
Важность образа андрогина для Гумилева как возможности
восстановления разорванной гармонии материального и
духовного, становится очевидной, если рассмотреть «Андрогина» в
контексте другого стихотворения на похожую тему, — «Мне
392
странно сочетанье слов...», в беловых черновиках
фигурирующего также под заголовком «Адам». Написано оно
приблизительно в то же время, как и проанализированное выше
стихотворение «Андрогин», и имеет, как нам представляется,
непосредственную связь с разобранным выше текстом:
Мне странно сочетанье слов «я сам»,
Есть внешний, есть и внутренний Адам.
Стихи слагая о любви нездешней,
За женщиной ухаживает внешний.
А внутренний, как враг, следит за ним,
Унылой злобою всегда томим.
И если внешний хитрыми речами,
Улыбкой нежной, страстными глазами
Сумеет женщину приворожить,
То внутренний кричит: «Тому не быть,
Не знаешь разве ты, как небо сине,
Как веселы широкие пустыни,
И что другая, дивно полюбя,
На ангельских тропинках ждет тебя»31.
В основе данного стихотворения лежит, по-видимому,
масонский символизм, популяризованный авторами XVIII — начала
XIX века и упоминавшийся нами выше — наличие в человеке
двух Адамов: внешнего, он же ветхий, и внутреннего. Интерес
Гумилева к масонской символике был подмечен в довольно
большом количестве критических статей. Антиэротическая
интерпретация андрогинного символизма в предыдущем стихотворении
усиливается с пониманием читателем того, что отрицание
физического наслаждения в сексуально-андрогинном союзе напрямую
обусловлено желанием Гумилева «совлечься» ветхого,
чувственного Адама и выбрать духовную мистическую любовь взамен
сексуальной физической страсти. Попытка эта, судя по
стихотворению «Мне странно сочетанье слов...», обречена на полную
неудачу, так как к концу стихотворения оказывается, что
внутренний Адам Гумилева мало чем отличается от внешнего:
Но если внешнего напрасны речи
И женщина с ним избегает встречи,
Не хочет ни стихов его, ни глаз,
В безумьи внутренний: ведь в первый раз
393
Мы повстречали ту, что нас обоих
В Небесных успокоила б покоях!
Ах ты, ворона! Так среди равнин,
Бредут, бранясь, Пьеро и Арлекин.
Более того, на наш взгляд, масонская, чуть высокопарная
символика двух Адамов в стихотворении Гумилева нарочно
сведена к «низменной» ее интерпретации, в которой оба героя, как
внутренний, духовный, так и внешний, материальный,
представлены героями комедии дель арте: романтическо-тоскливым
Пьеро и чувственным распутником Арлекином. Остается
согласиться с мнением Николая Богомолова, что «...можно установить
связь между представлением Гумилева о внешнем и
внутреннем Адамах, о связи души и тела с андрогинной темой его
стихов»32. Однако, на наш взгляд, эта связь проясняется только
в том случае, если андрогинный брак в интерпретации Гумилева
рассматривать как попытку объединения оккультно-сексуальной
символики с мистическо-романтической в надежде установить
свою собственную гармонию и через нее достичь гармонии
общемировой, в которой физическое и духовное начало
уравновесятся и станут одним, то есть вернуть человечество в «золотой век».
У Гумилева андрогинный союз забавным образом пересекается
с уже цитировавшейся идеей Леви о том, что в земной жизни
тройственный сексуальный союз наиболее отражает Небесную
концепцию андрогинности, поскольку идеальный гумилевский
андрогинный союз есть типичный ménage a trois, в котором двое
мужчин, внешний и внутренний Адамы, обладают, как духовно,
так и материально, одной любимой женщиной.
Важность андрогинного союза ц,ля воссоздания утраченной
гармонии играет также центральную роль в оккультно-мистиче-
ском мировоззрении другого поэта, близкого кругу акмеистов, —
Михаила Кузмина. В его цикле «Форель разбивает лед» аллегория
андрогинного союза как ménage a trois раскрывается в полной мере.
Если у Гумилева тройственное совокупление — это союз
женщины и двух ипостасей мужчины, то у Кузмина андрогинный союз
напрямую связан с бисексуальностью самого автора и
объединяет влюбленных друг в друга двух мужчину и женщину.
Несмотря на очевидную литературность сюжета, цикл построен на
реальных событиях жизни самого Кузмина, связанных с целым рядом
тройственных треугольников и в первую очередь с романами
Кузмин — А.О. Глебова-Судейкина — Вс. Князев и Кузмин — Су-
дейкин — Глебова-Судейкина. Кузмин раскрывает перед нами
тему тройственного союза уже в третьем стихотворении цикла:
394
Стояли холода и шел «Тристан»,
В оркестре пело раненое море...
Никто не видел, как в театр вошла
Красавица, как полотно Брюллова...
И вот я помню: тело мне сковала
Какая-то дремота перед взрывом,
И ожидание, и отвращенье,
Последний стыд и легкое блаженство...
А легкий стук внутри не прерывался,
Как будто рыба бьет хвостом об лед...
Я встал, шатаясь как слепой лунатик,
Дошел до двери. Вдруг она открылась.
Из аванложи вышел человек
Лет двадцати, с зелеными глазами.
Меня он принял будто за другого...
Как сильно рыба двинула хвостом!
Безволие — преддверье высшей воли,
Последний стыд и полное блаженство33.
Однако, как уже было подмечено критикой, тройственный
союз в цикле Кузмина напрямую связан с оккультным
символизмом34. Кузмин воспринимает ménage a trois как акт,
предшествующий алхимическому «великому деланию», то есть получению
философского камня. Цикл «Форель разбивает лед» построен на
двенадцати ударах часов, где каждому удару соответствует новое
стихотворение, и эта параллель, как и большинство оккультной
символики в цикле, берет свое начало, скорее всего, в романе
немецкого автора Гюстава Майринка «Ангел западного окна»,
посвященного известному магу и оккультисту 17-го столетия
Джону Ди. Прямая связь цикла и романа указана в письме самого
Кузмина к О.Н. Арбениной: «Я написал большой цикл стихов
"Форель разбивает лед..."»35 Толчком к этому послужил
последний роман Майринка «Der Engel vom westlichen Fenster». Не
только сюжетные параллели, но и названия мест (Богемия) и имена
людей (Эллинор, Грин) отсылают читателя к роману36. В
монографической и пионерской статье «Тетушка искусств: оккультные
коды Михаила Кузмина» H.A. Богомолов дает исчерпывающий
комментарий к циклу, подробно анализируя его связь с романом.
Мы тем не менее хотели бы коротко остановиться на развитии ан-
дрогинной темы в цикле, которая у H.A. Богомолова как раз
практически не затронута. Как уже указывалось выше, сексуальные
отношения между тремя участниками цикла Кузмин
воспринимает как акт, напрямую связанный с алхимическими процессами и
предп1ествующий алхимическому «великому деланию»:
трансмутации металлов, в результате которой должен появиться
философский камень. Силой, ведущей героев к завершению этой
395
трансмутации в цикле, является загадочный «ангел
превращений», напрямую отсылающий читателя к фигуре «ангела
западного окна» романа Майринка и к главному требованию ангела
для успешного завершения «великого делания»:
Тебе, Джон Ди, верный мой раб, повелеваю: положи жену свою Яну на
брачное ложе слуге твоему Эдварду Келли, дабы и он вкусил ее прелестей
и насладился ею как земной мужчина земной женщиной, ибо вы —
кровные братья и вместе с женой твоей Яной составляете кровное триединство
в [духовном] мире37.
Очевидно, что такой тройственный сексуальный союз в
символике романа является алхимическим ребис, фигурой,
образующейся в результате полового акта, предшествующего
«великому деланию», то есть собственно андрогину. Таким образом,
именно тройственная любовь, согласно Кузмину, может придать
идее любви самый подлинный высший мистический смысл.
Однако, как и в алхимии, пройдя через андрогинный союз, герои
Кузмина аллегорически умирают, теряя оккультное видение и
давая жизнь новому, бессмертному существу:
Чтоб вновь родиться, надо умереть...
Наш ангел превращений отлетел.
Еще немного... я совсем ослепну,
И станет роза розой, небо небом,
И больше ничего. Тогда я прах
И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли
Кровь, желчь, мозги и лимфа. Боже.
И подкрепленья нет38.
Очевидно, что иссякнувшие «кровь, желчь, мозги и лимфа» —
это те самые алхимические четыре элемента, которые
разделяются и разрушаются в процессе алхимической трансмутации в
момент рождения андрогина. Подтверждение мы находим в
записи самого Кузмина: «Человек сотворен по образцу вселенной.
Мир состоит из [четырех] вещей — огня, воздуха, земли и воды,
человек — из четырех стихий: крови, флегмы (сверху вписано:
мокроты. — Ред.), красной и черной желчи»39. Родившееся же в
процессе трансмутации и смерти главных героев существо
предстает в стихотворении, озаглавленном одиннадцатым,
предпоследним, ударом часов, то есть ударом, прямо
предшествующим двенадцатому, последнему, удару и,
соответственно, предшествующему последней стадии «великого делания» —
появлению философского камня:
Ты дышишь? Ты живешь? Не призрак ты?
Я — первенец зеленой пустоты...
396
Я слышу сердца стук. Теплеет кровь.
Не умерли, кого зовет любовь.
Румяней щеки, исчезает тлен,
Таинственный свершается обмен.
Что первым обновленный взгляд найдет?
Форель, я вижу, разбивает лед.
Зеленую ты позабудешь лень?
Всхожу на следующую ступень! —
И снова можешь духом пламенеть?
Огонь на золото расплавит медь.
И ангел превращений снова здесь?
И ангел превращений снова здесь40.
Кто же он, таинственный андрогин, рождающийся в момент,
когда в алхимическом горне «огонь на золото расплавит медь» из
тройственного бисексуального союза? И какую роль играет
андрогин в творческом мировоззрении Кузмина, в отличие от уже
рассмотренного выше творческого мировоззрения Гумилева?
Представляется, что ответ на этот вопрос заключен в
стихотворении Кузмина «Первый Адам», которое, хоть и не связано
напрямую с циклом «Форель разбивает лед», указывает на связь
между литературной и мистической позицией Кузмина и образом
андрогина. Как и у Гумилева, андрогинная символика
ассоциируется у Кузмина с желанием самого автора вернуться в состояние
предвечного Адама. С одной стороны, это желание может
исходить из бисексуальности самого поэта. Образ предвечного
Адама, как единого существа, не разделенного на мужское и женское
начала, очевидно, является для него символом недоступной для
него самого в современном мире сексуальной гармонии. И в этом
Кузмин близок Гумилеву в его попытке примирить внутреннего
и внешнего Адамов. Однако, думается, что в стихотворении
«Первый Адам» Кузмин ставит перед собой гораздо более серьезную
задачу, чем Гумилев в стихотворении «Мне странно сочетанье
слов...». Рассмотрим стихотворение Кузмина:
Йони голубки, Йонины недра,
О, Иоанн Иорданских струй!
Митры Киприды, Кибелины кедры,
Млечная мать, Маргарита морей!
Вышел вратами, немотствуя Воле,
Влажную вывел волной колыбель.
397
Берег и ветер мне! Что еще боле?
Сердцу срединному солнечный хмель.
Произрастание — верхнему севу!
Воспоминание — нижним водам!
Дымы колдуют Дельфийскую деву,
Ствол богоносный — Вечный Адам!41
В статье «Тетушка искусств: оккультные коды в поэзии
Михаила Кузмина» один из ведущих специалистов в истории
русской литературы Серебряного века Николай Богомолов
представляет свой целостный анализ аллегорического пласта
стихотворения «Первый Адам». Однако его анализ остается в
общем достаточно поверхностным, и причина этой
поверхностности, на наш взгляд, заключается в том, что Богомолов,
прекрасно разбираясь в оккультных течениях начала XX века,
недостаточно глубоко знаком с собственно каббалистической и
алхимической символикой. В начале статьи он подмечает
каббалистическое происхождение аллегории первого Адама,
цитируя Романа Д. Тименчика, утверждающего, что, «при всей
затруднительности вынесения однозначной оценки этого образа,
мы склонны усматривать в нем каббалистическую окраску:
Первый Адам — Адам Кадмон — довременный образ духовного и
материального миров»42. Однако, анализируя последние строчки
стихотворения «ствол Богоносный — вечный Адам», Богомолов
вслед за своим соавтором гарвардским ученым Джоном Мал-
мстадом считает, что в контексте стихотворения «ствол
Богоносный» явно означает фаллос, но эту интерпретацию
Богомолов никак не связывает собственно с символизмом Адама. В
противовес трактовке Богомолова и Мальмстада нам
представляется, что образ «ствола богоносного» в стихотворении
Кузмина — это алхимический символ, который символизирует
одновременно и Божественный фаллос, и Древо Сефирот, прообраз
мира, выраженный через фигуру Адама Кадмона. Выше мы
уже обсуждали использование этого символа как в алхимии,
так и в более поздних текстах Леви, Пагаоса и Блаватской.
Хотя за годы своего развития каббалистическая символика
и претерпевала важные изменения и дополнения, постоянной
традицией в Каббале оставалась интерпретация творения,
которая традиционно рассматривалась в
божественно-эротическом ключе и доходила у некоторых авторов до отчетливого
сближения творения мира с сексуальным актом. Образ этот в
каббале берет свое начало в символике неоплатонизма и
гностицизма первых веков н. э., в котором эротические мифы или
398
метафоры творения и грехопадения были постоянным
сюжетом. Многие мифы, развитые в Каббале, присутствуют,
например, в валентинианской гностической системе, однако кажется,
что именно в каббалистической традиции они получают
наиболее полное воплощение. Интерес к гностицизму и эротической
интерпретации акта Творения достаточно очевидно
прослеживается в личной биографии Кузмина. В письмах к друзьям он
пишет о своей увлеченности известным гностическим текстом
«Пистис София», говоря, что «пора увлечения гностицизмом»
была для него порой, когда «каждый миг, каждое дыхание
было гимном любви, и все эти чтения о гностиках окрыляли,
делали легким и доступным всё». Можно предположить, что
Кузмин неплохо знал и саму Каббалу, по крайней мере, в той
магической спекулятивной интерпретации, в какой ее
представляли французские авторы — популяризаторы 19-го столетия.
Кузмин, как известно, был близок Б.А. Леману, чьи работы по
магической числовой Каббале печатались в журнале «Изида»
на протяжении 1909—1911 годов, а также ранее в артистически-
литературном журнале «Весы». В дневниках Кузмин
описывает свои контакты с Леманом следующим образом: «Пришел
Леман, говорил поразительные вещи по числам, неясные мне
самому. Очень меня успокоил»43. Мы можем с уверенностью
утверждать, что «поразительные вещи по числам», сказанные
Леманом Кузмину, напрямую связаны с каббалистическими
статьями самого Лемана в «Изиде». Следовательно, Кузмин
мог быть непосредственно знаком не только с гностическими,
но и с собственно каббалистическими текстами начала XX века.
Скорей всего, он неплохо знал и русскую масонскую
литературу XVHI века, которая весьма широко использовала
каббалистические аллегории. Среди героев незаконченной повести о
Калиостро, начатой Кузминым незадолго до написания
стихотворения «Первый Адам», присутствуют почитаемые масонами
Бёме и Сведенборг. Представляется оправданным и магист-
рально верным утверждение H.A. Богомолова о том, что:
<...> по своим идеалам розенкрейцеры происходили от гностиков II и
Ш веков, стремившихся проникнуть в тайны божества. Достаточно
вспомнить, какое значение придается гностицизму в мировоззрении Кузмина
вообще, чтобы по достоинству оценить эту параллель, поддержанную
скорей всего и рядом других текстов, которые могли быть вполне
доступны Кузмину. Соответственно, должна выстраиваться цепочка:
розенкрейцерство — гностицизм — современность44.
Таким образом, можно достаточно определенно
утверждать, что Кузмин должен был неплохо разбираться в каббали-
399
стической символике per se, которая еще будет в определенной
степени проанализирована ниже, и тем или иным образом мог
использовать ее в своем стихотворении.
Согласно каббалистическому символизму, Древо Сефирот
состоит из трех частей: верхней части, представляющей
Божественный мир, средней и нижней, являющейся репрезентацией
мира человеческого. На наш взгляд, каждая из трех строф
стихотворения Кузмина аллегорически описывает одну группу
сефирот, и, таким образом, всё стихотворение — это
зашифрованная аллегория структуры Древа Сефирот, проявляющего
себя через фигуру предвечного Адама. Каббалистический
текст XIII века интерпретирует первые строчки Книги Бытия
«И земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над
водами...» как то, что «мир был создан семенем, брошенным в
бесконечные воды нижнего мира»45. Самая верхняя сефира,
Кетер, выступает в Каббале в роли Божественного семени,
помещенного в Божественную премудрость, Хохму, играющую
роль отца в сексуальном контакте с «творящей матерью», сефи-
рой Вина. В книге «Каббала» Гершом Шолем замечает, что,
согласно каббалистической теософии,
Три верхние сферы представляют из себя источник, воды которого
изливаются в бездонные моря нижних сефирот. Часто эта начальная
точка интерпретируется в каббале как семя, брошенное в матку вечной
матери Бины, которая, в свою очередь, дает жизнь бесконечному числу
эманации46.
Стоит напомнить, что первые строчки последней строфы
стихотворения отчетливо делят фаллообразный «ствол богонос-
ный» на две части: «верхний сев» и «нижние воды», в полном
соответствии со структурой Древа Сефирот, описанной выше.
Более того образ моря и рек (струй), в него впадающих,
проходит лейтмотивом через всё стихотворение. Представляется, что
первая строфа стихотворения — это зашифрованная аллегория
трех высших сефирот. Очевидно, что процесс творения мира
Кузмин воспринимает как сексуальный акт par excellence, в
результате которого семена «верхнего сева» с силой
выбрасываются в «Ионины недра», то есть вторую сефиру, Хохму, из нее — в
сефиру Вина, и через реки (струи) промежуточных сефирот
уходят в «нижние воды» последней сефиры. Роман Д. Тименчик
подмечает что образ «божественных голубок Иони» (само
слово «йони» на иврите [чт] значит «голубь» или «мой голубь»)
пришел в стихотворение Кузмина скорее всего из работ Блаватской,
в которых Иони воспринимается как символ «божественной
производящей силы». Однако сама Блаватская в «Тайной доктрине»
400
проводит очевидную параллель между божественной
производящей силой Иони в индуизме и бесконечной божественной
творящей энергией эйн-соф в мистическом иудаизме, называя сефи-
ру Хохма вершиной божественного фаллоса, через который
божество извергает свое животворящее семя в нижний мир47.
Шолем утверждает, что «Вина часто изображается в виде
корней Дерева Жизни, которые поливаются животворящим семенем
Хохмы». В стихотворении Кузмина корни деревьев двух богинь,
в мифологии напрямую связанных с плодородием и рождением,
Киприды и Кибелы, питаются водой из Ионипых недр, т. е. из
производящей сефиры Хохма. Таким образом, «Млечная мать,
Маргарита морей», доминирующая в первой строфе
стихотворения, очевидно, является творящей матерью и сефирой Вина,
где и берут начало божественные реки («Иорданские струи»),
протекая затем через средние сефирот и впадая в «нижние
воды», то есть в моря последней сефиры Малкут.
В каббалистической аллегории граница между мирами
высших и низших сефирот аллегорически изображается в виде
ворот, представленных четвертой и пятой сефиротами — сефирота-
ми Гевура и Гедула. Падение материального Адама, приведшее к
его изгнанию в земной мир, в Каббале рассматривается как
окончательный разрыв между верхними и нижними сефиротами, в
процессе которого соответственно Адам Кадмон «вышел» из
высшего мира в нижний через аллегорические врата между Гевурой
и Гедуллой. Представляется, что именно эти аллегорические врата
имеет в виду Кузмин в строчке «вышел вратами, немотствуя
Воле». Отрока, очевидно, говорит о падении и «уходе» первого
Адама из высшего мира в нижний. В. Марков и Дж. Малмстад
в своем комментарии указывают, что, «согласно герметической
традиции, Воля — первый Бог, отец разума»48. Подобная
интерпретация характерна не только для общего герметического, но
и для каббалистического символизма. Однако стоит заметить,
что в Каббале грех Адама всегда характеризуется как
нарушение Божественной воли. Подобная трактовка первородного
греха видна и в русских масонских текстах XVTII века,
посвященных тем или иным образом аллегории Адама Кадмона.
Например, И. Лопухин в книге «Духовный Рыцарь» утверждал,
что «Дух Божий царствовал в душе Адамовой, проникал
Светом Своим свойства души его и одевал его, яко ризою.
Злоупотребление воли погасило в душе Адамовой светильник
Божьей премудрости и низринуло его на землю»49.
Согласно структуре Древа Сефирот, за «воротами» Гевуры и
Гедуллы находится центр божественного дерева — сефира Тиф-
26 Заказ jV» К-753 !
401
'ерет, характеризуемая в Каббале как «сердце» или
«сердцевина» Древа Сефирот. Из оригинальных каббалистических текстов
эта характеристика перешла в христианские тексты эпохи
Ренессанса, а оттуда и в тексты более поздних авторов. Например,
Папюс в своей знаменитой книге «Каббала» говорит, что «три
троицы Древа Сефирот — мир верхний, средний и нижний —
рассматриваются нами как разум, сердце и душа Адама Кадмо-
на»°°. В христианской каббалистической астрологии, где каждая
сефира ассоциируется с определенной планетой, Тиф'ерет
представляет солнце и соответственно — центр астрологической
системы, в каббалистической же алхимии считается, что сефира
Тиф'ерет объединяет четыре главных элемента: огонь, воду,
воздух и землю. На наш взгляд, все вышеизложенные
символические элементы Тиф'ерет представлены в средней строфе
стихотворения Кузмина. Местоположение Адама после «выхода из
ворот» поэт определяет как «срединное сердце», в котором
объединены солнце, оно же огонь («солнечный хмель»), земля
(«берег»), воздух («ветер»), вода («море»). Таким образом, можно
утверждать, что вторая строфа стихотворения описывает
срединную сефиру древа, Тиф'ерет, которая одновременно — и сердце
поэтического героя стихотворения, самого Адама Кадмона.
Как уже упоминалось, согласно каббалистической
доктрине, грех материального Адама привел к разрыву между
верхними и нижними сефиротами. Самая нижняя сефира, Малкут,
аллегорически представляющая человеческий мир, была
оторвана от остальных сефирот и оказалась в «изгнании», не имея
более прямой связи с верхним миром и довольствуясь лишь
воспоминанием о нем. Каббалистические тексты называют
Малкут «принцессой в изгнании», ищущей своего отца Короля,
т. е. Всевышнего51. Мы уже упоминали выше, что
каббалистические тексты часто изображают Малкут как бесконечное
море, в которое вливаются все реки сефирот. Таким образом,
строка «воспоминание — нижним водам» последней строфы, на
наш взгляд, имеет прямое отношение к каббалистической
символической интерпретации нижней сефиры Малкут. Более
того, нам представляется, что образ Дельфийской девы,
используемый Кузминым в данной строфе, также напрямую
связан с этой интерпретацией. Известно, что в греческой
мифологии Дельфийская дева, или сивилла, является оракулом и
соответственно артикулятором божественных сил в земном
мире. (См. об этом замечательные недавние исследования Е.В.
Приходько и О.В. Кулешовой.) Между тем в Каббале Малкут,
единственная божественная сефира в человеческом мире, —
А№
герметический проводник Божественной воли на земле52.
Древо Сефирот, согласно Каббале, — цикличная, а не линейная
структура, как и сам процесс творения, являющийся
цикличным, а не линейным процессом: Божественная энергия
совершает круг и возвращается к своему источнику; и поскольку
самая верхняя сефира, Кетер, представляет огонь
божественного сияния, то самая нижняя сефира, Малкут, — дым этого
огня, неотделимый от огня и невозможный без него, как и
огонь без дыма. Испанский каббалист 13-го столетия описывает
эту метафору следующим образом: «...нижняя сфера
неотделима от верхней так же, как золу нельзя отделить от огня, ибо в
моем конце — суть мое начало»53. В таком случае, можно
утверждать, что жертвенный дым, «колдующий Дельфийскую деву»,
есть зашифрованная аллегория дыма Малкут, связывающего
ее с Кетер и соответственно — со Всевышним, точно так же как
жертвенный огонь напрямую связьюает сивиллу с богами.
Рассматривая последнюю строфу стихотворения и особенно
строчки «Произрастание — верхнему севу / Воспоминание —
нижним водам», H.A. Богомолов говорит: «...что такое верхний
сев и нижние воды и почему им приписывается то
произрастание, то воспоминание, мы определенно объяснить не можем»54.
Однако анализ, проведенный выше, показывает, что данные
строчки относительно легко расшифровываются в том случае,
если исследователь начинает рассматривать стихотворение
Кузмина в контексте развития аллегории Адама Кадмона,
вдумчивого понимания ее источника и значения.
Вполне уместен также вопрос, как представленная в
разобранном только что стихотворении интерпретация
каббалистического образа Адама Кадмона связана с концепцией андрогин-
ности, постулированно приведенной нами выше? Ответ
довольно прост. Представляется, что Кузмин проводит прямую
параллель между божественным творением мира и человеческим
актом бисексуальной любви. Точно так же, как в гностицизме,
согласно упоминавшейся в начале статьи цитаты, Бог есть
«бесконечно совокупляющееся с Самим Собой андрогинное Существо»,
аналогичным образом Кузмин воспринимает самого себя, то
есть Поэта, как андрогинное существо, способное творить
реальность sui generis. Фигура Адама Кадмона как прототипа мира,
существа, воплотившего в себе все десять Божественных
аспектов, некоего каббалистического знания, предстает в
мироздании Кузмина фигурой его самого. Поэт подчеркивает, что
повествование в стихотворении ведется от первого лица: «Берег
и ветер мне». Но в то же время попытка Кузмина зашифровать
26*
403
фигуру Адама и структуру Древа Сефирот мифологической
аллегорией ставит самого поэта в один ряд с подлинными
каббалистическими и алхимическими мистиками, в творчестве
которых такого рода аллегории играли центральную роль.
Автор хочет быть одновременно и прототипом самого мира, и
его творцом — демиургом, вмещать в себя весь мир, подобно
первому Адаму, и создавать этот мир, подобно Творцу, то есть
Богу.
Мы можем лишь согласиться с Богомоловым в его
убеждении, что Кузмин «с помощью алхимического делания не
только творит ряд превращений, но прежде всего становится
Демиургом, творцом людей»55. При этом нам представляется
чрезвычайно важным тот факт, что в стихотворении «Первый
Адам» орудием этого творения для Кузмина, как и для кабба-
листов, немецких романтиков и французских символистов
выступает язык. Каббала утверждает, что Древо Сефирот — это
лингвистическая формула, Божественное слово, Логос, через
которое и был сотворен собственно мир. Таким образом,
довременный Адам, будучи прообразом мира и репрезентацией
Древа Сефирот, сам есть Божественное слово, через которое
мир был создан. Параллель «Адам — Логос» завершает, на наш
взгляд, стихотворение, будучи анаграммировано в последней
строке: «Ствол богоносный — Вечный Адам»56. Стоит
напомнить, что подобная анаграмма характерна для мистических
текстов вообще и близка масонским анаграммам Адама Кадмо-
на, например, в подобной же анаграмме зашифрованной в
названии масонского романа 18-го столетия «Кадм и Гармония» —
Адам Кадмон (рспр on«).
Мы считаем, что вышеизложенная трактовка
стихотворения Кузмина «Первый Адам» и установление связи данного
текста с общей мифологической и каббалистической
символикой образа андрогина в творческом мировосприятии Кузмина
позволяет рассматривать «Первого Адама» в контексте
общехарактерной для литературы начала века идеи о магической
созидательной власти слова, утверждавшей, что искусство не
описывает, но создает реальность. Алхимическое «великое
делание» для Кузмина символизирует творение текста, где
философский камень аллегоричен стихотворению. Сексуальный же
акт, как и мистическая любовь, для него обозначают ступень,
символически непосредственно предшествующую появлению
текста и производящую его. Андрогин есть сам поэт. Таким
образом, объединение трех любящих рождает в Кузминском
мировоззрении андрогина, андрогин рождает текст, и тот, в
404
свою очередь, рождает окружающую реальность. Круг
замыкается. Кузмин верит или очень хочет верить, что именно
через этот круг: «бисексуальная любовь — тройственный секс —
рождение текста» — человек сможет наконец получить
возможность вернуться туда, куда пытался вернуться в своих
текстах и Гумилев, а до него — французские символисты, а до них
— немецкие романтики: в утраченный после грехопадения
Адама «золотой век» человечества.
Разбор стихотворений и образов, представленный выше,
никак не претендует на тотальную полноту анализа. Очевидно,
что развитие андрогинной символики в поэзии Серебряного
века не может вместиться в рамки одной небольшой статьи.
Данная работа ставит своей целью лишь дополнительное
привлечение исследовательского интереса к этой проблематике, но
отнюдь не ее полный и исчерпьшающе-систематический анализ.
В то же время нам представляется, что правильное понимание
андрогинного подтекста стихотворений, проанализированных
выше, позволяет не только адекватно расшифровать многие, на
первый взгляд необычные и сложные, метафоры поэзии
Серебряного века, но и дает возможность рассматривать отдельные
стихотворения Гумилева и Кузмина как часть некоего единого
процесса, занимавшего умы едва ли не большинства авторов
Серебряного века: попытку вернуть и себя и человечество в
состояние мировой гармонии, предшествовавшей грехопадению,
и через литературу и искусство создать новый мир — мир, в
котором человечество будет способно вернуться в блаженные
«довременные времена» «золотого века», когда мужчина и
женщина были соматически едины, когда реальность
создавалась через сакральный язык, когда человечество еще не
утратило великого знания тайн Бытия и Человек был, по сути,
подобен создавшему его Творцу.
Примечания
1 Предварительная версия настоящего текста была опубликована
в Германии; см.: Аптекман Марина. Андрогинная аллегория
Серебряного века в текстах Николая Гумилева и Михаила Кузмина // Die
Welt Der Slawen: Internationale Halbjahresschrift Für Slavistik. Jahrgang L.
2005. Heft 2. S. 303-322.
2 См.: Sholem G. Kabbala. N.Y., 1974. P. 97.
3 Популярное определение андрогина и андрогинности см.:
Энциклопедия мистических терминов. М.: Локид-Миф, 2000. С. 45—46. Для
дополнительной литературы и дополнительных определений общей
понятийности «андрогина» см. работу Елены Григорьевой, публикуе-
405
мую в наст, издании. Для общекультурных представлений см. также
на сей счет свежую монографию: Dreger Alice Domurat. Hermaphrodites
and the Medical Invention of Sex. Harvard: Harvard University Press, 2000.
4 См.: Sholem G. Op, cit. P. 98. Современная литература по
гностицизму per se поистине необозрима (в полном смысле значения данного
слова — для ее «исчерпания» потребуется не одна монография). Для
более «современных» описаний указанного «эмалирования» человека
от Создателя см. недавнюю подытоживающую монографию
гарвардской исследовательницы Карен Кинг: Karen L. King. What Is
Gnosticism?: University of Harvard, Cambridge (MA), 2003.
5 Об образе Адама Кадмона в текстах Бёме см.: Yates F. The Rosin-
crucian Enlightenment L., 1978. Нельзя здесь не вспомнить и
соответствующую работу Николая Бердяева: Из этюдов о Якове Бёме: Этюд II —
Учение о Софии и андрогине: Я. Бёме и русские софиологические
течения// Путь. 1930. № 21. С. 34-62.
6 См.: Sholem. Op. cit. P. 79.
7 Baehr S. The Paradise Myth in the Eighteenth Century: Utopian
Patterns in Early Russian Secular Literature and Culture. Stanford, 1991.
P. 79.
8 RoobA. The Hermetic Museum: Alchemy and Mysticism. Köln; New
York: Taschen, 1997. P. 457.
См., кроме того, современное популярное изложение: Marshall,
Peter H. The Philosopher's Stone: a Quest for the Secrets of Alchemy. L.:
Macmillan, 2001. Для адекватно-научного философского дискурса
можно обратиться к различным статьям Аллена Дебю, собранным в
одном научном сборнике: Debus, Allen G. Chemistry, Alchemy and the
New Philosophy, 1550—1700: Studies in the History of Science and
Medicine. L.: Variorum, 1987. См. также различные статьи из недавнего
сборника трудов, изданного Массачусетским технологическим
университетом, снабженные up to date библиографией: Secrets of Nature:
Astrology and Alchemy in Early Modern Europe / Ed. William R. Newman,
Anthony Grafton. Cambridge (MA): MIT Press, 2001.
9 Рабинович В. Алхимия как феномен средневековой культуры. М.:
Наука, 1979. С. 98.
10 Roob. Op. cit. P. 458.
11 Ibid. P. 456.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде. СПб.: Азбука-
Классика, 2000. С. 73.
15 Об образе Адама Кадмона в русской масонской литературе см.:
Бурмистров К. Каббалистическая экзегетика и христианская
догматика: Еврейская мистика в учении русских масонов конца XVIII века //
Солнечное сплетение. Иерусалим, 2001. С. 18—19. Для параллельных
взглядов из чисто иудейской теологической традиции см. небольшую
брошюру Давида Шора и Ирмиягу Бен Ашера (не учтенную К. Бур-
мистровым), написанную на английском и иврите: S hör David, Ben As her
406
Yirmeyahu. Androginus ve-tumtum: halakhah le-maaseh // Androgenous,
Hermaphrodites and Tumtum. Brooklyn: The Institute of Research for
Biblical Talmudic Law, 2000. Увязывание андрогина и еврейской
каббалистической алхимии присутствует в некоторых текстах,
опубликованных покойным Рафаэлем Патаем, см.: Patai R. The Jewish
Alchemists: A History and Source Book. Princeton (NJ): Princeton University
Press, 1994.
16 Вечерняя заря. 1782. В. 3. С. 41. Отдел редких рукописей БАН.
17 Bnsst F.L. The Image of the Androgyne in the Nineteenth Century jj
Romantic Mythologies /Ed. I. Fletcher. L.: Routiedge, 1967. P. 7. Подобная
романтическая концепция коренится, на наш взгляд, в древнем гипос-
тазировании происхождения мифопоэтического образа андрогина, см.:
Brisson Luc. Sexe Incertain, Sexual Ambivalence: Androgyny and
Hermaphroditism in Graeco-Roman Antiquity / Tr. from French by Janet Lloyd.
Berkeley: University of California Press, 2002. Вместе с тем сходные с
данным ключом видения нарративы демонстрирует и своевременно
вышедшая масштабная «каталогизационно-описательная» монография
немецкого историка литературы: Aurnhammer Achim. Androgynie: Studien zu
einem Motiv in der europäischen Literatur. Köln: Böhlau, 1986.
См. для дополнительной мотивации также «феминистскую»
точку зрения: Weil Kari. Androgyny and the Denial of Difference.
Charlottesville: University Press of Virginia, 1992.
18 См. подробнее в: Прокофьев CO. Вечная индивидуальность:
Очерк кармической биографии Новалиса. М.: Энигма, 2000.
19 Ibid. Р. 16.
20 Ibid. Р. 21.
21 Энциклопедия символизма. М.: Республика, 1998. С. 59.
22 Леей Э. Искусство высшей магии. М.: Мир, 1997.
23 Более подробный анализ этой идеи (совокупительного
«приближения андрогинизма») см.: Busst F.L. Op. cit.; Monneyron F. L'androgyne
romantique: du mythe au mythe littéraire. Grenoble: ELLUG, 1994.
24 Блаватская E. Скрижали астрального света. M.: ЭКСМО-Пресс,
2001. С. 442. О «естественной» аллюзивной связи Древа Жизни с
Мировым Древом (Arbor Mundi, Yggdrasil, на иврите — Etz Hayiim = ПЧП \v)
говорит любое вдумчивое прочтение соответствующей историко-религи-
озной литературы. Речь здесь должна идти об архетипическом
концепте (плана Великой Цепи Бытия, Лестницы Якова и т. п.). См.
классическую и полномасштабно-дескриптивную историко-культурную
монографию на эту тему: James Edwin Oliver. The Tree of Life: an Archaeological
Study. Leiden: EJ. Brill, 1966. Известно, что понятийное значение Древа
Жизни в каббалистической религиозной философии трудно переоце-
нить.^См., напр., пространнейший лурианский трактат XVII в. Хаима
Бен Иосефа (1542/1543—1620): Vital Hayyim ben Joseph, Ets Hayim. The
Tree of Life: Chayyim VitaPs introduction to the Kabbalah of Isaac Luria;
the Palace of Adam Kadmon / Tr. and with an introduction by Donald
Wilder Menzi & Zwi Padeh. Northvale (NJ): Jason Aronson, 1999. См.
общий обзор топики Древа Жизни в Каббале и мистике в популярном
407
изд.: HaleviZeev ben Shimon [i. e. Kenton, Warren]. Tree of Life: an
Introduction to the Kabbalah. Bath: Gateway Books, 1991. Стоит упомянуть и
небольшую брошюру, дающую общее верное представление об этом
понятии: Kallen Horace Meyer. The Tree of Life: (etz hayim). Baltimore,
1960. См. также: Magné Jean. From Christianity to Gnosis and from
Gnosis to Christianity: an Itinerary Through the Texts to and From the Tree
of Paradise (Logique des dogmes) / Foreword by Michael Tardieu;
translated by A.F.W. Armstrong and revised by the author. Atlanta: Scholars
Press, 1993. См. также важную в нашем контексте книгу: Murphy
Roland Edmund. The Tree of Life: an Exploration of Biblical Wisdom
Literature. 3rd ed. Grand Rapids (MI): William B. Eerdmans, 2002. Всё
еще важна давняя компаративистская работа: Lechler Jörg. The Tree of
Life in Indo-European and Islamic Cultures. Ann Arbor (MI): University
of Michigan, 1937.
Для обзора типологии изображений Древа Жизни см.: Cook Roger. The
Tree of Life: Image for the Cosmos. New York (NY): Thames and Hudson,
1988. О связи Древа Жизни с христианским мистицизмом и в
особенности образом деревянного Креста см. интересную работу: Dufour-Kowalska
Gabrielle. L'arbre de vie et la croix: essai sur l'imagination visionnaire, préface
de Jeanne Hersch. Genève: Editions du Tricorne, 1985. Заметим, что
тематический зачин этой топике положила небольшая предвоенная работа
немецкого теолога-искусствоведа: Bauerreiss Romuald, O.S.B. Arbor vitae:
der Lebensbaum und seine Verwendung in Liturgie, Kunst und Brauchtum des
Abendlandes. München: Neuer Filser-Verlag, 1938. (Abhandlungen der
Bayerischen Benediktiner-Akademie; Bd. Ш.)
25 Силард А. Новалис и русская мысль начала XX века // Герметизм
и герменевтика. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. С. 146.
26 Богомолов Н. Русская литература начала века и оккультизм. М.,
1999. С. 118.
27 Там же. С. 125.
28 Гумилев Н. Стихи. Смоленск: Русич. С. 97.
29 Богомолов. Указ соч. С. 140.
30 Roob. Op. cit. P. 460.
31 Гумилев. Указ. соч. С. 393.
32 Богомолов. Указ. соч. С. 141.
33 Кузмин М. Избранное. Смоленск: Русич. С. 57.
34 См., напр.: S heron G. «Forel' razbivaet led» The Austrian Connec-
tiion// Wiener Slawistischer Almanach. Wien, 1983. Bd. 12. S. 108.
35 Цит. по: Богомолов. Указ. соч. С. 172.
36 Ср.: Майринк Г. Ангел западного окна. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.
37 Майринк. Указ. соч. С. 112.
38 Кузмин. Избранное. Смоленск: Русич, 1998. С. 59.
39 Цит. по: Кузмин. Стихотворения. СПб., 2002. С. 68. (Новая
библиотека поэта). Примечания к тексту Богомолова.
40 Кузмин. Избранное. С. 60.
41 Цит. по: Богомолов H.A. Русская литература начала века и
оккультизм. С. 160.
408
42 Там же. С. 161. Подобная цепочка действительно оказывается
концептуально верна — в плане наследования розенкрейцерами
гностических идей первых веков христианства (как это фрагментарно
показывает, в частности, недавняя монография: Akerman S. Rose Cross
Over Baltic: The Spread of Rosicrucianism in Northern Europe. Leiden,
1998, см., напр., p. 36). Тема связей розенкрейцерских мифологий и
русского модернизма (в основном символизма) исследована в ряде
недавних научных публикаций, посвященных оккультным связям
русской модернистской литературы, написанных Г. Нефедьевым и
Ренатой фон Майдель, опубликованных в журнале «Новое
литературное обозрение» (Москва). См. также общеописательную статью
Елены Глуховой «Розенкрейцерская мифологема в символистской среде»,
доступную в Интернете по адресу: http:/^ogni.narod.ru/glukhoval.htm.
43 Богомолов. Указ. соч.
44 Там же. С. 161.
45 Цит. по: IdelM. Kabbala: New Perspectives. New Haven, 1988. P. 91.
Гл. «Azriel of Gerona».
^Sholem. Op. cit. P. 31.
47 См.: Блаватская. Тайная доктрина. M., 1998. С. 139.
^Богомолов. Указ. соч. С. 161.
49 Лопухин. С. 67.
50 Папюс. С. 84.
51 См.: Sholem. Op. cit. P. 88.
52 IdelM. Kabbalah: New Perspectives. New Haven, 1988. P. 217.
53 Ibid.
54 Богомолов. Указ. соч. С. 162.
55 Там же. С. 157.
56 Н. Богомолов также говорит о возможности присутствия в
последней строке стихотворения зашифрованной анаграммы. Однако он
утверждает, что зашифрованное в анаграмме слово — это «лингам»,
слово, пришедшее из санскрита и упоминаемое Е. Блаватской как
парное к «Иони». Нам представляется, что зашифрованное
соответствие «Логос — Адам» гораздо ближе к исходной символике образа
Адама Кадмона и, таким образом, гораздо больше соответствует идее
стихотворения.
Русский эротикон
и мир Визуальной
репрезентации
Специфика мнимости
описаний
Денис В. Соловьев
К ВЫЧЛЕНЕНИЮ
ЛАКАНОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Некоторые аспекты семиотики ануса
и российские блатные татуировки
«Мир жизни — это сфера непосредственных
самоочевидностей».
Э. Гуссерль1
Если бы выделение фекалий было функцией, к которой
деятельность человеческого ануса могла быть сведена без остатка, а
поддержание тела в вертикальном положении — единственной
функцией ягодиц, то анус как объект семиотического исследования
едва бы мог представлять серьезный интерес, разве что в качестве
крайней нижней точки канала, по которому пища преодолевает
путь от одного естественного отверстия к другому. Но это не так,
ибо, наряду с речью, рукой, ногой и половыми органами, анус не
только в высшей степени влиятельный «орган действия» («кармен-
дрия» в терминологии Йоги и Веданты2), но и не менее
влиятельный знак. Однако в отличие от пениса, часто представляющего
собой единственный иконический элемент соответствующего
знака, анус, в силу анатомических особенностей, предопределяющих
графическую манеру его воспроизведения, всегда появляется в
сопровождении других иконических подробностей. Иконический же
знак, формально имеющий в качестве предмета изображения
только глаз ануса, практически невозможно даже представить.
Исключительным, если едва ли не единственным из
широкоизвестных случаев отдаленного подобия такому гипотетическому знаку
здесь был бы, пожалуй, только «Черный квадрат» К. Малевича,
который иногда интерпретируется как репрезентирующий
одновременно «всё сразу» и «ничто»3. В этом смысле едва ли покажется
преувеличением и воспроизведенное с поправкой на анус
утверждение Лакана, касающееся «без-подобного означающего» («le
signifiant sans pair»4). Примечательно, конечно, что анус,
представляющий собой естественное отверстие человеческого тела, в редкой
уголовной татуировке (ил. 327)5 передается силуэтом, а нередко во-
413
обще оказывается полностью вытесненным за пределы
изображения — иногда в область слова, появляясь, таким образом, как на
иллюстрации ниже, в составе вербального «манифеста»,
«солидарного» с иконическим6, а иногда и в сферу абстрактных (впрочем,
вполне конкретных и жизненных для носителей) «понятий»,
подлежащих герменевтической реконструкции:
жмношк у негра ßo/cone:
Ил 32 7. Воровская, антисоветская татуировка. Спецприемник ГУВД
на ул. Бакунина, 10. Ленинград. 1963 г. Место нанесения: бедро.
Очевидно, что отчасти именно на счет этой своего рода ана-
томическо-иконической нехватки и в некотором смысле
естественного отсутствия следует отнести то обстоятельство, что
лексическая репрезентация ануса, как и соответствующая
вагины, неизбежно во многих случаях представляет собой фигуру
гиперонимической замены (части «самостоятельным» и
заключающим ее целым7), что выше наглядно демонстрирует
вербальный «манифест». Как и вагина, репрезентация которой в языке
часто включает репрезентацию лобковых волос («лохматка»,
4U
«лохматый сейф», «мохнатка», «мохнатый сейф», «мочалка»,
«муфта», «муфточка», «хромосома волосатая», «чесалка» и т. д.),
общий синонимический ряд для опорного в нашем случае ануса
в некоторой своей части двусмысленно отсылает как к анусу, так
и к заду в целом. Слов, которые подчеркивали бы аспект пустот-
ности или материального отсутствия, отсылая непосредственно
к анусу как таковому, в этом ряду сравнительно немного.
Кроме того, ясно, что никакое другое слово не способно было бы
выдержать конкуренцию со словом «жопа» в качестве наиболее
популярного «лексико-семантического стержня»8 для
общеупотребительных ненормативных выражений,
конкретно-содержательно связанных в том числе с анальным взаимодействием:
«анальное отверстие», «афедрбн», «бздея», «буль»,
«валторна», «варзуха», «гудок», «гузно», «дудка», «дупло»,
«духовка», «дыра», «дырка», «жерло», «жопа», «журло»,
«зад», «задница», «корма», «крикуша», «курсантка»,
«мадам сижу», «менжа», «очко», «рупор», «седло», «сопло»,
«срака», «станок», «телевизор», «туз», «филе», «флейта»,
«форсунка», «фуфло», «хезник», «хезальник», «черная
дырка», «черный месяц», «чмень», «шоколадная дырка»,
«шоколадница», «эмаль» и т. д. (общеупотребительная и
тюремная жаргонная лексика намеренно даны в одном
синонимическом ряду — в связи с глубоким
проникновением последней в повседневную общеязыковую
практику я не вижу особого смысла здесь их разделять).
Тюремно-лагерно-блатная языковая практика, надо полагать,
оказывается много «демократичнее» и точнее повседневной
языковой — в силу более частого обращения к анально-генитальной
лексике, — и во многих случаях сосредоточена как раз вокруг
абсолютных с идеографической точки зрения синонимов ануса,
если за основной атрибутивный признак референта мы
принимаем явленность материального отсутствия, пустотность:
«дупло», «духовка», «дыра», «дырка», «жерло», «журло»,
«очко», «сопло<вое> [отверстие]»...
Здесь же:
«черная дырка» и «шоколадная дырка» (два последних
также в значении «пассивный гомосексуалист»)...
Отсюда пенальное (принадлежащее пенису) заполнение,
изоляция и даже «вскрытие» пустоты:
Ил. 4 73. Порнографическая, художественная татуировка,
принадлежавшая четырежды судимому за грабежи и разбои вору в
законе, уголовному авторитету, выходцу из семиреченских
казаков Средней Азии. Сделана в Пермском лагере. Скопирована
в Межобластной больнице МВД, 1992 г.
«журлить», «задуплить», «запаять очко», «мешать в
черный ящик», «порвать очко», «расконопатить очко»,
«сунуть в дырку», «сыграть в очко», «щупать очко» и т. д.
С анусом как фигурой иконического и лексического
умолчания мы сталкиваемся между тем именно в уголовных
татуировках, формально-иконическим содержанием которых являются
сцены анального взаимодействия (ил. 473). Зад-целое иконически
замещает здесь отсутствующий и находящийся за пределами
«картинки» анус, в то время как в вербальном «манифесте» при-
416
сутствует также только «жопа» (нелишне подчеркнуть, что как в
естественном языке, так и в пластическом последняя наделяется
такой же степенью символической отвлеченности по отношению
к анусу, что и «более абстрактный фаллос» по отношению к
анатомически конкретному в своей повседневности пенису.
Перефразируя Д. Ранкура-Лаферьера, можно, не ошибившись, сказать,
что, чем больше вероятность использования полноценных в
своей предметно-целостной отнесенности словесных обозначений
«жопа» или «зад», тем дальше мы от рассмотрения реального
ануса, а точнее, тем более абстрактными оказываются свойства
ануса и замаскированным он сам. Что особенно хорошо
демонстрируется зональными «гомосексуальными» татуировками, в
которых иконически и вербально вытесненным оказывается уже сам
зад, замещаемый более нейтральными элементами,
принадлежащими к тому же очень узкой конвенции, то есть элементами,
связанными с задом исключительно, так сказать, по умолчанию.
Парадоксально или нет, но в некоторых случаях такая татуировка
становится скупой в своей (анальной или/и оральной)
однозначности и вербально-иконически лаконичной эмблемой — ниже я
рассмотрю этот вопрос подробнее9.
Такая «стыдливость», избегающая прямых иконических
«цитат» ануса, не в последнюю очередь связана с тем, что
воровская татуировка принципиально антиэротична, если не
сказать несексуальна, как она примерно понимается скорее всего
самими носителями, и, таким образом, часто довольно
равнодушна к анатомическим подробностям (в отличие от
порнографии, первоочередной интерес которой к такого рода икониче-
ским деталям в теории позволяет ей состояться как чистому
жанру). А точнее, сексуальность в ней, как правило,
поглощена или вытеснена агрессивно-доминантными
социально-политическими требованиями-смыслами. С другой стороны, в
тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях СССР—России в
условиях раздельного содержания мужчин и женщин однополые
анально-оральные взаимодействия, помимо их сексуального
измерения, как правило, также связаны с насилием, агрессией,
доминированием и социальным утверждением. В
сложившейся иерархической системе отношений заключенных после
«воров», «мужиков», «чушек» идут только «петухи» — каста
неприкасаемых. Если повышения в социальном статусе, хотя и
редко, но случаются в каждой из двух предыдущих «мастей», то
для «петухов», «дырявых», «опущенных» такое продвижение в
тюремной карьере оказывается абсолютно невозможным ни в
одном из направлений. Их «услугами», разумеется по необхо-
27 Зака*Х» К-753 1 417
димости, пользуются, но социальное измерение такого статуса
исходит из патриархатного представления о женской роли,
которую в этом случае исполняет:
«акробат», «армянская королева», «бархотка», «батон»,
«гомик», «дама», «додик», «жена», «жося», «зойка»,
«козёл», «копчик», «красная косынка», «курочка», «манька»,
«мария Ивановна», «машка», «незабудка», «округлённый»,
«педикатор», «педрило», «петух», «пидор», «подруга»,
«пульвер с дыркой», «санта-лючия», «универсал»,
«феномен», «чушок», «чушкарь», «шурик», «шурин» и т. д.
(широкое проникновение тюремных арготизмов и
жаргонизмов в общеязыковую практику часто приводит к
некоторым семантическим смещениям, иногда с сохранением
тюремно-жаргонного значения в качестве одного из
возможных, а иногда и нет: так, в молодежном жаргоне,
например, «додик» — всего лишь «доходяга», «физически
слабый человек», «худой низкорослый человечек». «В
этой связи характерно, что тюремно-лагерно-блатные
выражения, которые проникли в оскорбительную лексику,
в основном обозначают пассивных гомосексуалистов»10).
Отношение к активной роли в такого рода контактах
много терпимее, что демонстрируется, в частности, отсутствием
имен женского рода в синонимическом ряду ниже:
актив (в местах заключения в этом значении, надо
полагать, употребляется редко, поскольку основное тюремно-
жаргонное значение этого слова — «осужденные —
помощники администрации»), бульза, глиномес, говномес,
джигит, дятел, жокей, жопоёб, жопник, жопочник,
кочегар, марксист, пернатый, пидарас, пидор, половой
демократ, порчик, пчеловод, топтун, трубочист, чудильник...
«Пассивная роль в гомосексуальном сношении неминуемо
отождествляется с женской ролью, а женщина в сознании
примитивного человека занимает подчиненное положение, в
сознании уголовника — особенно: она связана с домом, с хозяйством,
со всем тем, что воровская и бандитская романтика полностью
отвергает как нечто недостойное истинного мужчины. Поэтому
пассивная роль в гомосексуальном сношении считается
унизительной»11. Разумеется, подобные тендерные стереотипы
приводят к тому, что любое использование ануса в мужской тюремно-
418
лагерной татуировке сопряжено с его социально-анатомической
ущербностью и интенционально ограничено преимущественно
внесексуальными сигнификационными целями (в отличие от
интенций женских тюремно-лагерных татуировок проституток,
определяющих совершенно иной способ иконического
использования ануса).
Более того: в лагерной татуировке прежде всего оказывается
закодированным в равной мере как социальный статус
носителя, так и личный идентификационный код-допуск (не
примечательно ли, что в последнее время одной из самых модных
тенденций в российской светской татуировке стало нанесение на
тело изображения штрихкода? — которое для России
типологически оправданно было бы рассматривать в зависимости от
принятого в петровской армии обычая наносить на руки
солдатам татуировки в виде цифрового кода, видимо, упрощавшим
процедуру опознания погибших12). Не говоря уже о том, что
криминальная татуировка, как в высшей степени
упорядоченный язык, является одним из тех социально-психологических
инструментов, с помощью которого, скажем подростком13,
конструируется, а вполне вероятно, взрослым корректируется и
реконструируется «идеальный образ тела, заключающийся в
установках по отношению к телу, в свою очередь, связанных с
ощущениями, восприятиями, сравнениями и идентификациями
собственного тела с телами других людей»14, следует добавить:
вынужденно или нет ггринадлежащих к референтной для
носителя татуировки группе, причем в этом общем случае даже не
важно, является ли эта референтная группа позитивной или
негативной. Важным же представляется как раз то, что
референтная (семантическая) память, содержащая тату-семантиче-
ский репертуар, надежно гарантируется такой референтной
группой, а сама татуировка выступает более чем надежной
ячейкой хранения закодированных значений референтной
памяти (добровольное или тем более насильственное удаление
татуировок — довольно редкая практика — ровно в той мере, в
какой благоразумное воздержание от нанесения на тело не
«положенных по рангу» блеф-татуировок является практикой
обычной в воровском мире).
Но чаще всего тату, — как пишет А. Плуцер-Сарно, — это речь (курсив
мой. — Д.С.) всего воровского мира, средство общественно-политической
коммуникации, своего рода воровское СМИ. <...> Татуировки
становятся знаками социальной самоидентификации, общественной рефлексии,
коллективной памяти. Они формируют стереотипы массового поведения,
задают ритуальные правила упорядочивания воровского мира». Трудно
27*
419
не согласиться и с тем, что «воровские татуировки, часто
рассматриваемые в качестве эротических, любовных или даже порнографических,
в действительности имеют косвенное отношение к эротике. К примеру,
сцены совокупления татуируются на теле вора, не отдавшего карточный
долг. Подобное тату является наказанием и лишает данное лицо
всякого статуса в воровском мире. Это «разжалование», «уничтожение»,
«социальная казнь, а не эротика». Кроме того, «такие татуировки,
несомненно, связаны с ритуальными текстами и не являются простыми
«указаниями на объект любви»15.
Но косвенное отношение к эротике, точнее, к сексуальной
сфере, как можно догадаться, не означает отсутствия такого
отношения вообще, а «указания на объект любви» могут быть не
то чтобы совсем простыми. Однако следует помнить, что, в
сущности, «наслаждение телом Другого не есть знак любви», как
пишет Жак Лакан в начале XX семинара16, разделяя любовь и
наслаждение. Впрочем, наиболее спорным в упомянутой выше
статье А. Плуцера-Сарно выглядит совсем иное утверждение:
«воровской мир <...> пытается включить в себя, подчинить себе
всё социальное пространство». То, что он пытается подчинить
себе «всё социальное пространство», это, разумеется, не
вызывает сомнений. Но «включить» ли? И если да, то любая ли
воровская татуировка есть тому непротиворечивое и однозначное
свидетельство? Может ли это включение в конце концов
рассматриваться самим носителем татуировки в качестве (конечной)
цели? Вот такими «отношениями», «указаниями» и «вопросами»
я как раз и займусь ниже, ибо в той мере, в какой татуировка
является здесь манифестом, она является и симптомом.
Важно также отметить, что в том случае, когда татуировку
составляют два элемента — иконический и вербальный, ее
правильнее было бы относить, разумеется, не столько к символам,
как это делают некоторые исследователи, сколько к
символическим манифестам, по крайней мере, если не эмблемам,
поскольку, в отличие от символа, стремящегося к расширению
сферы своих значений, такой тату-манифест всегда стремится
к устойчивой однозначности (в крайнем случае извлекаемой из
иронической фигуры двойного смысла), что и эксплицируется
непосредственно в его вербальной составляющей.
Также, вероятно, следует прагматически разделять два типа
анально-интерактивных татуировок-манифестов. Ведь во многих
случаях анальное взаимодействие «разыгрывается»
отрицательными для носителя татуировки персонажами, да и отношения
между носителем татуировки и формальным иконическим
содержанием последней много сложнее, чем отношения,
вписывающиеся в процесс аутоидентификации носителя с активным икониче-
420
ским персонажем. Иконическое содержание татуировки тогда
оказывается скорее совокупным телесным обсессивно-компуль-
сивным признакам-симптомам носителя, нежели однозначно
свидетельствующим знакам-симптомам, то есть знакам-совпадением,
удаленным от манифестируемого садо-анально-орального,
агрессивного либидо носителя на минимальное психическое
расстояние, как в случае с татуировками, в которых условно присутствует
сам носитель. С другой стороны, когда мы имеем дело с
признаком в качестве знака-симптома, то, как представляется, нет
никаких препятствий для исследовательского рассмотрения самой
ситуации добровольного и намеренного нанесения на тело такой
татуировки, что позволяет в свою очередь говорить о ее
психической принадлежности телу носителя в качестве неотъемлемой его,
тела, части. К тому же в этом случае при анализе всегда
сохраняется опция, согласно принципу соответствия, идти от
вербального манифеста (с которым, естественно, никаких проблем ауто-
идентификации не возникает) к иконическому, а не наоборот.
И несколько слов о самом симптоме. Мое понимание
последнего в данной работе близко к тому, как его понимают
3. Фрейд и читающий Фрейда Ж. Лакан, прочитанные в свою
очередь Ж.-А. Миллером:17
• симптом является не только средством наслаждения, но и
связующим звеном между наслаждением и защитой;
• «означающий материал симптома заимствуется либо у
мысли, либо у тела, на одной из частей которого вытесненное
означающее паразитирует», и «симптом не является
нормальным, обычным смыслом. Будучи соединен с фантаз-
мом, он не является последствием привычного Sinn»;
• «верность формальной оболочке символа» приводит «к
тому пределу, где она оборачивается эффектами
творчества» (Ж. Лакан «О наших предшественниках»); «само
выражение «формальная оболочка симптома» отсылает нас к
Sinn симптома, указывает на тот означающий механизм,
исходя из которого определенные смысловые эффекты и
возникают — механизм, который в некоторых отношениях и в
симптоме, и в произведении искусства является одним и тем
же, с той лишь разницей, что во втором случае имеет
место инверсия или, как говорит Лакан, «оборот». Выглядит это
вот так.
Достигается некий предел, начиная с которого происходит
возвращение. <...> Инверсия осуществляется по мере того, как
творец берет под свою собственную ответственность
проявляющееся в симптоме желание высказаться, которое остается
421
бессознательным, берет его под ответственность, скажем так,
своего облеченного решимостью желания, своей воли. С этой
точки зрения создание произведения предстает чем-то вроде
творения искусственного символа»;
• в симптоме мы сталкиваемся с деформацией и адаптацией
либидо, «обходные пути эти являются не чем иным, как
метафорами и метонимиями либидо»;
• садо-анальная татуировка как симптом представляет собой
для самого ее носителя специфический вид наслаждения —
«счастье в страдании», где «феноменологии страдания»
сопутствует «либидинальное удовлетворение»;
• «в извращении симптом приобретает характер спектакля,
где искусственный элемент становится частью самого
приема» (Ж. Лакан в версии Ж.-А. Миллера);16
• ну и, конечно, стоит помнить о том, что, когда в иконической
сцене анального садизма условно присутствует сам носитель
татуировки, мы имеем дело с навязчивым повторением
собственного симптома в своем же симптоме, то есть с разными
степенями символизации одного и того же симптома.
Ниже я рассмотрю два типа лагерных татуировок, так или
иначе связанных с анальным взаимодействием: мужские
татуировки, представляющие собой манифесты симптомов, и
стратификационно-информационные эмблемы «гомосексуалистов».
Итак, принимая во внимание вышесказанное, анально-интер-
активная татуировка-манифест, содержащая в качестве икони-
ческого элемента соответствующую сцену, внешне оказывается
«эротически» довольно аморфной, а символическое значение
ануса — далеко простирающимся за пределы специфической
сексуальной практики. Разумеется, в качестве зоосемиотической
параллели здесь уместно вспомнить о стереотипных формах
поведения самцов и самок симиидов, у которых демонстрация
задов, адресованная самцам, занимающим в социальной
иерархии данной группы более высокое положение, означает отказ от
поединка и подчинение или готовность к нему. В то время как
доминантная (псевдо)копуляция с представителями своего же
вида, являющаяся «ритуальной агрессией», — к слову сказать,
часто равнодушной к различению субдоминантного пола, —
«окончательно» закрепляет за каждым участником такого
взаимодействия его место в социальной структуре группы
(подробнее см. в наст. изд. статью Д. Ранкура-Лаферьера «К
постановке проблемы семиотики пениса»). Символическое соответствие
такой доминантной псевдокопуляции мы находим в своеобыч-
422
ном тюремно-лагерном ритуале, известном как «парафин» («опа-
рафинить», т. е. осквернить), — одной из тех «блатных санкций»,
которые применяются по отношению к нарушившим тюремный
закон (за исключением воров в законе, для которых действует
свой воровской закон, не предполагающий данного наказания): по
губам подвергающегося такому наказанию проводят пенисом,
символически приравнивающим копуляцию к ее имитации и
означающим немедленное понижение провинившегося в
социальном статусе. Подобным же образом символический сабститут
пениса в его взаимодействии с анусом выступает в зональной
татуировке как инструмент символической демаскулинизации,
и зад превращается в то место, где мужское и женское в конце
концов оказываются на равных (правда, в условиях
подавляющего «фаллогоцентризма», которьш в таком случае неизбежно
приходится брать в скобки). Проблема, собственно говоря, в том и
заключается, что, несмотря на отождествление носителями
подобных татуировок пассивности в анальном взаимодействии с
женской ролью, в такой анально-социальной позиции уже не
существует очевидным образом ни женского, ни мужского. Речь,
разумеется, не об эксплицитной маркировке пола, но об
имплицитной тендерной, которая в целом тяготеет к дискурсивно не
оформленной позиции, когда дефеминизированное женское (в
традиционно-патриархальном смысле обладающее хоть и
призрачной, но автономией, а в традиционных политических, не
подвергшихся кинической инверсии смыслах часто выступающее
как образ силы и т. п.) и демаскулизированное мужское, в их
таким образом рассеянных социальном и биологическом
измерениях, теряют различия. Что исключает в качестве описания,
кстати, и подавленный «"генитальный" объект» с другой
стороны, а не только возможность назвать такую позицию женской.
Особенно хорошо это видно на примере символических Азии и
Советской России (ил. 474, 154), где имеет заметное значение
сквозной характер анально-орального проникновенного
взаимодействия — таким образом и там, и там орально-анально-фалли-
ческая триада иконизируется в максимально полном объеме.
Мотив сквозного анально-орального взаимодействия,
впрочем, не ограничивается самой общей социально-политической
риторикой, как в татуировке (154). Спустя какое-то время (год
нанесения — 1997) он со стенографической точностью
воспроизведения общей композиции (154) устойчиво повторяется в
татуировке (160) (см. ниже), представляющей собой
ультимативный случай конкретной патриархатной, я бы даже сказал
патриархальной, критики. Однако происходит ряд важных
423
Ил. 4 74. Порнографическая, художественная татуировка.
Скопирована в тюрьме г. Улан-Удэ, Бурят-Монгольская АССР, 1952 г.
Ил. 154. Молодежная, антисоветская татуировка, «оскал» на власть.
Конец 80-х годов XX в. Межобластная больница МВД, Л-д. Живот.
Редкая. Означает: «За что боролись, на то и напоролись»; «Л.Д.
Троцкий и Россия». По словам носителя, у администрации лагеря, где он
отбывал наказание, не раз возникало желание срезать эту
татуировку. (Прекрасная иллюстрация того, за какие символические
ценности в обществе идет борьба и какие ценности считаются на зоне
в этом обществе утерянными. — Д. С.)
изменений, и детализация анально-орального взаимодействия
приобретает определенно принудительно-навязчивый характер
(Zwangscharakter), превращая производную татуировку в
«навязчивое повторение»18. Здесь мы сталкиваемся с довольно
сложно организованным синтетическим тропом — небезынтересным
преобразованием смысла и формального вербально-иконичес-
кого содержания композиции исходной татуировки, взятой в
качестве семантической модели. Причем сама возможность
такого биографического (см. ниже комментарий составителя
коллекции Д.С. Балдаева к ил. 160) переосмысления
татуировки и редукции исходного антисоветского политического
манифеста к постсоветскому персональному, в свою очередь
обобщаемому до масштабов социального, замечательным образом
демонстрирует не только довольно высокую вариативность
«социального использования ануса» в качестве вневременного
424
символического объекта агрессии в зональной татуировке, но
и его примечательно легкую грамматическую
конвертируемость в смежные по смыслу «бытовые», биографические
татуировки, в которых на правах одного из иконических персонажей
условно присутствует уже сам носитель татуировки (как
правило, отмечу еще раз, такая аутоидентификация носителя аналь-
но-садистской татуировки ограничивается, очевидно, все-таки
исключительно вербальным манифестом, а иконические сцены
анального взаимодействия для носителя татуировки
«разыгрываются» персонажами, олицетворяющими отрицательные
ценности). Итак, мы имеем:
• семантическую стабильность («стабильность употребления»)
анального знака в рамках устойчивой конвенции,
рассматривающей анус как объект пенальной агрессии;
• в рамках бинарно кодированной системы аллегорий
семантическую и аксиологическую инверсию, сопряженную с
замещением образа еврея Троцкого «собственным» образом греко-
римского богатыря («гладиатора») с минимальными
потерями в части фаллических предметов вооружения, что в целом
приводит к взаимопроникновению смыслов, а в частности —
к преобладанию в последнем случае сакральных значений;
• параллелизм вербальных восклицательных манифестов:
убийственно-иронический и профанирующий политический
манифест «Слава КПСС!» замещается буквальным «Смерть
блядям!», сообщающим производной татуировке немалый
социальный пафос. А поскольку скрытое пожелание «смерти
политическим проституткам» или/и «смерти блядям» является
«смыслом-замыслом», кореллирующим
«объективно-наличному» в ироническом манифесте «Слава КПСС!», то
получается, что вторая татуировка вербализирует и манифестирует, то
есть делает явным (как следует из латинского «manifestus»),
скрытый смысл манифеста первой. Было бы, впрочем,
странно, если бы такой лексико-семантический поворот в
антисоветской лагерной татуировке не подразумевался, ведь на
тюремном жаргоне «блядь» не только одно из самых
серьезных оскорблений, адресованных мужчине, но и общее имя
для милиционера, осведомителя/осведомительницы и прочих
субъектов, непосредственно связанных с властями. Более
того, часто татуировки, представляющие собой, как и
исходная татуировка, «оскал» на закон и правоохранительные
органы, но в отличие от нее «накалываемые», как правило, на
грудь, как раз и содержат призыв «Смерть блядям!» в
качестве сопутствующей надписи19. Поскольку «блатные санкции»
425
как часть устной тюремной-воровской правовой традиции
подразумевают в крайних случаях высшую меру наказания
для скрытого агента правоохранительных органов из числа
«своих», очевидно, что вторая татуировка символически
приравнивает любовную измену к такому грубому
правонарушению, как агентурное сотрудничество с властями. Так, в
результате обратного ассоциативного переноса слову «блядь»
возвращается минимальный («публичная, распутная
женщина») референциально-семантический объем. И не то чтобы
оно лишается метафорического измерения, но, лучше
сказать, становится виртуальной (a vice versa — потенциальной)
метафорой присугствия/отсутствия смыслов двух татуировок,
принимая во внимание иронию исходной татуировки; в
автономном же режиме сторонних восприятия, толкования,
интерпретации второй татуировки происходит, разумеется,
уменьшение концептуального объема имени «блядь»;
• элиминацию «лишних» политических коннотаций,
прецедентно связанных с расширительным толкованием
женского образа в исходной татуировке, посредством удаления с
тела жертвы фаллической агрессии вытатуированной на
нем советской символики;
• восклицательные знаки вербальных манифестов,
зарифмованные с вьшолняющими ту же функцию в иконических
манифестах орудиями анально-оральной пенетрации;
преобразование плохо идентифицируемой палки с заостренным
концом в козырный (то есть обладающий с тюремно-лагер-
но-жаргонной точки зрения «эстетической
привлекательностью» и в то же самое время несущий «смерть»)
фаллический солярный символ, атрибут воина и охотника — копье с
железным наконечником, предмет, неизменно
сопутствующий Минерве (педагогическое воздействие и справедливые
войны) и Добродетелям — Храбрости и Постоянству; таким
образом, на фоне понижения референциального статуса
«бляди» в вербальном манифесте до сексуально-бытового
мы имеем расширение значения орудия анального
взаимодействия, в руках взаимодействующего начинающего соозна-
чать «возмездие», «священную месть» и т. п. и
утрачивающего эмотическую амбивалентность для носителя татуировки
как «бесконечное движение между негативным и
позитивным», — так писала Майя Дерен в комментариях к своему
фильму «Meditation on violence»20, посвященному китайской
школе «боксирования» Wu-Tang, замирает в предельной
точке позитивного;
426
• аксиологический сдвиг композиции в правую сторону,
исторически принадлежащую во многих культурных традициях
мужчине, воину, а в новозаветной — праведникам и т. п.;
• гигиеническое утяжеление воина перчатками с крагами, —
очевидно, «нереализованное и неприемлемое» анальное
либидо носителя, подобно тому как отчасти неприемлем и
отторгаем объект деструктивной агрессии;
• появление в производной татуировке крови, которую здесь
логично рассматривать в паре с фекалиями, принимая во
внимание «теорию клоаки»: если «столб кала», выделенный
ребенком при дефекации, служит для него прообразом акта
рождения и одновременно предшественником пениса, то
очевидно, что прообразом акта смерти будет «столб кала»,
вернувшийся назад и проделавший путь к исходному
естественному отверстию; к тому же фекалии-кровь здесь, вероятно,
и есть то, от чего стремится избавиться герой, принимая во
внимание опять же, по всей видимости, нереализованное и
неприемлемое анальное либидо;
• интенсифицированную фетишизацию и демонизацию
орудия мести, приобретающего таким образом для героя и
соответственно носителя большую отчужденность и
противопоставляемого им, как и прежде, в качестве абсолютно
самостоятельного объекта; ср.: «Особенно ясно отличие копья от
других предметов вооружения, как именно символа
выдающейся воинской доблести и благородства их обладателя,
видно в отношении копья Ахилла — главного героя
"Илиады" и безусловного лидера во всем, что относится к ратному
искусству. <...> Копье Ахилла выглядит как вполне
самостоятельный персонаж. Оно даже имеет собственную историю.
Более того, Н. Гнедич, возможно проникшись значимостью
этого образа, трижды в своем переводе удостаивает его
имени собственного:
Ты уж и прежде, я помню, бежал пред моим Пелиасом. (П. XX. 187; см.
также: П. XX. 89-91; XXI. 60-61)»21;
• иконическую гипермеморизацию инстинктно- или фрустра-
ционно-агрессивной деятельности носителя татуировки, в
реальной жизни ограничившегося всего лишь нанесением
«тяжкого телесного повреждения на почве ревности»; то
есть имеет место «повторение и переигрывание»
предыдущего травматического опыта;
• классовое братство и родовую («Смерть блядям!»)
ответственность за совершение измены — в духе как бы рыцарского ро-
427
мана, где «рыцари — это особые люди, живущие в особой
реальности»22, а месть вменена им в «нравственную обязанность»;
• жатвенное заклание орально-анальной жертвы,
свидетельствующее, очень может быть, о предшествовавшей ей
хронической невротической депрессии в качестве фактора
формирования деструктивных агрессии и жестокости (Э. Фромм);
инфантильное представление носителя о собственном
пенисе как о садистском орудии (М. Кляйн); регрессию к орально-
анальному агрессивному, садистскому либидо и отказ от
«зрелой генитальности»; символическую реализацию
деструктивных импульсов, которые наследуют неслучившемуся или
неудачному вытеснению (тюремный срок все-таки!) реальной
истории (вытеснения можно было бы ожидать, будь носитель,
скажем, только невротиком), компульсивному стремлению
повторить пройденное и устранить назойливую кастрацион-
ную тревогу, а также чрезмерной ненависти, желанию
вернуть «утраченный» в результате кастрирующих стрессов
пенис, что, собственно говоря, и диктует стремление к мести (в
связи с последним, конечно, нельзя не вспомнить обычай
добровольной кастрации, практиковавшийся, в частности, в секте
скопцов в России, члены которой тем самым пытались
избавиться в том числе и от желания мстить23, а также не
упомянуть «Крейцерову сонату» «женоненавистника» Л.Н.
Толстого, «неистовую» книгу «Связь» «воинствующей феминистки»
Андреа Дворкин и посвященный этой теме доклад Д. Ранку-
ра-Лаферьера, прочитанный им на 15-й Международной
конференции «Психоанализ, литература, искусство» в Санкт-
Петербурге 4 июня 1998 года);24
• более тщательную прорисовку загребающего движения левой
руки и искажение черт лица жертвы: довольно безразличное
и общее лицо исходной татуировки сменяется истерически
выпученными глазами и перекошенным ртом, соответствующим
как нельзя лучше орально-агрессивным импульсам самого
героя-носителя; в целом же, как кажется, можно говорить
о противопоставленности истерии жертвы и обсессивно-ком-
пульсивного расстройства героя-носителя;
• злокачественную, то есть, по определению, связанную с
садистской жестокостью, ощущением собственного величия и
сверхподозрительностью, анально-нарциссическую «копию»
носителя татуировки, предстающего в образе несущего
возмездие воина (часто «гладиатор», один из самых
распространенных иконических элементов криминальной
татуировки, наносится на плечо или грудь в паре со львом и сопро-
428
вождается надписью «Vae victis!» — «Горе побежденным!»;
само слово «гладиатор» в тюремно-лагерно-блатном
жаргоне употребляется в значении «специализирующийся на
убийствах» (в группировке), синонимы: «атлет», «боец»,,
«бык», «танкист»);
• фекализацию объекта агрессии — как хорошо известно из
народного анального юмора, психологически крайне
эффективный способ обороны, наступления и манифестации. И
так далее...
Возникает не то чтобы праздный вопрос: а что же,
собственно говоря, в эту производную татуировку было привнесено
фантазией самого носителя (точнее, привнесено выполнявшим
татуировку мастером по соглашению с носителем) ? И какова
тогда мера изменений, продиктованных, с другой стороны,
осознанным выбором из имеющегося в распоряжении
носителя традиционного тюремно-лагерного набора тату-символов и
их социосубкультурно фиксированных значений? При
обращении к соответствующей иконотеке выясняется, что
практически все структурно-содержательные изменения заданы «словар-
но». И «гладиатор» с «копьем», и «женщина в сцене насилия»,
и «меч/щит/кинжал» (да и сама подпись «Смерть блядям!») —
излюбленные элементы в криминальной татуировке, имеющие
к тому же совершенно определенные, жестко фиксированные
«словарные» значения для участников сообщества. В известном
смысле необычны и новы здесь, пожалуй, только их со-местное
использование в татуировке «женоненавистника», предельная
буквальность в соответствии замысла исполнению и обращение
к композиции татуировки (ил. 154) в качестве семантической
модели (чаще в татуировках заключенных, потерявших
свободу «по вине женщины», фигурируют всё же «топор», «скелет»,
«отрубленные головы», «жид» и «русские продажные шкуры»,
иногда — «кресты» и «купола» или «советский флаг с
венчающим древко изображением пениса», а женщины в этих
татуировках или эмоционально нейтральны, или улыбчивы и,
скажем, соблазнительны, или слегка грустны, но истеричны
довольно редко), а также примечательная сверхаккуратность в
прорисовке мастером женских черт лица и загребающего
движения левой руки.
Некоторая одновременная противоречивость (по оси невроз-
перверзия) этого по необходимости общего
психоаналитического комментария, возможна, конечно, только в статическом
изображении, как месте на теле, где время сгущается в одну
точку и «становится художественно-зримым». Разумеется, в
429
реальной клинической картине часть комментариев к случаю
была бы невозможна в одно и то же время, то есть была бы
во времени развернута. Однако такой комментарий в конце
перечня возможных оснований для интерпретации позволяет
тем не менее прийти к замечаниям менее общим: смежность
смыслов татуировок, позволяющая такие композиционные
заимствования при таких семантических сдвигах и инверсиях,
сама становится возможной только благодаря тому, что и там,
и там мы имеем дело с транзитивным и трансгрессирующим
желанием носителя не только восстановить подвергшуюся
сексуально-бытовой травме маскулинность, но и
освободиться от травмирующей власти Отца, Большого Брата и т. п. —
с тем чтобы в конце концов утвердить свой пенис как
единственно реальный из возможных, что и является здесь
конечным смыслом регресии к садистскому орально-анальному
либидо, поскольку в качестве конечной преследуется цель
кастрации отцовского мира. Другими словами, таким образом
«извращенный человек ищет освобождения от отцовского
мира и Закона», как пишет об этом Ж. Шассеге-Смиржель25.
Но такого освобождения, которое могло бы привести к
кастрации и фекализации, хаотической анализации
репрессивного мира, причиняющего дополнительные кастрационные
тревогу или страх26. То есть к символической паре, представленной,
в частности, в татуировке 160, в качестве третьего должно
быть добавлено, разумеется, означающее Имя-Отца, которое,
собственно, и задает здесь саму возможность семантических
и аксиологических инверсий-смещений (ср.: текст татуировки-
изречения, наносимой на ноги: «Иду туда, где нет закона» или
шекспировское —
И всё свелось бы только к грубой силе,
А сила — к прихоти, а прихоть — к волчьей
Звериной алчности, что пожирает
В союзе с силой всё, что есть вокруг,
И пожирает самое себя27).
Примечательно, что идеализированная Мать, образ которой
довольно часто сопровождает комплекс женоненавистнических
переживаний, в анонимной тюремной лирике занимает одно из
самых почетных поэтических мест, что диктуется в том числе
и воровским законом, предписьтающим в первую очередь
почитание именно матери. Чаще всего она или уже мертва, или
близка к смерти — «старушка-мать», с которой лирический
герой, тоскуя, желает встречи и воссоединения:
430
Здравствуй, старая добрая мать.
Обнимаю и крепко целую.
Может быть, опоздал целовать,
Не застану тебя я живую?
(«Присудили мне целый червонец»)
С другой стороны, материнство как счастливое «обладание
этим» часто противопоставляется в тюремной лирике
поведению женщины, не только «этим» не обладающей, но и
терпящей неудачу в попытке скрыть или компенсировать
предначертанную ей конститутивную недостаточность:
Тебе не знать святого материнства
И плоть свою в счастливый миг не пеленать,
Тебе не скрыть разврата своего и свинства,
Тебе по новой поздно начинать.
(«Проститутка»)
Предпочтительнее мать всё же уже мертвая, поскольку в
таком случае, очевидно, отсутствуют опасность разрушить или
повредить объект любви и связанная с этой опасностью
тревога. И желательно мать, оставшаяся одной — иначе это бы
означало, что она принадлежит одновременно и отцу. Собственно
говоря, нормативное для тюремной лирики отсутствие отца
задаёт тот тип «реальности», где идеальная мать и сын
стремятся к единству, лишенному различий. То есть реальность
существования отца всегда, как минимум, под вопросом. Иная,
основанная на поэтико- органическом отсутствии отца версия
неизбежно предполагала бы, что матери советских-российских
заключенных действительно всегда старятся и умирают
раньше отцов — и отсюда их «естественное» преобладание в
поэтическом мире заключенных. Иногда создается впечатление,
что реальный отец вытесняется из этого мира попросту
потому, что представляет собой «фрустирующий и
преследующий», «плохой объект», который ради безопасности
идеализированного «должен удерживаться на значительном
расстоянии» от него (да и ради безопасности лирического героя тоже,
если внутренний идеализированный объект и есть то
защитное, к чему в страхе преследования стремится фрустирован-
ный другими внутренними и внешними объектами наш
герой)28. Если отец изредка и упоминается, то всегда вскользь,
«ненароком» (изредка он встречается и в идеализирующем
«воспоминании» старушки-матери, из которого ясно, что речь
идет о покойном отце — например, в различных версиях
«Письма к сыну»):
431
Мне б хоть во сне старушку-мать спросить:
«Скажи мне, мама, как мне дальше жить?»
Спросить отца? Ему не до меня,
А мамы нет. Осталась — мать-земля.
(«Мне б хоть во сне...»)
В сущности, почти вся «материнская» тюремная лирика
могла бы быть описана как результат деятельности по
дезактивации-идеализации где-то-присутствующей матери — при
тотальном актуальном отсутствии отца, с
присвоением-перекодировкой ее (т. е. означенной деятельности) активности в
собственную (всякого конкретного субъекта) — и с последующей
орально-поэтической интроекцией, т. е. интернализацией,
мертвой матери в качестве однозначно «хорошего объекта», теперь,
как понятно, уже надёжно защищенного от сыновней деструк-
тивности и возможной в противном случае деидеализации. И
если «старая женщина» и значит здесь «упадничество,
финальную точку, остановку, регресс и умирание» (А. Менегетти), то
«вампирический захват»2^ осуществляется всё же не столько
ею, сколько добровольно самим героем. Так «оральное
всемогущество»30 (распространяющееся в том числе на возможность
поэтического вытеснения отца) и активность лирического героя
чаще всего оказываются самым что ни на есть непосредственным
образом связаны с пассивностью интернализованного идеально
мертвого материнского объекта:
Так много я прошел дорог,
Невзгоды все перетерпел,
Вернулся, мама, я домой,
Но где? Где ты теперь?
(«О мама, о мама, где же ты?
Ну, где же ты?»)
Или:
Всё искал я по белому свету
Бескорыстной высокой любви,
А любила меня только эта,
Над которой лишь холмик земли.
(«Памяти матерей»)
Временами воссоединение активного героя («Он время
проводил в притонах и разврате / И позабыл свою старушку-мать»)
с пассивной и далее по сюжету усопшей матерью происходит
непосредственно в пределах поэтического отрывка:
Больная мать на локте приподнялась,
Глаза опухшие на сына подняла:
432
«О, здравствуй, сын! Пришел проведать маму,
Вдвоем останемся, не мучай ты меня!»
Сын уходит, но ненадолго:
А поутру из темного подвала
Старушку-мать на кладбище несли,
А ее сына с шайкою бандитов
За преступление к расстрелу повели.
(Из песни «Огни притона
заманчиво мигали...»)
Нужно обладать, конечно, незаурядным воображением,
чтобы тюремной лирике приписывать то, чем она не обладает
в первую очередь: спонтанность и естественность — во всяком
случае, так ее содержание традиционно фиксируется массовой
мифологией зоны (мифо-представление о России как Большой
Зоне, миф о Русской Тюрьме и т. п.). Как представляется,
обычно мы сталкиваемся как раз с совершенно обратным: с крайне
затрудненным восприятием реальности, учитывая его некро-
специфику, расщепленное гиперидеализацией матери
состояние эго лирического героя и проекцию вовне его несколько
мертвого эго-идеала:
Я всё на свете позабыл
И ничего не помню,
Не помню, где я раньше был
И что зовётся домом, —
разумеется, мать в этой исключительно материнской аналь-
но-оральной вселенной не-различения — одновременно и гарант,
и конечная цель припоминания, особого внимания здесь
заслуживают также «дыры» свободы, о которых речь идет ниже:
Осталось года полтора
До окончанья срока,
И отомкнётся в мир дыра,
Я выйду на свободу.
И как в далеком детстве вновь
Ко мне вернется память.
Я вспомню старый дом, любовь,
Тебя и маму, маму...
(«Я знаю зону»)
Среди частичных материнских объектов можно особо
выделить глаза, руки и слезы как наиболее часто встречающиеся, реже
упоминаются щеки и голова. Как правило,
«сокровище-посредник», метонимическое означающее, варьируется в пределах сле-
28 Зака*№К-7531
433
дующего прейскуранта: «красота их милых рук», «горечь
материнских слез» («Новогодний тост») и «при раскатах грома мне снятся
материнские глаза» («Признание») (ср. многажды описываемые
«куски мертвой поглощенной матери» в детских фантазиях).
Впрочем, в прошлом активная («Ты ничего для сына не
жалела / Лишь я б в достатке и веселье рос») мать изредка бывает и
остается жива — и тогда лирический герой берется искупить свою
вину перед поэтической проекцией вовне «хорошей части себя»,
правда, несколько двусмысленным образом:
И заплачу я полной мерой крови
За праведную мамину слезу.
(«Признание»)31
Так, возвращаясь к производной татуировке (ил. 160), в
результате биографического «утяжеления» фигуры общего
смысла и нехитрых манипуляций с деталями исходной «картинки»
из антисоветской «Славы КПСС!» получаем постсоветские
обсессивные «коварство и любовь», «преступление и
наказание», «смерть блядям» и т. д., которые, помимо всего прочего,
в самой этой преемственности мотиву исходной татуировки
отчетливо демонстрируют логику движения
«коммунистического сознания» в его стремлении «поменять знак внутренних
смыслов на знак внешней власти»32.
Иногда бывает вообще невозможно определить с
уверенностью, какое, собственно говоря, взаимодействие татуировка
иконизирует — анальное или вагинальное. Вербальный
манифест, сопровождающий сцену анальной пенетрации на ил. 387,
мало чем может здесь помочь, поскольку упоминающаяся в
нем «дыра» в равной мере может относиться как к анусу, так
и к вагине, и, как справедиво замечает Д. Ранкур-Лаферьер в
своей статье «К семиотике пениса» относительно
двусмысленности подобной лексики, с точки зрения референции не
является подлинным синонимом ни там, ни там, зато отсылает
недвусмысленным, как и прежде, образом к фрейдовской
«теории клоаки». Дело не только в том, что «влагалище <...> "взято
напрокат" у прямой кишки», а «в сновидениях часто
возникает помещение, которое раньше было единым, а теперь
разделено стеной или наоборот», и «при этом всегда имеется в виду
отношение влагалища к прямой кишке»33 (допустим, что
фрейдовское «всегда» здесь уместно). Такое пристрастие к анально-
садистской сатире, мнимо компенсируя собственную «утрату»,
парадоксальным образом пытается установить собственный
закон буквально на пустом месте, поскольку полагает возмож-
434
Ил. 160. Татуировка «женоненавистника», сделана в 1997 г. в
ИТК-4, <...> судимого по ст. 108 УК РСФСР 1960 г. за нанесение
тяжкого телесного повреждения на почве ревности. Срок лишения
свободы — 8 лет.
Ил. 417. Типичная зоновская татуировка, «оскал на власть». Имеет
название «Всеведающий прокурор». Встречается в различных
вариантах. Была распространена в 70-х годах XX века.
Ил. 17. Памятная татуировка уголовного авторитета, враждебно
настроенного к властям, нарушителя режима содержания,
отказчика от работы, отсидевшего в ШИЗО более ста суток. Был осужден
за кражу госимущества по ст. 89 УК РСФСР. ИТК-9.
28*
435
Ил. 387. Антисоветская, антисемитская порнографическая
татуировка, принадлежащая злостному нарушителю режима
содержания в местах лишения свободы, четырежды судимому за кражи
и хулиганство А. Ивлеву. Сделана в «Вятлаге» в 1972 г.
Скопирована в Межобластной больнице МВД, 1975 г.
ным создание собственного закона за счет внесения хаоса в
существующий. Можно сказать, что поэтому единственно
возможным и однозначно сексуально-маркированным телом здесь
обладает только субъект насилия, подвергающиеся же оному
оказываются лишены такого тела. Очевидно, впрочем, и
другое: эта инфантильная лексико-иконическая двузначность
референции и отсутствие различий женского и мужского вне
связи с фаллосом только упрощают чтение политического
манифеста, имплицитно содержащего анально-фаллические
территориальные притязания самого тату-носителя.
Отчасти эта тендерная и анально-вагинальная
неопределенность принадлежит, разумеется, традиции «патриархальной
практики прочтения фаллоса как символа (маскулинного)
самоопределения, а ануса — как радикального отрицания самоопре-
436
деления. Как отмечает Хокенгем, "только фаллос
распределяет самоопределение; любое социальное использование ануса,
кроме сублимированного, приводит к риску утраты
самоопределения. Если смотреть на нас сзади, все мы — женщины"»34.
Однако это верно ровно наполовину, ибо для приумножающей
хаос (в отношениях мужского и женского) анально-деструктив-
ной агрессии, как я писал выше, нет ни мужчин, ни женщин. То,
что в таких тату-манифестах эротические или
сексуально-анатомические подробности подчинены социально-политическим
смыслам-требованиям — это одно дело. Но сама по себе
невозможность самоопределения в рамках патриархальной логики это
и есть, по сути, некая срединная позиция, в которой тендерные
различия перестают быть значимыми в результате взаимного
вычитания. Если в рамках такой логики женщина, структурируя
свое субстанциональное отсутствие вокруг объекта имитации —
мужчины, в итоге всё-таки получает иллюзию собственного
автономного существования, то эта, «третья», позиция оказывается
тем местом, где подобные иллюзии не только утрачиваются, но
обнаруживаются и проявляются в качестве таковых, т. е.
манифестируются. Или: в этой «третьей» позиции конститутивные
недостаточность и достаточность для тендерных различий,
подвергающихся садо-фаллической атаке, перестают быть.
Именно по этой причине представляется неверным распределение
ролей в такой субдоминантной позиции на мужскую и
женскую. «Фрейд прав: существует только одна сексуальность,
только одно либидо — мужское. Сексуальность есть известная нам
устойчивая и дискриминирующая структура,
сконцентрированная вокруг [тугого имагогического] фаллоса, кастрации, <вы->име-
ни отца, вытеснения. Никакой иной не существует.
Бессмысленно мечтать о какой-то нефаллической, не отмеченной чертой
вытеснения, немаркированной сексуальности. Бессмысленно
пытаться в рамках этой структуры вывести [вечную]
женственность за пределы ограничительной черты и смешать термины
оппозиции: структура либо останется неизменной, поскольку
вся женственность будет поглощена мужественностью, либо
попросту развалится, так что не останется ни женственности, ни
мужественности: нулевая ступень [дискурсивной] структуры»35
(пояснения в квадратных скобках и курсив мои. — Д.С).
Из этого, помимо прочего, следует, что в позиции такой
жертвы (с точки зрения фаллоса) отсутствуют показатели
мужского и женского, которые постепенно становятся самыми
подлинными взаимными подобиями (как они должны
представляться, очевидно, в последнем приближении к объекту и самому
437
садисту, чья «эротизированная ненависть» (Р. Столлер)
направлена на разрушение различий, конституирующих реальность,
ведь «отмена различий предотвращает психические страдания
на всех уровнях — больше не существует чувств
недостаточности, кастрации, потери, отсутствия и смерти» (см. примеч. 24).
Каждое из подобий в этой хаотической смеси, впрочем,
намекает отсутствием различий на собственную укорененность в Реальном
(парадоксально здесь это или нет, но именно таким образом, то
есть не-различием и не-отрицанием, мазохистом достигается
Символическое и Реальное)36. Подобия, как бы подтверждая
этот мнимый статус исправной миграцией от татуировки к
татуировке, на деле представляют собой не более чем
как-бы-структуру, прирастающую к манящим и многообещающим
«отверстиям» или «дырам» Реального, через которые символ пытается
истечь к Реальному, и, таким образом, являются испытанием на
прочность символического порядка. Каждая из этих «дыр» —
уступка непристойному желанию и в то же время
подвергающиеся отрицанию воображаемые и «безобъектное вместилище», и
причина этого желания, которые на теле есть только пустое
травматическое место — бегущий символизации «остаток Реального
в Символическом», то место, которое неизбежно оказывается
зияющим иконическими отсутствием и пустотой. Предоставляя
символу фиктивную возможность побега от «первоначальной
символизации»37 и, следовательно, от дискурса власти, каждая из
«дыр» таким образом обеспечивает то, что можно назвать
ложным пафосом Реального в анально-интерактивной татуировке.
Ложным потому, что символическая активность «дыр» приводит
к совершенно обратному эффекту, а именно — к хтонически
хаотическому умножению числа идеальных подобий, комфортно
паразитирующих и прочно обустраивающихся в Символическом
воровской татуировки, становящихся надежной зашитой от
Реального и его маскировкой. В то же самое время наши подобия, так
сказать, чистой воды — «приобретающие форму» копии фантаз-
мов, посредством которых символ сам стремится экспансивно
истечь к Реальному. Таким образом, они оказываются тем
препятствием, о которое и символ, и Реальное в своем движении
друг к другу спотыкаются. Даже несмотря на то, что в
татуировке-манифесте, как искусственном символе, подчиненном воле
носителя, «вытеснения на какое-то время оказываются
отменены» (3. Фрейд в прочтении Ж.-А. Миллера, см. примеч. 16).
Симптом в качестве искусственного символа не то чтобы
лжет, — в каком-то смысле он — единственно возможная
истина о Реальном и есть, — а просто не говорит правды, а точнее, не
438
договаривает. Таким образом речь идет о страхе, частично
управляющем симптомом (подобно тому как садист из страха
потерять жертву в своей трансгрессивной устремленности к
Реальному не желает никак акцентрировать для себя в жертве ничего,
что могло бы намекать на возможность различий и отрицания —
иначе потеря в жертве была бы найдена слишком рано для того,
чтобы наслаждение могло состояться). Садо-анальная имитация
возможности побега символа к Реальному не договаривает
между тем наиболее существенное, умалчивая, во-первых, о
собственной попытке навязать сам процесс умножения подобий,
маскирующих «дыры» Реального, в качестве деятельности, имеющей
самостоятельный смысл, сохраняющий себя в Реальном и
независимый от симптома, Реальное которого подвергается таким
образом для носителя едва ли осознаваемой им спасительной
негативизации (если симптом это и есть невыносимое Реальное,
согласно Лакану), а во-вторых — подвергая «забвению» еще одно
немаловажное обстоятельство (места): преддверие этих «дыр»,
занятое подобиями, которые тем не менее продолжают
соблазнять Реальным, оказывается конечной точкой одновременно для
двух «радикальных обходных путей, через которые
осуществляется пришествие симптома»:38 кастрации и принимаемого и
вместе с тем отрицаемого болезненного наслаждения, чудесным
образом восполняющего иконический садизм татуировки
логически необходимой здесь диакосмической парой.
Так вся эта довольно замысловатая механика садо-анально-
го побега, обнажая фиксацию и фантазм и принося себе в
жертву тендерные различия, сама оказывается, как и тендерные
различия, в некой двусмысленной позиции, будучи надежно
зафиксированной ложью, с одной стороны, и страхом — с другой (как
полагает Ж.-А. Миллер). Именно последние, т. е. ложь и страх,
и позволяют, по крайней мере в нашем случае, говорить о
тенденции к асексуальному стиранию границ мужского и женского
в результате садо-анальной, коллапсирующей на подходе к
собственно Реальному, трансгрессии самого носителя. Что касается
Реального, подобно копью, проходящему навылет, фантазмати-
ческое я субъекта неизбежно возвращается в Символическое
симптома и Банальное камерной реальности, если и минуя
Реальное, то на скорости, максимальная (психическая) или
минимальная (графическая) предельность которой исключает
возможность коснуться Реального как такового. Тем лучше, ибо такая
встреча, известно, ничего хорошего не сулит. Коснуться
Реального и остаться в себе можно, если угодно, только осторожным
касанием. Любой другой способ взаимодействия представляет-
~439
Ил. 677. Польская татуировка, «полупортачка»-«оскал», полячки по
имени Броня, сосланной из г. Белостока в 1940 г. в один лагерь с
уголовницами. (Текст переведен с польского.) «Тайшетлаг». 1949 г.
Место нанесения: правое бедро.
ся просто невозможным, при условии, конечно, что само это
движение предполагает возврат и возвращение. Не это ли имел
в виду Жан-Люк Нанси, когда писал о том, что «ничто не
проходит насквозь»?39 Что же касается зада, «фундаментальным
Демокритом»40 оказывается не только зад (ср. жаргонное «половой
демократ» для активного гомосексуалиста) как место, где
фаллическое вторжение делает равными всех, но и сама
татуировка, — по крайней мере, в иконической своей части, его
воспроизводящей, и в той мере, в какой демократичен любой бесконечный
автоморфный процесс (паразитического размножения
идеальных подобий) в его дурной однозначности...
В пандан к вышерассмотренному интересен столь же
редкий, сколь и логически легко предсказуемый обратный пример
(ил. 677) — иконической и вербальной «добровольной»
маскулинизации женщины в татуировке:
Со слов носительницы татуировки, Брони (Брониславы), она
рано осиротела и с девяти лет воспитывалась в еврейской семье,
которая содержала два магазина, в которых Броня работала
продавщицей после окончания гимназии и торговых курсов. В
возрасте двадцати лет Бронислава вместе со своими приемными
440
родителями была этапирована на Урал по «спискам НКВД» как
«чуждый буржуазный элемент». В г. Свердловске конвой НКВД
отделил всех молодых полек от их родителей и старших
родственников, после чего Броню вместе с другими привезли в
«Тайшетлаг». Здесь Броня организовала вокруг себя группу из
польских и прибалтийских девушек, которые давали дружный
отпор русским уголовницам, поддерживаемым
администрацией ОЛП. Бронислава была красивой, хорошо сложенной
девушкой, чем-то отдаленно напоминавшей Софи Лорен.
Представляется очевидным, что возникающие здесь
семиотические проблемы примерно те же, что рождаются в связи
с женским бодибилдингом. В обоих случаях мы сталкиваемся
с ситуацией, в которой вслед за Лаканом можно сказать себе:
«Каждый раз, когда имеешь дело с имитацией, следует быть
осторожным и не спешить с мыслями о другом — объекте этой
имитации»41. Речь идет, таким образом, об отношениях
«копии» и (отсутствующего) «оригинала». Однако эту татуировку
я оставляю без комментариев, поскольку тема, заявленная в
ней, несколько превышает тематический круг, очерченный в
названии статьи. Подробное рассмотрение проблемы
несовпадения в регистрах Воображаемого, Символического и Реального
и анализ опасности превращения тела в чистую «риторическую
конструкцию» в случае женского бодибилдинга (как, очевидно,
и в нашем, принимая во внимание комментарий составителя
коллекции) можно найти, например, в недавно опубликованной
статье Яна Ягодзинского42, во всех отношениях достойной
внимания.
И наконец, татуировки «гомосексуалистов». В отличие от
татуировок-манифестов с их анально-иконической
эмоциональностью и индексально-симптоматической откровенностью или
в отличие от использования ануса в качестве
«профессионального» иконического элемента в тюремно-лагерных татуировках
женщин-проституток, в соответствующих татуировках
«гомосексуалистов» (ил. 139 и далее в том же блоке, см. ниже) мы
не найдем примеров иконизации мужского ануса-зада и сцен
орально-анального взаимодействия (в крайнем случае можно
столкнуться с изображением на ягодицах черта-кочегара с
лопатой в руках, обращенной в направлении реального ануса, и
т. п. Естественное отверстие человеческого тела становится
тогда достаточным знаком самого себя и не нуждается в
дополнительной иконизации — так грань между телом и нанесенным
на него иконическим текстом становится едва различимой).
441
Это иконическое умолчание, позволяющее думать о мужском
анусе как о «без-подобном означающем» («le signifiant sans
pair»)43, естественным образом вытекает, в частности, из тех
поведенческих запретов, которые регулируют отношения с
«пидорами» на зоне.
«Пидоры» — каста неприкасаемых. С этими нельзя вместе есть, нельзя
подавать им руку, они спят совершенно отдельно. Отдельно хранится их
посуда, и для опознания миска «пидора» специально помечается
дырочкой («цоканая шлёмка»). <...> Туда же могут быть опущены и прочие зеки
за разные провинности против воровских норм поведения. <...> Есть
специальный обряд «опускания» — нужно подвергнуть человека некоторым
гомосексуальным действиям и торжественной смене одежды. Но
главное — сексуальные действия. Достаточно [невзначай] провести ему
половым членом по [напряженно сжатым] губам или полотенцем, [обильно]
смазанным [ночной] спермой, — и он уже «опущен» (см. примеч. 10,
пояснения в квадратных скобках мои. — Д. С).
Так что нет ничего удивительного, если зад и появляется в
«гомосексуальной» тюремно-лагерно-блатной татуировке, то
только в качестве женского — в гфедставляющих собой
своеобразную пародию на библейский сюжет искушения «наколках» с
изображением женщин, обвитых змеями. Вероятно, у таких
татуировок имеется и дополнительная к стратификационно-инфор
мационной функция — «возбуждающая», что в принципе
согласуется с некоторыми структурными подробностями ритуала
«опускания»: в частности, на спину насилуемому вешается
фотография или журнальный лист, содержащие порнографическую
сцену. Репертуар таких возбуждающих средств и объектов, к
слову сказать, содержит подчас самые невероятные вещи, так
что остаётся только догадываться, какие средства, с другой
стороны, не могут использоваться в качестве возбуждающих:
<...> визуальные стимулы могут носить необычный характер:
например, один испытуемый специально ставил жертв — несовершеннолетних
мальчиков — в профиль, так как другие ракурсы не вызывали
сексуального возбуждения. У другого больного сексуальное возбуждение
наступало при виде женщины, испытывающей острое желание помочиться (мы не
касаемся здесь вопроса, на основании каких признаков и насколько
адекватно проводилось им распознавание такого состояния). Другое
наблюдение касается восприятия такого сложного стимула, как текст: больной
описывал возникновение сексуального возбуждения с эрекцией при чтении
работы К.-Г. Юнга «Метаморфозы либидо» (что логически объяснимо), а
также Ф. Ницше «Гибель богов» (что объяснить гораздо труднее)44.
Между тем мужской зад как иконический элемент, несущий
«запретное» сексуальное значение, оказывается в
«гомосексуальной» тюремно-лагерной татуировке вытесненным в силу его со-
442
циально-групповой неприемлемости даже несмотря на то, что
здесь он как раз был бы уместен как нигде еще, будучи связан
с конкретным местом в конкретной сексуальной практике, но
таковы дорогостоящие технологии, очевидно, любой власти,
подобным образом контролирующей дистанцию, разделяющую
знак и его денотат (референт), и из социально-нормативных
соображений «учета и контроля» отчуждающей один от другого,
стремясь лишить знак внешнего эмоционального измерения. В
логическом пределе такое движение45 от гипотетического здесь
иконического знака, — основанного на иконическом подобии
предмету изображения и метонимически отсылающего к смыс-
лообразующему и целемоделирующему месту в
соответствующем «понятии» (например, «жопочник»), — к знаку
узкоконвенциональному46 должно было бы найти себя, и в нашем случае
находит, в ситуации, когда татуировка состоит только из
называющего носителя слова (общего жаргонного имени) или, менее
того, ограничивается предельно минималистическими знаками
отличия: «пчелками», «мушками», «точками». Такие «точки»
татуируются на совершенно определенных, выделенных
покоящейся на телесно-естественных основаниях конвенцией частях
тела, и значение их толкованию не подлежит, будучи
устойчивым результатом той же узкой конвенции, рассматривающей их
как знаки принадлежности к касте неприкасаемых. Но не
только: так, точки в «перстнях», наносимых на руки, могут
обозначать, например, принадлежность к «цеху» шестерок (шесть точек)
или количество совершенных побегов (крупные точки), а
«перстневая» точка, вписанная в круг, имеет значения «круглый
сирота», «в жизни надейся только на себя»... Парадокс состоит в
том, что, являясь иконическим знаком ничто, точка стремится
обозначить собой всё, и не только потому, что она — знак
конвенциональный, но и потому, что она — «наименьший элемент
поверхности визуализации» (не пиксель!), след укола, с которого
начинается и которым заканчивается любая татуировка,
представляющая собой прежде всего некоторую сумму точек.
Иная версия могла бы состоять в том, что в случае с «точками»
и «мушками» движение от иконического к
узкоконвенциональному замыкается в круг, возвращаясь к гипотетически изначальной
иконической форме ануса, которая тем не менее требует
конвенции, парадоксальным образом находящей этой форме прямо
противоположную референцию. Ирония в том, вероятно, и
заключается, что «точки» и «мушки», татуируемые, например, над губой,
означают прежде всего возможность орального, а не анального секса.
Впрочем, и точки, вероятно, нельзя считать логическим преде-
443
лом запрета, инициирующим убывание иконического к
узкоконвенциональному. Логическим пределом был бы, очевидно,
полный запрет на символизацию гомосексуальных отношений в
татуировке, но это было бы нелогично уже с точки зрения
завышенных на зоне потребностей в социальной ориентации — еще одной
причины, по которой стратификационно-информационная
татуировка стремится к лаконичности, скупости орально-анального
вербально-иконического «жеста». Разумеется, конвенциональные
знаки-символы высокой степени отвлеченности много удобнее в
пользовании, тем более эзотерическом, чем развернутые вербаль-
но-иконические «полотна». Однако стремлению к лаконичности
«жеста» с другой стороны противостоит стремление к социально-
референциальной надежности, что часто приводит к
информационной и даже эмоциональной избыточности «гомосексуальной»
татуировки, — ниже я рассмотрю этот вопрос подробнее.
Социально-групповой запрет на иконическое использование
мужского ануса в качестве именно сексуального объекта
очевидным образом инициирует также функциональное ограничение,
в связи с которым кроме стратификационно-информационньгх,
в крайнем случае содержащих изображение женщин, мы не
встречаем «гомосексуальных» татуировок, которые могли бы
быть, например, биографическими, декоративными или какими-
либо еще. Очевидно, что по отношению к «опущенным»
вытесняемая нейтральными знаками сексуальная анатомия
становится, собственно говоря, единственным украшением биографии на
зоне. Единственная функция, которую такие татуировки
выполняют на зоне, «связана с объединением людей в группы и
дифференциацией их социального статуса» и, соответственно,
с упрощением стратегий преимущественно сексуальной
коммуникации (о «смеховом» аспекте этой функции см. ниже).
Где-то на полпути этого убывания иконического к
узкоконвенциональному (сопровождающегося заменой умозрительных ико-
нических цитат ануса на всё более и более абстрактные знаки) и
далее к гипотетическому «ничто», то есть полному вытеснению и
«забвению», мы сталкиваемся с татуировкой, стратификационно-
информационная функция которой имеет вид эмблемы,
сочетающей жаргонно-называющее носителя имя с короной в качестве
иконического элемента. Иногда корона появляется без
вербального сопровождения, и информационно весомой становится часть
тела, на которую наносится татуировка, — спина, бедро, ягодицы,
живот; поясняющая функция надписи в этом случае
обеспечивается также соответствующей иконической детализацией короны
(корона, которая наносилась, как правило, на грудь или плечо и
444
венчала голову змеи в татуировках, связанных еще с ранней,
первых лет Советской власти, воровской традицией, «отсылала»
прямо в противоположном направлении — к воровскому авторитету,
занимающему ту или иную должность в воровском мире;
татуировки, содержавшие «воровскую корону», всё еще оставались
довольно популярными для нанесения в 70—90-х годах прошлого
века; корона встречается также в мужских и женских «перстнях»
воровских лидеров и «перстнях» «мокрушников»). К этой же
«золотой» середине следует отнести и «картинки», где называющее
носителя общее жаргонное имя сопровождается иконизацией его
синонима. Реже татуировка обходится только иконизацией общего
имени. Все вышеперечисленные татуировки, важно отметить,
наносятся в местах лишения свободы насильственно. Что не могло
бы, конечно, не впечатлить излишне пылкого Ч. Ломброзо, в
изданной в 1876 году «L'uomo delinquente» [«Преступник»] (Milan:
Horpli) выделившего «моральные дефекты» и «преступные
склонности» в качестве причин, обуславливающих нанесение
татуировки в преступной среде. Но если «татуировка — [это] визитка
осужденного [и] она отражает то, что в собственном я мыслится ему
особенно значимым»47, то очевидно, что насильственно нанесенная
татуировка есть не только опыт навязанной идентичности,
чужого «я», и попытка наделить «другого» тем, что для себя мыслится
как отрицательно значимое, но и метонимическая «картинка»,
указующая и предписывающая более полную «картину мира» и
конституирующая разницу между «своим» и «чужим». Иными
словами, татуировка становится тем ультимативно навязанным
различием, из которого и складываются значения и смысл собственной
идентичности для обеих сторон в этом акте доминирования и
подчинения.
В связи с Ч. Ломброзо и навязанной идентичностью,
гомосексуальной в том числе, если уж они в силу необходимости
оказались здесь рядом, вероятно, не удастся избежать, по
крайней мере частичной, реконструкции некоторых
социально-исторических и конкретно-культурных особенностей
формирования и развития зон пересечения двух долговременных
идеологических конструктов, — как нетрудно догадаться, «евреев» и
«гомосексуалистов». Едва ли стоит особо оговаривать, что
фактические социально-политические судьбы фактических евреев,
евреев без кавычек, и гомосексуалистов часто оказывались
также общей судьбой. Но взаимная
социально-психологическая и, соответственно, идеологическая история означенных в
этой истории «евреев» и «гомосексуалистов» не
исчерпывается событиями и подробностями «столетней», к примеру нацист-
445
ской, давности. Так редкая тюремнолагерно-блатная
татуировка, независимо от ее назначения, типа, социального статуса
носителя в сообществе и т. п., обходится без «еврейского» носа,
«еврейского фаллоса», слова «жид», «звезды Давида» и чертей,
имеющих непосредственное отношение к «жидовскому» и
«черному» в европейской нееврейской мифологии еврея, — за
исключением, разумеется, собственно еврейских тюремно-лагер-
ных националистических татуировок, состоящих, как правило,
из надписи, пятиконечной звезды и «звезды Давида», а также
некоторых женских татуировок. Даже в «гомосексуальных»
татуировках с изображением женщин, не содержащих ничего,
что, казалось бы, не относится к «делу», неизменно
присутствуют черти с «характерными» еврейскими чертами лица. Как
представляется, здесь происходит далеко не случайная
семиотическая шизоконверсия нормативного для данной группы
идеологического конструкта «пидор»: с одной стороны, «образ»
принимает в татуировке образ «продажной женщины», что
очевидно, с другой стороны, он же в этой татуировке принимает
образ беса-еврея, где «еврей» сам по себе коннотирует ряд «фе-
минный» — «продажный» — «проститутка» — «девиант» —
«гомосексуалист», что менее очевидно и что не является социально-
групповым стереотипом исключительно советско-российской
зоны. Таким образом, ниже я предприму схематичный обзор
вопроса.
Так, к началу XX века на смену традиционному
религиозному антисемитизму, до- и сохристианские истоки которого мы
находим уже в античности48, приходит так называемый
«антисемитизм научный». В то время как деятельность различных
антисемитских научных школ, сформировавшихся в Германии
на националистической волне после объединения Германии в
1870 году, связана с публикацией большого числа научных
работ, касавшихся вопроса физической и ментальной
ущербности евреев как нации и рассматривавших тело еврея в большом
количестве диаграмм, таблиц и с привлечением материалов
сравнительной иконографии. Здесь, кстати, пригодились знаменитые
таблицы отпечатков ног, иллюстрирующие в книге Ч. Ломбро-
зо «L'uomo delinquente» положение о дегенеративности,
присущей походке эпилептиков и уголовников, и «совпадающие» с
физиогномическими данными. В 1890 году книга появляется в
переводе на немецкий: «Der Verbrecher (Homo Delinquens) in
anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung. Hamburg,
Actien-Gesellschaft», и в этой криминально-антропологической
традиции пишутся томы немецких (и не только) исследований,
446
Ил. 377. Татуировка активно-пассивного «педераста-от-природы».
Место нанесения: спина.
посвященных, в частности, проблемам еврейской «слабой
ступни» и непригодности еврея к военной службе49. Эти же темы
становятся наиболее популярными иконографическими
мотивами антисемитских газетных карикатур и почтовых открыток
в России, Америке и Европе преимущественно в 10—40-х годах
XX века00. Здесь стоит особо отметить, что, поскольку
предубеждение религиозной еврейской культуры против портрета
(основанное на подчас противоречащих друг другу раввинисти-
ческих толкованиях двух стихов Второй Заповеди Ветхого
Завета, касающихся «изготовления изображения» — Исход 20: 4—
5) стало преодолеваться только в начале XIX века, с
возникновением в Восточной и Западной Европе движения «еврейского
просвещения», то оказалось, что антисемитская иконография
составляет, в сущности, единственно во всех отношениях
значимую и полномасштабную галерею национального портрета.
Таким образом, антисемитское восприятие еврея оказалось
единственным фиксированным в иконических подробностях — ср. с
ограниченным, предписанным социально-групповыми нормами
и насильственным набором тюремно-лагерных татуировок
«гомосексуалистов» и сопровождающим их запретом на иконичес-
кий знак51. Разумеется, в XIX—XX веках проблема
дегенеративной еврейской ступни была не единственной проблемой,
волновавшей исследователей и карикатуристов в связи с еврейской
«болезнью», связанной, в свою очередь, в представлении европей-
447
ца с «еврейским фаллосом»: само удаление крайней плоти
должно было восприниматься как ампутация пениса,
свидетельствующая о феминности еврея, с одной стороны, а с другой — о его
физической ущербности. Эта связь, нельзя не согласиться с
С. Гильманом52, была далеко идущей в западной антисемитской
культуре и повлияла даже на еврейское самовосприятие.
Далеко идущей она оказалась, очевидно, и для России, по крайней
мере, тюремно-лагерно-блатные татуировки демонстрируют это
обескураживающе откровенно: там, где мы видим еврея, он, как
правило, козлоног и рогат, а его пенис или графически
отсутствует, как в татуировках «гомосексуалистов», или же участвует в
«грязном сексе» с «продажной женщиной» — как во всех прочих.
Часто демонстрация козлоногим и рогатым своего пениса
связана (символическими узами, разумеется) с «образом» чужой
власти и чужого закона, то есть власти и закона неправедных,
извращенных, продажных (ср. надписи в татуировках: «блядская
власть» или «жиды — ублюдки Сатаны и Дьявола»). При этом и
сама «Россия, истерзанная и униженная жидами», находится в
ненатуральной, извращенной и продажной сексуальной позиции
к еврейскому пенису, у нее «дыра вольная и прекрасная», а цена
ей, такой, — «копейка». Другими словами, она не мать, не
сестра (по местам лишения свободы), не святая и не женщина-воин,
она — «бикса», т. е. «девушка, сексуально доступная» (другое
значение: «маруха» — спутница блатария), а «бикса и Дьяволу
подмахнет», тем паче что дьявол здесь — козлоногий, носатый и
рогатый «марксист-пропагандист» (обратите внимание: в тюрем-
но-лагерном жаргоне слово «марксист» имеет значение
«активный гомосексуалист»). С другой стороны, «и черти любят блядей
и лэк [лизание]», а сами «жиды — это черти в образе человека».
Иногда, впрочем, обходится и без чертей как таковых: на одной
из татуировок продажная женщина находится в объятиях
черной обезьяны, лишенной каких бы то ни было национальных
признаков, но надпись оказывается красноречивее в том, что
касается еврейской похоти: «Приватизатор от КПСС» и ниже «Во,
баба! Цимус!» (идиш, «цимус» — традиционное еврейское
сладкое блюдо, как правило, морковь и другие овощи, тушенные в
молоке, считается лакомством; здесь в значении «то что надо»).
Таким образом, еврей снова оказывается связанным сразу с
двумя иконами «девиантной» сексуальности: черной/обезьяной.
Связь между евреем и проституткой далеко не случайна. Как
отмечает Сандер Гильман, «в XIX веке проститутка воплощает
представление о дегенеративных и зараженных женских
гениталиях (как было показано автором до этого. — Д. С). С точки зре-
448
ния нормативной для европейского среднего класса системы
репрезентации, кажется естественным, что проститутка и еврей
находятся в конфликте, как и то, что один "открывает"
Другого, поскольку оба представляют собой как сексуальную, так и
фискальную опасность для государственной экономики. Это
представление о связи еврея и проститутки присутствует также
в образе (незаконной) "траты" семени, доминирующем в
посвященной проблеме мастурбации литературе XVIII и начала XIX
века. Поскольку оба, еврей и проститутка, есть факторы нега-
ции, аутсайдеры, сексуальный имидж которых репрезентирует
все опасности, которые в том, что касается сексуальности
человека, только можно помыслить. А для того, чтобы осознанно
разрушить, а фактически коснуться загрязняющей силы Другого,
необходимо самому находиться вне пределов досягаемости»53. И
далее: «Отношения между евреем и проституткой обладают
также социальным измерением. Ибо и у еврея, и у проститутки один
интерес: превращение секса в деньги, а денег в секс»54.
В связи с вьппепроцитированным особый интерес
представляет замечание Л.С. Клейна: «За сношение обычно принято
"пидору" чем-то уплатить (иначе ведь это было бы как бы
полюбовное свидание, что для нормального зека унизительно)» (см.
примеч. 10), то есть статус тюремно-лагерного «гомосексуалиста»
приравнивается к статусу женщинь1-проститутки — и, таким
образом, к статусу «жида», а средством этого уравнивания в
правах выступают деньги (ср. у Е.С. Ефимовой — см. примеч. 47:
«Деньги — не только положительная, но и негативная ценность:
кости, кровь, пули, слезы» и «<...> в самих терминах,
обозначающих деньги, проявляется пренебрежительное к ним
отношение. Деньги на воровском жаргоне — гроши, деревяшки, звон,
капуста, бабки, голье, бумага, вошь»). Не говоря уже о том, что
«девиантная» сексуальность и представление о гениталиях
гомосексуалиста как дегенеративных, то есть в данном случае
подвергшихся кастрации, являющихся пассивными в отличие
от активных «нормального» мужчины, только подтверждают
этот общий для всех троих статус. Но, поскольку такое
положение сулит экономические выгоды и даже порой ослабление
социально-группового давления в местах лишения свободы,
«многие "опущенные", взвесив все "за" и "против", участвуют
в лагерной гфоституции добровольно, осознанно» (Л.С. Клейн).
Не менее уместными нашему «гомосексуальному» случаю и
тюремно-лагерным запретам на прикосновение к вещам «петухов»
и к ним самим, а также подпадающими особой «склонности»
лагерных гомосексуалистов к деньгам кажутся следующие замечания
29 Заказ №К-7531.
449
С. Гильмана: «Связь продажности еврея с капиталом
сохраняется даже во второй половине XX века. В серии британских
комиксов 80-х, в которых события разворачиваются вокруг
антропоморфного фаллоса, еврей изображается мастурбирующим,
совершающим "ненатуральный" акт, более того, в то время как все другие
фаллосы изображены в присутствии потенциальных партнерш,
еврей занят чтением финансовой газеты»55. И далее: «<...> образ
еврея как проститутки означает собой не только экономическую
параллель между образом еврея и образом проститутки. Он
также обнажает природу сексуальности обоих в качестве источника
болезни, загрязнения. Подобно тому как самый ранний из
образов Джека Потрошителя был образом жертвы гфоститутки, то
есть образом сифилитика, евреев также самым тесным образом
отождествляли с заболеваниями, передающимися половым
путем, а именно — с распространением сифилиса, локализуя его
очаги в еврейской среде. Это обвинение появлялось в различных
формах, например, в антисемитском трактате "Англия под
евреями" (1901) Джозефа Банистера, в котором особый упор
делался на распространение "заболеваний крови и кожи"»56. Впрочем,
подобную точку зрения мы находим и в «Meine Kampf», где
Гитлер рассматривает проблему сифилиса. Не обошла она стороной
и такого «еврейского» писателя, как Марсель Пруст, для которого
собственные еврейское происхождение и гей-идентичность были
клеймом, доставлявшим ему немало душевных страданий всю
жизнь. «Для Пруста быть евреем и быть гомосексуалистом —
одно и то же. Это "неизлечимая болезнь"»57. «Но что позволяет
остальным видеть эту болезнь? В mentalité рубежа веков мужской
сифилис должен был быть "записан" у него на коже, подобно
тому как у женщины он скрыт в ее сексуальности»58.
Очевидно, «порок» должен быть записан и на коже тюрем-
но-лагерного «гомосексуалиста», иначе как в самом деле
провести различие между «девиантом» и «нормальным», чтобы
избежать краха социального? То есть «если сексуальность еврея,
грязного еврея, у него на лице, в кожной болезни, которая
демонстрирует отличие еврея»59, то очевидно, что болезнь
«нечистых», «оскверненных», «опомоенных» и «грязных» не только
может, но и должна быть записана на коже, — чтобы создать
оче-видное различие, позволяющее осуществлять ориентацию в
этом социальном пространстве. Так, на коже
«гомосексуалиста» появляются знаки и симптомы «порока» (ср. у Дж. Холла,
который полагает, что изображение петуха может
символизировать «персонифицированное распутство»)60 — та самая
«экзема», которую Пруст называет «этнической» с точки зрения зна-
450
ков и симптомов сифилиса как специфически еврейского
заболевания61 и которой, согласно писателю, отмечено лицо еврея.
Таким образом, к цепочке «евреи = прокаженные =
сифилитики = проститутки = черные»62, репрезентирующей социальный
конструкт «болезни», можно добавить еще одно звено —
гомосексуалисты. Как представляется, тюремно-лагерно-блатные
татуировки «гомосексуалистов» с их «ампутированными»
женскими гениталиями — как у евреев и проституток, делают такой
прирост в звене оправданным. «Ибо больной уничтожает
больного, развращенный — развращенного. Они разлагают и
развращают в самом акте прикосновения и обольщения чистое и
невинное, создавая новых разносчиков заразы. Но в своем
сексуальном неистовстве они также способны, дотронувшись, убить
сексуальных изгоев, проституток <...>. Подобное разрушает
подобное»63.
Важно подчеркнуть, что антисемитские образ и
идентичность, в отличие от, надо полагать, не исчерпавшей себя
практики насильственных «татуировок на советско-российской зоне»,
навязывались евреям в качестве собственных
преимущественно в знаках иконических, а сами «петрушки» при этом могли
показаться просто нелепыми и смешными персонажами
провинциального «катоптрического балагана»64.
До «звезды Давида», в принудительном порядке
предложенной нацистами евреям в качестве опознавательного знака,
который последние были обязаны нашивать на одежду, антисемитская
иконография еврея была вынуждена пройти довольно долгий
путь. Заметим, что тюремно-лагерные татуировки
«гомосексуалистов» обходятся исключительно подобными насильственными (уз-
ко)конвенциональными знаками, что можно считать в
определенном смысле ужесточением знакового режима, хотя и
совпадающим по степени условности знака с российской исторической
практикой насильственного клеймения преступников,
документально зафиксированной на Руси уже ХШ века. Практика «пят-
нания» преступников как раз и ограничивалась на Руси
нанесением на тело чаще всего именно слова. (Видимо, элиминация
собственно иконических знаков в татуировке представляет собой
общую тенденцию для современной тюремно-лагерной
татуировки. Как отмечает Е.С. Ефимова, «особенно популярны в
настоящее время татуировки-аббревиатуры, имеющие множество
смысловых значений»65.) Не лишено, конечно, своеобразной иронии то
обстоятельство, что восстановление в правах подобной
насильственной тату-практики состоялось как раз в местах лишения
свободы, где «опущенные» по отношению к другим заключенным
29*
451
рассматриваются в качестве рабов и преступивших мужской, то
есть «нормальный», закон. Шуты, «короли» и «армянские
королевы» этого тюремно-лагерного «карнавала», связанные с хто-
ническим «низом», а значит, со смертью, впрочем, не
обладают необходимой здесь парой, которая олицетворяла бы собой
жизнь, — это, как я полагаю, становится ясно из анализа
негомосексуальных татуировок и тюремной лирики,
свидетельствующих как раз о неодолимой тяге к смерти и слиянию с аналь-
но-вагинальной материнской вселенной (принимая во внимание
неизменное присутствие образа дороги в материнской тюремной
лирике, ср. примеч. 47: «Дороги недаром в тюрьмах называют
святым: их функция — обеспечение преемственности и
стабильности тюремно-арестантского мира», а также: «В жопу дашь или
мать продашь?» — один из тех бесчисленных вопросов, которые
задаются во время процедуры «прописки», в обряде посвящения
в «свои», которую новоприбывший проходит в тюремной
камере;66 стремление к хаосу, понятно, не исключает высокую степень
ритуализированности тюремно-лагерной повседневности). То
есть раб, конечно, по своей семантике «персона смерти» и
«замещает царя в смерти»67, но здесь в отсутствие подлинного «богопо-
мазанного самодержца» в качестве, если угодно, персоны жизни.
На этом празднике мнимого плодородия в положении «дам без
нижней части тела» в некотором смысле оказываются все.
Но вернемся к татуировкам. Как становится очевидным из
вышесказанного, в качестве нейтрального знака,
активизирующего свое, то или иное, символическое значение в зависимости от
452
Ил. 139- 144. Татуировки неприкасаемых: «чуханов», «чушков»,
«опущенных», «опомоенных», «законтаченных», «нечистых»,
«оскверненных», «красножопых», «грязных» и т. д.
Ил. 362. Татуировка пассивного гомосексуалиста, на уголовном
жаргоне — «маргаритка», «машка», «петух», «гребень», «пидор»,
«хуесос», «голубой», «чушок». Место нанесения: спина.
Ил. 363. Татуировка родившегося активно-пассивным педерастом,
авторитета в среде гомосексуалистов, способного на все формы
разврата.
Ил. 367. Распространенная татуировка, имеет название «Король
всех мастей» — пассивный педераст от природы, способный на все
формы разврата. Место нанесения: спина.
Ил. 368. Молодежная татуировка, появилась в ВТК, ИТК в конце
60-х годов.
453
Ил. 364, 369, 370. Варианты татуировок пассивных педерастов.
участка тела, «корона» относится к тем иконическим элементам
в тюремно-лагерной татуировке, чей семантический ряд
предполагает прямо противоположные уровни истолкования. Такую же
противоречивость истолкования предполагает и
уголовно-жаргонное «король», с одной стороны, именуя вора в законе (в
культурной традиции, восходящей еще, разумеется, к средневековой
европейской «низовой»; иногда это общее имя вообще становится
личной кличкой, столь же, кстати, популярной, как и «Отец»), а
с другой — авторитетного в своей среде активно-пассивного
гомосексуалиста68. Поскольку же такие «гомосексуальные»
татуировки наносятся насильно, часто представляя собой заключительную
символическую часть ритуала «опускания», то следует признать,
что быть «опущенным» — значит к тому же быть осмеянным: то,
что во внешнем знаку мире отсылает к материальному низу, в
знаке дается через, так сказать, материальный верх.
Было бы, конечно, неверно называть такие действия и
фигуры смысла ироническими, поскольку насмешка здесь не
является скрытой. Наоборот, статус такой насмешки для обеих
сторон, участвующих в ритуале, эксплицитно
идентифицирован, а значит, мы имеем дело с пародией и/или сатирой, а не
иронией. Иронической ситуация могла бы быть названа,
наверное, только в случае согласия с не лишенной
изобретательности одной из тех забавных этимологии, что можно обнаружить
в сочинениях средневековых авторов, для которых динамика
становления, заключенная в движении смысловых различий,
порождаемых иронией, была одной из самых популярных тем.
Так, неизвестный средневековый автор, комментирующий трак-
454
тат «Doctrinale» (Александр де Вилла Дей, ок. 1170 — ок. 1250),
полагает, что yronia происходит от iron, «меняться», поскольку
меняются лицо и жестикуляция прибегающего к иронии
человека69. В духе этой этимологической инструментальной
интерпретации мы, конечно, имеем дело очевидным образом
именно с иронией, тем более что в нашем случае изменения
затрагивают обе стороны, поскольку тело подвергающегося такой
«иронии» меняется тоже. Тогда как корона «гомосексуалиста»
в качестве символа репрезентирует отсутствие власти в мире,
в котором она имеет совершенно обратный «хорошему»,
предпочтительному для сообщества, «карнавально»-шутовской
смысл. Если же сформулировать в других словах, в терминах
не метафоры, а метонимии70, понимаемой как соотношение
части и целого, можно сказать, что корона сама по себе не
репрезентирует, но и не указывает ни на какой из привычных
миров, где она имела бы подобный традиционному значению
смысл, и представляет собой часть, целое которой фиктивно,
пустую метонимию, «бессмысленную этикетку». То есть нет
никакого привычного целого, на которое корона как часть
могла бы указывать. Однозначно указующей функцией ее
наделяют только сопровождающее жаргонное слово или
сопутствующие, наоборот, имеющие широкое хождение знаки
наслаждения: красные карточные масти, «губы», «сердце», а
также различные остаточные фалло- и задоимитирующие детали
оформления короны; иногда все эти детали встречаются
одновременно в пределах одной и той же татуировки. Ну и,
конечно, часть тела — спина, ягодицы, бедро, живот, но никогда (!)
грудь, — которую следует из соображений информационно-
логической связности рассматривать, несомненно, как часть
самой татуировки. Разумно предположить, что часто такая
системная информационная избыточность в парафилических
деталях, с информационной точки зрения избыточно
дублирующих друг друга в пределах одной и той же татуировки, не в
последнюю очередь связана со стремлением к референциаль-
ной надежности. Психосоциальные причины такого
стремления отчетливо прочитываются в популярном русском анально-
пенальном фразеологизме «сравнить жопу с пальцем» (ср.
«двадцать первый палец»), что значит «сравнить не
подлежащее сравнению, тем самым допустив грубую ошибку»,
«допустить абсурдное или глупое сравнение», «перепутать что-то с
чем-то, что с точки зрения здравого смысла не должно путать»
(«Ну ты сравнил жопу с пальцем!» или: «Ты бы еще жопу с
пальцем сравнил!»). Представляется, что именно боязнь рефе-
455
ренциальной путаницы диктует «гомосексуальной» татуировке
необходимость в дублирующих информацию деталях. Что
хорошо согласуется с нормами поведения и правилами
предосторожности, регулирующими отношения с «опущенными» на
зоне, если даже простое прикосновение к «опущенному»
означает для дотронувшегося «законтаченность» (загрязненность,
испорченность — которые приобретают также вещи, до
которых дотронулся сам «опущенный») и потерю авторитета в
группе. Дистанция в три шага — минимальная, на которую
«опущенному» позволено приблизиться к «обычному» заключенному. В
камерах «опущенные» обязаны занимать специально
отведенные для них места, часто отгороженные ширмой. И так далее.
Интересно, что в воровских коронах, избежать путаницы с
которыми стремится вербально-иконическая избыточность
«гомосексуальных» корон, детализация самой короны предельно
скупа. Когда я говорю «избежать путаницы», я имею в виду,
разумеется, не столько саму возможность такой референциаль-
ной путаницы в какой-либо из реальных ситуаций, сколько
стремление из идеологических соображений достичь
максимальной вербально-иконической дистанции между двумя типами
использования короны в соответствующих татуировках. Хотя
если предположить невероятное, а именно: что в
«гомосексуальной» татуировке мы бы имели только корону без
сопроводительных надписей и «разъясняющих» иконических деталей, как
это происходит, например, в перстневой воровской короне, а с
другой стороны, учесть, что воровская корона появляется не
только в составе многосложных композиций, а и сама по себе, то
такая референциальная путаница не показалась бы столь уж
невероятной. Ведь часто для нанесения воровских корон
используются те же части тела, что и для «гомосексуальных»: бедро, живот.
Однако важно, что первые никогда не наносятся на спину», а
вторые — никогда на грудь. В связи с ценностным опредмечиванием
и противопоставлением для нужд социальной ориентации этих
частей тела в татуировке уместно обратиться за сравнением к их
противопоставлению у Козьмы Пруткова в «Моем портрете»:
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой,
Знай — это я!
В моих устах спокойная улыбка,
В груди — змея!
(См. ниже ил. 10.)
К этому же символическому противопоставлению «фронта»
и «тыла» относится тюремный запрет поднимать что-либо с пола,
456
а также табу, налагаемое тюремноритуальными нормами на
жест поклона, как подчеркивает Е.С. Ефимова71. Само собой
разумеется, что, преступая запрет, нарушитель тем самым
презентует «зрителям» собственную спину — по крайней мере.
Комментируя стихотворение К. Пруткова, Ю.М. Лотман
замечает: «Чем шаблонней текст, тем содержательнее
указание на его реальный жизненный смысл»72. Однако очередной
парадокс состоит в том, что информационная избыточность
шаблонных «гомосексуальных» корон, которая могла бы
пониматься, в частности, как характеристика татуировки, обратно
зависимая от ее содержательности, тем не менее служит
увеличению референциальной надежности. Референциальная
путаница была бы здесь, несомненно, подобна социальной (как
минимум) смерти. «В кастовом или чиновном обществе <...>
знаки защищены запретом, обеспечивающим им полную
ясность: каждый знак недвусмысленно отсылает к
определенному социальному статусу. В церемониале невозможна
подделка — разве что как кощунственная черная магия,
соответственно, и смешение знаков наказуемо как серьезное нарушение
порядка вещей. Если порой — особенно сегодня — мы еще и
начинаем мечтать о мире надежных знаков, о сильном
«символическом порядке», то не будем строить иллюзий: такой порядок
уже существовал, и это был порядок свирепо-иерархический,
ведь прозрачность знаков идет рука об руку с их жестокостью.
В жестоких кастовых обществах — феодальных или
архаических — число знаков невелико, их распространение
ограниченно, каждый из них в полной мере весом как запрет, как
межкастовое, межклановое или межличностное взаимное
обязательство; такие знаки не бывают произвольными»73. С другой
стороны, не стоит строить иллюзий, конечно, и в отношении
утраты такого сильного «символического порядка» — в
обществе, где «каждый пятый житель прошел через лагеря и
каждый второй через армейские зоны»74.
Таким образом, именно вышеупомянутые, казалось бы,
субдоминантные элементы «гомосексуальной» татуировки и
отсылают точно по адресу, сообщая короне указание на мир,
находящийся по другую от фаллоса сторону черты, —
единственный, в котором татуировка имеет смысл,
профанирующий, но и «близкий» к традиционному. Принадлежность к
клану, величие, возвеличенность, монаршая благосклонность,
значимость, власть, избранность, традиционно соотносимые с
короной, переосмысливаются как значения, группирующиеся
вокруг анально-орального «центра», который корона венчает,
457
Ил. 70. Татуировка вора в законе. Носитель татуировки длительное
время занимался кражами, грабежами, разбоями. Неоднократно
судим. Место нанесения: грудь, левая сторона.
поскольку любая из корон в любом случае связана,
разумеется, с идеей мыслимого мнимым или подлинным центра. И
конечно, нельзя счесть случайным то, что стремящимися к
доминированию и смысломоделирующими в татуировке наряду
со словом — «пидор», «король чуханов», «козёл», «орфей»,
«маргаритка» — оказываются (возвращаясь к узкоконвенцио-
нально-иконической логике семиозиса, движущей силой
которого выступает социально-групповой запрет на прямые икони-
ческие «цитаты» ануса) символы из числа самых общих и
имеющих широкое хождение в самых разных знаковых
ситуациях: красные карточные масти, «губы» и «сердце». Часто,
однако, как я уже говорил, «гомосексуальная» татуировка,
следуя логике запрета, ограничивается только словом как
наиболее удобным и надежным
стратификационно-информационным средством со-общения.
В качестве информационно-доминантных элементов
татуировки, имеющей вид короны, в вышеупомянутых символах мы
неизбежно обнаруживаем анально-оральные «следы»,
удвоенные, как в татуировках 366 и 368, формой самой короны, оста-
точно повторяющей форму зада, между «ягодицами» которой
(см. ил. 368) располагается заостренная фаллоимитирующая
458
деталь, увенчанная сияющим лучами сердцем. Окруженная с
четырех сторон анальными знаками, два из которых она
«пронзает», «деталь» становится смысловым центром композиции —
для короны, венчающей анально-оральный мир, такое
смещение в татуировке символико-анатомических акцентов
представляется довольно необычным, хотя, конечно, с точки зрения
распределения символических ценностей в мужском, тем более
закрытом обществе, как нельзя лучше отвечающим
положению дел. В повторении отсылающих к анусу форм татуировка
365 (см. ниже) оказывается еще откровеннее: форма короны
образуется двумя зубцами, имитирующими очертания то ли
козлиных рогов, то ли раздвинутых ног (то есть зад и голова
совмещаются здесь самым недвусмысленным образом), между
которыми снова располагается «сердечко».
С точки зрения символической сексуально-анатомической
референции «сердечко» так же амбивалентно, как и
упоминавшаяся выше вагинально-анальная лексика: с одной стороны, это,
конечно, оральный знак («губы сердечком»), а с другой —
анальный (о смешении «отверстий» я, напомню, уже говорил выше
в связи с садизмом татуировки 160 и фигурой Отца), что
особенно отчетливо и демонстрирует татуировка 365, где сердце
украшено «пальмовыми» листьями, безусловным образом
попадающим в унисон фрагменту фольклорной пародии басни
А. Крылова «Ворона и лисица»: «Тебе бы в жопу три пера — и
ты была б жар-птица!..»75, а также последней интернет-моде на
различные версии электронной открытки с изображением
перевернутого сердца, превращенным таким образом в
изображение зада, и подписью: «From the bottom of my heart» (англ. «От
всего сердца»). Наиболее избыточной в своем стремлении дать
максимально точную референцию из процитированных,
выглядит, очевидно, татуировка 369, где губы вписаны в сердце, а
также татуировка 370, в которой дырявое (!) «сердечко»
заменяет одновременно и губы, и круглое свиное рыло в
дополнение к подписи «Король чуханов». К вышесказанному об
информационной парафилии в деталях «гомосексуальной
татуировки, таким образом, можно добавить еще несколько замечаний:
1) несмотря на то, что в тюремно-лагерных «гомосексуальных»
татуировках логика социально-группового запрета диктует
убывание иконического к минималистическому и
узкоконвенциональному в знаке, стремление к референциальной
надежности оказывается для данной группы социально более значимым;
2) сама такая избыточность должна быть признана
«позитивной», поскольку хотя и дублирует информацию, но вместе с
459
Ил 365. Подобная наколка встречается у «сексуально озабоченных»,
т. е. насильников. Место нанесения: бедро, живот.
тем способствует верному социальному восприятию и
референции (по аналогии с классификацией информационной
избыточности в текстах нормативно-правовых актов;76 3) «нулевая
информационная избыточность», то есть такая, где без
ущерба для смысла и референции не может быть удален ни один
информационно-доминантный (в отличие от информационно-
субдоминантной, скажем, «короны», как я писал выше) знак,
встречается довольно редко в татуировках, сочетающих икони-
ческий текст с вербальным (напр., ил. 363), чаще же всего
татуировка с «нулевой информационной избыточностью»
представляет собой или только рисунок, иконизирующий общее
жаргонное имя (напр., ил. 143), или только одно из таких имен;
4) «частичная информационная избыточность», то есть наличие
в татуировке как «лишних», так и необходимых элементов,
прецедентно наиболее часта; 5) «смысловую информационную
избыточность», связанную с избыточностью референциально-па-
рафилических деталей татуировки, следует считать
синонимичной временной и пространственной, учитывая, что мы имеем
дело не с какими-то уникальными в своей единичности и
неповторяемости вербально-иконическими текстами, а с
татуировками, кочующими от тела к телу и в процессе миграции
остающимися неизменными даже в мельчайших деталях...
В этой связи стоит сказать несколько слов о самом обряде
«коронации», который часто (но не всегда, ведь на зону попада-
460
ют и так называемые «урожденные» гомосексуалисты)
предшествует нанесению тату и представляет собой как раз
безусловную пародию, едва ли осознаваемую в качестве таковой
самими участниками. Пародируются в сущности идеи «космической
гармонии Неба, Церкви и Государства», принимая во
внимание, что перевод в касту неприкасаемых совершается в том числе
посредством ритуала «парафин», пародирующим вольно или
невольно церемонию помазания на царство елеем. «Мы знаем,
что по предписаниям Ветхого Завета и по церковным законам
наших дней лишь короли и священники освящаются
помазанием святым елеем. Тем, кто выделен из всех и объединен друг
с другом святейшим елеем и поставлен во главе народа Божия,
надлежит обеспечить своим подданным блага не только
земные, но и духовные и поддерживать друг друга»77. (О каких
«благах земных» идет речь в нашем случае, думаю, говорить
излишне.) Что это, если не вызов Закону и Отцовскому миру,
но такой вызов, который имеет конечную цель — утверждение
собственного Закона? На мой взгляд, социально-знаковая
логика движения такого вызова полностью противоречит
стремлению «включить всё социальное пространство» (см. выше и
примеч. 14) или «усвоить» социальное всё, что отвечало бы
потребностям карнавала (но не пародии!) с его неразличением между
«я» и «другим», отрицанием всякой идеологии, теряющей в
карнавале свое какое бы то ни было определенное субъектное
место, развенчанием любой власти, с трансгрессией, которая
идеально мыслится карнавалом бесконечной и т. д. Мы же
имеем дело не с карнавалом, а с пародией, которая может быть
частью карнавала, но к которой последний не может быть
всецело сведен. Отрицая запрет, пародия постфактум налагает
заранее и внутренне предполагаемый ею собственный, еще
более жесткий запрет, таким образом четко осознавая
пространственно-темпоральные пределы своего «иного» (а другого
она и не имеет здесь), равно как и «божественную»
пространственно-темпоральную дистанцию между «я» и «другим».
Логикой пародии является исключительно логика монолога (тогда
как разные этапы карнавала подразумевают как
монологические, так и диалогические формы «высказывания»),
недвусмысленным образом фиксирующего субъектный статус
доминирующего авторского текста. Поэтому правильнее было бы
говорить о стремлении воровского мира подчинить, подвергнуть
хаотической анализации (беспорядочному подпаданию аналь-
но-доминантной стадии) репрессивное по отношению к нему
социальное пространство и утвердить собственное, а не «подчи-
461
нить и включить» имеющееся в наличии. Важно, что пародия,
по крайней мере в нашем случае, отрицая существующие
нормы и запреты, пытается ввести собственные, а не утвердить «от
противного» существующий закон, как полагала пародию в ее
отличии от карнавала в одной из своих ранних работ Ю. Крис-
тева78. Вопрос, думается, принципиальный. То, что
утверждаемые социальные нормы часто оказываются усиленными
зеркальным отражением версиями отрицаемых, в качестве таковых
самими «нарушителями», разумеется, не осознаваемыми, —
вопрос другой, и он Лежит за пределами данной статьи.
«Все члены группы обязаны если не участвовать в насилии,
то смеяться или разделять приподнятое настроение.
Сочувствующий рискует разделить судьбу жертвы. Свидетели того, как
на зоне "опускают" человека, сообщают, что акция
обставляется как карнавальная свадьба, наподобие свадеб шутов при
королевских дворах. Аналогия не случайна, поскольку и в том, и
в другом случае смех возникает как реакция на акт социальной
инверсии»79 (ср. у Е.С. Ефимовой: «"В тюрьме обостряется
вообще остроумие, интеллект", — говорят малолетние
заключенные»80). Однако в таком совмещении в области собственно
физиологического акта или его имитации двух проекций —
доминантных отношений и групповой смеховой культуры, в которой
«шутка» структурирует себя преимущественно вокруг
полового акта и всего, что связано с телесно-выделительной (анальной
в том числе) функцией, — трудно опять же найти что-либо,
кроме примет карнавала. Хотя бы и потому, что «смех не
всегда служит свободе»81, здесь представляется целесообразным
преобразовать в уточняющее антикарнавальное: смех часто
служит орудием устрашения и знаком не-свободы, в том числе
и собственной субъекта, а у творчества, очевидно, оказывается
более чем два лица, поскольку оба — «смех и мятеж»82 — могут
принадлежать также как сексуальной агрессии (где смех
защищает и развлекает — «было скучно»), так и доминантному
поведению (где смех есть средство групповой консолидации по
отношению к «опущенному»)83, которые в качестве творческих
рассматривать довольно сложно, принимая к сведению, по
крайней мере, то обстоятельство, что мы имеем дело со
стремлением не к карнавальному «другому» закона, a к другому
закону — отличному от закона (как он, повторюсь,
воспринимается стремящимися его преодолеть), отрицаемого пародией.
Между тем следует отдельно отметить также высокую
степень ритуализированности поведения заключенных на зоне в
общем и по отношению к гомосексуалистам — в частности (бо-
462
лее подробно о тюремно-лагерных ритуалах см. у Е.С.
Ефимовой). В последнем случае ритуалы представляют собой всецело
«обряды» и «церемонии», связанные с запретными объектами
(то есть негативные, или аскетические, ритуалы, если
воспользоваться классификацией ритуала Э. Дюркгейма84). А
«опущенные» в такого рода «обрядах» и «церемониях» являются
одновременно и пассивными участниками, и запретными объектами
ритуала, при всем том, что любые коммуникативные стратегии
и тактические приемы на зоне неизбежно проходят через
цензурирование авторитетными представителями воровского
закона, стремящимися превратить их в актуальные конвенции в
случае одобрения. Коммуникативный акт (а в случае с
«петухами» это, как правило, невербальные акты) часто сводится
исключительно к подтверждению фиксированного в предыдущих
актах сообщения, что, собственно говоря, и является его
намерением. То есть происходит ритуализация стратегий, в процессе
которой любой коммуникативный акт рано или поздно
обнаруживает «рематический», информационный дефицит. В такой
ситуации сообщением как таковым становится нарушение
конвенции, что нередко и происходит (память о нем, надо думать,
становится частью долговременной устной традиции):
<...> самым любопытным является то, что «петухи», пытаясь выжить,
заставили с собой считаться. Они стали защищаться после того, как
истязания достигли апогея: их заставляли есть испражнения и языком
натурально вылизывать парашу. Доведенная до отчаяния жертва шла на
самоубийство, но не обычным путем. Петух выбирал наиболее злобного
уголовника и бросался ему на грудь, вешался на шею, целуя, истово
лобзал и насильно облизывал. Шокированный зэк немедленно, в гадливом
порыве, убивал или всяко калечил изгоя, но и сам... становился
неотменимо законтаченным. Былое уважение мигом улетучивалось, и
посрамленный уголовник вскоре пополнял ряды обиженных.
Петушиный клан мог реагировать на беспредел и более
организованно. Например, петух, проигравший (в карты? — Д. С.) свою жизнь,
становился торпедой: исполнял желание победителя. Тот же мог поручить
должнику законтачить авторитета, допустившего беспредел. Выбора у торпеды
не оставалось — должника за отказ прикончили бы и сами петухи80.
И снова татуировки. Особого иконологического,
(музыкально-) инструментального и танатологического внимания среди
татуировок гомосексуалистов заслуживает, в частности,
корона (ил. 363), пародирующая не только саму идею чужой для
сообщества власти, но и надписью «Орфей» высмеивающая
идею первенства. Поскольку такая татуировка наносится на
тело авторитетного в среде «опущенных» гомосексуалиста —
первого среди себе подобных, нельзя, конечно, в этой связи не
463
вспомнить бандероль с надписью «Orfeus der erst puseran» —
«Орфей — первый педераст» — с гравюры А. Дюрера «Смерть
Орфея» (1494, Гамбург, Кунстхалле), представляющей собой
графическую транскрипцию литературной версии мифа об
Орфее, изложенной Овидием86. Из граничащего с
исчерпывающим обзора литературы по этой гравюре Дюрера,
предпринятого Б. Зайцевым в работе «Наш Дюрер и его двойники», нас
могут заинтересовать в первую очередь моменты, касающиеся
иронии и сатиры:
Первым, кто обратил внимание на выпячивание Дюрером Орфеева
«порока», был Эдгар Винд. Он видел в рисунке иронию Дюрера по поводу
флорентийских неоплатоников, которые следовали за Орфеем не
только в философской области, но и образе жизни (Wind, 1939). <...> M. Лан-
коронска предположила, что это — сатира на флорентийскую Академию
и кардинала Джулиано дел\а Ровере, будущего папу Юлия П; А. Смит
также считает рисунок сатирой, но за давностью лет непонятно, на что
именно, а в Орфее видит ни много ни мало Пиркхаймера (о последних
двух работах см.: Rosasco, 1984). <...> Наконец, наиболее интересна для
нас работа Б. Росаско, которая рассуждает не только о сюжете рисунка,
но и происхождении тех или иных мнений о нем (см.: Ibid). Росаско
склоняется к позиции тех авторов, кто видит в рисунке прежде всего
сатирический момент, пародийное дистанцирование от итальянских образцов.
Считая аргументацию Винда шаткой, Росаско тем не менее указывает,
что он верно отметил связь сюжета рисунка не только с
«Метаморфозами» Овидия, но и с сочинением Полициано «Festa d'Orfeo». «Смерть
Орфея», по ее мнению, это иронический комментарий иностранца к
драконовскому закону против содомитов, принятому флорентийскими
властями в декабре 1494 года87.
Остается добавить, что в нашем случае мы имеем дело тоже
с сатирой, но в обращенном виде, поскольку объектом
насмешек здесь выступает сам «порок», по отношению к которому
устанавливается социально-необходимая дистанция, в то время
как у Дюрера «порок», очень вероятно, смеется над тем, что он
полагает на некоторой дистанции от себя.
Менее явная насмешка нашей татуировки связана, видимо,
и с орфическим музыкальным инструментом,
западноевропейские разновидности которого в эпоху Ренессанса
окончательно приблизились по форме к скрипке. Одной из наиболее
распространенных разновидностей лиры в этот период была лира
да браччо — струнная смычковая лира, внешне напоминающая
скрипку. Дюрер, к слову сказать, воспроизводит форму
древнегреческой лиры, как и многие другие более поздние мастера,
писавшие на орфические сюжеты. Лиру да браччо мы видим,
к примеру, у Маркантонио Раймонди — «Орфей и Эвридика»
464
(ок. 1507—1508, Национальная библиотека, Флоренция), у
Франсуа Перьера (1590/1600—1650) — «Орфей, Плутон и
Прозерпина» (Лувр), у Петера Фишера Младшего — «Орфей и Эвриди-
ка» (1515, коллекция Сэмюэля Кресса, Национальная галерея,
США.) и т. д. Напомню, что помимо общих поэтико-риториче-
ских мест у скрипки и человеческого тела также общая
анатомия. Так, в китайском иероглифическом письме нижний из
двух гомофонных иероглифов, вместе составляющих термин
Люй Люй, «звукоряд», имеет два основных значения:
позвоночник и лады струнных инструментов. «Люй Люй — это название
древней темперированной (Люй — ритм (верхний иероглиф. —
Д.С.)) ладовой (Люй — лад) системы, устройство которой
аналогично структуре вертикальной оси человека —
позвоночнику»88. Анатомия европейской скрипки еще более откровенна в
терминах, к тому же корпус, тело, голова (иногда в
классических инструментах с навершием в виде человеческой, как,
например, басс-гамба 1703 года Барака Нормана (рисунок, частная
коллекция, США)), плечи, талия и т. д. струнных являются
терминами рабочими, профессиональными и к мифо-поэтическо-
му телу человека непосредственного отношения давно не
имеющими. Формула Протагора «Человек — мера всех вещей»
имела, конечно, и процессуально-технологические
«последствия» в истории скрипки, а таблицы телесно-геометрической
гармонии Марка Витрувия оказали влияние не только на
Леонардо да Винчи, но, очевидно, и на мастеров семьи Аматти или
Страдивари в частности — в духе времени, стремившегося к
(рукотворной) «идеальной красоте» и «Божественной
пропорции». Во всяком случае, аналитическая реконструкция системы
геометрического построения инструментов этих мастеров,
предпринятая современным скрипичным мастером Дэвидом
Гассетом, позволяет это предположить смело. На развитие
ранних струнных влияние оказала и пифагорейская система
числовых отношений между интервалами, в частности на
физическую длину струны, что, кажется, не требует особых
комментариев, хотя от пифагорейской теоретической длины
струны европейские мастера начали отказываться довольно рано,
как становится понятным, например, в случае с самыми
ранними из сохранившихся клавесинов89. Так или иначе, но,
возвращаясь к смычковым и щипковым инструментам, всеобщих
стандарта мензур и теории построения музыкальных
инструментов не существует и по сей день. Поиск правильной
мензуры растянулся на века. Даже если относить измерение длины
позвоночника для определения рабочей длины струны (мензу-
30 Заказ № К-7531
465
ры) того или иного инструмента скрипичного семейства к ис-
торико-технологическим анекдотам, само это обращение к
телу человека в попытке найти соматико-математическое
решение проблемы оптимальных размеров инструмента и
параметров его звучания говорит само за себя. То есть каждый из
таких созданных по заказу инструментов «имел» свое
совершенно определенное тело, задававшее размерные соотношения
музыкального инструмента. И так далее...
Подтверждающим допущение о возможной иронии
татуировки «Орфей», связанной с формой соответствующего
инструмента, могло бы служить то обстоятельство, что данная
татуировка, я полагаю, прекрасно рифмуется с тюремно-лагерной
гомосексуальной татуировкой, содержащей изображение
смычка и скрипки и носящей название «Маэстро минета» (заметьте,
что тюремно-жаргонное «скрипачка» — это женщина,
специализирующаяся на орально-генитальных контактах, и так же
называется эта татуировка, если она наносится на женское тело;
в то время как «скрипач» — это вор, специализирующийся на
кражах из дамских сумочек). Можно было бы, исходя из
традиционного для, например, русской культуры представления о
скрипке как «аналоге» женского тела, ожидать
соответствующей символико-анатомической референции и здесь. Но
вопреки ожиданиям скрипка в данном случае связывается, как это ни
«странно», с мужским началом: обыгрывается намек на
характерное для фелляции движение, «напоминающее» движение
смычка по струнам, поскольку «маэстро» подразумевает здесь,
разумеется, «мастерски владеющего смычком» (ср.
«настраивать скрипку» в значении «заниматься онанизмом», например,
в словаре «Русский мат», сюда же «скрипка» воровского
жаргона — совсем не женский инструмент для перепиливания
наручников или решетки). Тем более примечательным и
понятным это становится при обращении к татуировке, сохраняющей
название «Маэстро минета», и недвусмысленное для
сообщества указание на fellatio — специализацию носителя, меняющую
изображение смычка и скрипки на изображение дудочки. С сим-
волико-анатомическим объектом последней никаких проблем,
естественно, не возникает — татуировка, в сущности,
восстанавливает в правах этот символ в его оригинальном для
классической и любой другой древности фаллическом значении.
Однако проблем не возникает исключительно в пределах
изображения, поскольку среди тюремно-жаргонных синонимов ануса мы
находим, по крайней мере, сразу три духовых инструмента:
валторну, саму дудку и флейту. Таким образом, что касается
466
скрипичной версии татуировки «Маэстро минета», ни в
традиционно-метафорическую, ни в процессуально-историко-техноло-
гическую, ни в космологическую90 иероглифическую китайскую,
ни в знаково-анатомическую схему, предложенную, например,
Эммануэлем Рудницким (Ман Рэй) в «Violon d'Ingres» (1924),
она не может быть однозначно вписана. Что, в свою очередь,
неплохо отвечает символико-анатомической референциальной
«расщепленности», следующей из комментария составителя
коллекции к татуировке «Орфей»: татуировка наносится на тело
гомосексуалиста, который «способен на все формы разврата».
Эти вызывающие символико-анатомическую «путаницу»
«противоречия» между менее свободным в смене своих
традиционных значений изображением и менее «консервативным»
словом, в сущности, соответствуют тем «противоречиям», которые
возникают из несоответствия формы музыкального
инструмента его тембру. Кроме того, понятно, что если форме оказывает
«поддержку» изображение, то тембру, соответственно, — слово.
Особенно это хорошо видно на примере сленговых значений
английского «kazoo» и «wazoo», однако с некоторыми оговорками в
отношении последнего. Те словари, что фиксируют значения
вульгарно-сленгового «wazoo», дают «анус» как единственное, но,
по различным свидетельствам, в устной практике слово
встречалось и встречается в значении «пенис» (этой же устной традиции
следует, в частности, Д. Ранкур-Лаферьер в своей работе «К
постановке проблемы семиотики пениса» в перечне № 3).
Обращение к этимологии «wazoo» приводит нас непосредственно к
«kazoo», дудочке, «игрушечному музыкальному мембранному
инструменту, издающему жужжащий звук»91. Играющий на нем
извлекает этот звук прикосновением к мундштуку инструмента
сомкнутыми или разомкнутыми губами — «мычит или поет в
мундштук», как указывает толковый словарь английского
языка92. Неудивительно, конечно, что среди сленговых значений
«wazoo», измененного, напомню, от скорее всего имитирующего
соответствующий звук «kazoo», в устной практике мы находим
также значения «канализационная система» — «унитаз» —
«туалет» — значения, словарями, насколько мне известно, не
фиксируемые. Но помимо основного, нормативного среди сленговых
значений самого «kazoo» («gazoo», «gazool») мы имеем всё те же
«ягодицы», «анус» и «туалет» — значения, в словарях как раз
отраженные93. То есть в случае с «kazoo» сленговое употребление
актуализирует только анальные значения, оставляя фаллические
нереализованными, что, следует признать, довольно
неожиданно, но составляет определенную лексико-семантическую тенден-
ю*
467
цию, которой наши татуировки «противоречат», восстанавливая
«утраченное» жаргоном фаллическое значение символа. Или же:
фаллический знак, то есть приобретающий соответствующую
референцию в результате орального взаимодействия
«исполнителя» с соответствующим предметом, в результате этого же
взаимодействия эту символическую референцию «утрачивает»,
сохраняя ее в качестве периферийной и виртуальной (то есть такой,
какая может и должна проявиться — в отличие от
потенциальной), и становится знаком, актуализирующим исключительно
анальные референции. В то время как производный от него знак
эту имплицитную и виртуальную фаллическую референцию
восстанавливает и уравнивает в правах с (необязательно
заимствованной) анальной, становясь своего рода мнемонической
машиной, актуализирующей виртуальные семантику-референцию.
Представляется, что изображение скрипки в татуировке
«Маэстро минета» занимает подобное «wazoo»
референт-промежуточное положение, но, в отличие от «wazoo», намекая на свою
собственную «двуполость» (ср. у Дали94 «анальную скрипку», снабженную
«вибрирующим отростком», а также слово «скрипка» в значении
«клитор» в текстах, сопровождающих фотографии, публикуемые
в порноизданиях). То есть обмен символическими (и «спящими»,
и актуальными) значениями двух инструментов здесь
подразумевает потенциальную трансмиссию как анальной, так и
фаллической референций в каждом из направлений. Я склонен думать,
что это (музыкально-) инструментальное отступление позволяет
оценить по достоинству (знаков) как иронические фигуры,
«всплывающие» из подписи «Орфей», принимая к рассмотрению икони-
ческие элементы смежных татуировок, так и «синонимическое»
со-гласие двух музыкальных инструментов, ставящих под
сомнение невозможность «расщепления» символико-анатомической
референции на фаллическую и анальную, — в целом, казалось бы,
действительно почти невероятного (как считает, в частности,
Д. Ранкур-Лаферьер в работе «К постановке проблемы
семиотики пениса») с точки зрения доминирующей в обществе системы
символических ценностей — в пределах одного и того же знака и
в такой жесткой системе знаковых отношений, какой является тю-
ремно-лагерная татуировка и соответствующий жаргон. То есть
антитеза «кифара-лира (Аполлон-Орфей) — флейта-дудка (Дио-
нис-Пан-Марсий)», конфликт героического и экстатического
снимается нашими татуировками без лишних сомнений.
Ну и наконец, «самое» смешное заключается в том, что
опереточная корона нашей татуировки, корона материнская,
никогда самому Орфею не принадлежавшая, метонимически воз-
468
вращает нам голову обезглавленного и «растерзанного Орфея»,
приравнивая ее к заду и, соответственно, лире (как известно,
согласно некоторым версиям орфического мифа, голова
растерзанного и обезглавленного менадами Орфея приплыла к
острову Лесбос вместе с его лирой, на которой она покоилась).
Таким образом, перефразируя Лену Силлард, суммирующую
высказывание А. Блока о поэзии95, можно, не погрешив против
вышеизложенного, заключить, что одно из назначений тюрем-
но-лагерной татуировки в целом — быть трансмиттером
«опорных слов» (см. начало статьи), что она недвусмысленно и
демонстрирует, превращая знаки восхождения в симптомы
нисхождения и наслаждения...
На правах заключительного комментария к фрагментам
семиотики ануса, хотелось бы привести несколько финальных
соображений. Тюремно-лагерная (или «зональная») татуировка,
как «наличие, сотворенное из отсутствия»96, сплошь и рядом
зияющая «дырами» этого отсутствия, вовлечена в более общий
знаковый процесс, импульсивно движимый «ситуативным подпада-
нием хаосу». Как замечает автор большой монографии по
антропологии популяции зон Е.С. Ефимова, «преступный мир извне
обычно [и] воспринимается как смертоносный и
разрушительный мир хаоса. <...> С точки зрения космоса, для хаоса
характерна неупорядоченность и максимум энтропических тенденций:
хаос характеризуется как сплошная непредсказуемость и
случайность. Однако "изнутри" он видится структурированным и
упорядоченным. Как считают представители тюремного мира,
предельно энтропична официальная культура, ее законы
характеризуются как беззаконие, беспредел. Порядок связывается со
"своей" организацией, "государством" заключенных»97. Надо
думать, извне «обывателю» видится как раз та часть хаоса,
которая хаосом в строгом смысле не является, а представляет собой
его символическую часть, возникающую из взаимоналожения
двух мыслимых социальных порядков, которые обнаруживают
не только зоны близости, но и структурирующие символический
хаос зоны пересечения — единственные, собственно говоря,
поддающиеся наблюдению как таковому. О том, что лежит по
другую от этой взаимности сторону и что остается вне
символического опыта, приходится только догадываться. Между тем
«знаки, нанесенные на тело», дают нам все основания предполагать,
что этот невидимый мир живет хаотической осциляцией между
двумя воображаемыми пределами: одним, за пределами
которого он становится без-предельным и необратимо без-смысленным,
подгоняемый в никуда «чувством медлительного повторения в
469
параличе общей анестезии»98, и другим (другим и для себя), за
пределами которого он о-пределяется смыслом как
возможностью. Вопрос, что это за смысл(ы), я предпочел бы оставить
«теории (черных?) дыр»...
Примечания
1 Husserl Ed. The Crisis of European Science and Transcendental
Phenomenology. Evanston: North-Western University Press, 1970. P. 127
(курсив мой. — Д.С.).
2 См.: Шри Свами Шивананда. Словарь Йоги и Веданты / Пер. на
рус, примеч., ред. Александра Очаповского. Уфа, 2001.
3 См., напр.: Дёготь Екатерина. Террористический натурализм.
M.: Ad Marginem, 1998. С. 145-151.
4 Lacan J. Ecrits: A Selection / Tr. Alan Sheridan. L.: Routledge, 1977.
P. 642.
5 Здесь и далее все иллюстрации, включая их порядковую
нумерацию и следующий за ней комментарий, за исключением специально
оговоренных в основном тексте случаев, даются по изд.: Татуировки
заключенных: Из личного собрания ветерана МВД СССР Д. С. Балда-
ева. СПб.: Лимбус Пресс, 2001.
6 «Знак» — «план манифестации» — «прессупозиция»
(«солидарность») — см.: Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика: Объяснительный
словарь теории языка. М.: Радуга, 1983. С. 493—494.
7 «В отношении целого и частей обе стороны суть
самостоятельности, но таким образом, что каждая имеет другую светящейся в ней и
вместе с тем имеет бытие только как это тождество обеих» (Гегель.
Наука логики// Сочинения. М., 1937. Т. V. С. 615).
8 Виноградов В.В. О формах слова// Изв. АН СССР. Сер. ОЛЯ.
1944. Т. 3. Вып. 1. С. 17.
9 Немало интересных замечаний содержится в работах тартуского
семиолога Елены Мельниковой-Григорьевой: Григорьева Елена.
Эмблема: структура и прагматика. Dissertationes Semioticae Universitates
Tartuensis 2. Tartu University Press. Tartu, 2000; а также: Григорьева
Елена. Эмблема и сопредельные явления в семиотическом аспекте их
функционирования//Труды по знаковым системам XXI. Tartu, 1987.
С. 78—88. Для контрверсиальных «психоаналитических» замечаний в
области символического см. масштабную философскую работу Анны Ара-
ньо (к сожалению, не учтенную Григорьевой): Aragno Anna. Symboli-
zation: Proposing a Developmental Paradigm for a New Psychoanalytic
Theory of Mind. Madison (CO): International Universities Press, 1997.
10 Край fax Т. Жаргон гомосексуалистов // Русистика. Берлин, 1994.
№ 1—2. С. 124—132. См. также: Козловский В. Арго русской
гомосексуальной культуры. Benson: Vermont, 1986; Толковый словарь
уголовных жаргонов/Под ред. Ю.П. Дубягина, А.Г. Бронникова. М., 1991;
Быков В. Русская феня: Словарь современного интержаргона асоциаль-
470
ных элементов // Specimina Philologiae Slavicae. Bd. 94. München: Verlag
Otto Sagner, 1992; Словарь тюремн&лагерно-блатного жаргона/Авт.-сост.
Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов. М., 1992; и т. д.
11 Клейн A.C. Другая любовь: Природа человека и
гомосексуальность. СПб.: Фолио-Пресс, 2000. С. 568 и ел.
12 См.: Дубягина О.П., Дубягин Ю.П., Смирнов Г.Ф. Культ тагу. М.:
Юриспруденция, 2003; Дубягина 0.77., Дубягин Ю.П. Проблема
розыска без вести пропавших. М.: Юрлитинформ, 2003.
13 Следует учесть, что нанесение татуировок происходит уже в
детских исправительных учреждениях и, как подчеркивают
некоторые авторы, основной корпус татуировок формируется до 28—30 лет,
см., напр.: Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Психология
подростковой преступности. М., 1998. Кн. 1 (на С. 119 автор
предлагает также довольно убедительную классификацию криминальных
татуировок); а также: Визуальная психодиагностика криминальных
признаков личности // Прикладная юридическая психология / Под ред.
A.M. Столяренко. М.: Юнити-Дана, 2001. Часть Ш, гл. 8.6.
14 Schonfeld William A. The Body and the Body-Image in Adolescents //
Adolescence: Psychological Perspectives / Eds. Caplan G., Lebovici S. New
York: Basic Books, Inc. 1969. P. 97. Рус. перевод фрагмента: Сталин В.В.
Самосознание личности. М., 1983. С. 121.
15 Плуцер-Сарно А. Язык тела и политика: символика воровских
татуировок // Татуировки заключенных: Из личного собрания
ветерана МВД СССР Д.С. Балдаева. СПб.: Лимбус Пресс, 2001. С. 7-12.
1(3 Lacan J. Le Seminaire: Livre XX. P.: Seuil, 1975. P. 247-248.
17 См.: Миллер Жак-Алан. Доклад на семинаре в Барселоне (1996),
посвященный лекции 3. Фрейда «Die Wege der Symptombildung» //
Psychoanalytic Notebooks of the London Circle 1 (Fall 1998). P. 11-65.
Русский перевод, сверенный с оригиналом статьи, дается по: http://
lacan.narod.ru/ind_lak/zizl9.htm.
18 См.: Фрейд 3. По ту сторону принципа наслаждения // 3. Фрейд.
Основной инстинкт. М.: Олимп; АСТ-ЛТД, 1997. С. 119.
19 См.: Александров Ю.К. Очерки криминальной субкультуры. М.:
Права человека, 2001. Глава «Уголовный жаргон (арго) и татуировки».
С. 45-60.
20 Deren Maya. Meditation on Violence (1948, music arranged by Maya
Deren, 12 min) //Maya Deren. Experimental Films. New York: Mystic Fire
Video, 2002. P. 19-37.
21 Шубин В.И. Копье как символ в поэмах Гомера // Античное
общество — IV: Власть и общество в античности. Материалы
международной конференции антиковедов, проводившейся 5—7 марта 2001 г.
на историческом факультете СПбГУ. СПб., 2001. С. 110—114.
22 Ладыгина О.М Культура мифа: Книга для учащихся. М.: НОУ
«Полярная звезда», 2000. С. 49.
23 См.: Энгельштейн Л. Скопцы и Царство Небесное: Скопческий
путь к искуплению. М.: НЛО, 2002; а также: Мантегацца 77. Любовь
рода человеческого. М.: КРОН-Пресс, 1999.
471
24 См.: Ранкур-Лаферъер Даниэл. «Крейцерова соната»: Клейнианс-
кий анализ толстовского неприятия секса // Психоаналитический
вестник. 1999. № 1. С. 162-176.
25 Chassege-Smirgel J. Perversion and the Universal Law //J. Psycho-
Anal. 1983. № 10. P. 293.
2(3 «Где "божественный маркиз", там, естественно, и революция»
(Кобрин Кирилл. Порнография и буржуазия // Митин журнал. № 59.
С. 319—320. — http://vvww.mitin.com/mj59^obrin.shtrnl), причем
революция любая, поскольку любая из них стремится смешать и скрестить
то, в чем она видит разделение, различие и назначение.
27 Шекспир У. Троил и Крессида // Полное собрание сочинений в
восьми томах. М.: Искусство, 1959. Т. 5. С. 349. Перевод Т. Гнедич.
28 Ср.: Klein Melanie. Notes on some schizoid mechanisms // The
International Journal of Psycho-Analysis. 1946. Vol. 27. P. 99—110. Рус. пер.
см. в сб.: Кляйн М., Айзеке С, Райвери Дж., Хайманн П. Развитие в
психоанализе / Научн. ред. И.Ю. Романов. М., 2001. С. 38—59.
29 Менегетти А. Словарь образов: Практическое руководство по
имагогике. М., 1991.
30 См.: Тайсон Ф., Тайсон Р. Психодинамические теории личности.
Екатеринбург: Деловая книга, 1998. Р. 90.
31 Поэтические отрывки цит. по: Александров Ю.К. Очерки
криминальной субкультуры. М.: Права человека, 2001, а также: Тюремная
лирика. Российские вийоны. М.: ACT; Гея итэрум, 2001.
Небезынтересным здесь представляется следующее сравнение:
«Америка — это страна мальчиков, которые не хотят становиться
взрослыми (Сальвадор де Мадариага). Мужчина в ней остается
инфантильным. "Этим объясняется как существование, так и смысл того
аномального, поистине чудовищного комплекса матери, гротескные
размеры которого столь живописно символизирует национальный
праздник Mothers day (День матери)" (Кайзерлинг Г. Америка, заря
нового мира. СПб., 2002. С. 278)» (Медведев А. Возвращение
мужественности//Литературно-философский журнал «Топос». 05.02.04 —
http://www.topos.ru/article/2024).
32 Искусство единства и согласия: Новая экспозиция в Третьяковской
галерее // Художественный журнал. М., 2001. № 33 (http:/\vww.guelman.ru/
xz/362/xx33/xx3315.htm).
33 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции 16—35. СПб.: Алетейя,
1999. С. 383.
34 Рассел Джейми. «Пидор» Берроуза: Вопреки парадигме // Митин
журнал. № 60. С. 231—269. — http://www.mitm.com/mj60/rassel-l.shtml.
Внутренняя цитата: Hocquenghem Guy. Homosexual Desire/Tr. D. Dan-
goor (1972; переизд.: London: Allison and Busby, 1978).
35 Бодрийар Ж. Фрагменты из книги «О соблазне» // Иностранная
литература. 1994. № 1. С. 57—69. Для целей данной работы перевод
процитированного в тексте фрагмента, выполненный Алексеем Гарад-
жи и опубликованный в 1994 г., показался мне, ввиду его лексической
здесь уместности, более подходящим, нежели переработанный им и
472
опубликованный в издательстве «Ad Marginem» в 2000 г. Хотя
последняя версия во многих отношениях, несомненно, интереснее и точнее.
36 Проникновенный анализ проблемы отношения мазохизма к
садизму мы находим, напр., в не так давно опубликованной (на иврите) статье
Иоэля Регева «Лицо мазохистской революции: Жиль Делёз за секунду до
настоящего». Тель-Авив: Реслинг, 2002 (,Д],170П ,//т* ,л1шлп лто!/ -)\т\з.
«чэ1? vn *vä ïïi Ут :л'ооо1тпп пээппп *?*у гизэ». пап W 2002).
37 Lacan J. Ecrits. P. 235.
38 Лакан Ж. Семинары: Кн. 1: Работы Фрейда по технике
психоанализа (1953/54). М., 1998. С. 414.
39 Наши Ж.-А. Corpus. M.: Ad Marginem, 1999. С. 35.
40 Слотердайк Петер. Критика цинического разума. Екатеринбург:
Изд-во Уральского университета, 2001. С. 178. Глава «Зады».
41 Lacan J. What is a Picture // Four Fundamental Concepts of
Psychoanalysis/Ed. J.-A. Miller; tr. A. Sheridan. London: Penguin, 1979. P. 107.
42 Jagodzinski Jan. Women's Bodies of Performative Excess: Miming,
Feigning, Refusing, and Rejecting the Phallus //Journal for the
Psychoanalysis of Culture and Society. 8.1. The Ohio State University, 2003. P. 23-
41. По осмыслению женского тела в контексте славянской традиции
см. замечательную монографию Г.И. Кабаковой «Антропология
женского тела в славянской традиции» (М.: Ладомир, 2001). Для общего
плана культурологической и литературоцентричной практики в
славистическом ракурсе см. серию работ Барбары Хельдт: Heldt В. Terrible
Perfection: Women and Russian literature. Indiana (BL), 1987. Для
культурологического компаративистского взгляда на вопрос о «соматических
идентичностях», позволяющих говорить о различии уровней так
называемой «фемининности» (или «женоподобия») см. монографию
Марты Зайонц (имя непридуманное): Zajaç Marta. The Feminine of
Difference: Gilles Deleuze, Hélène Cixous, and Contemporary Critique.
Frankfurt am Main; New York: P. Lang, 2002; или: Lorraine, Tamsin E.
Irigaray & Deleuze: Experiments in Visceral Philosophy. Ithaca: Cornell
University Press, 1999; а также собрание очень интересных работ в:
«Writing on the Body»: Female Embodiment and Feminist Theory/Ed. by
Katie Conboy, Nadia Medina, and Sarah Stanbury. N.Y.: Columbia
University Press, 1997.
43 Lacan J. Ecrits. P. 642.
44 Ткаченко A.A., Введенский Т.Е. Феноменология и психопатология
парафильного поведения // Аномальное сексуальное поведение / Под
ред. A.A. Ткаченко. М, 1997. С. 71-134 (гл. 2).
45 Разумеется, слово «движение» здесь в высшей степени условно,
поскольку в любом эзотерическом, тайном языке, каким является язык
тюремно-лагерной татуировки, мы можем наблюдать в крайнем случае
только часть этого движения — в пределах
конвенционально-символического знакового инвентаря. Кроме того, тюремно-лагерная татуировка
получила действительно широкое распространение в соответствующей
среде в России только на рубеже XIX—XX веков, так что говорить о
движении от иконического к узкоконвенциональному на материале
473
самой татуировки возможным не представляется. Речь идет о
политико-культурной тенденции как таковой, находящей, возможно, свое
частичное отражение в «среде». Следует также учесть, что многие
символы попали в сферу криминальной татуировки в уже «готовом» виде,
будучи заимствованы из сопредельных социальных групп. Как пишет
польский исследователь татуировки Анджей Ельски, «подтверждением
этого тезиса является распространенный обычай татуировки среди
моряков, которые, кстати, в XVÏÏI веке наряду с другими факторами
стали своеобразными соучастниками ренессанса татуировки на
Европейском континенте, "импортируя" ее между делом из просторов
Южных морей. Для точности следует добавить, что в то время
большинство моряков набиралось из представителей преступного мира»
[Ельски Анджей. Татуировка. Минск: Мет, 1997. С. 125).
46 О знаковой динамике запрета см., в частности: Чернов И. А.
Труды по знаковым системам III. Тарту, 1967. С. 45—47, 56—57.
47 Ефимова Е.С. Субкультура тюрьмы и криминальных кланов. —
http://vvww.iTithenia.ni^olldore/enmova5.htm.
48 См., напр.: Лурье С. Антисемитизм в древнем мире. Петроград:
Былое, 1922 — сочинение, с точки зрения авторской работы с
античными источниками, остающееся по сей день актуальным и ценным,
хотя в определении причин античного антисемитизма и не лишенное
крайне спорных утверждений.
49 Библиографию и подробный анализ см.: Gilman Sander. The Jew's
Body. New York; London: Routledge, 1991; Idem. Picturing health and
illness: Images of identity and difference. Baltimore; London: The Johns
Hopkins University Press, 1995.
В ряду наиболее важных исследований, посвященных телесности
per se, следует особо отметить также недавнюю штудию российской
исследовательницы Ирины Быховской: Быховская ИМ. Homo somati-
kos: аксиология человеческого тела. М.: Эдиториал УРСС, 2000,
снабженную, кроме всего прочего, необходимой научной библиографией;
а также пространную философскую работу украинского
исследователя: Косык Валерий А. Эпистемология человеческой телесности. Сумы:
Университетская книга, 2002. Из западных работ на эту тему см.
сборник научных работ: Cultural Bodies : Ethnography and Theory / Ed. by
Helen Thomas andjamilah Ahmed. Maiden (MA): Blackwell Pub., 2004.
См. также интересную работу испанского философа Адрианы Каве-
ро «Corpo in figure», доступную по-английски: CavareroA. Stately Bodies:
Literature, Philosophy, and the Question of Gender / Tr. Robert de Lucca
and Deanna Shemek. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002;
Turner Bryan S. The Body and Society: Explorations in Social Theory. 2nd
ed. London; Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 1996; и для
контраста: Shilling Chris. The Body and Social Theory. London; Newbury Park
(CA): Sage, 1993.
50 См., напр.: Abgestempelt: Judenfeinoliche Postkarten.
Museumsstiftung Post und Telekommunikation und Judisches Museum Frankfurt am
Main. Heidelberg: Umschau Braus, 1999.
474
01 В связи с социально-групповым запретом на иконический знак
в тюремно-лагерной татуировке «гомосексуалистов» и
предубеждением религиозной еврейской культуры против портрета (особенно
трехмерного, скульптурного) можно упомянуть готовящуюся к
публикации (по-английски) статью Дениса Иоффе, посвященную
византийскому иконоклазму и составляющую замечательную параллель нашим
размышлениям: The Name of the Egyptian Thoth — the Thoth of The
Name: Ikos as Praxis and Theoria: Some apocryphal considerations
concerning with the philosophy of Iconoclasm and Hesychast
aporia//Преломления. Sankt Petersburg, 2004. Vol. 5. (В печати.)
Что касается крайне противоречивой истории еврейской
визуальной культуры, тема эта настолько обширна, что даже краткий экскурс
занял бы не одну страницу. Поэтому здесь я ограничусь несколькими
ссылками, в том числе и на собственные недавние изыскания в этой
области: Soloviev Dennis. Collectio Judaica: Axiology of Jew's body sub
speciae artefactorii. Tel-Aviv: Rosenfeld, 2004 (иврит, английский). Среди
наиболее фундаментальных работ, затрагивающих, в частности,
проблему фигуративных деформаций в средневековых еврейских
иллюминированных манускриптах, см.: Ameisenowa Zofia. Animal-Headed
Gods, Evangelists, Saint and Righteous Men //Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes. 1949. XII P. 21—45; Strauss Heinrich. Die Kunst der
Juden im Wandel der Zeit und'Umwelt. Tübingen, 1972; Melinkoff Ruth.
The Mark of Cain. University of California, 1981; Бецалель Наркисс. О зоо-
кефальном феномене в средневековых ашкеназских манускриптах //
Еврейское искусство в европейском контексте: Сб. ст. Иерусалим: Ге-
шарим, 2002. С. 51-67; т. д.
52 См.: Gilman S. P. 120.
53 Idem. P. 120.
54 Idem. P. 121.
55 Ibid. P. 123; Joliffe Gray, Mayle Peter. Man's Best Friend. L.: Pan
Books, 1984 (ссылка, разумеется, на книгу комиксов, а не на
финансовую газету).
56 Gilman S. P. 124; Banister Joseph. England under the Jews. [3rd
edition]. L.: [J.Banister], 1907. P. 67.
57 См.: Gilman S. P. 125; Пруст M. Содом и Гоморра. M.:
Республика, 1993. С. 30.
58 Gilman S. P. 125.
59 Ibid.
60 См.: Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М.,
1996. С. 433.
61 Proust M. Remembrance of Things Past / Tr. C.K. Scott Moncrieff,
Nerence Kikmartin. Harmondsworth: Penguin, 1986. Vol. 1. P. 326.
62 Gilman S. P. 127.
63 Ibid.
04 Котоптрика — наука об отражении света. Карикатуры ниже
заимствованы из: Abgestempel. Р. 53, 198.
65 Ефимова Е. С. Субкультура тюрьмы.
475
66 Там же.
67 Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х т. / Под ред. С.А.
Токарева и др. М.: БРЭ, 2003. Т. 2.
68 Как это фиксирует, напр., популярный словарь: Русский мат /
Сост. Ахметова Т.В. М.: Глагол, 1996.
69 Ch. X—XII, with a commentary. München, Bayerische
Staatsbibliothek, ms clm 5973, 21v—233v. (Reichling (1893) cliv paragraph 162). Дается
по: Knox Dilwyn. Ironia: Medieval and Renaissance ideas on irony. Leiden;
New York: EJ. Brill, 1989. P. 59.
70 Стюарт Джон. Возвращаясь к символической модели:
Нерепрезентативная модель природы языка: Пер. с англ. И.В.
Полякова//Знаковые системы в социальных и когнитивных процессах / Ред. И.В.
Поляков. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. С. 84—111.
71 Ефимова Е. С. Субкультура тюрьмы.
72 Лотжан Ю.М. Анализ поэтического текста: О «плохой» и
«хорошей» поэзии // О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство-СПб., 1996.
С. 516-529.
73 См.: Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть/Пер. С.Н. Зен-
кина. М.: Добросвет, 2000. С. 114.
74 Плуцер-Сарно А. Язык тела и политика // Татуировки
заключенных: Альбом. СПб.: Лимбус-Пресс, 2001. С. 9-12.
75 О фольклорной версии басни см., напр.: Левинтон Г.А.
«Интертекст» в фольклоре // Folklore in 2000. Voces amicorum Guilhelmo Voigt
sexagenario. Budapest, 2000. P. 21—28. Электронную версию статьи см.
по адресу: http://irithenia.iTi/folWore/levintonl.htm.
76 См., напр.: Лупандина O.A. Информационная избыточность в
текстах нормативно-правовых актов. Автореферат диссертации...
канд. юрид. наук. Волгоград: Ростовский юридический институт МВД
России, 2001. Она же. Логико-лингвистический анализ
содержательно-правовой эквивалентности и избыточности в текстах нормативно-
правовых актов // Фундаментальные и прикладные проблемы
приборостроения, информатики, экономики и права. Тезисы докладов
II Международной конференции. М.: МГАПИ, 1999; Она же.
Определение системной информационной избыточности путем
сравнительного анализа текстов нормативно-правовых актов //
Юридический сборник. Ростов н/Д; Таганрог: ТРТУ, 2000. Вып. 1: Теория
права и правовая информатика; Она же. О возможности использования
информационной избыточности в законодательной технике //
Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы,
совершенствование / Под ред. проф. В.М. Баранова: Сб. ст. в 2-х т.
Н.Новгород, 2001. Т. 1.
77 Из преамбулы диплома (1443 г.) Людовика VII, цит. по: Гофф Ж.
Ле. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс;
Прогресс-Академия, 1992. С. 218—219 (глава «Христианское общество»).
78 См.: Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Диалог.
Карнавал. Хронотоп. 1993. № 3. С. 11—19. Впрочем, различение пародии
и карнавала, которое так тщательно разрабатывала Кристева, было
476
заложено еще самим Бахтиным, который писал: «<...> необходимо
подчеркнуть, что карнавальная пародия очень далека от чисто
отрицательной и формальной пародии Нового времени: отрицая,
карнавальная пародия одновременно возрождает и обновляет. Голое
отрицание вообще совершенно чуждо народной культуре» (Бахтин М.М.
Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и
Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. С. 16). См. также критику этого
положения в монографии Ричарда Берронга: Berrong Richard M. Rabelais
and Bakhtin: Popular Culture in «Gargantua and Pantagruel». Lincoln:
University of Nebraska Press, 1986.
79 Банников К. В армии как на зоне: насилие и унижение стали
нормой // Новая Камчатская правда. 2000. март. № 12.
80 Ефимова Е. С. Субкультура тюрьмы.
81 Лотман Ю. Выход из лабиринта// Эко У. Имя розы. М., 1998.
С. 650-669.
82 Там же.
83 Обзор теорий смеха, в том числе в его связи с агрессией, см.:
Дмитриев A.B. Социология политического юмора: Очерки. М.,
Российская политическая энциклопедия, 1998. С. 259—296.
84 Durkheim Е. Les formes élémentaires de la vie religieuse, le système
totémique en Australie. P., 1912; a также: Дюркгейм Э. Коллективный
ритуал / Пер. В.И. Гараджи // Религия и общество: Хрестоматия по
социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М.: Аспект
Пресс, 1996. С. 127-159.
85 «Материалы <...> из практики личной работы автора в
правоохранительных органах. При перепечатке (независимо от формы, в т. ч.
электронном виде) ссылка на издание, автора и http://vvww.aferizm.ru/
обязательна», которую я с удовольствием и даю: Уголовная империя:
Короли и пешки. — http://www.aferizm.rn/criminal/cri
2000—2004. Гл. «Пацаны, шестерки, громоотводы».
86 Овидий. Метаморфозы. М., 1977. С. 247.
87 Зайцев Б. Наш Дюрер и его двойники // Риск. М.: АРГО-РИСК;
Тверь: Колонна, 2002. Вып. 4. С. 159-178.
Даны ссылки на следующие публикации: Wind Е. Hercules and
Orpheus: Two mock-heroic designs by Dürer //Journal of Warburg and
Courtauld Institutes. 1939. № 2. P. 206-218; Rosasco B. Albrecht Duerer's
Death of Orpheus: Its critical fortunes and a new interpretation of its
meaning//Idea: Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle. Hamburg, 1984. [3].
P. 19-41.
88 Ахметсафин A. H. О связи звукоряда со строением человека (на
примере китайского звукоряда Люй Люй) // Сборник тезисов
докладов к 4-му Всесоюзному научно-практическому семинару «Искусство,
наука, техника: пути сопряжения». Уфа, 1989.
89 См., напр.: Strohmayer Wolfgang. Traditional Design Principles in
the Early History of Keyboard Instruments // Clavichord International.
2002. May. Parts 1 & 2. P. 13-21; 2002. November. Part 3. P. 44-46,
рассматривающего этот круг вопросов в связи с манускриптом (ок.
477
1440) Arnaut de Zwolle, где последний дает изображение
«правильного», с пифагорейской точки зрения, клавикорда; а также: O'Brien
Grant. The use of simple geometry and the local unit of measurement in
the design of Italian stringed keyboard instruments: an aid to attribution
and to organological analysis//Galpin Society Journal. 1999. 52. P. 108—
171; Wraight Denzil. Überlegungen zu Mechanik und Mensurentwicklung
im Cembalobau des 15. Jahrhunderts//Das Österreichische Cembalo/
Ed. A. Huber. Tutzing, 2001. S. 79—88. Любопытные замечания о
пифагорейской теории музыкального инструментария см. в
инициальной главке важной историко-музыковедческой книги Кати Мейер-
Баер: Meyer-Baer Kathi Music of the Spheres and the Dance of Death:
Studies in Musical Iconology, Princeton (NJ): Princeton University Press,
1970. P. 197-217.
90 Анализ музыкальных инструментов в таком семантическом
аспекте см., напр., в классической работе «Дух и становление
музыкальных инструментов» (1929) — первой в своем роде: Sachs Curt. Geist und
Werden der Musikinstrumente. Hilversum: Knuf, 1965.
91 The American Heritage: Dictionary of the English Language. Boston:
Houghton Mifflin, 2000. P. 418.
92 Ibid.
93 См., напр.: American Slang/ Ed. Chapman, Robert L. New York:
Harper & Row, 1987. P. 250 (kazoo), 475 (wazoo).
94 См.: Дали С. Дневник одного гения / Пер. Н.О. Захаровой. М.:
Искусство, 1991. С. 174 и ел.
95 См.: Силард Лена. Орфей растерзанный и наследие орфизма//
Герметизм и герменевтика. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. С. 85.
96 Lacan J. Ecrits. P. 65.
97 Ефимова E. С. Субкультура тюрьмы.
98 Уайтхед А. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 660.
Наташа Друбек-Мейер
ДЕВУШКА С ПЛЮСОМ
Механизмы фетишизации в кинематографе
Высокого сталинизма1
Почему многим современным зрителям нравится
кинопродукция Высокого сталинизма? Когда зритель смотрит картины тех
лет, он испытьюает явственную потребность деконструироватъ ту
Норму, которая в них представлена: «Ideologiekritik» уже не пред-
ставлется нам ни актуальным, ни даже адекватным методом, и я
подозреваю, что наша деконструктивная позиция по отношению
к массовой культуре тоталитаризма сама несет заряд перверсив-
ного удовольствия. Возникает вопрос: что получается вследствие
деконструктивного чтения «сталинской эпохи»2, если сама
деконструкция как метод снимает тоталитарный грех этой эпохи?
Интересно, что «deconstructive pleasure» отнюдь не привязано к
культурным особенностям. Можно также спросить, не является ли
формой фетишизма и «суррогатности» сама мода на сталинское
кино, распространившаяся в последнее время в «Slavic studies»?
Последователи этой моды, по-видимому выученные «новыми
историками», избегают однозначных приговоров, предпочитая
различные варианты «undecidability». Вуайеристскск|)етишистская
позиция позволяет академическому зрителю умную насмешку над
прошлым, не исключая возможность некой подспудно-подпольной
идентификации с героями «Чапаева», «Цирка» и «Волги-Волги».
Вместе с тем эта «подвешенность фантазма» (Deleuze 1968: 187) у
сегодняшнего зрителя препятствует рефлексии и сознательному
историческому анализу (если таковой вообще признается
необходимым). Очевидно, мы имеем здесь дело не с философской
деконструкцией, а скорее с ее популярной формой, связанной с
«неразрешимостью» различных модусов читательского восприятия.
479
Наоми Шор определяет деконструкцию как высшую форму
философского фетишизма, позволяющую использовать
«сумасшедшую логику» фетишиста как стратегию преодоления
метафизики и «фаллоцентризма»3. Можно ли сказать, переворачивая
это суждение, что фетишистский suspense влечет деконструктив-
ную позицию (как в триллерах Хичхока)? Фильм и фетишизм —
не новая, но всегда важная тема, поскольку сущность кино не в
том, что оно показывает, а в том, что показанное замещает и что
остается (не)видимым на экране — как в плане «языка», так и в
чисто объектном смысле. Но нечто от Невидимого кино всё же
демонстрирует. Фильм — это и есть фетиш. Суррогатный
заместитель мира. И фетиш того, что мы привыкли считать
видимым (реальное движение, а не простую последовательность
статичных кадров).
Девушка как симптом:
загадка денежного фетишизма
По мнению Славоя Жижека, следующего «симптомологиче-
ской модели» Маркса, идеология, на основании ее неизбежных
умолчаний и обмолвок, может быть сведена к своему
вытесненному содержанию (см.: Zhizek 1991: 117). В качестве Сверх-Я и
порядка символического (т. е. в области Воображаемого
Символа) идеология, исключая отдельные факты из своего дискурса,
делает их несуществующими.
В связи с этим возникают вопросы: что именно исключает
(вытесняет) идеология и что является вытесненным
содержанием самого марксизма, на котором основана советская
идеология? Какие именно пробелы и обмолвки составляют ее
симптоматику? Если попытаться ответить на эти вопросы на
основании советской кинопродукции 1930-х годов, то мы придем к
интересному выводу: симптом советской идеологии —
«девушки с плюсом»4. Идеологическое вытеснение в сочетании с
маргинализацией женского тела в кино советского авангарда
превращает женщину в «место различия» — воплощение кастрационной
угрозы5. Возвращение вытесненного в фильмах сталинской
эпохи выражается не в избыточной чувственной ощутимости, а в
метафизической полноте («девушка с характером») и
абстрактном изобилии («богатая невеста»). Таким образом возникает
новый тип фетишизма, связанный не с «визуальным
наслаждением» женщиной, как в западном кино, а с утверждением
ценностей маскулинного типа.
480
Обратимся к истории понятия «фетиш», возникшего как
этнографический термин и вскоре усвоенного другими
дисциплинами. Первую книгу «Капитала» (1867) Карл Маркс
открывает главой «Товар и деньги», в которой, анализируя формы
стоимости, приходит к выводу, что при капитализме не только
товар, но и деньги имеют фетишистский характер. «Загадка
денежного фетиша есть та же загадка товарного фетиша,
которая лишь стала вполне видимой и ослепляет взор своим
металлическим блеском» (Marx 1983/ХХШ: 108). В качестве «меры
стоимости» деньги — как бумажные, так и металлические —
противостоят продукту труда, обладающему «потребительной
стоимостью» и приобретающему в качестве товара «меновую
стоимость». Деньги, таким образом, всегда выступают в качестве
заместителя и суррогата, позволяя соизмерять стоимости
товаров в процессе обмена. Отсюда — принципиально фетишистский
характер денег («aliquid pro aliquo» — букв.: «одно замещает
другое»). Марксов донос на «денежный фетишизм» (Derrida
1999: 9) играет важную роль в марксистски ориентированных
экономических теориях. Соответственно, существует и
традиция «сопротивления деньгам», представленная как в
экономическом дискурсе, так и в соотносимых с ним художественных
текстах.
Итак, в советском обществе денежный фетишизм объявлен
несуществующим. Это значит, что вытесненный фетиш сам
становится объектом, требующим компенсации. На месте
вытесненного неизбежно возникает новый визуальный объект,
заполняющий пустоту. Как происходит это замещение (Ueberlagerung)
первичного фетиша вторичным, искусственным, фетишем? И
как выглядит этот процесс на полотне экрана — главном
полигоне фетишистских тактик?
Наглядные симптомы социальной и психической экономии
сталинизма представлены в звуковом кино — ведущем
медиальном средстве 1930-х годов, отражающем как идеологию, так и
«вторжение Реального» (Zhizek 1991: 117)6.
Фетиш, как и симптом, связан с несимволическим (в
смысле Пирса), т. е. неконвенциональным отношением между
означающим и означаемым. Симптом — индексальный знак, тогда
как фетиш основан на смежности метонимического типа7.
Фетишизм, понятый в широком смысле — как
конструирование различного рода виртуальных субститутов,
представляется основной практикой культуры сталинизма накануне
Второй мировой войны8. Специфической функцией кино является
то, что оно демонстрирует процедуры фетишизации in actu.
481
Рассмотрим два фильма конца 1930-х годов — «Богатую
невесту» (Украинфильм, 1938), фильм, снятый многократным
лауреатом сталинских премий Иваном Пырьевым, и
«Девушку с характером» (Мосфильм, 1939) — режиссерский дебют
Константина Юдина.
Фетишизация суррогатов
как «защитная нейтрализация»
визуального типа
Фрейд рассматривал деньги в ряду взаимозамещающих объектов:
экскременты, ребенок, пенис, оружие, подарок. Поскольку деньги
являются звеном этого ряда, они обозначают также эквивалентность, то есть
безразличие серийной субституции (Derrida 1999: 21).
Психоанализ исходит из того, что фетиш является
«заместителем женского фаллоса»:
<...> фаллос женщины — психическая реальность, и это не та
реальность, что приписывалась женщине прежде. На месте фаллоса возникает
другой объект, замещающий утраченное и также наследующий интерес,
связанный с ним (Freud 1999: 312).
Фрейдовский комментарий, иллюстрирующий
«детерминацию фетишистского объекта» (см.: Там же: 315), позволяет
говорить о замене метафорического принципа («символ»)
метонимической («транзитивной», «фиксирующей») сигнификацией.
При возникновении фетиша происходит задержка психического
процесса, напоминающая фиксацию воспоминания при травматической
амнезии. Интерес как бы замораживается, сохраняя последнее впечатление
как фетиша от объекта травмы (Das Unheimliche). Особая роль ног и
обуви как фетишистских объектов объясняется тем, что любопытство
ребенка выслеживает женские гениталии начиная снизу, от ног; мех и
бархат, как давно было замечено, — образы волосяного покрова
гениталий (Freud 1999: 315).
В предисловии к «Венере в мехах» Л. Захер-Мазоха Делез,
продолжая мысль Фрейда о секвентности, подчеркивает момент
визуальной компенсации при замещении травматического
(«невидимого») объекта:
В качестве фаллического субститута фетиш — эксплицитное средство
лжи, поддерживающее полную иллюзию женского фаллоса. Фетиш — это
последний объект, который увидел ребенок, перед тем как заметил
отсутствие фаллоса... Фетиш ни в коем случае не символ, а скорее застывшая
фотокартинка, к которой сознание постоянно возвращается... В этом
смысле фетишизм — это, во-первых, негация, а во-вторых защитная
нейтрализация (Deleuze 1968: 185—186).
482
Делез говорит о фотографии, однако более естественным
было бы выделить здесь кинематографический аспект. Если
процесс фетишизации представить в виде монтажа, то можно
говорить о застывшем кадре, предшествующем
травматическому моменту. Или в хронологической инверсии: камера
скользит с места отсутствия на смежный объект, которому суждено
стать капканом для фетишиста — повязка чулка, мех. Если
последний пример воплощает принцип метонимического
вытеснения, то в других текстах Захер-Мазоха, используемых Деле-
зом, встречается метафорический скачок: женская туфелька
становится объектом, компенсирующим фантазм материнского
пениса. О суррогатном характере фетишистского объекта
свидетельствует этимология слова «фетиш». Это слово,
пришедшее в немецкий язык в XVIII веке, происходит от
португальского «fetiço», «по(д)делка, украшение» (ср. также латинское
«facere» — «делать, изготавливать»).
В основе фетишизма лежит отрицание реальности, «негация»,
а также либидинальная инвестиция «подвешенного фантазма»:
Речь идет о том, чтобы, отрицая мир, перевести его в некое
подвешенное состояние и заменить идеалом, также подвешенным в колебательном
состоянии фантазма. Мазохист оспаривает права реального, чтобы создать
более чистое основание феноменального, ведь «юридический дух» крайне
характерен для мазохизма. Неудивительно, что эта процедура зачастую
заканчивается фетишизмом (Там же: 187).
Трактовка мазохизма как своего рода отрицания реальности,
но не в смысле разрушения, а в смысле ее «подвешивания»,
соответствует, как кажется, задачам социалистического реализма в
той форме, как они понимались в 1930-е годы, когда картины
«светлого будущего» менее всего совпадали с обликом советской
жизни. Функцию виртуального суспенсория в первую очередь
выполняет кино — искусство, которое (в отличие, например, от
архитектуры) основывается на более относительном «Реальном».
Желание, направленное на отсутствующие (запретные или
несуществующие) объекты, подвергается в советском обществе
«нейтрализации» и дальнейшей «канализации». Поскольку частная
собственность, «погоня за чистоганом» и образование манящих
«сокровищ»9 по идеологическим причинам запрещены, то
переход от капиталистической экономики к социалистической
требует введения альтернативных знаков стоимости. Одним из
главных инструментов канализации денежного интереса и стремления
(отчасти эстетического) к накоплению «сокровищ»10 становится
соцреалистический фильм, внедряющий и пропагандирующий
новые «знаки стоимости» (Маркс). Фетишистский «секрет» пере-
32*
483
мещается из интимной сферы в публичную; массовое
производство ценностных суррогатов приобретает эротическую функцию.
Этому в значительной степени способствует сама природа
кинозрелища, позволяющая создать референцию к вытесненной
ценности — например, путем актуализации чувственного аспекта
изображения. Искусство монтажа также может быть средством
валоризации [т. е. придачи ценности] объектов, лишенных самих
по себе эстетической привлекательности. Фетишистская
мотивация зрителя связана с консервацией жанровых ожиданий
(например, детективных или «гангстерских»), позволяющих
использовать в роли денег или «сокровища» произвольный объект.
Магическую силу объекту придает сам сюжет: достаточно вспомнить
волшебное действие партбилета в фильме «Партийный билет»
(этнология определяет фетиш как «предмет, обладающий
магической силой»). Таким образом, можно утверждать, что фильм
функционирует в коллективном бессознательном как сложный
механизм переноса ценности на новый субстрат.
Обесценивание денег
и фетишизация рабочей силы
Согласно Марксу, «деньги — необходимая форма
проявления имманентной товарам меры стоимости — рабочего
времени» (Marx 1983/ХХШ: 109). Деньги — эквивалент рабочего
времени. В фильме Пырьева «Богатая невеста» эта
эквивалентность распадается: рабочее время, теряя связь с производством
товаров, становится мерой самого себя.
В советской системе 1930-х годов «рабочее время» и «объем
продукции» играли несравнимо более важную роль, чем
качество и потребительная цена11. Это естественно, поскольку при
отсутствии рынка и конкуренции стоимость товара несущественна
и его польза для потребителя не гарантирована. Лишенный
обменной и потребительной реальной ценности, товар становится
простой функцией абстрактной стоимости рабочей силы.
Продолжительность рабочего дня и рекорды стахановцев
свидетельствуют о затраченном времени и о количестве
произведенной продукции, но не о реальной стоимости товара и
эффективности труда. Они также не производят обменной стоимости, а
являются условными «проявлениями меры стоимости» —
ценностью в себе, сравнимой с ценностью ордена или медали
(идеальное производство прибавочной стоимости без накопления
капитала). Поскольку произведенный товар не имеет ни номинальной,
ни фактической стоимости, деньги, на которые их можно приобн
484
рести, также теряют силу — в этом, собственно, и состоит цель
социалистической утопии12. Редуцируя деньги к их «первичной
основе», фильм решает марксистскую задачу реставрации (хотя
бы даже фиктивной) Первичного. Процесс мутационного
превращения рабочей силы в агрегатный капитал повернут в обратном
направлении: оба фильма демонстрируют различные способы
иронической негации и обесценивания денег. Между тем с
товаром дело обстоит несколько иначе.
Г. Лукач писал в 1923 году, что продукты
капиталистического производства уже не выражают потребностей человека, а
воплощают абстрактную меновую стоимость. Он критикует
капитализм за превращение человеческих способностей в «вещи,
которые человек имеет и продает подобно объектам внешнего
мира» (Lukâcz 1970: 194). Парадоксальным образом, именно
при социализме абстрактная производительность труда,
оторванная от рынка, превращается в имитацию реальной
ценности (массовый выпуск квазитоваров как инструмент
фетишистских стратегий мифопоэтической «экономики социализма»). С
этим связано то, что в социалистическом обществе —
параллельно богатству (собственности) при капитализме — ценность
человека определяется его работоспособностью (а не
индивидуальными достоинствами).
«Богатая невеста» (1938)
Трудодни как «расчетное средство»
Ковынько, бухгалтер украинского колхоза, имеющий
благодаря своим гитлеровским усикам статус потенциального врага
народа, ухаживает за ударницей Маринкой (актриса Марина
Ладынина). Ковынько хочет взять в жены «значительную
женщину», то есть колхозницу, заработавшую как можно большее
количество трудодней, поскольку ожидает выгоды от такой
партии. Однако Маринка любит тракториста Павло.
Ковынько пытается запятнать рабочую репутацию Павло, но
действует также в другом направлении — подправляет рабочие
показатели Маринки: вместо цифры 400 на доске учета
трудодней появляется 100. Когда Павло видит эту цифру, он
начинает сомневаться, действительно ли Маринка (ставшая теперь
«бесприданницей»13) достойная пара. Начальница бригады, не
знающая о подлоге Ковынько, защищая свою лучшую работницу,
негодует: «Ему, видишь ли, показатели не подходят!»: слово
«показатель» употребляется здесь как новая мера ценности,
превращающая колхозницу то в «богатую», то в «бедную» невесту.
485
В качестве романтической героини Маринка не уступает в
«богатстве» своему жениху. Бригадирша исправляет ее
«неправильную позицию», предлагая оценить по достоинству
«богатство» своего жениха (производительность его труда,
выраженная в гектарах обработанного поля, выражается цифрой 36).
Узнав, что Павло интересуется ее «показателями», Маринка
обижается: получается, что советских девушек, как и их
предшественниц, ценят за их приданое. Она бросает ему: «Трудодни
по д считываешь ?»
Определение неологизма «трудодень» находим в «Толковом
словаре русского языка», вышедшем в 1940 году: «Трудодень
(нов.) — единица учета труда колхозников, предусматривающая
как норму дневной выработки, так и качество работы» (ТСРЯ
1935—1940/4: 85). Интересно, что понятие «трудодень» не
совпадает с батрацким трудом (Lohnarbeit), сохранившимся, согласно
Марксу, при капитализме14. Социалистический трудодень — это
скорее метафизическая единица измерения, соответствующая не
реальной, а идеальной ценности (отсюда несколько туманная
ссылка на «качество» работы, которое должно учитываться при
подсчете трудодней). В каком-то смысле этому соответствует
абсолютная ценность денег при капитализме («воплощение
общественного труда, самостоятельное наличное бытие меновой
стоимости, абсолютный товар». —Marx 1983/ХХШ: 151). Получая
деньги за труд, усердная работница может разбогатеть и при
капитализме. Но в колхозном раю звонкая монета не нужна: с
деньгами имеет дело вредоносный бухгалтер15 — фигура нередкая в
фильмах этой эпохи (например, партнер Стрелки Алексей в
фильме Александрова «Волга-Волга», 1938). «Бухгалтерия и
счетоводство» оцениваются в фильме отрицательно и
противопоставляются физической работе в поле16 (достаточно вспомнить
эпизод, когда Ковынько заглядывает в гроссбух, проверяя
«капиталы» своих фавориток). Негативный образ «бухгалтерии»
прямо связан с размытостью категорий «трудодень» и
«богатство», которые не подчиняются экономическим
закономерностям, поскольку принадлежат более высокому —
идеологическому порядку. Социалистическая экономика имеет дело с
метафизикой созидания и с магией цифр (масштабы пятилетнего
плана). Управление реальными денежными потоками принадлежит
прошлому, это дело мертвых, как то наглядно демонстрирует
случай с «покойницей у кассы» (рассказ Д. Хармса «Кассирша»).
Квазикомическая фигура злостного бухгалтера-вредителя
появляется также в фильме К. Юдина «Девушка с
характером». Действуя заодно с директором совхоза, он не выдает ге-
486
роине фильма зарплату, вынуждая ее отправиться в дальний
путь без копейки в кармане. Отсутствие денег (единственное,
что есть у героини, — «характер») — постоянный сюжетный
двигатель этого фильма.
«Девушка» без денег,
но зато «с характером» (1939)
Катя Иванова (актриса Валентина Серова), работница
звероводческого совхоза на Дальнем Востоке, собирается в
ближайший «центр», чтобы сообщить о злоупотреблениях
местного начальства, но, поскольку у нее нет денег, она должна или
пойти пешком, или прокатиться зайцем. В конце концов ей
удается стать легальным пассажиром, но она едет не в соседний
город, а прямо в Москву. Катя находит записную книжку, в
которую вложен «литер»17 на имя Ивановой (ее однофамилица,
известная супруга известного военного, потеряв документ,
вынуждена сойти с поезда). Как честная советская девушка, Катя
не хочет путешествовать даром и начинает работать в вагоне-
ресторане, помогая единственному на весь поезд малорослому
официанту обслуживать гостей (весь женский состав вагона-
ресторана остался на стройках Дальнего Востока). Таким
образом, безбилетный или «литерный» пассажир становится
полноценным членом рабочего коллектива.
По приезде в Москву Катя работает сначала в магазине
мехов, а затем — на фабрике грампластинок (директора этих
предприятий, восполняя кадровый дефицит, вербуют Катю
прямо в поезде). На обоих местах работы Катя убеждает
подруг ехать на Дальний Восток: под влиянием ее агитации
девушки в массовом порядке увольняются и покидают Москву. Тем
самым Катя исполняет миссию, которая была возложена на ее
однофамилицу (Катя решила выполнить все поручения,
которые нашла в записной книжке).
Добровольно-принудительная циркуляция рабочей силы
имитирует «абсолютное движение»18, которое, согласно Зиммелю,
является сущностью денег. Движение в этом фильме — ценность
в себе19. Директор вагона-ресторана советует Кате остаться на
следующий рейс, чтобы ездить не толька «туда и обратно», но и
«обратно и туда», как если бы такая бессмысленная циркуляция
была пределом желаний человека. Чувство любви также
зарождается в движении поезда, пересекающего пространства СССР.
Катя влюбляется в попутчика. В купе с портретом Сталина20 она
напевает песню о «дальних странствиях» (лейтмотив фильма):
487
«Могу полсвета / Легким шагом обойти»21. Следующий кадр: в
купе врывается ветер и развевает волосы девушки.
Тема движения продолжена в магазине мехов, где директор
Бобрик учит продавщиц демонстрировать товар: «Ходите, не
стойте, покажите мех в движении!» Речь идет о
государственной пользе: «Чем мех лучше, тем он дороже, и чем он дороже,
тем лучше для промфинплана и для нас». Читай: красоту и
ценность меху придает движение. Крутя мех перед глазами
покупателей, бойкая Катя переворачивает изречение шефа:
«Чем дороже мех, тем он лучше»22 — и продает шкурку песца
по государственной цене 700 рублей. В этой сцене тема денег и
движения эксплицитно связаны, что поддерживается еще
одним моментом: в Древней Руси звериные шкурки
использовались в качестве платежного средства23.
Фильм начинается с отказа от денег (Verweigerung):
обращение денежных средств препятствует циркуляции тел. Вместо
того чтобы купить билет за наличные, Катя оплачивает свой
проезд работой в поезде: рабочая сила заменяет деньги. «Вечное
движение» денег метонимически переносится на другой
ценностный субстрат. Катина «спонтанная» работа в поезде — это
сборка на ходу безмонетарной экономической системы: рабочая сила
непосредственно смыкается с циркуляцией ценностей, позволяя
элиминировать стадию денежной формы. Поэтому
оправданием поездки в Москву выступает не купленный билет, а
найденный «литер»: на требование проводника предъявить билет Катя
«профессионально» отвечает: «Какой обед?»
Наша модель показывает, что советская система стремится не
к замене «холодного экономизма» чем-то вроде «не-экономии
чистого Дара»24, а к раскрутке новых эталонов ценности
(Wertmesser). Перемещение «литера»25 к однофамилице
демонстрирует, как, вступая в обращение, еще не определившийся капитал
(«заем», полученный Ивановой П от Ивановой I) приносит
прибыль, которая оседает в карманах владельца (государства): Иванова П
разоблачает кого надо было разоблачить, приносит пользу на
нескольких рабочих местах и вербует кадры для Дальнего
Востока. Только в процессе обращения возникает прибавочная
стоимость, которую Маркс определил как «самовозрастающую
стоимость» (der sich selbst verwertende Wert — Marx 1983/XXV: 405)
и как высшую стадию фетишизма: «В ссудном капитале
капиталистическое отношение принимает наиболее выраженную
фетишистскую форму» (Там же: 404). Фильм убеждает, что товарно-
денежное обращение может быть воспроизведено на другом
ценностном субстрате: в советской экономике вещи с ограниченной
488
обменной стоимостью, вступая в обращение, приносят высокую
прибыль. Здесь начинается волшебный круг самовозрастания
стоимости, который Маркс сравнил с алхимией (Там же: 408).
Если при капитализме деньги делают деньги, то в
социалистической экономике место денег занимает вторичный фетиш.
В сущности, фильм достигает стадии постфетишизма, подвергая
ревизии Первичную Сцену коммунизма, приводящую к
возникновению фетиша: место фетишистского объекта занимает новый
могущественный фетиш — тело Родины. Тем самым фетиш
теряет свой частичный характер: Родина — «фетиш
государственности» в целом (Сандомирская 2001: 17). Эта фигура, имеющая
признаки «фаллической матери», в фильмах конца 30-х — начала
40-х годов олицетворяет ценность Дома («Она защищает
Родину», 1943, Ф. Эрмлер) и «стахановскую» продуктивность
(«Светлый путь», 1940, Г. Александров), то есть новую форму
Капитала. В фильме Юдина Родина принимает форму «работницы»,
которая воспроизводит себя (удвоение Ивановой) и создает
прибавочную стоимость (завербованные «работницы»)26. Тем самым
начинается процесс неограниченного самовозрастания ценности
(визуализированный в фильме Александрова: из ткацкого станка
течет поток материи, украшенной лилиями27).
Девушка в движении:
бесценность человека и визуальный марксизм
Многие советские фильмы тематизируют работоспособность
и энергетический энтузиазм репрезентируемых женщин. Это
можно трактовать, например, в чисто пропагандистском плане —
как мобилизацию труда женщин — зрительниц фильма. Наряду с
этим — для советской экономики решающим — фактором также
имеет значение тендерная специфика фетишизации. Фигуры
изобилия, «богатой невесты» и «девушки с характером»
являются фетишистскими продуктами в той мере, в какой
«кастрированный» русский капитал приобретает в них форму женской
продуктивности, уже советской. ßJsA некоторых слоев населения
обогащение (пусть самое скромное) было в 1930-е годы реальной
перспективой. Парадная архитектура Москвы также
демонстрировала новое советское богатство28.
Как представлена в фильме 1939 года эта гипостазированная
потенция Родины? Родина еще не осознает своей силы: «не
девка, а порох», говорится о Кате в начале фильма, что дает себя
знать, когда Катя нечаянно стреляет из винтовки, думая, что она
не заряжена (пограничник замечает: «У нас всё стреляет»). На
489
языке психоанализа «Девушку с ружьем» можно назвать
детским фантазмом фаллической Матери29, связанным с
комплексом кастрации (который может быть преодолен с помощью
фетишистских стратегий). Фильмы о «девушках»-амазонках
актуализируют этот дофетишистский инфантильный фантазм
материнского всемогущества, который также нередко
отражается в национально-государственной символике (см.: Freud 1999:
312 — любопытно, что Фрейд сравнивает опасность кастрации,
угрожающую женскому фаллосу, с «угрозой Отечеству»). Фигура
«девушки с плюсом» в советском кино30 может быть понята не
только на психоаналитическом уровне как вариант дофетишист-
ского образа фаллической матери, но и как сложный симптом
советской идеологии: как целостно-телесный фетиш,
замещающий «кастрированный» русский капитал и соответственно
представляющий советскую экономическую систему. Но симптом
этот порой настолько «хитрый», что хочется подозревать, что не
только идеология, но и даже ее непроизвольная симптоматика,
ее «подсознание»/«6ессознательное» порождаются этой
специальной стратегией.
Остановимся немного на замещении денег. Если деньгам как
мере ценности и «универсальному субституту»31 предстоит
исчезнуть, то их место должен занять объект аналогичного типа. При
этом существенна символическая поддержка этого объекта,
фундируемая мотивом «движения». Выше речь шла о
симуляции [как процессе занятия места] сущностных свойств денег.
Здесь наряду с движением важную роль играет еще один
момент: «Деньги — чистая форма обмена» («reine Form der Tausch-
barkeit». — Simmel 1996: 138), что соотносится с фетишистскими
практиками субституции. В «Девушке с характером»
представлен целый комплекс стратегий обмена и субституции: чудесная
сила предвидения сочетается с героизмом человеческого
действия и техническим прогрессом (транспорт и массовые
коммуникации), порождая новый эталон ценности, в котором сюжетная
схема сплавлена с характером главной героини. Сама по себе
ничем не выделяющаяся Катя Иванова имеет доступ ко всем
мыслимым фетишам (начиная с классического: она работает на
пушной ферме)32, постепенно вытесняя и замещая их своей
собственной телесностью (воплощенной в актрисе, исполняющей эту
роль, — Е. Марголит пишет о «Девушке с характером»:
«Валентина Серова <...> стала здесь звездой» (Engel 1999: 78)).
Фетишизация женского труда в этом фильме — только
промежуточный шаг на пути к «психозу» могущества Родины,
мистического очага энергии каждой рабочей женщины. Национальное
490
«богатство» рассеивается тиражом «богатых невест», которые
мчатся на советских транспортных средствах навстречу своей
единственной и неизбежной Паре33, чтобы в своем движении
принести Советскому государству прибыль и сверхприбыль в виде
материнства и трудовых достижений. На смену универсальности
денег приходит диффузная уникальность вторичного субститута,
наделенного в качестве нового фетиша сверхценной или
бесценной ценностью (о «бесценном» («sans prix») см.: Derrida 1999: 22
— на материале «Оснований метафизики нравов» Канта).
Симптоматическая «подмена» Ивановой в «Девушке с
характером» вносит в идеологическое пространство момент «истины»
(см.: Zhizek 1991: 117): водевильная взаимозаменяемость людей
внутри сталинской системы сочетается с риторикой «советского
гуманизма» и «общей ценности» человеческой личности,
цинически обнажая амбивалентный смысл слова «бесценный» —
ценность отдельного человека одновременно бесконечна и равна
нулю. Жак Деррида приходит к парадоксальному выводу, что
только вычисление и вычислимость (calcul) делает возможной
«абсолютную разницу» (difference absolute) индивида и
соответственно его «бесценность»: «Сопротивление деньгам, или
принципу абстрактного неразличения, как и критическое отношение
к "цифрам", может сочетаться с деструкцией морали, права и
электоральной демократии (основанной на "подсчете голосов")»
(Derrida 1999: 24). Только неразличение как «нейтрализация
разниц» (социальных, экономических, этических, сексуальных и т. д.)
создает ценность Другого и его абсолютную Разницу. Что касается
сталинской системы, где ни демократия, ни «дух рынка» не
действуют, объектами обмена (и, следовательно, неразличения) здесь
оказываются не купюры, а люди, и на фоне их так называемого
«равенства» возникает культ объектов (или отдельных «качеств»
вроде членства в партии).
В «Девушке с характером» фетишизм имеет как
индивидуальную, так и целостно-тоталитарную сторону: на месте золотого
тельцового фетиша оказывается сам человек, приобретая
благодаря этому замещению некоторую сверхчеловеческую ценность.
Тут дело уже не в уплощенно-марксистском представлении о ма-
гистрально-отрицательном влиянии денег на нравственность
(согласно «правилам внутриэкономической этики» (Derrida 1999: 9)
и в конкуренции с рыночными демократиями). В попытках
создания собственной коммунистической магии, по сути
возрождающей фетишизм в новой форме, теряется внутренняя связь
между деньгами как обычным средством экономики и «абсолютной
Разницей» индивида. Советский фильм начинает с упразднения
491
денежных знаков, рассчитывая, что человеческая сторона уже
сама по себе приложится.
Девушка-фетиш — аналог западной кино-звезды, с той
разницей, что она действует не на сексуальном поле желаний, а в
поле идеологически-экономическом. Но нельзя забывать,
откуда в советское кино пришла девушка с плюсом: из визуальных
фетишистско-эротических практик замещения того, чего 'Не
может быть'; эти практики переносятся в самые сокровенные
области визуального марксизма, который нам приносит такое
странное удовольствие в виде советского кинематографа.
Примечания
1 Немецкий вариант статьи был опубликован в изд.: Drubek-Meyer
Natascha. Parteibuch, trudoden', Fahrkarte: Geldsurrogate im sowjetischen
Film 1936—1939, Kultur. Sprache. Oekonomie. Beitrage zur gleichnamigen
Tagung an der Wirtschaftsuniversitat Wien 3—5 Dezember 1999//Wiener
Slawistischer Almanach. Wien, 2001. Sonderband 54. S. 165—200.
2 В том смысле, в каком Деррида в «Грамматологии» деконструи-
рует эпоху Руссо.
3 «The supreme contemporary philosophical form of fetishism, in that
it promotes the fetishist's undecidability and mad logic to the status of a
powerful strategy for undoing western metaphysics, and the Phallocentrism
it entails» [«Высшая форма современного философского фетишизма
состоит в продвижении так называемой "фетишистской
нерешительности", в следовании безумной логике, направленной на достижение
статурной стратегии западной метафизики, включающей в себя, как
известно, и знаменитый "фаллоцентризм"»] (Schor 1992: 112—117).
4 Т. е. с прибавлением «плюса», с маркером абстрактной
ценности. [Примеч. пер.)
5 Согласно Лауре Мэлви, мужское бессознательное решает проблему
фигурации женщины двумя способами («in psychoanalytic term, the female
figure poses a deeper problem. She also connotes something that the look
continually circles around but disavows: her lack of a penis, implying a threat
of castration and hence unpleasure» [«в психоаналитических терминах,
женская фигура представляет из себя определенную проблему. Ее образ
как бы ходит вокруг неких желаний, в конце концов не удовлетворяя их.
Вспомним отсутствие у женщины пениса, которое (отсутствие)
предполагает "страх каслрации" и, соответственно, — состояние неудовольствия»]:
первый способ — вуайеризм («investigating the woman, demystifying her
mystery» [«внимательно рассматривая женщину, мы разгадываем ее
тайну»]) и второй — «фетишистская скопофилия*» («builds up the physical
* Скопофилия (вариант вуайеризма) — ловление кайфа от смотрения.
[Примеч. ред.)
492
beauty of the object, transforming it into something satisfying in itself»
[«конструируя физическую красоту объекта, перенося ее на нечто, дающее
удовлетворение»]), ведущий к Star-культу («complete disavowal of castration
by the substitution of a fetish object or turning the represented figure itself into
a fetish so that it becomes reassuring rather than dangerous (hence
overvaluation, the cult of the female star)» [«полный отказ от кастрации
происходит в результате замены объекта фетиша или обращения самой
изображаемой фигуры в фетиш таким образом, что она приобретает скорее
ободряющий вид, нежели несущий опасность. Отсюда и происходит
сверхвалоризация, культ женщины-кинозвезды»]) (Mulvey 1989).
6 Трактуя симптом как «след будущей истины», я пользуюсь
наблюдениями Славоя Жижека, сочетающего гегелевскую диалектику
и лакановский психоанализ с иллюстрациями из истории кино.
7 Индексальные знаки Пирса связаны (через отношение к
денотату) с фигурой метонимии и с прагматической функцией имени
собственного.
8 Отмеченное И.П. Смирновым (см.: Смирнов 1994: 249—250)
предпочтение «перекодировок» оригиналам («сюда относятся:
инсценировки, иллюстрации, литературные обработки устных рассказов,
переводческое мастерство, беллетризация фольклора») представляет собой
одно из проявлений фундаментального фетишизма сталинской
культуры, нейтрализующего страх кастрации и направляющего вытесненную
либидиальную энергию на фетишистские суррогаты.
9 «Деньги окаменевают в виде сокровища, и продавец товара
становится собирателем сокровищ» (Marx 1983/ХХШ: 144). Ср. с чисто
религиозными аспектами этого, описанными в: Dinello 1998.
10 «Наряду с непосредственной формой сокровища развивается его
эстетическая форма» (Marx 1983/ХХШ: 147).
11 Вместе с тем необходимо отметить различие между «Богатой
невестой» и «Девушкой с характером»: если в первом фильме речь идет
только о цифрах, то во втором ставится вопрос о качестве (работница совхоза
обвиняет директора: «Ему бы только шкурки по счету сдавать»).
12 Следующим логическим шагом было бы превращение рабочей
силы в универсальный товар, то есть работорговля.
13 Заглавие пьесы Островского, экранизированной в 1936 году,
составляет контрастный фон «Богатой невесте».
14 Скорее здесь можно вспомнить способ расчета трудовой
повинности, лежащий в основе русской барщины. Маркс пишет, что валашский
крестьянин обязан отработать на своего помещика 14 дней в году,
«однако <...> рабочий день берется не в его обыкновенном смысле, а как
рабочий день, необходимый для производства среднего дневного
продукта; средний же дневной продукт хитроумно определен таким
образом, что ни один циклоп не справился бы с ним в сутки. Поэтому сам
"Reglement" в сухих выражениях с истинно русской иронией
разъясняет, что под 12 рабочими днями следует разуметь продукт 36 дней
ручного труда; день работы в поле означает три дня, но и день возки леса
также три дня. Всего — 42 барщинных дня» (Marx 1983/ХХШ: 252).
493
15 В бухгалтерском учете Маркс видит паразитический феномен: «В
лице бухгалтера часть рабочей силы общины отвлечена от
производства, и издержки, связанные с его деятельностью, возмещаются не его
собственным трудом, а вычетом из общинного продукта» (Там же/
XXIV: 136).
16 Пырьев иллюстрирует «учение физиократов о
непроизводительности всякого неземледельческого труда» (Там же/ХХШ: 37).
17 «Литер — свидетельство для льготного проезда по железной
дороге, обозначенное условной буквой» (ТСРЯ 1935—1940/2: 71).
18 Деньги Маркс определяет как «средство обращения»,
обеспечивающее обмен товаров. Мотив циркуляции продолжает сцена в
вагоне-ресторане: запутавшийся официант подает посетителю вареное
яйцо, а через мгновение переставляет его на другой столик.
• 19 Директор фабрики грампластинок убеждает Катю в
преимуществах своего предприятия перед пушной торговлей: «Сегодня —
лисица, завтра — песец, потом — бобрик. Никакого движения!»
20 Усатый директор вагона-ресторана, предающийся оральным
удовольствиям под портретом Сталина, — заместительная фигура вождя.
Намеченное увязывание гастрономических мотивов с телесностью
(свидания за столиком) достигает своей кульминации, когда Катя
перечисляет путешественнику-японцу блюда вагонной кухни: «щи
краснофлотские», «биточки по-казацки», из чего он улавливает слова «красный
флот» и «казаки». Когда дело доходит до объяснения, что такое
окрошка («разрезать на кусочки»), гость начинает опасаться за свою телесную
целость. Эта перверсивная фантазийность иллюстрирует «тайную
экономию наслаждения», которую Жижек считает характерной для
тоталитарных режимов: «За официальной идеологией типа Нового Порядка
легко читаются следы перверсии и тайной экономии наслаждения;
тоталитарный вождь ближе обсценной фигуре развратного праотца, чем
эдипальному родителю, воплощающему символический Закон. Это об-
сценное измерение проглядывает "между; строк" официальных текстов
как откровение правды в форме лжи» (Zhizek 1991: 108—109).
21 Любовная история в поезде следует образцу фильма «Это
случилось однажды ночью» (Ф^Капра, 1934): дочь миллионера едет в
автобусе из Флориды в Нью-Йорк, где она должна выйти замуж по воле
своего отца, но по дороге влюбляется в репортера «без репутации».
22 Ср. возвратность железнодорожного курсирования в предыдущих
эпизодах («туда и обратно»). Юренев говорит в связи с этим фильмом о
пародийном выворачивании жанра: западная мелодрама о безработице
находит здесь пародийное решение «наоборот» (см.: Юренев 1979: 117).
23 Ср. денежную единицу куна (обозначение различных животных
семейства Martes). У Фасмера находим: «куна — денежная единица,
равная 1/22 гривны, первонач. означало куний мех» (Фасмер М.
Этимологический словарь русского языка/Ред. Б. А. Ларин. Изд. 4. М., 1964—
1973. Т. 2. С. 416). Слово иллюстрирует семантическую связь денег и
гениталий: в качестве второго значения Фасмер приводит «vulva»,
мотивируя это значение словом «кунное» («приданое»).
494
24 ^ги два типа Деррида называет также «капиталистическим
меркантилизмом» и «марксистским коммунизмом» (см.: Derrida 1993а: 63—64).
25 «Литер» — одна из номенклатурных привилегий, то есть
разновидность партийного билета.
2(3 К алхимической метафоре Маркса стоит отнестись
внимательно: алхимия разрабатывала «партеногентические» способы
воспроизводства. См. об этом во «введении» в изд.: Рабинович 1979.
27 Лилия (Fleurs de lis) — нередкий гербовой знак на монетах
(например, Lis d'or на монетах Людовика XIV), ср. также флорин или
форинт (Sedillot 1998: 66).
28 О новом «богатстве» в сталинской Культуре-2 см.: Паперный 1996.
т О «доминантности женщины» в культуре сталинизма см.:
Смирнов 1994: 290. Эта тема возникает в начале фильма, когда Катя с
ружьем в руке выслеживает диверсанта (ср. название фильма Юткевича,
снятого годом раньше — «Человек с ружьем», в котором крестьянин
становится большевиком).
30 Ср. также «девушку с веслом» — «самую распространенную
скульптуру эпохи» (Золотоносов 1999: 599).
31 Ср. о деньгах как «универсальном субституте»: «Желание
общего или "благородного" дела, направленного на присвоение и
метонимически означающего любую вещь, которая может быть присвоена»
(Derrida 1999: 14).
32 В качестве параллели можно указать на немецкий фильм Паб-
ста «Freudlose Gasse» («Безрадостный переулок»/«Улица скорби»,
1925): за фасадом меховой лавки скрывается заведение, где
женщины, чтобы купить себе дорогие меха, продают свое тело. Таким
образом вожделенный мех превращает героиню фильма (Грета Гарбо) в
«падшую». Связь работы в меховой лавке и проституции, которую
советский фильм 1939 года цензурирует, становится явной в одном из
эпизодов фильма-ремейка 1957 года «Девушка без адреса» (Э.
Рязанов): когда директор ателье заговаривает на улице с девушкой,
предлагая ей стать модельершей, она воспринимает это как попытку
склонить ее к проституции. В неореалистическом фильме 1957 года
ситуация изменилась: героиня уже не воплощение советского фетиша, а
«девушка без адреса» (за указание на этот фильм и за ряд других
советов автор благодарит Валерия Мерлина).
33 Советские кинодевушки реализуют «центробежную» силу,
противоположную «алхимии» денег, то есть противодействующую
«образованию сокровищ»: «Обращение становится колоссальной
общественной ретортой, в которую всё втягивается для того, чтобы выйти
оттуда в виде денежного кристалла» (Marx 1983/ХХШ: 145).
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Deleuze 1968 — Deleuze G. Sacher-Masoch und der Masochismus //
Sacher-Masoch. Venus im Pelz. Frankfurt a. M., 1968. S. 2—39.
Derrida 1993a — Derrida J. Faschgeld. München, 1993.
495
Derrida 1993b — Derrida J. Spectres de Marx: L'Etat de la dette, le
travail du deuil et la nouvelle Internationale. Paris, 1993.
Derrida 1999 — Derrida J. Über das, Preislose4 oder The Price is Right
in der Transaktion. Berlin, 1999.
Dinello 1998 — Dinello N. Russian Religious Rejections of Money and
Homo Economicus: The Self-Identifications of the Pioneers of a Money Economy
in Post-Soviet-Russia//Sociology of Religion. 1998. Vol. 59. № 1. P. 44-65.
Engel 1999 — Geschichte des sowjetischen und russischen Films (unter
Mitarbeit von E. Binder, O. Bulgakowa, E. Margolit, M. Segida) /Izd.
Engel, Christine. Stuttgart; Weimar, 1999.
Freud 1999 — Freud S. Fetischismus // Gesammelte Werke. Frankfurt a.
M, 1999. Bd. XIV: Werke aus den Jahren 1925-1931. S. 312-317.
Lukâcz 1970 — Lukâcz G. Geschichte und Klassenbewußtsein.
Darmstadt, 1970.
Marx 1983 — Marx K. Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie.
Berlin, 1983.
Mulvey 1989 — Mulvey Laura. Visual and Other Pleasures: (Theories
of Representation and Difference). Bloomington (UP), 1989. P. 14-27.
Schor 1992 — Schor N. Fetishism//Feminism and Psychoanalysis: A
Critical Dictionary/Ed. E. Wright. Cambridge (MA), 1992. P. 112-118.
Sedillot 1998 — Sedillot R. Histoire des marchands et des marchés. P.,
1964. Цит. по: Das liebe Geld/Hrsg. E. Polt-Heinzl, Ch. Schmidjell.
Stuttgart, 1998. S. 97-98.
Simmel 1996 — Simmel G. Philosophie des Geldes. Frankfurt а. M.,
1996.
Zhizek 1991 — Zhizek S. liebe Dein Symptom wie Dich selbst! Jacques
Lacans Psychoanalyse und die Medien. Berlin, 1991.
Друбек-Мейер 2002 — Друбек-Мейер H. Mass-meassage / Массаж
масс: Советские (масс)медиа в 30-е годы // Советское богатство:
Статьи о культуре и кино. Сб. ст. к 60-летию Ханса Гюнтера / Ред. Бали-
на М., Добренко Е., Мурашов Ю. СПб., 2002. С. 124—137.
Золотоносов 1999 — Золотоносов М.Н. Слово и Тело: Сексуальные
аспекты, универсалии, интерпретации русского культурного текста
XIX-XX веков. М.: Ладомир, 1999.
Паперный 1996 — Паперный В. Культура Два. М., 1996.
Рабинович 1979 — Рабинович В. А Алхимия как феномен
средневековой культуры. М., 1979.
Сандомирская 2001 — Сандомирская И. Книга о Родине: Опыт
анализа дискурсивных практик. Wien, 2001 (= WSA Sonderbd. 50).
Смирнов 1994 — Смирнов И.П. Психодиахронологика:
Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
ТСРЯ 1935—1940 — Толковый словарь русского языка/Ред. Б.
Волин, Д. Ушаков: В 4 т. М., 1935-1940.
Юренев 1979 — Юренев Р. Краткая история советского кино. М., 1979.
Вместо заклЬчения
Лингвистический барьер
вненаходимости:
еще раз о вечно-женственном
в русском языковом бытовании
31 Заказ № К-7531
Михаил H. Эпштейн
ЖЕНСКИЙ ЭРОС
В ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКА
Корень «-ём-» и его производные
Историко-лингвистическое введение
В русском языке много глаголов, описывающих выпуклое
пространство и способы его простирания: «толкать», «бить»,
«ударять», «рубить», «резать», «ломать», «колоть», «давить»,
«теснить», «долбить», «наступать», «разить», «вонзать»,
«пронизывать», «врываться», «вторгаться»... Гораздо меньше глаголов,
описывающих вогнутое пространство: «впускать», «вмещать»,
«вбирать», «втягивать», «обнимать», «охватывать»...
Среди слов, означающих вбирание, ведущую роль играют
образования с корнем от «-ём-» («ёмкий», «проём», «обнимать»
и др.). «-Ем-» — один из самых многообразных и многозначных
русских корней, который выступает в форме следующих
чередований:
ём — емл — им — им — я.
Праславянский носовой звук, из которого развилось «а (я)»
в глаголах «взять», «внять», «снять», обнять» и др., в
определенных позициях чередуется с сочетаниями «гласный плюс
носовой согласный», например: «объём — объемлет — обнимать —
обойму — обнять»1.
Слова с корнем «-ём-» могут употребляться для
характеристики разных форм вогнутого, «емлющего» пространства,
которое обладает собственной активностью «втягивания»,
«вбирания». От этого корня с первичным праславянским значением
«брать, вбирать» образованы многочисленные слова: «взять»,
«иметь», «взимать», «имущество», «нанять», «найм», «занять»,
499
«займ», «взаимный», «наёмный», «заёмный», «изъять», «изъян»,
«изящный», «объём», «обнять», «обойма», «объятие», «проём»,
«приём», «подъём», «съёмка», «выемка», «ёмкий»,
«приемлемый», «неотъемлемый», «снять», «поднять», «занять», «понять»,
«внимать», «внимательный»...
Этот же корень предлагается использовать для обозначения
«женского естества», его многоразличных действий и состояний.
В русском языке нет особого глагола женской сексуальной
активности. Те глаголы, что используются в этом значении
либо (1) не являются активными и представляют женщину как
пассивное существо, послушно «отдающее себя» мужчине, либо
(2) не являются специфически женскими и автоматически
переносят на женщин глаголы мужского действия. В какой-то
степени этот дуализм отражает архаическое положение
женщины в патриархальной культуре, где она либо подчиняется
мужчине, либо заменяет собой мужчину, но лишена
собственной активной половой роли.
1. Пассивные глаголы, изображающие сексуальное действие
женщины как отдачу или помощь мужчине:
«Отдаваться» — стилистически нейтральный глагол с
оттенком книжности.
«Давать» — весьма просторечный глагол, широко
употребляемый в устной бытовой речи.
«Подмахивать» — еще более просторечный и отчасти
устаревший глагол с оттенком непристойности.
«Подъебывать» — непристойный, бранный, матерный глагол.
Два последних глагола употребляются в «Заветных сказках
русского народа», собранных А.Н. Афанасьевым. «— <...> она
лихо подъебать умеет! <...> Вить ей стыдно не подъебывать-то;
<...> — Да, правда! Евто ваше ремесло!» (сказка «Добрый отец»).
Все четыре глагола обозначают действие или телодвижение,
которым женщина удовлетворяет желание мужчины, идет ему
навстречу, пособляет мужскому действию. Этот смысл вторично-
сти выражен и в лексической основе «дать», «давать», и в
приставке «под-», которая имеет значение «повторять или сопровождать
действия кого-то другого» (ср. «поддакивать», «подтверждать»,
«подыгрывать»). Все четыре глагола подразумевают, что
женщина уступает мужчине, соглашается на связь с ним, поддается его
напору и выполняет то, чего от нее требует мужское желание.
2. Активные глаголы мужского действия, которые могут
употребляться и по отношению к женщине, подразумевая ее
активную роль: она его «употребила», «поимела», «затрахала», «вы-
ебала».
500
Действие, которое этими глаголами приписывается
женщине, по смыслу ничем не отличается от мужского и просто
передает женщине ту роль, которую в ее отношении обычно
исполняет мужчина. Только по контексту употребления, но не по
лексическому значению эти глаголы могут быть отнесены к
женщине: ей приписывается мужская роль, а собственно
женская остается необозначенной.
Между тем в русском языке есть корень — вышеупомянутый
«-ём-», означающий активное действие свободного
пространства, его способность вбирать, втягивать то, что снаружи. Слова
«объём», «проём», «выем», «ёмкий» и прочие со значением
«содержащий свободное пространство» образованы от
исчезнувшего глагола «емати» — «брать, вбирать». В ряде диалектов это
значение сохраняется, но только в словах, которые остались
местными или вообще вышли из употребления, как архаизмы
или историзмы.
У В. Даля приводится много областных и устаревших слов
с этим корнем:
Ежить (владимирское, костромское) — имать или брать,
собирать.
Ем (владимирское) — съем, наем. Ходить по ему, по найму...
Ём пчелы, взятка.
Ем (рязанское) — сбор, подать, пошлина или взятка.
Емля — росты, лихва, промысел ростовщика и т. п.2.
В современном языке корень «-ём-» утратил свое исконное
значение «брать», «заёмывать», «въёмывать» — осталось
только значение объема, т. е. статуарной, пассивной емкости,
которая сама больше не «емлет», не «ёмит», а ждет заполнения,
вторжения извне. Между тем исконное значение этого корня и
мотивация образованных от него слов «объём», «ёмкий» и
прочих — именно активное действие: «ёмить», «имать», «вбирать».
Формы пространства только потому и обладают объёмностью,
что «емлют», втягивают, вмещают в себя.
Эту действенность начального смысла мы и предлагаем
оживить в новообразованиях, таких как «ёмь», «ёмить», «ёмный»,
последовательно отличая их от слов, передающих понятие
«ёмкости» либо пассивно, как данность (например, «объём, ёмкость,
проём»), либо объектно, по отношению к вхождению, вторжению
извне (например, «влагалище», «вместилище», «хранилище»).
Таким образом, поиск слов, обозначающих действие
вогнутого пространства, тягу «снаружи внутрь», приводит нас к
древнему славянскому корню «jeti», индоевропейскому по
происхождению, выражавшему активное действие «брать» (ср. лат.
501
«emo, emere» — «приобретать»). Первичное значение всех слов
с этим корнем — не просто «просторный», «вместительный», но
«берущий в себя», «забирающий», «втягивающий». Таков
деятельный первосмысл этого корня, который в чистом виде
выступает в предлагаемых ниже существительных «ёжь» и «ёж»,
«ежля» и «поёжа», в глаголах «ёжить» и «ёжничать», в
прилагательном «ёжный», в наречии «въёж» и др. Как отдельный сло-
вокорень «-ём-» утрачен в современном языке и «рассыпан» по
многочисленным производным, но вторичная лексикализация
этого корня, превращение его в отдельное слово позволяет
заново собрать все эти далеко разошедшиеся лексические
значения в единую лексему, «корнеслово» — слово, состоящее из
чистого корня. «Ежь» — это ёмкость, которая обладает
способностью «ёмить», т. е. активно брать, вбирать в себя, обнимать
собой.
Заметим, что слово «брать», которое чаще всего
используется при толковании корня «-ём-», неточно передает его смысл,
поскольку образовано от другого корня, индоевропейского «bhera»
(«нести, поднимать») и первично означает специфическое
действие рук: хватание, несение, держание («хватать руками»,
«нести на руках», «держать в руках»)3. Отсюда и два глагола,
которые в современном русском языке настолько сблизились по
смыслу, что образовали видовую пару: «брать» и «взять». Хотя
они рассматриваются как совершенный и несовершенный вид
одного глагола, но происходят от разных корней с разными
значениями. «Брать» — это действовать руками, «хватать»; а «ять»
или производное «взять» («взимать»), образованное от корня
«-ём-» в чередовательной стадии «я/им», — это «ёжить»,
действовать не отростками, а ёмкостями, выемками тела, вбирать в
некий объём. Само понятие «ёмкости», «объёма» возникло в
языке именно от того специфического действия, которое передается
глаголом «(вз)ять»: то, что взимает, занимает, заёмывает, имет,
ёмит. Иными словами, «объём» или «ёмкость» — это не
пассивное вместилище, а активно емлющее, берущее в себя, но берущее
не «руками», не выдающимися членами тела, а его ёмкостями,
ежами, проёмами, к числу которых относятся и уши, которые
«вникают», и ум, который «понгшает».
Представление о «ёмкости» или «объёме» как пассивном
вместилище, заполнение которого происходит вторжением со
стороны, а не его же собственным действием «емли», взятия, въятия,
поятия, внимания, понимания, — это своего рода проекция
мужески-патриархального активизма на лексическую систему
языка, одностороннее истолкование слов, относящихся к частям и
502
действиям тела (соматонгилика). Активное действие приписано
рукам, выдающимся, «выпуклым» членам. Наоборот,
вдающиеся, вогнутые, ёмкие и емлющие части тела, «ямки»,
«ложбинки», «вместилища», представлены пассивными, податливыми,
отдающимися, как будто у них нет собственной энергии и потенции
«ять», «ёмить», «имать», «взимать». Глагол «взять» сведен к
видовой паре глагола «брать» и оторван от своих начальных
смыслов, укорененных именно в активной способности «ятия».
Иначе говоря, женский глагол «взять» подчинен мужскому «брать»,
а корневые, первородные слова «ём», «ёмить», «емля» вообще
исчезли из языка, как активные первосмыслы. Они растворились
в своих производных, которым приписано либо пассивное
значение «вместилища, ёмкости», либо духовного действия
восприятия — «внимать, понимать». «Ём» как иной вид бранил, «ятие» и
«емля» как альтернатива мужскому вторжению, хватанию, прон-
занию и т. д., было выведено из лексической системы языка как
самостоятельное действие женского начала. «Ём» было сведено
до функции вмещать в себя мужское, быть объёмом и ёмкостью,
заполняемой волей, желанием, действием мужчины.
Эта же семантика патриархального сознания — точнее,
бессознательного, как оно выражается в языке, —
обнаруживается и в обозначении женского естества как «влагалища», т. е.
места, куда мужчина «влагает» себя. «Влагалище» по своему
внутреннему образу лишено активности, оно служит только
местом «вложения», хранилищем мужского, «прибежищем»
его желаний. У В. Даля значение этого слова толкуется так:
«вместилище, вещь, служащая для вложения в нее другой;
мешок, кошёлка; чехол, ножны, футляр» (Т. 1. С. 226).
Вообще «влагалище» — выразительное слово, удобное для
употребления в литературном языке. Двузначность морфоком-
плекса «-влаг-» («влагать» и «влага») создает дополнительное
чувственное напряжение, передавая «влажность» того, куда
«влагает» себя мужчина. Причем «влаг-» сочетается с
суффиксальным наращением «ищ», передающим эластичное растягивание,
дление пространственного тела, его простирание,
вместительность, распростертость, как и в других словах с тем же
суффиксом — «прибежище», «хранилище», «вместилище»,
«корневище»... Но слово «влагалище» книжное, в нем есть «важность» и
длиннота, которые в современном тексте выбиваются из стиля
и ритма. В нейтральном стиле у него нет соответствий: матерное
«пизда» и медицинское «вульва» не могут его заменить (так же,
как не покрывают средних стилевых зон современного языка
матерное «хуй», научное «пенис» и архаическое «фаллос»).
503
Следует особо подчеркнуть, что образования от корня «-ём-»
никак не сводятся к сексуальным значениям, но могут
обозначать разнообразные отношения в пространстве,
интеллектуальные и эмоциональные действия, связанные с взятием вовнутрь,
активным охватыванием, действием большего по отношению к
меньшему и т. д.
ГИНЕКОН
Проективный лексикон женского эроса
В этом лексиконе приводятся 27 слов с толкованиями и
примерами употребления, взятыми из разных речевых стилей — от
книжного до разговорного и от научного до фольклорного.
ЁМЬ — ПРОСТРАНСТВО ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЙ
Ежь — общее название для всех измерений пространства:
глуби, выси, шири и дали; ёмкость, объёмность, просторность,
распахнутость, вместимость; женское начало бытия, естество,
лоно; то, что ёжит, вбирает, затягивает в себя; нутро, скрытая
суть, главное содержание.
«Ёмь» отличается от близкого по значению слова «простор»,
поскольку указывает на свойство свободного пространства
втягивать, захватывать в себя, а не просто простираться, расти
вовне. За словами «простор» и «ёжь» стоит совершенно разная
геометрия. Простор — то, что простирается, имеет свойство
расширения, экспансии наружу; ёжь, напротив, — то, что втягивает,
вмещает, «въемливает» в себя. У пространства могут быть две
формы активности: распространение вширь и вбирание в себя,
движение «изнутри наружу» и «снаружи внутрь», которые
передаются соответственно глаголами «простираться» и «ёжить».
Простор — это центробежное, а ёжь — центростремительное
движение пространства.
Примеры употребления:4
Ты посмотри, какая вокруг ёмь: воздух гулкий, плавкий,
растягивается на все четыре стороны — и сам втягивает в себя. Кажется, бросишь
шапку — он ее проглотит и выплюнет вон за тем лесом.
Пока наша вселенная находится в стадии расширения, она лучше
описывается понятием «простор», но, как только она вступит в фазу сжатия,
потребуется понятие «ёми» для ее описания. Если простирание вселенной
было задано большим взрывом, то возрастание ёмности приведет, как
предполагают физики, к большому схлопу: вселенная постепенно вожмет-
504
ся сама в себя и станет бесконечно ёмной в бесконечно малом интервале
«пространства — времени».
«Нигде на свете нет такой ёми, как в России, — мечтательно произнес
Закиров. — Есть страны с более высоким уровнем жизни, с более
глубокими культурными традициями, а вот чтобы так было ёмно вокруг — нет,
такого я нигде не встречал».
В русскую ёмь мало кто нашел вход, а вошедшие не сумели найти
выхода. В нее как в смерть уходят — назад не возвращаются и вестей не
приносят.
«Нет, Николай, в ёмь этого вопроса ты еще не вошел, скользишь по
поверхности».
ЁМИТЬ — ДЕЙСТВОВАТЬ ПО-ЖЕНСКИ
Ёмить
Поёмить
Ёмиться
Поёмиться
Ёмить-поёмить
Заёмить
Ёмничать
Ёмить — активно вбирать, захватывать в себя. Этот глагол
описывает действие самой ёми: объёмов, ёмкостей, вместилищ,
влагалищ, которые не просто служат местом вторжений, но
сами «ёмят», «ёмничают», втягивают в себя, обнимают собой.
Выделяются три основных значения глагола: пространственное,
интеллектуальное и сексуальное действие.
1. Втягивать, вбирать, засасывать (как тяга пустого или
вогнутого пространства).
«Ёмить» может употребляться и как безличный глагол
категории состояния, противоположный по значению таким
глаголам, как «дуть», «брызгать», «хлестать». Например, «дуть» —
выбрасывать струю воздуха, а «ёмить» — втягивать в
воздушную воронку.
Странное его окружало пространство: ёмило со всех сторон.
Казалось, то справа, то слева открывались незримые вьюшки и туда
уносило снежинки, только что парившие у него перед глазами. Можно было
бы сказать «дуло», только это был не выпуклый, а вогнутый ветер. Всюду
была ёмь.
Ёмило всё сильнее: вещи начинали срываться с мест, сначала
уносились куда-то вперед, потом стали разлетаться по сторонам.
«Приближаемся!» — восторженно закричал Севастьянов и схватился за голову: у него
унесло шлем.
505
2. Активно постигать, захватывать умом.
Ежишь ты или нет?.. Понять мало — надо еще и ёжить проблему,
вытягивать из нее всю цепочку причин и следствий. А ты слушаешь — и
не спрашиваешь. Ёмитъ — это уметь задавать вопросы.
3. Глагол женского сексуального действия: активно
принимать, «имать», вбирать в себя мужчину.
В этом значении «ёжить» — конверсив глагола мужского
действия «ярить»5. «Конверсия» — способ выражения субъект-
но-объектных отношений в эквивалентных по смыслу
высказываниях. Слова «муж — жена», «тяжелее — легче», «продавать —
покупать», «перед — за» — конверсивы, поскольку одно и то же
значение можно передать двояко: «Иван — муж Марьи» или
«Марья — жена Ивана»; «Петр продает Семену» или «Семен
покупает у Петра»; «я стою перед вами» — «вы стоите за мной»...
В данном случае: «солнце ярит землю» — «земля ёжит
солнце».
«Приходи ко мне вечерком, — шепнула она ему на прощанье. —
Наливочкой угощу. Всю ночь тебя ёмить буду».
Девка — огонь: пристанет к парню, уведет на сеновал — и давай ёмить.
До зари так у ёжит, умает, что парень потом мотается за ней как
присушенный. Ёмная девка. И не жадная, всегда поделиться готова. Мил-друж-
ка поёжила — с подругой познакомила.
Ёжиться — соединяться с мужчиной, вступать в половую
близость.
У нас бабы по этой части охотливее мужиков. Те дурью маются по
пьяному делу, а эти приберутся, принарядятся, накроют на стол... — очень
ёжиться горазды.
Жизнь теперь легкая, без особого подходу. Сегодня познакомятся, а
завтра и поёжятся.
«Ну что, Вася, когда в гости позовешь? Если мамки боишься, то сам
ко мне приходи — почаевничаем, полюбовничаем, поёжимся маленько».
С начальником поёжилась —
Пред мужем оскоромилась.
Ёжить-поёжить — усиленно, страстно заниматься любовью.
Привела к себе солдата молодая вдова, чарочкой угостила — и давай
ёжить-поёжить. Солдат сначала растерялся от такого натиска, но потом,
блюдя воинскую честь, стал в ответ ее наяривать, так что дело они
завершили вполне полюбовно.
Заёжить — этот глагол имеет два прямых значения:
506
1. Заловить в ёж, завлечь, заманить, залучить для любли-
ёжли.
Федька только с парнями ходил, машинами да футболом
интересовался, на девок вообще не глядел, пока Танька его не заёмила.
2. Утомить, изнурить, уморить, умучить, измотать, заездить,
умаять люблеи-емлей.
Справный был мужик — а заёмила его вконец эта чертова баба.
Почернел, высох.
3. «Заёмить» может иметь и переносное, расширительное
значение: заполучить, присвоить, «захомутать».
Ты с Нюркой лучше не связывайся. Она баба радушная, но
прилипчивая. Заёмит — так уже не отпустит.
Ёмничатъ — действовать, играть ежом, сжимать и
отпускать, вбирать и выталкивать.
А ты заметил, как ёмничает русская равнина на каком-нибудь
пригорке или овраге? Так заёмит проезжего — еле выберется. Об этом еще
Пушкин писал:
Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон — теперь в овраг толкает
Одичалого коня...
— Да, «Бесы». Бешенство матки-земли, крутолюбой ёми нашей.
Она любит в постели поговорить, прямо энциклопедия
лежачая. То о театре, то о политике. Я ей говорю: «Ты не
умничай, ты лучше ёмничай».
ЕМЛЯ — ДЕЙСТВИЕ ПО-ЖЕНСКИ
Емля
Ёмие
Ятие
Поёма
Емля — вбирание, овнутрение, втягивание, действие полого
пространства по отношению к тому, что вовне; действие
женщины по отношению к мужчине, соитие.
Чередование «м» с «мл» приводит к появлению ударного «е»
вместе «ё» в корне, поскольку непосредственным источником
образования данного слова представляется форма «ежлет», а не
«ёжить».
507
Емля как действие ёми или ёма может иметь разные значения
и происходить в разных планах: космическом, интеллектуальном,
сексуальном...
Реже употребляется синоним ятие. Более специфически он
указывает на однократное действие, тогда как «емля» обозначает
процесс в целом.
Ученые всё знают, даже сколько ятий случается в среднем за одну емяю.
«Главное в женщине — способность к ятию, душевному и телесному, —
проповедовал Десницкий новое учение, которое его ученики называли
"женоправием", "женоятием" или "женоёмием". — Для женщины ятие не
означает только приятие или восприятие мужчины, как учила старинная
мораль. Это значит — способность окружить его собой, сделать частью
чего-то большего. Мужчина идет к женщине не затем, чтобы взять, а
чтобы отдаться, влиться и раствориться. Мужчина хочет войти в ёмь бытия,
в необъёмность, необъятность. Емля — это космическое действие, каким
большое емлет, вбирает в себя малое. Мы учим мужчину отдаваться. Он
обретает силу по зову женщины. Такой мужчина не способен к насилию:
он патентен, но не агрессивен. Мироёмие — это практика почитания Ёми
как главной силы мироздания. Не вакуума, как в «мужской» физике
называется это «нулевое» состояние материи, а именно Ёми как великой
активности, исходящей из Ничто».
Зал молчал, а на глазах у некоторых женщин выступили слезы.
«Наконец-то, — шепнула Марина подруге. — Это не пустые феминистские
байки. Начинается наше время — Великая Емъ».
Поёма — действие женщины по отношению к мужчине; то
же действие с несколькими участниками, игрище. В отличие от
слегка книжного слова «емля» слово «поёма» носит более
разговорный характер, с оттенком простонародного,
фольклорного употребления.
Вашего Ерёму
На завадишь на поёму.
А наш Федот
Всегда пойдет.
«Приходи на поёму, — шепнула Катя своей лучшей подруге Лизе. —
Только никому не сказывай. Нам много девок не надо».
ЁМ — ПРОСТРАНСТВО В ЖЕНЩИНЕ, ЖЕНЩИНА КАК ПРОСТРАНСТВО
Ём
Ёмище
Уёмище
Емка
Ёмочка
508
Ёминка
Ёмушка
Ёмница
Ёмщица
Ёж — глубокое, нутряное, сокровенное место; женское
естество, лоно; бездна, проём.
Слово «ём» — это вторичная тематизация и лексикализация
корневой морфемы «-ём-» в таких словах, как «ёмкий», «объём»
и др.
В любом деле хорош совет: не поверху скользить, а в ём забирать.
Ты прости, но эта книжка твоя — плоская. Нет в ней настоящего ёма,
чтобы забрать читателя.
Яркого в русской культуре было много, а вот яристого, такого, чтобы
пробрало матушку-Россию до самого ёма, — почти ничего не было.
«Ну что ты кисель разводишь: "Пенье соловья, голубой цветок..."
Надо писать коротко и ясно: "Он вонзился во влажный ём ее тела"».
Сравнение слов «ёж» и «ёжь». Ёжь — более общее понятие,
чем ёж ; между ними такое же соотношение, как между «высь»
и «высота» (в значении «высокое место») или «глубь» и
«глубина» (глубокое место). Сходное отношение может быть
установлено между «сонь» (сонное царство) и «сон» (единичный); «цветь»
(царство цветов) и «цветок» (один из многих). «Ёж» — это
конкретно очерченное проявление ёжи. Если ёжь охватывает все
измерения пространства, то ёж находится внутри пространства как
одна из предметных форм и воплощений ёжи.
Ёжище — большой ёж.
Приснилось мне ёмище, и помню, что ужаснулся не столько его вида,
сколько самого слова, ты послушай, как звучит — «ёмище»\
«Ё-моё, ну и ёмище\ — восхитился Петрищев, стоя на краю Гранд-
Каньона. — В России такого нет. Интересно, какой яр его выдолбил».
Уёжище — особый тип хищного, хваткого пространства;
прорва, то, что умыкает, складывает в себя и не возвращает
обратно. В противоположность убежищу, куда скрывается гонимый,
уёжище само заглатывает и не отпускает.
Это не роковая женщина и не вамп — то были бы слишком легкие,
романтические определения. Это женщипь-уёмище, мужское кладбище.
То место, куда проникает Сталкер в фильме Тарковского, можно
назвать уёмищем. Это огромное, ручьистое, хлюпающее лоно матушки-земли.
509
Вела меня жизнь и по кручам, и по ущельям, но в такое уёжище я еще
никогда не попадал. Чудом вырвался.
Ёмка — разговорное название ёма, женского лона.
Ты чего, бесстыжая, ёмкой вертишь, кобеля зазываешь.
Эх, Надя, как же ты ёмку свою не уберегла. Кто тебя теперь замуж
возьмет?
Ёмочка — уменьшительно-ласкательное от «ёмка».
Куда ни ступит Тёмочка,
Ему навстречу ёмочка.
Тема, Тема, не зевай,
Нашу ему засевай.
Он её затёмит,
Она его заёмит.
Мы с ней в аккурат подходим друг другу. Наконец-то мой неуёмный
нашел свою ёмочку.
Где моя любимая ёмочка, как же она соскучилась без меня?! —
запричитал Спешнев, не замечая насмешливого взгляда жены.
Приходи, милой дружок,
На веселой вечерок.
Рюмочку пригубишь,
Ёмочку прилюбишь.
«Ёмка», «ёмочка» могут быть отнесены и к женщине, если
с ней связывают интимные отношения (в значении «милочка,
подруга, возлюбленная, любовница»).
Он свою ёмку наряжает теперь в меха и бархат. Богатеет мужик — а
вкус портится.
Он всюду появляется со своей ёмочкой, которая половины не
понимает из того, что говорится вокруг.
Ёминка — ложбинка, извилинка, складка, бороздка,
выемка; особенность, прелесть, изюминка.
Красивая, статная женщина — а какой-то ёминки ей не хватает, не
поймешь, в чем дело.
«Я познакомился с одной девушкой. У нее такая ёминка в вырезе —
закачаешься!»
Ёмушка — ласковое название или обращение к близкой
женщине в значении «подружка», «голубушка».
Ну что, куда сегодня поедем, ёмушка, в лес или на озеро? Везде гладь-
благодать, трава-мурава.
510
Ёмница, ёмщица — любовница, сожительница, близкая
подруга.
Зачем он свою ёмщицу на банкет притащил? Здесь только семейные
пары.
Ах ты моя ёмница-умтща., как же ты меня ублажила!
ЁМНЫЙ, ЕМНО: ЖЕНСКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И НАРЕЧИЯ
Ёмный
Ёмистый
Ёмность
Ёмно
Въёмно
Въём
Ёмный — просторный, забирающий в себя, открытый и
ищущий заполнения; относящийся к ему; склонный, охочий к
емле, расположенный к иному полу (о женщине).
Между «ёмкий» и «ёмный» — заметная разница в значении.
«Емкий» — объёмный, способный вместить в себя большое
количество чего-то. «Ёмный» скорее означает «склонный
принимать, вбирать в себя», не просто вмещающий, но втягивающий,
вовлекающий, ищущий заполнения своей ёмкости.
Выделяются пространственное,
интеллектуально-эмоциональное, сексуальное значения этого прилагательного:
Как сказать о силе, которая влечет Пушкина, Гоголя, Достоевского к
России — сразу и вглубь ее, и вдаль, и ввысь? «Ёмкая»? — Нет, язык не
повернется. Емная это сила, потому что и даль, и глубь, и высь — это всё
она, ёжь.
У Гёте был необычайно ёмный ум. Он не только многое в себя
вмещал, но и жадно втягивал в себя новые знания, что и позволило
великому поэту стать признанным авторитетом и в ботанике, и в палеонтологии.
Справная баба, ёмная, с такой будешь как сыр в масле кататься.
Там две подружки: брюнетка и блондинка, одна томная, другая —
ёмная... Выбирай любую.
Женщина ёмная, да умная: дорого возьмет, и не деньгами, а
затратами ума и души. Выслушает, оценит. За просто так ее не получишь.
«Ёмная сила» — междометное выражение, восклицание со
значением удивления, застигнутости врасплох или возражения,
возмущения.
Ёмная сила, Любушка, как же ты меня испугала, набросилась в
темноте!
511
Ежистый — то же, что ёмный, но с большей степенью
качества. Суффикс «-ист-» выражает более сильное присутствие
признака, чем суффикс «-н-», и вместе с тем придает слову
более разговорный оттенок. Ср.:
Объёмный — то, что имеет объем, относится к объёму.
Объёмистый — то, что имеет большой объём, способно
много обнять.
Иван — яристый хлопец, девки от него млеют.
Марья — ёжистая девка, не дает спуску парням.
Емкость — существительное по значению прилагательного
«ёмный».
Емность этого, казалось бы худенького, тела заряжала его прежде
неведомой силой.
Емность — в природе вещей. Это только кажется, что действие
исходит от деятеля. На метафизическом снимке проступают бесчисленные
втяги, охваты, обжимы, засосы, какими вещи добиваются от тебя всего,
чего хотят. Каждая вещь — маленькая вьюшка. Вот если бы фотосъемка
была действительно съ-£л*кой, умела воспроизводить эти ёмностщ тяги,
минусформы в явлениях!
ЕмнОу въёмнОу вьём (наречия) — вводя или впуская внутрь,
в ём\ глубоко забирая в себя.
На сердце у него в этот вечер было ёмно: просились туда
воспоминания далеких дней и видения близкого будущего.
Она сильно и ёмно приняла его, с таким всплеском, как будто
хотела утопить в себе.
Въёмно ласкались, переворачивались, катались по всей полянке — и
всё им было мало места. Казалось, что так, не разнимаясь, они могли бы
раскатиться по всей земле, только бы им оставаться друг в друге.
И вьём, и в разъём — им одинаково хорошо было друг с другом.
Вместо послесловия
Почему я не люблю мата
Мат в России — больше чем мат, т. е. одна из многих
лексических подсистем языка. Мат выступает как бытовая идеология
общества, полубессознательная система ценностных или,
точнее, «обеденных» установок. Термин «обеденный»
(непристойный), хотя и заимствован из английского языка (obscene), удачно
подчеркивает, в духе народной этимологии, то «обесценение»,
которое активно проводится матом по отношению ко всем цен-
512
ностям жизни. «Верхние», государственные, идеологии — от
монархизма до коммунизма, от национализма до либерализма —
приходят и уходят, а мат остается, определяя и интимные, и
дружеские, и полупубличные формы общения.
В советское время, на фоне высокопарного словоблудия
официальной идеологии, блудословие мата приобрело обаяние
«честного», «сочного» слова. Мат в литературных текстах стал
восприниматься как чуть ли не диссидентство, форма
свободомыслия, и эта культура «протестного мата» достигла вершины в
произведениях Юза Алешковского, о чем впоследствии с
нежностью писал Андрей Битов. Но лишь по форме матерный
диалект низов противостоял диалектическому материализму
верхов: между ними было глубинное сродство. И матерное, и
материалистическое мировоззрения содержат общий «посыл по
матери», кровосмесительную формулу, богохульный и сквер-
нословный смысл которой не меняется от того, что облекается
в наукообразные понятия типа «материя первична, а дух
вторичен». «Мат», или «посылание по матери», имеет в русском
языке тот же корень, что и «материя» (а «материть», как
переходный глагол, соответствует непереходному «матереть»).
Связь их можно порой проследить в каламбурах,
выражающих «отношения остроумия к бессознательному» (если
воспользоваться названием работы Фрейда). В конце 1920-х —
начале 1930-х годов среди ироничной советской научной элиты
имел хождение каламбур: партийное начальство обожает
диалектический материализм, тогда как массы предпочитают
матерный диалект. Если вдуматься, эта шутка имеет в виду не
противопоставление материализма и матерщины, а их
неожиданное сближение. Партия и народ едины в своем обращении с
матерью-материей: верить в первичность материи, отделять ее
от Отца (Бога) и отдавать в полную власть сыну (человеку) — это
на философском языке означает то же самое, что в вульгарном
просторечии — посылать в материнское лоно6.
Когда речь заходит об интимных отношениях, современный
русский язык не предоставляет большого выбора говорящим.
Либо мат, сквернословие, либо книжные слова и медицинские
термины: «совокупление», «половой акт», «копуляция». Есть ли
такие слова, которые могли бы откровенно обозначить эту
сферу жизни — и вместе с тем не нарушить речевой этики,
оставаться в границах литературного приличия?
Бросить вызов мату невозможно сочинением «из ничего»
новых, небывалых слов, которые конечно же никогда не
привьются. Мы пытаемся задействовать те древнейшие индоев-
33 Закач № К-7531
513
ропейские и общеславянские слои языка, которые залегают
глубже и более органичны для русского языка, чем матерщина. Речь
идет о славянских и индоевропейских корнях мужского и
женского действия — «-яр-» и «-ём-» и их производных, которые
откровенно обозначают половые признаки и действия и вместе с
тем могут прилично употребляться и в литературе, и в
разговоре. Они стилистически нейтрально описывают ту сферу
человеческих отношений, которая покрывается тремя основными
матерными корнями: «хуй», «пизд» и «ёб».
В отношении полового акта можно выделить, как мне
представляется, следующие стилевые зоны:
Низкая
• ебатъ (матерное);
• трахать, драть, втыкать, харить, бросить палку, дать,
сношать (просторечное, вульгарное).
Средняя
• ярить, ёжить, отъярить, заёмитъ (разговорно-литературное,
экспрессивное) ;
• (пере)спать (с кем), сойтись (с кем)
(разговорно-литературное, неэкспрессивное);
• вступить в половую связь, совершить половой акт,
сожительствовать (канцелярское).
Высокая
• овладеть, отдаться, совокупиться (книжное);
• пенетрировать, копулировать, совершить коитус (научное).
Особенность слов с корнями «-яр-» и «-ём-» — не только в том,
что, в отличие от мата как вульгарной лексики, они
стилистически нейтральны, но и в том, что, в отличие от мата как
бранной лексики, они положительно экспрессивны. Мат — это весьма
экспрессивная, оценочно-выразительная лексика, исторически
возникшая как нарушение табу, как ругань, проклятие.
Поэтому дело не только в том, чтобы найти стилистически средние
слова — в роли таковых выступают «(пере)спать», «сойтись», —
но чтобы эти слова обладали иной экспрессией, чем матерные,
чтобы в них звучало не презрение и брань, а радость, пыл,
страсть. «Яр, ярить (от того же корня, что «Ярила», славянское
божество весеннего плодородия), ёмь, ёмить» и другие слова,
514
образованные из древних индоевропейских и славянских
корней, мне представляется, могут воплощать эту экспрессию.
Мат — это тематико-стилистически-экспрессивная группа
слов, причем все три параметра в ней пересекаются:
• тематическая отнесенность к так называемому «телесному
низу», особенно к половой сфере;
• стилевая отнесенность к просторечной, вульгарной,
непристойной, обеденной лексике;
• экспрессивная отнесенность к бранной, ругательной, прокли-
нательной лексике.
Следует различать между стилистической окраской, которая
может быть нейтральной, высокой, низкой, торжественной,
просторечной — и экспрессивной окраской, выражающей отношение
говорящего к предмету: положительное и отрицательное,
одобрительное или презрительное, серьезное или ироническое.
Например, слово «мерзопакостный» имеет отрицательную
экспрессивную окраску, но относится к высокому, книжному,
архаическому стилю. А выражение «классная чувиха» имеет вполне
одобрительный смысл, но относится к вульгарному стилю,
просторечию.
Слова «совокупление» и «половой акт» относятся к книжной
и научной лексике и лишены какой бы то ни было
экспрессивности. Но разве язык обречен только на такой выбор: либо
выразительно-ругательные слова, либо сухие, чисто
назывательные, лишенные эмоциональных оттенков? Разве у любви, у
эроса не может быть в языке своей положительной экспрессии,
выражения восторга, упоения, наслаждения? Слова с корнями
«-яр-» и «-ём-» растут из той древней мифологической,
индоевропейской почвы русского языка, где имя Ярилы священно, где
эрос еще не подавлен и не осквернен, не воспринимается как
кощунство и не служит средством или предметом проклятия.
Слова «ярить», «яристый», «ёмить», «ёмистый» и пр. выражают
горячее, страстное, вовлеченное отношение к тому, что они
обозначают. Эти новообразования с корнями «-яр-» и «-ём-» я бы
назвал неомифологическимщ поскольку они пытаются возродить
ту жизнестроительную экспрессию, что свойственна древним
культам плодородия, где названия половых признаков и
отношений выражают страсть, воодушевление (разумеется, речь
идет о первообразном смысле корней, о жизни языка, а не о
возрождении самих этих культов).
Что касается матерных слов, то они не просто относятся к
низкой, точнее нижайшей, стилевой зоне, но, как правило, име-
V3*
515
ют и отрицательную экспрессию, выражают насмешливое, на-
плевательские-безучастное или ругательно-презрительное
отношение к обозначаемым явлениям. Вот почему я не люблю мата
(хотя признаю его художественные возможности, в частности,
для речевой характеристики персонажей, в том числе
лирических). Мат оскорбляет то, что я люблю, что лежит в природе
вещей, что освящено Творцом («плодитесь и размножайтесь»).
Иногда о матерщиннике говорят: «Вот как он выражается».
Выходит, что «выражаться» и «браниться» — это синонимы, что
только брань по-русски и выразительна. Во всяком случае,
когда говорится «про это». Неужели нельзя выражаться страстно,
любовно, увлеченно, пылко? Если мат берет своей
выразительной силой, то нельзя противопоставлять ему канцелярщину типа
«сожительство», «половые отношения». Нужна выразительность,
но восходящая, пробуждающая. Вот слово «Ярила» мне
представляется очень выразительным, даже возбуждающим, и та же
«ярная» сила, надеюсь, входит и в другие образования от того же
корня. Неужели по-русски может быть только «Лука Мудищев»
и не может быть своей, непереводной Песни Песней?
Матерные слова непристойны вовсе не потому, что они
обозначают «это», а потому, что они «это» низводят до предмета
издевки и проклятия. Матерщина, если попытаться определить
выраженное ею состояние, — это злобное бессилие,
раздраженное состояние человека, которому хочется плюнуть в источник
жизни, потому что нет желания или сил черпать из него. Мат -
это выражение инстинкта смертщ который прежде всего
обращается против пола, против корня и влаги жизни. Огромная
опасность нависает над обществом, язык которого так пронизан
хулой на жизнь, страсть, рождение. Ведь язык — это не просто
сотрясение воздуха, это система понятий, оценок и смыслов, по
которой мы действуем, мыслим, организуем себя. Как ни
странно покажется на первый взгляд, но катастрофическая убыль
населения в России и беспрецедентное количество абортов
напрямую связаны с разливом матерщины, презрительно-глумливым
отношением к полу, как оно выражается в языке.
И не только к полу, а к жизни вообще. Ведь если всё в мире
«хуйня» и «говно», если в отношениях друг с другом люди «пиз-
дят», «бздят», «подъёбывают» и «берут за жопу», если
работают они до «охуения» и «остоебения», то многократными
актами такой экспрессивной речи жизнь постепенно превращается
в то, чем она представляется говорящим.
516
Приведу высказывание филолога и «матолога» Юрия Левина:
Легко представить себе мир, описываемый лексикой [мата] <...>: мир,
в котором крадут и обманывают, бьют и боятся, в котором «всё
расхищено, предано, продано», в котором падают, но не поднимаются, берут, но
не дают, в котором либо работают до изнеможения, либо халтурят — но
в любом случае относятся к работе, как и ко всему окружающему и всем
окружающим, с отвращением либо с глубоким безразличием, — и всё
кончается тем, что приходит полный пиздец»1.
Представляется, что не только язык, но и судьба всего
общества зависит от того, продолжит ли оно «посылать по матери» —
или в нем возникнет положительная экспрессия слов, любящих
свой предмет, любящих саму любовь...
Запрет на обсуждение бранных слов уже снят. Но
творчески, т. е. в плане создания иного экспрессивного слоя
эротического языка, альтернативных слов и выражений, этот вопрос не
обсуждался. Между тем мат становится своего рода
общенациональной теневой языковой валютой, как во времена бурной
денежной инфляции значение всеобщего эквивалента
передается натуральным продуктам — мешку картошки, батону
хлеба, бутылке водки. Инфляция знаменательных слов и их
значений приводит к росту междометности в языке, засилию
«утробных», «жвачных» выкликов, отрыгиваний и отругиваний.
Как замечает писатель и журналист Игорь Шевелев:
Логику в России заменил мат. Более-менее развитые дискурсы
снимаются эмоциональной вспышкой, при которой четырьмя словами и их
производными заменяется, по сути, большой академический словарь. Тут
кончается цивилизация и начинается Россия, у границ которой напрасно будет
томиться то НАТО, то Наполеон. Пока есть мат, Россия неисправима8.
Оматерение страны иногда оправдывают тем, что живется
трудно, страшно, и мат — «эмоциональная вспышка» — будто
бы разряжает отрицательные энергии, скопившиеся в душе:
выругаешься — и полегчает. Вроде бы так, но, разряжаясь
руганью, заряжаешь ею окружающий воздух, близких и дальних,
и те самые отрицательные энергии, которые вытолкнул из себя,
возвращаются к тебе усиленными вибрациями.
Еще одно утонченное оправдание мата, недавно высказанное
писателем Виктором Ерофеевым, состоит в том, что по мере
распространения в обществе он теряет свою матерностъ, табуи-
рованность. В эпоху своего постсоветского разлива русский мат
как бы «разрушает себя изнутри» и скоро станет предметом
ностальгии; нужно не гонения на него устраивать, а беречь как
517
вымирающий вид речи, как хрупкое национальное достояние.
Но ведь сам Виктор Ерофеев пишет в книге «Мужчины»:
Я никогда не назову мужские гениталии постыдным постным словом
член. Хуй есть хуй, и я буду писать это слово с заглавной буквы, как в
слове «Родина». Я вычеркиваю его из словаря нецензурных слов.
Что же устраивать поминки по русскому мату, скорбеть об
утрате его первородной силы, если сам писатель снимает с него
табу и цензуру, ставит в тот же торжественный ряд, что и
«Родину»?
То, что Ерофеев говорит о стилевом самоубийстве мата,
отчасти верно: распространяясь среди тех слоев населения и в тех
общественных кругах, где раньше мат не допускался
(интеллигенция, литература, журналистика, политика, парламент), мат
постепенно переходит из крайне вульгарной, непристойной
зоны просторечия в разговорную и даже отчасти литературную
зону. Но, стилистически приподнимаясь, точнее расходясь
вширь, мат не утрачивает своей унизительной экспрессии, своей
бранности, похабности, установки на оскорбление и бесчестие.
И такая стилевая карьера мата, его восхождение по ступенькам
приличия в хорошее и даже высшее общество означает только
то, что само общество роет себе языковой котлован. Да, стоит
пожалеть о мате, который теряет свою убойную силу — силу
заклятия, святотатства, нарушения табу. Но еще больше,
наверное, стоит пожалеть об обществе, в котором мат уже почти
никому не режет слуха.
Примечания
1 См. «емлю», «имать» в изд.: Фасмер Макс. Этимологический
словарь русского языка: В 4 т. М.: Прогресс, 1986. Т. 2. С. 19; «взять» в
изд.: Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. Киев:
Радяньска школа, 1970. С. 70.
2 Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского
языка. М.: Олма-пресс, 2002. С. 470—471. Все цитаты из Даля — по этому
изданию.
3 Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. М.:
Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1959. Т. 1. С. 8СК-81; Черных П.Я.
Историко-этимологический словарь современного русского языка. М.:
Русский язык, 1999. С. 109.
4 Здесь и далее все примеры принадлежат автору статьи.
Задача: представить как можно шире разные стилевые контексты,
жанры и жизненные ситуации употребления данного слова — от научно-
518
го до бытового, от научной фантастики и авангардной прозы до
школьного сочинения и деревенской частушки. Все примеры
выделены петитом.
5 Глагол «ярить» — плотски любить, обладать; действовать яро,
пылко, с напором. О корне «-яр-» и его производных см.: httpi^www.emory.edu/
INTELNET/dar8.html
b Подробнее на эту тему см.: Эпштейн Михаил. Эдипов комплекс
советской цивилизации// Эпштейн М. Слово и молчание: Метафизика
русской литературы. М.: Высшая школа, 2006. С. 388—408.
7 Левин Юрий. Об обсценных выражениях русского языка //
Антимир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература / Сост. Н.
Богомолов. М.: Ладомир, 1996. С. 119.
8 Шевелев Игорь. Год одиночества. М., 2002. Фр. 45 (без указания
издательства и постраничной пагинации).
СОДЕРЖАНИЕ
Денис Г. Иоффе. От редактора 5
ЛОКУСЫ ОПИСАНИЯ
К постановке проблемы изучения
эротических координат культуры
Леонид М. Геллер (Лозаннский университет). В поисках «Нового
Мира Любви». Русская утопия и сексуальность. Пер. с фр.
Дм. Калугина 23
Дениэл Ранкур-Лаферъер (Калифорнийский университет. Дэ-
вис). К постановке проблемы семиотики пениса. Пер.
с англ. М.Д. Клебанова и Д.В. Соловьева 53
МИР КОМПАРАТИВИСТСКИХ схолий
Этапы синтеза
в очерчивании конкретики сюжетов
Михаил Д. Клебанов (Технион. Израильский
Технологический университет). К трансгрессии внутреннего опыта,
или Бесконечная история означающего. Пределы эро-
тографической стилистики у Жоржа Батая и Пьера
Гийота 115
A.A. Аствацатуров (СПбГУ). Эротическая утопия и симуляк-
ры сознания у Генри Миллера 142
Владимир Хазан (Иерусалимский университет). «Могучая
директива природы». Три этюда об эротических текстах
и подтекстах 166
СПЕЦИФИКА
РУССКОЙ ПАРАДИГМАТИКИ
Отдельные case-studies
русского литературоцентричного звена
науки о культуре
М.В. Михайлова (МГУ). Эротическая доминанта в прозе
русских писательниц Серебряного века 221
Денис Г. Иоффе (Университет Амстердама). К вопросу об
эротическом субстрате феномена модернистского жизне-
творчества: случаи Блока и Хармса. Моделирование
текстов жизни и текстов поэзии 241
И.Е. Аощилов (Институт филологии, массовой информации
и психологии Новосибирского государственного
педагогического университета). «Зато в телесных качествах —
нехватка»: «соматический эллипсис» и символика
Каббалы в «Столбцах» Николая Заболоцкого 300
Е.И. Трофимова (МГУ). «Война и мир» Ольги Зотовой.
Тендерная проблематика в повести Алексея Толстого
«Гадюка» 337
КАЗУС АНДРОГИНА
И РУССКАЯ ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ
Елена Григорьева (Тартуский университет). К вопросу о
топике андрогинизма в русском литературно-философском
модернизме. Компаративный взгляд sub specie semio-
logiae 353
Марина Аптекман (Университет Брандейс). «И двое станут
одним»: еврейская Каббала, мифопоэтический андро-
гин и Адам Кадмон в поэтике Серебряного века 382
РУССКИЙ ЭРОТИКОЙ
И МИР ВИЗУАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Специфика мнимости описаний
Денис В. Соловьев (Галерея Розенфельдт. ТельгАвив — Берлин).
К вычленению Лакановой составляющей. Некоторые
аспекты семиотики ануса и российские блатные
татуировки 413
Наташа Друбек-Мейер (Мюнхенский университет). Девушка
с плюсом. Механизмы фетишизации в кинематографе
Высокого сталинизма. Пер. с нем. Валерия Мерлина 479
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Лингвистический барьер вненаходимости:
еще раз о вечно-женственном
в русском языковом бытовании
Михаил Н. Эпштейн (Университет Эмори). Женский эрос в
пространстве языка. Корень «-ё'м-» и его производные 499
Дискурсы телесности и эротизма в литературе и
культуре: Эпоха модернизма / Сб. ст. под ред. Дениса Г. Иоффе —
М.: Ладомир, 2008. — 523 с. (Русская потаенная литература)
ISBN 978-5-86218-472-3
В настоящем сборнике собраны «в едином контексте» сразу
несколько научных школ и практик ведения анализа в гуманитарных науках.
Главным тематическим интересом, послужившим общим
фундаментом для почти всех без исключения текстов, является
эксплицированное внимание к человеческому «культурному телу» и к его «сомати-
ке», его «потаенному эросу».
Человеческая соматичностъ изучается посредством «культурных
данных», sub specie fragmentalis (как вербальных, так и
экстраполируемых из нефилологических слоев культуры), и ad hoc привлекаемого
описательного аппарата, доступного в данный момент. В процессе
работы над книгой у ее авторов возникали различные
эпистемологические вопросы и сомнения: насколько «тексты культуры» (как и
«литературы»), рассматриваемые vis-a-vis учрежденного в новейшей науке
многомерного понятия homo somatikos, могут быть полезны при
составлении мозаичного ребуса метазадачи «общей истории»?
Насколько точны наши способы извлечения информативных блоков из руды
открывающихся нам конденсированных складилищ культурной
памяти?
Научное издание
ДИСКУРСЫ ТЕЛЕСНОСТИ И ЭРОТИЗМА
В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ
Эпоха модернизма
Редактор
ЮЛ. Михайлов
Корректоры
О. Г. Наренкова, Н.М. Соколова
Компьютерная верстка
И. В. Севергиной
ИД № 02944 от 03.10.2000 г.
Подписано в печать 25.09.2007.
Формат 84xl08y32. Гарнитура «Баскервиль».
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Печ. л. 16,5. Тираж 1000 экз. Зак. № К-7531.
Научно-издательский центр «Ладомир»
124681, Москва, ул. Заводская, д. 6а
Тел.: (095) 537-98-33
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Отпечатано с оригинал-макета
ГУП «ИПК "Чувашия"», 428019,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13
ISBN 5-86218-472-4
В СЕРИИ
«РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
вышли:
1. Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова.
2. Под именем Баркова: Эротическая поэзия XVTÜ — начала
XIX века.
3. Стихи не для дам: Русская нецензурная поэзия второй
половины XIX века.
4. Русский эротический фольклор: Песни. Обряды и
обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки.
Частушки.
5. Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор. Литература.
Сб. статей.
6. Секс и эротика в русской традиционной культуре. Сб. статей.
7. Заветные сказки из собрания Н.Е. Ончукова.
8. Народные русские сказки не для печати; Русские заветные
пословицы и поговорки, собранные и обработанные А.Н.
Афанасьевым.
9. В. И. Жельвис. Поле брани: Сквернословие как социальная
проблема в языках и культурах мира. (1-е изд., 2-е изд.)
10. Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой
дамы до семейных рассказов.
11. Заветные частушки из собрания А.Д. Волкова. В 2 т.
12. Анна Map. Женщина на кресте.
13. А.П. Каменский. Мой гарем.
14. Эрос и порнография в русской культуре. Сб. статей.
15. М.Н. Золотоносов. Слово и Тело: Сексуальные аспекты,
универсалии, интерпретации русского культурного текста XIX —
XX веков.
16. «А се грехи злые, смертные...»: Любовь, эротика и
сексуальная этика в доиндустриальной России (X — первая
половина XIX в.). Сб. материалов и исследований.
17. «...сборище друзей, оставленных судьбою»: Л. Липавский,
А. Введенский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чи-
нари» в текстах, документах и исследованиях. В 2 т.
18. «Тайные записки А. С. Пушкина. 1836—1837: Перевод с
французского». (Публикация Михаила Армалинского.)
19. Г. И. Кабакова. Антропология женского тела в славянской
традиции.
20. Национальный Эрос и культура. Сб. статей. Т. 1.
21. СБ. Борисов. Мир русского девичества: 70—90 годы XX века.
22. М.И. Армалинскш. «Чтоб знали»: Избранное. 1966—1998.
23. Рукописи, которых не было: Подделки в области
славянского фольклора.
24. М.Н. Золотоносов. Братья Мережковские. Кн. 1: Orinepenis
Серебряного века.
25. «А се грехи злые, смертные...»: Русская семейная и
сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов,
фольклористов, правоведов и богословов XIX — начала
XX века. Сб. материалов и исследований. Книги 1—3.
26. Д. Ранкур-Лаферъер. Русская литература и психоанализ. Сб.
монографий и статей.
27. «Злая лая матерная...» Сб. ст. под ред. В.И. Жельвиса.
28. СИ. Голод. «Что было пороками, стало нравами»: Лекции
по социологии сексуальности.
29. CK. Лащенко. Смеховой мир язычества.
30. Белорусский эротический фольклор.
31. М.Н Золотоносов. Другой Чехов: По ту сторону принципа
женофобии.
32. Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре:
Эпоха модернизма. Сб. статей под ред. Дениса Г. Иоффе.
33. В.И. Зазыкин. О природе смеха: По материалам русского
эротического фольклора.
Серия издается с 1992 года.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел. (не сотовый): 8499-717-98-33;
тел. склада (не сотовый): 8-499-729-96-70.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
В СЕРИИ «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
выпустил
М.Н. ЗОЛОТОНОСОВ
Другой Чехов
ПО ТУ СТОРОНУ ПРИНЦИПА ЖЕНОФОБИИ
В центре внимания автора — жизнь и творчество А.П.
Чехова. Гиперсексуальный с гимназических лет, Чехов
оказывается осознанно женофобичным. Целью является разумная
экономия либидо, и в результате, несмотря на обилие связей
едва ли не со всеми женщинами, с которыми он знакомится,
возникает нарциссическая фиксация и страх постоянных
сексуальных отношений, длительных привязанностей, семейной
жизни, которая может забрать энергию, необходимую для
творчества. Второго такого разрушителя образа семьи в
русской литературе нет. Параллельным в книге оказывается
сюжет борьбы с образом подавляющего Отца, черты которого
Чехов — следуя модели Л. фон Захер-Мазоха (самого
влиятельного иностранного писателя в тот период, когда Чехов входил
в литературу) — переносит на «страшных женщин». Следуя
мазоховскому примеру, Чехов использует свою прозу для
изображения собственных травм и психологических проблем.
Отсюда и диагностируемый по сочинениям латентный мазохизм,
и повышенное значение Захер-Мазоха в художественном мире
Чехова (интертекстуальные связи, адаптации образов и их
перенос в новые сюжетные оболочки).
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел. (не сотовый): 8499-717-98-33;
тел. склада (не сотовый): 8-499-729-96-70.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИИ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
В СЕРИИ «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
выпустил
CK. ЛАЩЕНКО
СМЕХОВОЙ МИР ЯЗЫЧЕСТВА
Издание посвящено изучению магической смеховой традиции
славян. Необычайно характерная для исторического прошлого
нашего народа, она долгое время ревностно оберегалась от
чужих глаз. Лишь иногда, да и то в отрывочном виде, прорывалась
она в «большую» культуру, сразу же вызывая нападки, порождая
настороженное и отчужденное восприятие не только у носителей
церковной и государственной власти, но и в народной среде, в
кругу обывателей различной социальной принадлежности.
Между тем смеховая магия была необычайно характерна для
языческих погребальных и свадебных ритуалов. На их основе
вырастал мощный смеховой комплекс языческих календарных
обрядов. К этим традициям обращались писатели и музыканты,
художники, поэты...
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел. (не сотовый): &499-717-98-33;
тел. склада (не сотовый): 8499-729-96-70.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
В СЕРИИ «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
выпустил
БЕЛОРУССКИЙ
ЭРОТИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР
Эротическая тематика присуща практически всем жанрам
традиционного фольклора белорусов. Женщина и мужчина, их
любовные и интимные переживания с разной степенью
«прозрачности» описаны в произведениях устного народного
творчества, представленных в данном томе. Такие тексты включали в
свои сборники Е. Романов и П. Шейн, С. Малевич и Е. Ляцкий,
иные собиратели белорусского фольклора. М. Федоровский и
А. Дембовецкий записывали «фривольные» песни
целенаправленно и публиковали их в отдельных изданиях, тираж
которых, правда, был ничтожно мал. Так свадебные песни,
собранные А. Дембовецким, вышли в 1882 г. всего в 20 экземплярах.
Обрядовый фольклор в данном томе классифицирован
согласно календарным (калядная и масленичная обрядность,
весенние, купальские и жнивные песни) и семейным (родинная и
свадебная поэзия) комплексам; внеобрядовая лирика и
частушки представлены коллекциями собирателей. В отдельные
разделы собраны загадки и образцы народной прозы.
Представлены также отрывки из трудов известного ученого конца XIX —
нач. XX в. М. Довнара-Запольского, посвященные эротической
тематике в белорусском фольклоре. Впервые публикуются
записи эротического фольклора белорусов из личных архивов
современных собирателей.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел. (не сотовый): 8499-717-98-33;
тел. склада (не сотовый): 8499-729-96-70.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
k)monosowbook@mtu-net.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.