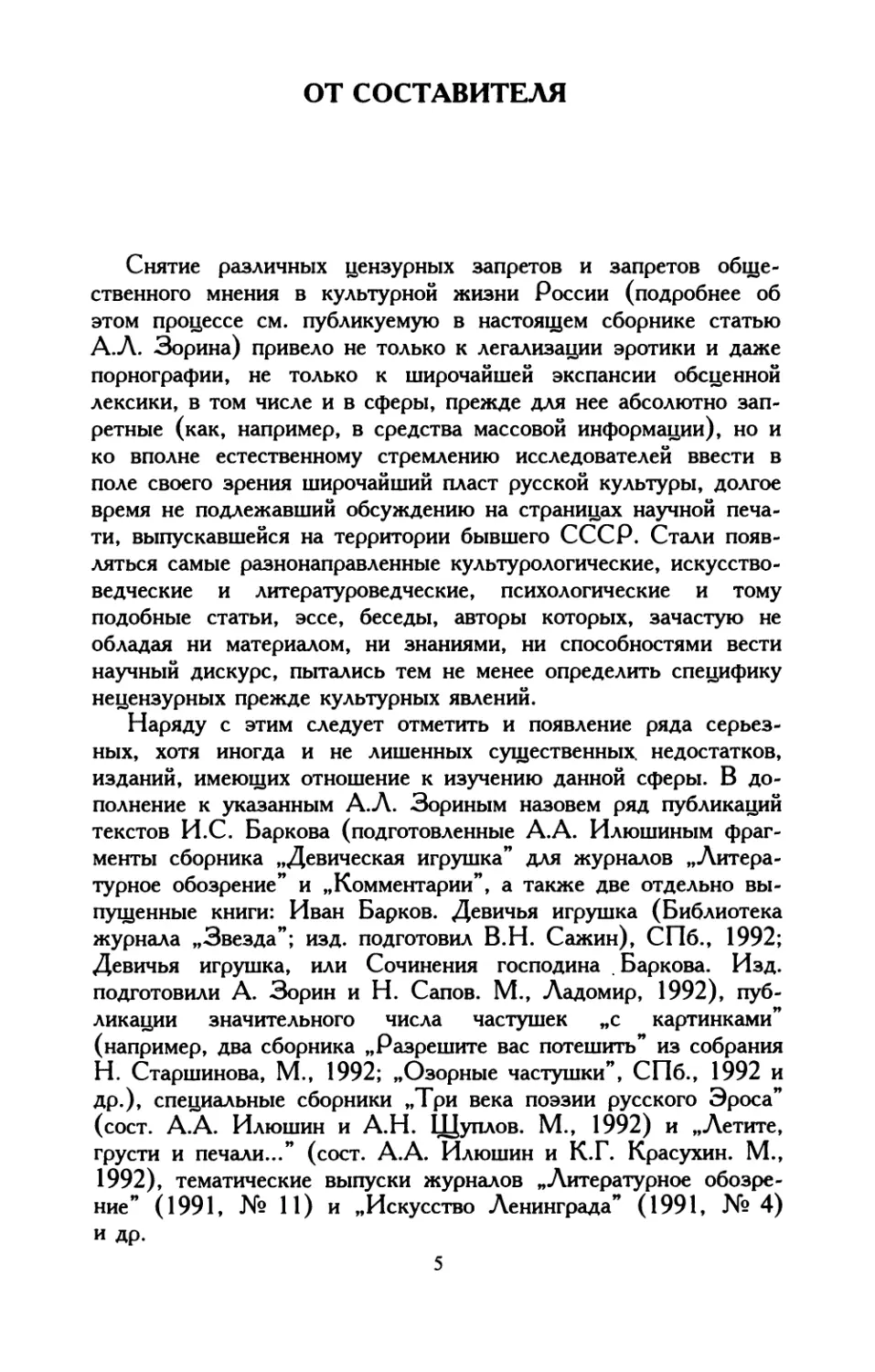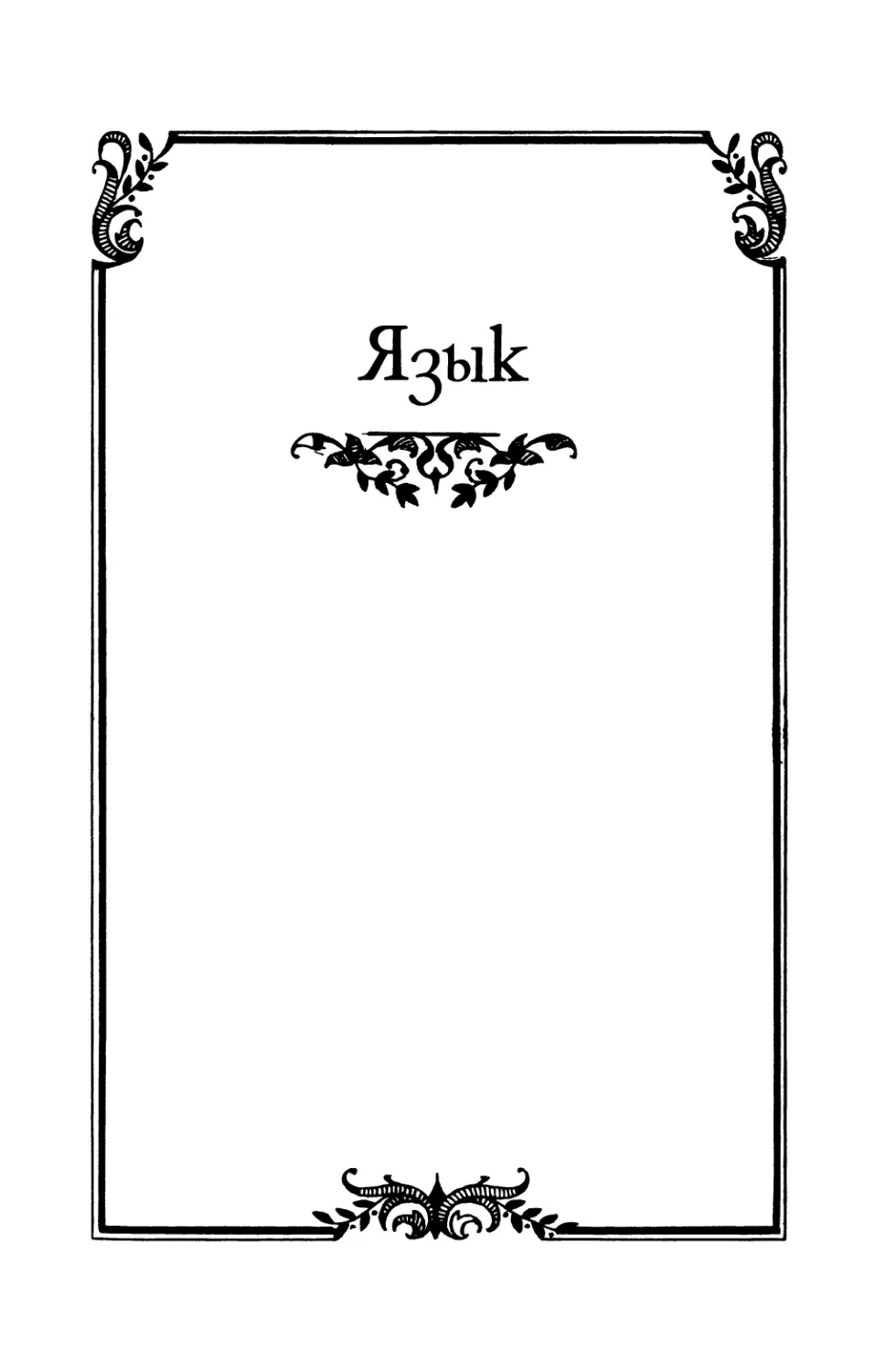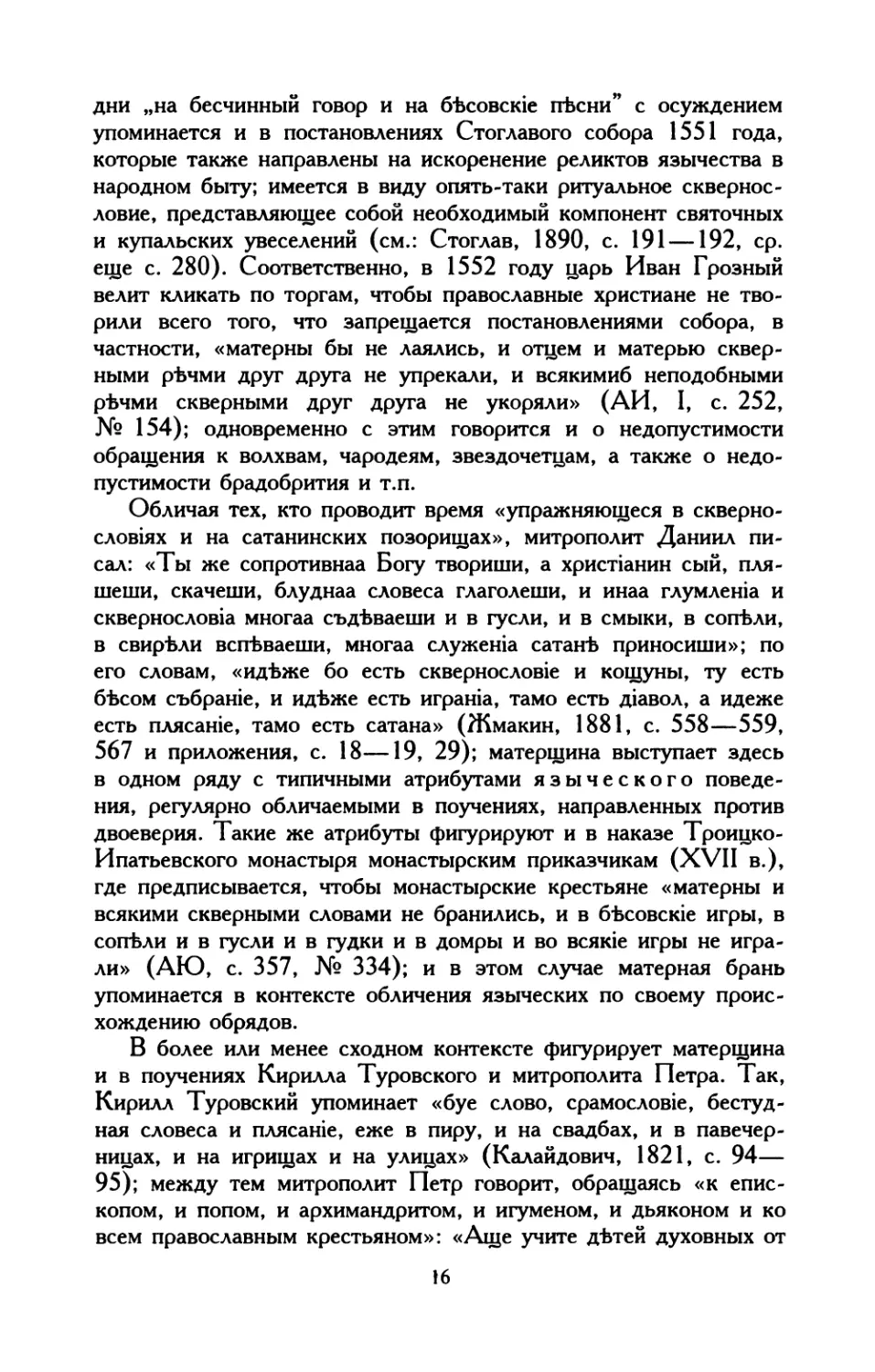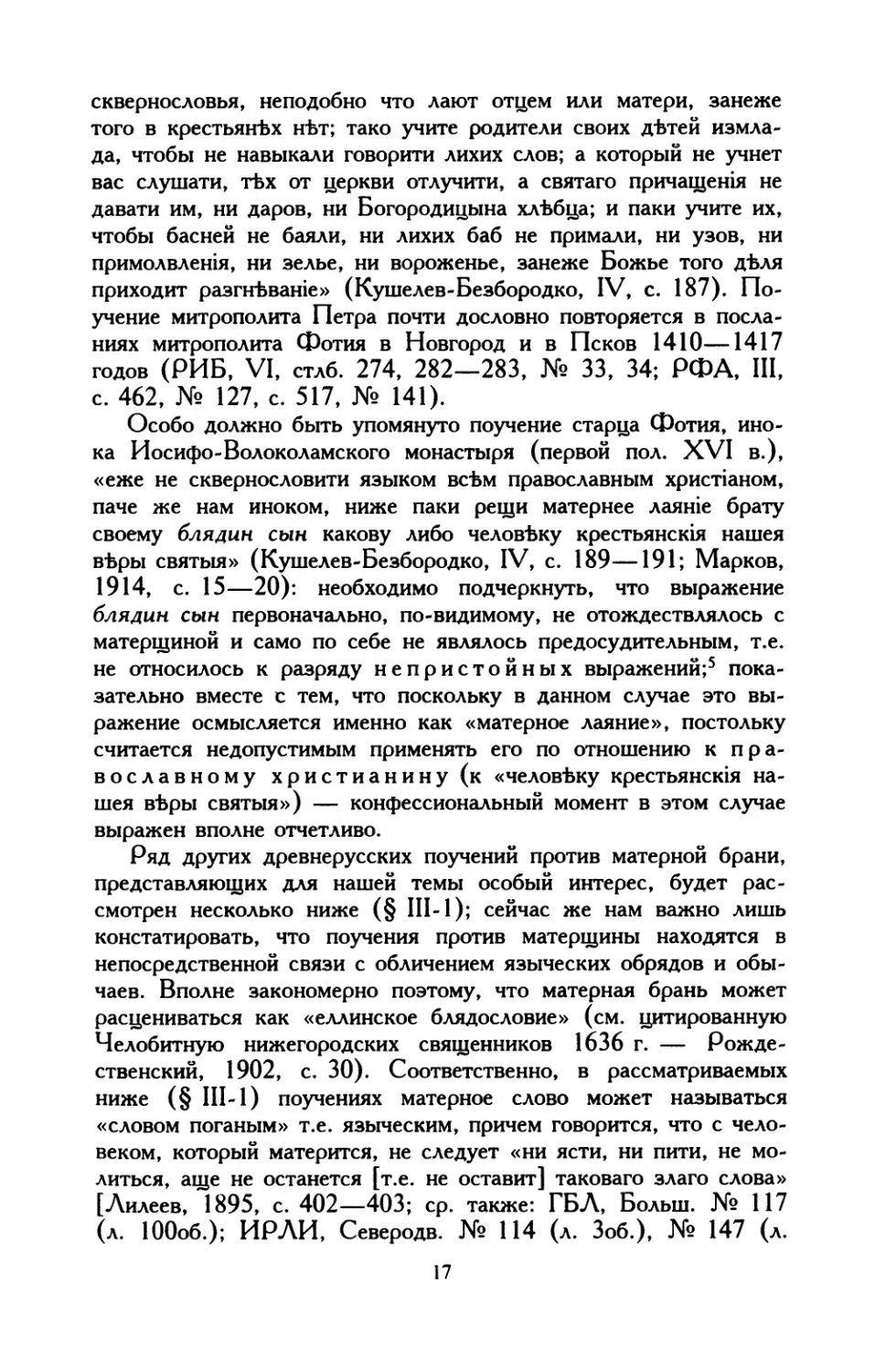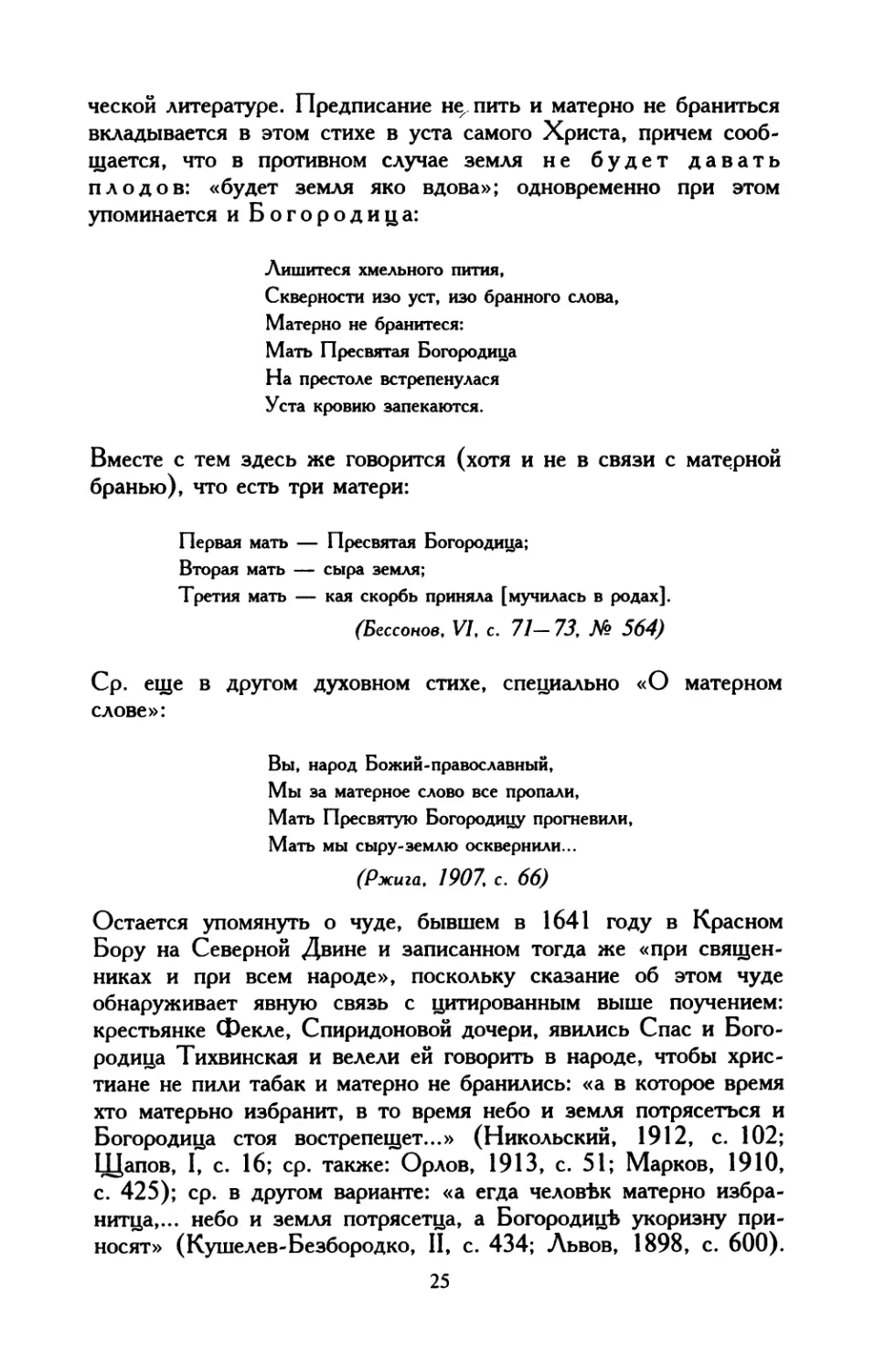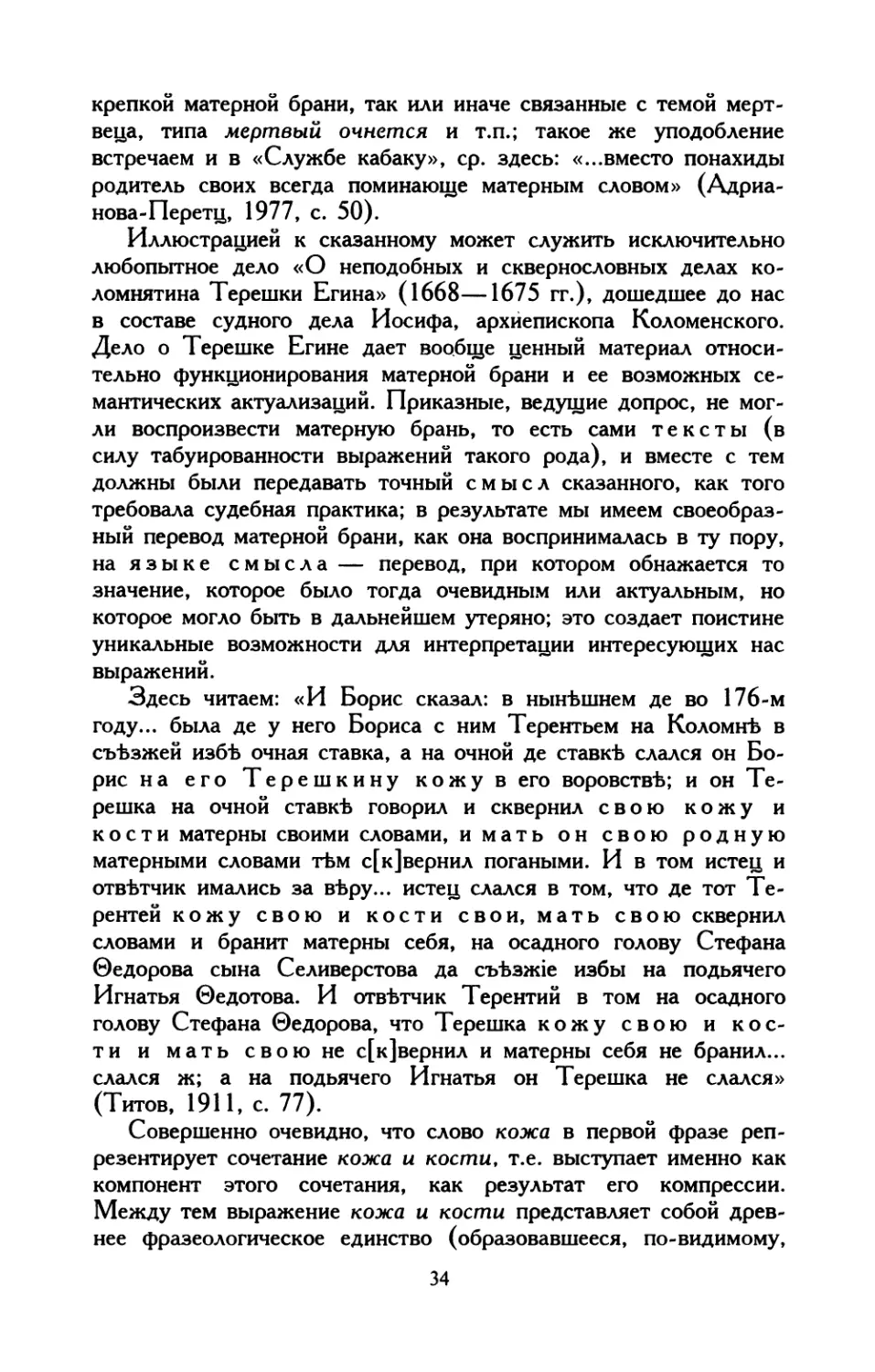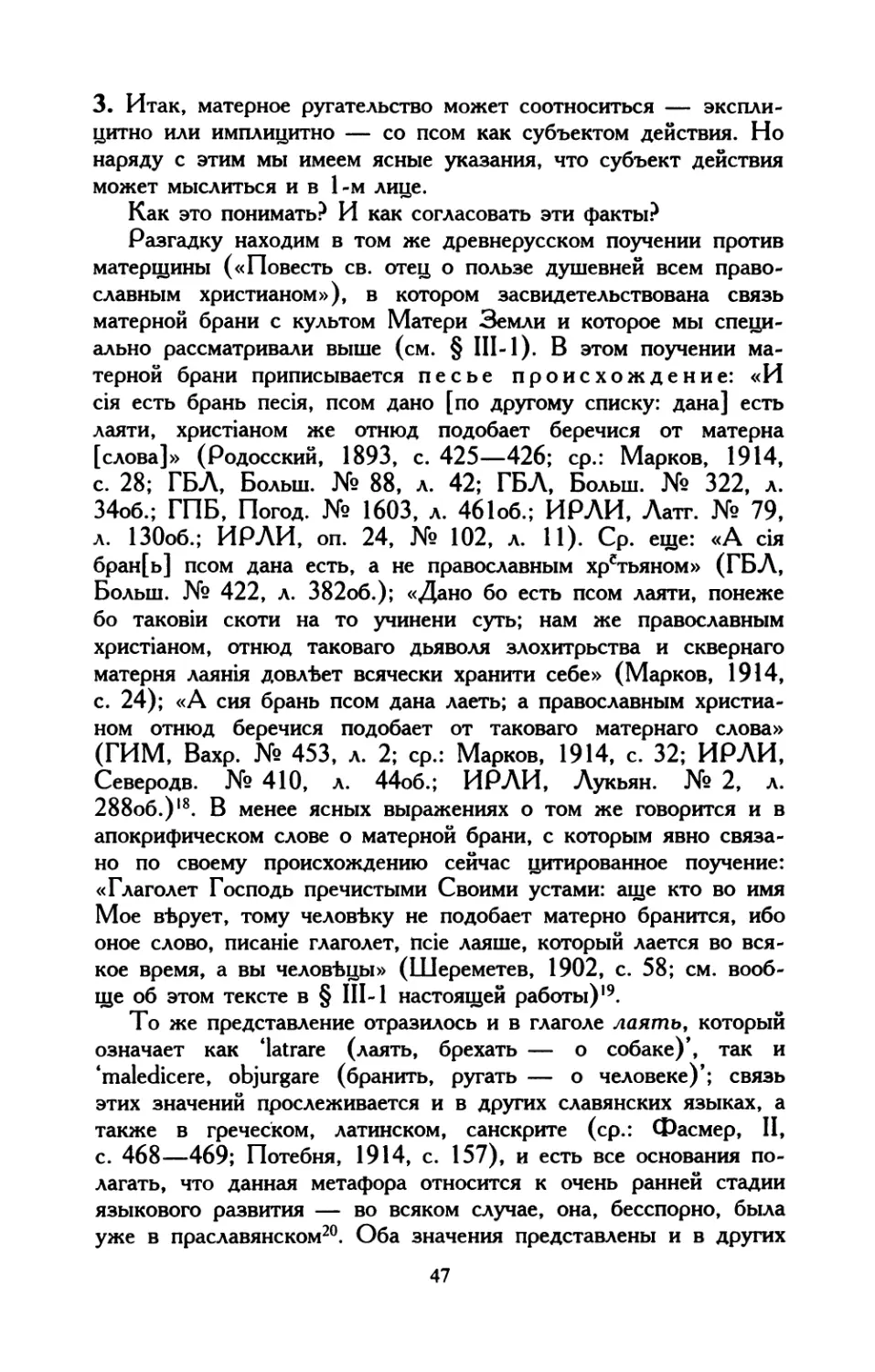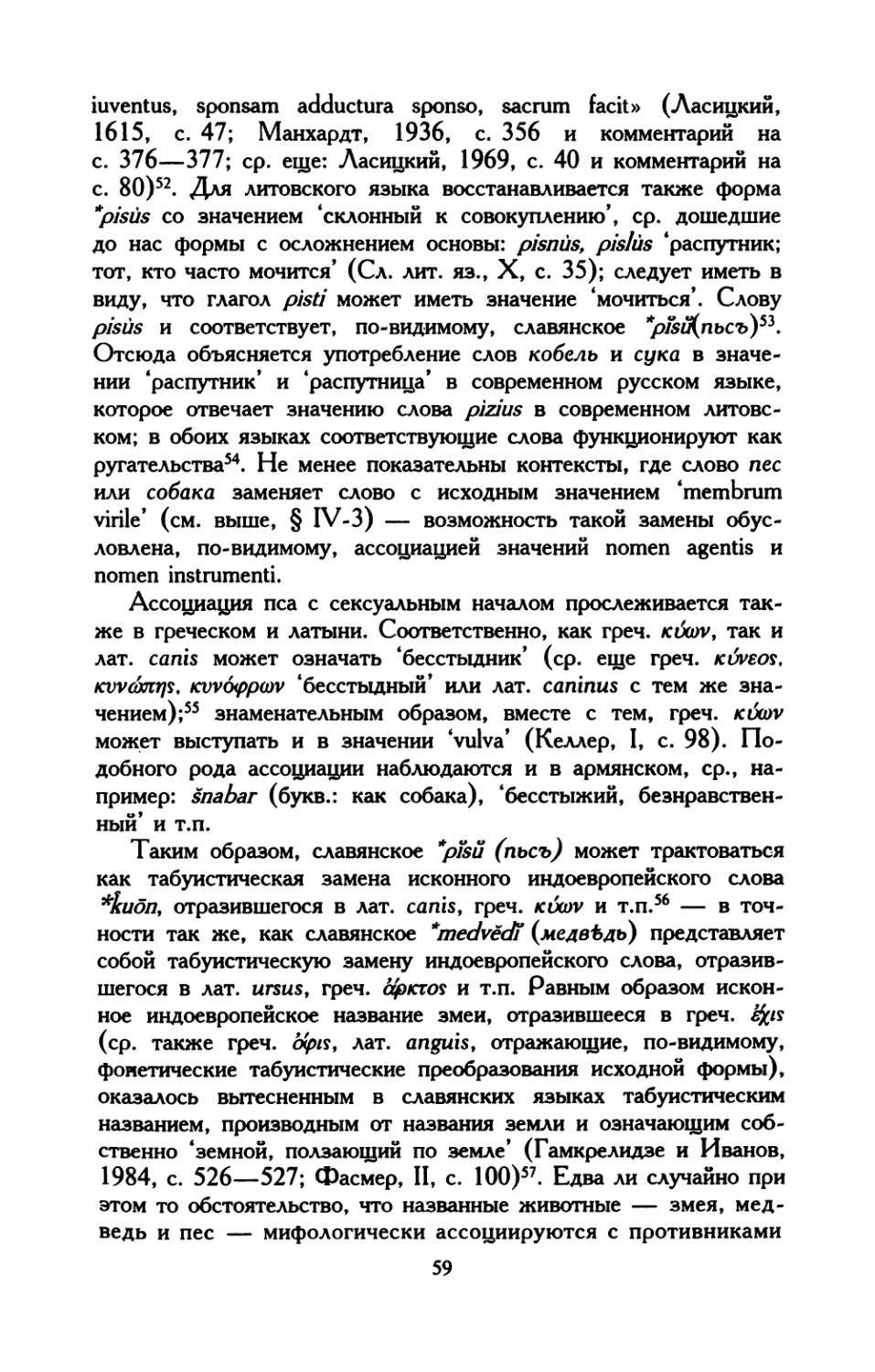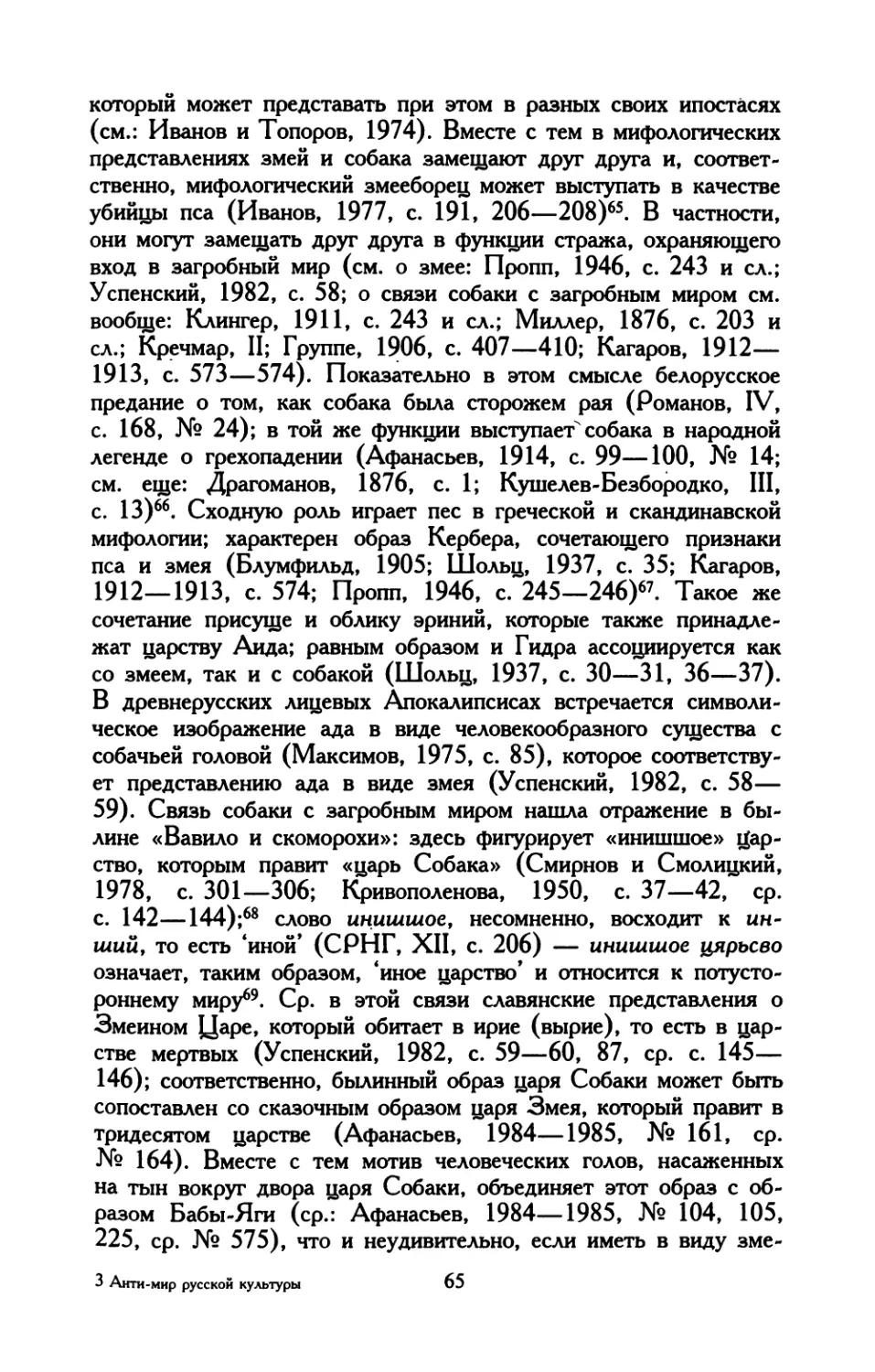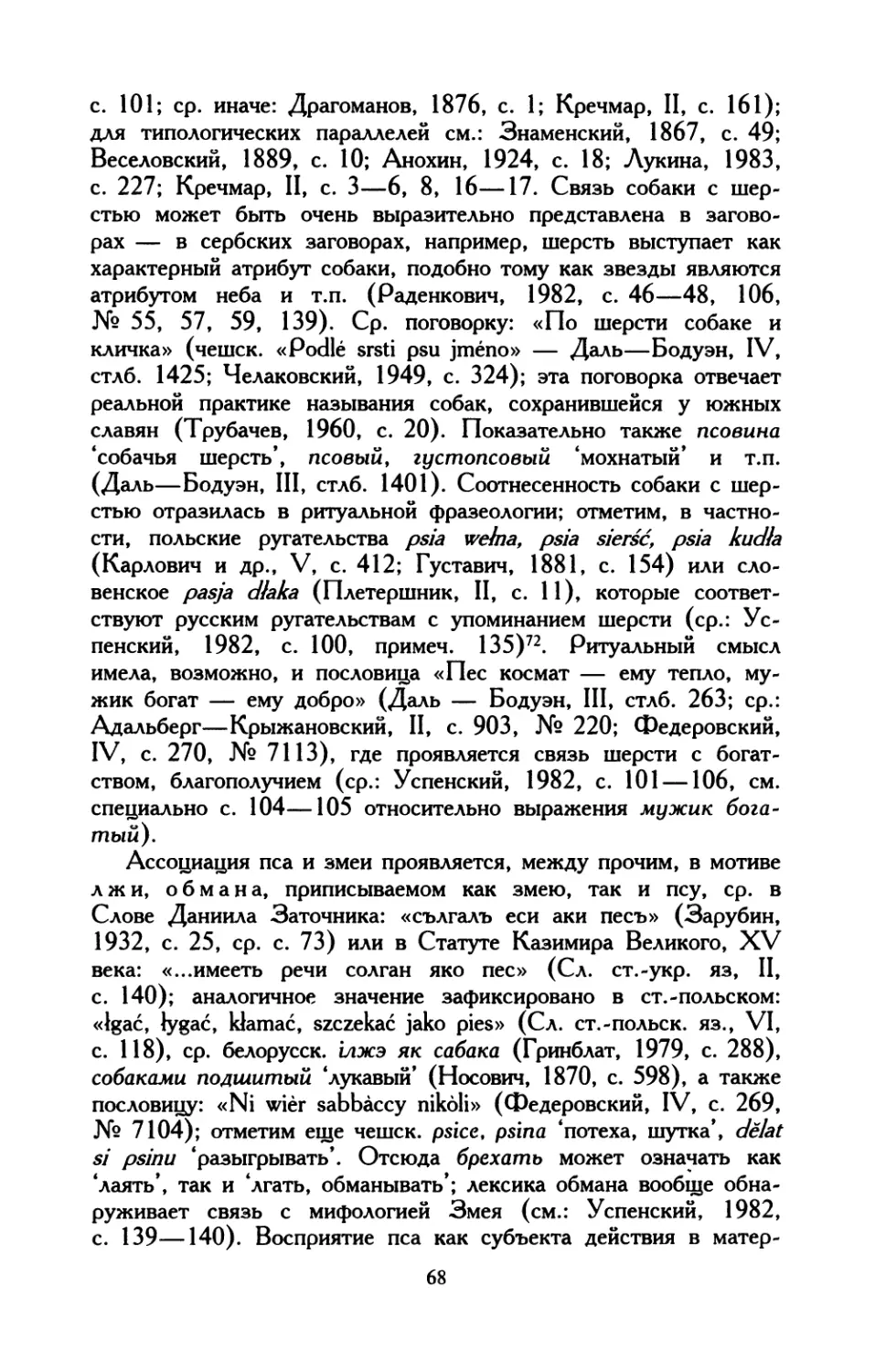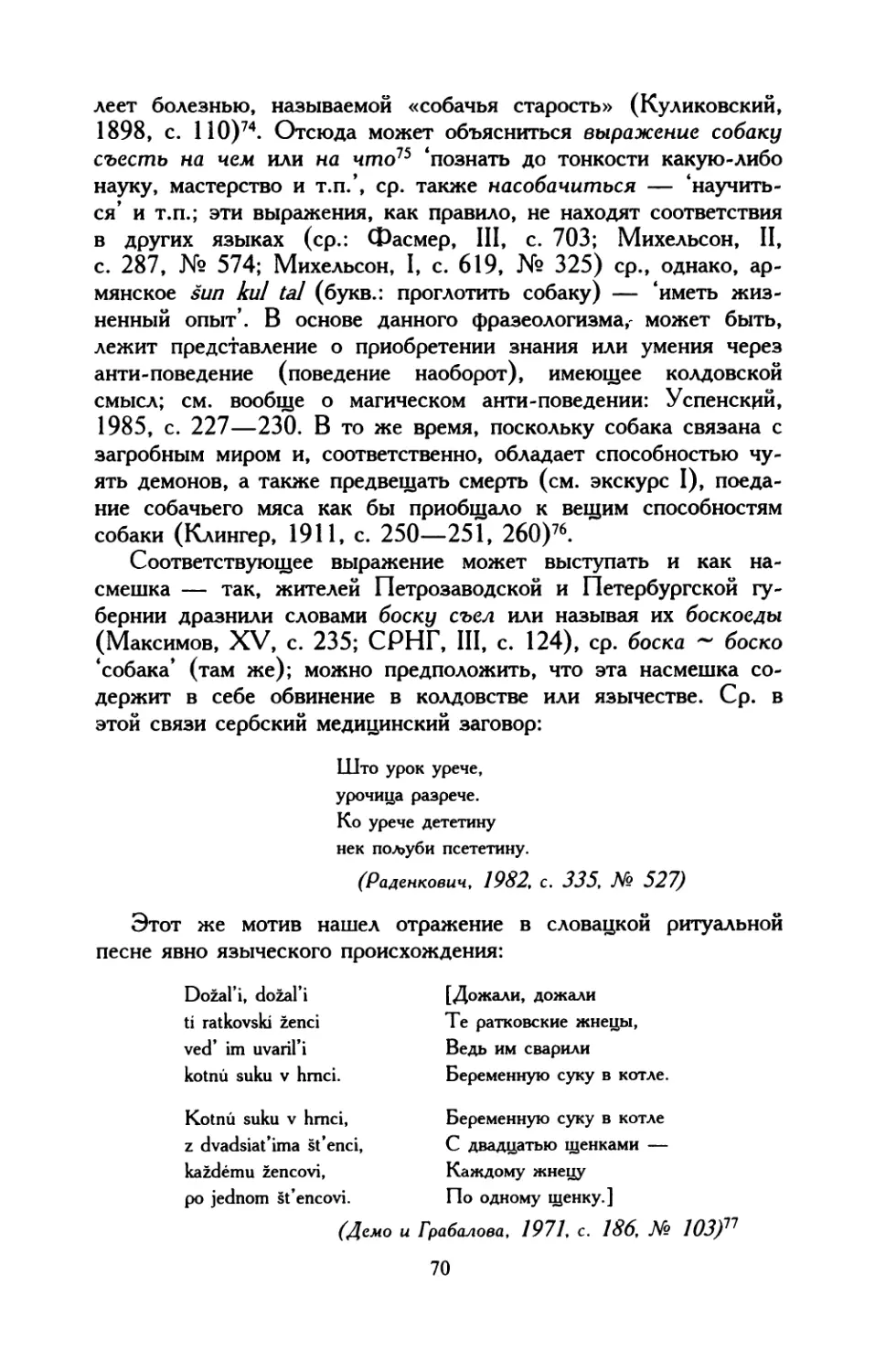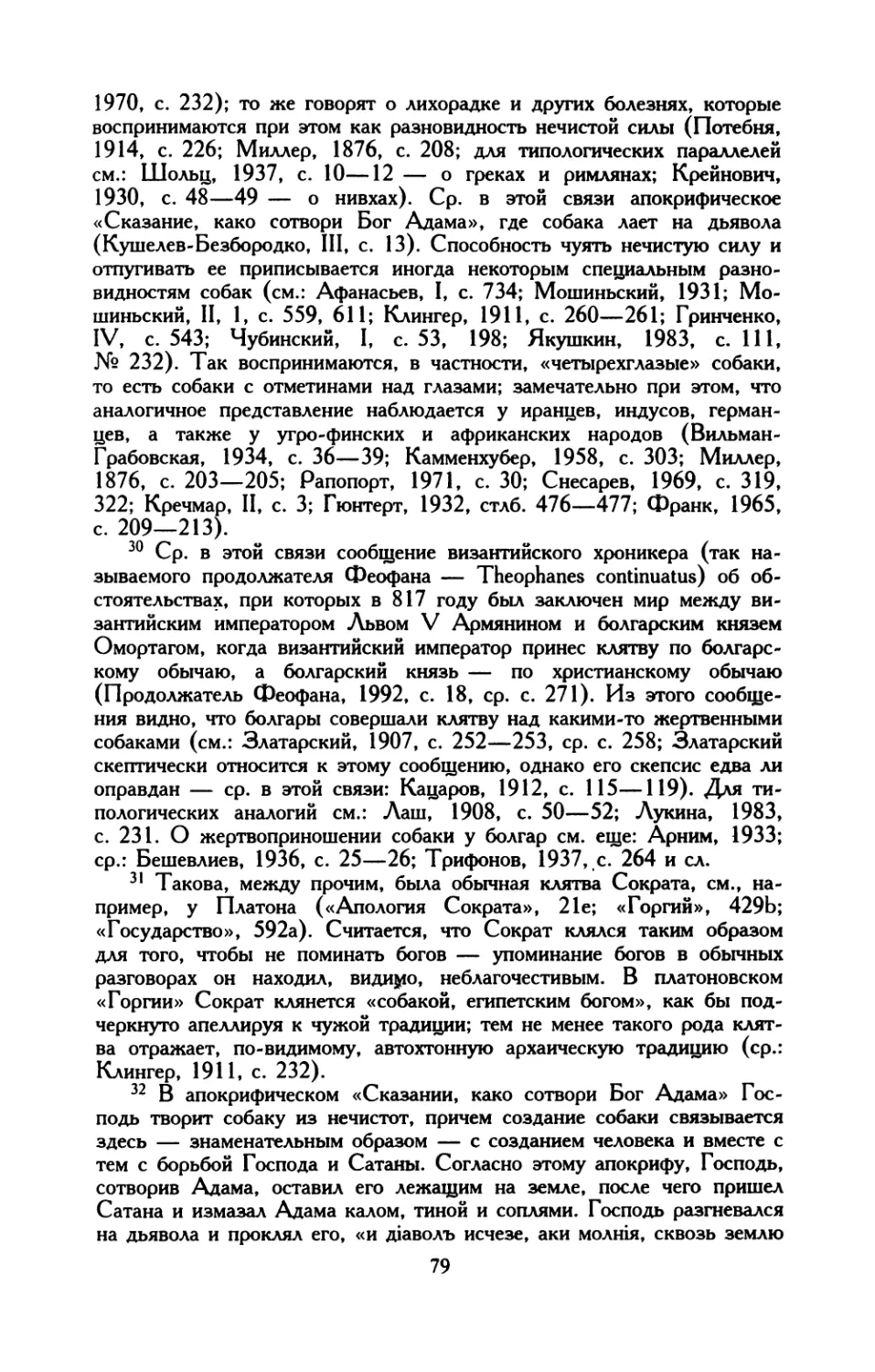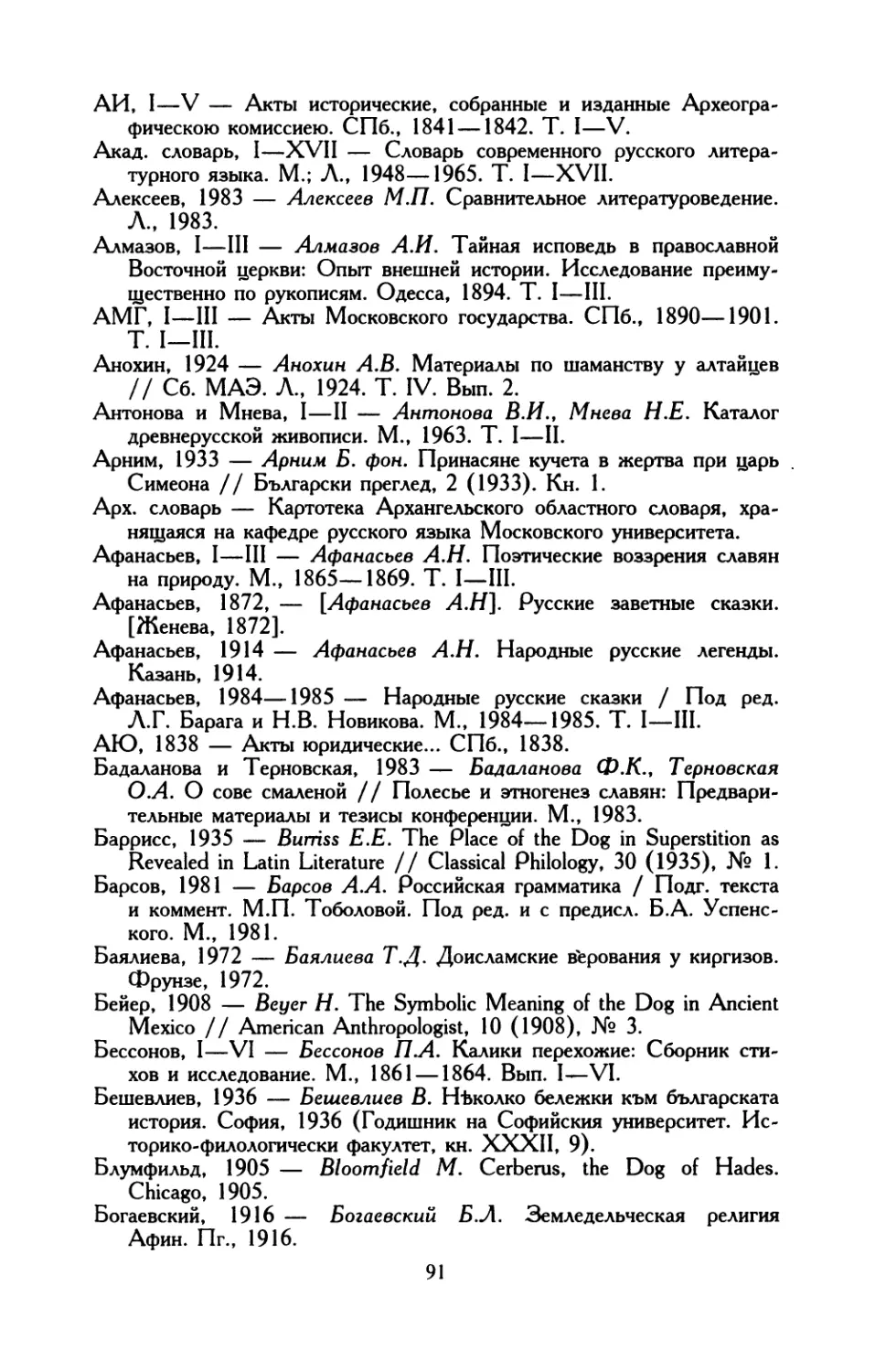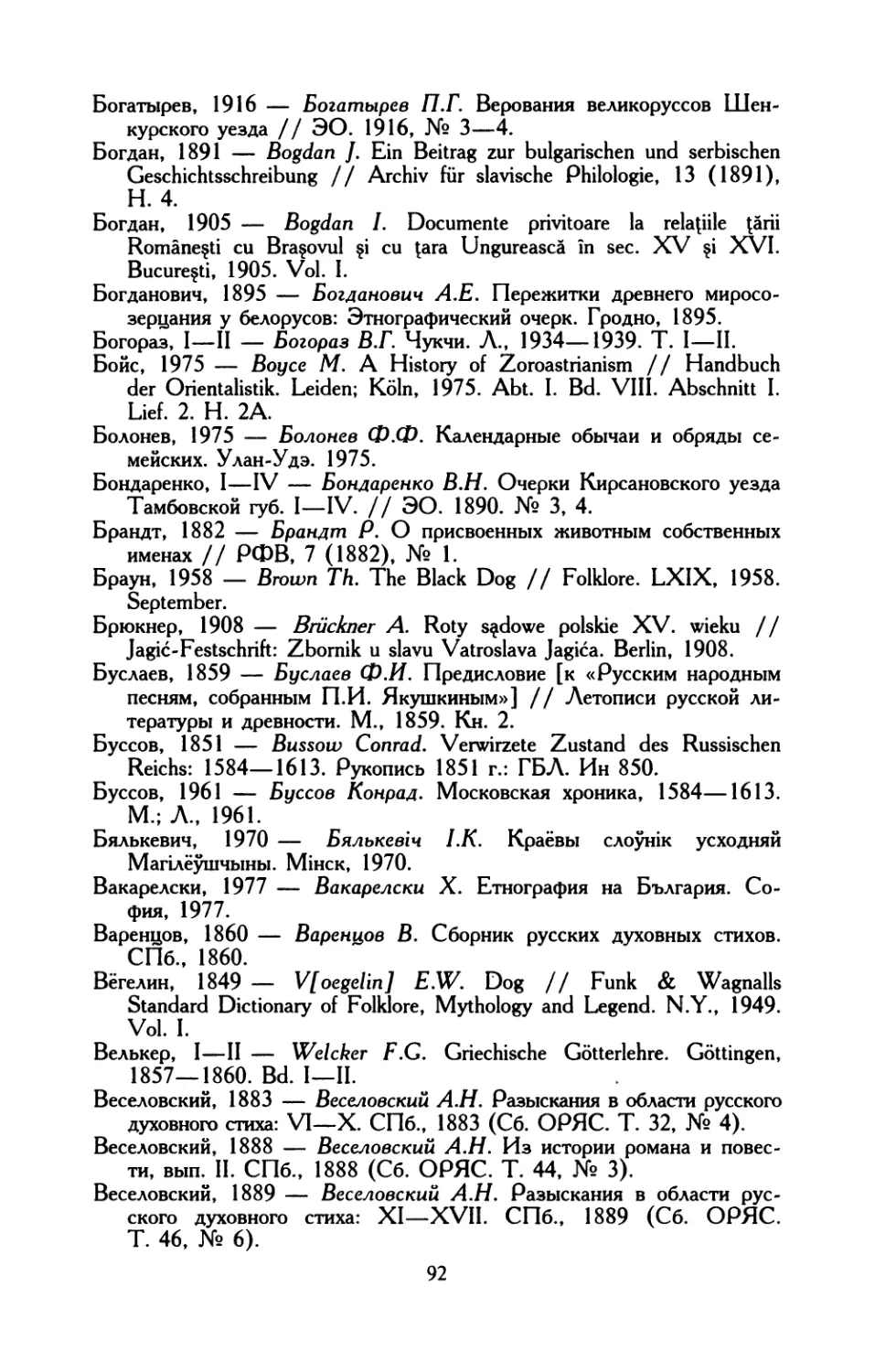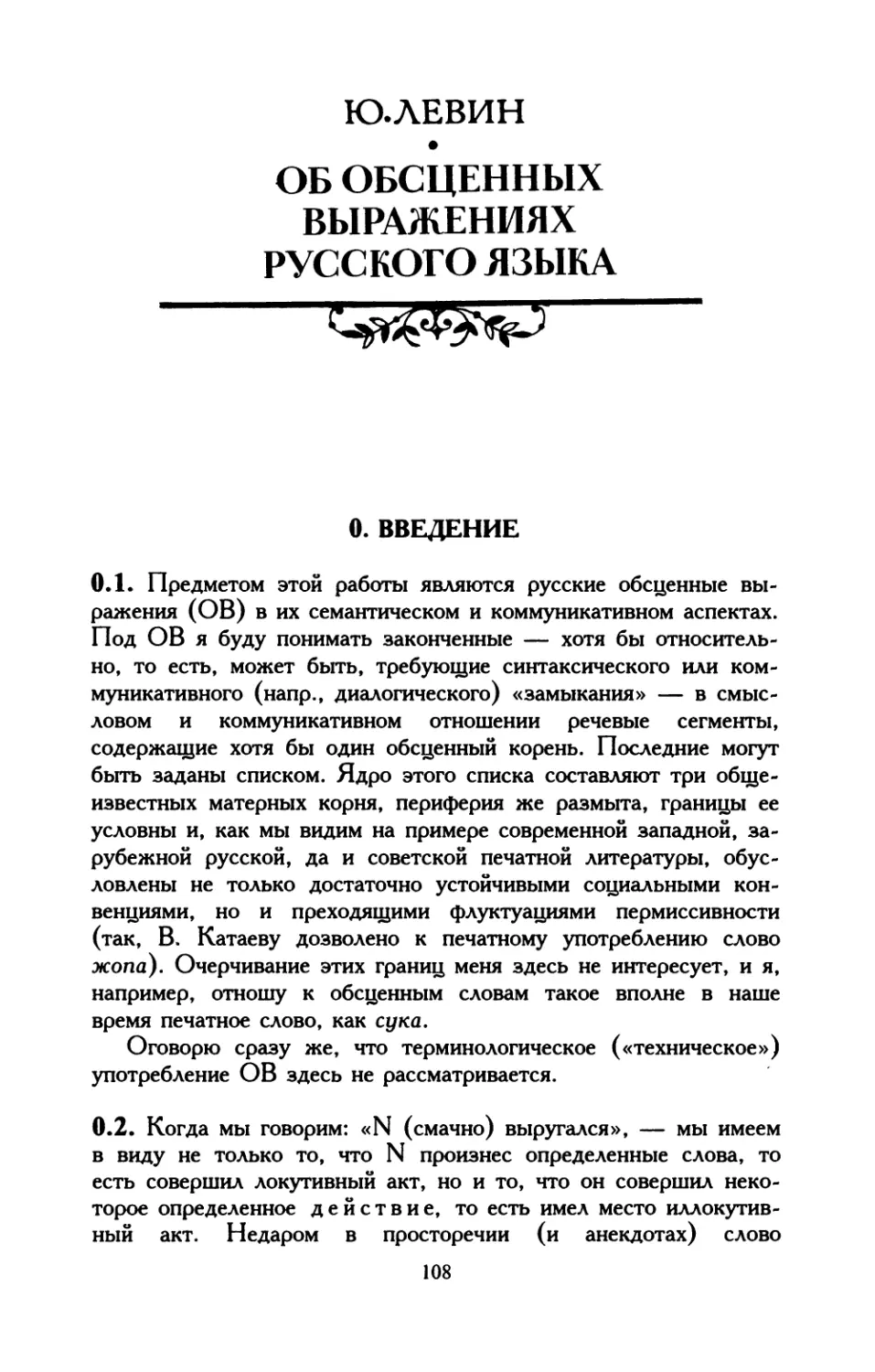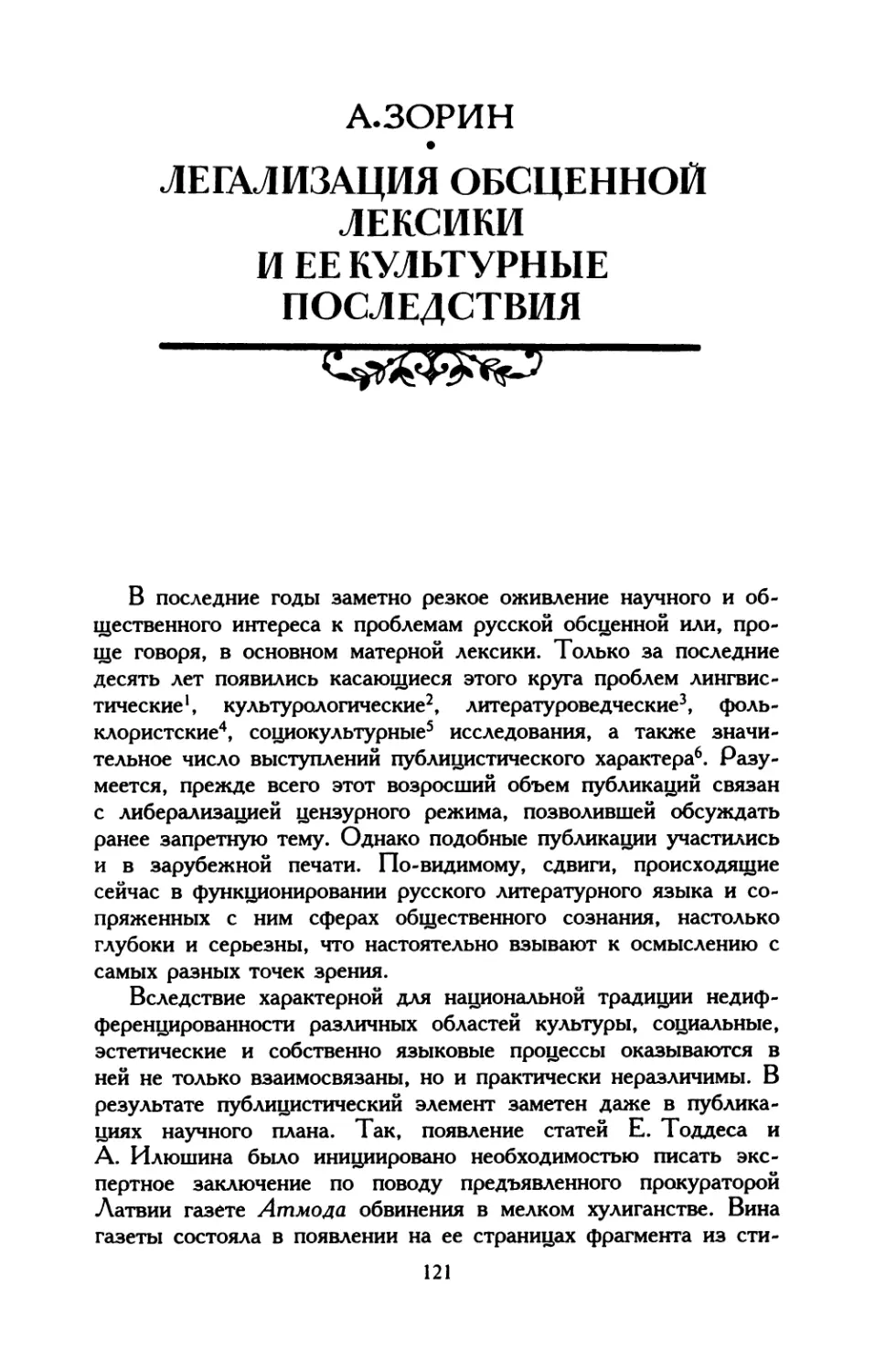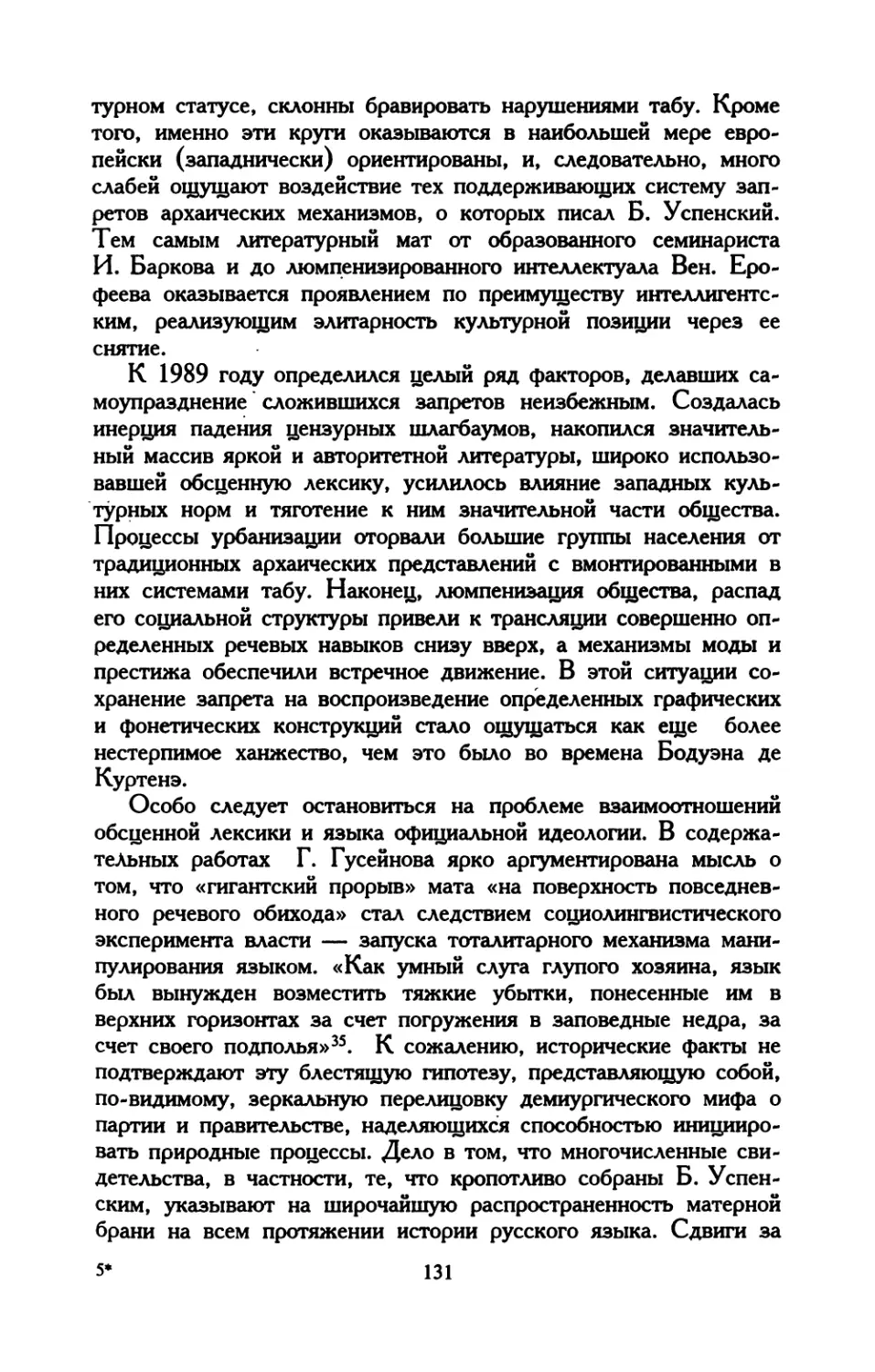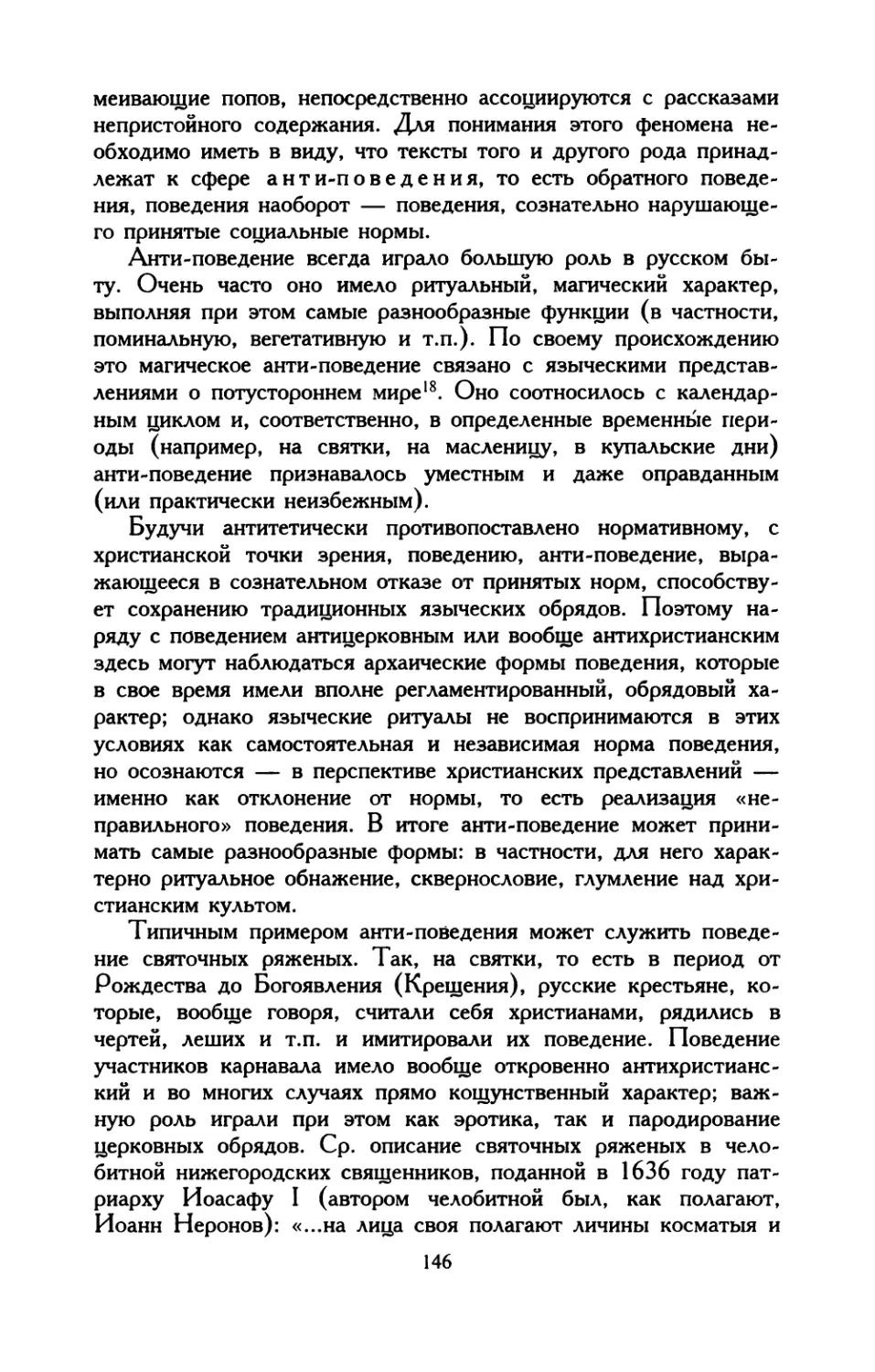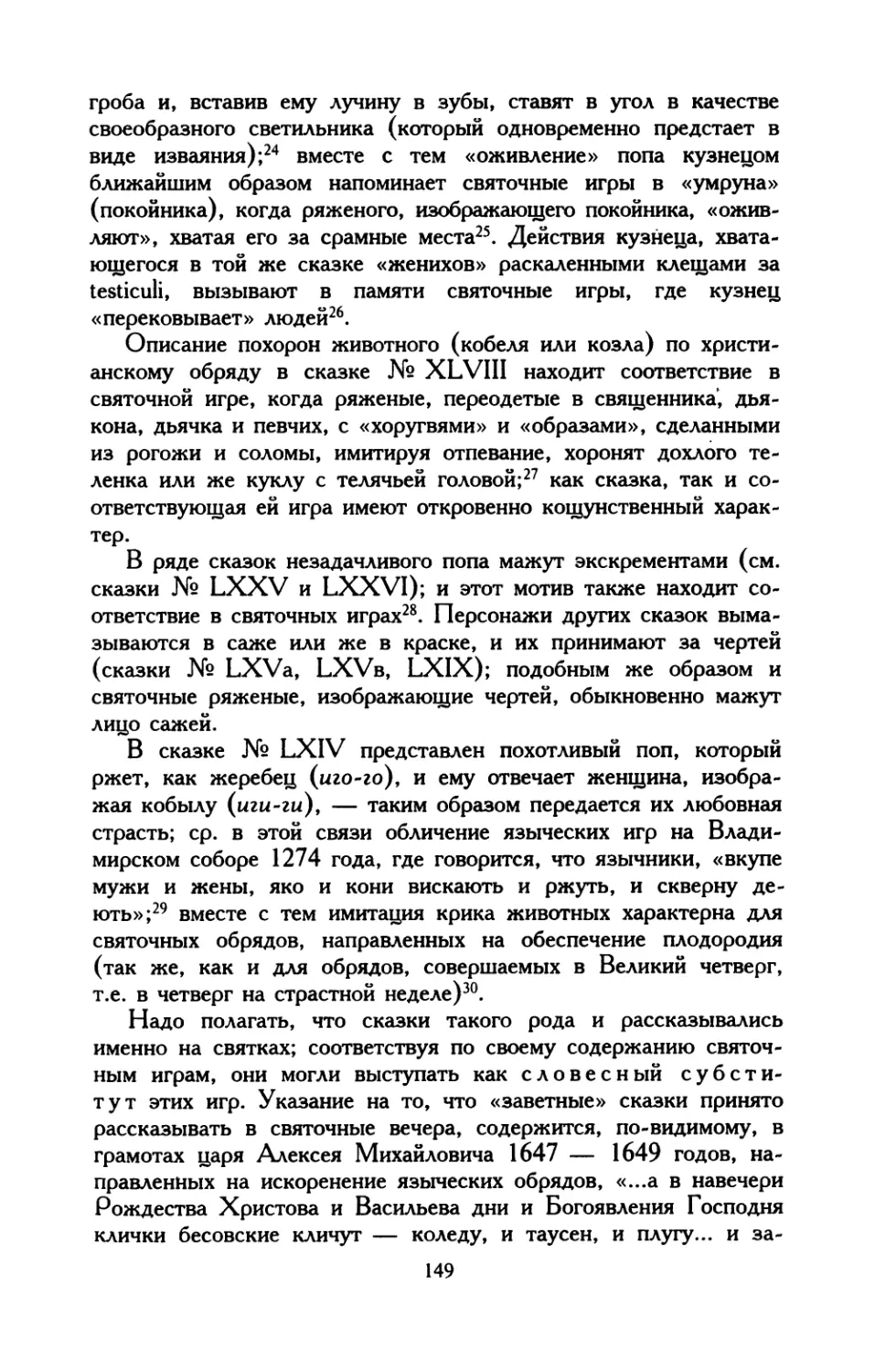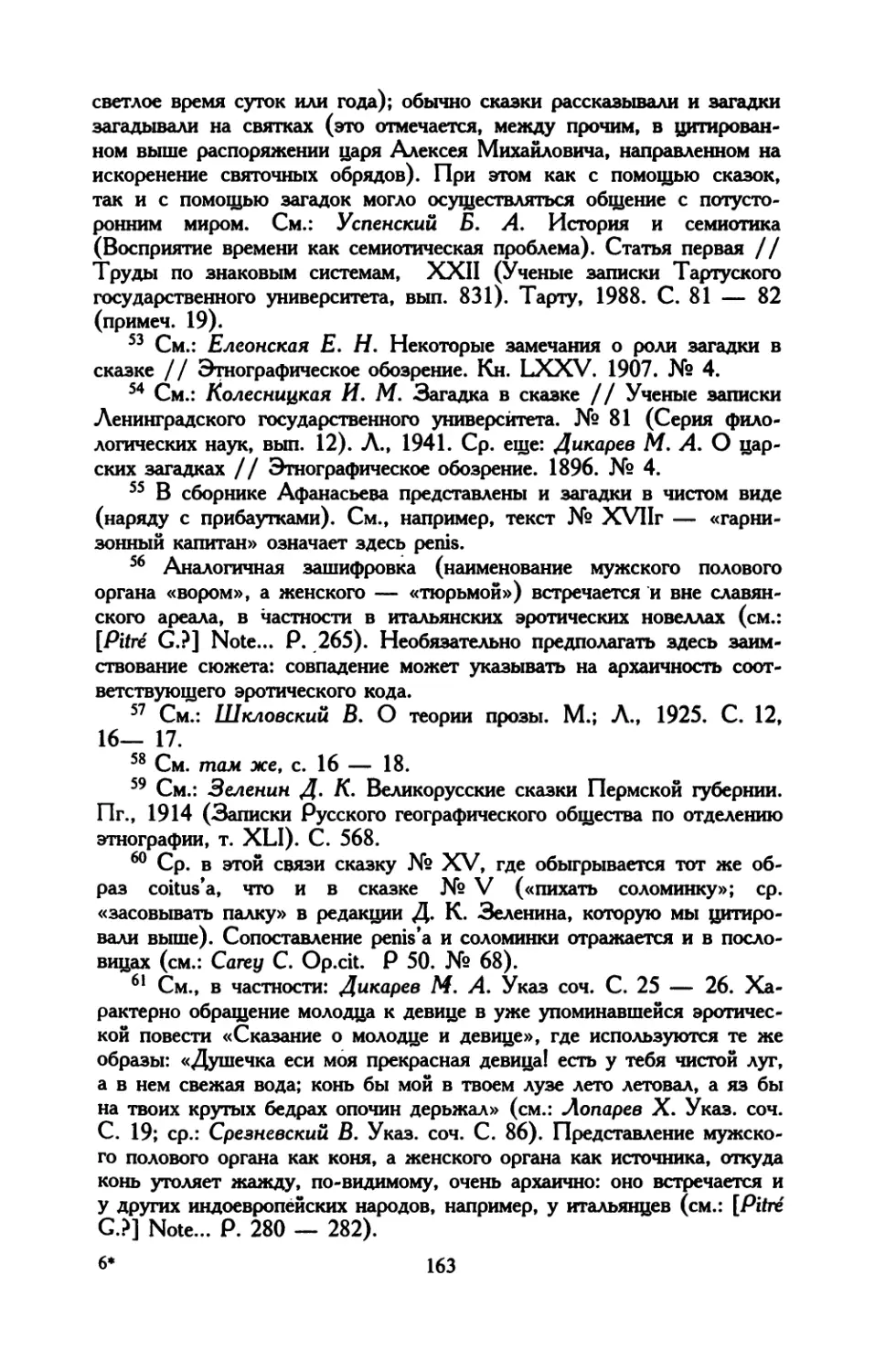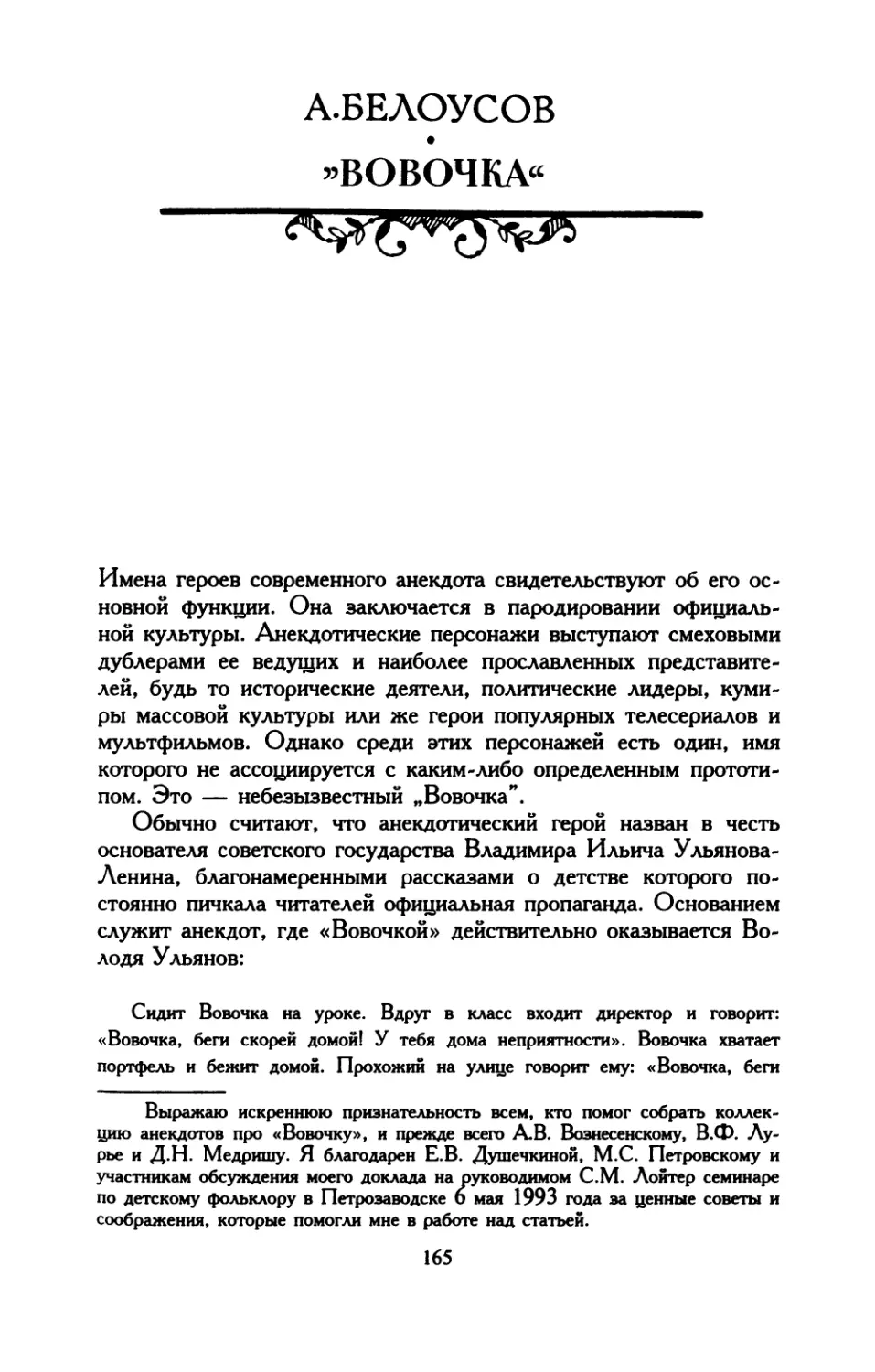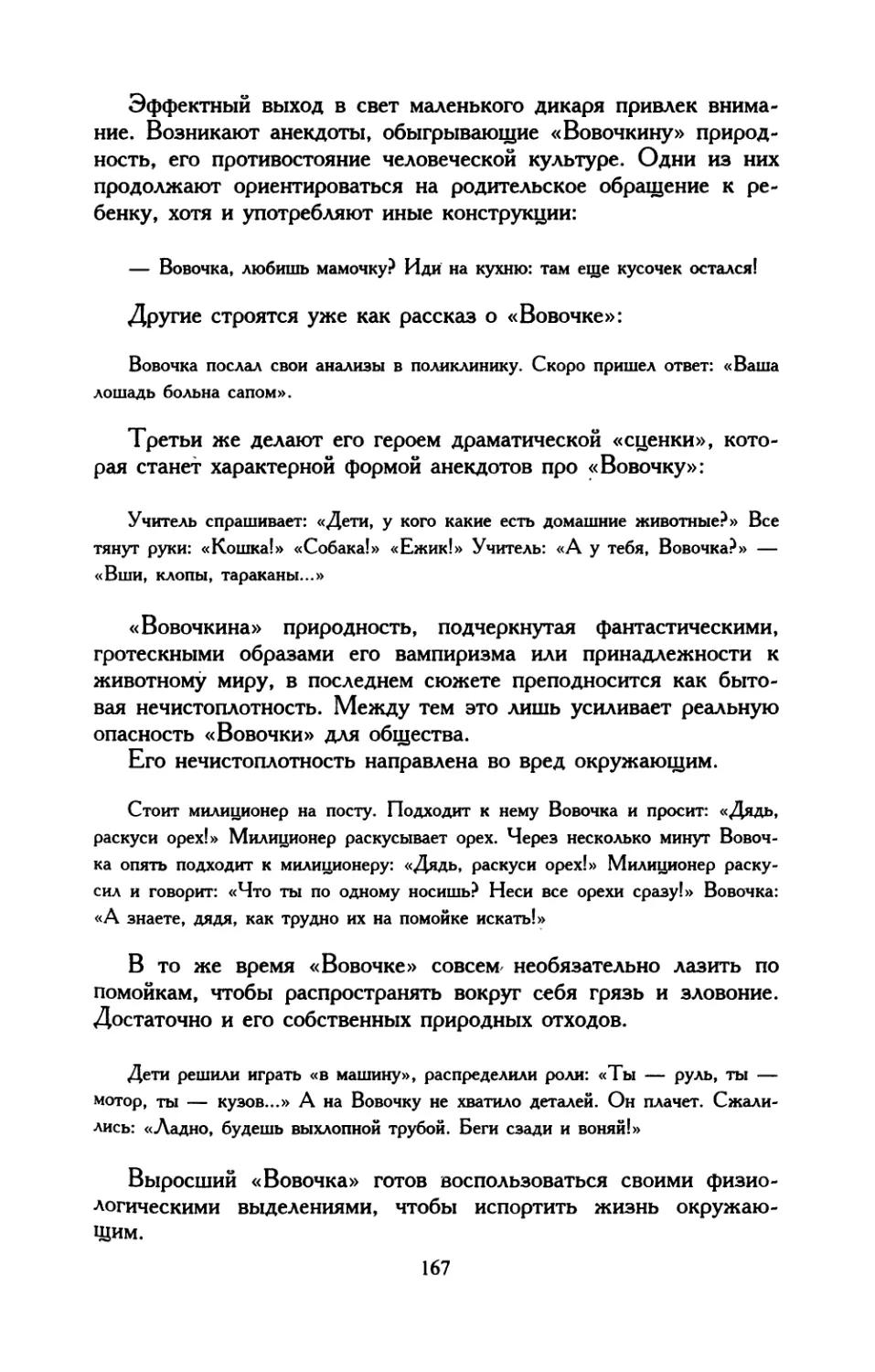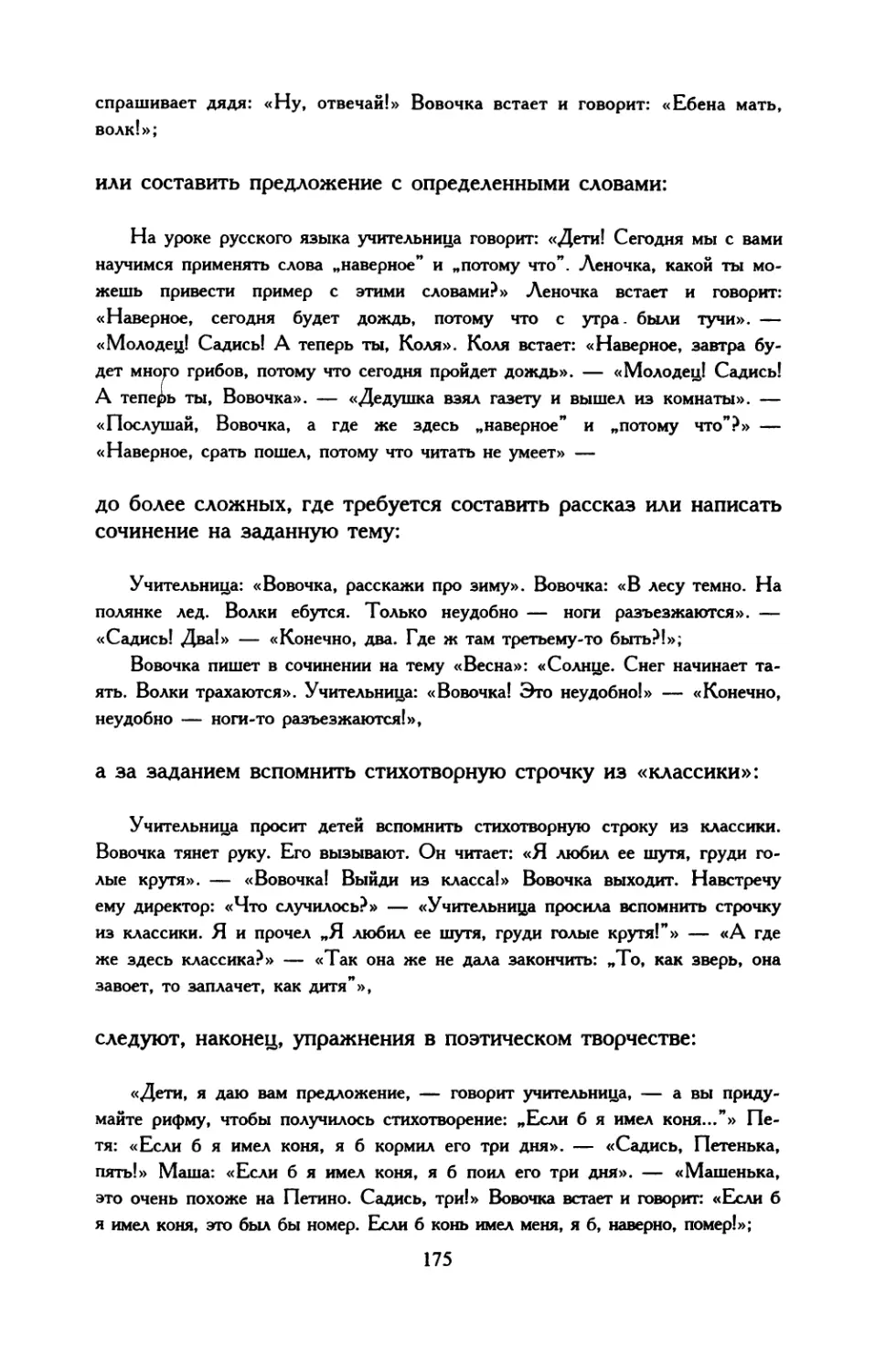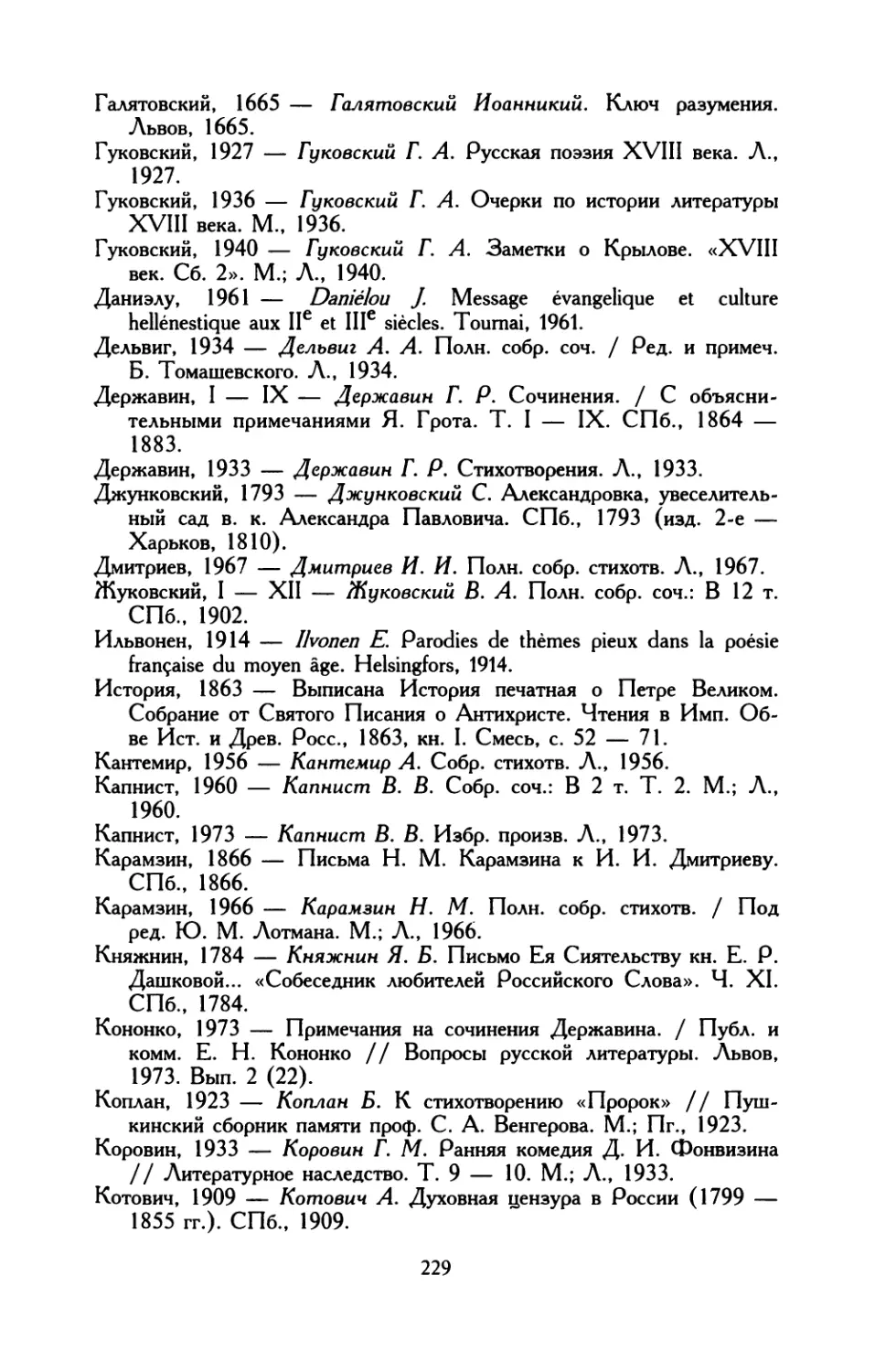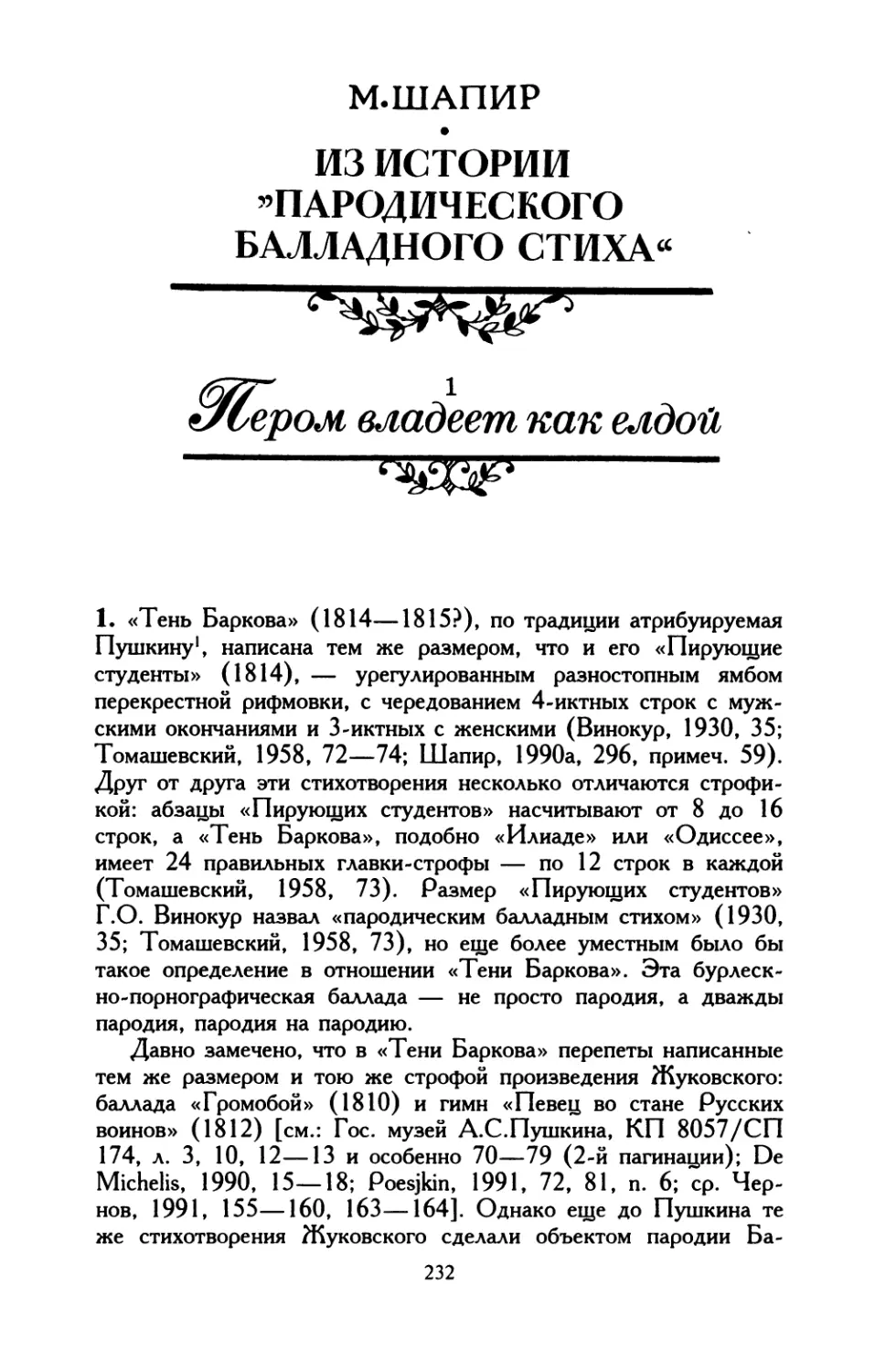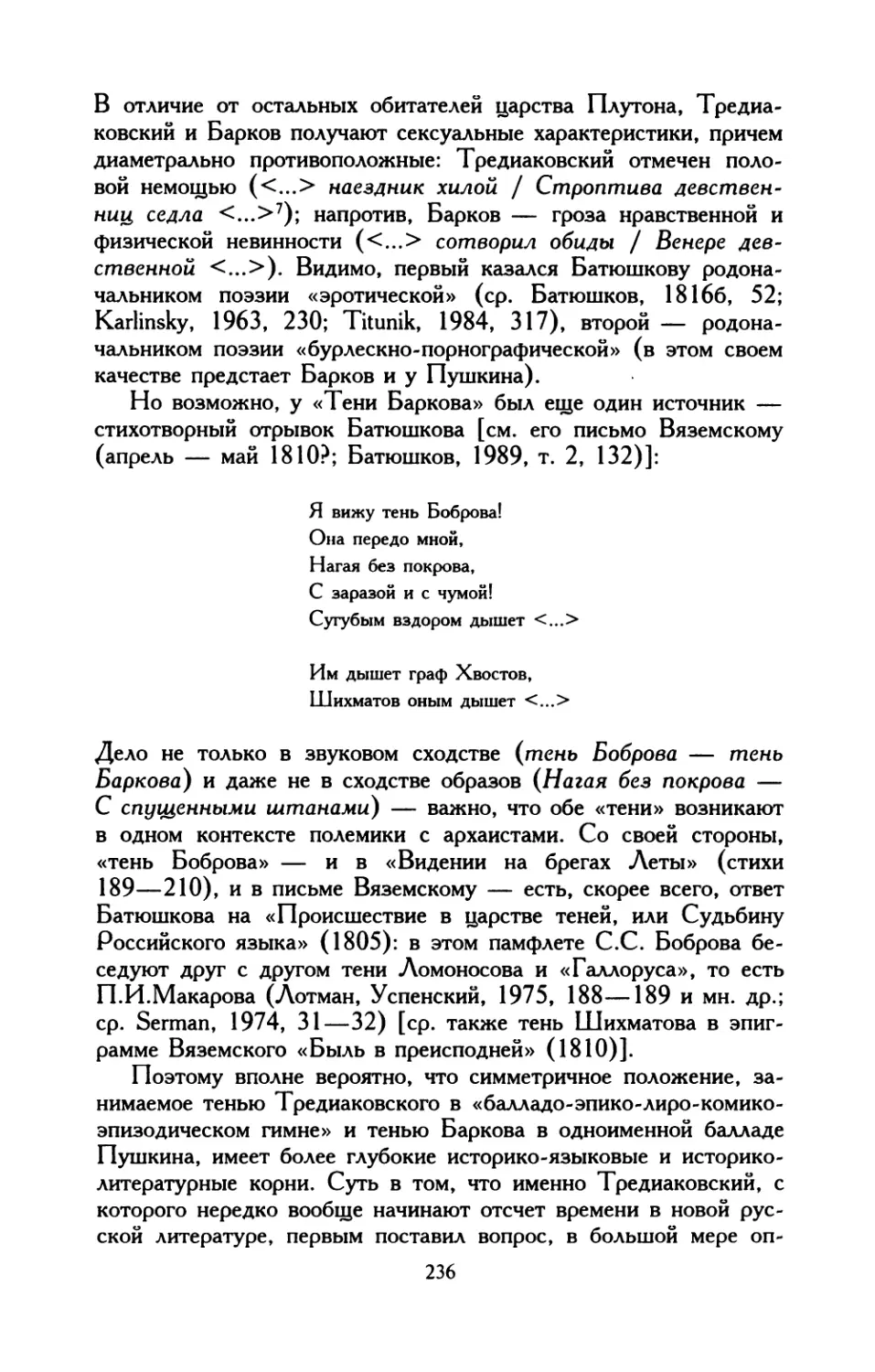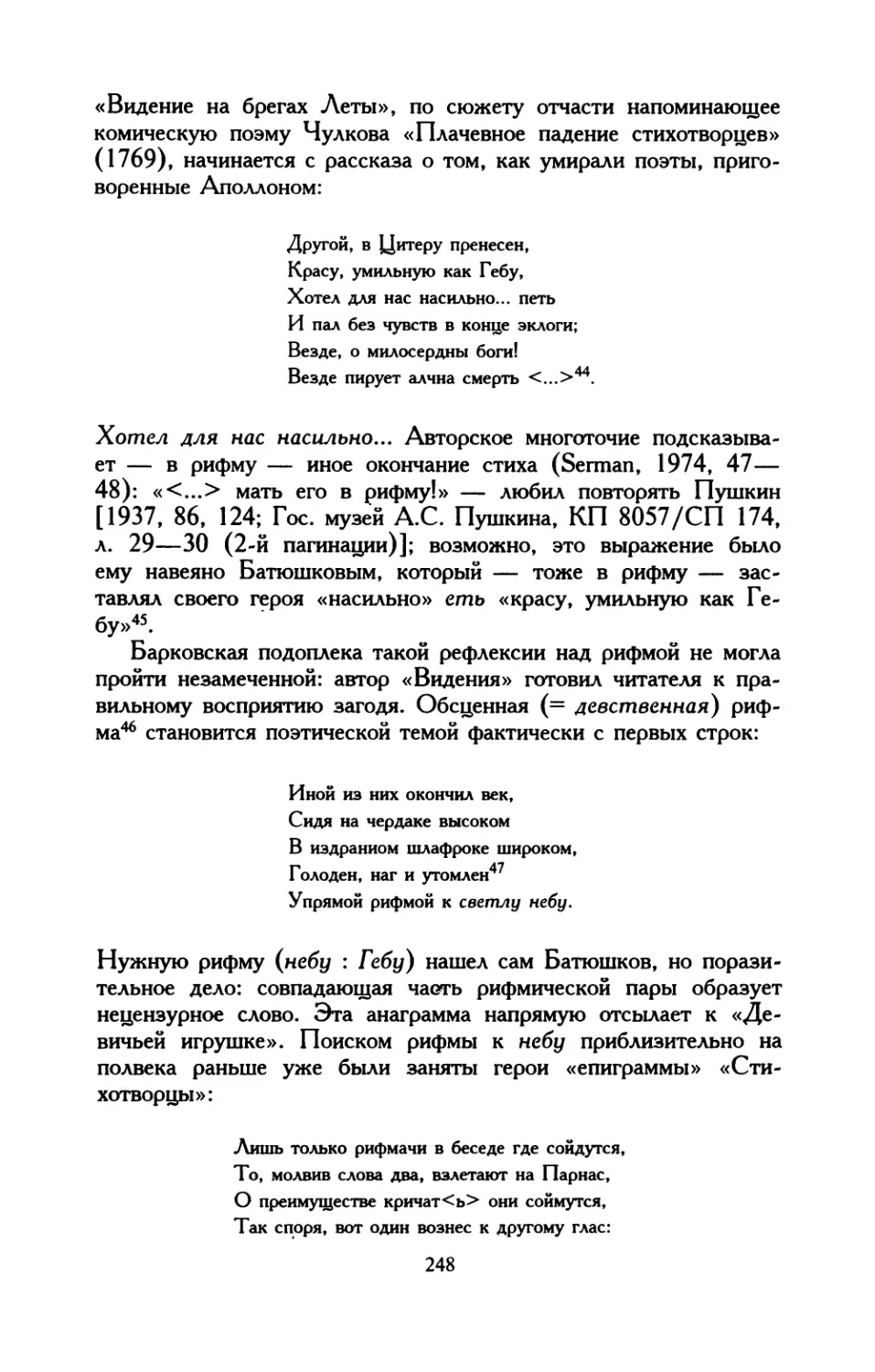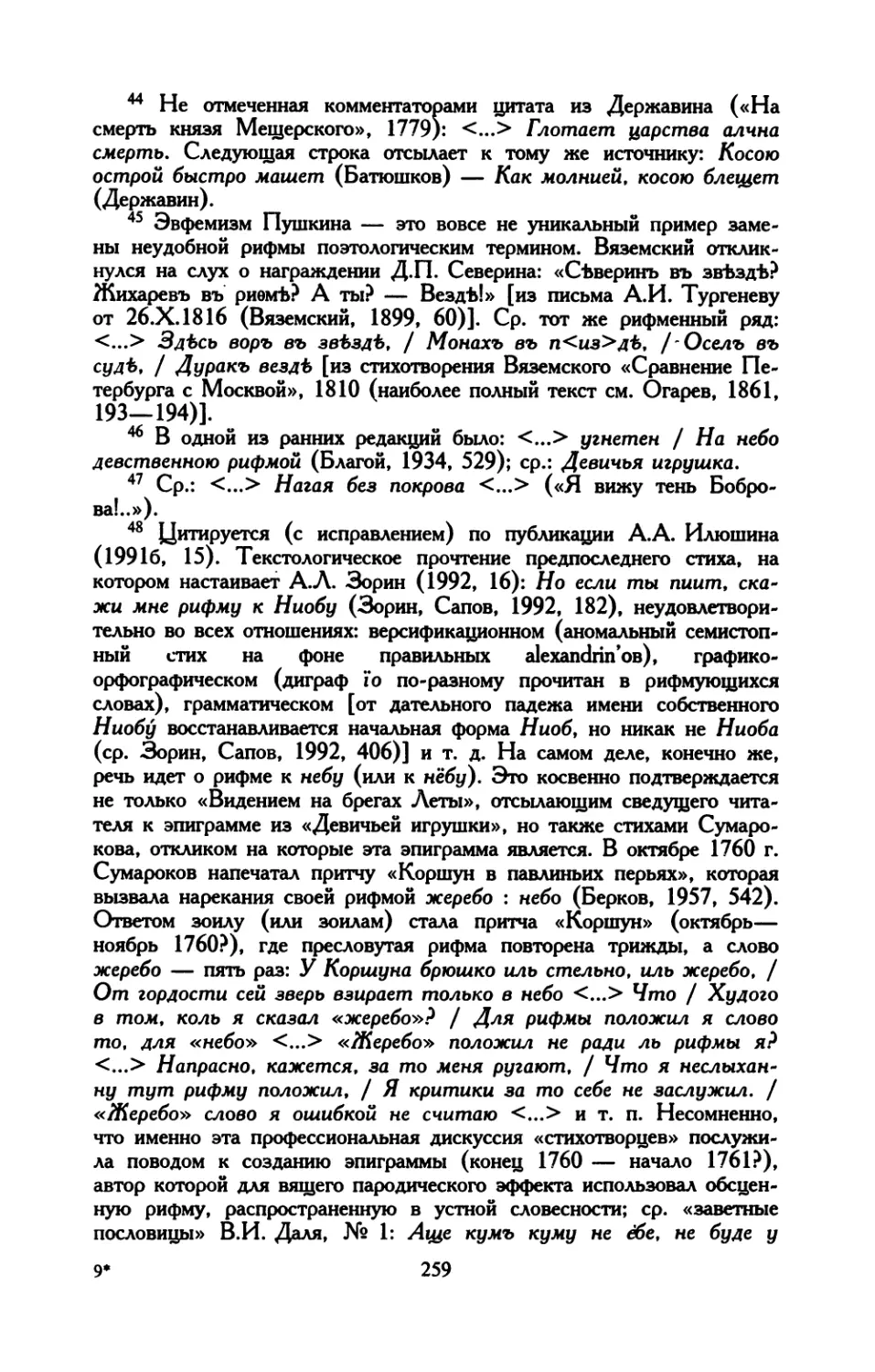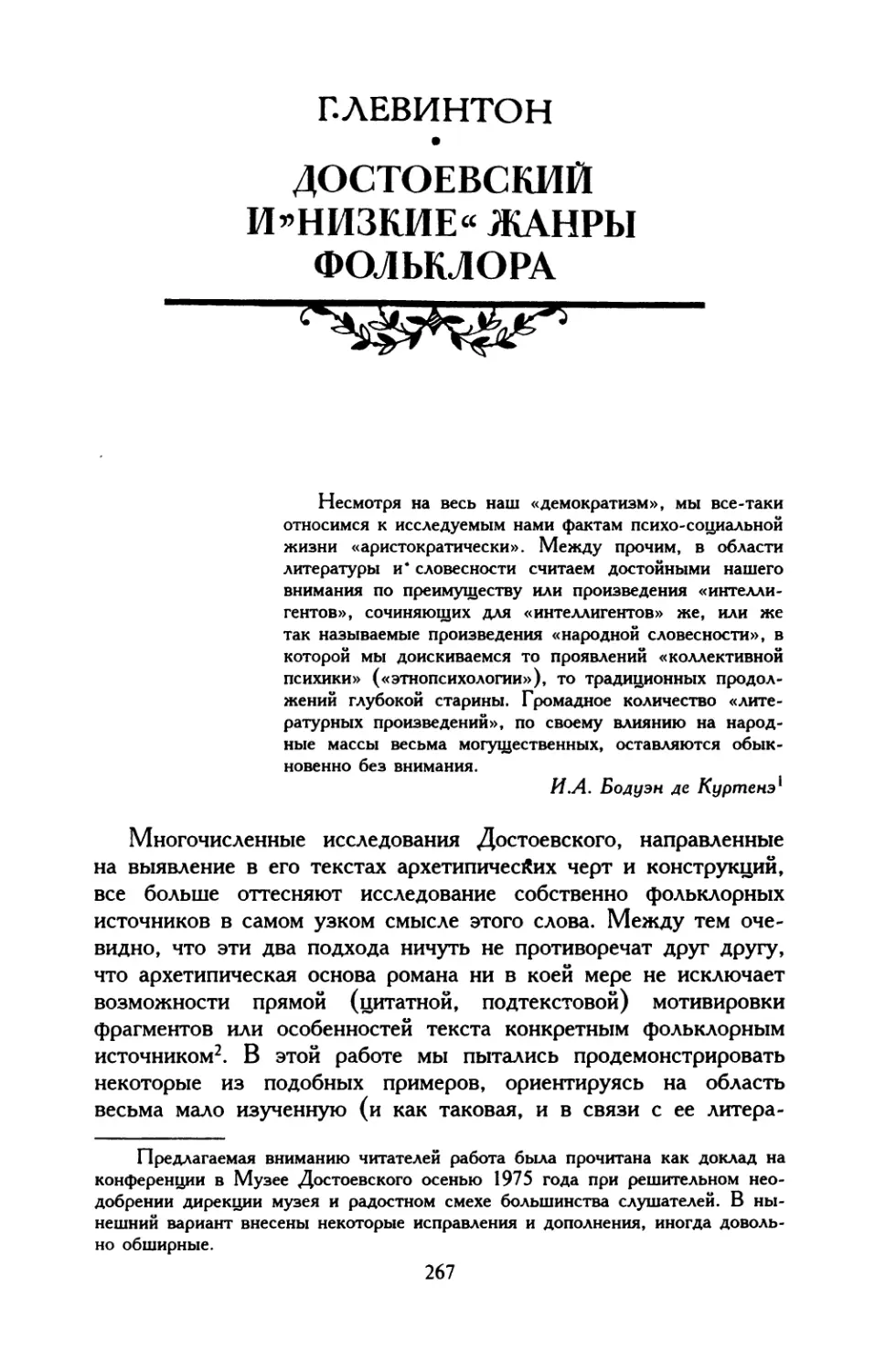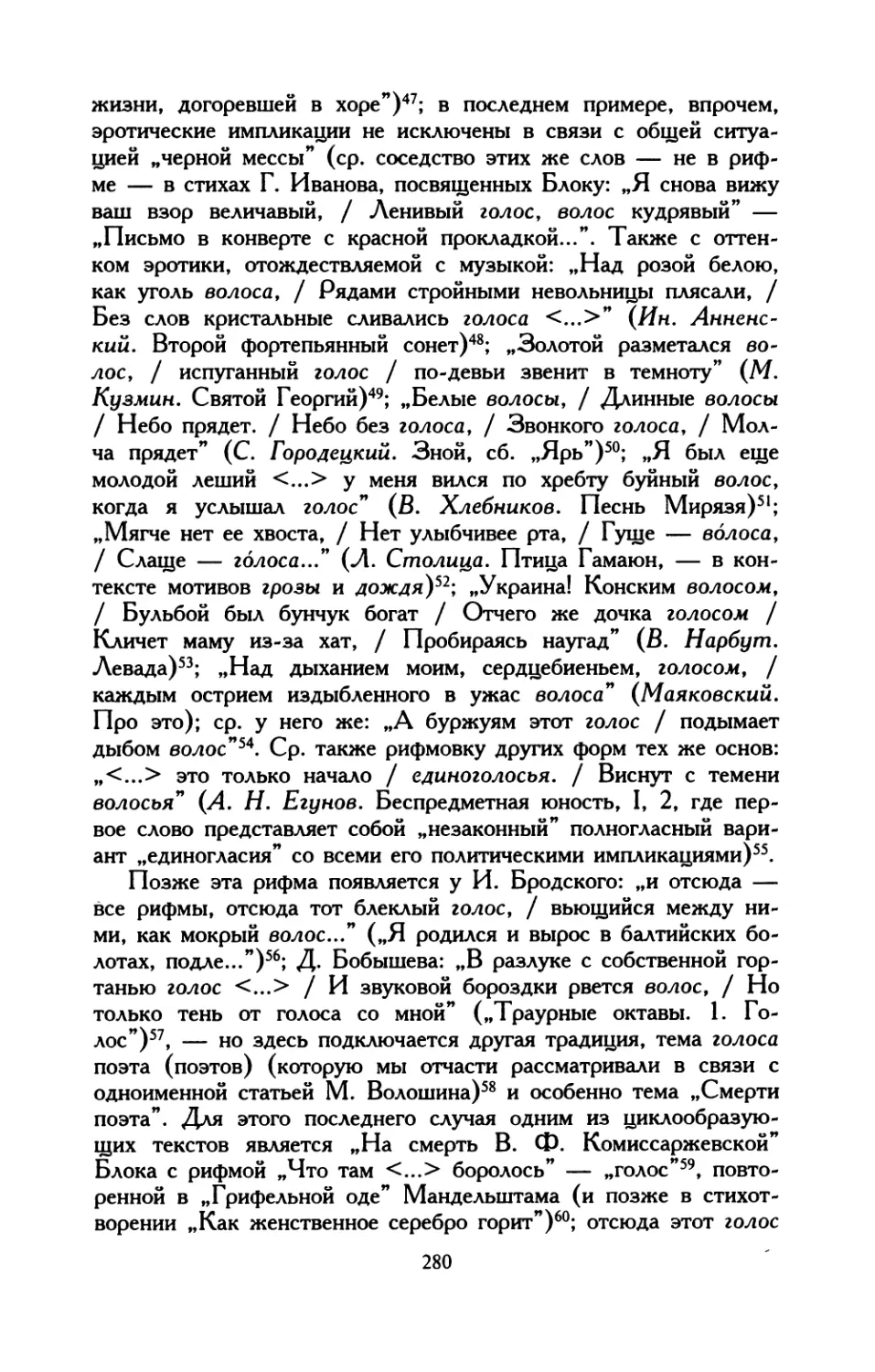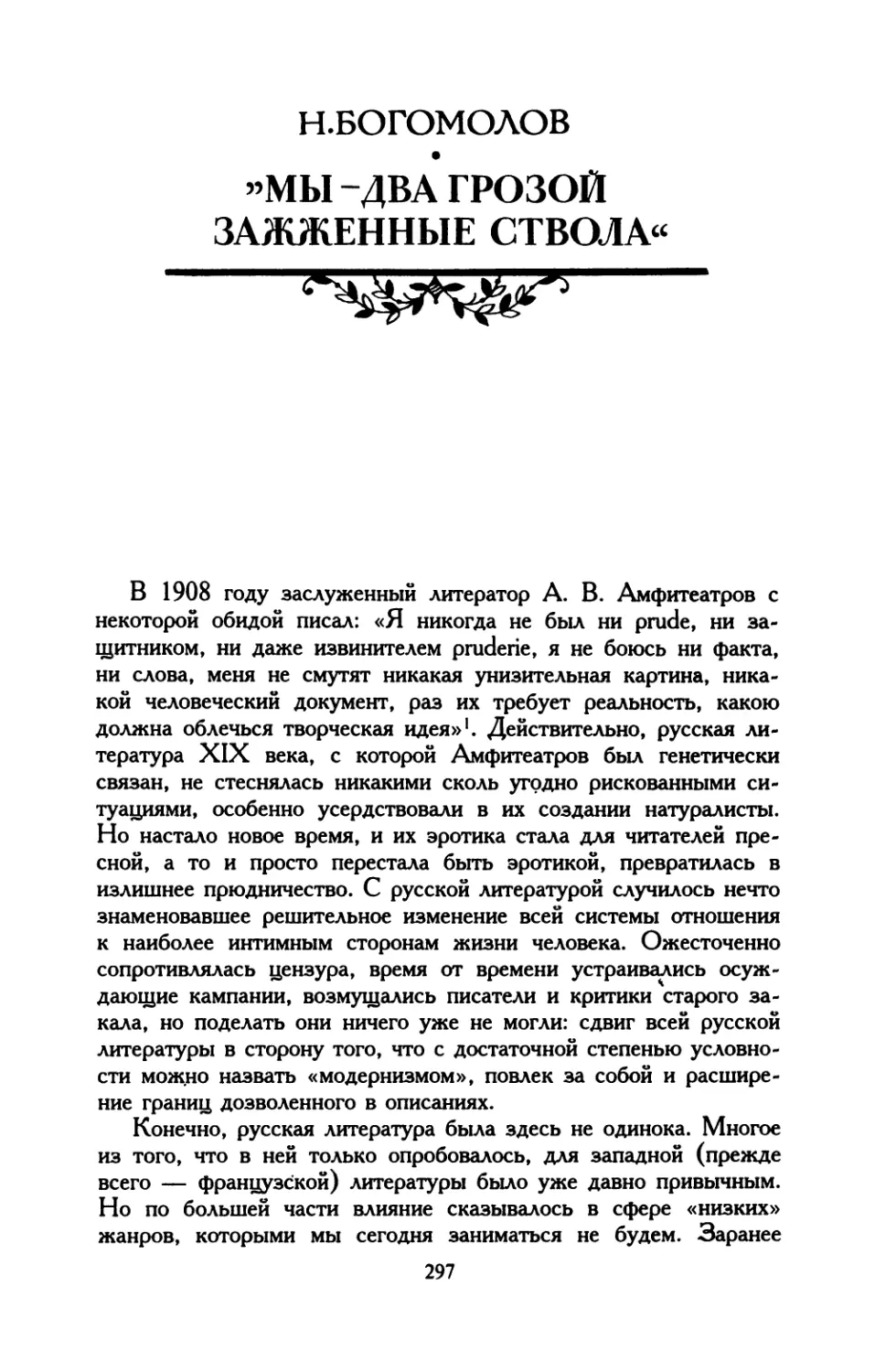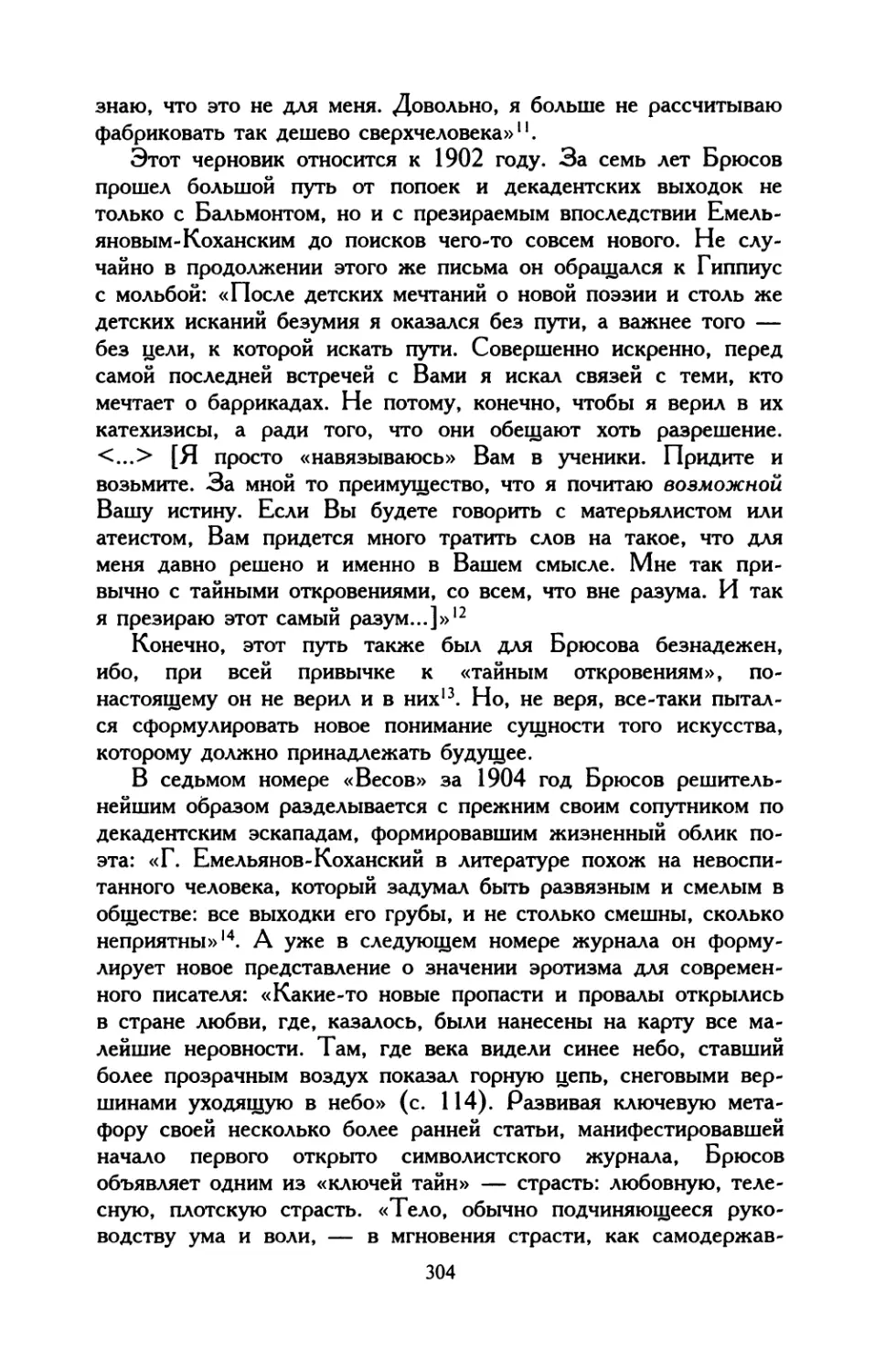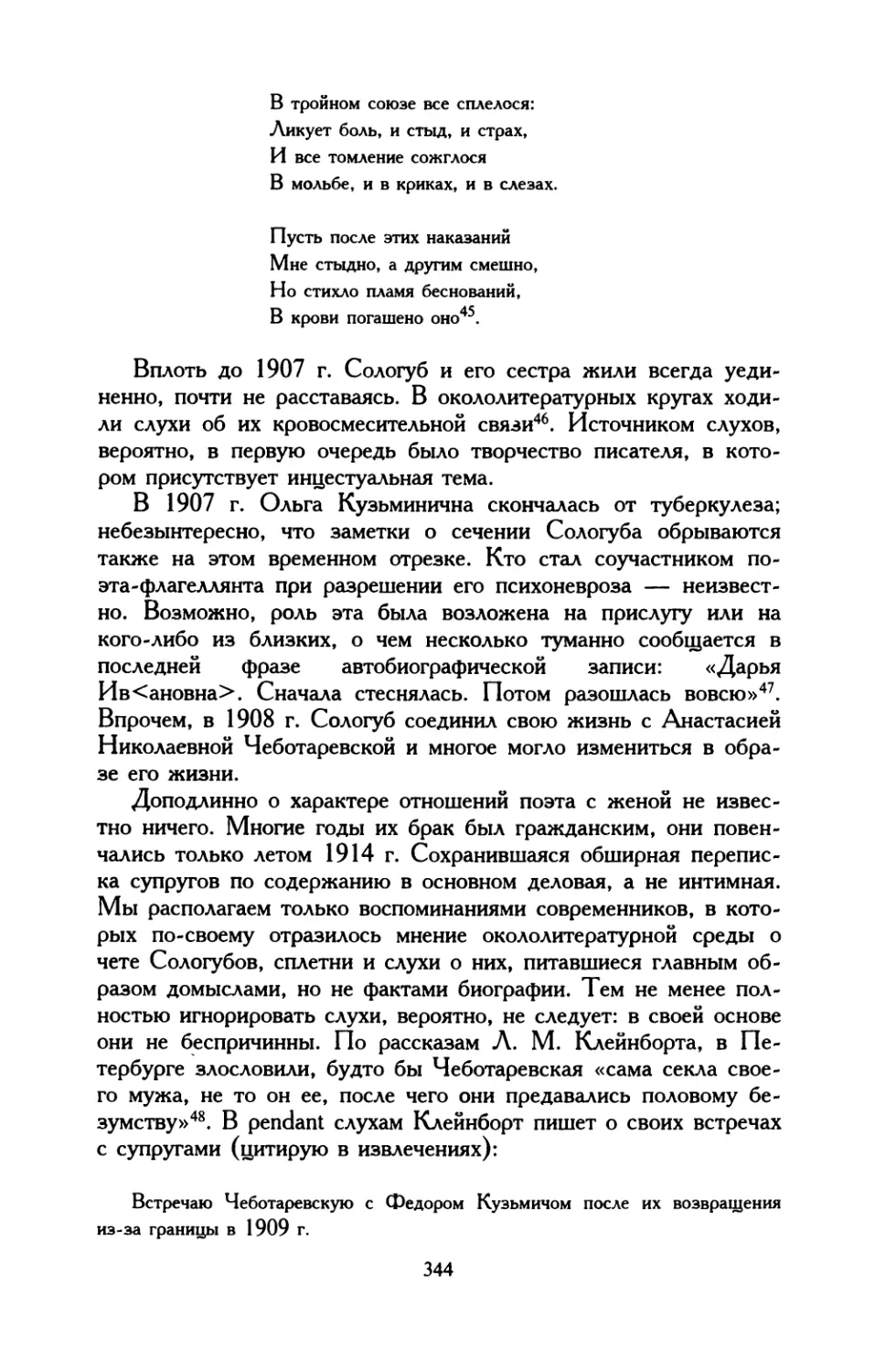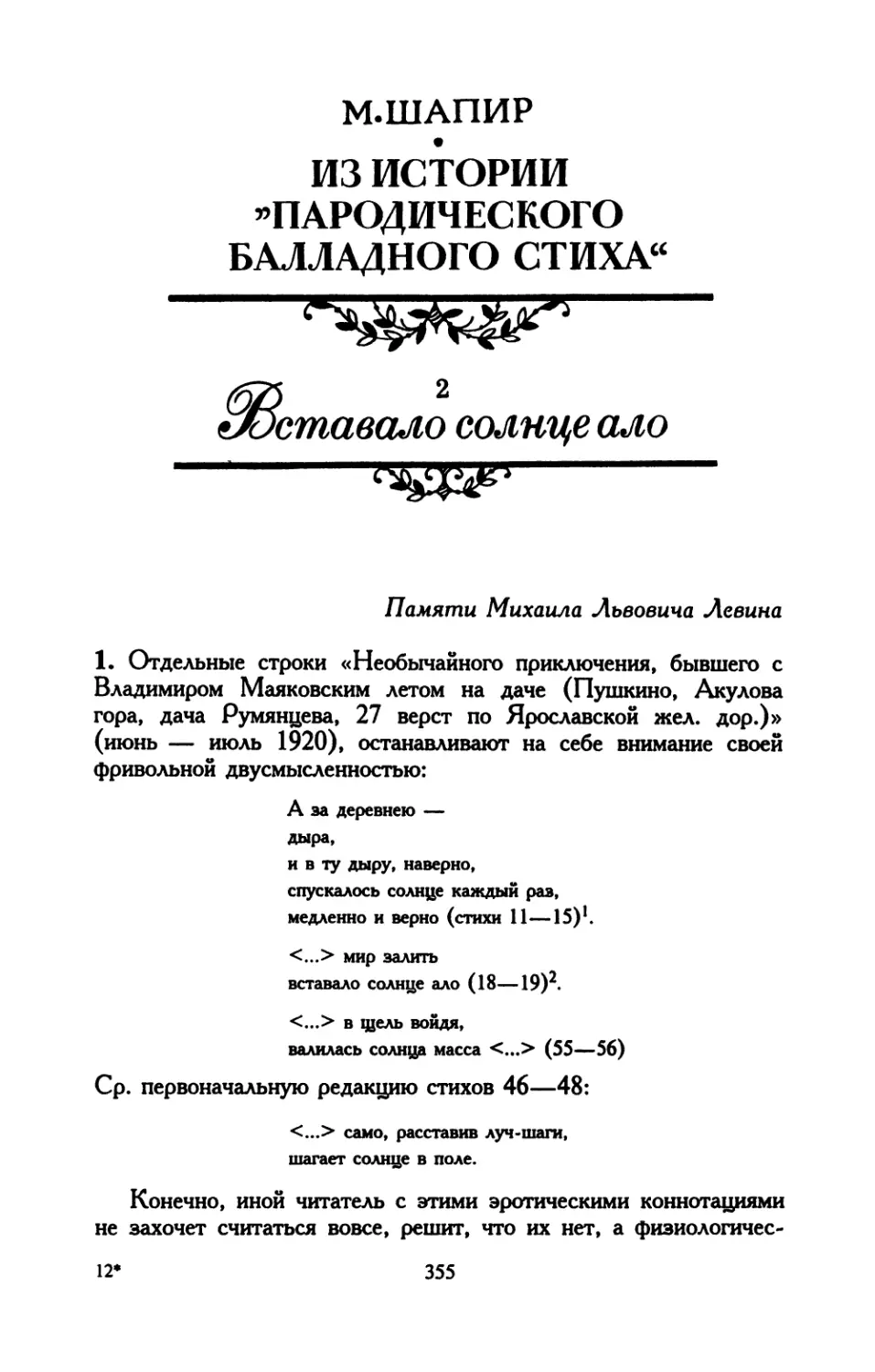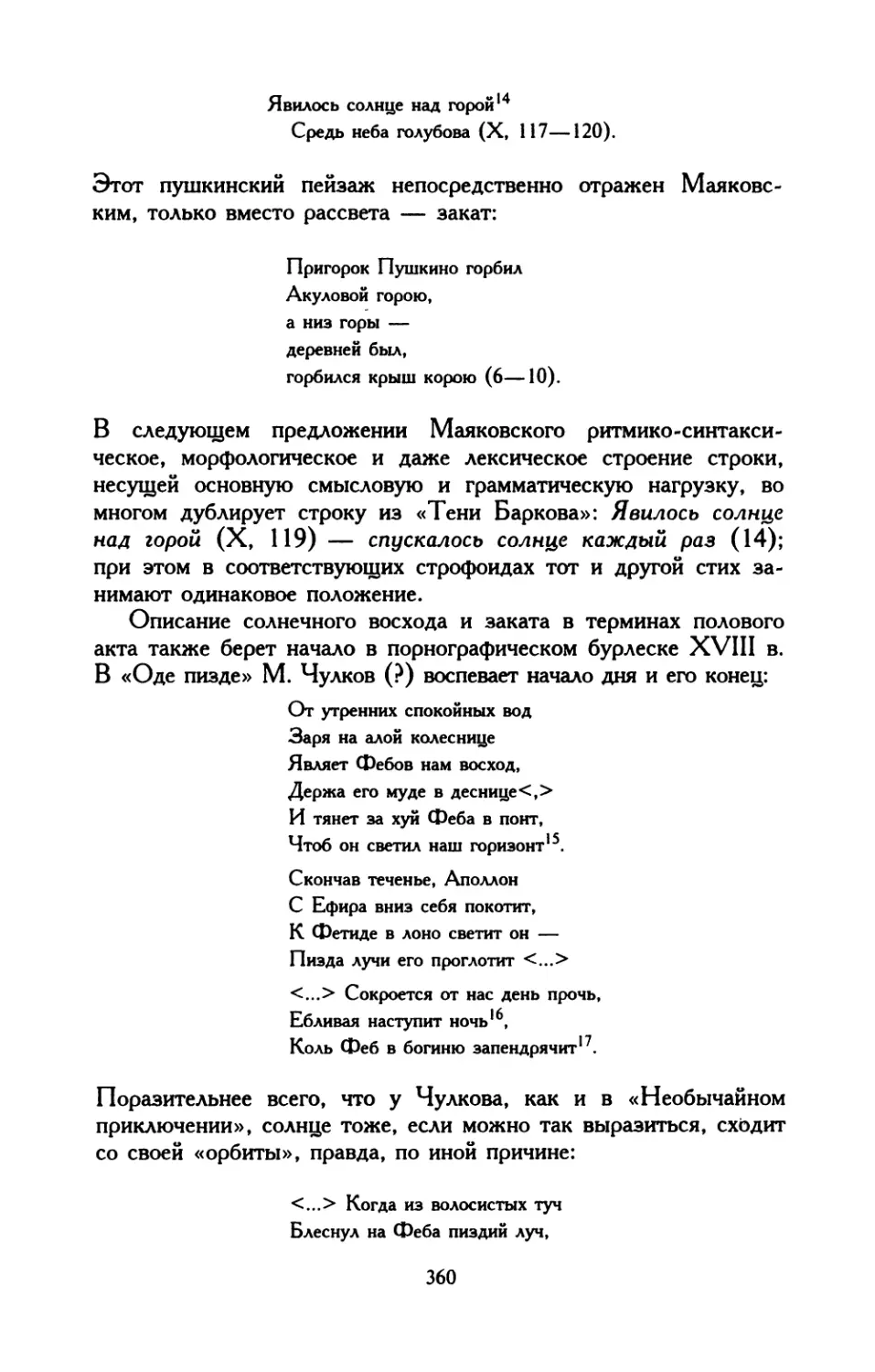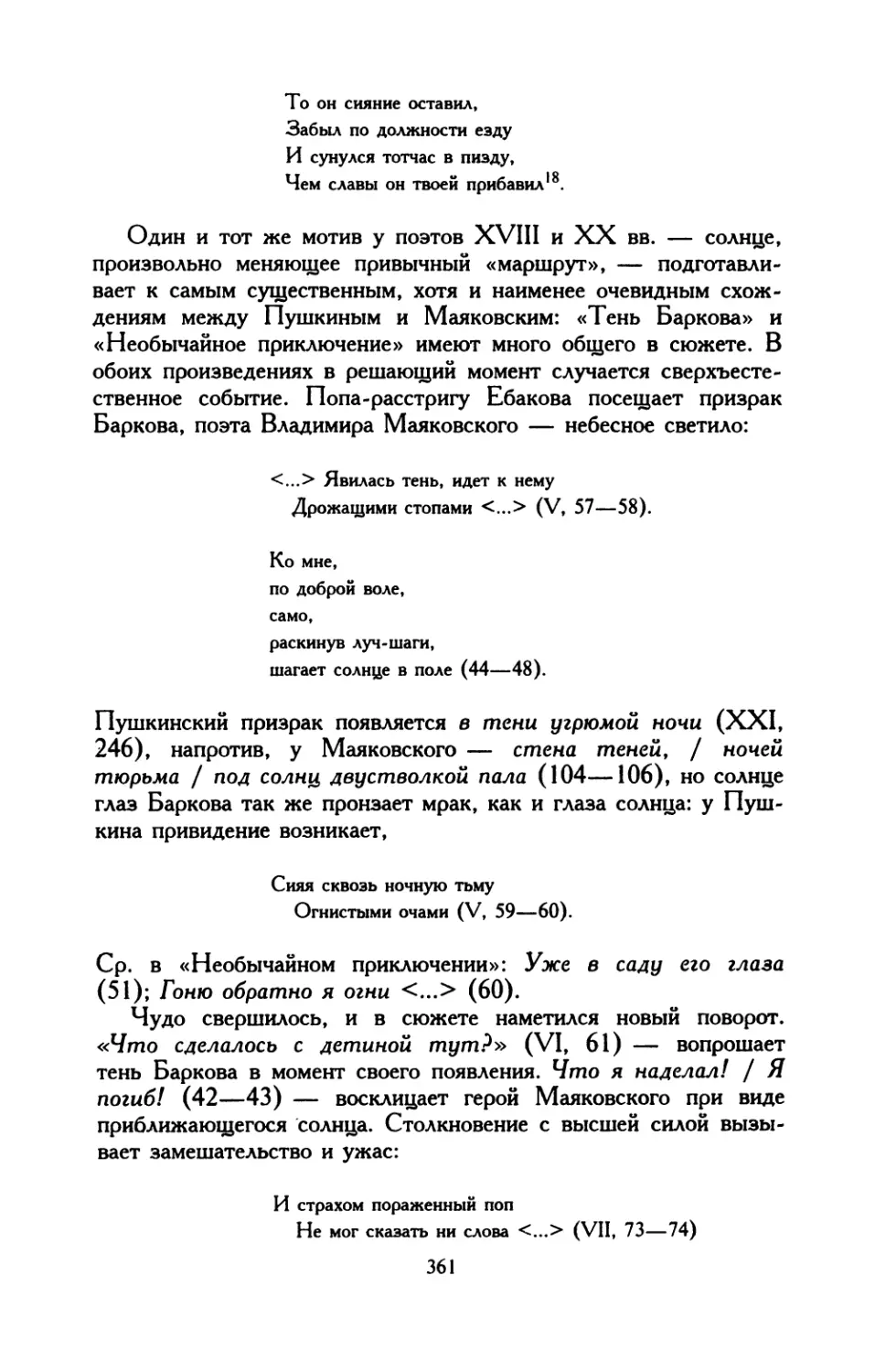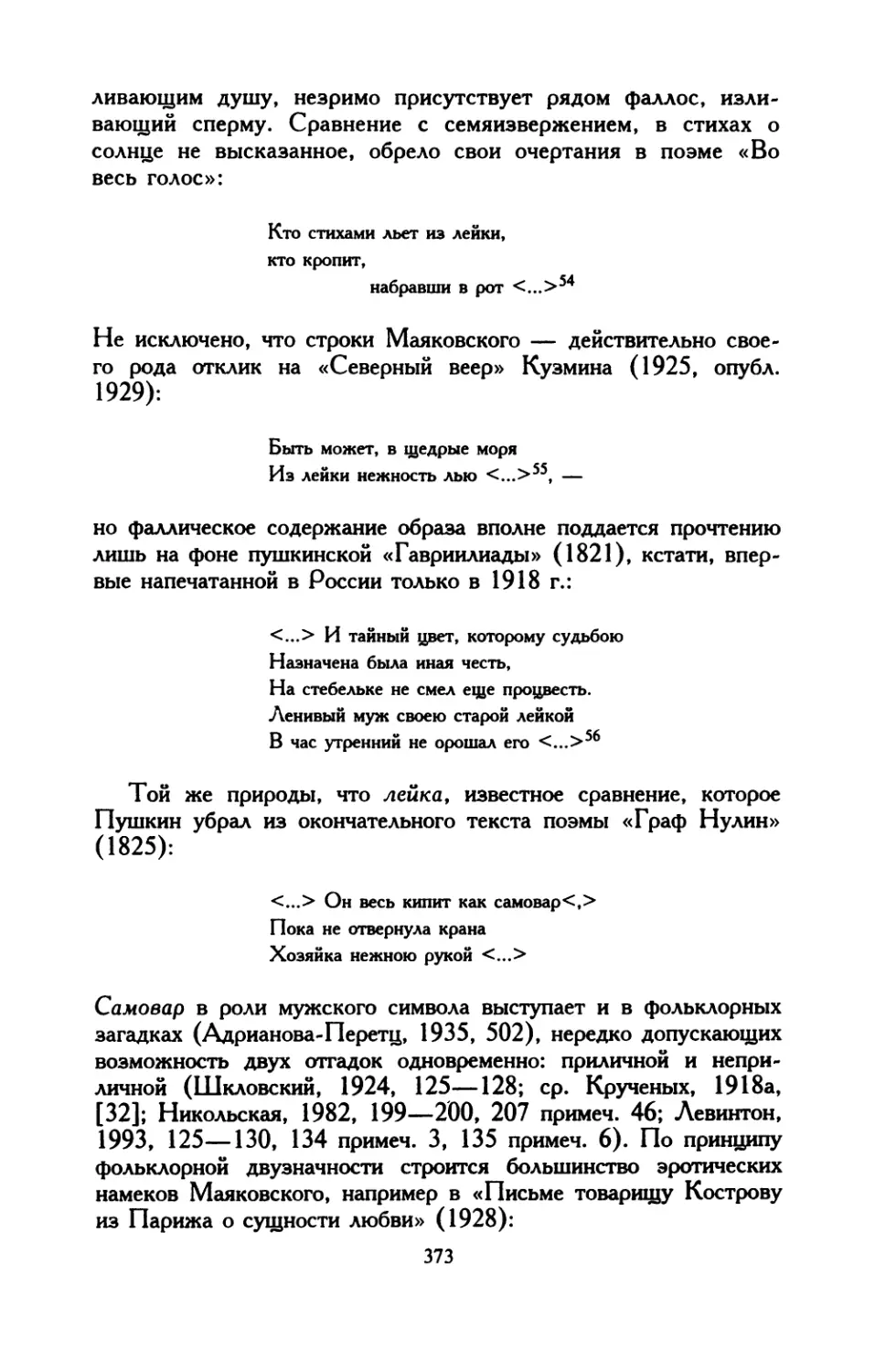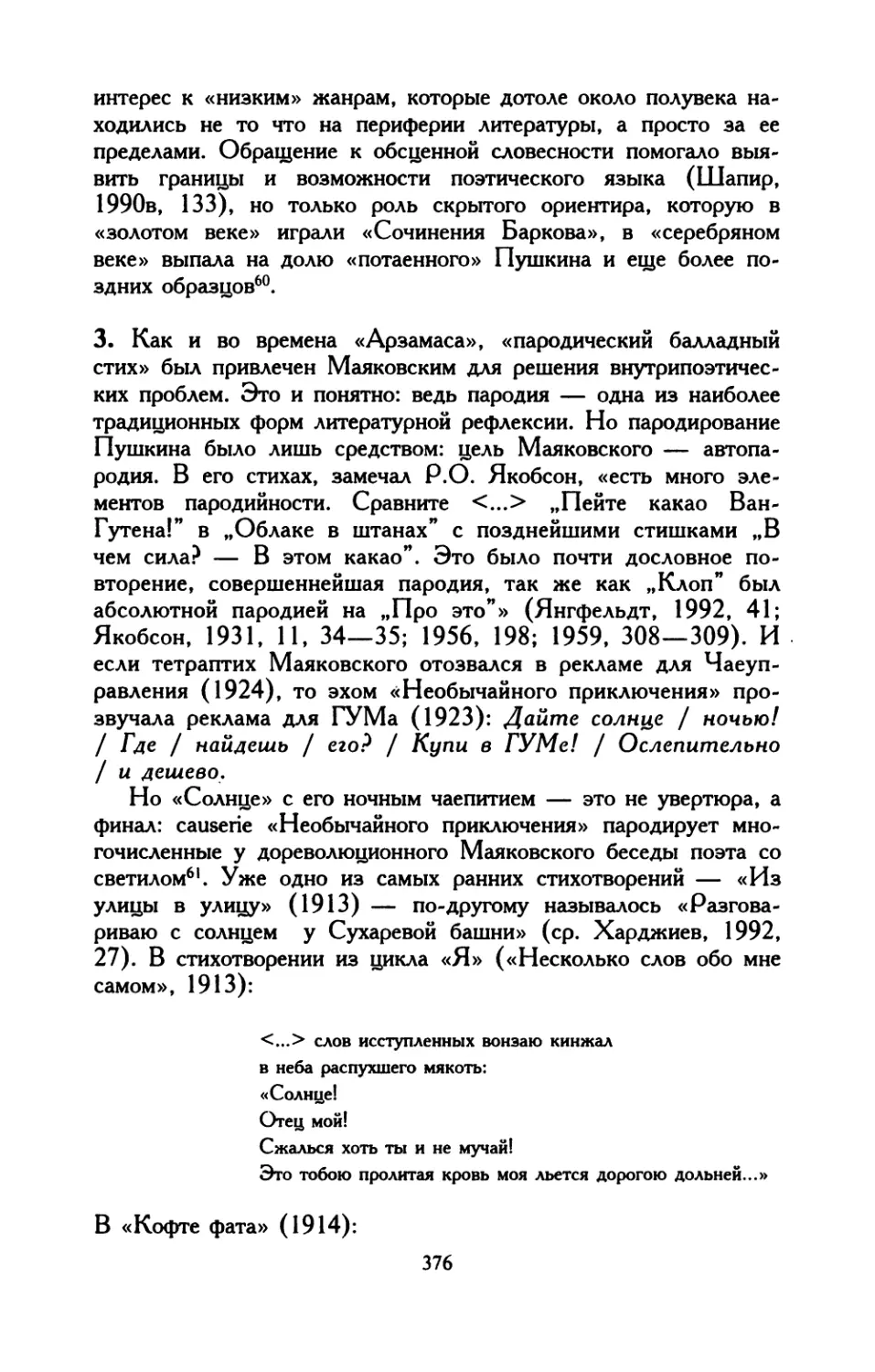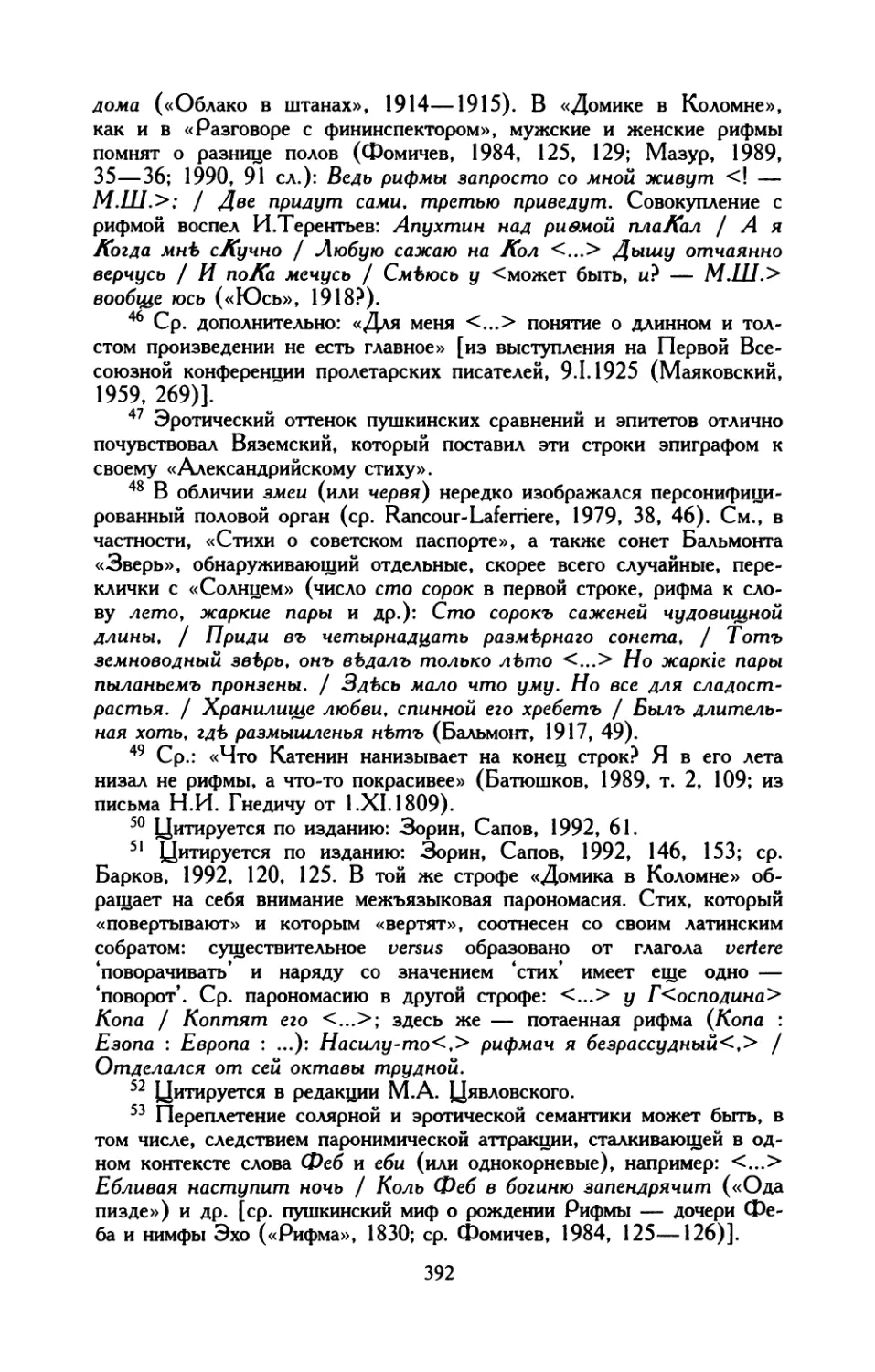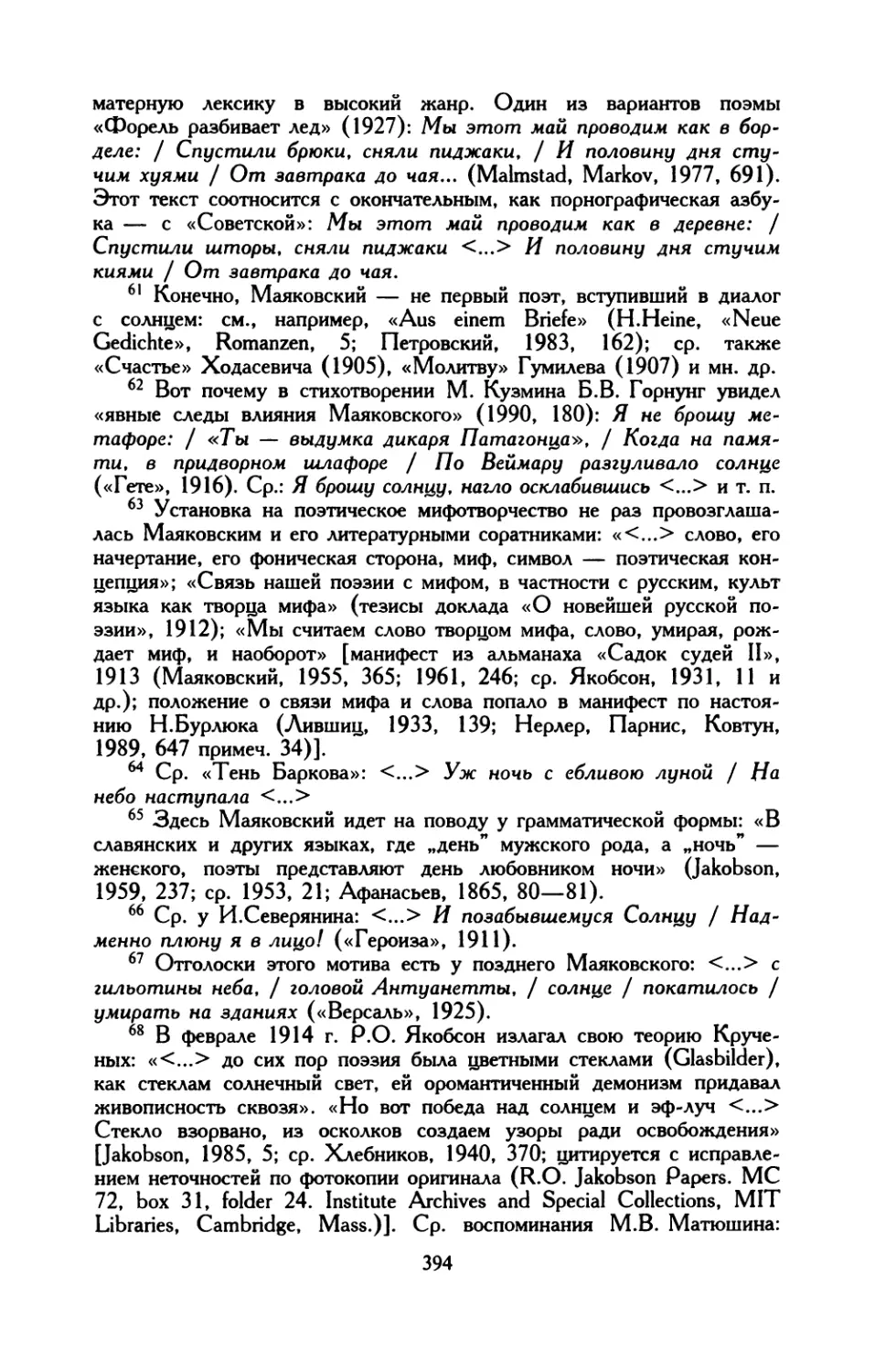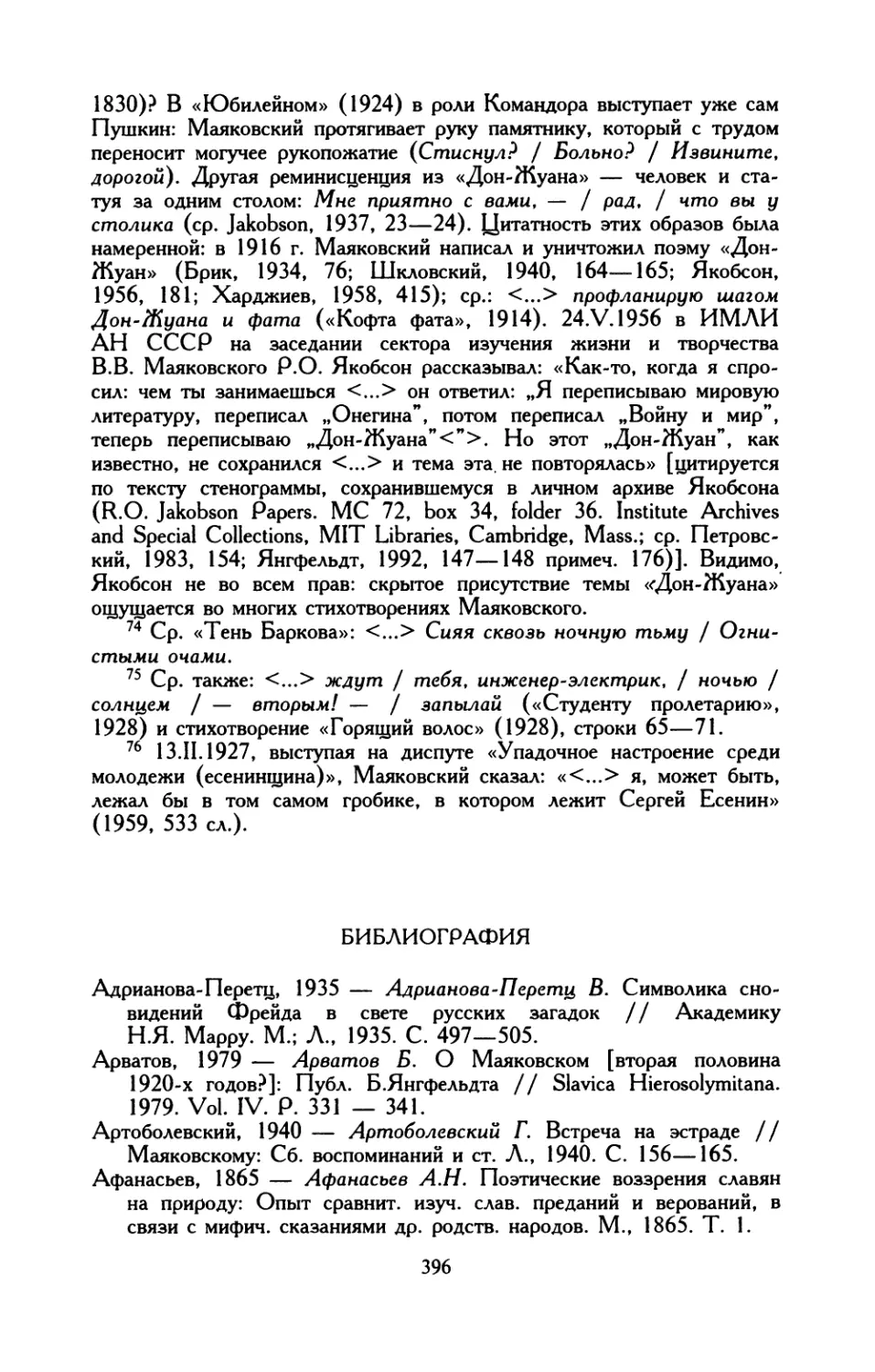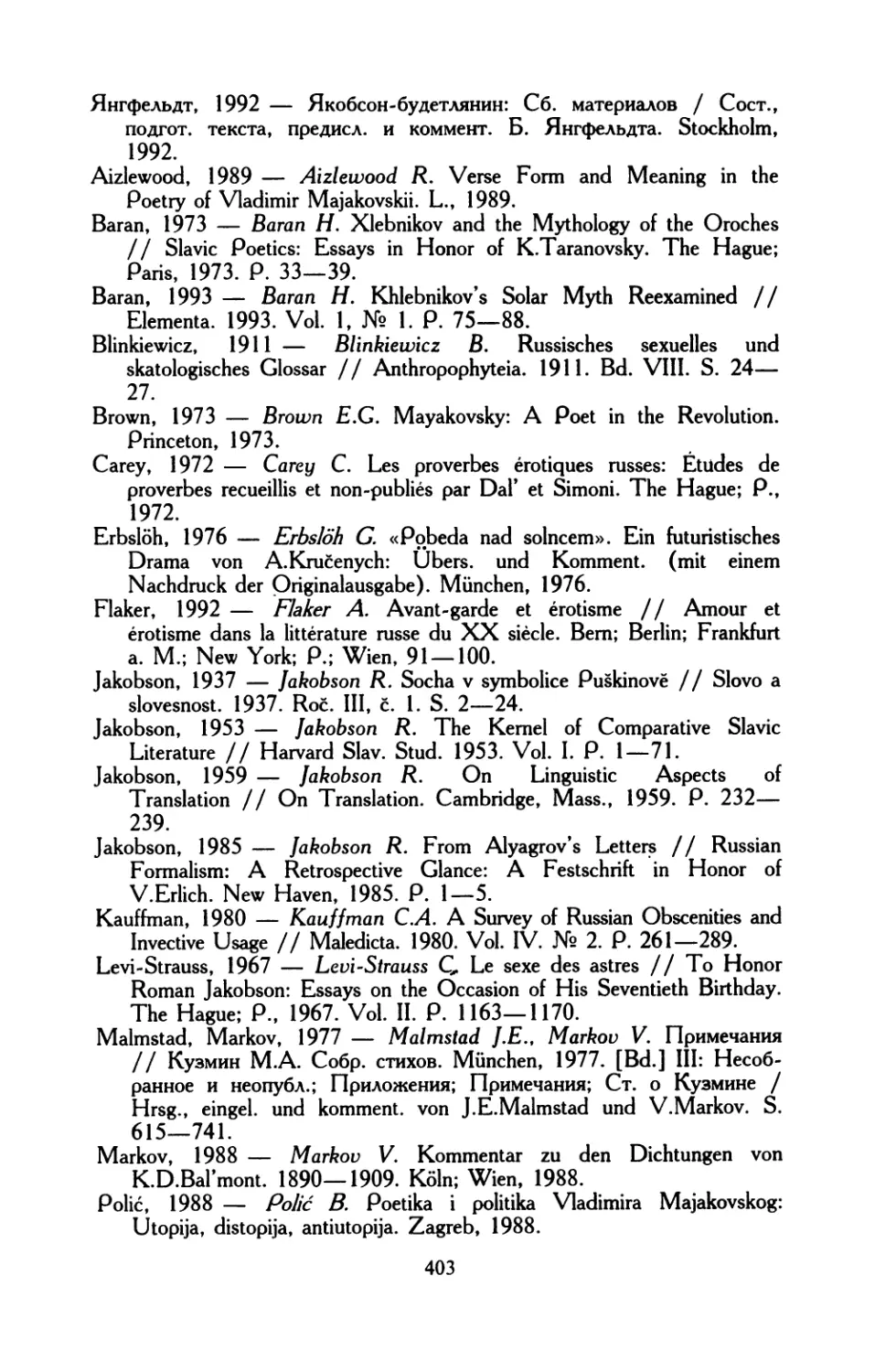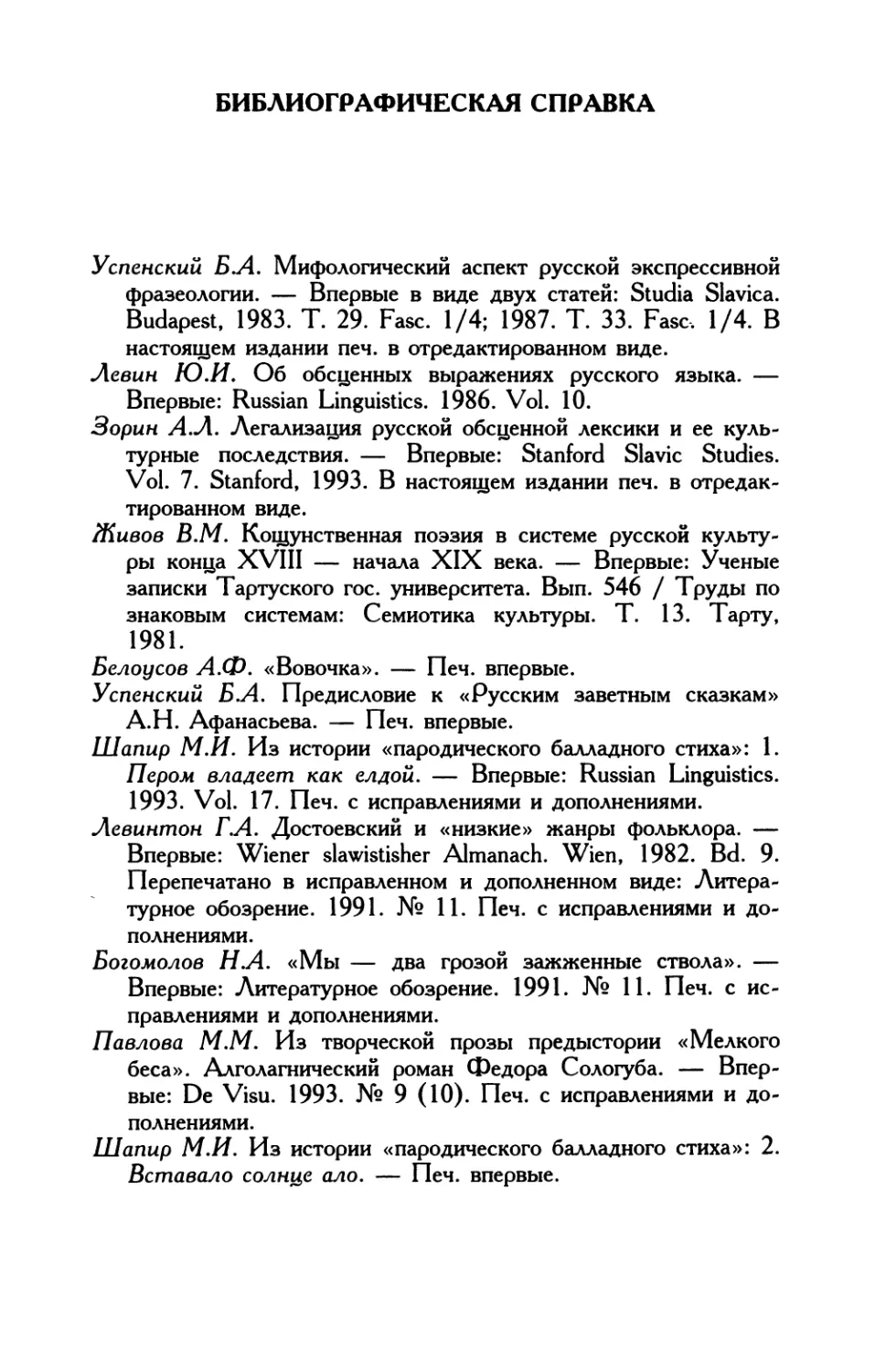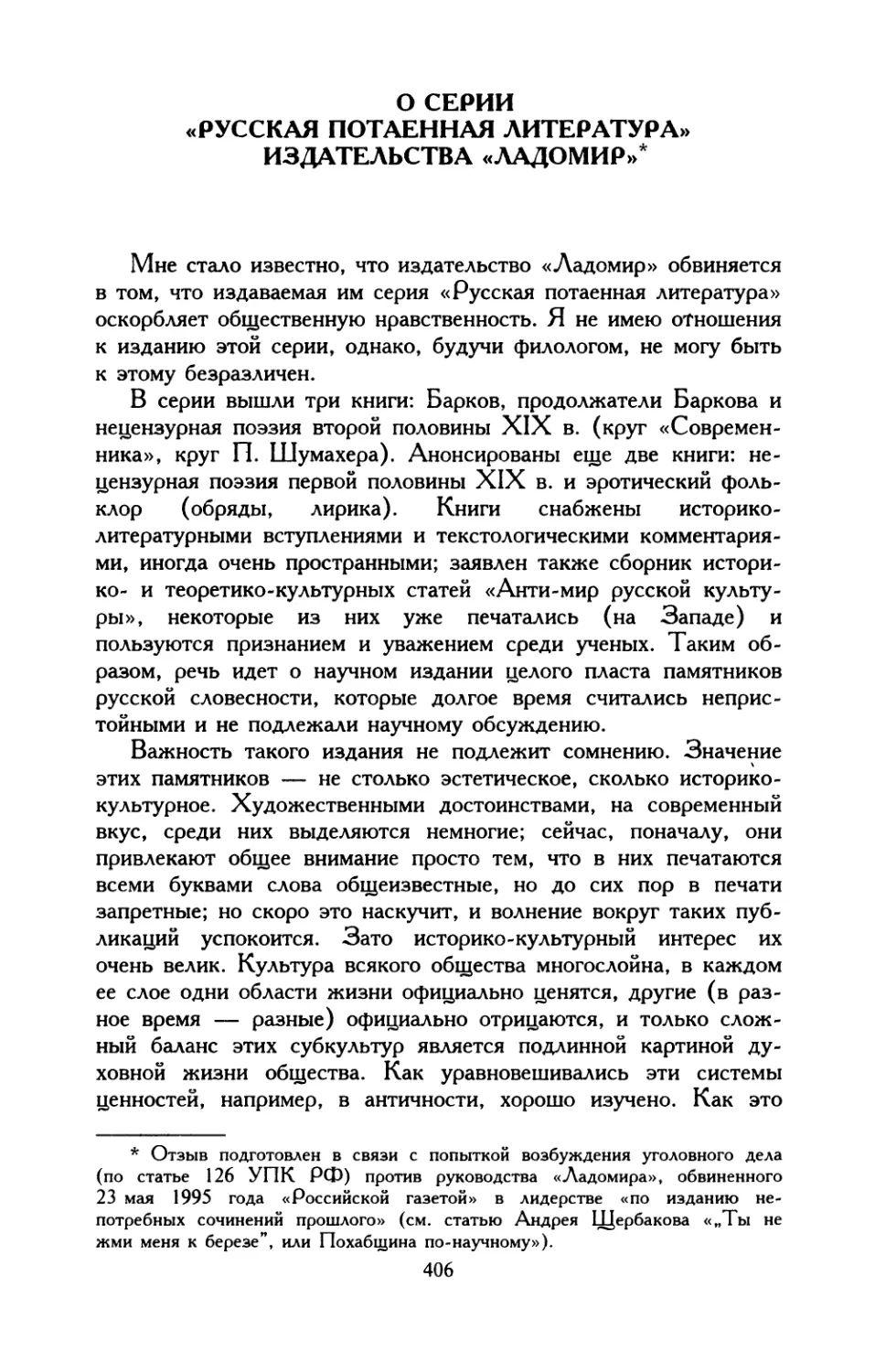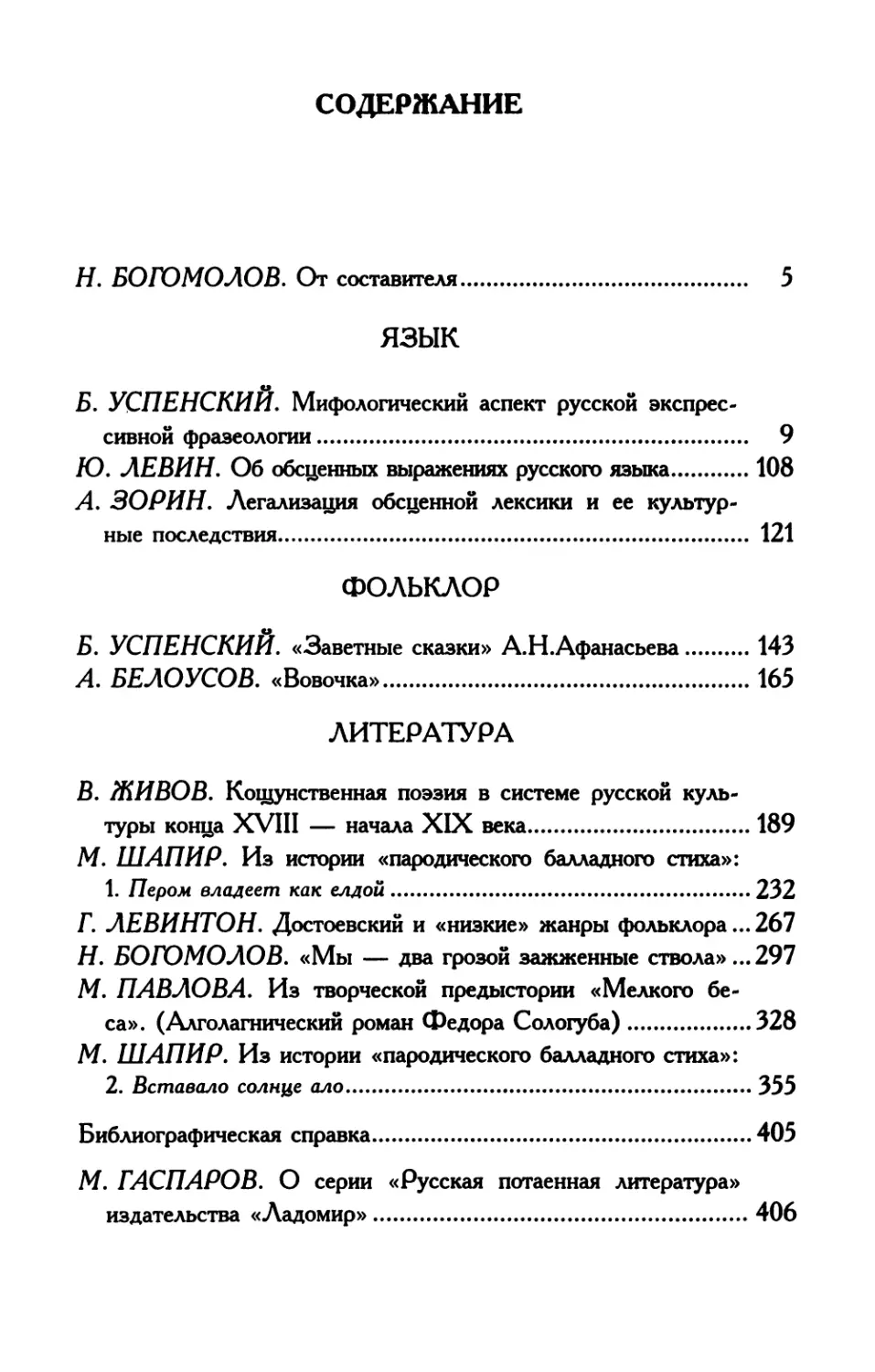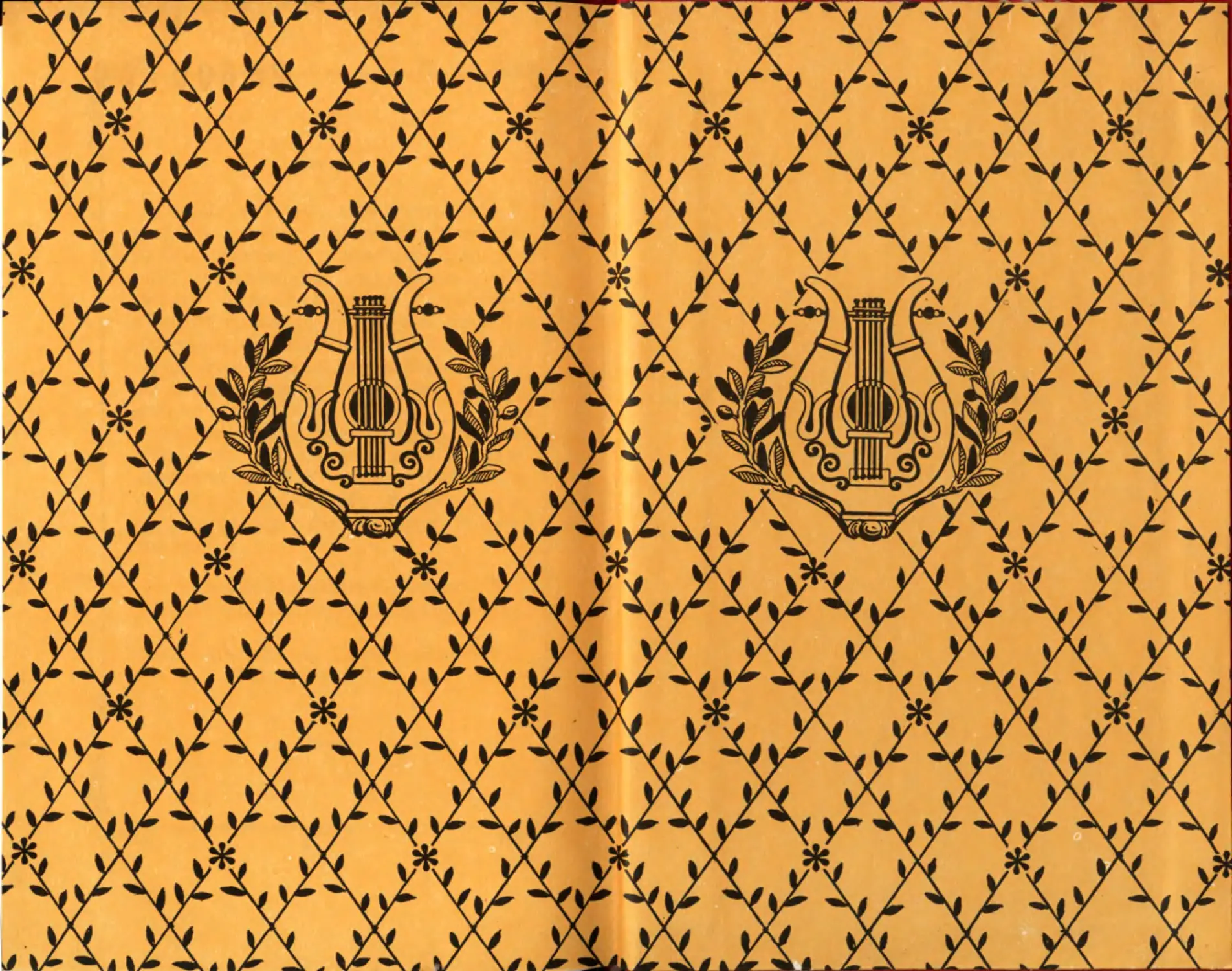Текст
РУССКАЯ
ПОТАЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
АНТИМИР
РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ
1^^ МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ^УчІ
АСПЕКТ
РУССКОЙ ЭКСПРЕССИВНОЙ
ФРАЗЕОЛОГИИ
*
ОБ ОБСЦЕННЫХ
ВЫРАЖЕНИЯХ РУССКОГО
ЯЗЫКА
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОБСЦЕННОЙ
ЛЕКСИКИ
И ЕЕ КУЛЬТУРНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
*
КОЩУНСТВЕННАЯ
ПОЭЗИЛ
В СИСТЕМЕ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ
КОНЦА XVIII - НАЧАЛА XIX ВЕКА
*
ИЗ ИСТОРИИ ^ПАРОДИЧЕСКОГО
БАЛЛАДНОГО СТИХА «
*
ДОСТОЕВСКИЙ
И "НИЗКИЕ* ЖАНРЫ
ФОЛЬКЛОРА
Антц-Mup
русской
культуры
Язык. Фольклор.
Литература
СОСТАВИТЕЛЬ
Н.БОГОМОЛОВ
<А>
ЛАДОМ Hf
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ЛАДОМИР»
МОСКВА
1996
Художник
д. шимилис
© Н. А. Богомолов. Состав, статьи,
1996
© Б. А. Успенский. Статьи, 1996
© Ю. И. Левин. Статья, 1996
© А. Л. Зорин. Статья, 1996
© А. Ф. Белоусов. Статья, 1996
© В. М. Живов. Статья, 1996
© М. И. Шапир. Статьи, 1996
© Г. А. Левинтон. Статья, 1996
© M. М. Павлова. Статья, 1996
© Д. Б. Шимилис. Художественное
оформление, 1996
© Науччо-издательский центр
ISBN 5-86218-110-5 «Ладомир», 1996
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Снятие различных цензурных запретов и запретов
общественного мнения в культурной жизни России (подробнее об
этом процессе см. публикуемую в настоящем сборнике статью
А.Л. Зорина) привело не только к легализации эротики и даже
порнографии, не только к широчайшей экспансии обсценной
лексики, в том числе и в сферы, прежде для нее абсолютно
запретные (как, например, в средства массовой информации), но и
ко вполне естественному стремлению исследователей ввести в
поле своего зрения широчайший пласт русской культуры, долгое
время не подлежавший обсуждению на страницах научной
печати, выпускавшейся на территории бывшего СССР. Стали
появляться самые разнонаправленные культурологические,
искусствоведческие и литературоведческие, психологические и тому
подобные статьи, эссе, беседы, авторы которых, зачастую не
обладая ни материалом, ни знаниями, ни способностями вести
научный дискурс, пытались тем не менее определить специфику
нецензурных прежде культурных явлений.
Наряду с этим следует отметить и появление ряда
серьезных, хотя иногда и не лишенных существенных, недостатков,
изданий, имеющих отношение к изучению данной сферы. В
дополнение к указанным А.Л. Зориным назовем ряд публикаций
текстов И.С. Баркова (подготовленные А.А. Илюшиным
фрагменты сборника „Девическая игрушка" для журналов
„Литературное обозрение" и „Комментарии", а также две отдельно
выпущенные книги: Иван Барков. Девичья игрушка (Библиотека
журнала „Звезда"; изд. подготовил В.Н. Сажин), СПб., 1992;
Девичья игрушка, или Сочинения господина . Баркова. Изд.
подготовили А. Зорин и Н. Сапов. М., Ладомир, 1992),
публикации значительного числа частушек „с картинками"
(например, два сборника „Разрешите вас потешить" из собрания
Н. Старшинова, М., 1992; „Озорные частушки", СПб., 1992 и
др.), специальные сборники „Три века поэзии русского Эроса"
(сост. А.А. Илюшин и АН. Щуплов. М., 1992) и „Летите,
грусти и печали..." (сост. А.А. Илюшин и К.Г. Красухин. М.,
1992), тематические выпуски журналов „Литературное
обозрение" (1991, № И) и „Искусство Ленинграда" (1991, №4)
и др.
5
Мы хотели бы предложить вниманию читателей и
исследователей ряд работ, ориентированных не на сиюминутный
скандальный успех, а представляющих собою серьезные штудии в
тех сферах русской культуры, которые противостоят
кодифицированному литературному языку и словесности традиционно
изучавшегося типа (или изучавшегося только с определенных
сторон, не предусматривавших выявления точек соприкосновения с
сексуальными и прочими „низкими" областями человеческой
жизни и связанного с ними искусства). Отбирая статьи, мы
ориентировались прежде всего не на широту охвата тех или
иных проблем, а на принципиальность публикуемых
исследований для дальнейшей научной работы в соответствующих
областях филологии. Так, к примеру, значимость работ Б.А.
Успенского и В.М. Живова уже достаточно давно была осознана
учеными, однако до сих пор доступ к ним был весьма затруднен и
воспроизведение их в специальном сборнике представляется
вполне оправданным.
Мы совершенно определенно отдаем себе отчет в том, что
исследования подобного рода в России, несмотря на уже
довольно значительную их историю, по сути дела, только
начинаются, и связаны они должны быть не только со сферой
сексуального (которая преимущественно оказалась в центре внимания
в предлагаемом читателю сборнике), но и вообще с анти-
поведением и с противостоянием словесности традиционного
типа. На протяжении долгих лет фактически закрыты
исследования многих фольклорных жанров, считавшихся неглавными,
неважными (городской романс, блатная песня, самодеятельная
песня, современный анекдот и проч.), ряда областей языка
(прежде всего, различных социальных, возрастных,
профессиональных жаргонов) и литературы. Нуждаются в продолжении
этнографические штудии, с блеском начатые сборниками
„Этнические стереотипы поведения" (Л., 1985) и „Этнические
стереотипы мужского и женского поведения" (СПб., 1991), где
описываются и истолковываются обычно табуировавшиеся
советской наукой явления человеческой жизни. До сих пор
чрезвычайной редкостью остаются сборники материалов, подобные
выпущенному в Таллинне в 1992 году тиражом в 300 экземпляров
двухтомнику „Школьный быт и фольклор".
Список публикаций подобного рода мог бы быть продолжен,
хотя сей ряд вряд ли будет достаточно длинным. Надеясь, что
выпускаемая издательством „Ладомир" книга займет достойное
место, мы решаемся представить ее читателям.
Язык
Б.УСПЕНСКИЙ
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
РУССКОЙ ЭКСПРЕССИВНОЙ
ФРАЗЕОЛОГИИ
^Т5*Р
I. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: СПЕЦИФИКА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАТЕРНОГО ВЫРАЖЕНИЯ
1. Изучение русского мата связано со специфическими и весьма
характерными затруднениями. Характерна прежде всего та-
буированность этой темы, которая — как это ни
удивительно — распространяется и на исследователей,
специализирующихся в области лексикографии, фразеологии, этимологии.
Между тем подобные выражения, ввиду своей архаичности,
представляют особый интерес именно для этимолога и историка
языка, позволяя реконструировать элементы праславянской
фразеологии. Соответствующие табу распространяются и на ряд
слов, семантически связанных с матерщиной, в частности, на
обозначение гениталий, а также на глагол со значением «futuere»; в
литературном языке более или менее допустимы только
церковнославянизмы типа совокупляться, член, детородный
уд, афедрон, седалище, но никак не собственно русские
выражения. Специфика русского языка в этом отношении предстает
особенно наглядно в сопоставлении с западноевропейскими
языками, где такого рода лексика не табуирована.
Табуированности матерщины и соотнесенных с нею слов
нисколько не противоречит активное употребление такого рода
выражений в рамках анти-поведения, обусловливающего
нарушение культурных запретов.
Соответствующие материалы, как правило, не публикуются,
причем научные издания не составляют исключения в этом
отношении. Так, словарь Даля трижды переиздавался в советское
время, но для переиздания было выбрано не лучшее издание.
9
Лучшим, бесспорно, является издание Даля, отредактированное
и дополненное Бодуэном де Куртенэ: в это издание, в
частности, вошла и бранная лексика, и именно это обстоятельство
послужило препятствием к его переизданию. В русском издании
этимологического словаря Фасмера — дополненном по
сравнению с немецким оригиналом — подобные выражения
были изъяты. Собрание пословиц Даля было опубликовано в свое
время не целиком, поскольку значительный пласт непристойных
пословиц не мог быть обнародован в России; дополнение к
этому изданию выпущено только за рубежом (Карей, 1972); за
границей вышел и словарь русской непристойной лексики,
служащий дополнением к издающимся в России словарям русского
языка (Драммонд и Перкинс, 1979). Афанасьев должен был
опубликовать свои «заветные сказки», которые по цензурным
условиям не могли войти в его собрание русских народных
сказок, в Швейцарии (издание вышло без указания имени
автора — Афанасьев, 1872). Все издания сборника Кирши
Данилова содержат купюры. Наличие непристойных песен у Кирши
Данилова побудило П.Н. Шеффера издать этот сборник в двух
вариантах: помимо общедоступного издания с большим
количеством пропусков, было выпущено сто экземпляров, не
поступивших в продажу и предназначенных исключительно для
специалистов (см.: Кирша Данилов, 1901, с. II). Тем не менее и в
этом специальном издании некоторые слова опущены; полный
текст этих песен был опубликован лишь за границей (Райе,
1976). Даже пушкинские тексты не воспроизводятся полностью:
«Тень Баркова» вообще не печатается, а в письмах Пушкина
ряд слов заменяется многоточиями1. В академических изданиях
Пушкина или Кирши Данилова количество точек в многоточии,
заменяющем то или иное непристойное слово, точно
соответствует числу букв этого слова; таким образом, издание
фактически рассчитано на искушенного читателя, достаточно хорошо
подготовленного в данной области. Это характерная черта —
издатели, в сущности, не стремятся скрыть от читателя
соответствующие слова, но не хотят их назвать2.
О.Н. Трубачев в статье, посвященной истории русского
перевода фасмеровского этимологического словаря, рассказывает
об ожесточенной борьбе, которую ему — тогда еще молодому
исследователю и переводчику словаря — пришлось вести с
редактором этого издания проф. Б.А. Лариным. Трубачев боролся
за сохранение непристойной лексики, тогда как Ларин настаивал
на ее исключении (едва ли не уникальный случай, когда
лингвист настаивает на ограничении материала, исходя из внелингви-
10
стических соображений!). Замечательно, что теперь, по
прошествии двадцати лет, Трубачев признает, что его оппоненты были
правы, или, во всяком случае, находит известные основания в их
возражениях. Трубачев видит в борьбе с такими словами
проявление, так сказать, особой целомудренности народа, его особой
чувствительности к непристойностям в языковой сфере:
«возможно, мы, русские, лучше чувствуем чрезвычайную
„выразительность" таких слов, которые знаменуют, так сказать,
анти-культуру и особенно строго изгоняются из литературного
языка и культурной жизни в эпоху массовой книжной
продукции» (Трубачев, 1978, с. 21—22). Это мнение трудно признать
вполне убедительным, если иметь в виду распространенность
соответствующих выражений у русских: строго говоря, на этом
основании мы вправе были бы говорить только о целомудрии
цензоров или редакторов... Кроме того, как будет видно из
дальнейшего изложения, борьба с подобными выражениями
характеризует не только эпоху массовой книжной продукции и
ведется не только в рамках литературного языка.
Вместе с тем отчасти сходную мысль, хотя и с иной
аргументацией, можно найти у Достоевского в «Дневнике писателя».
Говоря о распространенности непристойных выражений у
русских, Достоевский утверждает, что их употребление
свидетельствует о целомудренности народа, поскольку говорящие таким
образом не имеют в виду, в сущности, ничего непристойного:
«Народ сквернословит зря, и часто не об том совсем говоря.
Народ наш не развратен, а очень даже целомудрен, несмотря
на то что это бесспорно самый сквернословный народ в целом
мире, — и об этой противоположности, право, стоит хоть
немножко подумать» (Достоевский, XXI, с. 115, ср. вообще
с. 113—117, также: Достоевский, XXIV, с. 226; курсив
Достоевского). Действительно, запрет по преимуществу относится к
называнию соответствующих предметов или действий, но не
к их сущности — скорее к обозначению, чем к обозначаемому,
к плану выражения, а не к плану содержания3.
Именно поэтому положение филолога столь разительно
отличается от положения медика или натуралиста, которому
приходится в той или иной степени касаться сферы половых
отношений: для медика не существует никаких табу в этой области,
чего никак нельзя сказать о филологе, для которого эта сфера
продолжает оставаться табуированной — постольку, поскольку
речь идет об определенного рода словах. Это связано с тем,
что филолог имеет дело со словами, тогда как
естествоиспытателя интересуют явления как таковые: запрет накладывается
11
именно на слова, а не на понятия, на выражение, а не на
содержание.
2. Семантика матерной брани кажется прозрачной, но это
впечатление обманчиво. Характерно, в частности, что матерщина,
как правило, не воспринимается как оскорбление. В.Ф.
Одоевский, которого интересовала вообще фактографически точная
фиксация разговорной речи, не прошедшей сквозь литературный
фильтр, — то, как люди говорят в жизни, а не в романе,
замечал: «Солдат, встретя старого знакомого, не говорит ему:
здорово, брат, или что подобное, как в наших романах, а
след[ующее]: А! а! держи его! вот он! ах! Еб...м... — они
обнимаются» (Сакулин, 1913, 2, с. 385, примеч.); как видим,
матерное выражение может служить даже дружеским
приветствием. По наблюдениям этнографов, «сквернословие... в
обращении... производит действие обиды лишь тогда, когда
произнесено серьезным тоном, с намерением оскорбить; в шутливых же
и приятных разговорах составляет главную соль, приправу, вес
речи» (Бондаренко, II, с.79).
Отметим еще, что отношение к матерной брани может
существенно различаться в зависимости от пола говорящего или
слушающего. Матерщина воспринимается по преимуществу как
черта мужского поведения4, причем иногда — но отнюдь не
повсеместно — она считается возможной только в мужском
обществе. Так, например, по наблюдениям Гр. Потанина,
украинцы, как правило, не ругаются при женщинах; напротив,
великорусы на русском Севере употребляют площадную брань, не
стесняясь присутствием женщин или детей (Потанин, 1899,
с. 170; ср. несколько иные сведения относительно великоруссов
у Никифорова, 1929, с. 122, 124, а также в СРНГ, XVIII,
с. 42) — и более того, как мы увидим, великоруссы могут даже
вполне сознательно обучать детей матерщине в процессе их
воспитания (см. § II-5). В некоторых местах запреты на матерную
ругань распространяются исключительно на женщин, тогда как в
устах мужчин матерщина не является чем-либо
предосудительным. Весьма характерна в этом плане полесская легенда: «Ишоу
Гасподь па дарози, а жэншчына жыта жала. А ён спрасиу:
„Пакажы мне дарогу". А ана яму рукой махнула: „Мяне врэмэ-
ни нема". И ён казау: „Дак нехай тебе век не буде врэмэни!" А
прыйшоу ён к мушчыне — мушчына кажэ: „Садис, дедок, мы с
табой пакурым, пасыдим, я тябе пакажу дарогу. Ядри яё налева,
што ана тебе адказала. Хади сюдьГ. И Бог сказау: „Ты —
ругайса, а жэншчыне ругаца неззя"» (Топорков, 1984, с. 231 —
12
232, № 14); выражение ядри яё налево, представляет собой
эвфемистическую замену матерного ругательства).
Соответственно, в Полесье считают, что именно женщинам нельзя
материться: матерщина в устах женщин воспринимается как грех,
от которого страдает земля (подробнее о связи матерной брани
с культом земли мы скажем ниже); в то же время для мужчин
это более или менее обычное поведение, которое грехом не
считается: «Зямля ат жэншчын гарыть, ат таго, што жэншчыны
ругаюца: „А идрить тваю налева", „А ядять тваю мухи", „Елки
зялёные"» (там же, с. 232, № 15), „Як ругаецца [матом
женщина], пад табой зямля гарыть, ты трогает з зямли мать, з таго
свету мать ты трогает, ана ляжьггь [твоя мать], а ты трогает,
эта слава ня нужные, мужское слово" (там же, с. 232, № 15).
II. КУЛЬТОВЫЕ ФУНКЦИИ МАТЕРНОЙ БРАНИ
1. Особое отношение к матерщине обусловлено специфическим
переживанием неконвенциональности языкового знака, которое
имеет место в этом случае. Знаменательно, что запреты на
соответствующие выражения носят абсолютный, а не
относительный характер, обнаруживая принципиальную независимость от
контекста: матерщина считается в принципе недопустимой для
произнесения (или написания) — даже и в том случае, когда
она воспроизводится от чужого имени, как чужая речь, за
которую говорящий (пишущий), вообще говоря, не может нести
ответственности. Иначе говоря, этот текст в принципе не
переводится в план мета-текста, не становится чистой цитатой: в
любом контексте соответствующие слова как бы сохраняют
непосредственную связь с содержанием, и, таким образом,
говорящий каждый раз несет непосредственную
ответственность за эти слова. Такого рода восприятие нашло отражение в
духовном стихе «Пьяница» («Василий Великий»):
Который человек хоть однажды
По матерну взбранится,
В шутках иль не в шутках,
Господь почтет за едино.
(Бессонов, VI, с. 102, Л& 573)
Итак, шуточное, игровое употребление ни в коем случае не
снимает с говорящего ответственности за слова такого рода, не
превращает их в простую условность: эти слова, так сказать, не
13
могут быть произнесены всуе, в частности, их нельзя повторить
или употребить остраненно. Но подобное отношение к
языковому знаку характерно прежде всего для сакральной лексики: в
самом деле, именно сфере сакрального присуще особое
переживание неконвенциональности языкового знака, обусловливающее
табуирование относящихся сюда выражений, — тем самым об-
сценная лексика парадоксальным образом смыкается с лексикой
сакральной.
Разгадка подобного отношения к матерщине объясняется,
надо думать, тем, что матерщина имела отчетливо
выраженную культовую функцию в славянском язычестве;
отношение к фразеологии такого рода сохраняется в языке и при
утрате самой функции.
2. Действительно, матерная ругань широко представлена в
разного рода обрядах явно языческого происхождения —
свадебных, сельскохозяйственных и т.п., — то есть в обрядах, так или
иначе связанных с плодородием: матерщина является
необходимым компонентом обрядов такого рода и носит безусловно
ритуальный характер; аналогичную роль играло сквернословие и
в античном язычестве (см. о греческом земледельческом
сквернословии: Богаевский, 1916, с. 57, 183, 187), о чем нам еще
придется говорить ниже. Одновременно матерная ругань имеет
отчетливо выраженный антихристианский характер, что также
связано именно с языческим ее происхождением.
Соответственно, в древнерусской письменности — в
условиях христианско-языческого двоеверия — матерщина
закономерно рассматривается как черта бесовского поведения.
Достаточно показательно, например, обличение «еллинских [т.е.
языческих!] блядословіи и кощун і игр бесовских» в челобитной
нижегородских священников, поданной в 1636 году патриарху
Иоасафу I (автором челобитной был, как полагают, Иван
Неронов): «Да еще государь, друг другу лаются позорною лаею,
отца и матере блудным позором, в род и в горло, безстудною
самою позорною нечистотою языки своя и души оскверняют»
(Рождественский, 1902, с. 30). Существенно, что матерщина
упоминается здесь в контексте описания языческих игр
(святочных, купальских и т.п.); «еллинское», (языческое)
фактически равнозначно при этом «бесовскому», «сатанинскому». В
тех же выражениях говорится о матерной брани в памяти
патриарха Иоасафа I для московских и подмосковных церквей того
же, 1636 года (ААЭ, III, с. 402, 404, № 264), которая
обнаруживает вообще текстуальную близость к челобитной нижего-
14
родских священников и написана, возможно, под ее
непосредственным влиянием (ср.: Рождественский, 1902, с. 1—4), а
затем и в памяти или, точнее, окружном послании суздальского
архиепископа Серапиона 1642 года (Каптерев, I, с. 10,
примеч.), которое, в свою очередь, повторяет с некоторыми
добавлениями только что упомянутую патриаршую грамоту (ср. там
же, с. 8); «...да у вас, православных христіан, слышим, что у
вас безумніи человѣцы лают друг друга матерны, a иніи
безумніи человѣцы говорят скаредныя и срамныя рѣчи, ихже
невозможно писанію предати», — заявляет в том же послании
архиепископ Серапион (там же, с. 12). О борьбе против
матерной ругани при Алексее Михайловиче рассказывает Олеарий
(1656, с. 191; 1906, с. 187); следует подчеркнуть, что борьба
эта велась под знаком борьбы с язычеством. Так, матерщина
обличается в царских указах 1647—1648 гг., разосланных по
разным городам, причем в одном из них подчеркивается
недопустимость ритуального сквернословия в свадебных обрядах, а
именно предписывается, чтобы на «браках пѣсней бѣсовских не
пѣли, и никаких срамных слов не говорили», чтобы «на
свадьбах безчинства и сквернословія не дѣлали» (царская грамота в
Белгород от 5. XII. 1648 г. — Иванов, 1850, с. 298; царская
грамота в Тобольск и Дмитров с тем же текстом — АИ, IV,
с. 125, № 35; Харузин, 1897, с. 147). Здесь же упоминается
и о святочном сквернословии: «а в навечери Рождества
Христова и Васильева дни и Богоявленія Господня клички бѣсовскіе
кличут — коледу, и таусен, и плугу... и празднословіе с
смѣхотвореніем и кощунаніем» (Иванов, 1850, с. 297; Харузин,
1897, с. 147; АИ, IV, с. 125, № 35). Что имеется в виду под
этим кощунственным «празднословием», становится совершенно
ясно из другого указа того же времени, где царь предписывает,
чтобы «в навечери Рождества Христова и Богоявленья, колед и
плуг и усеней не кликали, и пѣсней бѣсовских не пѣли, матерны
и всякою неподобною лаею не бранилися... и бѣсовских сквер-
нословных пѣсней николи не пѣли... А которые люди нынѣ и
впредь учнут коледу, и плуги, и усени, и пѣть скверныя пѣсни,
или кто учнет кого бранить матерны и всякою лаею, — и тѣм
людям за такія супротивныя Христіанскому закону за
неистовства быти от нас в великой опалѣ и в жестоком наказаньѣ»
(царская грамота в Шую от 19. XII. 1648 г. — Погодин,
1843, с. 238—239). Итак, матерная брань рассматривается как
явление того же порядка, что и специальные святочные обычаи
(такие, как обычай колядовать, кликать плугу, петь овсень-
таусень и т.п.). Обычай сходиться в святочные и купальские
15
дни „на бесчинный говор и на бѣсовскіе пѣсни" с осуждением
упоминается и в постановлениях Стоглавого собора 1551 года,
которые также направлены на искоренение реликтов язычества в
народном быту; имеется в виду опять-таки ритуальное
сквернословие, представляющее собой необходимый компонент святочных
и купальских увеселений (см.: Стоглав, 1890, с. 191 —192, ср.
еще с. 280). Соответственно, в 1552 году царь Иван Грозный
велит кликать по торгам, чтобы православные христиане не
творили всего того, что запрещается постановлениями собора, в
частности, «матерны бы не лаялись, и отцем и матерью
скверными рѣчми друг друга не упрекали, и всякимиб неподобными
рѣчми скверными друг друга не укоряли» (АИ, I, с. 252,
№ 154); одновременно с этим говорится и о недопустимости
обращения к волхвам, чародеям, звездочетцам, а также о
недопустимости брадобрития и т.п.
Обличая тех, кто проводит время «упражняющеся в скверно-
словіях и на сатанинских позорищах», митрополит Даниил
писал: «Ты же сопротивнаа Богу твориши, a христіанин сый, пля-
шеши, скачеши, блуднаа словеса глаголеши, и инаа глумленіа и
сквернословіа многаа съдѣваеши и в гусли, и в смыки, в сопѣли,
в свирѣли вспѣваеши, многаа служеніа сатанѣ приносиши»; по
его словам, «идѣже бо есть сквернословіе и кощуны, ту есть
бѣсом събраніе, и идѣже есть играніа, тамо есть діавол, а идеже
есть плясаніе, тамо есть сатана» (Жмакин, 1881, с. 558—559,
567 и приложения, с. 18—19, 29); матерщина выступает здесь
в одном ряду с типичными атрибутами языческого
поведения, регулярно обличаемыми в поучениях, направленных против
двоеверия. Такие же атрибуты фигурируют и в наказе Троицко-
Ипатьевского монастыря монастырским приказчикам (XVII в.),
где предписывается, чтобы монастырские крестьяне «матерны и
всякими скверными словами не бранились, и в бѣсовскіе игры, в
сопѣли и в гусли и в гудки и в домры и во всякіе игры не
играли» (АЮ, с. 357, № 334); и в этом случае матерная брань
упоминается в контексте обличения языческих по своему
происхождению обрядов.
В более или менее сходном контексте фигурирует матерщина
и в поучениях Кирилла Туровского и митрополита Петра. Так,
Кирилл Туровский упоминает «буе слово, срамословіе, бестуд-
ная словеса и плясаніе, еже в пиру, и на свадбах, и в павечер-
ницах, и на игрищах и на улицах» (Калайдович, 1821, с. 94—
95); между тем митрополит Петр говорит, обращаясь «к
епископом, и попом, и архимандритом, и игуменом, и дьяконом и ко
всем православным крестьяном»: «Аще учите дѣтей духовных от
16
сквернословья, неподобно что лают отцем или матери, занеже
того в крестьянѣх нѣт; тако учите родители своих дѣтей измла-
да, чтобы не навыкали говорити лихих слов; а который не учнет
вас слушати, тѣх от церкви отлучити, а святаго причащенія не
давати им, ни даров, ни Богородицына хлѣбца; и паки учите их,
чтобы басней не баяли, ни лихих баб не примали, ни узов, ни
примолвленія, ни зелье, ни вороженье, занеже Божье того дѣля
приходит разгнѣваніе» (Кушелев-Безбородко, IV, с. 187).
Поучение митрополита Петра почти дословно повторяется в
посланиях митрополита Фотия в Новгород и в Псков 1410—1417
годов (РИБ, VI, стлб. 274, 282—283, № 33, 34; РФА, III,
с. 462, № 127, с. 517, № 141).
Особо должно быть упомянуто поучение старца Фотия,
инока Иосифо-Волоколамского монастыря (первой пол. XVI в.),
«еже не сквернословити языком всѣм православным христіаном,
паче же нам иноком, ниже паки рещи матернее лаяніе брату
своему блядин сын какову либо человѣку крестьянскія нашея
вѣры святыя» (Кушелев-Безбородко, IV, с. 189—191; Марков,
1914, с. 15—20): необходимо подчеркнуть, что выражение
блядин сын первоначально, по-видимому, не отождествлялось с
матерщиной и само по себе не являлось предосудительным, т.е.
не относилось к разряду непристойных выражений;5
показательно вместе с тем, что поскольку в данном случае это
выражение осмысляется именно как «матерное лаяние», постольку
считается недопустимым применять его по отношению к
православному христианину (к «человѣку крестьянскія
нашея вѣры святыя») — конфессиональный момент в этом случае
выражен вполне отчетливо.
Ряд других древнерусских поучений против матерной брани,
представляющих для нашей темы особый интерес, будет
рассмотрен несколько ниже (§ III-1); сейчас же нам важно лишь
констатировать, что поучения против матерщины находятся в
непосредственной связи с обличением языческих обрядов и
обычаев. Вполне закономерно поэтому, что матерная брань может
расцениваться как «еллинское блядословие» (см. цитированную
Челобитную нижегородских священников 1636 г. —
Рождественский, 1902, с. 30). Соответственно, в рассматриваемых
ниже (§ III-1) поучениях матерное слово может называться
«словом поганым» т.е. языческим, причем говорится, что с
человеком, который матерится, не следует «ни ясти, ни пити, не
молиться, аще не останется [т.е. не оставит] таковаго злаго слова»
[Лилеев, 1895, с. 402—403; ср. также: ГБЛ, Больш. № 117
(л. ЮОоб.); ИРЛИ, Северодв. № 114 (л. Зоб.), № 147 (л.
17
28об.), № 263 (л. 5об. — 6), № 511 (л. 8); ИРЛИ, Латг.
№ 156 (л. 213об.); ИРЛИ, Амос.-Богд. № 91 (л. ЗОоб. —
31); ИРЛИ, оп. 24, № 54, л. 84]. Как известно, отказ от
общения в еде, питье и в молитве принят вообще в случае
конфессиональных разногласий — в данном случае
соответствующее предписание указывает на то, что матерщинник не
христианин, но язычник.
Аналогичные свидетельства находим и в более ранних
источниках. Так, «Повесть временных лет», описывая языческие
обряды радимичей, вятичей и северян, упомянет «срамословье»
как специфическую черту языческого поведения (ПВЛ, I,
с. 15). Не менее примечательно и встречающееся в
древнерусской учительной литературе мнение, что матерная брань — «то
есть жидовское слово» (Смирнов, 1913, с. 156);
соответственно, в одном из вариантов апокрифической «Епистолии о неделе»
(«Свиток Иерусалимский») Господь говорит людям: «по-
жидовскія не говорите, матерны не бранитеся» (Кушелев-
Безбородко, III, с. 152—153; Бессонов, VI, с. 88, № 567, ср.
с. 83, № 566; ИРЛИ, оп. 24, № 54, л.[84])6, т.е. матерная
брань и в этом случае воспринимается как «жидовская» речь.
При интерпретации подобных высказываний необходимо иметь
в виду, что «жидовское», как и «еллинское», может
отождествляться с язычеством, и тем самым славянские языческие боги
могут трактоваться как «жидовские» — мы встречаем,
например, упоминания о «жидовском еретике Перуне» (Покровский,
1979, с. 52) и «Хорее-жидовине» (Щапов, I, с. 34) и т.п.
Совершенно аналогично объясняется и ходячее представление о
татарском происхождении матерной брани (см., например: Ще-
кин, 1925, с. 20—21).
Вместе с тем способность матерно ругаться приписывается
домовому, т.е. персонажу несомненно языческого происхождения
(Афанасьев, II, с. 82, с неточной ссылкой на источник).
Равным образом кликуши (икотницы) во время припадка
выкрикивают «диким голосом бессмысленные возгласы и крепкие
ругательства», причем предполагается, что так говорит вселившийся
в кликушу нечистый дух (Подвысоцкий, 1885, с. 59; ср.:
Богатырев, 1916, с. 62). Представление о том, что черту
свойственно материться, находит иногда отражение в космогонических
преданиях, ср., например, полесскую легенду: «Ну, бог васкрес
и пашол у пекла и стал тягнуть из пекла людей из ямы. Адин
руки падае — а усих рук багата. Так он нестерпеу и па-руски
загнул матом. И Исус Христос его не взял, и [он] зделался
чортом. У его сейчас абразавались ногти такие и воласы падня-
18
лись на галаве и сделалась такое обличив, як у чорта»
(Полесский архив: Гомельская обл., Гомельский р-н, дер. Гра-
бовка, 1982 г.). Замечательным образом матерщине
приписывается здесь решающая роль в космогоническом катаклизме.
3. Необходимо отметить, что матерная брань в ряде случаев
оказывается функционально эквивалентной молитве. Так, для
того, чтобы спастись от домового, лешего, черта и т.п.,
предписывается либо прочесть молитву (по крайней мере, осенить себя
крестным знамением), либо матерно выругаться — подобно
тому, как для противодействия колдовству обращаются либо к
священнику, либо к знахарю — см., например: Чернышев,
1901, с. 127—128 (о домовом; ср. иначе: Ушаков, 1896,
с. 154); Померанцева, 1975, с. 36, Зеленин, 1914—1916,
с. 802, Зеленин, II, с. 19, Зеленин, 1927, с. 388, Ушаков,
1896, с. 160, Завойко, 1917, с. 37, Ончуков, 1909, с. 465,
552, № 198в, 198г, 272 (о лешем, а также о медведе,
поскольку он ассоциируется с лешим, ср. в этой связи: Успенский,
1982, с. 85 и ел.); Завойко, 1917, с. 35, Иваницкий, 1890,
с. 121, Померанцева, 1975, с. 138 (о черте); Завойко, 1917,
с. 38 (о шишиге); аналогичным образом с помощью матерщины
могут лечить лихорадку (Цейтлин, 1912, с. 9), которая
понимается вообще как демоническое существо, разновидность
нечистой силы. При этом матерщина может рассматриваться даже
как относительно более сильное средство, т.е. возможны случаи,
когда молитва не помогает, а действенной оказывается только
ругань, см.: Чернышев, 1901, с. 127—128 (о домовом),
Завойко, 1917, с. 38 (о шишиге), ср. также сведения о том, что
домовой не боится креста и молитвы: Иванов, 1893, с. 26,
Померанцева, 1975, с. 109. Равным образом как молитва, так и
матерщина является средством, позволяющим овладеть кладом:
в одних местах для того, чтобы взять клад, охраняемый
нечистой силой, считается необходимым помолиться, в других —
матерно выругаться (Смирнов, 1921, с. 15). Совершенно так же
магический обряд «опахивания», совершаемый для изгнания из
селения эпидемической болезни (которую также отождествляют
с нечистой силой), в одних случаях сопровождается шумом,
криком и бранью, в других — молитвой (Максимов, XVIII,
с. 271—273).
Поскольку те или иные представители нечистой силы
генетически восходят к языческим богам, можно предположить, что
матерная ругань восходит к языческим
молитвам или заговорам, заклинаниям; с наибольшей веро-
19
ятностью следует видеть в матерщине именно языческое
заклинание, заклятие.
Соотнесенность матерщины с языческим культом
исключительно ярко проявляется у сербов, когда для того, чтобы
спастись от града, бросают вверх (в тучу) молот и при этом
матерно ругаются (Маринкович, 1974, с. 159; Толстые,
1981, с. 51). Как известно, в славянской (и индоевропейской)
мифологии молот выступает как атрибут Бога Громовержца,
насылающего грозу и град; надо полагать, что и матерщина
имеет к нему то или иное отношение. Напротив, у бессарабских
румын, «во время грозы, особенно в Ильин день, нужно
воздерживаться от всякого греха, а больше всего — от брани.
Это — потому, что, по объяснению, данному... одним
иеромонахом, „слова брани и крик больше всего напоминают собою
раскаты грома,,» (Сырку, 1913, с. 166). Ср. еще великорусскую
запись: «У прадетка матерь была, она изругалась на собаку, ее
молния и ударила...» (Богатырев, 1916, с. 66). И в этих
случаях мы можем констатировать связь матерщины с Громовержцем,
хотя она и проявляется прямо противоположным образом;
интерпретация этой связи будет предложена ниже (в § III-6).
4. В этой же связи следует отметить, что матерщина может
выступать у славян в функции проклятия; связь с языческим
культом представляется при этом совершенно несомненной.
Подобное употребление матерной брани засвидетельствовано в
южнославянской, а также в западнославянской письменности. Так,
в анонимной болгарской хронике 1296—1413 годов мы читаем:
«Блъглре же слышлвьше се насмѢаша са и оукоришл Гръкы, не
тъкмо досадиша, н/* за жен;* и млтере о\|говлше и посллшл
тъще» (т.е.: Болгары же, услышав это, надсмеялись и обругали
греков, не только оскорбили, но и изматерили и отослали с
пустыми руками); та же формулировка повторяется в данном тексте
и несколько ниже: «И ты слышлвше се нлсмѣлвше с а и Лсорншл
Гръкы, не тъчіа (дослдиша), нл и женл и матерь о\|говАше (и)
отслаша тъще» (т.е.: и те, услышав это, надсмеялись и обругали
греков, не только оскорбили, но и изматерили, и отослали с
пустыми руками) (Богдан, 1891, с. 527). Слово опсоваше —
«изматерили» в этом контексте, по-видимому, означает не
просто «обругали», но именно «прокляли». Конкретный пример
такого именно употребления матерного выражения представлен в
одной болгарской грамоте первой половины XV века, а именно
в грамоте валашского господаря Александра Алди, сына Мирчи,
датируемой 1432 годом. Говоря о своей верности венгерской
20
короне («господина крллю и сватом^ венц^») и опровергая
ложные слухи, будто он перешел на сторону турок, этот господарь
пишет: «да кто ще слъглти, да м# еве пьс женл и млтере м#»
(Богдан, 1905, с. 43, № 23; та же грамота с незначительными
орфографическими различиями опубликована в изд.: Милетич,
1896, с. 51, № 12/302), что, в сущности, означает: а кто
солгал, да будет проклят.
В том же значении матерное ругательство могло
употребляться, по-видимому, и в западнославянских языках.
Показательно в этой связи выражение abo zabit bpcz abo cze pesz
huchloscz, т.е. 'albo zabit badz albo niech ciç pies uchlosci',
зафиксированное в польском судебном протоколе 1403 года
(Брюкнер, 1908, с. 132). Глагол chloscicy в настоящее время
неупотребительный, в старопольском языке выступал в качестве
эвфемизма, замещающего основной глагол в матерном
ругательстве (в выражении ch/oscic matkç — см.: Сл. ст.-польск. яз., I,
с. 238). Именно в этом качестве он и фигурирует в
цитированной бранной формуле, которая означает, следовательно: «да
будешь убит или да осквернит тебя пес»; старопольское
выражение cze pesz huchloscz ('niech ciç pies uchtosci') дословно
соответствует при этом современному польскому ругательству
pies ciç jebat. Обе части данного выражения предстают как
синонимичные, выражая одну общую идею — идею проклятия.
Соответственно, глагол, восходящий к слав. *jebati, может
выступать в значении 'проклинать' — постольку, поскольку
глагол этот соотносится с общим значением матерного
выражения (ср., например, чешек, jebati 'проклинать* и т.п. — Труба-
чев, VIII, с. 188); мы вправе и в этом случае усматривать
следы ритуального употребления матерщины. Совокупность
приведенных фактов позволяет отнести подобное употребление к
общеславянской эпохе.
5. Ритуальная функция матерной брани проявляется и в
характере ее усвоения. Есть указания на то, что родители в процессе
воспитания детей более или менее сознательно обучали их
матерщине, т.е. это входило как бы в образовательный
комплекс. Об этом явлении с негодованием писал в начале XVIII
века Посошков в послании Стефану Яворскому: «Ей, государь,
вашему величеству [sic!] нѣ по чему знать, какое в народе
нашем обыклое безуміе содѣвается. Я, аще и не бывал во иных
странах, обаче не чаю нигдѣ таковых дурных обычаев обрѣсти.
Не безумное ль сіе есть дѣло, яко еще младенец не научится,
как и ясти просить, a родителіе задают ему первую науку
21
сквернословную и грѣху подлежащую? Чем было в началѣ
учить младенца, как Бога знать, и указывать на небо, что там
Бог, — ажио вмѣсто таковаго ученія отец учит мать бранить
сице: мама, кака мама бля бля; а мать учит подобнѣ отца
бранить: тятя бля бля; и как младенец станет блякать, то отец и
мать тому бляканію радуются и понуждают младенца, дабы он
непрестанно их и посторонних людей блякал... А когда мало
повозмужает младенец и говорить станет яснѣе, то уже учат его
и совершенному сквернословію и всякому неистовству»; отсюда
и объясняется, по Посошкову, распространенность матерной
брани у русских: «Гдѣ то слыхано, что у нас, — на путех, и на
торжищах, и при трапезах, наипачеж того бывают... и в церквах,
всякая сквернословія и кощунства и всякая непотребная разгла-
голства» (Срезневский, 1900, с. 11 —14, см. еще с. 8—9; ср.
аналогичный текст в другой редакции данного послания:
Посошков, I, с. 310—314; очень коротко Посошков говорит о том же
и в «Завещании отеческом к сыну» — Посошков, 1893, с. 9,
42, 44). Такие же сведения мы находим в книге «Статир» —
книге поучений, составленной в 1683—1684 годах неизвестным
священником города Орел (Пермской епархии): «Увы творят
родители, ископовают себѣ ров погибели, а чадом своим пагубу.
Не успѣеть отроча еще и родитися, а они егѵи не Божію дѣлу
научают, но сатанинскому обычаю: скакати, плясати, пѣсии
пѣти, лгати; отец научает матерь бранит и, а матерь
отца. I гаковы воспитаются, таковы и состарѣются. Но и
мнѵизи рекут мнѣ от волшебник: что нам возбраняеши исцеляти
недуги и бѣсы изгоняти?..» (ГБЛ, Румянц. 411, ч. I, л.
144об.); существенно, что эти сведения даны в контексте
обличения языческих обычаев (ср. еще ч. I, л. 143об., 162об.,
ІбЗоб., где о сквернословии также говорится в связи с
упоминанием языческих обычаев). Точно так же и Олеарий, говоря о
матерных выражениях у русских, замечает: «Говорят их не
только взрослые и старые, но и малые дети, еще не умеющие
назвать ни Бога, ни отца, ни мать, уже имеют на устах ебу твою
матъ, и говорят это родители детям, а дети родителям» (Олеарий,
1656, с. 191; Олеарий, 1906, с. 187; ср.: Олеарий, 1647, с. 130).
III. ОБЪЕКТ ДЕЙСТВИЯ В МАТЕРНОМ ВЫРАЖЕНИИ:
СВЯЗЬ С КУЛЬТОМ ЗЕМЛИ
1. Для выяснения роли матерной брани в языческом культе
особый интерес представляет поучение против матерщины —
22
«Повесть св. отец о пользе душевней всем православным
Христианом», приписываемое иногда Иоанну Златоусту (начало:
«Не подобает православным Христианом матерны лаяти...»), —
в котором говорится, что матерным словом оскорбляется, во-
первых, Матерь Божия, во-вторых, родная мать человека и,
наконец, «третья мать» — Мать Земля: «Не подобает
православным христіаном матерны лаяти. Понеже Мати Божія
Пречистая Богородица... тою же Госпожою мы Сына Божія позна-
хом... Другая мати, родная всякому человѣку, тою мы свѣт
познахом. Третія мати — земля, от неяже кормимся и питаемся
и тмы благих приемлем, по Божію велѣнію к ней же паки
возвращаемся, иже есть погребеніе». Здесь же сообщается, что
человек, который выругался матерной бранью, не может в этот
же день войти в церковь, что, по-видимому, обусловлено
языческой природой матерщины (см. выше, § II), то есть
противопоставленностью христианского и языческого культа: «а котора-
го дни человѣк матерно излает и в тот день уста его кровію
запекутца злые ради вѣры и нечистаго смрада исходящего изо
уст его, и тому человѣку не подобает того дни в церковь Божію
входити, ни креста цѣловати ни евангелія, и причастія ему от-
нюд не давати... И в который день человѣк матерны излает и в
то время небо и земля потресеся и сама Пречистая Богородица
вострепетася от такова слова» (Родосский, 1893, с. 425—426;
Марков, 1914, с. 27, 29, ср. с. 22—23, 25, 30—32)7. В одном
из вариантов этого поучения утверждается, что матерная брань
наказывается стихийными бедствиями, которые, по-видимому,
могли осмысляться как гнев земли: «и за то Бог спущает
казни, мор, кровопролитие, в воде потоплѣние, многие бѣды и
напасти, болѣзни и скорби» [БАН, 32. 16. 14 (л. 355); ср.
также: ИРЛИ, Северодв. № 114 (л. Зоб.), № 147 (л. 29),
№ 263 (л. 6), № 511 (л. 8—8об.); ИРЛИ, Латг. № 156 (л.
213об.); ИРЛИ, оп. 24, № 28 (л. 200), № 69 (л. Збіоб.);
Лилеев, 1895, с. 403]; см. вообще о «гневе земли»: Зеленин,
1916, с. 65—76, 81—89; Зеленин, 1917, с. 403, 406, 410;
Петухов, 1888, с. 168, 174.
Данное поучение непосредственно связано, по-видимому, с
древнерусской апокрифической литературой, в которой
фигурирует такое же в точности рассуждение. Так, в одном из списков
апокрифической «Беседы трех святителей» находим вопрос:
«Что есть не подобает православным христианам бранится?» —
и следует ответ: «Понеже Пресвятая Богородица мать Христу
Богу, вторая наша мать родная, от нея же мы родихомся и свет
познахом, теретяя [третья] мать земля, от нея же взяты и пита-
23
емся и в нея же паки возвратимся» (Мочульский, 1893,
с. 166); по-видимому, это русская вставка в памятнике
греческого происхождения (см. там же). Ср. еще апокрифический
„Свиток Иерусалимский", где Господь говорит: «приказываю
вам не божиться и не произносити всуе имене Моего и не ис-
пускати из уст ваших скверных хульных и матерных слов.
Сколь есть тяжек сей грех, што я простить его не могу, потому
что не одну родную мать поносишь, — поносишь ты мать
родную, мать Богородицу, мать сыру землю» (Бессонов, VI, с. 96,
№ 571). В другом апокрифе, специально посвященном
интересующей нас теме, в уста Господа вкладываются следующие
слова: «Иной, востав от сна, не умывается и, не сотворив на себѣ
крестнаго знаменія, начинает лаяться матерно, не подумает о
том, что 1-я мать наша Пресвятая Богородица, которая родила
Спаса всего мира...; 2-я мать наша земля, ибо от земли созданы
и в землю паки пойдем; 3-я мать наша, которая во утробѣ нас
носила и по рождествѣ вашем нечистоту обмыла... Аще который
день человѣк матерно ругается, в то самое время небеса
ужаснутся, земля потрясется и мать Божія на престолѣ
вострепещется и того дни у человѣка уста кровію затекаются и тому человѣ-
ку не подобает в церковь ходить, креста цѣловать и причастія
не принимать» (Шереметев, 1902, с. 58—59). Соответственно,
и в восходящем к апокрифам духовном стихе «Пьяница»
(«Василий Великий»)8 о матерных словах говорится, что это
грех, который не будет прощен, поскольку такими словами
хулится женщина, Богородица и, наконец, мать сыра земля:
Пьяница матерным словом дирзанёть —
Мать-сыра земля патрясётца,
За пристолам Присвитая Бапародица патранётца,
У женьшины уста кровъю запякутца.
(Тиханов, 1904, с. 256-257)
Или в другом варианте:
Един человек одноважды в день по-матерну избранится, —
Мать сыра земля потрясется,
Пресвятая Богородица с престола сотранётся.
(Успенский, 1898, с. 180)9
В менее явной форме та же идея выражена в духовном стихе
«Свиток Иерусалимский», который также восходит к апокрифи-
24
ческой литературе. Предписание не. пить и матерно не браниться
вкладывается в этом стихе в уста самого Христа, причем
сообщается, что в противном случае земля не будет давать
плодов: «будет земля яко вдова»; одновременно при этом
упоминается и Богородица:
Лишитеся хмельного пития,
Скверности изо уст, изо бранного слова,
Матерно не бранитеся:
Мать Пресвятая Богородица
На престоле встрепенулася
Уста кровию запекаются.
Вместе с тем здесь же говорится (хотя и не в связи с матерной
бранью), что есть три матери:
Первая мать — Пресвятая Богородица;
Вторая мать — сыра земля;
Третия мать — кая скорбь приняла [мучилась в родах].
(Бессонов, VI, с. 71-73, M 564)
Ср. еще в другом духовном стихе, специально «О матерном
слове»:
Вы, народ Божий-православный,
Мы за матерное слово все пропали,
Мать Пресвятую Богородицу прогневили,
Мать мы сыру-землю осквернили...
(Ржига, 1907, с. 66)
Остается упомянуть о чуде, бывшем в 1641 году в Красном
Бору на Северной Двине и записанном тогда же «при
священниках и при всем народе», поскольку сказание об этом чуде
обнаруживает явную связь с цитированным выше поучением:
крестьянке Фекле, Спиридоновой дочери, явились Спас и
Богородица Тихвинская и велели ей говорить в народе, чтобы
христиане не пили табак и матерно не бранились: «а в которое время
хто матерьно избранит, в то время небо и земля потрясеться и
Богородица стоя вострепещет...» (Никольский, 1912, с. 102;
Щапов, I, с. 16; ср. также: Орлов, 1913, с. 51; Марков, 1910,
с. 425); ср. в другом варианте: «а егда человѣк матерно избра-
нитца,... небо и земля потрясетца, a Богородицѣ укоризну
приносят» (Кушелев-Безбородко, И, с. 434; Львов, 1898, с. 600).
25
Видению Феклы предшествовало видение Акилины Башмаковой
(бывшее в том же году и в том же месте), которой явилась
«жена свѣтлообразная лицем покрывшися убрусом» и также
велела сказывать во всем мире, чтобы люди не пили табаку и
матерно не бранились; в противном случае следует ожидать
стихийных бедствий, т.е. видимо, гнева земли (Никольский, 1912,
с. 98; ср.: Щапов, II, с. 140; ср. еще о других видениях
аналогичного содержания: Щапов, II, с. 140, 160; Орлов, 1906,
с. 34; Орлов, 1913, с. 53).
К тому же кругу источников восходит и фольклорная легенда
о происхождении матерщины, где последняя связывается с
инцестом: «У каждого человека три матери: мать родна и две
великих матери: мать — сыра земля и Мать Богородица. Дьявол
„змустил" одного человека: человек тот убил отца, а на матери
женился. С тех пор и начал человек ругаться, упоминая в брани
имя матери, с тех пор пошла по земле эта распута»
(Добровольский, I, с. 276, № 37); можно усмотреть здесь
своеобразную интерпретацию цитированного выше поучения. Вместе с тем
та же традиция нашла отражение во „Временнике" Ивана
Тимофеева, где также утверждается, что матерная брань имеет
отношение не только к родной матери человека, но также к
земле и к Богородице: «И конечно еще оста нестерпимо зло, иже к
ближняго лицы в досадах кождого самохотное укореніе, еже
материю имени мотылна со усты языка сквернословное
изношеніе; не укореному бо сим досаждаху, но рождьшую
скверняху своими нечистоты. Зла земля не терпящи, стонет о
сем; заступающая о нас в бѣдах крѣпкая Помощница, бѣднѣ
гнѣваяся, негодует и отвращает лицо свое...» (РИБ, XIII,
стлб. 379).
Итак, соответствующие представления прослеживаются в
самых разнообразных литературных и фольклорных источниках.
Необходимо добавить, что они до сего дня бытуют в народе,
особенно устойчиво сохраняясь в Белоруссии. Так, летом 1982
года Полесской экспедицией было записано следующее поверье:
«Грэшно ругацца, сквэрняеш матэрь Божыю и мать сваю и
землю. Вабшчэ нельзя ругацца — ты прасквярнил зямлю, зямля
пад табой гарыть» (Топорков, 1984, с. 231, № И);
характерным образом здесь особенно подчеркивается соотнесенность
матерной брани с землей, ее воздействие на землю. Ср. еще
другую запись, сделанную в том же регионе: «Матерна ругацца
грех, ты мать сыру землю ругаеш, патаму шта мать сыра земля
нас дэржыть, матерь Гасподня у землю уежжае, праваливаецца
ат етай ругани, крэпка скорби у ее бальшые, што мы ругаем
26
ее — топчем, у гразь кидаем и ана шчытаецца у нышчате
бальшой» (там же, с. 231, № 5).
2. Совершенно очевидно, что основное значение в подобных
представлениях принадлежит именно Матери Земле, которая
может ассоциироваться как с женщиной-матерью, так и с
Богородицей: речь идет, собственно, о материнском начале, которое
прежде всего выражено в культе Матери Земли, а с принятием
христианства распространилось на Богородицу. Сопоставление
Матери Земли с родной матерью человека достаточно обычно
вообще в древнерусских текстах; это сопоставление в принципе
может принимать характер прямого отождествления10. Важно
отметить в этой же связи, что в цитированных выше
материалах, как правило, говорится о том, что матерная брань поносит
не только (или не столько) мать собеседника, к которому
обращено ругательство, но прежде всего — родную мать
самого бранящегося;11 это вполне понятно, если иметь в
виду, что по своему первоначальному смыслу матерная брань
является не оскорблением, а скорее заклинанием, заклятием,
проклятием и т.п., о чем уже говорилось выше. Соотнесенность
матерщины именно с родной матерью человека соответствует
соотнесенности ее с Матерью Землей или Богородицей, которые
и находятся к нему в том же отношении, что родная мать.
Вместе с тем в отличие от родной матери отдельного человека,
Земля и Богородица воспринимаются как «общая мать» всех
людей (см., например: Марков, 1910, с. 321, 365, 422)12.
Именно такое восприятие оказывается наиболее актуальным для
матерной брани. Соответственно, исследователь белорусской
духовной культуры, констатируя «представление о земле как о
всеобщей матери» у белорусов, замечает: «поэтому, между
прочим, считается предосудительным ругаться материнскими
словами, чтобы не оскорбить чести матери земли» (Богданович,
1895, с. 21).
3. Исключительно характерно в этой связи магическое
совокупление с землей, имеющее, несомненно, языческое
происхождение; именно так иногда объясняют ритуальное катание по земле
в сельскохозяйственных обрядах (Кагаров, 1918, с. 117, со
ссылкой на устное выступление Д.К. Зеленина; Кагаров, 1929,
с. 56; Толстой, 1979, с. 314, 323). Знаменательно, что такое
оскорбление матери Земле приравнивалось к обиде
родителям — в одном древнерусском епитимейнике читаем: «Аще ли
отцю или матери лаял или бил или, на землѣ лежа ниць, как на
27
женѣ играл, 15 дни [епитимий]» (Алмазов, III, с. 151, № 44;
Смирнов, 1913, с. 273—274); отсюда вообще запрещалось
лежать на земле ничком (Алмазов, III, с. 155, 195, 275, 279;
Смирнов, 1913, приложения, с. 46, № 15; Соболев, 1914,
с. 7). Глагол лаять в этом контексте, безусловно, относится к
матерной брани — таким образом, матерщина и совокупление с
землей выступают здесь как явления одного порядка; такое же
символическое уподобление имеем, по-видимому, и в исповедной
формуле: «Согрѣших, ниц лежа на земли и на водѣ, глумом
подобная блуду сотворях» (Смирнов, 1913, с. 274,
примеч.). Ср. вместе с тем обращение девиц к празднику
Покрова с просьбой о замужестве, где обыгрывается внутренняя
форма названия этого праздника, причем невеста уподобляется
земле, понимаемой как женский организм: «Батюшка Покров,
земелечку покрой снежком, а меня молоду женишком»
(Болонев, 1975, с. 15; ср.: Макаренко, 1913, с. 115; Щуров,
1867, с. 196—197). Понимание земли как женского организма
находит отражение в одной из „заветных сказок" А.Н.
Афанасьева, где проводится сопоставление земли с женским телом:
титьки — «сионские горы», пуп — «пуп земной», vulva — «ад
кромешный» (Афанасьев, 1872, с. 112).
Мотив совокупления с землей имеет явные мифологические
корни: именно представление о супружеских отношениях между
небом и землей, дающих начало жизни, и лежит в основе
восприятия земли как общей матери (см. выше, § Ш-2): «Ты небо
отец, ты земля мать», —- говорит древнерусское заклинание
(Рыбников, III, с. 209; Афанасьев, III, с. 778; Афанасьев, I,
с. 129; Иванов и Топоров, 1965, с. 101).
Совокупление с землей понимается прежде всего как ее
оплодотворение, и это определяет характерное представление
о беременности земли, которая разрешается урожаем.
Такое восприятие отражается как в речевом употреблении (так, о
земле говорят, что она «родит» хлеб и т.п.), так, между прочим,
и в загадках. Ср., с одной стороны, загадку о вспаханном и
засеянном поле: «Старик старушку шангил-лангил, заросла у
старушки шанга-ланга» (т.е. орют поля и засевают, земля и
закрывается) и, с другой стороны, загадку о беременной женщине:
«Посеял Бог пшеницу, этой пшеницы не выжать ни попам, ни
дьякам, ни простым мужикам, пока Бог не подсобит»
(Адрианова-Перетц, 1935, с. 503). Еще относительно недавно
в России «зарывали в землю изображение мужского полового
органа для ее оплодотворения» (Кагаров, 1929, с. 49; ср.:
Зеленин, 1916, с. 280).
28
Сходным образом и в античном язычестве земля
воспринималась как женский организм, а урожай трактовался как
разрешение от бремени: смотря на небо, грек говорил, обращаясь к
Зевсу: «проливайся дождем», а потом произносил, обращаясь к
земле: «будь беременна» (Богаевский, 1916, с. 90). Отсюда
объясняются как фаллические процессии, так и ритуальное
сквернословие (эсхрология) в античности (см.: Дитрих,
1925, с. 99; Богаевский, 1916, с. 57—59, 87—91, 183, 187;
Пропп, 1976, с. 194—196; Фрейденберг, 1936, с. 107—110);
при этом античное ритуальное сквернословие прямо
соответствует, по-видимому, матерной брани в русских
сельскохозяйственных и календарных обрядах, направленных на обеспечение
плодородия (см. выше, § II-2). Совершенно так же объясняется и
ритуальное обнажение в сельскохозяйственной магии, в равной
мере характерное для античных и для славянских обрядов (см.
об античности, например: Богаевский, 1916, с. 57, 61—62; о
славянской сельскохозяйственной магии — Громыко, 1975,
с. 133; Смирнов, 1927, с. 52; Кагаров, 1929, с. 51; и др.
источники); при этом ритуальное обнажение и ритуальное
сквернословие могут сочетаться у русских (Богаевский, 1916, с. 59,
примеч.), явно выполняя одну и ту же функцию. Отсюда же,
наконец, выясняется и значение ритуальной вспашки как в
античном, так и в славянском язычестве: вспашка, как и засев,
может пониматься как coitus (см. об античности: Богаевский,
1916, с. 91, 189; о славянах — Потебня, 1914, с. 119—121);
соответственно, фольклорный образ Божества, пашущего землю
(см.: Успенский, 1982, с. 53), — вообще образ чудесного
пахаря или чудесного сеятеля — может символизировать именно
Божественный coitus, т.е. соитие с землей и как следствие
этого — ее оплодотворение. В некотором смысле все эти явления
одного порядка: во всех этих случаях имеет место
символическое совокупление с землей; в случае матерной
брани эта символика реализуется в языковой сфере.
4. Для ассоциации Матери Земли с Богородицей представляет
интерес следующее свидетельство, относящееся к Ярославской
губернии: «Когда в засушливые годы (1920 и 1921 гг.)
некоторые из крестьян стали колотушками разбивать на пашне комья и
глыбы, то встретили сильную оппозицию со стороны женщин.
Последние утверждали, что, делая так, те „бьют саму мать
пресвятую Богородицу"» (Смирнов, 1927, с. 6); в других случаях
совершенно аналогичные запреты мотивируются опасением, что
Мать Земля не родит, хлеба (Афанасьев, I, с. 143; Смирнов,
29
1913, с. 273) или ссылкой на беременность земли
(Виноградов, 1918, с. 16—17; Зеленин, 1914—1916, с. 256;
Зеленин, 1927, с. 353). В подобных запретах может появляться
вместе с тем и ассоциация земли с родной матерью; так,
западные украинцы считают, что тот, кто бьет землю, бьет по животу
свою мать на том свете; сходное поверье зарегистрировано и у
поляков: «Kto umyslnie ziemiç bije, ten swoja matkç bije i ziemia
po smierci go nie przyjmie...» (Мошинский, II, 1, с. 510—511;
ср. еще: Федеровский, I, с. 244, № 1166). Как видим, в
соответствующих поверьях отражаются те же представления, что и в
цитированных выше поучениях и апокрифических преданиях,
относящихся к матерной брани, то есть ассоциация Матери
Земли, Богородицы и родной матери человека.
Ассоциация земли с Богородицей может находить отражение
в иконописи: так, на псковской иконе «Собора Богоматери»
XIV века из собрания Третьяковской галереи аллегория земли
изображается в виде Богородицы на траве (Антонова и Мнева,
I, с. 190—191, № 149 и рис. 101); эту икону иногда
связывают с ересью стригольников (см., например: Рыбаков, 1976,
с. 85). Знаменательно также, что в случае клятвы землей,
о которой мы специально будем говорить ниже (§ III-7), могли
употреблять как землю, так и икону Богородицы: при
произнесении этой клятвы на голову клали дерн, а в руки брали икону
Пречистой (Афанасьев, I, с. 148; Смирнов, 1913, с. 275).
Соответственно, в апокрифе, перечисляющем различные имена
Богородицы, мы встречаем и такое наименование, как «земля
святаа» (Тихонравов, II, с. 341).
Подобное отождествление особенно выразительно
представлено у хлыстов: «в иных... кораблях хлысты, радея [речь идет о
годовом радении около Троицына дня], поют песни,
обращенные к „матушке сырой земле", которую отождествляют с
Богородицей. Через несколько времени богородица, одетая в цветное
платье, выходит из подполья, вынося на голове чашку с
изюмом или другими сладкими ягодами. Это сама „мать сыра
земля" со своими дарами. Она причащает хлыстов изюмом,
приговаривая: „даром земным питайтесь, Духом Святым
услаждайтесь, в вере не колебайтесь"...» (Мельников, VI, с. 355). В
«Бесах» Достоевского Марья Тимофеевна говорит: «„А по-
моему, Бог и природа есть все одно..." А тем временем и шепни
мне..., из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас
жила за пророчество: „Богородица что есть, как мнишь?" —
„Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого". —
„Так, говорит, Богородица — великая мать сыра земля есть, и
30
великая в том для человека заключается радость"»
(Достоевский, X, с. 116). Комментируя это место, Смирнов (1913,
с. 266, примеч.) замечает: «Но это „пророчество" о том, что
земля есть Богоматерь, не находит параллелей в произведениях
народного творчества. Может быть, у Достоевского здесь
просто символ». Мы видим, однако, что высказывание Марьи
Тимофеевны прямо подтверждается этнографическими данными.
Отождествление Земли и Богородицы очень наглядно
проявляется в их одинаковом наименовании. Как мы уже упоминали,
как Земля, так и Богородица могут восприниматься как «общая
мать» всех людей, соответственно, они и называются таким
образом — древнерусские тексты в одних и тех же выражениях
говорят о Земле («общая наша мати земля») и о Богородице
(«сія бо общая мати всѣм православным христіаном» (Марков,
1910, с. 365, 422; ВМЧ, ноябрь, стлб. 3299; Русский
временник, I, с. 147). Вместе с тем и Земля и Богородица могут
одинаково именоваться «госпожою»; такое название, например, как
госпожинки ~ оспожинки ~ спожинки, может пониматься как
в том, так и в другом смысле, обозначая как Богородичный
праздник (Успения или Рождества Богородицы), так и
праздник в честь окончания жатвы. Поскольку окончание полевых
работ бывает приурочено обычно к Богородичным
праздникам — что, надо думать, отнюдь не случайно, — само
разграничение этих значений может быть до некоторой степени
искусственным. Наконец, Богородица, как мы видели, может прямо
называться «землей», так же и земля — «Богородицей»...
Остается отметить, что культ Матери Сырой Земли
непосредственно связан в славянском язычестве с культом противника
Бога Громовержца, в первую же очередь — с культом Мокоши
как женской ипостаси, противопоставленной богу Грозы (см.:
Иванов, 1976, с. 271; Иванов и Топоров, 1965, с. 172;
Успенский, 1982, с. 35, 53—54, 100). С принятием христианства
почитание Мокоши было перенесено как на Параскеву Пятницу
(которая может восприниматься, соответственно, как «водяная и
земляная матушка» — Максимов, XV, с. 87), так и на
Богородицу, вследствие чего Богородица и ассоциируется с Матерью
Сырой Землей. Знаменательно в этом смысле, что в русских
духовных стихах заповедь не браниться матерными словами
может вкладываться в уста как св. Пятницы, так и Богородицы
(Марков, 1910, с. 418). Между тем в сербском языке матерное
ругательство может относиться непосредственно к Пятнице
()ебем ти свету Петку), причем такое ругательство считается
самым сильным. Подобного рода ругательства следует сопоста-
31
вить с цитированными выше текстами, где говорится, что
матерная брань оскорбляет Богородицу: Богородица и Пятница
выступают при этом, в сущности, как заместительницы Мокоши.
5. Итак, в матерной брани реализуются представления о
совокуплении с землей. Это объясняет, с одной стороны, ритуальное
сквернословие в свадебных и сельскохозяйственных обрядах, с
другой же стороны — характерное убеждение, что матерная
брань оскверняет землю, что вызывает, в свою очередь,
гнев земли. Представление о чистоте земли и о
недопустимости ее осквернения очень актуально вообще для русского
религиозного сознания, с особой выразительностью проявляясь в
похоронной обрядности, в частности, в обрядах
приготовления тела к погребению. Ценное свидетельство о значении
подобных обрядов содержится, между прочим, в «Повести о
боярыне Морозовой», где Морозова говорит, ожидая смерти:
«Се бо хощет мя Господь пояти от жизни сея и неподобно ми
есть, еже телу сему в нечисте одежди возлещи внедрех
матери своея земли» (Мазунин, 1979, с. 152).
Соответственно объясняется обычай надевать чистую одежду в случае
смертельной опасности. Так, русские солдаты перед битвой
надевали чистое белье (Смирнов, 1913, с. 271). Ричард Джемс,
говоря в своих записках (1618—1619 гг.) о русских
похоронных обычаях, специально отмечает «суеверие относительно
чистых одежд»; в этой связи он рассказывает о русском после,
который в 1619 году плыл в Англию и едва не потерпел
кораблекрушения: «он поспешил вместе со всеми в трюм корабля,
раздеваясь и надевая чистую рубаху, чтобы не потонуть в
грязной» (Ларин, 1959, с. 114). Характерно также белорусское
проклятие: «Каб цябе, божа, дай міленькі, нямытага як сабаку,
у зямлю увалілі!» (Гринблат, 1979, с. 222). Ср. в этой связи
восприятие смерти как брачного соединения с землей, которое
находит отражение как в апокрифической литературе, так и в
фольклорных текстах — погребение мертвеца может
трактоваться именно как брачная ночь (Смирнов, 1913, с. 271, примеч.)13.
Тот же комплекс представлений еще более ярко проявляется
в отношении к так называемым «заложным», то есть
нечистым покойникам (самоубийцам, колдунам, грешникам,
иноверцам и т.п.), которых нельзя хоронить в земле именно ввиду
того, что они оскверняют ее: земля не принимает тел таких
покойников, и их захоронение вызывает стихийные бедствия (см.:
Зеленин, 1916; Зеленин, 1917), то есть приводит к тем же
последствиям, что и матерная ругань14.
32
Соответственно, отношение матерной брани к земле, ее
направленность на землю может реализоваться в плане, так
сказать, могильной семантики, т.е. в соотнесении с культом
мертвых. Поскольку земля воспринимается как место обитания
предков («родителей»), культ земли непосредственно смыкается
вообще с культом предков. Очень характерно, например,
убеждение, что матерщина тревожит покоящихся в
земле «родителей»; ср. уже цитированное выше полесское
поверье: «Як ругаецца, пад табой зямля гарыть, ты трогает з
зямли мать, з таго свету мать ты трогаеш, ана ляжыть, а ты
трогаеш...» (Полесский архив: Брянская обл., Стародубский р-н,
дер. Картушино, 1982 г.); совершенно так же могут считать,
как мы видели, что тот, кто бьет по земле, бьет по животу свою
мать на том свете (Мошинский, II, 1, с. 510—511). Это, в
сущности, реализация одного и того же общего представления, в
основе которого лежит соотнесение культа земли и культа
предков. Еще более показательны сербские ругательства с
упоминанием мертвой матери ()е6ем ти мртву ма}ку). Между тем
Олеарий, приводя русское матерное ругательство (которое он
транскрибирует как butzfui mai), дает немецкий перевод,
который дословно не соответствует приводимому ругательству, но
обнажает его смысл: «ich schende deine Mutter ins Grab»
(Олеарий, 1656, с. 191; ср.: Олеарий, 1647, с. 130, а также:
Олеарий, 1906, с. 187 — русский перевод A.M. Ловягина не
вполне точен в этом месте). Как видим, в немецком тексте
прибавлены слова «...ins Grab» («...в могилу»), отсутствующие в
исходном русском выражении. Олеарий, видимо, воспользовался
услугами своих русских информантов, которые и объяснили ему
смысл данного выражения. Не исключено вместе с тем, что
немецкий перевод относится к более распространенной русской
конструкции, нежели та, которую цитирует Олеарий.
Необходимо иметь в виду в этой связи, что могильные ассоциации
матерщины очень выразительно проявляются при распространении
основного (трехчленного) матерного выражения — так, к
основному ругательству прибавляются слова в могилу или в крест,
через семь гробов и т.д. и т.п. Эту могильную символику
матерного ругательства следует понимать ввиду соотнесенности
матерщины с Землей — именно, как возможную конкретизацию
этого общего соотношения.
Отсюда объясняется и характерное уподобление матерной
брани заупокойному поминанию, ср., в частности, помянуть
родителей как эвфемистическое выражение, означающее
матерно выругаться', а также специфические характеристики
2 Анти-мир русской культуры
33
крепкой матерной брани, так или иначе связанные с темой
мертвеца, типа мертвый очнется и т.п.; такое же уподобление
встречаем и в «Службе кабаку», ср. здесь: «...вместо понахиды
родитель своих всегда поминающе матерным словом» (Адриа-
нова-Перетц, 1977, с. 50).
Иллюстрацией к сказанному может служить исключительно
любопытное дело «О неподобных и сквернословных делах ко-
ломнятина Терешки Егина» (1668—1675 гг.), дошедшее до нас
в составе судного дела Иосифа, архиепископа Коломенского.
Дело о Терешке Егине дает вообще ценный материал
относительно функционирования матерной брани и ее возможных
семантических актуализаций. Приказные, ведущие допрос, не
могли воспроизвести матерную брань, то есть сами тексты (в
силу табуированности выражений такого рода), и вместе с тем
должны были передавать точный смысл сказанного, как того
требовала судебная практика; в результате мы имеем
своеобразный перевод матерной брани, как она воспринималась в ту пору,
на языке смысла — перевод, при котором обнажается то
значение, которое было тогда очевидным или актуальным, но
которое могло быть в дальнейшем утеряно; это создает поистине
уникальные возможности для интерпретации интересующих нас
выражений.
Здесь читаем: «И Борис сказал: в нынѣшнем де во 176-м
году... была де у него Бориса с ним Терентьем на Коломнѣ в
съѣзжей избѣ очная ставка, а на очной де ставкѣ слался он
Борис на его Терешкину кожу в его воровствѣ; и он Те-
решка на очной ставкѣ говорил и сквернил свою кожу и
кости матерны своими словами, и мать он свою родную
матерными словами тѣм с[к]вернил погаными. И в том истец и
отвѣтчик имались за вѣру... истец слался в том, что де тот Те-
рентей кожу свою и кости свои, мать свою сквернил
словами и бранит матерны себя, на осадного голову Стефана
Ѳедорова сына Селиверстова да съѣзжіе избы на подьячего
Игнатья Ѳедотова. И отвѣтчик Терентий в том на осадного
голову Стефана Ѳедорова, что Терешка кожу свою и
кости и мать свою не с[к]вернил и матерны себя не бранил...
слался ж; а на подьячего Игнатья он Терешка не слался»
(Титов, 1911, с. 77).
Совершенно очевидно, что слово кожа в первой фразе
репрезентирует сочетание кожа и кости, т.е. выступает именно как
компонент этого сочетания, как результат его компрессии.
Между тем выражение кожа и кости представляет собой
древнее фразеологическое единство (образовавшееся, по-видимому,
34
еще в индоевропейском праязыке), семантика которого
определяется, можно думать, представлением об облике мертвого
тела (отсюда вторичное значение худобы, крайней изнемож-
денности и т.п. в случае применения этого выражения к живому
человеку — ср. выражение живые мощи, где имеет место такой
же в Сочности семантический ход, то есть реализуется та же
метафора). Характерно вообще, что кость (кости) может
выступать в значении «останки, тело умершего», а также «род,
племя» (Срезневский, I, стлб. 1297—1298; Сл. РЯ XI—XVII
вв., VII, с. 373; СРНГ, XV, с. 87; Даль — Бодуэн, II, стлб.
452); соответственно, шевелить мертвые кости означает
'поминать усопших' (СРНГ, XV, с. 88). Последнее выражение
имеет непосредственно отношение и к клятве костьми, т.е.
прахом родителей, ср., например, характерное предупреждение
против лжесвидетельства в случае клятвы такого рода: «Не
шевели даром костьми родителей! :— говорит свидетель
[подобной клятвы]. — Страшна мука за мертвых!» (Макаров,
1828, с. 197). Отсюда костить означает 'бранить' (Макаров,
1846—1848, с. 127), коститься 'браниться, ругаться' (СРНГ,
XV, с. 75) и т.д.15.
Итак, выражение кожа и кости в цитированном тексте
относится к останкам, трупу. Вместе с тем осквернение «кожи и
костей» матерной бранью понимается как осквернение родной
матери — это прямо расшифровывается в тексте: «...сквернил
свою кожу и кости матерны своими словами, и мать он свою
родную матерными словами тем сквернил погаными... кожу свою
и кости свои, мать свою сквернил» и т.п. — то есть речь идет о
трупе матери, о кощунственном осквернении родительского
праха. Одновременно в данном тексте с предельной ясностью
указывается на то, что матерная брань, в сущности, обращена
на самого говорящего (ср. в особенности конструкцию:
«...бранит матерны себя»); матерная брань, оскорбляя родителей
говорящего, оскорбляет тем самым и его самого как
представителя и продолжателя рода — можно сказать, таким образом,
что в данном случае реализуется представление о человеке в его
филогенетической сущности, в его отношении к роду. Это —
одна из возможных семантических актуализаций матерной брани.
И в других судных делах можно встретить указания на то, что
матерная брань направлена на оскорбление рода, ср., например:
«Стояли они [свидетели] на площади против города и то слышали,
Иван Ратаев... с Тимохою Ивановым бранились... а тот... Тимоха
Ивана Ратаева лаял всякою неподобною *лаею ма-
терно с тѣм кто де тебя родил со всѣм родом»
2*
35
(АМГ, I, с. 179, № 154, 1622 г.). Соответственно, в одном из
вариантов рассмотренного выше (в § ИМ) поучения против
матерщины мы читаем: «Тѣм же скверным словесем скорбь велію
прародителем своим сотворяет человѣк» (Марков, 1914, с. 25).
Именно в этом смысле следует понимать, по-видимому,
цитированные выше (§ Н-2) древнерусские тексты, где говорится, что
матерщина обесчестит отца и мать — во всех этих случаях
речь идет, по-видимому, об оскорблении рода, то есть в
конечном счете о представлениях, связанных с культом предков.
6. С тем же комплексом представлений может быть связано и
характерное поверье, что в результате матерной брани земля
пдоваливается, опускается и т.п., ср., например:
«ИесѴи мът'ирком зърууаисѴи, на тр'и аршина з'имл'а
н'ижъит'», то есть 'Если матерно выругаешься, земля на три
аршина oпycтитcя, (Деулинский словарь, 1969, с. 290, 343).
Дальнейшее развитие этой темы мы имеем в уже цитированной
полесской записи, где это представление связывается с культом
Богородицы: «Матерна ругацца грех, ты мать сыру землю
ругает, патаму шта мать сыра земля нас дэржыть, матерь Гасподня
у землю уежжае, праваливаецца ат етай ругани...»
(Топорков, 1984, с. 231, № 9).
Совершенно очевидно, что в основе подобных высказываний
лежит представление о том, что земля раскрывается,
размыкается, разверзается, разваливается от
матерного ругательства. Это представление может приобретать
космические масштабы, то есть описываться как мировой катаклизм, что
мы и наблюдаем в цитированных выше (§ ИМ) текстах: как мы
видели, с матерной бранью устойчиво связывается мотив
землетрясения, потрясения земли, которое воспринимается как закономерное
и неизбежное следствие матерщины (ср. еще: «Ат дурнэй брани
мать сыра зимля здриганетца» — Добровольский, III, с. 116).
Ввиду отождествления Земли и Богородицы, это представление
естественно переносится и на Богородицу, ср.: «Аще который день
человѣк матерно ругается... земля потрясется и мать Божія на пре-
столѣ вострепещется» (Шереметев, 1902, с. 58; ср. также:
Родосский, 1893, с. 426; Марков, 1914, с. 29, 30, 32, ср. с. 25);
Един человек одноважды в день по-матерну избранится, —
Мать сыра земля потрясется,
Пресвятая Богородица с престола сотранётся.
(Успенский, 1898, с. 180; ср.:
Бессонов, VI, с. 71-72, №564)
36
Соответствующие высказывания о Земле и о Богородице, в
сущности, выступают как синонимичные — одно дополняет другое.
В предельном случае это представление может принимать
эсхатологический характер, то есть непосредственно
смыкаться с представлениями о конце света и Страшном суде.
Когда протопоп Аввакум в своем толковании на XLIV псалом
говорит о Никоне и его сторонниках: «Богородицу согнали
со престола никоніяня-еретики, воры, блядины дѣти»
(РИБ, XXXIX, стлб. 458) — он описывает, в сущности,
конец света, конец Святой Руси, бывшей (после падения
Византии) единым оплотом православия во вселенной; характерным
образом это описание совпадает с описанием катастрофических
последствий, вызываемых матерной бранью, — в обоих случаях
реализуются эсхатологические представления.
Совершенно так же мотив потрясения земли является
обычным мотивом в духовных стихах о Страшном суде;
одновременно здесь же говорится об огненной реке, пожирающей
всю тварь земную, и о пробуждении мертвых (см.: Бессонов, V,
с. 65—104, №441—449, 451—467, ср. также с.116, 118,
125, № 474, 475, 478). Ср., например:
Плачем, возрыдаем,
На смертный час погибнем!
Да будет последнее время:
Тогда земля потрясётся,
И камени все распадутся,
Пройдёт река огненная,
Пожрёт она тварь всю земную.
Архангелы в трубы вострубят
И мёртвых из гробов возбудят:
И мёртвые все восстанут,
Во един лик они будут.
(Бессонов, V, с. 88-89, Mq 458)
Земля потрясется з гласа трубного,
Не терпя страха того дня судного,
И стихии все, от тоего места
Подвигшися будут, якоже невеста.
(Бессонов, V, с. 102, № 467)
В последнем стихе, видимо, имеется в виду потрясение как
земли, так и отождествляемой с ней Богородицы («невесты»),
Ср. еще:
37
что в точности соответствует представлениям о последствиях
матерной брани. Вообще духовные стихи о матерной брани и о
Страшном суде обнаруживают разительную близость, что очень
наглядно проявляется в их названиях: так, стих о матерщине
может называться стихом «О Страшном суде» (см., напр.: Ва-
ренцов, 1860, с. 159—160) и наоборот — стих о Страшном
суде может именоваться стихом «О матерном слове» (см.,
напр.: Ржига, 1907, с. 66).
Сближение представлений о матерной брани с
эсхатологическими представлениями объясняет и характерное поверье, что от
матерного слова земля горит, ср. полесские свидетельства,
которые по другому поводу мы уже отчасти цитировали выше:
«Грэшно ругацца, сквэрняеш матэрь Божыю и мать сваю и
землю. Вабшчэ нельзя ругацца — ты прасквярнил зямлю,
зямля пад табой гарыть»; «Як ругаецца, пад табой
зямля гарыть, ты трогаеш з зямли мать, з таго свету мать
ты трогаеш...» (Полесский архив: Брянская обл., Стародубский
р-н, дер. Картушино, 1982 г.); «Пад нами земля
гарыть: матки валим — матку родную ругаэм. Мы матку сыру-
землю праругаэм»; «Зямля гарыть ат нашых ело у, и
буде гарэть, пакуль не правалица. Гаварять, што
ана гарыть на тры [километра]: „Ат вас, сукины дети, земля
гарыть тры кыламетрыГ А ана па калены ужэ гарыть»;
«Зямля ат жэншчын гарыть, ат таго, што жэншчыны
ругаюца: „А идрить тваю налева", „А ядять тваю мухи", „Елки
зялёные"» (Топорков, 1984, с. 232, № 16, 17, 15). Образ
земли, которая горит вследствие беззаконий человеческих, мы
встречаем и в духовных стихах о Страшном суде:
Загорится мать сыра земля,
Совершится земля на тридевять локоть,
За наше велико согрешение,
За наше велико беззаконие.
(Бессонов, V, с. 159, № 485, ср. с. 157,
№ 484, с. 154, № 483; Варенное,
1860, с. 154)
Загорится матушка сыра земля:
Со восхода загорится до запада,
С полуден загорится да до ночи.
И выгорят горы со раздольями,
И выгорят лесы темные.
(Бессонов, V, с. 122, Л6 477)
38
Итак, образ горящей земли воплощает в себе представление
о конце света. Образ этот непосредственно связан с поверьями
об огненной реке, текущей в день Страшного суда (ср. об
огненной реке: Успенский, 1982, с. 58—59, 143—144).
Эсхатологические последствия матерной брани очень выразительно
описываются в духовном стихе «О матерном слове» (частично
уже цитировавшемся), где фигурирует как огненная река, так и
колебания матери земли:
Вы, народ Божий-православный,
Мы за матерное слово все пропали,
Мать Пресвятую Богородицу прогневили,
Мать мы сыру-землю осквернили;
А сыра-земля матушка всколебается,
Завесы церковныя разрушаются,
Пройдет река к нам огненная,
Сойдет судия к нам праведная.
(Ржига, 1907, с. 66)
Мы видим, Что последствия матерной брани могут описываться
в эсхатологических терминах, дословно совпадая с описанием
Страшного суда.
Необходимо отметить, что как мотив раскрытия земли, так и
мотив огненной реки обнаруживает определенную связь с более
общими мифологическими представлениями, прежде всего — с
мифом о Громовержце. Соответственно, в духовных стихах «О
Страшном суде» мы находим иногда описание того, как гром
поражает землю — размыкание земли и огненная река
предстают при этом именно как последствия громового удара:
Подымутся с неба волменский [молненный] гром,
Волменский петры [?] гром трикающий [?]
Приразит народу много грешного ко сырой земле,
Росшибет мать сыру землю на две полосы.
Роступится мать сыра земля на четыре четверти;
Протечет грешным рабам река огненна
От востоку солнца до запада,
Пламя пышет от земли и до небеси...
(Варенцрв, I860, с. 167; Бессонов, V,
с. 134—135, M 478, вариант)
Мотив раскрытия, размыкания земли типичен и для
похоронных причитаний; соответственно, и в этих текстах раскрытие
земли может связываться с громовым ударом:
39
Расшиби-ко ты, Громова стрела,
Еще матушку — мать сыру землю.
Развались-кось ты, мать сыра земля,
На четыре все сторонушки...
(Агренева-Славянская, III, с. 62)
Показательно в этом смысле и полесское поверье, где
громовой удар связывается как с раскрытием, так и с
оплодотворением земли: «И пака не вазбуде гром зямли, то дошч не пойде.
Як гром да маланья — земля же движэца, раствараэца. И пай-
дёт дошч» (Топорков, 1984, с. 230—231, №5)16.
Мы можем констатировать, что матерная брань и громовой
удар предстают как функционально эквивалентные явления,
которым приписываются одни и те же последствия. В этом смысле
представляется неслучайной ассоциация матерщины с грозой или
громом, которая была отмечена выше (§ II-3). Эта ассоциация
становится более или менее понятной, если видеть в громовом
ударе, раскрывающем («расшибающем») землю, отражение
представлений о супружеских отношениях между небом и
землей (см. выше, § ІІІ-З); ср. в этой связи поверье о весеннем
размыкании земли во время первого грома (Успенский,
1982, с. 146—147), которое воспринимается, в сущности, как
необходимое условие беременности земли, разрешающейся
в конце концов урожаем. Соответственно, как матерная брань,
так и громовой удар может символизировать представление о
совокуплении с землей (понимаемой как женский организм), что
и обусловливает их ассоциацию. Мотив совокупления с землей и
мотив освобождения из земли, вообще говоря, связаны друг с
другом: в обоих случаях реализуется представление о раскрытии,
размыкании земли. Отсюда образ громового удара,
раскрывающего землю, появляется в похоронных причитаниях и в
духовных стихах о Страшном суде: тема пробуждения мертвых
ближайшим образом соответствует при этом представлению о
том, что матерная брань тревожит мертвецов (см. выше,
§ Ш-5).
7. Полученные выводы позволяют связать матерную брань с
целым рядом других ругательств или проклятий. Так, например,
представление о том, что земля проваливается под
воздействием матерного слова, определенно соотносит матерные
ругательства с такими ругательствами-проклятиями, как «Провал
тебя возьми!», «Провалиться бы тебе в тартарары!»,
«Провалиться мне на этом месте!», «Каб я скрозь зямли
40
проваліуся!» и т.п. (Даль — Бодуэн, III, стлб. 1230—1231;
Макаров, 1828, с. 187, примеч. 7; Иваницкий, 1890, с. 11;
Шейн, И, с. 512, 515; Добровольский, III, с. 37; Гринблат,
1979, с. 197, 198, 208, 219, 220,; ср. еще: Номис, 1864,
№ 3792, 6761; Гринблат, 1979, с. 223, 226). Совершенно так
же представление о том, что земля горит от матерной брани,
соотносит матерщину с таким проклятием, как «Щоб під ним и
над ним земля горіла на косовий сажень!» (Номис, 1864,
№ 3795; Афанасьев, I, с. 142), тогда как представление, что
земля трясется от матерного ругательства, находит
соответствие в пожелании: «О, щоб над тобою земля (за)тряслась!»
(Номис, 1864, № 3796; Афанасьев, I, с. 142). Отсюда же
может объясняться и такое украинское и белорусское
ругательство, как «трясця твоей матері» («трасца тваёй мацеры»,
«трасца твае матары» — см., например, Сержпутовский, 1911,
с. 57; Гринблат, 1979, с. 235). Слово трясця означает
лихорадку, однако внутренняя форма этого слова обусловливает
включение соответствующего ругательства в сферу матерной
брани; соотнесение с матерщиной особенно наглядно проявляется
в таком аграмматическом выражении, как «трясця твою матерь»
(ср. в «Страшной мести» Гоголя в сцене безумия Катерины: «А
хто мене не полюбить трясця его матерь!»), в котором можно
усматривать контаминацию двух ругательств — основного
(традиционного) матерного ругательства и насылания
лихорадки.
Поскольку матерщина ассоциируется с громовым ударом,
отражая в конечном счете миф о Громовержце и о супружеских
отношениях между небом и землей, в более далекой перспективе
матерное ругательство оказывается возможным соотнести с
ритуальным призыванием грома, выражающимся в проклятиях
типа «Разрази тебя гром!» (Афанасьев, I, с. 251; Афанасьев, III,
с. 505; Иванов и Топоров, 1965, с. 13; Добровольский, III,
с. 37; Добровольский, 1905, с. 297; Сержпутовский, 1911,
с. 58, 59; Гринблат, 1979, с. 200, 212, 222, 224, 225, 239,
240), ср. также «Соньце-б тя побило!», «Убей мяне соунца
провидныя!» и т.п. (Афанасьев, I, с. 69, 251; Номис, 1864,
№ 3666; Добровольский, 1905, с. 297). Характерны в этом
смысле белорусские проклятия, где гром, подобно матерной
брани, вызывает трясение: «Каб цябе пярун трас [или: забіу]!»
(Гринблат, 1979, с. 225).
Как известно, формы проклятия определяют обычно характер
клятвы: древнейшая клятва была, в сущности, самопроклятием,
т.е. обречением себя в жертву, призыванием на себя кары в
41
случае нарушения обета; не случайно слова, обозначающие
клятву и проклятие, образуются у славян от одного корня (Клингер,
1911, с. 32—33) и глагол клясться может иметь значение
'проклинать' (СРНГ, XIII, с. 335). Поскольку матерная брань
может выступать в функции проклятия (а также заклятия),
соответствующие выражения кажется возможным связать с
клятвой землей, хорошо известной по многочисленным
этнографическим описаниям (см. вообще о клятве землей:
Афанасьев, I, с. 146—149; Максимов, XV, с. 311, 314; Максимов,
XVIII, с. 263—267; Смирнов, 1913, с. 274—275; Перетц,
1929, с. 919—921). Этнографические свидетельства, сообщая
подробные сведения относительно ритуалов, сопровождающих
клятву землей (кладут землю на голову, берут ее в рот или в
руку, едят землю, кусают ее, целуют землю и т.п.), не дают
сколько-нибудь четких указаний относительно самой клятвы, то
есть ее словесного выражения; можно предположить, таким
образом, что матерное ругательство в одной из своих функций и
представляло собой подобную формулу.
Наконец, рассмотренный материал позволяет связать
матерщину с богохульством, широко представленным в
западноевропейских (романо-германских) ругательствах; ярким
примером могут служить хотя бы итальянские ругательства, где в
соответствующих выражениях хулится непосредственно
Богородица (типа Madonna puttana или Madonna troia и т.п.).
Иностранные наблюдатели, посетившие Россию в XVI—XVII веках,
специально отмечают, что богохульство для русских
нехарактерно, но что вместо этого они (русские) используют матерные
выражения. По словам Герберштейна, русские «в клятвах и
ругательствах редко употребляют имя Божие... Общепринятые их
ругательства наподобие венгерских...»; и далее приводится (в
переводе) матерное выражение, употребительное как у русских,
так и у венгров (Герберштейн, 1557, л. 43об.; ср.: Герберштейн,
1557а, л. G/4; Герберштейн, 1908, с. 62; см. также ниже, §
ІѴ-2). То же говорит и Олеарий: «При вспышках гнева и при
ругани они не пользуются слишком, к сожалению, у нас
распространенными проклятиями и пожеланиями с именованием
священных предметов, посылкою к черту... и т.п. Вместо этого у
них употребительны многие постыдные слова и насмешки,
которые я никогда бы не сообщил целомудренным ушам, если бы
того не требовало историческое повествование»; далее следуют
примеры русских ругательств; в основном матерных (Олеарий,
1656, с. 191; ср.: Олеарий, 1647, с. 130; Олеарий, 1906,
с. 187). В свете вышесказанного совершенно очевидно, что те и
42
другие выражения — западноевропейские (богохульные) и
славянские (матерные) — могут быть одного происхождения, то
есть восходить к общему источнику. В самом деле, и русская
матерная брань, как мы видели (см. § III-1), может
восприниматься как оскорбление Богородицы, поскольку представления о
Богородице связываются с культом Матери Земли; иначе
говоря, исходная идея об оскорблении Матери Земли, лежащая в
основе матерного ругательства, переносится на Богородицу. Об
этом очень определенно говорится в некоторых вариантах
духовного стиха «Пьяница»:
Не велено матерным словом избраняться
Ни мужеску полу и ни женскому:
Браним мы, скверним и поносим
Пресвятую Богородицу.
(Бессонов, VI, с. 98, Мя 572)
Пьяница матерним словом сквернится,
Бранится-ругается,
Он и не мать бранёт и ругает,
А по каждый час
Пресвятую Богородицу порицает...
(Бессонов, VI, с. 107, Л& 575)
О том же говорится и в стихе «Трудник»:
Матерныим словом не бранитесь:
От матерного слова мы погибаем,
Мать Божию мы прогневляем.
(Бессонов, VI, с. 162, Л& 593)
Ср. также полесскую запись: «Багародица плачэ, што матку
сваю ругаэш. А ругаюца — Багародицу ж ругают, и у Хрыста,
и у Бога ругаюца. И у Хрыста, ы у Закон, ы у Багародицу
ругаюца: „Мать тваю такую, Багародицу", — и у Бога. Паэто-
му праругали ужэ Матэр Божаю, Багародицу» (Топорков,
1984, с. 231, № 12).
Итак, на основании произведенного анализа оказывается
возможным установить семантические связи матерных
выражений с целым рядом других ругательств или проклятий, как
славянских, так и иноязычных.
43
IV. СУБЪЕКТ ДЕЙСТВИЯ В МАТЕРНОМ
ВЫРАЖЕНИИ: СВЯЗЬ С МИФОЛОГИЕЙ ПСА
1. Мы рассматривали объект действия в матерном
выражении. Этот объект непосредственно обозначен, назван в
тексте — словом мать, — и задача состояла, следовательно, в
определении первичных (исходных) семантических связей,
глубинной семантики, скрытой в данном названии; как было
показано, это название первоначально относилось к Матери Земле.
Напротив, субъект действия, как правило, явно не выражен в
матерной фразеологии, и создается впечатление, что он вообще
может актуализовыватъся различным образом.
Русский мат в настоящее время знает три основных варианта
ругательства (ср.: Даль — Бодуэн, I, стлб. 1304; Исаченко,
1965, с. 68), которые различаются по форме глагола: каждый
вариант состоит из трех лексем — одних и тех же, — причем
две последние лексемы всегда представлены в одной и той же*
форме, образуя стандартное окончание (...твою мать), тогда
как форма первой лексемы (глагольной) варьируется. Здесь
могут быть следующие возможности:
A. Личная форма глагола (еб...). Это, бесспорно, форма
прошедшего времени; но какая именно? С наибольшей
вероятностью она может быть опознана как форма перфекта, одинаковая
для всех трех лиц; в этом случае она не содержит конкретного
указания на лицо субъекта действия, но в данном контексте она
может соотноситься либо с 1-м, либо с 3-м лицом ед. числа (об
этом со всей определенностью говорит форма притяжательного
местоимения твою — в случае 2-го лица ожидалась бы форма
свою). Вместе с тем в принципе можно предполагать здесь и
старый аорист (типа ид); в этом случае мы имеем форму 1-го
лица ед. числа.
Б. Форма императива (ебм...), которая, вообще говоря,
предполагает либо 2-е, либо 3-е лицо ед. числа, но не 1-е; в
сочетании с местоименной формой твою (а не свою) более
естественно предположение о 3-м лице субъекта действия.
B. Форма инфинитива (emu...), то есть неличная форма; в
данном случае мы вообще не располагаем какой бы то ни было
информацией о лице субъекта действия.
Между тем в южнославянских языках преимущественно
употребляется глагольная форма 1-го лица ед. числа настоящего
времени, хотя соответствующий глагол может выступать и в 3-м
лице. Подобная форма (1-го лица ед. числа настоящего
времени) в свое время возможна была, кажется, и в русском языке,
44
насколько об этом можно судить по записям иностранцев: так,
Олеарий цитирует выражения butzfui mat или but(z)fui matir
(Олеарий, 1656, с. 190, 191), butfui matir (Олеарий, 1647,
с. 130), а также je butzfui mat (Олеарий, 1656, с. 191, 195)
или ja butfui matir (Олеарий, 1647, с. 125); при этом форма^
but(z)fui mat (matir) переводится «ich schende deine Mutter...»
(Олеарий, 1647, с. 130; Олеарий, 1656, с. 191), или «ich
schende dire...» (Олеарий, 1647, с. 130) (ср. также: Олеарий,
1906, с. 186, 187, 192, 546, 547).
В западнославянских языках возможна как форма 1-го лица
настоящего времени (например, в словацком), так и форма 3-го
лица прошедшего времени (например, в польском).
Итак, славянские языки не дают вполне четких показаний
относительно того, с каким лицом соотносилась глагольная
форма.
2. Кто же мыслился как субъект действия в матерном
выражении? Для решения этого вопроса А.В. Исаченко привлек
исключительно ценное свидетельство Герберштейна (см.:
Исаченко, 1965). Говоря о русской матерной брани, Гербершнейн
отмечает, что русские ругаются на венгерский манер, и приводит
само ругательство в латинском переводе: «Blasphemiae eorum,
Hungarorum more, communes sunt: Cam's matrem tuam subagitet,
etc» (Герберштейн, 1557, л. 43об.), т.е.: 'Общепринятые их
ругательства наподобие венгерских: Чтоб пес взял твою мать,
и проч.'; ср. в немецкой версии сочинения Герберштейна:
«...schelten gemaingclichen nahend wie Hungern, das dir die hund
dein Muetier unrainigen» (Герберштейн, 1557a, л. G/4). Как
указывает Исаченко, латинская форма конъюнктива (subagitet)
имеет значение пожелания или побуждения, которое в исходном
русском тексте могло быть выражено формой императива или
инфинитива (Исаченко, 1965, с. 70).
Итак, субъектом действия в полной форме матерного
ругательства оказывается пес (canis). Дошедшие до нас формы
русских ругательств предстают как усеченные, что в какой-то мере
и обусловливает их многозначность. Это, во всяком случае,
можно утверждать для выражений с глаголом в императиве или
инфинитиве; что же касается выражения с глаголом в личной
форме прошедшего времени, то здесь, вообще говоря, остается
возможность соотносить его и с субъектом в 1-м лице.
Тезис о том, что именно пес является возможным (а может
быть, единственным) субъектом действия в матерном
выражении, представляется совершенно бесспорным; выводы Исаченки,
45
сделанные на русском материале (он почти не выходит за его
рамки), находят яркое и вполне достоверное подтверждение в
других славянских языках. Они подтверждаются прежде всего
древнейшими документально зарегистрированными формами
матерной брани, представленными в южно- и западнославянских
текстах начала XV века, а именно в болгаро-валашской грамоте
1432 года (дл м# еве пьс женл и млтере мХ — Богдан, 1905,
с. 43, № 23; Милетич, 1896, с. 51, № 12/302) и в польском
судебном протоколе 1403 года (cze pesz huchloscz, т.е. 'niech ciç
pies uchlosci' — Брюкнер, 1908, с. 132); см. об этих текстах
выше, § И-4. В обоих случаях пес назван в качестве субъекта
действия, и то обстоятельство, что показания древнейших
источников согласуются со свидетельством Герберштейна, никак
нельзя признать случайностью. Подобные же формы матерной
брани широко представлены и в современных южнославянских и
западнославянских языках, ср., например, болг. еба си куче
майката, сербск. )ебо (=}ебао) те пас или польск. jebai ciç pies
(такого рода форму цитирует и Исаченко, 1965, с. 70); такая
же форма, наконец, зафиксирована и в белорусском, т.е. *
восточнославянском языке (ебау его пес — Сержпутовский, 1911,
с. 56).
Наконец, отражение той же фразеологии необходимо видеть
и в таких ругательствах, как польск. psia krew (ср. также:
psubrat, psia jucha, psia dusza, psia para, psia kosc, psi syn, psi
narôd, psie pokolenie, psie lajno, psie miçso, psia noga и т.п.)17 или
рус. песий род (ср. также: песья лодыга), болг. кучешко семе
(ср. также: кучешко племе). Выражения такого рода Могут
непосредственно связываться с матерью, ср. польск. psia ci mac
byia (Франко, 1892, с. 756) или psia ciç mac, psia mac
(Карлович и др., V, с. 412; Дорошевский, VII, с. 685);
последнее выражение, по-видимому, соотносится с jebana mac. С тем
же комплексом представлений опосредствованно связано,
очевидно, и такое выражение, как сукин сын. Характерно, в этой
связи, что в Полесье «сукиным сыном» называют того, кто
матерится, ср. отклики на матерную брань, зарегистрированные в
данном регионе: «Сукин сын, сучку кручонаю ругаэш, ты матку
сваю ругаэш, а не мяне. Ай, матку тваю такую!», ср. также:
«Сукин ты сын, матку сваю ругаэш сучку кручанаю!» или
«Сукина доч, скулу б юй, што сукина сына радила!» (Топорков,
1984, с. 231, № 13; скула — 'чирей'). Связь женщины с псом
как бы превращает ее в суку; при этом, поскольку матерная
брань соотносится вообще с матерью говорящего (см. выше,
§ Ш-2, Ш-5), говорящий сам оказывается «сукиным сыном».
46
3. Итак, матерное ругательство может соотноситься —
эксплицитно или имплицитно — со псом как субъектом действия. Но
наряду с этим мы имеем ясные указания, что субъект действия
может мыслиться и в 1-м лице.
Как это понимать? И как согласовать эти факты?
Разгадку находим в том же древнерусском поучении против
матерщины («Повесть св. отец о пользе душевней всем
православным христианом»), в котором засвидетельствована связь
матерной брани с культом Матери Земли и которое мы
специально рассматривали выше (см. § III-1). В этом поучении
матерной брани приписывается песье происхождение: «И
сія есть брань песія, псом дано [по другому списку: дана] есть
лаяти, христіаном же отнюд подобает беречися от матерна
[слова]» (Родосский, 1893, с. 425—426; ср.: Марков, 1914,
с. 28; ГБЛ, Больш. № 88, л. 42; ГБЛ, Больш. № 322, л.
34об.; ГПБ, Погод. № 1603, л. 461об.; ИРЛИ, Латг. № 79,
л. ІЗОоб.; ИРЛИ, оп. 24, № 102, л. 11). Ср. еще: «А сія
бран[ь] псом дана есть, а не православным хрстьяном» (ГБЛ,
Больш. № 422, л. 382об.); «Дано бо есть псом лаяти, понеже
бо таковіи скоти на то учинени суть; нам же православным
христіаном, отнюд таковаго дьяволя злохитрьства и сквернаго
материя лаянія довлѣет всячески хранити себе» (Марков, 1914,
с. 24); «А сия брань псом дана лаеть; а православным
христианом отнюд беречися подобает от таковаго матернаго слова»
(ГИМ, Вахр. № 453, л. 2; ср.: Марков, 1914, с. 32; ИРЛИ,
Северодв. № 410, л. 44об.; ИРЛИ, Лукьян. № 2, л.
288об.)18. В менее ясных выражениях о том же говорится и в
апокрифическом слове о матерной брани, с которым явно
связано по своему происхождению сейчас цитированное поучение:
«Глаголет Господь пречистыми Своими устами: аще кто во имя
Мое вѣрует, тому человѣку не подобает матерно бранится, ибо
оное слово, писаніе глаголет, псіе лаяше, который лается во
всякое время, а вы человѣцы» (Шереметев, 1902, с. 58; см.
вообще об этом тексте в § III-1 настоящей работы)19.
То же представление отразилось и в глаголе лаять, который
означает как 'latrare (лаять, брехать — о собаке)', так и
'maledicere, objurgare (бранить, ругать — о человеке)'; связь
этих значений прослеживается и в других славянских языках, а
также в греческом, латинском, санскрите (ср.: Фасмер, И,
с. 468—469; Потебня, 1914, с. 157), и есть все основания
полагать, что данная метафора относится к очень ранней стадии
языкового развития — во всяком случае, она, бесспорно, была
уже в праславянском20. Оба значения представлены и в других
47
глаголах, относящихся к собачьему лаю, — таких, например,
как брехать, брешить, гавкать, звягать и т.п. (Даль — Бо-
дуэн, I, стлб. 312, 1682); СРНГ, III, с. 178; СРНГ, VI, с. 84;
СРНГ, XI, с. 225). Мы вправе считать, что второе из этих
значений связано прежде всего именно с матерной бранью и
лишь опосредствованно — с бранью вообще. Таким образом, в
семантике глагол лаять и его синонимов выражена, в сущности,
та же мысль о том, что матерная ругань представляет собой не
что иное, как песий лай; это отождествление человеческой и
песьей речи в одном случае выражается в языке (будучи
закреплено в значении слова), в другом — в тексте (будучи
предметом специального рассуждения на эту тему).
Совершенно так же глагол собачитъ(ся) выступает в
значении 'бранить(ся) непристойными словами' (Подвысоцкий, 1885,
с. 160); ср. также собачливый как эпитет матерщинника21,
Обругай как собачью кличку (Потебня, 1914, с. 158) и т.п.; и в
этом случае поведение псов отождествляется с поведением
людей, которые матерно ругаются. Между тем в южнославянских
языках в значении 4бранить(ся), ругать(ся)' выступает глагол
типа серб.-хорв. псовати(се)', по-видимому, совпадающий по
своей внутренней форме с глаголом собачить(ся); ср. серб.-
хорв. псовати ма']ку Материть', псовна, псоваьье, псовка,
псост 4(матеРная) брань, ругань, ругательство, etc/, псовач
'сквернослов* или болг. псу вам 'ругаться, сквернословить',
псувня '(матерная) брань, ругань, ругательство', псувач
'сквернослов* и т.п. Равным образом и в старопольском языке
был глагол psac 'ругать, бранить, оскорблять* (Сл. ст.-польск.
яз., VII, с. 389)22; показательно вместе с тем, что jebac и iajac
могут выступать в польском языке как синонимы, означая
'бранить, ругать' (Славский, I, с. 541). Дальнейшее
семантическое развитие нашло отражение, по-видимому, в польск. psuc sic
'портить'; аналогичное значение характерно и для рус. псить
(псовать) или собачить (Даль — Бодуэн, III, стлб. 1400;
Даль—Бодуэн, IV, стлб. 334; ср.: СРНГ, X, с. 364), так же
как и для нем. verhunzen (от Hund — Фасмер, III, с. 398).
Характерно, что укр. псувати означает как 'бранить', так и
'портить' (Гринченко, III, с. 496), подобно тому как и
рус. собачить объединяет оба этих значения, ср. еще
белорус, псуѳаць 'портить, вредить, губить; повредить чести и имени
стороннего' (Никифоровский, 1897, примеч. 35); между тем в
чешском языке psouti означает 'лаять', 'бранить' и 'портить'
(Сл. чешек, яз., IV, 2, с. 513). Такого же рода семантическая
эволюция представлена в кашубском, где jâbac означает
48
'портить' (Сыхта, II, с. 65); ср. в этой связи рус. просторечное
портить 'лишать невинности' (Акад. словарь, X, стлб. 1401).
Ср. еще польск. psota 'проказа, озорство': можно предположить,
что в основе данного слова лежит представление о беззаконной
сексуальной связи, которое и объединяет семантику данного
слова с общим значением матерного выражения23. Возможна,
впрочем, несколько иная трактовка приведенных форм (с корнем
пс-), согласно которой сближение их со словом пес имеет
вторичный характер (см. об этом ниже, § ІѴ-4.2, в связи с
обсуждением этимологии слова пес). Для нас достаточно
констатировать, во всяком случае, сам факт сближения такого рода.
Итак, матерная брань, согласно данному комплексу
представлений (которые отражаются как в литературных текстах, так
и в языковых фактах), — это «песья брань»; это, так сказать,
язык псов или, точнее, их речевое поведение, то есть лай псов,
собственно, и выражает соответствующее содержание. Иначе
говоря, когда псы лают, они, в сущности, бранятся матерно —
на своем языке; матерщина и представляет собой, если угодно,
перевод песьего лая (песьей речи) на человеческий язык. В этой
связи, между прочим, заслуживает внимания апокрифическое
сообщение о Симоне-волхве, помещенное в летописи под 1071
годом в контексте рассказа о языческих волхвах: «при апос-
толѣхъ... бысть Симонъ волхвъ, еже творяше волшьствомь
псомъ глаголати человѣчьскыи» (ПСРЛ, I, 1926,
стлб. 180). Имеется в виду Симон-волхв, упоминаемый в
«Деяниях апостолов» (VIII, 9—24), однако он явно
отождествляется в данном случае со славянскими языческими волхвами24.
Таким образом, языческим волхвам приписывается, по-
видимому, способность превращать песий лай в человеческую
речь; есть основания предполагать, что результатом подобного
превращения и является матерная ругань: связь матерщины с
языческим культом выступает вообще, как мы уже знаем, очень
отчетливо (см. выше, § Н-2). Наряду со свидетельствами о
превращении песьего лая rf человеческую речь, мы встречаем в
славянской письменности и свидетельства о противоположном
превращении; так, в Житии св. Вячеслава (по русскому списку)
читаем: «друзіи же изменивше чловѣческыи нравъ, пескы лающе
въ гласа мѣсто» (Сл. ст.-сл. яз., III, с. 522);25 ср.
белорус, проклятие: «Каб ты, дай божачка, на месяц брахау»
(Гринблат, 1979, с. 21 б)26. Итак, песий лай и человеческая речь
явно соотносятся (коррелируют) друг с другом, подобно тому,
как определенным образом соотносятся между собой собака и
человек27.
49
Отсюда именно объясняется возможность ассоциации
субъекта действия в матерном выражении как с 1-м лицом, так
и со словом пес: обе эти возможности не противоречат друг
другу. В самом деле, матерная брань — это «песья брань», т.е.
предполагается, что псы матерно бранятся, говоря о себе в 1-м
лице; между тем человек может либо повторять, воспроизводить
«песью брань», либо употреблять те же выражения, говоря о
псе в 3-м лице, то есть приписывая ему роль субъекта действия.
Таким образом, выбор между 1-м и 3-м лицом зависит, так
сказать, от точки зрения: матерное ругательство может
произноситься как от своего лица (с точки зрения человека — в этом
случае субъектом является пес, т.е. субъект действия мыслится в
3-м лице), так и от лица самого пса (с точки зрения пса — в
этом случае субъект действия мыслится в 1-м лице). В
последнем случае человек как бы имитирует поведение пса, «лает»
подобно тому, как лают псы.
Поскольку предполагается, что псы, когда лаются, матерно
бранят друг друга, обзывание «псом» может приобретать
особый семантический оттенок, ассоциируясь с матерной руганью
(«лаянием»). Ср. сообщение 1-й Новгородской летописи под
1346 годом: «Того же лѣта пріѣха князь великіи Литовьскіи
Олгерд, с своею братіею с князи и с всею Литовьскою землею,
и ста в Шелонѣ на усть Пшаги рѣкы, а позываа Новгородцев:
хощу с вами видитися [в других списках: битися], лаял ми
посадник вашь Остафеи Дворянинец, назвал мя псом»
(ПСРЛ, III, 1841, с. 83); ср. в Златоструе XII века: «аще ны
къто, имена кыдаіа, речеть: пьсе...» (Срезневский, II, стлб.
1778). Отметим еще в этой связи старопольское выражение psy
dawac 'aliquem cum contumelia canem apellare' (Сл. ст.-польск.
яз., VI, с. 118), ср. укр. вибрав му пса 'выругал, выбранил*
(Гринченко, III, с. 147), а также белорусский отзыв о
бранящемся человеке: «Ату! (или: Во сабачуга!) у яго са рта па саба-
ки скачуть» (Добровольский, III, с. 47; Добровольский, 1914,
с. 854); в подобных случаях может иметься в виду как прямое
обзывание псом, так и матерная брань постольку, поскольку она
ассоциируется с псом.
Восприятие пса как субъекта действия в матерном
выражении может объяснять мотив отсылки к собакам в разного
рода ругательствах, типа «Да ну его к собакам!» и т.п.
(Полесский архив: Черниговская обл., Репинский р-н, дер.
Великий Злеев, 1980 г.), ср. также выражение «Пес его знает»
(или соответствующее полесское «Воук его знае» — Полесский
архив: там же). Показательно, что цитированные фразеологизмы
50
коррелируют с такими же в точности выражениями, где на
месте слова пес (или собака) представлено непристойное слово со
значением 'membrum virile': соответствующие слова выступают в
одном и том же контекстном окружении, то есть замещают друг
друга, явно ассоциируясь по своему значению28.
3.L Соотнесение матерной брани с псом как субъектом
действия проявляется в ряде моментов, объединяющих восприятие
пса и матерщины. Так, например, подобно тому, как матерная
брань служит средством защиты от нечистой силы (см. § II-3),
собачий лай отгоняет демонов — соответствующие поверья
зарегистрированы, в частности, на Украине и в Белоруссии, а
также в Германии и Греции (см., например: Франко, 1892,
с. 757; Романов, IV, с. 89, № 51; Клингер, 1911, с. 251 —
252, 261); собачий лай часто сопоставляется при этом с пением
петуха, а также с колокольным звоном29. Вместе с тем по
южнославянским поверьям собака своим лаем пугает мертвецов
(Клингер, 1911, с. 261) — в точности так же, как матерная
брань тревожит покойников (см. § Ш-5).
Аналогичное восприятие матерной брани может проявляться
и в русских гаданиях, где лай собак предвещает замужество
(см., например: Смирнов, 1927, с. 65—66, 69, 71, № 390—
401, 458—459, 477; Никифоровский, 1897, с. 51, № 324,
326; Богатырев, 1916, с. 73; Добровольский, III, с. 9).
Богохульный характер матерной брани, эксплицитно
проявляющийся в распространениях основного матерного ругательства
(когда, например, слово мать распространяется в душу мать,
бога душу мать и т.д. и т.п. — Драммонд и Перкинс, 1979,
с. 20), согласуется с представлением о псе, лающем на Бога или
на небо (ср. укр. «Вільно собаці и на Бога брехати», польск.
«Wolno psu па Pana Boda szczekac», чешек. «Volno psu і па
Boha lâti» — Челаковский, 1949, с. 115, ср. с. 23; Адаль-
берг—Крыжановский, II, с. 913, № 354; ср.: Потебня, 1914,
с. 158; Номис, 1864, № 5190, 5191; Федеровский, IV, с. 269,
№ 7095; Гринблат, 1979, с. 289; Чубинский, I, с. 52—53). *
Наконец, мы имеем ряд свидетельств о том, что южные
славяне, а также венгры в тожественных случаях клялись
собакой (см.: Дюканж, II, с. 96, s.v.: per canem jurare; Лаш,
1908, с. 51);30 ср. греч. vrj или fié (та>) кйѵа 'клянусь
собакой Г31. Эти свидетельства заставляют вспомнить цитированное
сообщение Герберштейна, который указывает, что русские
бранятся так же, как венгры («Hungarorum more»), и в качестве
иллюстрации приводит бранную формулу именно с упоминанием
51
пса (Caw's matrem tuam subagitei): как мы уже отмечали,
функция клятвы непосредственно связана с функцией
проклятия, присущей вообще матерной брани (см. § III-7).
Показательно в этом смысле, что Стоглавый собор 1551 года
одновременно осуждает обыкновение клясться и лаяться, то есть
ругаться матерной бранью: «Иже крестіане кленутца и лаютца.
Кленутца именем божіим во лжу всякими клятвами и лаютца...
всякими укоризнами неподобными скаредными і бгомерскими
рѣчми еже не подобает хрестіаномъ, и во иновѣрцех таковое
бесчиніе не творитца, како богь тръпить нашемоу безстрашію»
(Стоглав, 1890, с. 67); оба действия предстают в данном
контексте как соотнесенные.
4. В наши задачи не входит сколько-нибудь подробное
выяснение причин, определяющих соответствующее восприятие пса;
детальное рассмотрение этого вопроса увело бы нас далеко в
сторону. Отметим только возможность ассоциации пса с змеем,
а также с волком: как змей, так и волк представляют собой
ипостаси «лютого зверя», то есть мифологического противника
Громовержца (ср.: Иванов и Топоров, 1974, с. 57—61, 124,
171, 203—204), и вместе с тем олицетворяют злое, опасное
существо, враждебное человеку (см. экскурс I).
Для нас существенно, во всяком случае, представление о
нечистоте пса, которое имеет очень древние корни и
выходит далеко за пределы славянской мифологии32. Это
представление о нечистоте, скверности пса очень отчетливо выражено,
между прочим, в христианском культе: пес как нечистое
животное эксплицитно противопоставляется святыне (ср. евангельское:
«не дадите святая псам» — Матф. VII, 6) и, соответственно,
оскверняет святыню. В христианской перспективе псы
ассоциируются с язычниками или вообще с иноверцами. Такое
восприятие прослеживается уже в Новом Завете (ср.: Матф. VII, 6;
XV, 26—27; Марк VII, 27—28; Откр. XXII, 14—15);
отсюда у русских и вообще славян слова пес или собака означают
иноверца, ср., в частности, устойчивое фразеологическое
сочетание собака татарин (Даль, 1904, II, с. 66), отразившееся и в
эпическом образе собаки Калина-царя (подробнее об этом
образе см.: Якобсон, IV, с. 64—81)33. Цитированное выше
высказывание князя Ольгерда (из 1-й Новгородской летописи под
1346 г.): «Лаял ми посадник вашь... назвал мя псом» (ПСРЛ,
III, 1841, с. 83) может быть сопоставлено с аналогичным
высказыванием короля Ягайла и князя Витовта (сына и племянника
Ольгерда), которые, по свидетельству той же летописи (под
52
1412 г.), говорят новгородцам: «ваши люди нам лаяли, нас без-
чествовали и срамотилѣ и нас погаными звалѣ» (ПСРЛ, III,
1841, с. 105). Итак, новгородцы ругали литовских князей,
называя их «псами» и «погаными»; эти названия выступают как
синонимы и, очевидно, обусловлены тем обстоятельством, что
литовские князья воспринимались как иноверцы. Подобным же
образом, польская песня называет «псами» Мазуров (ср. вообще
о соответствующем восприятии Мазуров: Потебня, 1880, с. 170;
Франко, 1892, с. 755—756), подчеркивая при этом, что они
верят не в Бога, а в «рарога», то есть в демоническое существо
языческого происхождения (название рарог связано, возможно,
со Сварог, т.е. с именем языческого божества — Иванов и
Топоров, 1965, с. 140—141):
Oj i psy Mazury, da i psy, da i psy,
Oj sziy na Kujawy, da i szly, da i szJy.
Oj zobaczyly raroga da i myslaiy ze boga.
(Кольберг, IV, с. 254-255)™
Особенно показательно в этом отношении выражение «песья
вера», которое бытует в славянских языках в качестве бранного
выражения, относящегося к иноверцам, ср. рус. песья вера или
собачья вера (Даль — Бодуэн, I, стлб. 814), укр. пся віра или
собача віра (Гринченко, I, с. 239; Гринченко, II, с. 163; Грин-
ченко, III, с. 496), польск. psia wiara (Франко, 1895, с. 118—
119), сербск. nacja ejepa (Караджич, 1849, с. 246), словенск.
pasja vera (Плетершник, II, с. 11), болг. куча вяра (Славейков,
1954, с. 327). «Песья вера» противопоставляется «крещеной»,
то есть христианской вере и означает безверие (Даль —
Бодуэн, I, стлб. 814) или вообще отклонение от правильной веры35.
Ср. украинскую частушку:
Oj cyhane, cyhanoczku,
Pesia twoja wira:
Twoja zinka u seredu
SoJonynu jila!
(Франко, 1895, с. 119) -
нарушение поста, обязательного по средам и пятницам,
оказывается одним из признаков «песьей веры» (ср.
белорус, собачиирца 'нарушать пост* — Носович, 1870, с. 598);
совершенно так же смерть без покаяния воспринимается как
«собачья смерть» (Михельсон, И, с. 288, № 577).
53
В основе этого выражения («песья вера»), по-видимому,
лежит представление о том, что как у собаки, так и у иноверца
нет души в собственном смысле этого слова: «душа» и
«вера» вообще непосредственно связаны по своей семантике, то
есть само понятие веры предполагает наличие души, и наоборот;
душа собаки (или вообще всякого животного) и иноверца
называется пар или пара, и, соответственно, выражение «песья пара»
выступает в славянских языках как ругательство, синонимичное
выражению «песья вера» и с ним коррелирующее, ср. польск.
psia para (Франко, 1892, с. 756; Дорошевский, VII, с. 685),
сербск. nacja пара (Караджич, 1849, с. 246), словенск. pasja
para (Плетершник, И, с. 11). По русскому поверью, «У
татарина, что у собаки, — души нет; один пар»36, ср. также: «В скоте
да в собаке души нет, один только пар» (Даль — Бодуэн, IV,
стлб. 47). Точно так же и словенцы полагают, что «Pes ima
paro, ne duso» и вместе с тем утверждают, что у турков «песья
вера» (ср. выражение turski pasjevçrec — Плетершник, И, с. 8,
11). Итак, наличие души выступает как определяющий признак,
разделяющий весь мир на две части, между которыми, в
сущности, не может быть общения: противопоставляются не люди и
животные, но те, кто имеют душу (а следовательно, и веру), и
те, у кого она отсутствует37. По этому именно признаку собаки
и объединяются с иноверцами: и те и другие лишены общения с
Богом (ср. чешек, пословицы «Pan Bûh psiho hlasu neslysi», «Psi
bias do nebe nejde» или польск. «Psi glos nie idzie do niebios»,
укр. «Собачи голоса не идуть попід небеса» — Челаковский,
1949, с. 23; Адальберг—Крыжановский, II, с. 909, № 301;
Номис, 1864, № 5193; Потебня, 1914, с. 158; Добровольский,
III, с. 117; Федеровский, IV, с. 270, № 7109)38, а тем самым
и с людьми, объединенными верой39. Поэтому, между прочим,
считалось, что иноверцев нельзя хоронить на кладбище, но
необходимо оставлять «псам на снедение»40. То же говорит
митрополит Петр относительно убитых «на поле» во время
судебного поединка — как иноверцы, так и погибшие «на поле», то
есть умершие не по-христиански, относятся к общей категории
нечистых (заложных) покойников, и поэтому их предписывается
«псом поврещи» (Кушелев-Безбородко, IV, с. 187);
соответствующее представление отражается в белорусских проклятиях
(Гринблат, 1979, с. 232, 235). Предполагается, что такие
покойники, будучи лишены общения с Богом, не попадают на
Страшный суд (Успенский, 1982, с. 144), и, соответственно,
они отдаются не Богу, но псам — выражение собачья смерть
получает при этом двойной смысл: с одной стороны, это смерть
54
без покаяния (см. выше), с другой — смерть, предназначенная
для собак.
Отсюда объясняется, может быть, характерное упоминание
души в матерной брани, столь частое при распространениях
основного ругательства, типа русского «...в бога душу мать»
(см. выше, § ІѴ-3.1), ср. еще белорус. Ябу-ж тваю душу
(Сержпутовский, 1911, с. 56) или старочешск. Vyjebena duse
(Котт, I, с. 482). Если признать, что субъектом действия
является пес, соответствующее высказывание символизирует
отлучение от веры и, тем самым, превращение в пса.
В свое время в Московской Руси существовал специальный
«Чин на очищение церкви, егда пес вскочит в церковь или от
неверных войдет кто», который был отменен в результате
реформ патриарха Никона (Никольский, 1885, с. 297—306; ср.:
РИБ, VI, с. 257, № 32, с. 869, № 124, с. 922, № 134; РФА,
III, с. 514—515, № 140; Смирнов, 1913, прилож., с. 148, № 140,
а также с. 404—412; Мансветов, 1882, с. 148—149);41 итак,
присутствие пса оскверняет церковь (святое место), подобно
тому как оскверняет ее присутствие иноверца — пес и иноверец
объединяются именно по признаку нечистоты42. Точно так же
духовному лицу в принципе запрещалось держать собаку.
Вместе с тем чернец, нарушивший канонические постановления,
может нарицаться псом, а также медведем (Смирнов, 1913,
прилож., с. 36, № 40—41);43 знаменательно в то же время, что
псом может именоваться и чернец, носящий огниво (там же,
прилож., с. 305), — это, несомненно, связано с ролью огня в
славянском языческом культе44. Подобное отношение к собаке
особенно наглядно проявляется у старообрядцев Олонецкой
губернии, которые «при собаке не молятся Богу» (Зеленин,
1914—1916, с. 924) — присутствие собаки как нечистого
животного исключает возможность общения с Богом45.
Во всех этих случаях обнаруживается явная
противопоставленность пса христианскому культу: пес связывается с
антихристианским и прямо с бесовским началом46. Неверно было бы
полагать, однако, что соответствующее восприятие пса появляется
на христианской почве: несомненно, представление о нечистоте
пса имеет еще дохристианские корни, то есть было характерно
для славянского язычества.
Показательно в этом смысле, что приведенные выше
установления, относящиеся к церкви, распространяются и на
отношение к дому. Так, в частности, русские крестьяне не
допускают собаку в избу, но всегда держат ее вне дома, во дворе —
подобно тому, как собака оскверняет церковь, она оскверняет
55
дом (ср. представление о том, что если собаку пустить в дом, то
оскорбятся присутствующие здесь ангелы — Никифоровский,
1897, с. 162, № 1224): как церковь, так и дом представляет
собой чистое место, не допускающее осквернения. Еще более
характерно правило, предписывающее разломать печь, если в
ней умрет пес или ощенится сука (Смирнов, 1913, прилож.,
с. 53, № 26, с. 60, № 55, с. 241, № 8), — подобно тому,
как церковь, которую осквернил пес, требует переосвящения,
печь в этом случае должна быть разрушена и воссоздана
заново; печь при этом занимает особое место в славянских
языческих верованиях.
Восприятие пса как нечистого животного выразительно
проявляется в ритуальных выражениях (заклятиях или проклятиях),
языческое происхождение которых не оставляет сомнений. С
одной стороны, на пса как на нечисть отсылаются всевозможные
уроки и призоры, то есть порча, болезнь и т.п., ср. польск. или
укр. па psa urok (Адальберг—Крыжановский, II, с. 897,
№ 140; Франко, 1892, с. 757; Номис, 1864, № 11835) или
укр. на собаку (Номис, 1864, № 322, 3805); белорус, па са-
бачай галаве с тем же значением (Гринблат, 1979, с. 232);
этот мотив представлен и в сербских заговорах (Раденкович,
1982, с. 114, № 157). С другой стороны, нечистоте пса
приписываются вредоносные свойства, ср. серб, проклятие nacja те
plja не убила! 'чтоб тебя песья скверна убила!' (Караджич,
1849, с. 246) — отрицательная частица не имеет здесь не
отрицательный, но экспрессивно-усилительный смысл.
Соответствующее восприятие нашло отражение в целом ряде
фразеологизмов и идиоматических выражений, в частности, в таких
идиомах, как собаку съесть или где собака зарыта и т.п. (см.
экскурс II).
Представление о нечистоте пса находит отражение в
южнославянском восприятии «нечистых» дней как «песьих». Именно
так, в частности, называются у сербов святки, ср. nacja не-
дел>я как обозначение святок, а также восприятие Васильева
дня как праздника пса (Кулишич, Петрович и Пантелич, 1970,
с. 232); это согласуется с такими южнославянскими
наименованиями святок, как болг. нечисти дни, погани дни, мрьски дни,
некрьстени дни или серб.-хорв. некрштени дани (Зеленин,
1930, с. 221—222, примеч. К. Мошиньского). Точно так же
вторник и среда на русальной неделе называются у сербов,
соответственно, nacju уторак и nacja среда (Кулишич, Петрович
и Пантелич, 1970, с. 273, 295); русальная неделя, как и святки,
обнаруживает очевидную связь с языческим культом (у маке-
56
донцев русалии непосредственно отождествляются со
святками — Шапкарев, 1884, с. I)47. Восприятие нечистого времени
как «песьих» дней в косвенной форме прослеживается и у
болгар (при том, что у болгар более употребительно наименование
«волчьих» дней — ввиду обычной ассоциации собаки и волка,
можно предположить, что «волчьи» дни и «песьи» дни
отражают одни и те же мифологические представления). Отсюда, в
частности, объясняется болг. пьсий (или: песи, пъси) понедел-
ник как наименование чистого понедельника, т.е. первого дня
Великого поста (Геров, IV, с. 407; Маринов, 1981, с. 122,
507—508; Вакарелски, 1977, с. 508; Каравелов, 1861, с. 191).
Этот день может считаться как у болгар, так и у сербов
праздником пса (Маринов, 1981, с. 507—508; Кулишич, Петрович и
Пантелич, 1970, с. 232). Соответствующее восприятие и
наименование обусловлено, надо думать, тем, что чистый понедельник
является первым днем после сырной недели, то есть
масленицы (болг. Сирийца или Сирии заговезни): масленица между
тем наряду со святками, купальскими днями и т.п.
воспринимается как нечистое время, ознаменованное ритуальным разгулом,
пьянством, сквернословием и т.п. Существенно при этом, что
обычаи, принятые в чистый понедельник, могут обнаруживать
определенную связь с масленичными обрядами, выступая, в
сущности, как их продолжение: это отражается и в
наименовании данного дня48. Таким образом, наименование чистого
понедельника «песьим понедельником» у болгар может отражать
восприятие масленицы как «песьего» времени; этому не
противоречит то обстоятельство, что принятый в «песий понедельник»
обычай гнать и мучить собак может осмысляться как изгнание
беса, который вселился в них в нечистое время (Вакарелски,
1977, с. 508; Каравелов, 1861, с. 191). Знаменательно, что
такой же обычай — гнать собак и бить их — отмечается у
македонцев на Васильев день (Шапкарев, I, с. 556), хотя этот
день специально не называется здесь «песьим»; мы видим,
однако, что у других южных славян Васильев день может
восприниматься именно как «песий день».
Восприятие нечистых дней как «песьих» находит
соответствие в ритуальном сквернословии, принятом в такие дни (см. о
святочном, купальском и т.п. сквернословии выше, § И-2);
ввиду соотнесенности матерной брани с псом не исключено, вообще
говоря, что именно ритуальное сквернословие и обусловливает
соответствующее восприятие, то есть наименование нечистого
времени «песьими» днями49.
57
4.1. Прямое отношение к матерной брани могут иметь легенды
о сожительстве женщины с псом, которые зафиксированы как у
славянских, так и у неславянских народов (ср. в этой связи
типичный мифологический мотив сожительства с змеем). Эти
легенды обычно связываются с происхождением того или иного
племени, которое воспринимается в качестве «generatio canina»;
можно предположить, что в основе преданий такого рода лежат
тотемистические представления, то есть собака выступает как
родовой тотем (см., например, Кречмар, I; Сянь-лю, 1932;
Копперс, 1930; Либрехт, 1879, с. 19—25; Франко, 1892,
с. 750—756; Келлер, I, с. 137; Никифоров, 1922, с. 62,
примеч.; Толстов, 1935, с. 12—13; Соколова, 1972, с.ПЗ; ср.:
Якобсон, IV, с. 67—68)50. Возможность соотнесения этих
преданий с матерной бранью косвенно подтверждается тем
обстоятельством, что совокупление женщины с псом может
связываться с происхождением табака (см.: Романов, IV, с. 23, № 19;
Перетц, 1916, с. 150; ср.: Романов, VIII, с. 283; Поливка,
1908, с. 380), так же как и картофеля, причем легенды о
картофеле, появившиеся не ранее второй половины XVIII века,
непосредственно восходят к легендам о табаке (Перетц, 1902,
с. 93, 96; Никифоров, 1922, с. 14, 78—79, ср. с. 73): согласно
этим легендам, пес оскверняет женщину, плодом чего и является
в конечном счете нечистое зелье. Употребление табака, наряду с
пьянством, непосредственно ассоциируется вообще с матерным
сквернословием: не случайно поучение против матерной брани
может входить в состав легенды о табаке (см., напр.: Кушелев-
Безбородко, II, с. 434; Львов, 1898, с. 599—600). Итак,
легенда о табаке в одних случаях соотносится с мотивом
совокупления с псом, в других — с матерной бранью, которая, как мы
знаем, выражает ту же идею.
4.2. Остается добавить, что связь пса с совокуплением
отразилась, возможно, в этимологии слова пес51. В самом деле, это
слово может быть соотнесено с литовским pisti 'coire, futuere\ с
которым этимологически связано, как кажется, рус. пизда; ср.
лит. pj'sa, pyzà, piz£, pyzdà и т.п. Производным от данного
глагола является лит. pisius со значением «nomen agentis», т.е.
означающее собственно 'fututor', а также вторичные формы pisnius,
pizius, которые в современном литовском языке имеют значение
'распутник' (Сл. лит. яз., X, с. 35, 46); при этом форма Pizius
зафиксирована у Я. Ласицкого (XVI в.) в его описании
литовского языческого пантеона — оно фигурирует как имя божества,
приводящего невесту к жениху и почитаемого юношами: «Pizio
58
iuventus, sponsam adductura sponso, sacrum facit» (Ласицкий,
1615, с. 47; Манхардт, 1936, с. 356 и комментарий на
с. 376—377; ср. еще: Ласицкий, 1969, с. 40 и комментарий на
с. 80)52. Для литовского языка восстанавливается также форма
*pisùs со значением 'склонный к совокуплению', ср. дошедшие
до нас формы с осложнением основы: pisnùs, pislùs 'распутник;
тот, кто часто мочится' (Сл. лит. яз., X, с. 35); следует иметь в
виду, что глагол pisti может иметь значение 'мочиться*. Слову
pisùs и соответствует, по-видимому, славянское *р&й(пъсъ)53.
Отсюда объясняется употребление слов кобель и сука в
значении 'распутник' и 'распутница' в современном русском языке,
которое отвечает значению слова pizius в современном
литовском; в обоих языках соответствующие слова функционируют как
ругательства54. Не менее показательны контексты, где слово пес
или собака заменяет слово с исходным значением 'membrum
virile' (см. выше, § IV-3) — возможность такой замены
обусловлена, по-видимому, ассоциацией значений nomen agentis и
nomen instrumenti.
Ассоциация пса с сексуальным началом прослеживается
также в греческом и латыни. Соответственно, как греч. кѵшѵу так и
лат. canis может означать 'бесстыдник' (ср. еще греч. icùveos,
Kvvamrjs, кѵѵснрршѵ 'бесстыдный' или лат. caninus с тем же
значением);55 знаменательным образом, вместе с тем, греч. китѵ
может выступать и в значении 'vulva' (Келлер, I, с. 98).
Подобного рода ассоциации наблюдаются и в армянском, ср.,
например: snabar (букв.: как собака), 'бесстыжий,
безнравственный' и т.п.
Таким образом, славянское *pïsu (пьсъ) может трактоваться
как табуистическая замена исконного индоевропейского слова
*kuôn, отразившегося в лат. canis, греч. кѵшѵ и т.п.56 — в
точности так же, как славянское *medvëdï (медвЪдъ) представляет
собой табуистическую замену индоевропейского слова,
отразившегося в лат. ursus, греч. аркхоъ и т.п. Равным образом
исконное индоевропейское название змеи, отразившееся в греч. ifc/s
(ср. также греч. btpis, лат. anguis, отражающие, по-видимому,
фонетические табуистические преобразования исходной формы),
оказалось вытесненным в славянских языках табуистическим
названием, производным от названия земли и означающим
собственно 'земной, ползающий по земле' (Гамкрелидзе и Иванов,
1984, с. 526—527; Фасмер, И, с. 100)57. Едва ли случайно при
этом то обстоятельство, что названные животные — змея,
медведь и пес — мифологически ассоциируются с противниками
59
Громовержца (см. экскурс I; ср. о медведе: Успенский, 1982,
с. 85 и ел.).
Если согласиться с предложенной этимологией, для
славянских языков можно восстановить, по-видимому, исходную форму
глагола *pïsti (пьсти) с основным значением 'futiiere'. Заметим,
что в этом случае цитированные выше (§ IV-3) формы типа
рус. псыгпь, ст.-польск. psac, серб.-хорв. псовати и т.п., вообще
говоря, могут трактоваться не как отыменные глаголы
(производные от существительного, восходящего к *pïsu ), а как
формы, непосредственно восходящие к глаголу *pïstï> соотнесение
этих слов со словом, означающим 'пес', предстает тогда как
вторичное.
V. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ. ВОПРОС О ФОРМЕ
МЕСТОИМЕНИЯ
1. Итак, матерная брань связана как с культом земли, так и с
мифологией пса; земля выступает как объект, а пес — как
субъект действия в матерном выражении. Если
синхронизировать то и другое представление (т.е. если не соотносить их с
разными хронологическими пластами), мы можем считать, что в
основе матерной брани лежит образ пса, оскверняющего землю.
Антагонистические отношения собаки и земли выразительно
проявляются в украинском поверье, согласно которому «собаку,
лежащую на строении или на плотине, вообще не на земле,
нельзя заговорить» (Драгоманов, 1876, с. 30—31), то есть
заговор, предохраняющий от нападения собаки, оказывается
недействительным, если собака не соприкасается с землей. Ср.
еще белорусское выражение выскаліу зубы як сабака на
пятн'щу (Федеровский, IV, с. 361, № 9505; Гринблат, 1979,
с. 298), которое представляет особый интерес, если иметь в
виду соотнесенность Мокоши-Пятницы с культом Земли (ср.
выше, § ІІІ-4); вместе с тем белорус, патнща означает нечистую
силу (Бялькевич, 1970, с. 320), и, следовательно, данное
выражение может быть поставлено в связь с убеждением, что собака
отпугивает нечистую силу (см. выше, § ІѴ-3.1), — поскольку
нечистая сила связана с землей, выходит из земли, обе
интерпретации не противоречат друг другу, но относятся скорее к
разным пластам мифологического сознания58.
Замечательно в этом смысле, что греческая Геката, которая
считалась вообще трехголовой, в орфической традиции
изображалась с головой коня, льва и собаки, что соответствовало трем
60
стихиям — воде, эфиру и земле: конская голова означала воду,
львиная представляла эфир, тогда как голова собаки
знаменовала землю (Велькер, I, с. 566, примеч. 23)59. Собаки играли
при этом принципиально важную роль в культе Гекаты —
настолько, что и сама она могла считаться собакой, то есть терио-
морфным божеством (Келлер, I, с. 137; Роде, II, с. 83, примеч.
3, с. 408; ср. также экскурс I); вместе с тем Геката могла
считаться дочерью Деметры, то есть Земли. Греческая Геката и
славянская Мокошь-Пятница обнаруживают вообще
определенное сходство: обе они суть хтонические божества, связанные с
загробным миром, с культом змей, с лунарным культом, с
колдовством и т.п.; знаменательно, что почитание как той, так и
другой богини совершалось на перекрестках и распутьях60.
Связь коня с водой наблюдается и у славян (ср. обычай
приносить в жертву водяному конскую голову — Успенский, 1982,
с. 83, 85), и точно так же здесь прослеживается соотнесенность
собаки и земли.
2. В свете всего сказанного вызывает недоумение форма
притяжательного местоимения 2-го лица ед. числа (твой) в сочетании
твою мать в современных русских ругательств. В самом деле,
эта местоименная форма противоречит устойчивому
представлению о том, что употребляющий подобного рода ругательства
бранит, в сущности, свою мать, а не мать собеседника, —
представлению, которое вполне согласуется с той
интерпретацией слова мать, которая была предложена выше, то есть в
конечном счете с идеей осквернения Матери Земли (см. § III-1,
§ III-2, § Ш-5 настоящей работы).
Соотнесение матерной брани с матерью собеседника
возникает, по-видимому, вторичным образом — в результате
определенного переосмысления, когда матерная формула превращается
в прямое ругательство, то есть начинает пониматься именно как
оскорбление (вместе с тем, матерщина совсем необязательно
функционирует таким образом, см. выше, § 1-2), и когда,
соответственно, выражение типа блядин сын начинает
восприниматься как матерщина (см. выше, § Н-2).
Если считать, что функция ругательства является вторичной
для матерного выражения и что более ранней является функция
проклятия, заклятия и т.п. (ср. выше, § Н-4), притяжательное
местоимение 2-го лица (твой) необходимо рассматривать как
инновацию, связанную с утратой первоначального смысла
матерщины — именно с переосмыслением ее как оскорбления,
относящегося к матери собеседника. Естественно предположить
61
тогда, что данная местоименная форма заменила какую-то
другую местоименную форму: следует иметь в виду вообще, что
форма матерного выражения не является канонической,
обнаруживая, напротив, определенную вариативность (как правило, в
пределах словоизменения), — при том, что набор лексем,
входящих в состав этого выражения, оказывается более или менее
стабильным.
Упоминание 2-го лица в матерном выражении по
первоначальному смыслу относилось, по-видимому, к проклятию,
падающему на голову собеседника. Иначе говоря, на
собеседника как бы переносится ответственность за тот процесс,
который выражен в матерной формуле (и, соответственно, за
последствия этого процесса).
Отсюда естественно предположить, что первоначально
местоимение 2-го лица было не в притяжательной форме, а в форме
дательного падежа — в значении dativus ethicus (или
dativus incommodi); с вероятностью следует ожидать здесь энк-
ликтическую форму ты, и таким образом само выражение (в
группе дополнения) гипотетически восстанавливается как ти
матерь61, вместо твою мать: последнее выражение (твою
мать) следует признать результатом позднейшей
трансформации. Это предположение находит подтверждение в других
славянских языках, где местоимение 2-го лица действительно
представлено в форме дательного падежа (наряду с формой
притяжательного местоимения, которая выступает иногда как
альтернативная форма). Dativus ethicus очень близок по своему
значению к dativus possessivus, что и способствовало, очевидно,
переосмыслению матерной брани как ругательства, обращенного
к матери собеседника; в свою очередь, местоименная форма со
значением dativus possessivus естественно коррелирует с формой
притяжательного местоимения62. Отсюда в русских
ругательствах форма притяжательного местоимения вытесняет
первоначальную форму местоимения в дательном падеже.
Форма дательного падежа в матерном выражении
непосредственно согласуется с управлением глагола лаять (лаяти),
который также соотносился с местоимением в дательном падеже,
ср. хотя бы приводившиеся выше примеры из 1-й Новгородской
летописи: «лаял ми посадник вашь... назвал мя псом», «ваши
люди нам лаяли, нас бесчествовали и срамотилѣ...» (ПСРЛ,
III, 1841, с. 83, 105); см. еще: Срезневский, II, стлб. 1263.
Гораздо менее характерно управление винительным падежом
{лаяти кого, наряду с лаяти кому — см. примеры: Дювернуа,
1894, с. 89; Сл. РЯ XI—XVII вв., VIII, с. 18)64. Управление
62
винительным падежом появляется относительно поздно и
связано, надо думать, именно с тем переосмыслением матерной
брани, о котором уже говорилось, т.е. с переадресацией ее к матери
собеседника. Двойное управление глагола лаять (дательный
падеж, наряду с винительным) соответствует при этом
вариативности формы местоимения в матерном выражении
(дательный падеж, наряду с притяжательной формой), которая
наблюдается сейчас в южнославянских и западнославянских языках и
которая была возможна, видимо, и в русском.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги нашего исследования. Матерная брань
обнаруживает совершенно несомненное мифологическое
происхождение и, соответственно, имеет ритуальный характер. Эта
ритуальная формула оказывается более или менее устойчивой
(стабильной), относительно мало изменяясь со временем; однако
с течением времени она подвергается разнообразным
переосмыслениям (семантическим трансформациям), обусловленным
включением в разные мифологические коды. Тем самым те или иные
аспекты восприятия и функционирования матерной брани
обнаруживают принципиальную гетерогенность, соотносясь с
разными хронологическими пластами. Представляется возможным
произвести гипотетическую стратификацию этих пластов,
отвечающих разным уровням мифологического сознания.
На глубинном (исходном) уровне матерное выражение
соотнесено, по-видимому, с мифом о сакральном браке Неба и
Земли — браке, результатом которого является оплодотворение
Земли. На этом уровне в качестве субъекта действия в
матерном выражении должен пониматься Бог Неба, или
Громовержец, а в качестве объекта — Мать Земля. Отсюда объясняется
связь матерной брани с идеей оплодотворения,
проявляющаяся, в частности, в ритуальном свадебном и аграрном
сквернословии (см. § И-2, ІІІ-З), а также ассоциация ее с
громовым ударом ( см. § ІІ-З, Ш-6). На этом уровне матерное
выражение имеет сакральный характер, но не имеет характера
кощунственного. Оно может выступать в качестве заклятия,
проклятия, клятвы, но не воспринимается как оскорбление; в
этом качестве матерная брань может смыкаться, по-видимому, с
ритуальным призыванием грома, имея в таком случае
приблизительно тот же смысл, что и божба типа «Разрази тебя (меня)
гром!», «Сбей тебя Перун!», «Солнце б тя побило!» и вместе с
63
тем «Провал тебя возьми!», «Провалиться мне на этом месте!»
и т.п. (см. § III-7).
На другом — относительно более поверхностном — уровне
в качестве субъекта действия в матерном выражении выступает
пес, который понимается вообще как противник Громовержца
(см. выше, § ІѴ-4, а также экскурс I). Таким образом,
Громовержец травестийно заменяется своим противником в функции
субъекта действия — заменяется на свою
противоположность, — и это переводит матерное выражение в план
антиповедения, придавая ему специальный магический смысл
(как это вообще характерно для анти-поведения).
Соответственно, матерная брань приобретает кощунственный характер. На
этом уровне смысл матерного выражения сводится к идее
осквернения земли псом, причем ответственность за это падает
на голову собеседника (см. выше, § Ѵ-1, Ѵ-2). Этот уровень
характеризует, по крайней мере, эпоху общеславянского
единства, но, может быть, и более раннее состояние.
На следующем — еще более поверхностном — уровне в
качестве объекта матерного ругательства мыслится женщина, тогда
как пес остается субъектом действия. На этом уровне
происходит переадресация от матери говорящего к матери собеседника,
то есть матерная брань начинает пониматься как прямое
оскорбление, ассоциирующееся с выражениями типа сукин сын и т.п.
Наконец, на наиболее поверхностном и профаническом
уровне в качестве субъекта действия понимается сам говорящий, а в
качестве объекта — мать собеседника. На этом уровне
матерное ругательство начинает ассоциироваться с таким выражением,
как блядин сын и т.п. (см. § И-2, Ѵ-2).
Выражения сукин сын и блядин сын оказываются при этом
синонимичными, и, соответственно, слово сука на данном этапе
начинает употребляться в значении *р&сиутиая женщина* (ср.
выше, § ІѴ-4.2).
Таким образом, в актуальном состоянии матерная брань
синтезирует все эти пласты, и разные моменты ее
функционирования отражают в реликтовом виде те или иные аспекты ее
исторического развития.
ЭКСКУРС I: ПЕС КАК ПРОТИВНИК ГРОМОВЕРЖЦА
Центральным мотивом мифа о Громовержце является, как
известно, поединок Громовержца со Змеем; таким образом,
основным противником Громовержца является мифический Змей,
64
который может представать при этом в разных своих ипостасях
(см.: Иванов и Топоров, 1974). Вместе с тем в мифологических
представлениях змей и собака замещают друг друга и,
соответственно, мифологический змееборец может выступать в качестве
убийцы пса (Иванов, 1977, с. 191, 206—208)65. В частности,
они могут замещать друг друга в функции стража, охраняющего
вход в загробный мир (см. о змее: Пропп, 1946, с. 243 и ел.;
Успенский, 1982, с. 58; о связи собаки с загробным миром см.
вообще: Клингер, 1911, с. 243 и ел.; Миллер, 1876, с. 203 и
ел.; Кречмар, И; Группе, 1906, с. 407—410; Кагаров, 1912—
1913, с. 573—574). Показательно в этом смысле белорусское
предание о том, как собака была сторожем рая (Романов, IV,
с. 168, № 24); в той же функции выступает"собака в народной
легенде о грехопадении (Афанасьев, 1914, с. 99—100, № 14;
см. еще: Драгоманов, 1876, с. 1; Кушелев-Безбородко, III,
с. 13)66. Сходную роль играет пес в греческой и скандинавской
мифологии; характерен образ Кербера, сочетающего признаки
пса и змея (Блумфильд, 1905; Шольц, 1937, с. 35; Кагаров,
1912—1913, с. 574; Пропп, 1946, с. 245—246)67. Такое же
сочетание присуще и облику эриний, которые также
принадлежат царству Аида; равным образом и Гидра ассоциируется как
со змеем, так и с собакой (Шольц, 1937, с. 30—31, 36—37).
В древнерусских лицевых Апокалипсисах встречается
символическое изображение ада в виде человекообразного существа с
собачьей головой (Максимов, 1975, с. 85), которое
соответствует представлению ада в виде змея (Успенский, 1982, с. 58—
59). Связь собаки с загробным миром нашла отражение в
былине «Вавило и скоморохи»: здесь фигурирует «инишшое»
Царство, которым правит «царь Собака» (Смирнов и Смолицкий,
1978, с. 301—306; Кривополенова, 1950, с. 37—42, ср.
с. 142—144);68 слово инишшое, несомненно, восходит к ин-
ший, то есть 'иной* (СРНГ, XII, с. 206) — инишшое цяръево
означает, таким образом, 'иное царство* и относится к
потустороннему миру69. Ср. в этой связи славянские представления о
Змеином Царе, который обитает в ирие (вырие), то есть в
царстве мертвых (Успенский, 1982, с. 59—60, 87, ср. с. 145—
146); соответственно, былинный образ царя Собаки может быть
сопоставлен со сказочным образом царя Змея, который правит в
тридесятом царстве (Афанасьев, 1984—1985, № 161, ср.
№ 164). Вместе с тем мотив человеческих голов, насаженных
на тын вокруг двора царя Собаки, объединяет этот образ с
образом Бабы-Яги (ср.: Афанасьев, 1984—1985, № 104, 105,
225, ср. № 575), что и неудивительно, если иметь в виду зме-
3 Анти-мир русской культуры
65
иную природу Яги (см.: Успенский, 1982, с. 93—95, 101).
Образ царя Собаки становится понятным на фоне
индоевропейских мифологических параллелей: ближайшую аналогию к этому
образу представляет греческая Геката, богиня преисподней,
окруженная собаками, которая при этом могла осмысляться как
собака (Шольц, 1937, с. 39—43; Келлер, I, с. 137; Клингер,
1911, с. 249; Шлерат, 1954, с. 25; ср. выше, § Ѵ-1); точно
так же в индийской мифологии Яма, царь мертвых,
сопровождается собаками и может представляться в собачьем облике
(Губернатис, II, с. 25). Равным образом и в египетской
мифологии Анубис, покровитель умерших (и бог мертвых в период
Древнего царства), почитается в образе собаки или шакала или
же в образе псеглавого или шакалоголового человека. Отметим
еще, что в образе собаки первоначально мыслился и греческий
Харон (Шольц, 1937, с. 32—33); для типологических
параллелей см.: Копперс, 1930, с. 371—372; Луркер, 1969, с. 203—
209; Франк, 1965, с. 214—222; Кречмар, И, с. 214, 222—
224; Термер, 1957, с. 27—28.
Связь собаки с загробным миром объясняет мистические
свойства собаки, в частности, ее способность предвещать смерть,
а также чуять нечистую силу и т.п. (Клингер, 1911, с. 250,
259—260; Миллер, 1876, с. 202—203; Афанасьев, I, с. 733—
734; Кречмар, II, с. 3, 39, 164, 169; Гюнтерт, 1932, стлб.
472—473; Луркер, 1969, с. 200; Браун, 1958, с. 191; Шольц,
1937, с. 25—27; Кулемзин, 1984, с. 160; Крейнович, 1930,
с. 48—49; ср. выше, § ІѴ-3.1)70. Соответственно объясняется и
роль собаки как жертвенного животного как в индоевропейской,
так и в других традициях (см. о индоевропейцах: Иванов, 1977,
с. 188—197; Келлер, I, с. 137—138, 142—143; Шольц, 1937,
с. 10—11, 16—22, 45; Группе, 1906, с. 803—804; Шлерат,
1954, с. 35—36; Баррисс, 1935, с. 34—35; Гюнтерт, 1932,
стлб. 479—480; о других народах — Лукина, 1983, с. 228—
229; Копперс, 1930, с. 268, 372, 382, 385—386; Кречмар, И,
с. 7—8, 27—29, 39, 42—46, 65—94, 108; Франк, 1965,
с. 78—99; Термер, 1957, с. 27—32).
Пес и змей могут непосредственно отождествляться в
текстах. Ср., например, польское заклинание:
Swiçty Mikolaju, wyjm kluczyki z raju, [Святой Николай, возьми ключики из рая,
Zamknij pysk psu wscieklemu, Замкни пасть бешеному псу,
Gadowi lesnemu... Лесному гаду...]
(Котуля, 1976, с. 92, ср. с. 81; см.
подробнее: Успенский, 1982, с 51);7І
66
такое же отождествление находим и в болгарском фольклоре:
Стигнаа го кучки, [Нагнали его собаки —
До три льути лами... Три лютых змея...]
(Иванчов, 1909. с. 35, № 43)
Попаднале девет кучки лами, [Прилетели девять собак змей,
Попаднале на о'ридско поле... Прилетели на Охридское поле...]
(Миладиновы, 1861, с. 43, № 40)
Характерно, что бес может являться как в виде змеи, так и
в виде собаки (см., например, явление беса в образе черного пса
в житии Феодосия Печерского — Усп. сб., л. 44а; для
типологических параллелей см.: Браун, 1958); равным образом
ведьмы, по славянским представлениям, могут оборачиваться
собаками (Клингер, 1911, с. 254; ср.: Баррисс, 1935, с. 38—39).
Соответственно, в Супрасльской рукописи, в мучениях св. Код-
рата, святой обращается к бесу, называя его одновременно
«псом» и «змеем»: «бѣсъныи пьсе кръвопивыи змию» (Супр.
рук., с. 115). Соответствующий текст представляет собой
перевод с греческого, ср. в греческом оригинале: цаіѵоцеѵе кисоѵ
ащолота орашѵ (см. там же).
Соотнесенность собаки со Змеем как противником
Громовержца может проявляться в ряде специальных моментов.
Отметим, в частности, украинское представление о псеглавцах
(кинокефалах) как о людях с одним глазом: песиголо-
веи, — 'сказочный человек с одним глазом во лбу, поедающий
людей* (Гринченко, III, с. 148; см. еще: Драгоманов, 1876, с. 2,
384); такое же представление зафиксировано и у южных славян
(Мошиньский, И, 1, с. 610). Одноглазость — типичный
признак змеиной породы (ср.: Успенский, 1982, с. 94), то есть
образ псеглавца соответствует в данном случае скорее облику
мифологического змея, нежели собаки.
Особенно показателен мотив шерсти, играющий важную
роль в мифологических представлениях о собаке: как известно,
шерсть выступает как один из типичных признаков противника
Громовержца, то есть мифологического Змея (см.: Иванов и
Топоров, 1974, с. 31—35, 48—54; Успенский, 1982, с. 106,
166—175). В русской народной легенде собака получает шубу
от дьявола за измену, за что она проклята Богом (Афанасьев,
1914, с. 99—100, № 14; Афанасьев, I, с. 729; Буслаев, 1859,
з*
67
с. 101; ср. иначе: Драгоманов, 1876, с. 1; Кречмар, II, с. 161);
для типологических параллелей см.: Знаменский, 1867, с. 49;
Веселовский, 1889, с. 10; Анохин, 1924, с. 18; Лукина, 1983,
с. 227; Кречмар, И, с. 3—6, 8, 16—17. Связь собаки с
шерстью может быть очень выразительно представлена в
заговорах — в сербских заговорах, например, шерсть выступает как
характерный атрибут собаки, подобно тому как звезды являются
атрибутом неба и т.п. (Раденкович, 1982, с. 46—48, 106,
№ 55, 57, 59, 139). Ср. поговорку: «По шерсти собаке и
кличка» (чешек. «Podlé srsti psu jméno» — Даль—Бодуэн, IV,
стлб. 1425; Челаковский, 1949, с. 324); эта поговорка отвечает
реальной практике называния собак, сохранившейся у южных
славян (Трубачев, 1960, с. 20). Показательно также псовина
'собачья шерсть', псовый, густопсовый 'мохнатый' и т.п.
(Даль—Бодуэн, III, стлб. 1401). Соотнесенность собаки с
шерстью отразилась в ритуальной фразеологии; отметим, в
частности, польские ругательства psia wefoa, psia siersc, psia kudla
(Карлович и др., V, с. 412; Густавич, 1881, с. 154) или
словенское pasja diaka (Плетершник, II, с. 11), которые
соответствуют русским ругательствам с упоминанием шерсти (ср.:
Успенский, 1982, с. 100, примеч. 135)72. Ритуальный смысл
имела, возможно, и пословица «Пес космат — ему тепло,
мужик богат — ему добро» (Даль — Бодуэн, III, стлб. 263; ср.:
Адальберг—Крыжановский, И, с. 903, № 220; Федеровский,
IV, с. 270, № 7113), где проявляется связь шерсти с
богатством, благополучием (ср.: Успенский, 1982, с. 101 —106, см.
специально с. 104—105 относительно выражения мужик
богатый).
Ассоциация пса и змеи проявляется, между прочим, в мотиве
лжи, обмана, приписываемом как змею, так и псу, ср. в
Слове Даниила Заточника: «сългалъ еси аки песъ» (Зарубин,
1932, с. 25, ср. с. 73) или в Статуте Казимира Великого, XV
века: «...имееть речи солган яко пес» (Сл. ст.-укр. яз, II,
с. 140); аналогичное значение зафиксировано в ст.-польском:
«Igac, rygac, kJamac, szczekac jako pies» (Сл. ст.-польск. яз., VI,
с. 118), ср. белорусск. ілжэ як сабака (Гринблат, 1979, с. 288),
собаками подшитый 'лукавый' (Носович, 1870, с. 598), а также
пословицу: «Ni wièr sabbàccy nikôli» (Федеровский, IV, с. 269,
№ 7104); отметим еще чешек, psice, psina 'потеха, шутка\ dëlat
si psinu 'разыгрывать*. Отсюда брехать может означать как
'лаять', так и 'лгать, обманывать'; лексика обмана вообще
обнаруживает связь с мифологией Змея (см.: Успенский, 1982,
с. 139—140). Восприятие пса как субъекта действия в матер-
68
ном выражении позволяет объяснить, как кажется, лужицкое
jebac ~ je bas 'обманывать' (Трубачев, VIII, с. 188).
Отметим еще, что мотив гибели собак друг от друга,
отразившийся, в частности, в русской пословице «Ешь собака
собаку, а последнюю черт съест» (Даль, 1904, I, с. ЮЗ)73,
соответствует аналогичному представлению о змеях, специально
рассмотренному Проппом (1946, с. 256—258). Достаточно
характерен и образ сказочного героя в восточнославянской
сказке, чудесным образом рожденного от собаки или же от коровы
или кобылы (Афанасьев, 1984—1985, I, с. 479, ср. № 136,
137, 139). Мотив чудесного рождения связан вообще с
противником Громовержца, который выступает у восточных славян как
«скотий бог» (см.: Успенский, 1982, с. 44—48, 57, 65); на эту
связь прямо указывает происхождение от коровы или кобылы,
но знаменательно, что в той же функции выступает и собака.
Антагонистическая противопоставленность собаки и грозы
наблюдается у немцев: по немецким поверьям, собака опасна во
время грозы, поскольку в нее ударяет молния (Гюнтерт, 1932,
стлб. 472); ср. совершенно аналогичное отношение к змеям у
славян. Вместе с тем такого же рода представления
прослеживаются у угров, что особенно интересно для нашей темы ввиду
формального сходства славянской и венгерской матерной брани
(см. выше, § ІѴ-2, а также § ІѴ-3.1). Так, ханты, подобно
немцам, считают собаку опасной во время грозы, полагая, что
Торум посылает на нее молнии, как и на злых духов (Лукина,
1983, с. 232—233). Равным образом собака ассоциируется у
угров с водной стихией (см. там же, с. 229, 233), которая
связана с противником Громовержца; характерно в этом смысле,
что венгры называют своих собак по имени рек или других
водных бассейнов (Гюнтерт, 1932, стлб. 483; Губернатис, II, с. 33,
примеч.). Вместе с тем обские угры приписывают облик собаки
духам нижнего мира: по представлениям манси, собакоподобные
демоны пожирают трупы умерших (Мункачи, 1905, с. 121).
ЭКСКУРС II: НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ
ВОСПРИЯТИЕ СОБАКИ
Восприятие собаки как нечистого животного обусловливает
специальный запрет употреблять ее в пищу (Смирнов, 1913,
прилож., с. 145, № 16); встречается даже предписание не есть
гонимого псом на охоте (там же, с. 144, № 12); считается, что
если ребенок съест кусок хлеба, обнюханный собакой, он забо-
69
леет болезнью, называемой «собачья старость» (Куликовский,
1898, с. НО)74. Отсюда может объясниться выражение собаку
съесть на чем или на что75 'познать до тонкости какую-либо
науку, мастерство и т.п.\ ср. также насобачиться —
'научиться* и т.п.; эти выражения, как правило, не находят соответствия
в других языках (ср.: Фасмер, III, с. 703; Михельсон, II,
с. 287, № 574; Михельсон, I, с. 619, № 325) ср., однако,
армянское sun kul tal (букв.: проглотить собаку) — 'иметь
жизненный опыт'. В основе данного фразеологизма,- может быть,
лежит представление о приобретении знания или умения через
анти-поведение (поведение наоборот), имеющее колдовской
смысл; см. вообще о магическом анти-поведении: Успенский,
1985, с. 227—230. В то же время, поскольку собака связана с
загробным миром и, соответственно, обладает способностью
чуять демонов, а также предвещать смерть (см. экскурс I),
поедание собачьего мяса как бы приобщало к вещим способностям
собаки (Клингер, 1911, с. 250—251, 260)76.
Соответствующее выражение может выступать и как
насмешка — так, жителей Петрозаводской и Петербургской
губернии дразнили словами боску съел или называя их боскоеды
(Максимов, XV, с. 235; СРНГ, III, с. 124), ср. боска ~ боско
'собака' (там же); можно предположить, что эта насмешка
содержит в себе обвинение в колдовстве или язычестве. Ср. в
этой связи сербский медицинский заговор:
Што урок урече,
урочица разрече.
Ко урече дететину
нек пол>уби псететину.
(Раденкович, 1982, с. 335, № 527)
Этот же мотив нашел отражение в словацкой ритуальной
песне явно языческого происхождения:
Dozal'i, dozal'i [Дожали, дожали
ti ratkovski zenci Те ратковские жнецы,
ѵесГ im uvaril'i Ведь им сварили
kotnû suku v hrnci. Беременную суку в котле.
Kotnû suku v hmci, Беременную суку в котле
z dvadsiat'ima st'enci, С двадцатью щенками —
kazdému zencovi, Каждому жнецу
ро jednom st'encovi. По одному щенку.]
(Демо и Грабалова, 1971, с. 186, № ЮЗ)11
70
Ср. еще белорусскую пословицу: «Тры нядзелі кірмаш мелі,
пакуль тую сучку з'елі» (Гринблат, 1979, с. 112); слово кірмаш
означает праздник, и можно догадываться, что и в этом случае
речь идет о каком-то языческом обряде, предполагающем
ритуальную трапезу. Подобный обряд отразился, по-видимому, и в
полесской купальской песне:
На Ивана, на Купала
Сучка в борщ упала,
Девчата тянули граблями,
А хлопцы — зубами.
(Толстая, 1982, с. 82)п
Итак, выражение собаку съесть первоначально означало,
по-видимому, такую полноту знания (или настолько
совершенное умение), которое может быть достигнуто с помощью
магии79.
Нечистота собаки объясняет, как кажется, и выражение где
собака зарыта (ср. соответствующее по смыслу немецкое
выражение «Hier liegt der Hund begraben»). Собаку как нечистое
животное нельзя было зарывать в землю, подобно тому как
нельзя было хоронить в земле и нечистых (заложных)
покойников — нечистое тело провоцировало гнев земли, то есть
всякого рода бедствия (ср. выше, § Ш-5). Ср. белорусские
проклятия: «Каб ты як сабака валяуся!» и вместе с тем «Каб
цябе святая зямля не прыняла!», «Каб зямля твае косці
выкідала!» (Гринблат, 1979, с. 221, 226, 209; Федеровский,
IV, с. 416, 41 ^; ср.: Номис, 1864, № 3775, 3794, а также
№ 3797, 3799—3801) — эти выражения предстают в
принципе как равнозначные; особенно показательно в этом смысле
полесское проклятие: «Шоб тоби не приняла мать сырая зямля —
сукину дачку» (Топорков, 1984, с. 233, № 23) —
наименование сукина дочка приобретает особую значимость в этом
контексте. Соответственно, те или иные бедствия могли
приписываться именно осквернению земли, в которой зарыто нечистое
тело. Для того, чтобы предотвратить дальнейшие бедствия —
остановить гнев земли — считалось необходимым обнаружить
нечистое тело и извлечь его из земли (см., например: Зеленин,
1916, с. 84—88; Зеленин, 1917, с. 406, 409; Петухов, 1888,
с. 167—168, 173—174; ср.: Смирнов, 1913, с. 271). При этом
место захоронения нечистого тела было обычно неизвестно и
найти его было трудной задачей; тем самым обнаружить, где
собака зарыта — собака олицетворяет нечистое тело, — озна-
71
чает: раскрыть первопричину, источник бедствия или вообще
найти причину тех или иных событий.
Восприятие собаки как жертвенного животного (ср. экскурс
I) отразилось, по предположению Иванова (1965, с. 288,
примеч. 81; 1977, с. 200, примеч. 52), во фразеологизме всех собак
вешать (на кого). Этот фразеологизм соотносится, между
прочим, с выражением как собак невешанных (нерезаных), то есть
«много» (Михельсон, I, с. 402, № 122) — то обстоятельство,
что невешанный и нерезаный выступают здесь как
взаимозаменяемые формы, указывает, может быть, на различные формы
обрядового заклания пса.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Нетабуированность соответствующих выражений в речи Пушкина
и его окружения в какой-то степени может объясняться европейской
культурной ориентацией.
2 Показательно в этом плане, что издания такого рода могут
реагировать на реформы правописания. Так, орфографическая реформа
1918 года, устранившая написание конечного ера после буквы
согласного, отразилась в академических изданиях на количестве точек,
заменяющих непристойное слово с подобным окончанием.
3 Характерно в этом смысле специфическое отношение к глаголу
со значением 'futuere'. Действительно, значение этого глагола
вполне может быть выражено (например, с помощью латинизма или
церковнославянизма); табуирована именно форма соответствующего
слова. Отсюда, например, в обличительном трактате против латыни
1684—1685 годов, автором которого считают чудовского инока Ев-
фимия, в упрек этому языку ставится то обстоятельство, что на нем
«растленно» произносятся сакральные имена, и прежде всего имя Иов,
которое по-латыни звучит непристойно с русской точки зрения:
«...всѣх же стыдншее — святаго многострадальнаго праведнаго Іова
имя зовут срамно Іоб» (Сменцовский, 1899, приложения, с. XV). Ср.
позднейшее обыгрывание западного (латинизированного)
произношения имени Иов в поэме Я.Б. Княжнина «Попугай» (1788—1799):
Уж стал уметь язык вертеть по-молодецки
И имя Иова горланить по-немецки...
Что имеется в виду, совершенно ясно из контекста, ср. несколько
выше в той же поэме:
Пустил слов токи сильны, скоры,
Кончая все на мать.
(Княжнин, 1961.C.7W-711)
72
Соответственно А.А. Барсов в своей обстоятельной «Российской
грамматике» (1783—1788) настаивает на введении в русский алфавит
буквы э, поскольку в противном случае местоимение эти может быть
принято за глагол emu: «без чего можно иногда читателя вовлечь в
нѣкоторую непристойность в выговорѣ, особливо когда нынѣ без
удареній пишут и печатают, напр., emu вмѣсто эти, что и одно
довольно причиною есть к употребленію начертанія э» (Барсов, 1981,
с. 245).
4 Потанин (1899, с. 184, примеч.) упоминает о «мужской брани»,
которую усваивают женщины, перенимающие мужские привычки и
одевающиеся в мужскую одежду. Таким образом, матерная брань в
устах женщины воспринималась как явление половой
травести и. Положение существенно изменилось примерно к середине XX
века, что определенным образом связано с эмансипацией женщин.
Показательно полесское свидетельство, проводящее четкое различие
между мужской и женской бранью: «Бабы праклинают, а мужики
матерацца» (Бадаланова и Терновская, 1983, с. 142).
5 Данное выражение, по-видимому, воспринималось прежде всего в
социальном ключе, то есть имело не столько непосредственно обсцен-
ный смысл, сколько смысл социального уничижения; иначе
говоря, блядин сын означало приблизительно то же, что подонок. В
этом смысле блядины дети противопоставляются отецким
(отеческим) детям (ср.: Даль — Бодуэн, II, стлб. 1879; Ларин,
1959, с. 177, 179). Соответственно, в отличие от матерных
ругательств, это ругательство не было табуировано в языке.
Семантическое сближение его с матерщиной в какой-то мере
объясняется, по-видимому, принадлежностью к общей сфере экспрессивной
фразеологии; вместе с тем это сближение определенным образом
связано с переосмыслением матерных выражений, в результате которого
они начинают восприниматься прежде всего как оскорбление матери
собеседника (ниже мы убедимся, что этот смысл не является
изначальным, см. § Ш-2).
Поучение старца Фотия представляет собой один из ранних
текстов, свидетельствующих о сближении такого рода. Об этом процессе
в какой-то мере свидетельствуют и некоторые — впрочем,
относительно редкие — списки рассматриваемого ниже (§ III-1) поучения
против матерной брани («Повесть св. отец о пользе душевней...»), где
иногда говорится, что православному христианину не подобает
«матерны лаятся и блядиным сыном» (ГБЛ, Больш. № 422, л.
381об.; ИРЛИ, Северодв. № 410, л. 43об.; ИРЛИ, Латг. № 114,
л. 427об., ИРЛИ, Пинеж. № 428, л. 1).
6 Ср. отражение этого поучения в духовных стихах, связанных по
своему происхождению с данным апокрифом (Бессонов, VI, с. 160—
174, № 592—604), а также в видениях (Орлов, 1906, с. 34).
7 Данное поучение, которое мы цитируем по публикациям
Родосского и Маркова, дошло до нас в целом ряде списков XVII—XX
веков; переделку того же источника следует видеть в статье «о
непокорном роде и поганских делах и о скверном лаянии и брани
матерной», которая встречается в старообрядческих сборниках (ср.: Лилеев,
73
1985, с. 402—403). Марков (1914, с. 21—33) выделяет три
редакции этого поучения, которые, впрочем, не покрывают всех известных
нам разновидностей. Мы ссылаемся на рукописи, а не на публикации,
только в том случае, когда то или иное высказывание отсутствует в
опубликованных версиях.
8 О происхождении данного стиха и его генетической связи с
апокрифическими текстами см. специально: Марков, 1910, с. 418—
419. В исследовании Маркова опубликовано апокрифическое сказание,
лежащее в основе стиха «Пьяница», где в уста Богородицы
вкладывается, наряду с обличением пьянства, обличение матерной брани (см.
там же, с. 319, 321); оно обнаруживает текстуальное сходство с
цитированным выше поучением (ср. в этой связи: Марков, 1914, с. 32—33).
9 Мы приводим лишь некоторые варианты данного стиха,
достаточно наглядные в интересующем нас отношении. Замечательно, что в
других вариантах стиха «Пьяница» соответствующие последствия
матерной брани предполагаются только в том случае, когда ругается
женщина; как мы уже говорили (см. § 1-2 наст, работы), в
некоторых местах запреты на матерную ругань распространяются
исключительно на женщин, и надо полагать, что подобная версия связана
именно с этой традицией. См., например: Бессонов, VI, с. ПО, 114
•(№ 576, 577); ср.: Романов, V, с. 335 (№ 17); Варенцов, 1860,
с. 159—160.
10 Отождествление родной матери и матери земли исключительно
ярко проявляется в послании Третьяка Васильева к младшему брату
Сергею (написанном не позднее 1638 г.), где материнская утроба
прямо и непосредственно именуется «землей». Адресат этого
послания, Сергей Васильев, перед тем обратился к Третьяку с письмом,
назвав себя «братом», а не «братишком», как того требовали правила
эпистолярного этикета. Третьяк Васильев делает Сергею резкий
выговор, обвиняя его в высокомерии: это служит поводом для обсуждения
прав и обязанностей старшего брата перед младшим. Ср. здесь:
«Государю моему брату Сергѣю Васил(ь)евичю Тренко Васильев
челом бьет. Писал ты ко мнѣ о своем здоровьи и я твое здоровье
слышати рад... Да забыв ты отче благословение и матерне прощение и
свое неразумие и невѣжество что еси учинил — вмѣсто благодеяния
моего мнѣ злобу: пишеш ко мнѣ з гнѣвом, а иное шпынством и с
лаею. Начало твоего писма к лицу моему: „раб брат твоі челом бьет".
В том бо словеси двоя рѣч: смирение и величание. Рабом достоит
писати смирения раді, понеже всегда раб страха раді благое творит, а
братом писал еси величания раді, мниши себѣ равна мнѣ; негли нѣсть
тако. Посѣяй нас един и земля, ея же нарицаем
утроба материя, от нея же изыдохом, едина есть,
токмо по благодати, даннеі нам от Бога и по преданию старец исконі
болшиі старѣйшинство и честь первую имат; мочно было тебѣ закона
ради и менши того — и братишком написатца ко мнѣ» (ЦГАДА, ф.
181, Архив Мин. иностр. дел, № 605/1113, л. 283об. — 284об.; ср.
неопубликованную статью В.Ф. Ржиги «Т. Васильев и его новое
письмо» — ГБЛ, 446. 9. 14). Итак, подобно тому как земля
именуется «матерью», родная мать может именоваться «землею»!
74
11 Это обстоятельство может специально подчеркиваться, как это
видно, например, из тех же материалов Полесской экспедиции. Так,
информантка, сообщившая воспроизведенное выше поверье, настаивала
на том, что тот, кто ругается матерно, сквернит свою
собственную мать, а не мать собеседника: «Пад нами земля гарыть: матки
валим — матку родную ругаэм. Мы матку сыру землю праругаэм.
Ты ж праругау сваю матку и землю святую. Ты ж ругаэшси — ты
думаэш: ты яго матку ругаэш, а ты на сваю матку ругаэшса». Ср.
также характерный для данного региона ответ на матерное
ругательство: «Сукин сын, сучку кручонаю ругаэш, та матку сваю ругаэш, а не
мяне. Ай, матку тваю такую!» или: «Сукин ты сын, матку сваю ругаэш,
сучку кручаную!» и т. п. (Топорков, 1984, с. 231—232, № 16, 13).
12 Ср. в материалах Полесской экспедиции: „Земля-маты, шо
родит питание, хлиб.., а Божая мати, вона растьіт людэй... Одная
маты — Божая Маты, а другая мати — шо хлиб дае [т.е. земля]..."
(Оболенская и Топорков, 1990, с. 169).
13 В «Повести о Мамаевом побоище» описывается, как земля
перед битвой плачет «надвое», предвещая смерть воинам. При этом
татарская земля, плачущая «еллинским», то есть языческим, гласом,
уподобляется вдове, плачущей о чадах своих; между тем русская земля
уподобляется девице, обручающейся с мертвыми воинами (см. изд.:
Дмитриев и Лихачева, 1982, с. 40, 61, 95, 118). Такой же двойной
образ земли — вдовы и девицы — представлен и в апокрифическом
пророчестве Исайи о «последних днех», где речь идет о наказании
рода человеческого за беззакония (Порфирьев, 1877, с. 266—267).
14 Необходимо иметь в виду, что «чистота» вообще выступает у
восточных славян прежде всего как моральное, а не как физическое
свойство (см.: Зеленин, 1927, с. 250, 294); отсюда, например,
принято было умываться при общении с иноверцами, между тем как баня,
вопреки своему гигиеническому назначению, воспринималась как
«нечистое» место. Вместе с тем земле может приписываться и
физическая чистота (характерно в этой связи, что русские могут
умываться землей — Афанасьев, I, с. 143—144; Смирнов, 1913,
с. 281); таким образом, моральные и физические свойства в данном
случае не противопоставляются.
15 Отметим в этой связи выражение мертвая клятва, которое
относилось, может быть, именно к клятве такого рода, то есть означало
клятву костьми. Ср.: «Мяртвымі кляцьбамі клянецца, што яна не
брала» (Гринблат, 1979, с. 198).
'° Мифологические представления о землетрясении раскрываются в
белорусском поверье, согласно которому земля покоится на рыбе и
колеблется от ее движения; движение рыбы и, соответственно, земли
может привести к концу света (Федеровский, I, с. 163, № 497; ср.:
Щапов, I, с. 111). Поскольку рыба являет собой вообще один из
образов мифологического Змея, то есть противника Громовержца (см.:
Успенский, 1982, с. 143, 146), мотив трясения земли оказывается
косвенно связанным с Громовержцем.
17 Замечательно при этом, что выражение psia krew и
соотнесенные с ним выражения могут не восприниматься как оскорбление (ср.:
75
psia krew kochana — Франко, 1892, с. 756); это в точности
соответствует восприятию матерной брани у русских, ср. выше, § 1-2.
Приведенные польские выражения почерпнуты из работ Франко (1892,
с. 756; 1895, с. 116), Густавича (1881, с. 154), а также из словарей
Карловича и др. (V, с. 412), Дорошевского (VII, с. 685); Франко
ссылается при этом и на аналогичные немецкие выражения, типа
Hundeseele, Hundstoff и т.п. Отметим еще, что некоторые из
цитированных польских ругательств находят прямое соответствие в
словенских ругательствах — таких как pasja para или pasja noga
(Плетершник, II, с-. 11); польск. psia jucha ближайшим образом
соответствует укр. собача юха (Гринченко, IV, с. 163).
18 Это утверждение представлено не во всех версиях данного
поучения. Существенно вместе с тем, что оно содержится в ряде
наиболее ранних его списков (см.: Марков, 1914, с. 24, 28; ГБЛ, Больш.
№ 22, л. 382об.).
19 В сказании о чуде, бывшем в Тобольске в 1661 году в день
Казанской Божьей Матери, дьячку Иоанникию, читавшему на
клиросе, является некий святитель и говорит ему, что люди впадают в грех
«мгйрьную брань лающе яко псы и тоя ради скверные брани сама
Владычица наша трепещет непрестолно [sic!] день и нощъ со всеми
небесными силами» (ГБЛ, Унд. № 643, л. 394; ср.: ГБЛ, ОИДР
№ 213, л. 5); представление о том, что Богородица на престоле
трепещет от матерной брани, широко распространено (см. выше, § III-1,
§ ііі-б).
Ср. в Статуте Казимира Великого XV века: «хто кому м(а)т(е)ри
лаеть... а не о(т)зоветь... тогды имееть речи солган яко пес» (Сл. ст.-
укр. яз., II, с. 140). В данном случае актуализируется и связь пса с
идеей обмана (см. ниже, экскурс I); так или иначе, и в этом случае
проявляется исходная соотнесенность матерной брани с псом.
20 Сказанному не противоречит то обстоятельство, что связь
указанных значений лучше представлена в восточнославянских языках,
чем, например, в южнославянских. Так, для южнославянских языков
не столь характерно значение 'бранить, ругать'; в свою очередь,
данный глагол приобретает здесь специфическое значение 'подстерегать,
сидеть в засаде', нехарактерное для восточнославянских языков
(Соболевский, 1910, с. 166, примеч. 1; Мещерский, 1978, с. 21).
Значение 'бранить, ругать' может переходить в более общее значение
'гневаться', которое южнославянские книжники считают характерным
для русского употребления; по словам Константина Костенечского
(XV в.), русские молились Богу, говоря: «Не лай на ме хосподине,
си рѣч не карай ме, или не раздражаисе на ме» (Ягич, 1896, с. 109,
ср. с. 89). Действительно, в древнерусской «Пчеле» читаем: «рьцѣмъ
къ своей дШѢ бъ лакть намъ нынѣ», где глагол лаеть соответствует
греч. ôfip&t (Семенов, 1893, с. 185).
21 Ср., например: «таки жонки матюгацки, таки уж собацливы»,
«така матюклива, така собачлива» и т.п. (Арх. словарь, s.v. матюгач-
ка, матюкливый).
22 Составители старопольского словаря толкуют слово psac как
'оскорблять, обзывая кого-либо псом' ('aliquem cum contumelia canem
76
apellare'), но такая конкретизация значения не подтверждается тем
материалом, который фигурирует в словарной статье.
23 Ср. такие выразительные сочетания в польских текстах XV
века, как psota fornicacio или concupiscencia psothi (Сл. ст.-польск. яз.,
VII, с. 391).
24 Ср. апокрифическое «Прение Петрово с Симоном волхвом», где
упоминается пес, говорящий «человеческим гласом» (Лавровский,
1858, с. 15; Измарагд, 1912, I, л. 80). Отметим в этой связи
народные поверья о людях, которые знают собачий язык (см. например:
Романов, IV, с. 142, № 81, ср. с. 218, № 63). Любопытно, что в
одном азбуковнике XVII века («Книга, глаголемая гречески
алфавит» — Б АН, Арх., д. 446) мы находим словарную статью:
«Скиноглосса — собачий язык» (л. 208).
25 Равным образом в греческом по своему происхождению Житии
св. Анина разбойник, одержимый бесом, начинает лаять по-собачьи.
Ср. соответствующий текст в старославянском переводе, по Супрасль-
ской рукописи: «отъ АХА лжкава порАженъ. нача самовнднѢ. ржцѣ
ОПАКЫ СЪВДЗОуА СИ. И НА ОБЛИЧбНЬК НАЧАТИЮ НбЧЬСТИІА СВОКГО СЪВрАШТАТИ
ça. пьсьскы же. лаа. и пѣны из оусть тѣштд (Супр. рук., с. 560).
Исходный греческий текст, к сожалению, неизвестен.
В древнегреческой магии имитация собачьего лая служила для
того, чтобы вызвать Гекату, которая ассоциировалась вообще с собакой
(Шольц, 1937, с. 43; ср. ниже, экскурс I).
26 В 1680—1690-е годы архимандрит Симонова монастыря
Гавриил Домецкий заставлял водить провинившегося монаха на веревке
по трапезе и лаять по-собачьи («брехать», как «брехал» он на
архимандрита) (Харлампович, 1914, с. 290, примеч. 6; ср.: Яхонтов,
1883, с. 13). Здесь имеет место реализация метафоры (брехать =
ругать, клеветать, обманывать), но вместе с тем и спорадическая
актуализация языческих представлений, как это характерно вообще для
культуры барокко: в историческом контексте это выглядит как
приобщение к анти-поведению и одновременно как религиозное
разоблачение, то есть обличение в язычестве. Подобный обычай
существовал в свое время в Польше: уличенных в клевете заставляли
«лезть под стол и лаять там по-собачьи в знак того, что они и прежде
врали как собаки» (Потебня, 1914, с. 158); на польский обычай,
вероятно, и ориентировался Гавриил Домецкий, выходец из Юго-
Западной Руси. Польская практика также имеет, в сущности,
характер разоблачения, которое может рассматриваться в принципе и как
обличение в язычестве. И позднее, в 1767 году, Екатерина II повелевает
расстричь бывшего митрополита Арсения Мацеевича и переименовать его
в «Андрея Брехуна». Во всех этих случаях обыгрывается прежде всего
метафорическое значение глагола брехать, связанное с ложью, клеветой
(ср. ниже, экскурс I); это значение не противоречит общей семантике
бранного выражения, а скорее представляет собой ее частное проявление.
Для нас существенно, что каждый раз имеет место символическое
уподобление человека псу по признаку речевого поведения; такое же
уподобление прослеживается, как мы видели, и в представлениях о матерной
брани. Вообще об уподоблении человека псу см. ниже, § ІѴ-4.
77
27 По белорусской легенде, собака некогда была человеком (для
типологических параллелей ср.: Лукина, 1983, с. 227; Иванов, 1964,
с. 252), причем служила сторожем в раю; она «сбрехала», т.е.
солгала, и за это Бог превратил ее в собаку: «Собака быв чаловек: у рай
быв сторожом, — сперва, ще от Адама. Али нешто украв, проштра-
пився, да й збрахав. Тоды Бог кажець: ну, будзь жа ты собаком!
Дык ён и став собаком. И цяпер двора сцережець и брешець. Во й
собака» (Романов, IV, с. 168, № 24; ср.: Гнатюк, 1902, с. 76,
№ 85). Согласно другой легенде, записанной на Украине, когда
Христос ходил по земле, мальчик погнался за ним, лая подобно собаке; за
это собака должна лаять до скончания века (Чубинский, I, с. 52—
53). Характерно, что в обоих случаях греховность собаки связывается
именно с лаем («бреханием»). Ср. еще пословицу: «Не бей собаки, и
она была человеком» (Даль — Бодуэн, IV, стлб. 334).
Соотнесенность собаки и человека проявляется, между прочим, в обыкновении
называть детей щенками и т.п. Так, например, в Полесье взрослые
при обращении к детям называют их иццик (от цюця 'собака'),
кутюнічка и т.п. (Полесский архив: Ровенская обл., Дубровецкий р-
н, дер. Лесовое, 1978 г.; Ровенская обл., Рокитновский р-н, дер.
Каменное, 1978 г.); ср. еще щенок 'молокосос' (Михельсон, II, с. 546,
№ 10); пащенок 'молокосос' (Даль — Бодуэн, III, стлб. 63),
'испорченный малолеток' (Смирнов, 1901, с. 127).
28 Заслуживает внимание в этой связи специфическая полисеман-
тичность глагола собачить(ся), объединяющая его с обсценной
лексикой: подобно другим словам, так или иначе связанным с матом, глагол
этот окказионально может принимать самые разнообразные значения.
Констатируя эту особенность русской обсценной лексики, Дрейзин и
Пристли пишут: «A mat verb can mean any intensive action from the
total set of actions, and will acquire a specific meaning from this total set
according to its morphological pattern and according to the contextual
pattern of verbal complements, the lexical items occuring in these
complements, and the whole context»; соответственно для таких глаголов
предлагается термин PRO-verbs: «PRO-verbs are substitutes for verbs»
(Дрейзин и Пристли, 1982, с. 241, 234; ср. еще: Ворд, 1982, с. 21 —
23). И далее авторы замечают: «It should be mentioned that there is at
least one non-obscene colloquial Russian verb which acts as a PRO-verb
in the same way as mat verbs, namely sobâcit (sja). Thus, prisobâcit ' may
be used instead of priait' 'to sew on', or instead of pribit' 'to nail on',
indeed instead of the more general verb pridélat' 'to attach to'; otsobâcit'
replaces otkryt' \o open', otporot' 'to tear off'; and so on. As with mat
verbs, these examples may be multiplied with various prefixes and with
various kinds of contextual complements» (там же, с. 242). Мы вправе
думать, что эта особенность глагола собачить(ся), объединяющая его
с матерной лексикой, не случайна: употребление данного глагола
отражает, можно думать, употребление отыменного глагола,
производного от слова со значением 'membrum virile'. Ср. в этой связи ниже
(§ ІѴ-4.2) замечания относительно этимологии слова пес.
29 Ср. представление о том, что ведьмы боятся собак (Афанасьев,
I, с. 734; Мошиньский, II, 1, с. 559; Кулишич, Петрович и Пантелич,
78
1970, с. 232); то же говорят о лихорадке и других болезнях, которые
воспринимаются при этом как разновидность нечистой силы (Потебня,
1914, с. 226; Миллер, 1876, с. 208; для типологических параллелей
см.: Шольц, 1937, с. 10—12 — о греках и римлянах; Крейнович,
1930, с. 48—49 — о нивхах). Ср. в этой связи апокрифическое
«Сказание, како сотвори Бог Адама», где собака лает на дьявола
(Кушелев-Безбородко, III, с. 13). Способность чуять нечистую силу и
отпугивать ее приписывается иногда некоторым специальным
разновидностям собак (см.: Афанасьев, I, с. 734; Мошиньский, 1931; Мо-
шиньский, II, 1, с. 559, 611; Клингер, 1911, с. 260—261; Гринченко,
IV, с. 543; Чубинский, I, с. 53, 198; Якушкин, 1983, с. 111,
№ 232). Так воспринимаются, в частности, «четырехглазые» собаки,
то есть собаки с отметинами над глазами; замечательно при этом, что
аналогичное представление наблюдается у иранцев, индусов,
германцев, а также у угро-финских и африканских народов (Вильман-
Грабовская, 1934, с. 36—39; Камменхубер, 1958, с. 303; Миллер,
1876, с. 203—205; Рапопорт, 1971, с. 30; Снесарев, 1969, с. 319,
322; Кречмар, И, с. 3; Гюнтерт, 1932, стлб. 476—477; Франк, 1965,
с. 209—213).
30 Ср. в этой связи сообщение византийского хроникера (так
называемого продолжателя Феофана — Theophanes continuâtes) об
обстоятельствах, при которых в 817 году был заключен мир между
византийским императором Львом V Армянином и болгарским князем
Омортагом, когда византийский император принес клятву по
болгарскому обычаю, а болгарский князь — по христианскому обычаю
(Продолжатель Феофана, 1992, с. 18, ср. с. 271). Из этого
сообщения видно, что болгары совершали клятву над какими-то жертвенными
собаками (см.: Златарский, 1907, с. 252—253, ср. с. 258; Златарский
скептически относится к этому сообщению, однако его скепсис едва ли
оправдан — ср. в этой связи: Кацаров, 1912, с. 115—119). Для
типологических аналогий см.: Лаш, 1908, с. 50—52; Лукина, 1983,
с. 231. О жертвоприношении собаки у болгар см. еще: Арним, 1933;
ср.: Бешевлиев, 1936, с. 25—26; Трифонов, 1937, с. 264 и ел.
31 Такова, между прочим, была обычная клятва Сократа, см.,
например, у Платона («Апология Сократа», 2le; «Горгий», 429Ь;
«Государство», 592а). Считается, что Сократ клялся таким образом
для того, чтобы не поминать богов — упоминание богов в обычных
разговорах он находил, видимо, неблагочестивым. В платоновском
«Горгий» Сократ клянется «собакой, египетским богом», как бы
подчеркнуто апеллируя к чужой традиции; тем не менее такого рода
клятва отражает, по-видимому, автохтонную архаическую традицию (ср.:
Клингер, 1911, с. 232).
32 В апокрифическом «Сказании, како сотвори Бог Адама»
Господь творит собаку из нечистот, причем создание собаки связывается
здесь — знаменательным образом — с созданием человека и вместе с
тем с борьбой Господа и Сатаны. Согласно этому апокрифу, Господь,
сотворив Адама, оставил его лежащим на земле, после чего пришел
Сатана и измазал Адама калом, тиной и соплями. Господь разгневался
на дьявола и проклял его, «и діаволъ исчезе, аки молнія, сквозь землю
79
оть лица Господня». «Господь же, снемъ съ него пакости Сотонины,
и въ томъ сотвори Господь собаку, и смѣсивъ со Адамовыми слезами
и теслою [тесаком] очисти его аки зерцало оть всѣхъ сквернъ...»
(Кушелев-Безбородко, III, с. 12—13). Сотворение собаки предстает,
таким образом, как очищение человека от скверны: человек и собака
оказываются противопоставленными — в самом акте творения — как
чистое и нечистое создание.
33 Отметим также равнозначные украинские клятвы: «сучий син
буду» и «турецкий син буду» (Номис, 1864, № 6771—6772). Ср.
украинские поговорки: «Жид, лях и собака — все віра однака»,
«Ксёндз, жид та собака — усе віра однака», «Невіра а собака, то
една присмака» (Номис, 1864, № 8098—8100; Франко, 1895,
с. 119).
34 Ассоциация пса и иноверца легла в основу сюжета былины
«Грозный царь Иван Васильевич», где рассказывается о том, как
Иван Грозный приказывает Малюте казнить своего сына, Федора
Ивановича; Малюта убивает кобеля вместо царевича и приносит царю
собачье сердце, говоря, что это сердце его сына; царь удивляется: «Да
что же от сердца песей дух пахнё?» — и Малюта объясняет: «Он
закону-то был не нашево, порядку был не хорошего, оттово ли от
сердца песей дух пахнё» (Гильфердинг, III, с. 304, № 244).
35 Вместе с тем, как отмечает Тредиаковский в «Трех
рассуждениях о трех главнейших древностях российских», так говорят о
недобросовестных людях, то есть о тех, кому нельзя верить. Ср.: «Сербы не-
добросовѣстныхъ людей бранять: Пасія вера, вмѣсто Песія вѣра»
(Тредиаковский, III, с. 393, примеч. 2). Соответственно, в русском
блатном жаргоне сука означает представителя воровского мира,
который преступил моральные устои: так называют вора, который нарушил
воровской закон, вступив в сотрудничество с властями; замечательно
при этом, что и сами «суки» могут называть себя таким образом, то
есть данная характеристика имеет абсолютную, а не относительную
значимость.
36 Ср. аналогичное белорусское присловье, где вместо собаки
фигурирует волк: «Ci 2yd, ci wyôyk, to ysiô ryoyno, bo i u Zyda duszy
nima» (Федеровский, I, с 237, № 1139).
37 Это противопоставление в славянских языках может выражаться
в категориальной оппозиции „личного — неличного".
38 В народной легенде Господь проклинает собаку, говоря ей:
«Штоб ты цирковныва звону ни слыхала, у Божий храм ни хадила!»
(Афанасьев, 1914, с. 100, № 14). Генетически некоторые из
цитированных пословиц могут отражать связь собаки с лунарным культом
(см. ниже § Ѵ-1).
39 Следует иметь в виду вообще, что понятие веры предполагает
определенную социальную организацию. Вера связана с
представлением о Божественном миропорядке и, следовательно, с организацией
мира «общины, общества». Этимология слова мир при этом отражает
индоевропейскую мифологию Митры; семантика этого слова
воплощает именно «идею Божественного договора с людьми, реализованную в
социальном (и пространственном) плане», ср. иранск. mitra в значении
80
'договор'; вообще основная функция Митры — объединение людей в
особую социальную структуру (в «мир») и установление договора с
ними (Топоров, 1973, с. 367—369). Показательно соотнесение этих
понятий в таких пословицах, как «мир, да Бог, да правда» или «мир
да правда, человек да ложь» и т.п.
40 См. об этом в послании Посошкова к Стефану Яворскому
(Срезневский, 1900, с. 35, 39, 40), а также в сочинениях протопопа
Аввакума (Аввакум, 1960, с. 198, 298). Образ трупа, отданного на
съедение псам и на растерзание птицам, вообще говоря, может быть
заимствован из Библии: так Господь карает тех, кто отступил от его
заветов (III Царств XIV, И, XVI, 4, XXI, 24; ср.: III Царств XXI,
19, 23, XXII, 38; IV Царств IX, 10, 36). Вместе с тем и греки, по
свидетельству Гомера («Илиада», XXII, 256—259, 335—336, 339—
340, 349, 354; XXIII, 21), поступали таким образом с трупами тех,
кого они считали недостойными погребения (ср.: Шлерат, 1954,
с. 27). Как бы то ни было, образ трупа, предоставленного псам и не
подлежащего захоронению в земле, явно соотносится со славянскими
языческими представлениями о чистоте земли и нечистоте пса.
Отметим, что на съедение псам было брошено тело Стеньки
Разина после четвертования (см., например: Маньков, 1975, с. 75, 123,
126); это отвечает восприятию Разина как колдуна.
41 Отмена этого чина при Никоне может быть поставлена в связь
с тем обстоятельством, что подобного обычая не было в Юго-
Западной Руси (ср.: Никольский, 1885, с. 304): как известно,
никоновские реформы в значительной степени сводятся к ориентации
именно на юго-западнорусскую церковную традицию (см.: Успенский,
1983, с. 85 и ел.). По свидетельству Никольского, подобное правило
не встречается в греческих требниках, где может предусматриваться
возможность осквернения церкви неверными, но отсутствует
упоминание о псе (Никольский, 1885, с. 297—298). Смирнов, впрочем,
цитирует аналогичное греческое правило с упоминанием пса, но
любопытно, что правило это принадлежит не греку, а славянину (Смирнов,
1913, прилож., с. 406, 409).
Вместе с тем аналогичное отношение к собаке наблюдается и в
Древней Греции, где собаки не допускались в определенные места,
почитавшиеся как святые; так, в частности, они не допускались на
остров Делос (считавшийся местом рождения Аполлона и Артемиды)
и в афинский акрополь (Шольц, 1937, с. 7—8, 44, 49, 51). В Риме
жрецу Юпитера (Flamen Dialis) было запрещено касаться собаки и
даже произносить само это слово (Келлер, I, с. 97—98; Орт, 1913,
стлб. 2574—2575; Баррисс, 1935, с. 38). Вне зависимости от истоков
данной традиции для нас существенно констатировать ассоциацию пса
и иноверца в русском религиозном сознании.
42 См. еще свидетельство Олеария (1647, с. 177; 1656, с. 303;
1906, с. 326). Одним из обвинений в адрес Лжедмитрия было то, что
он ходит в церковь «с поляками, которые водят с собою стаи собак и
оскверняют святыню» (Петрей, 1867, с. 223; ср.: РИБ, XIII, стлб.
510): осквернение святыни имеет при этом сугубый характер,
поскольку церковь оскверняется как собаками, так и иноверцами
81
(поляками). Ср. пословицу: «И в Иерусалиме собаки есть» (Даль —
Бодуэн, IV, стлб. 333) — святое место, вообще говоря, предполагало
бы отсутствие собак, и таким образом данная пословица означает
примерно то же, что «И на солнце есть пятна».
43 Наименование медведем отражает медвежий культ в славянских
языческих представлениях (ср.: Успенский, 1982, с. 85—112, 163—
166).
44 Любопытный пример символического уподобления такого рода
мы находим в деле патриарха Никона. После того, как Никон в 1658
году оставил патриарший престол и устранился от управления
церковью (настаивая, однако, на сохранении патриаршего титула), боярин
С.Л.Стрешнев научил свою собаку изображать Никона (см.: Гиббе-
нет, I, с. 111, 133, 227; Гиббенет, II, с. 49, 343, 516—517, 549,
1021, 1061; Субботин, VII, с. 101 ел.). Вот как рассказывает об этом
сам Никон в письме к константинопольскому патриарху Дионисию
(1666 г.): «И царского величества бояринъ Семенъ Лукьяновичь
Стрешневъ научи едину собачку сидѣти и предними ногами, яко же и
на Вознесеніи Своемъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ воздвиже руки
и благослови учениковъ Своихъ. Сице и та собачка предними ногами
поругаяся благословенію Божію. И называше ту собачку Никономъ
патріархомъ. И мы, слышаще такое бесчиніе и пребеззаконіе, прокля-
хомъ его и отъ христіанства отлучихомъ его» (ЗОРСА, II, с. 527—
528); о том же еще раньше (около 1663 г.) Никон писал и царю
Алексеею Михайловичу (там же, с. 552). Итак, Никон обвиняет
С.Л. Стрешнева в кощунстве (и, соответственно, отлучает его от
церкви); вместе с тем, с точки зрения Стрешнева, сам Никон нарушил
канонические правила и не является более патриархом. Заставляя свою
собаку изображать архиерейское (патриаршее) богослужение Никона,
Стрешнев как бы разоблачает Никона как лже-архиерея и
лжепатриарха (напомним, что Собор 1660 г. постановил лишить Никона
архиерейства и священства). Таким образом, для Стрешнева это акт
символического обличения, который соответствует традиции
обличительного наименования чернеца псом; ср. в этой связи рассмотренные
выше (примеч. 26) примеры уподобления человека псу в плане
речевого поведения.
45 Отношение к собаке разительно отличается от отношения к
кошке, которая понимается, напротив, как чистое животное.
Соответственно, в отличие от собаки кошка может находиться в церкви и
даже жить при церкви, не оскверняя ее. Характерно в этом плане, что
кошку могут называть христианскими именами (Васька, Машка —
ср.: Никольский, 1900, с. 6; Брандт, 1882, с. 61; Успенский, 1982,
с. 131), что для собаки ни в коем случае недопустимо, ср.: «Собаку
грешно кликать человеческими именами» (Даль — Бодуэн, IV, стлб.
334). В тех случаях, когда собаку называют именем человека, имя это
не входит в православные святцы, а заимствовано из иноязычного
источника. Ср., между тем, обычай давать человеческие имена
домашней скотине (Мошиньский, II, 1, с. 561).
46 Отсюда объясняется, между прочим, песья голова как символ
опричнины: ассоциация опричников с бесами, которая имела, по-
82
видимому, вполне сознательный характер (см.: Успенский, 1982а,
с. 213, 226—228; Панченко и Успенский, 1983), соответствует
ассоциации пса с антихристианским, бесовским началом. Образ собаки
амбивалентен, он ассоциируется как с собачьей преданностью, так и с
собачьей враждой, злобой, и именно эта двойственность обыгрывается,
кажется, в символике опричнины (ср.: Полосин, 1963, с. 150—154,
188) — преданность царю сочетается у опричников с враждебностью
к земщине, по отношению к которой опричники являются в функции
бесов.
47 Иначе объясняются лат. dies caniculares или нем. Hundstage,
англ. dog-days, чешек, psi dni как обозначение периода времени с 23
июля по 23 августа, связанное с восходом Сириуса (Canicula) —
самой большой звезды, входящей в созвездие Пса (Canis): восприятие
пса опосредствовано в данном случае астральной мифологией.
Аналогичное выражение с таким же значением зафиксировано и в русском
языке, ср. песьи дни — 'каникулы, пора жаров' (Даль — Бодуэн,
III, стлб. 259); отсюда объясняется, между прочим, выражение
собачья жара (см.: Фасмер, II, с. 180), которое, в свою очередь,
обусловило, по-видимому, — вторичным образом — выражение собачий
холод. Об отражении культа пса в астральной мифологии см. вообще:
Иванов, 1977, с. 207—208; ср.: Бейер, 1908; Франк, 1965, с. 204—
208.
48 Так, например, ритуальное катание с горы в чистый
понедельник, наблюдаемое в Архангельской губернии, соответствует
традиционному масленичному катанию (Богатырев, 1916, с. 79); обыкновение
привязывать колодку к ногам в этот день, принятое в Волынской
губернии, находит соответствие в аналогичном масленичном обряде
(Соколова, 1979, с. 54—55; ср.: Чубинский, III, с. 7—8); и т.п.
Равным образом, у русских чистый понедельник может называться
рот выполоскать (Юль, 1900, с. 165), тогда как украинцы
называют этот день полоскозуб (Чубинский, III, с. 8); это связано, конечно,
с продолжением ритуального масленичного пьянства — в этот день
принято полоскать зубы, то есть напиваться и веселиться (см.:
Макаренко, 1913, с. 152; Щуров, 1867, с. 203; Чубинский, III, с. 8;
Романов, VIII, с. 141; Малинка, 1898, с. 61; Соколова, 1979, с. 55;
Каравелов, 1861, с. 191). Аналогичное свидетельство находим в
записях Ричарда Джемса 1618—1619 годов (Ларин, 1959, с. 168—169).
Мы вправе заключить, по-видимому, что чистый понедельник,
вопреки церковным установлениям, мог восприниматься не как
постный день, а как заговены на Великий пост. Такое восприятие
действительно зарегистрировано как в России (в Архангельской
губернии), так и в Болгарии, где в этот день принято доедать скоромную
пищу (Богатырев, 1916, с. 79; Каравелов, 1861, с. 191). Во всех этих
случаях чистый понедельник предстает, в сущности, как последний
день масленицы.
49 Представлению о нечистоте собаки у славян разительно
противостоит почитание собаки в иранском мире; это тем более любопытно,
что само слово собака представляет собой, как полагают, иранское
заимствование (см.: Фасмер, III, с. 702—703; ср., впрочем, иначе:
83
Трубачев, 1955; Трубачев, 1960, с. 29). Согласно доктрине зороаст-
рийцев, собака, наряду с человеком, относилась к чистым существам
(Бойс, 1975, с. 297; Вильман-Грабовская, 1934, с. 43; Дорошенко,
1982, с. 54); в предписаниях, касающихся осквернения и очищения в
погребальном обряде, не делается различия между собакой и
человеком (Вильман-Грабовская, 1934, с. 61; Камменхубер, 1958, с. 306;
Иностранцев, 1900, с. 99; Рапопорт, 1971, с. 29). Соответственно,
зороастрийский обряд очищения в некоторых случаях предписывает
прикосновение к собаке, которое выполняет ту же функцию, что и
ритуальное омовение и произнесение очистительной клятвы (Дюшен-
Гийемен, 1961, с. 109—ПО; Вильман-Грабовская, 1934, с. 43;
Дорошенко, 1982, с. 59). Если у славян присутствие собаки в принципе
противопоставляется сакральному действу и может даже
рассматриваться как препятствие, исключающее возможность общения с Богом,
то в зороастрийском культе собака оказывается, напротив,
действенным элементом обряда: присутствие собаки предполагалось, в
частности, при посвящении в священнослужители, а также в похоронном
ритуале, когда собака должна была находиться при умирающем, — в
обоих случаях роль собаки сводится именно к очищению (Дюшен-
Гийомен, 1961, с. 104, 109—110; Камменхубер, 1958, с. 302 ел.;
Иностранцев, 1911, с. 559—560; Рапопорт, 1971, с. 30). Вместе с
тем, если славяне на растерзание псам отдавали трупы нечистых
покойников (в сущности, лишая их таким образом погребения), то у
иранцев такой способ захоронения является вполне обычным
(Виндегрен, 1965, с. 14, 35, 132; Иностранцев, 1900, с. 100 ел.;
Рапопорт, 1971, с. 9, 15, 16, 23, 24, 27, 28, 110—111). В «Авесте»
установлены строжайшие наказания за всякий вред, причиненный
любой собаке, даже бешеной; наряду с запрещением людоедства здесь
специально оговаривается и запрещение поедания собак (Вильман-
Грабовская, 1934, с. 31—33; Миллер, 1876, с. 197—198; Рапопорт,
1971, с. 28—31) — особое отношение к этой проблеме у славян
отразилось в фразеологизме собаку съесть (см. экскурс II).
Подобное отношение к собаке наблюдается, вообще говоря, и у
других народов (в частности, у алтайских народов, у палеоазиатов —
см.: Лукина, 1983, с. 229—230; Баялиева, 1972, с. 19—20), однако
иранцы представляют для нас особый интерес ввиду древнейших
ирано-славянских контактов в духовной сфере, которые нашли отражение,
как известно, в славянской религиозной и культурной терминологии
(см.: Якобсон, 1950, с. 1025—1026; Топоров, 1968, с. 108): на фоне
этих контактов отмеченные различия предстают особенно отчетливо.
50 Ср. «Описание книги сея „государства китайского или хинского»
(утраченная рукопись 1731 г., Смоленского педагогического института;
цитируем по картотеке Сл. РЯ XI—XVII вв., s.v. собачий): «А доч
его [хана] тому рада была, чтоб с собакою совокупитися и тако сотво-
риша, и в три лѣта родила 6 мужеска полу и 6 женскаго, и от того
родися весь собачей род и живет на горах». Легенды приписывают
такое же происхождение Аттиле, откуда как гунны, так и венгры
могут считаться песьим родом (Веселовский, 1888, с. 309—311, 354;
Франко, 1892, с. 750). Вместе с тем так же объясняется и происхож-
84
дение Полкана (Polican), то есть полупса-получеловека, в итальянской
повести о Бове (Buovo cTAntona); это отразилось и в некоторых
славянских версиях этой повести, согласно которым Полкан «до поеса
чоловѣк, ано нижеи к пес, ѵѵт пса и wt жоны рожон ест» *
(Веселовский, 1888, с. 310, и прилож., с. 154; ср.: Унбегаун, 1969,
с. 219; Кузьмина, 1964, с. 19, 31).
Представление о происхождении той или иной народности от пса
может отражаться в наименовании представителей этой народности
«слепыми», ср. в этой связи такие прозвища, как Blinde Hessen или
Blinde Schwaben, при том, что гессенцы еще в XVI—XVII веках
назывались Hund(e)hessen, тогда как о швабах рассказывали, что они,
подобно щенятам, родятся слепыми и прозревают лишь на 9-й или 10-
й день (Гримм, 1868, с. 393—394). Такие же прозвища отмечаются
и у славян (Потебня, 1880; Франко, 1892); так, например, именовали
друг друга мазуры и украинцы в Галиции, причем мазуры
подчеркивали песью природу украинцев, и наоборот. Ср.: «Spotkal raz Mazur
Maiorusa i pyta go: 'A czy to prawda, ze sic Rusinek slepy rodzi?' 'Ano,
prawda, — odrzecze, — i dla tego zawsze najmujemy Mazura, zeby mu
przez siedem dni w d... dmuchal. dopôki nie przejrzy'»; в этом диалоге
каждая сторона в сущности приписывает другой признаки собачьей
породы, ср. еще slepy Mazur как обычное прозвище Мазуров (Франко,
1892, с. 755—756; ср. Федеровский, I, с. 233, № 105), а также
sleporôd как разновидность польской брани, семантически связанной с
psia krew (Потебня, 1880, с. 170). Отсюда же объясняется и
прозвание вятчан и пошехонцев «слепородами» (Даль — Бодуэн, IV, стлб.
275; Даль, 1904, III, с. 51; Потебня, 1880, с. 173).
51 Рассматриваемая здесь этимология была предложена в устной
беседе В.Н. Чекманом в ходе обсуждения предварительного варианта
настоящей работы. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Валерия
Николаевича за плодотворную идею; благодарю также В.Н. Топорова
и СЮ. Темчина за советы и консультации по данному вопросу.
Необходимо подчеркнуть, что слово пес до сих пор не имело
удовлетворительной этимологии. Попытки связать это слово с пестрый или с
лат. pecus 'скот' (см.: Фасмер, III, с. 248; Трубачев, 1960, с. 19 ел.;
Гамкрелидзе и Иванов, 1984, с. 590, примеч. 2), на наш взгляд,
неубедительны.
52 Ср. песий лай как предвестник свадьбы в русских гаданиях (см.
выше, § ІѴ-3.1). В других случаях девушки при гадании предлагают
псу еду, и он предвещает брак, выбирая еду будущей невесты
(Никифоровский, 1897, с. 51, № 325; Мошиньский, II, 1, с. 411; ср.
тот же обычай и у немцев: Гюнтерт, 1932, стлб. 471—472), что
может трактоваться, вообще говоря, и как реликт ритуального
жертвоприношения в свадебном обряде.
53 Дополнительного объяснения требует сохранение исконного s,
поскольку в этих условиях оно должно было бы перейти в х, т.е.
ожидалась бы форма *ріхй (пьхъ); на существование такой формы
могла бы указывать, вообще говоря, форма Пхово, зарегистрированная
в новгородско-псковской топонимике (Новг. писц. кн., VI, с. 326,
398, 424), однако форма эта малопоказательна, поскольку может
85
объясняться и как результат диалектного изменения s в х. Сохранение
исконного звука может объясняться тем, что рассматриваемое слово
относится к особому разряду табуистической лексики (см. ниже): в
словах такого рода фонетические закономерности действуют
нерегулярно.
54 Ср. чешек, psice 'сука, проститутка', а также полабск. saukô
'потаскуха' (Фасмер, III, с. 798) или немецкое диалектное
заимствование Zauke с тем же значением (Трубачев, 1960, с. 21). В
литовской фразе Еік tu, piziau, nejuokink zmoniu\ 'Иди ты, кобель [букв.:
распутник], не смеши людей!' (Сл. лит. яз., X, с. 46) слово pizius как
бранное выражение ближайшим образом соответствует по своему
употреблению русскому кобель.
55 Отсюда, в свою очередь, Вергилий называет собаку obscenus,
Гораций прилагает к ней эпитет inmundus, тогда как в «Приапее»
(сборнике стихов, приписываемых Катуллу, Тибуллу, Овидию и др.)
собака характеризуется как foedus (Келлер, I, с. 97 и 424, примеч.
65). В «Октавии» Минуция Феликса (IX, 6) собака упоминается при
описании бесстыдных, кровосмесительных оргий, в которых она как
бы символически принимает участие.
56 Некоторые исследователи усматривают отражение исконного
индоевропейского названия пса в таких формах, как рус. сука (Фасмер,
III, с. 798) или болг. куче (Младенов, 1941, с. 264; Георгиев и др.,
III, с. 170).
57 Ср. вместе с тем отражение исконно индоевропейского названия
змеи в таких словах, как рус. уж и еж. Характерно, однако, что уж
выступает как обозначение специфической разновидности змей (при
этом безопасной для человека), а не как обозначение змеи вообще и, в
принципе, не как обозначение мифологического Змея, которое
собственно и подверглось табуизации. Между тем этимология слова еж
(из слав. *ezï, букв, 'змеиный') мотивирована тем, что слово это
обозначает животное, враждебное змее, пожирателя змей; поэтому здесь
сохраняется именно исходное, а не табуистическое название змеи. См.:
Фасмер, II, с. 10; Фасмер, IV, с. 150—151; Трубачев, VI, с. 37;
Гамкрелидзе и Иванов, 1984, с. 526.
58 Ср. в этой связи также белорусскую быличку, где место
Пятницы занимает Неделя, которая оказывается в таком же отношении к
собакам: крестьянин спасает Неделю от собак, которые ее преследуют,
и она сообщает, что если бы не он, собаки бы ее разорвали и больше
никогда бы не было «недели», то есть воскресенья (Федеровский, I,
с. 5, № 4). Пятница и Неделя явно соотнесены друг с другом, отражая,
по-видимому, одни и те же мифологические представления, восходящие в
конечном итоге к культу Мокоши (Успенский, 1982, с. 137).
Специфическое отношение собаки к пятнице нашло отражение,
может быть, и в украинской пословице: «Пес пъятниці не знае» (или:
«Чи зна пес пъятницю!» — Номис, 1864, № 540; ср.: Даль, 1904,
II, с. 240); речь идет в данном случае именно об отношении к
пятнице, а не вообще к постным дням — подобное отношение не
распространяется, например, на среду, ср.: «Знае пес середу» (там же,
№ 533). Впрочем, белорусы могут считать, что «inszy sabaka pjàtnicu
86
znaje» (Федеровский, I, с. 254, № 1271), — так или иначе,
отношение собаки к пятнице является, бесспорно, отмеченным, собака и
пятница определенным образом коррелируют друг с другом.
59 В других случаях Геката представлялась четырехголовой, с
головами коня, быка, гидры и собаки: конь означал при этом огонь, бык
знаменовал воздух, гидра представляла воду, собака — землю
(Группе, 1906, с. 1290, примеч.). Для нас важна, во всяком случае,
ассоциация собаки и земли.
60 Характерно, что в русском языке слово пятнииа может
выступать как обозначение часовни или же резной иконы Параскевы
Пятницы, которые ставились на перепутье, так же как и обозначение
самого распутья, раздорожья (см.: Даль — Бодуэн, III, стлб. 1456;
Макаров, 1828, с. 202—203; Чичеров, 1957, с. 56—57).
Относительно соотнесенности собаки с луной, которая проявляется в культе
Гекаты, см. вообще: Губернатис, И, с. 18—21; Миллер, 1876,
с. 199—200; Баррисс, 1935, с. 38. Ср. в этой связи ходячее
представление о том, что собаки лают на луну; соответственно могут
объясняться цитированные выше (§ ІѴ-4) пословицы типа украинской
«Собачи голоса не идуть попід небеса» и т.п., которые понимаются,
как мы видели, в связи с противопоставлениями собаки и Бога.
61 Еще в XVII веке в русских матерных ругательствах
употреблялась форма винительного падежа матерь. Олеарий (1656) приводит
выражения с мать и с матерь как альтернативные: (je)butzfui mat
(с. 191, 195) и butzfui matir (с. 190). Между тем в первом издании
Олеария (1647 г.) фигурируют только формы с матерь: ()а) but fui
matir (с. 125, 130); ср.: Олеарий, 1906, с. 186, 187, 192, 546, 547.
Равным образом и Конрад Буссов для начала XVII века цитирует
исключительно формы с матерь: gebut tfuoia matir (глагол, по-
видимому, в форме императива), gebui matir... (глагол в форме 1-го
лица), geps tfo matir (глагол в форме прошедшего времени?) (Буссов,
1851, с. 226, 515, 574; ср. изд.: Буссов, 1961, с. 119, 173, 183, 247,
307, 319 — в печатном тексте соответствующие места заменены
многоточиями).
62 Ср., например, сербск. )ебем ти свету Петку или словацк.
jebem ti Boha (Krista, Manu), где местоименная форма (mut ti) может
быть опознана как форма dativus ethicus — при том, что в
синтаксически параллельных конструкциях типа сербск. )евем ти ма)ку или
словацк. jebem ti (tvoju) mater (mat') эта форма может пониматься
как clatîvus possessivus; показательно, что в последнем случае
местоименная форма дательного падежа может быть заменена на форму
притяжательного местоимения. Местоимение в дательном падеже
фигурирует и в древнейшем по времени фиксации матерном выражении,
сохранившемся в уже цитированной болгаро-валашской грамоте: дл м#
еке пьс жен;»* и лллтере м^ (Богдан, 1905, с. 43, № 23; Милетич,
1896, с. 51, № 12/302; ср.: выше, § П-4); местоимение м# в этой
фразе выступает в разных значениях: в первом случае в значении
dativus ethicus, во втором — в значении dativus possessivus.
Отметим еще украинское ругательство хай тобі (или: твою) маму
мордуеі (Номис, 1864, № 3763), которое явно соотносится с матер-
87
ным ругательством, представляя собой, так сказать, его смягченный
вариант; надо полагать, что синтаксическая структура данного
предложения отражает синтаксическую структуру матерного ругательства.
63 Ср. староукраинские выражения лаяти матери (кому) или ла-
яти до матери (кому): «шляхтичь шляхтичю лаеть до мтри», «хто
кому мтри лаеть» (Статут Казимира Великого, XV в., см.: Сл. ст.-
укр. яз., I, с. 541).
64 Ср. аналогичное управление у лат. oblatrare 'набрасываться с
лаем или с бранью', который также может управлять как дательным,
так и винительным падежом.
65 Точно так же в антагонистической противопоставленности
Громовержцу могут объединяться змей и волк (см.: Веселовский, 1883,
с. 328 сл.). Относительно мифологической соотнесенности волка и пса
(отражающейся как в этимологии индоевропейского названия собаки,
так и в метафорических наименованиях волка) см. при этом: Иванов,
1975, с. 389—390; Иванов, 1977, с. 187—195, 205—206; Гамкре-
лидзе и Иванов, 1984, с. 590—591; ср.: Луркер, 1969, с. 199—200;
Группе, 1906, с. 805—806.
66 Ассоциация собаки и змея может проявляться и в
представлениях о запредельных людях, то есть о людях, живущих по ту сторону
культурно освоенного пространства и в какой-то мере принадлежащих
уже потустороннему миру. Так, в древнерусском «Сказании о
Индийском царстве» сообщается, что на краю света живут «люди пол пса да
пол человека... а иные... люди глава песья» (Памятники... 1981,
с. 466). Это сообщение следует сопоставить с представлением о
стране блаженных рахманов, которые, по мнению буковинских рутенов,
наполовину люди, а наполовину рыбы (Яцимирский, 1900, с. 268), то
есть обнаруживают признаки змеиной породы, поскольку рыбы в
народной мифологии рассматриваются как разновидность змея; ср. в
этой связи русские поверья о Лукоморье — царстве, в котором люди,
подобно змеям, умирают на зиму и воскресают весной (Успенский,
1982, с. 146—147).
Относительно ассоциации собаки и змея в греческой мифологии
см.: Группе, 1906, с. 408—410. Характерно в этом плане, что как
змей, так и собака связаны с культом Асклепия (Группе, 1906,
с. 1444—1446, а также с. 947, примеч. 5, с. 1448, примеч. 7; Кага-
ров, 1912—1913, с. 147—150, 575).
67 Аналогичные представления широко распространены и не
ограничиваются индоевропейским ареалом (см., например: Луркер, 1969,
с. 206—209; Копперс, 1930, с. 371—373; Кречмар, II, с. 225 сл.;
Франк, 1965, с. 214—215). По представлениям чукчей и коряков
умерший проходит через особый собачий мир, где собаки нападают на
того, кто плохо обращался с ними при жизни (Богораз, II, с. 45; ср.:
Крейнович, 1930, с. 52: Термер, 1957, с. 28; Кречмар, II, с. 227).
Ср. в этой связи немецкое народное поверье об особом собачьем рае,
который находится, по-видимому, перед обычным раем (Шлерат,
1954, с. 30—31).
68 Ср. попытки интерпретации этой уникальной былины и, в
частности, образа «царя Собаки»: Алексеев, 1983, с. 63 (автор ссылается
88
на германские легенды о псе, посаженном на царство); Хаавио, 1967,
с. 238—249 (автор возводит эту былину к египетскому источнику).
Некоторые параллели к данной былине из житийной и
апокрифической литературы указаны Соколовым (1916, с. 113—118), однако о
царе Собаке здесь не говорится. Для определения языческих истоков
этого произведения любопытна самарская легенда о Вавиле-скоморохе,
где к умирающему герою является ангел и говорит: «Тебя Бог
наградил, Вавило-скоморох; ты будешь Вавило-скоморох, голубиный бог»
(Садовников, 1884, с. 291).
69 Ср. мотив «иного царства» в русских сказках (Трубецкой, 1918,
с. 17; Пропп, 1946, с. 260 ел.) — так называется здесь
потусторонний мир, который посещает сказочный герой.
70 Ср. в этой связи представление о том, что душа умершего
является в образе собаки (см. о славянах: Мошиньский, II, 1, с. 549, 557;
Зеленин, 1916, с. 287; о других народах — Клингер, 1911, с. 247—
248, 254—256; Шольц, 1937, с. 29—30, 38; Кречмар, II, с. 15, 28,
85, 165; Шлерат, 1954, с. 25—27; Луркер, 1969, с. 203—204;
Франк, 1965, с. 116; Афанасьев, I, с. 732, примеч. 2; Лукина, 1983,
с. 227). Не менее показательно представление, согласно которому
собаки пожирают души мертвых (см. о славянах, германцах, греках, а
также о палеоазиатах: Шольц, 1937, с. 31, 34; Шлерат, 1954,
с. 31—32, 35); это представление отразилось, вероятно, в иранском
похоронном обряде, где трупы покойников отдаются на растерзание
псам (см. выше, примеч. 49) ; аналогичный похоронный обряд
наблюдается также у тибетцев и монголов (Кречмар, II, с. 17—21, 227—229;
Луркер, 1969, с. 210—211; ср. еще: Франк, 1965, с. 216—217).
Относительно ассоциации собаки и смерти см. также: Клингер, 1911, с. 242
ел.; Луркер, 1969, с. 200—203; Франк, 1965, с. 168—175; Баррисс,
1935, с. 35; Кречмар, II, с. 40; Бейер, 1908, с. 419; Касарелли, 1890.
71 Характерно, что поляки называют волка как pies, так и gad, а
также robak, то есть пользуются словом, обозначающим
пресмыкающееся (Зеленин, II, с. 38).
72 В русской сказке Чудо-юдо, которое едет на коне-драконе
(«конь у него о двенадцати крылах, шерсть у коня серебренная, хвост
и грива — золотые»), бранит своего коня: «Что ты, собачье мясо,
спотыкаешься, ... ты, песья шерсть, щетинишься?» (Афанасьев,
1984—1985, I, с. 228, № 137).
73 Аналогичная пословица была записана в XVI веке Генрихом
Штаденом: Scabacka scabaka isiel, т.е. «Собака собаку и съела»
(Штаден, 1930, с. 99; Штаден, 1925, с. 118). Ср. вместе с тем
латинскую поговорку с прямо противоположным содержанием: «Canis
caninam non est» или «Canis non caninam».
74 Герцен рассказывает в «Былом и думах», как один вельможа
подшутил над своими гостями, накормив их собачиной, и в какой ужас
пришли гости, когда узнали об этом (Герцен, VIII, с. 242).
75 Неупотребительное сейчас управление винительным падежом
(съесть собаку на что) встречается у Пушкина, у Мельникова-
Печерского. Ср. между тем укр. «Собаку на сім ззіли» (Номис, 1964,
№ 5781).
89
76 Один из героев Петрония («Сатирикон», XLIII) говорит: «De
re tamen verum dicam, qui linguam caninam comedi», то есть «Об этом
деле я скажу правду, потому что я съел язык собаки» (см.: Петроний,
1975, с. 77, 288; ср.: Покровский, 1930, с. 86—87; Клингер, 1911,
с. 250—251); в подобном контексте специальное значение
приобретает поедание собачьего языка. Ср. вместе с тем латинское выражение
«Linguam caninam comedit», которое применяется к тем, кто
разглагольствует без меры. В обоих случаях тот, кто съедает собачий язык,
как бы теряет способность управлять своей речью.
77 Любопытно, что и Потебня (1882, с. 74) связывает
рассматриваемый фразеологизм (собаку съесть) с работой косарей, хотя
предлагаемое им объяснение нельзя признать удовлетворительным (ср.:
Фасмер, III, с. 703).
78 Собачье мясо может представлять собой ритуальное кушанье у
африканских и американских аборигенов (Франк, 1965, с. 46—77;
Термер, 1957, с. 18—21; Вёгелин, 1949, с. 319; Баррисс, 1935,
с. 42); его едят также в Юго-Восточной Азии и Океании (Симунс,
1961, с. 91 ел.). По свидетельству Порфирия и других древних
авторов, собачье мясо было вполне употребительно у греков, которые
считали его полезным в медицинском отношении (Шольц, 1937, с. 9—
10); употребление собачьего мяса в медицинских целях наблюдается
иногда и у немцев (Гюнтерт, 1932, стлб. 481—482). Между тем в
Индии те, кто едят собачину, считаются неприкасаемыми (Падхье,
1934, с. 265—266).
79 Данное выражение объясняют также со ссылкой на греч. кшѵ
или лат. canis, которые могут значить как 'собака', так и 'неудачный
бросок при игре в кости'; отсюда, в свою очередь, др.-инд. sva-ghnin
'удачливый игрок', букв, «убийца собаки» (см.: Фасмер, III, с. 703;
Иванов, 1977, с. 199; Гамкрелидзе и Иванов, 1984, с. 591, примеч.
2). Объяснение это не кажется убедительным.
БИБЛИОГРАФИЯ
ААЭ, I—IV — Акты, собранные... Археографическою экспедицией)
Имп. Академии наук. СПб., 1836. Т. I—IV.
Аввакум, 1960 — Житие протопопа Аввакума, им самим написанное,
и другие его сочинения. М., 1960.
Агренева-Славянская, I—III — Агренева-Славянская О.Х. Описание
русской крестьянской свадьбы... М.; СПб., 1887—1889. Т. I—III.
Адальберг—Крыжановский, I—IV — Nowa ksiçga przyslôw i wyrazen
przyslowiowych polskich. W oparciu о dzieb S. Adalberga opracowai
Zespôl Redakcyjny pod kierunkiem J. Krzyzanowskiego. Warszawa,
1969—1978. T. I—IV.
Адрианова-Перетц, 1935 — Адрианова-Перетц В. Символика
сновидений Фрейда в свете русских загадок // Академия наук
СССР — академику Н.Я. Марру. М.; Л., 1935.
Адрианова-Перетц, 1977 — Русская демократическая сатира XVII
века / Изд. подготовила В.П. Адрианова-Перетц. М., 1977.
90
АИ, I—V — Акты исторические, собранные и изданные
Археографическою комиссиею. СПб., 1841 —1842. Т. I—V.
Акад. словарь, I—XVII — Словарь современного русского
литературного языка. М.; А, 1948—1965. Т. I—XVII.
Алексеев, 1983 — Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение.
Л., 1983.
Алмазов, I—III — Алмазов А.И. Тайная исповедь в православной
Восточной церкви: Опыт внешней истории. Исследование
преимущественно по рукописям. Одесса, 1894. Т. I—III.
АМГ, I—III — Акты Московского государства. СПб., 1890—1901.
Т. I—III.
Анохин, 1924 — Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев
// Сб. МАЭ. Л., 1924. Т. IV. Вып. 2.
Антонова и Мнева, I—II — Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог
древнерусской живописи. М., 1963. Т. I—II.
Арним, 1933 — Арним Б. фон. Принасяне кучета в жертва при царь .
Симеона // Български преглед, 2 (1933). Кн. 1.
Арх. словарь — Картотека Архангельского областного словаря,
хранящаяся на кафедре русского языка Московского университета.
Афанасьев, I—III — Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян
на природу. М., 1865—1869. Т. I—III.
Афанасьев, 1872, — [Афанасьев А.Н]. Русские заветные сказки.
[Женева, 1872].
Афанасьев, 1914 — Афанасьев А.Н. Народные русские легенды.
Казань, 1914.
Афанасьев, 1984—1985 — Народные русские сказки / Под ред.
Л.Г. Барага и Н.В. Новикова. М., 1984—1985. Т. I—III.
АЮ, 1838 — Акты юридические... СПб., 1838.
Бадаланова и Терновская, 1983 — Бадаланова Ф.К., Терновская
О.А. О сове смаленой // Полесье и этногенез славян:
Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983.
Баррисс, 1935 — Burriss Е.Е. The Place of the Dog in Superstition as
Revealed in Latin Literature // Classical Philology, 30 (1935), № 1.
Барсов, 1981 — Барсов A.A. Российская грамматика / Подг. текста
и коммент. М.П. Тоболовой. Под ред. и с предисл. Б.А.
Успенского. М., 1981.
Баялиева, 1972 — Баялиева Т.Д. Доисламские верования у киргизов.
Фрунзе, 1972.
Бейер, 1908 — Beyer H. The Symbolic Meaning of the Dog in Ancient
Mexico // American Anthropologist, 10 (1908), № 3.
Бессонов, I—VI — Бессонов П.А. Калики перехожие: Сборник
стихов и исследование. М., 1861 —1864. Вып. I—VI.
Бешевлиев, 1936 — Бешевлиев В. Нѣколко бележки към българската
история. София, 1936 (Годишник на Софийския университет. Ис-
торико-филологически факултет, кн. XXXII, 9).
Блумфильд, 1905 — Bloomfield M. Cerberus, the Dog of Hades.
Chicago, 1905.
Богаевский, 1916 — Богаевский Б.Л. Земледельческая религия
Афин. Пг., 1916.
91
Богатырев, 1916 — Богатырев П.Г. Верования великоруссов
Шенкурского уезда // ЭО. 1916, № 3—4.
Богдан, 1891 — Bogdan J. Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen
Geschichtsschreibung // Archiv fur slavische Philologie, 13 (1891),
H. 4.
Богдан, 1905 — Bogdan I. Documente privitoare la rela^iile |arii
Românesû eu Braçovul §i eu {ara Ungureascâ in sec. XV §i XVI.
Bucureçti, 1905. Vol. I.
Богданович, 1895 — Богданович A.E. Пережитки древнего
миросозерцания у белорусов: Этнографический очерк. Гродно, 1895.
Богораз, I—II — Богораз ВТ. Чукчи. Л., 1934—1939. Т. I—II.
Бойс, 1975 — Boy се М. A History of Zoroastrianism // Handbuch
der Orientalistik. Leiden; Kôln, 1975. Abt. I. Bd. VIII. Abschnitt I.
Lief. 2. H. 2A.
Болонев, 1975 — Болонев Ф.Ф. Календарные обычаи и обряды се-
мейских. Улан-Удэ. 1975.
Бондаренко, I—IV — Бондаренко В.Н. Очерки Кирсановского уезда
Тамбовской губ. I—IV. // ЭО. 1890. № 3, 4.
Брандт, 1882 — Брандт Р. О присвоенных животным собственных
именах // РФВ, 7 (1882), № 1.
Браун, 1958 — Brown Th. The Black Dog // Folklore. LXIX, 1958.
September.
Брюкнер, 1908 — Bruckner A. Roty sadowe polskie XV. wieku //
Jagic-Festschrift: Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Berlin, 1908.
Буслаев, 1859 — Буслаев Ф.И. Предисловие [к «Русским народным
песням, собранным П.И. Якушкиным»] // Летописи русской
литературы и древности. М., 1859. Кн. 2.
Буссов, 1851 — Bussow Conrad. Verwirzete Zustand des Russischen
Reichs: 1584—1613. Рукопись 1851 г.: ГБЛ. Ин 850.
Буссов, 1961 — Буссов Конрад. Московская хроника, 1584—1613.
М.;Л., 1961.
Бялькевич, 1970 — Бялькевіч І.К. Краёвы слоунік усходняй
Магілёушчыны. Мінск, 1970.
Вакарелски, 1977 — Вакарелски X. Етнография на България.
София, 1977.
Варенцов, 1860 — Варенцов В. Сборник русских духовных стихов.
СПб., 1860.
Вёгелин, 1849 — V[oegelin] E.W. Dog // Funk & Wagnalls
Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. N.Y., 1949.
Vol. I.
Велькер, I—II — Welcker F.C. Griechische Gôtterlehre. Gôttingen,
1857—1860. Bd. I—II.
Веселовский, 1883 — Веселовский А.Н. Разыскания в области русского
духовного стиха: VI—X. СПб., 1883 (Сб. ОРЯС. Т. 32, № 4).
Веселовский, 1888 — Веселовский А.Н. Из истории романа и
повести, вып. II. СПб., 1888 (Сб. ОРЯС. Т. 44, № 3).
Веселовский, 1889 — Веселовский А.Н. Разыскания в области
русского духовного стиха: XI—XVII. СПб., 1889 (Сб. ОРЯС.
Т. 46, № 6).
92
Вильман-Грабовская, 1934 — Willman-Grabowska H. Le chien dans
l'Avesta et dans les Vëdas // Rocznik orientalyczny. Lwôw, 1934. T.
VIII.
Виндегрен, 1965 — Windegren G. Die Religionen Irans. Stuttgart,
1965.
Виноградов, 1918 — Виноградов ГС. Материалы для народного
календаря русского старожильческого населения Сибири... Иркутск, 1918.
ВМЧ, ноябрь — Великие Минеи Четий, собранные Всероссийским
митрополитом Макарием. Ноябрь, дни 1—25. СПб.; М., 1897—
1916.
Ворд, 1982 — Word D. PRO-form and Metaphor — PRO-form and
Vocative // Russian Linguistics. 7 (1982). № I.
Гамкрелидзе и Иванов, 1984 — Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.
Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. I—II. о
Георгиев и др., I—III — Георгиев В.И., Гълъбов Ив., Займов И.,
Илчев Ст. Български етимологичен речник. София, 1962—1982.
Т. I—III.
Герберштейн, 1557 —[Herberstein S. von]. Rerum moscoviticarum
commentary. Antverpia, 1557.
Герберштейн, 1557a — [Herberstein S. von]. Moscouia der Haupstat in
Reissen... Wien, 1557.
Герберштейн, 1908 — Герберштейн С. фон. Записки о Московских
делах... СПб., 1908.
Геров, I—V — Герое Н. Рѣчник на блъгарскый язык... Пловдив,
1895—1908. Т. I—V.
Герцен, I—XXX— Герцен А.И. Собр. соч. М., 1954—1965.
Т. І-ХХХ.
Гиббенет, I—II — Историческое исследование дела патриарха Никона
/ Составил по официальным документам Н. Гиббенет. СПб.,
1882—1884. Ч. I—II.
Гильфердинг, I—III — Гильфердинг А.Ф. Онежские былины... М.;
Л., 1949—1951. Т. I—III.
Гнатюк, 1902 — Гнатюк В. Галицько-руські народни легенди //
Етнографічний збірник. Видае ЕтноГрафічна комісія Наукового
Товариства імени Шевченка. Львів, 1902. Вып. XII.
Гримм, 1868 — Grimm J. Geschichte der deutschen Sprache. Lpz.,
1868. Bd. I—II.
Гринблат, 1979 — Выслоуі. Складанне... M.Я. Грынблата при удзе-
ле... СТ. Асташэвіч. Мінск, 1979.
Гринченко, I—IV — Словарь украінськоі мови. Зібрала ред. журнала
„Киевская старина". Упорядкував... Б. Грінченко. Киів, 1907—
1909. Т. I—IV.
Громыко, 1975 — Громыко M.M. Трудовые традиции русских
крестьян в Сибири (XVIII—первая половина XIX в.). Новосибирск,
1975.
Группе, 1906 — Gruppe О. Griechische Mythologie und
Religionsgeschichte. Munchen, 1906. Bd. I—II.
Губернатис, I—II — Gubernatis A. de. Zoological Mythology. Lnd.,
1872. Vol. I—II.
93
Густавич, 1881 — Custawicz В. Podania, przesady, gadki i nazwy
ludowe w dziedzinie przyrody, cz. X. Zwierzçta // Zbior wiadomosci
do antropologii krajowej. Krakow, 1881. T. V.
Гюнтерт, 1932 — Gùntert. Hund // Handwôrterbuch des deutschen
Aberglaubens. Herausgegeben von H.Bâchtold-Stàubli. В.; Lpz.,
1931 — 1932. Bd. IV.
Даль — Бодуэн, I—IV — Даль В. Толковый словарь живого
великорусского языка / Под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. М.,
1911 —1914. Т. I—IV.
Даль, 1904 — Даль В. Пословицы русского народа. М., 1904.
Т. I—IV.
Демо и Грабалова, 1971 — Demo О., Hrabalovâ О. Zatevné а
dozinkové piesne. Bratislava, 1971.
Деулинский словарь — Словарь современного русского народного
говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской обл). М., 1969.
Дитрих, 1925 — Dietrich A. Mutter Erde. Lpz.; В., 1925.
Дмитриев и Лихачева, 1982 — Сказания и повести о Куликовской битве
/ Изд. подготовили Л.А.Дмитриев и О.П.Лихачева. Л., 1982.
Добровольский, I—IV — Добровольский В.Н. Смоленский
этнографический сборник. СПб.; М, 1891 — 1903. Вып. I—IV.
Добровольский, 1905 — Добровольский В.Н. Песни Дмитровского
уезда Орловской губернии // ЖС. 1905. Вып. 3—4.
Добровольский, 1914 — Добровольский В.Н. Смоленский областной
словарь. Смоленск, 1914.
Доп. к АИ, I—XII — Дополнения к Актам историческим,
собранным и изданным Археографическою комиссиею. СПб., 1846—
1875. Т. I—XII.
Дорошевский, I—XI — Slownik jçzyka polskiego / Red. W.
Doroszewski. Warszawa, 1958—1969. T. I—XI.
Дорошенко, 1982 — Дорошенко E.A. Зороастрийцы в Иране. М.,
1982.
Достоевский, I—XXX — Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. в
30-ти томах. Л., 1972—1990. Т. I—XXX.
Драгоманов, 1876 — Драгоманов М. Малорусские народные
предания и рассказы. Киев, 1876.
Драммонд и Перкинс — Drummond D.A., Perkins С. Dictionary of
Russian Obscenities. Berkeley, 1979.
Дрейзин и Пристли, 1982 — Dreizin F.f Priestly T. A Systematic
Approach to Russian Obscene Language // Russian Linguistics,
1982, № 2.
Дювернуа, 1894 — Дювернуа А. Материалы для словаря
древнерусского языка. М., 1894.
Дюканж, I—VII — Glossarium mediae et infimae latinitatis conditum a
Carolo Dufresne Domino Du Cange cum supplementis integris
monachorum ordinis S.Benedicti... Parisiis, 1842—1850. Vol. I—VII.
Дюшен-Гийемен, 1962 — Duchesne-Guillemin J. La religion de l'Iran
ancien. P., 1962.
Жмакин, 1881 — Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения.
М., 1881.
94
Завойко, 1917 — Завойко К. В костромских лесах по Ветлуге реке
(Этнографические материалы, записанные в Костромской губернии
в 1914—1916 гг.) // Этнографический сборник. Кострома, 1917
(Труды Костромского научного общества по изучению местного
края. Вып. 8).
Зарубин, 1932 — Слово Даниила Заточника по редакциям XII и
XIII вв. и их переделкам / Приготовил к печати Н.Н. Зарубин.
Л., 1932.
Зеленин, I—II — Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной
Европы и Северной Азии: I—II // Сб. МАЭ. Л., 1929—1930.
Вып. VIII—IX.
Зеленин, 1914—1916 — Зеленин Д.К. Описание рукописей Ученого
архива Императорского Русского географического общества. Пг.,
1914—1916. Вып. I—III.
Зеленин, 1916 — Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии. Пг.,
1916. Вып. I.
Зеленин, 1917 — Зеленин Д.К. Древнерусский языческий культ
„заложных" покойников // Известия Академии наук. Пг., 1917.
Серия VI. Т. XI. № 7.
Зеленин, 1927 — Zelenin D. Russische (Ostslavische) Volkskunde. В.;
Lpz., 1927.
Зеленин, 1930 — Зеленин Д. Загадочные водяные демоны
„шуликуньГ у русских // Lud Stowiaiiski. T.I. Krakow, 1930.
Zesz. 2 (Dzial B: Etnografia).
Златарский, 1907 — Златарский В.H. Клятва y языческих болгар
// Сборник статей, посвященных... В.И.Ламанскому. СПб., 1907.
Т. I.
Знаменский, 1867 — Знаменский П. Горные черемисы Казанского
края // Вестник Европы. 1867. Т. IV. Декабрь.
ЗОРСА, I—XIII — Записки отделения русской и славянской
археологии Императорского Русского археологического общества. СПб.,
1851 —1916. Т. I—XIII.
Иваницкий, 1890 — Иваницкий Н.А. Материалы по этнографии
Вологодской губернии // Известия ОЛЕАиЭ. Т. 69. Труды
Этнографического отдела, XI/1. М., 1890.
Иванов, 1850 — Иванов П. Описание государственного архива
старых дел. М., 1850.
Иванов, 1893 — Иванов П. Народные рассказы о домовых, леших,
водяных и русалках (Материалы для характеристики
миросозерцания крестьянского населения Купянского уезда) // Сб.
Харьковского ист.-филол. общества. Харьков, 1893. Т. Ѵ/1.
Иванов, 1964 — Иванов В.В. Происхождение имени Кухулина //
Проблемы сравнительной филологии. М.; Л., 1964.
Иванов, 1965 — Иванов В.В. Общеиндоевропейская, праславянская
и анатолийская языковые системы. М., 1965.
Иванов, 1975 — Иванов В.В. Реконструкция индоевропейских слов и
текстов, отражающих культ волка // Изв. АН СССР: Сер.
литры и языка. 1975. № 5.
95
Иванов, 1976 — Иванов В.В. Мотивы восточнославянского
язычества и их трансформация в русских иконах // Народная гравюра
и фольклор в России XVIII—XIX вв. М., 1976.
Иванов, 1977 — Иванов В.В. Древнебалканский и
общеиндоевропейский текст мифа о герое — убийце Пса и евразийские параллели
// Славянское и балканское языкознание (Карпато-восточно-
славянские параллели. Структура балканского текста). М., 1977.
Иванов и Топоров, 1965 — Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские
языковые моделирующие семиотические системы (Древний
период). М., 1965.
Иванов и Топоров, 1974 — Иванов В.В., Топоров В.Н.
Исследования в области славянских древностей: Лексические и
фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974.
Иванчов, 1909 — Иванчов А. Народни песни от Врачанско // Сб.
за народни умотворения, наука и книжнина. София, 1909.
Т. XXV.
Измарагд, 1912 — Измарагд... С рукописи XVI в. Московского
Румянцевского музея за номером 542. М., 1912.
Иностранцев, 1900 — Иностранцев К. О древнеиранских
погребальных обычаях и постройках // ЖМНП. 1900. № 3.
Иностранцев, 1911 — Иностранцев К.А. Парсийский погребальный
обряд в иллюстрациях гузератских версий книги об Арта-Вирафе
// Известия Академии наук. 1911. Серия VI. № 7.
Исаченко, 1965 — Isacenko А.Ѵ. Un juron russe du XVIe siècle //
Lingua viget: Commentationes slavicae in honorem V.Kiparsky.
Helsinki, 1965.
Кагаров, 1912—1913 — Кагаров E. Культ фетишей, растений и
животных в Древней Греции // ЖМНП. 1912. № 10—12; 1913.
№ 3—4.
Кагаров, 1918 — Кагаров Е. О значении некоторых русских и
украинских народных обычаев // ИОРЯС. 23 (1918). Кн. 2.
Кагаров, 1929 — Кагаров Е.Г. Магия в хозяйственно-
производственном быту крестьянства // Атеист. 1929. № 37.
Калайдович, 1821 — Калайдович К. Памятники российской
словесности XII в. М., 1821.
Камменхубер, 1958 — Kammenhuber A. Totenvorschriften und
„Hunde- Magie n im Vidêvdât // Zeitschrirt der Deutschen
Morgenlandischen Gesellschaft. Bd. 208 [N.F. 33]. 1958. H.2.
Каптерев, I—II — Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей
Михайлович. Сергиев Посад, 1909—1912. Т. I—II.
Каравелов, 1861 — Каравелов Л. Памятники народного быта болгар.
М., 1861. Т. I.
Караджич, 1849 — Kapauuh Вук Стеф. Српске народне пословице...
Беч, 1849.
Карей, 1972 — Carey С. Les proverbes erotiques russes: Etudes de
proverbes recueillis et non-publiés par DaF ef Simoni. The Hague;
Paris, 1972.
Карлович и др., I—VIII — Karfowicz J., Krynsld A., Niedzwiedzki W.
Sbwnik jezyka polskiego. Warszawa, 1900—1927. T. I—VIII.
96
Касарелли, 1890 — Casarelli L.C. The Dog and the Death // The
Babylonian and Oriental Research. Vol. 4 (1890). № 12.
Кацаров, 1908 — Кацаров Г.И. Клетвата у езическитѣ българи //
Списание на българската Академия на наукитѣ. София, 1912.
Т. III.
Келлер, I—II — Keller О. Die antike Tierwelt. Lpz., 1909—1913.
Bd. I—II.
Кирша Данилов, 1901 — Сборник Кирши Данилова / Под ред.
П.Н. Шеффера. СПб., 1901.
Клингер, 1911 — Клингер В. Животное в современном и античном
суеверии. Киев, 1911.
Княжнин, 1961 — Княжнин Я.Б. Избр. произв. Л., 1961.
Кольберг, I—XIX — Kolberg О. Lud..., serya I—XIX. Warszawa;
Krakôw, 1857—1886.
Копперс, 1930 — Koppers W. Der Hund in der Mythologie der
zirkumpazifischen Vôlker // Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und
Linguistik. 1930. Bd. I.
Kott, I—III — Kott F.St. Pfispëvky k cesko-nemeckému slovniku zvlâste
grammaticko-frazeologickému. Praha, 1896—1906. T. [I]—HI.
Котуля, 1976 — Kotula F. Znaki przeszfosci. Warszawa, 1976.
Крейнович, 1930 — Крейнович E.A. Собаководство гиляков и его
отражение в религиозной идеологии // Этнография. 1930. № 4.
Кречмар, I—II — Kretschmar F. Hundestammvater und Kerberos.
Stuttgart, 1938. Bd. I—II.
Кривополенова, 1950 — Кривополенова M. Д. Былины, скомороши-
ны, сказки. Архангельск, 1950.
Кузьмина, 1964 — Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. М.,
1964.
Кулемзин, 1984 — Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях
хантов. Томск, 1984.
Куликовский, 1898, — Куликовский Г. Словарь областного
олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.,
1898.
Кулишич, Петрович и Пантелич, 1970 — КулишиН Ш., ПетровиИ
П.Ж., ПантелиИ Н. Српски митолошки речник. Београд, 1970.
Кушелев-Безбородко, I—IV — Памятники старинной русской
литературы, изд. Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860—1862.
Т. I—IV.
Лавровский, 1858 — Лавровский П.А. Описание семи рукописей
С.-Петербургской Публичной библиотеки // ЧОИДР. 1858. Кн. 4.
Ларин, 1959 — Ларин Б.А. Русско-английский словарь-дневник
Ричарда Джемса (1618—1619 гг.). Л., 1959.
Ласицкий, 1615 — Lasicii Poloni Ion. De diis samagitarum libellus.
Basel, 1615.
Ласицкий, 1969 — Lasickis f. Apie zemaichj, kity sarmatij bei netiknj
krikscioniq dievus. Vilnius, 1969.
Лаш, 1908 — Lasch R. Der Eid, seine Entstehung und Beziehung zu
Glaube und Brauch der Naturvôlker. Stuttgart, 1908.
Либрехт, 1879 — Liebrecht F. Zur Volkskunde. Heilbronn, 1879.
4 Анти-мир русской культуры 97
Лилеев, 1895 — Лилеев M.И. Из истории раскола на Вятке и в
Стародубье XVII—XVIII вв. Киев, 1895. Т. I.
Лукина, 1983 — Лукина Н.В. Формы почитания собаки у народов
Северной Азии // Ареальные исследования в языкознании и
этнографии. Л., 1983.
Луркер, 1969 — Lurker M. Hund und Wolf in ihrer Beziehung zum
Tode // Antaios. Stuttgart, 1969. Bd.X.
Львов, 1898 — Львов Д.M. Легенда о происхождении табака //
Изв. Общества археологии, истории и этнографии при
Императорском Казанском университете. Казань, 1898. Т. ХІѴ/6.
Мазунин, 1979 — Повесть о боярыне Морозовой / Подгот. текстов
и исследование А.И.Мазунина. Л., 1979.
Макаренко, 1913 — Макаренко А. Сибирский народный календарь в
этнографическом отношении: Восточная Сибирь, Енисейская
губерния. СПб., 1913 (Записки Императорского Русского
Географического Общества по отд. этнографии. Вып. 36).
Макаров, 1828 — Макаров М. Древние и новые божбы, клятвы и
присяги русские // Труды и летописи Общества истории и
древностей российских, учрежденного при Императорском Московском
университете. М., 1828. Т. IV/1.
Макаров, 1846—1848 — Макаров М.Н. Опыт русского
простонародного словотолковника. Оттиск из ЧОИДР (1846—1848).
Б.м., б.г.
Максимов, I—XX — Максимов СВ. Собр. соч. СПб., б.г. Т. I—
XX.
Максимов, 1975 — Максимов Е.Н. Образ Христофора Кинокефала
// Древний Восток. М., 1975. Вып. I.
Малинка, 1898 — Малинка А.И. Этнографические мелочи... // ЭО.
Т. 36 (1898). № 1.
Мансветов, 1882 — Мансветов И. Митрополит Киприан в его
литургической деятельности. М., 1882.
Манхардт, 1936 — Mannhardt W. Letto-Preussishe Gôtterlehre. Riga,
1936.
Маньков, 1975 — Иностранные известия о восстании Степана
Разина / Под ред. А.Г. Манькова. Л., 1975.
Маринкович, 1974 — МаринковиН Радован М. Борба против града у
Драгачеву // Зборник Радова Народног музеіа. Чачак, 1974. Т. 5.
Маринов, 1981 — Маринов Д. Избрани произведения. София, 1981.
Т. I.
Марков, 1910 — Марков А. Определение хронологии русских
духовных стихов в связи с вопросом об их происхождении //
Богословский вестник. 1910. И. № 6—8; III. № 10.
Марков, 1914 — Марков А.В. Памятники старой русской
литературы. Тифлис, 1914. Вып. I (Оттиск из „Известий Тифлисских
Высших Женских Курсов").
Мельников, I—VII — Мельников (Андрей Печерский) П.И. Поли,
собр. соч. СПб., 1909. Т. I—VII.
Мещерский, 1978 — Мещерский Н.А. Источники и состав древней
славяно-русской переводной письменности IX—XV вв. Л., 1978.
98
Миладиновы, 1861 — Болгарски народни пьсни, собрани од братья
Миладиновци Димитрия и Константина... Загреб, 1861.
Милетич, 1896 — Милетич Л. Нови влахобългарски грамоти от
Брашов // Сб. за народни умотворения, наука и книжнина.
София, 1896. Т. XIII.
Миллер, 1876 — Миллер В.Н. Значение собаки в мифологических
верованиях // Древности. М., 1876. Т. VI. Вып. 3.
Михельсон, I—II — Михельсон М.И. Русская мысль и речь: Свое и
чужое — опыт русской фразеологии. СПб., б.г. Т. I—II.
Младенов, 1941 — Младеноѳ Ст. Етимологически и правописен
речник на българския книжовен език. София. 1941.
Мочульский, 1893 — Мочульский В. Следы народной Библии в
славянской и в древнерусской письменности. Одесса, 1893.
Мошиньский, I—II — Moszynski К. Kultura ludowa sfowian.
Warszawa, 1967—1968. T. I—II.
Мошиньский, 1931 — Moszynski К. Pies w wierzeniach i obrzedach
// Lud Sbwianski. Krakôw, 1931. T. II. Zesz. 1 (Dzial B:
Etnografja).
Мункачи, 1905 — Munkâcsi В. Seelenglaube und Totenkult der
Wogulen // Keleti Szemle. Budapest, 1905. Vol. VI.
Никифоров, 1922 — Никифоров А.И. Русские повести, легенды и
поверья о картофеле. Казань, 1922.
Никифоров, 1929 — Никифоров А.И. Эротика в великорусской
народной сказке // Художественный фольклор. М., 1929.
Вып. IV—V.
Никольский, 1885 — Никольский К. О службах русской церкви,
. бывших в прежде печатных богослужебных книгах. СПб., 1885.
Никольский, 1900 — Никольский Д. О происхождении и смысле
собственных имен некоторых животных // Филологические
записки. 1900. Вып. 4—5.
Никольский, 1912 — Никольский А.И. Памятник и образец
народного языка и словесности Северо-Двинской области // ИОРЯС.
Т. 17 (1912). Кн. 1.
Новг. писц. кн., I—VI — Новгородские писцовые книги. СПб. /
Пг., 1915. Т. I—VI и указатель.
Номис, 1864 — Номис М. Украінські приказкі, прислівъя и таке
инше. СПб., 1864.
Носович, 1870 — Носович И.И. Словарь белорусского наречия.
СПб., 1870.
Оболенская и Топорков, 1990 — Оболенская С.Н.,
Топорков А.Л. Народное православие и язычество Полесья //
Язычество восточных славян. Л., 1990.
Олеарий, 1647 — Olearius A. Offt begehrte Beschreibung der newen
orientalischen Reyse... Schleszwig, 1647.
Олеарий, 1656 — Olearius A. Vermehrte Newe Beschreibung der
Muscowitischen und Persischen Reyse... Schleszwig, 1656.
Олеарий, 1906 — Олеарий А. Описание путешествия в Московию и
. через Московию в Персию и обратно / Введ., перевод и примеч.
А.М. Ловягина. СПб., 1906.
4* 99
Ончуков, 1909 — Ончуков Н.Е. Северные сказки. СПб., 1909
(Записки Императорского Русского Географического Общества по
отд. этнографии. Вып. 33).
Орлов, 1906 — Орлов А. Исторические и поэтические повести об
Азове. М, 1906.
Орлов, 1913 — Орлов А. Народные предания о святынях русского
Севера // ЧОИДР. 1913. Кн. 1.
Орт, 1913 — Orth [F.] Hund // Paulys Real-Encyclopédie der
classischen Altertumswissenschaft: Neue Bearbeitung begonnen von
G.Wissowa... Stuttgart, 1913. [Reihe I]. Halbband XVI.
Падхье, 1933 — Padhye K.A. Dog's Status in Hindu Sacred Literature
// The Journal of the Anthropological Society of Bombay. 1933. Vol.
15. № 3.
Памятники..., 1981 — Памятники литературы Древней Руси: XIII
век. М., 1981.
Панченко и Успенский, 1983 — Панченко A.M., Успенский Б.А.
Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха.
Статья первая // Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ.
Л., 1983. Т. 37.
Перетц, 1902 — Перетц В.Н. Легенды о происхождении картофеля
// Памяти Леонида Николаевича Майкова. СПб., 1902.
Перетц, 1916 — Перетц В.Н. Отчет об экскурсии семинария
русской филологии в Киев 30 мая — 10 июня 1915 года. Киев,
1916.
Перетц, 1929 — Перети, В.Н. «Клятва с землей» в частушке //
Slavia, 1927. Vol. 7. Ses. 4.
Петрей, 1867 — Петрей де Ерлезунда Петр. История о Великом
княжестве Московском... М., 1867.
Петроний, 1975 — Petronii Arbitri. Satyricon / Introduzione, edizione
critica e commento di C.Pellegrino. Roma, 1975.
Петухов, 1888 — Петухов E. Серапион Владимирский, русский
проповедник XIII века. СПб., 1888.
Плетершник, I—II — Pletersnik M. Slovensko-nemski slovar. Ljubljana,
1894—1895. T. I—И.
Погодин, 1843 — Погодин М. Материалы для русской истории //
Москвитянин. 1843. Ч. I. № 1.
Подвысоцкий, 1885 — Подвысоцкий А. Словарь областного
архангельского наречия... СПб., 1885.
Покровский, 1930 — Pokrovskij M. Pétrone et le folklore russe //
Доклады АН СССР. 1930 (серия В). № 5.
Покровский, 1979 — Покровский H.H. Исповедь алтайского
крестьянина // Памятники культуры. Новые открытия: 1978. Л.,
1979.
Полесский архив — Архив Полесской экспедиции, хранящийся в
Институте славяноведения и балканистики РАН.
Поливка, 1908 — Polivka J. Lidové povësti о pûvodu tabâku // Jagic-
Festschrift: Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Berlin, 1908.
Полосин, 1963 — Полосин И.И. Социально-политическая история
России XVI — начала XVII в. М., 1963.
100
Померанцева, 1975 — Померанцева Э.В. Мифологические персонажи
в русском фольклоре. М., 1975.
Порфирьев, 1877 — Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания о
ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой
библиотеки. СПб., 1877 ( Сб. ОРЯС. Т. 17, №1).
Посошков, I—II — Посошков И. Соч. М., 1842—1863. Т. I—II.
Посошков, 1893 — Посошков И.Т. Завещание отеческое. СПб.,
1893.
Потанин, 1899 — Потанин Гр. Этнографические заметки на пути от
г.Никольска до г.Тотьмы // ЖС. 1899. Вып. 1, 2.
Потебня, 1880 — Потебня А.А. Этимологические заметки: Слепо-
род, âepy Mazur, Сучичь // РФВ. Т. 4 (1880). № 3—4.
Потебня, 1882 — Потебня А.А. Этимологические заметки: Он
собаку съел на... // РФВ. Т. 7 (1882). № 1.
Потебня, 1914 — Потебня Ал.Аф. О некоторых символах в
славянской народной поэзии. Харьков, 1914.
Продолжатель Феофана, 1992 — Продолжатель Феофана.
Жизнеописание византийских царей / Изд. подготовил Я.Н. Любарский.
М., 1992.
Пропп, 1946 — Пропп В.Я. Исторические корни народной сказки.
Л., 1946.
Пропп, 1976 — Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.,
1976.
ПСРЛ, I—XXXVIII — Полное собрание русских летописей. СПб.
(Пг., Л.);М., 1841—1989. Т. I—XXXVIII.
Раденкович, 1982 — Раденковип Jb. Народне басме и 6ajaH>a. Ниш;
Приштина; Крагуіевац, 1982.
Райе, 1976 — Rice J.L. A Russian Bawdy Song of the 18th Century
// Slavic and East European Journal. 1976. Vol. 20, № 4.
Рапопорт, 1971 — Рапопорт Ю.А. Из истории религии древнего
Хорезма. М, 1971.
Ржига, 1907 — Ржига В. Четыре духовных стиха... // ЭО. 1907.
№ 1—2.
РИБ, I—XXXIX — Русская историческая библиотека. СПб. (Пг.,
Л.), 1872—1927. Т. I—XXXIX.
Роде, I—II — Rohde Е. Psyche, Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube
der Griechen. Tubingen, 1910. Bd. I—II.
Родосский, 1893 — Родосский А. Описание 432-х рукописей,
принадлежащих С.-Петербургской Духовной Академии... СПб., 1893.
Рождественский, 1902 — Рождественский Н.В. К истории борьбы с
церковными беспорядками, отголосками язычества и пороками в
русском бьггу XVII в. // ЧОИДР. 1902. Кн. 2.
Романов, I—IX — Романов Е.Р. Белорусский сборник. Киев;
Витебск; Вильна, 1886—1912. Т. I—IX.
Русский временник, I—II — Русский времянник... М., 1820. Т. I—II.
РФА, I—V — Русский феодальный архив XIV—первой трети XVI
века. М., 1982—1992. Вып. I—V.
Рыбаков, 1976 — Рыбаков ЕЛ. Стригольнические покаянные кресты
// Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
101
Рыбников, I—HI — Рыбников П.Н. Песни. M., 1909—1910.
Т. I—III.
Садовников, 1884 — Садовников Д.H. Сказки и предания
Самарского края. СПб., 1884 (Записки Императорского Русского
Географического Общества по отд. этнографии. Вып. 12).
Сакулин, 1913, I—2 — Сакулин П.Н. Из истории русского
идеализма: Князь В.Ф.Одоевский. М., 1913. Т. I. Вып. 1—2.
Семенов, 1893 — Семенов В. Древняя русская «Пчела» по
пергаменному списку. СПб., 1893.
Сержпутовский, 1911 — Сержпутовский А.К. Грамматический очерк
белорусского наречия дер. Чудина Слуцкого уезда Минской
губернии. СПб., 1911 (Сб. ОРЯС. Т. 89, № 1).
Симунс, 1961 — Simoons F.J. Eat not this Flesh. Madison, Wisconsin,
1961.
Сл. лит. яз., I—XIII — Lietuviij kalbos zodynas. Vilnius, 1956—1984.
T. I—XIII.
Славейков, 1954 — Славейков П.P. Български притчи и пословици и
характерни думи. София, 1954.
Славский, I—V — Siawski F. Siownik etymologiczny jçzyka polskiego.
Krakôw, 1952—1982. T. I—V.
Сл. РЯ XI—XVII вв., I—XIX — Словарь русского языка XI—
XVII вв. М., 1975—1994. Т. I—XIX.
Сл. ст.-польск. яз., I—IX — Siownik staropolski. Wroclaw, etc.,
1953—1985. T. I—IX.
Сл. ст.-сл. яз., I—III — Slovnik jazyka staroslovënského. Praha, 1958—
1982. T. I—III.
Сл. ст.-укр. яз., I—II — Словник староукрашськоі мови XIV—XV
ст., Киів, 1977—1978. Т. I—II.
Сл. чешек, яз., I—VIII — Pfirucni slovnik jazyka ceského. Praha,
1935—1957. T. I—VIII.
Сменцовский, 1899 — Сменцовский M. Братья Лихуды: Опыт
исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни
XVII и начала XVIII в. СПб., 1899.
Смирнов, 1901 — Смирнов И.Т. Кашинский словарь. СПб., 1901
(Сб. ОРЯС. Т. 70, № 5).
Смирнов, 1913 — Смирнов С.[И.] Древнерусский духовник:
Исследование по истории церковного быта. М., 1913. Оттиск из ЧО-
ИДРза 1912—1914 гг.
Смирнов, 1921 — Смирнов Вас. Клады, паны и разбойники:
Этнографические очерки Костромского края. Кострома, 1921 (Труды
Костромского научного общества по изучению местного края. Вып. 26).
Смирнов, 1927 — Смирнов М.И. Культ и крестьянское хозяйство в
Переславль-Залесском уезде // Труды Переславль-Залесского
историко-художественного и краеведного музея. Переславль-
Залесский, 1927. Вып. I.
Смирнов, 1927а — Смирнов В. Народные гаданья Костромского
края // Четвертый этнографический сборник. Кострома, 1927
(Труды Костромского научного общества по изучению местного
края. Вып 41).
102
Смирнов и Смолицкий, 1978 — Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г.
Новгородские былины. М., 1978.
Снесарев, 1969 — Снесарев Т.П. Реликты домусульманских
верований у узбеков Хорезма. М., 1969.
Соболев, 1914 — Соболев Алексей. Обряд прощания с землей перед
исповедью: Заговоры и духовные стихи. Владимир, 1914.
Соболевский, 1910 — Соболевский А.И. Материалы и исследования
в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910.
Соколов, 1916 — Соколов Б. О житийных и апокрифических
мотивах в былинах // РФВ. Т. 76 (1916). № 3.
Соколова, 1972 — Соколова З.П. Культ животных в религиях. М.,
1972.
Соколова, 1979 — Соколова В.К. Весенне-летние календарные
обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979.
Срезневский, I—III — Срезневский И.И. Материалы для словаря
древнерусского языка... СПб., 1893 — 1912. Т. I—III.
Срезневский, 1900 — Срезневский В. Сборники писем
И.Т. Посошкова к митрополиту Стефану Яворскому. СПб., 1900.
СРНГ, I—XXVI — Словарь русских народных говоров. М.; Л.,
1965—1991. Т. I—XXVI.
Стоглав, 1890 — Царьские вопросы и соборныя ответы о
многоразличных церковных чинех (Стоглав). М., 1890.
Субботин, I—IX. .— Субботин Н. (ред.). Материалы для истории
раскола за первое время его существования, издаваемые братством
св. Петра митрополита. М., 1875—1890. Т. I—IX.
Супр. рук. — Супрасълски или Ретков сборник [Супрасльская
рукопись]. Изд. И. Займов, М. Копалдо. София, 1982—1983. Т. I—II.
Сырку, 1913 — Сырку П. Из быта бессарабских румын // ЖС.
1913. Вып. 1—2.
Сыхта, I—VI — Sychta В. Slownik gwar kaszubskich па tie kultury
ludowej. Wroclaw, etc., 1967—1973. T. I—VI.
Сянь-лю, 1932 — Chungshee H sien Liu. The Dog-Ancestor Story of
the Aboriginal Tribes ot Southern China // The Journal of the Royal
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Vol. 57 (1932).
Термер, 1957 — Termer F. Der Hund bei den Kulturvôlkern
Altamerikas // Zeitschrift fur Ethnologic Bd. 82 (1957). H. 1.
Титов, 1911 — Титов A.A. Иосиф архиепископ Коломенский //
ЧОИДР. 1911. Кн. 3.
Тиханов, 1904 — Тиханов П. Брянский говор: Заметки из области
русской этнологии. СПб., 1904 (Сб. ОРЯС. Т. 76, № 4).
Тихонравов, I—II — Тихонравов Н. Памятники отреченной русской
литературы. СПб., 1863. Т. I—II.
Толстая, 1982 — Толстая СМ. Вариативность формальной
структуры обряда (Купала и Морена) // Труды по знаковым системам.
Вып. 15. Тарту, 1982 (Ученые записки Тартуского
государственного университета. Вып. 576).
Толстое, 1935 — Толстое СП. Пережитки тотемизма и дуальной
организации у туркмен // Проблемы истории докапиталистических
обществ. 1935, № 9—10.
103
Толстой, 1979 — Толстой H.И. Элементы народного театра в
южнославянской святочной обрядности // Театральное пространство.
М., 1979.
Толстые, 1981 — Толстые Н.И. и СМ. Заметки по славянскому
язычеству: 5 // Славянский и балканский фольклор. М., 1981.
Топорков, 1984 — Топорков А.Л. Материалы по славянскому
язычеству (культ матери — сырой земли в дер. Присно) //
Древнерусская литература. Источниковедение. Л., 1984.
Топоров, 1968 — Toporov V.N. Parallels to Ancient Indo-Iranian Social
and Mythological Concepts // Pratidânam / Ed. by J.C. Heesterman
et al. The Hague; Paris, 1968.
Топоров, 1973 — Топоров B.H. О семиотическом аспекте митраичес-
кой мифологии в связи с реконструкцией некоторых древних
представлений // Semiotyka i struktura tekstu / Red. M.R. Mayenowa.
Wroclaw, etc., 1973.
Тредиаковский, I—III — Тредьяковский [B.K.] Соч. СПб., 1849.
T. I—III.
Трифонов, 1937 — Трифонов Ю. Към вопроса за византийско-
български договори с езически обреди // Изв. на българския
Археологически институт. Т. 11. (1937). София, 1938.
Трубачев, I—XX — Трубачев О.Н. (ред.) Этимологический словарь
славянских языков. М., 1974—1994. Т. I—XX.
Трубачев, 1955 — Трубачев О.Н. К этимологии слова собака //
Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. М.,
1955. Т. XV.
Трубачев, 1960 — Трубачев О.Н. Происхождение названий
домашних животных в славянских языках. М., 1960.
Трубачев, 1978 — Трубачев О.Н. Из работы над русским Фасмером
// ВЯ. 1978. № 6.
Трубецкой, 1918 — Трубецкой Е. Иное царство и его искатели в
русской сказке. М., 1918.
Унбегаун, 1969 — Unbegaun В.О. Selected Papers on Russian and
Slavonic Philology. Oxford, 1969.
Усп. сб. — Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. О.А. Князеве -
кая, В.Г.Демьянов, М.В.Ляпон. М., 1971.
Успенский, 1898 — Успенский Д.И. Духовные стихи // ЭО. 1898.
№ 3.
Успенский, 1982 — Успенский Б.А. Филологические разыскания в
области славянских древностей (Реликты язычества в
восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982.
Успенский, 1982а — Успенский Б.А. Царь и самозванец: Самозван-
чество в России как культурно-исторический феномен //
Художественный язык Средневековья. М., 1982.
Успенский, 1983 — Успенский Б.А. Языковая ситуация Киевской
Руси и ее значение для истории русского литературного языка.
М., 1983.
Успенский, 1985 — Успенский Б.А. Анти-поведение в культуре
Древней Руси // Проблемы изучения культурного наследия. М.,
1985.
104
Фасмер, I—IV — Фасмер M. Этимологический словарь русского
языка. М., 1964—1973. Т. I—IV.
Федеровский, I—VIII — Federowski M. Lud bialoruski na Rusi
litewskiej. Krakôw; Warszawa, 1897—1901. T. I—VIII.
Франк, 1965 — Frank B. Die Rolle des Hundes in afrikanischen
Kulturen. Wiesbaden, 1965.
Франко, 1892 — Franko I. «Bajka Wçgierska» Waclawa Potockiego i
«psia krew» // Wisla. T. 6 (1892). Zesz. 4.
Франко, 1895 — Franko I. «Psia krew» i «psia wiara» // Lud. T. I
(1895). Zesz. 4 i 5.
Фрейденберг, 1936 — Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л.,
1936.
Хаавио, 1967 — Haavio M. Suomalainen mytologia. Porvoo; Helsinki,
1967.
Харлампович, 1914 — Харлампович К.В. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. I.
Харузин, 1897 — Харузин Н. К вопросу о борьбе Московского
правительства с народными языческими обрядами и суевериями в
первой половине XVII в. // ЭО. 1987. № 1.
Цейтлин, 1912 — Цейтлин Г. Знахарства и поверья в Поморье
(Очерк из быта поморов) // Изв. Архангельского общества
изучения русского Севера. 1912. № 1, 4.
Челаковский, 1949 — Celakovsky F. Mudroslovi nârodu slovanského ve
pfislovich. Praha, 1949.
Чернышев, 1901 — Чернышев В. Материалы для изучения говоров и
быта Мещовского уезда. СПб., 1901 (Сб. ОРЯС. Т. 70. № 7).
Чичеров, 1957 — Чичеров В.И. Зимний период русского
земледельческого календаря XVI—XIX вв. М., 1957 (Труды Института
этнографии АН СССР. Нов. серия. Вып. 40).
Чубинский, I—VII — Чубинский П.П. Труды этнографическо-
статистической экспедиции в Западно-Русский край... Юго-
Западный отдел. СПб., 1872—1878. Т. I—VII.
Шапкарев, I—IV — Шапкарев К.А. Сборник от български народни
умотворения. София, 1968—1973. Т. I—IV.
Шапкарев, 1884 — Шапкарев К.А. Руссалии, древен и твьрдѣ
интересен българский обичай запазен и до днесь в Южна Македония.
Пловдив, 1884.
Шейн, I—III — Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка
русского населения Северо-Западного края. СПб., 1887—1902.
Т. I—III.
Шереметев, 1902 — Шереметев П. Зимняя поездка в Белозерский
край. М., 1902.
Шлерат, 1954 — Schlerath В. Der Hund Ьеі den Indogermanen //
Paideuma. Bd. 6 (1954). H. 1.
Шольц, 1937 — Scholz H. Der Hund in der griechisch-rômischen
Magie und Religion: Inaugural-Dissertation... Friedrich -Wilhelms-
Universitat zu Berlin, 1937.
Штаден, 1925 — Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки
немца-опричника. М., 1925.
105
Штаден, 1930 — Staden H. von. Aufzeichnungen iiber den Moskauer
Staat. Hmb., 1930.
Щапов, I—III — Щапов АЛ. Соч. СПб., 1906—1908. Т. I—III.
Щекин, 1925 — Щекин М.В. Как жить по-новому. Кострома, 1925.
Щуров, 1867 — Щуров И. Календарь народных примет, обычаев и
поверьев на Руси // ЧОИДР. 1867. Кн. 4.
Юль, 1900 — Записки Юста Юля, датского посланника при Петре
Великом. М., 1900.
Ягич, 1896 — Ягич И.В. Рассуждения южнославянской и русской
старины о церковнославянском языке. СПб., 1896. Оттиск из
„Исследований по русскому языку*. СПб., 1885—1895. Т. I.
Якобсон, I—VII — Jakobson R. Selected Writings. The Hague, etc.,
1962—1985. Vol. I—VII.
Якобсон, 1950 — Jakobson R. Slavic Mythology // Funk & Wagnalls
Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. N.Y., 1950,
Vol. II.
Якушкин, 1983 — Собрание народных песен П.В. Киреевского.
Записи П.И.Якушкина. А, 1983. Т. I.
Яхонтов, 1883 — Яхонтов И.К. Иеродиакон Дамаскин, русский
полемист XVII века. СПб., 1883.
Яцимирский, 1900 — Яцимирский А.И. Румынские сказания о рах-
манах // ЖС. 1900. Т. 10. Вып. 1—2.
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
(помимо сокращений, раскрытых в библиографии)
Б АН — Библиотека Академии наук.
ВЯ — „Вопросы языкознания".
ГБЛ — Гос. библиотека СССР им. В.И.Ленина (ныне
Российская Гос. библиотека).
ГИМ — Гос. Исторический музей.
ГПБ — Гос. Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-
Щедрина (ныне Российская национальная
библиотека).
ЖМНП — „Журнал министерства народного просвещения".
ЖС — „Живая старина".
ИОРЯС — „Известия Отделения русского языка и словесности
Академии наук".
ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук
(Пушкинский дом).
106
ОЛЕАиЭ — Общество любителей естествознания, антропологии и
этнографии при Московском университете.
РФВ — „Русский филологический вестник".
Сб. ОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности
Академии наук.
Сб. МАЭ — „Сборник Музея антропологии и этнографии
Академии наук".
ЦГАДА — Центральный гос. архив древних актов (ныне
Российский гос. архив древних актов).
ЧОИДР — „Чтения в Обществе истории и древностей
российских при Московском университете".
ЭО — „Этнографическое обозрение**.
Ю.ЛЕВИН
•
ОБ ОБСЦЕННЫХ
ВЫРАЖЕНИЯХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
0. ВВЕДЕНИЕ
0.1. Предметом этой работы являются русские обсценные
выражения (ОВ) в их семантическом и коммуникативном аспектах.
Под ОВ я буду понимать законченные — хотя бы
относительно, то есть, может быть, требующие синтаксического или
коммуникативного (напр., диалогического) «замыкания» — в
смысловом и коммуникативном отношении речевые сегменты,
содержащие хотя бы один обсценный корень. Последние могут
быть заданы списком. Ядро этого списка составляют три
общеизвестных матерных корня, периферия же размыта, границы ее
условны и, как мы видим на примере современной западной,
зарубежной русской, да и советской печатной литературы,
обусловлены не только достаточно устойчивыми социальными
конвенциями, но и преходящими флуктуациями пермиссивности
(так, В. Катаеву дозволено к печатному употреблению слово
жопа). Очерчивание этих границ меня здесь не интересует, и я,
например, отношу к обсценным словам такое вполне в наше
время печатное слово, как сука.
Оговорю сразу же, что терминологическое («техническое»)
употребление ОВ здесь не рассматривается.
0.2. Когда мы говорим: «N (смачно) выругался», — мы имеем
в виду не только то, что N произнес определенные слова, то
есть совершил локутивный акт, но и то, что он совершил
некоторое определенное действие, то есть имел место
иллокутивный акт. Недаром в просторечии (и анекдотах) слово
108
«выражаться» приобрело самостоятельный статус, подобно слову
«нарушать» (которое уж заведомо выражает некоторое
действие). Ругательства близки перформативам: высказывание
является одновременно и поступком, действием. Ругательства
естественно объединяются в определенный тип высказываний не
только и не столько своими стилистическими признаками:
свойство стилистической маркированности («груб.», «вульг.» и т.д.,
вплоть до невхождения в словари) они разделяют с другими
вульгаризмами и арготизмами (чувиха, шамать и т.д.); обсцен-
ный «стиль» является лишь поверхностным выражением более
глубинных обстоятельств. Сравнивая, напр., выражения:
я не желаю иметь с тобой дела — пошел на хуй!
ничего ты не получишь — хуй тебе!
ты негодяй и подлей,! — ах ты, сука ёбаная!
мы видим, что, имея общее пропозициональное содержание и
(до некоторой степени) общую иллокутивную силу с
«пристойными» выражениями, ругательства не только стилистически
маркированы (и, может быть, обладают некоторыми
дополнительными коннотациями); более существенно то, что, употребляя
их, я не только хочу выразить это грубо (что относится к
стилистике), но и хочу, так сказать, «выразить грубость»,
совершить «акт грубости», то есть, если угодно, «бранный
иллокутивный акт».
«Действенный» характер ругательств — прежде всего об-
сценных — связан с тем, что употребление ругательства
представляет собой нарушение табу (и тем самым уже некоторое
действие), как сложившегося исторически (о брани как
магическом действии см.: Б. Успенский, 1981), так и современного
социального)1.
Таким образом, я постулирую существование
специфической — бранной — иллокутивной силы и соответствующих
иллокутивных актов. Их своеобразие в том, что они, как правило,
сопряжены с другими иллокутивными актами (требованиями,
клятвами и т.д.) и в чистом виде выступают, пожалуй, только в
бранных междометиях (см. ниже), являясь частным случаем эк-
спрессивов.
Не следует смешивать бранность r обсценность. Брань
может быть не обсценной (пошел ты к черту!), обсценные
выражения могут употребляться не в составе собственно
ругательств (хуй ты там заработаешь). Обсценность, вообще
говоря, представляет собой стилистическую категорию, хотя и
109
своеобразную, — поскольку она связана с нарушением табу.
Категории бранности и обсценности коррелируют: на некотором
уровне снятия обсценности ругательство перестает быть таковым
(ср. ряд: хуй — хрен — черт — фиг — Бог с тобой); с
другой стороны, употребление обсценных слов даже в нейтральных
выражениях (он хуй придет), будучи нарушением социального
табу, сообщает такому выражению некоторую степень бранной
иллокутивной силы.
0.3. В обширном и разнородном множестве ОВ можно
выделить два основных класса. Первый класс составляют
собственно ругательства, то есть выражения, употребление
которых представляет собой самостоятельный речевой акт,
определенным образом направленный и наделенный бранной
иллокутивной силой (наряду, может быть, с другими). Во второй класс
попадают субститутивные ОВ, не образующие
самостоятельных речевых актов и, как правило, представляющие собой
экспрессивные синонимы для «обычных» выражений или их
частей. Разница между этими двумя классами может быть
продемонстрирована на примере словосочетания на хуй. ОВ пошел
на хуй! относится к классу I, на хуй мне это нужно! — к
классу И. Во 2-м случае возможна синонимическая замена на
нейтральное зачем мне это нужно!, в 1-м же случае любая
замена (напр., пошел к черту!) сохраняет бранную иллокутив-
ность, хотя бы и в ослабленном виде.
1. КЛАСС I
1.0. Классификацию собственно ругательств удобно строить на
основе двух пар дифференциальных признаков:
наличие/отсутствие (1) прагматической цели и (2) направленности
на собеседника:
Направленность/
Цель
+
+
1
A. Посылки
Б. Отказы
B. Индифферентивы
3
Божба
—
2
Пейоративы
4
А. Междометия
Б. Вставки
ПО
1.1. Подкласс 1
7.7.7. Посылки
Это группа ОВ следующей структуры:
Глагол «движения от» в
(семантическом)
императиве
иди
пошел
катись
шел бы
Местоимение
ты
Обсценное
обстоятельство места
на хуй (хер, хрен)
в пизду
в жопу
к ебене матери
Необсценными эквивалентами перечисленных обстоятельств
служат: к черту, в болото (эвфемизм, заменяющий
предыдущее), куда-нибудь подальше, на фиг и т.д. Сюда же относятся
выражения с «приобсценной» частью а ну тебя... Пристойным
эквивалентом служит, кроме указанных, выражение пропади ты
пропадом.
Семантическим ядром посылок является отстранение
(адресата от адресанта).
Экспликация значения: я выражаю свое отрицательное
отношение к тебе и свое желание не видеть, не слышать и т.д. тебя,
не иметь с тобой дела (вообще или в данной ситуации); я
выражаю требование, чтобы ты повел себя так, чтобы мое желание
было выполнено; выбор способа выполнения предоставляется
тебе; одновременно я хочу тебя оскорбить и делаю это.
Посылки являются, по Серлу, одновременно директивами и
экспрессивами.
При обычном («прямом») употреблении адресат посылки
совпадает с адресатом сообщения в целом, то есть с собеседником.
Возможно и «косвенное» употребление — по адресу 3-го лица.
Семантика при этом в основном сохраняется, но иллокутивная
сила резко ослабляется: прямой акт оскорбления (т.е.
направленной грубости) заменяется бессильной попыткой оскорбить
отсутствующего, превращаясь в своего рода жест «отмахи-вания», что
влияет и на семантику: посылка в таком употреблении сближается
с индифферентивом (см. ниже). То же происходит и при
неэмфатическом употреблении по адресу 3-го лица. Ослабление
директивной иллокутивности и сближение с индифферентивами наблюдается
и в формах посылок с шел бы ты... и а ну тебя...
111
/. 1.2. Отказы
Сюда относятся выражения: хуй (хер, хрен) тебе (в жопу),
(а) хуй (и т.д.) не хочешь?, (а) хуй видел?, хуй на!, хуюшки
и т.д. ОВ отказа, видимо, не имеют близких пристойных
эквивалентов, кроме эвфемистических с корнем фиг (фиг тебе!,
фигушки и т.д.).
Экспликация значения: я отказываю тебе в просимом,
попутно желая оскорбить тебя.
Отказы не случайно строятся на основе корня хуй, — что
связано с наличием в семантическом спектре этого корня сильно
выраженной семантемы отрицания (см. ниже).
ОВ отказа существенно конативны и почти непереводимы в
3-е лицо.
1.1.3. Индифферентивы
Сюда относятся выражения: хуй (хер, хрен) с тобой; ебисъ
ты в рот (в жопу) и т.д.
Пристойные синонимы: черт (Бог) с тобой.
Семантический центр здесь, как и в посылках, отстранение,
но скорее 1-го лица от 2-го, и притом «ментальное».
Семантика этих ОВ довольно расплывчата и гетероситуатив-
на. Они могут выражать, в зависимости от ситуации,
безразличие, самоотстранение, неохотное согласие.
Бранная иллокутивная сила здесь, в соответствии с
семантикой, сравнительно слабо выражена, и поэтому эти ОВ легко
переводимы в 3-е лицо.
1.2. Подкласс 2: Пейоративы
Это ОВ, направленные на адресата, но не имеющие
непосредственной прагматической цели, а лишь экспрессивную
(выразить свое отношение к адресату) и конативную
(оскорбить) цель; они представляют собой «характеристики»,
причем пейоративные, то есть, если угодно, «ругательства в
узком смысле слова».
Синтаксически пейоративы — это именные группы (N или
N-Adj), могущие нанизываться в любом количестве и
произвольно сочетаться, выполняющие роль приложения, обращения
или именного сказуемого. Наиболее типичны контексты типа ах,
ты, ... /
Пейоративы допускают, кроме «прямого» (ко 2-му лицу),
применения к 3-му лицу, в том числе к неодушевленным
предметам, и даже к 1-му лицу.
112
Можно выделить три группы пейоративов-существительных
(границы между которыми, впрочем, нечетки):
(а) Оценивающие умственные качества или умения адресата.
Это выражения, синонимичные таким необсценным
ругательствам, как дурак или растяпа и т.д.: мудак, мудила, жопа,
распиздяй, д&лбоеб, пиздюк (?) и т.д.
(б) Оценивающие нравственные качества (синонимичные
таким словам, как сволочь, гадина и др.): блядь (блядюга, бля-
дища), сука (сучка, сукоедина), курва, говно (говнюк) и т.д.;
может быть, также говноед, говноёб и др.
(в) Без определенного смыслового наполнения: пидарас,
мандавошка, разъебай, хуй, пизда и др.
Эти пейоративы имеют тенденцию притягивать к себе
прилагательные — обычно в постпозиции (а такие, как хуй и пизда,
почти никогда без определений не употребляются). Эти
прилагательные сами могут быть обсценными (ёбаный (в рот), сраный,
засранный, хуев, блядский, сучий, говенный и др.), просто
оскорбительными (вонючий, собачий, позорный и др.) или более
или менее нейтральными (старый, близорукий и т.д. —
уточняющие «характеристику», или же «орнаментальные», вроде
моржовый, голландский и т.д.). Сочетаемость N-Adj очень
различна, от жесткой (последние 2 примера) до совсем
свободной (ёбаный может сочетаться даже с хуем и разъебаем).
Пейоративы N обсц.-Adj пересекаются с N-Adj рбсц., где
носителем обсценности является именно прилагательное (из
списка, приведенного выше), а N более или менее произвольно.
Из перечисленных Adj первые четыре могут присоединять
практически любое N (напр., названия профессий: ах ты, лингвист
ёбаный (сраный, засранный, хуев, в рот ёбанный, ёбанный в
рот), а следующие два тяготеют к некоторым специфическим
N: блядский (сучий) потрох, сучье вымя и т.д. (Эти
последние ОВ употребляются также как междометия и вставки.)
В применении к 3-му лицу (и в особенности к
неодушевленным предметам) пейоративы в значительной степени утрачивают
свою иллокутивную силу, смыкаясь с обсценными
«местоимениями» (см. ниже).
1.3. Подкласс 3: Божба
Сюда относятся ОВ, употребляемые в функции клятвы,
уверения в истинности (комиссивы, по Серлу): бля(дь) буду
(блядью мне быть), сука буду (сукой...), курва буду (курвой...),
ебать меня в рот (в нюх) и т.д. (а также эвфемизмы, как в
рот мне три кило печенья, и т.д.).
113
Семантическая экспликация фразы «Бля буду, А» (или
«Бля буду, если не А»), где А — некоторое утверждение или
обещание: если не А, то можешь считать меня (или я сам буду
считать себя) дурным человеком.
Возможны как бы «обращенные» или «повернутые»
употребления типа сукой тебе быть, если...; сукой он будет,
если... и т.д.
Ближайшие необсценные эквиваленты: провалиться мне на
этом месте, разрази меня гром, лопни мои глаза (а также,
конечно, более далекие ей-богу, клянусь, честное слово и т.д.).
Любопытно, что ОВ этого подкласса предполагают «моральное
наказание» за нарушение клятвы («пусть я буду плохой»), в то
время как их пристойные эквиваленты — наказание
«физическое» («пусть мне будет плохо»). Интересен и характер
морального наказания, заключающийся в отождествлении именно с
общедоступной и/или продажной женщиной (или, общее,
связанный с пассивной ролью в половом акте).
1.4. Подкласс 4: Междометия и вставки
Целая группа ОВ: ёб{ебит[ь]) твою мать, мать твою
emu, ебёна мать, ебитская сила, бля{дь), блядский род
{потрох и т.д.)., сука, сучий потрох {мир, вымя и т.д.) и др. (и их
эквиваленты — «квазиэвфемизмы»: ё-моё, ёлки-палки, ёлки
зелёные, ё-кэлэмэнэ, японский бог и т.д.), а также необсценные
черт, черт возьми {побери) и др. — употребляется в двух до
известной степени противоположных функциях.
(А) В чисто эмотивной функции, как выражение
непосредственной эмоции — удивления, возмущения, восхищения,
неудовольствия и т.д., ненаправленные и не имеющие
прагматической цели. Такие обсценные междометия часто сочетаются с
каким-либо обычным междометием {ах, ах ты и т.д.).
(Б) Как семантически и даже экспрессивно пустые вводные
обороты — вставки в связный текст. В этом случае им можно
предположительно приписать (а) метаязыковую функцию:
утверждение кода как «матерного»; (б) поэтическую функцию:
украшение речи.
При всем различии, А и Б объединяет отсутствие
референтной и конативной функций. При этом в реальном употреблении
между А и Б нет резких границ: между чисто экспрессивным и
чисто вставочным употреблениями имеется непрерывная
градация переходов. Ср., напр., фразы типа Во, бля, погодка! —
про очень плохую или очень хорошую погоду, — где бля
близко к чисто экспрессивному, и А он, бля, говорит, бля..., где, в
114
зависимости от отношения говорящего к предмету речи, бля
может варьировать от экспрессивного до
нейтрально-вставочного.
Можно предположить, что вставочное употребление, по
крайней мере в принципе, выражает определенный (условно
говоря, «матерный») «взгляд на жизнь» и/или является сигналом
соответствующего отношения к предмету сообщения.
2. КЛАСС II
2.0. Субститутивное употребление обсценных слов и
словосочетаний не порождает самостоятельных речевых актов.
Соответствующие речевые сегменты являются обсценными синонимами
обычных, нетабуированных слов и фразеологизмов. При этом
нужно различать (1) чисто субститутивное — местоименное и
местоглагольное употребление ОВ и (2) употребление с
определенной семантикой.
2.1. Местоимения и местоглаголия
Вопрос о местоименном и местоглагольном употреблении ОВ
подробно освещен в статье F. Dreizin и Т. Priestly, 1982 (с
которой мне удалось познакомиться после написания
первоначального варианта этой работы), так что я ограничусь здесь лишь
несколькими замечаниями.
Обсценные слова могут выступать в местоименной (в
широком смысле слова) функции, замещая собой почти любые
именные и глагольные значения. В качестве собственно местоимения
выступает слово хуй, могущее замещать практически любое
одушевленное существительное мужского рода (что было
замечено еще Бодуэном де Куртенэ); неодушевленные
существительные (любого рода) замещаются словом хуевина (а также
херовина и хреновина), восполняющим отсутствие русского
эквивалента французского chose (если не считать такие слова, как
штука и штуковина). Последнее слово оценочно нейтрально
(в местоименном значении), хуй же может быть и нейтральным
(смотри, какой-то хуй там стоит), и нести слабо
выраженную отрицательную оценку (тут один хуй ко мне приходил).
Соответствующие женские «одушевленные местоимения» пизда
и блядь, как правило, отрицательно окрашены (вчера я снова
встретил эту пизду [блядь]) и колеблются между
местоименным и пейоративным значениями.
115
В качестве местоглаголии выступают, прежде всего, глагол
ебатъ и различные его префиксальные и суффиксальные
производные (напр., заебачиватъ), а также глагольные производные
от хуй и пизда (захуярить, пиздануть, пиздячитъ и мн. др.).
При этом корни остаются семантически пустыми, а конкретное
значение слова определяется значениями соответствующих
префиксов и суффиксов, а также контекстом (подробно см. в
упомянутой статье). Вопрос о семантических возможностях таких
местоглаголии заслуживает отдельного изучения, — но из
наблюдений над речью носителей обсценного языка можно сделать
вывод о том, что они почти безграничны.
2.2. Субститутивные ОВ с определенной семантикой
2.2.0. Уже поверхностное наблюдение показывает, что, при всей
широте их семантического спектра, ОВ используются
преимущественно для выражения значений «негативных» в самом
широком смысле слова, то есть содержащих сему «отрицание», —
будь то отрицание как логический оператор, отрицание какого-
либо «положительного» или «нормативного» качества,
отсутствие или ликвидация (каузирование отсутствия) чего-либо и
т.д. (это относится и к ОВ класса I).
2.2.1. Чистое отрицание
Это случай, когда ОВ, почти исключительно со словом (или
корнем) хуй (или его синонимами хер, хрен), с добавлением
отрицательных частиц или без них, выступает субститутом тех или
иных отрицательных (а также вопросительных) местоимений,
или же просто частицы не.
хуй (получишь, = не или ничего не...
заработаешь, разберешь...)
(он) хуй (придет...) = не
хуй (знает...) — никто не
ни хуя не (знаю, поймешь...) = ничего
ни хуя (нет)2 = ничего
ни хуя (себе) = ничего
не хуя (жрать, = нет (глагол) или
стоять тут...) нечего, незачем
на хуй (нужно, мне это...) = не, незачем
на хуй + глагол со = усиление
значением «ликвидации» отрицательного
(ликвидировать, прогнать, глагола (напрочь,
116
убрать, выбросить...)
хули (говорить, делать,
ты пристал, толку...)
совсем)
= незачем или (в
вопросе) зачем
(с коннотацией
'незачем').
То же отрицательное значение — во фразеологизмах типа
= ни за что
(ты меня) за хуй
(не считаешь)
хуй ночевал
(в холодильнике),
от хуя уши
(а это что,) хуй собачий?
(в ответ на просьбу)
= ничего (нет)
в ничто
В большинстве этих употреблений (не фразеологических) хуй
допускает замену на черт (на черта, к черту, не черта, ни
черта не, черта ли), иногда с прилагательным (черта лысого
ты получишь), практически всегда — на эвфемистическое фиг.
В некоторых случаях слово хуй само по себе несет
отрицательное значение (хуй получишь, на хуй мне это), в других
же семантически пусто (= что) и требует отрицательных частиц
(ни хуя не знаю, не хуя тебе тут делать).
Эта группа употреблений соотносится с ОВ класса I с
семантикой отказа (хуй тебе, хуй на!, а хуй не хочешь?, хуюѵи-
ки и т.д.).
2.2.2. Безразличие,
то есть отсутствие (положительного или вообще какого-либо)
отношения, самоотстранение. Сюда ^относятся следующие
лексемы и ОВ:
насрать
ебать (ебал я эту
работу и т.д.),
ебать в рот и т.д.
ни хуя!
по хую
наплевать
наплевать +
коннотации,
выявляемые
синонимом
в гробу видеть
ничего!, наплевать!,
ни черта!
плевать на...
117
хуй класть (на...) = плевать (на)
один хуй = все равно, один черт
Эти О В соотносятся с индифферентивами из класса I.
2.2.3. Отрицательные качества, состояния, действия
Это большая и довольно расплывчатая группа обсценных
существительных, прилагательных, глаголов, наречий и
фразеологизмов, объединяемых, пожалуй, только семой Mal. Наводить
порядок и классификацию в этой группе было бы — в рамках
этой статьи — чрезмерным педантизмом. Я выделю здесь лишь
несколько бросающихся в глаза подгрупп.
2.2.3.1. Прилагательные широкого употребления со значением
«плохой»: хуевый (херовый, хреновый), говенный,
соответствующие наречия и примыкающее сюда существительное (в
функции именного сказуемого) говно. Эта группа слов тесно связана
с пейоративами класса I. Любопытно, что другие пейоративные
прилагательные — сраный, засранный и ебаный — как будто
почти не употребляются в субститутивном значении, а лишь в
собственно ругательствах — «характеристиках». Заметим, что
хуевый употребляется почти исключительно субститутивно
(= плохой), в то время как хуев — только в составе собственно
ругательств (и непереводимо на необсценный язык, — разве
что как чертов).
2.2.3.2. Слова со значением «ерунда», «нечто, не стоящее
внимания»: хуйня (херня), хуевина (херовина, хреновина)3, муда,
а также включающие в свое значение соответствующую сему
пиздитъ (= врать, молоть чепуху, но также бояться), заси-
рать (ебать) мозги (= то же, а также морочить голову).
2.2.3.3. Слова (главным образом глаголы), описывающие резкие
изменения — вообще говоря, в худшую сторону — физического
или ментального состояния, а также действия, приводящие к
таким состояниям, то есть деструктивные:
Расхуячить, распиздячить, = разбить, сломать,
распиздошитъ и др. уничтожить
хуякнутъ(ся), ебнуть(ся) = ударить(ся), упасть
ёбнутый, стебанутый = «ушибленный»
(ментально)
отхуячить, отхерачить = избить
118
хуяк (камнем в рыло) = баи,.,.
хуякс (в обморок) = упасть
охуетъ = внезапно прийти в
состояние недоумения,
крайнего удивления
въебать — врезать, ударить
пиздануть = ударить
испиздить — избить
пиздец =» конец (как результат
деструкции)
и мн. др.
2.2.3.4. Перечислю еще ряд слов, — отнюдь не претендуя на
полноту — относящихся к этой группе: '(у) красть' =
(с)пиздить; 'обмануть' = объебать; 'мучить', 'измучиться',
'устать' = ебать, уебать(ся), наебаться (и соответствующие
пассивные причастия); 'надоело' = остоебенело; 'бояться' =
бздеть; 'наказывать' = брать за жопу; 'тяжело работать' =
хуячить, хреначить; 'до изнеможения' = до охуения;
'хвастаться', 'выпендриваться' = выебыѳаться; 'уходить' =
уебывать (обычно в императиве); 'поддевать', 'провоцировать',
'провокация' = подъебыватъ, подъебка и мн. др.
Характерно, что антонимы соответствующих «приличных»
слов, или же слова, соотносящиеся с ними, но с положительным
значением — такие, как взять, подарить, сказать правду и
т.д. — обычно не имеют обсценных субститутов4.
Легко представить себе мир, описываемый лексикой,
перечисленной в 2.2.3 (а также и в других частях работы): мир, в
котором крадут и обманывают, бьют и боятся, в котором «все
расхищено, предано, продано», в котором падают, но не
поднимаются, берут, но не дают, в котором либо работают до
изнеможения, либо халтурят — но в любом случае относятся к
работе, как и ко всему окружающему и всем окружающим, с
отвращением либо с глубоким безразличием, — и все кончается
тем, что приходит полный пиздеи,.
1983
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В советском законодательстве употребление нецензурной брани в
общественных местах квалифицируется как хулиганство («умышленные
действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие
119
явное неуважение к обществу») и влечет за собой административную
(в случае «мелкого хулиганства») или уголовную (по ст. 206 УК
РСФСР) ответственность.
2 Антоним до хуя (= 'много: более чем достаточно') — не частый
случай ОВ с «положительным» значением.
3 Имеет и «местоименное» значение (см. выше).
4 Ценностно нейтральные или положительные значения редко
выражаются с помощью обсценных слов; чаще всего это «пароним и-
ческие производные» соответствующих необсценных слов. Ограничусь
несколькими примерами: ебало (и, как следствие, ебальник) — 'лицо*
или 'рот* — от хлебало; хуета (<суета, маета); хитрожопый
(<хитроумный); охуительный (<восхитительный, упоительный);
невпроеб (<невпроворот); колдоебина (<колдобина); перекосоебило
(<перекосило) и мн. др. Возможности образования подобных «новых
слов» — оказионализмов, могущих стать и
общеупотребительными, — неограниченные.
БИБЛИОГРАФИЯ
Dreizin F. and Priestly T.; A Systematic Approach to Russian Obscene
Language // Russian Linguistics. 1982. Vol. 6. S. 233—249.
Успенский Б.А.: Религиозно-мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии // Структура текста. Москва, 1981.
Успенский Б.А.: Мифологический аспект русской экспрессивной
фразеологии (Статья первая) // Studia Slavica Hung. 1983. Vol.
XXIX. S. 33—69.
120
А.ЗОРИН
•
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОБСЦЕННОЙ
ЛЕКСИКИ
И ЕЕ КУЛЬТУРНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Ç^3*P
В последние годы заметно резкое оживление научного и
общественного интереса к проблемам русской обсценной или,
проще говоря, в основном матерной лексики. Только за последние
десять лет появились касающиеся этого круга проблем
лингвистические1, культурологические2, литературоведческие3, фоль-
клористские4, социокультурные5 исследования, а также
значительное число выступлений публицистического характера6.
Разумеется, прежде всего этот возросший объем публикаций связан
с либерализацией цензурного режима, позволившей обсуждать
ранее запретную тему. Однако подобные публикации участились
и в зарубежной печати. По-видимому, сдвиги, происходящие
сейчас в функционировании русского литературного языка и
сопряженных с ним сферах общественного сознания, настолько
глубоки и серьезны, что настоятельно взывают к осмыслению с
самых разных точек зрения.
Вследствие характерной для национальной традиции недиф-
ференцированности различных областей культуры, социальные,
эстетические и собственно языковые процессы оказываются в
ней не только взаимосвязаны, но и практически неразличимы. В
результате публицистический элемент заметен даже в
публикациях научного плана. Так, появление статей Е. Тоддеса и
А. Илюшина было инициировано необходимостью писать
экспертное заключение по поводу предъявленного прокураторой
Латвии газете Атмода обвинения в мелком хулиганстве. Вина
газеты состояла в появлении на ее страницах фрагмента из сти-
121
хотворного послания Т. Кибирова «Л.С. Рубинштейну»,
содержавшего несколько непечатных слов. Но даже и сугубо
академическая статья Ю. Левина завершается вполне
публицистическим пассажем, в котором общий очерк обсценной лексики и
фразеологии служит основой для попытки, скорее
художественной, чем научной, воссоздать облик общества, эту лексику и
фразеологию породившего7. Вообще говоря, синкретический
характер русской брани и ее универсальная распространенность
периодически наводят разных авторов на мысль искать в ней
своего рода магические формулы для постижения народной
души и порожденной ею социальной практики. Приведем
несколько примеров:
— А! Заплатанной, заплатанной! — вскрикнул мужик.
Было им прибавлено и существительное к слову «заплатанной» очень
удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его
пропустим. [...]Выражается сильно российский народ! [...] А уж куды бывает метко
все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни
всяких иных племен, а все сам самородок живой и бойкий русский ум.
(Гоголь, Мертвые души)
Истинное же воплощенное в быт ничто, страшное, и последнее «ни х...»8.
Мудак — стертый облик общественного безумия, это бред всеобщего, из
которого вынут стержень индивидуального сознания9.
Наконец уже упомянутый нами пассаж:
Нетрудно представить себе мир, описываемый [этой]лексикой, [...] мир, в
котором крадут и обманывают, бьют и боятся10, в котором «все расхищено,
предано, продано», в котором падают, но не поднимаются, берут, но не дают,
в котором либо работают до изнеможения, либо халтурят — но в любом
случае относятся к работе, как и ко всему окружающему и всем окружающим, с
отвращением либо с глубоким безразличием, — и все кончается тем, что
приходит полный пиздец11.
Стоит заметить, что практически любое суждение о матерной
лексике с неизбежностью влечет за собой ее оценку, которая
может колебаться от негативной (Левин) через насмешливо-
уважительную (Гусейнов) к безусловно-апологетической:
«Благородные же кристаллы мата, единственной природной и при-
надлежной части русского языка, сохранившейся в советском
языке, продолжают слать нам свет человеческой речи, как
погасшие звезды во мраке планетария»12. Очевидно, что перед
нами не просто некоторый стилистический слой, существующий в
языке наряду с другими, но сфера, вобравшая в себя смысловое
напряжение, выводящее нас далеко за пределы лингвистики.
122
Как уже неоднократно отмечалось в печати, именно
политические запреты, казалось бы поддержанные всей полицейской
мощью государства, оказались наименее стойкими и в
изменившихся условиях рухнули в первую очередь. Эстетические
предубеждения консервативнее идеологических, и в этом нет ничего
парадоксального. Общественные страсти близки и понятны
каждому, и удержать от их открытого обсуждения может только
внешнее давление. Между тем эстетический цензор находится
внутри каждого человека, он задан естественным пристрастием
личности к давно знакомому и привычному. Небольшую статью
о Л. Рубинштейне и два его текста автору этих строк
приходилось с трудом пробивать в печать, когда Архипелаг Гулаг уже
вовсю публиковался. Между тем существует еще и третий
уровень цензуры — моральный, и его планка находится еще выше,
чем у двух первых. Можно, пожалуй, проследить некоторую
динамику преодоления этих барьеров за последние годы новооб-
ретенной «советской гласности». Идеологическая цензура дает
первые трещины весной — осенью 1986 года (появлением
первых подборок Н. Гумилева, Дара В. Набокова, фильма Т.
Абуладзе Покаяние), сдает здесь одну позицию за другой на
протяжении 1987 и 1988 годов13 и окончательно рушится летом
1989 года (трансляции I съезда народных депутатов,
публикации Архипелага...). Ее рецидивных проявлений в тех или иных
сферах общественной жизни я здесь касаться не буду.
Эстетическая цензура слегка подается лишь в 1988 году (так
называемые «Испытательные стенды» в Юности, где печатаются
поэты-метареалисты, Пригов и Кибиров), отступает в 1989-м и
1990-м и окончательно уходит в небытие на рубеже 1990 и
1991 годов, когда так называемые авангардисты и
постмодернисты начинают свободно печататься в изданиях, выходящих
массовым тиражом. Наконец, цензура моральная впервые ставится
под сомнение в середине 1989 года (полемика вокруг выхода в
свет Астенического синдрома К. Муратовой, фрагментов
поэмы Т. Кибирова «Л.С. Рубинштейну», издание набоковской
Лолиты). Борьба с этим видом цензуры, о которой мы еще
будем говорить, идет по нарастающей и, вероятно, достигла
кульминации сегодня, а до ее полного устранения еще далеко.
Впрочем, то, что здесь названо моральной цензурой, состоит
из весьма разветвленной и неоднородной системы табу. Так
называемые «эротика и порнография» распространены уже
достаточно широко, и для их сдерживания потребовался специальный
президентский Указ, успех которого весьма сомнителен. Куда
более жестко табуирована тематика, связанная с жизнью сексу -
123
альных меньшинств, — так замечательная проза покойного Евг.
Харитонова не напечатана в России до сих пор, несомненно,
именно из-за интереса автора к гомосексуальным отношениям.
Наконец, непосредственно являющаяся предметом этой статьи,
обсценная лексика имеет собственную историю легализации,
тесно, порой до неразделимости связанную с историей снятия
идеологических, эстетических и прочих моральных табу, но
представляющую и самостоятельный интерес.
Стоит отметить, что табу на обсценную лексику и на
порнографию принципиально разной природы, ибо в первом случае,
как показано у Успенского, «запрет накладывается именно на
слова, а не на понятия, на выражения, а не на содержание»14.
То есть невоспроизводимым оказывается именно графический и
фонетический облик тех или иных слов, поскольку, с одной
стороны, в современном русском языке обсценная лексика передает
совершенно не обсценные значения15, а с другой — в языке
существует достаточное количество нетабуированных способов
выразить содержание, заключенное в первичных значениях об-
сценных слов.
Однако для того, чтобы говорить об истории и последствиях
снятия табу, необходимо сначала хотя бы очень кратко
остановиться на самом этом табу и его месте в парадигме российской
культуры.
Религиозно-мифологические корни матерной брани подробно
исследованы Б.А. Успенским, выявившим отложившиеся в этой
брани на разных исторических этапах архаические
представления16. В той же работе им было проанализировано место и
значение этой фразеологии в русской средневековой культуре.
Исследователь особо подчеркнул сакральный и магический
субстраты русской экспрессивной фразеологии, показав, что
реликты древних представителей до настоящего времени
окрашивают языковое сознание и поведение носителей русского языка,
определяя характер многих существующих запретов.
Существенные сдвиги в отношении к ненормативной лексике
происходят в XVIII веке — эпохе стремительной европеизации
русской культуры и идущей на фоне этой европеизации
стратификации литературного языка. Кодификатором, как известно,
здесь выступил Ломоносов, применивший античную теорию
высокого, среднего и низкого штиля к церковнославянскому и
русскому словарному фонду:
К третьему роду [речений русского языка] относятся, которых нет в
остатках славянского языка, то есть в церковных книгах [...]. Выключаются от-
124
сюда презренные слова, которых ни в каком штиле употребить не пристойно,
как только в подлых комедиях [...]. Низкий штиль принимает речения
третьего рода, то есть которых нет в словенском диалекте, смешивая со средними, а
от славенских обще не употребительных вовсе удаляться, каковы суть
комедии, увеселительные эпиграммы, песни, в прозе дружеские письма, описание
обыкновенных дел. Простонародные низкие слова могут иметь в них место по
рассмотрению («Предисловие о пользе книг церковных в российском языке»).
Разумеется, матерная лексика не входила ни в число
«простонародных, низких» слов, годных, «по рассмотрению», для многих
жанров, ни даже в число «презренных», употребимых в
«подлых комедиях». Она как бы вовсе исключалась из
рассмотрения, создавая своего рода «четвертый штиль», порождавший
свои собственные жанры (собственно говоря, это были все без
исключения жанры правильной литературы, но вывернутые
наизнанку).
Литературное сознание XVIII века тяготело к
отождествлению тех или иных жанров с именами его лучших представителей
и к созданию на основе этих имен своеобразного
мифологического пантеона. Возникает свой мифологический родоначальник,
демиург и у обсценной литературы. Им становится Иван
Барков.
Исследователи занимают различные позиции относительно
принадлежности Баркову стихотворений, входящих в сборник,
несколько различных изводов которого известны под названием
Девичья игрушка, или Сочинения г. Баркова. Г. Макогоненко
без обсуждения рассматривает весь корпус сборника как барков-
ский, а В. Степанов склонен осторожно на основе традиции
атрибутировать ему лишь четыре произведения17. В
действительности, сборник несомненно состоит из сочинений разных лиц, но
авторское участие в них Баркова было весьма значительным.
Такой хорошо осведомленный и, видимо, лично знавший
Баркова современник, как Н.И. Новиков, говорил о «множестве» его
произведений18. Как бы то ни было, имя поэта полностью
оторвалось от написанных им или приписываемых ему
произведений и стало нарицательным и почти столь же неприличным, как
и связанные с ним тексты.
Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевесть
И даже имени такого
Не смею громко произнесть.
(Л.С. Пушкин)
125
В сборниках XIX века Баркову приписывались все
произведения обсценного характера, включая написанные явно после его
смерти. В поэме Пушкина «Тень Баркова»19 поэт фигурирует в
качестве своего рода бога Приапа, выручающего страждущих в
момент мужских затруднений и требующего за это молитв и
прославлений. Возможно, именно с этим мифологическим
превращением связана ощущавшаяся Пушкиным непроизносимость
имени Баркова:
Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину
Заполнил лишь собой.
Любопытно, что позднее большая часть непечатной лирики с
тою же неизменностью приписывалась самому Пушкину,
который берет на себя ту же мифологическую функцию. Бытующий
в массовом сознании образ Пушкина, безусловно, включает в
себя мотивы гипертрофированной сексуальности.
Сами же произведения Баркова остаются до сегодняшнего
дня плохо известными не только читателям, но и специалистам.
В воспоминаниях режиссера М. Ромма рассказано, как С.
Эйзенштейн в середине 30-х годов разыграл министра Шумяцкого,
предложив ему экранизировать произведение «малоизвестного
русского классика» Баркова Лука. Фамилию «Луки»
Эйзенштейн намеренно утаил20. Уже в этом году писатель М. Чулаки
патетически заявлял:
Давно уже существует прекрасная литература, не только употребляющая,
но и культивирующая мат. Первым тут стоит И. Барков с его знаменитым
Лукой Мудищевым [...]. Цензуры в России больше нет, но Барков не
издан.
А надо издать. Как и современный анонимный шедевр Николай
Николаевич, приписываемый, впрочем, Ю. Алешковскому21.
Конечно, Лука Мудищев является произведением Баркова в
той же мере, в какой знаменитая повесть никогда не
скрывавшего своего авторства Ю. Алешковского может быть названа
«анонимным» шедевром. Как это было всегда очевидно любому
квалифицированному читателю, а в последнее время бесспорно
доказано К. Тарановским, поэма была написана уже в после-
пушкинскую эпоху22. Однако именно этой вещи, повествующей
о подвигах героя с его богатырской сексуальной мощью, сужде-
126
но было быть изданной как произведение Баркова и
увековечить его имя уже в XX столетии.
Впрочем, это лишь наиболее яркие примеры
неосведомленности. Стоит отметить, что и серьезные исследователи не особенно
глубоко знакомы с барковским наследием. Так, в статье Тодде-
са цитируется лишь «Ода кулачному бойцу» — единственная из
«срамных» од Баркова, изданная (с обессмысливающими
купюрами) в советское время23. Крошечные цитаты же, приводимые
Илюшиным, и вовсе сомнительны24, да и общая характеристика,
которую он дает барковиане, требует важных уточнений.
Девичья игрушка обладает рядом особенностей, не дающих вполне
отождествить ее с «дымной похабелью кабацкой ругани»25.
Прежде всего, это ее огромный объем и своеобразная эн-
циклопедичность. Здесь используются и травестируются
практически все жанры, принятые в русской литературе того времени.
Таким образом, автор (или авторы) демонстрирует своего рода
ученость, осведомленность в современной литературной практике
и то же в той или иной степени требует и от читателя. Однако
тексты барковианы ориентированы не только на русскую, но и
на иноязычную, главным образом французскую и латинскую,
словесность. В то же время обращает на себя внимание
использование в барковиане матерщины. Слова этого регистра
используются практически без исключений «технически» в точном
соответствии с их исходным значением. (Лишь до некоторой
степени исключением может служить синекдохальное
употребление двух соотносимых друг с другом терминов в значении
«мужчина» и «женщина», создающее характерную смысловую
игру части и целого. Этот тип употребления чрезвычайно
распространен в современной матерной частушке.) Кроме того,
существенно положение всей этой словесности в литературном
процессе. Обсценная поэзия находилась как бы за чертой
нормальной литературы, но не была ей противопоставлена. Среди
ее авторов были признанные литературные авторитеты. Так,
есть серьезные основания атрибутировать два стихотворения из
Девичьей игрушки Сумарокову. Позднее в том же роде
пробовали себя Державин, Вяземский, Пушкин, Языков, Лермонтов,
Полежаев и др. (Да и сам Барков был вполне заметным по
своему времени переводчиком и одописцем.) Более того,
влияние барковианы ощущается и на некоторых произведениях,
вошедших в печатную литературу26. Немаловажно, что за этим
родом творчества признавалось особое, но законное место в
литературном процессе. По словам В.П. Степанова,
«современники считали барковиану одним из видов шутливой поэзии, свиде-
127
тельствующей 'о веселом и бодром направлении ума'»27.
Сочувственные в целом отзывы о Баркове содержатся в Опыте
словаря российских писателей Н.И. Новикова (1772) и
анонимном (вероятно, принадлежащем И. А. Дмитриевскому или
В.И. Лукину) Известии о некоторых российских писателях
(1768). Более скептическое, однако отнюдь не уничтожающее,
суждение о Баркове содержится в Пантеоне российских
авторов (1801) Карамзина, писателя, казалось бы, предельно
далекого от какого бы то ни было намека на неприличие: «Перевел
Горациевы сатиры и Федоровы басни, но более прославился
собственными замысловатыми и шуточными стихотворениями,
которые хотя и никогда не были напечатаны, но редкому
неизвестны. [...] У всякого свой талант: Барков родился, конечно, с
дарованием, но должно заметить, что сей род остроумия не
ведет к той славе, которая бывает целию и наградою истинного
поэта»28. Таким образом, обсценная словесность со своего
возникновения оказывается за пределами печатной литературы, но
не литературы как таковой. За ней закрепляется особая область
комического — литературной пародии в сочетании со сниженной
эротикой29, и, соответственно, ее восприятие должно требовать
от читателя известной подготовленности и ориентированности в
литературной ситуации и регистрах литературного языка.
Такая ситуация с некоторыми изменениями, о которых у нас
нет возможности здесь говорить подробно, продолжалась
примерно до середины XIX века, когда начинается своего рода
российская викторианская эпоха, а ненормативная лексика
вытесняется из литературного процесса в сферу низового
сквернословия или в лучшем случае дружеской похабщины закрытых
мужских учебных заведений. Строго говоря, гусарские поэмы
Лермонтова уже указывают на этот перелом30. Своего рода
памятником такого отношения к обсценной поэзии становится
сборник Русский Эрот не для дам (Женева, 1879), репринт
которого недавно вышел в США,. — наиболее известное среди
изданий этого рода.
Вместе с тем распространение в эту эпоху историко-
филологических исследований делает отечественную обсценику
предметом научных штудий. Появляются женевское издание
Русских заветных сказок Афанасьева (1872), предназначенный
для специалистов малотиражный выпуск былин Кирши
Данилова (СПб., 1901)31. Показательно, что, по-видимому, самым
известным автором непристойной поэзии становится в эту эпоху
крупнейший историк литературы М.Н. Лонгинов. Известен
специальный интерес к этой области П.А. Ефремова. Как бы
128
кульминацией филологического подхода к обсценной лексике
стало IV издание словаря Даля под редакцией И.А. Бодуэна де
Куртенэ, где, вероятно, впервые в русской печати
соответствующие слова появились в подцензурном издании. Обоснованию
своего решения Бодуэн де Куртенэ посвятил целую страницу
своего небольшого предисловия к словарю, и его аргументы как
бы предвосхищают все доводы, которые позднее будут
приводиться в эпоху перестройки:
Лексикограф не имеет права урезывать и кастрировать живой язык. Раз
известные слова существуют в умах громадного большинства народа и
беспрестанно выливаются наружу, лексикограф обязан занести их в словарь, хотя бы
против этого восставали и притворно негодовали все лицемеры и тартюфы, не
только являющиеся большими любителями сальностей по секрету, но тоже
весьма охотно прибегающие к разного рода ругательствам и сквернословиям.
[...] Преподносить языковеду или хотя бы только обыкновенному читателю,
желающему ознакомиться с известным языком, словарь без целой категории
осужденных на исключение слов — это почти то же, что заставлять анатома
заниматься человеческим телом без тех или других его частей. [...] Иногда
именно в неприличных словах и выражениях сохраняются очень древние
формы и синтаксические обороты. Переход значений и семасиологическое
творчество проявляются одинаково в области приличия и неприличия. [...] В самых
обыкновенных разноязычных и одноязычных словарях подобные слова
преспокойно помещаются, и никто этим не соблазняется и не развращается .
Круг приводимых Бодуэном де Куртенэ доводов очевиден:
это ссылки, во-первых, на общеизвестность матерной брани,
делающую любые попытки ее скрыть бессмысленными, во-вторых,
на специальные задачи предпринимаемого издания (им
функционально адекватны апелляции к художественным достоинствам
или экспериментальному характеру публикуемого произведения)
и, наконец, на опыт просвещенных стран. Заслуживает
внимания предпринятый лингвистом упреждающий удар — обвинение
всех реальных и потенциальных оппонентов в лицемерии,
ханжестве и тайных пороках.
Впрочем, данное издание Даля вышло уже в новую
историческую эпоху. Серебряный век ознаменовался новым всплеском
интереса к обсценной тематике и лексике, которая заново
привлекает внимание крупных писателей и художников и как бы
снова занимает место у порога большого искусства. 20-е годы с
их революционными сдвигами речевого употребления
стимулируют вторжение табуированных слов в литературу, по-разному
проявляющееся, в частности, у Маяковского и Есенина, но за-
5 Анти-мир русской культуры
129
тем начинается эпоха советского неопуританства и призыва
ударников в литературу, и понятия о литературном приличии
вновь становятся негибкими и ригористичными — возможный
интерес к ненормативной лексике вновь смещается в филологию,
а сама она встречается только в изданиях классики, разумеется,
печатаемая не полностью, но с помощью букв и точек или,
чаще, только точек, проставленных по числу отсутствующих букв.
Впрочем, и в филологии возрастает моральный пуризм: при
переводе на русский язык этимологического словаря Фасмера
ненормативная лексика изымается, причем делается это по
настоянию столь выдающегося ученого, как Б.А. Ларин.
В период оттепели такой озабоченный верностью
воссоздаваемого им языкового космоса писатель, как А.И. Солженицын,
вышел из положения с помощью легкого изменения написания
опасных слов: «фуимется, пригребется»33. Запреты, не только
цензурные, но и внутренние (как свидетельствует Архипелаг
Гулаг, писатель категорически не принимал матерной брани)
были соблюдены, но и читатель мог получить достаточно ясное
представление о языковой практике лагерников. Однако в целом
принятая система табу сохраняет свою полную силу вплоть до
семидесятых годов, когда распространение сам- и тамиздата
вновь возвращает обсценную лексику в литературное сознание,
как бы структурируя ту группу читателей, для которой ее
употребление оказывается привычным и допустимым.
Тем самым процесс полупризнания и нового табуирования
нецензурных слов оказывается в русской культуре «процессом
циклическим», как писал об этом на страницах Независимой
газеты С. Зенкин. Однако внешне парадоксальным образом
самый демократический язык удостаивается отчасти
снисходительного к себе отношения в пору, когда расцветает литература «для
немногих». Между тем в эпохи резкого расширения, круга
читателей табу на обсценную лексику (речь идет только о
литературных, но не о фольклорных жанрах) драматическим образом
устрожаются. В действительности парадокс этот чисто мнимый.
Социальные слои, недавно приобщившиеся к культуре, склонны
закреплять новообретенное положение резким ужесточением
системы запретов. Как пишет Е. Тоддес, «Среднеинтеллигентный
читатель может посчитать обращение к ней [табуированной
лексике] покушением на мораль, а читатели, к интеллигенции не
принадлежащие и более или менее свободно прибегающие к
мату в быту, — нарушением неких правил игры, согласно которым
литература должна говорить красиво, не должна воспроизводить
некультурное»34. В то же время круги, уверенные в своем куль-
130
турном статусе, склонны бравировать нарушениями табу. Кроме
того, именно эти круги оказываются в наибольшей мере
европейски (западнически) ориентированы, и, следовательно, много
слабей ощущают воздействие тех поддерживающих систему
запретов архаических механизмов, о которых писал Б. Успенский.
Тем самым литературный мат от образованного семинариста
И. Баркова и до люмпенизированного интеллектуала Вен.
Ерофеева оказывается проявлением по преимуществу
интеллигентским, реализующим элитарность культурной позиции через ее
снятие.
К 1989 году определился целый ряд факторов, делавших
самоупразднение сложившихся запретов неизбежным. Создалась
инерция падения цензурных шлагбаумов, накопился
значительный массив яркой и авторитетной литературы, широко
использовавшей обсценную лексику, усилилось влияние западных
культурных норм и тяготение к ним значительной части общества.
Процессы урбанизации оторвали большие группы населения от
традиционных архаических представлений с вмонтированными в
них системами табу. Наконец, люмпенизация общества, распад
его социальной структуры привели к трансляции совершенно
определенных речевых навыков снизу вверх, а механизмы моды и
престижа обеспечили встречное движение. В этой ситуации
сохранение запрета на воспроизведение определенных графических
и фонетических конструкций стало ощущаться как еще более
нестерпимое ханжество, чем это было во времена Бодуэна де
Куртенэ.
Особо следует остановиться на проблеме взаимоотношений
обсценной лексики и языка официальной идеологии. В
содержательных работах Г. Гусейнова ярко аргументирована мысль о
том, что «гигантский прорыв» мата «на поверхность
повседневного речевого обихода» стал следствием социолингвистического
эксперимента власти — запуска тоталитарного механизма
манипулирования языком. «Как умный слуга глупого хозяина, язык
был вынужден возместить тяжкие убытки, понесенные им в
верхних горизонтах за счет погружения в заповедные недра, за
счет своего подполья»35. К сожалению, исторические факты не
подтверждают эту блестящую гипотезу, представляющую собой,
по-видимому, зеркальную перелицовку демиургического мифа о
партии и правительстве, наделяющихся способностью
инициировать природные процессы. Дело в том, что многочисленные
свидетельства, в частности, те, что кропотливо собраны Б.
Успенским, указывают на широчайшую распространенность матерной
брани на всем протяжении истории русского языка. Сдвиги за
5*
131
советское время, по-видимому, все же произошли, но они могли
носить только количественный, а не качественный характер.
Вместе с тем взаимосвязь мата и официоза несомненна, но она
имеет более сложную природу.
Дело в том, что безудержное накачивание в каналы
массовой информации идеологических формул приводит к тому, что
эти формулы десемантизируются, утрачивают связь со своим
первоначальным происхождением, начинают обслуживать
чуждые им бытовые сферы. Зощенко и Платонов потрясающе
показали ранние этапы этого процесса. Однако совершенно по тем
же принципам уже давно строится обсценная лексика,
использующая табуированные корни для передачи совершенно необс-
ценных значений. Тотальная экспансия языка подворотни и
языка идеологии обусловлена их изоморфной природой. В этой
связи литература, уже приспособившаяся к работе с «новоязом»,
исключительно эффективно применяет к обсценной лексике уже
накопленные ею примеры. Характерным отличием
использования ненормативных слов в литературе 1970 — 1980-х годов от
предшествующих этапов становится резкий сдвиг на их
употребление в значениях, которые Dreizin and Priestly называли
местоименными и местоглагольными. Соответственно, мат и
примыкающие к нему языковые слои выходят за пределы ранее
отведенной им резервации пародии и низкой эротики и
приобретают способность служить практически в любых жанровых и
эмоциональных регистрах. Процесс этот начался, по-видимому,
с Москвы — Петушков. В современной литературе можно
выделить как минимум три функции, в которых используется
лексика, о которой идет речь. Из соображений симметрии мы
проиллюстрируем все три примерами из поэзии Тимура Ки-
бирова.
1) Миметическая фунция. Ненормативные слова
используются здесь в речи действующего лица для создания впечатления
безусловной достоверности передачи:
И не забыть мне рев казармы всей,
Когда дошли до места, где Галина
В истоме нежной, в простоте своей
Писала, что не нужен ей мужчина
Другой, и продолжалаГфез затей,
И вспоминала, как они еблись,
Да, так и написала, в сене где-то.
(«Элеонора»)
132
2) Экспрессивная функция. Благодаря своему особому
положению в языке матерные слова исключительно мощно
артикулируются и могут дать выход нарастающей в глубине
эмоциональной волне.
Вся очередь эта. За всех стариков и детей
Они отомстят мне, за Сонгми и Хатыни,
За Лютера Кинга, за цены на водку, за сына,
Лежащего в цинковом гробе, за вести с полей,
За то, что совсем оборзели на рынке грузины,
За все это вшивое, мелкое горе свое,
За скуку, за то, что с рождения их наебали.
(«Попытка осиновый кол пронести в Мавзолей»)
3) Концептуальная функция. Слова, принадлежащие обсцен-
ному языку, сопрягаются со словами, принадлежащими другим
пластам, чаще всего языку официоза и русской классики,
иногда библейско-церковному. Перепад уровней создает
стилистическое напряжение.
Это все мое, родное,
Это все-хуе-мое!
То разгулье удалое,
То колючее жнивье,
То березка, то рябина,
То река, а то ЦК,
То зека, то хер с полтиной,
То сердечная тоска!
(«Л. С. Рубинштейну»)
Конечно, отдельные функции трудно выделить в кристально
чистом виде. Как правило, они дополняют и усиливают одна
другую. Так, в тексте Л. Рубинштейна «Всюду жизнь»
карточка «Дай-ка посмотреть. 'Дхам-ма-па-да\ Что это еще за хуй-
ня?», конечно, воспроизводит характерный интеллигентский
матерок, но одновременно подчеркнутое неявным ассонансом
столкновение названия тома древнебуддистской философско-
религиозной лирики с матерным словом создает стилистическую
игру. Другой пример из того же текста:
Куда ж нам плыть, коль память ловит
Силком позавчерашний день,
133
А день грядущий нам готовит
Очередную поебень.
Здесь заключительное слово четверостишия выполняет роль
экспрессивного удара, одновременно давая концептуальный и
концептуалистский ответ на основной пушкинский вопрос: «Что
день грядущий мне готовит?» Что же до сочетания
экспрессивной и миметической функций, то в примерах нет необходимости:
они несложны и чрезвычайно многочисленны.
Как мы уже говорили, запрет на обсценную лексику
треснул в 1989 году. Мне довелось присутствовать на конференции
в МГУ в феврале 1989 года, когда читался доклад о поэтике
матерной частушки36, воспринятый и автором и слушателями как
своего рода хеппенинг. Затем все участники конференции с
напряжением следили за прохождением в печать сборника
материалов, а когда он вышел в свет, чему немало способствовал
тираж в 200 экземпляров, вздохнули: пронесло! На сборник
Русская альтернативная поэзия с его прорывом табу откликнулось
сочувственно-взволнованно только радио «Свобода»37. Куда более
бурную реакцию вызвало появление в газете Народного фронта
Латвии Атмода (21. 8. 1989) отрывков из послания Т. Киби-
рова «Л. С. Рубинштейну».
Как это часто бывало в годы перестройки, стимул был дан в
вестернизированной и свободомыслящей Прибалтике. При этом
кибировская поэма появилась за два дня до акции «Балтийский
путь», как известно, чрезвычайно напугавшей центральную
власть. Поэтому реакция на поэму как бы сплелась с реакцией
на перешедшие уже в необратимую фазу отделительные
процессы. В течение трех недель Правда (№ 245, 2.9.198N9) и
Литературная газета (№ 38, 20. 9. 1989) поместили свои
фельетоны, причем, по свидетельству сотрудников АГ, их материал
был также заказан и частично продиктован из Отдела культуры
ЦК КПСС, который зорко усмотрел связь между несколькими
матерными словами и сепаратистской политикой Народного
фронта. При этом, если Правда делала акцент на том, что
скабрезности поэмы лишь лакомая приправа для интересующего
редакцию антисоветского содержания, то ЛГ больше упирала на
то, что и.о. редактора Атмоды — дама. (Так же критиков
Астенического синдрома особо взволновало то, что матерится в
фильме женщина.) Против газеты было возбуждено уголовное
дело, экспертами по которому выступили известнейшие наши
литературоведы, по крайней мере двое из которых (Тоддес,
Илюшин) включили в свои отзывы краткий курс по истории
134
отечественной обсценной поэзии и суммарное изложение теории
поэтического языка. Появление этих материалов в печати,
причем в достаточно элитарных изданиях, свидетельствовало, что в
просвещении на этот счет нуждаются не только работники
латвийской прокуратуры. Дело пришлось прекратить за
«отсутствием состава преступления», о чем оповестили читателей оба
издания, опубликовавшие экспертные заключения.
Ободренные издатели продолжали свои игры. Искусство
кино (№ 6, 1990) напечатало пьесу В. Сорокина Пельмени, а
ленинградская газета Час пик (№ 30, 17.9.1990) воспроизвела
кибировскую поэму полностью. При этом обе редакции сочли
нужным уверить читателей, что они не одобряют подобной
языковой распущенности, но вынуждены ее дозволить из-за экспе-
риментальности пьесы и художественных достоинств поэмы. На
этот раз, в отличие от истории с Атмодой и Астеническим
синдромом, власти смолчали, и инициативу взяла на себя
общественность. Редакцию Часа пик захлестнул поток читательских
писем, в которых отразились весьма любопытные мотивы38.
Прежде всего, публикация «вульгарщины» — это
«преступление перед обществом» (В. Шурпицкий), которая «добивает»
культуру (Р. Иванов) и окончательно растлевает молодежь.
Пойти на это могли «только люди, которым наплевать на
страну, на людей» (Р. Иванов), готовые «распродавать» и «русский
дух, и совесть» (Г. Соколова), «сволочи», которые «низко
пали» (аноним). По-видимому, это антирусская диверсия,
устроенная, «таом» (горским евреем. — А.З.) Тимуром Кибировым
(аноним). Этот «Кибиров (татарин)39 написал Рубинштейну
(еврею) на новом русско-татарско-еврейском жаргоне» (Н. Ду-
дин)40. Последнее упоминание особенно занимательно. Называя
почему-то матерную речь «новым» татарским жаргоном,
читатель Н. Дудин воспроизводит весьма древнюю и совершенно ни
на чем не основанную легенду о том, что русский язык обязан
матерными корнями заимствованиям из татарского, несколько
перетолковывая ее в духе современных идей о культурной порче,
напускаемой жидомасонами. Тяготящее чувство вины за
непристойные слова переносится тем самым на чужие плечи. При этом
многие авторы писем, возмущенные похабщиной, сами матерятся
куда более разнузданно, и в большинстве случаев (астенический
синдром — ?) — это женщины. По-видимому, табуированная
лексика в новом контексте играет своего рода провокативную
роль, как бы раскрепощая читателя, позволяя ему выявить
подсознательную агрессивность. Заметим, что единственный из
авторов известных мне писем, высоко оценивший поэму, обратил
135
внимание именно на ее элитарность. «Поэма, на мой взгляд,
прекрасна. Но для людей, искушенных в стихах и Пастернака, и
Мандельштама, и Пушкина, а главное „полнообъемно"
владеющих русским языком. Многие ли из читателей Часа пик
продерутся к поэзии в ней через „ненормативную лексику?"»
Отклики на Пельмени в силу специфики читательской
аудитории журнала были куда менее бурными. ЛГ откликнулась
традиционным фельетоном с характерным заглавием «Надо ли
вешать пельмени на уши?» (15.8.1990). Однако его автор
В. Варжапетян, вопреки поговорке, начав за упокой, кончает за
здравие и сообщает, что номер, куда вошла пьеса, сделан
«весело, дерзко, свободно и талантливо», и он «просто не
привык к таким произведениям». Эта растерянность отражала
дезориентацию традиционалистской критики перед лицом нового
явления, все уверенней занимавшего место в культуре.
В 1991 году книги и периодические издания печатают
ненормативную лексику уже без всяких оговорок. Правда, пока
сохраняется частичное табу на матерные слова в их техническом
значении, и произведения В. Аксенова, Э. Лимонова и Г.
Миллера все еще печатаются с точечками, но, как любит выражаться
М.С. Горбачев, «процесс пошел». Популярная в Москве
Независимая газета публикует материалы об обсценной лексике из
номера в номер. Недавно вышел из печати набранный полным
текстом «анонимный шедевр» Николай Николаевич, на очереди
научное издание Баркова.
Восемнадцатого апреля, за четыре дня до дня рождения
В.И. Ленина, матерный язык перешел в прямую атаку на своего
извечного противника и спутника — официоз. Группа «ЭТИ»,
возглавляемая Анатолием Осмоловским, выложила своими
телами на Красной площади три знаменитые русские буквы. По
словам лидера группы они стремились «десакрализовать» это
пространство, сделать его подлинно народным41. Бой окончился
вничью. Против группы возбуждено уголовное дело по статье
206 ч. П42, но выходящий миллионным тиражом Московский
комсомолец уже 19 апреля и без всяких последствий
опубликовал снимок акции, на котором все можно прочитать.
Таким образом, культурный вектор вполне определился.
Возникает вопрос: что же теперь будет? Будет примерно
следующее: легализация мата неизбежно должна привести к его
превращению из особого языка в один из стилистических регистров
русского литературного языка. Соответственно, должна быть
ослаблена его продуктивность, способность выражать на нем идеи,
посторонние его семантике, что существенно сузит стилистичес-
136
кий диапазон использующей мат литературы. Возникает своего
рода замкнутый круг. Уникальные возможности мата порождают
богатую литературу, которая требует легализации. Легализация
же сокращает возможности мата, что, в свою очередь,
подрывает соответствующую литературу. Наиболее чуткие авторы уже
реагируют на эти процессы: последние стихотворения Кибирова
написаны слогом, который, пользуясь старинной формулой,
«мать может велеть читать дочери».
Можно предположить, что свободный доступ обсценной
лексики на страницы печати медленно (человек консервативен), но
неуклонно снизит ее встречаемость на заборах. Можно
надеяться, что через четверть века частотность слов «бля» и «ебть» в
лексиконе подростков снизится с 80 процентов, скажем, до
30 — 40. Что до старой словесности, то мы ее будем с тоской
воспоминать. Я позволю себе закончить старым детским, но
идущим к делу анекдотом. Папа спрашивает мальчика: «Ты
почему получил двойку?» — «А я сказал «жопа». — «И
что?» — «А учительница сказала, «что такого слова нет». —
«А ты?» — «А я сказал, «как же так, жопа есть, а слова
нет?» Так вот. Слово, по-видимому, будет. Жопа тоже, скорее
всего, не исчезнет. Чего точно не будет, так это анекдота.
Май 1991
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Dreizin F. and Priestly T. A systematic approach to Russian
obscene language // Russian Linguistics. 1982. Vol. 6; Левин Ю.В. Об
обсценных выражениях русского языка // Наст. изд.
2 Успенский БЛ. Религиозно-мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии. Семантика русского мата в историческом
освещении. // Наст. изд.
3 Тоддес ЕЛ. Энтропии вопреки (О поэзии Тимура Кибирова)
// Родник. 1990. № 4; Илюшин АЛ. Ярость праведных //
Русская альтернативная поэтика. М., 1990.
4 Смолицкая О.В. Семантика мата и проблема семантического
ядра частушки // Русская альтернативная поэзия. М., 1989.
5 Гусейнов Г.Ч. Ложь как состояние сознания // Вопросы
философии. 1989. № 11.
6 Гусейнов Г.Ч. Сколько ни таимничай, а будет сказаться //
Знание — Сила. 1990. № 1; Битов А. Памятник литературы как
жанр // Независимая газета, 14. 5. 1991; Чу лаки М. Изгнать
лицемерие // Независимая газета, 19.3. 1991; Алешковский Ю.
137
Изгнав мат, я предал бы язык // Независимая газета, 30.5. 1991;
и др.
7 Левин, с. 111-123.
8 Пришвин ММ. 1931 — 1932 (Дневники) // Октябрь. 1990.
№ 1. С. 146.
9 Эпштейн М. После будущего // Знамя. 1991. № 1. С. 220.
10 Включение в перечень этого слова основано, кажется, на
недоразумении. Левин утверждает, что значение «бояться» имеет глагол
«пиздить». Это очевидная ошибка, по-видимому произошедшая из-за
созвучия образованного от этого глагола отрицательного императива,
имеющего значение «не ври» с распространенным фразеологизмом «не бзди»
(«не бойся»), происходящего от глагола «бздеть» («портить воздух»),
тоже несомненно непечатного, но явно не матерного. Левин, с. 122.
11 Левин, с. 122.
12 Битов, с. 5.
13 Этапы этого процесса и его логика раскрыты в: Битов, с. 5.
14 Успенский, с. 9.
15 См.: Dreizin and Priestly.
16 Успенский, с. 7—110.
17 Макогоненко Г.П. Враг парнасских уз // Русская литература,
1964, № 4; Степанов В.П. / / Словарь русских писателей XVIII
века. Л., 1988. Т. I.
18 Степанов, с. 60.
19 Ее пересказ см.: Илюшин, с. 122 — 124. Нам пока не удалось
познакомиться с публикацией поэмы и статьей А. Чернова
(Синтаксис, № 30, 1991), в которой отвергается авторство
Пушкина. Представляется, однако, маловероятным, чтобы это выступление
могло поколебать традиционную точку зрения.
20 Ромм М.И. Устные рассказы. М., 1989.
21 Чулаки.
22 Taranovski К. The Notorious Russian Poem Luka. IJSLP, 1982.
V. 26.
23 Тоддес, с. 68.
24 Илюшин, с. 121 — 122.
25 Илюшин, с. 121.
26 См.: Степанов, с. 62. /
Степанов с 62
28 Карамзин Н. М. Сочинения. А, 1984. Т. 2. С. 109.
29 Особняком здесь стоит эксперимент Пушкина, введшего,
вероятно, впервые матерное ругательство в философское стихотворение
«Телега жизни» (1823). Однако и здесь речь не могла идти о
публикации в таком виде. «Можно напечатать, пропустив русский
титул», — писал Пушкин Вяземскому 29. 11. 1924 г. Стихотворение
было опубликовано с заменой не только матерного выражения, но и
рифмующейся с ним строки. Таким образом, были уничтожены даже
следы первоначального текста.
30 См.: Hopkins W. H. Lermontov's Hussar Poems // Russian
Literature Triquarterly. 1974. V. 10.
138
31 См.: Успенский, с. 8—11.
32 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, 4-е
испр. изд. под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. СПб.; М., 1911 —
1914. Т. I. С. X — XI.
33 Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. М., 1962.
С. 15, 21, 76 и др.
34 Тоддес, с. 67.
35 Гусейнов, «Сколько ни таимничай...», с. 70.
36 См.: Смолицкая О. В. Семантика мата и проблема
семантического ядра частушки // Русская альтернативная поэзия. М., 1989.
37 Отдельная тема — матерная лексика в кинематографе. Здесь
пионерами с одним приглушенно прозвучащим словом выступили
создатели фильма Маленькая Вера. Но там это событие прошло почти
не замеченным, заслоненное первым в советском кинематографе
изображением полового акта. Однако появление в финале фильма Киры
Муратовой, женщины, яростно матерящейся прямо в объектив,
вызвало чудовищный скандал. Его историю см.: «Поле Брани»,
Комсомольская правда, 22. 12. 1989; осмысление, см.: Ямпольский М. В
защиту крепкого сна // Советский фильм, № 5, 1990.
38 Тексты писем предоставлены мне Т. Кибировым, которому я
приношу искреннюю благодарность.
39 Т. Кибиров по национальности — осетин.
40 Сходные письма см.: Золотоносов М. Логомахия // Юность.
1991. № 5.
41 Гуманитарный фонд. № 26. 1991. С. 1.
42 См.: Осмоловский А. Белый флаг // Гуманитарный фонд.
№ 22. 1991. С. 1.
139
Фольклор
Б.УСПЕНСКИЙ
•
"ЗАВЕТНЫЕ СКАЗКИ"
А.Н.АФАНАСЬЕВА
—л^ГЙѴ^—
1. Александра Николаевича Афанасьева (1826—1871) по
праву называют «русским Гриммом». Действительно, его
знаменитое собрание русских народных сказок ближайшим образом
напоминает собрание немецких сказок братьев Гримм. Более того:
в мировой сказочной литературе, вышедшей в свет после
сборника братьев Гримм, не было ни одного такого монументального
собрания сказок, как афанасьевское1. Этот классический труд
(включающий в себя помимо русских сказок также сказки
украинские и белорусские) был впервые опубликован в 1855 —
1863 годах2 и с тех пор неоднократно переиздавался3. Вместе с
тем целый ряд сказок, собранных Афанасьевым, по цензурным
условиям не мог быть опубликован в России; сказки эти
составили особый сборник, который первоначально был озаглавлен
«Народные русские сказки не для печати»4. Эти тексты были
вывезены за границу и частично опубликованы там — без
указания имени составителя — под названием «Русские заветные
сказки»; остальные материалы должны были составить
продолжение данной книги, однако этот замысел остался
нереализованным5. Первое издание «Русских заветных сказок» вышло в
Женеве в 1872 году, второе, стереотипное, издание — в 1878
году6.
Слово заветный определяется в словаре В. И. Даля как
«завещанный; переданный или хранимый по завету, заповедный,
зарочный [т.е. секретный], обетный; задушевный, тайный; свято
хранимый»7. Вместе с тем тот же В. И. Даль назвал
143
«заветными» непристойные (эротические) пословицы и
поговорки, собранные им совместно с П. А. Ефремовым; «Русские
заветные пословицы и поговорки» В. И. Даля и П. А. Ефремова,
так же как и «Русские заветные сказки» А. Н. Афанасьева, не
могли быть опубликованы в России8. Вслед за В. И. Далем
эпитет заветный появляется в заглавии афанасьевского
сборника9 — слово заветный приобретает тем самым особый смысл,
выступая как определение специфического корпуса фольклдрных
текстов.
2. Основной корпус сборника Афанасьева составляют сказки
непристойного, эротического содержания. Сказки такого рода
были очень распространены в русском быту; они до сих пор
распространены в крестьянской среде, хотя обычно
рассказываются лишь в определенной аудитории и, видимо, в особых
ситуациях.
Адам Олеарий, немецкий путешественник, посетивший
Россию в XVII веке, замечает, что русские часто «говорят о
разврате, о гнусных пороках, о непристойностях... Они
рассказывают всякого рода срамные сказки, и тот, кто наиболее
сквернословит и отпускает самые неприличные шутки,
сопровождая их непристойными телодвижениями, считается у них
лучшим и приятнейшим в обществе» («Ihre meiste Reden seynd
dahin gerichtet, worzu sie ihre Natur und gemeine Lebensart
veranlasset. Nemblich von Uppigkeiten, schendlichen Lastern,
Geilheiten und Unzucht, so theils von ihnen selbst, theils von
andern begangen. Erzehlen allerhand schandbare Fabeln, und wer
die grobesten Zotten und Schandpossen darbey zureissen, und sich
mit leichfertigen Gebàrden heraus zu lassen weip, der ist der beste
und angenehmste»)10. По свидетельству современного
фольклориста, почти в каждой деревне «есть свои мастера, нередко, кроме
сказки эротической, ничего не рассказывающие»11. Между
прочим, эти сказки обычно рассказываются в деревне мальчикам-
подросткам (которые сами их при этом, по-видимому, не
рассказывают) — ознакомление с такого рода текстами призвано
оказать влияние на половое развитие12.
Вместе с тем наряду с непристойными (эротическими)
сказками мы находим в сборнике Афанасьева сказки
антиклерикальные, высмеивающие попов. Нередко эти темы объединяются, и
мы имеем непристойные рассказы о священнослужителях; есть,
однако, и такие сказки о попах, в которых совсем нет эротики
(см. сказки под № XXXVIII, XLII, XLVIIIa, XLVIII6, L,
LXIVa, LXXIV, LXXVI). После революции, когда были сня-
144
ты цензурные ограничения на антиклерикальные тексты, эти
сказки были опубликованы в России13. Что же касается
эротических сказок, то они продолжали оставаться под запретом; в
какой-то мере это объясняется особой табуированностью об-
сценной лексики — табуированностью, специфичной для
русской культуры14.
Итак, «Русские заветные сказки» включают в себя, с одной
стороны, сказки эротические, с другой же стороны — сказки
антиклерикальные. Чем же объясняется подобное объединение?
Можно ли считать, что оно достаточно случайно и определяется
всего лишь цензурными условиями, то есть невозможностью
публикации соответствующих текстов в России? Думается, что
причины лежат гораздо глубже.
Аполлон Григорьев (1822 — 1864), известный писатель и
критик, вспоминая о своем детстве, описывает общение с
дворней: «Рано, даже слишком рано пробуждены были во мне
половые инстинкты и, постоянно только раздражаемые и не
удовлетворяемые, давали работу необузданной фантазии; рано также
изучил я все тонкости крепкой русской речи и от кучера Васи-
лья наслушался сказок о батраках и их известных хозяевах»15.
Под «известными хозяевами» Аполлон Григорьев имеет в виду
попов — таким образом, рассказы, которые слышал от
дворовых людей маленький барчук, соответствуют по своему
содержанию афанасьевским «заветным сказкам»16. Это совпадение,
конечно, не случайно и заслуживает самого пристального
внимания.
Добавим еще, что антиклерикальный характер
соответствующих текстов очень выразительно подчеркнут на титульном листе
афанасьевского сборника: местом издания обозначен Валаамский
монастырь (один из самых строгих и почитаемых монастырей
православной России)17, само издание представлено как дело
рук монашествующей братии, причем эпиграфом к книге служит
цитата из послесловия к богослужебной книге, которая
приобретает при этом кощунственный смысл.
Характерно, наконец, что среди «заветных сказок» имеются
тексты не только антиклерикальные, но и прямо кощунственные
(см., например, сказку № LXVb, вариант подстрочного
примечания) — иначе говоря, наряду с текстами, направленными
против недостойных служителей культа, здесь представлены тексты,
направленные против самого культа.
3. Итак, непристойным, эротическим текстам приписывается
антиклерикальная направленность, и вместе с тем рассказы, выс-
145
меивающие попов, непосредственно ассоциируются с рассказами
непристойного содержания. Для понимания этого феномена
необходимо иметь в виду, что тексты того и другого рода
принадлежат к сфере анти-поведения, то есть обратного
поведения, поведения наоборот — поведения, сознательно
нарушающего принятые социальные нормы.
Анти-поведение всегда играло большую роль в русском
быту. Очень часто оно имело ритуальный, магический характер,
выполняя при этом самые разнообразные функции (в частности,
поминальную, вегетативную и т.п.). По своему происхождению
это магическое анти-поведение связано с языческими
представлениями о потустороннем мире18. Оно соотносилось с
календарным циклом и, соответственно, в определенные временные
периоды (например, на святки, на масленицу, в купальские дни)
анти-поведение признавалось уместным и даже оправданным
(или практически неизбежным).
Будучи антитетически противопоставлено нормативному, с
христианской точки зрения, поведению, анти-поведение,
выражающееся в сознательном отказе от принятых норм,
способствует сохранению традиционных языческих обрядов. Поэтому
наряду с поведением антицерковным или вообще антихристианским
здесь могут наблюдаться архаические формы поведения, которые
в свое время имели вполне регламентированный, обрядовый
характер; однако языческие ритуалы не воспринимаются в этих
условиях как самостоятельная и независимая норма поведения,
но осознаются — в перспективе христианских представлений —
именно как отклонение от нормы, то есть реализация
«неправильного» поведения. В итоге анти-поведение может
принимать самые разнообразные формы: в частности, для него
характерно ритуальное обнажение, сквернословие, глумление над
христианским культом.
Типичным примером анти-поведения может служить
поведение святочных ряженых. Так, на святки, то есть в период от
Рождества до Богоявления (Крещения), русские крестьяне,
которые, вообще говоря, считали себя христианами, рядились в
чертей, леших и т.п. и имитировали их поведение. Поведение
участников карнавала имело вообще откровенно
антихристианский и во многих случаях прямо кощунственный характер;
важную роль играли при этом как эротика, так и пародирование
церковных обрядов. Ср. описание святочных ряженых в
челобитной нижегородских священников, поданной в 1636 году
патриарху Иоасафу I (автором челобитной был, как полагают,
Иоанн Неронов): «...на лица своя полагают личины косматыя и
146
зверовидныя и одежду таковую ж, а созади себе утвержают
хвосты, яко видимыя беси, и срамная удеса в лицех носяще и
всякое бесовско козлогласующе и объявляюще срамные уды...»;
описанные здесь признаки в точности соответствуют
иконографическому образу беса, для которого также характерны хвост,
косматость, мена верха и низа (лица и полового органа).
Характерным образом в этом же контексте говорится и о
сквернословии: «Да еще, государь, друг другу лаются позорною лаею, отца
и матере блудным позором... безстудною самою позорною
нечистотою языки свои и души оскверняют»19.
Кощунственное глумление над церковью в святочных играх
описывается в челобитной Вяземского иконописца старца
Григория царю Алексею Михайловичу 1651 года. Григорий сообщает,
что у них в Вязьме «игрища разные и мерзкие бывают вначале
от Рождества Христова до Богоявления всенощные, на коих
святых нарицают, и монастыри делают, и архимарита, и келаря,
и старцов нарицают, там же и женок и девок много ходят, и
тамо девицы девство диаволу отдают»20. Итак, ряженые
изображают в данном случае монахов, которые занимаются
распутством... Не менее показательны пародийные святочные
похороны, в которых принимает участие ряженый «поп» в ризе из
рогожи, в камилавке из синей сахарной бумаги, с кадилом в
виде глиняного рукомойника (причем в кадило наложен куриный
помет) и где вместо отпевания произносится отборная брань,
сочетающаяся с элементами церковного обряда: «„Покойника"
ставят среди избы, и начинается отпевание, состоящее как со
стороны „священника", так и со стороны „дьячка" из
всевозможных матюгов, какие только употребляются здесь... „Поп"
ходит кругом покойника и кадит, делает каждение и
присутствующим, особенно девицам, норовит под самый нос, говоря:
„Благодать святого духа..."»21. Как видим, эротика и
непристойность естественно объединяются в святочных играх со
святотатством.
Существенно, что сами участники святочных, масленичных и
тому подобных обрядов воспринимали свое поведение как
греховное: предполагалось именно, что в «нечистые» дни
необходимо грешить — при том, что грехи требуют в дальнейшем
покаяния и очищения. Так, участники святочного обряда по
окончании святок должны были искупаться в иорданской
проруби (устраиваемой в праздник Богоявления) и тем самым
искупить свою вину; с этой же целью участники купальских обрядов
должны были искупаться в Петров день и т.п. Повседневная
жизнь представала, тем самым, как постоянное чередование
147
«правильного» (нормативного) и «неправильного» поведения
(т.е. анти-поведения). Разумеется, очень часто приходится
наблюдать экспансию анти-поведения, которое никак ситуационно
не обусловлено. Но даже и в этих случаях анти-поведение не
приобретает самостоятельный ценностный статус: анти-поведение
остается обратным, перевернутым поведением, то есть
воспринимается как нарушение принятых норм.
Все сказанное имеет самое прямое отношение к «заветным
сказкам». Непристойные сказки, вообще говоря, встречаются у
разных народов, и в этом отношении русские непристойные
сказки не представляют собой чего-либо особенного. В
сюжетном отношении русские «заветные сказки» могут ближайшим
образом напоминать французские фаблио, немецкие шванки,
польские фацеции и, наконец, известные новеллы Поджио и
Боккаччо (тем более что сами сюжеты такого рода легко
заимствуются и обнаруживают способность к миграции).
Специфическим для русских сказок является не столько сюжет как
таковой, сколько особенности их функционирования и восприятия,
которые определяются четко осознаваемой принадлежностью их
к сфере анти-поведения — то есть именно запретным,
«заветным» характером подобных текстов.
Достоевский писал в этой связи: «Народ наш не развратен,
а очень даже целомудрен, несмотря на то, что это бесспорно
самый сквернословный народ в целом мире, — и об этой
противоположности, право, стоит хоть немножко подумать»22.
Действительно, непристойные сказки могут быть сколь угодно
широко распространены в народном быту, подобно тому, как
распространены и непристойные выражения, — однако это
никоим образом не делает их нормой поведения; это, собственно
говоря, и определяет их особый статус23.
4. В некоторых случаях «заветные сказки» обнаруживают
самую непосредственную связь со святочными увеселениями,
ближайшим образом напоминая описание святочных игр.
Вот в сказке № LXVb кузнец находит попа у своей жены,
и поп притворяется «святьем», то есть сакральным
изображением: он скидывает с себя одежду и становится в переднем углу,
распустив косу и бороду; кузнец пытается прилепить свечку к
его члену, свечка отваливается, тогда кузнец решает накалить
«подсвечник», чтобы свечка лучше пристала, и поп «оживает»,
убегая из избы. Аналогии к этому сюжету можно обнаружить в
святочных играх. Так, игры на святки могут устраиваться в
храме, причем случившегося туг же покойника вынимают из
148
гроба и, вставив ему лучину в зубы, ставят в угол в качестве
своеобразного светильника (который одновременно предстает в
виде изваяния);24 вместе с тем «оживление» попа кузнецом
ближайшим образом напоминает святочные игры в «умруна»
(покойника), когда ряженого, изображающего покойника,
«оживляют», хватая его за срамные места25. Действия кузнеца,
хватающегося в той же сказке «женихов» раскаленными клещами за
testiculi, вызывают в памяти святочные игры, где кузнец
«перековывает» людей26.
Описание похорон животного (кобеля или козла) по
христианскому обряду в сказке № XLVIII находит соответствие в
святочной игре, когда ряженые, переодетые в священника',
дьякона, дьячка и певчих, с «хоругвями» и «образами», сделанными
из рогожи и соломы, имитируя отпевание, хоронят дохлого
теленка или же куклу с телячьей головой;27 как сказка, так и
соответствующая ей игра имеют откровенно кощунственный
характер.
В ряде сказок незадачливого попа мажут экскрементами (см.
сказки № LXXV и LXXVI); и этот мотив также находит
соответствие в святочных играх28. Персонажи других сказок
вымазываются в саже или же в краске, и их принимают за чертей
(сказки № LXVa, LXVb, LXIX); подобным же образом и
святочные ряженые, изображающие чертей, обыкновенно мажут
лицо сажей.
В сказке № LXIV представлен похотливый поп, который
ржет, как жеребец (иго-го), и ему отвечает женщина,
изображая кобылу (ыгы-ги), — таким образом передается их любовная
страсть; ср. в этой связи обличение языческих игр на
Владимирском соборе 1274 года, где говорится, что язычники, «вкупе
мужи и жены, яко и кони вискають и ржуть, и скверну де-
ють»;29 вместе с тем имитация крика животных характерна для
святочных обрядов, направленных на обеспечение плодородия
(так же, как и для обрядов, совершаемых в Великий четверг,
т.е. в четверг на страстной неделе)30.
Надо полагать, что сказки такого рода и рассказывались
именно на святках; соответствуя по своему содержанию
святочным играм, они могли выступать как словесный
субститут этих игр. Указание на то, что «заветные» сказки принято
рассказывать в святочные вечера, содержится, по-видимому, в
грамотах царя Алексея Михайловича 1647 — 1649 годов,
направленных на искоренение языческих обрядов, «...а в навечери
Рождества Христова и Васильева дни и Богоявления Господня
клички бесовские кличут — коледу, и таусен, и плугу... и за-
149
гадки загадывают, и сказки сказывают небылные, и
празднословие с смехотворением и кощунанием»31.
Разумеется, совсем не все «заветные сказки» связаны со
святочным поведением. Вместе с тем функционирование
подобных сказок отнюдь не обязательно определяется календарным
циклом. Так, они могли играть определенную роль в славянском
свадебном обряде; в Болгарии, например, в брачную ночь,
то есть во время соития молодых, собравшиеся за столом гости
рассказывают друг другу непристойные сказки32.
Соответствующие тексты явно соотносятся с тем, что одновременно
происходит на брачном ложе: эротический сценарий свадебного действа
параллельно развертывается, таким образом, в двух планах —
акциональном и вербальном. Можно предположить, что нечто
подобное могло иметь место и у других славян — в том числе и
у славян восточных33.
Равным образом «заветные сказки» могут быть связаны с
похоронным обрядом, и это особенно показательно,
поскольку здесь отчетливо проявляется связь анти-поведения с
представлениями о потустороннем мире. Следует заметить, что
этот обычай обнаруживает широкие типологические параллели:
так, у самых разных народов принято в ночь бдения при
покойнике вести шутливые или даже непристойно-скабрезные
рассказы, причем это может специально мотивироваться тем, что для
самого покойника эти рассказы имеют в точности обратный, а
именно глубоко моральный смысл34. Подобный обычай (правда,
без соответствующей мотивировки) зафиксирован и у славян, в
частности, у южных славян;35 ср. также «сороміцькі голосіня»
эротического характера36, «жартовливі голосіня»37 и вообще
разнообразные шутки над покойником38 в украинском похоронном
обряде; соответствующие моменты отразились, по всей
видимости, и в эротических моментах святочной игры в покойника, о
которых отчасти уже упоминали выше.
Одновременно украинские ритуа\ьные забавы, устраиваемые в
ночь бдения при покойнике, могут иметь явно выраженный
кощунственный характер, когда, например, устраиваются пародийные
похороны, причем один из играющих изображает покойника, другой
священника и церковный причет, вместо Евангелия и проповеди
читают те или иные забавные тексты и т.п.;39 совершенно такие же
пародийные похороны устраиваются и на святки (ср. выше). Как
видим, поведение участников святочных игр может ближайшим
образом напоминать ритуальное поведение в ночь бдения; это вполне
понятно, если иметь в виду поминальный характер святочных игр,
которые связаны по своему содержанию с культом предков.
150
В рассмотренных обычаях проявляется архаическое
представление о потустороннем мире как о мире с противоположной
ориентацией или, иначе говоря, с обратными,
противоположными — по сравнению с нашим миром — связями. Это
представление широко распространено, и есть все основания
полагать, что оно имеет универсальный характер: действительно, у
самых разных народов бытует мнение, что на том свете все
наоборот, то есть то, что здесь является правым, там оказывается
левым, верх соответствует низу и т.д. и т.п. Подобные
представления зафиксированы, в частности, и у славян, где они
отражаются как в верованиях, так и в обрядах — прежде всего в
похоронных обрядах, когда, например, к покойнику прикасаются
лишь левой рукой, одежда на нем застегивается обратным, по
сравнению с обычным образом, траурное платье выворачивается
наизнанку, предметы переворачиваются вверх дном и т.п.40.
Совершенно аналогично объясняется, как мы видим, и обычай
рассказывать при покойнике непристойные сказки. Вообще по
своей первоначальной функции «заветные сказки» связаны, видимо,
с языческим культом мертвых (предков).
5. Итак, «заветные сказки» обнаруживают несомненную связь с
обрядами языческого происхождения. Неудивительно, что
символическая образность этих сказок может быть очень архаичной.
Вот, например, в сказке № XXXII описывается, как мужской
член вырастает до неба41. В других — неэротических —
сказках аналогичным образом вырастает гороховый стебель42, и это
понятно, поскольку горох символизирует плодородие:43 в
качестве символа плодородия горох и фаллос могут уподобляться
друг другу и в других случаях; ср. выражение покушать
горошку, означающее «забеременеть»44, а также сказочный мотив
чудесного рождения от съеденной горошины45. В то же время
как в гороховом стебле, так и в фаллосе, вырастающем к небу,
можно узнать архаический образ мирового дерева46.
Или другой пример: в ряде сказок прослеживается
ассоциация фаллоса с богатством. Так, в одной из сказок (№ XX)
девка говорит парню: «ах, душечка! да твоим богатством можно
денежки доставать!»; в другой сказке (№ XLIIIa) coitus
представлен как добывание золота; наконец, здесь может обыгры-
ваться мотив продажи фаллоса (№ XV) или отдачи его под
заклад (№ ХХХИа); во всех этих случаях фаллос предстает
как средство обогащения, орудие добывания золота или денег
(ср. еще в этой связи сказку № XLVII). Все это отвечает
мифологическим представлениям о coitus'е, которое отражается, в
151
частности, в ассоциации женского полового органа с золотым
кольцом, золотой дырой и т.п.47.
Отметим еще сказку XLVI, где чесалка выступает как
метафорическое обозначение фаллоса, а чесать означает «futuere».
Эта символика отвечает мифологической ассоциации волос с
обилием, плодородием и т.п.48. Плодоносная сила гребня
отчетливо выступает в распространенном сказочном сюжете: герой
бросает требень в чистое поле, и на этом месте сразу же
вырастает лес49. Итак, гребень провоцирует плодородие, и это
объясняет его соотнесение с фаллосом; соответственно, например, в
русском свадебном обряде дружка, укладывая молодых в
постель, приказывает: «Ройся в шерсти!»50— и в этом случае
фаллос оказывается уподобленным гребню51.
6. Архаическая природа «заветной сказки» весьма наглядно
проявляется в ее соотнесенности с загадкой. Загадка и сказка
как фольклорные жанры вообще существенным образом связаны
друг с другом — это проявляется прежде всего в условиях их
функционирования52. В ряде случаев в тексте сказки
инкорпорирована загадка — она может вплетаться в речь сказочного
героя;53 в других случаях в сказке описывается испытание героя,
который должен отгадывать предлагаемые ему загадки54.
Однако в случае «заветной сказки» эта связь оказывается
гораздо более тесной55. Нередко загадка закодирована в тексте
«заветной сказки» и в той или иной мере определяет ее сюжет:
иначе говоря, сказка представляет собой сюжетное оформление
загадки.
Так, например, в сказке № XL vulva метафорически
именуется «тюрьмой». Этим пользуется батрак: он надевает чужие
носки на penis, заявляет, что поймал вора, и добивается того,
чтобы «вор» (penis) попал в «тюрьму» (vulva). Совершенно
очевидно, что сюжет этой сказки определяется загадкой, в
которой половой акт иносказательно представлен как заключение
вора в тюрьму: как видим, сказка предстает в данном случае
именно как сюжетное оформление загадки — как загадка,
переведенная в сюжетный план56.
Особенно показательна сказка № XIII. Она посвящена
взаимоотношениям парня (дурака) и девки и состоит из двух
эпизодов. В первом эпизоде дурак домогается девки, она
соглашается удовлетворить его страсть, но в решительный момент
незаметно подставляет ему кость щучьей головы; дурак
ссаживает до крови penis и бежит от нее, считая, что ее vulva
кусается. Здесь явно обыгрывается мотив «vulva dentata», широко из-
152
вестный в мифологии разных народов. Во втором эпизоде девка
выходит замуж за этого парня, они соединяются, и у нее
появляется кровь; дурак демонстрирует свой penis, заявляя: «Это
шило все в ней было». Здесь явно обыгрывается мотив потери
невинности.
Итак, перед нами два эпизода, которые антитетически
противопоставлены друг другу: в первом эпизоде девка торжествует
над парнем, во втором же эпизоде, напротив, парень берет верх
над девкой. Эти два эпизода сюжетно друг с другом
связаны — их объединяет мотив состязания; связующей темой
оказывается при этом тема крови. Вместе с тем в основе каждого
из этих эпизодов скрыта загадка, то есть каждый из них может
рассматриваться опять-таки как сюжетное оформление загадки.
В первом случае щучья голова, в которую попадает мужской
член, иносказательно описывает совокупление, в котором
участвует vulva dentata, во втором случае шило, вставленное в
женщину, иносказательно описывает совокупление во время
брачной ночи. Соответственно, мы можем в общем виде
реконструировать загадки, в которых щучья голова символически
обозначает vulva dentata, а шило предстает как символическое
обозначение penis'a. Эта символика и определяет сюжет сказки.
Итак, загадка может лежать в основе сюжетообразования,
иметь сюжетообразующую функцию.
7. Обратимся теперь к сказке № XIV. Здесь описывается
женитьба дурака, который настолько глуп, что не знает, как ему
надлежит действовать во время брачной ночи. Дружка
объясняет дураку, что тот должен делать, однако дурак не может его
понять, то есть неадекватно воспринимает его объяснения.
Следуя указаниям дружки, дурак оказывается на сохе, сваливается
оттуда и разбивается до крови (травестийным образом кровь в
данном случае идет не из женщины, а из мужчины). Мы
можем считать, что и в этом случае сюжет сказки основывается на
загадке, в которой женщина метафорически уподобляется сохе.
Вместе с тем загадка здесь представлена, так сказать, в
обратной перспективе: если в обычном случае загадка предполагает
расшифровку и мы должны прочесть загадку, то есть узнать за
внешним образом какой-то другой, зашифрованный денотат, то
в данном случае загадка преобразуется в простое сопоставление,
полностью лишенное иносказательного, метафорического смысла.
В самом деле, обозначаемый денотат здесь известен заранее, и
только представив себе то же сравнение (женщины и сохи) в
ином — метафорическом — ракурсе, мы можем увидеть загадку.
153
В сущности, перед нами тот прием, который в школе
формального литературоведения принято называть приемом
поэтического остранения — когда предметы или явления не
называются своими именами, а описываются со стороны, глазами
стороннего наблюдателя, не понимающего сути описываемого;
иначе говоря, нам предлагается новый — «странный» — взгляд на
уже знакомые вещи и явления, когда вещь описывается как в
первый раз увиденная, а случай — как в первый раз произошедший.
Очевидно, что прием остранения генетически связан с загадкой57.
Остранение очень типично для эротической тематики, когда
невозможность называть вещи или действия своими именами
заставляет прибегнуть к их описанию. Не случайно Виктор
Шкловский, который впервые описал этот прием, приводит
примеры из эротических текстов, ссылаясь, в частности, и на
«заветные сказки»58. Действительно, в наших сказках этот
прием встречается весьма часто. Так, в сказке № VII мы находим
описание coitus'a с точки зрения вши и блохи, которые
спрятались в женщине; между тем в сказке № V coitus описывается с
точки зрения медведя, лисы и слепня. Эта последняя сказка
представлена в сборнике Афанасьева в неполном виде (без
начала), и мы приведем ее текст по записи Д. К. Зеленина:
«Мужик пахал поле на пеганой [т.е. пегой] кобыле.
Подходит к нему медведь и спрашивает: „Дядя, хто тебе эту кобылу
пеганой делал?,, — „Сам пежил". — „Да как?" — „Давай, и
тебя сделаю?!" — Медведь согласился. Мужик связал ему ноги
веревкой, снял с сабана сошник, нагрел ево на огне и давай
прикладывать к бокам: горячим сошником опалил ему шерсть до
мяса, сделал пеганым. Развезал, — медведь ушол; немного
отошол, лег под дерево, лежит. — Прилетела сорока к мужику
клевать на стане мясо. Мужик поймал ее и сломал ей одну ногу.
Сорока полетела и села на то самое дерево, под которым лежит
медведь. — Потом прилетел, после сороки, на стан к мужику
паук (муха большая) и сел на кобылу, начал кусать. Мужик
поймал паука, взял — воткнул ему в задницу палку и отпустил.
Паук полетел и сел на то же дерево, где сорока и медведь.
Сидят все трое. Приходит к мужику жена, приносит в поле обед.
Пообедал мужик с женой на чистом воздухе, начал валить ее на
пол, заваривать ей подол. Увидал это медведь и говорит сороке
с пауком: „батюшки! мужик опять ково-то хотит пежить". —
Сорока говорит: „нет, кому-то ноги хотит ломать". — Паук:
„нет, палку в задницу кому-то хотит засунуть"»59.
Перед нами классический пример остранения; можно
полагать вместе с тем, что в основе данной сказки скрыты загадки,
154
в которых представлено иносказательное описание coitus'a60.
Соответствующие загадки имеют при этом сюжетообразующую
функцию; в самом деле, остраненное описание coitus'а, которое
восходит к загадкам такого рода, непосредственно мотивируется
сюжетом сказки.
Рассмотрим, наконец, сказку № XXXVI. Это сказка про
стыдливую барыню, которая запрещает лакею называть вещи
своими именами, но при этом побуждает его объяснять
поведение животных, которые на их глазах совокупляются друг с
другом. Лакей вынужден придумывать то или иное пристойное
объяснение, которое лишь с внешней, поверхностной точки
зрения соответствует тому, что происходит на самом деле. Она как
бы загадывает ему загадки, но по условиям игры он должен
придумать ложную разгадку. В результате мы получаем
своеобразное описание coitus'a; в сущности, это остраненное описание:
в самом деле, нам предлагается именно странный взгляд на
известное явление. В конце концов барыня предлагает лакею
вступить с ней в связь, и они говорят друг с другом условным,
метафорическим языком, в котором penis называется «конем»,
vulva — «колодцем» и, соответственно, соитие образно
описывается как напоение коня; на этом языке они и приходят к
соглашению. При этом если первоначальные — остраненные —
описания coitus'a имеют более или менее окказиональный
характер (это вообще типично при остранении), то в заключительной
сцене фигурируют образы, традиционные для эротической
загадки61. Итак, здесь демонстрируется переход от
окказионального остранения к традиционной загадке.
8. Подобно тому как сюжет «заветной сказки» может
основываться на загадке, он может основываться на двусмысленностях того
или иного глагола, который наряду с основным своим значением
имеет переносное значение в сфере сексуальной семантики. В
сущности, это один и тот же принцип, когда обыгрывается двойное
прочтение текста — при этом одно из прочтений всякий раз
предполагает эротическое содержание. Так, в сказках № ХЫІІб,
XLIVa, XLIV6 обыгрывается двойное значение глагола дать (в
непереходном употреблении этот глагол, как известно, означает
«отдаваться мужчине»), в сказке № V (ср. также приведенный
выше вариант этой сказки в записи Д. К. Зеленина) — переносное
употребление глагола пежить (в переносном смысле этот глагол
имеет значение «futuere»);62 ср. еще сказку № LXI, где
обыгрывается двусмысленность глагола решетить — в контексте
свадебной обрядности этот глагол имеет значение «одаривать молодых»,
155
однако он означает также «продырявливать»; это последнее
значение может окказионально получать сексуальные коннотации.
9. Остается добавить, что загадка — это не единственный
малый жанр, с которым связана «заветная сказка». Так, в целом
ряде случаев в сказку включается рифмованная прибаутка
эротического содержания; такие прибаутки (или просто
рифмованные фразы) встречаем, например, в сказках № I, XIII, XV,
XXXI, XXXII, XLV, XLXI, XLIX (вариант подстрочного
примечания), LV; иногда мы находим близкие по форме
прибаутки в разных сказках (так, например, в сказках № I и XV).
Вместе с тем прибаутка играет в сказке принципиально иную
роль, нежели загадка: прибаутка может отмечать point
повествования (или какой-то его части) и тем самым организовывать его
форму. В условиях импровизации, которая неизбежно — при
каждом воспроизведении — так или иначе преобразует текст
сказки, прибаутка остается, видимо, ее стабильным элементом.
В самом деле, прибаутка обладает мнемонической функцией: она
легко запоминается, и рассказчик, импровизируя в процессе
воспроизведения сказки, может опираться на прибаутку именно как
на стабильный компонент текста, который он хорошо
помнит, — как бы он ни отклонялся от основной сюжетной линии,
как бы ни наполнял ее новыми семантическими связями, он
должен подвести повествование к этому компоненту, к этой
вехе. Итак, прибаутка организует форму сказки. Между тем
загадка, как мы видели, может лежать в основе сюжетообразова-
ния сказки, находясь, таким образом, у истоков порождения
текста. Тем самым загадка относится прежде всего к внутренней
форме сказки, тогда как прибаутка относится к ее внешней форме.
Все сказанное говорит о большой архаичности русских
«заветных сказок». Эта архаичность проявляется как в
содержательных, так и в формальных моментах организации сказки,
подобно тому как она проявляется и в специфических условиях ее
бытования. В более специальных — семиотических — терминах
мы можем заключить, что эти тексты архаичны как по своей
семантике, так и по своим синтактике и прагматике.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т.Н.
М., 1963. С. 74.
2 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. Вып. I — VIII. М.,
1855 — 1863.
156
3 См. последнее (наиболее авторитетное) издание: Афанасьев А.Н.
Народные русские сказки в трех томах / Издание подготовили
Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков. М., 1984 — 1985.
4 См. рукопись на 330 листах под названием «Народные русские
сказки не для печати. 1857 — 1862. Собраны, приведены в порядок
и сличены по многоразличным спискам А. Афанасьевым»
(Рукописный отдел Института русской литературы Российской
Академии наук, Р I, оп. 1, ед. хр. 112). За исключением нескольких
страниц вся рукопись писана рукой А. Н. Афанасьева; другим
почерком написаны тексты на л. 312 — 316, 309об. — 310. Рукопись
содержит 164 нумерованные сказки (л. 1 — 290); кроме того, она
включает копию с «Русских заветных пословиц и поговорок»
B. И. Даля и П. А. Ефремова с дополнениями Афанасьева
(л. 290об. — 302), а также скороговорки, приметы, загадки, песни,
прибаутки, байки, анекдоты, заговоры (л. 302 — 321 об.).
Пользуемся случаем, чтобы поблагодарить А. Л. Топоркова, любезно
предоставившего нам описание данной рукописи.
5 Ср. заявление в конце предисловия к «Русским заветным
сказкам»: «...мы намерены также издать русские заветные пословицы и
продолжение русских заветных сказок. Имеющиеся в наших руках
материалы приводятся в порядок».
Из 164 сказок, представленных в рукописном сборнике, в издание
вошли первые 78 сказок; таким образом, разделение материала было
чисто механическим (ср. в этой связи замечание в предисловии: «...о
последовательности, в какой являются наши сказки, мы считаем даже
излишним распространяться»).
6 Деятельность А. Н. Афанасьева, тайно публиковавшего свои
материалы за границей ввиду невозможности опубликовать их в России,
напоминает аналогичные действия русских диссидентов во второй
половине XX столетия. Эта деятельность А. Н. Афанасьева была
вполне последовательной и целенаправленной: достаточно упомянуть, что
он был тайным сотрудником А. И. Герцена, регулярно поставлявшим
материалы для эмигрантской Вольной русской типографии в Лондоне
(см.: Эйдельман Н. Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды».
М., 1966; он же. Герцен против самодержавия. Секретная
политическая история России XVIII — XIX веков и вольная печать. М.,
1973). Подозреваемый в сношениях с эмигрантами, Афанасьев был
уволен с государственной службы; аналогия с судьбой диссидентов
нашего времени представляется разительной. О ранних публикациях
книги см.: [Бессмертных Л.В.]. Новые факты об изданиях „Русских
заветных сказок,, А.Н. Афанасьева // Русский эрос. Баня. М., 1994.
C. 402—405 (Секс-пир. Жемчужины интимной словесности: Русская
эротическая классика. Т. 4).
7 Даль. В. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд.
2-е. СПб.; М., 1880 — 1882. Т. I. С. 565.
8 «Русские заветные пословицы» В. И. Даля и П. А. Ефремова
должны были войти в несостоявшееся продолжение к «Русским заветным
сказкам» (см. выше, примеч. 4 и 5). Относительно недавно это собрание
157
пословиц и поговорок было издано за границей (к сожалению, по
неполному списку, хранящемуся в Houghton Library Гарвардского
университета). См.: Carey С. Les proverbes erotiques russes. Etudes de proverbes
recueillis et non-publiés par DaT et Simoni. The Hague; Paris, 1972
(«Slavistic Printings and Reprintings», vol. LXXXVIII).
9 Как указывает П. К. Симони, «наименование сборника пословиц
„заветными" принадлежит как оригинальное, то есть впервые
выпущенное в оборот — Далю. Затея Даля закрепить на бумаге для
потомства „Заветные пословицы„ может быть отнесена к 1852 году,
когда он служил в Нижнем Новгороде. „Заветные сказки"... явились
уже в подражание только Далю» (см.: Carey С. Указ. соч., с. 8).
Следует заметить, что название «Заветные сказки», возможно,
принадлежит не самому Афанасьеву, а В. И. Касаткину — человеку,
который, по-видимому, доставил рукопись Афанасьева за границу и был
причастен к ее анонимному изданию в Швейцарии; не исключено,
вообще говоря, что он был и автором предисловия к «Русским заветным
сказкам», которое подписано псевдонимом «Филиобибл» (см. о нем:
Бараг Л. Г., Новиков Н. В. А. Н. Афанасьев и его собрание
народных сказок // Афанасьев А. Н. Народные русские сказки в трех
томах. Т. I. С. 395).
10 См.: Olearius A. Vermehrte Newe Beschreibung der Musco-
witischen und Persischen Reyse... Schleszwig, 1656. S. 192 — 193; ср.:
Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в
Персию и обратно. / Введ., перев., примеч. и указ. А. М. Ловягина.
СПб., 1906. С. 189. Ср. вместе с тем обличение подобных обычаев в
окружном послании суздальского архиепископа Серапиона 1642 г.:
«...да у вас, православных христиан, слышим, что у вас безумнии че-
ловецы лают друг друга матерны, а инии безумнии человецы говорят
скаредныя и срамныя речи, их же невозможно писанию предати...»
(см.: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович.
Т. I. Сергиев Посад, 1909. С. 12).
11 См.: Никифоров А. И. Эротика в великорусской народной
сказке // Художественный фольклор. IV — V. М., 1929. С. 121.
12 Сходным образом родители в процессе воспитания детей по
традиции обучали их сквернословию. См.: наст. изд. С. 10.
13 См., например: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки в
трех томах. Т. III. С. 293 и ел.
14 См. об этом явлении: наст. изд. С. 9.
15 Григорьев An. Воспоминания. М., 1988. С. 16.
16 Ср. замечание А. Н. Афанасьева в предисловии к 4-му выпуску
первого издания «Народных русских сказок»: «В заключение
прибавим, что некоторые очень любопытные сказки из собрания В. И.
Даля, к сожалению, не могут быть допущены в печать, ради
нескромности своего содержания: героем подобных рассказов чаще всего бывает
попов батрак. Здесь очень много юмору, и фантазии дан полный
простор» {Афанасьев А. Н. Народные русские сказки в трех томах.
Т. III. С. 355). Как видим, говоря о «заветных сказках», Афанасьев
упоминает прежде всего сказки о попах.
158
Точно так же в известном письме В. Г. Белинского к Н. В.
Гоголю мы читаем: «Про кого русский народ рассказывает похабную
сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника» (Белинский
В. Г. Поли. собр. соч.: в 13 т. Т. X. М., 1956. С. 215). И в данном
случае сказки о попах естественно ассоциируются с непристойным
содержанием.
17 Одновременно год издания книги обозначен в выходных данных
как «год мракобесия».
18 См.: Успенский Б. А. Анти-поведение в Древней Руси //
Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985. С. 326 и ел.
19 Рождественский Н. В. К истории борьбы с церковными
беспорядками, отголосками язычества и пороками в русском быту XVII в.
// Чтения в Обществе истории и древностей российских при
Московском университете. 1902. Кн. 2. С. 24 — 25, 30.
20 См.: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в
деле исправления церковных обрядов. Сергиев Посад, 1913. С. 181.
21 См.: Гусев В. £. От обряда к народному театру (эволюция
святочных игр в покойника) // Фольклор и этнография. Обряды и
обрядовый фольклор. Л., 1974. С. 56. Ср.: Максимов С. В. Крестная
сила // Максимов С. В. Собр. соч. Т. XVII. СПб., б.г. С. 14 —
15. Приведенное описание относится к XIX веку.
22 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Т. XXI. Л.,
1980. С. 115.
23 Ср. специально о функционировании непристойных выражений:
наст. изд. С. 11 и ел.
24 См.: Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива
Императорского Русского географического общества. Вып. I. Пг., 1914,
с. 198. Ср. легенду, где обыгрывается этот сюжет, причем покойник
мстит участникам святочных увеселений: Зеленин Д. К.
Великорусские сказки Вятской губернии. Пг., 1915 (Записки Русского
географического общества по отделению этнографии, т. XLII). С. 1.
25 Ср.: Завойко К. В костромских лесах по Ветлуге реке
(Этнографические материалы, записанные в Костромской губернии в
1914 — 1916 гг.) // Этнографический сборник. Кострома, 1917
(Труды Костромского научного общества по изучению местного края.
Вып. VIII). С. 24.
26 Ср., например: Максимов С. В. Крестная сила. С. 12 — 13.
27 См.: Балов А., Деру нов С, Ильинский Я. Очерки Пошехонья,
II // Этнографическое обозрение. Кн. XXXIX. 1898, № 4, с. 84;
Смирнов М. И. Культ и крестьянское хозяйство в Переславль-
Залесском уезде. По этнографическим наблюдениям // Труды Пере-
славль-Залесского историко-художественного и краеведного музея.
Вып. I. Старый быт и хозяйство Переславской деревни. Переславль-
Залесский, 1927. С. 22 — 23.
28 См., например: Максимов С. В. Крестная сила. С. 20.
29 См.: Памятники древнерусского канонического права, ч. I
(Русская историческая библиотека, т. VI). Изд. 2-е. СПб., 1908,
стлб. 100.
159
30 Так, в Вологодской губернии накануне Васильева дня (31
декабря по старому стилю) перед ритуальной трапезой все члены семьи
ползали на четвереньках вокруг стола, произнося при этом чухи-рюхи,
чух-рюх!, то есть изображая свиней и имитируя их хрюканье; св.
Василий Кесарийский считается покровителем свиноводства (см.: Zelenin
D. Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 63).
В Сибири в Великий четверг хозяйки выходили до восхода солнца с
распущенными волосами и в одной рубашке, садились верхом на
клюку и объезжали двор, имитируя ржанье коней, мычание коров,
клохтанье кур (см.: Виноградов Г.С. Материалы для народного календаря
русского старожильческого населения Сибири... Иркутск, 1918.
С. 36 — 37). Об особом значении Великого четверга см.: Успенский
Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей...
М., 1982. С. 140 — 143.
31 См.: Иванов П. Описание государственного архива старых дел.
М., 1850. С. 297. Ср.: Харузин Н. К вопросу о борьбе Московского
правительства с народными языческими обрядами и суевериями в
первой половине XVII в. // Этнографическое обозрение. Кн. XXXII.
1897. № 1. С. 147; Акты исторические, собранные и изданные
Археографическою комиссиею. Т. IV. СПб., 1842. С. 125 (№ 35).
32 Архив Института фольклора Болгарской Академии наук
(записано Ф. К. Бадалановой в Пловдивской области, дер. Браница и
Доситеево).
33 То обстоятельство, что мы не располагаем непосредственными
указаниями относительно функционирования «заветных сказок» в
восточнославянском свадебном обряде, само по себе ни о чем не говорит.
Следует иметь в виду, что подобные обычаи, как правило, не
фиксируются фольклористами и этнографами — ввиду запретности самой
темы, которая распространяется и на исследователей; равным образом
результаты подобных наблюдений обычно не публикуются.
34 Так, например, даяки острова Борнео считают рассказывание
неприличных историй в присутствии покойника даже необходимым: по
их мнению, для самого покойника эти неприличные рассказы звучат
вполне морально, так как все человеческие слова имеют в языке духов
обратное, противоположное значение. См.: Sartori P. Erzahlen als
Zauber // Zeitschrift fur Volkskunde. N.F. Bd. II, 1930, Heft 1/2.
S. 43.
35 Архив Института фольклора Болгарской Академии наук
(записано Ф. К. Бадалановой в Молдавии, Комратский р-н, дер.
Кирсово). Ср. замечание об эротических поминальных играх у сербов:
ЗечевиН С. Игре нашег посмртног ритуала // Rad XI-og kongresa
Saveza folklorista Jugoslavije u Novom Vinodolskom 1964. Zagreb, 1966.
S. 378.
36 См.: Свени\иъкий Іл. Похоронні голосіня // Етнографічний
збірник. Видае ЕтноГрафічна комісия Наукового Товариства імени
Шевченка. Т. XXXI — XXXII. Львів, 1912. С. 18 — 20, 27.
37 См.: Свенцщький Іл. Указ. соч., с. 18; Гнатюк В. Похоронні
звичаі й обряди. / Етнографічний збірник. Видае ЕтноГрафічна
160
комісія Наукового Товариства імени Шевченка. Львів, 1912. Т.
XXXI — XXXII. С. 361 — 362.
38 См.: Гнатюк В. Указ. соч., с. 210; Кузеля 3. Посижіне і заба-
ви при мерци в украшськім похороннім обряді // Записки Наукового
Товариства імени Шевченка. Львів, 1914. Т. СХХІ. С. 207 — 208;
ср. вообще с. 179 — 182, 201 — 209; там же, Львів, 1915. Т.
СХХІІ. С. 159; ср. с. 116 — 127, 129 — 160; Шухевич В. Гу-
уульщина. Ч. III // Материяли до украшсько-руськоі етнольогн. Ви-
дане Етнографічноі комісш [Наукового Товариства імени Шевченка].
Львів, 1902. Т. V. С. 243 — 247; Bogatyrev P. Les jeus dans rites
funèbres en Russie Subcarpathique //Le Monde Slave. 1926. № 11.
P. 198.
39 Кузеля 3. Указ. соч. T. CXXI. С. 209; T. CXXII. С 117.
40 См.: Успенский Б. А. Анти-поведение... С. 327 — 329.
41 Аналогичный мотив встречается в шотландском фольклоре: «А
man and a woman were in each other's embraces. The man was a
succuba. His yard began to enlarge and enlarge and lift the woman. When
she was nearly reaching the roof she exclaimed: Farewell freens, farewell
foes / For I'm awa* to heaven / On a pintel's nose» (Some Erotic
Folklore from Scotland // Kryptadia, 1884. II. P. 261.
42 См., например: Афанасьев A. H, Народные русские сказки в
трех томах. Т. I. С. 32 (№ 19, 20); Т. III. С. 137 (№ 409), 146 —
147 (№ 420). Ср.: The types of the folktale. A classification and
bibliography / Antti Aarne's «Verzeichnis der Màrchentypen» translated
and enlarged by Stith Thompson 2-d revision. Helsinki, 1964. № 1960
G.
43 См.: Успенский Б. А. Филологические разыскания... С. 107.
44 См.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на
природу. М., 1865 — 1869. Ч. II. С. 490.
45 См., например: Афанасьев А, Н. Народные русские сказки в
трех томах. Т. I. С. 205 — 214 (№ 133, 134); Т. III. С. 227 —
231 (№ 560).
46 См. о мировом дереве: Топоров В. Н. Дерево мировое //
Мифы народов мира. Т. I, М., 1987.
47 В былине о Ставре Годиновиче муж не узнает своей жены,
переодетой богатырем («грозным послом Васильюшком»), и она
обращается к нему с такими словами:
А не помнишь ли, Ставер да сын Годинович,
А мы с тобою сваечкой поигрывали,
А мое было колечко золоченое,
Твоя-то была сваечка серебряна,
Ты тут попадывал всегды всегды,
А я попадывал тогды сегды?
(Гильфердинг А. Ф. Онежские былины...
Изд. 2-е. Т. I. СПб., 1894. С. 102. № 7)
Несмотря на эти намеки, муж все же не узнает жену, и в одном
из вариантов былины нам сообщается и разгадка:
Анти-мир русской культуры
161
Тут грозен посол Васильюшко
Вздымал свои платья по самый пуп:
И вот молодой Ставер сын Годинович
Признал кольцо позолоченое.
(Рыбаков П. Н. Песни. Изд. 2-е.
Т. II. М., 1910. С. 490. № 171)
Ср. диалог молодца и девицы в древнерусской эротической
повести «Сказание о молодце и о девице»: «Сице рече младый отрок к
прекрасной девице: Душечка еси ты, прекрасная девица, есть у тебя
красное золото аравийское, да всадил бы я свое буланое копье... И
рече ему красная девица: Свет государь мой, холостый молодец
неженатой... и ты, государь, где меня узришь, и тут бы ты в меня вложил
свою каленую стрелу и вложил бы ты в свой златой колчан»
[Срезневский В. Сказания о молодце и девице по сп. XVII в.
библиотеки Академии наук // Известия Отделения русского языка и
словесности императорской Академии наук. Т. XI. 1906. Кн. 4.
С. 84, 88; ср. Лопарев X. Сказание о молодце и девице. Вновь
найденная эротическая повесть народной литературы. СПб., 1894
(Общество любителей древней письменности. Памятники древней
письменности, ХСІХ). С. 16].
Тот же мотив отражается и в загадке, представляющей женский
половой орган: «Стоит девка на горе, да дивуется дыре: свет моя
дыра, дыра золотая! куда тебя дети? на живое мясо вздети» (Афанасьев
А. Н. Поэтические воззрения... Ч. I. С. 467). Соответственно
объясняется этимология русского диалектного слова золотник — «матка,
женская утроба». См.: Успенский Б. А. Филологические разыскания...
С. 150 — 151; Никифоров А. И. Эротика в великорусской народной
сказке. С. 126; Адрианова-Перети, В. Символика сновидений Фрейда
в свете русских загадок // Академия наук СССР — академику Н.
Я. Марру. М.; А, 1935. С. 503 — 504.
48 См.: Успенский Б. А. Филологические разыскания... С. 170 —
171.
49 См.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки в трех томах.
Т. I. С. 111 (№ 93), 127 (№ 103), 151 (№ 114). Т. II. С. 76
(№ 201), 167 (№ 225).
50 Нефедов Ф. О. Этнографические наблюдения на пути по Волге
и ее притокам... // Труды Этнографического отдела Общества
любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском
университете. Кн. IV. М., 1877. С. 65.
51 Подобные ассоциации прослеживаются не только у славян, что
вполне понятно ввиду их архаического характера. Так, например, фр.
peigne означает как расческу, так и membrum virile (см.: [Pitre С.?]
Note comparative // Afanas'ev A. N. Fiabe russe proibite. A cura di
Pia Pera. Milano, 1990. P. 271 — 272).
52 Характерным образом временные запреты на загадывание
загадок совпадают с аналогичными запретами на рассказывание сказок: у
самых разных народов отмечается запрет рассказывать сказки или
загадывать загадки при дневном свете, а также летом (иначе говоря, в
162
светлое время суток или года); обычно сказки рассказывали и загадки
загадывали на святках (это отмечается, между прочим, в
цитированном выше распоряжении царя Алексея Михайловича, направленном на
искоренение святочных обрядов). При этом как с помощью сказок,
так и с помощью загадок могло осуществляться общение с
потусторонним миром. См.: Успенский Б. А. История и семиотика
(Восприятие времени как семиотическая проблема). Статья первая //
Труды по знаковым системам, XXII (Ученые записки Тартуского
государственного университета, вып. 831). Тарту, 1988. С. 81 — 82
(примеч. 19).
53 См.: Елсонская Е. Н. Некоторые замечания о роли загадки в
сказке // Этнографическое обозрение. Кн. LXXV. 1907. № 4.
54 См.: Колесницкая И. М. Загадка в сказке // Ученые записки
Ленинградского государственного университета. № 81 (Серия
филологических наук, вып. 12). Л., 1941. Ср. еще: Дикарев Àf. А. О
царских загадках // Этнографическое обозрение. 1896. № 4.
53 В сборнике Афанасьева представлены и загадки в чистом виде
(наряду с прибаутками). См., например, текст № ХѴІІг —
«гарнизонный капитан» означает здесь penis.
56 Аналогичная зашифровка (наименование мужского полового
органа «вором», а женского — «тюрьмой») встречается и вне
славянского ареала, в частности в итальянских эротических новеллах (см.:
[Pitre G.?] Note... P. 265). Необязательно предполагать здесь
заимствование сюжета: совпадение может указывать на архаичность
соответствующего эротического кода.
57 См.: Шкловский В. О теории прозы. М.; Л., 1925. С. 12,
16— 17.
58 См. там же, с. 16 — 18.
59 См.: Зеленин Д. /С. Великорусские сказки Пермской губернии.
Пг., 1914 (Записки Русского географического общества по отделению
этнографии, т. XLI). С. 568.
60 Ср. в этой связи сказку № XV, где обыгрывается тот же
образ coitus'a, что и в сказке № V («пихать соломинку»; ср.
«засовывать палку» в редакции Д. К. Зеленина, которую мы
цитировали выше). Сопоставление penis'a и соломинки отражается и в
пословицах (см.: Carey С. Op.cit. Р 50. № 68).
61 См., в частности: Дикарев М. А. Указ соч. С. 25 — 26.
Характерно обращение молодца к девице в уже упоминавшейся
эротической повести «Сказание о молодце и девице», где используются те же
образы: «Душечка еси моя прекрасная девица! есть у тебя чистой луг,
а в нем свежая вода; конь бы мой в твоем лузе лето летовал, а яз бы
на твоих крутых бедрах опочин дерьжал» (см.: Лопарев X. Указ. соч.
С. 19; ср.: Срезневский В. Указ. соч. С. 86). Представление
мужского полового органа как коня, а женского органа как источника, откуда
конь утоляет жажду, по-видимому, очень архаично: оно встречается и
У других индоевропейских народов, например, у итальянцев (см.: [Pitre
С?] Note... Р. 280 — 282).
6* 163
Ассоциация penis'a с конем прослеживается и в сказке № XXXI,
где penis подчиняется командам но-ноі, и тпрру!, то есть с ним
обращаются совершенно так же, как обращаются с конем. Не
исключено, что такая ассоциация скрыта и в сказке № Llla.
62 Ср. употребление глагола пежить (буквально означающего:
«делать пегим, пятнать») в значении «hituere» в сказке № XLV.
Эпитет пегий применяется главным образом по отношению к лошадям
(так, о рогатом скоте в том же значении говорится пестрый, а о
собаке — рябая, см.: Даль В. Толковый словарь... Т. III. С. 549). Не
исключено, таким образом, что переносное значение данного глагола
обусловлено функцией коня в сексуальной символике, о которой мы
уже говорили выше.
Примечательно вместе с тем употребление сложного эпитета пегий,
пестрый в разговорнике Т. Фенне 1607 г. — таким образом
характеризуется здесь vulva, а также курица и бес; см.: Tônnies Fenne's
Low German Manual of Spoken Russian. Pskov 1607 / Ed. by L. L.
Hammerich et. al. Vol. I. Copenhagen, 1961. P. 489, 486, 493; Vol. II.
Copenhagen, 1970. P. 462, 459, 466. Применение соответствующего
эпитета к курице не вызывает удивления, поскольку курица в
переносном употреблении имеет значение «vulva» (см.: Успенский Б. А.
Филологические разыскания... С. 153). Особенно знаменательно
выражение куру пестрить, которое означает «futuere» (см.: Завойко Г.
B. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии
// Этнографическое обозрение. Кн. СІІІ — CIV. 1914. № 3 — 4.
C. 162); как видим, глаголы пестрить и пежить, совпадая в
основном своем значении, оказываются синонимичными и в переносном
употреблении — оба они означают «futuere».
164
А.БЕЛОУСОВ
»ВОВОЧКА«
Имена героев современного анекдота свидетельствуют об его
основной функции. Она заключается в пародировании
официальной культуры. Анекдотические персонажи выступают смеховыми
дублерами ее ведущих и наиболее прославленных
представителей, будь то исторические деятели, политические лидеры,
кумиры массовой культуры или же герои популярных телесериалов и
мультфильмов. Однако среди этих персонажей есть один, имя
которого не ассоциируется с каким-либо определенным
прототипом. Это — небезызвестный „Вовочка".
Обычно считают, что анекдотический герой назван в честь
основателя советского государства Владимира Ильича Ульянова-
Ленина, благонамеренными рассказами о детстве которого
постоянно пичкала читателей официальная пропаганда. Основанием
служит анекдот, где «Вовочкой» действительно оказывается
Володя Ульянов:
Сидит Вовочка на уроке. Вдруг в класс входит директор и говорит:
«Вовочка, беги скорей домой! У тебя дома неприятности». Вовочка хватает
портфель и бежит домой. Прохожий на улице говорит ему: «Вовочка, беги
Выражаю искреннюю признательность всем, кто помог собрать
коллекцию анекдотов про «Вовочку», и прежде всего А.В. Вознесенскому, В.Ф.
Лурье и Д.Н. Медришу. Я благодарен Е.В. Душечкиной, М.С. Петровскому и
участникам обсуждения моего доклада на руководимом СМ. Лойтер семинаре
по детскому фольклору в Петрозаводске 6 мая 1993 года за ценные советы и
соображения, которые помогли мне в работе над статьей.
165
скорей домой! У тебя дома неприятности». Вовочка прибегает домой. Выходит
мама и говорит: «Вовочка, у нас неприятности. Твой брат Саша стрелял в
царя, и его арестовали!»
Между тем существует анекдот, где «Вовочка» столь же
неожиданно отождествляется с директором школы. Анекдоты
исходят из уже сложившегося образа «Вовочки», который если
и происходит от Ленина, то в сугубо мифологическом смысле:
как и все советские дети, он является его «внуком»:
В пионерском лагере вожатый затевает игру с младшим отрядом: «Дети!
Угадайте, кто это: серенький, ушастенький, все поле обскакал?» Дети молчат.
«Ну о ком мы столько песенок поем, о ком столько стихов рассказываем?»
Вовочка радостно кричит: «А я знаю, кто это! Это дедушка Ленин!»
Объяснить причины наименования анекдотического героя
«Вовочкой» можно, только разобравшись в том, что
представляет собой этот образ.
Анекдоты с «Вовочкой» появились в конце 60-х годов. Они
пародировали одну из стандартных формул родительского
обращения к ребенку, в которой запрещение какого-либо
конкретного действия дополняется соответствующим требованием более
общего характера:
— Вовочка, не ешь яблоко! И вообще — уйди с помойки!
— Вовочка, не пей сырую воду! И вообще — отойди от унитаза!
— Вовочка, не грызи ногти! И вообще — отойди от папиных ног!
— Вовочка, не трогай дедушку за нос! И вообще — отойди от гроба!
— Вовочка, не качайся на папе! Он не для того повесился, а чтобы дома
тихо было!
В первой части воспроизводятся запреты на совершение
обычных детских проступков, когда ребенок не соблюдает
правил личной гигиены либо доставляет беспокойство своим
домашним — словом, нарушает порядок (как это происходит в
эпизоде с «яблоком», где запрет ничем не мотивируется: его просто
нельзя есть). Образуется фоновый образ домашнего озорника
из «приличной» семьи, который опровергается второй частью
«родительской» формулы. Выявляются обстоятельства его
поступков, свидетельствующие о дикости «Вовочки», который
отличается крайней нечистоплотностью и полным отсутствием
почтения к умершим родственникам, попирая тем самым основные
законы и правила человеческой жизни.
166
Эффектный выход в свет маленького дикаря привлек
внимание. Возникают анекдоты, обыгрывающие «Вовочкину» природ-
ность, его противостояние человеческой культуре. Одни из них
продолжают ориентироваться на родительское обращение к
ребенку, хотя и употребляют иные конструкции:
— Вовочка, любишь мамочку? Иди на кухню: там еще кусочек остался!
Другие строятся уже как рассказ о «Вовочке»:
Вовочка послал свои анализы в поликлинику. Скоро пришел ответ: «Ваша
лошадь больна сапом».
Третьи же делают его героем драматической «сценки»,
которая станет характерной формой анекдотов про «Вовочку»:
Учитель спрашивает: «Дети, у кого какие есть домашние животные?» Все
тянут руки: «Кошка!» «Собака!» «Ежик!» Учитель: «А у тебя, Вовочка?» —
«Вши, клопы, тараканы...»
«Вовочкина» природность, подчеркнутая фантастическими,
гротескными образами его вампиризма или принадлежности к
животному миру, в последнем сюжете преподносится как
бытовая нечистоплотность. Между тем это лишь усиливает реальную
опасность «Вовочки» для общества.
Его нечистоплотность направлена во вред окружающим.
Стоит милиционер на посту. Подходит к нему Вовочка и просит: «Дядь,
раскуси орех!» Милиционер раскусывает орех. Через несколько минут
Вовочка опять подходит к милиционеру: «Дядь, раскуси орех!» Милиционер
раскусил и говорит: «Что ты по одному носишь? Неси все орехи сразу!» Вовочка:
«А знаете, дядя, как трудно их на помойке искать!»
В то же время «Вовочке» совсем^ необязательно лазить по
помойкам, чтобы распространять вокруг себя грязь и зловоние.
Достаточно и его собственных природных отходов.
Дети решили играть «в машину», распределили роли: «Ты — руль, ты —
мотор, ты — кузов...» А на Вовочку не хватило деталей. Он плачет.
Сжалились: «Ладно, будешь выхлопной трубой. Беги сзади и воняй!»
Выросший «Вовочка» готов воспользоваться своими
физиологическими выделениями, чтобы испортить жизнь
окружающим.
167
Дети готовятся к новогоднему маскараду. Вовочку спросили, что он
оденет. Он ответил: «Я брюки надену коричневые, рубашку коричневую, ботинки
коричневые и шапку коричневую — наряжусь говном. Сяду в уголок, буду
вонять и вам праздник портить!»
Учительница дала задание: придумать себе название и изобразить его.
Леночка — рыбка. Оленька — фея. А Вовочка сказал: «Я — говно!»
Учительница покраснела, сказала, что так говорить некрасиво, и велела идти в
угол. Вовочка: «А я и оттуда вонять буду!»
Отправляя физиологические потребности, «Вовочка»
удовлетворяет движущую им страсть к нарушению правил приличия
и культурных запретов.
Кончился учебный день. Все разошлись. Остался один Вовочка. Он
говорит учительнице: «Марья Ивановна, давайте побалуемся!» — «Как это?» —
«Ну, например, насрем в учительской и убежим!»
Анекдот обрел героя, изначально запрограммированного на
роль озорника. «Вовочка» начинает утверждаться в «детских»
анекдотах: причем, по всей видимости, не столько порождая
новые, сколько притягивая к себе старые сюжеты. Имя «Вовочки»
присваивается издавна существовавшему в них безымянному
озорнику. В его честь переименовываются менее удачливые
предшественники и конкуренты (вроде еще популярного среди
ленинградских школьников 60-х годов
«Петьки-матерщинника»). В результате вокруг «Вовочки» образуется обширный
цикл «детских» анекдотов, целый «озорной» эпос.
Основой этого эпоса является столь выразительно заявленная в
первых анекдотах о «Вовочке» его дикость, природность, которая
воплотилась прежде всего в образе «грязного мальчика».
Характерно, что отличительный признак для «Вовочки» выбирается в
сфере материального, телесного «низа», из относящегося к
природным, физиологическим отходам. Это — его исключительные
способности по части отправления физиологических потребностей.
Встретились как-то Штирлиц, Василий Иванович, поручик Ржевский и
Вовочка. Стали рассказывать: Штирлиц — про то, как у Гитлера из сейфа
секретные документы украл; Чапаев — как целую дивизию белых порубил;
Ржевский — как со светскими дамами сношался. Только Вовочка не знает,
чем похвастаться. Молчал-молчал, а потом спрашивает: «Господа, а вы через
забор ссать умеете?»
Вернемся к предыдущему анекдоту. Основанный на игре
между «детскими» и «взрослыми» смыслами «Вовочкиного»
168
предложения учительнице, он позволяет перейти к другой теме
анекдотов о «Вовочке». Она посвящена все тому же телесному
«низу»: только уже не скатологической, а эротической, коиталь-
ной его стороне. «Вовочка» утверждается в давно и хорошо
разработанной сфере анекдотического творчества,
выворачивающей наизнанку фоновый образ «невинного дитяти». Возможно,
правда, что представление о «Вовочкиной» дикости, его природной
стихийности способствовало возникновению анекдотов о
пробуждении сексуальных потребностей у него уже в детском саду.
В детский сад привели новенького. Вовочка знакомится с ним: «Тебе
сколько лет?» — «Цетыли». — «А к зенсинам тянет?» — «Нет». —
«Знацит, не цетыли, а тли!»
Сидят в детском саду на горшках Вовочка и Миша. Миша рассказывает:
«Знаешь, Вовочка, а у нас новая нянечка — молоденькая, ножки стройные,
губки пухлые, талия узкая, а груди...» — «Слушай, Миш, может, хватит? И
так уж писюк в горшок не влазит!»
Пошел Вовочка в кино. Перед ним сидит влюбленная пара. Юноша обнял
девушку и спрашивает: «Ты что-нибудь чувствуешь? »— «Да!» — «А
что?» — «Что ты меня любишь!» Утром в детском саду Вовочка прижимает
к себе маленькую Свету: «Ты что-нибудь чувствуешь?» — «Нет!» Он
прижимает ее сильнее: «А теперь?» — «Чувствую!» — «Что?» — «Писать хочу!»
В детском садике из темного уголка раздается голос маленькой Леночки:
«Бонно — бонно — бонно...» В ответ — блаженный голос маленького
Вовочки: «Номально — номально...»
Малолетний «Вовочка» отлично знает, откуда берутся дети:
Вовочка, Лена и Боря играют в песочнице. Лена и говорит: «А вы
знаете, что меня аист принес?» Боря: «Ну и что? А меня в капусте нашли!»
Вовочка слушал-слушал и говорит: «Можно подумать, что в нашем доме никто
не трахается!»
Осведомленность «Вовочки» на этот счет поражает его
родителей.
Чтобы ребенок не мешал родителям заниматься любовью, они поставили
Вовочку у окна и попросили рассказывать о том, что он видит на улице. «Вот
машина проехала». «Хорошо», — говорит мама. «Вот тетенька прошла».
«Хорошо», — говорит папа. «А у Ивановых тоже трахаются». Мама
(испуганно): «А ты откуда знаешь?!» — «Так у них Наташка тоже в окне
торчит!»
169
Хотя им-то как раз удивляться тут нечего. Атмосфера дома,
семейной жизни, в которой вырастает «Вовочка», пронизана
сексуальностью. Его родители озабочены прежде всего
эротически-брачными проблемами: неудачами в домашнем сексе и
достижениями на стороне, где особенно отличается «Вовочкина»
мать, что хорошо известно ее сыну.
Перед праздником Восьмого марта в первом классе идет беседа о мамах.
«У тебя, Лена, кто мама?» — «Портниха». — «Дети! Ленина мама шьет нам
одежду! А у тебя, Коля?» — «Доярка» — «Дети! Колина мама поит нас
молоком, кормит творогом! А у тебя, Вовочка?» — «А у меня мама
проститутка». — «Ты что говоришь?! Пойдем-ка к директору!» Отвела учительница
Вовочку к директору, а сама вернулась в класс. Через несколько минут
Вовочка возвращается. «Ну, что тебе сказал директор?» — «„Мамы всякие
нужны, мамы всякие важны", — и записал наш адрес».
Естественно, что мать не считает грехом раннюю половую
зрелость своего сына.
Мама высовывается в окно: «Вовочка! Вовочка! Вовочка!» Голос из
кустов: «Да здесь мы!» — «А что делаете?» — «Трахаемся!» — «Смотрите —
не курите!»
Хотя инцестуозные поползновения «Вовочки» пресекаются:
Вовочка подходит к маме и говорит: «Мама, а что такое „пизда?"» —
«Это, сыночек, гараж». — «Мама, а что такое „хуи"?» — «Это, сыночек,
машина». — «Мам, а можно я свои „Жигули" поставлю в твой гараж?» —
«Нет, сейчас папа придет, свой „БЕЛАЗ" поставит!»,—
это не мешает отцу рассматривать его как равноправного
сотрудника в деле удовлетворения своих незаурядных половых
потребностей.
Учительница приходит к Вовочке домой и говорит отцу: «Вы знаете,
Вовочка проявляет нездоровый интерес к противоположному полу. Было бы
лучше, если бы вы сами объяснили ему все. Хотя бы на примере бабочек.
Что будет, если ему то же самое объяснят на улице?!» Отец подзывает
Вовочку и говорит ему: «Помнишь, что мы с тобой на прошлой неделе сделали с
нашей домработницей? Так вот, у бабочек бывает то же самое!»
Соседка прибегает к отцу Вовочки: «Вовочка в кустах козу пялит!» —
«Как?! Сегодня четверг — моя очередь!»
170
Обстоятельства жизни и домашнее воспитание лишь
способствуют ускоренному развитию, гипертрофии «Вовочкиной»
сексуальности.
Маленький герой большого секса доставляет большое
удовольствие своим одноклассницам.
Пошла Машенька учить уроки к Вовочке. Возвращается только на
следующий день. Родители в ужасе. А Машенька крутит трусики на пальце и
говорит: «Я не знаю, как это называется, но это — хобби на всю жизнь!»
Впрочем, многие из них уже достаточно искушены в
сексуальной жизни.
Вовочка и Леночка сидят на уроке арифметики. Леночка говорит:
«Вовочка, я залетела! Не знаю, что и делать». «Это чепуха, — отвечает
Вовочка. — Я триппер подхватил. Вот тоже не знаю, что делать». Тут
учительница заметила, что они разговаривают, и спрашивает Вовочку: «Вовочка!
Сколько будет шестью шесть?» — «Тридцать шесть, Марья Ивановна. Мне
бы ваши заботы!»
А их свобода в удовлетворении своих половых потребностей
порой изумляет даже самого «Вовочку».
Вовочка пригласил Танечку к себе домой. Купил торт, цветы, бутылку
коньяка и сигареты. Выложил все на стол и ждет. Проходит час. Вовочка
думает: «Танечка из хорошей семьи — пить не будет». Убрал бутылку.
Проходит еще час. «Танечка из хорошей семьи — курить не будет». Убрал
сигареты. А тут звонок в дверь. Входит Танечка. Вовочка спрашивает: «А чего ты
в школьном платье пришла?» — «Так завтра же в школу...»
Одной лишь учительнице приходится скрывать «низменные»
интересы и помыслы.
Вовочка на уроке задумчиво щелкает авторучкой: щелк-щелк...
Учительница (раздраженно): «Вовочка, чем ты там занимаешься?» — «Да вот
интересно: входит и выходит, а не беременеет!» — «Вон из класса! Придешь с
родителями!» После уроков директор застает учительницу за тем занятием и
слышит: «Действительно, не беременеет...» Он берет ручку и, повертев ее в
руках, восклицает: «Так там же пружина!»
Она исполняет обязанности хранительницы и защитницы правил
приличия и порядка культурной жизни и потому выставляется
главным противником воплощенной в «Вовочке» природной
стихийности.
171
Основной сюжет эротических анекдотов об этом активном и
необузданном дикаре — его домогательства учительницы «Марьи
Ивановны».
Вовочка пишет учительнице: «Марь Иванна! Я Вас люблю!» Учительница
возмущена: «Я не люблю маленьких детей!» Вовочка: «А у нас их не будет!»
Учительница прибегает к директору в слезах: «Ах, этот девятый «Б»
просто невыносим! Не ученики — животные! А один даже грозился меня
изнасиловать! Представляете?!» Директор встает и идет в класс. Входит. Молча
осматривает ряды девятиклассников и тычет пальцем в Вовочку: «Этот
сказал? Понимаю: этот раз сказал — сделает!»
Вовочка поспорил в школе, что выебет училку. Он подходит к ней и
говорит: «Мои родители уехали, и я остался один. Можно, я у вас переночую?»
Учительница согласилась. Приходят они домой к учительнице. Ложатся спать.
Вовочка говорит: «А меня мама кладет спать в свою кровать, а сама голая
ложится спать и разрешает потрогать свой пупок». «Но, Вовочка, это же не
пупок!» — «Молчи, дура! Это и не пальчик!»
Вовочка нарисовал в классе на доске голого мужчину. Учительница
увидела и говорит: «Ребята! Всем выйти из класса!» Все думают: «Вот сейчас
Вовочке попадет!» Вышли из класса и ждут. Долго ждут. Наконец Вовочка выходит
из класса и говорит: «Ну, что я говорил: в нашем деле главное — реклама!»
Открытие, вернее — разоблачение в «Марье Ивановне» такой
же сексуально озабоченной женщины, что и все остальные
героини эротических анекдотов, — главное достижение «Вовочки»,
чьим призванием, судя по всему, действительно является
«сексопатология».
Учительница спрашивает детей, кто кем хочет стать. Машенька: «Я буду
учительницей». — «Молодец, Машенька! А ты, Петечка, кем хочешь
стать?» — «Летчиком». — «Хорошо! А ты, Вовочка?» — «А я, Мариван-
на, буду сексопатологом». — «Ты хоть знаешь, Вовочка, что это такое?» —
«Да это же очень просто. Вон — глядите: за окном три женщины сидят и
едят мороженое. Одна мороженое лижет, другая кусает, а третья сосет. Как
Вы думаете, какая из них замужем?» — «Да ты просто наглец! Вон отсюда и
без родителей не возвращайся!» — «Ну что вы! Замужем та, которая с
обручальным кольцом. А вот вам, Мариванна, надо срочно к сексопатологу!»
«Вовочкина» победа над учительницей — это комическое
посрамление тех условностей, которыми общество пытается
сдержать и урегулировать природное начало в человеке.
Олицетворяющий его «Вовочка» отличается не только
нечистоплотностью и сексуальностью. «Вовочкина» борьба с культу-
172
рой затрагивает и основную сферу духовной жизни: вызов
общественным приличиям и условностям распространяется на
язык, речевую деятельность и словесное творчество. Он
подается как выдающийся сквернослов, знающий «плохие» слова
сызмальства.
Бабушка везет Вовочку в коляске. Он просит рассказать сказку. Бабушка
начинает: «Сорока-воровка кашку варила... Этому дала, этому дала, этому
дала...» Вовочка перебивает ее вопросом: «Бабушка, а что, сорока блядь была?»
Одним знанием речевых непристойностей дело, конечно, не
ограничивается. Малолетний «Вовочка» постоянно пользуется
нецензурной бранью, общаясь с окружающими.
Тетка делает Вовочке «козу». Он ей: «У, блядисса!» Она: «У тебя еще зубов
нет, а уже материшься!» Вовочка открывает рот. «А это сто — хуй собаций?»
Это опять-таки может идти из дома. В первую очередь — от
отца:
Вовочкина учительница, обеспокоенная тем, что он много ругается, решила
сходить к нему домой. Пришла, звонит в дверь. Ей открывает импозантный
мужчина в роскошном халате, на носу пенсне. Увидев учительницу, он говорит
внутрь квартиры: «Вольдемар, к вам дама!» — «А не пиздишь?» — «Бля
буду», — отвечает отец, поправляя пенсне, —
тогда как мать, напротив, запрещает «Вовочке» употреблять
«плохие» слова.
Вовочка — маме: «Мама! У меня жопа болит!» — «Вовочка! Что ты
говоришь?! Такого слова нет!» Вовочка: «Странно! Жопа есть, а слова нет!»
Иногда источником «Вовочкиной» осведомленности по части
нецензурных слов и выражений выставляется и школа.
Вовочка первого сентября возвращается из школы, рваный и грязный, и
говорит: «Эх вы, родители! Не знаете, что пиписка — это хуй!»
Однако это происходит крайне редко. Более привлекательным
является образ малолетнего сквернослова.
В детском саду отмечают День советской милиции. Воспитательница
просит детей выступить на утреннике. Вовочка: «Я расскажу стихотворение.
173
Только там слова плохие встречаются. Что делать?» — «А ты вместо них
говори „ля-ля"». Вот на утреннике кто спел, кто станцевал, а Вовочка вышел и
читает: «Ля-ля-ля, ля-ля-ля, советская милиция!»
Анекдот интересен тем, что отмечается понимание «Вовочкой»
непристойности определенных речений. Об этом же
свидетельствует целый ряд других анекдотов.
Мать обещает Вовочке рубль, чтобы он только не говорил «черт побери».
Вовочка положил деньги в карман и говорит: «Мама, а я ведь знаю
выражение, которое десяти рублей стоит!»
Вовочка и Танечка едут в автобусе и ругаются: «Дурак!» — «Сорока из
русской народной сказки!» — «Кретин!» — «Сорока из русской народной
сказки!» Мужчина спрашивает: «Мальчик, а почему она говорит тебе обидные
слова, а ты ей — „сорока из русской народной сказки"?» — «А это та,
которая „этому дала, этому дала, а этому не дала"».
Использование эвфемизма показывает, что сквернослов вполне
может обходиться без нецензурной брани. Влечение «Вовочки»
к «грязным» словам и различного рода скабрезностям,
разумеется, обусловлено его связью с материальной грязью и
физиологическим «низом», его природной дикостью. Однако ее
стихийным проявлениям предпочитается вполне сознательное
нарушение им приличий и порядка. Именно в этом чаще всего и
заключается смысл «Вовочкиного» сквернословия. Характерна
обстановка, в которой чаще всего сквернословит «Вовочка».
Это — школьный урок, являющийся самым серьезным и
официальным мероприятием детской жизни. Вызов общественным
условностям может последовать на любом уроке, хотя обычно
это происходит на уроке словесности. «Вовочка» отличается по
ходу выполнения самых разнообразных заданий и упражнений.
От элементарных — когда, например, нужно назвать слово,
начинающееся определенным звуком:
Учительница просит назвать слова на букву «б», потом — на «х».
Вовочку не вызывает. Боится, что скажет пошлость. Когда же стали называть на
«к», учительница обратила внимание на тянущего руку Вовочку и вызвала его.
Ведь на «к» вроде бы нет матерных слов. Вовочка: «Карлик!» — «Молодец,
Вовочка!» — «Но с каким хуем!»
Приехала комиссия в школу. Учитель — Вовочке: «Чтоб при гостях
матом не ругался!» Входит комиссия в класс. Один дядя задает вопрос: «Кто из
вас знает зверя на букву „е"?» Встает Машенька: «Енот». — «А еще?»
Молчание. Вовочка тянет руку. Учитель его не спрашивает, но Вовочку
174
спрашивает дядя: «Ну, отвечай!» Вовочка встает и говорит: «Ебена мать,
волк!»;
или составить предложение с определенными словами:
На уроке русского языка учительница говорит: «Дети! Сегодня мы с вами
научимся применять слова „наверное" и „потому что". Леночка, какой ты
можешь привести пример с этими словами?» Леночка встает и говорит:
«Наверное, сегодня будет дождь, потому что с утра, были тучи». —
«Молодец! Садись! А теперь ты, Коля». Коля встает: «Наверное, завтра
будет много грибов, потому что сегодня пройдет дождь». — «Молодец! Садись!
А теперь ты, Вовочка». — «Дедушка взял газету и вышел из комнаты». —
«Послушай, Вовочка, а где же здесь „наверное" и „потому что"?» —
«Наверное, срать пошел, потому что читать не умеет» —
до более сложных, где требуется составить рассказ или написать
сочинение на заданную тему:
Учительница: «Вовочка, расскажи про зиму». Вовочка: «В лесу темно. На
полянке лед. Волки ебутся. Только неудобно — ноги разъезжаются». —
«Садись! Два!» — «Конечно, два. Где ж там третьему-то быть?!»;
Вовочка пишет в сочинении на тему «Весна»: «Солнце. Снег начинает
таять. Волки трахаются». Учительница: «Вовочка! Это неудобно!» — «Конечно,
неудобно — ноги-то разъезжаются!»,
а за заданием вспомнить стихотворную строчку из «классики»:
Учительница просит детей вспомнить стихотворную строку из классики.
Вовочка тянет руку. Его вызывают. Он читает: «Я любил ее шутя, груди
голые крутя». — «Вовочка! Выйди из класса!» Вовочка выходит. Навстречу
ему директор: «Что случилось?» — «Учительница просила вспомнить строчку
из классики. Я и прочел „Я любил ее шутя, груди голые крутя!"» — «А где
же здесь классика?» — «Так она же не дала закончить: „То, как зверь, она
завоет, то заплачет, как дитя"»,
следуют, наконец, упражнения в поэтическом творчестве:
«Дети, я даю вам предложение, — говорит учительница, — а вы
придумайте рифму, чтобы получилось стихотворение: „Если б я имел коня..."»
Петя: «Если б я имел коня, я б кормил его три дня». — «Садись, Петенька,
пять!» Маша: «Если б я имел коня, я б поил его три дня». — «Машенька,
это очень похоже на Петино. Садись, три!» Вовочка встает и говорит: «Если б
я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я б, наверно, помер!»;
175
Марья Ивановна просит придумать стишок со словами «камыши»,
«ландыши» и «от души». Леночка: «Вот пошли мы в камыши. И нарвали
ландыши. Все мы рады от души». Вовочка тянет руку. Ну что он сможет
придумать с такими словами? Марья Ивановна и вызвала его. Вовочка: «Мы
упали в камыши. Поебались от души. На хуя нам ландыши!»
Апофеозом же «Вовочкиного» искусства слова становится
загадывание загадок, по ходу которого он в очередной раз
посрамляет «Марью Ивановну».
Учительница не разрешает Вовочке загадывать загадки. Боится, что
скажет пошлость. Но он так тянул руку, что она его вызвала. «Что за слово, где
первая буква „х", последняя „й", а между ними „у"?» Никто из детей не
знает. Учительница покраснела и хотела его наказать. Но Вовочка успел сказать:
«Хемингуэй!»
Учительница задает загадки детям. И тут Вовочка решил задать загадку
учительнице. Она согласилась. Вовочка говорит: «Марья Ивановна, назовите
слово из трех букв!» Учительница думает. «Вы недавно держали его в
руках», — подсказывает Вовочка. «Выйди вон!» — кричит учительница.
«Марья Ивановна, это мел! Но ход ваших мыслей мне нравится!»
«Вовочкино» замечание про «ход мыслей» заимствовано из
американских анекдотов о мальчике «Херби». Воспользоваться
чужим материалом побуждает потребность в сюжетах,
развивающих тему шутовства. «Вовочка» — не просто «матерщинник»:
на школьных уроках он зачастую ведет себя как шут,
занимаясь привычным для того делом — «переводом всякого высокого
ритуала и обряда в материально-телесный план»1. Этот шут не
столько сам нарушает приличия, сколько провоцирует на это
окружающих — прежде всего «Марью Ивановну», разоблачая их
фальшь и лицемерие. Из-под условных и официальных форм
человеческой культуры «Вовочка» извлекает основу жизни —
ее материально-телесное начало:
Учительница спрашивает детей о художественных талантах их
родственников. Кто поет, кто танцует. Вовочка: «А вот мой дедушка умеет волком
выть!» Учительница заинтересовалась и попросила привести деда в школу.
Вовочка привел. Учительница: «Вы, дедушка, умеете волком выть?» Дед
(испуганно): «Да что вы?!» Вовочка: «Что ты, дед?! Когда ты последний раз
бабку трахал?» Дед: «У-у-у-у-у-у...»
А ведь, кроме рассмотренного только в самых своих исконных
формах озорства и лишь мимоходом отмеченного шутовства,
176
«Вовочка» представляется еще и простаком. Обыгрывание
детской наивности позволяет добиться не меньшего комического
эффекта, чем в анекдотах о проделках малолетнего озорника.
Отсюда — популярность анекдотов о наивном «Вовочке», его
простодушном непонимании «взрослого» языка, «взрослых»
интересов и явлений «взрослой» жизни.
Вовочкины родители легли спать. Под дверью в их комнату стоит
Вовочка и подслушивает. «Дорогая, ты кого хочешь: мальчика или девочку?» — «Я
бы хотела девочку». — «Хорошо, будет тебе девочка!» В комнату влетает
Вовочка: «А мне — саблю, буденовку и велосипед!»;
Дети рисуют солнце. Вовочка нарисовал его с ножками. «Почему?» «А я
ночью слышал, как папа маме говорил: „Солнышко, раздвинь ножки!"»;
Мама жарит котлеты. Вовочка подходит и спрашивает: «Мам, а
стюардесса — это котлета или рыба?» — «С чего ты это взял, Вовочка?» — «Да
папа вчера по телефону рассказывал, как они всем экипажем стюардессу
жарили»;
На урок английского языка пришел представитель гороно, пожилой
мужчина, и сел рядом с Вовочкой на задней парте. «Дети, я сейчас напишу
предложение, а вы мне его переведете», — сказала учительница. Написав
предложение, она случайно уронила мел и нагнулась, чтобы подобрать его.
Вовочка поднимает руку. «Отвечай, Вовочка!» — «С такой задницей тебе
не в школе работать!» — «Вон из класса!» В дверях Вовочка обернулся и
говорит мужчине: «А ты, козел старый, не знаешь — так и не
подсказывай!»;
Учительница спрашивает, какой рост был у Ленина. Дети отвечают: «Сто
шестьдесят сантиметров». — «А у Сталина?» — «Сто пятьдесят
сантиметров». — «А у Брежнева?» Никто не знает. Она дает задание узнать дома и
завтра ответить. Назавтра опять никто не знает, кроме Вовочки. «Рост
Брежнева — шестьдесят восемь сантиметров». — «Почему так мало?!» — «Все
правильно — я измерил. Мама сказала, что он ей до попы».
В привычные для «Вовочки» сферы существования
вторгается политика. «Вовочка»-простак помогает осмеять лживые
идеологические догмы.
Воспитательница в детском саду спрашивает: «Дети, в какой стране самые
красивые игрушки?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Воспитательница:
«А в какой стране самые нарядные детские одежды?» Дети (хором): «В
Советском Союзе!» Воспитательница: «А в какой стране самое счастливое
детство?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Вдруг Вовочка заревел.
Воспитательница: «Вовочка, почему ты плачешь?» Вовочка (сквозь слезы): «Хочу
жить в Советском Союзе!»
177
Это — лишь небольшая часть анекдотов о наивном «Вовочке».
Между тем с ними уже соседствуют анекдоты о « Вовочке»-
дураке.
«Вовочка, скажи, сколько длилась Столетняя война?» — «Это... не, не
знаю!» — «Ну, хорошо. Скажи, сколько лет десятилетнему мальчику?» —
«Десять». — «Так сколько же длилась Столетняя война?» — «Десять лет!»
Они еще более осложняют образ «Вовочки», контрастируя с
остроумием и хитростью, которыми порой отличается « Вовочка»-
озорник и которые демонстрировал «Вовочка»-шут.
Впрочем, остроумие и хитрость «Вовочки» имеют весьма
специфический характер. Даже в тех случаях, когда его
выставляют умнее своих благонамеренных оппонентов, «Вовочка»
побеждает и осмеивает их, не принимая навязываемой ему логики,
как, например, в очередном поединке с «Марьей Ивановной»,
для доказательства глупости и неразвитости которой достаточно
принять всерьез шуточную загадку.
Учительница: «Дети! Слушайте условия задачи, решать будем устно: летят
четыре гуся — три белых и один серый. Сколько мне лет?» Все молчат.
Вовочка поднимает руку. «Ой, Вовочка, опять ты какую-нибудь глупость
скажешь!» — «Нет, Марья Иванна, я решил». — «Ну, говори!» — «Вам
двадцать шесть лет». — «Правильно! А как ты решил?» — «Мама меня
полудурком называет, а мне тринадцать лет...»
Возмутитель общественного спокойствия, он и в сфере
умственной деятельности избегает рутинных, «правильных»
решений, в связи с чем «Вовочкина» изобретательность иногда
отличается той парадоксальностью, которую демонстрирует
фольклорный глупей,, прибегая к абсурдным и весьма
замысловатым средствам достижения реальной цели. Однако в
отличие от последнего наш изобретательный шут всегда
добивается своего:
Учительница дала задание детям принести в школу говорящих птиц. Все
дети принесли попугайчиков. А Вовочка — воробья и филина. Учительница:
«Вовочка! Разве это говорящие птицы?» — «А как же! Смотрите! Воробей,
сколько стоит бутылка водки?» — «Чирик!» Вовочка: «Филин,
подтверди!» — «Угу!»;
Учительница дала задание детям после летних каникул принести в школу
по певчей птичке. Все принесли птичек, а Вовочка принес змею. «Вовочка!
Это же змея!» — сказала учительница. «Нет! Раз поет — значит, птичка.
178
Смотрите...» Он стукнул змею раз. Змея: «Ш-ш-ш...» Второй: «Ш-ш...»
Третий раз. Змея: «Ш-ша-ловьи поют».
Мифологическая подоплека последнего сюжета, которую не
исчерпывает и отождествление змеи с птицей, обращает к
истокам образа анекдотического героя. Он продолжает борьбу
мифологического трикстера2 с космическим и социальным
порядком, собирая вокруг себя и сохраняя его культурное наследие
(фольклорные маски «хитреца», «шута» и «глупца», которые
сочетались в озорнике-трикстере и совмещаются в его преемнике
«Вовочке»). Анекдоты о «Вовочке» пародируют мифологию
«героического детства»3, свидетельством чего — и «чудесное»
рождение «Вовочки»:
Вовочка спрашивает отца: «Как я на свет появился?» — «Игрались на
лужайке козел с козочкой — вот ты и появился», — ответил отец. Вовочка
идет к маме: «Как я на свет появился? Папа непонятно объяснил». — «А что
он тебе сказал?» — «Игрались на лужайке козел с козочкой, — сказал папа, —
вот я и появился». — «Все было не так! Парили в небе орел с орлицей. Парили,
парили — вот ты и появился. А папа был козлом — козлом и остался!»;
и его удивительные способности:
Вовочка пришел в школу и нарисовал на парте муху. Учительница била-
била по ней, а потом до нее дошло, что муха нарисованная. Вызвала она Во-
вочкиного отца и говорит ему: «Вовочка нарисовал муху на парте. Я об нее
чуть руку не сломала!» А отец говорит: «Это еще что! Он вчера голую
женщину нарисовал на заборе. Так у меня весь член в занозах!»;
и уже отмеченное выше раннее достижение им половой
зрелости. Оно подчеркивает «Вовочкину» исключительность, свои
права на которую анекдотический герой и демонстрирует
нарушением всевозможных культурных запретов (вплоть до
инцеста). «Вовочка» может быть представлен и «не подающим
надежд». Однако именно этот нечистоплотный, отверженный и
гонимый герой в конечном счете одерживает такую же победу,
что и его архаический прототип — «низкий» герой волшебной
сказки, добиваясь расположения «чудесной» невесты,
учительницы «Марьи Ивановны».
Анекдоты о «Вовочке» очень редко выходят за рамки
«героического детства». Он столь прочно связан с ним, что само
продолжение «Вовочкиной» биографии уже вызывает
комический эффект:
179
Сын говорит матери: «Я больше в школу не пойду!» — «Это почему
же?» — «Да ну... Петров опять будет из рогатки стрелять, Синицын
учебником по голове бить, Васильев подножки ставить... Не пойду!» — «Нет,
Вовочка, ты должен идти. Во-первых, тебе уже сорок лет, а во-вторых, ты —
директор школы!»
«Вовочка» является типичным для архаического эпоса «героем-
малолеткой», исполняющим в сообществе анекдотических
персонажей традиционную роль мальчика для поручений, о чем и
свидетельствует «суперанекдот» 80-х годов:
Жена с любовником лежит в постели. Звонок в дверь. Вовочка бежит
открывать. На пороге стоят Василий Иванович с Петькой — оба евреи.
«Василий Иванович» с «Петькой» связаны с культурными
прототипами, тогда как прообразом «Вовочки» является дитя,
ребенок. Вернее — выработанный обществом образец,
культурный идеал ребенка. Этот культурный идеал и пародируется
«Вовочкой»4. Он отражает его постоянство и изменчивость,
сочетая в себе мифологическую архаику с актуальной
современностью.
Обращаясь к современности, анекдотический эпос
ориентируется на ее культурные ценности. Это подтверждают и имена
действующих лиц. Очевидно, что выбор их не случаен. Есть
определенная разница между именами главных и второстепенных
героев: друзья и одноклассники «Вовочки» называются именами,
которые в 60 — 70-е годы не пользовались популярностью,
тогда как имена главного героя, его партнерши и учительницы,
напротив, принадлежали к самым распространенным, если учесть
примерный возраст «Марьи Ивановны», имя которой еще
художнику Нестерову казалось «простым, но таким милым»5.
Между тем «Вовочкину» партнершу предпочитают называть
«Татьяной» — именем, которое ни тогда, ни впоследствии не
возглавляло списка женских имен. Выбор «Татьяны»
предопределяется если не характерностью, то его культурной
значимостью — особенно для школы (пушкинская «Татьяна Ларина»!),
выделяющей это имя среди прочих имен «Вовочкиной»
партнерши. Анекдотический именник ориентируется на культурные
«святцы»: используются и обыгрываются имена высокой
культурной значимости.
Именно этим и объясняется имя героя анекдотического цикла.
«Вовочка» — ласкательная форма имени «Вова», которым в
кругу семьи или друзей называли не только «Владимира»: ср.
180
«домашнее» имя одного из молодых героев «Плодов
просвещения», Василия Леонидыча Звездинцева — «Вово»6. Однако
чаще всего «Вовой» становится «Владимир». Видимо, через
посредство его уменьшительной формы «Володя»7, что
соответствует порядку образования сокращенного имени подобного
типа, возникающего в результате удвоения начального слога
производящего имени. Именно в такой последовательности
выстраивается именной ряд в повести Владимира Одоевского
«Катя, или История воспитанницы»: «он скрывал свою
ненависть к Владимиру и называл его Володею или Вово»8.
Обращает внимание офранцуженность сверхсокращенного имени —
«Вово», характерная и для употребления полного имени: его
носитель сплошь и рядом фигурировал как «Вольдемар», — она
указывает на среду, где долгое время бытовало имя
«Владимир».
Образ киевского князя Владимира оказался очень
актуальным для Петровской эпохи и продолжал вызывать интерес в
процессе формирования русской национальной культуры. Это
отражается в литературе, которая, обращаясь к изображению
крестителя Руси: от трагикомедии Феофана Прокоповича
«Владимир» (1705) до эпической поэмы Хераскова «Владимир
возрожденный» (1785), — тем самым популяризировала весьма
редкое до того времени имя «Владимир» («Володимир»).
Особое, закрепленное за Рюриковичами в Древней Руси
«княжеское» имя возрождается в высшем слое русского общества
XVIII века.
Однако и здесь в начале XIX века это имя встречалось еще
довольно редко. Иначе оно вряд ли пришлось бы по вкусу
романтической литературе, воспользовавшейся именем великого
русского человека для обозначения благородного героя
отечественного происхождения. Имя стало до того типичным, что без
«Владимира» не обходился ни один «порядочный» роман9.
Литературной моде на «Владимиров» много способствовал
пушкинский образ Владимира Ленского, который и после того, как она
прошла, привлекал внимание русского образованного общества к
имени «Владимир».
Возрастающая популярность имени сопровождается
расширением его семантического потенциала. Оно вызывало самые
разные и порой весьма неожиданные ассоциации. Можно только
догадываться, почему у Пушкина, например, с именем
«Владимир» ассоциировалась «роковая судьба злополучного
жениха или возлюбленного <...>, и ассоциация эта сохранилась
<...> на всем протяжении его творчества»10. Однако решающую
181
роль в постепенном распространении имени «Владимир»,
которое к концу XIX века даже в провинциальных городах вошло в
десятку самых частых русских мужских имен11, сыграли не
столько его значение и все увеличивавшийся смысл, сколько
сугубо прагматические обстоятельства.
В сознании каждого из последовательно усваивавших это
имя социальных слоев оно прежде всего обладало высоким
культурным статусом. Имя «Владимир» воспринималось как
«благородное», будь то «великокняжеское», «дворянское» или
же «городское» имя. Особенно длительными и прочными были
его связи с дворянской культурой, что и предопределило в
основном «дворянскую» окраску, «дворянские» ассоциации имени
«Владимир». Это проявлялось, не только когда оно стало
выходить за пределы дворянского общества: ср. образ одного из
персонажей тургеневского рассказа «Льгов» —
вольноотпущенника из дворовых людей, который как бы исполняет роль
«благородного» героя «Владимира»12. Много позже, уже после
крушения дворянской России, представляющийся сыном
уездного предводителя дворянства Остап Бендер, не задумываясь,
называет себя «Вольдемаром»13.
Еще определеннее «дворянская» окраска должна была
ощущаться в таких сокращениях имени «Владимир», как «Вова» и
тем более «Вовочка», образованных по моделям, которыми
народ никогда не пользовался. Об их происхождении
предреволюционной России напомнила популярная комедия Евстигнея Ми-
ровича «Вова приспособился» (1915), вскоре экранизированная
и с большим успехом прошедшая по кинотеатрам страны (вслед
за которой последовали «Вова на войне» и «Вова в отпуске»).
Изображались смехотворные попытки молодого барона
Владимира Михайловича Штрика приспособиться к казарменному
быту, столь отличному от домашних условий, в которых жил этот
великовозрастный «Вовочка», как именует его не только мать-
баронесса и сестра Софи, но и сам автор14, извлекающий
комический эффект из сопоставления «домашнего» имени героя с
окружающей его обстановкой.
Все это необходимо учитывать при объяснении причин
стремительного выдвижения имени «Владимир» на первое место в
русском мужском именнике, которое происходит в 20-е годы
нашего века. Обычная ссылка на связь этого явления с
почитанием Ленина, как представляется, не раскрывает его
закономерности. Очевидно, что социальный переворот резко ускорил
процесс эмансипации и распространении имени «Владимир» в
народной массе. Он предопределил и результаты этого процес-
182
са: характерное имя прежних властителей сделалось самым
ходовым среди тех, «кто был ничем», а стал «всем» — из
«грязи» попал «в князи». Воздействовало, конечно, и имя
вождя мирового пролетариата, но в полной мере его влияние
проявилось, видимо, несколько позже, когда культ нового святого
Владимира способствовал закреплению и упрочению первенства
имени «Владимир» в советских «святцах». Этот культ придавал
распространеннейшему имени высокий смысл, превращая его в
символическое явление культуры.
Из противопоставления ему «домашней» и потому более
естественной, более природной формы «Вовочка» и рождается
герой «детских» анекдотов, в образе которого с самого начала
была подчеркнута его анти-кулыпурность, его доходящая до
дикости природность. «Вовочка» отталкивается от всего
культурного содержания, заключенного в имени «Владимир». В том
числе — и от Ленина. Однако культурный герой, освятивший
собой имя «Владимир», является лишь одним из прототипов
«Вовочки». Отождествление с Лениным представляет
мифологическую по сути характеристику «Вовочки»: через соотнесение
с изоморфным, подобным ему объектом15, возглавляющим ряд
культурных «Владимиров». Оно указывает на класс явлений, с
которыми связан и который непосредственно пародирует
«Вовочка», тогда как его отождествление с директором школы
характеризует «Вовочку» как пародийный образ мужчины вообще,
из прежнего «Ивана» вдруг превратившегося во «Владимира».
«Вовочка» распространяется и утверждается в «детских»
анекдотах по мере того, как стремительно падала популярность
имени «Владимир»: «В известные времена, — писал о.Павел
Флоренский, — утрачивается чутье монументальной формы данного
имени, как непосильно величественной этому времени; общество
не нуждается или мнит себя не нуждающимся в первоисточных
силах известного имени. И тогда, вместе с измельчанием самой
жизни, первоисточные имена, особенно имена духовно
обязывающие, становятся обществу далекими и непонятными, заменяясь
приниженными своими переработками, а то и вовсе
забываясь» 16.
Однако было бы неверно рассматривать феномен «Вовочки»
лишь сквозь призму современности. Любопытно, как заданный
в первых анекдотах про «Вовочку» образ «приличной» семьи, к
которой он принадлежит, подхватывает выявившуюся еще до
революции тенденцию комического представления
«маменькиного сынка» из дворян под именем «Вовочки». А ведь этим
дворянским недорослем далеко не исчерпывается круг культур-
183
ных образов, с которыми анекдотического героя связывает его
имя (вернее — те основы, от которых оно образовано).
Остается только гадать о том, как воспринимались производные от
«Владимира» имена «Володя» и «Вова» в народной среде, где
издавна бытовали омонимичные им имена, обозначавшие собой
вредоносных мифологических персонажей: «вовой» — в русских
говорах Карелии, например, называется являющийся во сне
утопленник17, тогда как чаще известная в сокращенном виде
поговорка «Вроде Володи, который живет на болоте» под
«Володей» разумеет лешего. В любом случае сохранялась
возможность сближения производных от «Владимира» имен с
вредоносными мифологическими персонажами и осмысления их в
соответствующем духе.
Между тем в лешем Володьке отражается языческий бог
Волос/Велес18, с другой ипостасью которого — великаном
Болотом уже путали самого князя Владимира в народной среде19.
Если сопоставить Вовочку с реконструированным Вяч.Вс.
Ивановым и В.Н. Топоровым образом Волоса/Велеса20, то
оказывается, что анекдотический цикл насыщен «волосовскими»
мотивами. Они обнаруживаются как в отдельных анекдотах, вроде
сюжета о поющей про соловьев змее, так и в целых сериях
анекдотов, где изображаются, например, отношения между
Вовочкой и Марьей Ивановной или же словесные состязания на
школьном уроке, включающие в себя и разгадывание загадок.
Вполне возможно, что «волосовские» мотивы связаны с
Вовочкой потому, что сам этот герой восходит к мифологическому
Волосу/Велесу, представляя собой его сниженный и
трансформированный образ, о чем и свидетельствует «волосоцентрич-
ность» имени «Вовочка».
Известно, что имеющая основополагающее значение для
создания антиподов культуры, к которым относится и наш
комический дикарь, «полемическая или негативная ориентация может
приводить к порождению языческих текстов»21. Архаический
субстрат «Вовочки» требует специального исследования, которое
и определит роль глубинных пластов культуры в появлении
главного героя современного «озорного» эпоса. Однако уже и
без того ясно: в выворачивании наизнанку
образцово-показательного ребенка задействованы основные механизмы
культурного творчества, благодаря которым возникает и развивается
анекдотический герой.
184
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Бахтин M. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 25.
2 См.: Radin P. The trickster. London, 1956; Мелетинский Е.М.
Происхождение героического эпоса. М., 1963. С. 32 и ел., а также
его последующие работы, где так или иначе затрагивается проблема
мифологического трикстера, которая в кратком, но содержательном
виде изложена им в статье «Культурный герой» (см.: Мифы народов
мира. М., 1982. Т. 2. С. 26 — 28).
3 См.: Неклюдов СЮ. «Героическое детство» в эпосах Востока и
Запада // Историко-филологические исследования: Сборник статей
памяти академика Н.И. Конрада. М., 1974. С. 129—140.
4 «Вовочка» — олицетворенная пародия. «Анекдотная повесть» с
главным героем «Вовочкой» называется «Это я — Вовочка!» (см.:
Анекдотный капустник: Анекдоты про Вовочку (Тамбовские
губернские ведомости. № 46(A). Тамбов, 1993. С. 2—5).
5 См.: Нестеров М.В. Давние дни: Воспоминания. Очерки.
Письма. Уфа, 1986. С. 75.
6 См.: Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1982. Т.П. С. 114,
120, 168 и 175. Любопытно, как у имени «Василий» в быту
появляются сокращенные формы, более уместные для производных от имени
«Владимир». Ср.: «А пока Доде — шестой год, никто, кроме матери
и отца, не знает, как его зовут на самом деле: Даниил ли, Дмитрий ли
или просто Василий (бывают и такие уменьшительные у нежных
родителей)» — Аверченко А.Т. Кривые Углы: Рассказы. М., 1989.
С. 77. Между тем «Додей» часто называли именно «Владимира» (см.,
напр.: Лесков Н.С. Собр. соч.: в 11 т. М., 1957. Т. 5. С. 215 и 227).
7 См.: Чернышев В.И. Русские уменьшительно-ласкательные
личные имена // Русский язык в школе. 1947. № 4. С. 23.
8 Одоевский В.Ф. Повести и рассказы. М., 1959. С. 132.
9 «Варя влюблена, — иронизировал в 1842 г. Некрасов,
рецензируя роман Загоскина „Кузьма Петрович Мирошев,,, — и влюблена,
как следует всякой героине порядочного романа, в Владимира»
(Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем: в 15 т. Л., 1989. Т. 11.
Кн.1. С. 48. Курсив Некрасова).
10 Альтман М. О собственных именах в произведениях Пушкина
// Ученые записки Горьковского государственного университета.
Горький, 1964. Серия историко-филологическая. Вып.72. Т.1. С. 393.
11 См.: Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М., 1983. С. 123.
12 См.: Тургенев И.С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. М.,
1979. Т.З. С. 76—77.
13 См.: Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой
теленок. Иркутск, 1968. С. 88.
14 В списке действующих лиц герой обозначен именно как
«Вовочка» (см.: Мирович Е.А. Вова приспособился: Комедия в 2-х
действиях. Пг., 1915. С.1).
185
15 См.: Лотмйн Ю.М., Успенский Б.А. Миф — имя —
культура // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Т.6. С. 285
(Ученые записки Тартуского государственного университета.
Вып. 308).
16 Флоренский П.А. Имена // Социологические исследования.
1990. № 11. С. 115.
17 См.: Черепанова О.А. Мифологическая лексика русского
Севера. Л., 1983. С. 122—123.
18 См.: Успенский Б.А. Филологические разыскания в области
славянских древностей. (Реликты язычества в восточнославянском
культе Николая Мирликийского). М., 1982. С. 87—88.
19 Это происходит в знаменитом духовном стихе о Голубиной
книге. См.: Монульский В. Историко-литературный анализ стиха о
Голубиной книге. Варшава, 1887. С. 20—22.
20 См.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области
славянских древностей. М., 1974. С. 31 и ел.; Топоров В.Н. Еще раз о
Велесе—Волосе в контексте «основного» мифа // Балто-славянские
этно-языковые отношения в историческом и ареальном плане: Тезисы
докладов второй балто-славянской конференции. М., 1983. С. 50—
56, и другие работы этих авторов, а также указанную в примеч.18
книгу Б.А.Успенского.
21 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в
динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Ученые записки
Тартуского государственного университета. Тарту, 1977. Вып. 414.
С. 15.
Литература
В. ЖИВОВ
•
КОЩУНСТВЕННАЯ ПОЭЗИЯ
В СИСТЕМЕ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
КОНЦА XVIII-НАЧАЛА XIX ВЕКА
I. КОЩУНСТВО В ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ
Как кажется, ни в какой другой период развития русской
поэзии мы не сталкиваемся с таким широким распространением
обыгрывания в поэзии текстов Св. Писания и богослужения,
эпизодов св. истории, элементов церковного обряда и т.д., как в
последние два десятилетия XVIII и первые три десятилетия
XIX века. Дельвиг пишет (1934, 395 — нач. 20-х годов):
Что ж Соломону вопреки
Глупцы вино бранят?
Простить им можно: дураки
Не знают, что творят.
Подтекстом этих строк, которые взяты из прославляющей
вино песни, изобилующей библейскими реминисценциями (см.
примечания Б. Томашевского, там же, с. 495) являются слова
Христа на Голгофе: «Отче отпусти имъ: не вѣдятъ бо, что тво-
рятъ» (Лк. 23, 34). Это кощунственное употребление слов
Христа в контексте вакхической песни несомненно мыслится как
комическое цитирование, сообщающее стихам особое
вольнодумное остроумие. Тот же прием применен для создания
эпиграмматического эффекта в стихах Державина «Заповедь» (1933,
372):
189
Любите и врагов,
О люди добрые! любите,
Хотя ослов и псов
И им добро творите:
Похвальные стихи пишите.
В этих стихах пародийно используется текст Мф. 5, 44.
Примеры такого обыгрывания можно привести во множестве (см.
ниже), поэтому представляется существенным выяснить его
функциональный смысл1.
Прежде всего следует иметь в виду, что в традиционной
(«допетровской») системе православной культуры всякая игра с
сакральными текстами или с церковным обрядом не может не
восприниматься как кощунство; священные тексты могут
появляться лишь в сакральном контексте, причем эта взаимосвязь
настолько сильна, что предметы и лица, попадающие в
сакральный контекст, сами по себе сакрализуются.
Иная ситуация наблюдается на Западе. Начиная, по крайней
мере, с трубадуров, сакральные образы употребляются здесь в
любовной лирике. Как отмечает М. Шапиро (1973, 34),
«throughout the Middle Ages the narrative books of the Old
Testament had been read from a lay point of view as an epic of
Jewish heroes and heroines, ideal in courage, wisdom, and beauty.
Joshua, Gideon, Samson, Solomon, Judith, and others were often
named in courtly literature as noble types beside those of the Greek
and Roman world»* .
При этом средневековая католическая Европа вырабатывает
специфическое отношение к сакральным текстам,
обнаруживающееся как в поведении (карнавальные традиции), так и в
литературе. «Les clercs, — пишет Э. Ильвонен (1914, 42), —
traitent des choses sacrée d'une façon intime et familière, qui choque
nos idées modernes. Ce trait est caractéristique de toute la littérature
cléricale du moyen âge. Ce n'est que depuis l'époque de la
Réformation que les gens de l'Eglise prennent à cet égard une
attitude plus réservée. Vers la fin du XIIe siècle, les goliards
inventent un genre littéraire spécial en insérant systématiquement
*«Ha протяжении средних веков повествовательные книги Ветхого Завета
читались, с мирской точки зрения, как эпические сказания о иудейских героях
и героинях, совершенных в своем мужестве, мудрости и красоте. Иисус
Навин, Гедеон, Самсон, Соломон, Иудифь и другие часто упоминались в
куртуазной литературе как образцы благородства рядом с персонажами из
греческой или римской истории».
190
dans leurs poésies latines ou françaises profanes des textes sacrés,
qu'ils adoptent à n'importe quel sujet. Pendent le XIIIe siècle, ils
traitent dans ces parodies surtout des thèmes erotiques et burlesques.
Depuis le XIVe jusqu'au XVIe siècle, les sujets politiques sont au
premier plan. Plus tard on continue à traiter différents sujets profanes
dans le cadre de prières et d'hymnes ecclésiastiques. Même de nos
jours, ce genre n'est pas inconnu dans la poésie populaire»*, ср. еще:
Леманн, 1963. Существенно отметить, что эти кощунства
остаются — по крайней мере, отчасти — нейтральными с религиозной
точки зрения (ср.: Алексеев, 1972, 316). Действуя на совсем иных
основаниях, свою лепту вносит сюда и Реформация, которая
создает целую традицию рассмотрения актуальных событий — от
исторических до бытовых — через призму св. истории.
Нельзя, конечно, утверждать, что традиционно православный
взгляд на вещи (см. о нем в интересующем нас аспекте: Лотман
и Успенский, 1977б) целиком сохранился в России вплоть до
занимающего нас периода; тем более нельзя утверждать, что он
был в равной мере присущ всем культурным группам русского
общества, столь кардинально различным в своей духовности.
Усвоение элементов западноевропейской образованности русским
дворянством, чрезвычайный наплыв юго-западнорусского
духовенства и его влияние, широкие народные контакты с той же
юго-западнорусской культурой, переход от элементарного
общенародного к сословно-профессиональному образованию и многое
другое изменяло — но изменяло по-разному — мироощущение
большинства этих культурных групп. Тем не менее, нельзя
думать, что для конца XVIII — начала XIX века традиционно-
православная культура утратила все свое значение. Во многих
своих элементах эта традиционная система остается культурной
нормой2, так что даже для тех, которые ее не принимают, она
мыслится своего рода эталоном, отклонением от которого опре-
« Клирики обращались со священными предметами как с привычными и
интимными, неприемлемым для современного сознания образом. Эта черта
характерна для всей церковной литературы средних веков. Лишь после эпохи
Реформации церковные авторы усвоили в этом отношении более сдержанный
подход. К концу XII века голиарды ввели в употребление особый
литературный жанр, основывавшийся на систематической вставке в их
латинские или французские светские стихи сакральных текстов, которые они
приспосабливали к какому угодно предмету. В течение XIII века они в этих
пародиях обращались прежде всего к эротическим и бурлескным мотивам. С
XIV по XVI век на передний план выступили темы политические. И позднее
о светских предметах продолжали писать в форме молитв или церковных
гимнов. Этот жанр известен народной поэзии вплоть до наших дней».
191
деляется степень независимости и оригинальности. Для нас
особенно существенно, что заданность сознанию этого эталона
сообщает актуальное ощущение кощунства всякому автору
разбираемого периода, использующему сакральные выражения для
каламбура или пародии3.
Это доказывается, в частности, тем фактом, что целый ряд
острот того времени не могут иметь ровно никакого смысла, если не
имеют смысла кощунственного, — этот же последний и указывает
на существование упомянутого эталона. Так, Пушкин в письме
Вяземскому от 14 октября 1823 года, сопоставляя «упоительные
мечты» своего «Кавказского пленника» с «упоительными
мечтаньями» «Послания Давыдову» Вяземского, пишет: «твоя от
твоих» (XIII, 69). Это выражение взято из завершающего
анамнезис возгласа священника на литургии: «Твоя оть твоихъ
тебѣ приносяще, о всѣхъ и за вся». Поскольку чин литургии
явно не входит в число источников литературных цитат (как,
например, классические авторы), это обыгрывание
богослужебного текста имеет смысл только как кощунственная вольность,
возможная лишь в достаточно узком кругу единомысленных
друзей и — как таковая — сообщающая письму одновременно
вольный и интимный оттенок.
Данный пример лишь показывает, что норма православной
культуры продолжает мыслиться, тогда как объяснение
рассмотренного кощунства, в сущности, не столько отвечает на вопрос,
почему Пушкин кощунствует, сколько демонстрирует всю
сложность этого вопроса. В самом деле, если кощунственная
вольность возможна лишь в узком кругу, встает вопрос, каков этот
круг; если мы утверждаем его единомыслие, то следует понять,
в чем именно он единомыслен.
Трудно считать, что это единомыслие состоит в
вольнодумстве или атеизме. Действительно, если эти качества можно еще
приписать Пушкину и Вяземскому, то В.В. Капнисту и Г.Р.
Державину они явно не свойственны4. Однако в письме Капниста и
Хемницера Державину от 5 марта 1781 года с разбором держа-
винской «Оды на новый год» мы находим явную параллель к
приведенному выше примеру. Говоря об излишней детализации
державинской оды, они пишут: «Не раздробляй, да не раздро-
бишася. См. послание свят. Боало к пиитам» (Капнист, 1960,
258). Пародируются, видимо, слова диакона из чина литургии
«раздроби владыко», следующие за ними слова священника
(«раздробляемый и нераздѣляемый и т.д.») и синтаксическая
структура гомилетических сентенций.
Никакой ясности не приносит и предположение о генетичес-
192
кой связи русских литературных кощунств с французской
антиклерикальной литературой. Даже в тех случаях, где эта связь
очевидна (как, например, при переводе), остается вопрос о
функции этих текстов в русской ситуации. В самом деле, вполне
понятно, какой цели отвечают они во Франции. Там мы
находим влиятельное духовенство и католические монашеские
ордена, обладающие собственной политической концепцией и с
определенным успехом проводящие собственную культурную
политику. Их деятельность распространяется не только на
«культурную» сферу (науку, литературу, искусство), но и на
всю общественную и политическую жизнь. Эти притязания
клира на доминирующее положение во всех сферах вызывали есте-
хтвенный отпор у тех, чьи политические, научные или
культурные воззрения не совпадали с санкционированными
Римом5.
В интересующий нас период в России подобные явления
полностью отсутствуют, и поэтому антиклерикализм не имеет
никакой реальной почвы. В общественной жизни, а тем более в
политике духовенству отведена явно второстепенная роль.
Вплоть до николаевского царствования продолжаются разборы
духовенства, при которых лишние члены духовного сословия
либо отдаются в солдаты, либо записываются в экономические
крестьяне6. Возраст и состояние лиц, поступающих в монастырь,
строго контролируется синодом и светской властью, так что
часто пострижение обеспечивается лишь подкупом ряда
должностных лиц. И в культурной, и даже в собственно религиозной
сфере иерархия только выполняет приказания светской власти7
(в частности, во время реакции начала 90-х годов, когда она
даже приходит в растерянность от возложенных на нее задач,
например, духовной цензуры). Синод, в 30-е и 40-е годы еще
боровшийся за равноправие с сенатом, постепенно превращается
даже не в одну из коллегий, а в один из департаментов, что
практически и осуществляется в 1817 году при образовании
Министерства духовных дел и народного просвещения
(министр — кн. А. Н. Голицын — одновременно и обер-
прокурор синода). Такая ситуация сохраняется до 1824 года,
когда деятельность (общественная) митр. Серафима и арх. Фо-
тия приводит к отставке Голицына, закрытию Библейского
Общества и к некоторой независимости (или, вернее, прецеденту
независимости) духовенства8.
Возможно, конечно, что при доминирующем влиянии
французской культуры некоторая часть литературных кощунств
переносится на русскую почву почти механически и субъективно
' Анти-мир русской культуры 193
воспринимается как свидетельство политического вольнодумства
(антиклерикализма). Таковы некоторые стихи кн. Горчакова,
«Ноэль» Вяземского, «Монах», «Бова», «Гаврилиада»
Пушкина и т.д. Однако и здесь — при отсутствии реальных
оснований для антиклерикализма — мы находим лишь холостую (в
плане конкретной политической направленности) деятельность.
Такая деятельность должна, видимо, пониматься как
характеристика литературной (и специфически литературной) позы или
как средство социокультурного обособления. Это особенно ясно
в случае с кн. Горчаковым, начало антицерковных выступлений
которого приходится еще на период официального
вольтерьянства екатерининского царствования: поскольку князь отнюдь
не выступает глашатаем официозных мнений, а скорее ставит
себя в оппозицию к ним, он явно сражается с им самим
выдуманным призраком (или, возможно, как истинный европеец, с
европейскими, т.е. западными «клерикалами»). Последующие
события исказили в глазах позднейших критиков расстановку
сил, очевидную для современников, и на идеологические споры
интересующего нас периода была наложена привычная схема
противостояния клерикализма и антиклерикализма; одним из
результатов было и возникновение рубрики антиклерикальной
поэзии9.
Итак, литературные кощунства в России не могут быть
объяснены (политическим, общественным) антиклерикализмом.
Следовательно, причину их мы должны искать в области
культуры, в культурной (а не политической или общественной)
позиции определенного круга лиц. Каков круг этих лиц и какова
их культурная позиция, нам и предстоит выяснить (мы уже
видели, что свести эту позицию к религиозному вольнодумству не
удается). Представляется, что для решения этих вопросов
следует изучить характер произведений, в которых обнаруживаются
кощунства (обыгрывание священных текстов).
II. ЖАНРОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
КОЩУНСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ.
КОЩУНСТВО В ПАРОДИИ
Жанровый характер поэтического мышления XVIII века (см. о
нем, напр.: Гуковский, 1927) не был вполне разрушен и в
интересующий нас период, поэтому вопрос о характере произведений,
допускающих кощунства, разумно поставить как вопрос о жанровых
признаках, сочетающихся с обыгрыванием сакральных текстов.
194
Можно сразу же отметить, что кощунство невозможно в
жанрах высокого стиля: оде, кантате, героической поэме,
трагедии и т.д. Существенно, что оно не встречается и в рамках
реформированной Державином оды, даже в таких ее типах, как
державинское «На счастие» и многочисленные ему
подражания10.
В жанрах не высокого стиля наблюдается большое
разнообразие. Редко встречаются кощунства (как и вообще библейско-
литургические реминисценции) в лирике, выражающей
«частные» чувства, и в стихотворениях антологического характера, то
есть в элегии, идиллии, буколике, героиде, любовном послании и
проч. В частности, мы почти не наблюдаем кощунств в
любовной лирике11, если исключить из нее альбомные по своему
характеру стихотворения (типа пародирующих Благовещение
мадригалов «К Маше» И. И. Дмитриева и Батюшкова, «Ты
богоматерь, нет сомненья» Пушкина, «Троицы на масляной
неделе» Гнедича и т.п.). Частое присутствие в этих стихах
эпиграмматического pointa сближает их с эпиграммой и позволяет
выделить в особый класс. Не слишком частые кощунства,
встречаемые в басне, почти во всех случаях восходят к
иноязычному оригиналу (ср., напр., многочисленные переложения —
Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Дмитриева — лафонте-
новской басни «Le rat qui sKest retiré du monde»).
Напротив того, кощунства весьма часто встречаются в
эпиграммах; один пример уже был приведен выше — и, чтобы не
загромождать текст дальнейшими цитатами — за другими
отошлем к сб. «Русская эпиграмма второй пол. XVII — нач. XX
в.» (Л., 1975), где интересующие нас тексты могут быть
найдены под № 64, 75, 184, 283, 335, 344, 366, 374, 565, 592,
638, 701, 707, 727, 757, 825, 833, 890, 950, 956, 965, 989,
990, 1023, 1040, 1068, 1258. Встречаются кощунства и в
сатирах, напр., в «Беспристрастном зрителе нынешнего века» Д. П.
Горчакова, в «Я» И. М. Долгорукова, в «Опасном соседе» В.
Л. Пушкина или в сатире «Интерес» неизвестного автора (см.
«Поэты-сатирики конца XVIII — нач. XIX в.». Л., 1959).
Равным образом, наблюдаются они и в носящих сатирический
оттенок медитациях, типа «Камина в Пензе», «Камина в
Москве», «Авось», «Везет» того же И. М. Долгорукова. Весьма
часты кощунства в сатирических стихах типа мециппеи (включая
сюда ноэли) — см., напр., «Дом сумасшедших» А. Ф.
Воейкова, «Видение на берегах Леты» и «Певца в Беседе любителей
русского слова» Батюшкова, «Тень Фонвизина» и «Тень
Баркова» А. С. Пушкина. Очень распространено обыгрывание сак-
7*
195
ральных текстов в дружеском послании. Так, можно отметить
«Теперешнюю мою жизнь» Д. П. Горчакова, послание В. Л.
Пушкина «К В. А. Жуковскому», «Послание к Н. Р. П.» М.
В. Милонова, послание П. А. Вяземскому Батюшкова и его же
«Послание от практического мудреца...», послание Жуковского
«Воейкову», послания к Жуковскому (1816), Тургеневу (1817),
В. Л. Давыдову (1821), Вигелю (1823) А. С. Пушкина и т.д.
Здесь стихотворные послания полностью сходны с прозаической
дружеской перепиской, о которой мы говорили выше.
Кощунства, наконец, встречаются и в стихотворной пародии,
направленной на жанры высокого стиля (и, таким образом, опосредствованно
входящей в те жанры, против которых она направлена).
На наш взгляд, появление кощунств в пародии, и специально
в жанровой пародии, особо значимо. Действительно, пародия
есть произведение внутрилитературное, и обыгрывание в ней
сакральных текстов должно иметь не внелитературную, а внут-
рилитературную направленность. Если, например, в сатире такое
обыгрывание, в принципе, может быть направлено против
святошества вообще или начетничества вообще, то в пародии то же
обыгрывание должно соотноситься с употреблением сакральных
текстов внутри литературы, точнее, внутри пародируемого жанра
(см., напр., пародию на «Гимн лиро-эпический» Державина в
«Тени Фонвизина» Пушкина — I, 162). Более того, жанровая
пародия пародирует прежде всего штампы данного жанра;
следовательно, пародируемые в ней сакральные тексты должны
быть такими, цитирование которых относится к клишированным
приемам соответствующего жанра. Такое положение вещей мы и
наблюдаем в пародийных одах, начиная от вздорных од
Сумарокова и вплоть до пародийных од С. Н. Марина.
Мы позволим себе более подробно разобрать пародийную оду Державина
«Похвала комару» (III, 401 — 411). Эта ода, написанная в 1807 году,
является не только пародией на одический жанр вообще, испытывавший в то
время очередной кризис, но и автопародией . Ее жанрово-пародийный
характер демонстрируется, напр., ст. 54 — 56: «Комара, мудрец, паденьем /
Возгреми нравоученьем: / Суета, скажи, все — ах!» (III, 403). В них
пародируется общее место дидактических од — от Сумарокова и Хераскова до
Муравьева и самого Державина (ср. II, 637), — являющееся аллюзией на
Ек. 2. 11. Ст. 29 «Мгла упала тлена с глаз» (III, 402) направлен, видимо,
на торжественную или духовную оду; этот образ можно полагать одическим
штампом, имеющим определенные соответствия в сакральных текстах .
Библейско-литургические реминисценции «Похвалы комару» этим, однако,
не ограничиваются, причем если реминисценции некоторых библейских собы-
196
тий могут быть рассмотрены как своего рода одические штампы, то есть в ней
и такие аллюзии, которые нельзя не считать случаями сознательного
кощунства. Так, к клишированной одической образности может быть отнесен
«огненный столп» (см. у самого Державина «На взятие Измаила» I, 341;
«Водопад» I, 484; «На Мальтийский орден» II, 221) и сравнение врага с
египетским фараоном (см. у самого Державина «Эпистола к генералу Михель-
сону» III, 318; «Монумент милосердия» II, 526) — оба эти эпизода см.:
Исх. гл. 13 и 14. В соответствии с этим в «Похвале» мы находим (III,
406 — 407):
Столп из пламени был дан
Весть Юдеев в Ханаан.
Пред грядущею весною
В вечер, тихою зарею,
Столп толчется комаров:
Служит знаком селянину
В поле гнать свою скотину...
И далее (III, 410):
И на зимнем твоем стане
Замерзаешь тож, как он;
А тепло лишь дхнет весною,
Ты попутною порою
Сам средь моря Фараон!
Если и эти примеры явно звучат кощунственно и вряд ли могут
объясняться как только пародирование одических штампов, то следующие строки
упоминают эпизод из св. истории, аллюзии на который в одах нам вообще
неизвестны. Имеем в виду ст. 138 — 140: «На египетски границы Гнев
небесной лег десницы, И Комар — ее перун!» (III, 406). Здесь
подразумевается одно из бедствий египетских — Исх. 8, 16: И будуть скнипы (т. е.
мошки) въ человѣцѣхъ, и въ скотѣхъ, и на фараонѣ, и домѣ его, и рабѣхъ его; и
весь песокъ земный станеть скнипами во всей земли египетской. Отсюда же
заимствовано и выражение ст. 139 — Исх. 7, 4: И возложу руку Мою на
Египеть. Эти строки, таким образом, Дают нам пример чистого кощунства.
Возникает вопрос о том, что именно пародируется
кощунством, поскольку, как мы уже говорили, направленность пародии
исключительно внутрилитературна. Легко находится внутрилите-
ратурное соответствие тем примерам, с которых мы начали, —
это, говоря обобщенно, усвоение поэтическому языку высокого
стиля библейско-литургической фразеологии. Но последние
примеры (и особенно последний пример) не поддаются такой ин-
197
терпретации. Пародийному кощунству должна соответствовать
непародийная сакрализация; следовательно, кощунства в жанро-
во-пародийной оде предполагают сакрализацию оды как жанра.
III. БИБЛЕЙСКО-ЛИТУРГИЧЕСКИЕ
РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ПОЭЗИИ ВЫСОКОГО СТИЛЯ.
ОДА И ПРОПОВЕДЬ
Как известно, субъективное восприятие начала русской поэзии у
Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова связывалось с их
собственной поэтической деятельностью. Можно думать, что это
восприятие отчасти находит свое основание в искусственном,
«сделанном» характере русского поэтического языка, в том, что
для большой части выражений этого языка может быть найден
источник заимствования. Споры Тредиаковского, Ломоносова и
Сумарокова о том, кто из них «начал» русскую поэзию, могут
при этом рассматриваться как связанные с ориентацией на
разные источники у каждого из этих поэтов.
При определенной разности ориентации, однако, для всех
трех поэтов одним из основных источников формирования
фразеологии высокого стиля служит Св. Писание и богослужение
(ср.: Винокур, 1959, 144 — 151). При этом заимствования
распространяются не только на отдельные церковнославянские
слова, но и на выражения и образы, поскольку, как отмечает
В. В. Виноградов (1938, 118), «обилие идиом и устойчивость
фразеологических сращений, выступающих как целостные
смысловые единства, — характерная особенность высокого стиля
первой половины XVIII века». О том, насколько широко поэзия
заимствует из церковного источника, свидетельствуют обширные
(и при этом отнюдь не полные) материалы, собранные
И. И. Солосиным (1913).
С традиционно-православной точки зрения, результатом
этого процесса было введение сакральной символики в чисто
светский контекст, то есть — с этой точки зрения —
кощунство. Именно так воспринимают старообрядцы (см.: История,
1863, 60 — 61) известные стихи Ломоносова в Оде 1743 года,
относящиеся к Петру I: «С Минервой сильный Марс гласит:
«Он Бог, он Бог твой был, Россия, Он члены взял в тебе
плотския, Сошед к тебе от горних мест» (VIII, 109). Такое
восприятие, однако, не было свойственно ни самим поэтам, ни
немногочисленному (ср.: Гуковский, 1936, 9 — 11) кругу их
обычных читателей. Для них контекст оды полностью оправды-
198
вает употребление сакральных образов, и в этом своем
представлении они опираются на ряд внепоэтических прецедентов
(на придворный обиход, на проповедь, на западную традицию
прославления монархов — см.: Успенский, 1976, 288 — 289).
Отмечая восприятие старообрядцев, мы сталкиваемся с
конфликтом двух смыслов, объективно присутствующих в понятии
кощунства. При одном подходе кощунство — это то, что имеет
целью оскорбление святыни, при другом — то, что имеет
результатом оскорбление святыни. В первом случае все
зависит от намерений адресанта, во втором — от культурной
позиции адресата. Эти два смысла вступают в противоречие, когда
для адресанта определенный контекст оправдывает употребление
сакральной символики, а адресаты, принадлежащие другой
культурной группе, этого оправдания не признают. Так, для
Ломоносова контекст торжественной оды, обращенной к правящему
монарху, оправдывает христологическую символику, а для
старообрядцев это его оправдание несостоятельно. Точно так же для
поэтов начала XIX века контекст стихов о поэте мотивирует,
как мы увидим ниже, введение библейских профетических
образов, а для многих их читателей (включая большинство
духовенства) — это профанация и кощунство. Существенно, что этот
подход части адресатов известен и самому адресанту, и это
подчеркивает семиотическую значимость употребленных им библей-
ско-литургических реминисценций.
Мы должны здесь отметить существенное отличие русской
оды в первые 30 лет ее существования от оды
западноевропейской. Хотя русская ода явно строится по западноевропейским
образцам, однако обращена она — в явном отличии от оды
западноевропейской — всегда к правящему монарху либо к члену
правящего дома и никогда к частному лицу14. Ода адресуется
члену царствующей династии, частному лицу адресуется еписто-
ла15. Таким образом, одический контекст сакральных
аллюзий — это обращение к монарху, но этот контекст безусловно
допускает цитирование священных текстов, поскольку в русской
культуре XVIII века монарх сакрализован.
Четкая дихотомия оды и епистолы разрушается в 60-е годы поэтами Су-
мароковской школы, отрицательное отношение которых к оде хорошо известно
(см.: Гуковский, 1927, 161). Едва ли не первыми свидетельствами этого разг
рушения могут служить две епистолы М. Хераскова, напечатанные в
«Свободных Часах» (1763) — «Епистола. На день Высокоторжественного
Коронования Ея Имп. Величества...» (с. 540 — 544) и «Епистола. На день
Рождения Его Имп. Вые. Павла Петровича» (с. 545 — 547). В ходе этого
199
процесса (и, может быть, в силу прямого усвоения западноевропейских
образцов) появляются и оды частному лицу (3. Г. Чернышеву у В. И. Майкова,
На смерть Бибикова у Державина, многочисленные оды Петрова, Рубана и
т. д.). В результате этого разрушения сакральная символика может иногда
появляться и в чисто светском контексте.
Другой процесс, приводящий к тому же результату, — это клиширование
библейско-литургических реминисценций внутри языка высокого стиля. Такие
образы, как «райский крин», «сломить/стереть рог гордых», «отверзающаяся
небесная дверь» и многие другие, настолько прочно входят в поэтический
словарь оды, что, видимо, и ассоциируются прежде всего с одой, а не со Св.
Писанием . Поскольку же именно ода является ядром поэзии высокого
стиля, поскольку именно в ней генерируются приемы этого стиля и его
фразеология (ср.: Гуковский, 1936, 220 — о генерирующем характере оды в
отношении к героической поэме), одические фразеологизмы могут покидать контекст
оды и появляться в произведениях других жанров. Это опять же приводит к
употреблению библейских реминисценций в несакральном контексте.
Эти процессы, однако, не отменяют сакрального характера
оды, но лишь размывают границы сакрализованной поэзии.
Торжественная ода (и, само собой разумеется, ода духовная)
продолжают восприниматься как сакрализованный жанр18.
Можно думать, что существенную роль в этом играет сходство
между одой и проповедью. Сходства между отдельными одами
и отдельными проповедями неоднократно отмечались19.
Значительно более важен, однако, общий функциональный и
формальный параллелизм двух этих типов произведений.
Из функциональных сходств отметим прежде всего, что священник так же
ex officio произносит проповеди, как поэт ex officio пишет оды (так, писание
торжественных од входит в непосредственные служебные обязанности
Ломоносова и Петрова; рассматривают это как обязанность и другие признанные
поэты). Далее, как священник произносит проповедь не от своего лица, но от
лица церкви (или, по крайней мере, клира), так и оды могут подноситься от
лица Академии или Университета. Особенно же существенно, что
торжественные оды2 и проповеди составляются на одни и те же случаи: тезоименитства,
дни рождения, дни восшествия на престол, заключение мира, победы и т. д.,
когда служились торжественные молебны, за которыми следовала проповедь .
Не менее важен формальный параллелизм. В этом плане в новом аспекте
предстают многочисленные библейско-литургические реминисценции одического
языка: если ода и проповедь сближаются, то одическому красноречию естественно
усвоить и такую фундаментальную черту гомилетического красноречия, как
постоянное и не нуждающееся в смысловой мотивировке цитирование Св. Писания
(любую мысль лучше выразить цитатой из Писания, чем своими словами —
принцип, в практической гомилетике сохранившийся до наших дней)22.
200
Поэтика оды и поэтика проповеди тождественны также в синтаксисе и в
принципах построения периода. Все те особенности одического периода,
которые были отмечены в работе Ю. Н. Тынянова (1927), могут быть отмечены
и в русской проповеди XVIII века. Ораторская установка, принцип
интонационного богатства, «вопрошания» и «восклицания», «витийственное сочетание
слов», повторение «слов либо тождественных, либо сходных по основе» —
все эти характеристики в бесчисленных вариациях могут быть найдены в
проповеди . Факт этот представляется совершенно естественным, если учесть,
что все эти приемы усвоены риторикой со времен Квинтилиана и имеют силу
равно для проповеди, надгробного слова, панегирика, ученой и судебной речи
(ср. для французской ситуации указания Лагарпа — 1813, 1 — 108).
Специфика русской ситуации лишь в том, что риторика здесь реализуется
изначально и преимущественно в проповеди, почему и всякая речь, построенная на
тех же принципах, воспринимается как подобная церковному слову.
Зависимость оды от проповеди заметна и в фразеологии. Знаменательно,
что почти все библейские реминисценции, ставшие одическими штампами, еще
до Ломоносова были штампами гомилетическими. В качестве краткой
иллюстрации можно рассмотреть, например, четыре проповеди на победы, сказанные
Стефаном Яворским в 1708 — 1710 годах (1805, 225 — 260). Царь и
воинство сопоставляются здесь с убивающим льва Самсоном (с. 231, 247,
259), с Моисеем, проводящим Израиль через море (с. 231, 248, 260), с
Давидом, побеждающим Голиафа (с. 229, 231, 240, 243, 247, 260) и
т. д. — все эти сравнения заполняют позже торжественные оды самых
разных авторов. То же и с фразеологией. Мы находим здесь «солнцу и луне
повелевает» (с. 227 — ср.: Ломоносов, VIII, 107), «попреши льва и змия, на
аспида и василиска наступит и» из Пс. 90 (с. 232, 240, 258 — ср.:
Ломоносов, VIII, 106; Сумароков, II, 42, 62), «сокрушил есть членовныя льву» из
Пс. 57 (с. 242 — ср.: Ломоносов, VIII, 88, 107; Сумароков, II, 5;
Державин, I, 221; II, 221), «главы сокрушит гордыя, роги сотрет» (с. 245 — ср.:
Сумароков, И, 14, 20, 42, 62, 99; Муравьев, 1967, 83; Державин, I, 233,
346; II, 225, 242, 607; III, 294), «высящася, яко кедры Ливанския» (с.
245 — ср.: Ломоносов, VIII, 106, 559, 638; Сумароков, II, 108; Капнист,
1973, 71), «жена облеченна в солнце» из Ап. 12, 1 (с. 248, 252 — ср.:
Ломоносов, VIII, 66; Державин, III, 262) и т. д. Этот список можно было
бы значительно продолжить, умножая его как примерами из проповедей, так и
примерами из од.
Не менее существенны сходства в композиции. В «Чужом толке»
Дмитриев писал об оде (1967, 113):
К тому ж, и в правилах: сперва прочтешь вступленье,
Тут предложение, а там и заключенье —
Точь-в-точь как говорят учены по церквам!
201
Дмитриев, очевидно, имеет здесь в виду ученое духовенство, произносившее
проповеди в соответствии с риторическими правилами . Анализ одической
композиции показывает, что тех же правил придерживались в значительной
степени и одописцы. Укажем здесь лишь на один момент. В крайне большом
числе случаев русские оды XVIII — нач. XIX века заканчиваются
молитвенным обращением к Богу . Такое молитвенное заключение является почти
непременной концовкой проповеди , что связано с ее включением в
богослужение. Для оды — вне ее связи с проповедью — такое завершение
представляется немотивированным. Заметим для сравнения, что подобная черта не
характерна для французской торжественной оды (во всяком случае для ее
хрестоматийных образцов — тогда как хрестоматийные же образцы французской
проповеди, напр., Бурдалу, Боссюэ или Массильона, завершаются молит-
вой)27.
Таким образом, анализ сакральных реминисценций подводит
нас к тому, что в основе их лежит сакрализованный характер
определенных поэтических жанров, прежде всего оды
(аналогичные сближения могут быть сделаны и для торжественной
кантаты, торжественной молитвы, похвального слова).
Сопоставление оды и проповеди показывает, что различие между
ними лежит не в поэтике и не в содержании; скорее, оно должно
быть определено как ситуативное: проповедь произносится в
церкви, ода — в светском (придворном) обществе.
IV. САКРАЛИЗАЦИЯ ПОЭТА
Теперь мы можем ответить на вопрос о функциях кощунства в
пародии: пародийная ода кощунственна, потому что
непародийная — сакрализована. То, что функция пародийных кощунств
внутрилитературна, побуждает предположить, что такова же
функция и других поэтических кощунств. Хотя сам факт
сакрализации оды не может служить достаточным основанием для
такого предположения, однако этот же факт — сакрализация
чисто литературной деятельности — представляется настолько
нетривиальным, что заставляет задуматься о роли сакрализации
в поэтической деятельности вообще. Можно предположить, что
как ода лишь ситуативно отличается от проповеди, так и
поэт — в восприятии определенного круга — лишь ситуативно
отличается от духовного лица.
Для такого сближения больше оснований, чем кажется на
первый взгляд. Именно в официальной, публичной части своей
деятельности поэт пишет духовные и дидактические оды, пере-
202
лагает псалмы. Полные переложения Псалтири Сумарокова и
Тредиаковского — именно в силу своей полноты — имеют,
видимо, не только литературные, но и религиозные цели — дать
читателю перевод Псалтири, понятно и «правильно»
передающий смысл подлинника28. Ту же цель имеет, вероятно, и
собрание русских переложений псалмов, изданное А. Решетниковым
(1811). В литературную деятельность поэтов включаются
рассуждения собственно церковно-религиозного характера.
Например, Сумароков пишет «Слово о любви ко ближнему» (II),
«Некоторые статьи о добродетели» (VI), «О безбожии и без-
человечии» (X), Державин — «Рассуждение о посте» (VII,
501 — 503).
Поэты, наконец, пишут и настоящие проповеди. Так,
известна учебная проповедь, написанная Ломоносовым в Академии
(Моисеева, 1971, 229 — 230), сохранился и набросок его
проповеди (VIII, 545), предназначенный, возможно, для 2-й части
«Риторики». Петров по обязанности писал и произносил
проповеди во время своей службы в Московской академии.
Проповедями, в сущности, являются и две речи, написанные
Державиным (для открытия больницы в Петрозаводске и для открытия
народного училища в Тамбове — VII, 123 — 125 и VII,
129 — 134): первая произносилась священником (Державин,
VI, 577), и обе они написаны, как поясняет Державин (VI,
577, 582), «за неимением ученых духовных»29. Представляется,
таким образом, что деятельность поэта XVIII — начала XIX
века весьма сходна с деятельностью духовного лица. Пожалуй,
еще существеннее то, как поэт сам воспринимает — в плане
сакральности — свое творчество.
В уже цитировавшемся стихотворении Я. Б. Княжнин
(1784) писал, что поэты (одописцы) «пускали свой бумажный
гром», «в чин пророков становясь, Вещая с Богом будто с
братом». Эти строки можно было бы воспринимать только как
насмешку над одическим стилем, если бы не настойчивое
обращение к своим стихам как к «пророчествам» у самых разных
поэтов изучаемого нами периода. Особенно обширный материал
дает здесь Державин, оставивший многочисленные
свидетельства своего понимания в объяснениях к своим стихотворениям.
Так, в оде «На победы в Италии» Державин писал (II, 275): «Сбылось
пророчество, сбылось! Луч, воссиявший из-под спуда, Герой мой вновь свой
лавр вознес!» В «Объяснениях» читаем: «В оде Зубову на прибытие из
Персии предсказано было, что Суворова горит еще звезда; то сими победами и
сбылось то пророчество». Поясняя стихи «На освящение Каменноостровского
203
инвалидного дома», которые Державин называет «псалмом», он пишет: «И
9-й куплет сбылся рождением Константина Павловича и троих принцев и
принцесс» (Кононко, 1973, 111). Относительно стиха из «На покорение
Дербента» Державин замечает: «Сие предвестие сбылось смертию
императрицы» (III, 646). В комментариях к оде «На возвращение графа Зубова из
Персии» читаем: «В вышесказанной оде на взятие Дербента напоминал автор
победителю, чтоб не гордился триумфом, который скоро проходит, а остался
бы добродетельным: то здесь и напоминает то, говоря, что пророчество сбы-
лось» (III, 672), и т. д. (см. еще III, 644, 679)30.
Против нашей интерпретации можно возразить, что во всех
этих случаях «пророчество» — лишь условное выражение, не
имеющее никакого религиозного значения и обозначающее
только поэтическое вдохновение, как это, очевидно, имело место во
Франции31. Однако такое чисто условное понимание вряд ли
могло реализоваться в русской культуре с характерным для нее
представлением о неконвенциональности знака (см.: Лотман и
Успенский, 1977а). Раз поэзия названа пророчеством, поэт
воспринимается как подлинный пророк32.
Державин полагает, что «долг поэта / В мир правду
вещать», и, обращаясь к своему издателю (А. Ф. Лабзину),
пишет: «Шествуй со мною бесстрашно / Ты в проповедничий
путь; / Бога вещай велегласно» (II, 680). Не менее яркое
свидетельство связи между стихотворным пророчеством и
пророчеством в церковном понимании находим и в стихах Дмитриева
«К Маше» (1967, 339): «Я не архангел Гавриил, / Но, воспо-
ен пермесским током, / От Аполлона быть пророком /
Сыздетства право получил». Три последние строки рассматривают
«пророчество» только как поэтическое вдохновение, вполне
совпадая в этом с цитировавшимися выше стихами Ж.-Б. Руссо.
Однако первая строка, содержащая кощунственное
сопоставление себя с архангелом Гавриилом, выдает скрытую
соотнесенность библейского и стихотворного пророчества (которая,
естественно, равно выступает в оппозиции и в отождествлении). Та
же схема может реализоваться без кощунства. Примером
служат знаменитые стихи Пушкина «Пока не требует поэта / К
священной жертве Аполлон» (III, 65): если в первых стихах
источник поэтического вдохновения — Аполлон, то стихи 9 — 12
(Но лишь божественный глагол / До слуха чуткого коснется, /
Душа поэта встрепенется, / Как пробудившийся орел)
переносят нас в стихию церковнославянизмов («библеизмов», как их
называл сам Пушкин — XII, 267) и связывают это
стихотворение с «Пророком» (III, 30 — 31) — ср. хотя бы лексические
204
совпадения («глагол», «коснется до слуха» — «коснулся ушей»,
«пробудившийся орел» — «испуганная орлица»). Это
соотношение вполне ясно указывает на связь поэтического вдохновения
«Поэта» с библейским пророчеством «Пророка», близость
которого к Ис. 6,5 — 9 хорошо известна (см.: Коплан, 1923)33.
Эти свидетельства достаточно четко говорят о самом факте
сакрализации поэта, поэтического вдохновения и функций
стихотворца в системе русской культуры XVIII — начала XIX
века. Сакрализация, однако, не обусловливает с необходимостью
кощунства, и поэтому для того, чтобы понять, почему
возникают кощунства и почему они распространяются лишь с конца
XVIII века, нам придется остановиться на генезисе
представления о сакральности поэта и на относящихся сюда теориях
поэтического творчества. Нам придется ограничиться лишь самой
краткой схемой.
Концепция поэтического вдохновения как особого присущего
поэзии качества в России впервые четко засвидетельствована
лишь у первых силлаботоников, прежде всего у Ломоносова34.
Вдохновение у него — это особая возвышенность интонации,
поэтический восторг и поэтический беспорядок, присущие
высокой поэтике и прежде всего оде («Chez elle (ode) un beau
désordre est un effet de l'art», — пишет Буало, 1823, 73, давая
вполне рациональные границы допустимой поэтической
восторженности)35. Эта возвышенность интонации соответствует
возвышенности предмета, равно как и возвышенности позиции
поэта, вещающего не от своего лица, но изрекающего, как пророк,
истины Высшего Разума (последнее — общепризнанная
характеристика всего классицизма). Надо думать, что для русских
поэтов XVIII века этот Высший Разум не противополагался
Богу, почитаемому церковью: для них — субъективно — это
было лишь более «просвещенное» понятие о том же Божестве.
Таким образом, оказывалось, что и поэт, и ученый, и
священник, черпая из одного источника, содержательно говорят одно и
то же (поэтому, в частности, поэзия непосредственно нравствен-
но-образующа, ср. представление Хераскова о том, что
«Полезное Увеселение» немедленно изменит нравственный
облик московского общества — см.: Гуковский, 1936, 38 — 42).
Отсюда «восторг» оказывается лишь формально-выделительной
чертой поэтического способа вещать (поэтому, в частности,
вопрос о восторге связывается с вопросом о поэтических вольностях
в языке).
Эти представления о поэзии, уже в 70-х годах переставшие,
видимо, быть живым ощущением, были вполне подорваны по-
205
этической реформой Державина. По словам Г. А. Гуковского
(1940, 157 — 158), «в творчестве Державина поэзия стала в
значительной мере частным делом <...>, Державин заявил в
своих стихах свое право на сообщение прямо читателю <...>
своих личных мнений, <...> индивидуализм в его творчестве
изнутри взорвал твердыни феодальных законов дворянского
классицизма»36. Логическим следствием такого изменения
взглядов должна была бы быть полная отмена представлений о сак-
ральности поэзии и поэта: если поэзия «частное дело» и поэт
возвещает читателю не аксиомы Высшего Разума, а свои
личные взгляды, то он, поэт, не должен из этого извлекать
большей сакрализации, чем сенатор, записывающий особое
мнение по спорному вопросу. Однако таких результатов реформа
Державина никогда не имела.
Надо думать, что причиной этого было широкое усвоение
западных эстетических представлений, прежде всего элементов
учения Гаманна, Гердера, Юнга, поэтов «бури и натиска» и —
позднее — немецких романтиков. Из этих элементов прежде
всего нужно отметить представление о поэтическом гении и о
его связи с духом народа, о значении поэтической фантазии,
противопоставление исторического подхода «схоластическому» и
противоположение откровенного и рационального познавания.
Опять же в рамках русской культуры учение о поэтическом
гении и об откровенном характере его знания с необходимостью
ставится и в плане церковно-религиозном, в результате чего
откровенное знание поэта отождествляется с откровениями
библейских пророков37. Если Симеон Полоцкий ссылался на
стихотворный характер библейских книг для того, чтобы оправдать
свои занятия поэзией (в частности, стихотворное переложение
Псалтири), то Державин (в «Послании к в. к. Екатерине
Павловне» и в «Рассуждении о лирической поэзии») указывает на
тот же факт для того, чтобы доказать, что Божественная истина
передается поэзией по преимуществу и что поэтическому
вдохновению подлинно присуще постижение Божественных тайн38.
Поэт вновь оказывается уподоблен священнослужителю, поэзия
вновь сакрализована.
Однако эта новая сакрализация существенно отличается от
прежней. Если раньше поэт и священник связаны с Высшим
Разумом одинаковым способом, а параллелизм их деятельности
ограничивается сферой учительства, то после державинской
реформы поэтическое вдохновение оказывается особым способом
непосредственного постижения высших истин, а параллелизм
деятельности распространяется и на мистериальную сферу. В
206
«Ответе» Державину (1808) А.С. Хвостов, приравнивая себя
«невежному пономарю», называет Державина «пресвитером у
алтаря» (Державин, III, 419) — поэт, таким образом, не
только учительствует, но и тайнодействует. В восприятии
современников (по крайней мере, некоторой их части) эти изменения
должны были видеться как покушение на предметы,
находившиеся в исключительном ведении духовенства. В отношениях
духовенства и стихотворцев возникает момент антагонизма.
V. ПОЭТ И СВЯЩЕННИК. СПОР О ПРАВАХ
В оде «Бессмертие души» (1797) Державин писал (II, 5):
Сей дух в пророках предвещает
Парит в пиитах в высоту...
Источник поэтического вдохновения отождествляется, таким
образом, с источником пророческого ясновидения. Такое
отождествление остановило внимание духовного цензора. «Ежели это
говорится, — замечал он, — в несобственном смысле слова, о
пророках политических систем с счастливыми догадками, то
имеет свою справедливость. В собственном христианском разуме
предвещение сие принадлежит токмо Духу Бога и присвоитель-
но Св. Духу» (Державин, II, 5—6). Духовный цензор,
архимандрит Антоний Знаменский, категорически, следовательно,
отвергает всякую возможность такого отождествления.
Замечания цензора вызвали раздражение Державина, и в его бумагах
сохранился набросок ответа (IX, 250):
Не убежден умом,
Святой отец, твоим под клобуком;
А от того ль, что тот клобук мешает
Да ум горе твой возлетает
И зрит поэзии полет,
В котором смысле дух и чей она берет, —
Того не знаю.
А знаю я лишь то, что я невежду оставляю,
У коего в мозгу
От светозарной Единицы
Нет, вижу я, частицы;
А ежели и есть, — утоплена в дрязгу.
207
Таким образом, Державин вновь утверждает боговдохновенный
характер поэзии, оспаривая самую компетентность архимандрита
решать духовные проблемы подобной сложности: духовное
ведение поэта ставится выше духовного ведения священнослужителя
(потому, видимо, что последний получает его как автоматическое
следствие профессии — вместе с клобуком, — тогда как поэт в
качестве природного дара, т. е. непосредственно от Бога в
индивидуальном порядке).
Этот эпизод отчетливо иллюстрирует основные линии спора
о правах между поэтами и духовенством. Спор, однако,
распространялся не только на вопрос о компетенции в духовных
материях (здесь обнажалась уже сама идеологическая подоплека
соперничества), но и на предметы, относящиеся к каждодневной
стихотворческой практике. Как и большинство русских
идеологических споров этого времени, рассматриваемая нами контро-
верса реализовалась (причем не только по форме, но и по
самому существу) прежде всего как спор о языке (ср.: Лотман и
Успенский, 1975).
Хорошо известны цензурные запреты на употребление в
светском контексте ряда слов, имеющих, с определенной точки
зрения, исключительно религиозное значение: «божественный»,
«небесный», «вечный» и т. д. (ср. «Второе послание цензору»
Пушкина — II, 367). Хотя подобные запреты шли
преимущественно из светской цензуры (духовная рассматривала лишь
сочинения духовного характера), можно считать, что они
(запреты) отражали точку зрения православного духовенства.
С этой точки зрения, в светском контексте недопустимо
было употреблять (а) слова, имеющие непосредственное
религиозное содержание (типа «божественный»), и (б) слова, по
привычному контексту своего употребления обладающие
выраженными религиозными коннотациями. Состав первой
группы достаточно ясен, состав второй может быть
проиллюстрирован следующим примером. Уже в 1844 году митрополит
Филарет (Дроздов), упрекая московский духовно-цензурный
комитет за пропуск выражения «малодушные и невежественные
возгласы», писал прот. Ф. Голубинскому: «Возглас слово
словенское и за двадцать лет пред сим оно не встречалось нигде,
как только в служебнике, где оно означает славословие, громко
произносимое священником после тайной молитвы. Недавно
возник вкус смешивать чистое с грязным и небесное с адским, и
тогда священное слово кощунственно приложили к нелепым
восклицаниям» (см.: Котович, 1909, 56)39. Логически
реконструируя полный объем группы (б), мы могли бы включить в нее все
208
выраженные церковнославянизмы (кроме так наз.
«функциональных» плюс еще «варяжские» неологизмы Шишкова).
Таким образом, с точки зрения духовенства, слова «религиозного
содержания» и церковнославянизмы осознаются как
церковные и, следовательно, не подлежащие употреблению в
светском контексте.
Очевидно, что такая позиция в равной мере
противопоставлена и практике «карамзинистов», и практике «шишковистов»40,
однако в каждом из этих случаев реализация
противопоставления различна. Если шишковистское употребле-ние включает как
слова группы (а), так и слова группы (б), то карамзинистское
допускает (а), но принципиально исключает (б). С этим
различием связано и различное понимание статуса этих слов в
отношении к оппозиции церковное — светское.
В принципе (возможно, в защитительно-полемических целях)
карамзинисты готовы утверждать, что слова группы (а)
нейтральны в смысле оппозиции церковное — светское, то есть что,
например, «божественный» в поэтическом употреблении и то же
слово в духовном употреблении следует рассматривать как
омонимы (как имеющие разные денотаты). В этом карамзинисты
могут опираться на западную традицию (как она рисуется в это
время). Однако восприятие подобных значений как
омонимичных не может не быть искусственным, что ясно демонстрируют
многочисленные случаи сознательного использования полисемич-
ности слов группы (а) — ср. «Акафист Е. Н. Карамзиной»
Пушкина (III, 64) и многие другие произведения этого рода.
Такое использование вновь свидетельствует о притязании на
собственно духовные права, даваемые поэтическим призванием,
и делает понятным реакцию духовенства. Что касается слов
группы (б), то здесь отношение карамзинистов парадоксальным
образом совпадает с отношением духовенства: они
рассматривают эти слова как подчеркнуто церковные (именно отсюда
многочисленные насмешки над «церковностью» беседчиков) и
поэтому допустимые лишь в узкой сфере собственно церковной
литературы.
Для архаистов, как кажется, оппозиция церковное —
светское подчинена целому ряду других оппозиций: духовное —
чувственное, народное — чужое, исконное — привнесенное.
Поэтому они могут возражать против употребления слов группы
(а) в рамках чувственной (не высокой, не духовной) поэзии (см.
примеры у С. Боброва — Лотман и Успенский, 1975, 268,
308), но в рамках высокой поэзии они полагают вполне
правомерным употребление слов и группы (а) и группы (б). Идеоло-
209
гическим основанием права на это употребление является
представление об особой сакральности поэта.
Связь этого представления с языковой практикой лежит в
генеалогии поэта. Как мы уже видели, поэт наследует и Давиду,
и Гомеру, и Моисею, и Оссиану, причем, поскольку все эти
предшественники поэта были вдохновляемы единым духом
поэзии41, поэт волен по своему усмотрению группировать все их
словоупотребления. Он может писать «божественный Платон»42,
потому что так писали античные поэты, и он может говорить о
«Божественном промысле», потому что о нем говорят «поэты»
ветхозаветные. Его право на пользование «сакральным» языком
независимо от прав на него духовенства.
Такая независимость не устраивала духовенство. Точки
зрения сторон в этом споре ярко проявились в следующем эпизоде.
В 1808 году А. С. Шишков представил в Российскую
Академию свой «Опыт славенского словаря». На него сделали свои
замечания митр. Амвросий и еп. Феофилакт. О слове
«благодать» было сказано: «В светских материях оно никогда не
должно быть употребляемо; а богословы, проповедники и
вообще все нравоучители церковные изъясняются оным по
приличию и по надобности». О слове «неблазный» говорилось, что
оно «исключительно принадлежит единой пресвятой Деве»
(Державин, IV, 780 — подчеркнуто нами). После этого
инцидента Державин в своих стихах «Обитель Добрады» (II,
693 — 1808 г.), обращенных к имп. Марии Федоровне, пишет:
«Дом благодатныя, неблазныя Добрады», и в «Объяснениях»
(III, 723), изложив историю с шишковским «Опытом Словаря»,
замечает: «Но как автор почел их <духовных. — В. Ж.>
суждение несправедливо, то и осмелился поместить те слова в сем
сочинении. Цензура пропустила, публика приняла, синод
молчит; следовательно, и могут быть употреблены везде, но
только с рассуждением, по важности материи и лиц, к кому
относятся».
Было бы крайне неверным представлять генезис этого спора
как связанный лишь с изменением позиции поэтов, то есть
таким образом, что поэты становились все независимее и свобо-
домысленнее, а резкость реакции духовенства была лишь
производной от возраставшего свободомыслия поэтов. Изменение
позиции поэтов состояло, как было показано, в изменении
взгляда на источник поэтического знания, а не в появлении тех
или иных выражений, которые были, как справедливо отмечал
Булгарин (см. выше), «освящены временем и употреблением»43.
Изменение эстетической концепции поэтов содействовало, види-
210
мо, отчуждению духовенства от литературы, но взгляды
духовных эволюционировали сами по себе. Новая позиция клира
существенна для нас, поскольку она влияла на представления
литераторов об отношении поэта и священника.
В то время как во Франции два первых сословия противостояли третьему,
сами занимая единую (хотя и не единообразную) культурную позицию (ср.
таких аббатов, как Шолье или Вуазенон, ведущих светскую жизнь кардиналов
и т. д.), в России дворянство и духовенство прежде всего противоположны в
своей культуре. Эта противопоставленность ясно обозначается уже в начале
занимающего нас периода и обусловлена завершившимся к этому времени
процессом размежевания духовного и светского образования и воспитания.
После указа Екатерины, запрещавшего практически широкому кругу
церковников вести учительскую деятельность (1785 г. — П. С. 3., т. XXII,
№ 16421), традиционное образование, включавшее обучение
церковнославянскому и выучивание наизусть Псалтири и Часослова, стало исключительной
принадлежностью недворянских сословий, прежде всего сословия духовного;
образование дворянства строилось на иных принципах и ориентировалось на
иные тексты44. Различными оказываются даже воспитательно-нравственные
идеалы (см.: Владимирский-Буданов, 1874, 194—195), и с начала XIX
века «семинарист» становится обычным дворянским ругательством. Загнанное
поневоле в рамки замкнутой сословной культуры, духовенство начинает
постепенно рассматривать эту культуру как свою сословную собственность, пытаясь
пресечь все поползновения на нее со стороны представителей других сословий.
Как мы видели, само употребление слова «благодатная», по мнению митр.
Амвросия, принадлежит лишь духовным лицам: церковнославянский язык
воспринимается как сословная собственность духовного сословия (ср.:
Виноградов, 1938, 123; Лотман и Успенский, 1975, 243)45.
В этой перспективе борьба за недопущение «церковных» слов в светском
контексте может пониматься как робкая попытка духовенства отстоять свои
сословные права на все «церковное»: духовное учительство, богословствование
и — в силу уже не раз упоминавшегося неконвенционального понимания
знака — на «церковный» язык46. Духовная литература должна принадлежать
духовному сословию, и в 1802 году духовная цензура отказывается принять к
рассмотрению «Месяцеслов», изданный Глазуновым и Капустиным, «по
причине звания их, что они светские» (Котович, 1909, 13). Последовавшее
приказание заставляет ее отменить это распоряжение, и в позднейшее время —
вплоть до 1824 года — светская власть принуждает духовенство мириться с
религиозными сочинениями светских авторов. Протест, однако, продолжает
расти. Судя по переписке Державина и митр. Амвросия (VI, 400 — 401),
вновь возникает вопрос (который, как казалось, перестал быть актуальным
после споров Симеона Полоцкого и Аввакума), не является ли поэзия
«унизительной для слова Божия». «Семинарист» М. М. Сперанский критику-
211
ет оду «Бог» Державина (Державин, III, 593). И, наконец, еп. Игнатий
Брянчанинов, правда, уже в николаевское царствование, когда духовенству не
приходилось в такой степени скрывать свои взгляды, отрицает духовность всей
« 47
«духовной светской» литературы .
Эта позиция духовенства влияла, можно думать, на
самоощущение поэтов. Во-первых, ею подчеркивалась семиотическая
значимость духовного стихотворства, поскольку из утверждения,
что «писать о духовном можно, лишь имея посвящение», поэт
легко делает вывод, что раз он пишет о духовном, он и имеет
посвящение, хотя оно и отлично от того, которое получает
священник; парадоксальным образом, позиция духовенства
подкрепляла представления о поэтической деятельности как
священнодействии. Во-вторых, эта позиция указывала на сословные
различия в культуре и в поведении и провоцировала ясное
осознание поэтами своего светского статуса, равно как и внецерков-
ного (и даже антицерковного) характера всех их сочинений,
какими бы духовными они ни были. Сходства в деятельности
поэта и священника, о которых шла речь в предыдущих
параграфах, при этом сохранялись и, возможно, воспринимались
даже еще более рельефно.
Красноречивое свидетельство описанных явлений мы находим
в «Приказе моему привратнику» Державина (1808), в котором
он осмеивает своего однофамильца обер-священника армии и
флота И. С. Державина. Мы обнаруживаем здесь и
сакрализацию позиции поэта как сопоставленной и противопоставленной
позиции священника (Он обер-поп, я ктитор Муз, / Иль днесь
пресвитер их зовусь — III, 422), и сословное противостояние
(Мой дед мурза, его дед поп — III, 423), и различие
нравственных идеалов (Он молит небеса о мире, / Героев славлю я
на лире; / Он тайны сердца исповесть, / Скрывать я шашни
чту за честь — III, 423), и противоположность бытового
поведения (Он в рясе длинной и широкой; / Мой фрак кургуз и
полубокой. / Он в волосах, я гол главой — III, 422), и
сближение поэта с пророком (Одна мне рифма — древний На-
вин — III, 421). Для нас особенно существенно, что поэт здесь
и сопоставлен со священником, и противопоставлен ему; это
вскрывает двойственность позиции поэта, и именно эта
двойственность лежит, на наш взгляд, в основе анализируемых нами
поэтических кощунств.
212
VI. МЕХАНИЗМ КОЩУНСТВА
И ВНУТРИЛИТЕРАТУРНЫЙ БЫТ
Действительно, все вышеизложенное позволяет нам однозначно
определить характер большинства кощунств, встречаемых в
русской поэзии конца XVIII — начала XIX века. Кощунства
бывают разного рода: кощунства политические, отражающие
политическое и идеологическое противостояние, кощунства
магические, представляющие собой обращение за помощью к
нечистой силе (таковы кощунства допетровской Руси), и, наконец,
кощунства карнавальные, возникающие в результате отмены
запретов и установлений, свойственных каждодневной
регламентированной жизни. Литературные кощунства изучаемого периода
суть по преимуществу кощунства карнавальные. В
общесемиотическом плане их появление можно связать со следующим
культурным механизмом.
Представим себе, что некоторая культурная группа сознает,
что определенная сфера ее деятельности жестко нормирована,
что в этой сфере она выступает не как личность, но лишь как
заполнитель регламентированных функциональных схем, причем
регламентируется внешнее (относительно других культурно-
социальных групп) ее функционирование. Такое сознание весьма
часто, например, у членов правящего дома в отношении их
протокольной деятельности. Когда имеется такое сознание, данная
культурная группа из общей массы своего поведения,
оставшегося нерегламентированным, стремится выделить еще одну сферу,
теперь уже поведения внутреннего (внутри группы), нормы
которого будут вывернутыми наизнанку (пародированными)
нормами первой сферы. Легко видеть, что описанный механизм по
существу близок механизму карнавализации, как его описывает
М. Бахтин (1965). Нужно, однако, помнить, что условием
реализации данного механизма является не двойственность
поведенческих функций, но двойственность сознания, когда
партикулярная личность начинает сознаваться как противопоставленная
внешней роли, которую она, эта личность, играет48. Такая
двойственность сознания есть у поэтов интересующего нас периода;
поскольку же нормы их внешнего поведения (первой сферы)
сознаются как сакрализованные (пророческий дар поэта), и при
этом даже и в церковном смысле (сходство деятельности
священника и поэта), пародирующие их нормы внутреннего
поведения оказываются кощунственными49.
Сакрализация поэта относилась к внешней сфере его
деятельности, к стихам, заведомо издаваемым и, следовательно, об-
213
ращенным к читателю, стоявшему вне литературного круга, к
публичному чтению этих стихов, для которого характерна
театральная поза и торжественный жест, даже к литературному
«юродству» (Костров) как черте, формирующей вовне
литературную личность гения. Карнавализованная сфера принадлежит
внутреннему поведению, то есть, в нашем случае, поведению
внутрилитературному. Эта внутренняя область включает и внут-
рилитературный быт, и внутрилитературную словесность.
Занимающий нас период — это период литературных
обществ и дружеских литературных кружков; их внутренний
обиход дает обильный материал для иллюстрации нашей точки
зрения. Наиболее ярким примером является безусловно «Арзамас».
Само образование «Арзамаса» пародирует устроение
христианской общины: «Шесть присутствовавших братии торжественно
отреклись от имен своих, дабы означить тем преобразование
свое из ветхих арзамасцев <...> в новых, очистившихся чрез
потоп Липецкий. И все приняли на себя имена мученических
баллад» (Боровкова-Майкова, 1933, 82) ;50 и далее (83):
«Положено признавать «Арзамасом» всякое место, на коем
будет находиться несколько членов налицо» (пародия на Мф. 18,
20); само название «Нового Арзамаса» пародирует «Новый
Иерусалим» Св. Писания (Ап. 21, 2) и богослужения.
Однако кощунства «Арзамаса» двуплановы. С одной
стороны, они инвертируют внешнее сакрализованное положение поэта
(в том числе и поэта — члена «Арзамаса») — эта сторона как
раз иллюстрируется приведенными выше цитатами. С другой
стороны, они направлены против «Беседы». Как отмечает Д. Д.
Благой, «большинство издевательских арзамасских речей,
посвященных отпеванию «живых покойников» «Беседы», по
форме своей являются прямой и весьма характерной пародией
библейских текстов, молитв, проповедей и т. п.» (Боровкова-
Майкова, 1933, 9—10). Кощунства, направленные на
«Беседу», характерны в двух отношениях. Во-первых, они
связывают употребление церковнославянизмов с церковностью,
демонстрируя, таким образом, то самое отношение к
церковнославянскому как к сословной собственности духовенства, о котором
мы говорили выше. Во-вторых, они представляют литературное
общество, «Беседу», как церковную общину и, таким образом, с
еще одной стороны карнавализируют сферу внутрилитературного
быта.
Представляется очевидным, что «церковность» «Беседы»
чисто условна, внутрилитературна, будучи не ее реальной
характеристикой, а чертой ее литературной личности (в понимании Ты-
214
нянова). Как мы видели, духовенство относилось отнюдь не
доброжелательно к духовному витийству светских лиц, так что
даже у такого писателя, как кн. Шихматов, вряд ли могло быть
органическое ощущение своей церковности. Тем более странно
было бы говорить о подлинной церковности других членов
«Беседы»: Державина, Крылова, Гнедича, Марина и, наконец,
кн. Д. П. Горчакова, которому — в силу известной его
репутации — Пушкин пытался приписать свою «Гавриилиаду». Таким
образом, «церковность» «Беседы» входит в ее литературную
роль — отчасти навязанную ей «Арзамасом», отчасти принятую
на себя добровольно.
Эта литературная «церковность» отражает, видимо, и
сакрализацию поэтической деятельности, которая сказывается и в
торжественном характере заседаний «Беседы». Эти заседания
были публичными и относились к внешней сфере, поэтому на
них тщетно было бы ожидать той кощунственной карнавализа-
ции, которая была свойственна заседаниям «Арзамаса». Однако
при всей официозной серьезности «Беседа» оставалась
литературным обществом, и в ее внутреннем обиходе мы находим (при
всей скудости документов) знакомые черты карнавальной
инверсии. Мы имеем в виду писанный рукою Державина
«Циркулярный ордер от избранного старосты к цеховым Пар-
насса» (VI, 404): «Будучи вчерась избран в отцы посаженые
молодого стихотворца, предписываю вам немедленно: на свадьбу
его от общества нашего сочинить эпиталаму». Далее дается
программа эпиталамы, в которой, в частности, должно было
быть написано: «4) что будучи избран я старостою поэтов, по
вдохновению свыше усмотрел в сей Музе младую супругу
поэта, поднес хлеб и соль новобрачным, пожелал им всех благ, и
на молитву мою снеслось на них благословение Божие, как
сходит с небес роса на цветы младые; 5) что мы уже все видим
предбудущее: дом их наполнился изобилием и лона их, подобно
авраамлим, — чадами, как небо звездами»51. Итак, если в
«Арзамасе» пародируют обряд крещения (напр., при приеме
В. Л. Пушкина), то в «Беседе» пародируют обряд венчания —
стоит ли при этом говорить о реальной церковности
последней?52
Между литературным бытом и внутрилитературной
словесностью переходный пласт образует внутрилитературная переписка.
Примеры кощунств из нее уже приводились выше в § 1. Они
могут быть многократно умножены. Можно указать хотя бы на
письма H. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву (1866, 19, 69,
89, 154, 214), на литературную переписку В. В. Капниста
215
(1960, 454, 456, 484), на переписку П. А. Вяземского и А. И.
Тургенева (Остафьевский архив, 1, 3, 13, 20, 27, 32, 33, 37,
41, 44, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 69 — и т. д. во всех томах
через каждые несколько страниц), на переписку А. С. Пушкина и
т. д. Знаменательно, что в весьма обширной переписке
Державина кощунства практически ограничены литературными
письмами — к В. В. Капнисту, И. И. Дмитриеву, Н. А. Львову и
от них.
Описанный выше механизм, который делает кощунство
предметом литературного быта, действует и в самой
словесности. По словам Ю. М. Лотмана (1971, 26), «литература,
стремящаяся к строгой нормализации, нуждается в отверженной,
неофициальной словесности и сама ее создает». Вся поэзия
разделяется на произведения «верхнего» и «нижнего этажа»
(Лотман, 1971, 29—32), причем поэзия «нижнего этажа»
состоит преимущественно из стихов внутрилитературных как по
своему содержанию, так и по своей функции. Теперь наконец
мы можем определить жанровую специфику текстов (см. § 2),
для которых характерны кощунства, — это «внутрилитератур-
ные жанры» («фамильярные» жанры, по выражению Лотмана,
1971, 29), стихи, в которых речь идет о стихах и которые
адресуются по большей части литераторам. Обратимся к перечню,
данному в § 2.
Совершенно очевиден внутрилитературный характер
стихотворной пародии и дружеского литературного послания. Внутри-
литературную функцию выполняют сатиры Д. П. Горчакова и
И. М. Долгорукова, и еще в большей степени такие стихи, как
«Опасный сосед» В. Л. Пушкина, «Дом сумасшедших»
Воейкова, «Видение» и «Певец» Батюшкова, «Тень Фонвизина»
Пушкина. Возможно, что в «нижний этаж» зачислялись
первоначально и медитации кн. Долгорукова. Цитированная в начале
статьи песня Дельвига (1934, 395) распевалась в дружеском
(прежде всего литераторском) кругу и, видимо, была для него и
написана. Наконец, из перечисленных эпиграмм большинство
порождено литературной полемикой и принадлежит ей.
Отмеченные кощунства придают всей внутрилитературной
словесности карнавализованный характер, при этом
кощунство — лишь один из показателей такого статуса литературы
«нижнего этажа», карнавальность которой вырастает в целую
систему (с маскарадом, балаганом и т. п. — ср. «Опасного
соседа» В. Л. Пушкина и т. д.). Эта карнавальность сложной
сакрализованной системе высокой литературы противопоставляет
целую систему десакрализации, органической частью которой
216
являются и разобранные кощунства. Не разбирая в целом эту
систему, образуемую различными приемами снижения, мы
можем указать лишь на один момент, имеющий прямое отношение
к кощунству, — это пародийная «церковь» поэтов,
поклоняющаяся Фебу.
Из записки Булгарина, процитированной выше (§5), мы
знаем, что «ради Бога» отнюдь не было нейтральным
выражением, лишенным религиозных коннотаций. Поэтому в
выражении «ради Феба» Феб оказывается пародийным богом — не
просто Аполлоном классицизма, но кощунственным замещением
христианского Божества. «Ежели хочешь, чтобы я выдал третью
книжку Аонид, то пришли (ради Аполлона!) собранные тобою
стихи», — пишет Карамзин Дмитриеву (1866, 105). «Пришли
ее мне, Феба ради, / И награди тебя Амур», — пишет
Пушкин Баратынскому (И, 237); «Но ради Феба, мой Плетнев, /
Когда ж ты будешь свой издатель», — пишет он Плетневу (И,
337). Прибавим к этому из Карамзина (1866, 69): «Поручаю
тебя богу Фебу и всем добрым богам». Из Жуковского (III,
19): «Перед блаженным Аполлоном / Поставлю свечку я за
вас!» Из Батюшкова (1934, 119): «Да будет Феб с тобою».
Из Вяземского (1935, 162): «Пусть Феб умножит...» Из
Баратынского (1957, 82): «Но помолися Фебу прежде». И,
наконец, из Пушкина: «Христос воскрес, питомец Феба» (I, 181) и
«Христос и верный Купидон» (И, 57). Если вспомнить еще
«La Pucelle» Вольтера в качестве «святой Библии Харит»,
картина получается весьма последовательной, и карнавальный мир
предстает во всей своей красочности.
VII. ИТОГИ
Все сказанное, как кажется, достаточно объясняет
распространение кощунств в русской поэзии конца XVIII — начала XIX
века. Отказываясь от гипотезы антиклерикального
происхождения кощунств и принимая во внимание появление кощунств в
стихотворной пародии, мы приходим к выводу о внутрилитера-
турной функции поэтического кощунства. Кощунство характерно
лишь для ограниченного числа жанров, которые по функции
своей внутрилитературны, «эзотеричны». Это соответствует
сакрализации официальных «экзотерических» жанров, прежде всего
оды, которая во многих отношениях подобна церковной
проповеди. От сакрализации стихов прямой путь ведет к
сакрализации поэта. Когда, после державинской реформы, поэт начинает
217
говорить как частное лицо (а не от лица Высшего Разума,
равно доступного поэту и священнику), а поэтическому
вдохновению — в результате усвоения предромантических теорий —
придается характер откровения, возникает спор между поэтами
и духовенством о праве на духовное красноречие и на самые
церковнославянские выражения, этому красноречию
свойственные (позиция духовенства к этому времени тоже изменяется).
Экзотерическая сакрализация поэта вступает в противоречие с
его ощущением себя как светского человека, и эта
двойственность сознания приводит к кощунственному пародированию
внешних функций во внутрилитературном обиходе. Таким
образом, русские поэтические кощунства суть кощунства
карнавальные, причем карнавализации внутрилитературной словесности
соответствует карнавализация внутрилитературного быта.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 При этом следует иметь в виду, что соотнесенность с библейско-
литургическими текстами ощущается в этот период и там, где мы,
видимо, не были бы склонны ее находить. Поэтому совокупность
примеров «каламбурного» использования таких текстов значительно больше,
чем это представляется на первый взгляд. Так, в «Благонамеренном»
за 1823 год было напечатано направленное против П. А. Катенина
«Объявление о стихотворениях моего приятеля NN» — «В Москве, в
Петербурге не знают приятеля моего. Ни его баллад, ни его песен, ни
его комедий, ни его трагедий». В письме А. Е. Измайлова,
рассказывающем о прохождении этого объявления через цензуру, говорится:
«Не вымарано ничего, только местоимение его переставлено с зада на
перед, чтобы неблагомыслящие не сочли за пародию X заповеди: ни
вола его, ни осла его, ни рабыни его и проч.» (См.: Левкович,
1978, 157, 191). Для соотнесения, таким образом, оказывается
достаточной постпозиция местоимения.
2 Можно даже думать, что с середины XVIII века начинается
некоторое движение возвращения к этой норме — сначала довольно
слабое, выразившееся в практическом отказе от крайностей Духовного
Регламента и иных нововведений Прокоповича и его
единомышленников, а к середине XIX века уже вполне ярко сказавшееся в
деятельности, например, преосв. Игнатия Брянчанинова и монахов Оптиной
пустыни. Существованием этой нормы объясняется, на наш взгляд, и
процесс сакрализации личности монарха, осуществляющийся в
XVIII — начале XIX века. Отнесение к правящему монарху всей
библейской и экклезиологической символики царства, чрезвычайно
характерное для проповеди, оды, похвального и приветственного
слова этого времени, воспринимается в рамках данной нормы не
как конвенциональное, а как безусловное, то есть отождествляющее
218
монарха с Христом и ветхозаветными святыми, Христа
прообразующими.
3 Ниже будет указан ряд исключений из этого положения,
связанных с пародированием штампов поэтического языка высокого стиля,
имеющих в основании библейские или литургические выражения.
4 Ср. многочисленные религиозные стихи Державина или описание
религиозного восторга, пережитого им при написании оды «Бог» (III,
594). Ср. также обширную переписку Капниста с женой, исполненную
глубокого пиетизма (Капнист, 1960).
5 И здесь западный антиклерикализм опирается на длительную
традицию — от гиббелинов до французских противников ультрамонтанства.
Отметим для сравнения, что в Англии, где подобные проблемы
относительно англиканской церкви не стоят (до начала XIX в., когда защита
Высокой церкви соединяется с торийской политикой), нет ни традиции
антиклерикальной литературы (есть специально антипапистская и
специально антипуританская), ни традиции литературного кощунства.
6 Впрочем, есть случаи (см.: Владимирский-Буданов, 1874, 232),
когда лица духовного сословия сами просят о переводе их в
экономические крестьяне, что еще раз показывает, сколь незавидным было
положение духовенства.
7 Характерно, например, что для заведенных Екатериной народных
училищ учебники Закона Божиего пишутся светским лицом
(Янковичем), и светские же лица Закон Божий в этих училищах
преподают — см.: Толстой, 1886, 102.
8 Основание для антиклерикализма дает, естественно, и положение
церкви в рамках позднейшей теории «самодержавия, православия,
народности». Характерно, однако, что император Николай в своем
стремлении к консолидации всех общественных групп империи находит
необходимым обзавестись подобной теорией. Ретроспективно это
означает, что до николаевских преобразований православие было лишь
второстепенным атрибутом самодержавной системы, не дающим
основания для политического антиклерикализма.
9 Так, уже П. В. Анненков (1874, 146) полагает, что
«Гавриилиада» была написана «в виде ответа на корыстное ханжество
клерикальной партии», причем одним из главных деятелей этой партии
оказывается кн. А. Н. Голицын. Как хорошо известно, этот
схематизирующий подход получил в дальнейшем широкое развитие.
10 Правда, в «Фелице» (I, 139) мы находим такие строки, как
«За Библией, зевая, сплю» (о кн. А. Вяземском) и «Кто сколько
мудростью ни знатен, / Но всякий человек есть ложь. / Не ходим
света мы путями...» Первый пример, однако, вряд ли можно счесть
кощунством, скорее это просто описание «развратного» поведения. Во
втором примере, где вторая строка есть реминисценция Пс. 115, 2, а
третья восходит к ряду литургических выражений, мы скорее можем
говорить об элементах дидактической оды, в которой такие аллюзии
обычны и уместны.
11 И здесь можно видеть существенное отличие от французской
поэзии, в которой любовная тема сопрягается с кощунством довольно
219
часто — от Шолье (а при другой перспективе от вагантов),
писавшего, что «Le vrai paradis où j'aspire, C'est d'être toujour amoureux», до
Парни.
12 На это указывает наличие в ней парафраз собственных держа -
винских од. Например, ст. 201 — 203 «Похвалы комару» (О, велик
и ты, Комар, / Общей цепи всех твореньев / Не последний ты из
звеньев) можно соотнести со стихом оды «Бог»: «И цепь существ
связал всех мной» (I, 201).
13 Ср.: Деян. 9, 18: A абіе отпадоша отъ очію его яко чешуя,
прозрѣ же абіе. Канон Вознесению, п. 1, Катавасия: тину бо отрясъ
очесе умнаго, видить сущаго. Пародийное (и кощунственное)
использование того же образа есть и во второй оде Баркова, ст. 78
(барковские оды совмещают в себе черты жанровой и стилевой
пародии).
14 Исключением является, видимо, ода И. К. Голеневского графу
А. Г. Разумовскому — «Ея императорскаго величества лейбкампании
капитану-поручику обер-егермейстеру генералу аншефу <...> графу
Алексею Григорьевичу Разумовскому всеусерднейшее поздравление,
которое приносится в день тезоименитства его в приветственной оде
чрез всенижайшаго слугу и искренняйшаго доброжелателя Ивана Го-
леневскаго. 1751 марта 17 дня», СПб., 1751. Это исключение,
однако, лишь подтверждает правило, поскольку единственный
партикулярный адресат оды оказывается при этом тайным мужем императрицы.
15 Ср. «письма» Ломоносова И. И. Шувалову и Г. Г. Орлову.
Ломоносов относит этот жанр к «среднему штилю» (VII, 589);
отличие его от оды очевидно: ода пишется четырехстопным ямбом (реже
хореем), епистола — александрийским стихом.
16 Мы не говорим здесь о таких произведениях, как «Ода о суете
мира, писанная к А. П. Сумарокову» или «Ода о вкусе А. П.
Сумарокова» В. И. Майкова. Эти оды входят в другой разряд, именно в
разряд нравственно-дидактических од. Сам по себе этот разряд,
основанный на европейских образцах и укорененный в России
Херасковым, тоже имеет разрушительный характер, но разрушает он другую
дихотомию (торжественная ода — монарху, духовная ода — Богу),
соответствовавшую параллелизму императора и Бога в культуре XVIII
века.
17 Рамки статьи не позволяют нам подробно разобрать этот
процесс. Рассмотрим поэтому для иллюстрации лишь историю «райского
крина». Первые появления этого образа находим в первых одах
Ломоносова: «На взятие Хотина» (Россия, как прекрасный крин, /
Цветет под Анниной державой — VIII, 29) и «Первые трофеи»
(Тобою наш Российский свет / Во всех землях, как крин, цветет —
VIII, 51). И. И. Солосин (1913, 246 — 247) связывает его с Исх.
35, 2. Тот же образ находим в одах Сумарокова, напр., Ода VIII
(Цветет приятность райска крина, / Взошла на трон Екатерина — II,
37), Ода IX (Подобье види райску крину... / Премудрую
Екатерину — II, 46) и т. д. (ср.: Маслович, 1816, 25). Тот же образ
многократно повторяется в одах Державина, Николева и др. (для
последнего примера см. Арзуманова, 1965, 74). Отсюда он проникает в другие
220
жанры (см., напр., в X песни «Россиады» Хераскова: «Парнасские
цветы, как благовонны крины, / Цветут под сению щедрот
Екатерины»). Клишированность этого образа была осознана очень рано и
неоднократно обыгрывалась. Я. Б. Княжнин (1784) писал: «Они
всегда Екатерину... / Уподобляли райску крину». То же находим и у
Дмитриева в «Гимне восторгу» (И вмиг стремглав падет в долину, /
Где нет цветов, окроме крину — 1967, 283) и в «Чужом толке»
(...зари багряны персты, / И райский крин, и Феб, и небеса
отверсты! — 1967, 114). Эту традицию продолжает А. Н. Нахимов в
«Стихах по прочтении Сумарокова» (В творениях его у ног
Екатерины / Цветут для рифмы райски крины — 1816, 79). Наконец, в
1823 году П. А. Вяземский пишет: «Но если бы кто у нас сказал,
что за исключением первенствующих лириков, язык лирический
составлен из райских кринов, <...> то доказал бы, что он с
прилежанием вникнул в тайну многих наших лириков» (1878, 123).
Представляется весьма правдоподобным, что при длительной истории этого образа к
концу XVIII века его библейский генезис уже не воспринимался.
18 Опять же, мы можем отметить здесь некоторые
западноевропейские прецеденты, напр., когда Буало в «L'art poétique» пишет, что
ода «entretient dans ses vers commerce avec les dieux» (1832, 72). Речь
идет, конечно, о языческих богах, так что и сакрализация здесь может
подразумеваться только игровая, внерелигиозная. В русском
культурном (и языковом) контексте такая псевдосакрализация не может быть
выдержана последовательно; она невольно переходит в сакрализацию
религиозного характера. Это видно, например, по оде Сумарокова, где
Аполлон «вещает» библеизмами [II, 53 — «Блаженныя настали веки.
/ Млеком текут и медом реки»; см.: Иов 20, 17 (в слав, и греч.
Библии выражение отсутствует, но оно есть в лат., нем., фр. Библии
и могло быть доступно авторам как непосредственно из этих
переводов, так и через русскую духовную литературу), ср. еще: Исх. 3, 8;
13, 5; Втор. 26, 9; Акафист Божией Матери, икос 6; и т. д. —
выражение является одическим клише].
" L.M., например, замечание Л. Пумпянского (1935, 105) об
образе, заимствованном из проповедей Ломоносовым. А. Галахов (1863,
519) указывает на влияние проповедей Анастасия Братановского на
оды Державина «Тление и нетление» и «Бессмертные души». Об
этом же говорит и М. Сухомлинов (1874, 246 — 249). Списки
проповедей Анастасия сохранились в державинском собрании рукописей
(Отчет, 1892, 43 — 46).
Отмечалось и общее сходство оды и проповеди, однако без
указаний на то, в чем оно состоит. Рассматривая оды В. И. Майкова, Л.
Н. Майков писал: «По преобладанию риторического характера в одах
Майкова, название «похвального слова в стихах» вполне подходит к
ним, как и к другим подобным произведениям этого времени» (1889,
290). Соотношение это не является русской спецификой: Лагарп,
например, указывает на заимствование Вольтера (в его поэзии) из
проповедей Массильона (1813, 98 — 101).
20 Правда, оды не всегда писались на определенные
«государственные оказии» — ср. Оду «за оказанную ему высочайшую ми-
221
лость» Ломоносова (VIII, 394), «Фелицу», «Благодарность Фелице»,
«Видение мурзы», «Изображение Фелицы» Державина. Однако
именно оды на государственные оказии являются стандартными
представителями жанра. Характерно, что Державин даже в период
радикально-реформаторского отношения к оде придает одам на штатные
оказии куда более каноническую форму, чем другим одам. Достаточно
сравнить оды на Шведский мир, на взятие Измаила, на взятие
Варшавы с перечисленными выше произведениями.
21 Очень показательна в этом смысле запись в «Записках о
словесности» гр. Д. И. Хвостова (1938, 376): «Я сочинил оду на
освящение Казанския церкви. Амвросий митрополит сказал князю
Голицыну, что, прочитав прежде мою оду, не говорил сам проповеди
затем, что нового нечего было сказать».
22 Характерно, что к «Гимну лиро-эпическому», представляющему
собой, по замечанию Пушкина, «статей библейских преложенье» (I,
162), Державин делает ссылки на Библию (III, 137 — 164) — точно
так же, как они делаются при писании и печатании проповедей.
23 Замечательно, что сумароковская критика «витийственного»
духовного красноречия («О российском духовном красноречии» — VI)
полностью параллельна его критике принципов ломоносовской поэтики.
24 См. это членение у автора, бывшего образцом еще для Симеона
Полоцкого — Иоанникия Галятовского (1665, л. 513 — 51 Зоб.):
«экзордиум, початок», «наррация, повесть» и «конклюзия,
заключение».
25 О Ломоносове в этом аспекте см.: Солосин, 1913, 282; сводку
примеров дает Г. А. Гуковский, разбирая оду Крылова 1790 года
(1940, 161). Их можно многократно умножить. Знаменательно, что
молитвенное заключение переходит даже в субституирующую оду епи-
столу (см. Епистолу Хераскова на день коронования, «Свободные
Часы», с. 544).
26 На это указывает тот же Иоанникий Галятовский: «можешъ
Конклюзію въ Казанью своемъ учинити, обернувшися и мовячи до
Христа, албо до Пречистой Дѣвы, албо до иншого святого...» (1665,
л. 526).
27 Параллелизму оды и проповеди не противоречит и столь
характерное для оды XVIII века смешение языческой и христианской
терминологии. Характеризуя барокко в целом, оно имеет место и в
гомилетической литературе XVIII века, например, у того же Яворского
(«Духом Марсовым дыхаете, непреодоленнии кавалери Россий-
стии» — 1805, 156) или у Амвросия Юшкевича («Сия-то героиня, о
которой победительной силе Марс по всей поднебесной громко
проповедует» — об имп. Анне Иоанновне см.: Внутренний быт, 1880,
259).
28 Ср. особую заботу Тредиаковского (1976, 7), Сумарокова
(1774, 49) и Державина (IX, 240) о передаче смысла еврейского
текста. Сумароков (1774, 51 — 52) и Тредиаковский (1976, 7) говорят
при этом о неудовлетворительности славянского перевода.
29 Эти факты показывают, кстати, что поэты, по крайней мере
пассивно, владели гомилетическим «языком». Отсюда становится по-
222
нятным, как — практически — мог возникнуть параллелизм оды и
проповеди, о котором говорилось выше. Этот параллелизм мог
опираться и на определенную традицию. Изучая творчество русских сил-
лабиков, А. М. Панченко пришел к выводу, что «проповедь и поэзия
обнаруживали тенденцию к широкому взаимовлиянию и составляли
единый комплекс» (1973, 233).
30 См. еще стихи Пушкина Мордвинову (III, 46), очень точно,
воспроизводящие систему поэтической образности XVIII века — «Ты
лиру оправдал, ты ввек не изменил / Надеждам вещего пиита. Как
славно ты сдержал пророчество его!» (речь идет об оде В. П.
Петрова «Н. С. Мордвинову» 1796 года). Ср. в этой оде у Петрова (II,
190): «Пророчит так Парнас; / И сбывчив Божий глас». В то же
время, издеваясь над Сумароковым, Петров называет его
«наперсником истины и божьим собеседником» (III, 157) и далее от его
имени восклицает: «От Аполлона я пророком быть помазан» (III, 159).
Когда Белинский говорит о «пророческом чувстве» Державина (1907,
164), это выражение, видимо, уже не имеет реального значения.
31 Ср. у Ж.-Б. Руссо (1823, 89): «Mais quel souffle divin
m'enflamme? D'où naît cette soudain horreur? Un Dieu vient échauffer
mon ame D'une prophétique fureur. Loin d'ici, profane vulgaire! Apollon
m'inspire et m'éclaire» («Какое божественное дыхание меня
воспламеняет? Откуда рождается этот внезапный страх. Бог оживил мою душу
пророческим восторгом. Прочь отсюда, невежественная чернь!
Аполлон вдохновляет и озаряет меня!»), ср. у него же: 1823, 188; 269 —
270 (verve prophétique). Не идет, видимо, далее этого и А. Кантемир
в «Письмах к стихам своим» (Буде пророчества дух служит мне хоть
мало — 1956, 217).
32 Точно так же, как длительная традиция называния Екатерины II
Минервой приводит в конце к сооружению посвященного ей
языческого храма (см.: Джунковский, 1973), уподобление Петра I Христу
побуждает инвалида Кириллова поклоняться портрету Петра как
иконе (Успенский, 1976, 289). Павел I, следуя Петру, назначает свой
торжественный въезд в Москву для коронации на Вербное
Воскресение (Вход Господень в Иерусалим; Петр в этот же день въезжал в
Москву после Полтавы) и служит литургию. Во всех этих случаях
естественно видеть переинтерпретацию условного в своем генезисе
уподобления в качестве безусловного тождества.
33 Труднее понять, откуда — если не из связей указанных двух
стихотворений — возникла уверенность в том, что в «Пророке» речь
идет именно о «поэте с душой пророка» (Лернер, 1910, VII; ср.:
Сумцов, 1900, 5 — 28). Насколько этот смысл не следует из текста,
ясно из того, что Н. И. Черняев (1898) пытался, хотя и безуспешно,
показать, что речь здесь идет о Магомете. Для того чтобы считать,
что «Пророк» состоит «в органической связи с пушкинской теорией
творчества» (Лернер, 1910, VII), надо сначала понять, какова роль
библейских ассоциаций в самой этой теории.
Еще один характерный пример реализации «жидовской мысли
воспевать Грецию славяно-русскими стихами, целиком взятыми из
Иеремия» (Пушкин, XIII, 45 — о стихах Кюхельбекера «Пророчество»)
223
дает державинский «Лебедь» (II, 501), стихи, параллельные
«Памятнику» (речь идет о бессмертии поэта) и также переложенные
из Горация. 9-я строфа читается: «Вот тот летит, что, строя лиру,
Языком сердца говорил И, проповедуя мир міру, Себя всех счастьем
веселил». Фразеологизм «мир міру» (слав, «мир мірови») является
явной литургической реминисценцией (ср. прежде всего Великую Ек-
тению, имеется и в других богослужебных текстах), которой,
естественно, в оде Горация ничего не соответствует.
34 В начале русского стихотворства (Приказная школа)
рифмованная речь воспринималась, видимо, как одно из престижных книжни-
ческих умений — наряду с различными видами тайнописи,
употреблением глаголицы и т. д. (см.: Сперанский, 1929). Силлабическая
поэзия (от Симеона Полоцкого и далее) усваивает эстетические идеи
барокко, в частности уподобление поэта Богу и придание поэтической
деятельности характера нравственной заслуги. Однако уподобление
Богу остается чисто аллегорическим, поскольку восприятие его у самих
поэтов четко ориентировано на западные образцы (в контексте
русской культуры это уподобление безусловно кощунственно и вызывает
нападки Аввакума). Также и по характеру нравственной заслуги
поэзия не отличается от других ученых сфер деятельности книжного
человека. Поэтическая истинность есть истинность учености, и способ ее
получения — тот же ученый труд (подробный разбор всех
относящихся сюда обстоятельств см. у А. М. Панченко, 1973). Собственно
поэтическое вдохновение не получает в этой концепции никакого
места.
35 И точка зрения Л. И. Кулаковой (1969, 29), считающей
«поэтический восторг» лишь одной из риторических фигур, и
критикуемая ею точка зрения И. 3. Сермана (1966. 200), видящего в
«восторге» концепцию божественного наития как источника поэзии,
представляются нам крайностями. «Восторг» — более чем
риторическая фигура, это характеристика всего стиля, характеристика той
позиции, с которой поэт должен «вещать», но это отнюдь не «наитие», а
рационально выбранная поза.
36 Характерен конец оды «На смерть Мещерского», первого
произведения, обозначившего державинскую реформу. Если, как мы
видели, обычное обращение в конце оды направлено к Богу, то
Державин обращается здесь к самому себе. «Такой оборот оды, — замечает
Я.К. Грот, — был для того времени и нов и смел» (Державин, VIII,
287).
37 Те же вопросы возникали, правда, и у немцев; и у них, в
частности, поэтический гений Моисея отождествлялся с поэтическим
гением Оссиана; в Германии, однако, это отождествление могло приводить
к рационалистической критике библейского текста (как результата
поэтической фантазии, а не как безусловно боговдохновенного
повествования — ср. в ранних трудах Гердера), в то время как в России
единственно возможным следствием было зачисление поэта в «чин
пророков». Впрочем, крайне интересный вопрос о влиянии немецких
работ о библейской поэзии (Гердера, Мендельсона и др.) на русские
представления о ней и на опыты стихотворных переложений библейс-
224
ких текстов практически не изучен, и поэтому было бы
преждевременно делать какие-нибудь решительные выводы.
38 По видимости, первое стихотворное выражение этой концепции
дано у Н. М. Карамзина в его «Поэзии» (1787 — 1791 гг.). Здесь
есть «святая поэзия», «глас <...> поэта <...> Божий глас»,
«Клопшток <...> на небесах <...> был тайнам научен», классическая
последовательность боговдохновенных поэтов: Давид, Соломон,
Орфей, Гомер, Вергилий, Оссиан и т. д. В этих стихах отразились,
видимо, как современные Карамзину немецкие теории, так и
непосредственно литературные воззрения московских масонов (указание Ю.
М. Лотмана см.: Карамзин, 1966, 24).
39 «Двадцать лет пред сим» — это 1824 год, год фактического
закрытия Библейского Общества, в деятельности которого митр.
Филарет принимал самое активное участие, и победы ортодоксии над
мистицизмом. Смешение «небесного с адским» началось значительно
ранее, но возможно, что лишь после 1824 года у митр. Филарета
возникло сознательно отрицательное отношение к нему. Сам принцип,
столь красноречиво высказанный московским святителем, сложился
безусловно много раньше.
40 Здесь и далее мы будем пользоваться этим делением
литературного мира рассматриваемого периода, хотя вполне сознаем как
условность самих названий, так и приблизительность и упрощенность такого
членения. Для наших ограниченных целей большая точность вряд ли
нужна.
41 Примеры такой генеалогии из Карамзина и Державина уже
указывались выше. Их можно было бы умножить. См. список
«поэтов» «Произшествии» С. Боброва (Лотман и Успенский, 1975,
258): «Богомил [«языческий первосвященник» — с. 208], Иаким,
Нестор, Могила, Туптало, Прокопович, Яворский, Кантемир,
Ломоносов». Гр. Д. И. Хвостов, обвинявший Державина в «смешении
Моисея и царя Давида с Пиндаром» (1938, 369), сам мог при случае
поставить в один ряд «царя Давида, Исайю пророка, Гомера и
Вергилия» (Державин, VI, 325). Красноречивый пример объединения
христианской и языческой поэзии находим в письме Державина к митр.
Амвросию от 24. II. 1809: «Поэзия у язычников в древности
почиталась языком богов. Применяя ее к сему в православии, может она,
кажется мне, с приличностию достоинству ее назваться гласом Духа
святого...» (VI, 401). Интересно отметить, что мнение о наличии
откровенных (христианских) истин у древних поэтов (Гомера, Гезиода)
характерно для ряда доникейских греческих отцов (напр., Климента
Александрийского — см.: Даниэлу, 1961, 45 — 100), находивших в
образах Гомера прообразы (тияоі) христианской истории и мистики.
Возможно, что между этими мнениями и воззрениями русских поэтов
существует опосредствованная преемственность.
42 В записке Ф. Булгарина «О цензуре в России и о
книгопечатании вообще», представленной имп. Николаю (1826 г.), говорится:
«Что же делала цензура под влиянием мистиков и их противников?
Распространяя вредные для чистой веры книги, она истребляла из
словесности только одни слова и выражения, освященные временем и
8 Анти-мир русской культуры 225
употреблением. Вот для образчика несколько выражений, не
позволенных нашей цензурою, как оскорбительных для веры: отечественное
небо, небесный взгляд, ангельская улыбка, божественный Платон,
ради Бога, ей-Богу, Бог одарил его, он вечно занят был охотой и т.
п. Все подчеркнутые здесь слова запрещены цензурою, и словесность,
а особенно поэзия совершенно стеснены. Должно заметить, что даже
папская цензура позволяет сии выражения, чему служит
доказательством нынешняя итальянская поэзия» (цит. по: Лемке, 1904, 380).
43 В самом деле, те выражения, которые одиозны для духовенства
начала XIX века, мы находим и в поэзии середины XVIII века,
причем никакой реакции на них тогдашнего духовенства не
засвидетельствовано. Так, находим, например, «благодать» у Тредиаковского в
Песни 1730 года (1935, 119) и несколько раз в «Россиаде»
Хераскова (1961, 187, 237, 238), «небесны очи» (VIII, 766) и «божественны
науки» (VIII, 200) у Ломоносова.
44 Ср. очень четкое отражение противопоставления традиционного
и нового дворянского воспитания в первой редакции «Недоросля»
Фонвизина (Коровин, 1933, 256 — 258), где о знании псалтири,
часослова и церковного устава Добромыслов говорит: «Сие
представляется церковнослужителям, а ему надлежит то знать, как жить в свете,
быть полезным обществу и добрым слугою отечества». Характерно,
что в начале XIX века Д. Н. Свербеева, тогда мальчика, который
благодаря своему дядьке выучил наизусть Псалтирь и Евангелие,
возили по светским домам и показывали как диковинку (Свербеев,
1899, 42 — 43).
45 Такой взгляд был свойствен не только духовенству.
Церковнославянский предстает явно сословным жаргоном духовенства в
пародийном «Открытии в любви духовного человека» Н. Остолопова
(«Егда аз убо тя узрех, О ангел во плоти чистейший!» — см.:
«Поэты 1790 — 1810-х годов». Л., 1971, с. 614). Можно
напомнить, что дворяне этого времени, как правило, знали
церковнославянский лишь поверхностно.
46 Употребление «церковных» слов в любовной лирике могло — с
духовной точки зрения — связываться с эротической мистикой, спи-
ритуализацией плотской любви, восходящим в конечном счете к
гностическим ересям (ср. протесты севернофранцузского духовенства
против поэзии трубадуров). Эти опасения могли находить себе почву в
таких явлениях, как секта Татариновой и как вообще распространение
мистицизма с его частым утверждением, что Бог есть источник всякой
любви (см., напр., у Эккартсгаузена в книге «Бог есть любовь»).
47 Он пишет (1977, 20 — 21): «Мне очень не нравятся
сочинения: „Ода Бог", преложения Псалмов, все, начиная с преложений
Симеона Полоцкого, преложения из Иова Ломоносова, все, все
поэтические сочинения, заимствованные из Священного Писания и
религии, написанные писателями светскими. Под именем светского
разумею не того, кто одет во фрак, но кто водится мудрованием и духом
мира <...> „Оду Бог" слыхал я, с восторгом читывал один дюжий
барин после обеда, за которым он отлично накушивался и напивался.
Бывало, читает, и слюна брызжет изобильно на всех и на все, как
226
картечь из крупнокалиберного единорога... Приличное чтение после
сытного обеда! Верен, превелик восторг, производимый обилием
ростбифа и шампанского, поместившихся во чреве! Ода написана от
движения крови, — и мертвые занимаются украшением мертвецов своих!
Не терпит душа моя смрада этих сочинений! По мне, уже лучше
прочитать, с целию литературной), „Вадима», „Кавказского пленника",
„Переход через Рейни. Там светские поэты говорят о своем, — ив
своем роде прекрасно, удовлетворительно. Благовестив же Бога да
оставят эти мертвецы! Оно не их дело!» Еп. Игнатий при этом не
отвергает в принципе поэтической формы в духовной литературе; он и
сам пишет духовные стихи (см. их в: Брянчанинов, 1971, 234).
48 Отсюда сходство этой ситуации с театром с его
противопоставлением личности актера и его сценических ролей. И здесь опять же
эта двойственность сознания порождает карнавализованную сферу
внутритеатрального быта, внутритеатральной игры (с внутренними
ролями), пародирующей игру сценическую. Значимость этой театральной
модели для нашего периода во всем объеме его культурного быта
подчеркивается театрализацией обычного поведения в России этого
времени (ср. театрализованный характер Потемкинского праздника 1791
г., когда гости оказывались одновременно и актерами,
театрализованную проповедь митр. Платона и т. д. — вся проблема подробно
освещена у Ю. М. Лотмана, 1973).
49 Действие этого же самого механизма, приводящее к кощунствам,
мы можем наблюдать и во множестве других случаев. Мы можем
вспомнить, например, папу Льва X (Медичи), гуманистические вкусы
которого не могли не сознаваться как противоречащие официальным
функциям римского первосвященника; естественный результат —
кощунственное пародирование обрядов и Писания в интимной жизни
папского двора. Результатом того же процесса представляются также
инфантильные непристойности и обыгрывание церковных текстов в
семейной переписке Александра I, его братьев и сестер. В этой же
связи могут быть рассмотрены кощунственные анекдоты,
распространенные среди семинаристов (во всяком случае с середины XIX в.).
50 Ср. с прямой цитатой («Ныне, отложивше ветхого человека, в
нового облецемся») в «Надгробном слове С. П. Жихареву»
(Боровкова-Майкова, 1933, 100), ср.: Кол. 3, 9 — 10, Последование
св. крещения (и даждь претворитися въ ней крещаемому, во еже от-
ложити убо ветхаго человѣка, ...облещися же въ новаго, обновляемаго
по образу создавшаго его), молитву 9-го часа и др.
51 Ср. в Последовании венчания: «иже раба твоего авраама
благословивши», «и даждь има отъ росы небесныя свыше», «исполни домы
ихъ пшеницы, вина, и елеа, и всякія благостыни», «благослови я
господи боже нашъ», «возсіяютъ яко свѣтила на небеси», «да сподобить
васъ и обѣщанныхъ благъ воспріятія». Ср. еще слова Бога Аврааму
(Быт. 22, 17): «Воистину благословя благословлю тя, и умножая
умножу сѣмя твое, яко звѣзды небесныя». «Лоно авраамле» —
обозначение места блаженного успения (см. Лк. 16, 22), в данном контексте
представляющееся явным недоразумением, возникшим в результате дер-
жавинской контаминации (возможно, с Последованием погребения).
8* ггі
52 В этой перспективе становится вероятным, что к внутреннему
же обиходу «Беседы» (или ее части) относится известная пародия
Гнедича на Символ Веры («Символ веры в „Беседе" при вступлении
сотрудников. Верую во единого Шишкова, отца и вседержителя языка
Славеноваряжского...» и т. д. — см.: Боровкова-Майкова, 1933,
23—24).
БИБЛИОГРАФИЯ
Алексеев, 1972 — Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-
исторические исследования. Л., 1972.
Анненков, 1874 — Анненков П. А. С. Пушкин в Александровскую
эпоху. СПб., 1874.
Арзуманова, 1965 — Арзуманова М. А. Из истории литературно-
общественной борьбы 90-х годов XVIII в. // Вестник ЛГУ,
1965, № 20 (серия истории, языка и лит-ры).
Баратынский, 1957 — Баратынский Е. А. Поли. собр. стихотв. Л.,
1957.
Батюшков, 1934 — Батюшков К. Н. Сочинения. М.; Л., 1934.
Бахтин, 1965 — Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и ренессанса. М., 1965.
Белинский, 1907 — Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В XII т. Т.
VIII. СПб., 1907.
Боровкова-Майкова, 1933 — Арзамас и арзамасские протоколы. /
Под ред. М. С. Боровковой-Майковой. Л., 1933.
Брянчанинов, 1971 — Неизданные сочинения епископа Игнатия
(Брянчанинова). «Богословские труды». Т. V. М., 1971.
Брянчанинов, 1977 — Mgr. Ignace Briantchaninov. Lettres inédites. «Le
Messager». N. 121, 1977.
Буало, 1832 — Boileau Despréaux. Oeuvres complètes. T. H. Paris, 1832.
Виноградов, 1938 — Виноградов В. В. Очерки по истории русского
литературного языка XVII — XIX вв. Изд. 2-е. М., 1938.
Винокур, 1959 — Винокур Г. О. Русский литературный язык во
второй половине XVIII в. // В его кн.: Избранные работы по
русскому языку. М., 1959.
Владимирский-Буданов, 1874 — Владимирский-Буданов М.
Государство и народное образование в России XVIII-го века. Ч. I.
Ярославль, 1874.
Внутренний быт, 1880 — Внутренний быт Русского государства с
17-го октября 1740 года по 25-е ноября 1741 года, по
документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции.
Кн. первая. М., 1880.
Вяземский, 1878 — Кн. Вяземский П. А. Поли. собр. соч. Т. I. М.,
1878.
Вяземский, 1935 — Вяземский П. А. Избр. стихотв. М.; Л., 1935.
Галахов, 1863 — Галахов А. Д. История русской словесности,
древней и новой. Т. I. СПб., 1863.
228
Галятовский, 1665 — Галятовский Иоанникий. Ключ разумения.
Львов, 1665.
Гуковский, 1927 — Гуковский Г. А. Русская поэзия XVIII века. Л.,
1927.
Гуковский, 1936 — Гуковский Г. А. Очерки по истории литературы
XVIII века. М., 1936.
Гуковский, 1940 — Гуковский Г. А. Заметки о Крылове. «XVIII
век. Сб. 2». М.; А, 1940.
Даниэлу, 1961 — Daniélou J. Message évangelique et culture
hellénestique aux IIe et IIIe siècles. Tournai, 1961.
Дельвиг, 1934 — Дельвиг A. A. Поли. собр. соч. / Ред. и примеч.
Б. Томашевского. Л., 1934.
Державин, I — IX — Державин Г. Р. Сочинения. / С
объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. I — IX. СПб., 1864 —
1883.
Державин, 1933 — Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1933.
Джунковский, 1793 — Джунковский С. Александрова,
увеселительный сад в. к. Александра Павловича. СПб., 1793 (изд. 2-е —
Харьков, 1810).
Дмитриев, 1967 — Дмитриев И. И. Поли. собр. стихотв. Л., 1967.
Жуковский, I — XII — Жуковский В. А. Поли. собр. соч.: В 12 т.
СПб., 1902.
Ильвонен, 1914 — Ilvonen Е. Parodies de thèmes pieux dans la poésie
française du moyen âge. Helsingfors, 1914.
История, 1863 — Выписана История печатная о Петре Великом.
Собрание от Святого Писания о Антихристе. Чтения в Имп. Об-
ве Ист. и Древ. Росс, 1863, кн. I. Смесь, с. 52 — 71.
Кантемир, 1956 — Кантемир А. Собр. стихотв. Л., 1956.
Капнист, 1960 — Капнист В. В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М.; Л.,
1960.
Капнист, 1973 — Капнист В. В. Избр. произв. Л., 1973.
Карамзин, 1866 — Письма H. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву.
СПб., 1866.
Карамзин, 1966 — Карамзин Н. М. Поли. собр. стихотв. / Под
ред. Ю. М. Лотмана. М.; Л., 1966.
Княжнин, 1784 — Княжнин Я. Б. Письмо Ея Сиятельству кн. Е. Р.
Дашковой... «Собеседник любителей Российского Слова». Ч. XI.
СПб., 1784.
Кононко, 1973 — Примечания на сочинения Державина. / Публ. и
комм. Е. Н. Кононко // Вопросы русской литературы. Львов,
1973. Вып. 2 (22).
Коплан, 1923 — Коплан Б. К стихотворению «Пророк» //
Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.; Пг., 1923.
Коровин, 1933 — Коровин Г. М. Ранняя комедия Д. И. Фонвизина
// Литературное наследство. Т. 9 — 10. М.; Л., 1933.
Котович, 1909 — Котович А. Духовная цензура в России (1799 —
1855 гг.). СПб., 1909.
229
Кулакова, 1969 — Кулакова Л. И. О спорных вопросах в эстетике
Державина // XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в
литературном движении XVIII — нач. XIX века. Л., 1969.
Лагарп, 1813 — Laharpe J. F. Lycée ou cours de littérature ancienne et
moderne. T. VII. Paris, 1813.
Леманн, 1963 — Lehmann P. Die Parodie im Mittelalter. 2. Aufl.
Stuttgart, 1963.
Лемке, 1904 — Лемке M. Очерки по истории русской цензуры и
журналистики XIX столетия. СПб., 1904.
Лернер, 1910 — Лернер Н. О. Примечания к стихотворениям
1826 — 1828 гг. // В кн.: Пушкин. Изд. Брокгауз—Ефрона. Т.
IV. СПб., 1910.
Ломоносов, I—X — Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. Т. I X.
М.; Л., 1950 — 1959.
Лотман, 1971 — Лотман Ю. М. Поэзия 1790 — 1810 годов. //В
кн.: Поэты 1790 — 1810-х годов. А, 1971.
Лотман, 1973 — Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры.
Вып. 2. Тарту, 1973.
Лотман и Успенский, 1975 — Лотман Ю. М. и Успенский Б. А.
Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры. УЗ.
ТГУ, вып. 358. Труды по русской и славянской филологии,
XXIV.
Лотман и Успенский, 1977а — Лотман Ю. М. и Успенский Б. А.
Роль дуальных моделей в динамике русской культуры. УЗ ТГУ,
вып. 404. Труды по русской и славянской филологии, XXVIII.
Тарту, 1977.
Лотман и Успенский, 19776 — Лотман Ю. М. и Успенский Б. А.
Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопросы
литературы. 1977. № 3. С. 148 — 166.
Майков, 1889 — Майков Л. Н. Очерки из истории русской
литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889.
Маслович, 1816 — Маслович В. [О стихах А. Нахимова] //
Харьковский Демокрит. 1816, май.
Моисеева, 1971 — Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская
литература. Л., 1971.
Муравьев, 1967 — Муравьев М. Н. Стихотворения. Л., 1967.
Нахимов, 1816 — Сочинения Акима Нахимова, в стихах и прозе...
Изд. 2-е. Харьков, 1816.
Остафьевский архив, I — III — Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. I — III. Переписка кн. П. А. Вяземского с А. И.
Тургеневым (1812 — 1836). СПб., 1899.
Отчет, 1892 — Отчет Имп. публичной библиотеки за 1892 год.
СПб., 1895.
Панченко, 1973 — Панченко А. М. Русская стихотворная культура
XVII века. Л., 1973.
Петров, I — III — Петров В. Сочинения. Ч. I — III. Изд. 2-е. М.,
1811.
230
Пумпянский, 1935 — Пумпянский Л. В. Очерки по литературе
первой половины XVIII века // XVIII век. Сб. статей и материалов.
М.; А, 1935.
Пушкин, I — XVI — Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. I XVI.
М.; А, 1937 — 1949.
Решетников, 1811 — Полное собрание псалмов Давыда поэта и царя,
переложенных как древними, так и новыми Российскими
стихотворцами ..., собранные... А. Решетниковым. M., 1911.
Руссо, 1823 — Rousseau J. В. Oeuvres poétiques T. I. Paris, 1823.
Свербеев, 1899 — Сѳербеев Д. H. Записки. T. I. M., 1899.
Серман, 1966 — Серман И. 3. Поэтический стиль Ломоносова. М.;
А, 1966.
Солосин, 1913 — Солосин И. И. Отражение языка и образов Св.
Писания и книг богослужебных в стихотворениях Ломоносова.
Изв. ОРЯС. 1913. XVIII. Кн. 2.
Сперанский, 1929 — Сперанский М. Н. Тайнопись в югославянских
и русских памятниках письма. Л., 1929.
Сумароков, 1774 — Сумароков А. П. Дополнение к духовным
стихотворениям. СПб., 1774.
Сумароков, I — X — Сумароков А. П. Поли. собр. всех сочинений.
Части I — X. Изд. 2-е. М., 1787.
Сумцов, 1900 — Сумцов Н. Ф. А. С. Пушкин. Исследования.
Харьков, 1900.
Сухомлинов, 1874 — Сухомлинов М. И. История Российской
Академии. Вып. I. Сб. ОРЯС. Т. XI. № 2. СПб., 1874.
Толстой, 1886 — Гр. Толстой Д. А. Городские училища в
царствование имп. Екатерины II. СПб., 1886.
Тредиаковский, 1935 — Тредиаковский В. К. Стихотворения. Л.,
1935.
Тредиаковский, 1976 — Неизданные тексты В. К. Тредиаковского
// Венок Тредиаковскому. Волгоград, 1976.
Тынянов, 1927 — Тынянов Ю. Ода как ораторский жанр //
Поэтика. Временник отдела словесных искусств ГИИИ. Л., 1927.
Вып. III.
Успенский, 1976 — Успенский Б. A. Historia sub specie semioticae //
Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
Хвостов, 1938 — Из архива Хвостова / Публ. А. В. Западова //
Литературный архив. Материалы по истории литературы и
общественного движения. Т. I. М.; Л., 1938.
Херасков, 1961 — Херасков М. М. Избр. произв. Л., 1961.
Черняев, 1898 — Черняев Н. И. «Пророк» Пушкина в связи с его
же «Подражаниями Корану». М., 1898.
Шапиро, 1973 — Schapiro M. Words and pictures. The Hague; Paris,
1973.
Яворский, 1805 — Проповеди блаженныя памяти Стефана Яворска-
го... Часть III. М., 1805.
231
М.ШАПИР
•
ИЗ ИСТОРИИ
"ПАРОДИЧЕСКОГО
БАЛЛАДНОГО СТИХА"
Сером владеет как елдой
1. «Тень Баркова» (1814—1815?), по традиции атрибутируемая
Пушкину1, написана тем же размером, что и его «Пирующие
студенты» (1814), — урегулированным разностопным ямбом
перекрестной рифмовки, с чередованием 4-иктных строк с
мужскими окончаниями и 3-иктных с женскими (Винокур, 1930, 35;
Томашевский, 1958, 72—74; Шапир, 1990а, 296, примеч. 59).
Друг от друга эти стихотворения несколько отличаются
строфикой: абзацы «Пирующих студентов» насчитывают от 8 до 16
строк, а «Тень Баркова», подобно «Илиаде» или «Одиссее»,
имеет 24 правильных главки-строфы — по 12 строк в каждой
(Томашевский, 1958, 73). Размер «Пирующих студентов»
Г.О. Винокур назвал «пародическим балладным стихом» (1930,
35; Томашевский, 1958, 73), но еще более уместным было бы
такое определение в отношении «Тени Баркова». Эта бурлеск-
но-порнографическая баллада — не просто пародия, а дважды
пародия, пародия на пародию.
Давно замечено, что в «Тени Баркова» перепеты написанные
тем же размером и тою же строфой произведения Жуковского:
баллада «Громобой» (1810) и гимн «Певец во стане Русских
воинов» (1812) [см.: Гос. музей А.С. Пушкина, КП 8057/СП
174, л. 3, 10, 12—13 и особенно 70—79 (2-й пагинации); De
Michelis, 1990, 15—18; Poesjkin, 1991, 72, 81, п. 6; ср.
Чернов, 1991, 155—160, 163—164]. Однако еще до Пушкина те
же стихотворения Жуковского сделали объектом пародии Ба-
232
тюшков и А. Измайлов — в «балладо-эпико-лиро-комико-
эпизодическом гимне» «Певец, или Певцы в Беседе Славено-
Россов» (1813) [в свою очередь, сам этот «гимн» также был
спародирован в пушкинской «Тени Баркова»; ср.: Гос. музей
А.С. Пушкина, КП 8057/СП 174, л. 44—45, 49—50 (2-й
пагинации)]. Семантическая окраска пародийного ямбического
разностопника складывалась в рамках полемики архаистов и
карамзинистов. Выбор образцов для пародии, равно как и ее
размер, был вызван отношением «Беседы» к балладному
творчеству Жуковского: «<...> Баллады, — сокрушался Д.Н.
Блудов, — сделались грехом и посмешищем; достоинства
стихов стали определять по сходству их с прозой». «Не мертв ли
чувствами <...> тот, — восклицал в ответ В.Л.Пушкин, —
который прекрасные баллады почитает творением уродливым, а
сам пишет уродливые оды <...>?» (Боровкова-Майкова, 1933,
147, 150, ср. 82; а также Гаспаров, 1984, 119—120; Lilly,
1989, 211, 217—220)2.
Во всех четырех произведениях — в «Громобое», в обоих
«Певцах» и в «Тени Баркова» — встречаются похожие
эпизоды. В «оссианическом» гимне Жуковского тени великих
полководцев — от Святослава до Суворова — парят над русским
воинством, ополчившимся против французов. В «Громобое»
выходцы с того света появляются два раза: это призрак Асмодея в
начале баллады и призрак Громобоя в конце. В балла до,..гимне
Батюшкова и Измайлова образы «Громобоя» и «Певца во стане
Русских воинов» сливаются воедино (двунаправленность этой
пародии отразилась в ее жанровом подзаголовке):
Чья тень парит под потолком
Над нашими главами?
За ним, пред ним (о страх!) кругом
Поэты со стихами!
Се Тредьяковский в парике
Насаленном, с кудрями,
С «Телемахидою» в руке,
С Роленем за плечами.
Почто на нас, о муж седой,
Вперил ты страшны очи?..
Мы все клялись, клялись тобой
С утра до полуночи <...>
Из 3-й строфы «Громобоя» Батюшков позаимствовал общую
композицию портрета:
233
<...> Старик с шершавой бородой,
С блестящими глазами,
В дугу сомкнутый над клюкой,
С хвостом, когтьми, рогами.
Из «Певца во стане Русских воинов» — цитата в двух первых -
стихах (Чья тень парит под потолком /Над нашими
главами? — <...> Их тени мчатся в высоте /Над нашими
шатрами...) и навязанная ею рифма на -ами (главами : стихами :
кудрями : плечами у Батюшкова, полками : шатрами у
Жуковского; ср. глазами: рогами в 3-й строфе «Громобоя», а
также очи : полуночи в пародии Батюшкова и очи : ночи в 23-й,
28-й, 31-й, 43-й, 58-й и 72-й строфе «Громобоя»)4.
В споре «о старом и новом слоге» «Певцы в Беседе Славено-
Россов» наряду с батюшковским «Видением на брегах Леты»
(1809) стали своего рода эталоном: нередко «Арзамас» только
развивал образы и мотивы стихотворной сатиры конца 1800 —
начала 1810-х годов (Благой, 1934, 586; Гиллельсон, 1974, 94;
Краснокутский, 1977, 29; Проскурин, 1987, 93; и др.). Среди
унаследованных комических приемов важное место занимало траве-
стирование поэзии Жуковского: арзамасцы получали прозвища из
его многочисленных баллад, которые постоянно цитировались и
обыгрывались на заседаниях. Едва ли не чаще прочих поминались
именно «Громобой» и «Певец во стане Русских воинов» —
пародией на них, в частности, является «Речь Кассандры <=
Д. Н. Блудова. — М.Ш.> в ответ на нечитанную речь Эоловой
Арфы <= А. И.Тургенева. — М.Ш.>» (15.[Ш].1816) (см. Бо-
ровкова-Майкова, 1933, 140, 145, 156—158, 209 и др.). Того же
происхождения эпиграмма Д. Блудова (?) на А. Ф. Воейкова
(Хвала, Воейков-крот, «Сады» / Поэзии изрывший <...>,
1817?), пародирующая не только гимн Жуковского, но и его
перелицовку (текст см. Бурнашев, 1871, т. ХСѴІ, 151 —152), а
также малоизвестная пародия Вяземского (1899, 65) на 21-ю строфу
«Громобоя» (из письма А. И. Тургеневу от 27.XI.1816):
Взойдеть день опыта во мглѣ,
Подымутся стенанья;
Какъ столбъ, стоящій при столѣ,
Недвижный, безъ дыханья,
При свѣтѣ красныхъ париковъ,
При заднихъ ликовъ б<здень>ѣ,
Низвергнусь я въ ученый ровъ
На вѣки въ заточенье <...>
234
Использование обсценной лексики в «пародическом балладном
стихе» ставит арзамасскую іпутку Вяземского в один ряд с
«Тенью Баркова», во многом направленной против литераторов
из «славянского» лагеря [см.: Гос. музей А.С. Пушкина, КП
8057/СП 174, л. 44—49 (2-й пагинации); Благой, 1934, 538]:
Зарделись щеки, бледный лоб
Стыдом воспламенился;
Готов с постели прянуть поп,
Но вдруг остановился.
Он видит — в ветхом сюртуке
С спущенными штанами,
С хуиной толстою в руке,
С отвисшими мудами
Явилась тень — идет к нему
Дрожащими стопами,
Сияя сквозь ночную тьму
Огнистыми очами (V, 49—>60) .
В этом фрагменте — отзвуки обоих эпизодов «Громобоя»:
Готов он прянуть с крутизны... / И вдруг пред ним явленье
<...> (строфа 3-я); <...> И видима бродяща тень / Тогда в
пустыне ночи: / Как бледный на тумане день, / Ее сияют
очи <...> (строфа 72-я). Но основным источником этой сцены
в «Тени Баркова» послужил, несомненно, «Певец, или Певцы в
Беседе Славено-Россов»: отсюда всё, начиная с четырехкратной
рифмы на -ами (главами : стихами : кудрями : плечами —
штанами : мудами : стопами : очами) и кончая совпадением
ритмико-синтаксической структуры стихов, описывающих
грозную тень (ср. буквальное соответствие: С «Телемахидою» в
руке — С хуиной толстою в руке)6.
2. Замена Тредиаковского на Барчова («Телемахиды» на хуи-
ну) могла быть подсказана Пушкину «Видением на брегах Ле-
ты». У Батюшкова в «священном Элизии» тени этих поэтов
соседствуют:
<...> И ты там был, наездник хилой
Строптива девственниц седла,
Трудолюбивый, как пчела,
Отец стихов «Телемахиды»,
И ты, что сотворил обиды
Венере девственной, Барков!
235
В отличие от остальных обитателей царства Плутона, Тредиа-
ковский и Барков получают сексуальные характеристики, причем
диаметрально противоположные: Тредиаковский отмечен
половой немощью (<...> наездник хилой / Строптива
девственниц седла <...>7); напротив, Барков — гроза нравственной и
физической невинности (<...> сотворил обиды / Венере
девственной <...>). Видимо, первый казался Батюшкову
родоначальником поэзии «эротической» (ср. Батюшков, 1816б, 52;
Karlinsky, 1963, 230; Titunik, 1984, 317), второй —
родоначальником поэзии «бурлескно-порнографической» (в этом своем
качестве предстает Барков и у Пушкина).
Но возможно, у «Тени Баркова» был еще один источник —
стихотворный отрывок Батюшкова [см. его письмо Вяземскому
(апрель — май 1810?; Батюшков, 1989, т. 2, 132)]:
Я вижу тень Боброва!
Она передо мной,
Нагая без покрова,
С заразой и с чумой!
Сугубым вздором дышет <...>
Им дышет граф Хвостов,
Шихматов оным дышет <...>
Дело не только в звуковом сходстве (тень Боброва — тень
Баркова) и даже не в сходстве образов (Нагая без покрова —
С спущенными штанами) — важно, что обе «тени» возникают
в одном контексте полемики с архаистами. Со своей стороны,
«тень Боброва» — ив «Видении на брегах Леты» (стихи
189—210), и в письме Вяземскому — есть, скорее всего, ответ
Батюшкова на «Происшествие в царстве теней, или Судьбину
Российского языка» (1805): в этом памфлете С.С. Боброва
беседуют друг с другом тени Ломоносова и «Галлоруса», то есть
П.И.Макарова (Лотман, Успенский, 1975, 188—189 и мн. др.;
ср. Serman, 1974, 31—32) [ср. также тень Шихматова в
эпиграмме Вяземского «Быль в преисподней» (1810)].
Поэтому вполне вероятно, что симметричное положение,
занимаемое тенью Тредиаковского в «балладо-эпико-лиро-комико-
эпизодическом гимне» и тенью Баркова в одноименной балладе
Пушкина, имеет более глубокие историко-языковые и историко-
литературные корни. Суть в том, что именно Тредиаковский, с
которого нередко вообще начинают отсчет времени в новой
русской литературе, первым поставил вопрос, в большой мере оп-
236
ределивший судьбы литературного языка и языка литературы
(ср. Шапир, 1989, 271—272 и др; 19906): следует ли писать
как говорят или же говорить как пишут*. Поначалу Тредиа-
ковский хотел писать «почти самымъ простымъ Рускимъ сло-
вомъ, то есть каковымъ мы межъ собой говоримъ» (1730:
[14]), и этим как мог сближал речь письменную и устную, но
уже во второй половине 1740-х годов он их последовательно
различал и всячески расподоблял: деславянизация de jure
сменилась реславянизацией de facto (см. Успенский, 1985 и др.)- Это
стремление писать не так, как говорят (ср., например, Шишков,
1804, 117—122; 1811, 218, 234—235, 274—277; и др.),
нередко бывало принимаемо за желание говорить, как пишут.
Такой взгляд на вещи провоцировал сам Тредиаковский: «<...>
языкъ славенскои нынѣ жестокъ моимъ ушамъ слышится, хотя
прежде сего не толко я имъ писывалъ, но и разговаривалъ со
всеми» (1730, [15]). Да и в самый разгар борьбы с
«глубокословною славенщизною» то «простое Руское слово»,
которым якобы переведена «Езда в остров Любви»,
изобиловало лексическими, морфологическими и синтаксическими
славянизмами (Винокур, 1983, 94—95; Шапир, 1990а, 321,
примеч. 10).
Общее представление удачно выразил А.А. Бестужев-
Марлинский: «Мы должны писать какъ говоримъ, но въ
старину грамотѣи .любили говорить какъ писали» (1833, 53, 236). С
большей или меньшей адекватностью первая часть фразы
определяет программу карамзинистов, вторая — программу
архаистов (ср. Шапир, 1990а, 323, примеч. 33). Фундамент той и
другой заложил некогда Тредиаковский, но шишковисты охотнее
видели в нем предтечу Карамзина, а карамзинисты — предтечу
Шишкова (ср. Тынянов, 1926, 239; Винокур, 1945, 123—124;
1983, 266; Serman, 1974, 36 и др.; Лотман, Успенский, 1975,
280, 322, примеч. 243; Альтшуллер, 1976; 1984, 40—41, 70,
308—331; Успенский, 1985, 155—157, 196—198 и мн. др.;
Reyfman, 1990, 132—173 и др.; Шапир, 1990а, 322 примеч.
27; и др.). Впервые непосредственным предшественником
«славенофилов» Тредиаковского вывел Батюшков (ср. Грот,
Пекарский, 1866, 38—39; Успенский, 1985, 32 примеч. 27, а
также эпиграмму И. Дмитриева на П.Ю. Львова). «Отец
„ТелемахидьГ» приветствует в Аиде членов Российской
академии — все тонут в Лете.
Один, один славенофил ,
И то повыбившись из сил,
237
За всю трудов своих громаду,
За твердый ум и за дела
Вкусил бессмертия награду.
Поставленъ съ Третьяковскимъ къ ряду — так, по версии
MA. Дмитриева (1869, 199; Благой, 1934, 533, 537;
Проскурин, 1987, 75—76), завершался этот период (впрочем, в
основных списках «Видения» последний стих отсутствует)10.
В принадлежащем Н.И. Гнедичу «Символе веры в Беседе
при вступлении сотрудников» (1811) Тредиаковский
поименован «пророком» адмирала Шишкова, а в арзамасской речи
Д.В. Дашкова (17.11.1816) он назван «патриархом Славенофи-
лов» (Боровкова-Майкова, 1933, 23, 146, ср. 143, 213;
Дашков, 1811, 15; Батюшков, 1989, т. 2, 173). Вместе с прочими в
«Дом сумасшедших» Воейков запер предводителя
«литературных, староверов»:
<...> Том в сафьян переплетенный
Тредьяковского стихов
Я увидел, изумленный,
И узнал, что то Шишков ' '.
В послании Пушкина «К Жуковскому» (1816) авторы
«варяжских стихов»
Все, руку положив на том «Тилемахиды»,
Клянутся отомстить сотрудников обиды <...>
Но, пожалуй, всего резче под этим углом зрения Тредиаковский
и «Беседа» представлены у Батюшкова:
Но дух отцов воскрес в сынах!
Мы все для славы дышим;
Давно здесь в прозе и стихах
Как Тредьяковский пишем!
Мы все клялись! клялись тобой
С утра до полуночи
Писать, как ты, тебе служить!
Батюшков обозначил основной стилистический конфликт: у
пишущих, «как Тредьяковский», особая ненависть к тем,
Кто пишет так, как говорит.
Кого читают дамы12.
238
В отличие от арзамасцев, Тредиаковский и Шишков в
«Видении» говорят как пишут, то есть по-церковнославянски
(Reyfman, 1990, 136—137):
«Посмотрим, — продолжал вполгласа
Поэт, проклятый от Парнаса, —
Егда прийдут...»
А обращаясь к Шишкову,
Певец любовныя езды
Осклабил взор усмешкой блудной
И рек: «О муж, умом не скудный!
Обретший редки красоты
И смысл в моей „Деидамии",
Се ты! се ты!..»
Тот, в свою очередь, представился:
Аз есмь зело славенофил^;.
3. Если Тредиаковский мог считаться первым из тех, кто
говорит как пишет14, то Барков — первым из тех, кто ебет как
пишет15. Уже в самом старом из дошедших списков сборника
«Девичья игрушка» (1777), который вобрал в себя Баркова и
барковщину третьей четверти XVIII в. (А.Сумароков,
М.Чулков и др.)» помещена без подписи басня «Коза и бес».
Начинается она так:
Случилося козе зайти когда-то в лес.
На встречу — бес
Попался животине.
По едакой причине
Коза трухнула,
Хвостом махнула,
Вернула рожками,
Прыгнула ножками
И не нарочно,
Только точно
Попала черту на елдак.
И слезть с него не знала как.
С такова страху
Усрала и рубаху.
239
Вертит дырой —
У черта хуй сырой,
Ебет как пишет,
Коза чуть дышит,
Визжит, блюет и серит,
А черт ни в чем козе не верит.
«Коза и бес» — далеко не единственное стихотворение бар-
ковского сборника, в котором соитие сравнивается с процессом
письма. В анонимной «Оде хую» — в другой редакции она
называется «Ода 1-я затейнику хую» («Восстань, восстань и
напрягайся...») — есть такие строки:
В источник пиздей окунися,
Но пламень свой не утуши,
В крови победы омочися
И плешью, хуй, стихи пиши .
В «стансах» «Происхождение подъячева, или Изъяснение
привычки их брать за работу» [«Соч<инение> А.С.» (=
Александра Сумарокова?)] с чернильницей сравнивается уже не
пизда, а жопа, но каждая фрикция — по-прежнему обмакива-
ние пера в чернила:
Подъячей говорит: — Чернил нет, ни пера. —
На что черт говорит: — Вить у тебя дыра
Черна да и мокра,
А у меня мой хуй, так как перо с очином.
<...> Его хуй прибодрился
И стало как перо
И твердо и остро.
<...> Подъяческа дыра гораздо глубока,
А чертова битка
Не очень коротка.
Что сунет туда раз, то целая строка .
Та же тема может лежать в основе целого стихотворения.
Такова «эпиграмма» (или «дифирамф») «Вопрос живописца»:
<Д>озволь<,> Клариса<,> мнѣ списать с<т>ебя портреть;
Которой различать стобой небудеть свѣтъ!
240
Столь чрезвычайно онъ стобо<ю> будеть сходенъ!
И верь<,> что будеть онъ тебѣ весьма угоденъ!
Я напишу ево бескисти и чернилъ:
И такъ, чтобъ онъ стобой конечно сходенъ был<.>
Ноотгодай<,> чемъ мы партреты те рисуемъ:
Отъветъ Кларисы
Хуемъ .
Сопоставление поэтического творчества с совокуплением
иногда бывает развернуто, как в приписываемой Чулкову «Оде
пизде» (по другому списку — «Ода ей же»):
Тряхни мудами, Аполлон,
Ударь елдою в громку лиру,
Подай торжественный' мне тон
В восторге возгласити миру.
<...> Приди, и сильною рукою
Вели всех муз мне перееть <...>
Вдохновение призывается так:
Сойди, о Муза, сверху в дол
И залупи на пуп подол <...>
Дрочи, о муза, добрый хуй!
Садись ко мне на плешь ты смело <...>20
А где находится источник вдохновения, ясно из второй «Оды
Приапу» («Парнасских девок презираю...»):
<...> Взволнуй мне кровь витийским жаром,
Который ты в восторге яром
Из пылких муд своих загряб .
Слияние обоих мотивов — поэтического и эротического —
приводит, наконец, к каламбуру: Вздрочу престрашной мой
елдак <...> Впущу епическую жилу <...> [из «Оды пизде»
(Барков и др., 1992, 133)]. Разумеется, детородный член
окрещен епической жилой благодаря не только фонетической, но
и тематической близости прилагательного с литературной
семантикой и глагола с футуэральной22.
241
4. В басне Баркова (или его современника) черт ебет как
пишет — наоборот, в балладе Пушкина вдохновленный
Барковым поп пишет как ебет (ср. Золотоносов, 1992, 197):
И стал поэтом Ебаков;
Ебет да припевает,
Гласит везде: «Велик Барков!»
Попа сам Феб венчает;
Пером владеет как елдой,
Певцов он всех славнее <...> (XI, 121 —126).
Хороший поэт, по Батюшкову, — «кто пишет так, как
говорит»; подобно этому герой Пушкина — «пером владеет как
елдой» (то есть * пишет как ебет'). Идеальный автор
карамзинистов — тот, «кого читают дамы»; к музе Ебакова неравнодушны
представительницы слабого пола:
И бабы, и хуистый пол
Дрожа ему внимали,
И только перед ним подол
Девчонки поднимали (XII, 141 —144)2
[Ср. ироническое название барковского сборника («Девичья»
или «Девическая игрушка») и предисловие к нему —
«Приношение Белинде» (см. Барков, 1992, 15—18; Зорин,
Сапов, 1992, 39—40)].
Параллелизм полового и творческого акта (ебет да
припевает), их сравнение и даже уравнивание становится лейтмотивом
баллады. Конечно, легкость перехода от предмета к предмету и
обратно объясняется крайней избирательностью ебаковской
лиры, отданной на откуп, как сказал бы Языков, «детородной
поэзіи <...> тѣла» (Петухов, 1913, 51):
Однажды в женский монастырь,
Как начало смеркаться,
Приходит тайно Ебаков —
И звонкими струнами
Воспел победу елдаков
Над юными пиэдами.
И стариц нежный секелек
Заныл и зашатался... (XIII, 147—154).
Единство «любви» и «мелодии» [ср.; Из наслаждений
жизни I Одной любви музыка уступает; / Но и любовь — ме-
242
лодия... («Каменный гость», сцена II)] коренится в самом
языке «Тени Баркова»:
И стал ходить из края в край
С гудком, смычком, мудами
И на Руси воззвал он рай
Бумагой и пиздами (XI, 129—132).
В перечислении второй строки первое слово относится к
сфере «поэтической», последнее — к «сексуальной», а среднее —
метафорически — к обеим, поскольку указывает на
существенную принадлежность певца и мужчины [ср. обращение Пушкина
к Вольтеру в поэме «Монах» (1813): Певец любви, фернейский
старичок <...> Куда, скажи, девался твой смычок <...>?
(«Послание к Галичу», 1815, стихи 132—133), а также
метафору смычекъ наслажденія из письма Языкова к брату
(Петухов, 1913, 51)]24.
В ряде случаев аналогия между писанием и coitus'oM носит
отрицательный характер:
Как иногда поэт Хвостов,
Обиженный природой,
Во тьме полуночных часов
Корпит над хладной одой;
Пред ним несчастное дитя —
И вкривь, и вкось, и прямо
Он слово звучное, кряхтя25,
Ломает в стих упрямо, —
Так блядь трудилась над попом,
Но не было успеха,
Не становился хуй столбом
Как будто бы для смеха (IV, 37—48).
Вполне вероятно, что поэтическая импотенция архаиста Хвосто-
ва была инспирирована «скопческим» прозвищем Хлыстов,
которым карамзинисты наградили поэта вопреки его плодовитости
(«скопческая» ересь отпочковалась от «хлыстовской», но в
общественном сознании они часто смешивались): <...> Свистов,
Хлыстов или Графов <...> Родитель стареньких стихов, /
И од не слишком громозвучных <...> [из стихотворения
Пушкина «Моему Аристарху» (1815); ср. Лотман, 1973, 42].
Пушкинский Барков устанавливает прямую зависимость
между мужской потенцией и литературным стилем — идиома
243
ебать как писать обретает лингвостилистическое содержание,
которого ранее не имела:
«<...> Не пой лишь так, как пел Бобров,
Ни Шелехова тоном.
Шихматов, Палицын, Хвостов
Прокляты Аполлоном .
И что за нужда подражать
Бессмысленным поэтам?
Последуй ты, ебена мать,
Моим благим советам,
И будешь из певцов певец,
Клянусь я в том елдою —
Ни чорт, ни девка, ни чернец
Не вздремлют над тобою» (IX, 97—108).
Певец Приапа с презрением отзывается о певцах «Беседы».
Бобров, Шихматов, Палицын, Хвостов (а по другим
спискам — Шаликов, Шаховской, Шишков) уже были «воспеты»
ранее в «Видении на брегах Леты» и «Певцах в Беседе Славе-
но-Россов»: <...> Хвала сынам Беседы!, Хвала седому деду!,
Хвала и многи лета!у Хвала скулам железным!29 — так без
конца превозносили друг друга клявшиеся в верности Тредиа-
ковскому: <...> Писать, как ты, тебе служить! Именно о
них говорит Барков Ебакову: <...> Хвалы мне их ненужны, /
Лишь от тебя услуги жду — / Пиши в часы досужны!
(VIII, 90—92). «Беседа» поет хвалу и служит Тредиаковскому,
а Ебаков — Баркову: то ебет как пишет, а то пишет как
ебет.
Все это наводит на мысль, что наряду с известной антитезой
говорить как писать или писать как говорить существовал
ее обсценный бурлескно-порнографический дублет. Для архаиста
Баркова ебать как писать значило 'ебать складно', для
карамзиниста Пушкина писать как ебать значило 'писать легко* —
как тут не вспомнить Батюшкова с его проповедью эротической
«легкой поэзии», poésie fugitive [см. его «Речь о влиянии легкой
Поэзии на язык» (1816), а также письмо Н.И. Гнедичу от
13.III.1811 (Батюшков, 1989, т. 2, 157)]? И хотя в
неприкрытом виде эта пародийная антитеза встречается лишь в «Тени
Баркова», можно с уверенностью утверждать, что переводить
стилистические споры на язык непристойной поэзии Пушкина и
его современников научил тот же Батюшков30.
244
5. В том, что поклонник Ариоста и Тасса внимательно читал
сочинения Баркова, сомневаться не приходится: топикой
«Девичьей игрушки» насыщена его дружеская переписка 1810—1811
гг. (музы здесь сравниваются с распутными девками, а
сочинительство — с половым актом31). 26.VII.1810 Батюшков
жаловался Жуковскому на нездоровье: «Музы, музочки не отстают
и от больного. Нет, эти блядки не боятся и самой разительской
болезни» (1989, т. 2, 139)32. Через три дня Батюшков сообщал
Вяземскому: «Перекладываю „Песни песней" в стихи. Когда
кончу, то пришлю тебе <...> на растление мою Деву <...> я
так занят моей „Песней песней", что во сне и наяву вижу
жидов и вчера еще в мыслях уестествил Иудейскую Деву» (1989,
т. 2, 141). В другом письме тому же адресату (конец ноября
1811) Батюшков потешался над Василием Львовичем, «который
<...> возвращается домой в объятия своей Пенелопы-
Малиновки и... и... с помощью муз и Феба он делает то, что
делал девять месяцев перед тем», как «назвал себя в первый
раз отцом своего исчадия» (1989, т. 2, 189)33. Наконец, в
письме Гнедичу (29.XII.1811): «Я <...> перевел вчерась листа
три из Ариоста, посягнул на него в первый раз в моей жизни
и — признаюсь тебе — с вожделеннейшими чувствами его
музу (какова Акадия???)» (Батюшков, 1989, т. 2, 201)34.
Любопытно, что в близких выражениях о поэте писали
современники: «Что напгь Батюшковъ? Если онъ живъ и здоровъ, то дол-
женъ быть въ Парижѣ и можеть быть контропошить, изъ
уважениія къ Парни, буззубую его Элеонору, которая, какъ и
мы, находить, что переводчикъ не хуже подлинника»
[П.А. Вяземский — А.И. Тургеневу, апрель — май 1814
(Вяземский, 1899, 21)]35.
Близкое знакомство с барковщиной сказалось и в батюшков-
ской поэзии — в стихотворениях, направленных против
Шишкова и компании. Почему, объяснить нетрудно: стихи и проза
Варяго-Россов оскорбительны для нежного женского вкуса —
«<...> ни одна дама не поедет слушать Захарова, Писарева,
Шихматова» (Батюшков, 1989, т. 2, 153, 162). Славяне пишут
не для дам, не для дам и стихи Баркова — станем же говорить
со Славянами на собственном их языке (ср. Тынянов, 1926,
252—253, 255; Илюшин, 1991а, 11; Проскурин, 1993, 213)!
Возникавшее таким путем ирои-комическое сопряжение
«высокого» и «низкого» слога было спровоцировано литературной
практикой самих старших архаистов. Поклонники и
последователи Карамзина осознавали его время «как период
господства среднего штиля <...> занявшего место высокого и
245
низкого» (Тынянов, 1926, 220 и вокруг). Прежде, со времен
Ломоносова (1952, 585—592), противоположные полюса жан-
рово-стилистической иерархии были определены и разработаны
куда лучше, чем середина спектра. Внутреннее «родство»
церковнославянской стихии с просторечием и диалектами (как
«свое» в противовес тому, что взято «от чужих народов») было
своеобразно истолковано теоретиками «Беседы»: Шишков
рекомендовал «частичное введение „низкой лексики" <...> в
высокий штиль» (Тынянов, 1926, 219, 220). Такая стилистическая
смелость предоставляла благодатный материал для пародии,
образцы которой было естественно искать в русском бурлеске, и в
первую очередь в барковщине с ее народной площадной
бранью36. И В. Пушкин («Опасный сосед», 1811), и А. Измайлов
[«Князь Ш. и актриса Е.», 1812 (см. Проскурин, 1984, 87—
88)], и автор «Тени Баркова» шли по этому пути, ранее
проложенному Батюшковым.
Так, в «Видении» и «Певцах» многократно поминаются
члены Российской академии и члены «Беседы любителей
Российской словесности», высмеивая которых Батюшков, наряду с
другими значениями слова, подразумевает и 'membrum virile'37.
Минос спрашивает у Шишкова:
«Да кто ты сам?» — «Я также член <...>» —
авторское выделение последнего слова прозрачно намекает на
его второй смысл38. Подобными двусмысленностями изобилуют
многие арзамасские протоколы: идет ли речь о членах
«Арзамаса» или «Беседы», об органах тела (членах) или даже
о частях (членах) риторического периода (см., например, Бо-
ровкова-Майкова, 1933, 23—24, 145) — сквозь приличное
значение то и дело проблескивает неприличное. Иногда тайное
становится почти явным: «Я <...> с жертвой благодарности
обращусь к тебе, багряный колпак гармонического члена»
[«Ответ Кассандры на речь члена Чу <= Д.В. Дашкова. —
М.Ш.>» (29.Х. 1815); вступающий в «Арзамас» надевал
красный колпак]39; «Журка <то есть Ивиков Журавль,
Ф.Ф. Вигель. — M.ZLf.>, не залез ли ты носом в горло к
какому-нибудь беседному волку и не отгрыз ли этот волк у
тебя твоего члена, столь нужного для разных твоих
прихотей?» [из письма Светланы (= В.А. Жуковского) в общее
собрание «Нового Арзамаса» (1817); пародируется басня
Крылова «Волк и Журавль» (1816)] (Боровкова-Майкова,
1933, 95, 238 и др.)40.
246
Некоторые места в «Тени Баркова» напрямую восходят к
«Певцам» Батюшкова и Измайлова:
Друзья! вишневки поскорей
И выпьем в честь Весталки !
У ней давно семья детей
И детки — очень жалки!
Сегодня оду в свет родит,
А завтра — снова бремя!
Ей перья сам Шишков чинит
От дел в досужно время.
За ней есть много дев других;
Все взапуски плодятся:
Но диво в том, что чада их
Полмертвые родятся.
В этих стихах Измайлова, чуть позже перефразированных
Пушкиным (<...> Корпит над хладной одой; / Пред ним
несчастное дитя <...>), замыслы поэтессы превращены в ее
беременности, а творческие муки — в родовые: можно подумать,
будто обильное потомство есть плод любви Буниной и
Шишкова (Ей перья сам Шишков чинит / От дел в досужно ере-
мя)Л2. Этот мотив, в «Певцах» еще довольно-таки
приглушенный, был детально развернут С.С. Уваровым в речи «над
гробом» Буниной: «<...> перешагнув в первый раз за предел
девственной скромности, она почувствовала непреоборимую
страсть плодиться»; «Уверяют даже, что красноречивый
старец рукою, призывавшею на брань народов и царей, нежно
прижимал к сердцу страстную Певицу и — чинил ей иногда перья»;
«Старец на лоне Певицы наигрывает <смычком? пером? —
М.Ш.> те чудесные творения, которыми он преобразил русский
язык»; «Что день, то новый плод — едва успевала она
разрешиться от бремени, как вдруг опять чувствовала тяжелость —
предвестницу новых родов. Никогда искусная рука Седого
Деда не переставала быть в движении. Он принимал их чад,
родительскою красотою и силою одаренных» (Боровкова-Майкова,
1933, 119—120; Краснокутский, 1977, 21, 34—35)43. И в стихах
Измайлова, и в прозе Уварова Седой Дед ебет пером (то есть
'пишет'), тогда как герой в барковской (?) оде, черт в «стансах»
Сумарокова или художник в эпиграмме «Вопрос живописца»
пишут хуем (то есть *ебут'): <...> И плешью, хуй, стихи пиши.
Но, пожалуй, всего замечательнее, что у Батюшкова можно
обнаружить инвариант самой барковско-пушкинской антитезы.
247
«Видение на брегах Леты», по сюжету отчасти напоминающее
комическую поэму Чулкова «Плачевное падение стихотворцев»
(1769), начинается с рассказа о том, как умирали поэты,
приговоренные Аполлоном:
Другой, в Цитеру пренесен,
Красу, умильную как Гебу,
Хотел для нас насильно... петь
И пал без чувств в конце эклоги;
Везде, о милосердны боги!
Везде пирует алчна смерть <...>44.
Хотел для нас насильно... Авторское многоточие
подсказывает — в рифму — иное окончание стиха (Serman, 1974, 47—
48): «<...> мать его в рифму!» — любил повторять Пушкин
[1937, 86, 124; Гос. музей А.С. Пушкина, КП 8057/СП 174,
л. 29—30 (2-й пагинации)]; возможно, это выражение было
ему навеяно Батюшковым, который — тоже в рифму —
заставлял своего героя «насильно» еть «красу, умильную как
Гебу»45.
Барковская подоплека такой рефлексии над рифмой не могла
пройти незамеченной: автор «Видения» готовил читателя к
правильному восприятию загодя. Обсценная (= девственная)
рифма46 становится поэтической темой фактически с первых строк:
Иной из них окончил век,
Сидя на чердаке высоком
В издранном шлафроке широком,
Голоден, наг и утомлен
Упрямой рифмой к светлу небу.
Нужную рифму (небу : Гебу) нашел сам Батюшков, но
поразительное дело: совпадающая часть рифмической пары образует
нецензурное слово. Эта анаграмма напрямую отсылает к
«Девичьей игрушке». Поиском рифмы к небу приблизительно на
полвека раньше уже были заняты герои «епиграммы»
«Стихотворцы»:
Лишь только рифмачи в беседе где сойдутся,
То, молвив слова два, взлетают на Парнас,
О преимуществе кричат<ь> они соймутся,
Так споря, вот один вознес к другому глас:
248
— Ну естьли ты пиит, скажи мне рифму к небу.
Другой ответствовал: — Я мать твою ебу48.
Нарушение рифменного ожидания (равно как и каламбурное
сквернословие вроде «КреПИ ЗДАровье<,> дарагая...»49) —
это locus communis всякой срамной поэзии (ср. Гаспаров, 1991,
536). Но если у Баркова вместо приличного слова выскакивало
вдруг неприличное, то у Батюшкова — совсем наоборот.
Бесстыдно разноударную рифму он скромно заменил изотонической
(ср. Шапир, 1990в, 68), но отчетливо просматривающийся
матерный субстрат все равно придавал сатире отнюдь не шаликов-
скую тональность50.
Потаенные рифмы Батюшкова, особенно пЪть : егпь,
инвариантны по отношению к формулам Баркова и Пушкина:
совокупление и творчество (известного достоинства и направления)
образуют неразрывную связь и свободно подменяют друг друга.
У Баркова на этом построена целая литература со своей
иерархией жанров и стилей; у Батюшкова и Пушкина смысловое
отождествление 'scribere' и 'futuere* возможно уже только в
узких жанрово-стилистических границах (ср. Живов, 1981, 83—
88). При этом акцент делается на том или на другом. В
«Видении» и «Певцах» главное — литературная борьба, а
брань и скабрезности — в подтексте: шлифуя стихи, Батюшков
прячет концы в воду [1) Хотел ее насильно — петь;
2) Хотел в жару насильно... петь; 3) Хотел для нас
насильно... петь (Благой, 1934, 530, 534, ср. 529)]. Напротив, в
«Тени Баркова» матерная подкладка вызывающе вывернута
наружу, но за нею скрыты все те же стилевые противоречия эпохи.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Вопрос об авторстве можно считать в основном решенным —
см. комментарий М.А. Цявловского к «Тени Баркова» (1930—
1931), полностью все еще не опубликованный [Гос. музей
А.С. Пушкина (Москва), КП 8057/СП 174, л. 1 — 110 (2-й
пагинации); Цявловский, 1922; и др.]. Попытка А.Ю. Чернова (1991)
оспорить выводы Цявловского представляется профессионально
беспомощной (ср. Лацис, 1992, 120—124).
2 «Балладный стих» в травестийной поэзии отчасти мог быть
следствием немецкого влияния: в «Вергилиевой Энеиде, или
Приключениях благочестивого героя Энея» («Virgyl's Aeneis oder Abenteuer des
frommen Helden Aeneas», 1783—1786) австриец А. Блумауэр «ввел
особую, „балладного'' типа, строфу в семь стихов, в которой
сочетались строки четырех- и трехстопного ямба» (Томашевский, 1933, 246
249
и далее), причем длинные стихи имели мужское окончание, а
короткие — женское (aBaBccD). Бурлеск Блумауэра послужил образцом
для Н. Осипова («Виргилиева Энеида, вывороченная на изнанку»,
1791 — 1796).
3 Здесь и далее «Певцы в Беседе Славено-Россов» цитируются
по «оленинскому» списку.
4 Связь «Громобоя» с «Певцами» неоднократно эксплуатировалась
в «Арзамасе»: «<...> Кассандре <= Д.Н. Блудову. — М.Ш.>
<...> в мистическом видении представился <...> замок «Беседы»;
перед рвом <...> стонет в могиле Громобой—Тредиаковский; на
могиле повержен крестом Попов с Телемахидою, и вкруг них обвился,
как плющ, „Руской Вестник"<,>
И черный Львов на них сидит,
Могилы сторож дикий»
(Боровкова-Майкова, 1933, 157)
[ср. «Пародию» И.Дмитриева «Седящий на мешках славяно-русских
слов...» (1803): Сотиньус, рот разинув, пал, / А Львов в присядку
заплясал (ср. Макогоненко, 1967, 458)]; «<...> над ветхим замком
пролетит дух мститель Арзамаса, рассыплются стены, Громобой-
Тредиаковский умолкнет» (Боровкова-Майкова, 1933, 158; Reyfman,
1990, 140) и т. п.
5 За исключением специально оговоренных случаев, «Тень
Баркова» цитируется по тексту, установленному М.А. Цявловским [верстку
с правкой исследователя см.: Гос. музей À.C. Пушкина, КП
8057/СП 174, л. 1 —12 (1-й пагинации); ср. Пушкин, 1991; а также
Poesjkin, 1991 (публ. С.Брауэра)].
6 Перелицовка «Громобоя» мыслилась как универсальный прием
литературной полемики до конца 1830-х годов (причем, что
характерно, представителями младшего поколения). Под впечатлением от
первых строк и замысла поэмы В. Пушкина «Капитан Храброе»
(1828—1829) Баратынский писал А.С. Пушкину (не позднее
23.11.1828): «Это совершенно балладическое произведение. Василий
Львович представляется мне Парнасским Громобоем, отдавшим душу
свою романтическому бесу. Нельзя ли пародировать балладу
Жуковского?» (Пушкин, 1941, 6). Наиболее подходящими для баллады о
балладе казались размер и сюжет «Громобоя». [Ср. также поздние
эквиметрические пародии: гимн А. Писарева «Певец на биваках у
подножия Парнаса» (1825?), баллады В.Проташинского «Двенадцать
спящих бутошников» (1831?) и М. Дмитриева «Двенадцать сонных
статей» (1839), лонгиновскую «Свадьбу поэта» (1853; Ранчин, 1993,
441—447) и др. (см. Тынянов, 1977, 290—292).]
7 Батюшков осмеивает заглавие романа, переведенного Тредиаков-
ским: «Езда в остров Любви» (1730); в другом месте «Видения»:
<...> Певеи, любовныя езды <...> (ср. Reyfman, 1990, 154, 157).
Сексуальные коннотации вне сомнения — ср., например, «Тень
Баркова»: <...> Вотще! Под бешеным попом / Лежит она, тоскует
I И ездит по брюху верхом, / И в ус его целует (III, 29—32).
250
8 Важнейшие высказывания на эту тему собраны вместе (см. Ша-
пир, 1990а, 321 примеч. 12). Ср. также П.И. Макаров: «<...>
надобно иногда писать такъ, какъ должно бы говорить, а не такъ, какъ
говорить» (1803, 122); А.С. Шишков: «<...> хотѣть писать какъ
говоримъ и говорить какъ пишемъ, есть то же что хотѣть поровнять
орла съ синицею» (1804, 122); «Нынешние писатели, господа-
карамзинисты <...> кричат: неужли нам говорить по-славенски? —
Мы хотим писать, как говорим в беседах <...> Нельзя важные
сочинения писать таким слогом, как мы говорим дома с приятелями»
(Сидорова, 1956, 171); К.Н.Батюшков: «<...> те, которые пишут,
как говорят, хотя б и говорили хорошо, пишут дурно» (1989, т. 1,
264; из статьи «Об искусстве писать: Почерпнуто из Бюффона»,
1802—1807?); Дмитриев «говорит, как пишет, и пишет так же
сладостно, остро и красноречиво, как говорит» (1989, т. 2, 54; из записной
книжки, лето 1817); Д.Н. Блудов: «Простительно ли Старосте
Арзамаса писать как едва ли говорят экспромтом артельщики в полковых
комедиях и целовальники в кабаках?» (Боровкова-Майкова, 1933,
162—163); Н.И. Бахтин: «Открытіе тайны писать какъ говоримъ: не
принадлежитъ нашему вѣку. Еще прежде, чѣмъ Карамзинъ настав-
лялъ сему кандидатовъ авторства, Профессоръ Елоквенціи
Тредьяковскій уже давно проповѣдывалъ оную» (1822, 36);
П.А. Вяземский: «<...> никто опричь его <Н.И. Бахтина. —
М.Ш.> не сказывалъ, что тайна дарованій Карамзина заключается
въ томъ, чтобы писать какъ говорятъ» (1878, 90 примеч. 1); и
мн. др.
9 То есть А.С. Шишков.
10 Рифмовка громаду : награду : к ряду не противоречит
стилистике «Видения»: «Тройные <...> рифмы нужны. Французы пишут
все четырехстопные стихи такими рифмами, rimes redoublées»
(Батюшков, 1989, т. 2, 112; из письма Н.И. Гнедичу от 23.XI.
1809).
11 Цитируется в редакции 1814—1817 гг.
12 6.1.1817 в Арзамасе читали и обсуждали „Вечер у Кантемира"
(1816): „Кантемир. <...> Я первый осмѣлился писать такъ, какъ
говорятъ: я первый изгналъ изъ языка нашего грубыя слова
Славянскія" (Батюшков, 1817, 76, 78) [см. также письма Батюшкова
Н.И. Гнедичу от 19.IX.1809, 25.XII.1810 и первой половины апреля
1811 (1989, т. 2, 103, 153, 162; ср. Успенский, 1985, 59 и др.)]. В
протоколе значится: «<...> Ахилл <= К.Н. Батюшков. — М.Ш.>,
как тосканской фигляр, показал нам <...> тени покойных арзамасцев,
французского Монтеские и греко-русского Кантемира. Они между
собой говорят как живые <...> члены Арзамаса» (Боровкова-
Майкова, 1933, 188).
13 Тот же прием — в басне А. Измайлова «Шут в парике»
(1811): Вижду аз, / Коликой степени достигло просвещенье! и т.д.
14 Ср. характеристику, которую Фамусов дает архаисту-Чацкому:
Что говорит! и говорит, как пишет! (см. в связи с этим Тынянов,
1926, 216 и др.).
251
15 Эта поговорка зафиксирована в «Заветных пословицах»
В.И. Даля (№№ 36 и 52): Ебет, как пишет, а сам чуть дышет;
И комар ебет как пишет (Carey, 1972, 47, 49).
16 Цитируется по тексту, опубликованному А.А.Илюшиным [1991,
9—10; ср. Барков, 1992, 101 ел.; Барков и др. 1992, 152 (в основе
этих изданий лежит список 1777 г., хранящийся в РНБ; неполный
обзор важнейших списков «Девичьей игрушки» см. Зорин, Сапов,
1992, 369—382)]. В истории непечатной поэзии «Коза и бес» —
явление заметное и относительно популярное. По всей видимости,
финал этой басни (<...> Потом гады и птицы / В пизду козе совали
спицы) прихотливо повлиял на автора «Луки Мудищева» [вторая
половина XIX в. (ср. Барков, 1992, 10—11)]. Сваха пытается спасти
жизнь насилуемой купчихе: Матрена, сжалясъ над вдовицей, /
Спешит помочь скорей беде, / И ну колоть вязальной спицей / Луку
и в жопу и в муде (Барков, 1992, 168). В другом варианте «Луки»
[Матрена-сваха быстрой птицей / Спешит <...> и т. д. (Щуплов,
1992, 76)] воспроизведена даже рифма из басни про козу — ср.
птицы : спицы (Илюшин, 1991а, 11).
17 Цитируется по изданию: Зорин, Сапов 1992, 99. Ср. поговорку
Ступай на горбатый хуй стихи петь (Яматовский, 1986, 181) и
перифрастическое описание полового акта в былине о Ставре Годино-
виче: А помнишь ли, Ставёръ да сынъ Годиновичъ, / Какъ мы съ
тобою въ грамотѣ учились ли, I А моя была чернильница
серебряна, I А твое было перо да подзолочено, / Ты тутъ помакивалъ
всегды, всегды, / А я помакивалъ тогды сегды? (Гильфердинг,
1894, 101). О «пере и чернильнице» как мужском и женском
символах см. у В.П. Адриановой-Перетц (1935, 503—504) — она имеет в
виду загадку, записанную еще В.И. Далем: Сверху мохнато, снизу
остро; всунешь — сухо, а вынешь — мокро [цитируется по копии
П.А. Симони (fMS Russ 54, folder 1, sheet 5. The Houghton Library,
Harvard University, Cambridge, Mass.); тут же другой вариант этой
загадки и отгадка: Перо писчее; еще один вариант см. Яматовский,
1986, 172]. Ср. также эпистолы „От хуя к пизде" и „От пизды к
хую": Прости мою вину, почтенная пизда, / Осмелилась писать к
тебе, что здесь елда и т. д. (Барков и др., 1992, 168 ел.; Зорин,
Сапов, 1992, 117 и далее). Окказиональное сближение слов еписто-
ла, пизда и писать — ср. еще: <...> опизда<,> опись дай сво-
им<ъ> стихамъ [РГАЛИ, ф. 74 (И.С. Барков), оп. 1, ед. хр. 2, л.
74об.] — наводит на мысль, что вся система рассматриваемых
сравнений поддерживалась народной этимологией, нередко связывающей
воедино целое гнездо паронимов: писать — писать — пихать [в
том числе в значении Чо screw* (Dnimmond, Perkins, 1987, 62)] —
пизда и проч. (ср. Vasmer, 1955, 355; Успенский, 1987, 55, 56).
Сходная парономасия — в «приговорке» из собрания Даля (№ 118):
Писано переписано — посередь пизды лысина (Carey, 1972, 54; с
уточнениями по рукописи Симони).
18 Цитируется по публикации А.А. Илюшина (1992, 39). Скато-
логический мотив в «Происхождении подъячева»: Из жопы у писца
252
текут уже потоки, / И прибавляются тем на пашпорте строки
(Илюшин, 1992, 39—40) — заставляет упомянуть о многочисленных
сравнениях литературной деятельности с испражнением или
мочеиспусканием, например: <...> Хожу я редко на Парнас / И только за
большою нуждой. I Но твой затейливый навоз <...> Хвостова он
напоминает <...> И дух мой снова позывает / Ко испражненью
прежних дней (Пушкин, 1937, 239); <...> Все ж мне жаль, что
граф Хвостов / Удержать в себе не может / Ни у<ри>ны, ни
стихов (Орлов, 1931, 172). Обширный материал этого рода мы
оставляем в стороне как не имеющий прямого отношения к теме.
19 Цитируется по рукописи 1785 г. (РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр.
2, л. 27об.; ср. Зорин, Сапов, 1992, 182). Конъектуры — на
основании двух списков 1794 г. (РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 15, л. 30,
80) и списка конца XVIII в. из собрания помещика Молоствова
[Науч. б-ка им. Н.И. Лобачевского (Казань). Отд. рукописей и
редких книг, ед. хр. 2383, л. 84об.]; еще одна редакция стихотворения,
очень сильно испорченная переписчиком, — в сборнике 1784 г.
(хранится в личном архиве Б.А. Успенского).
20 Цитируется по публикации А.А. Илюшина (Барков и др.,
1992, 133—134; ср. Зорин, Сапов, 1992, 45—47).
21 Цитируется в редакции А.А. Илюшина (Барков и др., 1992,
148; ср. Зорин, Сапов, 1992, 93; а также Барков, 1992, 81; Шапир,
1992, 4).
22 Ср. послание неизвестного автора «К старым блядям»: <...>
Вам вдохновение привета / Елды эпической моей [Яматовский,
1986, 15; опубликовано по списку «Еблематическо-скабрезного
альманаха» (исходная рукопись 1865 г.)]. В своей «Грамматике» (1780-е
годы) А.А. Барсов предупреждал, что написание «emu вмѣсто эти»
можеть «вовлечь въ нѣкоторую непристойность въ выговорѣ» (1981,
245; Успенский, 1983, 35, примеч. 3); видимо, та же
«непристойность» многими чувствовалась в словах, начинающихся с епм-
(епиграмма, епистола, епитафія и т. п.).
23 Этот и следующий фрагменты цитируются в редакции,
опубликованной Ч. Дж. Де Микелисом (Puskin, 1990).
24 «Эротика» и «поэтика» ассоциированы также в пушкинской
автореминисценции: Всяк, пуншу осушив бокал, / Лег с блядью
молодою <...> (I, 9—10) — <...> Поэты лишь не спали / И, водкою
налив бокал, / Баллады сочиняли (XX, 238—240).
25 Ср. изображение Хвостова в сатире «Тень Фонвизина» (1816):
Он не спал; добрый наш поэт / Унизывал на случай оду, / Как
Божий мученик кряхтел <...>, а также «Послание цензору» (1822):
<...> Тот оду сочинит, потея да кряхтя <...> Эти параллели к
«Тени Баркова» упустил из виду М.А. Цявловский [ср.: Гос. музей
А.С. Пушкина, КП 8057/СП 174, л. 57 (2-й пагинации)].
26 Вариант: толкает. В памфлетной «Задаче», задевающей Чул-
кова (Трутень. 1769. Л. XIV), автор (Ф. Эмин?) спрашивает
читателей: Кто в полустишия речь целую ломает <...>? (Берков,
1951, 99). У Вяземского в записной книжке (1963, 90) есть эпиг-
253
рамма (1818), которая также косвенно подтверждает правильность
чтения, предложенного М.А. Цявловским:
Ты говоришь, что мучусь над стихом,
Что не пишу его, а сочиняю,
И впрямь я стих раз двадцать поломаю,
В твоих стихах труда не примечаю,
Но их зато читаю я с трудом.
Третья строка, подчеркнутая автором и, возможно, цитирующая
«Тень Баркова», ощущалась как неудобная для печати — она была
опущена при публикации эпиграммы в «Полярной Звезде» (СПб.,
1823. С. 87). В этой связи уместно вспомнить и другую эпиграмму
Вяземского, «Работая пером как топором...» (Благонамеренный. 1820.
Ч. 9. № 11. С. 129): <...> Ломает он язык и оды ломит [ср.
присказку из сказки «Пизда и жопа»: «Все это давно было, еще в то
время, когда ножей не знали, хуем говядину рубили» (Афанасьев,
1992, 25); в рукописях XVIII в. «заветные» сказки идут иногда
вперемежку с Барковым и барковщиной (см., например: РГАЛИ, ф. 74,
оп. 1, ед. хр. 15, л. 22об.—23об., 27—28)]. См. также письмо
Пушкина А.А. Дельвигу (середина ноября 1828): «Я совершенно
разучился любезничать: мне так же трудно проломать мадригал, как и целку»
(1941, 34) — и строфы, не вошедшие в окончательный текст
«Домика в Коломне» (1830), где фалломорфный александрийский
стих — извивистый, проворный, длинный, склизкой — ведет себя у
французских романтиков уже совсем непотребно: <...> по всем со-
ставам / Развинчен, гнется, прыгает легко<,> / Ломается, на
диво костоправам <...> (ср. Яковлев, 1917, 8—9; о значении слова
сл<омать> у Полежаева см. Илюшин/ 1991, 13). Двусмысленность
пушкинской метафоры почувствовал и усилил Вяземский: Иному
слову рост без малого в аршин; / Тут как ни гни его рукою
расторопной, I Но всё же не вогнешь в ваш стих четверостопный
(«Александрийский стих», 1853; стихотворению предшествует
эпиграф — вышеупомянутые строки из «Домика в Коломне», но не менее
тесно оно связано также с «Тенью Баркова»).
27 Вариант: плут дыбом.
28 Ту же рифму (вообще частотную) вкупе с выражением петь
тоном употребил прежде автор «Оды пизде» (другое название —
«Ода победоносной героине»): Парнасски Музы с Аполлоном, /
Подайте мыслям столько сил, / Каким, скажите, петь мне
тоном I Прекрасно место женских тел? (Зорин, Сапов, 1922, 41);
ср. рифму Аполлон : тон в одноименной оде Чулкова (Барков и др.,
1922, 133)].
29 Ср. также кантату Д. Дашкова «Венчание Шутовского» (1815).
30 Зрелый Батюшков исповедовал еще один, торжественно
приподнятый вариант ключевой стилистической формулы: <...> И жил
так точно, как писал... / Ни хорошо, ни худо! («Друзьям», 1815);
«<...> щастливъ тоть, кто могь жить, какъ писалъ, и писать, какъ
жилъ» (1815, XXVI); «Первое правило <...> должно быть: живи
254
какъ пишешь, и пиши какъ живешь»; «Горацій, Катуллъ и Овидій
такъ жили, как писали» (1816а, 96, 98; Фридман, 1971, 285—286;
Краснокутский, 1974, 3—4; и др.)- Той же заповеди следовал
Грибоедов: «Я какъ живу, такъ и пишу свободно и свободно» (1917, 169;
из письма П.А. Катенину, первая половина января 1825).
31 Не так — в лирическом наброске 1810 г.: <...> Ты ошибся,
мой ленивец, / Музы — девы для меня (Батюшков, 1989, т. 2, 14).
У Пушкина — такая же зависимость поворота темы от общего
эмоционального настроя. С одной стороны: Простите, девственные
музы! («К Галичу», 1815); с другой: <...> Я не хочу из муз наделать
дам <...> («Монах», 1813); От воздержанья муза чахнет, / И
редко, редко с ней грешу («Дельвигу», 1821).
32 См. протокол заседания от 15.[ІИ].1816, в котором В.Л.
Пушкин за пренебрежение к этикету «Арзамаса» обязывался «в стихах
своих <...> призывать не музу, а Варюшку» — шлюху из «Опасного
соседа» (Боровкова-Майкова, 1933, 154).
33 В басне В. Пушкина «Соловей и Малиновка» (1807) речь идет
о супружеской неверности: жена-Пенелопа со Снегирем изменяет
своему мужу-Одиссею, честно исполняющему долг вдали от родного
гнезда [в комментарии А.Л. Зорина (Батюшков, 1989, т. 2, 616)
письмо оставлено без пояснения].
34 Оригинал письма не сохранился. Судя по первой публикации
(Батюшков, 1883, 337), пропущены два слова: одно заменено шестью,
другое — одиннадцатью точками. Убедительнее прочих кажется
конъектура лишилъ невинности (если, конечно, допустить возможность
небольшой типографской неточности). Ср. письмо Н.М. Языкова
брату Александру (13.11.1823): «<...> ежели ты в предполагаемомъ
стихотвореніи не найдешь удовлетворительнаго для твоего вкуса, то
вини не мою Музу, а поэта, ее насиловавшего» (Петухов, 1913, 151)
[см. также письма А.М.Языкову от 23.Х.1825 и 19.VIII.1828
(Петухов, 1913, 214, 337)].
35 В дополнение — еще два примера. Из письма Батюшкова
Н.И. Гнедичу (25.XII.1810): «<...> я советую <...> некоторым
членам < Беседы. — М.Ш> переодеваться в женские платья,
напр<имер>: Крылов — в виде Сафы, Карабанов — под
покрывалом Коринны, Хвостов — в виде Аспазии, Шаховской в виде
Венеры Анадиомены или Филопиги, весь нагой, на ученых скамьях могли
б произвести большой эффект, и я скажу: вот Греция!» (1989, т. 2,
153). Из письма П.А. Вяземскому (26.VIH.1811): «Честь имею быть
с чувством глубочайшего почитания к дарованиям, особливо же к
душе вашей, которая велика, пространна, гибка, тверда, упруга и имеет
все качества того, что Вас делает князем, а не княгинею» (Батюшков,
1989, т. 2, 180).
36 И поборники, и противники Шишкова, несомненно, расценивали
матерщину как явление исконно русское [ср. русской титул
Пушкина (1937, 126)], противопоставляя ее в этом отношении всяческим
европеизмам. Так, в первой четверти XIX в. известному, по крайней
мере, уже с 1780-х годов «Рондо на ебену мать» (см. Илюшин,
255
19916, 14; 1992, 49—50; Барков и др., 1992, 170—171; Зорин,
Сапов, 1992, 260—261) была предпослана идеологическая преамбула, в
первой же строке дающая мотивировку темы: Ебена мать! нужна
для русскаго народа <...> (ср. испорченный текст, приписанный
Баркову: Pardyjak, Miller, 1971, 23; Флегон, 1973, 102). По
поэтическому мастерству эта вставка значительно уступает прототексту
(нарушая даже общий формальный принцип «Рондо», в котором все
строфы исходно начинались и кончались словами ебена мать), но
зато в дописанном «предисловии» дает о себе знать эхо гремевших в то
время языковых и литературных баталий:
Всѣ модные слова, недавно къ намъ вступили —
Чужому научась — мы свой языкъ забыли,
Но матерно бранить, что бъ въ древности сыскать,
Лишь только загляни — анъ туть ебена мать.
От рюрика временъ, хоть все перемѣнилось!
Хоть сталось съ нами то, чего намъ и неснилось;
Одна ебёна мать магла лишь устоять —
Изъ вѣка, въ вѣкъ, — у насъ — слыветь ебёна мать!
У патрютовъ всѣхъ, она въ употребленьи
И красныя слова ничто: предъ ней всравненьи <...> —
и т. д., всего 7 строф [цитируется по списку первой половины 1820-х
годов (РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 13, л. 5об.—6)].
Патриотическое содержание «Рондо» в редакции XIX в. делает весьма вероятным
влияние этого стихотворения на пушкинскую «Рефутацию г-на Бе-
ранжера» (1827): каждый рефрен ее также венчает «элегическая
ебена мать» (Пушкин, 1941, 62).
37 Надо сказать, что в% «Девичьей игрушке» слово член в этом
значении почти не употребляется [ср., впрочем, выпадающую из
общего стилистического строя басню «Госпожа и парикмахер» (в одной из
рукописей подпись: «Сочинена господином Адалимовым»): Он с
торопливостью те пальцы вынимает, / А член туда впускает и т.
п. (Зорин, Сапов, 1992, 146, 379, 392)]. Сопряжение разных
значений этого слова создает комический эффект. В «Ссоре у хуя с пиз-
дой» персонифицированный penis обращается к vulv'e: Как вспомню о
тебе, распухнут мои члены <...> (Илюшин, 1992, 36; см. также
Проскурин, 1993, 211—212).
38 Ср. словоупотребление Батюшкова в его письме Н.И.Гнедичу
(19.III.1807): «Скажи этим скотам <имеются в виду два приятеля. —
М.Ш.>, что я их люблю, хотя они ни мужеского члена не стоят оба»
(1989, т. 2, 69). Разумеется, выражение ни мужеского члена заменяет
собой другое, более краткое и энергичное. Аналогичный эвфемизм — в
«Видении на брегах Леты» (речь идет об орфографии ДИ. Языкова):
<...> И нет ера ни одного.
[Кстати, пародийная служба попрателю и истребителю ера
директору Академии наук С.Г. Домашневу (около 1782) включалась в состав
барковских сборников (см., например, списки 1785 и 1794 гг.: РГА-
256
ЛИ, ф. 74, on. 1, ед. хр. 2, л. 68—69об.; ед. хр. 15, л. 23об.—24;
ср. Ефремов 1872; Брайловский, 1894, 26—29; а также Панов, 1965,
65—67)]. До Батюшкова на тот же манер острил Хемницер: В
письме к родным своим не может удержаться, / Чтоб членом
каждый раз ему не подписаться; / И, словом, весь он член <...>
(«Осел, приглашенный на охоту», не позднее 1782). Хемницер,
несомненно, учитывал синтаксическую двузначность творительного
членом: подписаться кем-нибудь или чем-нибудь (ср. «Оду хую»).
39 Из «Поемы на победу Прияповой дочери» (по другим
спискам — «Сражение между хуем и пиздою о первенстве»), «С.Г.Б.» (=
сочинение г-на Баркова): <...> Багряна плешь ево от ярости сияла
<...> (Илюшин, 1992, 44); из трагедии «Дурносов и Фарное» (sic!),
быть может, также принадлежащей Баркову (ср. Зорин, 1991, 20): В
штанах моих, увы! багряна плешь бледнеет <...> (Зорин, Сапов,
1992, 308). Ср. саму «Тень Баркова» (X, 118): <...> Как будто
плешь багрова <...> (цитируется в редакции Ч. Дж. Де Микелиса).
40 Видимо, Жуковский трунит здесь не только над пристрастием
Вигеля к табаку (см. Гиллельсон, 1974, 39), но, похоже, и над его
гомосексуализмом [ср. в том же письме Светланы: «<...> мысленно
притиснув округлость моего седалищного члена к поверхности
седалищной мебели <...>» (Боровкова-Майкова, 1933, 238); в этой связи
уместно напомнить эротико-сексуальные образы стихотворения
Пушкина «Красавице, которая нюхала табак» (1814): <...> Тогда б в
сердечном восхищеньи / Рассыпался на грудь под шелковый платок
I И даже... Может быть... Но что! мечта пустая <...> Ах,
отчего я не табак!., (еще более откровенно — в первой редакции:
<...> Проникнуть захотел... о сладость вожделенья / ...До
тайных прелестей, которых сам Эрот / Запрятал за леса и горы
<...>); ср. также табак (табака) 'penis' в восточнославянском
фольклоре, например в сказке «Женитьба дурня» (Афанасьев, 1992, 48,
50); в связи с легендой о происхождении табака см., в том числе,
работы И. Поливки (Polivka, 1908), В.Н. Перетца (1916, 125—154),
Б.А. Успенского (1987, 55) и др. и сказ А. Ремизова «Что есть
табак: Гоносиева повесть» (1906)]. Вообще картины половых
извращений на страницах арзамасских протоколов не редкость: «Но и Сла-
венофил подвержены страстям и слабостям нашим». По уверениям
Старушки (= С.С. Уварова, который, как известно, сам был склонен
к содомизму), «Старец <= А.С. Шишков. — М.Ш.> втайне
предавался греческо любви» с С.А. Ширинским-Шихматовым
(Боровкова-Майкова, 1933, 120) [в ноэли Вяземского «Спасителя
рожденьем...» (1814—1817) «князь Шахматный» взывает к
Богородице: <...> Шишковым я испорчен был. / Очисти: умоляю!].
«Педерастия» Шишкова гармонирует со «скотоложеством» Д.И. Хво-
стова. Бессменный секретарь Светлана сообщал (11.XI.1815):
«Потом отверзлись уста мои, и начал я хвалить <...> одного ското-
люба, Дмитрия, но не Донского, а Кубрского» (Боровкова-Майкова,
1933, 102; имение графа-баснописца располагалось на берегах Куб-
ры). Всякие сомнения относительно похабного содержания
«басенного» сюжета рассеивает протокол от 20.[ІѴ].1816: во искупле-
9 Анти-мир русской культуры 257
ние своей вины члену Вотрушке (= В.Л.Пушкину) предписывалось
«ездить верхом на палочке, или на моське, и ставить клестиры своей
малиновке, да сверх того, как уличенному охотнику до слова б л я -
до ват ь, приказать ему творить сие слово и дело с крепостной
свиньей г-на Крылова» (Боровкова-Майкова, 1933, 165, ср. 154, 278
примеч. 34; а также Илюшин, 1991а, 9).
41 То есть в честь А.П.Буниной. Можно предположить
реминисценцию из «Приношения Белинде»: «Посмотри ты наоблеченную въ
черное вретище весталку<,> заключившуюся доброволно въ темницу,
ходящую сканонникомъ <и> чотками, насего пасмурнаго пивореза съ
седою бородою, ходящаго съ жезломъ смирения; оне имеютъ видъ
печалной, оставившей все суеты житейския <...> но уодной пизда<»>
аудругова хуи конечно свербятся и безпокоятъ слишкомъ» (Науч. б-ка
им. Н.И. Лобачевского. Отд. рукописей и редких книг, ед. хр. 2383,
л. 3; ср. Барков, 1992, 16—17; Зорин, Сапов, 1992, 40). Если образ
«весталки» из «Приношения Белинде» ассоциируется с Весталкой
Буниной), то образ «седого пивореза» — с Седым Дедом
Шишковым). Ср. «Речь члена Старушки» (25.XI.1815): «Дева и
отрок <= Бунина и Шихматов. — М.Ш.> наперерыв старались
угождать всем прихотям его <Шишкова. — М.Ш.> литературного
сладострастия <...> в сем дивном союзе она не переставала быть
девою — он оставался всегда отроком» (Боровкова-Майкова, 1933,
120). Ср. также стихи из «Тени Фонвизина», обращенные к
Шишкову (<...> Твоя невинная другиня etc.) и эпиграмму Пушкина «На
Пучкову» (1816).
42 Ср. «Происхождение подъячева»: <...> А у меня мой хуй,
так как перо с очином. 1.XI. 1809 Батюшков спрашивал Гнедича:
«Что Катенин нанизывает на конец строк? Я в его лета низал не
рифмы, а что-то покрасивее, а ныне <...>
А ныне мне Эрот сказал:
„Бедняга, много ты писал
Без устали пером гусиным.
Смотри, завяло как оно!
Недолго притупить одно!
Вот на, пиши теперь куриным".
Пишу, да не пишет, а все гнется» (1989, т. 2, 109). Шутка
Батюшкова имела под собой традицию эротического осмысления структуры
стиха и поэтической терминологии. Так, например, Н.П. Николев
осуждал «нищенскія рифмы, какъ то желати и пылати: ибо
стихотворцу, такъ какъ и всѣмъ, не должно, имѣя нужду въ женщинѣ, без-
честить мущины» (1787, 42), то есть искусственно превращать
мужскую рифму (желать : пылать) в женскую (ср. Мазур, 1990).
43 Ср. эпиграмму Вяземского «Как „Андромахи" перевод...»
(1810-е годы): <...> «Зачем писать ему? — сказал Расин в
досаде. — / Пускай бы он меня в покое оставлял, / Творения с женой
другие б издавал». / Жена же, напротив, когда он к ней подходит,
I Жалеет каждый раз, что он не переводит.
258
44 Не отмеченная комментаторами цитата из Державина («На
смерть князя Мещерского», 1779): <...> Глотает царства алчна
смерть. Следующая строка отсылает к тому же источнику: Косою
острой быстро машет (Батюшков) — Как молнией, косою блещет
(Державин).
45 Эвфемизм Пушкина — это вовсе не уникальный пример
замены неудобной рифмы поэтологическим термином. Вяземский
откликнулся на слух о награждении Д.П. Северина: «Сѣверинъ въ звѣздѣ?
Жихаревъ въ риѳмѣ? А ты? — Вездѣ!» [из письма А.И. Тургеневу
от 26.Х. 1816 (Вяземский, 1899, 60)]. Ср. тот же рифменный ряд:
<...> Здѣсь воръ въ звѣздѣ, I Монахъ въ п<из>дЬ, /Оселъ въ
судѣ, I Дуракъ вездѣ [из стихотворения Вяземского «Сравнение
Петербурга с Москвой», 1810 (наиболее полный текст см. Огарев, 1861,
193—194)]. в
46 В одной из ранних редакций было: <...> угнетен / На небо
девственною рифмой (Благой, 1934, 529); ср.: Девичья игрушка.
47 Ср.: <...> Нагая без покрова <...> («Я вижу тень
Боброва!..»).
48 Цитируется (с исправлением) по публикации А.А. Илюшина
(19916, 15). Текстологическое прочтение предпоследнего стиха, на
котором настаивает А.Л. Зорин (1992, 16): Но если ты пиит,
скажи мне рифму к Ниобу (Зорин, Сапов, 1992, 182),
неудовлетворительно во всех отношениях: версификационном (аномальный
семистопный стих на фоне правильных alexandrin'ов), графико-
орфографическом (диграф ïo по-разному прочитан в рифмующихся
словах), грамматическом [от дательного падежа имени собственного
Ниобу восстанавливается начальная форма Ниоб, но никак не Ниоба
(ср. Зорин, Сапов, 1992, 406)] и т. д. На самом деле, конечно же,
речь идет о рифме к небу (или к нёбу). Это косвенно подтверждается
не только «Видением на брегах Леты», отсылающим сведущего
читателя к эпиграмме из «Девичьей игрушки», но также стихами
Сумарокова, откликом на которые эта эпиграмма является. В октябре 1760 г.
Сумароков напечатал притчу «Коршун в павлиньих перьях», которая
вызвала нарекания своей рифмой жеребо : небо (Берков, 1957, 542).
Ответом зоилу (или зоилам) стала притча «Коршун» (октябрь—
ноябрь 1760?), где пресловутая рифма повторена трижды, а слово
жеребо — пять раз: У Коршуна брюшко иль стельно, иль жеребо, /
От гордости сей зверь взирает только в небо <...> Что / Худого
в том, коль я сказал «жеребо»? / Для рифмы положил я слово
то, для «небо» <...> «Жеребо» положил не ради ль рифмы я?
<...> Напрасно, кажется, за то меня ругают, / Что я неслыхан-
ну тут рифму положил, / Я критики за то себе не заслужил. /
«Жеребо» слово я ошибкой не считаю <...> и т. п. Несомненно,
что именно эта профессиональная дискуссия «стихотворцев»
послужила поводом к созданию эпиграммы (конец 1760 — начало 1761?),
автор которой для вящего пародического эффекта использовал обсцен-
ную рифму, распространенную в устной словесности; ср. «заветные
пословицы» В.И. Даля, № 1: Аще кумъ куму не ебе, не буде у
9*
259
небѣ — и особенно № 136: Риѳма къ нёбу — мать твою ёбу [fMS
Russ 54, folder 1, sheet 1, 4. The Houghton Library, Harvard
University, Cambridge, Mass.; у К. Карея (Carey, 1972, 42, 56) вторая
паремия воспроизведена с искажающими смысл неточностями
(справедливые замечания о книге Карея см. Флегон, 1981, 161—162)].
49 См.: РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 15, л. 66—ббоб.; Науч. б-ка
им. Н.И. Лобачевского. Отд. рукописей и редких книг, ед. хр. 2382,
л. 74 (под заглавием «Искренны<й> совет»); РНБ, Q.XIV.14, л.
95об. (под заглавием «Стишки»). Похоже устроены «Стихи Микули-
на»: <...> Семуде<,> сему делу такъ и быть; <...> опизда<,>
опись дай своим<ъ> стихамъ (РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 2, л.
74об.).
50 Перифрастические цитаты из «Девичьей игрушки» были в
порядке вещей. Для сравнения — одно из писем Вяземского
А.И. Тургеневу (29.Х.1813): «<...> госпожа душа, какъ и всѣ
госпожи, прихотлива, своенравна и ненасытна съ ногь до головы и со
всѣхъ сторонъ. Она, какъ госпожа, comme qui dirait Шаликовъ,
всегда плачется и говорить:
Два счастья вдругь нейдуть, а одного такъ мало» (1899, 18).
Вяземский переиначил последний стих «епиграммы» «Девичье
горе» (в барковском сборнике она часто находится бок о бок со
«Стихотворцами»): <...> Два вдруг не лезут, а одного хуя мало!
(Илюшин, 1991 б, 15) — ср. варианты: Два вдругъ нелезутъ ей<,>
а одново то мало (по списку из архива Б.А. Успенского); Два
вдрукъ нелезутъ ей, аодново такъ мало (РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед.
хр. 2, л. 18; ср. ед. хр. 15, л. 80; Зорин, Сапов, 1992, 182); Два
вдругъ нелезутъ кнеи<,> аодного такъ мало (Науч. б-ка им.
Н.И. Лобачевского. Отд. рукописей и редких книг, ед. хр. 2383, л.
84); Два вдругъ нейду тъ ей<,> а одново такъ мало [по списку
•1800-х годов (РНБ, Q.XIV.14, л. 60об.)]; и наконец, по одному из
поздних списков (середина XIX в.): Два хуя въдругъ нейдутъ<,>
аодного ей мало (РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 6, л. 20); ср. также
письмо Батюшкова П.А. Вяземскому от 26.VIII.1811 (см. примеч.
35). Эта паремия — фольклорного происхождения: «Вот тут девушка
гадала да гадала: одного-то хуя мало, а два не влезут; лучше их
вместе свить да оба вбить» [прибаутка из сказки «Семейные разговоры»
(Афанасьев, 1992, 70; ср. Carey, 1972, 46)].
БИБЛИОГРАФИЯ
Адрианова-Перетц, 1935 — Адрианова-Перетц В. Символика
сновидений Фрейда в свете русских загадок // Академику
Н.Я.Марру. М.; Л., 1935. С. 497—505.
Альтшуллер, 1976 — Альтшуллер М.Г. Творческое наследие Тре-
диаковского в «Беседе любителей русского слова» // Венок Тре-
260
диаковскому: Из неопубл. соч.; Тредиаковский и родной край;
Вклад в развитие яз. и лит.; Читатели и ценители; Из краевед,
хроники. Волгоград, 1976. С. 94—99.
Альтшуллер, 1984 — Альтшуллер М. Предтечи славянофильства в
русской литературе: (Общество «Беседа любителей русского
слова»). Ann Arbor, 1984.
Афанасьев, 1992 — Русские заветные сказки А.Н. Афанасьева. М.;
Париж, 1992.
Барков, 1992 — Барков И. Девичья игрушка / Сост. и примеч.
B. Сажина. СПб., 1992.
Барков и др., 1992 — Барков И. и др. Из книги «Девичья
игрушка»: [Публ. А.А. Илюшина] // Комментарии. 1992. № 1.
C. 131 — 175.
Барсов, 1981 — Российская грамматика А.А. Барсова / Подгот.
текста и текстол. коммент. М.П. Тоболовой; Под ред. и с пре-
дисл. Б.А. Успенского. М., 1981.
Берков, 1951 — Сатирические журналы Н.И. Новикова: Трутень.
1769—1770; Пустомеля. 1770; Живописец. 1772—1773;
Кошелек. 1774 / Ред., вступ. ст. и коммент. П.Н. Беркова. М., 1951.
Берков, 1957 — Берков П.Н. Примечания // Сумароков А.П.
Избранные произв. / Вступ. ст., подгот. текста и примеч.
П.Н. Беркова. Л., 1957. С. 511—577.
Батюшков, 1815 — К.Б. Письмо к И.М.М.А. о сочинениях
Г. Муравьева // Муравьев М.Н. Обитатель предместия и Эми-
лиевы письма. СПб., 1815. С. III—XXIX.
Батюшков, 1816а — Б. О впечатлениях и жизни Поэта // Вестн.
Европы. 1816. № 10. С. 93—104.
Батюшков, 18166 — Батюшков К. Речь: О влиянии легкой Поэзии
на образованность языка // Тр. О-ва любителей Рос.
словесности при Имп. Моск. ун-те. 1816. Ч. 6. С. 45—62 (1-й
пагинации).
Батюшков, 1817 — Батюшков К. Опыты в стихах и прозе. СПб.,
1817. Ч. I: Проза.
Батюшков, 1883 — Константин Николаевич Батюшков в письмах к
Ник. Ив. Гнедичу // Рус. старина. 1883. Т. XXXVIII.
С. 333—350.
Батюшков, 1989 — Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. М., 1989.
Бахтин, 1822 — Список с письма М.И. к Г.Издателю Сына
Отечества от 28 Марта 1822 года // Вестн. Европы. 1822. № 13/14.
С. 27—39. Без подписи.
Бестужев-Марлинский, 1833 — Марлинский А. [Рецензия] //
Моск. телеграф. 1833. Ч. 52. № XV. С. 399—420; № XVI.
С. 541—555; Ч. 53. № XVII. С. 85—107; № XVIII. С. 216—
244. Рец. на кн.: Полевой Н. Клятва при Гробе Господнем: Рус.
быль ХѴ-го в.
Благой, 1934 — Благой Д. Д. Комментарии // Батюшков К.Н.
Сочинения / Ред., ст. и коммент. Д.Д. Благого. [А.], 1934.
С. 433—608.
261
Боровкова-Майкова, 1933 — Аразамас и арзамасские протоколы /
Ввод, ст., ред. протоколов и примеч. к ним М.С. Боровковой-
Майковой; Предисл. Д. Благого. Л., 1933.
Брайловский, 1894 — Брайловский С. О старинном острословии: [I.
Кто был автором «Службы на бывшего в Академии наук
директором господина Домашнева» и «Челобитной от ера»?; II. Еще
образчик старинного острословия] // Библиограф. 1894. Вып. 1.
С. 26—31.
Бурнашев, 1871 — В.Б. Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и
его пятничные литературные собрания // Рус. вестн. 1871. Т.
ХСѴ. № 9. С. 250—283; № 10. С. 599—636; Т. ХСѴІ.
№ 11. С. 133—203.
Винокур, 1930 — Винокур Г. Вольные ямбы Пушкина [1928] //
Пушкин и его современники: Материалы и исслед. Л., 1930. Вып.
ХХХѴІІІ/ХХХІХ. С. 23—36.
Винокур, 1945 — Винокур Г. Русский язык: Ист. очерк. М., 1945.
Винокур, 1983 — Винокур Г.О. Язык литературы и литературный
язык [1945?] // Контекст — 1982: Лит.-теорет. исслед. М.,
1983. С. 255—289.
Вяземский, 1878 — Вяземский П.А. О двух статьях<»>
напечатанных в «Вестнике Европы» [1822] // Вяземский П.А. Поли,
собр. соч. / Изд. гр. С.Д. Шереметева. СПб., 1878. Т. I:
1810—1827. С. 84—95.
Вяземский, 1899 — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб.,
1899. Т. I: Переписка кн. П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым.
1812—1819 / Изд. гр. С.Д. Шереметева; Под. ред. и с примеч.
В.И. Саитова.
Вяземский, 1963 — Вяземский П.А. Записные книжки (1813—
1848) / Изд. подгот. B.C. Нечаева. М., 1963.
Гаспаров, 1984 — Гаспаров M.Л. Очерк истории русского стиха:
Метрика; Ритмика; Рифма; Строфика. М., 1984.
Гаспаров, 1991 — Гаспаров М.Л. Двадцать стиховедческих
конъектур к текстам Маяковского // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.
1991. Т. 50. № 6. С. 531—538.
Гиллельсон, 1974 — Гиллелъсон М.И. Молодой Пушкин и
арзамасское братство. Л., 1974.
Гильфердинг, 1894 — Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфер-
дингом летом 1871 года. 2-е изд. СПб., 1894. Т. 1.
Грибоедов, 1917 — Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений. Пг.,
1917. Т. III / Под ред. и с примеч. Н.К. Пиксанова.
Грот, Пекарский, 1866 — Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву
/ Изд. с примеч. и указат. Я. Грот и П. Пекарский. СПб., 1866.
Дашков, 1811 — Дашков Д. О легчайшем способе отвечать на
критики. СПб., 1811.
Дмитриев, 1869 — Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти.
2-е изд. М., 1869.
Ефремов, 1872 — Ефремов П. Обращики старинного острословия:
[ 1. На бывшего в Академии Наук директором господина Домаш-
262
нева; II. Челобитная от ера] // Рус. архив. 1872. № X. Стб.
2032—2036.
Живов, 1981 — Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе
русской культуры конца XVIII — начала XIX века // Учен. зап.
Тарт. гос. ун-та. 1981. Вып. 546. С. 56—91.
Золотоносов, 1992 — Золотоносов M. Слово и тело, или Сексаго-
нальные проекции русской культуры: Неформ. введ. в антологию
фаллистики // Петерб. чтения. 1992. № 1. С. 182—215.
Зорин, 1991 — Зорин А. Барков и барковиана: Предвар. замечания
// Лит. обозрение. 1991. № 11. С. 18—21.
Зорин, 1992 — Зорин А. Иван Барков — история культурного
мифа // Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова /
Изд. подгот. А. Зорин и Н. Сапов. М., 1992.
Зорин, Сапов, 1992 — Девичья игрушка, или Сочинения господина
Баркова / Изд. подгот. А. Зорин и Н. Сапов. М., 1992.
Илюшин, 1991а — Илюшин А.А. Ярость праведных: Заметки о не-
пристойн. рус. поэзии XVIII — XIX вв. // Лит. обозрение.
1991. № 11. С. 7—14.
Илюшин, 19916 — Из «Девичьей игрушки»: [Публ. и примеч.
А.А.Илюшина] // Лит. обозрение. 1991. № 11. С. 14—17. Без
подписи.
Илюшин, 1992 — Из сборника «Девичья игрушка»: [Публ. и
примеч. А.А. Илюшина] // Три века поэзии русского Эроса: Публ.
и исслед. [М.; Тарту], 1992. С. 23—59. Без подписи.
Краснокутский, 1974 — Краснокутский B.C. «Арзамас» и его
значение в истории русской литературы: Автореф. дисс. ... канд. фи-
лол. наук. М., 1974.
Краснокутский, 1977 — Краснокутский B.C. О своеобразии
арзамасского «наречия» // Замысел, труд, воплощение... М., 1977.
С. 20—41.
Лацис, 1922 — Лащіс А. В поисках утраченного смысла // Три
века поэзии русского Эроса: Публ. и исслед. [М.; Тарту], 1992.
С. 119—128.
Ломоносов, 1952 — Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений.
М.; А, 1952. Т. 7: Тр. по филологии. 1739—1758 гг.
Лотман, 1973 — Лотман Ю.М. Сатира Воейкова «Дом
сумасшедших» // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1973. Вып. 306. С. 3—45.
Лотман, Успенский, 1975 — Споры о языке в начале XIX в. как
факт русской культуры: («Происшествие в царстве теней, или
Судьбина Российского языка» — неизвест. соч. С. Боброва): Ст.,
публ. и коммент. Ю. Лотмана и Б. Успенского // Учен. зап.
Тарт. гос. ун-та. 1975. Вып. 358. С. 168—322.
Мазур, 1990 — Мазур СЮ. Эротика стиха: Герменевт. этюд //
Даугава. 1990. № 10. С. 88—94.
Макаров, 1803 — [Макаров П.И. Рецензия] // Моск. Меркурий.
1803. Ч. IV. С. 118—124. Рец. на кн.: Жанлис [С.-Ф.] де.
Матери <->соперницы, или Клевета. М., 1803. Ч. 1—2. Без
подписи.
263
Макогоненко, 1967 — Макогоненко Т.П. Примечания // Дмитриев
И. И. Поли. собр. стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и
примеч. Г.П. Макогоненко. Л., 1967. С. 415—470.
Николев, 1787 — Николев Н.П. Рассуждение о стихотворстве
Российском // Новые ежемес. соч. 1787. Ч. X. С. 37—92.
Огарев, 1861 — Русская потаенная литература XIX столетия.
Лондон, 1861. Отд. 1: Стихотворения, ч. 1 / С предисл. Н. Огарева.
Орлов, 1931 — Эпиграмма и сатира: Из истории лит. борьбы XIX
в. / Сост. В.Орлов. М.; Л., 1931. Т. I: 1800—1840.
Панов, 1965 — Панов М.В. «Лишние буквы» алфавита // Обзор
предложений по усовершенствованию русской орфографии
(XVIII—XX вв.). М, 1965. С. 52—72.
Перетц, 1916 — Перетц В.Н. Отчет об экскурсии семинария
русской филологии в Киеве 30 мая — 10 июня 1915 года. Киев,
1916.
Петухов, 1913 — Письма Н.М. Языкова к родным за дерптский
период его жизни (1822—1829) / Под ред. и с объяснит, примеч.
Е.В. Петухова. СПб., 1913.
Проскурин, 1984 — Проскурин О.А. Неизученный эпизод полемики
о старом и новом слоге: (Из лит. наследия А.Е. Измайлова) //
Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1984. Т. 43. № 1. С. 77—88.
Проскурин, 1987 — Проскурин О. «Победитель всех Гекторов
халдейских»: (К.Н. Батюшков в лит. борьбе начала XIX в.) //
Вопр. лит. 1987. № 6. С. 60—93.
Проскурин, 1993 — Проскурин О. «Писатель не для дам»?: К
демифологизации расхожих ист.-лит. представлений // Новое лит.
обозрение. 1993. № 2. С. 210—213.
Пушкин, 1937 — Пушкин. Полное собрание сочинений. [М.; Л.],
1937. Т. 13: Переписка. 1815—1827.
Пушкин, 1941 — Пушкин. Полное собрание сочинений. [М.; Л.],
1941. Т. 14: Переписка. 1828—1831.
Пушкин, 1991 — Пушкин А.С. Тень Баркова: [Ред. текста
М.А. Цявловского] // Лит. обозрение. 1991. № 11. С. 26—27.
Ранчин, 1993 — Под сению кулис и под кровлею борделя: («Писатель
не для дам» М.Н. Лонгинов): Публ. AM. Ранчина // Лица:
Биограф, альманах. М.; СПб., 1993. [Вып.] 2. С. 389—456.
Сидорова, 1956 — Сидорова Л.П. Рукописные замечания
современника на первом издании трагедии В.А. Озерова «Димитрий
Донской» // Зап. Отд. рукописей Гос. б-ки им. В.И. Ленина. 1956.
Вып. 18. С. 142—179.
Томашевский, 1933 — Ирой-комическая поэма / Ред. и примеч.
Б. Томашевского; Вступ. ст. В.А. Десницкого. Л., 1933.
Томашевский, 1958 — Томашевский Б.В. Строфика Пушкина //
Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1958. Т. II. С. 49—184.
Тредиаковский, 1730 — Езда в остров Любви / Пер. с Фр. на Рус.
чрез студента В. Тредиаковского... СПб., 1730.
Тынянов, 1926 — Тынянов Ю. Архаисты и Пушкин // Пушкин в
мировой литературе. Л., 1926. С. 215—286, 384—393.
264
Тынянов, 1977 — Тынянов Ю.Н. О пародии [1929] // Тынянов
Ю.Н. Поэтика; История литературы; Кино. М., 1977. С. 284—
310.
Успенский, 1983 — Успенский Б.А. Мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии. (Ст. первая) // Studia Slav. 1983.
Vol. 29, fasc. 1/4. P. 33—69.
Успенский, 1985 — Успенский Б.А. Из истории русского
литературного языка XVIII — начала XIX века: Яз. программа Карамзина
и ее ист. корни. М., 1985.
Успенский, 1987 — Успенский Б.А. Мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии. (Ст. вторая) // Studia Slav. 1987.
Vol. 33, fasc. 1/4. P. 37—76.
Флегон, 1973 — Флегон А. За пределами русских словарей. London,
1973.
Флегон, 1981 — Флегон А. Вокруг Солженицына. London, 1981.
Т. 1.
Фридман, 1971 — Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. М., 1971.
Цявловский, 1992 — Цявловский M.А. Комментарии [к балладе
А.С. Пушкина «Тень Баркова»] // «Летите, грусти и печали...»:
Неподцензур. рус. поэзия XVIII—XIX вв. / Изд. подгот.
А.А. Илюшин, К.Г. Красухин. М., 1992. С. 144—222.
Чернов, 1991 — Чернов А. «Тень Баркова»<,> или <Е>ще о
пушкинских эротических ножках // Синтаксис. 1991. № 30.
С. 129—164.
Шапир, 1989 — Шапир М.И. Теория «церковнославянско-русской
диглоссии» и ее сторонники: По поводу кн. Б.А. Успенского
История русского литературного языка (XI—XVII вв.) // Russ.
Ling. 1989. Vol. 13. № 3. P. 271—309.
Шапир, 1990a — Шапир М.И. Комментарии // Винокур Г.О.
Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М., 1990.
С. 256—365.
Шапир, 19906 — Шапир М.И. Язык быта / языки духовной
культуры // Russ. Ling. 1990. Vol. 14. № 2. P. 129—146.
Шапир, 1990в — Шапир М.И. Metrum et rhythmus sub specie
semioticae // Даугава. 1990. № 10. С. 63—87.
Шапир, 1992 — Шапир M. Художественно-уникальное издание, или
Девичьи шалости публикатора // Лит. газ. 1992. 14 окт. № 42.
С. 4. Рец. на кн.: Барков И. Девичья игрушка /Сост. и примеч.
B. Сажина. СПб., 1992.
Шишков, 1804 — [Шишков А.С] Прибавление к сочинению<,>
называемому Рассуждением о старом и новом слоге Российского
языка... СПб., 1804. Без подписи.
Шишков, 1811 — Шишков А. Рассуждение<:> О красноречии
Священного писания и проч. // Соч. и пер., изд. Рос. Акад.
1811. Ч. V. С. 171—281.
Щуплов, 1992 — Лука Мудищев: Поэма: [Публ. А.Н. Щуплова]
// Три века русского Эроса: Публ. и исслед. [М.; Тарту], 1992.
C. 70—76. Без подписи.
265
Яковлев, 1917 — Яковлев H. Последний литературный собеседник
Пушкина: (Бари Корнуоль) // Пушкин и его современники:
Материалы и исслед. Пг., 1917. Вып. XXVIII. С. 5—28.
Яматовский, 1986 — Венок Венере: Рус. нецензур, стихотворения /
Сост. и послесл. И.Н. Яматовского. Tokyo, 1986.
Carey, 1972 — Carey С. Les proverbes erotiques russes: Etudes de
proverbes recueillis et non-publiés par Dal* et Simoni. The Hague; P.,
1972.
De Michelis, 1990 — De Michelis С С. Introduzione // Puskin A.
L'ombra di Barkôv: Ballata / A cura di C.G.De Michelis. Venezia,
1990. P. 7—30.
Drummond, Perkins, 1987 — Dictionary of Russian Obscenities /
Сотр. D.A. Drummond and G.Perkins. 3rd, revised ed. Oakland,
1987.
Karlinsky, 1963 — Karlinsky S. Tallemant and the Beginning of the
Novel in Russia // Compar. Lit. 1963. Vol. XV. № 3. P. 226—
233.
Lilly, 1989 — Lilly IX. Thr Russian Iambic 4343aBaB-Stanza Lyric:
An Outline History // Russian Verse Theory. Columbus, Ohio,
1989. P. 207—225.
Pardyjak, Miller, 1971 — A Dictionary of Russian Obscenities /
[Сотр. R.S.Pardyjak and M.D.Miller]. Cambridge, Mass., 1971.
Poesjkin, 1991 — Poesjkin A. De schim van Barkôv: (Vertaling
G.Poederooien) //De Tweede Ronde. 1991. Jg. 12. № 2. S. 72—
81.
Polivka, 1908 — Polivka J. Lidové povësti о pùvodu tabâku / Jagic-
Festschrift: Zb. u slavu V. Jagica. Berlin, 1908. S. 378—388.
Puskin, 1990 — Puskin A. L'ombra di Barkôv: Ballata / A cura di
C.G.De Michelis. Venezia, 1990.
Reyfman, 1990 — Reyfman I. Vasilii Trediakovsky: The Fool of the
«New» Russian Literature. Stanford, Calif., 1990.
Serman, 1974 — Serman I.Z. Konstantin Batyushkov. N.Y., 1974.
Titunik, 1984 — Titunik I.R. Vasilii Trediakovskii and Eduard
Limonov: Erotic Reverberations in the History of Russian Literature
// Russian Literature and American Critics. Ann Arbor, 1984. P.
393—404.
Vasmer, 1955 — Vasmer M. Russisches etymologisches Wôrterbuch.
Heidelberg, 1955. Bd. 2: L — Ssuda.
Г.ЛЕВИНТОН
•
ДОСТОЕВСКИЙ
И»НИЗКМЕ« ЖАНРЫ
ФОЛЬКЛОРА
Несмотря на весь наш «демократизм», мы все-таки
относимся к исследуемым нами фактам психо-социальной
жизни «аристократически». Между прочим, в области
литературы и* словесности считаем достойными нашего
внимания по преимуществу или произведения
«интеллигентов», сочиняющих для «интеллигентов» же, или же
так называемые произведения «народной словесности», в
которой мы доискиваемся то проявлений «коллективной
психики» («этнопсихологии»), то традиционных
продолжений глубокой старины. Громадное количество
«литературных произведений», по своему влиянию на
народные массы весьма могущественных, оставляются
обыкновенно без внимания.
И.А. Бодуэн де Куртенэ1
Многочисленные исследования Достоевского, направленные
на выявление в его текстах архетипичесйих черт и конструкций,
все больше оттесняют исследование собственно фольклорных
источников в самом узком смысле этого слова. Между тем
очевидно, что эти два подхода ничуть не противоречат друг другу,
что архетипическая основа романа ни в коей мере не исключает
возможности прямой (цитатной, подтекстовой) мотивировки
фрагментов или особенностей текста конкретным фольклорным
источником2. В этой работе мы пытались продемонстрировать
некоторые из подобных примеров, ориентируясь на область
весьма мало изученную (и как таковая, и в связи с ее литера-
Предлагаемая вниманию читателей работа была прочитана как доклад на
конференции в Музее Достоевского осенью 1975 года при решительном
неодобрении дирекции музея и радостном смехе большинства слушателей. В
нынешний вариант внесены некоторые исправления и дополнения, иногда
довольно обширные.
267
турными отражениями) — на малые фольклорные жанры
(главным образом паремиологические) и прежде всего обсценно-
го характера.
Если связи романов Достоевского с духовным стихом или
легендой изучались весьма внимательно, то фразеологизмы,
пословицы и т. п., связанные с фольклорной эротикой и скатоло-
гией, кажется, практически не рассматривались в числе
источников. Однако не существует серьезных оснований для того,
чтобы отрицать за такими текстами статус фольклорных текстов
(проблема, например, специфической клишированности мата
достаточно очевидна и весьма интересна), как и для того, чтобы
отрицать влияние этой области словесности и языка на
литературу. Более того, именно эта сфера как бы естественно
предусматривается концепцией романа Достоевского как мениппеи, но,
кроме анализа рассказа «Бобок», она практически отсутствует в
книге M. М. Бахтина. Между тем соответствующие тексты,
безусловно, интересовали Достоевского, об этом с очевидностью
свидетельствуют записи в «Сибирской тетради», в основном па-
ремиологического характера (и насыщение этими паремиями
«Записок из Мертвого дома»), в том числе и обсценного, ср.
записи № 90, 471, 217;3 показательно, что они не
откомментированы в последнем академическом издании (или же
комментарии пытаются затушевать неприличную интерпретацию, как в
№ 77)4. Интересно и то, что среди фольклорных тем у
Достоевского немалое место занимают свадебные. Д. К. Зеленин,
собрав все известные ему примеры свадебной формулы «хочу —
скочу», приводит, в частности, сцену на суде в «Братьях
Карамазовых»;5 особенно важно в связи с последующим известное
место из «Зимних заметок о летних впечатлениях»6 о заметке
«Еще остатки варварства» (в действительности «Еще к
характеристике Замоскворечья» — см. V, 60 и коммент. — V,
367): «В руках у свахи был узелок, который она везла напоказ
от некоторых новобрачных, очевидно, проведших счастливую
ночь. В узелке, разумеется, заключалась некая легкая одежда,
которую в простонародье обыкновенно показывают родителям
невесты. Народ смеялся, смотря на сваху: предмет игривый».
Ср. далее комментарии Достоевского: «Это скверно, это
нецеломудренно, это дико, это по-славянски, знаю, хотя все это
сделалось, конечно, без худого намерения, а, напротив, с целью
торжества новобрачной, в простоте души, от незнания лучшего,
высшего, европейского». Далее следует рассуждение об
употреблении дамами ваты («с каким тонким расчетом и знанием
дела они умеют подложить вату в известные места своей очаро-
268
вательной европейской одежды <...> их дочери, эти невинные
семнадцатилетние создания, едва покинувшие пансион, и те
знают про вату, все знают: и к чему служит вата и где именно,
в каких частях нужно употребить эту вату, и зачем, с какою-то
именно целью все это употребляется») и далее:
«...целомудреннее, что ли, они несчастной легкой одежды, везомой с
простодушной уверенностью к родителям, с уверенностью, что
так именно надобно, так именно нравственно...» Это место
(напоминающее последующие построения Розанова) интересно
не только как свидетельство интереса Достоевского к обряду
(как национальному проявлению), но и в связи с тем, что
здесь — в тексте публицистическом — более эксплицитно
проявляются некоторые особенности, с которыми нам
придется еще встретиться в собственно художественных текстах
Достоевского.
Это относится прежде всего к приему специального
подчеркивания «неприличного» характера текста. Так, слова предмет
игривый напоминают рассматриваемые ниже случаи появления
слов типа неблагопристойности у мужицкая поговорка как
индексов обсценного каламбура, находящегося где-то по соседству
в тексте. Здесь соотношение «непристойного» и
соответствующих слов-индексов вполне мотивировано. Ср. с этим и
антонимический набор слов в конце всего пассажа: «чище,
нравственнее, целомудреннее», подразумевающих свою противоположность
не только по контексту, но и из-за негативно-вопросительной
конструкции с что ли. Интересно, что это эксплицитное место
объясняет менее прозрачный пассаж в таком существенном для
нашей темы тексте, как повесть «Чужая жена, или Муж под
кроватью»:7 «Это у тебя вата в ушах дурно лежит. — Ах, по
поводу ваты. Знаешь ли тут наверху <...>. Так вот я и
встречаю хорошенькую» (II, 70). Причина ассоциации ваты с
женщиной эксплицирована в «Зимних заметках».
Такого рода игра, связанная с «материально-телесным
низом», для Достоевского вполне характерна и, как мы увидим
ниже, в самых «раблезианских» (в смысле M. М. Бахтина)
своих проявлениях. На один такой пример давно уже указали
М. С. Альтман и Н. И. Харджиев:8 слова Лизы Хохлаковой в
разговоре с Алешей, где «звуковые сдвиги и каламбуры
использованы для реализации эротического плана»:9
«...А знаете, я хочу жать, рожь жать [ = рожать]. Я за вас
выйду, а вы станете мужиком, настоящим мужиком, у нас
жеребеночек [ = же ребеночек], хотите? <...> завертеть его и
спустить и стегать, стегать, стегать кнутиком: выйду за него
269
замуж, всю жизнь буду спускать. Вам не стыдно со мной
сидеть?» (XV, 21 — 22).
Мы можем указать к этому и реальный фольклорный
источник: в гадании, записанном недавно в Ленинградской области10,
встречается обряд, в котором девица насыпает на свою постель
рожь и говорит «суженый, ряженый, приходи рожь жать».
Каламбур в этом гадании более сложен, нежели у Достоевского,
т. к. связан с двойной метонимией: (1) действия и результат:
т. к. рожать — это конечная, дальняя цель, девушка же зовет
суженого для более непосредственной цели (здесь, видимо,
работает и прямое значение слова жать, т. к. рожь рассыпана по
кровати — т. е. жать рожь — лежать на ржи — а также,
возможно, и эротические употребления этого корня, в
образованиях типа обжимать и т. п.)11 и (2) действия и видения (с
обоими ударениями — то есть видения и видения), т. к. задача
гадания состоит в том, чтобы девушке приснился жених (но при
этом в большинстве гаданий такого рода приглашение жениха
связано с эротической метафорикой — коня поить и т. п.).
Нам неизвестны более ранние записи этого обряда, но странно
было бы на этом основании утверждать, что его не
существовало в XIX веке12.
В примере Достоевского интересны не только сдвиги и
каламбуры, но и последняя фраза Лизы — «метареплика»,
вскрывающая двусмысленность диалога. Таким же точно
образом отмечаются и каламбуры в стихах Лебядкина, которые в
черновых вариантах были гораздо более откровенными13. В
наброске «Картузов» (эту фамилию носил в черновиках Лебяд-
кин) читаем:
Когда с знакомыми на седле летает,
А локон ее с ветрами играет
Тогда молюсь, и трепещу, и наслаждений желаю,
И ей вслед с матерью слезу мою посылаю (XI, 36, ср. X, 106).
«Как это на дамском седле летать можно? С ветрами?
Странное выражение.
— Локон с ветрами, в<аше> п<ревосходительст>во <...>
— Но все-таки с ветрами же... впрочем, наслаждений
желаю... Наслаждений? <...> Вам следует не смеяться, а краснеть
<...> Это каких же таких наслаждений вы изволите желать,
м<илостивый> г<осударь>? И так бесстыдно, могу даже
сказать бессовестно, выражаете свою мысль <...>
270
— Поэтическая мысль <...> в поэзии позволительно...
— <...> вздор... нигде не позволительны
неблагопристойности» (XI, 37).
Другой пример из «Бесов» интересен тем, что
непристойность достигается именно пропуском слова (одного из элементов
фразеологизма), которое само по себе вполне невинно, но, когда
его подчеркивает самый факт отсутствия, «умолчания», оно
приобретает специфический смысл. «Другая же половина [scil.:
ватаги] так и заночевала в залах в мертвопьяном состоянии, со
всеми последствиями, на бархатных диванах и на полу» (X,
393). Соседство с бархатными диванами показывает, о каких,
собственно, последствиях идет речь, но сочетание «со всеми
последствиями» представляет собой эллипсис формулы «со
всеми вытекающими последствиями», именно опущенное слово
несет обсценный, скатологический смысл14. Ср. подобного же рода
описание, но без столь тонкой игры, в «Скверном анекдоте»:
«всю ночь выносила через коридор из спальни необходимую
посуду» (V, 40); ср. это же слово в соседнем эпизоде: «сел <...>
так как был босой и в необходимейшем белье» (V, 41 —
отметим, что это — описание свадьбы и даже, по существу, первой
брачной ночи).
На том же приеме опущенного слова строится и наиболее
интересный пример подобной игры, связанный с интересующей
нас сценой в «Бесах» еще и обыгрыванием названия газеты
«Голос» (в «литературной кадрили»: «эта охриплость голоса и
должна была изображать одну из известных газет» — X,
389)15. Мы имеем в виду каламбур на названии этой газеты в
«Крокодиле»16.
Название газеты «Волос» (достаточно прозрачное для
читателя 60-х гг. — ср., в частности, показательное склонение этого
слова: «набрал... старых „Известий" и „Волосов"» — V, 207)
в окончательном тексте появляется несколько раз, но специально
не обыгрывается («прочел еще утром в „Петербургских
известиях" и в „Волосе"» — V, 186, «сверяя ежедневно с
„Волосом" — 195 и ряд упоминаний на с. 205 и 207). Между
тем в черновиках видно, что газетная тематика, уместившаяся на
двух страницах окончательного текста, должна была
развернуться подробнее, и газета «Волос» занимала в ней существенное
место:
1. «Журнальные споры о крокодиле, „Волос" и „Известия"»
(V, 234); 2. «Вы привесок к „Волосу", вы держитесь волосом
и на „Волосе", след<овательно>, должны быть по возможности
пусты, чтобы не оборвать „Волос"» (326); 3. «„Родные вы-
271
писки" привесок к „Волосу"»; 4. «Чтобы все подписчики
„Выписок" устремились к „Волосу". Таким образом „Волос"
длиннее станет» (327);17 5. «„Волос" хотя и тонок, зато ум
короток» (329); 6. «Краевский и Загуляев (Газета „Волос")»
(332); 7. «Был в редакции „Волоса"» (327). И наконец 8.
Длинный диалог на с. 337: «И так уж нас обличают в
«Ведомости», прилагая к нам мужицкую пословицу, что у
бабы волос долог, а ум короток... Этой пословицей они хотели
щегольнуть народностью.
— А я хочу не издавать «Волос», чтобы все говорили
обратное, то есть что у бабы ум долог, а волос короток.
— То есть у нас, а не у бабы.
— Ну да, у нас, разумеется, не у бабы же... Да и нейдут к
бабе короткие волосы <...>18
— Лучше уж: у волоса ум долог, а у бабы ум короток.
— Ну да... только как же у волоса ум... А по-моему, лучше
у «Волоса» ум долог.
— Нет, у бабы.
— Ну, я, по правде, не литератор19, а вы знаете
народность».
Все эти примеры отчетливо указывают на какую-то игру,
основанную на каламбуре и на пословице. Первое
поддерживается всем контекстом каламбурных названий газет и
журналов в «Крокодиле», таковы в тексте «Петербургские
Известия» ( = «С.-Петербургские ведомости» — см. выше пример
8) и специально: «Как сын отечества говорю, то есть говорю не
как «Сын Отечества», а просто как сын отечества говорю» (V,
190). В черновиках — те же «Известия» (ср. в раннем
наброске «Весть» — V, 322), журнал «Чайник» ( =
«Будильник». V, 324), «Головешка» (V, 329) — то есть «Искра»
(«Головешка» появляется и в «Скверном анекдоте», ср.:
Альтман М.С. Указ. соч. С. 243); наконец, «Читальня», то есть
«Библиотека для чтения», в которой сотрудничал Краевский до
«Голоса»: «Я уже утопил журнал „Читальню", утоплю и
„Выписки"» (V, 327)20, ср. также в фельетонах «Звук» =
«Голос» (см. ниже)21, «Своевременный» (= «Современник».
XX, 104; ср., может быть, „Благонамеренный") и т. п. Ср.
также игру на названии «Свисток»: «такое ретроградное
желание <...> могло навлечь на нас свистки общественности и
карикатуры г-на Степанова» (V, 183 — 184). «Вы непременно
будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках
наших» (V, 184), «боюсь <...> свиста сатирических газет
наших (V, 198)22. Наконец, показательно, что Краевскому спе-
272
циально посвящены несколько статей и фельетонов
Достоевского, и прежде всего статья «Каламбуры в жизни и в
литературе», среди записей к которой находится первый набросок
«Крокодила» (см. V, 387 — 389), но на этой статье мы
подробнее остановимся ниже.
Эти материалы говорят только о каламбурном характере
подтекста (и самого источника, и его использования), но на сам
источник указывает специально подчеркиваемая тема пословиц
(«мужицкая пословица»23 в примере 8, дважды повторенное
слово народность — там же), поддержанная всем контекстом
«Крокодила» с его частым обыгрыванием пословиц и
упоминаниями самого слова пословица24. Из конкретных пословиц
нужно назвать прежде всего «У бабы волос долог, да ум короток»
(см. примеры 8, 5, отчасти 4) и фразеологизм «висеть на
волоске» (примеры 1 — 3). Последние случаи подчеркивают
характерную для русской фразеологии тему волоса как предельно
тонкого объекта (ср. ни на волос и т. п.). Особенно
показателен пример 5, где в первой пословице долог заменено на
тонок25 (процесс сам по себе довольно сходный с заменой
«Голос» на «Волос»), и эта замена указывает на
действительный источник названия — пословицу, сопоставляющую голос и
волос: «голос, что в жопе волос, тонок и нечист» (ср. вариант
«Тонкий голосок — как пиздий волосок»)26.
Предположение о цитировании этой пословицы
подтверждается несколькими соображениями, но прежде, чем их привести,
нужно подчеркнуть, что коннотацией цитирования пословицы
оказывается именно опущенное, нигде не фигурирующее слово
нечист (ср. хриплый голос, упоминавшийся в «литературной
кадрили»). Отметим, во-первых, появление слова тонкий рядом
с голос: «Голос его был заглушённый, тоненький» (V, 185, ср.
193: «своим визгливым голосом, чрезвычайно на этот раз
отвратительным»). Во-вторых, в анонимных статьях в
«Гражданине», предположительно атрибутируемых
Достоевскому27, «Голос» именуется «Звук» (с игрой, также связанной с
темой «верха и низа»: «Разве когда осел ревет, он не издает
звука <...> Издавать звук еще не значит «Звук»
издавать»)28, и «маститому редактору» этой газеты приписаны
слова: «Ну, что такое газета? лист бумаги да еще нечистый»
(курсив оригинала)29. Вообще, контексты фельетонов о Краевс-
ком как бы призваны разъяснить читателю обсценный характер
анализируемого каламбурного названия: «Почему, почему <...>
все, только лишь касалось или коснется дело до литературной
деятельности А. А. Краевского <...> тотчас же начинают пре-
273
странным образом шутить <...> с таким безошибочным и
невинным видом», «как же мне быть с <...> гадкими и
глупейшими каламбурами, которые сами напрашиваются и будто
нарочно из-под пера выскакивают» (XX, 137, 138, ср. 145)30.
Последний пример носит настолько явный характер
автокомментария, что может в этом отношении быть сопоставлен только с
автометаописательным характером диалога в примере 8.
Достоевский именно «прилагает» к «Голосу» «мужицкую пословицу».
Более того, если учесть сказанное выше об эпизоде из «Зимних
заметок о летних впечатлениях», то слова «этой пословицей они
хотят щегольнуть народностью» mutatis mutandis применимы к
использованию пословицы Достоевским31.
Пословица, мотивирующая название «Волос», вполне «по-
бахтински» играет на отношениях «верха» и «низа»: голос,
связанный с верхом тела, сравнивается с волосом, который, опять
же, как и во множестве клишированных шуток и частушек,
соотносится не с головой, а с задом или гениталиями, то есть
пословица как бы объединяет противоположные концы
пищеварительного тракта32. Это соотношение повторяется и на
фонологическом уровне: различие слов голос и волос сводится к
противопоставлению — в начале слова — наиболее задней
(заднеязычной) и наиболее передней (губной) артикуляции из русских
согласных (при этом в первом варианте пословицы все гласные —
это /о/ или его безударные альтернанты, кроме конечного
(флективного) гласного /і/ в слове жопа и обоих гласных — в
том числе и ударного — в слове [nicist], то есть выделение этого
слова происходит уже в самой пословице и лишь используется в
цитирующем ее тексте указанным выше образом. Эта
фонетическая метафора как бы отождествляет ротовую полость (на уровне
артикуляции — план выражения) со всем пищеварительным
трактом в целом (на уровне лексики — план содержания). Такое
отождествление точно соответствует данному в тексте
Достоевского описанию внутренности крокодила: «...крокодил, к удивлению
моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как
бы из огромного пустого мешка <...> Крокодил обладает только
пастью <...> и <...> хвостом — вот и все, по-настоящему. В
середине же между сими двумя его конечностями находится
пустое пространство» (V, 196, ср. также обсуждение пищеварения
крокодила — с. 197 — особенно в черновиках: «...он совершенно
пустой. Я полагал, что у него есть желудок, но ничего этого нет
<...> ибо он весь — желудок» — V, 329).
Таким образом, возникает сложная сеть соотношений: уже в
самой пословице содержится фонетическая метафора, соответ-
274
ствующая теме пословицы, реализованной в лексических
ассоциациях: соотношение же лексического и фонетического уровня
образует новое отождествление, которое для самой пословицы,
может быть, и неактуально, но актуализируется в контексте
использующего эту пословицу рассказа Достоевского.
Предполагаемые нами импликации, видимо, подтверждаются
тем, что тема крокодила, и прежде всего пребывания в
крокодиле, оказывается все время окруженной мотивами еды и
дефекации (причем совместное появление этих двух тем опять-таки
подчеркивает соотнесение двух «концов» пищеварения). Самый
эксплицитный пример этой связи — это жалоба героя: «не хочу
обратиться в то, во что обращается всякая пища» (V, 198). В
других примерах (в речи Елены Ивановны, что, как мы увидим
ниже, немаловажно) еда и дефекация выступают в постоянном
соседстве (естественно, также в контексте проблемы пребывания
внутри крокодила): «...как же он будет сегодня там кушать и...
и... как же он будет... если ему чего-нибудь будет надобно?»
(V, 186). «И что я там буду кушать?., и... и как я там буду
когда... ах Боже мой, что они выдумали» (V, 203). В другом
случае тема введена не прямо, а через неразличение немцем
возвратных и невозвратных форм (лопать — лопаться) и
глаголов лопать и лопнуть, но и тут связана «полость»
крокодила и еда: «если Карльхен вирд лопаль» (V, 183), «штраф,
когда Карл лопаль» (184) и, с другой стороны, «и Карльхен
перестанет лопаль» (есть) — V, 185)33.
С этой двусмыслицей связана другая — комедийная игра на
непонимании и двузначности слова вспороть34. Оно
определяется как «ретроградное желание» — само это словосочетание
небезынтересно, т. к. слово желание явно Двусмысленно, когда
оно употребляется в связи с Еленой Ивановной. Вся тема
Елены Ивановны содержит двусмыслицы, освещающие и эпизод
со словом вспороть. Ср. с одной стороны: «Не только не
воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но
даже сам возгорелся любопытством» (V, 182). «Елена Ивановна
даже до ревности развлеклась обезьянами и, казалось, вся
отдавалась им. Она вскрикивала от удовольствия <...> и
хохотала» (V, 182, ср. смех Елены Ивановны и в других эпизодах,
а также иные двусмысленные формулировки типа: «увлечения
Елены Ивановны», «Елена Ивановна загуляла») — и с другой
стороны: «Елена Ивановна выкрикивала, как исступленная,
одно только слово: „Вспороть! вспороть!"» (183), «„Вспороть,
вспороть, вспоротъі" — заливалась Елена Ивановна,
вцепившись в сюртук немца» (183), «щекотливое слово, „вспороть"»,
275
«Елена Ивановна оказалась совершенно невинна» (184). К
сожалению, трудно установить, имел ли в это время глагол
пороть то эротическое значение, которое он приобрел в
современном разговорном языке («futuere»), но уже у Даля находим
значение «колоть, прокалывать, протыкать». Заметим, что с
этими двусмыслицами «лопать» и «вспороть» (причем последнее
может оказаться и «трехсмыслицей») сочетается каламбурная
тема свистка.
Самому крокодилу также приписывается эротическая
функция. В окончательном тексте она отражена только в словах
«крокодильщика». В ответ на реплику: «Я даже испугалась, —
еще кокетливее пролепетала Елена Ивановна, — теперь он мне
будет сниться во сне», — отвечает: «Но он вас не укусит во
сне» (V, 181). В черновиках эта тема отражается в виде
«Фанданго»: «Крокодила я звала, / Грешным телом
отдавалась, / Он хвостом ударил в воду, обвил. / А я млела, млела,
млела, / И зубами в мое тело / Сладострастно он зпился»
(332). Более подробный вариант «Фанданго» — см. на с.
333 — 334 (рядом с ним появляются слова «остроты без
зубов», связанные с темой крокодила и в то же время
напоминающие автометаописательное употребление слова каламбур). В
этом варианте интересно отметить слова грешным телом,
которые, при всей их клишированности, будучи поставлены рядом с
глаголом, не могут не ассоциироваться с вводным грешным
делом (опять-таки каламбур на базе фразеологизма, клише).
Хвост крокодила появляется и в окончательном тексте: длинный
хвост (196). Так как именно зубы и хвост вводятся в
эротический контекст, то фаллические импликации последнего слова
вполне вероятны. Тогда утверждение, что «крокодил обладает
только пастью <...> и хвостом» (196, на той же странице, что
и длинный хвост), то есть одно из описаний крокодила,
связанных с нашей пословицей, может указывать на отражение в
тексте «Крокодила» не только «анального», но и «генитального»
варианта пословицы (то есть второго из приведенных выше,
соотносящего рот — ср. пасть, зубы — не с анальным, а с ге-
нитальным отверстием).
Итак, в рассмотренных случаях двусмысленность
(полисемия) используется для описания того, что в быту часто
именуется «двусмысленной» ситуацией35. К этому можно было бы
отнестись как слабому каламбуру исследователя (каламбурчик-то
плох), а не свойству текста, если бы подобное соотношение не
повторялось применительно к другим фактам. Все
рассмотренные случаи могут быть описаны как введение элементов, отно-
276
сящихся к «низу» (в смысле Бахтина), посредством таких
приемов, которые как-то ассоциируются с признаком «низа», то
есть их обозначения в метаязыке включают этот или
синонимичные ему элементы. К числу таких обозначений относится
«подтекст»; в какой-то степени сюда же можно причислить и
экспликацию обсценных тем в черновике (то есть большую
откровенность черновика, — конечно, этот процесс можно
рассматривать и наоборот, как затушевывание обсценного элемента
при движении к окончательному тексту) — ср. частое
использование в текстологии понятия слоя — то есть представление о
черновых вариантах как о нижнем слое текста. В какой-то
степени черновик может даже рассматриваться как подтекст по
отношению к окончательному тексту: и субъективно, для автора, и
для читателя (и/или исследователя), обращающегося к
черновику для экспликации текста, то есть в поисках тех мотивировок,
которые в тексте отсутствуют или присутствуют лишь
имплицитно, но, по предположению читателя, остаются для этого
текста актуальными36. Наконец, использование для передачи темы
«низа» цитат из «низких» фольклорных жанров — «низких» и
с точки зрения нормативной эстетики, и с точки зрения
представлений об иерархии фольклорных жанров, господствовавших
в XIX веке (как наследие романтической фольклористики —
ср. наш эпиграф), разумеется, среди нефольклорной аудитории.
Такое соотношение мы предложили бы назвать метаязыко-
вой метафорой; при этом мы полагаем, что речь идет о вполне
реальном феномене, а не о простой игре слов. Текст стремится
описывать сам себя, причем на разных уровнях и разными
способами. В конце концов, ведь и метаязык филологии
представляет собой не собрание произвольных ярлыков, он хоть в какой-
то степени мотивирован сущностью описываемых феноменов
(этому не противоречит многообразие терминов и их систем).
Наглядным примером такой метафоры и вместе с тем
непроизвольности входящего в нее термина был бы, скажем, такой
легко представимый текст, в котором противопоставление
открытых и закрытых гласных окказионально (т. е. только в
данном тексте) использовалось бы с связи с противопоставлением
открытого и закрытого пространства (от «дома» и «улицы», до
«жизни» и «могилы», или, наоборот, «жизни» и «утробы»).
Разумеется, для этой фонологической оппозиции есть ряд
других, во многих отношениях более удобных терминов, однако
нельзя отрицать, что и эти термины отражают реальные
артикуляционные признаки (ср. также наш пример семиотизации
задней и передней артикуляции).
277
В заключение нужно заметить, что при всей специфичности
данной пословицы и ее использования в «Крокодиле», круг
ассоциаций, связанных с волосом, в общем не противоречит тем
вполне «серьезным» глубинным мифологическим связям этого
слова, которые исследованы в многочисленных работах
последних двух десятилетий. Такие ассоциации, как «низ»,
«животный мир», находят свои аналогии в признаках
Волоса/Велеса: расположение Велеса под горой, в
противоположность Перуну (и вообще роль Велеса как противника
Громовержца, находящегося наверху, на горе и на небе); ср. также его
связь со скотом и, представленный в других традициях, —
зооморфный (и, в частности, змеиный) облик противника
Громовержца. К архаическим мотивам относится и связь волоса с
голосом, отразившаяся во многих — прежде всего паре-
миологических — текстах (она комментируется в указанной
выше работе А. К. Байбурина о шаманской функции Велеса).
Мы вовсе не пытаемся утверждать, что в комическом тексте
Достоевского действительно отразились все эти мотивы, хотя
это не только не невозможно (ср., в частности, отнесение к
Волосу/ Велесу некоторых скатологических тем37), но и в большой
степени вероятно. Во всяком случае, попытка отрицания связи с
архаическим Мифологическим слоем — хотя бы и самой
отдаленной, — на наш взгляд, потребовала бы гораздо более
серьезной аргументации, чем та, которая обычно приводится в этих
случаях скептиками. Нас здесь интересует лишь то
обстоятельство, что обсценные импликации сочетания слов голос —
волос — это лишь частное проявление более глубокой их связи.
Иначе было бы непонятно обилие в русской поэзии рифмы,
использующей эти два слова, причем часто в контекстах, в
которых крайне трудно заподозрить эротическую или скатологичес-
кую тематику.
Обсценный смысл, конечно, очевиден в пушкинской сказке
«Царь Никита и сорок его дочерей» с ее специфическим
сюжетом: «А головка, темный волос, / / Чудо — глазки, чудо —
голос, I Ум с ума свести бы мог, / Словом, с головы до
ног..,» — последние слова показывают, что пушкинский текст
эксплуатирует те же импликации пословицы (а соседство слова
ум, да еще каламбурно удвоенного фразеологизмом, вводит ту
же контаминацию пословиц, что и у Достоевского: пословицы о
голосе и волосе и «Волос долог, ум короток»). Эротическую
функцию, с некоторой натяжкой, может быть, можно увидеть и
в другом пушкинском примере (в «Русалке», ср. эротические
признаки русалок, их связи с «низом» в макрокосмическом ас-
278
пекте): «Подавать друг другу голос, / Воздух звонкий
раздражать / И зеленый влажный волос / В нем сушить и отряхать».
Заметим, что в обоих пушкинских примерах именительный
падеж рифмует с именительным, а винительный с винительным (в
первом и втором случае, соответственно), хотя они полностью
омонимичны.
Однако исходя только из этой пословицы, трудно было бы
объяснить другие примеры рифм голос/волос (или иных
способов сопоставления этих слов, как у Мандельштама: „Как он
разноголос, / Черноволос, с Давид-горой гранича" — „Еще он
помнит башмаков износ"38); „Не положишь ты на голос / С
черной мыслью белый волос" (Баратынский. „Были бури,
непогоды"); „Слегка седеющий мой волос / Любил за право на
покой, / Но вот к борьбе ваш дикий голос / Меня зовет и
будит мой" (Он же. „Спасибо злобе хлопотливой")39; „Уснежился
черный волос, I И булат Дрожит в руке; / Но зажжет еще мой
голос I Пыл отваги в козаке" (Рылеев. Петр Великий в
Острогожске)40; „Ты помнишь, как твой замер голос, / Как
потухал в крови огонь, / Как подымался дыбом волос / И
подымался дыбом конь" (С. Шевырев. Очи); „Не льстись услышать
человечий голос, / Хоть век живи, хоть поседей твой волос"
(С. Шевырев. VII песнь „Освобожденного Иерусалима" Торк-
вато Тассо)41; „Слышны звуки... Страшен голос / Этой речи!
Мрак в очах! / Холод в сердце... Дыбом волос... / Вздох
мертвеет на устах" (П. Ершов. Музыка. 1840)42. „Начнет в
четыре голоса, / Зальется, как река, / А кончит тоньше волоса, /
Нежнее ветерка" (Некрасов. Говорун. Ч. И. Строфа V). «И
вот — „я все еще" — вновь начал райский голос <...>
„Безумная" — дрожу... мне страшно... дыбом волос...» (В.
Бенедиктов. Безумная (после пения Виардо-Гарсии). 1853) —
стихи описывают, как Виардо поет строку „Я все еще его,
безумная, люблю", подчеркиваем дату из-за явной близости со
стихами Ершова (вообще формула дыбом волос, образует
отдельную „подсистему")43. „Пою *-— и на мне поднимается
волос, / И впалые щеки румянцем горят, / И звучным
становится слабый мой голос <...>" (И. Никитин. Слепой гусляр.
1855)44. „Я видел твой млечный, младенческий волос, / Я
слышал твой сладкий вздыхающий голос" (А. Фет. „Я
видел...")45; «Говорят / Пустое все про „долгий волос": /
Разумница была она — /И Несмеяной прозвана. / К тому ж имела
дивный голос...» (Вяч. Иванов. Младенчество)46; „И чей-то
душный, тонкий волос I Скользит и веет вкруг лица, /И на
амвоне женский голос / Поет о Мэри без конца" (А. Блок. „О
279
жизни, догоревшей в хоре")47; в последнем примере, впрочем,
эротические импликации не исключены в связи с общей
ситуацией „черной мессы" (ср. соседство этих же слов — не в
рифме — в стихах Г. Иванова, посвященных Блоку: „Я снова вижу
ваш взор величавый, / Ленивый голос, волос кудрявый" —
„Письмо в конверте с красной прокладкой...". Также с
оттенком эротики, отождествляемой с музыкой: „Над розой белою,
как уголь волоса, / Рядами стройными невольницы плясали, /
Без слов кристальные сливались голоса <...>" (Ин. Анненс-
кий. Второй фортепьянный сонет)48; „Золотой разметался
волос, I испуганный голос / по-девьи звенит в темноту" (М.
Кузмин. Святой Георгий)49; „Белые волосы, / Длинные волосы
I Небо прядет. / Небо без голоса, / Звонкого голоса, /
Молча прядет" (С. Городецкий. Зной, сб. „Ярь")50; „Я был еще
молодой леший <...> у меня вился по хребту буйный волос,
когда я услышал голос*1 (В. Хлебников. Песнь Мирязя)51;
„Мягче нет ее хвоста, / Нет улыбчивее рта, / Гуще — волоса,
I Слаще — голоса...1* (Л. Столица. Птица Гамаюн, — в
контексте мотивов грозы и дождя)52; „Украина! Конским волосом,
I Бульбой был бунчук богат / Отчего же дочка голосом /
Кличет маму из-за хат, / Пробираясь наугад" (В. Нарвут.
Левада)53; „Над дыханием моим, сердцебиеньем, голосом, /
каждым острием издыбленного в ужас волоса11 (Маяковский.
Про это); ср. у него же: „А буржуям этот голос / подымает
дыбом волос1154. Ср. также рифмовку других форм тех же основ:
„<...> это только начало / единоголосья. / Виснут с темени
волосъя11 (А. Н. Егунов. Беспредметная юность, I, 2, где
первое слово представляет собой „незаконный" полногласный
вариант „единогласия" со всеми его политическими импликациями)55.
Позже эта рифма появляется у И. Бродского: „и отсюда —
все рифмы, отсюда тот блеклый голос, / вьющийся между
ними, как мокрый волос...11 („Я родился и вырос в балтийских
болотах, подле...")56; Д. Бобышева: „В разлуке с собственной
гортанью голос <...> I И звуковой бороздки рвется волос, / Но
только тень от голоса со мной" („Траурные октавы. 1.
Голос")57, — но здесь подключается другая традиция, тема голоса
поэта (поэтов) (которую мы отчасти рассматривали в связи с
одноименной статьей М. Волошина)58 и особенно тема „Смерти
поэта". Для этого последнего случая одним из
циклообразующих текстов является „На смерть В. Ф. Комиссаржевской"
Блока с рифмой „Что там <...> боролось" — „голос"59,
повторенной в „Грифельной оде" Мандельштама (и позже в
стихотворении „Как женственное серебро горит")60; отсюда этот голос
280
(без волоса) попадает в „Смерть поэта" Ахматовой, в рифме с
колос (ср. также в ахматовском стихотворении „Поэт": „И это
значит, он считает зерна / В пустых колосьях..."). Помимо
прямых пастернаковских источников этого слова (рассмотренных
К.Ф. Тарановским)61, есть и традиция рифмы колос /голос,
начиная опять-таки с пословицы „От колоса до колоса не слыхать
человеческого (человечьего) голоса"62. Затем мотив голоса
переходит в стихи на смерть Ахматовой; уже цитированное
стихотворение Бобышева начинается: „Забылось, но не все
перемололось' (где возвратная форма глагола отсылает к блоковско-
манделыитамовской рифме, а значение глагола ассоциируется с
колосом)63; см. также позднейшие (июль 1989) стихи
Бродского, варьирующие те же мотивы: „Страницу и огонь, зерно и
жернова у I секиры острие и усеченный волос — / Бог
сохраняет все; особенно — слова / прощенья и любви, как
собственный свой голос"64. Любопытно, однако, появление той же
рифмы в стихах, адресованных Ахматовой при ее жизни. Это стихи
П. Н. Лукницкого, посвященные встрече с Ахматовой после
многолетнего перерыва в 1962 году (уровень этих стихов,
разумеется, не учитывается): „Два волоса в один вплелись, / Белый
и влажно-черный. / Два голоса в один слились, / Родной,
грудной, задорный"65. У Ахматовой и в стихах, ей
посвященных, очень высока концентрация мотивов, составляющих цикл
„Смерть поэта", но это, конечно, не может рассматриваться
здесь66. Отметим еще любопытную анаграмму волоса в прямой
синтаксической связи с голосом, вернее, производным от него
словом. Это голосистый соловей Дельвига (resp. Алябьева),
ср.: „И голосистый соловей / Умолкнул в роще бесприютной"
(Баратынский. „Падение листвы" — к теме колоса ср. в рифме
„злак полей"), „Узнала его голос, как пенье соловья"
(Мандельштам. Перевод „Сыновей Аймона" // Собр. соч., I,
311). Этот пример тем более интересен, что и в фольклорной
традиции имя Соловей, видимо, выступает в качестве
модификации Волоса, чья мифология и определяет исследуемые здесь
соотношения. Именно в такой перспективе должна быть понята
и мифологическая двойственность, сочетание высоких и низких
мотивов, ингерентные самой теме67. Отметим в заключение тот
поразительный факт, что сравнение голоса с волосом
встречается и в английском тексте, где нет никакого намека на рифму:
„The sweet voice of the blind muezzin <...> a voice hanging like a
hair in the palm-cooled air of Alexandria"*68. Ср. там же: „The
Сладостный голос слепого муэдзина <...> голос, повисший как волос, в
охлажденном пальмами воздухе Александрии (англ.).
281
great prayer wounds its way into my sleepy consciousness like a
serpent after shining coil of words" . Возможно, что второе
сравнение, параллельное первому, и объясняет его, но все же
совпадение кажется необычайным.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Бодуэн де Куртенэ И.А. Из источников народного
мировоззрения и настроения. // Сборник в честь 70-летия Г.Н. Потанина (Зап.
ИРГО по отд. этн.) СПб., 1909. Т. 34. С. 237.
2 См. теперь: Левинтон Г. А. Фольклоризм и «мифологизм» в
литературе // Литературный процесс и развитие русской культуры
XVIII — XX вв. Тезисы научной конференции. Таллинн, 1985.
С. 38 — 41.
3 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. IV.
С. 238, 241, 249. Далее ссылки даются в тексте: римская цифра —
том, арабская — страница.
4 Запись № 77: «Ах, как дедушка на бабушке огород пахал», во
всяком случае, двусмысленна, комментатор же приводит в качестве
аналога «Зять на теще капусту возил» — то есть вариант,
исключающий всякую двусмысленность. Менее двусмысленен, впрочем, и
более близкий вариант (известный в небылицах и скоморошинах): «Сын
на матери землю пахал» (но землю скорее, чем огород, пашут на
лошади). К этому варианту с его подозрительным соседством матери и
земли ср., может быть, в «Сухаревке» Мандельштама (если принять
вариант, восстанавливаемый H .Я. Мандельштам — Вторая книга.
Париж, 1978. С. 215): «...только на сухой, срединной земле, к
которой привыкли, которую топчут, как мать», (ср.: Мандельштам О.
Собр. соч. Нью-Йорк, 1971. Т. II. С. 136). Отражение записи под
номером 217 в тексте «Записок из Мертвого дома» также не
отмечено в комментарии. Вообще использование пословиц в литературе
весьма слабо осмыслено нашей наукой, пословицы изучают как
«народную мудрость» или как «выражение народности» — так
названа (не худшая из многих) статья Н. П. Жинкина «Пословица как
выражение народности у Островского» (Наукові записки науководосл-
ідчоі катедрі ïcTopïï европейськоі культури. 1927. IL); ср. прохладную
рецензию Е.Г. Кагарова (Художественный фольклор. 1929. IV—V).
Отметим, кстати, в связи с интересом Достоевского к
соответствующим пластам языка знаменитую запись разговора мастеровых
(употреблявших одно-единственное слово), которой так повезло в
лингвистической литературе.
5 Зеленин Д.К. Обрядовое празднество совершеннолетия девицы
у русских // Живая старина. 1911. Т. XX. С. 241; ср. об этом в
нашей заметке «К статье Д. К. Зеленина „Обрядовое праздне-
Великая молитва ввинчивается в мое сонное сознание, как змея, за
сверкающими кольцами слов (англ.).
282
ство..."» (Проблемы славянской этнографии. К 100-летию со дня
рождения Д. К. Зеленина. Л., 1979. С. 175 — 176. Сноска 9).
6 Ср., между прочим, название «Елка и свадьба», сопоставляющее
два ритуала (не важно, что первый из них был в XIX в. еще
достаточно новым), ср. также записи о Семике в «Петербургской
летописи» (XVIII, 23). О фольклоризме «Зимних заметок» ср. также:
Jakobson R. Selected Writings. Vol. V. The Hague, 1979. P. 409.
7 К этой повести ср. интересное замечание (о сводне Софье Аста-
фьевне) в кн.: Губер П. Дон-Жуанский список Пушкина. Пб., 1923.
С. 34. В повести находим существенные для дальнейшего каламбуры,
в частности основанные на путанице: «...дама благородного поведения,
то есть легкого содержания <...> вот выдумали что Поль де Кок
легкого содержания» (II, 51). Последняя фраза как бы проясняет
источник путаницы, однако реконструируемое сочетание легкого
поведения актуализует ассоциацию содержания с содержанкой. Вообще
можно думать, что «снижающая» функция этой повести по отношению
к корпусу текстов Достоевского (как и других его «юмористических»
произведений — ср. эротическую топику повести; то есть речь идет о
«снижении», в частности, и в смысле M. М. Бахтина), достаточно
осознана и эксплицирована. Так, непосредственно после упоминания геморроя
идет: «...я никогда не был в таком унизительном положении! — Да,
ниже лежать нельзя» (И, 67). Ср. с этим постоянное обсуждение,
верхний ли это этаж, шумы наверху или внизу, и в том же диалоге: «...вот
вам рука моя! <...> я немного запачкал ее: но это ничего для высокого
чувства» (II, 71). Ср. ниже о каламбурах, связанных со стоянием и
лежанием в «Бесах» и «Крокодиле»). Функция снижения иконически
отражена в положении и заглавии «под кроватью». Интересно отметить,
что эта функция, может быть, проявляется и в том, что в повести
упоминаются в сниженных контекстах названия будущих романов
Достоевского. С цитированными словами об «унизительном положении» можно
сопоставить название «Униженные и оскорбленные» (показательно, что
слово «унижение» становится биографическим клише работ о
Достоевском, обыгранным Набоковым в «Даре»: «Достоевский бился как рыба об
лед, часто попадая в унизительные положения»). В финале рассказа
появляется сочетание: «скрыть улику своего преступления и избегнуть
таким образом заслуженного наказания» (И, 81).
8 Альтман М.С. Использование многозначности слов и
выражений в произведениях Достоевского (1958) // Альтман М.
С. Достоевский. По вехам имен. Саратов. 1975. С. 222 — 223; Хар-
джиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М. 1970.
С. 325. Примеч. 5.
9 Харджиев Н., Тренин В. Указ. соч. Небезынтересен контекст
этого наблюдения у Н. И. Харджиева: речь идет о внимании
Маяковского к сдвигам. Ясно, что и у Маяковского, и у Харджиева
интерес к сдвигу восходит к А. Крученых, который достаточно часто
иллюстрировал сдвиги именно неприличными примерами.
" ,0 Материалы экспедиции Ленинградского ин-та театра музыки и
кинематографии в Киришский район. Л., 1970.
283
11 Эти значения обыгрываются в неопубликованном стихотворении
А. Егунова (1933), сообщенном нам Т. Л. Никольской:
Жать рожь, жать руку. Жну и жму
язык, как жалкую жену:
простоволосая вульгарна
и с каждым шествует попарно,
отвисли до земли сосцы,
их лижут псицы и песцы...
Воспоминанье о земле,
о том, как там в постель ложатся,
чтоб приблизительно прижаться.
12 Теперь ритуальный контекст этого типа гаданий подробно
рассмотрен в статье: Виноградова Л.Н. Девичьи гадания о замужестве в
цикле славянской календарной обрядности
(западно-восточнославянские параллели) // Славянский и балканский фольклор. Обряд.
Текст. М., 1981. Ср. в частности: «Суженый-ряженый, приходи
пшеницу собирать» (С. 15), «Я на тебе жито сию. Я хочу знаты, з
кым буду жаты» (С. 27), обсыпание постели (С. 29), между прочим,
среди гаданий есть и приглашение суженого к ужину (С. 14 — 16,
примеры из кн.:. Смирнов В. Народные гаданья Костромского края.
Кострома, 1927. См. также: Русская календарная проза: Антология
святочного рассказа / Сост. Е.В. Душечкина, Таллинн, 1988. С. 53 и
др. примеры), что прямо связывается с «Заклинанием» Ахматовой
(где в духе «черного» заговора «суженый-ряженый» превращается в
«незваный, несуженый» — ср. об этом тексте: Мейлах М.Б.
«Заклинание» Анны Ахматовой // Этнолингвистика текста:
Семиотика малых форм фольклора: Тезисы и предварительные материалы к
симпозиуму. Вып. II. М., 1988. С. 21 — 25).
13 Ср. наиболее характерные примеры «...но рифму я на «е» /
Сыскать не смог, что не мешает нашей дружбе» (XI, 38).
Краса красот сломала член
И интересней втрое стала,
И втрое сделался влюблен
Влюбленный и до члена немало. (XI, 42).
Соседство до члена и немало явно имплицирует фразеологизм,
обозначающий высокую степень наличия, так что, видимо,
позволительно даже перенести ударение в этом сочетании на последний слог.
Заметим, что окончательный вариант «интересней вдвое стала» (X,
210) сближается с каламбуром в том же романе (причем фонетически
сближается чуть ли не до отношений анаграммы, ср. вдвое и вдова):
«...он [губернатор] уехал крестить ребенка у одной интересной <...>
вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении» (X, 39).
И. П. Смирнов («Горе от ума» и «Бесы» // А. С. Грибоедов:
Творчество. Биография. Традиции. Л., 1977. С. 100) предполагает
здесь тему беременной вдовы из «Горя от ума» и здесь же упоминает
страсть к «каламбурам», роднящую Репетилова и Степана Трофимо-
284
вича Верховенского. В этой связи слова Репетилова «и как-то
невзначай, вдруг каламбур рожу» интересны, учитывая у Достоевского
каламбур со словом рожать (ср. вообще тенденцию к тому, чтобы
каламбур был предметом каламбура, например, у Пушкина — см. в
частности: Альтман М.С. Осмысление иноязычных наименований в
русском фольклоре и у Пушкина // Культурное наследие Древней
Руси. М., 1976. С. 299). Каламбуры подобного рода встречаются и у
героев Достоевского: «А болвану Сизобрюхову обещана сегодня
красавица, мужняя жена, чиновница и штаб-офицерка. Купецкие дети из
кутящих до этого падки; всегда про чин спросят. Это как в латинской
грамматике, помнишь: знаЧеНИе предпочитается окоНчаНИю. А
впрочем, я еще, кажется, с давешнего пьян» (III, 273). Выделенные
графемы, возможно, анаграммируют слово чин, но окончание имеет и
иной смысл (от специализированного значения глагола кончать). Ср.
еще пример в «Ползункове»: «Только он волею Божию помре, а
завещание-то совершить все в долгий ящик откладывал; оно и вышло
так, что ни в каком ящике его не отыскали потом <...> простите,
обмолвился, — каламбурчик-то плох» (II, 10), тема каламбура, не
выведенная на поверхность, очевидна (ср. канонизированное позднейшим
просторечием сыграть в ящик и т. п.). Об этом каламбуре и вообще
о каламбурах Достоевского см. статью М. С. Альтмана, указанную в
сноске 8. В том же стихотворении Лебядкина есть и другие примеры:
«Он был влюблен, когда вершки / Два члена разделяли, / Не
перестал, хоть триста верст / Меж членами лежали <...> Чтоб в браке
член забыть /Ас оставшимся вкусить законное наслажденье»
(XI, 43). Ср. «Чтобы с оставшимся членом вкусить / Законное
наслажденье» (XI, 46).
14 Ср. в одной из черновых записей к «Бесам», в контексте,
примыкающем к стихам Картузова, обсуждавшимся выше (запись на
полях возле слов: «Картузов спасает красоту — выносит голую»):
«Картузов возражает, что она будет купаться не так, как все <...>
Наверно, у них своя купальня, обтянута бархатом. — Да ведь бархат
замочится» (XI, 55. Сноска 2).
15 Ср. «Умеренный басок» в статье «Щекотливый вопрос» (XX,
44 — сопоставление с «литературной кадрилью» — см.:
Альтман М.С. Использование многозначности слов... С. 244, там же
параллели со «Скверным анекдотом» — с. 243). Ср. также в
«Щекотливом вопросе»: «г-н Краевский и тот кричит в своем
пискливом объявлении о „Голосе"» (XX, 32). Ср. в «Бесах» после
цитированных слов: «„Голос" критикуют» (X, 390) и черновики (X, 407).
Интересно, что хриплый голос (Булгарина) возник в эпиграмме А. И.
Кронеберга на Краевского (см. ниже) задолго до появления газеты
«Голос» — не могло ли это повлиять на последующие каламбуры
Достоевского? (см.: Виноградов В.В. Достоевский и А. А. Краевский
// Достоевский и его время. Л., 1971).
16 Ср. также отмеченное М. С. Альтманом (Там же. С. 213)
повторение каламбуров на словах стоять и лежать (в лежачем
положении и т. п. — ср. «Чужая жена») в «Крокодиле» и в «Бесах». Он
285
же (Там же. С. 178—182) указывает на связь тезоименных
героинь — Лизы Хохлаковой (ср. выше) и Лизы Тушиной — адресатки
стихов Лебядкина, с которой связан также каламбур, основанный на
двусмысленности слова падение (см.: Там же. С. 235).
17 Ср. в статье Достоевского «Каламбуры в жизни и в
литературе» (XX, 138): «А случись, что лопнут все журналы, так уж,
разумеется, к «Голосу» придет больше публики».
18 Учитывая связь «Крокодила» с нигилистической темой,
пословица о долгом волосе вызывает ассоциацию со «стрижкой волос», ср.
черновые записи: «в чем состоит сие пагубное учение <...> одни
говорят, что в стрижении женских волос...» и ниже «стрижка волос»
(V, 326); все это — рядом с газетой «Волос». В то же вре-мя здесь
может отражаться и обычное подчеркивание длинных волос у
нигилистов (мужчин), длинноволосых.
19 Ср. в статье «Каламбуры в жизни и литературе»: «Все дело в
том, что г. Краевский, в продолжение своей литературной карьеры, не
успел, за делами, сделаться литератором!» (XX, 187).
20 «Родные выписки» («Отечественные записки»), видимо,
соотносимы и с Опискиным. Об этимологии этой фамилии (Переписчик
— псевдоним Кукольника + «Переписка» Гоголя) см.:
Альтман М.С. Из арсенала имен и прототипов литературных героев
Достоевского. // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 204 — 209; Он
же. Достоевский. По вехам имен. С. 35 — 40. Между прочим, его
мысль о том, что слова Лебядкина «Всякий человек достоин права
переписки» относятся к Гоголю и Белинскому, как будто
подтверждается тем, что начало этой фразы почти совпадает с цитатой из Гоголя,
приводимой Белинским в его письме: «И что за язык, что за фразы?
Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек, — неужели вы думаете, что
сказать всяк вместо всякий — значит выражаться библейски?»
(Белинский ВТ. Собр. соч.: В 3 т. М., 1948. Т. III. С. 713).
Ю.Н. Тынянов в своей классической работе отмечает влияние на
«Село Степанчиково» не только «Выбранных мест», но и письма
Белинского (см.: Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино.
М., 1977. С. 221, 226).
21 Ср. также пародийные названия романов: «Нигилисты. Читали
„Откуда", „Покуда", „Накануне", „Послезавтра", „Зачем",
„Почему" — Стало быть, вы ничего не читали. Это вся я написал. —
„Как?" — То есть как-с? — Роман „Как?"» (V, 326).
22 Тема свиста настойчиво повторяется в статьях 1862 — 1863
годов (см. XX, 30 и ел., 50 и ел., 71 и ел.) и в «Подростке» (XIII,
378, ср. к этому — XX, 292). К истории мотива свиста,
насвистывания в связи с названием «Свисток» ср.: Альтман М.С. В орбите
Пушкина. // Вопросы литературы. 1974. № 6. С. 315. Ср. и
пушкинское «подсвистывал» (о своих отношениях с Александром I). Ср.
уже в 1824 году свисток как обозначение (не название!)
сатирической газеты в эпиграмме Б. Федорова на Булгарина (Русская
эпиграмма XVIII — XIX веков / Сост. М. И. Гиллельсона и К. А.
Кумпан. Л., 1988. № 977 и коммент. на с. 613).
286
23 Интересно, что в этом контексте слово «мужицкая» реализует и
значение пола, а не только социальной принадлежности. Ср. мужик в
цитированных словах Лизы Хохлаковой.
24 Ср. «Торопился высказаться <...> подобно тем
слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не могут
удержать секрета» (V, 199). В статье «Волоса»: «...бедное
млекопитающее <...> тщетно проливает слезы [игра на «крокодиловы слезы», ср.
«Ну, это слезы крокодиловы» (V, 188)]. Незваный гость хуже
татарина, но, несмотря на пословицу, «нахальный посетитель выходить
не хочет» (V, 206). Ср. подобный прием в «Бедных людях»,
описанный М. С. Альтманом (Достоевский. По вехам имен. С. 11, 37):
«Все на Макара», «в пословицу ввели Макара», «из меня пословицу
сделали» — из пословицы «на бедного Макара все шишки валятся»
(ср. и слово бедный в названии «Бедные люди»).
25 Сама замена также мотивирована фольклорными текстами —
например, загадкой: «Тонок, долог, в траве не видать. — Волос»,
(см.: Худяков П.Н. Загадки // Этнографический сборник. 1864. Т.
IV) или сочетанием тонок и долог о льне (см., напр.: Поэзия
крестьянских праздников. Л., 1970. С. 299 — 300).
26 Эта пословица засвидетельствована уже собраниями В. И. Даля
и П. А. Ефремова (№ 25 и 31 соотв. см.: Carey С. Les proverbes
erotiques russes. The Hague; Paris, 1972. P. 46, 65). Первое из них
П. Симони датирует 1852 годом, во всяком случае, оно не может
датироваться более поздним временем, чем 1862 год — год выхода
«Пословиц русского народа». Интересно, что эта же пословица
засвидетельствована (видимо, в качестве живой и бытующей) в словаре:
Drummond D. A. and Perkins G. A. Short Dictionary of Russian
Obscenities. 2nd ed. Berkeley, 1973. P. 14). Нужно оговорить, что
есть и «приличный» вариант этой пословицы: «Голосок, что бабий
волосок (тонок да долог)», которая вполне могла бы служить
мотивировкой названия газеты у Достоевского, однако ряд соображений,
излагаемых ниже, заставляет нас предполагать, что «неприличный»
вариант был если не единственным источником, то, во всяком случае,
учитывался в этом случае. О фольклорных связях слов голос и волос
(с рядом примеров из разных жанров), отражающих в конечном счете
соотнесение Волоса/Велеса с поэтическим даром, см.: Байбурин А.К.
О шаманско-поэтической функции Волоса/Велеса // Balcano-Balto-
Slavica. Симпозиум по структуре текста. Предварительные материалы
и тезисы. М., 1979.
27 См. Виноградов В.В. Указ соч. (примеры, приводимые ниже,
цит. по этой статье — с. 32 и 30).
28 Ср. в отрывке из романа «Щедродаров»: «Идите и издавайте
звуки <...> Щедродаров издавал звуки почти с лишком год. И на
кого он не издавал звуки» (XX, 111 — 112). Ср. похожий по теме и
приему каламбур А. Ф. Воейкова: «Статский советник Яценко <...>
выпускает из себя „Дух журналов"» (Воейков А.Ф. Дом
сумасшедших. Парнасский адрес-календарь. М., 1911. С. 73). Ср. в эпиграмме
О. Я. Маршака на В. Пуришкевича («Пиит»): «Уж он не звуки из-
287
дает, / А том стихотворений» (Русская эпиграмма XVIII — XIX
веков, № 1838).
29 С «нечистым» газетным листом, может быть, следует (как
предположил А. Л. Осповат) сопоставить традицию многочисленных
текстов, трактующих газету, журнал, книгу как подтирку. В
частности, хорошо представлена эта традиция у Пушкина («Хвостова
жесткой одой», «Невский альманах»), в особенности интересен для нас
пример с «Сыном отечества» («„Сыны отечества,, и „Вестники
Европы"»), т. к. это название — как уже отмечалось — обыгрывается у
Достоевского.
30 Ср. Виноградов В.В. Указ. соч. С. 18, 23; там же приведены и
другие примеры каламбуров и появлений слова каламбур в связи с
Краевским. Ср. особенно эпиграмму Кроненберга, упоминавшуюся
нами в связи с «кадрилью» (сноска 15); в ней находим не только
предвосхищающие будущую ситуацию с газетой «Голос» строки: «Тот
[Булгарин] и с рожи страшно гадок, / Хриплый голос издает, /
Наш Андрей...» — но и матерные рифмы. Ту же игру, что у
Достоевского, находим в стихах И. Ф. Тхоржевского (указанных нам Н. В.
Котрелевым): «Как щеткой вылощенный волос, / Стал очень „тонок,,
мощный „Голос**» (Новые материалы к истории русской литературы и
журналистики XIX в., Тбилиси, 1977. Т. I. С. 223). Любопытно, что
прямое продолжение этой традиции (ср. и «длинноволосую» тему у
Достоевского) встречаем еще в стихотворении П. Потемкина
«Секретарь профессора»: «Был он технолог / Из семинаристов
/Волос долог I Голос неистов» (указано Р. Д. Тименчиком). Но ср. уже
у Батюшкова о «неприятном» герое: «<...> Прекрасный идеал исчез
/ И предо мной / Явился вдруг... Чухна простой / До плеч висящий
волос I И грубый голос / И весь герой — / Чухна Чухной» (Из
письма к П. А. Вяземскому, 1816. Сочинения К. Н. Батюшкова.
Изд. V. СПб., 1887. С. 535).
31 Интересно, что название газеты у Достоевского отразилось, по
предположению К. Проффера, в названии газеты в «Аде» Набокова:
Village eyebrow ( Proffer C.R. «Ada» as a Wonderland // Proffer C.
R. (éd.). A Book of Things about Vladimir Nabokov. Ann Arbor, 1974.
P. 269). При этом брови были отличительной чертой внешности Кра-
евского, отмечавшейся всеми мемуаристами. В том же романе
обыгрывается и название газеты «Голос», которое «переводится» как
«Логос». Игра, видимо, заключается в том, что «невежественный
западный читатель» (как любит его называть Набоков) увидит только
анаграмму и не поймет сопоставления дешевой газеты и философского
журнала (то, что по-английски назвали бы highbrow, нет ли каламбура
на этом слове в названии eyebrow}).
32 Такое отождествление рта anus'oM или vur/ой «входит в
обширный круг мотивов, связанных с замещением лица задом и верха
низом» (Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле. М., 1965. С. 405;
ср. с. 344, 352, 356, 415). Эта метафорика основана на
отождествлении тела с его частью — ср. такие термины, как головка, плешь (ср.,
с другой стороны, всю «лабиальную» терминологию женских генита-
288
лий). Об этом pars pro toto специально писал P.O. Якобсон (Medieval
Mock Mystery // Studia Philologica et Litteraria in honorem Leo
Spitzer. Berne, 1958). Связь двух значений слова плешь, реализующая
эту метафору, становится сюжетной основой анекдота, отраженного в
русской традиции в фацеции «Издевка младых над старым»
(Державина О А. Фацеции. М., 1962. С. 143) и лубочной картинке
о Тарасе плешивом. На том же построен рассказ А. М. Ремизова
«Неуемный бубен» (Ремизов A.M. Соч. СПб., 1910. Т. I. С. 11 —
85. См., например, анализ этого мотива: Данилевский АЛ. Mutato
nomine de te fabula narratur // Блоковский сборник. VII. Тарту.
1986). Совместно с метафорой «преисподней» (ср. ниже),
отражающей тему «верха» и «низа» и в макро- и в микрокосме, это
отождествление человека и его члена воплотилось в метафоре «диавола и
ада» (Саккетти, новеллы 40 и 101, «Декамерон», день III, новелла 10
и восходящая к «Декамерону» «сказка» Лафонтена). В русской
поэзии близкая метафора отразилась у Хлебникова: «Дружен урод с
подземьем»; на эротический смысл указывает и соседняя строка «И
любит высоты небесное тело»; ср. в стихотворении «Весеннего корана
веселый богослов» фаллическую тему рога и тополя, устремленного к
небу: «Открыла просьба: «Небо дай» — / Зеленые уста» (ср. в
«Слове о Эль»: «Его хребет стоит, как тополь»); на эротические
импликации этого текста, особенно финала, а также возможный сдвиг:
«не-бо-дай» (ср. тему рога) указал нам А. Д. Нахимовский (ссылка
же на настоящую статью в работе: Baran H. Chlebnikov's «Vesennego
Korana» // Russian Literature. 1981. Vol. XX. № 12. P. 20 — была
плодом недоразумения); тема колокольни как фаллоса довольно
обычна, сошлемся хотя бы на пример Рабле, подробно разбираемый
Бахтиным (Указ. соч. С. 338 — 339). К метафоре урода ср. у
Ходасевича: «И к ним под юбки лазит с фонарем / Полуслепой,
широкоротый гном»; (ср., может быть, и блоковских карликов,
инфернальных и в некоторых случаях, видимо, фаллических — ср. нашу
статью «Карлики» в словаре «Мифы народов мира» (Т. 1. М.,
1980), ср. также арготический эвфемизм дурака под кожу загнать
(Кощынский К. Словарь русской ненормативной лексики (краткий
проспект) // Russian Linguistics. 1980. Vol. 5. № 2. P. 147). Замена
лица задом связана, кстати, не только с отношением «верх» — «низ»,
но и: «зад» — «перед». Нечто подобное отражается и в соотношении
вариантов пословицы о голосе—волосе* где могут фигурировать и зад
и гениталии (в некоторых языках названия для «anus» и «vulva»
этимологически тождественны или связаны. См.: Долгопольский А.Б.
Сравнительно-историческая фонетика кушитских языков. М., 1973.
С. 50, 81, 247, 249; впрочем, опыт работы с записями фольклорных
текстов на экзотических языках позволяет подозревать в таких
случаях не вполне точное глоссирование в словарях). Противопоставление
этих частей тела своеобразно сочетается с мотивом преисподней в
стихотворении Кузмина «Размышления Луки» («Занавешенные
картинки». Амстердам [ = Пг.], 1921), где vulva и anus, соответственно,
отождествлены с райскими вратами и преисподней, то есть низ тела в
10 Анти-мнр русской культуры
289
свою очередь делится на верх и низ (ориентация лежащего тела).
Соответственно вводится мотив ключа от двух дверей (метафора ключа и
замка имеет бесчисленные фольклорные параллели, см. хотя бы
статью: Адрианова-Перетц В.П. Символика сновидений Фрейда в свете
русских загадок // Академику Н.Я. Марру. XLV. М.; Л., 1935.
С. 499, 502); ср. тему двери (зада) в стихотворении «Али» в том же
сборнике Кузмина. Эта метафорика связана с еще одним изоморфным
соотношением: «тело человека — здание, дом, храм» — которое тоже
отразилось у Достоевского, ср. в «Подростке» (о дефлорации): «Грех
сей, все едино, что Божий храм разорить» (XIII, 315). Интересно,
что точно такая же игра на отношении рая и ада (heaven и hell), как
у Кузмина, встречается в одном эпизоде романа Нормана Мэйлера
«American Dream». В свою очередь, его определение «преисподней»
(anus) словами forbiden, verboten «запрещено [для совокупления]»
находит неожиданно точное соответствие у Языкова: «Который
раз?» — / Меня спросила / Моя Лейла / В полночный час, / Я
отвечал, / Что не считал, / И улыбнулась / Мне ангел мой / И
повернулась / Ко мне спиной. / Разгоряченный / Я угадал, / Что
означал / Переворот, / И запрещенный / Был сладок плод» (см.:
Dees В. Yazykov's Unpublished Erotica / Russian Literature Triquaterly.
1974. № 10. P. 409). Иными словами, самые различные традиции
европейской литературы обнаруживают реализацию одних и тех же
мотивов, в соотношениях чисто типологических, по характеру близких
к соотношениям фольклорных традиций.
33 Ср. каламбурное: «В животе и смерти волен Бог» (с. 200), где
двусмысленным оказывается и предлог (вернее, предложно-падежная
конструкция).
34 Ср. в черновиках: «О слове «вспороть», чтоб либеральнее. А я
думал вы говорите, чтоб анатомическим инструментом» (V, 329, ср.
335) и в тексте: «Из внутри крокодила слышен лишь хохот и
обещание расправиться розгами (sic!)» (V, 206), отметим двусмысленность
этого sic, оно может принадлежать и автору и газете. На сходном
непонимании строится также эпизод, связанный с естественными
отправлениями в «Подростке»: «Я хочу прочь, я хочу выйти! — Oui,
monsieur! — изо всех сил подтвердила Альфонсина и бросилась сама
отворять мне дверь в коридор. — Mais ce n'est pas loin, monsieur,
c'est pas loin du tout <...> c'est par ici! — восклицала она <...>
указывая мне по коридору куда-то, куда я вовсе не хотел идти»
(XIII, 278).
35 Хочется привести пример напоминающего Достоевского
построения, в котором обсценный смысл вводится за счет отсылок к
традиционной рифмовке и к фразеологизму. В «Багровом острове»
Булгакова встречается реплика: «И когда он вернется на этом катере [ср.
«катись на белом катере...»], ты должен послать его обратно в
Европу» (Булгаков М. Адам и Ева. Багровый остров. Зойкина квартира.
Париж, 1971. С. 109). Подобная игра (хоть и менее эксплицитная)
есть у Пушкина, также с импликацией «ожидаемых» рифм:
«Напрасно ахнула Европа, / Не унывайте, не беда! / От
290
п<етербургского> потопа / Спаслась П<олярная> 3<везда>».
Заметим, что второе «рифменное ожидание», конечно вызванное первым,
подкрепляется сокращением названия «Полярной Звезды» до П. 3.
(стоящего в рифме с беда). Ср. еще «Прощание с Петербургом» Ап.
Григорьева (1846): «Прощай, холодный и бесстрастный /
Великолепный град рабов, / Казарм, борделей и дворцов / С твоею ночью
гнойно-ясной <...> С твоей чиновнической жопой / С твоей
претензией — с Европой / Идти и в уровень стоять... / Будь проклят ты,
ебена мать!»
36 Ср. в фольклористике понятие «эпического подтекста», то есть
прошлых состояний сюжета, прежних этапов его эволюции,
содержавших мотивировки тех элементов сюжета и их отношений, которые
сохранились в новом состоянии текста без эксплицитных мотивировок
(оставшихся в «подтексте» в прежних стадиях бытования сюжета).
См.: Путилов Б. Я. Об эпическом подтексте (на материале былин и
юнацких песен) // Славянский фольклор. М., 1972. С. 3 — 17; Он
же. Героический эпос и действительность. Л., 1988. С. 176 — 192;
Левинтон Г. А. К проблеме эпического подтекста // Фольклор и
этнографическая действительность. СПб., 1992. С. 162 — 169. Ср.
неоднократные замечания Мандельштама о «сохранении» черновика
(«Египетская мартка», «Разговор о Данте»).
37 См., например: Топоров В. Н. Об одном способе сохранения
традиции во времени: имя собственное в мифопоэтическом аспекте //
Проблемы славянской этнографии... С. 149. Сноска 21.
38 Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1973. С. 193; ср. в
написанном тогда же стихотворении: «И не вожу смычком черноголо-
сым» («Вооруженный зреньем узких ос» // Там же. С. 194).
Смычок, по существу, — это тот «готовый предмет» (т. е. предмет,
обладающий соответствующими свойствами уже в долитературном,
«реальном» своем бытовании), в котором снимается
противопоставления голос/волос: смычок состоит из волос и извлекает звук, причем
из звуков инструментов наиболее (кроме органа) подобный
человеческому голосу. Ср. еще анаграмму «Я запрягу десять волов в голос»
(«Если б меня наши враги взяли». Собр. соч., I, 254). В одном из
последних стихотворений Мандельштама появляется и рифма: «Дай
мне сказать тебе с голоса, / Как я люблю твои волосы / Душные,
черно-голубые» (во всех публикациях так, вариант в: Собр. соч., IV,
148; «волоса» — явная опечатка; не ясен и не оговорен вариант «с
голоса» в: Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 314). Есть и другие виды
более скрытых связей, например, в переводе из Барбье: «Поющая с
утра, как юная Светлана, / Любовь и русый волос свой» (I, 334 —
ср., может быть, и «гребень Лорелеи»), «Волосяная музыка воды»
(Армения, XI, где также упомянута водяная дева — I, 155). На
более отдаленном расстоянии: «Ив колтуне волос блуждающие лица
женщин» и через 8 строк: «А голос гремел» (перевод из Ренэ Шике-
ля, I, 356). Ср. повторение корней голос- и волос- вне рифмы в
переводе «Жизни святого Алексея», цитируемом ниже в примеч. 60.
Вообще, в I томе Собрания Мандельштама (только он охвачен словарем
10*
291
D. J. Koubourlis (éd.). A Concordance to the Poems of Osip
Mandelstam, Ithaca, 1974) всего 11 случаев употребления слова волос
и его производных (не включая составных, вроде черноволос), из них
7 — в переводах, один — в шуточном стихотворении («Мне
помнится старинный апокриф») и один в детском (ср. ниже примеч. 63).
Между прочим, волосы фигурируют в переводе начала «Федры» (I,
309): «Я до корней волос краснею в тишине», а в обоих
стихотворениях в «Камне», в которых упоминается Федра, появляется слово
голос: «Зловещий голос, горький хмель» и «Расплавленный
страданьем крепнет голос». Само же слово голос вне связи с волосом
относится к разряду ключевых и частотных манделыитамовских слов и
требует особого анализа.
39 Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 281,
367 (1839 и 1842 соответственно), эти два примера и еще один,
приводимый ниже (из «На посадку леса», 1843, отметим очень узкие
хронологические рамки), исчерпывают случаи появления обоих слов
(голос и волос в именит, падеже) в конце стиха, как рифмованного,
так и белого, по словарю: Shaw /. Т. Baratynski: A Dictionary of
Rhymes & A Concordance to the Poetry. Madison, 1975, были
проверены также аналогичные словари по Батюшкову и рифмам Пушкина.
40 Рылеев К. Ф. Думы. М., 1977. С. 82.
41 Шевырев С. П. Стихотворения. А, 1939. С. 72 — 73, 158.
42 Ершов П. П. Конек-Горбунок. Стихотворения. Л., 1976.
С. 212.
43 Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1983. С. 298.
44 Никитин И. С. Сочинения. М., 1980. С. 183.
45 Фет А. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1959. С. 194.
Естественно было бы ожидать, что эта рифма должна с особой
частотностью встречаться в стихах о пении, однако в трехтомном
собрании: Каи, Б. А. (сост.) Музыка в зеркале поэзии. Т. 1 — 3. Л.,
1985 — 1987, — их число оказалось гораздо меньше ожидаемого —
несопоставимым, скажем, с рифмой звука(и)/мука(и). Из этого
сборника взяты последние пять примеров (по порядку цитирования:
III, 19; III, 252; I, 74; II, 57; III, 23), и других случаев нам не
встретилось.
46 Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. I. С. 233 (ср.:
1974. Т. II. С. 8).
47 Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. II. С. 120.
48 Анненский Иннокентий. Стихотворения и трагедии. Л., 1990.
С. 81. Это описание игры черных и белых клавиш как пляски
невольниц непосредственно перекликается с другой музыкальной
персонификацией — «Смычок и струны» (Там же. С. 87) — ср. выше в
примеч. 38 о роли смычка с точки зрения нашей темы.
В другой перспективе эти фортепианные стихи ведут и к басне
Эрдмана и Масса о клавишах и пальцах («Мы обновляем быт и все
его детали. / Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали
<...>, Смысл басни ясен: / Когда б не били нас, мы б не писали
басен»).
292
49 Кузмин M. Нездешние вечера. Пб., 1921. С. 65. В этой же
кантате появляется строка (относящаяся к змею): «Вислое брюхо со-
сцато» — ср. цитированные выше стихи Егунова.
50 Городецкий С. Стихотворения и поэмы. Л., 1974. С. 125. Ср.
отзыв Блока в статье «Краски и слова» (Т. V. С. 21).
51 Хлебников В. Собрание произведений. Т. IV. С. 12.
52 Цит. по: Избранные стихи русских поэтов. Серия сборников по
периодам. Период третий. СПб., 1914. Вып. II. С. 118.
53 H арбу m В. Избранные стихи / Подг. Л. Н. Черткова. Paris,
[1983]. С. 34.
54 В пародийном виде эта рифма доживает до Ильфа и Петрова:
«Лейся, песня, звонче, голос, / Вырвем ценный конский волос».
55 «Московский наблюдатель», 1991. №12. С. 51, ср. в
следующей реплике тему дождя и влаги; заметим также неоднократные
отголоски тем Кузмина, в том числе и «Занавешенных картинок», ср.
выше примеч. 32.
56 Бродский И. Часть речи. Стихотворения 1972 — 1976. Анн
Арбор, 1977. С. 83.
57 Бобышев Д. Зияния. Париж, 1979. С. 57.
58 См. наш с Т. Л. Никольской комментарий к статье «Голоса
поэтов» в кн.: Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 769 — 776.
Заметим, что и в этом случае возникает легкий эротический
(«сплетенный») обертон.
59 Ср. приводившиеся примеры эксплицитной игры у Блока и его
отзыв о стихах Городецкого. Любопытно, что в «Плясках осенних»
симметрично расположены строки: «Будто милый твой голос звенит»
и «Распустила ты пряди волос» (к рассматриваемой ниже рифме
колос ср. далее в тексте Блока: «Тишина умирающих злаков», ср. ниже
«осеннюю» топику Тютчева). Может быть значимо, кроме того, и то
обстоятельство, что в двух соседних строфах (в том числе и в строфе,
включающей разбираемые мотивы) в рифме появляется слово влага
(строфы 5 и 6) — ср., может быть: «и зеленый влажный волос».
60 Эта рифма, разумеется, появляется и до Блока, например, у
Лермонтова: «С святыней зло во мне боролось, / Я заглушил
святыни голос» («Мое грядущее в тумане» // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2.
С. 230 — единственная рифма на голос, волос в рифме вообще не
появляется) или в совершенно «гумилевском» (или «брюсовском»)
стихотворении А. К. Толстого «Он водил по струнам, упадали»:
«Обвиняющий слышался голос, / И рыдали в ответ оправданья, / И
бессильная воля боролась / С возрастающей бурей желанья»
(Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. Т. I. М., 1963. С. 139).
Подробный комментарий к манделыитамовской цитате см.: Ronen О. An
Approach to Mandel*stam. Jerusalem, 1983. P. 177, где отмечены и
некоторые тютчевские обертоны, и связь с упомянутым выше стихом «Я
запрягу десять волов в голос». Ср. соседство в мандельштамовском
переводе «Жизни святого Алексея», где речь, как и у Блока, идет о
смерти (названной «нежным успеньем»! — Т. IV. С. 315): «Не
своим голосом кричит <...> Начинает голосить над ним причитанья, /
293
Колотила в грудь себя, сама с собой боролась, / Расцарапала лицо
себе, растрепала волос <...> Треплет волосы свои, в грудь себя
колотит, / Разрыдалась в три ручья, голосила звонко» (Собр. соч. Т. I.
С. 314).
61 Тарановский К. Ф. Жизнь дающий колос. Заметки о
Пастернаке и Ахматовой // Возьми на радость из моих ладоней. То Honour
Jeanne van der Eng-Liedmeier. Amsterdam, 1980. P. 149 — 156:
прежде всего стихотворение «Любимая — молвы слащавой...»
(«<...> что сами пьем и тянем / И будем ртами трав тянуть»).
62 «Где бодрый серп гулял и падал колос, / Теперь уж пусто
все — простор везде, — / Лишь паутины тонкий волос / Блестит
на праздной борозде» (Тютчев Ф. Лирика. М., 1965. Т. 1. С. 170).
Эта рифма дважды появляется в стихотворных пассажах в романах
С. Клычкова, оба раза в связи со смертью: «Будет в поле непожатый
колос, I Ве-есь осы-ып-лется овес! / Плачут бабы, плачут бабы в
голос» (Сахарный немец // Клычков С. Чертухинский балакирь. М.,
1988. С. 22), «Силантий запел как на крылосе: «Звонким, / Тонким
I Голосом, I Повалился наземь колосом <...> / <...> Так и умер с
одним воздыханием» (Князь тьмы // Там же. С. 432). Ср. еще в
стихах Н. Н. Берберовой: «Где-то слепо за колосом падает колос /
<...> Непокорность, высок твой безжалостный голос» («Огонек».
1989. № 41. С. 11). Добавим еще пример из Баратынского: «Летел
душой я к новым племенам, / Любил, ласкал их пустоцветный колос
<...> Всех чувств благих я подавал им голос» (На посев леса
//Указ. соч. С. 341). Удивительно, что у Пушкина тема волоса и
колоса, по существу, слились в омониме, при этом еще и рифмующем
с голосами: «Наших деток в шумной школе / Раздавались голоса /
И сверкали в светлом поле / Серп и быстрая коса» («Пир во время
чумы», первая песня Мери — напомним, что это имя появилось и в
примере из Блока). Учитывая фольклорный контекст обеих
пушкинских рифм голос/волос, цитировавшихся выше (Из «Царя Никиты» и
«Русалки»), мы, кажется, вправе сопоставить рифму голоса/коса с
рифмой волоса/краса (в свадебной поэзии коса и краса почти
синонимы, одно из значений красы, красоты — это лента в косе — ср. в
«Возмездии» Блока: «И косоплеткой ярко-красной / Вводить
начальницу в испуг» при — чуть ниже — «И лишь венчаться не
согласна / Без флер'д'оранжа и фаты» — гл. I, ст. 481 — 482,
509 — 510). Эта рифма появляется в характерном контексте —
сцене отрубания бороды в V песне «Руслана и Людмилы» (ст. 103 —
105): «<...> „Что, хищник, где твоя краса? / Где сила?,, — и на
шлем высокий / Седые вяжет волоса». Фольклорные и, в частности,
свадебные ассоциации удостоверяются здесь темой силы в бороде,
отсылающей к сюжету Самсона и прочим мифологемам волос, актуали-
зуемым в свадебном обряде, и обращение хищник, которое в духе
свадебных песен отнесено к похитителю невесты — на фоне
развернутого сравнения самого похищения Людмилы Черномором с
похищением курицы коршуном (песнь II, ст. 184 — 203). Напомним, что
коршун постоянно выступает у Пушкина в фольклорных контекстах, где
294
«требуется» хищная птица: ср. на сюжетном уровне «Сказку о царе
Салтане», а на фразеологическом — чисто свадебные слова,
обращенные к Мазепе: «И ночь, когда голубку нашу / Ты, старый коршун,
заклевал!» (песнь I, ст. 260 — 261). Существует и неполногласный
вариант той же рифмы, повторяющийся у Пушкина четырежды (см.:
Shaw J. Т. Pushkin's Rhymes: A Dictionary. Madison, 1974): во-
первых, в соседней IV песне «Руслана и Людмилы» (ст. 129 —
133), где одна из дев «в ароматах потопляет / Темнокудрявые власы
[Ратмира]. / Восторгом витязь упоенный, / Уже забыл Людмилы
пленной / Недавно милые красы». Во-вторых — в «Гавриилиаде»
(ст. 414 — 417), где юные красы Гавриила, увиденные Марией во
время его поединка с Сатаной (ср. Руслана и Черномора), рифмуют с
его власами, за которые его «гнет» противник (учитывая, что Гавриил
в конце концов победил, лишь схватив Сатану за иную часть тела, оба
слова наполняются дополнительными смыслами). Третий пример — в
III главе «Онегина» (III, XX, 7 — 8) сразу после рассказа няни о
свадьбе луна освещает «Татьяны бледные красы / И распущенные
власы» (ср. к этому «На картинки к „Евгению Онегину** в „Невском
альманахе"»). Наконец, четвертый — в стихотворении «Русалка»
(1819): «чешет влажные власы / Святой монах дрожит со страха /
И смотрит на ее красы» — очевидна перекличка с уже цитированным
влажным волосом в другой «Русалке»
63 Последнее наблюдение принадлежит А. Г. Найману, который
предположил также, что в ахматовской «Смерти поэта» мотив волоса
отразился в строке: «Или в тончайший, им воспетый дождь», ср. у
Пастернака: «Тени вечера волоса тоньше» («Божий мир»); К. Ф.
Тарановский (Указ. соч. С. 154) отмечал неожиданность этого
эпитета в «пастернаковском» контексте. К теме тонкого ср. у
Мандельштама соседство: «Качает ветер тоненькие прутья / И крепнет голос
проволоки медной» (I, 366), ср. уже упомянутый «волосок» в
лампочке в детских стихах из сб. «Примус»: «Тонок уголек / Волоском
завит: / Лампочка стеклянная не греет, а горит» (I, 275).
64 Литературная газета. 1989. 16 августа.
65 Лукницкая В. Перед тобой земля. Л., 1988. С. 287.
66 Отметим только прозаический отрывок, опубликованный и
откомментированный Р. Д. Тименчиком (Неопубликованные
прозаические заметки Анны Ахматовой // Известия АН СССР. Серия
литературы и языка. 1984. Т. 43. № 1. С. 67), где «пьянея звуком
голоса» понимается в смысле полифонии «чужих голосов» в ее
лирике. Важно, однако, отметить, что через несколько строк в связи с
«генезисом» стихов упоминается голос скрипок (и как его
альтернатива — «стук поезда»; это, конечно, связано с ее же рассказом о том,
как было написано «Не бывать тебе в живых», также примыкающее к
теме «смерти поэта»). Между тем «Голоса скрипок» Блока —
стихотворение, теснейшим образом связанное со стихами «На смерть В.
Ф. Комиссаржевской» — и надгробная речь Блока, как неоднократно
отмечалось, сочетает мотивы этих двух стихотворений. Стих «Учись
вниманью длинных трав», видимо, лежит в основе пастернаковского
295
«будет ртами трав тянуть» (и, соответственно, ахматовского
«колоса»). Отметим еще явную полемику с Тютчевым в «Голосах
скрипок»; связь этой топики с Гумилевым здесь невозможно даже
упомянуть и тем более рассматривать. Мы надеемся сделать это в
специальной работе.
67 Приведем еще примеры более отдаленных перекличек: «Слой
облаков прозрачно-тонок, / Влажна высокая трава, / А воздух так
недвижим, звонок, / Что слышны издали слова <...> Вот тонким
голосом сначала / Поет протяжно запевала» (Яхонтов А. Русская
песня // Каи, Б. А. Указ. соч., II, 51). Пример фонетического
притяжения слов: «И льется звучная волна, / Гуляет голос на просторе,
/ И грудь отвагою полна, / И степь волнуется как море»
(Стахович М. Вечерняя песня // Там же. С. 55).
68 Durrell L. Justine. N. Y., 1961. P. 25.
Н.БОГОМОЛОВ
•
"МЫ -ДВА ГРОЗОЙ
ЗАЖЖЕННЫЕ СТВОЛА"
В 1908 году заслуженный литератор А. В. Амфитеатров с
некоторой обидой писал: «Я никогда не был ни prude, ни
защитником, ни даже извинителем pruderie, я не боюсь ни факта,
ни слова, меня не смутят никакая унизительная картина,
никакой человеческий документ, раз их требует реальность, какою
должна облечься творческая идея»1. Действительно, русская
литература XIX века, с которой Амфитеатров был генетически
связан, не стеснялась никакими сколь угодно рискованными
ситуациями, особенно усердствовали в их создании натуралисты.
Но настало новое время, и их эротика стала для читателей
пресной, а то и просто перестала быть эротикой, превратилась в
излишнее прюдничество. С русской литературой случилось нечто
знаменовавшее решительное изменение всей системы отношения
к наиболее интимным сторонам жизни человека. Ожесточенно
сопротивлялась цензура, время от времени устраивались
осуждающие кампании, возмущались писатели и критики старого
закала, но поделать они ничего уже не могли: сдвиг всей русской
литературы в сторону того, что с достаточной степенью
условности можно назвать «модернизмом», повлек за собой и
расширение границ дозволенного в описаниях.
Конечно, русская литература была здесь не одинока. Многое
из того, что в ней только опробовалось, для западной (прежде
всего — французской) литературы было уже давно привычным.
Но по большей части влияние сказывалось в сфере «низких»
жанров, которыми мы сегодня заниматься не будем. Заранее
297
договоримся, что «Санин» и рассказы Анатолия Каменского,
вызвавшие столько критических перепалок, останутся вне
рассмотрения. Явная вторичность произведений такого рода может
поведать лишь о нравах литературной промышленности, а не о
серьезных исканиях настоящих писателей, — как массовый
выброс ксерокопированных, а то и типографски отпечатанных
эротических рассказов или повестей в наши дни, снимая ореол
запретности с темы и рассеивая больное любопытство, еще
ничего не говорит о тенденциях большой литературы. Новой
«сексуаль-ной революции» на наших глазах явно не произошло,
ибо не считать же провозвестниками ее беспомощные сочинения
В. Нарбиковой или Вик. Ерофеева!
Речь пойдет о другом: об исканиях литературы русского
модернизма со второй половины девяностых годов прошлого века
до тридцатых годов нашего. При этом слову «модернизм»
придавать строгое терминологическое значение я не буду,
ограничиваясь самым общим представлением о нем и о писателях, с ним
связанных. Ведь главное, что хотелось бы рассмотреть, хотя бы
в самом первом приближении, — не проблему модернизма как
литературного течения, а вопрос о том, как и почему эротика в
самых различных ее аспектах стала важнейшей сферой
приложения творческих сил многих и многих писателей.
И еще одну оговорку следует сделать: по моему глубокому
убеждению, эротика и употребление «непристойных»,
«нецензурных» слов в речи автора или персонажей относятся к
разным, хотя нередко и соприкасающимся областям. Стихотворение
Пушкина «Сводня грустно за столом...», насыщенное такого
рода лексикой до предела, как и ругательства у Венедикта
Ерофеева, совершенно лишены заряда эротизма. Конечно, время от
времени прорыв «непристойностей» в литературу
свидетельствует и об открытии каких-то новых сторон в человеческом
эротизме, как то было скажем, в «Любовнике леди Чаттерли» для
литературы английской, где впервые так называемые four-letter
words обрели характер ласковых и нежных наименований (что,
кстати сказать, начисто пропало в недавнем русском переводе,
сделав его то ли откровенной порнографией, то ли пособием по
технике секса), но связь между этими сторонами, часто
путаемыми, вовсе не является прямой и строго определенной.
А для начала я предлагаю вернуться в середину девяностых
годов прошлого века и заглянуть в тетради совсем еще молодого
человека, практически неизвестного в литературе, но которому в
ближайшем будущем предстоит стать одним из лидеров
зарождающегося символистского движения, — Валерия Брюсова.
298
Можно по-разному относиться к его творчеству ныне, почти
через сто лет после его начала. Думаю, не ошибусь, если скажу,
что для большинства современных читателей его стихи кажутся
холодными, сухо-мастеровитыми и очень откровенно
говорящими, сколько сил и старания пошло на их огранку, на поиск
формы. Их пафос — слишком часто натянут, классичность
формулировок превратилась в банальность, поэтические находки,
ставши общедоступными, потускнели. Но даже если
безоговорочно со всем этим согласиться, то все-таки нельзя ни в коем
случае забыть, что Брюсов на протяжении многих лет первым
проходил то поле, которое впоследствии другие превратили в
тучную ниву. Пусть его вспашка была не очень глубока, но он
поднимал новь, а следующие поколения приходили на уже
обработанную почву. Поэтому для понимания судеб русской поэзии
приходится очень внимательно вглядываться в то, что было
наработано Брюсовым, и не только Брюсовым как литературным
деятелем (тут его заслуг никто, кажется, и не думает
оспаривать), но и Брюсовым-поэтом.
Меж тем для его ранней поэзии было в высшей степени
характерно, что она уже в те годы строилась на решительном
соединении воедино искусства и человека, его творящего. Со
временем у символистов этот принцип приобретет чрезвычайно
изощренные формы2, но пока что Брюсов лишь намечает его,
причем соединяя воедино не только художественное построение,
но и самоанализирующее восприятие человека.
В письме 1907 года к 3. Н. Гиппиус Брюсов дает
замечательную автохарактеристику: «Меня почти ужаснуло одно
выражение в вашем предпоследнем письме, вдруг опять
открывшем, какая все-таки бездна лежит и не может не лежать между
двумя человеками. Вы, говоря о каком-то поклоннике Людмилы
Николаевны (о Розанове?) сказали: «обладателе, как и вы (т. е.
как и я), разожженной плоти». Боже мой! Вы, говорившая со
мной, читавшая меня, писавшая обо мне статьи, осудившая
понимание меня «несложными душами моих почитателей», —
неужели вы не знаете, что ко мне могут быть приложимы <...>
разные эпитеты <...> но именно не этот! <...> Все что хотите:
обман или добродетель, любопытство или притворство, но
только не «разожженная плоть». Этого никогда не было, нет и не
может быть. В разных частях своего существа испытывал я
«разожженность», но только не в «плоти»...»3 И примененные
им далее к себе лермонтовские слова о «холоде тайном» как
нельзя лучше определяют не только психологический облик
человека, но и творческую сущность поэта. Наверное, пользуясь
299
излюбленной самим Брюсовым демонологической
номенклатурой, следовало бы его как художника уподобить инкубу —
мужскому демону с холодным семенем. Своим
рационалистическим сознанием он не мог не понимать, что сделаться истинным
поэтом с таким складом личности абсолютно невозможно, что
нужно искать какую-то замену органически отсутствующему. И
он начал создавать конструкции, в которых отчетливо видны
истоки осознания эротизма ранним поколением русских
символистов.
Известно, что формирование облика поэта-декадента
происходило у Брюсова одновременно с развитием его первого
серьезного романа. Рано погрузившийся в грязный мир борделей
Цветного бульвара, он какое-то время сопротивлялся искушению
начать сколько-нибудь серьезные отношения с женщиной своего
круга. История связи Брюсова с Еленой Масловой хорошо
известна по опубликованной части его дневников, по повести «Из
моей жизни», по комментарию к ранним стихотворениям, однако
на страницах дневников и рабочих тетрадей остались
свидетельства гораздо более откровенные и беспощадные к самому себе.
Брюсов не просто описывает перипетии своих свиданий с
Еленой (или Лелей), но создает сам стиль отношений, который
должен связывать истинного декадента, каким он стремится
стать, с женщиной. В дневниковой записи говорится: «Наконец
я могу писать, владея собой. Мечты моей юности сбываются.
То, что рисовалось мне, как далекое desideratum, стало
действительностью. Девушка шепчет мне «люблю» и отдается мне;
стихи мои будут напечатаны. Чего еще? Сейчас я счастлив, но...
(Кстати, я боюсь за это счастье, еще не зная результата 1-го
экзамена.) Но... но что дальше? <...> Играю страшную игру,
лгу всем, лгу себе и совсем не то на деле, что есмь в жизни.
Трудно»4. Обратим внимание, как здесь связаны страсть,
публикация стихов (не создание, а именно публикация) и
университетский экзамен, неудача на котором может разрушить счастье.
Но главное, видимо, в ощущении, зафиксированном последними
словами, в постоянном неравенстве внутреннего облика поэта и
человека самому себе. В этом контексте разделенная страсть к
женщине становится важнейшей ступенью на пути становления
поэта, и вовсе не потому, что дает какое-то особое вдохновение,
а потому, что приоткрывает дверцу в ранее не изведанное, где
хладнокровие рассуждений5 и поведения6 служит основой для
создания принципиально новой поэзии.
Десятого марта 1893 года Брюсов записывает в дневнике:
«Когда выпили, нам удалось с Е. А. остаться вдвоем. Сначала
300
мы прикрывались планом Москвы и целовались за ним, потом
хладнокровно ушли в другую комнату. Помню, что мы лежали в
объятьях друг друга, а я лепетал какое-то бессвязное
декадентское объяснение, говорил о луне, выплывающей из мрака, о
пагоде, улыбающейся в струях, об алмазе фантазии». И это
«бессвязное декадентское объяснение» удивительно явственно
перекликается со стихами, которые пишутся в то же время. Так,
18 февраля в рабочей тетради (в уже ведущейся рубрике
«Символизм») записано стихотворение, где подобным же
образом, почти пародийно, соединяется несоединимое:
Целовал я рифмы бурно,
Прижимал к груди хореи,
И ласкал рукой Notturno,
И терцин ерошил змеи .
Несколько напоминая шокировавшие читателей шестидесятых
годов стихотворения молодого Случевского, создаваемое Брюсо-
вым обретало совсем иное значение: разрабатывая принципы
нового для русской литературы течения, Брюсов сознательно
создает впечатление «бессвязности», несочетаемости отдельных
элементов. Уже достаточно давно эти ранние стихи блестяще
проанализировал Вл. Ходасевич, показав, как впечатление
странности в них создается сочетанием мечты и повседневности,
причем повседневности чаще всего «тривиальной и грубой»8. И
прежде всего в открытой и напряженной эротике Брюсов
искал наиболее верный путь к воссозданию этого сочетания, так
как в мгновенном сближении человеческих тел легче всего
ощущается связанность временного и вечного, духовного и
плотского.
Примеров такого рода в раннем творчестве Брюсова сколько
угодно, но ограничусь лишь одним небольшим стихотворением,
так и оставшимся среди черновиков:
Не зная ласк, всю мерзость наслажденья
Испили мы; и вот — утомлена —
Недолгим сном забылася она,
А мне предстал мой демон осужденья.
Он говорил о золотых мечтах,
О днях любви, и чистоты, и веры,
Когда я знал заоблачные сферы
С огнем в душе и песней на устах.
301
Он говорил, я плакал. Но проснулась
Любовница, бесстыдна и дерзка.
Я слышал смех, я видел... и рука
К объятиям невольно протянулась9.
Я привожу именно стихотворение, оставшееся в рукописи,
так как для Брюсова девяностых годов создание стихотворения
и его читательское восприятие очень часто были разделены, до
публики подобные стихи просто не доходили. Тот же Ходасевич
(как и многие другие авторы) при разговоре об эротике
юношеских стихов Брюсова опирался на цикл «К моей Миньоне»,
написанный в 1895 году, не обращая внимания на то, что
впервые опубликован он был лишь в 1913-м. Открытое введение
эротических мотивов в поэзию при тогдашней, девяностых
годов, цензуре было невозможно, и Брюсов был вынужден
ограничиваться рамками традиционных «приличий». Это важно
подчеркнуть, чтобы не создавалось превратного впечатления об
эпохе становления русского символизма. Допуская появление в
печати девяностых годов цикла «К моей Миньоне», мы тем
самым для самих себя снимаем напряженность отношений между
новой поэзией и прежней структурой общественного сознания,
лишь постепенно, под коллективными усилиями многих поэтов
становившегося более снисходительным к откровенно
эротическим описаниям.
Но и не выходившее в печать существовало в сознании как
самого Брюсова, так и его ближайшего литературного
окружения. И для них было очевидно, что именно эротика (как в
поэзии, так и в жизни) — одна из наиболее ярких сфер
выявления «декадентского» начала в человеке, именно через нее
отчетливее всего рисуются полярно противоположные
устремления его души. Приведу ряд лишь отчасти вошедших в издание
1927 года записей Брюсова в дневнике за конец 1894-го и
начало 1895 года, выразительных даже безо всяких комментариев.
Первого декабря 1894 г.: «Вчера утром я был в
унив<ерситете>, дома писал стихи, пот<ом> занимался с
сестрами, потом пошел на свидание. На свидании провел несколько
блаженных минут в чистой любви, но на возврат<ном> пути
мы столкнулись с Ф. А., Ф. П. и мамашей Мани. Мы ехали
на извощ<ике> и онемели. Сцена. Пот<ом> был у Ланга,
потом на возврати<ом> пути совершил бодлеровскую шутку,
зайдя к какой-то отвратительной рябой женщине (см. мое сти-
хотв<орение> «Шатаясь, я вышел...»). Самый декадентский
день!»
302
Четырнадцатого декабря: «Как-то недавно зашел в
бард<ак>. В результате маленький триппер — это третий. Но
как отношусь я к нему! Будто ничего нет. Сравниваю с началом
этой тетради. В какую бездну пал я! Впрочем, заодно в начале
этой тетради обо мне не знал никто, а теперь все журналы
ругаются. Сегодня «Нов<ости> Д<ня>» спокойно называют
Брюсов у зная, что читателям имя известно».
Двадцать пятого февраля 1895 года: «В четверг был у меня
Емель<янов->Коханский и увел меня смотреть нимфоманку.
Мы поехали втроем в №, и там она нас обоих довела до изне-
моженья — дошли до «минеток». Расстались в 5 час. (Девица
не только нимфоманка, но и очень хорошенокая, и, видимо,
вообще психически ненормальная.) Истомленный приехал домой и
нашел письмо от другой Мани (ту — нимфоманку — тоже
звали Маней) и поехал на свидание; опоздал на целый час, но
Маня ждала. После ночи оргий я был нежен, как Рауль;
поехали мы в Амер<иканское> кафе и Маня совсем растаяла от
моих ласк. Я сам был счастлив».
Этот ряд можно было бы продолжать очень долго, но,
думается, и приведенных цитат достаточно. В черновике письма к
Зинаиде Гиппиус Брюсов писал об одном из своих тогдашних
соратников по попыткам строения собственной личности, о
К.Д. Бальмонте: «Вы часто поминаете декадентство. Вот
истинный образ декадента не в искусстве, ибо это еще мало, но в
жизни»10. И несколько более подробно о том, что же считалось
в свое время истинно декадентским в жизни: «Недавно в
М<оскве> б<ыл> Бальмонт. Я провел с ним 36 часов.
Бальмонт осуществил в себе то, о чем я мечтал бывало. Он достиг
свободы от всех внешностей и условностей. Его жизнь
подчиняется только прихоти его мгновения. Он ищет только одного —
наполнять эти мгновения, «все во всем так делать, чтоб ввек
дрожать». [Что же? я вошел за ним в этот вихрь его жизни, от
которого отвык было. Мне было даже приятно увериться, что я
в нем не как в чужой стихии.] За полтора суток прошло передо
мной по меньшей мере с десяток драм (конечно, любовных).
Боже мой, с какой поразительной точностью повторялись не раз
мной виденные жесты, не раз слышанные слова, и слезы, и
рыдания. «Тесный круг подлунных впечатлений»! Он ликовал,
рассказывал мне длинные серии все того же — о соблазненных,
обманутых и купленных женщинах. Потом мы всячески
опьяняли себя, и были пьяны, и совершали разные «безумные»
поступки. Еще <1 нрзб> он уехал в Париж, чтобы искать новых
опьяняющих и новых женщин. А я остал<ся> и уже навсегда
303
знаю, что это не для меня. Довольно, я больше не рассчитываю
фабриковать так дешево сверхчеловека»11.
Этот черновик относится к 1902 году. За семь лет Брюсов
прошел большой путь от попоек и декадентских выходок не
только с Бальмонтом, но и с презираемым впоследствии Емель-
яновым-Коханским до поисков чего-то совсем нового. Не
случайно в продолжении этого же письма он обращался к Гиппиус
с мольбой: «После детских мечтаний о новой поэзии и столь же
детских исканий безумия я оказался без пути, а важнее того —
без цели, к которой искать пути. Совершенно искренно, перед
самой последней встречей с Вами я искал связей с теми, кто
мечтает о баррикадах. Не потому, конечно, чтобы я верил в их
катехизисы, а ради того, что они обещают хоть разрешение.
<...> [Я просто «навязываюсь» Вам в ученики. Придите и
возьмите. За мной то преимущество, что я почитаю возможной
Вашу истину. Если Вы будете говорить с матерьялистом или
атеистом, Вам придется много тратить слов на такое, что для
меня давно решено и именно в Вашем смысле. Мне так
привычно с тайными откровениями, со всем, что вне разума. И так
я презираю этот самый разум...]»12
Конечно, этот путь также был для Брюсова безнадежен,
ибо, при всей привычке к «тайным откровениям», по-
настоящему он не верил и в них13. Но, не веря, все-таки
пытался сформулировать новое понимание сущности того искусства,
которому должно принадлежать будущее.
В седьмом номере «Весов» за 1904 год Брюсов
решительнейшим образом разделывается с прежним своим сопутником по
декадентским эскападам, формировавшим жизненный облик
поэта: «Г. Емельянов-Коханский в литературе похож на
невоспитанного человека, который задумал быть развязным и смелым в
обществе: все выходки его грубы, и не столько смешны, сколько
неприятны»14. А уже в следующем номере журнала он
формулирует новое представление о значении эротизма для
современного писателя: «Какие-то новые пропасти и провалы открылись
в стране любви, где, казалось, были нанесены на карту все
малейшие неровности. Там, где века видели синее небо, ставший
более прозрачным воздух показал горную цепь, снеговыми
вершинами уходящую в небо» (с. 114). Развивая ключевую
метафору своей несколько более ранней статьи, манифестировавшей
начало первого открыто символистского журнала, Брюсов
объявляет одним из «ключей тайн» — страсть: любовную,
телесную, плотскую страсть. «Тело, обычно подчиняющееся
руководству ума и воли, — в мгновения страсти, как самодержав-
304
ный властелин, повелевает всем существом человека. Мы знаем
тело только в наших духовных восприятиях, в сознании, — но в
страсти обличается для нас вся самостоятельность и
независимость телесного» (с. 115). И далее: «Любовь исследима до
конца, как всякое человеческое, хотя бы и непроизвольное
создание. Страсть в самой своей сущности загадка; корни ее за
миром людей, вне земного, нашего. Когда страсть владеет нами,
мы близко от тех вечных граней, которыми обойдена наша
«голубая тюрьма»15, наша сферическая, плывущая во времена
вселенная. Страсть — та точка, где земной мир прикасается к
иным бытиям, всегда закрытая, но дверь в них» (с. 117).
Формула была найдена, слово — произнесено. На место
безраздельного торжества «сверхчеловеческого» начала в
обычном человеке (не только в Брюсове или Бальмонте, но и в Еме-
льянове-Коханском) было подставлено начало иное, мистическое
и требующее полного, самоотверженного проживания в себе. Не
стать выше общественных приличий, тем самым перешагнув
грань «человеческого, слишком человеческого», как предлагало
примитивно понятое ницшеанство девяностых годов (когда даже
Горький считался выразителем идей, посеянных Ницше), а
ощутить во всех изгибах и извивах страсти присутствие
Божественного — вот что стало на довольно продолжительное время
одной из основных идей русского символизма.
Конечно, эротическое приобретало разные облики у разных
писателей, так или иначе к символизму близких. Тут был и
ужас ремизовских героев перед отвратительностью плотской
любви, и расчисленное претворение в отвлеченные литературные
схемы столь интриговавшего современников тройственного союза
Мережковских и Философова, и довольно примитивное
эстетизирование красоты у Сологуба (линия Людмилы и Саши Пыль-
никова в «Мелком бесе», Елисаветы в «Творимой легенде»),
неразрывно сплетенное с дьявольским эротизмом, как в
откровенном стихотворении 1906 года:
Не отражаясь в зеркалах,
Я проходил по шумным залам.
Мой враг, с угрюмостью в очах,
Стоял за белым пьедесталом.
Пред кем бы я ни предстоял
С моей двухсмысленной ужимкой,
Никто -меня не замечал
Под серой шапкой-невидимкой.
305
И только он мой каждый шаг
Следил в неутолимом гневе,
Мой вечный, мой жестокий враг,
Склонившись к изваянной деве.
Среди прелестных, стройных ног,
Раздвинув белоснежный камень,
Торчал его лохматый рог,
И взор пылал, как адский пламень .
Для самого же Брюсова основным было стремление к
бесконечной смене лиц и личин страсти: «Греки отличали от
Афродиты Урании, небесной, и Афродиты Пандемос, земной, еще
Афродиту Геннетейру, рождающую. Все же Афродита была скорее
богиней женской красоты, чем страсти. Рядом с Афродитой
стоял еще образ Эрота, бога любви, и был еще бог похоти,
Приап. Вспомним затем, что сам Зевес, отец богов и людей,
похитил на Олимп Ганимеда и что покровительницей рожениц
считалась девственная богиня Артемида. Это все — намеки, но
тоже перемены масок, дающие подсмотреть таинственный лик
неназываемой богини» (с. 119). Не случайно в его
стихотворениях того времени появляются столь шокировавшие
современников сцены некрофилии или «утех с козой»: всякая перемена в
направленности страсти была священна, потому что за ней
приоткрывалась одна из граней тайны17.
Были в этом у него и верные ученики, для которых нередко
высокий смысл идеи Брюсова пропадал и смена любовных утех
становилась важна сама по себе. Так случилось, например, в
творчестве почти совсем забытого ныне, но чрезвычайно
характерного для своего времени поэта Александра Тинякова, в
молодости поклонявшегося Брюсову и перенявшего у него многие
формальные особенности построения собственного творчества,
прежде всего — поклонение не только «равно», но практически
одновременно «и Господу и Дьяволу»18. Поэтому в его книгах
находятся рядом восхищение тайной беременности (с отчетливо
звучащими эротическими обертонами):
Чрево Твое я блаженно целую,
Белые бедра Твои охватя,
Тайну вселенной у ног Твоих чую, —
Чую, как дышит во чреве дитя , —
и эстетизация наиболее безобразного в сексуальности, как в
стихотворении «В чужом подъезде»:
306
Со старой нищенкой, осипшей, полупьяной,
Мы не нашли угла. Вошли в чужой подъезд.
Остались за дверьми вечерние туманы
Да слабые огни далеких, грустных звезд.
И вдруг почуял я, как зверь добычу в чаще,
Что тело женщины вот здесь, передо мной,
И показалась мне любовь старухи слаще,
Чем песня ангела, чем блеск луны святой.
И ноги пухлые покорно обнажая,
Мегера старая прижалася к стене,
И я ласкал ее, дрожа и замирая,
В тяжелой, как кошмар, полночной тишине.
Засасывал меня разврат больной и грязный,
Как брошенную кость засасывает ил, —
И отдавались мы безумному соблазну,
А на свирели нам играл пастух Сифил!
И в контексте взглядов Брюсова на страсть очень интересно,
до каких крайних пределов доводит Тинякова представление об
изменчивости ликов тайны. В неопубликованном стихотворении
он славит библейского Онана, ставя эпиграфом слова Книги
Бытия: «Онан, когда входил к жене брата своего, изливал семя
на землю... Зло было перед очами Господа то, что он делал, и
Он умертвил и его» (38, 9 — 10):
Он первый оценил всю прелесть полутени
И — бросив свой челнок в пучину пьяных грез,
Открыл в ней острова запретных наслаждений
И смело поднялся на роковой утес.
Он первый увидал под дымкою разврата
Манящие к себе, печальные сады,
Где тлением Греха прельщают ароматы,
Где тьмою взращены смертельные плоды.
Он бросил нам намек, что есть краса в гниющих,
Он призракам отдал мечту свою и кровь,
И — сделавшись врагом для буднично живущих,
Безумцам передал свой трепет и любовь.
307
И был он истреблен тираном вечным — Богом
За то, что он восстал, за то, что он посмел
За сказанной чертой, за роковым порогом
Открыть иную даль и путь в Иной Предел!21
Эту линию в символизме можно было бы прослеживать и
далее, но все-таки принципиальная новизна в отношении к
эротизму начиналась не здесь, а в творчестве «младших»
символистов, и прежде всего — Вячеслава Иванова.
Прочитав цитированную выше статью Брюсова, он написал
ему: «„Вехи. Iя безусловно хорошо написаны; конечно,
произведут смуту. Не могу отрицать, что важная и верная мысль могла
бы быть трактована углубленнее. Жаль, по-моему, что ты не
написал об этом более законченного essai, и притом в
обособленной форме»22. Это эссе попробовал создать он сам.
Семнадцатого февраля 1907 года жена Иванова, Л. Д. Зи-
новьева-Аннибал, сообщала семейному другу и
домоправительнице М. М. Замятниной, которая в те дни жила в Швейцарии
с детьми: «Новая Среда — гигант. Человек 70. Нельзя вести
списка. Реферат Волошина открыл диспут: «Новые пути
Эроса». Вячеслав сымпровизировал речь поразительной цельности,
меткости, глубины и правды. Говорил, что история делится на
периоды ночи и дня, так, Греция — день, Средние века —
ночь, Возр<ождени>е — день, а затем как <?> ночь, и 19-й
век — рассвет, теперь близится день. Утро отличается
дерзновением повсюду, и, перейдя к жизни, искусству, В<ячеслав>
сказал, что т<ак> н<азываемые> декаденты если не в
сделанном, то в путях своих исполняли правое дерзновение. И дальше,
перейдя к области Эроса, говорил дивно о том, что, в сущности,
вся человеческая и мировая деятельность сводится к Эросу, что
нет больше ни этики, ни эстетики — обе сводятся к эротике, и
всякое дерзновение, рожденное Эросом, — свято. Постыден
лишь Гедонизм»23.
За этим почти протокольным и сухим описанием скрывается
трагическая ситуация, не только связавшая воедино пятерых
людей, но и ставшая основой для создания целостного мифа.
Внешним наблюдателям он представлялся в обличий
анекдотическом. Так, Вл. Ходасевич вспоминал о том самом докладе
Волошина, который через десять дней был прочитан уже в виде
публичной лекции в Московском литературно-художественном
кружке: «Одна приятельница моя где-то купила
колоссальнейшую охапку желтых нарциссов <...> кто-то у нее попросил
цветок, потом другой, и еще до начала лекции человек пятна-
308
дцать наших друзей оказались украшенными желтыми
нарциссами. Так и расселись мы на эстраде <...> докладчиком был
Максимилиан Волошин, великий любитель и мастер бесить
людей. <...> В тот вечер вздумалось ему читать на какую-то
сугубо эротическую тему — о 666 объятиях или в этом роде. О
докладе его мы заранее не имели ни малейшего представления.
Каково же было наше удивление, когда из среды эпатированной
публики восстал милейший, почтеннейший СВ. Яблоновский и
объявил напрямик, что речь докладчика отвратительна всем,
кроме лиц, имеющих дерзость открыто украшать себя знаками
своего гнусного эротического сообщества. При этом оратор
широким жестом указал на нас. Зал взревел от официального
негодования. Неофициально потом почтеннейшие матроны и
общественные деятели осаждали нас просьбами принять их в нашу
«ложу»...»24 Что речь идет об одном и том же событии,
подтверждает запись в дневнике М. А. Кузмина от 3 марта 1907
года: «Волошин вернулся еще вчера <...> Реферат прошел со
скандалом. В Москве есть оргийное общество с желтыми
цветами, оргии по пятницам, участвуют Гриф и К°. Я думаю, они
просто пьянствуют по трактирам»25. Почти что на глазах
случайность начинает превращаться в легенду. И эта легенда
оказалась гораздо серьезнее и важнее для судеб русского
искусства, чем породившие ее обстоятельства.
Лучший биограф Вяч. Иванова, многолетняя его ученица и
спутница О. А. Шор-Дешарт, так описывала центральную идею
Иванова 1905 — 1907 годов: «В. И. представлял себе тогда
«целое и всеобщее» как «хоровое действие» народа, подобно
хору «античной трагедии». «Единая душа бесчисленных
дыханий» должна найти свое «хоровое тело». Как же осуществить
такое задание на заре двадцатого века? Первым ответом были
«среды». Собрания на «башне» В. И. считал служением,
необходимым шагом на пути образования «вселенской общины».
Получилось культурное, даже и духовное общение, но Общины
не получилось. И вот В. И. и Л. Д. <Зиновьева-Аннибал. —
//.£.> приняли решение — странное, парадоксально безумное.
Их двоих «правильщик душ в единый сплавил слиток».
Плавильщик дал им пример, урок. Им надлежит в свое двуединство
«вплавить» третье существо — и не только духовно-душевно,
но и телесно»26. Поначалу этим третьим был выбран поэт
СМ. Городецкий, который незадолго до того на той же самой
«башне» необычайно ярко дебютировал стихами, впоследствии
вошедшими в его книгу «Ярь». Из дневника и писем Иванова
становится совершенно ясной внешняя картина вовлечения Горо-
309
децкого в проектировавшийся «тройственный союз», где
первоначальным импульсом послужила вспышка «латентной
гомосексуальности» Иванова. Но «вплавления» не получилось.
Расчетливый Городецкий, интересовавшийся Ивановым лишь до тех
пор, пока рассчитывал на его помощь в своих литературных
делах, явственно демонстрировал — изредка подчиняясь
домогательствам — свою неприязнь к отношениям подобного рода, да
и с Диотимой, как многие звали жену Иванова, у него особой
симпатии не возникало. Истерическое напряжение душевных
сил, находящихся почти в запредельном состоянии, завершилось
сильным охлаждением и постепенным отходом друг от друга.
Посвященный Городецкому восторженный «Эрос» Иванова
сменился насмешливой комедией Зиновьевой-Аннибал «Певучий
осел»27, где были совершенно ясны аллюзии на «башенные»
события 1906 года: царь эльфов Оберон не по своей воле
влюбляется в осла, который всячески уклоняется от его ухаживаний и
добивается лишь того, что Оберон возвращается к своей
прежней возлюбленной.
Но идея соборности как постепенного соединения людей в
общении не только духовном, но и телесном оставлена не была,
и следующая попытка была предпринята в начале 1907 года с
М. В. Сабашниковой-Волошиной и отчасти с самим
Волошиным.
В ряду совершенно особых семейных отношений людей эпохи
символизма (хорошо известная семейная драма Блока,
треугольник Белый — Нина Петровская — Брюсов, история третьего
брака Вяч. Иванова и др.) брак Волошина и Сабашниковой
также был отмечен «особой метой». Злоязычный и охотно
передававший чужие тайны Брюсов обмолвился в черновике
письма к 3. Гиппиус: «Промелькнул Макс с женой, мило полепетал
о теософии, о мистической судьбе личности и т. д. Речи о
теософии столь же ему не к лицу, как и то, для него почти нелепое
обстоятельство, что он пошел под венец девственником»28. Но и
свадьба не изменила этого положения: духовная связь-борьба-
отталкивание оставалась мучительной и чисто платонической. И
вот в эту ситуацию вошли насельники «башни». Четвертого
февраля 1907 года Зиновьева-Аннибал сообщала Замятниной:
«С Маргаритой Сабашниковой у нас обоих особенно близкие,
любовно-влюбленные отношения. Странный дух нашей башни.
Стены расширяются и виден свет в небе. Хотя рост болезнен.
Вячеслав переживает очень высокий духовный период. И теперь
безусловно прекрасен. Жизнь наша вся идет на большой высоте
и в глубоком ритме»29.
310
Но более всего сам стиль этих взаимоотношений рисует
исповедальное письмо Зинрвьевой-Аннибал к Анне Рудольфовне
Минцловой, известной теософке, оказавшей сильное духовное
воздействие и на Иванова, и на Белого, и на Кузмина, и на
Зиновьеву-Аннибал, и на других писателей символистского
круга30: «...обретя вновь свой пакирожденный брак с
Вячеславом, я устремляла свою светлую волю изжить до последнего
конца любовь двоих, и знала, что еще и еще растворяться будут
перед нами двери нашего Эроса прямо к Богу. Это прямой
путь, жертва на алтарь, где двое в совершенном слиянии
переступают непосредственно грань отъединения и взвивается дым
прямо в Небеса. Но жизнь подрезала корни у моего Дерева
Жизни в том месте, где из них вверх тянулся ствол любви
Двоих. И насадила другие корни. Это впервые осуществилось
только теперь, в январе этого года, когда Вячеслав и Маргарита
полюбили друг друга большою настоящею любовью. И я
полюбила Маргариту большою и настоящею любовью, потому
что из большой, последней ее глубины проник в меня ее
истинный свет. Более истинного и более настоящего в духе брака
тройственного я не могу себе представить, потому что
последний наш свет и последняя наша воля — тождественны и
едины. <...> Сколько я сказала (и как сумела, но Вы поймете и
простите немощь) о себе и о путях, по которым меня влек и
влечет Эрос. Теперь скажу о них. Вы знаете, как светло и
крылато выступила в путь Маргарита. И начались откровения пути.
Первое было красоты глубокой и потрясающей, целый новый
мир для меня: — стихия ласки, где царицей Маргарита-
девушка. Второе, что не имеет она никаких проходов к стихии
Страсти и к стихии Сладострастия (которые, к слову говорю,
взаимно враждебны одна другой). Третье, — что она
соприкасалась с стихией Страсти сильными, страшными толчками,
глухонемыми — в первой юности, в детстве и — утеряла все ходы.
Четвертое, — что Вячеслав взглянул в новый дивный мир.
Помнилось ему прозреть и обрести новую Любовь. Пятое, — что
муки крещения в Новую Любовь велики и огненны, и искушает
сомнение. Шестое откровение, — что Вячеслав узнал для себя
только две реки жизни, Эросом рожденные, — Духовная Любовь
и Страстная Любовь, и все, что между, — полудевство, и
неправда, и не красота. И очень бьется, и страдает, и обличает. И
седьмое откровение, — что Маргарита мнит себя гвоздем в распятии
Вячеслава и проклятой, т. к. свет, который в ней, <погашается?>
и становится теплотою в нем. Анна Рудольфовна, это все: купель
ли это крещения для Вячеслава или двери погибели?»31
311
В тот самый день, когда писалось это письмо, Волошин
записывал в дневнике: «То, что я не смел, не чувствовал права
потребовать для себя, я должен потребовать для Вячеслава. И
тогда... Ведь я никогда не мог ради себя отказаться от Амори
<Сабашниковой. — //.£.>, я ради нее, ради предутренней
девственности, ради «запотевшего зеркала озер» отказывался. И
если утреннее зеркало будет разбито и если я тогда полюблю ее,
уже неотвратимо, как женщину... Вчера весь день в Москве у
меня было безысходное томление. Казалось, что что-то
совершается... Я бродил по большому дому и не мог ни с кем
разговаривать. Вдруг приехала Ан<на> Руд<ольфовна> и мы
сидели несколько минут вдвоем. Она говорила призывные,
возвышающие слова. У ней были пылающие щеки и
бриллиантовые глаза»32.
В этой атмосфере, насыщенной демонической страстью,
глубокими переживаниями, мистическими чаяниями и предвестиями,
рождаются стихи Иванова из цикла «Золотые завесы», где
возвышенная эротика растворяется в строгом строе речи, а имя
Маргариты анаграммируется в звуках сонетов. Но есть в стиле
отношений между Ивановым, Зиновьевой-Аннибал и Сабашни-
ковой еще один литературный подтекст — повесть Зиновьевой-
Аннибал «Тридцать три урода», написанная в начале 1906 года,
о которой автор книги писала той же Минцловой: «...в этом
чадном рассказе оказалась какая-то пророческая сила»33. Книга
эта, будучи изданной, вызвала большой литературный скандал,
поскольку оказалась воспринята как апология лесбийской любви,
хотя для автора ее и наиболее проницательных читателей было
очевидно, что речь идет совсем о другом, — о высоком строе
отношений между двумя женщинами, где главенствует не
эротизм, а трагедия отказа от него34.
Однако для современной критики «Тридцать три урода»
стали объектом глумления и нападок, причем к хору нападавших
присоединились 3. Гиппиус и Андрей Белый. Это было странно
тем более, что для них, погруженных в сферу символистского
жизнетворчества, должно было быть очевидным, что известная
художественная слабость повести компенсируется степенью
вживленности автора в саму атмосферу рассказа. Очевидно,
личные отношения затемнили в их сознании то, что под
довольно беспомощно описанными переживаниями книжных героев
текла настоящая, горячая кровь их же соратников по
символизму. Называя четвертую книгу своего сборника стихов «Сог
ardens», посвященную имени Зиновьевой-Аннибал, «Любовь и
смерть», Иванов явно имел в виду не только общую для всех
312
людей ситуацию, но и свое, индивидуальное переживание ее,
описанное с его слов Волошиным: «И я лег с ней <Зиновьевой-
Аннибал, умиравшей от скарлатины. — Н.Б.> на постель и
обнял ее. И так прошли долгие часы. Не знаю, сколько. И
Вера <В. К. Шварсалон, дочь Зиновьевой-Аннибал от первого
брака, впоследствии жена Иванова. — Н.Б.> была тут. Тут я
простился с ней. Взял ее волос. Дал ей в руки свои. Снял с ее
пальца кольцо — вот это, с виноградными листьями,
дионисическое, и надел его на свою руку. <...> Я попросил
Над<ежду> Григ<орьевну> Чулкову дать мне знак в дверях,
когда наступят последние минуты, и ждал в соседней комнате.
И когда мне она дала знак, я пошел не к ней, а к Христу. В
соседней комнате лежало Евангелие, которое она читала, и мне
раскрылись те же слова, что она сказала: «Возвещаю вам
великую радость...» Тогда я пошел к ней и лег с ней. И вот тут я и
слышал: острый холод и боль по всему позвоночному хребту, с
каждым ударом ее сердца. И с каждым ударом знал, что оно
может остановиться, и ждал. Так я с ней обручился. И потом я
надел себе на лоб тот венчик, что ей прислали: принял
схиму...»35
В этом рассказе отчетливо видно, что для Иванова
описанное было не просто процессом прощания с умирающей любимой,
но претворением физического ухода из жизни одновременно и в
мистическое обручение, и в плотский союз, и в приобщение ко
Христу, где печаль и радость нераздельны и неслиянны.
Отсюда, конечно, и тот текст телеграммы, которым Иванов извещал
друзей о смерти жены: «Обручился с Лидией ее смертью».
Эрос превращался в этой индивидуальной мистерии в нечто
большее того, чем он является для абсолютного большинства
людей. Переплавляясь в горниле обоюдной страсти, освященной
смертью, он становился частью того опыта, который оказывался
выше земных условностей и потребностей. О. Дешарт пишет,
что в дневниках Иванова после смерти жены нередки случаи,
когда его почерк вдруг становится неотличимо похож на ее (для
видевшего быстрый, мелкий и легкий почерк Иванова и крупные
детские каракули Зиновьевой-Аннибал этот контраст
представляется практически неодолимым). Да и скандальный брак с
падчерицей для Иванова лишен какого бы то ни было оттенка
странности, ибо был прежде всего выполнением завета
покойницы. Эротическая (она же мистическая, религиозная, духовная)
связь с Зиновьевой-Аннибал оказывалась сильнее смерти.
Но в той же самой обстановке «башни», где оформлялась
мистерия троих, так и оставшаяся в итоге мистерией двоих, про-
313
исходили и совсем иные таинства, предвещавшие для русской
литературы другой путь развития, чем предлагавшийся
Ивановым и его кругом.
Одним из наиболее ярких открытий «башни» был Михаил
Кузмин. На протяжении долгих лет он писал прозу, стихи и
музыку, не имея практически никакого выхода к широкой публике,
его творчество знали лишь считанные друзья (ив первую
очередь — будущий наркоминдел Г. В. Чичерин, еще
гимназический приятель). Но когда в 1905 году он закончил работу над
повестью «Крылья», она сразу оказалась с восторгом принята
определенной частью людей, близких к «Миру искусства» и
кружку «Вечера современной музыки». 13 октября 1905 года
Кузмин записал в дневнике: «Сомов в таком восторге от моего
романа, что всех ловит на улице, толкуя, что он ничего
подобного не читал, и теперь целая группа людей (Л. Андреев, между
прочим) желают второе слушанье».
Восхищение Сомова и других подействовало и на Брюсова,
который отдал под «Крылья» целый номер «Весов». Никому не
известный литератор не просто триумфально дебютировал: его
повесть вызвала такой шум, что мало какое произведение этих
лет могло с ним соперничать в этом отношении. Еще много лет
спустя по разным поводам вспоминались «Крылья» и их
герои — банщик Федор, загадочный Штруп и проч. Повесть
была воспринята как намеренное оскорбление общественных
приличий, хотя единственное, что могло в ней шокировать, —
описание тяготения мужчин друг к другу. Кратко
сформулировала эту особенность 3. Гиппиус: «мужеложный роман».
Однако не случайно Брюсов не единожды вступался за повесть, как
не случайно и то, что успех, засвидетельствованный
многочисленными изданиями, «Крылья» имели не только в
специфической среде. Но все же вопрос о том, что представляло собой это
произведение и по какому разряду его числить, остается.
Получив журнальную публикацию «Крыльев», Чичерин
писал Кузмину: «Мне показалось, что больше пластики, чем
характеров. Пластика в каждой отдельной сцене, каждом
описательном словечке удивительная. Характеры — как в
«Воскресении» член суда, сделавший 27 шагов, и член суда,
оставшийся без обеда, но не как в том же «Воскресении»
хар<актер> <?> Катюши. <...> Очень выпуклые сценки, так
же, как в «Асторре», оставляют впечатление безнадежных
китайских теней, мишурных фантомов над бездной»36. И еще
через месяц: «В «Крыльях» слишком много рассуждательства,
причем жители Патагонии продолжают разговор, прерванный
314
жителями Васильсурска, жители Капландии продолжают
разговор, прерванный жителями Патагонии, этот же разговор
продолжают жители Шпицбергена и т. д. ( — будто трактат в
форме диалога, как делалось во времена энциклопедистов), и
все об одном и том же, так сказать, — панмутонизм или панза-
рытособакизм»37. В этом суждении близкого и
заинтересованного человека отчетливо видно, что именно казалось серьезным
читателям, а не газетным критикам главным в повести. Для них
было очевидно, что центральные места — не в описаниях (по
нынешним временам довольно невинных) близости между
мужчинами, а в самой конструкции повести, становящейся чем-то
вроде философского трактата, то ли ориентированного на
французских энциклопедистов, как предполагал Чичерин, то ли на
диалоги Платона, что кажется более вероятным. Сменяющие
друг друга Петербург, Васильсурск, Рим и Флоренция;
загадочные события, намечающие полудетективный сюжет; описания
нарочито остраненного быта — все это отодвигается на задний
план перед основным композиционным движением —
осознанием молодым человеком своего истинного предназначения в мире,
где равнозначащую роль играет и обращение к гомосексуальной
любви, и приобщение к искусству, и стремление постигнуть
разные культуры в их оригинальности, и прохождение через разные
жизненные перипетии, и освоение различных бытовых укладов
как своего собственного, и все остальное, что оказывается в
поле зрения молодого героя повести.
При всей своей художественной неполноценности (так как
слишком многое продиктовано не строгим расчетом творца, а
неопытностью дебютанта), «Крылья» все же обозначают
перспективу развития таланта, ибо в них уже начинает
прорисовываться одно принципиальное для Кузмина обстоятельство: все
стороны человеческого существования становятся
равнозначащими для полноценной жизни. И среди этих сторон важное (но
вовсе не столь важное, как в системе мировоззрения
символистов) место занимает эротика. Едва ли не лучшую
характеристику творчества Кузмина дал еще в 1922 году К. В. Мочульский.
Прислушаемся к его словам: «Он говорит о самом несложном,
говорит бесхитростными, почти детскими словами. <...> Но
заговорить «свежими» словами — не значит ли приобрести
новую душу? Для Кузмина — единственное обновление в любви.
«Любовь всегдашняя моя мера», — говорит он в «Сетях». Она
открывает наши глаза на красоту Божьего мира, она делает нас
простыми, как дети»38. Вот это обретение новой души,
достигаемое посредством обращения к любви, на долгое время сделало
315
столь близкой читателям поэзию Кузмина. В ней виделась
естественность переживания, не стесняющегося речевой
неловкостью, недоговоренностью, наивностью стиха, в равной степени
принимающего и верлибр, и изощренные строгие формы, и
изобретенные на случай строфы.
Потому-то столь неожиданны для сторонних наблюдателей
оказались его стихи начала двадцатых годов, в которых место
естественности заняла явная умышленность построения,
тщательно вуалированная ранее сложность обнажилась, стала
очевидной. Рассыпавшиеся по всему стихотворению созвучия
теперь стали взрываться внутри одной строки, плавно
перетекавшие один в другой образы громоздятся плохо
перевариваемыми глыбами, то и дело возникает ранее отсутствовавшее
«сопряжение далековатых понятий», связь между которыми
достигается с трудом. «Кларист» Кузмин становится темным и
загадочным. И столь же изощренно-загадочны становятся его
эротические образы, хотя путь к ним лежал через казавшуюся
изящно стилизованной книжечку «Занавешенные картинки». О
ней уже немало написано, тексты переизданы, в США
выпущено репринтное воспроизведение со всеми рисунками В. Мила-
шевского. Но остается загадочным и психологически плохо
объяснимым, почему в самом конце 1917-го и в 1918 году
Кузмин вдруг взялся писать специальные стихи «не для
печати»? Стихи, в которых едва ли не каждому мог быть дан
подзаголовок: «По мотивам имярек»?39 Должны ли мы видеть в них
безоговорочное отрешение от проблем времени или искать нечто
иное?
Л. Ф. Кацис предложил оригинальное прочтение
«Занавешенных картинок», увидев в них непосредственную реакцию на
революционные события, выразившуюся в создании «анти-
молитвенника», хвалы семи смертным грехам, параллельного
книгам В. В. Розанова и А. М. Ремизова, в том числе и роза-
новского «Апокалипсиса нашего времени» с его символическим
занавесом, опустившимся над Россией40. При всей
соблазнительности подобного подхода, как бы поднимающего тексты
Кузмина из разряда порнографических, по которому они долгое
время проходили41, в сферу высокой художественной идеологии,
вряд ли можно полностью согласиться с этой идеей, прежде
всего потому, что если замысел книги и особенно ее заглавия
действительно относится ко времени после смерти Розанова
(Розанов скончался в январе 1919 года, а еще летом этого года
Кузмин предлагал на продажу рукопись того же самого
сборника под названием «Запретный сад»42), то стихотворения, в нее
316
вошедшие, все написаны гораздо ранее и явно не могут быть
столь откровенно связаны с розановским строем мысли.
Понимая, что догадки здесь не могут приобрести силу полной
доказательности, я бы все же предложил другой вариант понимания
сути и смысла появления стихов из «Занавешенных картинок»
именно в 1917 — 1918 годах.
Для Кузмина было в высшей степени характерно осмысление
больших исторических событий через мелкие, почти бытовые
подробности. Достаточно вспомнить его стихи, посвященные
Февральской революции, чтобы убедиться в этом. Без патетики,
без восклицаний он строит образ революции на повседневном,
внешнем, «неважном», как бы противопоставляя свое видение
многочисленным восторгам тех, которые только что воспевали
прямо противоположное. Так же, с моей точки зрения, он
поступает и в «Занавешенных картинках». С одной стороны, он
пишет именно в эти переломные дни оду «Враждебное море»,
посвященную Маяковскому и насыщенную ораторскими
интонациями, а с другой — уходит в интимное, причем стилизованно-
интимное, но являющееся неотъемлемой частью общего
«огромного, неуклюжего, скрипучего поворота руля».
Своеобразный большевизм Кузмина, о котором он говорил и записывал
в дневнике в месяцы, непосредственно предшествующие
Октябрю и следующие за ним, выражается, помимо всего прочего, и в
том, что события, огромность которых он отчетливо видит,
свободно включают в себя эротические картинки.
Вообще 1917 — 1918 годы оказались для литературы,
между прочим, годами свободы печати в самом непосредственном
смысле, который имел в виду Пушкин, говоря: «Для меня
сомнения нет <...> что первые книги, которые выйдут в России
без цензуры, будет полное собрание стихотворений Баркова»43.
До Баркова, правда, дело не дошло, но пушкинская
«Гавриилиада» (еще поименованная «Гаврилиадой»), «Опасный
сосед» В. Л. Пушкина, вольные стихотворения римских поэтов
с еще более вольными репродукциями с гемм (переведенная и
составленная Брюсовым книга «Erotopegnia») оказались одними
из первых плодов свободы печати. В этом смысле
«Занавешенные картинки» органичны по времени создания, но
по времени издания (декабрь 1920 г.) они также вполне
органичны среди книг Кузмина, изданных в конце 1920-го ив 1921
году. Напомню, что ближайший их контекст составили сборник
переводов из Анри де Ренье «Семь любовных портретов»,
нарочито холодных и с выдержанно холодными иллюстрациями
Д. Митрохина, странный сборник «Эхо», изданный в почти что
317
домашнем издательстве А. Ивича-Бернштейна «Картонный
домик», где причудливо соединились «хлебниковские», едва ли не
самые «заумные» стихи Кузмина с примитивными поделками
для «кукольной эстрады», «представление для кукол живых или
деревянных» под названием «Вторник Мэри», и, наконец,
полностью «серьезный» сборник «Нездешние вечера», в котором
отчетливо звучит давняя кузминская тема единства искусства и
жизни, одновременно независимо существующей и замкнутой в
искусстве:
Сквозь чайный пар я вижу гору Фузий;
На желтом небе золотой вулкан.
Как блюдечко природу странно узит!
Но новый трепет мелкой рябью дан.
В той системе поэтики Кузмина, которую он представлял
читателям 1920 — 1921 годов, находит свое место и любовь (и в
ее возвышенных, и в «низких», плотских аспектах), и искусство,
и быт, и итальянские воспоминания, и поэтическое осмысление
философского наследия гностицизма, и многое другое. В этом
контексте «Занавешенные картинки» давали Кузмину возможность
показать весь диапазон эротических переживаний человека вообще,
каким он виделся поэту, — от стилизованной под гравюры Буше
картинки любви дамы к собачке — до смачно плотского:
Я не знаю: блядь ли, сваха ль
Здесь насупротив живет,
Каждый вечер ходит хахаль:
В пять придет, а в семь уйдет.
Тетка прежде посылала
Мне и Мить, и Вань, и Вась,
Но вдовство я соблюдала,
Ни с которым не еблась.
На этом фоне уже не выглядит неожиданным появление едва
ли не высших достижений Кузмина в сфере открыто
эротического, к которой он пришел в двадцатые годы. С одной стороны,
это ориентированное на индийскую мифологию (как и
скандально в свое время знаменитое стихотворение Вяч. Иванова «Узлы
змеи») стихотворение из вышедших в Берлине и почти не
попадавших в Россию «Парабол»:
318
Йони-голубки, Ионины недра,
О, Иоанн Иорданских струй!
Мирты Киприды, Кибелины кедры,
Млечная мать, Маргарита морей!
Произрастание — верхнему севу!
Воспоминание — нижним водам!
Дымы колдуют Дельфийскую деву,
Ствол богоносный — первый Адам!
Объединение вцутри одного стихотворения священного
индуистского символа Иони, изображавшегося в виде женских
гениталий, Иоанна Предтечи, Венеры-Афродиты, Кибелы, пророка
Ионы (в другом стихотворении того же времени он оказывается
поглощен Левиафаном-государством, с явной проекцией на
судьбу самого поэта), Адама, представленного в виде явно
фаллического символа «богоносного ствола», — все демонстрирует
возможности новой поэтики Кузмина, позволяющей
внимательному читателю не ограничиваться прямо названными в
стихотворении реалиями и расширять семантическое пространство, сед-
миобразно толкуя их, но и втягивать в орбиту своего внимания
сонеты Вяч. Иванова из цикла «Золотые завесы» (на что явно
намекает имя «Маргарита») или стихотворение Волошина
«Пещера».
А рядом с этой изощренно идеологической эротикой
появляется пародийный перепев собственных строк из идиллического
«Пятого удара» в цикле «Форель разбивает лед»:
Мы этот май проводим, как в борделе:
Спустили брюки, сняли пиджаки
В переднюю кровать перетащили
И половину дня стучим хуями
От завтрака до чая...
К подобному же разряду можно отнести и прозаические вещи
двадцатых годов — «Печку в бане», и «Пять разговоров и
один случай», где нарочитая внешняя примитивность текста таит
за собой его глубокую внутреннюю сложность45.
Уже Ж. Шерон, публиковавший «Печку в бане» в «Wiener
slawistischer Almanach» (1984. Bd. 14), прямо говорил о связи
этого произведения с текстами обэриутов. Действительно,
наблюдение совершенно справедливо и подтверждается
многочисленными записями в дневнике Кузмина, где постоянно фиксиру-
319
ется общение с А. Введенским и (несколько реже) с Д. Харм-
сом. Однако представляется более существенным сказать о том,
что для обэриутов творчество Кузмина во многом послужило
основой формулирования собственного отношения к миру, то
есть обратить внимание не на внешнюю сторону, где близость
очевидна даже невнимательному глазу, а на внутренние
особенности мироощущения. Для нас важно, что особенно отчетливо
чувствуется это как раз в отношении к человеческой
сексуальности.
У обэриутов — прежде всего я, конечно, имею в виду Хар-
мса и Введенского, — как известно, главенствующими темами
творчества были глобальные и вроде бы совершенно
абстрактные: Бог, смерть, любовь, время... Но предстают они перед
читателем, слушателем, зрителем во вполне конкретных, осязаемых
формах, позволяющих ощутить конкретику этих абстрактных
понятий. Особенно характерно это для творчества Введенского,
где наивное, почти детское отношение к словам и обозначаемым
ими частям тела, актам снимает всякий ореол «запретности» с
заповедных для литературы тем и ситуаций, как в «Елке у
Ивановых», где отец и мать Пузыревы, лесоруб Федор и
служанка занимаются любовью на глазах подразумеваемых
зрителей, а в речах детей звучат откровенно сексуальные намеки.
Но в наиболее отчетливой форме отношение к сексу
выявилось в «Куприянове и Наташе», где постепенное нарастание
эротического напряжения все время прерывается не только
зловещим «И шевелился полумертвый червь»46, но и достаточно
странными в данном контексте репликами: «Но что-то у меня
мутится ум, / я полусонная как скука», «Как скучно все кругом
/ и как однообразно тошно».* Желание «заняться
деторождением» высшей своей целью имеет абсурдное: «И будем мы
подобны судакам». Но вот наступает кульминационный момент:
— Ты окончательно мне дорога Наташа, —
ей Куприянов говорит.
Она ложится и вздымает ноги,
и бессловесная свеча горит.
Наташа. Ну что же, Куприянов, я легла,
устрой, чтоб наступила мгла,
последнее колечко мира,
которое еще не распаялось,
есть ты на мне.
А черная квартира
над ними издали мгновенно улыбалась.
320
Ложись скорее Куприянов,
умрем мы скоро.
Куприянов.
Нет, не хочу. (Уходит.)
Любовь, которая для Наташи является единственным
противостоянием смерти, единственным спасительным звеном
мироустройства, для ее партнера оказывается невозможной,
несуществующей:
Мир окончательно давится.
Его тошнит от меня,
меня тошнит от него.
Достоинство спряталось за последние тучи.
И в результате, как итог всего происшедшего, оба главных
действующих лица меняют свою природу: Наташа становится
лиственницей, а Куприянов уменьшается и постепенно исчезает.
Их обоих на сцене замещает Природа, предающаяся
«одинокому наслаждению».
Антиэротизм «Куприянова и Наташи» очевиден, но только
ли в нем дело? Видимо, этот текст следует рассматривать в
нескольких аспектах. С одной стороны, это, конечно, ответ на
глобальные вопросы, ставящиеся мирозданием перед человеком,
и прежде всего — что может противостоять мировой энтропии?
Надежда Наташи на плотскую любовь оказывается тщетной, но
и Куприянову не помогает отказ от нее. Природа поглощает их
обоих, оставаясь при этом самодостаточной, безразличной к
человеческому существованию или несуществованию. Ее
«одинокое наслаждение» символизирует отрешенность устройства
вселенной от размышлений о человеке, которому при осознании
этого глобального закона остается лишь надеяться на то, что
«кругом, возможно, Бог» (так назван один из текстов
Введенского), или на присутствующую при всем действии «Куприянова
и Наташи» икону Спаса47. Однако можно предположить, что в
тексте присутствует и другое значение, определенное временем
его создания (1931 год). Вряд ли стоит сомневаться, что «год
великого перелома» осознавался Хармсом и Введенским как
нечто апокалипсическое, несущее гибель всему прежнему миру. И
глубинный философский смысл их текстов не препятствует
достаточно конкретному политическому истолкованию, а, наоборот,
придает ему гораздо более серьезное звучание48. Поэтому,
видимо, столкновение индивидуального чувства, последнего и наи-
11 Анти-мир русской культуры
321
более сильного, с некоей внеличностной силой, ему
противопоставленной, поглощение человека природой (не забудем, что речь
идет не только о природе как таковой, но и о гораздо более
конкретном понятии — о мире) должно вызвать у читателя
ассоциации с процессами конца двадцатых и всех тридцатых
годов, с постепенным поглощением человека государством в самых
разнообразных его формах — от Союза писателей до концлагеря.
Как представляется, генетически этот ассоциативный круг
вполне может восходить ко многим произведениям Кузмина,
написанным после революции. Некоторый первоначальный
энтузиазм, владевший им в послеоктябрьские недели, сменился
унынием («...сам ты дико запевал / Бессмысленной начало тризны»,
как скажет он в цикле 1919 г. «Плен») и попытками
противопоставить всеобщей деиндивидуализации в нищете и
бесправии — Солнце, непобедимое и вездесущее, несущее
божественную теплоту, а вместе с ним — Эрос. Характерно, что в его
дневнике не раз фиксируется, что первым симптомом оскудения
жизни является исчезновение сексуальных ощущений, и
наоборот: возобновление этих чувств свидетельствует о некоторой,
хотя бы относительной, нормализации внешних условий жизни.
Для Введенского исчезновение эротического начала (точнее,
правда, будет сказать, что исчезновение не полное: постепенное
раздевание героев и отказ от любовного акта сменяются
раздельным самоудовлетворением, то есть заменой «последнего
колечка мира, / которое еще не распаялось» действием,
лишающим возможности испытать чувство, стоящее выше любого
разделения) обозначает полную утрату человеком начала
божественного, вытесняемого не только природным, но и
государственным. И в какой-то степени ему вторит в ряде своих
произведений Хармс.
Из известных его текстов, конечно, это в первую очередь
относится к рассказу «Помеха», где любовное сближение
прерывается арестом героев. Но путь к такому резкому обнажению
конфликта прочерчивается в ряде других, гораздо более ранних
записей Хармса. Именно фиксация своих любовных
переживаний открывает ему путь к прозе конца тридцатых годов;
открытое, освобожденное от оков литературной условности слово
рождается для него в стихотворениях, явно предназначенных
только для самого себя:
Ты шьешь. Но это ерунда.
Мне нравится твоя манда,
она влажна и сильно пахнет.
322
Иной посмотрит, вскрикнет, ахнет
и убежит, зажав свой нос
и вытирая влагу с рук,
вернется ль он — еще вопрос,
ничто не делается вдруг.
А мне твой сок — сплошная радость,
ты думаешь, что это гадость,
а я готов твою пизду лизать, лизать без передышки
и слизь глотать до появления отрыжки49.
Это стихотворение написано примерно в то же время, что и
помеченная 28 марта 1931 года «Молитва перед сном»:
Господи, среди бела дна
накатила на меня лень.
Разреши мне лечь и заснуть Господи,
и пока я сплю накачай меня Господи
Силою Твоей.
Многое знать хочу,
но не книги и не люди скажут мне это.
Только Ты просвети меня Господи
пувем стихов моих.
Разбуди меня сильного к битве со смыслами,
быстрого к управлению слов
и прилежного к восхвалению имени Бога во веки веков50.
«Битва со смыслами», поминающаяся в этой молитве, для
Хармса стала одним из наиболее важных занятий на
протяжении всех тридцатых годов. Конечно, пока даже основные
процессы внутреннего развития поэтической системы Хармса не
изучены, мы не можем с уверенностью говорить о его поисках,
но можно, очевидно, указать хотя бы некоторые возможности,
им пробуемые, — «заумный язык», «упражнения в
классических размерах», сближение поэзии и прозы и — что
представляется мне наиболее принципиальным — попытка создания своей
философской системы, где проблемы формы, чрезвычайно
важные для Хармса в двадцатые и начале тридцатых годов, явно
отодвигаются на задний план, уступая место наполненности
мыслью, как бы не обращающей внимания на внешнее свое
выражение. Среди опубликованных Ж.-Ф. Жаккаром дневниковых
записей Хармса, относящихся к концу тридцатых годов, есть
одна, представляющая интерес экстраординарный: «1. Цель
всякой человеческой жизни одна: бессмертие. <...> 2. Один стре-
и*
323
мится к бессмертию продолжением своего рода, другой делает
большие земные дела, чтобы обессмертить свое имя, и только
3-й ведет правильную и святую жизнь, чтобы достигнуть
бессмертия как жизнь вечную. 3. У человека есть только 2
интереса: земной: — пища, питье, тепло, женщина и отдых и
небесный — бессмертие. 4. Все земное свидетельствует о смерти. 5.
Есть одна прямая линия, на которой лежит все земное. И
только то, что не лежит на этой линии, может свидетельствовать о
бессмертии. 6. И потому человек ищет отклонение от этой
земной линии и называет его прекрасным или гениальным»51. Такое
обостренное и обнаженное определение всего земного как
уклонения от главной цели жизни — бессмертия — приносит в
миросозерцание Хармса последних лет творчества ту, пользуясь
словами Мандельштама, «последнюю прямоту», которая в
начале тридцатых вырабатывалась как в его молитвах, так и в его
эротических стихах. Теперь же эротическое оказывается или
уничтоженным (как в «Помехе»), или отброшенным ради
постижения Бога, единственно способного даровать человеку
бессмертие, являющееся смыслом всей его жизни.
Я постарался рассказать о некоторых не очень известных
аспектах эротики в литературе русского модернизма (конечно,
здесь оказалось возможно обрисовать их лишь очень бегло и
только в тех чертах, которые представляются принципиально
важными, но вовсе не единственно значимыми). Эта сфера
явилась ареной скрещения самых разнонаправленных интересов
поэтов и прозаиков, но при всем их разноречии и разномыслии
существенными оказываются два момента: обращение к этой
сфере как к важнейшей в бытии человека и открывающей для
литературы те стороны его существования в мире, которые
невозможно выявить иначе, и — второе — стремление ввести в
литературу ранее запретные темы, сюжеты, слова, ситуации
оказывается теснейшим образом связано с глубокими, сущностными
особенностями всего художественного сознания XX века.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Амфитеатров А. В. Против течения. СПб., 1908. С. 28. Prude
(фр.) — притворно добродетельный.
2 О символистском жизнетворчестве из его непосредственных
свидетелей наиболее исследовательски осознанно писал Вл. Ходасевич .в
очерках о Брюсове, Муни, Нине Петровской (см.: Ходасевич
Владислав. Колеблемый треножник. М., 1991).
324
3 Литературное наследство. M., 1976. T. 85. С. 693 — 694.
Людмила Николаевна — Вилькина, жена поэта H. М. Минского. С
ней у Брюсова в свое время был роман. Об отношениях Вилькиной и
Розанова см.: „Распоясанные письма" В. Розанова / Публ.
М.М. Павловой // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 67 —
71.
4 РГБ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 12, л. 36. Далее цитаты из
дневников Брюсова приводятся по этому источнику. Desideratum
(лат.) — желаемое.
5 13 января 1893 г. записано: „Надо, однако, изобрести новые
способы ласки".
6 См. запись 16 апреля 1893 г.: „Свидание. Лежали в № на
кровати и щупали друг друга, однако не еблись. Почему? Не знаю. Это
счастливый случай, и должен сознаться, что я уже потерял
благоразумие и добивался этого. Что мы вообще делали — это страшно
подумать".
7 РГБ, ф. 386, карт. 14, ед. хр. 3, л. 49об.
8 Ходасевич В. Собр. соч. [Ann Arbor], 1990. T. 2. С. 139.
9 РГБ, ф. 386, карт. 2, ед. хр. 16, л. 86об. Дата — И ноября
1894. Об эротике Брюсова см. (далеко, впрочем, не исчерпывающую)
публикацию: Щербаков Р. „С Далью всласть могу ласкаться я":
Эротические мотивы в творчестве Брюсова // Литературное обозрение.
1991, № 11. С. 65 — 66.
10 РГБ, ф. 386, карт. 70, ед. хр. 37, л. 40.
11 Там же, л. 12об. — ІЗоб.
12 Там же, л. ІЗоб. — 14об.
13 ^Несколько подробнее см.: Богомолов Н. А. К семантике слова
„декадент" у молодого Брюсова // Пятые Тыняновские чтения:
Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990.
14 Брюсов В. Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии. М.,
1990. С. 113. Далее страницы указаны в тексте.
15 Слова из стихотворения Фета „Памяти Н. Я. Данилевского".
16 Сологуб Ф. Собр. соч.: В 12 т. СПб., 1910. Т. 5. С. 93. О
некоторых аспектах эротики Сологуба см.: Сологуб Федор. Цикл „Из
дневника" (Неизданные стихотворения) / Публ. М. М. Павловой //
Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1990 год.
СПб., 1993. С. 109 — 159; Павлова M. М. Из творческой
предыстории „Мелкого беса": Алголагнический роман Федора Сологуба //
Наст. изд. С. 339—367.
17 Впоследствии это выродилось у Брюсова в хладнокровное
описание „Подземного жилища", где глазами наблюдательного
следователя описывались приборы для пыток, всевозможные наркотические
снадобья, гастрономические изыски — и тут же, рядом —
приспособления для получения наслаждений. Поэма „Подземное жилище"
вошла в книгу „Зеркало теней" (М., 1912).
18 Ср. два его стихотворения:
Восстанем мы дружно и смело
На гибель народным врагам,
325
Пойдем мы за правое дело,
Пойдем мы навстречу лучам,
А цепи, разъевшие тело,
Мы бросим в лицо палачам!
(Вечерняя почта. 1905, 1 декабря)
И всего через 8 месяцев:
Редеет мрак и дым угарный,
Слабеет бунтовской упырь,
Царю и Богу благодарный
Встает народ наш — богатырь!
И никнут красные знамена,
Заносит их забвенья прах,
И блеском неба озаренный,
Горит трехцветный, русский стяг.
(Орловская речь. 1906, 5 августа)
19 Тинякоѳ A. Navis nigra. M., 1912. С. 63; при первой публикации
(Весы. 1907, № 11) имело подзаголовок: „Из хлыстовских мотивов".
20 Тиняков А. Треугольник. Пг., 1922. С. 37. Пастух Сифил —
герой поэмы итальянского ученого Дж. Фракасторо (1478 — 1533)
„Сифилис, или О галльской болезни" (1530).
21 ИМЛИ, ф. 271, оп. 1, ед. хр. 1, л. 8 — 9.
22 Литературное наследство. Т. 85. С. 458 — 459.
23 РГБ, ф. 109, карт. 23, ед. хр. 29, л. 11 — 12.
24 Ходасевич Вл. Московский литературно-художественный
кружок // Возрождение. 1937. 10 апреля. Ср.: Яблоновский С. В.
В кружке // Русское слово. 1907. 1 (14) марта.
25 РГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 52, л. 308об. В дальнейшем
дневник Кузмина цитируется по подготовленному СВ. Шумихиным
и мною для печати тексту.
26 Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. II. С. 756.
27 При жизни Зиновьевой-Аннибал было опубликовано лишь
первое действие (Цветник Ор. Кошница первая. СПб., 1907).
Полностью см.: Театр, 1993, № 5 (публ. Н. А. Богомолова).
28 Письмо от 8/21 октября 1906 г. (ГРБ, ф. 109, карт. 70, ед.
хр. 38, л. 9об.).
29 РГБ, ф. 109, карт. 23, ед. хр. 20, л. 7 — 7об.
30 См.: Carlson M. Ivanov — Belyj — Minclova: the Mystical
Triangle // Cultura e Memoria. I. Firenze, 1988.
31 РГБ, ф. 109, карт. 24, ед. хр. 11, л. 9об. — 14об.
32 Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники. М., 1991.
С. 263 — 264.
33 РГБ, ф. 109, карт. 24, ед. хр. 11, л. 6 — 7.
34 Подробнее см.: Никольская Т. Л. Творческий путь Л.Д.
Зиновьевой-Аннибал // Ученые записки Тартуского государственного
университета. Тарту, 1988. Вып. 813.
326
35 Волошин M. Указ. соч. С. 280 — 281.
36 Письмо от 23 декабря 1906 — 7 января 1907 г. (РГАЛИ,
ф. 232, оп. 1, ед. хр. 432, л. 197). „Асторре" — оперное либретто
Кузмина, напечатанное в „Зеленом сборнике стихов и прозы" (СПб.,
1905).
37 Письмо от 31 января — 13 февраля 1907 (Там же, л. 200).
Панмутонизм — от французской поговорки „Revenons à nos moutons"
(„Вернемся к нашим баранам").
38 Мочульский К. Классицизм в современной русской поэзии //
Современные записки. 1922. Кн. XI. С. 370, 374.
39 В рукописном варианте такие подзаголовки присутствуют.
40 См.: Каи,ис Л. Ф. „...Я словно всю жизнь прожил за
занавескою..." // Русская альтернативная поэтика. М., 1990.
41 См.: Ст. Э. [А. Л. Волынский]. Амстердамская порнография
// Жизнь искусства. 1924. № 5.
42 См.: Богомолов Н. А., Шумихин С. В. Книжная лавка
писателей и автографические издания 1919—1922 годов //
Ново-Басманная, 19. ML, 1990. С. 85.
43 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2.
С. 193.
44 Кузмин М. Собрание стихов: В 3 т. Munchen, 1978. Т. III.
С. 691.
45 „Пять разговоров и один случай" опубликованы Ж. Шероном
(Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1984. Bd. 14). О „Печке в
бане" см.: Богомолов Н. А. Заметки о „Печке в бане" // Михаил
Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990; Харер К. „Верчусь
как ободранная белка в колесе" // Шестые Тыняновские чтения:
Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига; М., 1992.
46 Тексты Введенского далее цитируются по: Введенский А. Поли,
собр. соч.: В 2 т. М., 1992. Т. 1.
47 К истолкованию этого текста см.: Мейлах М. Б. Несколько
слов о „Куприянове и Наташе" Александра Введенского // Slavica
Hierosolymitana. Jerusalem, 1978. Vol. HI.; Друскин Я. С. Разговор с
Т. А. Липавской // Введенский А. Поли. собр. соч. Анн Арбор,
[1984]. Т. 2. С. 280 — 284. См. также статью, которая не могла
быть учтена мною при размышлениях: Каицс Л.Ф. Пролегомены к
теологии ОБЭРИУ // Литературное обозрение. 1994. № 3—4.
48 См., напр., статью: Флейшман Л. Об одном загадочном
стихотворении Даниила Хармса // Stanford Slavic Studies. Stanford,
1987. Vol. 1.
49 РНБ, ф. 326, № 22, л. 25. Знаки препинания расставлены
мною.
50 Хармс Д. Собр. произв. Bremen, 1980. Кн. 3. С. 22.
51 Русская мысль. 1988. 24 июня. С. XII (Лит. приложение
№ 6). В целях экономии места снята разбивка на абзацы. См. также:
Дневниковые записи Даниила Хармса / Публ. А. Устинова и А.
Кобринского // Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1991].
С. 506 — 507.
М.ПАВЛОВА
ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ
ПРЕДЫСТОРИИ
»МЕЖОГО БЕСА"
(АЛГОЛАГНИЧЕСКИЙ
РОМАН ФЕДОРА СОЛОГУБА)
В папках с черновиками и подготовительными материалами к
произведениям Федора Сологуба на отдельных листах, а чаще
на обрывках бумаги, содержатся многочисленные заметки о
творческих замыслах писателя, сделанные им в разные годы.
Среди них запись: «Пьеса, где все дерутся. Муж бьет жену.
Мать детей. Хозяйка прислугу. Враги друг друга. Гувернантка
девицу»1. Сообщение о замысле произведения, «где все
дерутся», в отличие от некоторых других, так и не достигших
воплощения, трудно обойти вниманием, не только по причине его
соотнесенности с главным прозаическим сочинением Сологуба, но
и по причинам, разъяснение которых представляется актуальным
R связи с творческой историей романа «Мелкий бес»,
единственного в своем роде алголагнического романа русской
классики.
Алголагния — сладострастное переживание боли, в
пассивной (мазохизм) или активной (садизм) форме. Под алголагни-
ческим произведением применительно к литературе я имею в
виду текст, явившийся результатом выражения сублимации
асоциальных инстинктов его создателя. Я отнюдь не настаиваю на
введении термина, заимствованного из области медицины, то
есть не стремлюсь с его помощью определить жанровую
природу романа Сологуба, но лишь подчеркиваю безусловное наличие
в «Мелком бесе» сущностного начала, составляющего его
психологическую основу. Определение «садо-мазохический» менее
нейтрально и менее предпочтительно по причине его тесной при-
328
вязанности к сочинениям де Сада и фон Захер-Мазоха. Кроме
того, в психоаналитической науке не существует единого мнения
о природе и взаимосвязи двух «кровожадных» комплексов.
Согласно мнению современного французского философа Жиля Де-
леза, садо-мазохизм есть некий семиологический монстр, так как
садизм и мазохизм — фундаментально различные психические
процессы и системы отношений. Понятия «алголагния» носит
более общий характер и отчасти покрывает возможные
терминологические противоречия, одновременно указывая на суть
явления, с точки зрения которого «Мелкий бес», «Жюстина» и др.,
«Венера в мехах» и др. по своим психографическим параметрам
несомненно тексты одного — алголагнического — ряда.
В дореволюционной критике имя Сологуба неоднократно
связывалось с именем де Сада: «Сатириазис, фетишизм, садизм,
уранизм, кровосмесительство, некрофилия — ничто не забыто
Сологубом»;2 «сладострастное копание в извращенностях
полового безумства даровитый писатель превратил в последние годы в
свою специальность»;3 творчество Сологуба — «настоящее
откровение, вводящее в психику переживаний, говорящее о тайном
очаровании ужаса, крови, убийства, о пробуждении телесных
инстинктов кровавого сладострастия. <...> Сологубу по
близости „я" к изображаемому, по искренности, ближе всех де
Сад»4.
Указание на внутреннюю близость Сологуба и де Сада в
старой критике символизировало гражданскую казнь писателя и
не побуждало к сравнительному анализу его творчества,
который, надо полагать, неизбежно повлек бы за собой и
сопоставление сочинений Сологуба с романами фон Захер-Мазоха. Для
начала XX века такая тема, по-видимому, была
преждевременной. Она могла быть заявлена при качественно новом уровне
развития психоаналитической науки, а также при новом уровне
осознания искусства в его непосредственной соотнесенности с
индивидуальным опытом художников, таких, как Федор
Сологуб («...он был весь натура, — и какая печальная, какая
трагически-извращенная, какая правдиво-изломанная натура»5).
В настоящей работе я выношу за скобки все многообразие
нитей, связующих творчество русского символиста с творчеством
маркиза де Сада и фон Захер-Мазоха, оставляя для
демонстрации собственно алголагническую природу романа «Мелкий
бес».
329
*
Национальная черта — секут у Сологуба всюду и с
наслаждением. При виде розги или хотя бы при рассказе о побоях герои
Сологуба захлебываются от садического восторга.
Ю.М. Стеклов6
Мотив «сечения» (бичевания) является одним из
центральных в «Мелком бесе», тем «камнем», на котором в течение
десяти лет Сологуб выстраивал здание своего шедевра. Сделать
такой вывод позволяет прежде всего текстологическая история
романа, воссоздаваемая на основе сохранившихся автографов —
чернового и белового7. Напомню, что в каноническом тексте
романа экзерсисы с розгами проделываются героями главным
образом под давлением «стегальных дел мастера» учителя Пере-
донова; их место в повествовании на первый взгляд невелико.
Простота сцен наказаний в «Мелком бесе», как правило, —
простота сообщенного факта, не более. Между тем она была
достигнута в результате многократного воспроизведения в
рукописи разнообразных эпизодов порки, занимавших в черновом
автографе едва ли не добрую половину текста8, и затем
последовательного сокращения или отказа от них в окончательном варианте.
Учитывая все упоминания о сечении розгами и побоях в
«Мелком бесе», в том числе и во фрагментах, изъятых
Сологубом вследствие авторской цензуры или по другим
соображениям, можно составить своего рода кондуит для персонажей,
подвергнувшихся наказанию или учинивших его над другими:
Передонов и Клавдия секут Варвару, Передонов систематически
бьет Варвару, Преполовенские секут Варвару, Нартанович сечет
сына Владю и дочь Марту, Вершина и Владя секут Марту,
Лариса Рутилова — сестру Людмилу, Дарья Рутилова — сестер
Валерию и Людмилу, Людмила Рутилова — Сашу Пыльнико-
ва, Коковкина — его же, тетка Пыльникова — его же, Гудаев-
ская и Передонов — Антошу Гудаевского, слесарят секут в
участке.
Приведенный список не полон, в нем перечислены только
главные герои романа и персонажи второго ряда. Его нетрудно
было бы дополнить за счет нередких упоминаний вскользь о
том, что кто-то кого-то перманентно сечет или высек сию
минуту; наконец, в него не попали несчастные гимназисты, поротые
по доносу Передонова — все эти Крамаренки и проч. В
черновом автографе сообщается также, что высекли «Платона Прей-
са, дядя которого, баварский немец, управлял имениями князя
Телепнева, — четырнадцатилетнего Василия Вторникова, того
330
самого, к отцу которого однажды уже заходил Пер<едонов>
недавно; двенадцатилетнего Шмуля Совранского, отец которого
был один из самых богатых купцов нашего города; такого же
возраста Генриха Кашевского, сына частного поверенного; еще
нескольких других, и все они были наказаны родителями в
течение нескольких дней, т. к. Пер<едонов> успевал каждый день
побывать в двух-трех домах»9.
Черновому автографу «Мелкого беса» предшествует список
персонажей — всего 61, в котором перечислены те, кто назван
в романе собственным именем — больше половины
действующих лиц были (пользуюсь словечками Помяловского)
«пересечены» или «недосечены», или кого-то высекли сами. Из
главных персонажей не тронутым розгой оказался только Володин,
он был попросту зарезан Передоновым. Несмотря на то, что в
беловом автографе отдельные сцены порки Сологуб перечеркнул
карандашом, а многие из аналогичных отверг еще в черновой
рукописи, текст «Мелкого беса» в его печатной редакции
изобилует упоминаниями о розгах, мордобое и т. п.
Наиболее весомо мотив телесного наказания проступает при
переборе всех отвергнутых фрагментов текста. По содержанию
их можно разделить на три группы: главы с участием писателей
Тургенева и Шарика10, миниатюрные эротические эпизоды (как
правило, с садической окраской) и фрагменты, существенно
превосходящие по объему первые два типа, составляющие
собственно алголагническую плоть романа, к которым, вероятно,
следует отнести приписки и вставки, изготовленные по формуле:
«лег, отсекся, встал и ушел».
Количественное накопление, механическое повторение сцен,
умножение однотипных действий внутри сцены1 ' составляют
отличительную черту садических описаний (принцип конвейера).
Инерция накопления требовала от автора «Мелкого беса»
клиширования эпизодов истязания, и он подчинялся ей, перегружая
повествование подчас не продуманными фрагментами. Подобные
дополнения вредили достоверности описания; например, поздняя
приписка (по цвету чернил) в главе 26:
— Я ни в чем не виноват, пусть тетя приедет, я не боюсь, — говорил
Саша и тоже плакал.
— Высеку! — говорила Коковкина.
— Секите, — огрызнулся Саша.
Коковкина вдруг рассердилась.
— Марш в кухню! — крикнула она.
И в кухне Саша был крепко высечен розгами12.
331
С точки зрения логики образа Коковкиной (и мухи не
обидит), вставленная сцена была не оправданной; возможно, по
этой причине Сологуб отказался от нее в окончательной
редакции.
В целом львиная доля изъятий из черновой и беловой версии
романа была связана с темой сечения розгами или побоев. При
анализе отвергнутых фрагментов текста в окончательной версии,
однако, нельзя не принимать во внимание возможного факта
прессинга, оказанного на Сологуба со стороны редакции
«Вопросов жизни». Л. М. Клейнборт вспоминал, что писатель
при личном свидании с ним показывал ему рукопись «Мелкого
беса» и, в частности, отмечал изменения, которые были внесены
в текст в интересах художественного целого редакцией
журнала13. В беловом автографе, вероятно послужившем наборной
рукописью при первом издании романа, сохранились
единообразные карандашные перечеркивания отдельных сцен и целых глав,
опущенных затем за небольшим исключением и в публикации.
Между тем отсутствие цензурного экземпляра «Мелкого беса»
(не обнаружен) и свидетельств о степени участия Сологуба в
изменении и купировании текста, т. е. о следовании его
авторской воле, не противоречит* заключению: при написании романа
автор был сосредоточен на воспроизведении брутальных сцен.
Поистине с маниакальным постоянством он задерживался на
одной и той же позиции: то прописывал с натуралистическими
подробностями эпизоды истязания, то полностью отказывался от
них (глава, в которой Вершина сечет Марту из ревности к Му-
рину)14, то восстанавливал первоначальную версию в
сокращении (глава, в которой Гудаевская и Передонов секут сына Гуда-
евской Антошу и затем предаются сладострастию)15, варьировал,
приписывал, вставлял, отвергал эпизоды — и все они на одну и
ту же тему.
Достоинства их: они весьма дешевы, — достаточно нескольких
десятин леса для того, чтобы перепороть всех граждан государства;
они всегда под рукою; <...> они моментальны — лег, отсекся —
встал и ушел.
НА. Неклюдов]в
Интерес Сологуба к теме истязания отчасти был
сознательным и в значительной степени предопределен конкретным
процессом. В 1890-е годы, в период работы над романом (1892—
1902), в русском обществе развернулась мощная кампания за
332
отмену телесных наказаний, которая подготовлялась еще в
середине 80-х годов.
История телесных наказаний в России, узаконенных
государственным правом, исчисляется веками, в разных формах они
бытовали вплоть до конца прошлого столетия. Процесс
отмирания позорных экзекуций, начавшийся еще при Екатерине II,
активизировался лишь в середине XIX века, но продвигался
чрезвычайно медленно. В 1861 г. по инициативе генерал-адъютанта
кн. Н. Орлова Александром II был создан Комитет для
всестороннего рассмотрения вопроса об изъятии от телесных
наказаний. Результатом деятельности Комитета стал Высочайший указ
об отмене телесных наказаний, обнародованный 17 апреля
1863 г. Существенные противоречия обнаружились среди членов
Комитета лишь при обсуждении вопроса об упразднении розог и
замене их денежным штрафом. После продолжительных
разногласий было принято решение: розги отменять нельзя из-за
отсутствия достаточного количества тюрем и вместе с тем из-за
неспособности простого народа заплатить денежный штраф.
В соответствии с «Временными Правилами Волостного
Суда» Устава о наказаниях (1861) розга как мера наказания для
низших классов населения применялась в следующих случаях:
— за оскорбление полицейских стражей и низших
должностных лиц;
— за ссоры, драки, кулачные бои, нарушение тишины,
прошение милостыни;
— за нанесение обиды на словах, действием, при
увеличивающих вину обстоятельствах;
— за словесную и письменную угрозу, самоуправство,
насилие, отказ родителям в пропитании;
— за кражу;
— за мошенничество, обман, присвоение чужого имущества,
скупку краденого;
— за нарушение условий найма без договорного листа;
— за мотовство и пьянство, расстраивающее хозяйство.
Земское начальство имело право заменить розгу денежным
штрафом в пользу мирских сумм: 20 розог приравнивались к
сумме в 30 рублей.
Розги были отменены во всех казенных учебных заведениях,
уставы которых не давали начальству прав сечь воспитанников,
что, впрочем, отнюдь не препятствовало злоупотреблениям
наказаниями в народных школах и училищах. Например, в архиве
Сологуба сохранилась выписка из школьной ведомости за
1875/76 учебный год, сопровожденная его примечаниями: «Из
333
21 ученика наказаны розгами 16 уч<еников> = 76 /о. Всего
было 46 случаев наказания, в том числе после экзамена 9, и
переэкзаменовок 3. Давалось от 10 до 60 ударов. 1 ученик был
наказан 5 раз, 1 раз после переэкзамен<овки>, всего получил
100 уд<аров>. <...> Все эти случаи — только за
неуспеваемость. Можно предположить, что наказания розгами за шалости
были еще чаще. Возможно, что высечены были все мальчики, и
случаев сечения (для успехов месяц — то же, что для шалостей
неделя) около 275 и около 7000 уд<аров>»17.
Таким образом, в последней четверти прошлого века
применение розги было ограничено законодательством, но не
упразднено. Между тем в 1889 г. был издан закон, призванный
восполнить отсутствие твердой правительственной власти — закон
о земских начальниках, который привел вновь к расширению
области применения розги: согласно нововведению телесное
наказание допускалось лишь по приговору волостных судов, но
утвержденных земскими начальниками. Закон повлек за собой
многочисленные случаи злоупотребления властью. Внимание
общественности вновь было обращено к старому наболевшему
вопросу. Начавшаяся на стыке последних десятилетий века
кампания за^отмену телесных наказаний стала почти всеобщей.
В 1896 г. в Киеве состоялся VI съезд русских врачей в
память Н. И. Пирогова, возбудивший перед правительством
ходатайство об отмене телесных наказаний. На первой же странице
материалов съезда говорилось:
...Стоит только собраться по какому-либо поводу большей или меньшей
общественной группе, и тотчас возникает вопрос о необходимости добиваться
отмены телесных наказаний. Уездные и губернские собрания, заседания
Вольного Экономического Общества, съезды врачей, заседания врачебных обществ и
т. п. не могут в огромном числе случаев обходить молчанием этот вопрос,
горячо обсуждают его и ищут пути к уничтожению позорящего всех нас пятна .
Тема, волновавшая Сологуба в период написания романа,
широко освещалась и в печати. В толстых журналах, в
столичных и провинциальных газетах с начала 1890-х годов
публиковались материалы (исторические, медицинские, юридические) по
вопросу о телесных наказаниях, издавались монографии.
Перечислю некоторые из них, которые вполне могли оказаться в
сфере чтения писателя: Д. И. Ростиславлев. «О способах
сечения розгами» (Русская старина. 1892, 1893); В.Л. Биншток.
«Материалы для отмены телесных наказаний в России»
(Юридический вестник. 1892. Т. II. № 7—8); И. А. Самчевский.
334
«Воспоминания» (Киевская старина. 1894. № 5); Г. А. Джан-
шиев. «Из эпохи великих реформ» (М., 1894); А. Г.
Тимофеев. «Из истории телесных наказаний в русском праве» (СПб.,
1897); В. И. Семевский. «Необходимость отмены телесных
наказаний» (Русская мысль. 1896. № 2—3); А. М. Чернов.
«Набросок соображений» (Гжатск, 1895). Помимо публикаций
исследований по злободневному вопросу в периодике 90-х годов
постоянно помещались выступления видных врачей, юристов,
педагогов, писателей по поводу упразднения телесных
наказаний. В частности, статья Л.Толстого «Стыдно» появляется в
печати в период кампании (Биржевые ведомости. 1895. 28
декабря)19. В 1896 г. вновь были переизданы педагогические
статьи Н. А. Добролюбова 1857—1861 гг., в которых немало
страниц уделено полемике об упразднении розги в школе:
«Всероссийская иллюзия, разрушаемая розгами», «От дождя да
в воду», «О значении авторитета в воспитании (Мысли по
поводу „Вопросов жизни" г. Пирогова)» и др.
Сологуб живо следил за литературой по интересующему его
вопросу (это был именно «его» вопрос), его повышенное
внимание к проблеме отмены телесных наказаний выходило далеко за
рамки педагогического или досужего интереса. В бумагах
писателя, относящихся к 1890-м годам, встречаются заметки, в
которых он приводит факты, извлеченные, например, из книги А.
М. Чернова и Материалов VI съезда врачей20. В папках с
черновиками нередко попадаются библиографические выписки «по
теме». Среди них отмечена книга французского мыслителя М.
Гюйо «Воспитание и наследственность», переведенная на
русский язык в 1891 г., фрагмент которой посвящен вопросу о
допустимости телесных наказаний для детей младшего возраста21.
Привлекает внимание также выписка Сологуба из сугубо
медицинской статьи «Об усталости»; в качестве примера
оздоровительной меры в данной работе приводится кровопускание, в
связи с чем бичевание рассматривается как положительно
эффективная процедура с точки зрения исторической медицины.
Именно этот фрагмент большой статьи, печатавшейся в двух
номерах «Северного вестника», и законспектировал автор
«Мелкого беса»22.
Приведенные факты осведомленности Сологуба в
педагогической и медицинской литературе отнюдь не случайны. Об этом
свидетельствует запись, сделанная им 27 июля 1891 г.:
«Материалы изучения: 1. Анатомия и физиология человека. 2.
Логика. 3. Гигиена и диетика. 4. Физика. 5. Психология. 6.
Эстетика. 7. Педагогика. 8. Психопатология. 9. Гимнастика»23. В
335
реестре книг личной библиотеки писателя (ИРЛИ, ф. 289, оп. 6,
№ 59) встречаются брошюры по перечисленным отраслям знания;
указано также издание, непосредственно относящееся к истории
телесных наказаний, — книга В. Купера «История розги во всех
странах. Флагелляция и флагеллянты». (СПб., 1909).
В свете интересов Сологуба и его сравнительно широкой
начитанности в области педагогики трудно допустить, что он
проигнорировал публикацию воспоминаний И.А. Самчевского,
которая получила громкий резонанс в печати. Отрывок из этих
воспоминаний был использован графом Джаншиевым в
монографии — в разделе «Об отмене телесных наказаний», и
позднее воспроизведен в Материалах VI съезда врачей в качестве
иллюстрации садистической патологии. Привожу эпизод
полностью с незначительными купюрами (по Джаншиеву, в целях
экономии), поскольку в нем идет речь о лице, возможно
послужившем одним из прототипов Передонова, об учителе,
достойном садовских изображений, таких, как, например, доктор
Роден:
В числе педагогов, отмеченных Самчевским, есть некто Китченко (по-
видимому, тронутый маньяк <...>), бывший в 50-х годах сперва инспектором
черниговской, а потом директором житомирской гимназии.
Во время его инспекторства, — сообщает Самчевский, — стоял стон и
раздавались вопли во всех трех ученических помещениях: в здании гимназии,
пансионе и общей квартире. Ежедневно являлся Китченко в 8 часов утра в
пансион при гимназии и здесь выслушивал доклад воспитателей об учениках,
которые подлежат, по их мнению, наказанию. Зная любовь Китченко к
истязанию детей, воспитатели не скупились и указывали (беру minimum) не менее
двух учеников на отделение, которых было 8, так как первые 4 класса имели
по два отделения.
Эти несчастные тотчас отзывались вниз «к Мине». Мина был сторож при
карцерах, любимец Китченко «по хлесткости ударов», на обязанности его лежало
всегда иметь огромный запас розог. Осмотрев пансион, Китченко спускался вниз
к Мине и здесь производил жестокие экзекуции. Затем отбирались уже в самой
гимназии ученики с плохими отметками и тоже посылались на экзекуцию.
Вопль и плач детей оглашал все здание гимназии. <...> Итого 34
ученика ежедневно наказывались розгами. Насладившись истязанием детей в
гимназии, Китченко отправлялся в общую ученическую квартиру, здесь
повторялась та же история <...>. Таких учеников общая квартира поставляла
Китченко столько же, сколько и пансион, — не менее 8 человек. Каждый
день Китченко подвергал истязаниям не менее 50 учеников, многие
наказывались в день по два раза: ранее разрисованные узоры не останавливали
Китченко, — он на эти узоры наводил новые краски.
336
Когда Пирогов, будучи попечителем Юго-Западного округа, потребовал в
1858 — 1859 гг. сведений от гимназий и число наказанных розгами
учеников, то, как сообщалось в отчете, напечатанном в Журнале Министерства
Народного Просвещения, оказалось, что в каждой гимназии наказанные
считались десятками, а в житомирской, где директорствовал Китченко, число
сеченых превысило многие сотни (более 600). Эта цифра в то время поразила
всех, но, зная Китченко, можно с уверенностью сказать, что он умышленно
утаил в отчете многие сотни, если не тысячи. Сечение учеников было для
Китченко истинным наслаждением, это его единственный труд на поприще
педагогическом. Кроме сечения, Китченко ровно ничего не делал. Надо было
только видеть, с каким плотоядным выражением на лице разговаривал
Китченко с новичком, только что поступившим в гимназию. Редко эти бедняжки
и неделю проживали, не побывши в лапах Китченко и Мины. Однажды
поступил в общую квартиру ученик 2-го класса Джогин, отлично выдержанный.
Китченко придрался к нему уже на третий день поступления и так высек, что,
когда наказанный явился обратно, лица на нем не было, несколько дней
мальчик плакал с утра до вечера, ночи не спал от страха. «Если мама узнает, она
непременно умрет», — говорил товарищам Джогин. Все успокаивали его,
принимая участие в его горе. После этого случал Китченко так привязался к
Джогину, так сек его за каждую мелочь, что к концу первого года от Джоги-
на осталась только тень, — полнота и розовый цвет лица были съедены
Китченко. Когда в начале июня приехала мать Джогина и увидела своего сына, с
нею сделался обморок, она так рыдала, глядя на него, что все ученики
прослезились. Это была такая сцена, которая на всю жизнь осталась в памяти
присутствовавших, все дети понимали и разделяли ужас и отчаяние матери.
И никто из родителей не жаловался на этого мучителя!24
Было бы несомненной натяжкой возводить образ, созданный
Сологубом, к фигуре житомирского инспектора. Прототипом
Передонова был полубезумный великолукский учитель
И. И. Страхов25. Документальное свидетельство, выявленное
Б. Ю. Улановской, можно подкрепить с помощью факта, до
настоящего времени не учтенного: в одном из вариантов первых
глав черновой рукописи «Мелкого беса» Передонов выступает
под фамилией Пугаев, синонимичной фамилии прототипа. На
обложке чернового автографа романа обозначено его первое
название — «Женитьба Пугаева. Роман»26.
В Великих Луках Сологуб учительствовал в 1885—1889 гг.,
а с воспоминаниями Самчевского мог познакомиться только в
период работы над романом. Тем не менее общепринятое
представление о прототипе главного героя вовсе не исключает
вмешательство в замысел писателя позднейших источников:
Передонов и Китченко сродни друг другу — оба страдают
337
алголагнией, а сладострастное стремление Передонова к Саше
Пыльникову вполне соотносимо с садистическими
посягательствами Китченко на Джогина. Наконец, Китченко был далеко
не единственным в своем роде на ниве российского
просвещения.
Думается, что Сологуб не мог пройти мимо фигуры
житомирского мучителя, не прочитать о нем, еще и по той причине,
что его чрезвычайно увлекала психография садиста и мазохиста,
как в годы, предшествовавшие работе над «Мелким бесом», так
и в период работы над романом. Симптоматично, что среди
немногих набросков, которые по содержанию и времени написания
условно могут быть отнесены к предыстории «Мелкого беса»,
сохранились главным образом тексты, посвященные истязаниям
или бичеваниям. Самый ранний из законченных набросков
датирован 2 февраля 1892 г.:
Жестокосердие гг. педагогов доходило до степеней изумительных. Не то
чтобы они были отъявленными кровопийцами: само собой разумеется, что они
не упражнялись в снимании голов и не сажали на кол (это в наше
цивилизованное время почти совершенно невозможно). Но то, что они проделывали
легально, способно было охватить ужасом и холодом непривычного
впечатлительного человека. По части физической они были еще не слишком
изобретательны: неумолимое время обуздывало их в этом направлении. Свирепость их
проявлялась лишь в том, что в каждом классе на каждом уроке кто-то
непременно коленопреклонялся; иные терли себе колени по 3, по 4 часа сряду.
Дранье за уши и звонкие оплеухи также составляли частую усладу
расходившихся учительских сердец, — но это не все, к сожалению, чем можно было
позабавиться на уроках. Находились любители более пикантных увеселений,
но это были редкие, гениальные натуры. Про одного сельского законоучителя
рассказывали, что он ставил своих учеников, провинившихся перед ним, кверх
ногами: ноги на печурке, руки на полу, и выдерживал в таком положении до
часу^ . Иные заставляли лизать языком чернильные пятна или мел с доски,
обтирали русыми волосенками учеников классные доски, приказывали
ученикам-босоножкам засучивать штаны как можно выше и ставили их на голые
колени, и любовались их голыми, брошенными беспомощно на пол, ногами;
или ставили на колени на скамье, на столе, на подоконнике; или заставляли
кланяться им в ноги и целовать их руки и сапоги. Но больше удовольствия
доставляли прогулки к родителям провинившихся учеников. Сладострастное
неистовство удовлетворялось в гораздо большей степени созерцанием
обнаженного тела мальчика, краснощекого и багровеющего под жестокими ударами
березовых прутьев, между тем как истязуемый мальчик орал благим матом и
отчаянно бился об пол голыми ножонками. Когда родитель утомлялся, учитель
брал в руки розги, и удовольствие его доходило до высшей степени, когда
338
мальчишка ерзал и вопил под его розгами, а на теле так и врезывались следы
озлобленной порки. Но как ни интенсивны были эти удовольствия, пытки
иного рода, истязания душевные, доставляли гораздо более удовольствия
озверевшим педагогам. Тем более и эти пытки соединялись в большей или мень-
шеи степени с телесными наказаниями .
Данный набросок, казалось бы, дает представление о
гуманистических устремлениях Сологуба-педагога. Линия осуждения
несправедливости действительно изредка проступает в его
произведениях, однако никогда не преобладает в них. Писателя в большей
степени привлекала природа греха, а не природа социального зла.
Кампания за отмену телесных наказаний 1890-х годов располагала
к гуманистическим порывам, тем не менее Сологуб отказывался
разделить их со своими современниками. Он был совершенно не
согласен с мнением большинства. В августе 1892 г., уже в период
работы над романом29, он сделал запись:
Телесные наказания противны человеческому достоинству. Это говорят в
виде аргумента. Но это не аргумент. Чьему достоинству? Наказанного,
наказавшего, третьих лиц? Если наказанного, то наказание его — не его действие
и ему вменено быть не может. Один смысл этого аргумента в этом случае
тот, что тел<есное> нак<азание> повреждает нравст<венную> природу.
Значит, надо доказать, что оно вредно. Если <для> наказавшего, то полезное
действие не бывает противно человеч<ескому> дост<оинству>, каково бы
оно ни было. Иначе и вывозка нечистот была бы позорна. Надо,
след<овательно>, доказать, что нак<азание> вредно. Если <для> третьих
лиц, то это нелепо. 28 авг<уста> <18>92 30.
Более отчетливо реакция Сологуба на кампанию за отмену
телесных наказаний выразилась в статье «О телесных
наказаниях» (см. Приложение), в которой он демонстрирует знание
истории вопроса и полемики, связанной с его решением. В своих
суждениях он встал в оппозицию к общественному мнению и
высказался достаточно категорично:
Нужно, чтобы ребенка везде секли — ив семье, и в школе, и на улице,
и в гостях. Дома их должны пороть родители, старшие братья и сестры,
старшие родственники, няньки, гувернеры и гувернантки, домашние учителя и
даже гости. В школах пусть его дерут учителя, священник, школьное
начальство, сторожа, товарищи и старшие и младшие. <...> На улице надо снабдить
розгами городовых: они тогда не будут без дела. <...> И мы убеждены, что
теперь своевременнее всего озаботиться пересадкой на нашу почву немецкой
розги, да и всего того, чем крепка прусская казарма и русская каторга, чем
339
прежде была крепка и русская семья. <...> В другое время и мы не стали бы
защищать розочную расправу, как предмет презираемый обществом. Но
теперь нам нет дела до безотчетных антипатий общества. Оно гибнет, и нужно
ему помочь, хотя бы розгами. Мы пробовали много паллиативных средств —
они не помогали. Следует прибегнуть к средствам сильным и энергичным, а
из таких средств что может быть проще порки? Мы не можем требовать от
родителей, чтобы они обладали высоким развитием, которое дало бы им
возможность без розог поддерживать свой авторитет, у нас нет денег даже на
простую грамотность большинства жителей. Мы должны поощрять их
пользоваться тем единственным средством нравственного влияния, которое еще у них
остается, чтобы пороть детей, кому ума не доставало31.
Большой соблазн прочесть эти шокирующие сентенции
поборника нравственного оздоровления общества в ироническом
ключе, которым Сологуб владел в совершенстве. Невольно
припоминается «козырь» Передонова, побуждавший его мечтать об
инспекторском месте: «Буду по школам ездить, мальчишек и
девчонок пороть»32. Полный текст педагогической штудии
Сологуба, однако, не дает ни малейшего повода заподозрить его в
желании иронизировать по поводу телесных наказаний или в
цинизме. Об этом свидетельствуют автобиографические
реминисценции на полях рукописи трактата: «Скажу из своего
опыта: когда мать наказывает меня розгами, она во все время
сечения, обыкновенно неторопливого, не только бранит меня, но,
главным образом, делает мне соответствующие наставления, —
в точном смысле слова учит меня. Так было и тогда, когда я
был мальчиком, так и теперь»33.
В отличие от В. В. Розанова, открыто высказавшегося в
пользу сечения в сборнике статей «Сумерки просвещения»
(1899)34, Сологуб не решался напечатать свой труд (он даже не
перебелил рукопись), но отнюдь не из опасения выглядеть белой
вороной среди гуманистов-общественников, а скорее по другой
причине. В своем педагогическом трактате он неожиданно
«засветился», проговорился о сокровенном приведенными
примерами из своего жизненного опыта, но еще энергичнее —
собственным стремлением к бичеванию, внешне завуалированным
проповедуемой системой воспитания, называемой им
«христианской»:
Обращайтесь осторожно с душою ребенка — ибо таковых есть Царствие
Божие, — а на тело его смотрите, как на дом только, в котором обитает
господин дому, а дом этот можно переделывать, только бы не вредить ему и не
разрушать его.
340
Существует и другая причина сокрытия статьи. Она была
написана в начале 1890-х годов (около 1892—1893 гг.), когда
тридцатилетний учитель Тетерников хлопотал о повышении по
службе — об инспекторском месте; в 1896 г. он был назначен
учителем-инспектором Андреевского городского училища в
Петербурге, куда переехал из Вытегры в 1892 г. Появление статьи в
периодике в разгар кампании за отмену телесных наказаний могло
бы повредить карьере педагога и репутации начинающего писателя.
Работа не была доведена до конца. Вероятнее всего, Сологуб
охладел к ней, осознав, что высказанные им педагогические взгляды
не найдут сочувствия или поощрения у современников.
Необходимо было изменить форму высказывания, сделать ее менее
откровенной. Известно, что сублимация асоциальных инстинктов
нередко выражается в создании художественных произведений.
Садомазохистский комплекс Сологуба требовал разрешения — в 1892
г. он приступил к работе над романом «Мелкий бес».
*
Человек для того и приходит в мир, чтобы совершить зло. Какими
путями — и какое зло — это неважно. Но это так. Поэтому вся
жизнь наша — зло, и каждый человек зло в себе носит. И каждое
творчество — зло, и всякое зло — творчество. В этом подлинная
красота, в этом прекрасное, в этом — вечное...
Ф. Сологуб36
По мнению Ж. Лели, знатока творчества де Сада, алголаг-
ния, или садо-мазохизм, является самым распространенным
психоневрозом, чрезвычайно редко встречаются люди, у которых
этот комплекс отсутствует вовсе. Сологуб не был исключением.
Обстановка, в которой он воспитывался, всесторонне
благоприятствовала формированию комплекса: ребенок рос в атмосфере
непрестанных побоев и унижения человеческого достоинства. В
раннем детстве он потерял отца37. Мать «была строга и
взыскательна до жестокости, наказывала за каждую оплошность, за
каждое прегрешение вольное и невольное: ставила в угол на
голые колени, била по лицу, прибегала к розгам: за грубость, за
шалости, за опоздание в исполнении поручений, за испачканную
одежду, за грубые слова, позднее за истраченные без ее
санкции деньги, хотя бы в размере нескольких копеек»38. Не имея
сил сопротивляться насилию, мальчик пытался найти разумное
объяснение, оправдание злу, творившемуся над ним:
...когда его наказывали, он стал принимать это как средство к духовному
очищению. Стал приходить к мысли, что наказание нужно для него самого,
341
потому что наказывают его за дерзкую заносчивость. А он уже не раз
замечал в себе большой грех гордости... И хорошо, что при наказании он
испытывал не только боль, но и стыд унижения. Когда стоял на коленях и его
бранили, он принимал все укоры, как заслуженные. Ему казалось, что все эти
переживания укрепляли его волю и характер. И мальчик с искренней
благодарностью кланялся матери в ноги — так было принято в его семье Тетерниковых,
когда благодарили или просили чего-нибудь .
С годами телесные наказания превратились в неотъемлемую,
привычную сферу отношений Сологуба с близкими людьми, он
стал испытывать потребность в переживании боли, стыда и
унижения, нередко он провоцировал мать на жестокое обращение с ним:
Истомившись от капризов
И судьбу свою дразня,
Сам я бросил дерзкий вызов:
Лучше высеки меня!
Чем сердиться так сурово
И по целым дням молчать,
Лучше розги взять и снова
Хорошенько отстегать.
Мама долго не томила,
Не заставила просить,
Стало то, что прежде было,
Что случалось выносить.
Мне никак не отвертеться,
Чтоб удобней было сечь
Догола пришлось раздеться,
На колени к маме лечь.
И мучительная кара
Надо мной свершилась вновь,
От удара до удара
Зажигалась болью кровь.
Правда страшная побоев
Обнаружилася вся:
Болью душу успокоив,
Я за дело принялся.
27 октября 188940.
342
В материалах к биографии Сологуба сохранились его записи
о перенесенных им когда-либо наказаниях розгами. Последняя
из них: «1894 — 1907. Сестра. Секла дома, в двор<ницкой>,
в участке, с согласия дир<ектора>. В Андр<еевском> нередко
сторожа, чаще всего Василий, иногда с сыном Николаем»41.
В 1907 г. Ольге Кузьминичне было 42 года, Сологубу,
учителю-инспектору Андреевского училища, исполнилось 44, шел
последний год его 25-летней педагогической деятельности,
наконец, он был уже широко известным писателем, автором
нескольких прозаических и стихотворных сборников и двух
романов. Тот факт, что сестра секла сорокалетнего брата (она взяла
на себя миссию «женщины-палача»42 после смерти матери,
скончавшейся в 1894 г.), невозможно объяснить исключительно
его стремлением к христианскому смирению и
совершенствованию. Несомненно, привыкший к бичеванию с детства, он сам
требовал мучений, находя в них удовлетворение. Переход от
религиозного экстаза к эротическому — явление широко
известное, зафиксированное и в медицине, и в литературе (история
Абеляра и Элоизы)43. Кроме того, из клинического опыта,
описанного в медицинских исследованиях, известно, что
злоупотребления при наказании мальчиков розгами вызывают приток
крови к половым органам и преждевременную эрекцию. В
статье «О телесных наказаниях» Сологуб также указывает на
эту физиологическую особенность и поясняет, какой силы
надо наносить удары, чтобы избежать при наказании вредных
для здоровья ребенка последствий44. Такие советы мог давать
только человек, имеющий опыт сладострастного переживания
боли, каким и был автор статьи. Не случайно в одном из
стихотворений алголагнического цикла (см. примеч. 40) он
демонстрирует живую для него связь боли, стыда, унижения
и — страсти:
В душевной глубине бушует
Звериная, нагая страсть.
Она порою торжествует,
Над телом проявляя власть.
Настала грозная минута,
И розги в воздухе взвились,
И раздражение и смута
В душе внезапно улеглись.
343
В тройном союзе все сплелося:
Ликует боль, и стыд, и страх,
И все томление сожглося
В мольбе, и в криках, и в слезах.
Пусть после этих наказаний
Мне стыдно, а другим смешно,
Но стихло пламя беснований,
В крови погашено оно45.
Вплоть до 1907 г. Сологуб и его сестра жили всегда
уединенно, почти не расставаясь. В окололитературных кругах
ходили слухи об их кровосмесительной связи46. Источником слухов,
вероятно, в первую очередь было творчество писателя, в
котором присутствует инцестуальная тема.
В 1907 г. Ольга Кузьминична скончалась от туберкулеза;
небезынтересно, что заметки о сечении Сологуба обрываются
также на этом временном отрезке. Кто стал соучастником по-
эта-флагеллянта при разрешении его психоневроза —
неизвестно. Возможно, роль эта была возложена на прислугу или на
кого-либо из близких, о чем несколько туманно сообщается в
последней фразе автобиографической записи: «Дарья
Ив<ановна>. Сначала стеснялась. Потом разошлась вовсю»47.
Впрочем, в 1908 г. Сологуб соединил свою жизнь с Анастасией
Николаевной Чеботаревской и многое могло измениться в
образе его жизни.
Доподлинно о характере отношений поэта с женой не
известно ничего. Многие годы их брак был гражданским, они
повенчались только летом 1914 г. Сохранившаяся обширная
переписка супругов по содержанию в основном деловая, а не интимная.
Мы располагаем только воспоминаниями современников, в
которых по-своему отразилось мнение окололитературной среды о
чете Сологубов, сплетни и слухи о них, питавшиеся главным
образом домыслами, но не фактами биографии. Тем не менее
полностью игнорировать слухи, вероятно, не следует: в своей основе
они не беспричинны. По рассказам Л. М. Клейнборта, в
Петербурге злословили, будто бы Чеботаревская «сама секла
своего мужа, не то он ее, после чего они предавались половому
безумству»48. В pendant слухам Клейнборт пишет о своих встречах
с супругами (цитирую в извлечениях):
Встречаю Чеботаревскую с Федором Кузьмичом после их возвращения
из-за границы в 1909 г.
344
— Как цветете?
— Жена не горшок — не расшибешь, — смеется она.
— Значит, еще целы?
— Бей жену обухом, припади да понюхай: дышит да морочит — еще
хочет. <...>
Идет разговор о «Новой жизни», беллетристический отдел которой в
руках Миртова. Там печатается роман Сологуба «Слаще яда». <...> Отозвав
меня в сторону, Чеботаревская шепчется со мной на эту тему. Не успеваю я
удовлетворить ее любопытство, поскольку это в моих средствах, — а стоим
мы друг против друга, — как чувствую: две руки, и сильные руки, начинают
прижимать нас друг к другу. Я с изумлением поднимаю глаза и вижу...
Федора Кузьмича. Та же маска на лице, но маска совсем веселая на этот раз.
Я, конечно, не желаю служить объектом его эксперимента.
— Вы с ума спятили? — говорю я ему.
Чеботаревская смеется. Он же показывает зеленые зубы:
Ты возьми меня за правую ручку,
Поведи меня во светлую светлицу.
Сними с меня цветное платье,
Побей меня по белому телу,
По всему месту по десятку;
Побивши, душа моя, помилуй,
Положь на тесовую кроватку,
Прижми к ретивому сердечку...
— Вы не замечали, — продолжал он, не обижаясь на меня, — вы не
замечали, что у женщины жажда стыда и боли из одного источника? Чем
больше она сопротивляется, тем больше ей импонирует сила, точнее, насилие.
Достаточно самому наглому мужчине «взять» самую целомудренную женщину,
чтобы она целовала ему руки...
Приведенный фрагмент из воспоминаний несколько
противоречит представлению о мазохической основе сологубовского
комплекса. Но, как принято считать, этот невроз часто
протекает в сопровождении противоположного — садизма50.
Размышления по поводу амбивалентности алголагнических процессов
попадаются, между прочим, и в бумагах Сологуба. Например, в
записи от 7 ноября 1893 г.:
Сладострастие. Жажда мук как выход ненасыщенного сладострастия.
Примеры: покаяние маршала Жиля де Ретца. Раскаяние преступников,
особенно под старость. Самобичевание аскетов. Мария Магдалина.
Сладострастие унижения: любовники любят целовать ножки51.
345
Известны разные способы разрешения садо-мазохического
комплекса, наиболее типический из них выражается в страхах и
навязчивых идеях (Недотыкомка у Передонова); другой — в
актах жестокости, часто бессознательных, стихийных. Подобные
проявления были не чужды автору «Мелкого беса». В письме к
Ольге Кузьминичне из Вытегры от 20 сентября 1891 г. он
рассказывает:
Из-за погоды у меня в понедельник вышла беда: в пятницу я ходил на
ученическую квартиру недалеко, босиком, и слегка расцарапал ногу. В
понедельник собрался идти к Сабурову, но так как далеко и я опять боялся
расцарапаться, да и было грязно, то я хотел обуться. Мама не позволила, я сказал,
что коли так, то я не пойду, потому что в темноте по грязи неудобно босиком.
Маменька очень рассердилась и пребольно высекла меня розгами, после чего
я уже не смел упрямиться и пошел босой. Пришел я к Сабурову в плохом
настроении, припомнил все его неисправности, и наказал его розгами очень
крепко, а тетке, у которой он живет, дал две пощечины за потворство и
строго приказал ей сечь его почаще52.
Эпизод из жизни Сологуба, рассказанный им в письме,
позволяет предположить, что не только его творчество служило
источником слухов о садистических проявлениях его личности.
Клейнборт, например, сообщает, что о писателе говорили:
Он «психопат», «садист», оказывается, не только как поэт. Из своего
училища Сологуб ушел по выслуге 25-летней пенсии. При его положении в
литературном мире, ему не для чего было быть инспектором Андреевского
городского училища. А может быть, и наоборот, близость к литературе и
литературному миру бросила на него тень в глазах начальства. Слухи же
объясняли уход со службы тем, что он превратил своих учеников в «тихих
мальчиков», изображенных в «Навьих чарах», окунул их в тайны мудрого садизма .
Мы не располагаем материалами о служебной деятельности
Сологуба в петербургский период. Известно, однако, что он
ушел со службы не по собственному желанию. Его уволили в
июле 1907 г. и попросили оставить занимаемую им квартиру в
трагические для него дни кончины Ольги Кузьминичны. Скорее
всего, как и объясняет современник, причиной увольнения
Сологуба послужил «ореол» вокруг его литературного имени,
который по-своему был оправдан.
Помимо страхов, навязчивых идей, актов жестокости,
способом разрешения психоневроза является также сублимация
асоциальных инстинктов (мнимое вытеснение комплекса), что в от-
346
дельных случаях проявляется в создании художественных
произведений. Обозревая с этой позиции творчество де Сада, Симона
де Бовуар отмечала: «Отделенный от людей непреодолимой
преградой — особенностями психики — он, тем не менее,
жаждал единения с ними. И это могла дать ему литература»54.
Это наблюдение вполне приложимо и к Сологубу, по
многочисленным воспоминаниям — замкнутому, нелюдимому,
вызывающе холодному в общении.
С точки зрения попытки вытеснения комплекса значительный
интерес представляют его прозаические и стихотворные опыты
долитературного периода и начала 1890-х годов. В 1880 г.
семнадцатилетний Сологуб задумал написать большой
автобиографический роман под названием «Ночные росы». Сохранились
планы и детальные конспекты замысла, а также черновики двух
фрагментов; в одном из них присутствует инцестуальная тема
(отец насилует дочь), во втором — с натуралистическими
подробностями воспроизводится сцена сечения крепостной девушки
(см. Приложение). Сологуб отличался редкой аккуратностью и
педантичностью по отношению к собственному архиву. Он
хранил все, что касалось его творчества, за исключением небольшой
группы сугубо интимных материалов, уничтоженных им в 1921
г., о чем он оставил запись с перечнем изъятых бумаг55.
Наброски к роману «Ночные росы» — первому крупному замыслу
— в этом списке не значатся и, по всей вероятности,
сохранились полностью. Можно предположить, что, детально
проработав план романа и написав два фрагмента в черновике,
облегчивших его угнетенную психику, автор охладел к работе.
Попыткой разрешения комплекса в творчестве, по-видимому,
были и стихотворения, объединенные под условным названием
«Из дневника». В подборке, сохранившейся в составе архива
Р. В. Иванова-Разумника, их 64. Однако текстов, тематически
связанных с этой группой, в «Материалах к полному собранию
стихотворений»56 значительно больше. На протяжении двух
десятков лет с 1881 г. поэт-флагеллянт «отчитывался», точнее,
отписывался перед собой о перенесенных им порках с помощью
стихотворных размеров. Эти опыты по стилистике слишком
далеки от изящных описаний Руссо57 или шедевров самого
Сологуба на алголагническую тему, таких, как — «Царь Содома»,
«От злой работы палачей» («Она любила блеск и радость...»),
цикл «Багряный пир зари», рассказ «Дама в узах» и др.
Бытовая, однотонная лексика, натуралистическое фетишистское
описание все той же обнаженной страдающей части тела, крови и
воплей, выдают функциональное значение текстов «Из дневни-
347
ка»: они предназначались для внутреннего пользования, а не для
печати. При написании стихотворений создавалась иллюзия
двухстороннего разрешения комплекса; автор, переживавший
воспроизведенную ситуацию, одновременно мог прочувствовать
себя объектом и субъектом бичевания, в то время как в жизни
он предпочитал позицию объекта, т. е. пассивную алголагнию.
Садо-мазохический комплекс Сологуба можно рассматривать
в качестве своеобразного психологического ключа ко многим из
его художественных произведений. В его лирике, несомненно,
преобладает мазохическая тональность, которая проявляется в
уходе от реального мира и перенесении его в грезу, в фантазм;
лирический герой Сологуба, как мазохист — человек
мающийся, ожидающий, его идеал — бесстрастие и холодность, из
чего следует и приверженность поэта к застывшим картинам,
к культуре отраженного, неподвижного. Наконец,
лирическому герою Сологуба свойственна мазохическая агрессия —
«вызов», требование запретного удовольствия ценою
собственного лишения или страдания, и «демонстративность»,
посредством которой он выставляет напоказ собственные муки
и унижения.
В прозе Сологуба, как правило, сочетаются черты поэтики
садических и мазохических текстов. Не трудно проследить эти
черты и в «Мелком бесе». Очевидно, эпизоды садистической
окрашенности связаны с линией поведения Передонова; для них
характерны — антиэстетизация, непристойные описания (в
первой версии текста)58, механизм «конвейера». Черты, присущие
мазохическому повествованию, проявляются в сюжетной линии
любовных отношений Людмилочки Рутиловой и Саши Пыльни-
кова: эстетизм, отсутствие непристойных описаний и вместе с
тем особая удушливая эротическая атмосфера намека, ожидания,
как бы сказал Делез, — «все кульминирует в подвешенности».
Наиболее показателен в этой связи сон героини о бичевании
отроков и Саши: в повествовании он играет ту же роль, что и
сновидение на первых страницах «Венеры в мехах», а также сон
Северина о медведице — и у Сологуба, и у фон Захер-Мазоха
реальный мир отклоняется в фантазм, в грезу, которая затем
проецируется на дальнейшие события. Отношения Людмилочки
и Саши более всего напоминают связь «женщины-палача» и
жертвы. Хотя в «Мелком бесе» отсутствует факт заключения
добровольного сознательного договора между любовниками, он
как бы и не отменяется, то есть предполагается возрастом героя:
еще не муж, но мальчик — необходимое условие в любовной
игре для героини59.
348
*
Своеобразное решение темы истязания в «Мелком бесе» и
наличие черт поэтики садических и мазохических текстов
позволяет назвать роман Сологуба алголагническим и одновременно
выявить направление, по которому началось отпадение
творчества писателя от реалистической традиции. В традиции русской
классической прозы от Радищева до Толстого и Чехова
изображение физических страданий служило средством обличения
несправедливости или же осмыслялось как возмездие за
содеянное преступление, но никогда не было целью. В изображении
Сологуба физическое страдание подчас синонимично
удовольствию, а потому и сама тема утрачивает традиционный
гуманистический пафос: в «Мелком бесе» насилие не осуждается, а,
скорее, констатируется как естественная потребность
человеческой натуры проявлять жестокость. Телесные наказания в романе
Сологуба теряют нравственное оправдание. Ни один из
персонажей «Мелкого беса», подвергшийся сечению, не совершил
сколько-нибудь серьезного проступка или преступления; однако
ни один из них и не осознает себя униженным или
оскорбленным. Для героев Сологуба порка — действие, чаще всего
связанное с ощущением боли и удовольствия, но отнюдь не с
нанесением нравственного ущерба, привычная мелочь бытовых
отношений (как писал Сологуб, «Повертись немного и слегка
поплачь»). Выпоротый отцом по навету Передонова Владя
Нартанович впоследствии без колебаний и угрызений совести
сечет старшую сестру, девушку на выданье, и та безропотно
позволяет Вершиной обнажить себя в присутствии подростка и
даже по-своему желает истязания («Ей словно нравилось
покоряться и знать, что ее отношениям к этому тягостному делу
наступает конец. Накажут, подержат на коленях, может быть,
даже высекут, и больно, а потом все же простят, и все это будет
скоро, сегодня же»)60. Из контекста «Мелкого беса» и других
сочинений Сологуба явствует, что писателю интересны те, кого
«томят порочные желанья», кто, подобно Передонову, истязает
с наслаждением или стремится испытывать боль.
Однажды автор романа заметил: «Говорят, у каждого
декадента есть психическая искривленность, что-то вроде горба,
который кривит его ощущения. Ежели это так, при горбе и надо
оставаться»61. Многие годы «горб» Сологуба мешал ему жить,
был неиссякаемым источником страданий, но одновременно
побуждал его к творчеству, в процессе которого от «горба» можно
было избавляться. Со временем он осознал свою «психическую
349
искривленность» как дар, начал выпячивать ее, щеголять ею,
эстетизировать ее. Этот процесс совпал с завершением работы
над «Тяжелыми снами» и началом работы над «Мелким
бесом». Тексты двух первых романов Сологуба, с учетом их
рукописных версий, несут на себе печать внутренней ломки,
происходившей с писателем в 1890-е годы. Первоначальное
бессознательное стремление к воссозданию брутальных сцен и к
описаниям садо-мазохической окрашенности в период работы
над «Мелким бесом» мутировало в сторону осознанного и даже
декларативного62. В статье «Не постыдно ли быть декадентом?»
Сологуб утверждал:
Возникая из великой тоски, начинаясь на краю трагических бездн,
символизм, на первых своих ступенях, не может не сопровождаться великим
страданием, великою болезнью духа. И так как всякое страдание, непонятное толпе,
презирается и осмеивается ею, то и это страдание получило презрительную
кличку декадентства. Но иначе, как страданием и болезнью, нельзя сделать
никаких завоеваний в области наших восприятий. Когда слепой прозреет, то
больно и страшно ему видеть, и только потом становится радостно смотреть, и
уже потом наконец овладевает он тою способностью, которая возникала у него
так мучительно. Если бы наше зрение стало чувствительно к большему или
меньшему числу колебаний эфира, то и нам было бы страшно и больно, и
люди здоровые, с нормальным зрением, издевались бы над безумцами, вдруг
увидевшими какие-то ультрафиолетовые тона63.
«Увидеть какие-то ультрафиолетовые тона», очевидно,
означало для Сологуба — расширить поле художественного
зрения за счет осмысления бессознательных процессов
психики и ее болезненных проявлений (отсюда следовала и
актуализация в повествовании болезненных сновидений — сны
Клавдии и Логина в «Тяжелых снах», сны Передонова и Ру-
тиловой в «Мелком бесе» и др.)64- Свойственное русской
литературе обостренное внимание к нравственным проблемам, к
душе человека и ее безднам (романы Достоевского и
Толстого) вытесняется у Сологуба интересом к психическим
аномалиям и последующей их эстетизацией, что в конечном
результате превращает многие из его художественных текстов в
некий инструмент насилия и выводит за рамки реализма XIX
в. Внутренняя творческая история романа «Мелкий бес», его
психологическая предыстория, фиксирует этот процесс
достаточно отчетливо.
350
ПРИМЕЧАНИЯ
1 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 539, л. 58.
2 Кранихфельд Вл. Ф.Сологуб // Вершины. СПб., 1909. С. 172.
3 Новополин Г.С. Порнографический элемент в русской
литературе. СПб., 1909. С. 180.
4 Абрамович Н.Я. Образы сатанизма. М., 1913. С. 126.
5 Горнфельд А.Г. Федор Сологуб // Русская литература XX века
/ Под ред. С.А.Венгерова. М., 1915. Т. II. Ч. I. С. 15.
6 Стеклов Ю.М. О творчестве Федора Сологуба //
Литературный распад. СПб., 1909. Кн. 2. С. 192.
7 Черновой автограф рукописи «Мелкого беса» хранится в
Пушкинском доме (ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 96); беловой автограф
находится в РЫБ (ф. 724, № 2—3). Наличие в данной рукописи
стилистических разночтений с печатным текстом позволяет называть ее
«беловой» с известной долей условности.
8 Самые значительные по объему фрагменты с описанием сечения
розгами см. в опубликованных А.Л. Дымшицем вариантах: Сологуб Ф.
Мелкий бес. М.; Л., 1933. С. 419—441.
9 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 96, л. 218.
10 См.: Сергей Тургенев и Шарик: Ненапечатанные главы из
романа «Мелкий бес» // Речь. 1912. 5 и 29 апреля. Опубликованные
главы не являются полной копией рукописных, в тексте имеются
разночтения с автографом и выпущенный эпизод.
1 ' Примером подобного описания может служить сцена из первой
рукописной версии романа: Нартанович сечет сына по наущению Передо-
нова, а затем дочь Марту, вступившуюся за брата, наказанного по
наговору, см. указ. в примеч. 8 публикацию А. Дымшица (с. 423—427).
12 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 96, л. 475об.
13 Клейнборт A.M. Встречи: Федор Сологуб // ИРЛИ, ф. 586,
№ 442, л. 20. Первая публикация «Мелкого беса» (главы 1—24) не
была завершена в связи с прекращением журнала, см.: Вопросы
жизни. 1905. № 6 — 11.
14 См. указ. публикацию А. Дымшица, с. 437—441.
15 Там же. С. 429—432.
16 Неклюдов Н.А. Общая часть Уголовного Права (Конспект).
СПб., 1875. С. 122.
17 ИРЛИ. Пост, за 1991 г., № 24.
18 Телесные наказания в России в настоящее время / Сост. члены
комиссии, избранной VI съездом врачей в память Н.И. Пирогова,
Д.Н. Жбанков и Вл. Яковенко. М., 1899.
19 С требованием отмены телесных наказаний Л. Толстой
выступил также в «Заключении о помощи голодающим» («О голоде»,
1893) и в более ранней статье «Николай Палкин» (1886),
опубликованной в Швейцарии (1891) и затем в Англии (1895), в России
впервые в 1917-м.
20 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 539, л. 98—99.
21 Экземпляр книги имелся в личной библиотеке Сологуба.
351
22 Северный вестник. 1892. № 2. № 3. Сологуб не мог оставить
без внимания эту публикацию, поскольку с 1892 г. стал постоянным
автором журнала.
23 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 539, л. 74об.
24 Джаншиев, гр<аф>. Из эпохи великих реформ. М., 1894. С. 174.
25 Улановская Б.Ю. О прототипах романа Ф. Сологуба «Мелкий
бес» // Русская литература. 1969. № 3. С. 181 — 184.
26 Помимо указанного названия, на обложку рукописи было
вынесено дополнительно название «Облава» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 1,
№ 96, л. 1).
27 Аналогичный пример Сологуб использовал в первом романе
«Тяжелые сны»: о. Андрей на уроках закона Божьего ставит
провинившихся учеников вверх ногами.
28 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 539, л. 63.
29 На страницах черновой рукописи в разных местах дважды
встречается дата, проставленная карандашом: 6 августа.
30 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 539, л. 137.
31 Там же, ф. 289, оп. 1, № 570, л. 32, 35.
32 РНБ, ф. 724, № 3, л. 62.
33 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 570, л. 8об.
34 В те же годы (1882 — 1892), что и Сологуб, Розанов
учительствовал в провинции. Статьи, составившие книгу «Сумерки
просвещения», были написаны им главным образом в период его службы в
городе Белом (Смоленской губ.) в 1891 г. В примеч. к XV гл.
сборника Розанов, апеллируя к своему детству, пишет: «Розга — это,
наконец, факт, это — насилие надо мною, которое вызывает все мои
силы к борьбе с собою; это — предмет моей ненависти, негодования,
отчасти, однако же, и страха; в отношении к ней я, наконец, свободен,
т. е. свободен в душе своей, в мысли, не покорен ничему, кроме боли
и негодования. Я серьезно спрашиваю: чем, какими коллекциями,
какими иллюстрациями и глобусами можно вызвать всю эту сложную и
яркую работу души, эту ее самодеятельность, силу, напряжение? Что
касается „угнетения человеческой природьГ будто бы наносимого
розгой, то ведь не унизила она Лютера, нашего Ломоносова; отчего
же бы унизила современных мальчишек?» (Розанов В.В. Сумерки
просвещения. М., 1990. С. 142). В связи с позицией Розанова по
вопросу о телесных наказаниях немалый интерес представляют
воспоминания его бывшего ученика — В.В. Обольянинова, в которых
рассказывается о садистических наклонностях Розанова и актах
жестокости по отношению к ученикам, см.: Обольянинов В.В. В.В. Розанов в
Вельской прогимназии // Новый журнал. 1963. № 71. С. 267 — 268.
35 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 570, л. 18.
36 Смиренский В.В. Воспоминания о Федоре Сологубе и записи
его высказываний // ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, № 146, л. 4.
37 Согласно Фрейду и Делезу принцип мазохистского договора
исключает отца, забота об отправлении отцовского закона всецело
передается матери.
38 Черносвитова О.H. Сологуб, Федор Кузьмич: Биографический
очерк // ИРЛИ, ф. 289, оп. 6, № 89, л. 51.
352
39 Там же, л. 71.
40 Сологуб Ф. Цикл «Из дневника». (Неизданные стихотворения)
// Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1990 год.
СПб., 1993. С. 134.
41 Печатное приложение к биографическому очерку, составленному
О.Н. Черносвитовой (ф. 289, оп. 6, № 89, л. 102).
42 Согласно наблюдениям Делеза неотъемлемой частью
мазохистских отношений является процесс воспитания «женщины-палача» и
последующий договор с ней, см.: Делез Ж. Представление Захер-
Мазоха // Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах; Делез Ж.
Представление Захер-Мазоха; Фрейд 3. Работы о мазохизме. М., 1992.
43 Тема отношений Абеляра и Элоизы присутствует в лирике
Сологуба, см.: «За плохое знание урока // Элоизу Абеляр жестоко...»
(ф. 289, оп. 1, № 2, л. 504).
44 Сологуб писал: «...не следует и облегчать это наказание. Малое
количество слабых ударов не причинит ребенку сильной боли, только
вызовет прилив крови к некоторым органам. Это приведет к развитию
у ребенка, когда стихнет боль, целого ряда таких ощущений и
представлений, которые могут толкнуть ребенка на нежный порок. Во
избежание этих вредных последствий следует наказать ребенка
непременно сильно и большим количеством ударов» (Указ. соч., л. 22об.).
45 Сологуб Ф. Цикл «Из дневника» (Неизданные стихотворения).
С. 122 123.
' "Клейнборт Л.М. Встречи // ИРЛИ, ф. 586, № 442, л. 29.
47 Сологуб Ф. «Канва к биографии». Печатное приложение к
биографическому очерку, составленному О. Н. Черносвитовой
(л. 103).
^Клейнборт Л.М. Встречи // ИРЛИ, ф. 586, № 442, л. 29.
49 Там же, л. 32 — 33.
50 Согласно версии Делеза садист рождается из мазохиста в
завершающей стадии развития комплекса. Свое наблюдение философ
подтверждает текстом «Венеры в мехах»; в романе происходит
перерождение главного героя.
51 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 539а, л. 137.
52 ИРЛИ, ф. 289, оп. 2, № 36, л. 8.
53 Клейнборт Л.М. Встречи // ИРЛИ, ф. 586, № 442, л. 24.
54 Бовуар С. де. Нужно ли аутодафе? // Маркиз де Сад и XX
век. М., 1992. С. 149.
55 ИРЛИ, ф. 289, оп. 6, № 85.
56 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 1 — 6.
57 Ж.-Ж. Руссо был автором, к которому Сологуб неоднократно
возвращался на протяжении жизни; перечитывал его и в последний
год перед кончиной, см.: Данько Е.Я. Воспоминания о Федоре
Сологубе // Лица: Биографический альманах. [Вып.] 1. М.; СПб., 1992.
С. 226.
58 См. варианты к «Мелкому бесу» в указанной в примеч. 8
публикации А. Дымшица.
5^ «Мелкий бес» и «Венера в мехах» чрезвычайно близки и в
своих эстетических программах — оба текста декларируют святость язы-
12 Анти-мир русской культуры 353
ческого античного идеала, можно обнаружить почти дословное
совпадение в мыслях и высказываниях Ванды, и женщины из сновидения
(«Венера в мехах»), и Людмилы Рутиловой о красоте, любви,
эллинизме и христианстве, о связи наслаждения и страдания.
60 См. указ. публикацию А. Дымшица, с. 438.
61 Клейнборт ЛМ. Встречи // ИРЛИ, ф. 586, № 442, л. 34.
62 Процесс становления эстетических взглядов отчасти
стимулировался внешними обстоятельствами — возвращением в Петербург и
вступлением в родственную по духу литературную среду, сближением
с редакцией «Северного вестника».
63 ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 376, л. 3.
64 Следует заметить, что интерес Сологуба к «внутреннему
человеку», к двойникам, к «ночной» жизни души был наиболее устойчивым;
все его творчество, начиная с 90-х годов неизменно развивалось в
психоаналитическом направлении — по пути осмысления таинственной
жизни подсознания.. Вехами на этом пути стали «Тяжелые сны»,
«Тени», «Червяк», «Обруч», «Утешение», «Мелкий бес», а также
ряд рассказов сборника «Истлевающие личины». Примечательно, что
труды 3. Фрейда систематически начали переводить и печатать в
России только с 1904 г., работы К.Г. Юнга стали известны еще
позднее. Хотя Сологуб не использует в текстах специальный термин
«подсознание», он с подлинным художественным мастерством
проникает в таинственную область психики, раскрывает само понятие,
причем в традиционном для психоаналитической литературы образе
чудовища, зверя (см. рассказ «Призывающий зверя»). В фантастической
новелле «Соединяющий души» писатель вплотную подошел к понятию
«коллективное бессознательное», в рассказе «Тела и душа»
выстраивает образ, вполне соотносимый с современным понятием «зомби».
По-видимому, именно Сологубу принадлежит приоритет в разработке
в русской художественной литературе психоаналитической тематики; к
сожалению, эта проблема не нашла отражения в книге А. Эткинда
«Эрос невозможного: история психоанализа в России» (СПб., 1993).
М.ШАПИР
ИЗ ИСТОРИИ
"ПАРОДИЧЕСКОГО
БАЛЛАДНОГО СТИХА"
»5
2
ставало солнце ало
—^W
Памяти Михаила Львовича Левина
1. Отдельные строки «Необычайного приключения, бывшего с
Владимиром Маяковским летом на даче (Пушкино, Акулова
гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)»
(июнь — июль 1920), останавливают на себе внимание своей
фривольной двусмысленностью:
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно (стихи 11—15)1.
<...> мир залить
вставало солнце ало (18—19)2.
<...> в щель войдя,
валилась солнца масса <...> (55—56)
Ср. первоначальную редакцию стихов 46—48:
<...> само, расставив луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Конечно, иной читатель с этими эротическими коннотациями
не захочет считаться вовсе, решит, что их нет, а физиологичес-
12*
355
кие подробности мерещатся воспаленному воображению. Другой,
с более тонким, обостренным поэтическим чутьем, не станет
отрицать очевидного, но объяснит всё «авторской глухотой»:
дескать, поэт сам не ведает, что творит. Но трудно поверить,
чтобы Маяковский, столь чуткий к чужим «обмолвкам», в
особенности поэтическим (см., например: Маяковский, 1959,
109; Катанян, 1940, 49; Тренин, Харджиев, 1934, 277—278;
Незнамов, 1963, 378; Райт, 1963, 271—272; Ронен, 1991а,
91; и др.; ср. Янгфельдт, 1982, 121, 191), «проговаривался»
так последовательно и настойчиво на протяжении небольшого
стихотворения, — тем более что он был подкован «теорией»
сдвига (Крученых, 1918а, [3]; Терентьев, 1919, 5—7; 1920, 8;
и мн. др.)» практически нацеленной на выявление «каламбуров»
такого рода: «...И милых барышень своих, / Войну и бал,
дворец и хату... (Пушкин)» (Крученых, 1918а, [32]; 1919а; 1922,
9; 1924, 34—36, 39; 1930, 12; Ziegler, 1978, 301—305; 1985,
74, 75, 77; Циглер, 1982, 239—240; Никольская, 1982, 199,
202—203; 1988, 31; Левинтон, 1991, 51 примеч. 9; и др.)3.
Против предположения о том, что полупрозрачные намеки
«Необычайного приключения» есть следствие простого
недосмотра, свидетельствуют и другие хрестоматийные скабрезности
Маяковского. Не только неприкрытая дерзость «Стихов о
советском паспорте» (1929): Я / достаю / из широких штанин
I дубликатом / бесценного груза, — но даже более скромные
метафоры «Разговора с фининспектором о поэзии» (1926): Что
говорить / о лирических кастратах?! / Строчку / чужую /
вставит — и рад, — оказываются отнюдь не случайными и
органически входят в художественную систему поэта (см. Ма-
зур, 1989, 34—36; Ронен, 1990, 25—26)4.
В «Необычайном приключении» настораживает уже самая
форма стиха — четырехстопные ямбы с мужскими рифмами и
трехстопные с женскими, чередующиеся через один (Brown,
1973, 17—18) [выпадают лишь две хореические строки, каждая
из которых приходится на последний стих строфоида: медленно
и верно (15); нас, товарищ, двое! (106), но на их месте
исходно тоже стояли ямбы: Спускалось солнце мерно; теперь /
таких нас двое —> теперь всего нас двое —> ведь нас,
товарищ, двое! (последний вариант несколько раз публиковался);
ср. Тренин, 1937, 84—85; Артоболевский, 1940, 162—163;
Харджиев, 1992, 28—29]. Точно таким же размером была
некогда написана пушкинская «Тень Баркова» (1814—1815?);
единственное, что отличает стих Маяковского, помимо двух
ритмических перебоев и отсутствия 12-строчной строфы, — это
356
однократное появление строфоида с чередованием не мужских и
женских, а мужских и дактилических окончаний [ночь : сонни-
ца : мочь : трезвонится (119—125); впрочем, первоначально
и здесь не было отступления от метра (есть : друга : влезть :
лугом)]. Помимо того, в «Необычайном приключении»
цитируется пушкинская рифма, причем созвучные слова у Маяковского
занимают такую же метрическую позицию, что и в «Тени
Баркова»:
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле (42—48).
Ср.:
И поп в постелю нагишом
Ложится поневоле...
И вот игуменья с попом
В обширном ебли поле (XIV, 165—168)5.
Балладный разностопник этого вида6 в лирике
Маяковского — редкость: не считая стихов о солнце, он встречается
только в четырехстрочном перифразе «Обязательного
постановления» [10.XII.1920 (см. Харджиев, 1958, 424—425)], в
стихотворении «Всем Титам и Власам РСФСР», жанр
которого, несмотря на заглавие и мораль, также можно определить как
балладу (написана в августе 1920, вскоре после «Необычайного
приключения»), в «Балладе о доблестном Эмиле» (май 1922) и
в «Подводном комсомольце» (март 1930). В двух других
стихотворениях этого размера — «Смыкай ряды!» (1923, задумано
как заключительная часть новой редакции «Всем Титам и
Власам») и «„Общее" и „мое"» (1928) — на месте женских рифм
часто возникают дактилические или разноударные (в «„Общем"
и „моем"» к тому же нередки ритмические и строфические
перебои, преимущественно в конце строфоида)7.
Классическая силлабо-тоника, непривычный для Маяковского
размер, крепко спаянный с традицией «пародического
балладного стиха» (Винокур, 1930, 35), впервые использованный в
свободном виде именно в «Необычайном приключении» и сразу
же — бок о бок с описаниями, которые не могут не вызвать
цепи сомнительных ассоциаций, — все это заставляет предпо-
357
дожить более тесную, чем кажется, связь между «Солнцем в
гостях у Маяковского» и порнографической балладой Пушкина.
Эта связь находит выражение не только в версификационных,
но и в лексических соответствиях. Такие слова, как вставать
(<...> вставало солнце ало) или щель (<...> в щель войдя. /
валилась солнца масса <...>), в «Тени Баркова» употреблены
в их непристойном значении:
О чудо! Хуй ядреный
Встает. Кипит в мудищах кровь
И кол торчит взъяренный (VII, 82—84).
Надулся хуй, растет, растет,
Вздымается ленивый —
И снова пал, и не встает...
Смирился, горделивый! (XVIII, 213—216)
В четвертый раз ты плешь впустил
И снова щель раздвинул <...> (II, 21—22)
Отвисли титьки до пупа,
И щель идет вдоль брюха <...> (XIV, 165—166) —
И Т. П.8
Солнце, которое «встает», для того чтобы «залить мир»,
«входит в щель» и «каждый раз мерно спускается в дырку»,
без малейшего сомнения, будет по праву воспринято как
фаллический символ. Сексуальное переживание солнца, по видимости,
опиралось у Маяковского на личный психофизический опыт:
«<...> для меня простой половой шантаж, он как солнце лезет
под юбку <...>» [из выступления на диспуте «Вопросы пола и
брака в жизни и в литературе», 6.Ш.1927 (Нечаев, 1970,
184)], но в «Необычайном приключении» эта архетипическая
символика, поддержанная, вполне вероятно, бальмонтовским
«Будем как Солнце»9, произрастала прежде всего из
пушкинского сравнения детородного члена с солнцем. Автор «Тени
Баркова» подводит к этому сравнению издалека:
Кто всех задорнее ебет?
Чей хуй средь битвы рьяной
Пизду кудрявую дерет,
Горя как столб багряный? (И, 13—16)
Нечто похожее — в конце баллады:
<...> Багрова плешь огнем горит,
Муде клубятся сжаты <...> (XXII, 261—262)
358
Эти пушкинские строки — реминисценция из «Девичьей
игрушки». В «Поеме на победу Прияповой дочери» («С<очи-
нение> Г<осподина> Б<аркова>») изображен люминисциру-
ющий пенис:
<...> Багряна плешь его от ярости сияла
И красны от себя лучи она пускала <...>'J
А в «елегии» «Плачь пизды» находим развернутое
сопоставление солнца с мужским половым органом:
О! Солнце<,> насъ дано одно ты освѣщать<,>
Питать собою тварь<,> собою украшать<,>
Такъ естли безъ тебя неможеть тварь пребыти<,>
Равно воть какъ пиздѣ безъ хуя можно жити<:>
Ты нужное для всей природы существо<,>
И хуй ради пизды потребно вещество<.>
Но видя ты съ высотъ теперь мое мученье —
Что съ хуемъ мнѣ пришло несносн<о>12 разлученье<»>
Сокрой и неблещи свои на мя лучи<!>
Спѣши<,> свирѣпой мракъ<,> изъ ада и мрачи<!>
Мнѣ всю одно пришло теперь ужъ умирати,
Безъ хуя ли мнѣ быть иль свѣту невзирати.
Прости<,> прекрасной хуй, прости<,> прекрасной свѣтъ<!>
Ужъ действуетъ вомнѣ битки претолстой вредъ.
«Плачь» обрывается ремаркой: «Закололась слоновымъ
хуемъ»13.
В XVIII строфе «Тени Баркова» картина пасмурного утра
входит в структуру отрицательного параллелизма, который
зиждется на двух значениях глагола вставать ('солнце встает* —
'хуй не встает'):
Увы! Настал ужасный день!
Уж утро пробудилось,
И солнце в сумрачную тень
Лучами водрузилось, —
Но хуй детины не встает!.. (XVIII, 205—209).
А в X строфе восход солнца прямо уподоблен эрекции:
И вот яснеет свет дневной;
Как будто плешь багрова,
359
Явилось солнце над горой14
Средь неба голубова (X, 117—120).
Этот пушкинский пейзаж непосредственно отражен
Маяковским, только вместо рассвета — закат:
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
горбился крыш корою (6—10).
В следующем предложении Маяковского ритмико-синтакси-
ческое, морфологическое и даже лексическое строение строки,
несущей основную смысловую и грамматическую нагрузку, во
многом дублирует строку из «Тени Баркова»: Явилось солнце
над горой (X, 119) — спускалось солнце каждый раз (14);
при этом в соответствующих строфоидах тот и другой стих
занимают одинаковое положение.
Описание солнечного восхода и заката в терминах полового
акта также берет начало в порнографическом бурлеске XVIII в.
В «Оде пизде» М. Чулков (?) воспевает начало дня и его конец:
От утренних спокойных вод
Заря на алой колеснице
Являет Фебов нам восход,
Держа его муде в деснице<,>
И тянет за хуй Феба в понт,
Чтоб он светил наш горизонт15.
Скончав теченье, Аполлон
С Ефира вниз себя покотит,
К Фетиде в лоно светит он —
Пизда лучи его проглотит <...>
<...> Сокроется от нас день прочь,
Ебливая наступит ночь16,
Коль Феб в богиню запендрячит .
Поразительнее всего, что у Чулкова, как и в «Необычайном
приключении», солнце тоже, если можно так выразиться, сходит
со своей «орбиты», правда, по иной причине:
<...> Когда из волосистых туч
Блеснул на Феба пиздий луч,
360
То он сияние оставил,
Забыл по должности езду
И сунулся тотчас в пизду,
Чем славы он твоей прибавил .
Один и тот же мотив у поэтов XVIII и XX вв. — солнце,
произвольно меняющее привычный «маршрут», —
подготавливает к самым существенным, хотя и наименее очевидным
схождениям между Пушкиным и Маяковским: «Тень Баркова» и
«Необычайное приключение» имеют много общего в сюжете. В
обоих произведениях в решающий момент случается
сверхъестественное событие. Попа-расстригу Ебакова посещает призрак
Баркова, поэта Владимира Маяковского — небесное светило:
<...> Явилась тень, идет к нему
Дрожащими стопами <...> (V, 57—58).
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле (44—48).
Пушкинский призрак появляется в тени угрюмой ночи (XXI,
246), напротив, у Маяковского — стена теней, / ночей
тюрьма I под солни, двустволкой пала (104—106), но солнце
глаз Баркова так же пронзает мрак, как и глаза солнца: у
Пушкина привидение возникает,
Сияя сквозь ночную тьму
Огнистыми очами (V, 59—60).
Ср. в «Необычайном приключении»: Уже в саду его глаза
(51); Гоню обратно я огни <...> (60).
Чудо свершилось, и в сюжете наметился новый поворот.
«Что сделалось с детиной тут?» (VI, 61) — вопрошает
тень Баркова в момент своего появления. Что я наделал! / Я
погиб! (42—43) — восклицает герой Маяковского при виде
приближающегося солнца. Столкновение с высшей силой
вызывает замешательство и ужас:
И страхом пораженный поп
Не мог сказать ни слова <...> (VII, 73—74)
361
Ср.:
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло <...> (25—26)19
Эта эмоция у Маяковского проходит лейтмотивом:
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом (49—50).
<...> я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже! (74—75)
Но оказывается, что могущественный гость настроен отнюдь не
враждебно:
— «Твой друг, твой гений я, Барков»,
Вещало привиденье (VI, 71—72).
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я,
а солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое! <...>» (101 —106)
Ебаков жалуется на отсутствие эрекции:
— «Лишился пылкости я муд,
Елдак в изнеможенье <...>» (VI, 63—64)
Маяковский жалуется на отсутствие вдохновения:
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста <...> (82—84)
Барков возвращает попу эрекцию:
«<...> Поди, еби Малашку вновь!» (VII, 80)
Ср.:
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! (89—92)
362
Солнце возвращает поэту вдохновение:
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе (107—110).
Ебаков, преображенный встречей с Барковым, тоже обретает
поэтический дар, которым делится с миром:
И стал ходить из края в край
С гудком, смычком, мудами <...> (XI, 129—130)20
Барков благословляет своего подопечного на подвиги:
Возьми задорный мой гудок,
Играй как ни попало <...> (VIII, 93—94)
Ритмика, фоника, лексика и синтаксис последней строки в
точности повторены в «Необычайном приключении»:
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало! (117—118)21
Очевидно, что баллада Маяковского изобилует всякого рода
цитатами и парафразами из непечатной баллады Пушкина.
Будучи вполне осознанными, эти разнородные реминисценции
метрического, рифменного, ритмико-синтаксического, лексического,
образного, сюжетного и жанрового характера способны
переместить акценты в собственных двусмысленностях Маяковского,
сделать в них «второй» смысл «первым», тайное содержание —
явным. Вывод просится сам собой: в начале XX в., как и в
начале XIX, в семантическую структуру «пародического
балладного стиха» входила «на законных основаниях» бурлескно-
порнографическая составляющая. Мы вынуждены признать, что
барковщина Маяковского — явление столь же реальное, сколь
и барковщина Пушкина22.
2. В 1977 г. P.O. Якобсон вспоминал: «Маяковский гордился
тем, что ни разу не написал скабрезного стихотворения, кроме
таких двустиший, как:
Нельзя лезть на козу еться —
Это наказуется!
363
или
Здорова Ядвига еться —
ёрзает и двигается .
Как-то Лиля спросила Володю, может ли он найти рифму на
слово „хирурга". Он сказал:
Спросила девушка у хирурга:
Что, если на херу рога?»
(Янгфельдт, 1992, 68)24
Л.Ю. Брик в своих мемуарах была еще более категорична:
«Размусоленную эротику он не выносил совершенно и никогда
ничего не читал и не писал в этом роде» (1940, 170)
[характерно, что Л.Ю. Брик употребила при этом выражение
самого Маяковского: ср. размусоливание и произведения,
обслюнявливающие сексуальные темы (Нечаев, 1970, 182,
186)]. Однако вещи такого рода он, похоже, все-таки писал и
уж, во всяком случае, читал — косвенно это признавала и сама
Л.Ю. Брик: «Маяковский не только читал чужие стихи — он
играл ими, переделывал, перевирал». Так, «стихотворение
Лермонтова „По небу полуночи ангел летел..." он читал,
переделывая его очень смешно, но совсем непечатно» (1940, 176, 166;
ср. Крученых, 1930, 12—14 и др.).
Наряду с этим обычным, тривиальным способом
пародирования, превращающим приличное в неприличное — так сказать,
«постное» в «скоромное», — Маяковский освоил другой, не в
пример более редкий: он, как некогда Батюшков (см. Шапир,
1993, 70—72), делал неприличное приличным, но так, чтобы
знакомый с непечатным источником мог его без труда узнать.
Первым опытом такого «палимпсеста» была «Советская азбука»
(сентябрь 1919), которую Маяковский составлял вместе с
Р. Якобсоном и Я. Гурьяном25:
Антисемит Антанте мил.
Антанта — сборище громил —
и т. д. В одном из последних выступлений, за три недели до
смерти, 25.III.1930, Маяковский коснулся истории создания
этой «Азбуки»: «Она была написана как пародия на старую,
была такая порнографическая азбука26 <...> Там были <...>
остроты, которые для салонов не очень годятся, но которые для
окопов шли очень хорошо <...> Эту книгу <...> я принес
364
<...> в Центропечать. Там сидела не вычищенная еще
машинистка одна, которая с большой злобой мне сказала: „Лучше я
потеряю всякую работу, но эту гадость я переписывать не буду"»
(1959, 428—429).
Несколько иначе эпизод этот изложен у P.O. Якобсона:
«Существовала такая гимназическая забава — похабные азбуки,
и некоторые из <...> стихов <Маяковского. — М.Ш.> их
слегка напоминают. Эти азбуки были рукописными или даже
продавались из-под полы. Ассоциация была явной, и поэтому за
эту азбуку на него страшно нападали». «Одна машинистка из
хорошей семьи, которую он просил переписать это в каком-то
учреждении, отказалась со слезами на глазах переписывать
такие гадости как:
Вильсон важнее прочей птицы.
Воткнуть перо бы в ягодицы.
Это очень типично для этих похабных азбук. Так что, когда она
огорчилась, явно стало, что она их знала» (Янгфельдт, 1992,
40—41; ср. Raker, 1992, 97).
Связь «Советской азбуки» с ее непечатными аналогами
действительно бросалась в глаза: Шумел Колчак, что пароход. /
Шалишь, верховный! Задний ход! Ср. слово шалить в
соответствующем дистихе одной из гимназических «Азбук»:
Шалит фантазия во сне. / Штаны мешают при ебне (Флегон,
1973, 103). Иногда Маяковский отваживался на откровенное
заимствование образа: Земля собой шарообразная, / За
Милюкова — сволочь разная. Ср.: Земля имеет форму шара. /
Забавно видеть хуй омара (Флегон, 1973, 380)27. В стихах на
букву «И», сочиненных Якобсоном: Интеллигент не любит
риска. I И красен в меру, как редиска, — звук и цвет
унаследованы от похабного двустрочия на ту же букву: Ирис —
растенье Гваделупы. / Имеют красный цвет залупы (Флегон,
1973, 129). В таком же отношении к прототипу находится
подражание Маяковского: Юнцы охочи зря приврать. / Юденич
хочет Питер брать. Ср.: Юпитер был женат на Гере. /
Юнцу нужна пизда на хере2* (слово юнец в «Советской
азбуке» повторено, а на месте одного имени собственного
Ю-питер — два: Юденич + Питер)29. Маяковский и его
соавторы сохранили основной прием школьных азбук [«дерзкий
алогизм стыка» между строчками каждого двустишия
(Петровский, 1991, 14)] и их стихотворный размер (4-стопный
ямб парной рифмовки преимущественно с женскими клаузула-
365
ми)30. Только, в отличие от фольклорного «первообраза» и двух
других пародических подражаний [ср. сатириконовскую «Азбуку
для детей и для литераторов» и «Азбуку» киевской «Чертовой
перечницы», 1918 (Петровский, 1991, 14—17)], Маяковский
позволил себе «запретные» переакцентуации и в целом ряде
случаев заменил женские рифмы неравносложными и
дактилическими (ср. Крученых, 1925, 14). Чуть позже аналогичные
трансформации претерпела метрика «Тени Баркова»: после
азбучных упражнений Маяковский почувствовал себя в силах
создать более сложный текст, весь начиненный сексуальностью,
но вполне пригодный для печати.
И в одном из наименее известных стихотворений Пушкина
(оно не вошло даже в Полное собрание сочинений), и в одном
из наиболее известных стихотворений Маяковского (оно вошло
даже в школьную хрестоматию)31 присутствуют увязанные
воедино все три мотива: восход солнца, эрекция и вдохновение —
разница лишь в пропорциях, в которых сквозные темы
представлены у обоих поэтов. В «Тени Баркова» наибольший
удельный вес имеет топика эротическая, следом за ней —
поэтическая и, наконец, солярная; в «Необычайном приключении»
соотношение оказывается обратным. У Пушкина эрекция и
вдохновение находятся друг от друга не только в образной
[писать как ебатъ (см. Шапир, 1993)], но и в сюжетной
зависимости:
«<...> Усердно ты воспел меня,
И вот за то награда!» (XXIV, 285—286) —
Барков за поэтические заслуги отблагодарил попа потенцией.
Но скрытая связь этих линий с третьей темой — солнечной —
осуществлена лишь в тропах и выражается преимущественно
сравнениями и параллелизмами (см. § 1).
У Маяковского, напротив, и сюжетно, и образно связаны
небесное светило и поэт: гостеприимного хозяина солнце
воодушевило на поэтический труд. Место эротической параллели:
И стал поэтом Ебаков;
Ебет да припевает <...> (XI, 121 —122)32 —
заступает параллель солярная:
Пойдем, поэт,
взорим,
366
вспоем
у мира в сером хламе (107—110).
Если герой Пушкина 'ебет и поет' [и даже 'поет как ебет':
<...> Пером владеет как елдой <...> (XI, 125)33], то герой
Маяковского 'светит и поет' (и даже 'поет как светит'). Солнце
сияет днем, а поэт — ночью:
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится (119—125).
То, о чем Пушкин говорил в открытую, Маяковский подернул
туманом метафор, основанных на действительной или мнимой,
узуальной или окказиональной двузначности слов дыра,
спускаться), вставать, (за)лить, щель, (в)валиться и др. И
тем не менее скрытая связь поэта и солнца с ѵи1ѵ'ой и penis'oM
в лирике Маяковского исключительно актуальна.
Симптоматично, что цитаты из «Тени Баркова» попадаются
у Маяковского, в том числе далеко за пределами
«Необычайного приключения». В балладе Пушкина отсутствие
вдохновения приравнено к отсутствию эрекции:
Как иногда поэт Хвостов,
Обиженный природой,
Во тьме полуночных часов
Корпит над хладной одой;
Пред ним несчастное дитя —
И вкривь, и вкось, и прямо
Он слово звучное, кряхтя,
Ломает в стих упрямо, —
Так блядь трудилась над попом,
Но не было успеха,
Не становился хуй столбом
Как будто бы для смеха (IV, 37—48)34.
Несомненно, что подмеченное Пушкиным сродство форм
натуры и культуры имел в виду и Вяземский, когда слагал
«Александрийский стих» (1853):
367
Иному слову рост без малого в аршин;
Тут как ни гни его рукою расторопной,
Но всё же не вогнешь в ваш стих четверостопный.
Ср. «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926):
Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
нажал и сломал35.
Из двух компонентов пушкинского сопоставления Маяковский
оставил один, превратив тем самым сравнение в поэтико-
эротическую метафору:
Что говорить
о лирических кастратах?!
Строчку
чужую
вставит — и рад36.
Ассоциация между вдохновением и эрекцией, названная и
последовательно развитая в «Разговоре с фининспектором о
поэзии», в «Необычайном приключении» лишь подразумевается,
но и тут и там она восходит к пушкинской «Тени Баркова»37.
Это — с неожиданной стороны — подтверждает точку зрения
Б.И. Арватова, высказанную незадолго до смерти Маяковского
или же сразу после: «<...> эротическая жизнь — вот где
черпалось им пресловутое вдохновение, которое силой социально
направленной фантазии <...> перерабатывал<о>сь в героико-
сатирическую поэму, в агит-стихотворение или лозунг, надпись
и т. д.» (1979, 132; ср. Flaker, 1992, 96—97)38.
«Слово, всунутое в строчку», на которую — «нажал и
сломал», означает по сути то же, что и солнце, «каждый раз мерно
спускающееся в дырку», — то есть совокупление. «Строчка»,
как заметил СЮ. Мазур (1989, 35—36; ср. Жолковский,
1986, 262), символизирует здесь женское начало: «Отношение
к строке должно быть равным отношению к женщине <...>»
[из статьи «Как делать стихи?», 1926 (Маяковский, 1959,
93)]39. «Слово» («ростом в аршин») — это начало мужское:
еще на вечере «Союза молодежи» (20.XI.1912) «наибольшее
негодование аудитории вызвали полемические выпады Маяковс-
368
кого, возвестившего <...> что „слово требует сперматизации"»
(Харджиев, 1976, 15). Подобная «сперматизация» превращает
существительное среднего рода в субъект мужского пола, как в
стихотворении «Верлен и Сезан» (1925):
Бумаги
гладь
облевывая
пером,
концом губы —
поэт,
как блядь рублевая,
живет
с словцом любым .
Стихотворец не насилует язык, а языку отдается — «живет
со словом, как блядь». Его женское естество обнаруживается во
вторичных половых признаках: Взбухаю стихов молоком / —
и не вылиться — / некуда, кажется — полнится заново
(«Люблю», 1922)41. Пассивная, страдательная роль поэта в
творческом акте дает о себе знать и в «Необычайном
приключении»:
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
В отношениях поэта и светила первый — то и дело на правах
ведомого: и мужская, и творческая сила заключены в его
пышущем жаром госте. Вопиющая маскулинность солнца:
<...> ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом <...> (57—59) —
подчеркнута грамматическим родом обращения Дармоед! (31):
в этой звательной форме преодолевается neutrum
существительных солнце и светило (Гин, 1985, 11; 1992, 104—105, 152—
153)42.
В сравнении поэта с блядью — оно тоже встречается у
Пушкина43 — можно видеть крайнее выражение одного из двух
противоположных типов отношения к слову (Топоров, 1986,
208—209; Шапир, 19906, 329 примеч. 8). Поэт то хочет
отдаться языку, то им овладеть, пусть даже ценой насилия:
369
«нажал и сломал». Не случайно понимание просодии как
«насилия над языком» в большой мере выработалось у
P.O. Якобсона в процессе изучения версификации Маяковского
(Якобсон, 1923, 16 и мн. др.; Шапир, 19906, 302, 304 примеч.
10; 1994, 85—87; ср. Жолковский, 1986, 274 и далее)44.
Важнейший элемент просодии — строка — выступает у поэта как
символ мужской, а не только женской природы:
Говоря по-нашему,
рифма —
бочка.
Бочка с динамитом.
Строчка —
фитиль.
«Строка-фитиль <...> субституирует детородный член, а слово-
бочка <...> материнское лоно» (Мазур, 1989, 36; 1990, 91; ср.
Адрианова-Перетц, 1935, 501)45. Тут непосредственным
предшественником Маяковского был Б. Лившиц, прошедший
«хорошую школу фройдизма» — «сексуальная природа творческого
акта» предстала ему «с не допускавшей никаких опровержений
несомненностью» (1933, 161, 273). Лившицу случалось писать
и о том, Что в таинственное лоно / Проникать нельзя
стиху («Мне ль не знать, что слово бродит...», 1920), и о том, что
рифма, Как рубенсовская жена, / Лежит в истоме
ожиданья... («Раскрыт дымящийся кратер...», 1920). Такой родо-
половой определенности стиха и рифмы способствует наряду с
грамматикой их идеальный образ, напоминающий о мужских и
женских гениталиях: стих растянут в длину, рифма — в
ширину; она состоит из двух тесно связанных половинок, между
которыми — пустое пространство. Иконика делает сексуальные
коннотации этих версификационных категорий достаточно
устойчивыми. Уподобление фаллосу налицо и там, где поэт ведет
речь о «редакторе», который затыкает стихами дырку за
дыркой у и там, где он пишет о «лирических кастратах»:
Строчку I чужую I вставит — и рад, и там, где он сравнивает
стих с «водопроводом»: <...> прорвет / и явится / весомо, /
грубо, I зримо <...> («Во весь голос», 1929—1930)46.
Метафорой «стих — фаллос» Маяковский, того не
подозревая, также повторял Пушкина. В октавах, исключенных из
«Домика в Коломне», говорится про александрийский стих:
Извивистый, проворный, длинный, склизкой
И с жалом даже — точная змия <...>47
370
Сравнение со змией не должно сбивать с толку48. Чуть ниже
Пушкин характеризует vers libéré:
<...> Александрийский стих по всем составам
Развинчен, гнется, прыгает легко<,>
Ломается на диво костоправам —
Они ворчат: уймется ль негодяй,
<Что за> повеса! экой разгильдяй!..
Стих с жалом-рифмой на конце*9 способен эякулировать — как
это происходит, например, у Лермонтова: <...> А рифмы
льются малафьей (из стихотворения «Расписку просишь ты,
гусар...», 1837; Мазур, 1990, 91). Ср. начальную редакцию
«Домика в Коломне»:
Порой я стих повертываю круто,
Все ж видно: не впервой я им верчу,
А как давно? того и не скажу-то.
На критиков я еду, не свищу,
Как древний богатырь — а как наеду...
Что ж? поклонюсь и приглашу к обеду, —
то есть 'спущу' (в «Оде Приапу»: Идет, всем встречным не
спускает / И чистого млека льет ток50). Каламбур
учитывает, вероятно, не только старинное присловье, приведенное в
«Руслане и Людмиле» (1817—1820):
«<...> Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!» —
но и обсценное значение спустить 'излить семя' (ср.
Blinkiewicz, 1911, 25): <...> И части члена он, бедняжка, не
вместил, / Как сладость всю свою потоком испустил (из
басни «Госпожа и парикмахер»); Вели спустить мой хуй ты с
маткиной пиздо<ю>, / То пустит дождь в пизду елда
<...> (из басни «Пожар») и др.51
Обратимость тематической иерархии солнце — слово —
фаллос делается наглядной при сопоставлении фрагментов, где
три мотива неразрывно переплетаются, — а такое место есть и
в «Тени Баркова», и в «Необычайном приключении». У
Пушкина развитие тропов достигает своей кульминации чуть не в
самой середине баллады, на переломе от первой части сюжета
ко второй:
371
И стал поэтом Ебаков:
Ебет да припевает,
Гласит везде: «Велик Барков!»
Попа сам Феб венчает;
Пером владеет как елдой,
Певцов он всех славнее <...> (XI, 121 —126)
Симметрия и взаимозависимость творческой и половой
активности здесь совершенно очевидны, но подспудно им сопутствует,
так сказать, активность солнечная: попа венчает сам Феб\ Эта
эпиклеса Аполлона — (рофос Светлый, ясный' — должна
напомнить, что солнце — лишь одна из ипостасей Аполлона,
который не только Феб, но еще и Мусагет, покровитель певцов и
музыкантов: Да здравствуют музы, да здравствует разум! /
Ты, солнце святое, гори! («Вакхическая песня», 1825).
Ебаков, увенчанный Фебом и облагодетельствованный
Барковым, — в сущности, не кто иной, как наместник Феба и При-
апа, если воспользоваться строкой Пушкина из стихотворного
послания А.Г. Родзянке (1824). В том же письме Родзянке,
смеясь над тем, что экзотика русской романтической поэмы
выходит на поверку украинской, финской или цыганской, Пушкин
подвел итог, сливая три темы в одну: «<...> ай да Парнасе! ай
да героини! ай да честная компания! Воображаю, Аполлон,
смотря на них, закричит: зачем ведете мне не ту? А какую ж
тебе надобно, проклятый Феб? гречанку? италианку? чем их
хуже чухонка или цыганка<?> <Пизда> одна — <еби>! т. е.
оживи лучом вдохновения и славы» (Пушкин, 1937, 128—129).
Пизда и еби принадлежат к терминологии сексуальной,
вдохновение и слава — к литературной, а оживи лучом — по всей
видимости, к астрономической (ср. Rancour-Laferriere, 1977, 51—53)53.
У Маяковского кульминационное слияние тем выглядит
несколько по-другому:
«<...> Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами» (107—113).
Тут всячески педалируется общность эманации солнечных и
поэтических, но со звездой, изливающей свет, и певцом, из-
372
ливающим душу, незримо присутствует рядом фаллос,
изливающий сперму. Сравнение с семяизвержением, в стихах о
солнце не высказанное, обрело свои очертания в поэме «Во
весь голос»:
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,
набравши в рот <...>54
Не исключено, что строки Маяковского — действительно
своего рода отклик на «Северный веер» Кузмина (1925, опубл.
1929):
Быть может, в щедрые моря
Из лейки нежность лью <...>55, —
но фаллическое содержание образа вполне поддается прочтению
лишь на фоне пушкинской «Гавриилиады» (1821), кстати,
впервые напечатанной в России только в 1918 г.:
<...> И тайный цвет, которому судьбою
Назначена была иная честь,
На стебельке не смел еще процвесть.
Ленивый муж своею старой лейкой
В час утренний не орошал его <...>56
Той же природы, что лейка, известное сравнение, которое
Пушкин убрал из окончательного текста поэмы «Граф Нулин»
(1825):
<...> Он весь кипит как самовар<,>
Пока не отвернула крана
Хозяйка нежною рукой <...>
Самовар в роли мужского символа выступает и в фольклорных
загадках (Адрианова-Перетц, 1935, 502), нередко допускающих
возможность двух отгадок одновременно: приличной и
неприличной (Шкловский, 1924, 125—128; ср. Крученых, 1918а,
[32]; Никольская, 1982, 199—200, 207 примеч. 46; Левинтон,
1993, 125—130, 134 примеч. 3, 135 примеч. 6). По принципу
фольклорной двузначности строится большинство эротических
намеков Маяковского, например в «Письме товарищу Кострову
из Парижа о сущности любви» (1928):
373
Любить
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи57.
Другая загадка — сексуально-астрономическая (и что важно,
отрицающая сравнение с самоваром):
Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут угольями,
а в том,
что встает за горами грудей
над волосами-джунглями.
Разумеется, «за горами» и «над джунглями» встает небесное
светило: Там / за горами горя / солнечный край непочатый
(«Левый марш», 1918); «Детей учите: „Солнце встает над ко-
вылями". С любовного ложа из-за Его волосиков любимой
голова» («Человек»). Между прочим, это объясняет появление в
«Письме Кострову» имени великого астронома, отца
«гелиоцентрической системы»:
Любить —
это с простынь,
бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику <...>58
Незадолго до смерти Маяковский назвал свою поэзию
«полупохабщиной». Литература, которую он проповедовал,
получалась «заборной» (1959, 443) не на словах, а на деле.
Ненормативная лексика {блядь, говно и т. п.), в том числе в
программных произведениях до- и послереволюционного периода (Brown,
1973, 15), делала его поэтом не для дам (Жолковский, 1986,
261): <...> ушку девическому / в завиточках волоска / с
374
полупохабщины / не разалеться тронуту («Во весь голос»;
ср. «Девичью игрушку» с ее «Приношением Белинде»).
Помимо явной брани, тот же стилистический эффект достигался
забористыми эвфемизмами: <...> в бабушку /ив бога душу
мать! («Сергею Есенину»), Где же / «мертвые души» /
околачивают груши? («Фабрика мертвых душ», 1928).
Вообще матерная ругань была постоянной темой лирики позднего
Маяковского, в частности посвященной борьбе за новый быт.
При этом Маяковский отстаивал право поэта на табуированную
лексику или фразеологию: «<...> два раза повторяемое слово
„мать" в стихах Есенина — это только какой-нибудь процент в
общем количестве „матерей", которое мы ежедневно слышим»
(из выступления по докладу А.В. Луначарского «Театральная
политика советской власти», 2.Х.1926); «<...> после долгих
размышлений я поставил <в стихотворение „Сергею
Есенину ". — М.Ш> это „загибать", как бы ни кривило такое слово
воспитанников литературных публичных домов, весь день
слушающих сплошные загибы и мечтающих в поэзии отвести душу
на сиренях, персях, трелях, аккордах и ланитах» («Как делать
стихи») и т. д. (Маяковский, 1959, 302, 111, ср. 431 и др.;
Гофман, 1940, 324, 327—329).
Но, конечно, дело не в матерщине и не в грубости языка как
таковой. Современная Маяковскому культура была внутренне
готова распознать табуированные слова и темы даже там, где их
заведомо не было: «<...> если знать всѣ языки, — тогда
творить невозможно, потому что любое слово для какого-нибудь
народа означает неприличіе или даже похабель». «Тут, —
заключал Крученых, — и заумный язык не устоит» (19186, 17;
19196, 24) [ср. И.Терентьев о «вселенском значении русской
ругани» (1920, 8; Никольская, 1982, 194, 199, 202—203;
1988, 31)]. Гораздо важнее для понимания автохарактеристики
Маяковского то, что топика так называемого «материально-
телесного низа» срослась у него с наиболее интимной
лирической темой — темой поэта и поэзии (ср. Кацис, 1990а; 19906).
Хотя Маяковский не выносил, когда «вокруг трудного и
важного поэтического дела» создавали «атмосферу полового
содрогания и замирания» (1959, 82), осмысление процесса
стихосложения у него часто происходило в категориях секса. Такой поворот
темы имел богатую классическую традицию, и потому
неудивительно, что в этой связи Маяковский непрестанно цитировал
Пушкина59. Когда в начале XX в. после большого перерыва
иерархия стиха и прозы снова стала почти такой же, какой была
столетием раньше, у «высокой» поэзии немедленно возродился
375
интерес к «низким» жанрам, которые дотоле около полувека
находились не то что на периферии литературы, а просто за ее
пределами. Обращение к обсценной словесности помогало
выявить границы и возможности поэтического языка (Шапир,
1990в, 133), но только роль скрытого ориентира, которую в
«золотом веке» играли «Сочинения Баркова», в «серебряном
веке» выпала на долю «потаенного» Пушкина и еще более
поздних образцов60.
3. Как и во времена «Арзамаса», «пародический балладный
стих» был привлечен Маяковским для решения внутрипоэтичес-
ких проблем. Это и понятно: ведь пародия — одна из наиболее
традиционных форм литературной рефлексии. Но пародирование
Пушкина было лишь средством: цель Маяковского —
автопародия. В его стихах, замечал P.O. Якобсон, «есть много
элементов пародийности. Сравните <...> „Пейте какао Ван-
ГутенаГ в „Облаке в штанах" с позднейшими стишками „В
чем сила? — В этом какао". Это было почти дословное
повторение, совершеннейшая пародия, так же как „Клоп" был
абсолютной пародией на „Про это"» (Янгфельдт, 1992, 41;
Якобсон, 1931, И, 34—35; 1956, 198; 1959, 308—309). И
если тетраптих Маяковского отозвался в рекламе для
Чаеуправления (1924), то эхом «Необычайного приключения»
прозвучала реклама для ГУМа (1923): Дайте солнце / ночью!
I Где I найдешь / его? / Купи в ГУМе! / Ослепительно
I и дешево.
Но «Солнце» с его ночным чаепитием — это не увертюра, а
финал: causerie «Необычайного приключения» пародирует
многочисленные у дореволюционного Маяковского беседы поэта со
светилом61. Уже одно из самых ранних стихотворений — «Из
улицы в улицу» (1913) — по-другому называлось
«Разговариваю с солнцем у Сухаревой башни» (ср. Харджиев, 1992,
27). В стихотворении из цикла «Я» («Несколько слов обо мне
самом», 1913):
<...> слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней...»
В «Кофте фата» (1914):
376
Я брошу солнцу, нагло осклабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»
В стихотворении «Я и Наполеон» (1915):
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!
В поэтическом предисловии к «Простому как мычание» («Ко
всему», 1916):
Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему <...>
Несколько раз такие выкрики раздаются в поэме «Человек»:
Солнце!
Что ж,
своего
глашатая
так и забудешь разве?
Сопоставление с этой поэмой делает особенно явственной авто-
пародийность «Необычайного приключения». Обыгрывая в
«Человеке» евангельское предание, Маяковский «намекает»
недалекой I неделикатной звезде:
— мол —
лень сиять напрасно вам!
Если не
человечьего рождения день,
то черта ль,
тогда еще
праздновать?!»
Эта интонация пародийно снижена в балладе об июльском
солнце:
«<...> чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!» (38—41)
377
В «Необычайном приключении» солнце тянет за собой поэта, в
«Человеке» — наоборот:
Солнце!
Чего расплескалось мантией?
Довольно лучи обсасывать в спячке.
За мной!
Все равно без ножек —
чего вам пачкать?!
И галош не понадобится в грязи земной.
Повторяющийся призыв «спуститься на землю» входит в
солярный миф, созданный молодым Маяковским62. Только на этом
фоне можно понять, что в действительности приключилось с
поэтом на даче летом 1920 г.63
Как и во многих других типологически поздних мифах, в
дореволюционной поэзии Маяковского солнце (день) — мужской
символ, а луна (ночь) — женский (ср. Афанасьев, 1865, 74—
82; Гин, 1992, 99 и далее; а также Lévi-Strauss, 1967). Эту
мифологему Маяковский скорее всего унаследовал от
Бальмонта, раскрывшего свою мифопоэтическую систему в статье
«Солнечная сила» (1917): «Солнце — мужское начало
Вселенной, Луна — женское <...> Каждый человѣческій Онъ есть
сынъ Солнца, хоть часто этого не знаетъ. Каждая человѣческая
Она <...> есть дочь Луны, хотя бы стала отрицаться» (1918,
15 и др.; ср. 1917, 254). Маяковский знал, чей он сын:
Солнце! I Отеи, мой!; <...> луна — / жена моя. / Моя
любовница рыжеволосая («Я», 1913). Ср.:
«Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов, —
солнца ладонь на голове моей.
Благочестивейшей из монашествующих — ночи облачение на
плечах моих.
Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую»
(«Человек»).
Несмотря на постриг и священнический сан, в отношениях
луны и солнца (ночи и дня) присутствует эротическое начало
(«Адище города», 1913; ср. Тренин, Харджиев, 1935, 183;
Stahlberger, 1964, 48—49; Петровский, 1983, 161):
И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна .
378
В тех же тонах выдержан ночной пейзаж «Облака в штанах»:
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!
Выражение проломать ночь наводит на мысль о дефлорации.
Оно согласуется с двумя абзацами «Войны и мира» (1915—
1916), в которых день и ночь предстают половыми партнерами
(Jakobson, 1953, 21; Жолковский, 1986, 261):
Солнце подымет рыжую голову,
запекшееся похмелье на вспухшем рте,
и нет сил удержаться голому —
взять
не вернуться ночам в вертеп.
И еще не успеет
ночь, арапка,
лечь, продажная,
в отдых,
в тень, —
на нее
раскаленную тушу вскарабкал
новый голодный день65.
Фаллическая символика — не единственный мотив
«Необычайного приключения», который берет начало в ранней
лирике Маяковского. О том, что поэзия может «излучать», он
также знал уже в молодости: Душу к одной зажечь! /
Стихами велеть истлеть ей! («Себе, любимому, посвящает эти
строки автор», 1916), — но тогда Маяковский верил, что его
поэтическое сияние способно затмить солнечное:
Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сиянием моим поить
379
Высказанное здесь презрение чрезвычайно симптоматично: Мы
солнца приколем любым на платье, / из звезд накуем
серебрящихся брошек («Владимир Маяковский», 1913); <...> Сол-
нце моноклем / вставлю в широко растопыренный глаз
(«Облако в штанах») и т. п. (ср. Харджиев, 1958, 402—403;
1973, 541—542; Петровский, 1983, 160—161)66. Длинный ряд
инвектив Маяковского очень полно выражает его чувство, о
котором Хлебников писал В.В. Каменскому — «дорогому,
милому солнцелову» (мая, 1914): «У зверя в желтой рубашке <...>
ненависть к солнцу; „наши новые души гудящие, как дуги" —
хвала молнии; „гладьте и гладьте черных кошек" — тоже хвала
молнии (искры <...>)» (1940, 370; Паперный, 1961, 225—
227; ср. Харджиев, 1967, 2325—2326). Впрочем, своего
отношения к солнцу Маяковский отнюдь не скрывал; Я,
бесстрашный, I ненависть к дневным лучам понес в веках, / с душой
натянутой, как нервы провода, / я — / царь ламп!
(«Владимир Маяковский»).
Ненависть рождает агрессию; отсюда мотив «раненого
солнца»: <...> у раненого солнца вытекал глаз («Адище города»);
Просочится солнце в крохотную щелку, / как маленькая
гноящаяся ранка <...> («Гимн ученому», 1915). Раненого —
добей! «Я и Наполеон»:
Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!
Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
То же — в «поэтохронике» «Революция» (1917):
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!
Настойчивость, с какой Маяковский повторял свои угрозы,
не следует относить целиком на счет собственной его
кровожадности. В эпических тонах убийство или смерть солнца не раз
380
описывал и сам Хлебников [в 1-м парусе «Детей Выдры»
(1911 —1913), в двух стихотворениях 1912 г. («Когда умирают
кони — дышат...» и «Пламена...»), в «орочонской повести»
«Око» (также 1912) и особенно — в неоконченной поэме
«Письмо в Смоленске» (1917): <...> Похороны трупа
Красного Солнца <...>; <...> Умерло солнце — выросли травы
<...>; <...> По морю трупов солнца <...> и др. (ср. Вагап,
1973, 33—37; 1993, 75—76 и др.; а также Афанасьев, 1865,
179—180, 187—189)]. «Ненависть к солнцу» (Хлебников), а
заодно и к луне («Дохлая луна» и т. п.), была «программной
темой <русского. — М.Ш.> футуризма, сформулированной в
„Победе над солнцем" (1913)» (Ронен, 1991 б, 40; ср. Радин,
1914, 45—46; Stapanian, 1986, 133; Pomorska, 1987, 52—53;
и др.): Лежитъ солнце въ ногахъ зарЪзанное!; Скрылось
солнце I Тьма обступила; — Мы вольные / Разбитое солнце.,.
I Здравствуетъ тьма и еще многое в том же духе
(Крученых, 1914а, 12, 13, 15). «Вакхическая песнь» Пушкина
(1825): Да здравствует солнце, да скроется тьма! —
процитирована здесь с точностью наоборот. По сути, «Победа над
солнцем» есть победа над прошлым, над временем (Erbslôh,
1976, 68; Pomorska, 1987, 53—54): Пушкин сброшен «с
парохода современности», «солнце нашей Поэзіи закатилось» (ср.
Ронен, 1991 б, 40)68. Свое отречение от Пушкина Крученых
выставляет напоказ: «Солнце желѣзнаго вѣка умерло! Пушки
сломаны<,> пали<,> и шины гнутся какъ воскъ передъ
взорами!»; «Надѣящійся на огонь пушки еще сегодня будеть сваренъ
съ кашей!» (1914а, 15)69.
Ярость и гнев на «неб самодержца» — это только
эвфемизм богоборчества (ср., например, Шкловский, 1940, 39;
Brown, 1973, 177—180 и др.; Stapanian, 1986, 165—167 и
др.; Гин, 1992, 104): А с неба смотрела какая-то дрянь /
величественно, как Лев Толстой («Еще Петербург»,
1914)70; Здесь <посредине мира. — М.Ш.> / живет /
Повелитель Всего — / соперник мой, / мой неодолимый
враг («Человек»). Солнце, луна и звезды — всего лишь
атрибуты Бога, и поэт не устает об этом время от времени
напоминать («За женщиной», 1913; «Послушайте!», 1914;
«Мое к этому отношение», 1915; «Лунная ночь», 1916; и
др.). Поэтому покушение на Бога: <...> а этому взял бы да
и дал по роже: / не нравится он мне очень («Мое к этому
отношение») — влечет за собой ту или иную солярную, лу-
нарную или астральную смерть, как в финале «Облака в
штанах»:
381
Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Но при всем том фамильярная злоба по отношению к небу,
солнцу и звездам была свойственна Маяковскому только в
1910-х годах. Это заметил В.Б. Шкловский: «Да, были ночные
стихи. Ночь и окровавленные карнизы. Ночью у Страстного
монастыря, ночная улица». «Но когда земля стала нашей, и
солнце стало нашим, он полюбил людей» (1940, 160, ср. 165—
166; Паперный, 1961, 227—228; Brown, 1973, 184—185;
Polie, 1988, 39, 69, 215 и др.)- Новое отношение к солнцу,
заявившее о себе громким «Люблю» (стихи 42—53, 74—80,
158—160), отчетливо прозвучало в восклицаниях совсем иного
рода, чем раньше: Грей! ИграйI Гори! / Солнце — наше
Солнце! («Мистерия-буфф», 1918); Свети! / Вовсю, небес солн-
цеглазье! («1-е мая», 1923); Выше, солнце! / Будешь
свидетель — / скорей I разглаживай траур у рта («Владимир
Ильич Ленин», 1924); Товарищ солнце <...> взойди и свети!
(«Первомайское поздравление», 1926). Маяковский, по
собственному выражению, превратился в «солнце-поклонника»,
запел «солнцу псалмы» («Мистерия-буфф»), и настойчивее
всего его «вакхические» призывы «светить всегда» и «везде»
прозвучали в «Необычайном приключении» (Па-перный,
1961, 231): <...> сияй во что попало! (ср. у Пушкина: Ты,
солнце святое, гори!). Тем самым своей фривольной
балладой о побежденной ночи и скрывшейся тьме — Какая тьма
уж тут? (98) — поэт одним махом перечеркнул все
прежние солнцеборческие и богоборческие стихи: Стена те-ней,
I ночей тюрьма / под солнц двустволкой пала — Да
382
здравствует солнце, да скроется тьма! (ср. Жолковский,
1986, 270)71.
Стремительная переоценка ценностей, отчуждавшая
Маяковского от собственной поэзии предреволюционных лет,
потребовала далеко не единственной автопародии. Перемена в
отношении к темам раннего творчества была пародийно декларирована
в стихотворении «После изъятий» (1922), непосредственным
поводом к созданию которого послужила экспроприация
церковных ценностей:
— Товарищ бог!
Меняю гнев на милость.
Видите —
даже отношение к вам немного переменилось:
называю «товарищем»,
а раньше —
«господин».
«Раньше» — значит в «Облаке в штанах» ( — Послушайте,
господин бог! и т. д.72). Обращение к богу в «После изъятий»
текстуально совпадает с «Необычайным приключением»:
Что же,
зайдите ко мне как-нибудь.
Снизойдите
с вашей звездной дали.
Ср. обращение к солнцу: <...> чем так, / без дела заходить,
I ко мне I на чай зашло бы! Если раньше герой лирики
Маяковского «врывался к Богу, боялся, что опоздал, плакал,
целовал ему жилистую руку» («Послушайте!»), то теперь он
зазывает бога к себе, будто Дон-Жуан — Командора73. Прежде
герой просил у Бога, «чтоб ' обязательно была звезда»
(«Послушайте!»), — нынче он требует, чтобы «посреди звезд»
бог напечатал «не трудящийся не ест» [кощунство невелико —
слова-то из Писания: «<...> кто не хочет трудиться, тот и не
ешь» (2 Фес. 3, 10)]:
У нас промышленность расстроена,
транспорт тож.
А вы
— говорят —
занимаетесь чудесами.
383
Сделайте одолжение,
сойдите,
поработайте с нами.
Подогретое социальным заказом ерничество приглушает
пародийность «молитвы», которая была насмешкой не столько над
Богом, сколько над собственным богоборчеством.
Этакое богоборчество в шутку, «объявленное» в «После
изъятий», присмотревшись, можно увидеть и в «Необычайном
приключении». В Библии сотворение мира, превращение Хаоса
в Космос представлено целым рядом последовательных
разграничений (ср. Шапир, 1990а, 145): в первый день Бог отделил
свет от тьмы, во второй — воду под твердью от воды, которая
над твердью, в третий — сушу от моря, в четвертый — день
от ночи. «И создал Бог <...> светило большее, для управления
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды
<...>» (Быт. 1, 16). Поэтому стирание границы между ночью
и днем есть нарушение важнейшего Божественного
установления: Я бы глаз лучами грыз ночи — / о, если б был я /
тусклый, I как солнце74. Ту же тему «Необычайное приключение»
решает уже не в трагическом, а в комическом ключе: <...>
хочет ночь I прилечь, / тупая сонница. / Вдруг — я / во всю
светаю мочь — / и снова день трезвонится. Так что
упомянутая рекламная шутка (Дайте солнце / ночью!) только
утилизировала «отходы производства» — программной издевкой на
темы четвертого дня творения стало на три года раньше
«Солнце в гостях у Маяковского»:
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть (96—97).
(Слово бывший получало особый оттенок в контексте
революционных переименований эпохи военного коммунизма.)75
Итак, «Необычайное приключение» переполнено
вывернутыми наизнанку мотивами прежних лет. Якобсон объяснял: «Он
очень растерялся, очень много не знал — что писать, как
писать? Если вы возьмете, например, стихи Есенину — это же
стихи себе!» (Янгфельдт, 1992, 41)76. Писать по-старому
Маяковский не мог и не хотел: «Оставляя написанное школам,
ухожу от сделанного и, только перешагнув через себя, выпущу
новую книгу» [из предисловия к сборнику «Все сочиненное
Владимиром Маяковским», 1919 (1959, 16)]. Не решаясь
отречься в открытую, Маяковский заслонялся от себя самого с
384
помощью литературных пародий. Одной из них явился
выполненный Р. Якобсоном перевод Маяковского на старославянский
язык (1918?): этот перевод — по контрасту с оригиналом —
должен был создать у аудитории впечатление понятности
стихотворения, самим автором названного «Ничего не понимают»
(см. Шапир, 1989, 67 и др.; ср. Спасский, 1935, 224). Но
более всего слова Якобсона справедливы по отношению к
«Необычайному приключению». После непрерывного подъема
1912—1917 гг. в лирическом творчестве Маяковского наступил
вызванный Октябрем кризис — поэта «заела Роста» (Brown,
1973, 208—209, 220—221). В 1918 г. он написал всего
восемь стихотворений, в 1919 г. — три, а в первой половине
1920-го — одно («Окна РОСТА» и подписи к рисункам и
плакатам в счет, разумеется, не идут). Перелом наступил летом
1920 г.: в июне —г июле появилось «Солнце», а вслед за ним
до конца года еще более десятка произведений. Очевидно, свою
катартическую роль «Необычайное приключение» сыграло,
помогая освободиться от неуверенности в себе и выйти на новую
дорогу. Но всячески прокламируемую устремленность вперед не
следует переоценивать: солнце, которое зовет поэта за собой,
само ходит по кругу. Куда идти, Маяковский не знал: его новое
слово было пародией на старое. Чтобы как-то приподнять свое
поэтическое настоящее, автор «Солнца» должен был заземлить
и высмеять трагический пафос прошлого. Этого он добивался и
добился с помощью «Тени Баркова». Вот почему закаты и
восходы «Необычайного приключения» наряду с историей
утраченного и обретенного вдохновения таят в себе также историю
утраченной и обретенной эрекции.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Вариант чернового автографа: <...> Ив эту дырку каждый раз
I Спускалось солнце мерно [стихотворные цитаты из Маяковского
приводятся по тексту Полного собрания сочинений в 13 т. (М.,
1955—1961)]. У Ходасевича формально и семантически близкий
образ: И заходя в дыру все ту же <= туже? — М.Ш>, / И восходя
на небосклон <...> — заключает описание «грошового казино»: И
под двуспальные напевы / На полинялый небосвод / Ведут
сомнительные девы I Свой непотребный хоровод; <...> Семь
звезд — Медведица Большая — / Трясут четырнадцать грудей и
т. п. («Звезды», 1925; Ходасевич, 1983, 386; ср. Ронен, 1991а, 92).
2 По-своему симптоматичен эпитет — ср. одну из «заветных
пословиц» В.И. Даля: Промѣняла лимонный цвѣтъ на алую плЬшь
13 Анти-мир русской культуры 385
(т. е. вышла за мужъ <...>) [Carey, 1972, 56; с уточнением по
копии П.А. Симони (fMS Russ 54, folder 1, sheet 3. The Houghton
Library, Harvard University, Cambridge, Mass.); Левинтон, 1988,
151 -- 152].
3 Ср. ритмико-фонетическое строение стиха из барковской «Оды
Приапу»: <...> Скотов ебал, зверей и птиц (Зорин, Сапов, 1992,
56). Забавно, что сходная амфиболия {Пустяк ее б приколотить)
была поначалу у Маяковского в стихотворении «Всем Титам и Власам
РСФСР», насыщенном метрическими, ритмико-синтаксическими и
рифменными реминисценциями из «Необычайного приключения» (о
«сдвигах» и т. п. у Маяковского см. Крученых, 1918а, [7, 9, 32, 34];
19186, 10).
4 По мнению О.Ронена (1990, 25 ел.; ср. Лурье, 1992, 156), сю-
жет с извлекаемым «из широких штанин» предметом — между
прочим, «краснокожим» и похожим на «двухметроворостую змею» —
был навеян письмом Тургенева, в котором тот извещал, что
направляется в Лейпциг с «пачпортом в кармане и хуем в штанах и только».
[Годом раньше лишение партийной книжки Маяковский приравнивал
к дефлорации: А билет партийный — / девственная плева. /
Лишайтесь. — I с Коти I пируя вечерочками («Стихотворение о
проданной телятине», 1928).] Любопытно, что хуй, пашпорт и штаны
связал еще Сумароков (?) в «стансах» «Происхождение подъячева,
или Изъяснение привычки их брать за работу»: <...> А у меня мой
хуй, так как перо с очином. / Я главной здесь судья в лесу. / В
пашпорт тебя внесу / Каким изволишь чином / И приложу
печать, I Изволь-ка раком стать! / Подъячей наклонился. /
Отстегивал штаны <...> и т. д. (Илюшин, 1992, 39 и вокруг).
Подцензурный вариант этой метафоры — в песни 5-й поэмы В. Майкова
«Елисей, или Раздраженный Вакх» (1770—1771): Герой купеческий
ямских героев бьет / И нумерит им всем на задницах пашпорты
<...> — ср. «Происхождение подъячева»: И тотчас размахнул
большой по жопе крюк, / То значит: секретарь — лесной бирюк, /
И тут же кстати / Мудами приложил большие две печати
(Илюшин, 1992, 40; см. еще Козловский, 1982, 26).
5 Ср. также рифму боле : поле в ХѴП строфе баллады (стихи
202, 204). За исключением специально оговоренных случаев, «Тень
Баркова» цитируется в редакции, опубликованной Ч.Дж. Де Микели-
сом (Puskin, 1990).
6 Н.И.Харджиев характеризует «Необычайное приключение» как
«многострофное стихотворение балладного строя» (1992, 28; ср. Та-
рановский, 1979, 118 примеч. 6).
7 Иногда четырех- и трехиктные ямбы с чередованием мужских и
женских клаузул у Маяковского входят в состав более сложных поли-
метрических структур [«Два не совсем обычных случая» (1921; стихи
101 —106), «Схема смеха» (1923; стихи 1—4, 25—28), «Грустная
повесть из жизни Филиппова» (1924; тексты 1, 4, 7—9), «Крым»
(1927; стихи 26—33), «Конь-огонь» (1927; стихи 28—33, 53—58,
89—92), «Прочти и катай в Париж и в Китай» (1927; стихи 42—
386
46, 49—60, 129—136), «Кем быть» (1928, стихи 230—236),
«Лыжная звезда» (1928; стихи 7—16); из восьми стихотворений
три — детские]. Кроме того, заметное место «балладные» вкрапления
этого размера занимают в поэмах «Человек» (1916—1917; стихи
197—216, 321—326, 918—924, ср. 7—14, 334—339, 370—376,
391—397, 422—428, 851—857, 913—917, 925—931 и др.) и «Про
это» (1923; стихи 563—567, 845—850, 1043—1050, 1213—1217,
1298—1303, ср. 212—224, 820—826, 1098—1106, 1127—1132,
1269—1275 и др.). Жанровый ореол этих фрагментов Маяковский
осознавал вполне: Взбуръся, баллад поэтовых тина («Человек»);
Немолод очень лад баллад <...> («Про это»); «Баллада Редингской
тюрьмы» (название-цитата первой части поэмы «Про это») и т. п.;
существенно, что строфа уайлдовской «The Ballad of Reading Goal»,
равно как ее перевод у Бальмонта (1904), сама состоит из сменяющих
друг друга четырех- и трехстопноямбических строк (см. Тренин, Хар-
джиев, 1934, 282; Паперный, 1958, 272—276; Колмогоров,
Кондратов, 1962, 68—69; Иванов, 1966, 245—248 и др.; Тарановский,
1979, 117—121, 123—124; Aizlewood, 1989, 146—147, 157—159,
161, 227, 234—236, 238, 244—245 и др.).
8 Ср. также слово дыра (<...> и в ту дыру, наверно, /
спускалось <...>) в эпиграмме Пушкина на А.А. Давыдову («Оставя честь
судьбе на произвол...» 1821): <...> Она лежит, глаз пухнет по
немногу, I Вдруг лопнул он; что ж <курва>? — «Слава Богу! /
Все к лучшему: вот новая дыра!» (Пушкин, 1937, 61).
9 На обложке книги «был рисунок художника Фидуса,
изображающий голого мужчину, которому слово „как,, в заглавии как раз
закрывает пенис» (Markov, 1988, 140, ср. 159).
10 Цитируется по тексту, установленному М.А. Цявловским
[верстку с правкой исследователя см.: Гос. музей А.С. Пушкина, КП
8057/СП 174, л. 1—12 (1-й пагинации); ср. Пушкин, 1991].
11 Цитируется по изданию: Зорин, Сапов, 1992, 114.
12 В тексте несноснейшее; по списку конца XVIII в. из собрания
помещика Молостова: превечно [Науч. б-ка им. Н.И. Лобачевского
(Казань). Отд. рукописей и редких книг, ед. хр. 2383, л. 48].
13 Цитируется по списку 1800-х годов (РНБ, Q.XIV.14, л.
137об.—138; ср. Зорин, Сапов, 1992, 131).
14 Вариант: за горой [РГАЛИ, ф. 74 (И.С.Барков), оп. 1, ед. хр.
13, л. 19об. (по списку первой половины 1820-х годов)].
15 Пародия на начало ломоносовской «Оды на день восшествия на
престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы
Петровны 1748 года»: Заря багряною рукою / От утренних спокойных
вод I Выводит с солнцем за собою / Твоей державы новый год. То
же место, учитывая опыт автора «Оды пизде», позднее переиначил
Пушкин (см. XXV строфу 5-й главы и примеч. 34 к «Евгению
Онегину»; ср. Лотман, 1980, 278). Сходство с пародией Чулкова —
в том, что обе свободны от стилистической критики Ломоносова: они,
по терминологии Ю.Н.Тынянова (1977, 290 и др.), не «пародийны»,
а «пародичны», в отличие от пародии Сумарокова (см. «Оду вздор-
13* 387
ную III», 1750-е годы, а также Вяземский, 1929, 62 примеч. 1;
Виноградов, 1935, 50).
16 Ср. у Пушкина: <...> Уж ночь с ебливою луной / На небо
наступала <...> (XX, 233—234) — это совпадение отметил еще
М.А. Цявловский [см.: Гос. музей А.С. Пушкина, КП 8057/СП
174, л. 109—ПО (2-й пагинации)]. Ср. также два стиха из сатиры
Горация «Приап» (I, VIII): <...> Как скоро солнце зракъ, сконнавъ
бЬгъ, скроетъ въ понтЬ, / Блудящая луна ѳзойдетъ на горизонтѣ
<...> (пер. И.Баркова). В том же переводе есть строки: <...> И
самая луна раздѣлась, зря сей срамъ, / И скрылась, чтобъ такихъ не
видѣть злодѣяний. Ср. также: Тогда увидев бег своих / Луна
стыдилась сраму их I И в мрак лице зардевшись скрыла (М.
Ломоносов, «Ода ... на взятие Хотина», 1739).
17 Цитируется по публикации А.А. Илюшина (Барков и др., 1992,
134). Ср. в поэме Майкова «Елисей» (песнь 3-я/- Когда Зевес изрек
богам что надлежало, / А солнце между тем в свой дом уже
въезжало, / И там ему жена готовила кровать, / На коей по
трудах ему опочивать, / И также жен честных начальница и
мати I Готовилась итти с Елесей ночевати <...> Между
«Елисеем» и «Тенью Баркова» обнаруживается немалое сюжетное
сходство: Елисей попадает в «рабочий дом», где содержат взаперти
проституток, и думает, что находится в монастыре, — Ебаков
попадает в женский монастырь, но нравы в нем — как в публичном доме;
Елисей несколько месяцев живет с престарелой начальницей, называя
ее в уме игуменьей, — Ебаков проводит часы и дни в постели
старухи-настоятельницы; жрец Вакха в «рабочем доме», а жрец Приапа в
монастыре неожиданно оказываются под стражей, но спасаются
чудесным образом [ср.: Гос. музей А.С. Пушкина, КП 8057/СП 174,
л. 83—84, 110 примеч. 1 (2-й пагинации)].
18 Цитируется по публикации А.А. Илюшина (Барков и др., 1992,
136). Ср. «Ode à Priape» А. Пирона: <...> Le Soleil fout Leucothoé
19 Более оправданным представляется вариант: в гневе (см. Хард-
жиев, 1992, 29).
20 Цитируется по тексту, установленному М.А. Цявловским.
Замечу попутно у Пушкина и Маяковского созвучную рифму на -ами/
-аме (мудами : пиздами — хламе : стихами).
21 Не исключено, что отзвуки «Тени Баркова» есть также в
«Грустной повести из жизни Филиппова»: Вдруг / озаряется лицо /
в тиши бразильской ночи <...> [ср.: И в келье тишина была... /
Вдруг стены пошатнулись <...>; <...> В тени угрюмой ночи
(XXI, 241—242, 246)] — и, может быть, в «„Общем" и „моем,,»:
И сразу I он I вскочил и взвыл [ср.: Готов вскочить с постели
поп <...> (V, 51)].
22 Параллель между Барковым и И. Зданевичем проводит
С. Сигов (1991, 215).
23 По устному свидетельству Н.И. Харджиева (август 1992),
заключительный стих первого двустишия и начальный стих второго зву-
388
чали так: <...> ибо это наказуется! и Не хотит Ядвига еться
<...> Впервые шутка про Ядвигу была опубликована К. Уоткинсом
(Watkins, 1975, 24) и затем перепечатана В. Козловским (1982, 43,
345) в качестве частушки (?) — с искажением текста и без указания
автора.
24 Конечно, на счету Маяковского были и другие опыты
литературного хулиганства. Например, в 1914 или 1915 г. он вписал в
альбом Е.П. Иванова:
Не таковский Маяковский,
Чтоб играть в девятый вал —
Мы <ебать> того хотели,
Кто нас пьяницей назвал!
[«Маяковский в молодости: Очерки и воспоминания Е.П. Иванова»,
1931 (Гос. музей В.В. Маяковского, № 31019, л. 33)]. Н.И. Хард-
жиев полагает, что этот текст действительно может принадлежать
Маяковскому, хотя в целом воспоминания Иванова отличаются особой
недостоверностью.
25 Летом 1956 г. P.O. Якобсон сообщал В.Д. Дувакину: «Хорошо
помню, как Маяковский просил принять участие в работе над азбукой
меня и приятеля нашего <...> Якова Герасимовича Гурьяна <...> Я
отчетливо помню, что написал двустишия на буквы „и" (Интеллигент)
и „н" (На смену), а также как-то участвовал в составлении двустишия
на „ч" (Чалдон). Кажется<,> Гурьяну принадлежит двустишие на
„у" (У „правых")» (R.O. Jakobson Papers. МС 72, box 41, folder 2.
Institute Archives and Special Collections, MIT Libraries, Cambridge,
Mass.; ср. Янгфельдт, 1992, 40).
26 Ее текст до сих пор полностью не опубликован: Арбуз на
солнце любит греться, / Армяшка в жопу любит еться; Жирафы в
Африке пасутся, / Жиды по пятницам ебутся; Пи эр в
квадрате — площадь круга, / Пизда утешит лучше друга и проч.
[цитируется по устным воспоминаниям М.Л. Левина (ноябрь 1991)].
27 Эти же строки перифразированы в «Азбуке для детей и для
литераторов»: Земля имѣетъ форму шара. / Забавно знать стихи
Изнара (Сатирикон. 1908. № 5. С. 11).
28 Цитируется по списку, любезно предоставленному мне
Я.С. Лурье (апрель 1993).
29 Ср. еще более короткое расстояние между исходной частушкой
и лефовской агиткой И. Терентьева «Чистушка о грязнушке» (1923):
Ты мне тетка не толкуй: / Продай шубу, купи смену вех <...>
(Крысодав. 1923. № 1. С. 10). Фольклорный прием нарушения
рифменного ожидания был взят на вооружение уже в заумных стихах
Терентьева (Никольская, 1988, 26).
30 Менее распространен вариант с мужскими окончаниями: Арбуз
на солнце любит зреть ets. (Kauffman, 1980, 273—274; Флегон,
1973, 66, 94, 103, 106, 242, 249, 345, ср. 69, 95, 101, 129, 181,
182, 196, 245, 251, 291, 310, 311, 330, 362, 380, 403); также суще-
389
ствовала, по-видимому, «Азбука» хореическая: Жизнь на радость
нам дана. / Жопа — фабрика говна (Флегон, 1973, 116).
31 За изучение «Солнца» в школе ратовал сам Маяковский (1961,
119).
32 Этот и два следующих фрагмента «Тени Баркова» цитируются
по тексту, установленному М.А. Цявловским.
33 Ср. стихотворение Цветаевой «Я — страница твоему перу...»
(1918); Левинтон, 1975, 82—83.
34 Об употреблении слов ломать и сломать в поэзии XIX в. см.
Илюшин, 1991, 13; Шапир, 1993, 75 примеч. 26.
35 Другой источник образа обнаружил СЮ. Мазур (1989, 35):
Потому и комсомол / Не влезает в строчку! [из стихотворения
П.Орешина «Комсомол» (Новый мир. 1926. № 5. С. 34),
напечатанного под одной обложкой с поэтическим некрологом «Сергею
Есенину» (1926)]. Ср., впрочем, самого Маяковского: А попробуй / в
ямб I пойди и запихни / какое-нибудь слово / например,
«млекопитающееся» («О поэтах», 1923). В том же стихотворении
«редактор» затыкает стихами дырку за дыркой.
36 В стихотворении «Долой! Западным братьям» (1929) поэты
прошлого названы лирозвонами (образовано по аналогии с обсценным
мудозвон).
37 Ср. также стихи Пушкина о половых контактах с музой
(«Монах», 1813; «Дельвигу», 1821; см. Шапир, 1993, 68, 76 примеч.
31) и футуристический манифест «Идите к черту!» (1914) — в нем
заемное вдохновение отождествляется с искусственной эрекцией: «Не
затем ли старички гладили нас по головке, чтобы из искр нашей
вызывающей поэзии наскоро сшить себе электропояс для общения с
музами?..» (Маяковский, 1961, 248). По свидетельству В. Каменского,
в Политехническом музее (11.XI. 1913) Маяковский говорил о
«половом бессилии» современных художественных «сект» (1931, 174).
38 Конечно, такой взгляд ничего не стоит мотивировать
романтической банальностью: «Любовь это жизнь, это главное. От нее
разворачиваются и стихи и дела и все пр.» [из чернового письма
Маяковского Л.Ю. Брик от 5.II. 1923 (Янгфельдт, 1982, ИЗ)]; «Вы думаете,
я пишу пером?» — «А чем же?» — «Вот чем. — Маяк хлопнул
себя между ног. — Пока я влюблен, я пою... Нет любви, нет и стихов»
[из воспоминаний о Маяковском; 1930—1940-е годы (Карпов, 1991,
322)]. И море, и Гомер — все движется любовью, — как сказал об
этом другой поэт. Нужно только помнить, насколько призрачной
бывает грань между духовным и физиологическим: Когда бы не Елена,
I Что Троя вам одна, ахейские мужи? (О.Мандельштам,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», 1915) — Когда бы не было
Елены, I Стояли бы троянски стены / Чрез многи тысячи веков,
I Пизда ея одна прельстила, / Всю Грецию на брань взмутила /
Против дарданских берегов [«Ода пизде» (Зорин, Сапов, 1992, 43;
ср. Барков, 1992, 24; Барков и др., 1992, 132)].
39 Ср. у Бальмонта: Я тебя лелЬялъ, какъ лелѣю стихъ <...>
[из стихотворения «Воздушное обладание» (1902), которое наряду с
390
шестью другими цензор велел за нескромность содержания удалить из
книги «Будем как Солнце» (Бальмонт, 1903, 143; Markov, 1988, 139,
173); может быть, единственный экземпляр издания без цензурных
изъятий сохранился в отделе рукописей и редких книг библиотеки
Гарвардского университета (The Houghton Library, Harvard University,
Cambridge, Mass.)].
40 Афиша группы «41°» (август 1918?) рекламировала
увеселительные капсули «прОТив зАсЫрЪЛаГо ФлирТа бОрЖоМСкиХ
<...> СЛоВОлОжНИкоВ4, » (воспроизведено на вклейке в книге
Терентьев, 1988). Наличие словоложников предполагает особый вид
полового извращения — словоложество: Вчемже будущее если не в
распутствѣ <...> Слов <...> (И.Терентьев, «Хрящ», 1918?).
41 Ср.: Одна оглядчивостъ пространства / Хотела от меня
поэм <...> Я вместе с далью падал на пол / И с нею ввязывался в
грех. I По барабанной перепонке / Несущихся, как ты, стихов /
Суди, имею ль я ребенка, / Равнина, от твоих пахов?
(Б. Пастернак, «Двадцать строф с предисловием», 1925).
42 Ср. в связи с этим соображения Э. Брауна о бисексуальности
молодого Маяковского (Brown, 1973, 105—106). Они опираются на
показания Б. Лившица, согласно которому Маяковский,
испытывавший недостаток мужской силы, «был убежден, что Рембо, настоенный
на аракчеевской казарме, должен дать потрясающий лечебный
эффект» (1933, 162).
43 См. послание «Дельвигу» (1821): <...> Но все люблю, мои
поэты, I Счастливый голос ваших лир. / Так точно, позабыв
сегодня I Проказы младости своей, / Глядит с улыбкой ваша сводня /
На шашни молодых блядей. Отметим также параллелизм в
стихотворении Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвой» (1810): <...>
Больнымъ бл<ядя>мъ, I Дурнымъ стихамъ / И счету нѣтъ
(Огарев, 1861, 193).
44 Почему-то особенно часто эротическую нагрузку получают
именно стиховедческие понятия: мужские и женские рифмы, пэон и
цезура, ускорение и замедление и мн. др. (Мазур, 1989; 1990; Ша-
пир, 1993, 78—79 примеч. 42), но в потенции для такого
истолкования открыт едва ли не любой термин стилистики и поэтики, например:
член сравнения (см. Ронен, 1991а, 91—92), поэтическая фигура,
климакс, задержание и т. п. [ср. епический в «Девичьей игрушке»
(Шапир, 1993, 65, 74—75 примеч. 22)]. В то же семантическое поле
попадает основополагающий термин всей формалистической поэтики:
обнажение приема. Ср. более общее наблюдение: «<...> всѣ ихъ
<критиков. — М.Ш.> требованиія (о ужас!) больше приложимы къ
женщинѣ, какъ таковой, чѣмъ к языку, как таковому» —«в самом
дѣлѣ: ясная, чистая (о конечно!)<,> честная, (гм! гм!) звучная<,>
пріятная, нѣжная (совершенно правильно!)<,> наконец — сочная<»>
колоритная<,> вы... <то есть «выпуклая». — М.Ш.> (кто там?
входите!)» (Крученых, Хлебников, 1913, 10; ср. Ронен, 1991а, 91).
45 Ср. «автометаописание» Маяковского: Каждое слово <...>
выбрасывается, как голая проститутка / из горящего публичного
391
дома («Облако в штанах», 1914—1915). В «Домике в Коломне»,
как и в «Разговоре с фининспектором», мужские и женские рифмы
помнят о разнице полов (Фомичев, 1984, 125, 129; Мазур, 1989,
35—36; 1990, 91 ел.): Ведь рифмы запросто со мной живут <! —
М.Ш.>; I Две придут сами, третью приведут. Совокупление с
рифмой воспел И.Терентьев: Апухтин над риѳмой плаКал / А я
Когда мнѣ сКучно / Любую сажаю на Лол <...> Дышу отчаянно
верчусь I И поКа мечусь / СмЬюсь у <может быть, и? — М.Ш.>
вообще юсь («Юсь», 1918?).
46 Ср. дополнительно: «Для меня <...> понятие о длинном и
толстом произведении не есть главное» [из выступления на Первой
Всесоюзной конференции пролетарских писателей, 9.1.1925 (Маяковский,
1959, 269)].
47 Эротический оттенок пушкинских сравнений и эпитетов отлично
почувствовал Вяземский, который поставил эти строки эпиграфом к
своему «Александрийскому стиху».
48 В обличий змеи (или червя) нередко изображался
персонифицированный половой орган (ср. Rancour-Laferriere, 1979, 38, 46). См., в
частности, «Стихи о советском паспорте», а также сонет Бальмонта
«Зверь», обнаруживающий отдельные, скорее всего случайные,
переклички с «Солнцем» (число сто сорок в первой строке, рифма к
слову лето, жаркие пары и др.): Сто сорокъ саженей чудовищной
длины, I Приди въ четырнадцать размѣрнаго сонета, / Тоть
земноводный звѣрь, онъ вѣдалъ только лѣто <...> Но жаркіе пары
пыланъемъ пронзены. / ЗдЬсь мало что уму. Но все для
сладострастья. I Хранилище любви, спинной его хребетъ / Былъ
длительная хоть, гдѣ размышленья нѣтъ (Бальмонт, 1917, 49).
49 Ср.: «Что Катенин нанизывает на конец строк? Я в его лета
низал не рифмы, а что-то покрасивее» (Батюшков, 1989, т. 2, 109; из
письма Н.И. Гнедичу от 1.XI. 1809).
50 Цитируется по изданию: Зорин, Сапов, 1992, 61.
51 Цитируется по изданию: Зорин, Сапов, 1992, 146, 153; ср.
Барков, 1992, 120, 125. В той же строфе «Домика в Коломне»
обращает на себя внимание межъязыковая парономасия. Стих, который
«повертывают» и которым «вертят», соотнесен со своим латинским
собратом: существительное versus образовано от глагола vertere
'поворачивать* и наряду со значением 'стих* имеет еще одно —
'поворот*. Ср. парономасию в другой строфе: <...> у Г<осподина>
Копа I Коптят его <...>; здесь же — потаенная рифма (Копа :
Езопа : Европа : ...): Насилу-то<,> рифмач я безрассудный<,> /
Отделался от сей октавы трудной.
52 Цитируется в редакции М.А. Цявловского.
53 Переплетение солярной и эротической семантики может быть, в
том числе, следствием паронимической аттракции, сталкивающей в
одном контексте слова Феб и еби (или однокорневые), например: <...>
Ебливая наступит ночь / Коль Феб в богиню запендрячит («Ода
пизде») и др. [ср. пушкинский миф о рождении Рифмы — дочери
Феба и нимфы Эхо («Рифма», 1830; ср. Фомичев, 1984, 125—126)].
392
54 Этому, по сути, не противоречит признание поэта-«кормилицы»:
Взбухаю стихов молоком / — и не вылиться <...> («Люблю»; см.
Flaker, 1992, 96—97; ср. «Оду Приапу»: <...> И чистого млека
льет ток). Ср. слова Маяковского в передаче П. Карпова: «<...> с
Незнакомкой я закрутил бы такой роман, что чертям было бы
тошно... Стихи полились бы как из ведра...» (1991, 322).
55 Ср. малоубедительные рассуждения Л.Ф. Кациса (1989, 91,
94) о влиянии Кузмина на Маяковского (указанное совпадение не
рассматривается).
56 Под видом цвет(к)а, стебелька, ростка, политого из мужской
лейки, совокупление описывали многие поэты начала века: Мнѣ
приглянулся сказочный цвЪтокъ, / И прикоснулся я къ нему невольно.
I И ты шепнула: «Милый! Больно, больно!» / Смотри! Ужь
сломанъ стебелекъ! [К.Бальмонт, «Первоцвет», 1902 (1903, 145;
Markov, 1988, 174); изъято по распоряжению цензора]; В день
Благовещенья <...> Цветок полит чахнущий <...> (М. Цветаева, «В
день Благовещенья...», 1916; см. Ронен, 1991а, 92); Корою твердой
кроет друг / Живительный росток (М. Кузмин, «Северный веер»,
посвященный Ю.И. Юркуну); «С о ф. M и х. Фомин золотой.
Лейка моя»; сразу вслед за этим ремарка: «Фомин ее целует и
берет. Она ему конечно отдается. Возможно, что зарождается еще
один человек» [А. Введенский, «Кругом возможно Бог», 1931 (1993,
140)] и т. п.
57 Ср.: «Все это давно было <...> когда ножей не знали, хуем
говядину рубили» (Афанасьев, 1992, 25).
58 Знакомство Маяковского со «срамными» загадками сомнению
не подлежит: с публикацией в «Лефе» статьи В.Б. Шкловского
(1924) был связан скандал, который позволил Н.Ф. Чужаку
утверждать, будто «журнал закрыт за порнографию» (Маяковский, 1959,
278; Шкловский, 1940, 210; Незнамов, 1963, 372; Реформатская,
1963, 663 примеч. 33).
59 Ср. еще одно прямое заимствование — сохранив размер,
Маяковский перифразировал знаменитую эпиграмму на М.А. Дондукова-
Корсакова (1835): Просидел / собраний двести. / Дни летят, /
недели тают... / Аж мозоль / натер / на месте, / на котором
заседают («Нагрузка по макушку», 1928).
60 Так, два последних стихотворения в «Занавешенных картинках»
Кузмина (Петроград, 1921; на обложке: Амстердам, 1920) —
«Размышления Луки» (1918) и «Начало повести» (1914) —
написаны под явным влиянием «Луки Мудищева» (вторая половина XIX
в.): это сказывается в тематике, в стилистике (грубая лексика вплоть
до мата), в имени и обрисовке персонажей [сваха-сводня и ненасытная
вдова-купчиха, сосед Лука с огромным вздыбленным членом: Не
спорю: член мой крепколобый / Покуда — все мое имущество <...>
(«Размышления Луки») — <...> Судьба его снабдила хуем, / Не
давши больше ни хуя («Лука Мудищев»; Илюшин, Красухин, 1992,
118)] и т. п. (ср. Марков, 1977, 367; Malmstad, Markov, 1977,
657—659). Примечательно, что Кузмин подумывал, не внедрить ли
393
матерную лексику в высокий жанр. Один из вариантов поэмы
«Форель разбивает лед» (1927): Мы этот май проводим как в
борделе: I Спустили брюки, сняли пиджаки, / И половину дня
стучим хуями I От завтрака до чая... (Malmstad, Markov, 1977, 691).
Этот текст соотносится с окончательным, как порнографическая
азбука — с «Советской»: Мы этот май проводим как в деревне: /
Спустили шторы, сняли пиджаки <...> И половину дня стучим
киями I От завтрака до чая.
61 Конечно, Маяковский — не первый поэт, вступивший в диалог
с солнцем: см., например, «Aus einem Briefe» (H.Heine, «Neue
Gedichte», Romanzen, 5; Петровский, 1983, 162); ср. также
«Счастье» Ходасевича (1905), «Молитву» Гумилева (1907) и мн. др.
62 Вот почему в стихотворении М. Кузмина Б.В. Горнунг увидел
«явные следы влияния Маяковского» (1990, 180): Я не брошу
метафоре: I «Ты — выдумка дикаря Патагонца», / Когда на
памяти, в придворном шлафоре / По Веймару разгуливало солнце
(«Гете», 1916). Ср.: Я брошу солнцу, нагло осклабившись <...> и т. п.
63 Установка на поэтическое мифотворчество не раз
провозглашалась Маяковским и его литературными соратниками: «<...> слово, его
начертание, его фоническая сторона, миф, символ — поэтическая
концепция»; «Связь нашей поэзии с мифом, в частности с русским, культ
языка как творца мифа» (тезисы доклада «О новейшей русской
поэзии», 1912); «Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая,
рождает миф, и наоборот» [манифест из альманаха «Садок судей II»,
1913 (Маяковский, 1955, 365; 1961, 246; ср. Якобсон, 1931, 11 и
др.); положение о связи мифа и слова попало в манифест по
настоянию Н.Бурлюка (Лившиц, 1933, 139; Нерлер, Парнис, Ковтун,
1989, 647 примеч. 34)].
64 Ср. «Тень Баркова»: <...> Уж ночь с ебливою луной / На
небо наступала <...>
65 Здесь Маяковский идет на поводу у грамматической формы: «В
славянских и других языках, где „день" мужского рода, а „ночь" —
женского, поэты представляют день любовником ночи» (Jakobson,
1959, 237; ср. 1953, 21; Афанасьев, 1865, 80—81).
66 Ср. у И.Северянина: <...> И позабывшемуся Солнцу /
Надменно плюну я в лицо! («Героиза», 1911).
67 Отголоски этого мотива есть у позднего Маяковского: <...> с
гильотины неба, / головой Антуанетты, / солнце / покатилось /
умирать на зданиях («Версаль», 1925).
68 В феврале 1914 г. P.O. Якобсон излагал свою теорию
Крученых: «<...> до сих пор поэзия была цветными стеклами (Glasbilder),
как стеклам солнечный свет, ей оромантиченный демонизм придавал
живописность сквозя». «Но вот победа над солнцем и эф-луч <...>
Стекло взорвано, из осколков создаем узоры ради освобождения»
[Jakobson, 1985, 5; ср. Хлебников, 1940, 370; цитируется с
исправлением неточностей по фотокопии оригинала (R.O. Jakobson Papers. МС
72, box 31, folder 24. Institute Archives and Special Collections, MIT
Libraries, Cambridge, Mass.)]. Ср. воспоминания M.B. Матюшина:
394
«Солнце старой эстетики было побеждено» (1976, 150, 152; Erbslôh,
1976, 71, 101). «Похороны солнца» с пушкинской темой связаны
также у Мандельштама: «Ночью положили солнце в гроб <...>» (из
статьи «Пушкин и Скрябин», 1915) и др. (см. Добрицын, 1990, 43
примеч. 8). Другой важный аспект этой темы — полемика с
символистами, и прежде всего с Бальмонтом, который был склонен видеть в
солнце неземной художественный идеал: «Будем как Солнце» (1902),
«Гимн Солнцу» (1903) и проч. (Крученых, 19146, 21; 1916, 11 — 12;
Erbslôh, 1976, 68, 71—72, 101, 112 и др.). Ср. также антиаполлони-
ческие мотивы «Флейты Марсия» Б.Лившица (1911).
69 Звуковые построения такого рода не противоречат стилистике
крученыховского либретто (Erbslôh, 1976, 84—88 и др.) [ср. у
Хлебникова: Умолкнул Пушкин, I О нем лишь в гробе говорят. / Что
ж! Эти пушки I Целуют новых песен ряд («Тверской», 1914; по
модели: «Когда говорят пушки, музы молчат»); <...> из Пушкина
трупов кумирных / Пушек наделаем сна («Война в мышеловке»,
1915—1919)]. В «Необычайном приключении» похожим образом,
эксплуатируя паронимию топонима и антропонима, Маяковский,
можно сказать, по имени называет автора «Тени Баркова»: Пригорок
Пушкино горбил <...> и т. д.
70 Ср.: А с неба на вой человечьей орды / глядит обезумевший
бог («Владимир Маяковский»).
71 Брататься со светилом Маяковский начал сразу же после
Октября, когда над страной «воссияло» солнце военного коммунизма:
Славься! I Сияй, /солнечная наша / Коммуна! («Мистерия-
буфф»). Этот расхожий социально-утопический образ [от «Города
Солнца» Кампанеллы до солнцеализма И. Терентьева («Первое
мая», 1923) и далее] фигурирует у Маяковского не только как
высший духовный символ, но и как затертый идеологический штамп. С
одной стороны: «Никому не дано знать, какими огромными солнцами
будет освещена жизнь грядущего» [из статьи «Открытое письмо
рабочим», 1918 (1959, 9)]. С другой: «Ты ей, главное, рассказала, как
мы шли вместе, плечо к плечу, навстречу солнцу коммунизма?»
[«Баня», 1929—1930 (1958, 330, ср. 312; см. также Паперный,
1961, 224—230, 232, 239—240, 253—258, и др.; Polie, 1988, 39,
69—71, 79—80, 135, 156—159, 167, 192—194, 202, 215, 228,
241—244, 251, 252, 265, 268, 299, 322)].
72 Ср. портреты господина бога в стихотворении «Вперед,
комсомольцы!» (1928).
73 Эти аллюзии еще прозрачнее в «Необычайном приключении»:
Дон-Жуан приглашает статую отужинать — Маяковский зовет
солнце на чашку чая; подобно Командору, оно принимает дерзкое
приглашение. В стихах: <...> само, / раскинув луч-шаги, / шагает солнце
в поле — слышны «Шаги командора» (1910—1912): Бой часов:
«Ты звал меня на ужин. / Я пришел. А ты готов?..» (А.Блок) —
ср.: Ты звал меня? / Чаи гони, / гони, поэт, варенье! (62—64).
Наконец, взаимное дружеское похлопывание по плечу — не пародия
ли на «пожатье каменной десницы» (А. Пушкин, «Каменный гость»,
395
1830)? В «Юбилейном» (1924) в роли Командора выступает уже сам
Пушкин: Маяковский протягивает руку памятнику, который с трудом
переносит могучее рукопожатие (Стиснул? / Больно? / Извините,
дорогой). Другая реминисценция из «Дон-Жуана» — человек и
статуя за одним столом: Мне приятно с вами, — / рад, / что вы у
столика (ср. Jakobson, 1937, 23—24). Цитатность этих образов была
намеренной: в 1916 г. Маяковский написал и уничтожил поэму «Дон-
Жуан» (Брик, 1934, 76; Шкловский, 1940, 164—165; Якобсон,
1956, 181; Харджиев, 1958, 415); ср.: <...> профланирую шагом
Дон-Жуана и фата («Кофта фата», 1914). 24.V.1956 в ИМЛИ
АН СССР на заседании сектора изучения жизни и творчества
В.В. Маяковского P.O. Якобсон рассказывал: «Как-то, когда я
спросил: чем ты занимаешься <...> он ответил: „Я переписываю мировую
литературу, переписал „Онегина", потом переписал „Войну и мир",
теперь переписываю „Дон-Жуана"<">. Но этот „Дон-Жуан", как
известно, не сохранился <...> и тема эта. не повторялась» [цитируется
по тексту стенограммы, сохранившемуся в личном архиве Якобсона
(R.O. Jakobson Papers. МС 72, box 34, folder 36. Institute Archives
and Special Collections, MIT Libraries, Cambridge, Mass.; ср.
Петровский, 1983, 154; Янгфельдт, 1992, 147—148 примеч. 176)]. Видимо,
Якобсон не во всем прав: скрытое присутствие темы «*Дон-Жуана»
ощущается во многих стихотворениях Маяковского.
74 Ср. «Тень Баркова»: <...> Сияя сквозь ночную тьму /
Огнистыми очами.
75 Ср. также: <...> ждут / тебя, инженер-электрик, / ночью /
солнцем I — вторым! — / запылай («Студенту пролетарию»,
1928) и стихотворение «Горящий волос» (1928), строки 65—71.
76 13.11.1927, выступая на диспуте «Упадочное настроение среди
молодежи (есенинщина)», Маяковский сказал: «<...> я, может быть,
лежал бы в том самом гробике, в котором лежит Сергей Есенин»
(1959, 533 ел.).
БИБЛИОГРАФИЯ
Адрианова-Перетц, 1935 — Адрианова-Перети, В. Символика
сновидений Фрейда в свете русских загадок // Академику
Н.Я. Марру. М.; Л., 1935. С. 497—505.
Арватов, 1979 — Арватов Б. О Маяковском [вторая половина
1920-х годов?]: Публ. Б.Янгфельдта // Slavica Hierosolymitana.
1979. Vol. IV. P. 331 — 341.
Артоболевский, 1940 — Артоболевский Г. Встреча на эстраде //
Маяковскому: Сб. воспоминаний и ст. Л., 1940. С. 156—165.
Афанасьев, 1865 — Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян
на природу: Опыт сравнит, изуч. слав, преданий и верований, в
связи с мифич. сказаниями др. родств. народов. М., 1865. Т. 1.
396
Афанасьев, 1992 — Русские заветные сказки А.Н. Афанасьева. М.;
Париж, 1992.
Бальмонт, 1903 — Бальмонт К. Д. Будем как Солнце: Кн.
Символов. [0-е изд.] М, 1903.
Бальмонт, 1917 — Бальмонт К. Д. Сонеты Солнца, меда, и Луны:
Песня миров. М., 1917.
Бальмонт, 1918 — Бальмонт К. Солнечная сила [1917] //
Бальмонт К.Д. Собр. лирики. М., 1918. Кн. 5: Будем как Солнце:
Кн. символов. С. 11 —18.
Барков, 1992 — Барков И. Девичья игрушка / Сост. и примеч.
B. Сажина. СПб., 1992.
Барков и др., 1992 — Барков И. и др. Из книги «Девичья
игрушка»: [Публ. А.А. Илюшина] // Комментарии. 1992. № 1.
C. 131 — 175.
Брик, 1934 — Брик Л.Ю. Из воспоминаний // Альманах с
Маяковским. М., 1934. С. 59—79.
Брик, 1940 — Брик Л. Маяковский и чужие стихи // Знамя. 1940.
Кн. 3. С. 161 — 182.
Введенский, 1993 — Введенский А. Полное собрание произведений:
В 2 т. М., 1993. Т. 1: Произведения 1926—1937.
Виноградов, 1935 — Виноградов В.В. Язык Пушкина: Пушкин и
история рус. лит. яз. М.; Л., 1935.
Винокур, 1930 — Винокур Г. Вольные ямбы Пушкина [1928] //
Пушкин и его современники: Материалы и исслед. Л., 1930. Вып.
ХХХѴІІІ/ХХХІХ. С. 23—36.
Вяземский, 1929 — Вяземский П.А. Старая записная книжка / Ред.
и примеч. Л. Гинзбург. Л., 1929.
Гин, 1985 — Гин Я.И. Грамматический род как категория
поэтического языка (на материале рус. яз.): Автореф. дисс. ... канд. филол.
наук. Л., 1985.
Гин, 1992 — Гин Я.И. Поэтика грамматического рода.
Петрозаводск, 1992.
Горнунг, 1990 — Горнунг Б. Из воспоминаний о Мих. Ал. Кузмине
[1976] // Пятые Тыняновские чтения: Тез. докл. и материалы
для обсуждения. Рига, 1990. С. 172—186.
Гофман, 1940 — Гофман В. Поэт-языкотворец // Маяковскому: Сб.
воспоминаний и ст. Л., 1940. С. 324—346.
Добрицын, 1990 — Добрицын А.А. Слово-логос в поэзии
Мандельштама: («белое пламя» и «сухая кровь») // Quinquagenario
Alexandri Il'usini oblata. M., 1990. С. 39—44.
Жолковский, 1986 — Жолковский А.К. О гении и злодействе, о
бабе и о всероссийском масштабе: (Прогулки по Маяковскому) //
Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Мир автора и структура текста:
Ст. о рус. лит. Tenafly, N.J., 1986. Р. 255—278.
Зорин, Сапов, 1992 — Девичья игрушка, или Сочинения господина
Баркова / Изд. подгот. А. Зорин и Н. Сапов. М., 1992.
Иванов, 1966 — Иванов В.В. Ритм поэмы Маяковского «Человек» //
Poetics; Poetyka; Поэтика. Warszawa, 1966. Vol. И. P. 243—276.
397
Илюшин, 1991 — Илюшин А.А. Ярость праведных: Заметки о не-
пристойн. рус. поэзии XVIII—XIX вв. // Лит. обозрение. 1991.
№ П. С. 7—14.
Илюшин, 1992 — Из сборника «Девичья игрушка»: [Публ. и
примеч. А.А. Илюшина] // Три века поэзии русского Эроса: Публ.
и исслед. [М.; Тарту], 1992. С. 23—59. Без подписи.
Илюшин, Красухин, 1992 — «Летите, грусти и печали...»: Неподцен-
зур. рус. поэзия XVIII—XIX вв. / Изд. подгот. А.А. Илюшин,
К.Г. Красухин. М., 1992.
Каменский, 1931 — Каменский В. Путь энтузиаста. М., 1931.
Карпов, 1991 — Карпов П. Пламень: Роман; Русский ковчег:
Кн. стихотворений; Из глубины: Отрывки воспоминаний. М.,
1991.
Катанян, 1940 — Письма [Маяковского] к Л.Ю. Брик: [Предисл. к
публ. и примеч. В. Катаняна] // Маяковский: Материалы и
исслед. М., 1940. С. 41—54.
Кацис, 1989 — Кацис Л. «В курганах книг, похоронивших стих...»:
К творч. истории первого вступ. к поэме «Во весь голос» //
Вопр. лит. 1989. № 11. С. 88—105.
Кацис, 1990а — Каицс Л.Ф. «Обычно заборные надписи плоски...»:
(О «сортирных» эпиграммах И. Сельвинского на Маяковского)
// Quinquagenario Alexandri H'usini oblata. M., 1990. С. 45—52.
Кацис, 19906 — Кацис Л.Ф. Поэт-ассенизатор у Маяковского и
вокруг: (Из истории образа) // Даугава. 1990. № 10. С. 95—104.
Козловский, 1982 — Новая неподцензурная частушка / Сост.
B. Козловский. N. Y., 1982.
Колмогоров, Кондратов, 1962 — Колмогоров А.Н., Кондратов A.M.
Ритмика поэм Маяковского // Вопр. языкознания. 1962. № 3.
C. 62—74.
Крученых, 1914а — Победа над солнцем: Опера А. Крученых; Муз.
М. Матюшина. [СПб., 1914.]
Крученых, 19146 — Крученых А. Стихи В.Маяковского: Выпыт.
[СПб.], 1914.
Крученых, 1916 — Крученых А. Сонные свистуны // Крученых А.,
Клюн И., Малевич К. Тайные пороки академиков. [М.], 1916.
С. 1—20.
Крученых, 1918а — Крученых А. Малахолия в капоте. [Тифлис,
1918.]
Крученых, 19186 — Крученых А. Ожирение роз: О стихах Теренть-
ева и др. [Тифлис, 1918.]
Крученых, 1919а — Крученых А. Азеф-Иуда-Хлебников: (Выпыт)
[1918?] // Крученых А. Миллиорк. Тифлис, 1919. С. 19—32.
Крученых, 19196 — Крученых А. Лакированное трико. [Тифлис,
1919.]
Крученых, 1922 — Крученых А. Сдвигология русского стиха: Трах-
тат обижальный (Трактат обижальный и поучальный). М., 1922.
Крученых, 1924 — 500 новых острот и каламбуров Пушкина /
Собр. А.Крученых. М., 1924.
398
Крученых, 1925 — Леф<-> агитки Маяковского <,> Асеева<»>
Третьякова: Агит-заметки А.Крученых. М., 1925.
Крученых, 1930 — Живой Маяковский: Разговоры Маяковского /
Записал и собр. А.Крученых. М., 1930.
Крученых, Хлебников, 1913 — Крученых А, Хлебников В. Слово
как таковое. [М., 1913.]
Левинтон, 1975 — Левинтон ГЛ. Замечания к проблеме
«литература и фольклор» // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1975.
Вып. 365. С. 76—87.
Левинтон, 1977 — Левинтон ГЛ. [Рецензия] // Russ. Ling. 1977.
Vol. 3. № 3/4. P. 375—376. — Рец. на ст.: Альтман
М.С. Стилевые и сюжетные реминисценции // Русская
литература XIX в.: Вопросы сюжета и композиции: II межвуз. сб.
Горький, 1975. С. 115—122.
Левинтон, 1988 — Левинтон ГЛ. К вопросу о «малых»
фольклорных жанрах: их функции, их связь с ритуалом // Этнолингвистика
текста: Семиотика малых форм фольклора: Тез. и предварит,
материалы к симпоз. М., 1988. Ч. I. С. 148—152.
Левинтон, 1991 — Левинтон ГЛ. Достоевский и «низкие» жанры
фольклора [1975, 1982, 1991] // Лит. обозрение. 1991. № И.
С. 46—53.
Левинтон, 1993 — Левинтон Г. Заметки о Хлебникове // Русский
авангард в кругу европейской культуры: Междунар. конф.: Тез. и
материалы. М. 1993. С. 125—137.
Лившиц, 1933 — Ливший, Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1933.
Лотман, 1980 — Лстман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений
Онегин»: Комментарий. Л., 1980.
Лурье, 1992 — Лурье М.Л. О школьной скабрезной поэзии //
Школьный быт и фольклор. Таллинн, 1992. Ч. I: Учеб. материал
по рус. фольклору. С. 151 —161.
Мазур, 1989 — Мазур СЮ. Вл. Маяковский: стихи о рифме:
(Анатомия и физиология тропов в лирич. сюжете) // Проблемы
поэтического языка. М., 1989. Т. I: Общ. и рус. стиховедение.
С. 34—36.
Мазур, 1990 — Мазур СЮ. Эротика стиха: Герменевт. этюд //
Даугава. 1990. № 10. С. 88—94.
Марков, 1977 — Марков В. Поэзия Михаила Кузмина // Кузмин
М.А. Собр. стихов. Munchen, 1977. [Bd.] Ill: Несобранное и нео-
публ.; Приложения; Примечания; Ст. о Кузмине / Hrsg., eingel.
und komment. von J.E. Malmstad und V. Markov. S. 321—426.
Матюшин, 1976 — Русские кубо-футуристы [1932—1933]:
Воспоминания M.В. Матюшина; Подгот. текста, предисл. и примеч.
Н.Харджиева //К истории русского авангарда. Stockholm, 1976.
Р. 129—158.
Маяковский, 1955 — Маяковский В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М.,
1955. Т. 1: 1912—1917.
Маяковский, 1958 — Маяковский В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М.,
1958. Т. 11: Киносценарии и пьесы. 1926—1930.
399
Маяковский, 1959 — Маяковский В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М.,
1959. Т. 12: Ст., заметки и выступления. Ноябрь 1917—1930.
Маяковский, 1961 — Маяковский В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М.,
1961. Т. 13: Письма и др. материалы.
Незнамов, 1963 — Незнамов П.В. Маяковский в двадцатых годах
// В. Маяковский в воспоминаниях современников. [М.], 1963.
С. 355—391.
Нерлер, Парнис, Ковтун, 1989 — Нерлер /7.М., Парнис А.Е., Ков-
тун Е.Ф. Примечания // Лившиц Б. Полутораглазый стрелец:
Стихотворения; Переводы; Воспоминания. Л., 1989. С. 553—707.
Нечаев, 1970 — В.В. Маяковский на диспуте «Вопросы пола и брака
в жизни и в литературе»: Публ. В.П. Нечаева // Встречи с
прошлым. М., 1970. Вып. I. С. 178—186.
Никольская, 1982 — Никольская Т. Игорь Терентьев в Тифлисе //
L'avanguardia a Tiflis: Studi, ricerche, cronache, testimonianze,
documenta Venezia, 1982. P. 189—209.
Никольская, 1988 — Никольская T. Игорь Терентьев — поэт и
теоретик «Компании 41°» // Терентьев И. Собр. соч. / Сост.,
подгот. текста, биогр. справка, вступ. ст. и коммент. М. Марцаду-
ри и Т. Никольской. Bologna, 1988. Р. 22—36.
Огарев, 1861 — Русская потаенная литература XIX столетия.
Лондон, 1861. Отд. 1: Стихотворения, ч. 1 / С предисл.
Н. Огарева.
Паперный, 1958 — Паперный З.С. Маяковский в работе над поэмой
«Про это»: (Три рукописи поэмы) // Лит. наследство. М., 1958.
Т. 65: Новое о Маяковском. С. 217—284.
Паперный, 1961 — Паперный 3. Поэтический образ у Маяковского.
М., 1961.
Петровский, 1983 — Петровский М. Владимир Маяковский и
Генрих Гейне // Вопр. лит. 1983. № 7. С. 154—180.
Петровский, 1991 — Петровский М. Смех под знаком
Апокалипсиса: (М. Булгаков и «Сатирикон») // Вопр. лит. 1991. № 5.
С. 3—34.
Пушкин, 1937 — Пушкин. Полное собрание сочинений. [М.; Л.],
1937. Т. 13: Переписка. 1815—1827.
Пушкин, 1991 — Пушкин А.С. Тень Баркова: [Ред. текста
М.А. Цявловского] // Лит. обозрение. 1991. № 11. С. 26—27.
Радин, 1914 — Радин Е.П. Футуризм и безумие: Параллели
творчества и аналогии нового яз. кубо-футуристов. СПб., 1914.
Райт, 1963 — Райт Р. «Только воспоминания»: (Отрывки из
книги) // В.Маяковский в воспоминаниях современников. [М.],
1963. С. 236—278.
Реформатская, 1963 — Реформатская Н.В. Примечания //
B. Маяковский в воспоминаниях современников. [М.], 1963.
C. 613—685.
Ронен, 1990 — Ронен О. Из наблюдений над стихами эпохи
«Промежутка» // Пятые Тыняновские чтения: Тез. докл. и
материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 23—26.
400
Ронен, 1991а — Ронен О. «Бедные Изиды»: Об одной вольной
шутке Осипа Мандельштама // Лит. обозрение. 1991. № 11.
С. 91—92.
Ронен, 1991 б — Ронен О. Заумь за пределами авангарда // Лит.
обозрение. 1991. № 12. С. 40—43.
Сигов, 1991 — Сигов С. Онолатрическая мистерия Ильи Здане-
вича // Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре.
Bern; Berlin; Frankfurt а.М.; New York; Paris; Wien, 1991.
S. 209—221.
Спасский, 1935 — Спасский С. Встречи // Лит. современник. 1935.
№ 3. С. 207—224.
Тарановский, 1979 — Тарановский К.Ф. Поэма Маяковского «Про
это»: Лит. реминисценции и ритмич. структура // Slavica
Hierosolymitana. 1979. Vol. IV. P. 114—125.
Терентьев, 1919 — Терентпъев [И.] 17 ерундовых орудий. Тифлис,
1919.
Терентьев, 1920 — Терентьев [И.] Трактат о сплошном неприличии.
[Тифлис, 1920.]
Терентьев, 1988 — Терентьев И. Собрание сочинений / Сост.,
подгот. текста, биогр. справка, вступ. ст. и коммент. М. Марцаду-
ри и Т. Никольской. Bologna, 1988.
Топоров, 1986 — Топоров В.Н. О некоторых теоретических аспектах
этимологии // Этимология 1984. М., 1986. С. 205—211.
Тренин, 1937 — Тренин В.В. В мастерской стиха Маяковского. М.,
1937.
Тренин, Харджиев, 1934 — Тренин В., Харджиев H. Маяковский о
качестве стиха // Альманах с Маяковским. М., 1934. С. 257—
302.
Тренин, Харджиев, 1935 — Тренин В., Харджиев Н. Поэтика
раннего Маяковского: (Материалы) // Лит. критик. 1935. Кн. 4.
С. 180—189.
Тынянов, 1977 — Тынянов Ю.Н. О пародии [1929] // Тынянов
Ю.Н. Поэтика; История литературы; Кино. М., 1977. С. 284—
310.
Флегон, 1973 — Флегон А. За пределами русских словарей. London,
1973.
Фомичев, 1984 — Фомичев С.А. Октавы «Домика в Коломне»
Пушкина: (строфа и сюжет) // Проблемы теории стиха. Л.,
1984. С. 125—131.
Харджиев, 1958 — Харджиев Н.И. Заметки о Маяковском //
Лит. наследство. М., 1958. Т. 65: Новое о Маяковском.
С. 397—430.
Харджиев, 1967 — Харджиев Н. Маяковский и Хлебников // То
Honor Roman Jakobson: Essays on the Occasion of His Seventieth
Birthday. The Hague; Paris, 1967. Vol. HI. P. 2301—2327.
Харджиев, 1973 — Харджиев H. Заметки о Маяковском // Slavic
Poetics: Essays in Honor of K.Taranovsky. The Hague; Paris, 1973.
p. 537—547.
401
Харджиев, 1976 — Харджиеѳ H. Поэзия и живопись: (Ранний
Маяковский) //К истории русского авангарда. Stockholm, 1976. Р.
7—84.
Харджиев, 1992 — Харджиев Н.И. Необычайные приключения
поэмы Маяковского // Рус. речь. 1992. № 4. С. 26—30.
Хлебников, 1940 — Хлебников В. Неизданные произведения / Ред.
и коммент. Н. Харджиева и Т. Грица. М., 1940.
Ходасевич, 1983 — Ходасевич В. Собрание стихов: В 2 т. / Ред. и
примеч. Ю. Колкера. Paris, 1983. Т. 2.
Циглер, 1982 — Циглер Р. Поэтика А. Е. Крученых поры «41°».
Уровень звука // L'avanguardia a Tiflis: Studi, ricerche, cronache,
testimonianze, documenti. Venezia, 1982. P. 231—258.
Чуковский, 1979 — Чукоккала: Рукопис. альманах К.Чуковского.
M., 1979.
Шапир, 1989 — Шапир М.И. Русская тоника и старославянская
силлабика: Вл.Маяковский в пер. Р. Якобсона // Даугава. 1989.
№ 8. С. 65—79.
Шапир, 1990а — Шапир М. Имя и миф: О «Пробуждении»
Александра Страхова // Русская альтернативная поэтика. М., 1990.
С. 142—156.
Шапир, 19906 — Шапир М.И. Комментарии // Винокур Г.О.
Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М., 1990.
С. 256—365.
Шапир, 1990в — Шапир М.И. Язык быта / языки духовной
культуры // Russ. Ling. 1990. Vol. 14. № 2. P. 129—146.
Шапир, 1993 — Шапир М.И. Из истории русского «балладного
стиха»: Пером владеет как елдой // Russ. Ling. 1993. Vol. 17.
№ 1. p. 57—84.
Шапир, 1994 — Шапир М.И. M.M. Кенигсберг и его
феноменология стиха // Russ. Ling. 1994. Vol. 18. № 1. P. 73—113.
Шкловский, 1924 — Шкловский В. Техника романа тайн // Леф.
1924. № 4. С. 125—155.
Шкловский, 1940 — Шкловский В. О Маяковском. М., 1940.
Якобсон, 1923 — Якобсон Р. О чешском стихе преимущественно в
сопоставлении с русским. [Берлин], 1923.
Якобсон, 1931 — Якобсон Р. О поколении, растратившем своих
поэтов [1930] // Смерть Владимира Маяковского. Берлин, 1931.
С. 7—45.
Якобсон, 1956 — Новые строки Маяковского: Приготовил к печати
Р. Якобсон // Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956.
С. 173—206.
Якобсон, 1959 — Якобсон Р. За и против Виктора Шкловского //
Intern. J. Slav. Ling, and Poetics. 1959. Vol.I/II. P. 305—310.
Рец. на кн.: Шкловский В. За и против: Заметки о Достоевском.
М., 1957.
Янгфельдт, 1982 — В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик: Переписка
1915—1930 / Сост., подгот текста, введ. и коммент.
Б.Янгфельдта. Stockholm, 1982.
402
Янгфельдт, 1992 — Якобсон-будетлянин: Сб. материалов / Сост.,
подгот. текста, предисл. и коммент. Б. Янгфельдта. Stockholm,
1992.
Aizlewood, 1989 — Aizlewood R. Verse Form and Meaning in the
Poetry of Vladimir Majakovskii. L., 1989.
Baran, 1973 — Baran H. Xlebnikov and the Mythology of the Oroches
// Slavic Poetics: Essays in Honor of K.Taranovsky. The Hague;
Paris, 1973. P. 33—39.
Baran, 1993 — Baran H. Khlebnikov's Solar Myth Reexamined //
Elementa. 1993. Vol. 1, № 1. P. 75—88.
Blinkiewicz, 1911 — Blinkiewicz B. Russisches sexuelles und
skatologisches Glossar // Anthropophyteia. 1911. Bd. VIII. S. 24—
27.
Brown, 1973 — Brown E.G. Mayakovsky: A Poet in the Revolution.
Princeton, 1973.
Carey, 1972 — Carey C. Les proverbes erotiques russes: Études de
proverbes recueillis et non-publiés par Dal' et Simoni. The Hague; P.,
1972.
Erbslôh, 1976 — Erbslôh G. «Pobeda nad solncem». Ein futuristisches
Drama von A.Krucenych: Ubers. und Komment. (mit einem
Nachdruck der Qriginalausgabe). Munchen, 1976.
Flaker, 1992 — Flaker A. Avant-garde et érotisme // Amour et
érotisme dans la littérature russe du XX siècle. Bern; Berlin; Frankfurt
a. M.; New York; P.; Wien, 91 — 100.
Jakobson, 1937 — Jakobson R. Socha v symbolice Puskinovë // Slovo a
slovesnost. 1937. Roc. III, c. 1. S. 2—24.
Jakobson, 1953 — Jakobson R. The Kernel of Comparative Slavic
Literature // Harvard Slav. Stud. 1953. Vol. I. P. 1—71.
Jakobson, 1959 — Jakobson R. On Linguistic Aspects of
Translation // On Translation. Cambridge, Mass., 1959. P. 232—
239.
Jakobson, 1985 — Jakobson R. From Alyagrov's Letters // Russian
Formalism: A Retrospective Glance: A Festschrift in Honor of
V.Erlich. New Haven, 1985. P. 1—5.
Kauffman, 1980 — Kauffman C.A. A Survey of Russian Obscenities and
Invective Usage // Maledicta. 1980. Vol. IV № 2. P. 261—289.
Levi-Strauss, 1967 — Lévi-Strauss Ç, Le sexe des astres // To Honor
Roman Jakobson: Essays on the Occasion of His Seventieth Birthday.
The Hague; P., 1967. Vol. II. P. 1163—1170.
Malmstad, Markov, 1977 — Malmstad J.E., Markov V. Примечания
// Кузмин M.А. Собр. стихов. Munchen, 1977. [Bd.] Ill:
Несобранное и неопубл.; Приложения; Примечания; Ст. о Кузмине /
Hrsg., eingel. und komment. von J.E.Malmstad und V.Markov. S.
615—741.
Markov, 1988 — Markov V. Kommentar zu den Dichtungen von
K.D.Balmont. 1890—1909. Kôln; Wien, 1988.
Polic, 1988 — Polic B. Poetika i politika Vladimira Majakovskog:
Utopija, distopija, antiutopija. Zagreb, 1988.
403
Pomorska, 1987 — Pomorska К. Majakovskij and the Myth of
Immortality in the Russian Avant-Garde // The Slavic Literatures
and Modernism. Stockholm, 1987. P. 49—69.
Puskin, 1990 — Puskin A. L'ombra di Barkôv: Ballata / A cura di
C.G.De Michelis. Venezia, 1990.
Rancour-Laferriere, 1987 — Lafenière D. Five Russian Poems: Exercises
in a Theory of Poetry. Englewood, N.J., 1977.
Rancour-Laferriere, 1979 — Rancour-Laferriere D. Some Semiotic
Aspects of the Human Penis // Versus. 1979. Vol. 24. P. 37—82.
Stahlberger, 1964 — Stahlberger L.L. The Symbolic System of
Majakovskij. The Hague; L.; Paris, 1964.
Stapanian, 1986 — Stapanian J.R. Mayakovsky's Cubo-Futurist Vision.
Houston, 1986.
Watkins, 1975 — Watkins C. La famille indo-européenne de grec opxiç:
linguistique, poétique et mithologie // Bull. Soc. linguist. 1975. Vol.
LXX, fasc. 1. P. 11—26.
Ziegler, 1978 — Ziegler R. Aleksej Krucenych als Sprachkritiker //
Wien. slav. Jb. 1978. Bd 24. S. 286—310.
Ziegler, 1985 — Ziegler R. Группа «41°» // Russ. Lit. 1985. Vol.
XVII. № I. P. 71—86.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Успенский Б~А. Мифологический аспект русской экспрессивной
фразеологии. — Впервые в виде двух статей: Studia Slavica.
Budapest, 1983. T. 29. Fasc. 1/4; 1987. T. 33. Fasc, 1/4. В
настоящем издании печ. в отредактированном виде.
Левин Ю.И. Об обсценных выражениях русского языка. —
Впервые: Russian Linguistics. 1986. Vol. 10.
Зорин А.Л. Легализация русской обсценной лексики и ее
культурные последствия. — Впервые: Stanford Slavic Studies.
Vol. 7. Stanford, 1993. В настоящем издании печ. в
отредактированном виде.
Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе русской
культуры конца XVIII — начала XIX века. — Впервые: Ученые
записки Тартуского гос. университета. Вып. 546 / Труды по
знаковым системам: Семиотика культуры. Т. 13. Тарту,
1981.
Белоусов А.Ф. «Вовочка». — Печ. впервые.
Успенский Б.А. Предисловие к «Русским заветным сказкам»
А.Н. Афанасьева. — Печ. впервые.
Шапир М.И. Из истории «пародического балладного стиха»: 1.
Пером владеет как елдой. — Впервые: Russian Linguistics.
1993. Vol. 17. Печ. с исправлениями и дополнениями.
Левинтон Г.А. Достоевский и «низкие» жанры фольклора. —
Впервые: Wiener slawistisher Almanach. Wien, 1982. Bd. 9.
Перепечатано в исправленном и дополненном виде:
Литературное обозрение. 1991. № 11. Печ. с исправлениями и
дополнениями.
Богомолов Н.А. «Мы — два грозой зажженные ствола». —
Впервые: Литературное обозрение. 1991. № 11. Печ. с
исправлениями и дополнениями.
Павлова М.М. Из творческой прозы предыстории «Мелкого
беса». Алголагнический роман Федора Сологуба. —
Впервые: De Visu. 1993. № 9 (10). Печ. с исправлениями и
дополнениями.
Шапир М.И. Из истории «пародического балладного стиха»: 2.
Вставало солнце ало. — Печ. впервые.
О СЕРИИ
«РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛАДОМИР»*
Мне стало известно, что издательство «Ладомир» обвиняется
в том, что издаваемая им серия «Русская потаенная литература»
оскорбляет общественную нравственность. Я не имею отношения
к изданию этой серии, однако, будучи филологом, не могу быть
к этому безразличен.
В серии вышли три книги: Барков, продолжатели Баркова и
нецензурная поэзия второй половины XIX в. (круг
«Современника», круг П. Шумахера). Анонсированы еще две книги:
нецензурная поэзия первой половины XIX в. и эротический
фольклор (обряды, лирика). Книги снабжены историко-
литературными вступлениями и текстологическими
комментариями, иногда очень пространными; заявлен также сборник истори-
ко- и теоретико-культурных статей «Анти-мир русской
культуры», некоторые из них уже печатались (на Западе) и
пользуются признанием и уважением среди ученых. Таким
образом, речь идет о научном издании целого пласта памятников
русской словесности, которые долгое время считались
непристойными и не подлежали научному обсуждению.
Важность такого издания не подлежит сомнению. Значение
этих памятников — не столько эстетическое, сколько историко-
культурное. Художественными достоинствами, на современный
вкус, среди них выделяются немногие; сейчас, поначалу, они
привлекают общее внимание просто тем, что в них печатаются
всеми буквами слова общеизвестные, но до сих пор в печати
запретные; но скоро это наскучит, и волнение вокруг таких
публикаций успокоится. Зато историко-культурный интерес их
очень велик. Культура всякого общества многослойна, в каждом
ее слое одни области жизни официально ценятся, другие (в
разное время — разные) официально отрицаются, и только
сложный баланс этих субкультур является подлинной картиной
духовной жизни общества. Как уравновешивались эти системы
ценностей, например, в античности, хорошо изучено. Как это
* Отзыв подготовлен в связи с попыткой возбуждения уголовного дела
(по статье 126 УПК РФ) против руководства «Ладомира», обвиненного
23 мая 1995 года «Российской газетой» в лидерстве «по изданию
непотребных сочинений прошлого» (см. статью Андрея Щербакова «„Ты не
жми меня к березе", или Похабщина по-научному»).
406
происходило в Средние века, показывают исследования так
называемой карнавальной культуры, расцветшие после М.
Бахтина. Как это происходило в Европе Нового времени, стало
изучаться лишь недавно, и такие исследования, как «Иные вик-
торианцы», явились откровением. Как это происходило в
России, не изучалось никогда. Между тем сам факт, что «русская
потаенная литература» двести лет переписывалась,
перерабатывалась, порождала подражания, опиралась то на фольклорную,
то на западноевропейскую традицию, означает, что она была
необходимой частью русской культуры. Само словосочетание
«Русская потаенная литература» принадлежит Н. Огареву,
который в 1861 г. объединил в антологии под таким заглавием и
нецензурные революционные, и нецензурные эротические стихи.
Таким образом, «Ладомир» имеет в своем деле очень
уважаемых предшественников.
Границы между тем, что считается эротически пристойным и
непристойным, исторически изменчивы. Тому есть причины, в
конечном счете сводящиеся к демографической ситуации
человечества: пока оно боролось за свое выживание, пристойным считалось
только то, что способствует размножению, когда борьба эта
кончилась победой (приблизительно в середине XVIII в.), постепенно
цениться стало и то, что обслуживало секс как искусство для
искусства. В западной культуре последняя легализация того, что
считалось непристойным, произошла около 1960-х гг., до России она
дошла лишь в 1990-х. Бороться с этим бесполезно: исторические
причины этого явления слишком глубоки. Можно лишь заботиться
о том, чтобы этот общекультурный сдвиг совершался сколь можно
более цивилизованным образом.
Издательство «Ладомир» заслуживает похвалы именно за
то, что оно не перегибает палку, не ищет дешевых сенсаций, не
нагнетает сладострастный ажиотаж вокруг своих публикаций, не
украшает их восторженными отзывами модных литераторов, а
старается сделать их спокойными, объективными, научными,
адресует их к тем читателям, которые хотят не любоваться, а
понимать. В этом отношении к предмету «Ладомир» сейчас почти
уникален среди многих издательств и изданий, обслуживающих
спрос на эротику. Это не значит, что я всем доволен в его
изданиях: бывает скуден текстологический аппарат (что
естественно при неразработанности материала), есть фактические ошибки
в примечаниях. Но научная ценность начатой серии несомненна:
это продуманная и наилучшим возможным образом
осуществленная публикация насущно важных для историко-культурного
исследования памятников русской словесности.
407
Я хорошо понимаю чувства тех, кому нравственные ценности
советского времени кажутся вечными и кого возмущает
нынешний эротический бум. Однако в нынешнем половодье
эротических и порнографических изданий выбирать для преследования то
единственное, которое преследует не коммерческий, а научный
интерес, — значит бороться не с безнравственностью, а с
наукой. Будучи сам причастен к филологической науке, я именно
поэтому посчитал своим долгом написать этот отзыв.
М.Л. ГАСПАРОВ,
действительный член РАН,
главный научный сотрудник
Института русского языка РАН,
лауреат Государственной премии
в области литературы и искусства за 1995 год
СОДЕРЖАНИЕ
H. БОГОМОЛОВ. От составителя 5
ЯЗЫК
Б. УСПЕНСКИЙ. Мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии 9
Ю. ЛЕВИН. Об обсценных выражениях русского языка 108
А. ЗОРИН. Легализация обсценной лексики и ее
культурные последствия 121
ФОЛЬКЛОР
Б. УСПЕНСКИЙ. «Заветные сказки» А.Н.Афанасьева 143
A. БЕЛОУСОВ. «Вовочка» 165
ЛИТЕРАТУРА
B. ЖИВОВ. Кощунственная поэзия в системе русской
культуры конца XVIII — начала XIX века 189
М. ШАПИР. Из истории «пародического балладного стиха»:
1. Пером владеет как елдой 232
Г. ЛЕВИНТОН. Достоевский и «низкие» жанры фольклора ...267
Н. БОГОМОЛОВ. «Мы — два грозой зажженные ствола» ...297
М. ПАВЛОВА. Из творческой предыстории «Мелкого
беса». (Алголагнический роман Федора Сологуба) 328
М. ШАПИР. Из истории «пародического балладного стиха»:
2. Вставало солнце ало 355
Библиографическая справка 405
М. ГАСПАРОВ. О серии «Русская потаенная литература»
издательства «Ладомир» 406
Анти-мир русской культуры. Язык, фольклор, литература.
Сборник статей / Сост. Н.Богомолов; Худож. Д.Шимилис. —
М.: Ладомир, 1996, 409 с. (Русская потаенная литература).
ISBN 5-86218-110-5
Данный сборник призван предложить вниманию читателей и
исследователей ряд работ, ориентированных не на сиюминутный
скандальный успех, а представляющих собой серьезные штудии в тех сферах
русской культуры, которые противостоят кодифицированному
литературному языку и словесности традиционно изучавшегося типа (или
изучавшегося только с определенных сторон, не предусматривавших
выявления точек соприкосновения с сексуальными или прочими
«низкими» областями человеческой жизни и связанного с ними
искусства). В частности, будут опубликованы вышедшие на Западе и давно
ставшие хрестоматийными статьи Б. Успенского «Мифологический
аспект русской экспрессивной фразеологии» и «Заветные сказки
А. Н. Афанасьева», а также исследование Ю. Живова «Кощунственная
поэзия в системе русской культуры конца XVIII - начала XIX века».
Научное издание
АНТИ-МИР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Редактор
Ю. А. МИХАЙЛОВ
Художественный редактор
Е. В. ГАВРИЛИН
Технический редактор
И. И. ВОЛОДИНА
Корректор
О. Г. НАРЕНКОВА
Компьютерная верстка
О. Н. БОЙКО
ЛР№ 063160 от 14.12.93 г.
Сдано в набор 15.02.95.
Подписано в печать 05.01.96.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная № і.
Гарнитура «Академическая».
Печать офсетная. Печ.л. 13,0. Усл. п. л 24,81.
Тираж 2 000 экз. Зак № 3911.
Научно-издательский центр «Ладомир»
при содействии ТОО «ВPC»
103617, Москва, корп. 1435
Отпечатано в Московской типографии № 2 ВО «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
tb.42.
Ik
В серии
«Русская потаенная литература»
готовится к печати:
В. И. ЖЕЛЬВИС
Поле брани
Сквернословие как социальная проблема
в языках и культурах мира
Монография представляет собой первое в
России научное исследование, посвященное
проблемам сквернословия, то есть лексики,
одновременно запрещаемой и активно используемой
обществом. Нет и никогда не было общества, в
котором не существовало бы запрещенной лексики,
как нет общества, не ведущего с такой лексикой
борьбу. Как известно, проблема сквернословия
приобрела в последние десятилетия в России — и
не только в ней — особое значение. В жизни
самых значительных культур — в американской,
английской, русской — сквернословие стало
играть настолько большую роль, что оставаться
равнодушным к этому явлению общество уже не
имеет права. Данная монография и ставит своей
целью привлечь внимание к «бранной пандемии»,
свирепствующей в мире, найти ее истоки и
причины, сравнить в этом плане стратегию и тактику
различных национальных культур и, по
возможности, заставить задуматься о дальнейших путях
этического развития человечества.
Автором монографии — доктором
филологических наук профессором В. И. Жельвисом
исследованы инвективные стратегии приблизительйо
пятидесяти языков мира. Им привлечены
материалы современных исследований в области
психологии, социологии, этнографии, физиологии,
этологии и других наук.
Монография снабжена большим количеством
примеров сквернословия на русском, английском,
немецком, французском, испанском,
итальянском, японском языках, равно как и на ряде
африканских, кавказских, а также языках народов
бывшей Российской империи.
Ъ^х Sfa
«Ладомир» готовит к печати:
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ
Колл. авт. под ред. В.В. Бычкова
Впервые в мировой науке на основе последних
достижений в различных областях гуманитарного
знания (культурологии, истории, философии,
богословия, филологии, искусствознания и т.п.)
предпринято системное исследование феномена
художественно-эстетической культуры Древней
Руси (XI —XVII века) как
духовно-художественной целостности. На основе тщательного
изучения богатейшего материала русской
средневековой книжности (летописей, церковноучительной
литературы, агиографии, богослужебной и т.п.
литературы) и памятников искусства
(архитектуры, живописи, прикладного, певческого
искусства) в монографии дана яркая и во многом
по-новому освещенная картина становления и
развития духовно-художественной культуры
средневековой Руси. Издание богато иллюстрировано.
Н. Л. ПУШКАРЕВА
Частная жизнь и
ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ЖЕНЩИНЫ
В ДОИНДУСТРИАЛЬНОЙ России
(X — НАЧАЛО XIX В.)
Данное исследование являет собой первую в
российской исторической науке попытку
разработки проблемы «истории частной жизни»,
«истории женщины», «истории повседневности»,
«истории сексуальности», используя подходы,
приемы и методы работы сторонников и
последователей «школы Анналов». Монография состоит
из пяти глав и последовательно представляет
женщину доиндустриальной эпохи как невесту,
хозяйку, мать, жену, любовницу.
forfig Sfa
«Ладомир» готовит к печати:
Ж.-П. САРТР
Ситуации. Антология
литературно-эстетической мысли
\ Жан-Поль Сартр (1905-1980) - писатель,
философ, публицист, глава французского
экзистенциализма, внес весомый вклад в
развитие мысли о словесности во Франции,
а его разборы ряда книг снискали славу
хрестоматийных. Место Сартра в истории
литературно-критической мысли Франции
определяется разработкой в его трудах концепции
«ангажированности», высокой философской
культурой обсуждения труднейших
эстетических вопросов. В данный научный сборник
включена работа «Что такое литература?»,
статьи и эссе Сартра о таких известных
писателях, как А. Камю, Ж. Ренар, Б. Брехт, У.
Фолкнер и др.
Основной вклад в подготовку этой книги
внес выдающийся отечественный
литературовед С. И. Великовский.
X. А. ЛЬОРЕНТЕ
Критическая история
испанской инквизиции
В 2-Х ТОМАХ
Вниманию читателей предлагается
классический труд испанского историка,
секретаря инквизиционного трибунала Хуана Ан-
тонио Льоренте (1756 — 1823), создавшего на
основе анализа огромного количества
архивных материалов первое историческое
исследование, посвященное историографии
инквизиции, остающееся до сих пор одним из
основных источников по данной теме.
■^г-
f№
ь^& Hà_
«Ладомир» готовит к печати:
ДЖАГАДЦЕВА
Волшебное сокровище сновидений
Вниманию читателей предлагается впервые
выполненный научный перевод с санскрита
трактата знаменитого индийского толкователя вещих
снов Джагадцевы (XII — XIII вв.). Издание
подготовлено А. Я. Сыркиным, известным российским
ученым, профессором Иерусалимского
университета, подарившим всем поклонникам культуры
Древней Индии научные переводы «Упанишад».
Ж. ЖАНЕН
Мертвый осел и
гильотинированная женщина
Серия «Литературные памятники»
Сюжет романа составляет трагическая
любовная история: юная героиня, впервые встреченная
героем и почитателем невинной красавицы,
весело скачущей на грациозном ослике по весенним
лужайкам, постепенно развращается, опускается
на городское дно, совершает преступление и
умирает на гильотине, ее осел находит смерть на
живодерне, а влюбленный герой, пережив тяжелую
душевную драму, утрачивает все жизненные
иллюзии.
Ж. ДЕ ЛАФОНТЕН
Любовь Психеи и Купидона
Серия «Литературные памятники»
«Любовь Психеи и Купидона» (1669) —
повесть знаменитого французского баснописца Жана
де Лафонтена (1621 — 1696), представляющая
оригинальную творческую переработку известной
истории о любви Амура и Психеи, рассказанной
Апулеем в «Золотом осле».
«Ладомир» выпустил:
И. НИЖНАНСКИЙ
Кровавая графиня
В словацкой литературе, пожалуй, трудно
найти книгу столь популярную, столь
широко известную среди многих поколений
читателей, как роман Иозефа Нижнанского
(1903 — 1976) «Чахтицкая госпожа» (1932).
Роман переведен почти на все основные
языки мира, его сюжет составил основу
одной из новелл скандально знаменитого
фильма Валериана Боровчика «Аморальные
истории».
Фабула романа опирается на реальный
исторический факт, имевший место на стыке
XVI и XVII столетий в одном из имений
старинного венгерского рода феодалов Бато-
ри. Владелица обширного поместья и замка в
селении Чахтицы, Алжбета Батори, оставила
в истории страшный кровавый след.
Женщина необыкновенной красоты, чувствуя
приближение старости, она прибегала к
чудовищному средству: подвергала
нечеловеческим истязаниям невинных молодых
простолюдинок, обескровливала их с помощью
хитрых аппаратов в мрачных подземельях
своего замка и совершала омовения в этой
невинной юной крови.
Роман переполнен многочисленными
эротическими сценами, имеет захватывающую
интригу в духе лучших традиций В. Скотта,
А. Дюма и Г. Сенкевича, нередко заставляет
читателя в ужасе содрогаться, вызывая
ассоциации с популярнейшим произведением
Брэма Стокера «Дракула».
Выдающееся произведение мировой
литературы впервые предложено русскоязЬічному
читателю под названием «Кровавая графиня».
to rftf
(&p*St
Любые научные, художественные и
учебные книги научно-издательского
центра «Ладомир», в том числе тома
серий «Литературные памятники», «Ех
Oriente Lux», «Античная классика»,
«Русская потаенная литература», тома из
Собрания романов Л. Буссенара, тома из
серии «Неизвестный Жюль Берн» и др.,
вы можете заказать наложенным
платежом по почте.
Тематический план «Ладомира» на
1996 — 1997 годы опубликован в журнале
«Библиотека» № 8, 9, 11 за 1995 г. и в
первых номерах за 1996 г. Журнал
имеется практически в каждой районной
библиотеке.
Р
Заказы направлять по адресу:
103617, Москва, Зеленоград, кор. 1435
Тел. (095) 530-01-25, (095) 531-54-88
Факс: (095) 537-47-42
^ Щ
й**^
І^чЬ