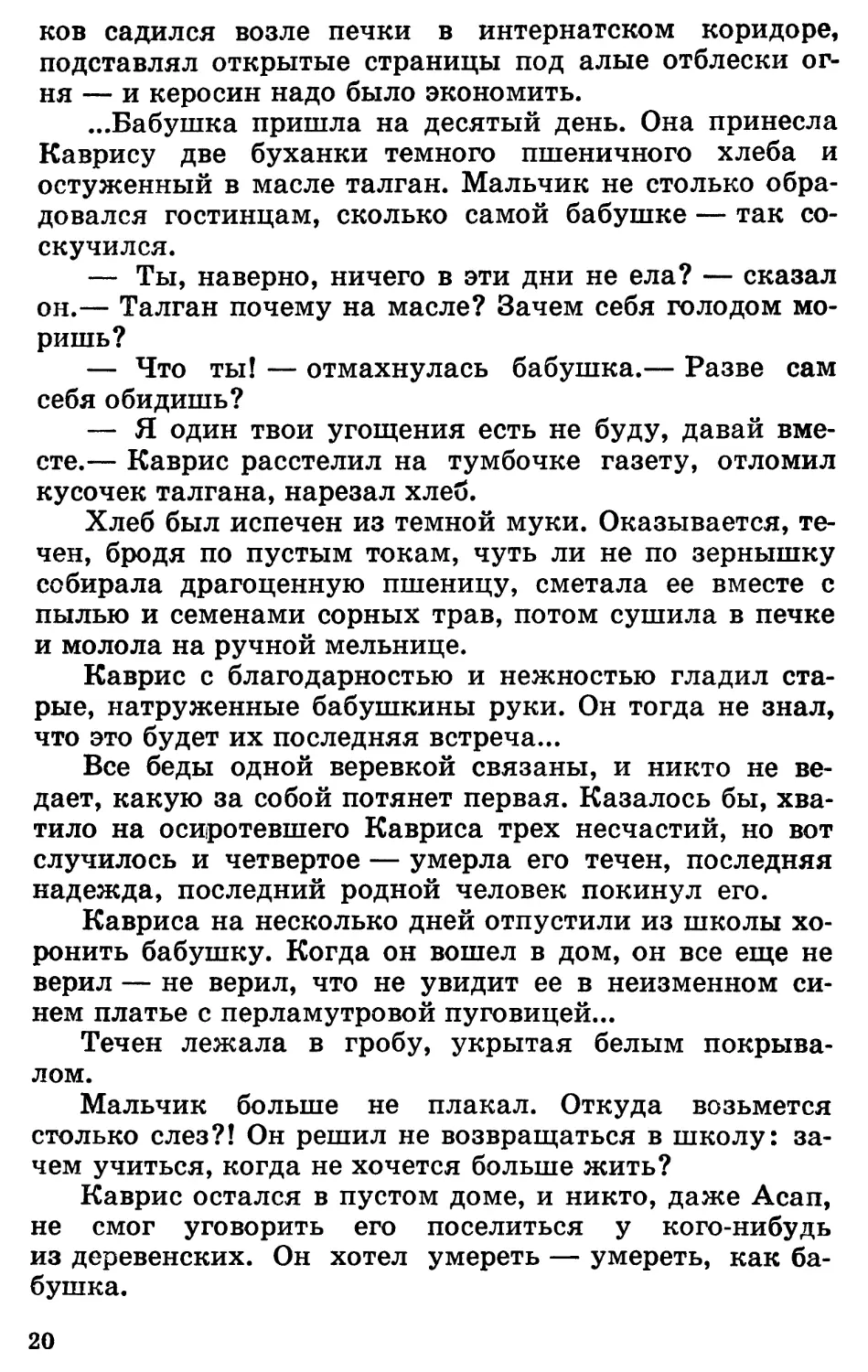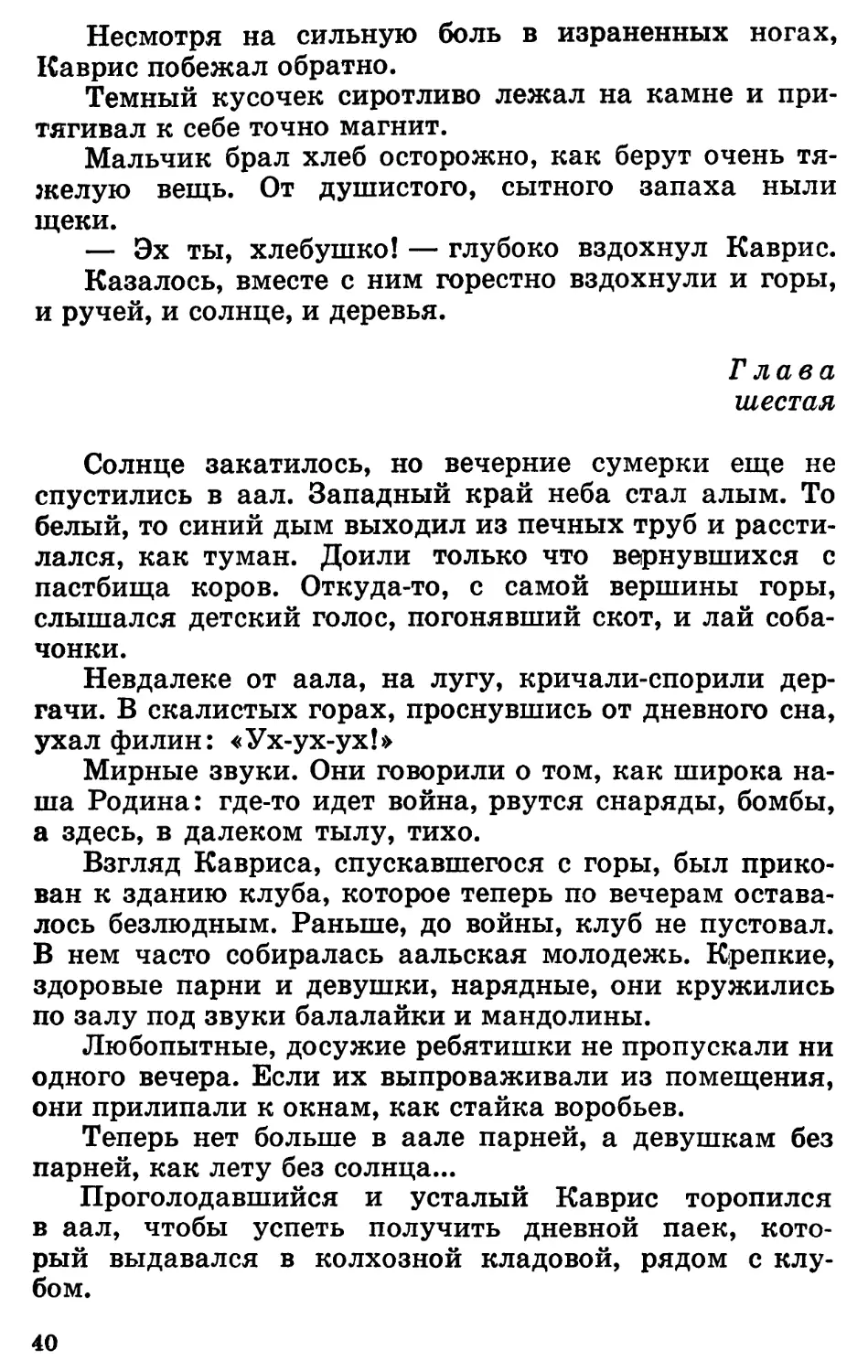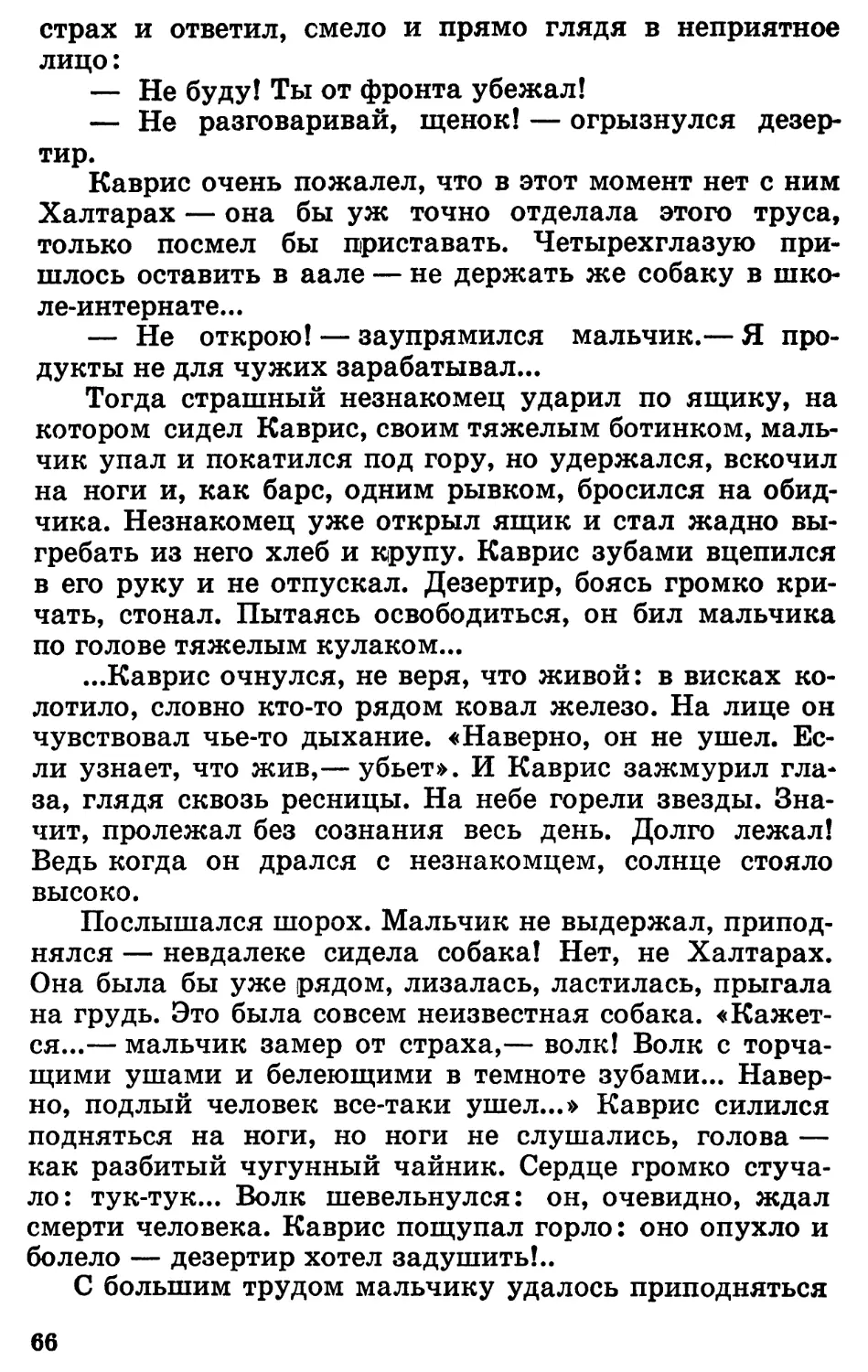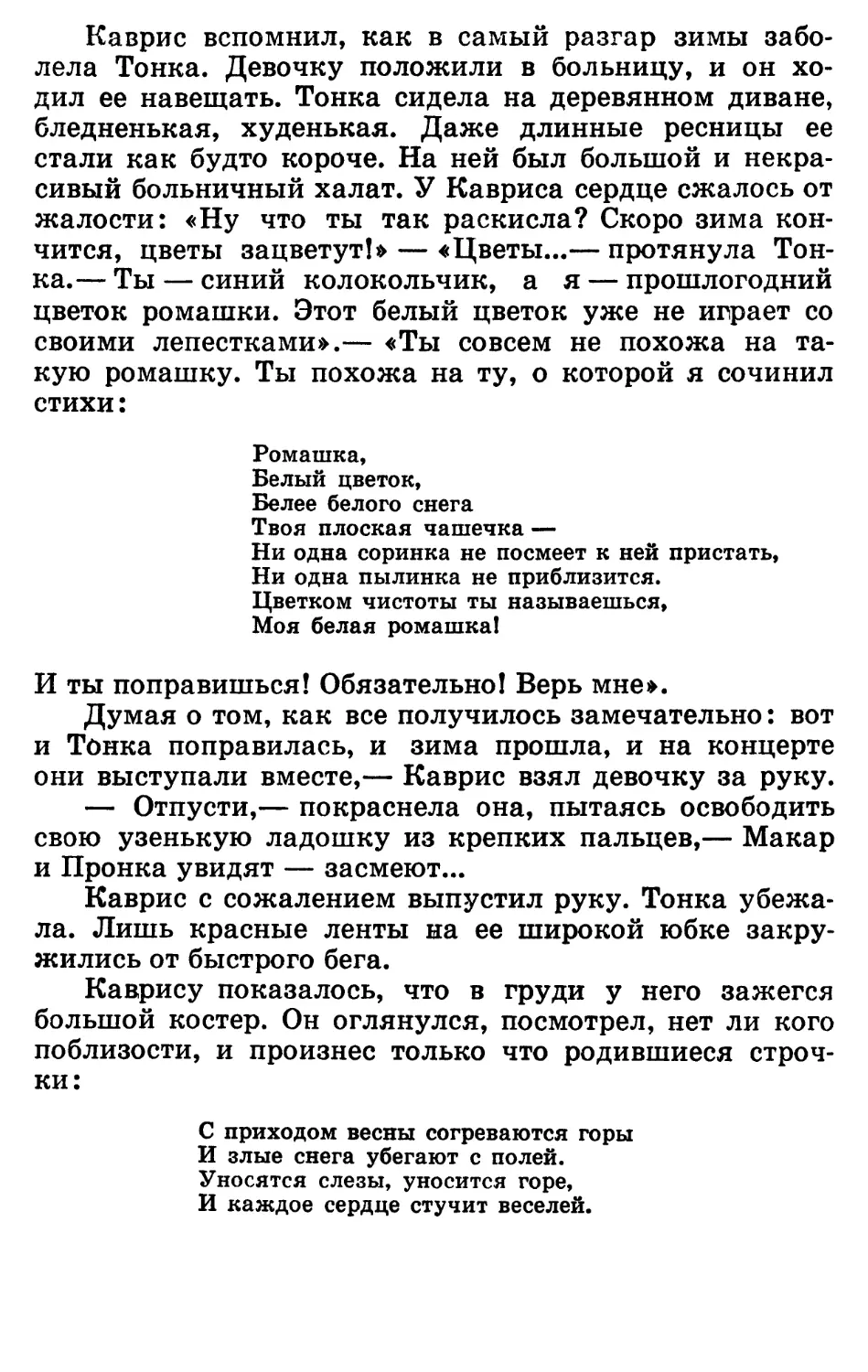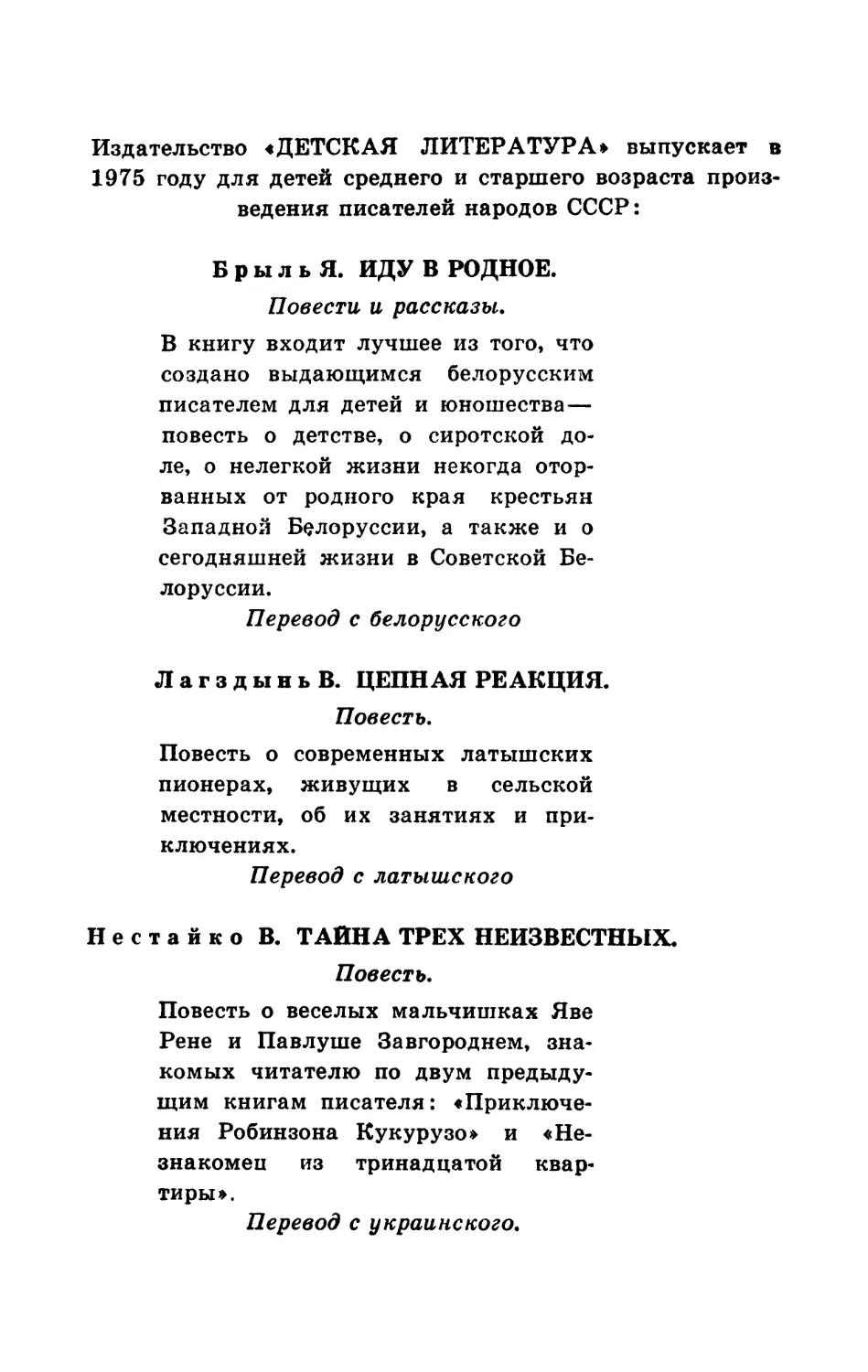Текст
НИКОЛАИ т и н и к о в
говбспса
CSZaBDKIG/AX
ПОВЕСТЬ
MOCKS А 19 7 5 ' & *
С (Хак) Т42
Рисунки В. Кулькова
Т 554 338—75
М101 (03)75
(^ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», J975 г.
Глава первая
Между двух гор с вершинами, похожими на горбы старого верблюда, в клочковатом кустарнике и проплешинах желтых песчаных осыпей расположился небольшой аал. Мимо аала течет извилистая река, сверкая, словно разукрашенный серебром пояс. По левому берегу ее ковром расстилается зеленый луг. Луг огорожен невысоким крутым яром. На этом-то яру, на краю селения, стоит рубленый старый дом за деревянным забором и еще — юрта. Из ее конусообразной крыши тянется то синий, то серый дымок.
Вот из юрты вышла сгорбленная под тяжестью лет старуха, лицо которой напоминало прокопченную медь. Она медленно поднимается по тропинке, опираясь на кривую палку. Широкий подол ее синего платья развевается от теплого летнего ветерка. На груди, у самого подбородка, блестит большая перламутровая пуговица.
Старуха, остановившись на краю крутого обрыва, заслоняет ладонью потускневшие от старости глаза, смотрит на зеленый луг.
— Каврис! Каврис! — зовет она.
— Что, течен? 1 — отзывается мальчик с белым и круглым лицом. Он привязывает к колышку теленка, черные кудрявые волосы его растрепались. Рядом резвится черно-рыжая собака. Над глазами у нее два желтых пятнышка — в точности еще одна пара глаз. За то и кличку свою получила «Халтарах» — «Четырехглазая».
— Сыыйт! Сыыйт! Не мешай, Четырехглазая!
— Что, не можешь привязать? — спрашивает старуха.
— А что, течен?
— Привяжешь — приходи, голову посмотришь.
— Опять...— недовольно ворчит Каврис.
— Кому же больше смотреть, как не тебе? Если бы, кроме твоей матери, была бы у меня вторая дочь...
Каврис взбежал на гору и сел на землю, скрестив ноги.
— Давай посмотрю.
— Хорошо ли теленка привязал? А то опять уйдет к корове и высосет все молоко. От матери получишь тогда по заслугам!
— Ничего, никуда не денется.
Халтарах, будто подтверждая, тряхнула головой и, уложив на передние лапы черную морду, стала следить за хозяином. Ее рыжие глаза горели, как два маленьких огонька.
Бабушка легла на траву, так, что ее седая макушка оказалась у Кавриса на коленях. Мальчик перебирал реденькие волосы. Старуха блаженно щурилась.
— Руки у тебя, мой мальчик, нежнее, чем у девушек. А теперь посмотри с другой стороны.— Старуха кряхтя перевернулась на другой бок.
Каврису стало скучно, и он зевнул.
— Не ленись. Кто смотрит только в одну сторону, тот в пути заблудится... Перхоть поскреби.
Мальчик достал из кармана маленький складной
1 Течен — мать матери (бабушка).
ножик и стал легонько почесывать тонкую сухую кожицу.
— Течен, что такое «тутхун»?
— Тутхун? — Бабушка даже приподнялась на секунду, провела ладонью по своему лицу с глубокими трещинами-морщинами.— Откуда ты такое слово выкопал?
— Я не выкопал, я слышал.
— Это было давно, в далекое, старое время, когда девушек брали насильно замуж — карамчйли. Это и называлось «тутхун».
— И тебя тай-аба 1 тоже скарамчил?
Морщинки у глаз старухи собрались в узелок, сухие губы раздвинула улыбка:
— Пок 2, какой ты, Каврис: пока не сведешь начало с концом, покоя не дашь. Настырный! Зачем тебе все это? Что прошло, то прошло.
Каврис знает, как бандиты убили его деда. Они убили его в поле, на глазах у бабушки, за то, что дед отказался идти в белую банду. Но теперь мальчик не хочет просить бабушку, чтобы она рассказывала о деде — слишком расстраивается, и мальчику ее жалко. Вот он и придумал: пусть вспоминает веселое.
— Расскажи, а то спать буду.
— Хитрец... Что с тобой поделаешь? Хотя и давно это было, но прошлое вижу ясно, как сегодня. О, как быстро летят годы, мой мальчик! И твой дедушка не обошелся без тутхун. Хоть и не принято было спрашивать у девушек согласия, но он меня спросил. Я же отказала наотрез: неказистым он мне тогда показался, да и глупа была — всего шестнадцать. Не держала даже мысли, что меня могут скарамчить, не стереглась нисколько... Как-то взяла ведра и коромысло и пошла на речку по воду. Одно ведро зачерпнула, нагнулась за вторым, а разогнуться не успела — оказалась в руках твоего тай-аба. Он на быстром коне примчался и, как горный орел, схватил меня, посадил в седло. Сильный, даже шевельнуться не дал. Я в его крепких объятиях была как маленькая птичка — и крикнуть не успела.
1 Тай-аба — отец матери (дедушка).
2 П о к — междометие.
Когда за мной приехали гонцы, их хорошенько угостили и отправили домой. Они мне нисколько не посочувствовали, уезжали с песней. Сильного человека не осилишь!.. Не сразу пришла любовь. Но потом полюбила его. Был он очень трудолюбив, могуч — настоящий богатырь! ЕЬли возьмется за дело, доведет до конца; упорен, настойчив, правдив. Никого не обманет, бывало, и чужого не возьмет. Вора, плута, обманщика, двуличного и подхалима — ненавидел. Дядя твой, Карнил,— весь в отца.
Дядю Карнила Каврис любит не меньше, чем родного отца. Сейчас он служит на флоте, а в моряки, говорят, берут только хороших людей, смелых и выносливых. Каврис хочет быть похожим на своего дядю — моряка.
— А скоро он приедет? — спрашивает мальчик.
— Кто? — не понимает бабушка.
— Дядя Карнил.
— Должно быть, скоро, ты же сам недавно письмо читал.
— Читал...— мечтательно говорит Каврис.— Хоть бы он поскорее приезжал.
— А ну-ка, внучек, посмотри, кто это на дороге? Каврис приподнимается на локтях.
— Тонка, кто еще...— тянет он разочарованно.
Тонка, дочь соседа Асапа, на год младше Кавриса, но он считает ее совсем-совсем маленькой. У дочки Асапа румяное личико, глазки цвета спелых ягод черемухи, а ресницы такие длинные, что кажется, они мешают девочке смотреть.
Не доходя до Кавриса нескольких шагов, Тонка кричит:
— Ага, что у меня есть!
— Что еще? — небрежно отмахивается Каврис.
— Не скажу! — дразнится девчонка, а сама прячет за спину руки.— Не покажу!
Каврис видит в ее руках белую бумажку.
— Не хочешь показывать — не надо.
— А ты спляши!
— Вот еще!
Тонка кружится по поляне — только косички развеваются. Каврис не выдерживает, вскакивает, но дев
чонка такая быстроногая — не так-то просто ее догнать. Наконец мальчик настигает Тонку, вырывает из рук бумажку. Это телеграмма. От дяди. Всего несколько слов: «Еду. Встречайте. Карнил». Вот так новость! У Кавриса крылья на ногах выросли, что ли? Он бежит к бабушке, он обнимает ее, приподнимает с земли, он кружит ее по зеленой траве:
От самого Черного моря
Спешит к нам любимый Карнил — Мой дядя, течен, твой сынок, течен. Как мы встретим его, течен?
Вместе с ласковым небом обнимем его, течен.
Вместе с горячим солнцем поцелуем его, Из одной чашки выпьем айран.
Будем петь и плясать, течен.
Позовем в гости всех соседей:
Горы, леса, речку, течен!
Ту речку, у которой каждую минуту
Новая песня...
О течен! Скорей бы пришло то время 1.
— Ох,— стонет бабушка,— ох, пусти, ох, уронишь...
— Он едет! Он! Дядя Карнил!
— Слава богу! Дождались.
В этот день Каврис совсем забыл про хозяйственные дела. Теленок весь день оставался без присмотра, и мальчик вспомнил о нем только к вечеру, когда стадо уже спустилось с гор. Корова, найдя своего теленка на лугу, принялась кормить его. Незадачливый пастушок с огорчением смотрел, как теленок жадно сосет вымя, роняя на траву белую пену. Каврис с досады — сегодня в семье молока не будет — пнул теленка ногой.
Спасла Кавриса от наказания бабушка.
— Ладно,— сказала она дочери,— не кричи. Если один раз и останемся без молока, ничего не случится. Ребенок от радости словно опьянел.
— От какой это радости?
— От телеграммы.
— Что еще за телеграмма?
— Карнил приезжает.
— Братец,— всплеснула руками мать Кавриса,—
1 Здесь и далее стихи в переводе Киры Ткаченко.
единственный! Куском хлеба в сиротстве делились. Четыре года не виделись... Надо угощение готовить. Неплохо встретим. Есть у нас в сарае кое-кто с копытцами...
Вскоре с работы вернулся отец. На его теле, покрасневшем от солнца, блестели росинки пота. К влажной коже прилипли сухие мелкие травинки. Не заходя в дом, он крикнул:
— Сынок, воды!
Каврис смотрел на отца с восхищением — такой ловкий и красивый у него отец. Плечи широкие, ладони с черными пуговицами мозолей — настоящие рабочие руки! Засмотревшись, как льется в отцовские ладони светлая струйка, мальчик совсем было забыл о главной новости. И когда отец вытер лицо и расправил пальцами свои темные усы, Каврис вдруг вспомнил:
— Дядя Карнил телеграмму прислал! Скоро приедет.
— Вот и хорошо. Значит, погуляем. Ты, сынок, будешь за меня сено метать, а я с Карнилом на гармошке играть.
— Буду, буду,— улыбнулся Каврис: отец — шутник, всегда что-нибудь придумает.— Но только и ты мне гармонь купи.
— И-и-и, если ты играть станешь, а Карнил танцевать — все девушки пропадут! Головы им закружите. Нет уж, боюсь тебе гармонь покупать.
— Ты всегда так, чуть что — и выкрутишься. Сколько раз просился с тобой в город. Вот приедет дядя, мы с ним съездим, посмотрим на большие дома и железную дорогу.
— Нерадивый награду просит. Это справедливо? Как ты сегодня теленка стерег? Бросил одного без присмотра.
Каврис потупился: и вправду не заслужил он сегодня никакого подарка.
Поужинав и прихватив с собой кота Ваську, мальчик отправился ночевать на чердак. Он любил спать на чердаке в летние теплые ночи, слушать крик дергача и блеяние бекаса. Дергач упирается, кричит что есть мочи перепелке, которая вместе с ним из болота быка
тащит: «Тени-тени-тени...» А бекас жалуется на свою судьбу за то, что в год может снести всего четыре яйца.
Каждый год у меня Лишь четыре яйца. Такая грусть, такая грусть — Лучше о камни разобьюсь.
Но сегодня мальчик не прислушивается к ночным знакомым звукам — он весь в мечтах. Когда дядя приедет, Каврис обнимет его за шею и будет так висеть долго-долго, а потом снимет с головы бескозырку и будет любоваться золотыми буквами и длинными ленточками. Наверно, дядя Карнил разрешит ее немного поносить. То-то позавидуют Каврису все аальские ребятишки, когда они пойдут купаться. Дядя посадит Кавриса к себе на спину и поплывет. Потом они выйдут из воды и будут загорать на берегу...
Долго спать Каврису не пришлось. Рано-рано его разбудила мать:
— Каврис, скорей!
— Приехал? — еще не совсем очнувшись от сна, радостно воскликнул Каврис, кубарем скатившись с лестницы, и осекся, увидев расстроенное лицо матери.
— Нет, сынок. Не встречаем, а провожаем. Отца нашего провожаем...
— Куда?
— Ох! — И мать заплакала, уронив голову в ладони.
Каврис выбежал на улицу. Аал трудно было узнать — сколько народу сразу вышло на улицу. Мужчины с котомками на спине обнимают женщин, детей. У колхозной конторы стоит автомобиль с красным флагом. Мальчику стало тревожно и страшно: что же случилось? Когда он подошел поближе, из толпы, собравшейся у конторы, вышел отец. Он обнял сына за плечи (раньше никогда так не обнимал).
— Ну, сыночек мой, слушайся маму и бабушку, помогай им. Ты теперь в доме один мужчина. А мы едем далеко. На фронт едем. Фашистов бить едем. Прости, что не успел купить тебе гармонь...
Сердце Кавриса больно сжалось, когда он услышал такие слова.
— Ты,— спросил он чуть не плача,— ты... ты... скоро вернешься?
— Скоро, сынок, скоро,— ответил отец, легонько отстраняя Кавриса и оборачиваясь к жене: — Ну, жена, будь и ты здорова, не болей, не скучай...
Мать плакала. Слезы тоненькими струйками текли по ее лицу.
— Того, кто уходит в суровый поход, не провожают слезами, дочка,— говорила бабушка.— Слезы жены тяжело переносятся. Будь мужественной...
Вскоре машина тронулась, увозя в своем большом кузове близких и дорогих. Мать Кавриса упала на пыльную дорогу. У бабушки дрожали губы. Отец Тонки, пожилой Асап, сказал:
— Нынче год Змеи. Оттого-то, видно, и пришло к нам это черное горе.
Тонка и ее старшая сестра, колхозный почтальон, громко рыдали. Каврис же стоял как каменный. В глазах — ни слезинки, в груди пусто и холодно. Куда девалась вчерашняя радость... Все кончилось в одно утро.
Глава вторая
Через несколько дней после проводов отца пришло письмо от Карни ла. Он писал: «Ехал я с большой радостью домой, мечтал о встрече, но все случилось по-другому. Что поделаешь, увидимся после победы. Крепись, сестра, помни: на твоих руках слабая старуха и ребенок. А ты, Каврис, учись хорошенько. Хорошая учеба — это, школьники, ваша помощь фронту».
Мать, Каврис и бабушка читали письмо вслух и плакали: какая судьба ожидает их дорогих воинов на трудных солдатских дорогах...
В аале наступили тяжелые дни. Все с нетерпением ожидали весточек с фронта. Семья Кавриса не получила пока ни одного письма.
Завидя почтальона Тамару, люди волновались: неизвестно, что таится в ее большой сумке — радость или горе. В аале уже успели узнать, что солдатские треугольники с печатью полевой почты несли в себе хоро
шие новости: жив, здоров, бьет фашистов; но если приходили письма в особых конвертах... Ох, лучше бы не носить и не видеть никому тех страшных конвертов... И сколько бы ни старались в правлении колхоза облегчить тяжесть удара: подбодрить, утешить— все равно горе оставалось горем, утрата утратой...
Кто же может смириться с потерей родного человека, молодого, здорового, сильного... Мужа, сына, брата, любимого?
Но однажды Кавриса с бабушкой вызвали в контору.
— Скрепи свое сердце,— с трудом вымолвил председатель, подавая бабушке конверт.
— Дети мои...— глухо простонала бабушка.
Каврис робко взял в руки конверт. Надорвал край, вытащил бумагу. Там было написано: «Ваш муж, Тан-баев Давыд Павлович, пал смертью храбрых». Каврис еле устоял на ногах.
— Мой мальчик, почему же молчишь? От кого это? От Карнила? От Давыда?
Вместо ответа Каврис всхлипнул:
— Отец... отец... никогда... никогда... не вернется...
Выйдя на улицу, бабушка обняла внука за плечи. Обратив взгляд в синее безоблачное небо, она молчала. Глаза ее не мигали, не двигались, словно в них навсегда застыла жизнь.
— Эней, дети мои! Эней, дети мои, бедные дети мои!
Увидев похоронку, мать Кавриса упала без чувств. Бабушка что-то шептала над ней, брызгала лицо водой, окуривала сухой «травой богородицы».
Когда мать пришла в себя, она попросила воды. Делая маленькие глотки из большой эмалированной кружки, мать тихонько приговаривала:
— Слабая... о, слабая это водичка, мне же нужен горький-прегорький яд...
...Дни проходили за днями, как текучая вода. Мать увядала, словно скошенный цветок. Пропал румянец на ее широких скулах, кожа пожелтела, глаза ввалились, веки сделались морщинистыми. После работы она садилась у огня и курила трубку.
Однажды мать сказала, горестно качая головой:
— Колхоз на трудодни мало хлеба дает. Как я буду учить тебя, Каврис?
— Я и без хлеба могу учиться,— ответил Каврис.
— Пусть учится,— поддержала бабушка,— пусть дядин наказ выполняет. Проживем как-нибудь. Крупа, картошка есть. С голоду не помрем.
Во время этого разговора пришла сестра почтальона Тонка. Она встала в дверях. Все трое взглянули на девочку. Зачем она пришла? Почему у нее такое печальное личико?
— Каврис! — позвала Тонка.
— Похоронка?! — выкрикнула мать, заметив в руках у Кавриса конверт, который протянула ему девочка.— От Карнила?!
Пока Каврис читал письмо, пальцы его дрожали.
— Нет, мама. Дядя не погиб, а пропал без вести. Так здесь написано.
Как верхушки стоящих друг против друга деревьев, сотрясаемых сильным ветром, головы матери и бабушки закачались из стороны в сторону.
— Пропал сыночек,— шептала бабушка,— может, умер на поле боя и его не заметили... может, захватили в плен фашисты, замучили, запытали до смерти...
Дети молчали. Наконец и Тонка, всхлипнув, бросилась к дверям.
Каврис остался один с двумя плачущими женщинами.
— О горе, горе! — причитала мать.— Тесно моему сердцу!..
Она подошла к деревянной кровати и легла, вытянув бессильные руки вдоль тела.
Казалось, ее больше ничто не волнует: ни горе, ни радость, ни родные, ни близкие. Глаза видели что-то такое, о чем не могли рассказать бледные, бескровные уста.
Мать угасала с каждым днем... Через месяц ее не стало.
Все сочувствовали непомерной беде, которая так внезапно свалилась на семью Танбаевых. Конечно, не у них одних война унесла близких и дорогих, но так, чтобы разом ушли из жизни трое молодых, здоровых людей...
Каврис, идя за гробом матери, казалось, ничего не чувствовал, ничего не замечал. Верная Халтарах плелась за ним понурив голову.
Мальчик пришел в себя на обратном пути, когда возвращались с кладбища. Высоко в небе пролетала журавлиная стая. Печальное курлыканье заставило Кавриса оторвать глаза от свежего могильного холмика, на который он поминутно оглядывался. Он проводил взглядом четкий журавлиный клин и тихонько прошептал вслед улетающим птицам:
— Не плачьте так громко, журавли. Если бы мог, я бы тоже полетел за вами, чтобы быть подальше от печали и горя...
— Не надо так убиваться, мой мальчик. Ты не сирота, твоя старенькая бабушка, пока жива, всегда будет с тобой.
Глава третья
На поминки зарезали пестрого теленка. К Танбае-вым собрались все односельчане. В тот день было выпито немало огненной воды — той воды, которую не пьет собака.
Женщины пытались утешить осиротевшую семью:
— Не зовите тех, кто навсегда ушел. Оставшимся в живых надо думать о жизни.
♦Пустые слова,— размышлял про себя Каврис.— Хорошо уговаривать тем, у кого все живы и здоровы. А что мы будем делать с течен? Мне скоро в школу. Придется оставить бабушку одну... Кто ей, старенькой, поможет? Как будет она жить одна в пустом доме?..»
Однажды — это был уже конец августа — бабушка велела Каврису наносить воды и заготовить топливо. Мальчик охотно принялся за работу. Ведра, с которыми он шел к колодцу, были памятными — мамиными; топор, которым он рубил дрова и хворост, держал в руках отец. Неразлучный друг Халтарах не отставала от хозяина, словно предчувствовала, что скоро придется расставаться.
Дул осенний холодный ветер, он срывал желтые листья с тополей. Грустно и монотонно пели провода. Мальчик прислушивался к шелесту осенней листвы, к шуму ветра, и сами собой возникали слова, рождалась мелодия:
Осенний ветер трогает
Железные провода.
Сердце мое дрогнуло — В дом мой пришла беда.
Тополь теряет листья.
Я потерял отца.
Грянул фашиста выстрел, Пуля сразила бойца.
Песня, сочиненная по пути к колодцу, не оставляла Кавриса в покое. Она билась в груди, как птица в силках, она хотела вырваться и зазвучать. Вернувшись домой, Каврис несмело взял в руки чатхан 1 — чатхан дяди Карнила.
О, как зазвенела юрта, наполненная мелодией! Казалось, даже ветер вдруг стих, заслушался. Халтарах навострила уши.
Бабушка, сидевшая у огня на шкуре, смахнула набежавшую слезу:
— О Каврис! Ты играешь, а я слышу сыночка Карнила. Прошу тебя, не дружи с чатханом, а то и тебе выпадет такая же злая доля. Я ведь знаю: ты все время поешь про себя, все время поешь... Смотри, пропоешь свое счастье!
— Течен, не говори так. Что плохого в песне? Когда я пою и играю, мне становится легче. Дядю Карнила все любили в нашем аале за то, что он хорошо сочинял песни и сказки. Я тоже хочу!
— Ох, мой мальчик, лучше учись наукам в школе — может быть, станешь врачом или учителем.
Кряхтя и охая, старуха проковыляла к очагу, сняла с огня чугунный круглый котелок с кипящей водой, вылила воду в деревянное ведерко с мукой.
— Как-нибудь да выучу тебя,— шептала она,— если буду жива.
— Будешь, течен, будешь,— ответил Каврис, замирая от жалости.
1 Чатхан — струнный музыкальный инструмент.
Отблески огня играли на морщинистом лице бабушки, и оно выглядело еще бледнее и старее обычного.
— Гнилое дерево долго скрипит,— приговаривала течен, замешивая талган Ч
Утром Каврис уходил в поселок Аскиз, где находилась школа. Кроме тетрадей и учебников, он нес с собой еще два мешочка: в одном был талган, завернутый в тряпицу, в другом — хлеб.
Мальчик знал: это последнее, что есть в доме, и поэтому он спросил:
— Почему, течен, ты себе ничего не оставила?
— Я-то никуда не ухожу. Забыл, как у нас говорят: «Уйти из дома — нужду испытать»?
И все-таки Каврис умудрился поступить по-своему. Когда бабушка на минутку вышла из юрты, он отломил от каравая половину и спрятал хлеб на полку.
В путь! Мальчик вышел на знакомую дорогу и еще раз оглянулся на родной дом. Халтарах кинулась следом, но Каврис, подобрав с земли камешки, замахнулся и сердито прикрикнул: «Назад!» Собака отбежала и остановилась, виляя хвостом: она словно просила разрешения следовать за хозяином, словно уговаривала его своими преданными глазами раздумать и взять ее с собой. Каврис был непреклонен. «Назад!»—повторил он еще строже.
Халтарах, опустив голову, виновато заскулила и затрусила обратно.
Пешком Каврис шел не слишком долго. Через полчаса его нагнала повозка, запряженная парой лошадей. Это оказался отец Пронки, школьного товарища Кавриса. Он вез керосин колхозным трактористам.
Возчик посадил мальчика рядом — впереди двух железных пустых бочек — и, набивая самосадом трубку, сказал:
— Несчастливое ваше поколение... Пронку кое-как собрали в школу. Разве такую жизнь назовешь
1 Талган — мука из жареного зерна: ячменя или пшеницы, заваренная кипятком.
жизнью? Кругом недостатки! И все Гитлер проклятый! Из-за него горе, несчастья, голодуха...
Каврис молчал: он думал о жизни и войне. Вот она какая! Раньше он читал о войне в книжках или смотрел в кино. Это совсем не то! Боль от недавних утрат притупилась, но от нее осталась тяжесть, которая давила на плечи, прижимала к земле, душила радость в сердце.
— Если бы немец,— продолжал Пронкин отец,— так внезапно и коварно не напал... И лето выдалось хорошее, жаркое, щедрое на урожай. Сколько хлеба! А где он? Весь ушел на фронт. Кто станет жалеть хлеб воинам? Последнее отдали бы, лишь бы победить!
Мальчик слушал. От грустных слов становилось неуютно и зябко. Он поднял воротник, сунул руки в карманы — так было теплей. Телегу трясло, мальчика клонило в сон. Каврис задремал и не заметил, как кончился путь. Возле аскизной МТС он слез с телеги, распрощался с возчиком.
— Каврис пришел! Каврис! — зашумели школьные друзья.— А мы думали, что ты учиться не будешь. Молодец! Не хочешь сдаваться!
Учитель математики, обняв мальчика за плечи, сказал:
— Так, что ли, говорится в хакасской поговорке: «Одинокий жеребенок становится конем, мальчик-сирота вырастает мужчиной» ? Танбаев — не одинок, у него есть друзья. Разве мы откажем ему, дети, в помощи?
Шумной толпой ребятишки вошли в класс.
Каврис немного дичился и стеснялся — он пришел позже всех и еще должен был привыкнуть к школьной жизни.
Ребята старались, чтобы он поскорее освоился: кто предлагал сесть за одну парту, кто делился старой книжкой, пером, чернилами. Война и тут сказалась: тетрадей не было — писали на страницах печатных книг, между строчками; вместо железного перышка — гусиное; чернила — из сажи; электричество не горело, занимались при керосиновых лампах.
Каврис, который привык много читать, после уро
ков садился возле печки в интернатском коридоре, подставлял открытые страницы под алые отблески огня — и керосин надо было экономить.
...Бабушка пришла на десятый день. Она принесла Каврису две буханки темного пшеничного хлеба и остуженный в масле талган. Мальчик не столько обрадовался гостинцам, сколько самой бабушке — так соскучился.
— Ты, наверно, ничего в эти дни не ела? — сказал он.— Талган почему на масле? Зачем себя голодом моришь?
— Что ты! — отмахнулась бабушка.— Разве сам себя обидишь?
— Я один твои угощения есть не буду, давай вместе.— Каврис расстелил на тумбочке газету, отломил кусочек талгана, нарезал хлеб.
Хлеб был испечен из темной муки. Оказывается, течен, бродя по пустым токам, чуть ли не по зернышку собирала драгоценную пшеницу, сметала ее вместе с пылью и семенами сорных трав, потом сушила в печке и молола на ручной мельнице.
Каврис с благодарностью и нежностью гладил старые, натруженные бабушкины руки. Он тогда не знал, что это будет их последняя встреча...
Все беды одной веревкой связаны, и никто не ведает, какую за собой потянет первая. Казалось бы, хватило на осиротевшего Кавриса трех несчастий, но вот случилось и четвертое — умерла его течен, последняя надежда, последний родной человек покинул его.
Кавриса на несколько дней отпустили из школы хоронить бабушку. Когда он вошел в дом, он все еще не верил — не верил, что не увидит ее в неизменном синем платье с перламутровой пуговицей...
Течен лежала в гробу, укрытая белым покрывалом.
Мальчик больше не плакал. Откуда возьмется столько слез?! Он решил не возвращаться в школу: зачем учиться, когда не хочется больше жить?
Каврис остался в пустом доме, и никто, даже Асап, не смог уговорить его поселиться у кого-нибудь из деревенских. Он хотел умереть — умереть, как бабушка.
AV
Мальчик лег на бабушкину кровать, закрыл глаза и так пролежал до вечера, призывая смерть. Но смерть почему-то не шла. Лежать на свалявшемся тюфяке было жестко, и Каврис встал, походил по комнате, натыкаясь на всякие ненужные ему теперь вещи. Бродя бесцельно по пустой комнате, пустой, не наполненной ни родным голосом, ни родным дыханием, мальчик нечаянно задел ногой чатхан, прислоненный к кровати. Протяжно и жалобно зазвенели струны.
Каврис в задумчивости взял в руки инструмент, положил его себе на колени и, сам не зная для чего, стал настраивать. Чатхан оживал, беспорядочные звуки вдруг принимали форму: размер, ритм, мелодию. Мелодия тянула за собой слова:
Люди скажут: «За жизнь борись!» Люди скажут: «Крепись, Каврис!» Что отвечу я людям тем?
«Очень страшно сидеть в темноте, Очень страшно быть одному». Я скажу им — они не поймут!
Дальше мальчик не мог петь: слова перебивали слезы, слезы заливали чатхан. Когда человек плачет, петь нельзя.
Обессилевший Каврис опять лег. Теперь он должен уснуть, уснуть навсегда! Если даже кто и постучится — не откроет. Вон Халтарах, глупая собака, в дверь скребется — все равно и ее не впустит!
Каврис лежал до поздних сумерек. Мокрая от слез подушка холодила щеки, от голода скрипело в животе, но смерть все-таки не приходила. Она проглотила самые большие куски — взрослых Танбаевых, а о последнем, крошечном кусочке, видно, позабыла... Может, ночью придет?
Он проснулся на рассвете, открыл глаза. Что же это такое? Живой: видит, слышит, двигается... Значит, не умер и ночью? Есть хотелось смертельно, но Каврис крепился. Еще не поест один день — и обязательно умрет.
В дверь постучались. Каврис замер, не желая выдавать себя даже дыханием. Интересно, кто это? Барабанит кулаками. У кого такие слабые кулаки? У ко
го такой тонкий голосок?.. У кого же еще, как не у Тонки!
Вот кто не хочет, чтобы Каврис сидел один в доме и думал о себе так плохо и так страшно.
— Открывай! Скорей! Сколько можно спать? Кто долго спит, у того, говорят, мозги сохнут! — кричала за дверью дочка Асапа.
— У тебя и сохнуть нечему,— огрызнулся Каврис.
— Открой, тогда посмотрим, кто умней.
— И доказывать нечего — все про девчонок знают, что у них ум короткий.
— Зато у тебя, кажется, язык очень длинный! — не унималась Тонка.
— Ах так! (От сильного рывка дверь распахнулась настежь.) Входи, раз ты такая умная...
Вся Тонкина решительность, вся досада разом пропали, когда она увидела перед собой такое измученное и несчастное лицо.
— Ой! — сказала девочка, чуть отступая.
— Испугалась? — не понял Каврис Тонкиного замешательства.
Он хотел было схватить девчонку за черную косичку, но та вывернулась и нечаянно толкнула мальчика плечом.
Каврис не удержался на ногах и упал. Ему стало очень стыдно: надо же, растянулся перед девчонкой! Резкая боль, как ни странно, вернула его к жизни, к чувствам: он был рад, что все это так случилось.
— Не будем больше ссориться, Тонка,— сказал Каврис, смущенно потирая лоб, на котором прямо на глазах вырастала огромная шишка.— Ты правду говоришь: мозги мои, видимо, совсем высохли. Дурак я...
— А я...
— Ничего ты не знаешь и никогда не узнаешь. Попробую жить, как все люди. Как настоящие,— поправился мальчик.— Халтарах! — позвал он.
Хитрая Халтарах уже давно сидела под кроватью, куда незаметно пробралась тотчас после того, как хозяин отпер дверь. Она выползла на середину комнаты, виляя хвостом. Все ее четыре глаза смеялись.
Глава четвертая
Прошло лето и наступила зима. Земля лежала под белым одеялом снега, а кругом стояла особая, зимняя тишина, лишь дятел, хозяин леса, громко долбил крепким клювом звонкие от мороза стволы: «Тук-тук!»
В аале было тихо, как в зимнем лесу. А ведь раньше здесь было так шумно и многолюдно! Теперь никого почти не осталось — только старики, инвалиды, женщины и дети.
Видно, мужчины увезли с собой не только веселые, бодрые звуки, но и запах хлеба.
Пустой, голодный стоял аал. Осенью колхозники получили на трудодень столько зерна, что и маленький ребенок мог унести. Однако о сироте не забыли: каждый день Каврис получал кринку молока и полбуханки хлеба. Может, и маловато, но всем жилось нелегко... После бабушкиной смерти мальчик покинул летнюю юрту.
Председатель выписал Каврису дров. В доме было по-прежнему чисто, сухо, тепло. Так мальчик хранил дорогую память о погибших и умерших... Потому-то он и в детский дом ехать отказался — не хотел расставаться с вещами, хранившими родные, знакомые запахи.
Когда Кавриса спрашивали, а не боится ли он жить один, не скучно ли ему, он только пожимал плечами: «Чего бояться?» Халтарах согласно мотала хвостом: «Хозяин может быть спокойным — кому, как не мне, Четырехглазой, исправно сторожить дом?»
Первое время мальчик, правда, сильно скучал, но потом привык и, хотя не вернулся в школу, больше не жил отшельником, не дичился, не сторонился людей.
Часто можно было видеть его катающегося вместе с аальской детворой на санках. Он и смеялся, как все, и бегал, и кувыркался. Халтарах не отставала от Кавриса ни на шаг. Когда хозяин, упав в снег с санок, выкарабкивался из сугроба, Четырехглазая тоже ныряла в него по уши, а потом смешно трясла лохматой шерстью так, что вокруг нее образовывалось белое
снежное облако. Ребятишки хохотали над забавной собачонкой. Халтарах бежала к хозяину, прыгала ему на грудь передними лапами, вертела головой, словно предлагала побороться. Каврис делал вид, что сердится, но собака не унималась, пока все не начинали за ней веселую погоню.
Пожалуй, для Кавриса это были самые счастливые часы: его худые щеки розовели, в глазах появлялся блеск.
Однажды — это было в зимние каникулы, когда школьники приехали домой, в родное селение,— Каврис катался с горки. Еще издали он заметил Макара, сына председателя колхоза Муклая, и Тонку. Они шли рядом и о чем-то весело разговаривали. И вдруг Макар, изловчившись, подставил Тонке подножку и опрокинул в сугроб. Набрав полные горсти снега, он пытался затолкать его Тонке за воротник овчинного полушубка. Девочка кричала, вырывалась.
Каврис, съехав с горы, подбежал к ним:
— Эй, что делаешь? Не тронь!
Макар удивленно поднял на Кавриса глаза:
— А ты чего? Жалко? Она твоя невеста, что ли? Так бы и сказал...
Каврис задохнулся от злости, сжал кулаки. Близко-близко он увидел красное, как помидор, лицо обидчика, размахнулся и... ударил. Ударил раз, ударил два...
Правильно говорит пословица: справедливый гнев силы утраивает. И Каврису, конечно, тоже попало, но он уже ничего не чувствовал.
Драка есть драка; только после драки становится ясно, кому больше досталось: у Макара опух левый глаз, а у его противника из носа шла кровь.
— Погоди, ручной ягненок, которого весь колхоз кормит с руки! Отец тебе покажет! — мстительно пообещал Макар, прикладывая к синяку снежок.
— Как ты сказал?! «Ручной ягненок»? Вот тебе за «ягненка»! — Каврис коршуном налетел на спесивого председательского сынка.
Макар упал в глубокий снег головой вниз, так, что торчали ноги.
Обида у Кавриса была такая большая, что он не
стал радоваться победе, а сел рядом с Макаром прямо в сугроб и горько заплакал:
— Теперь бей меня сколько хочешь. Бей, раз твой отец... Тебе есть кому жаловаться, есть кому помочь, кому заступиться...
Макар, отряхивая с колен снег, поднялся и молча взялся за веревку своих санок.
Каврис, наверное, еще долго бы сидел и плакал на снегу вместе с Халтарах, которая, словно жалея хозяина, скулила, лизала его руки, лицо.
Тонка стояла в стороне, пока мальчишки дрались, а когда они наконец разошлись, подбежала к Каврису:
— Своим отцом пугает, начальником пугает! Если бы сам остался сиротой, как ты, был бы совсем никудышный. И при живых родителях на одни двойки учится, за плохое поведение его даже хотели из школы исключить. А если председатель не захочет тебе продукты давать, кланяться не будем. Отец давно говорил, чтобы ты у нас жил...
Мальчику приятно было слышать такие слова. Тон-кины (родители и Танбаевы всегда жили дружно, по-соседски. Во время праздников, бывало, зарежут барана или теленка и зовут друг друга в гости угощаться горячим ханом, кровяной колбасой. Но все-таки он не пойдет к Асапу жить. Он считает себя взрослым и может жить самостоятельно, в своем собственном доме.
— Нет,— сказал Каврис,— я не уйду из своего дома. Буду работать...
— А школа?
— Нет мне больше учебы.
— Ты же учился хорошо. Все учителя тебя помнят. Все жалеют, что ты бросил...
Бывают же на свете такие люди! Стоило Тонке заговорить о школе, как Каврис увидел все, как наяву. Самых любимых учителей увидел: с голубыми глазами, как вода в реке Абакан, с косами золотыми Софью Михайловну; веселую Ольгу Павловну, у которой волосы черные, как спинка ласточки, а глаза, как спелая смородина. Их звонкие голоса услышал. Софья Михайловна на уроке литературы рассказывает
о Пушкине и Лермонтове — жизнь поэтов поинтересней любой сказки.
— А кто про меня спрашивал?
— Софья Михайловна и Ольга Павловна... И на будущий год тоже в аале останешься?
— Как получится,— неуверенно ответил Каврис, а сам про себя подумал: «Нехорошо поступаю. Дядя Карнил был бы наверняка недоволен. Буду учиться!»
— Давай еще кататься? — попросила Тонка: ей хотелось как-то подбодрить товарища, но тот почему-то заспешил:
— Кое-что надо дома сделать...
Каврис порывисто дернул санки и, как показалось девочке, сердито отвернулся.
На самом деле Каврису нечего делать дома, а отвернулся он потому, что Тонка была такой красивой, как красавица из сказок, как веселое солнце в ясный день.
... Дом за день выстыл. Он показался мальчику неуютным и сирым. Чем заняться, как развеять тоску, которая иногда бывала просто невыносимой, сколько бы ни крепился и ни бодрился Каврис? Возле кровати, на обычном своем месте, стоял чатхан. Мальчик поднял его, поставил на стол, тронул струны.
Нет, никогда еще любимый инструмент не изменял ему, всегда с готовностью отзывался на призыв его сердца.
Негромко и нежно пели струны, Каврис вспоминал...
Когда на чатхане играл его прежний хозяин, дядя Карнил, весь дом будто раскрывался настежь, впуская зеленые лужайки, лес, синее небо, реки, горы. Они подпевали музыканту, и вместе с ними веселились сердца.
Раньше Каврис, подражая дяде, учился петь «горлом». Это очень трудно — не каждый хакас умеет. Певец поет на два голоса одновременно: одним — как в обычной песне; другим — только особые, гортанные гласные. В горле щекотало, звук не шел. Теперь же не было больше никаких преград — все слушалось мальчика: струны, голос, воображение... Сначала чувства и мысли, которые возникали в его душе, складывались в
не совсем обычные слова и фразы, и мелодия сначала бывала примитивна.
— Береза, растущая на песчаном бугре, вырастет, если ее не заглушит песок,— бормотал тихонько Каврис, отыскивая слова,— мальчишка-сирота выстоит, если переборет свое горе...
Сочинять новую песню Каврис любил в одиночестве — посторонние мешали найти слова и звуки поточней, покрасивей. За сочинением незаметно проходило время и затихала печаль...
Когда опустились вечерние сумерки, мальчик все еще играл, изредка посматривая на окно, где мороз рисовал свои узоры: вот-вот могут прийти его друзья, с которыми он играет, слушает и рассказывает сказки.
Ребятишки — кто помладше, кто постарше Кавриса — любили по вечерам собираться в его доме. Лежа на полу или на кровати, они часами слушали Кавриса.
Вот и сегодня, когда раздались чьи-то шаги, мальчик подумал, что пришли друзья, но он ошибся — в дверях стоял Макар.
— Что тебе надо? — спросил Каврис и отвернулся.
— Не сердись. Давай мириться. Отец чуть не отлупил...
Каврису хотелось сказать Макару, что, мол, так тебе и надо, но он вспомнил бабушку. Бабушка не раз говорила: «Не сравнивай себя с горой, а товарища с соломинкой» ; «Едва оперившись, не стремись летать высоко» ; «Если в юрту собака войдет, дай ей кость, если человек — приветь его». И еще вспомнилось: раньше они с Макаром были друзьями, вместе играли в «Чапая». Все-таки непонятно, что произошло на горке? Из-за «ягненка» или из-за «невесты» они поссорились? Что обиднее? И вообще Тонка... Слишком много внимания он на нее последнее время обращает, слишком часто ловит себя на мысли, что, выйдя со двора, то и дело заглядывается на дом Асапа, ища глазами тоненькую фигурку с черными косичками на плечах.
— Может, скажешь, почему обозвал «ручным ягненком»? Так, для интереса? — спросил Каврис, не желая таить про себя ни оскорбление, ни память о нем.
— Не пойму сам... Получилось.— Макар опустил глаза.— Конечно, больше так никогда не скажу...
— Время трудное,— рассудительно, как взрослый, проговорил Каврис,— теперь надо быть всем заодно и не ругаться.
В это время в дом влетела целая ватага: все румяные, все в снегу...
— Раздевайтесь,— пригласил ребят Каврис,— будем играть.
Самой любимой игрой была игра в жмурки — места в полупустом доме Танбаевых достаточно, взрослых нет — можно бегать, можно шуметь.
— Кто будет водить?
— Я буду,— вызвался Сапин, мальчик со смуглым лицом.
Каврис плотно завязал ему глаза полотенцем, и Сапин, раскинув руки, как птица крылья, стал гоняться за ребятишками. Дом дрожал от хохота и беготни.
Первым попался Макар. Сначала он не очень хотел играть, но потом, видя, что хозяин на него совсем не сердится, разошелся и хохотал громче всех.
Во время игры кто-то наступил невзначай на лапу Халтарах. Собака взвизгнула.
— Кончайте! — приказал хозяин.— Тишина. Чья сегодня очередь рассказывать? — Он обвел глазами разгоряченные и потные лица ребят.
— Можно, я расскажу, без очереди,— вызвался вдруг Макар,— если, конечно, хотите?
— Рассказывай ты! — загалдели все.
— Когда-то, давным-давно, рядом с густой тайгой, под голубой горой жил мальчик-сирота. Он не помнил нежных рук своей матери и сильных рук отца...
При слове «сирота» Каврис принялся заталкивать в печку неуклюжие и скользкие от мороза поленья. Поленья вспыхнули, печка загудела. Яркий огонь, бушевавший внутри, просачивался сквозь дырочки в чугунной дверце, тускло освещая избу розоватым светом. При таком цвете огня сказка звучала еще таинственней и задушевней.
— Сирота мог кормиться только охотой,— продолжал рассказчик.— Однажды, возвращаясь после удачного полевания, он услышал вопли и рыдания. Они
шли со дна глубокой ямы, такой глубокой, что она казалась бездонной...
Там, в темноте, ярко горели чьи-то глаза.
Увидев над собой лицо сироты, сидящий на дне стал молить человеческим голосом:
«О молодой охотник, спаси меня! Помоги выбраться. Если выручишь, никогда не забуду тебя».
«А ты кто такой?» — спросил мальчик.
«Я — Владыка Волков».
«Хорошо, быть по-твоему».
Сирота снял с пояса топор, срубил длинные шесты, связал их вместе и опустил в яму.
Владыка Волков оказался крупным и красивым. Выпрыгнув из ловушки, он зевнул и потянулся. Когда зевал, Владыка Волков становился очень страшным: нижняя челюсть упиралась в землю, верхняя — достигала небес, зубы сияли, как горные снежные вершины.
— Такой,— зашептались между собой ребятишки, представив ужасного волка,— мог бы и целый аал проглотить!
— «Я своих слов на ветер не бросаю»,— сказал Владыка Волков, закрывая пасть.
Когда закрылась его огромная, похожая на глубокое ущелье, пасть, вся тайга покрылась туманом.
«Где ты живешь? — спросил Волка мальчик-сирота.— Если мне понадобится твоя помощь, где тебя искать?»
«Я живу за поднебесной горой, за морем, что бескрайней всей тайги».
«О, как далеко!»
«Такому сильному и мудрому человеку, который смог вызволить из беды самого Владыку Волков, это расстояние не помеха».
«Как же ты, Владыка, в яму угодил?»
«В нее заключил меня Царь-Лягушка».
«За что же?»
«За то, мой мальчик, что я ему свою дочь в жены не отдал... А теперь прощай»,— сказал Волк и исчез с быстротой молнии.
После встречи с волком-великаном сирота все время думал о нем. И вот однажды, когда мальчик бродил
по тайге, делая меткие выстрелы из лука по птицам и удачно сражая копьем зверей, он неожиданно провалился под землю.
Под землей он увидел Крылатого Змея, очень большого и длинного. На голове у Змея сверкала золотая корона.
«Вот человек,— сказал Змей,— который может мне помочь».
Сирота испугался, увидев перед собой страшное чудовище, хотя он вообще страха не знал.
«Чем же тебе помочь?» — храбро спросил мальчик.
«Я иду воевать с Царем-Лягушкой. И если не осилю его, ты вступишься. Знаю, что можешь метко стрелять из лука и поражать копьем. Будешь целиться туда, где у него ключицы соединяются. А сейчас садись мне на спину и закрой глаза».
Сирота послушался, сел верхом на Крылатого Змея, зажмурился. Сразу же зашумело, загудело в ушах... А когда шум стих, Змей и говорит:
«Открой глаза, парень, прилетели на место борьбы».
Молодой охотник открыл глаза и видит: невдалеке сидит крупная лягушка с золотой головой. Голова у Царя-Лягушки величиной с гору, глаза — два огромных котла. При дыхании у него раздувается кожа под ключицами.
Царь-Лягушка, не дожидаясь нападения, сам начал сражение. Он сделал три прыжка навстречу Крылатому Змею, и тотчас же все деревья в тайге раскалились докрасна, огромные камни рассыпались в мелкую крошку. Черная пыль, подымаясь к небу, заслонила солнце, реки вышли из берегов.
Долго ли, коротко ли шло сражение, только видит вдруг мальчик — плохо приходится Змею: крылья по земле распластались бессильно и дышать не может. А Царь-Лягушка сел на него верхом и лапами бьет по спине. Серебряные когти вонзаются в змеиную кожу, глаза красным пламенем горят, а место, где ключицы соединяются, так и ходит, так и ходит...
«Владыку Волков победил — в яму бросил, и тебе, Крылатому Змею, конец».
После таких хвастливых слов сироту охватил вели-
кий гнев. Он прицелился из лука и выстрелил. Спущенная тетива зазвенела, пущенная стрела засвистела. Упал Царь-Лягушка, потекла черная кровь как раз из того места, где ключицы соединяются.
Тут Крылатый Змей и говорит:
«Ты помог уничтожить самого злого врага. Мы с ним жили во вражде несколько сотен лет. Теперь проси у меня чего хочешь».
«Отвези меня через большую поднебесную гору, переправь через безбрежное море».
«Только-то! — удивился Змей.— Это мне совсем просто. Садись!»
И опять парень сел верхом на Крылатого Змея, и опять зажмурил глаза, и опять зашумело, загудело в ушах, а когда приземлились, видит: позади осталась поднебесная гора, позади осталось безбрежное море. От берега моря до самого синего небосклона расстилается степь, в степи пасутся стада, посередине степи стоит белокаменный дворец и ослепительно сияет.
«Чей дворец?» — спросил сирота у Змея.
«Владыки Волков,— ответил тот.— Долго ли ты здесь пробудешь? Я за тобой прилечу через три дня».
Пошел парень по степной дороге, направляясь к белому дворцу. Идет, а навстречу ему старик с белой бородой.
«Чьи стада?» — спрашивает сирота.
«Владыка Волков — хозяин. А ты куда, парень, путь держишь?»
Рассказал сирота старому пастуху все, что с ним приключилось.
«Если он обещал исполнить каждое твое желание, проси щенка с опаленной шерстью. Больше ничего не проси».
«Хорошо,— подумал про себя молодой охотник,— как раз мне и нужна собака».
Пришел во дворец Владыки Волков. Очень ему Волк обрадовался, собрал большой той. А когда сели пировать, спрашивает:
«Что хочешь, гость дорогой?»
Тот отвечает, как старик посоветовал:
«Ничего не хочу, Владыка, только одного лишь щенка с опаленной шерстью».
Владыка Волков после этих слов сильно загрустил, хотя виду не показывает. Как повернется лицом к парню — весел; отвернется — слезы проливает.
Очень удивился этому сирота.
«Лишнего, кажись, ничего не просил,— подумал,— собаку для охоты».
«Высказанные слова — стрела пущенная, обратно в колчан не вставишь. Хорошо, бери щенка. Дарю за то, что спас меня от Царя-Лягушки».
«Царя-Лягушки больше нет. Крылатый Змей его совсем победил»,— сказал сирота.
«Правда ли?» — не поверил Волк.
«Можешь спросить у самого Змея, он сегодня прилетит на берег моря».
«Если обманываешь, — пригрозил Владыка Волков,— велю голову срубить!»
Парень в ответ только засмеялся.
Владыка Волков, сирота и щенок с опаленной шерстью отправились на берег моря. Там уже сидел Крылатый Змей.
«Я ждал этого парня. Я его сюда привез, я его и обратно увезу».
«Что он сделал такого хорошего, почему ты его туда-сюда возишь?» — спросил Волк.
«Если бы не он, меня бы на свете не было. Он мне помог победить Царя-Лягушку, наповал сразил меткой стрелой!»
Владыка Волков радостно засмеялся:
«Пошли во дворец! Чего же ты мне, сирота, сразу об этом не сказал?»
Владыка велел своим слугам собирать народ на праздник. Сначала парень очень удивился, но вскоре ему все стало ясно: свадьбу справлять решил Владыка Волков — его, сироту, женить на своей дочери. Оказывается, щенок с опаленной шерстью не щенок, а красавица девушка. Это ее хотел себе в жены Царь-Лягушка взять. За то и бросил отца в глубокую яму. Чтобы страшная Лягушка до дочери не добралась, Владыка Волков превратил ее в паршивого щенка.
«Отдаю свою дочь храброму сироте,— сказал Волк,— он нас всех спас от злодея».
Той был такой большой и радостный, какого еще
не видел белый свет. Близко живущие люди шли пешком, далеко живущие на нарядных конях прискакали.
Говорят, что парень-сирота когда сам стал Великим Ханом, то у него в стране никто не знал страданий и нищеты, он никого не обижал, а бедным сиротам помогал в первую очередь...
Так получилось, что сказка о сироте, рассказанная Макаром в тот синий морозный вечер, была последней. Вскоре ребята уехали, и Каврис остался один.
Односельчане не забывали Кавриса: женщины приходили, чтобы помочь ему в доме по хозяйству, и в колхозе находилась для сироты Танбаева кое-какая работа. У Кавриса, как и у погибшего отца, были золотые руки. Он понемногу столярничал, помогал конюху на колхозной конюшне. Взрослые ломали голову, куда бы пристроить мальчика. Как-то прошел слух, что в шахтерском городке Черногорске открывается фабрично-заводское училище. На правлении колхоза было решено весной отправить Кавриса вместе с остальными аальскими парнями в ФЗУ.
Г лава пятая
Глубокая извилистая долина рассекает скалистые горы. По дну ее бежит резвый весенний ручеек, сверкая чистой стеклянной спиной. Он журчит, словно лепечет ребенок, радуясь весеннему солнцу. Он родился от спрятавшихся в тени снегов и будет жить только до лета. В летнее время ручей высохнет, останется лишь песок да галька. Правда, летом, после сильных ливней, он опять оживет, но только вода его потеряет свою весеннюю прозрачность, станет мутной и бурой.
...С горы в долину, держась берега ручья, спускается босоногий парнишка с черно-рыжей собакой. В руке он держит большой железный посох, на спине болтается ведро, в ведре гремят капканы. Это Каврис с Халтарах.
Весенний ветерок теребит его давно не стриженные кудрявые волосы, которые, спускаясь на высокий лоб,
мешают смотреть и которые парнишка то и дело откидывает назад.
Пройдя несколько шагов, Каврис остановился, сел на плоский камень, похожий на стул, и стал обдирать складным ножом шкурки с убитых сусликов.
Сегодня он добыл их немало.
Весенний ручей не только утоляет жажду и радует взгляд игрой своих чистых струек, но помогает охоте за сусликами. Аальские ребятишки каждую весну ставят на его берегу капканы и, таская ведрами воду, заливают норки так, что зверьки поневоле должны оставлять свои убежища. Но охотиться за сусликами весной не так-то легко — они становятся очень хитрыми: покажутся ненадолго из норки, кинут взгляд кругом и — юрк! Разглядеть в густых травах пестренькую шкурку очень трудно. Только хорошая собака может найти. Обнаружив норку, она начинает копать землю передними лапами. Тут охотнику надо спешить: если есть вблизи вода, бежать с ведром к луже или ручью; если нет воды — ставить капкан.
Не всякая собака может ходить за сусликами. Некоторые теряют след — хитрый суслик умеет его запутывать; недаром говорят, что он по одной тропке не бегает.
Халтарах сусликам не перехитрить: возьмет след и несется к норке, загнув хвост калачиком,— не уйти теперь зверьку!
Словно зная цену своему труду, Халтарах, положив морду на передние лапы, следит за руками хозяина. Глаза ее горят, она часто облизывается: «Жирное, вкусное мясо у суслика... Отчего не дашь мне кусочек?»
Каврис знает, что у охотников-товарищей есть таежный закон — делиться добычей. Значит, и Халтарах имеет право на свою долю. Выбрав тушку, самую подходящую на его взгляд, мальчик бросает ее собаке:
— На, Четырехглазая! Ты можешь есть и сырое. Я так не могу. Тебе-то что! Поешь досыта, и печали нет, лишь бы сегодня есть не хотелось. О завтрашнем дне не думаешь. В этом я собакам завидую.
Собака, съев суслика, осталась очень довольна, лег
ла на спину и принялась кататься, бить хвостом по земле и показывать свои белоснежные зубы. Потом, взглянув на погрустневшее лицо Кавриса, поднялась и подошла к нему, махая пушистым хвостом: мол, чем я могу помочь в такое трудное время? Мальчик легонько оттолкнул Халтарах, и она опять повалилась на землю, радуясь сытости...
Кончив обдирать сусликов, Каврис набрал хворосту и развел костер, высекая из кремня искры на хабо — сухой березовый гриб. Потом он обстругал прутик, заострил один конец, проткнул тушку и стал держать ее над огнем.
Видно, костер тоже проголодался. Желто-красным языком он лизал мясо, мясо шипело, на угли падали золотистые капельки жира. Огонь казался Каврису живым, и бабушка, вспомнил, говорила, что огню надо давать есть. Течен никогда не забывала покормить его: то ложкой каши, то куском хлеба, то мясом. Она учила Кавриса: огонь все видит, все слышит, только говорить не может. Им всегда нужно дорожить, нельзя шутить, заигрывать, иначе из маленького, доброго пламени он может превратиться в большой, злобный пожар.
Каврис бросил в костер еще охапку хвороста, весело загорелись сухие ветки. Мальчик смотрел на яркое пламя, грелся, ел вкусное, прокопченное, «с дымком» мясо и тихонько напевал:
Гори, желтый огонек, Свети, красный уголек, В самый дальний уголок Донеси свой ясный свет, Покажи, что горя нет.
Слова новой незатейливой песенки рождались вместе с мотивом, звучащим где-то рядом.
Огонь горел, легкий весенний ветерок играл с пламенем. Каврис подумал, что светящийся в ночи костер похож на цветок «волчий глаз» :
Волчий цветок — Яркий цветок И виден издалека. Ты цветешь, чтоб гореть, Как волчьи глаза: На зубчатом зеленом блюдце Зажигаешь желтый огонь.
Ты растешь в горах, И не увидит тебя тот, Кто далеко не ходит от дома.
Каврис сделал несколько шагов к ручью, нагнулся, опираясь руками о мелкую гальку, прильнул губами к воде, отпил несколько глотков.
Ручеек пел. В его звуках слышались слова, неясные, едва различимые, но как раз те, которые хотел сказать мальчик:
Беги, беги, ручеек,
Вейся, вейся, ветерок.
Разнеси по свету весть, Что Каврис в аале есть.
Весеннее солнце щедро раскидало по земле свои золоченые кисти. Их ловили лепестки подснежников, горы, деревья, земля, трава. Все вокруг пело и радовалось теплу...
Вдруг за спиной у Кавриса раздался пронзительный свист. Мальчик вздрогнул и оглянулся... Макар! У него тоже было ведерко с капканами. Халтарах тотчас затеяла с его собакой игру.
— Видишь, как они соскучились! — сказал Макар, поглядывая на резвящихся собак.
— И мы с тобой давно не виделись,— добавил Каврис.— Целую зиму... Как ты школу кончил?
— Никак,— нахмурился председателев сын.— До экзаменов не допустили. На второй год оставили...
Каврис от такой новости растерялся; ему даже стыдно стало, словно не Макар, а он сам сделал что-то нехорошее.
«Как же так,— подумал он,— как можно не учиться, если отец заботится, кормит, одевает? Почему учебой не дорожил?»
— Ты на меня все еще обижаешься? — спросил Макар.
На такой вопрос Каврис не мог дать ответа. Конечно, «колхозного ягненка» он давно простил, но вот новая... Новая обида была и ему самому непонятна. Выходит, одни могут учиться, но не хотят, другие хотят, а не могут. И тут было что-то неприятное для Кавриса.
— Ох ты! Сколько добыл! — восхищался Макар, склоняясь над Каврисовым ведерком.— Жирные, сала как на поросятах! А я ничего не поймал.
— Чужой добыче не удивляются. От чужой зависти удачи не будет... Хочешь, возьми одного.
Макар выбрал самую жирную тушку и стал сдирать с нее сало.
— Зачем обдираешь? — удивился Каврис.
— Сусличье сало для сапог годится. Смажешь — долго носиться будут.
Каврис никогда не был завистником, но, глядя на Макара, как тот мажет салом новые сапоги, вздохнул. Сам он с ранней весны ходит босиком, и от этого ноги стали шершавыми и черными, как вороньи лапы.
— А ты почему за сусликами ходишь? Разве вам еды не хватает?
— У нас, как у всех. А что я салом сапоги мажу, так это для того, чтобы можно было подольше новых не справлять.
Смазанные голенища стали черными и блестящими. Макар удовлетворенно топнул ногой, любуясь своей работой, но, взглянув на товарища, который, сидя у костра, тоже смазывал жиром потрескавшиеся до крови ноги, погрустнел:
— Зря я суслика выпросил. Они тебе нужнее. Возьми! За суслика,— и протянул Каврису кусок хлеба.
Каврис отвернулся. Рот его наполнился голодной слюной.
— Не надо,— сказал он, мягко отстраняя протянутую руку,— я сусликами не торгую.
— Покуда не возьмешь — не отстану!
Каврис упорствовал, Макар настаивал. Так они препирались долго. Первым не выдержал Макар. Он положил хлеб на большой камень, свистнул свою собаку и ушел. От его быстрого шага громыхали капканы в пустом ведре. Наверно, очень рассердился.
Пусть сердится! Каврис собрал свои вещички и тоже пошел домой. Он шел медленнее, чем Макар: ногам было больно от острых камней и терновника. Но все-таки он успел отойти на довольно большое расстояние, как неожиданно его обожгла мысль: «Не хлеб за человеком гоняется, а человек за хлебом».
Несмотря на сильную боль в израненных ногах, Каврис побежал обратно.
Темный кусочек сиротливо лежал на камне и притягивал к себе точно магнит.
Мальчик брал хлеб осторожно, как берут очень тяжелую вещь. От душистого, сытного запаха ныли щеки.
— Эх ты, хлебушко! — глубоко вздохнул Каврис.
Казалось, вместе с ним горестно вздохнули и горы, и ручей, и солнце, и деревья.
Г лава шестая
Солнце закатилось, но вечерние сумерки еще не спустились в аал. Западный край неба стал алым. То белый, то синий дым выходил из печных труб и расстилался, как туман. Доили только что вернувшихся с пастбища коров. Откуда-то, с самой вершины горы, слышался детский голос, погонявший скот, и лай собачонки.
Невдалеке от аала, на лугу, кричали-спорили дергачи. В скалистых горах, проснувшись от дневного сна, ухал филин: «Ух-ух-ух!»
Мирные звуки. Они говорили о том, как широка наша Родина: где-то идет война, рвутся снаряды, бомбы, а здесь, в далеком тылу, тихо.
Взгляд Кавриса, спускавшегося с горы, был прикован к зданию клуба, которое теперь по вечерам оставалось безлюдным. Раньше, до войны, клуб не пустовал. В нем часто собиралась аальская молодежь. Крепкие, здоровые парни и девушки, нарядные, они кружились по залу под звуки балалайки и мандолины.
Любопытные, досужие ребятишки не пропускали ни одного вечера. Если их выпроваживали из помещения, они прилипали к окнам, как стайка воробьев.
Теперь нет больше в аале парней, а девушкам без парней, как лету без солнца...
Проголодавшийся и усталый Каврис торопился в аал, чтобы успеть получить дневной паек, который выдавался в колхозной кладовой, рядом с клубом.
Завидя его, малышня побежала следом шумной гурьбой, крича на весь аал:
— Колхозный мальчик пришел!
«Колхозный мальчик» уже знал, что ему надо будет поделиться с «голопузой командой» кусочком хлеба... Но он так и не успел сделать этого: председатель Муклай остановил его на полпути и позвал в контору.
Он внимательно расспрашивал сироту Танбаева про жизнь, интересовался, много ли добыл сусликов, что-то записывал на листе бумаги.
— Хочешь учиться? — спросил Муклай, поглядывая на его босые ноги.— Почему ходишь разутый? Нет сапог?
Мальчик смутился.
— Вот беда! — посочувствовал Муклай.— Хочу тебе вот что сказать... Мы тут в правлении посовещались и решили: в Черногорске открылось ФЗУ; правда, принимают только с шестнадцати. Дают одежду и питание хорошее. Поедешь учиться.
— Меня не возьмут... По возрасту не подхожу.
— Это мы предусмотрели, письмо приготовили, может, примут. По просьбе колхоза, как исключение.
У Кавриса сердце замерло от радости, он чуть-чуть не назвал Муклая «дядя», хотя председатель не был его родственником.
— Если пошлете — поеду.
— Давай приходи завтра в контору.
От председателя мальчик вышел совсем счастливый. Халтарах, ожидавшая его возле дверей, почувствовала это. Она носилась перед Каврисом как угорелая, падала на землю, прыгала ему на грудь, норовя лизнуть в губы. Облинявшая шерсть ее была похожа на обносившуюся одежду самого хозяина, на его штаны в заплатках и рубаху с протертыми до дыр локтями. Мальчик не обращал внимания на собаку — его мысли были далеко.
Он представлял себе город, которого никогда не видел...
Каврис очнулся от своих мечтаний, услыхав крики: «Кино привезли!» Это вопили ребятишки, бежавшие в клуб.
В клубе было полно народа. Каврис повесил на гвоздик ведро с сусличьим мясом и вошел в зрительный зал.
На полотне экрана засветились большие буквы: «Светлый путь». Мальчик смотрел на полотно затаив дыхание. Кинокадры рассказывали о девочке-сироте, которая становится потом знаменитой ткачихой, орденоносцем.
Возвращаясь после кино домой, Каврис чувствовал необыкновенную радость. Может, если он завтра уедет в город и поступит в ФЗУ, его жизнь тоже изменится, как жизнь героини из «Светлого пути».
Вот и выполнил он пожелание дяди Карнила. Ведь что в школе заниматься, что в училище — одно и то же.
Учеба! Нет, он не останется темным, полуграмотным человеком. Хороший мастер на заводе или фабрике приносит людям пользу не меньше, чем учитель в школе либо врач в больнице!
Он будет так же красиво петь, и им будут так же восхищаться все люди. Ведь в городе учатся всему хорошему: музыке, пению — самому для него заветному...
Каврис лег спать во дворе, на старую деревянную кровать, укрывшись отцовским полушубком.
Дышал прохладой ночной ветер.
В эту ночь «бесстрашный Каврис», прозванный так товарищами за то, что не боится спать на воле, думал о будущем.
Вот он уже кончил училище, стал на заводе самым лучшим рабочим, его награждают орденом (директор сам прикалывает сияющий орден к его новому костюму). Когда знаменитый Танбаев идет по улице, все обращают на него внимание. Теперь он не тот Каврис — аальский мальчишка в дырявой рубахе, а настоящий молодой парень. Каврис Танбаев становится музыкантом, о его таланте узнают в Красноярске, потом в Москве. Он едет в Москву учиться музыке.
Неизвестно, до каких пор еще бы профантазировал счастливый Каврис — может, до самого утра,— если бы его вдруг кто-то не окликнул и не дернул за край свесившегося с кровати полушубка.
Луна, выглянувшая из-за плывущих облаков, осветила невысокую, приземистую фигуру. Каврис притворился спящим.
— Спишь? — спросил Макар.
— Сплю. А что? — недовольно пробурчал Каврис, шумно зевая.— Бродишь по ночам, спать не даешь...
— Ты ведь не спишь.
— Не сплю: всякое в голову лезет...
— Я тебе сапоги принес. Отец сказал: «Передашь утром», а я не вытерпел.
— Завтра в город еду, в ФЗУ, там мне и сапоги дадут. До города можно босиком — ничего особенного, привык.
— В город? — От удивления Макар даже присел. — Я не знал. Я бы тоже хотел...
— Поехали! — Каврису очень понравилась эта мысль; хоть они и частенько не ладят с Макаром, но он свой, аальский.— Попросись у отца.
— Попрошусь!
— Честное слово?
— Вот увидишь.— Черные густые брови Макара сошлись на переносице.— Я своему слову хозяин!
Макар ушел, нарочито гремя сапогами...
Аал спал, только над лугом носились бекасы, горестным криком разрывая ночь.
Глава седьмая
Каврис проснулся поздно. Солнце стояло над горами высоко. Звенели жаворонки, над рекой кричали чайки, ищущие утреннюю добычу.
Мальчик вскочил с кровати, в сердцах пнул ногой собаку.
— Когда надо — молчишь,— упрекнул он Халта-рах,— когда не надо — лаешь!
Собака, не поняв, отчего хозяин сегодня такой сердитый, отбежала прочь, обиженно заскулив.
— Если уеду, как будешь жить без меня? — прошептал Каврис с раскаянием и горечью.
По дороге к конторе мальчик волновался: вдруг да Муклай куда-нибудь уехал! Но он ошибся: председатель сидел за своим большим столом и считал на счетах, как бухгалтер.
Каврис робко остановился в дверях. Муклай, казалось, не замечал его, лишь мельком взглянул на его ноги:
— Где же сапоги? Не подошли?
По правде говоря, мальчик уже и забыл про своего ночного гостя, просто вылетело из головы,— так нервничал, что может опоздать.
Пока он собирался что-либо ответить, председатель протянул какую-то бумажку:
— Получишь у кладовщика. Босым не поедешь. Тоня даст на дорогу продукты.
— Из семиклассников никто больше не едет?
— Никто. Иди, не задерживайся. Желаю успеха.— Муклай пожал руку, как взрослый взрослому.
Каврис хотел спросить у него про Макара, но постеснялся.
«Значит,— думал он по дороге к кладовой,— Макар обманул, не попросился в город?»
Румяная девушка Тоня, прочитав записку от Мук-лая, сказала лукаво:
— И ты от нас уезжаешь? А я-то думала, парней, уехавших на фронт, заменишь...
Тоня хотела пошутить, но вышло грустно.
— Не забывай, Каврис, родного аала.— Ее густые короткие ресницы дрогнули.
Простившись с Тоней-кладовщицей, Каврис пошел домой. В руках он держал сапоги и полбуханки хлеба.
Каврис долго и старательно мыл ноги в канаве. Халтарах нетерпеливо повизгивала: «Скоро ли пойдем за сусликами?»
— Эх, Четырехглазая моя, никуда мы с тобой больше не пойдем...— Мальчик погладил собаку по голове.— Уезжаю я далеко-далеко. Ты, бедная, ничего не знаешь...
Когда Каврис обувался, заявился Макар. Вид у него был довольно печальный.
— Не хочешь ехать?
— Мать не пускает...
Каврис удивился про себя: «Если это хорошая учеба, то почему председателева сына не отпускают? Наверно, не очень-то хорошая. Но ч'го поделаешь — мне выбирать не из чего».
Перед тем как уйти, мальчик прибрал в доме, уложил все лишнее в сундук. И Макар ему помогал, а вот Халтарах мешала: тыкалась в ноги, скулила.
— Оставь мне собаку,— попросил Макар,— моя сильно ленивая.
— Бери. Ей у вас будет лучше.
Макар вынул из кармана веревку, словно он уже заранее знал, что так получится, и принялся завязывать ее на шее Халтарах. Четырехглазая не сопротивлялась. Каврис даже удивился — значит, собаки не такие уж и бестолковые и все понимают. Конечно, у председателя Халтарах поправится, вылиняет, шерсть на ней залоснится. Он с грустью смотрел, как уходит его Четырехглазая с новым хозяином.
... У сельсовета уже стоял фургон. Все были готовы к отъезду — дожидались Танбаева. Каврис быстро прыгнул в фургон, и лошади тронулись.
Аал удалялся, но еще долго был виден красный флаг над сельсоветом, мальчик помахал ему рукой...
А вокруг, над курганной степью, звенели колокольчики жаворонков, желавших путникам счастливой дороги.
Каврис смотрел на родные горы, где много раз бродил с верной Халтарах.
Ребята пели. Их песни были о тех, кто ушел на фронт. Будущие фезеушники воображали, что они солдаты и едут на войну.
Каврису хотелось петь на свой лад, по своей мелодии, но он не решался. Река Абакан, текущая вдоль дороги, плескалась волнами о берег, словно подзадоривала его начать. Мальчик не вытерпел. Он встал во весь рост в высоком фургоне. Дощатое дно казалось ему сценой, он не видел больше ни парней, с которыми ехал поступать в ФЗУ, ни лошадей, ни дороги — только небо, степь, горы, реку.
Крылья белых чаек вели его песню, которую он пел гортанно, как стародавние певцы-хакасы:
Белые чайки с двумя крылами Найдут себе пищу в реке с волнами. Парни с крепкими руками Заслужат славу своими трудами.
Попутчики Кавриса перестали разговаривать и перешептываться с первых же слов песни, они не сводили глаз с вдохновенного лица юного певца. А Каврис уже пел о степном орле:
С могучими крыльями ты, орел, Где совьешь свое гнездо? Парни с веселыми глазами, В каких краях вы сейчас одиноки? С твердыми крыльями орел Находит пристанище в недоступных скалах. Парни, любившие жизнь, Не показывают спину врагу.
Солнце уже перешло полдень и стояло на западе. Его золотые лучи были раскиданы по лесу, укрывавшему зеленым бархатом берега реки Абакан.
Внимание мальчика привлекли каменные курганы, которыми была усеяна вся степь до горизонта. Любознательный Каврис и раньше интересовался этими молчаливыми памятниками. Старики толковали о них по-разному : одни говорили, что это могилы погибших воинов, боровшихся против иноземных врагов; другие называли курганы «юртами предков». Не желая, мол, сдаваться врагу, древние хакасы якобы погребли себя в земле и... окаменели вместе со своими жилищами.
Каврис больше верил первому, а против второго возражал: «Наш народ не станет себя убивать. Он будет бороться до последней капли крови».
И сейчас, вспоминая легенды, он запел:
Курганы, курганы, курганы, Белые, черные камни. Расскажите всю правду О погибших в боях.
Железные пики пронзали Отважное сердце героев, И мертвые падали наземь, Как желтые листья в горах.
...По широкой степи летели песни, а зеленый густой лес, подхватывая, повторял. Река Абакан играла с волнами и отражениями белых чаек. Горы, оставшиеся вдалеке, повторяли мотив: «Не забывай, не забывай! »
Каврис пел, настраивая свой голос в такт со всем этим прекрасным миром.
Глава восьмая
В город приехали на утро следующего дня. Ааль-ские остановились у железнодорожной станции Абакан. На станции было много народа — не сравнить с деревней. Люди куда-то спешили, как муравьи перед дождем.
На железных рельсах стояли зеленые вагоны с большими тяжелыми колесами. Черный паровоз, пыхтя и фыркая белым паром, пролетел мимо них. Его громкое фырканье походило на конское ржание. Не ожидая от паровоза такого сильного голоса, Каврис вздрогнул. Недаром отец называл паровоз «черным жеребцом».
«Черный жеребец» был такой сильный, что мог тащить за собой сразу по нескольку домов-вагонов.
— Видите вон те вагоны? — спросила у парней встречавшая их женщина.— Вон те, на которых написано: «Абакан — Черногорск»? В них и поедете, а сейчас — быстро за билетами!
Каврис осторожно перешагивал через рельсы, узкие и прямые, как натянутые струны, и внимательно присматривался к паровозным колесам. Паровозные колеса отличались от тележных: у них были по краям глубокие выступы.
«Потому паровоз и не сбивается с рельсов,— думал мальчик.— До чего же умные люди живут в городах!»
...Внутри вагона было тепло и уютно, как в доме, чисто, светло. Перед окном маленький столик, на кото
ром можно было разложить продукты и пообедать. Для сидения — крашеные диваны. Играло радио.
Каврису очень понравилось ехать в вагоне: можно было смотреть из окна, ходить, наблюдать за незнакомыми людьми и слушать, о чем они говорят.
К ребятам подсели двое военных: один — на костылях, у другого с левой стороны болтался пустой рукав гимнастерки. Оба, как видно, возвращались из госпиталя.
Мальчик жадно прислушивался к их разговору — он ведь первый раз видел настоящих фронтовиков.
Хромой сказал товарищу:
— Вот ведь не знает моя Маша, что я живой. Полгода не писал. Сначала был в окружении, потом — госпиталь. После контузии долго адреса своего не мог вспомнить, а когда вспомнил, решил: ладно, сам приеду. Как думаешь, обрадуется?
— Таких случаев сколько хочешь... Иным и похоронки пришлют, бабы воют, воют, причитают, а выходит — ошибка!
Каврис даже вздрогнул: случилась бы и с ним такая «ошибка», чтоб отец или дядя Карнил оказались живыми. Нет уж, где ему — невезучий...
Город Черногорск по-хакасски «Харе таг» — «Черная гора». При Советской власти здесь нашли полезный «черный камень» — каменный уголь.
Ребят повели к небольшому деревянному домику. Здесь они должны были пройти медицинскую комиссию. Рядом стояла недостроенная кирпичная коробка.
— Вот, не дали фашисты достроить новую больницу — все каменщики на фронт уехали,— пояснила медицинская сестра, заметив, что парни разглядывают здание.
Ожидая своей очереди, Каврис смотрел в окно. По улице строем, как настоящие солдаты, шли парни в черной форме — фезеушники. У мальчишки застучало сердце: взял бы да побежал к ним безо всяких комиссий, встал в строй и зашагал вместе со всеми...
Каврис не выдержал, вышел на крыльцо. Мимо как раз проходил строй, среди всех выделялся стройный красивый паренек. Он был выше всех ростом, и форма
на нем была совсем новенькая, а на фуражке сияла эмблема: два молотка крест-накрест.
Заметив на себе восхищенный взгляд Кавриса, паренек на минуту приостановился и спросил:
— Ты чего смотришь? Знаешь меня?
Каврис отрицательно покачал головой:
— Нет. Ты недавно поступил?
— Ага.
— А я смогу?
— Не знаю. Это от тебя зависит. Комиссию прошел?
— Нет еще.
— Без комиссии не принимают.
— А у вас все ребята такие высокие?
— Нет. Есть и с тебя ростом. Важно здоровье.
— Я совсем здоров! — ответил Каврис вслед удалявшейся колонне.
Тут как раз вызвали и его.
В кабинете сидели женщины в белых халатах.
— Снимай рубашку,— сказала одна из них, у которой в руке была деревянная трубочка, похожая на воронку.
Когда конец трубочки коснулся его ключиц, мальчик поежился.
— Дыши,— приказала врач,— глубже... Так. Хорошо. А теперь открой рот... Можешь одеваться!
Моя руки над умывальником, стоящим за ширмой, женщина-врач, осматривавшая Кавриса, недовольно хмурилась.
«Не примут!—молнией пронеслась мысль.— Так я и знал! Во всем нет мне удачи». Каврис чуть было не разрыдался, но, вспомнив, где находится, он сказал сиплым от волнения голосом:
— Я хочу учиться. Мне нельзя не поступить.
— Почему? Где твои родители? — смягчилась строгая женщина.
— У меня никого нет.
— Как же так? Почему тебя в детдом не отправили?
Каврис решил не отвечать на вопрос — ему и в аале в свое время надоели с этими расспросами,— он только упрямо повторил:
— И все-таки я совсем здоровый.
— Конечно,— согласилась врач.— Вот приедешь через два года — примем обязательно.
«Надо еще эти два года прожить... Вам хорошо рассуждать!»— мысленно упрекнул Каврис комиссию.
Из кабинета мальчик вышел расстроенный и на вопросы аальских только махнул рукой: мол, невезучий — и все тут!
Глава девятая
Каврис шагал. Он шагал терпеливо и упрямо. Шагал навстречу холодному дождливому вечеру по шоссе, где теперь редко ходили машины. Шагал весь день, так и не встретив ни одной машины, ни конного, ни пешего. Он уже сутки ничего не ел. От голода сводило живот, от холода ломило ноги. Сапоги пришлось снять в самом начале пути — натер пятки.
Мальчика мучила жажда. По дороге не попадалось ни ручейка, ни малого озерца, ни речки.
К утру дождь утих, но поднявшееся на чистом небе солнце светило уже на просохшую землю. Ровная, без единой ложбинки, степь впитала в себя всю дождевую влагу.
Теперь каждый шаг уносил силы. Если бы это были горы, Каврис нашел бы саранку или кандык, у которых такие сочные и сладкие луковицы.
Суслики то и дело высовывались из норок,— казалось, они дразнили голодного: «Чых-чах, не поймаешь!» Каврис пулял в них камешками и злился: «Ух, я вас! Была бы сейчас здесь Халтарах, она бы показала!..»
Мальчик шагал стиснув зубы, уже не надеясь ни на попутную автомашину, ни на попутную телегу.
Однажды все-таки надежда на помощь появилась: за спиной неожиданно раздался гул мотора. Каврис сел на обочину и стал ждать. Но, обдав измученного путника густой пылью, машина промчалась дальше.
Нестерпимо болели суставы. Каврис хотел встать с обочины, но покачнулся, как деревцо от сильного порыва ветра. В глазах потемнело.
«Как же могут двигаться раненые на фронте? Им ведь еще труднее под пулями и снарядами... Иди и ты, не поддавайся усталости!»
Сравнение с солдатами придало мальчику сил, он поднялся, сошел с шоссе и заковылял к чернеющему вдали лесу, где обычно бывают чистоводная река и луга со съедобными растениями. Внимательным взглядом он искал цветок саранки, таежной лилии. Сами собой слагались стихи, хотя и устал, — по привычке:
Оранжевая шапочка С кисточкой на макушке — Это ты, цветок саранки. Растешь в лесистых горах, А под ножкой прячешь саранку, Белую сочную луковицу, По вкусу она с картошкой схожа.
Прихрамывая, он с трудом добрался до леса. Родная река Абакан встретила обессиленного мальчика прохладной и вкусной водой. Он припал к ней, как голодный ребенок к материнской груди...
Между тем, будто дразнясь, почти рядом с его ртом вынырнула крохотная рыбешка, плеснула в лицо росистой капелькой. Если бы смог, проглотил живьем! Но разве поймаешь голыми руками верткую рыбку, хотя бы тебя и называли «хозяином рыб»! Прославленный на весь аал рыбак Каврис только вздохнул.
Напившись вволю, он поднялся с колен, и вдруг что-то упало сверху, ударилось об воду, как большой камень.
Это был не камень, а орел-рыболов. Он бросил в глубину свою меткую острогу и тут же взмыл вверх, махая длинными крыльями. В орлином клюве болталась крупная серебряная рыба. Неужели он проглотит ее целиком, не оставив Каврису даже кусочка!
Мальчик крикнул изо всех сил: «A-а, у-у!» Орел, словно догадавшись, о чем его просят, выронил добычу.
Оглушенную падением рыбу понесло по реке, как щепку. Орел снова упал вниз, но Каврис отпугнул его.
Когда птица улетела, он прыгнул в воду и поплыл. Рыба безжизненно качалась на волне. Мальчик чуть было не схватил ее, но она неожиданно выскользнула из пальцев, резко ударила по воде плавниками и ушла в глубину.
Ах, какая неудача! Течение несло Кавриса на середину, где ноги уже не доставали дна. Хорошо еще, что он умел плавать!
Борясь с течением, Каврис повернул к берегу. Над водой торчал черный скользкий корень. Мальчик зацепился за него и, подтянувшись на руках, вылез из воды.
Он сидел на берегу — усталый, голодный, мокрый.
Отдохнув, Каврис продолжал путь, внимательно осматриваясь по сторонам в надежде отыскать что-нибудь съестное, но ни чертополоха, ни степного лука нигде не было видно. На берегу росли дикие пионы — «марьины коренья».
Марьины коренья — Цветы темно-красные. Как колдуньи лесные, Вы людей привораживаете Своими шелковыми нарядами, Маните солнечным взглядом, Идущим от самого сердца.
Мальчик решил заночевать в лесу.
Каврису снился очень приятный сон. Его и отца мать кормила простоквашей и сдобным хлебом. Она ходила по дому в красивом узорном платье с широким подолом, украшенным цветной каймой.
Каврис, наигравшись до боли в пятках, хотел есть как голодный волк.
«Что с твоими ногами?» — спрашивает отец.
«Наступил на стекло, когда ходил за сусликами»,— отвечает Каврис.
Конечно, он говорит неправду — он не за сусликами ходил, а играл в «Чапая»...
Мальчик проснулся — ни дома, ни отца, ни матери.
Все это было лишь обманчивым сном. Он лежал на голой земле, посредине яра.
Солнце уже прошло полдень. Кричали речные чайки. Каврис остро почувствовал свою бесприютность и сиротство.
«Кажется,— подумал он,— где-то рядом должен быть аал. Пойду туда, попрошу хлеба».
Мальчик шел осторожно, боясь опять наступить на колючку. Вскоре он добрался до первых домов незнакомого аала. Каврис шел, как Халтарах, когда та пытается выследить зверя: против ветра принюхиваясь к запахам — не пахнет ли где свежим печеным хлебом.
В ограде одного из домов суетилась женщина с засученными по локоть рукавами; ее смуглые руки были припорошены белой мукой. Заметив незнакомого мальчика, женщина спросила:
— Чего надо, сынок?
Недаром говорят: «Ласковый ягненок двух маток сосет». Каврис и не ожидал от себя, что он найдет так много хороших и теплых слов, которые могут разжалобить чужое сердце.
Женщина — она работала пекарем на колхозной пекарне,— выслушав рассказ сироты, всплакнула, утирая слезы кончиком головного платка, вынесла из дома полбуханки хлеба, чистые тряпочки и пузырек. Она сама промыла ранку на ноге и прижгла ее йодом.
Каврис, может, сто раз сказал ей «спасибо», и все от чистого сердца — так был рад. Незнакомая женщина показалась ему похожей на милую мать. Ведь тот, кто делает нам добро, кажется прекрасным, как мать.
С полбуханкой хлеба мальчик вышел из аала и, остановившись у реки, присел на камушек.
Как вкусен теплый хлеб с холодной свежей водой!
Подкрепившись, он пошел дальше, превозмогая боль в ноге. Ранка, в которую набилась дорожная пыль и грязь, начинала гноиться. И все-таки нужно добраться до шоссейной дороги, хотя бы и на четвереньках. Не умирать же здесь, среди степи!
Пока Каврис дошел до шоссе, наступила ночь. Он
лег на землю под черное, как казан, небо, где горели бесчисленные звезды. Постель — земля; одеяло — звездное черное небо; подушка — локоть в драной рубашке. И он больше не видел обманчивого сна...
На восточной стороне неба стало светать. Над горами сияла одна-единственная звезда, переливавшаяся перламутром, как пуговица на бабушкином платье. Жаворонки, встречая утро, рассыпали нежный звон.
Рассматривая больные ноги, Каврис стонал. Он и не заметил, как подъехала телега. В телеге сидели Асап и Тонка.
— Что ты здесь делаешь? — удивились они.
Какое счастье! Мальчику хотелось тут же броситься к ним. Но нельзя очень радоваться, бабушка говорила: «При удаче не надо чересчур веселиться, а в горе — чересчур тужить».
— Вас поджидал,— отшутился Каврис.
— Ну и дождался,— ответил Асап.
Он высек из кремня искры, поджег трут и, слегка вдавив его в чубук, затянулся. Дым потек сквозь желтые усы.
Асап с Тонкой, видно, ездили за солью. Каврис сел с ними. Телега подпрыгивала на ухабах, как лягушка.
— Я слышал,— заговорил отец Тонки,— ты ездил поступать в ФЗУ. Что, не удалось?
— Нет,— потупился мальчик.
— Почему же?
Каврис рассказал все, как было.
— Ничего не поделаешь, мой мальчик, будешь работать в колхозе.
Тонка, укрывшись брезентом, лукаво поглядывала на Кавриса: мол, никуда от нас не денешься.
— Садись сюда, здесь хорошо,— сказала она, чуть отодвигаясь.
Под брезентом было тепло, как под сводом шатра. Каврис чувствовал Тонкино нежное дыхание.
Глава десятая
После города аал казался Каврису тихим и пустынным: здесь не было ни толчеи, ни машин. Скучновато.
Он спрыгнул с телеги и зашагал к своему дому. Во дворе мальчика встретила стайка полуголых ребятишек :
— Каврис вернулся!.. Он учился в городе!.. Он нам, наверно, кемёт принес! Тебе не даст!..
Если бы эти карапузы знали, какой нелегкой оказалась дорога в город! Но они ничего не знали, они просто обнимали Кавриса, висли на шее, просили гостинцев — кемет.
Один кареглазый, желая похвастаться, поднял подол белой рубашонки:
— Это мне мама сшила! И штаны сошьет!
— Хорошо, хорошо,— ответил Каврис.— Если бы у меня была мама, она бы мне тоже такую красивую подарила.
...В доме было пусто. Даже мышами не пахло. Из углов несло сыростью. После дождя над трубой остались желтые потеки. С потолка сыпалась глина.
Теплом, казалось, веяло лишь от посуды, стоящей на полках, и от ящика, который смастерил отец. Особенно сиротливо выглядел стол, а ведь когда-то за ним было тесно и весело всей дружной семье Тан-баевых.
«Нет,— решил Каврис,— так нельзя, надо все привести в порядок».
Он нашел в углу растрепанный веник, вымел мусор, насобирал во дворе сухих щепок и затопил печь. Сначала печь дымилась, огонь с трудом прогонял сырость, потом дрова загорелись дружнее, и печь стала гореть ровно.
Каврис бродил по пустому дому, прислушивался: за дверью кто-то царапался. Ну конечно, кто же еще мог быть — Халтарах! Собака, увидя хозяина, кинулась ему на грудь. Вслед за собакой появился Макар, держа ведро с капканами.
— Не ожидал, что ты вернешься,— сказал он.— Почему не поступил?
— Говорят, не дорос. Врач зубы смотрел, определил...
— Вот так справка — зубы! Это только у коня зубы смотрят, а человек ведь не скотина.
— Все равно, есть у них общее в организме,— улыбнулся Каврис. Он уже пережил все, и не хотелось больше об этом ни говорить, ни вспоминать.— Ну, а ты как, много ли сусликов добыл?
— Твоя Четырехглазая совсем разленилась.
— Нужно знать, как с ней обращаться. Нельзя бить, нельзя ругать поминутно...
Халтарах словно поддакивала хозяину: мол, действительно, с ней надо по-особому, она не какая-нибудь, а «четырехглазая»!
— Больше нам не придется охотиться,— вздохнул Макар.— Говорят, все аальские ребята будут теперь помогать колхозу в поле: кто косить, кто пахать, кто силос заготавливать...
Через несколько дней Асап, объезжая верхом на коне аальские дома, велел всем подросткам собраться у колхозного склада. «Время военное,— сказал он,— должны помогать взрослым».
Правление колхоза выбрало Асапа бригадиром. А до этого времени он был незаметным человеком: работал в мастерской, делал телеги, сани, деревянные вилы и грабли.
Каврис постеснялся признаться, что он устал от дороги. Натянул сапоги и пошел на склад. Там Асап раздавал косы. Кто-то из ребят пожаловался, что не умеет косить.
— Научишься,— отрезал Асап.
Бригадир повел ребят на широкий луг. Он ехал на коне, как командир во главе отряда. Косы выглядели острыми боевыми пиками.
Каврис старался шагать не хромая, как настоящий здоровый солдат.
На лугу уже работали. Одни женщины. Они встретили ребят незлобными шутками: «Если вы — добрые молодцы, то не отстанете от нас, женщин».
Бригадир пообещал: кто выполнит норму, получит
триста граммов хлеба. «Триста граммов за один день!» — ахнули все.
...Трава была густая и длинная. Каврис косил изо всех сил; острая коса казалась ему боевым клинком, которым он наповал рубит врага. «Косить, косить, косить, пока не упадешь, как воин на поле брани!»
Он ушел далеко вперед, оставляя позади себя ровные ряды скошенной травы. Хорошо, отец научил его; другие не могли, косы их не слушались, они не срезали стебли, а то и дело вонзались в землю. Бригадир Асап помогал неумелым и хвалил Кавриса.
— Ай молодец! Совсем как взрослый! Ай молодец! А ну подтянись! — кричал он отстающим.— Так! Еще поднажмем!..
Вжик-вжик!—звенит коса. Вжик-вжик! Каврис уже втянулся в работу, руки и плечи ходят сами собой. Он ловит в себе рождающуюся песню:
Травы с цветами на лугу Острыми косами скосили. Дали отпор врагу — Саблями всех порубили.
Желтые листья в горах
Стальными вилами сметали,— Так же черного врага С Родины нашей прогнали.
Утром Асап распределил ребят по участкам. Каврис с Пронкой пахали на быках, а остальных послал на жатву рано поспевшего ячменя. Макара поставили на жатку — она в колхозе была единственной. Жатка косила, срезая зубастым ртом упругие стебли, оставляя за собой золотистые валки. Вслед за ней шли женщины, девушки и старики. Они вязали снопы. Среди них была и Тонка. Подобрав мешавшие ей косички, девочка ловко скручивала жгуты, обвязывала ими аккуратные снопики, ставила их вверх колосьями по пять-шесть штук.
Изредка до Кавриса долетал ее звонкий голос. И тогда ему становилось легко и весело. Одно только не нравилось — Макар часто останавливался возле
Тонки. Изображая из себя настоящего тракториста, председателев сын копался в механизме.
Каврису с Пронкой попались ленивые быки. Быки медленно тащились по полю, а то и ложились в борозду, и никакой силой — бичом, понуканиями — невозможно было сдвинуть их с места. За день мальчики выполнили норму лишь наполовину. Асап был очень недоволен, он сказал за ужином:
— Каврис и Пронка сегодня фронту мало помогли.
Каврис, услышав такие слова, покраснел от стыда и покосился на Тонку.
— Я больше не буду пахать,— сказал он хмуро.
Он сдержал свое слово и на следующий день не выехал в поле на быках.
Бригадир перевел его на другую работу — вязать снопы. Что поделаешь? Ведь мальчик беспризорный, обиженный, надо помогать. Колхозники работали день и ночь: скирдовали, молотили, пахали зябь. Приходи-
лось спать по три-четыре часа в сутки. Некоторые на ходу падали от усталости.
Каврис с восхода до захода солнца вязал снопы, а ночью шел скирдовать или молотить; мальчик не отставал от взрослых и не требовал для себя никаких скидок. Даже скупая повариха подобрела: наливала полную миску и приговаривала: «Вот алып-мальчик, мальчик-богатырь, хорошо работает»...
...Этот день был таким жарким, что накалившиеся от зноя серпы жгли руки, ладони покрывались кровавыми пузырями. А вечером надо было идти скирдовать. Многие отказывались работать в ночь. Бригадир разбушевался. Щупленький Асап кричал громким, не по телу, голосом:
— Кто может так поступать в военное время! Наши парни и мужики не жалеют своей жизни, а вы...
Макару и Пронке поручили перевозить снопы на склад, выделили две телеги.
— Справишься с двумя? — спросил бригадир, протягивая Каврису вилы.
Каврис мельком заметил, что к их разговору прислушивается Тонка, и ответил твердо:
— Выдержу.
— Вот и молодец,— похвалил Асап.
Каврис работал как лев. Только снопы летели. Макар и Пронка едва успевали принимать. Макар увозил полную телегу, Пронка возвращался со склада с пустой. И опять летели снопы.
— Подожди,— просили ребята,— не успеваем за тобой.
К концу работы все так измучились, что Макар за завтраком уснул прямо с ложкой в руках. Кто-то из ребят хихикнул, но Асап строго прикрикнул на насмешника :
— Смеяться каждый может... Пусть ложатся отдыхать... Остальные — на работу!
Тонка взглянула на Кавриса, и опять мальчик почувствовал в ее испытующем взгляде вопрос. На этот немой вопрос он ответил делом.
— Я прохлаждаться не собираюсь,— сказал он бригадиру.
— Не надрывайся, мой мальчик,— ласково улыбнулся Асап.
— Нет, пойду со всеми.
И пошел, пошел вязать снопы; но так как Макар отдыхал и работать было некому, на жатку сел бригадир Асап.
...Каврис вяжет снопы, не замечая Тонку, которая работает от него невдалеке. Мальчик сам не понимает, почему он лишний раз боится взглянуть в ее сторону. Тогда Тонка первая начинает разговор:
— Ты разве не устал после ночи? Вчера за целый день не прилег и сегодня... Ведь уже третьи сутки пошли. Не жалеешь себя.
Мальчику было приятно слушать такое, но он смолчал и продолжал вязать снопы и ставить суслоны. Ничего. Только вот рукам и спине больно. Иногда пошатнется, смигнет темноту в глазах — лишь бы Тонка не заметила. Она и сама старается. Бисеринки пота выступили над верхней губой.
Но вот на мгновение Каврис словно провалился в темную яму. Когда он пришел в себя, то увидел над собой испуганное Тонкино лицо.
— Что с тобой?
— Ничего,— ответил Каврис и... тут же уснул, прямо на стерне.
Он проснулся вечером, когда солнце садилось за высокие горы. Оказывается, Тонка укрыла его своим пальто и положила под голову сноп ячменя. Вязальщиков не было видно. Жатва звенела где-то далеко за густыми копнами. Каврис поднялся, вдыхая вечерний воздух, пропитанный запахом зерна, и пошел в стан. Навстречу ему ехал верхом председатель Мук-лай, он похвалил мальчика:
— Слышал, Каврис, хорошо потрудился, а теперь время и об учебе подумать. Всех школьников с этого дня освобождаем от полевых работ. О себе не волнуйся — поможем. Конечно, сам знаешь, нелегко нам. Весь хлеб сдадим государству, но ты можешь взять себе столько, сколько унесешь. В Аскизе зайдешь к председателю райисполкома, я напишу записку. С подводами трудно, и лошадей вряд ли смогу отпустить в район. Пойдешь пешком.
Каврис кивнул головой: ему не надо объяснять, он и так хорошо знает про колхозные трудности. Хлеба дадут — хорошо, а до Аскиза не так уж далеко, до города дальше было и то дошел...
Глава одиннадцатая
Он шагал по тропинке, извилисто убегавшей в глубину гор. Это был наикратчайший путь в Аскиз. На спине — тяжелый ящик, в нем хлеб, крупа, учебники. Со всех сторон тропинку обступали горные вершины, покрытые желто-зелеными лесами.
Каврис любил ходить один. Одному в дороге лучше — никто не мешает разговаривать с самим собой вслух, мечтать и сочинять песни.
Стояла скучная тишина. Веселые жаворонки давно улетели на юг. Только высоко в небе проплывали жу
равлиные караваны. Вожак, летевший впереди каравана, казался крупнее всех. Журавли кричали, и в их криках была печаль. Это вызывало в Каврисе ответное чувство: «Даже у птиц есть семья, есть старшие, а я один».
Поднявшись на вершину, мальчик сел отдохнуть, сняв натерший плечи тяжелый ящик. Ветерок холодил мокрую от пота спину, срывал с густых осин круглые красные листья, играл лепестками цветка, росшего среди сухой травы. Каврис шагнул к нему и прошептал :
Осенний цветок, Последний цветок, Он всегда голубой-голубой!
От звука хрустящей под ногами желтой листвы Каврис вздрогнул: из-за кустов вышел какой-то человек, одетый в лохмотья; ноги в стоптанных ботинках и рваных обмотках, солдатские брюки и гимнастерка, на голове шапка-ушанка, но только без красной звездочки, в руках ружье — двустволка. Незнакомец даже не сказал «здравствуй». Он смотрел на Кавриса странным взглядом. Пробежала мышь по сухой траве, человек встрепенулся, нервно хватаясь за ружье, его черные усы дернулись, как у рассерженного кота.
— Ты куда идешь? — спросил он Кавриса, ставя ружье на землю.
— В Аскиз.
— По какому делу?
— В школу.
— А что здесь? — Незнакомец небрежно пнул ботинком ящик.
— Продукты и книги,— сердито ответил Каврис.
— Открой,— приказал мужчина, с первого взгляда показавшийся мальчику неприятным и отталкивающим. Он поминутно облизывал свои толстые губы, и глаза у него бегали.— Открой! — повторил незнакомец грубо.
И тут Каврис догадался: «Это же дезертир, убежавший с дороги, по которой уходят на фронт машины. Оберегая свою жизнь, бродит по лесам, не показываясь никому». Поняв, в чем дело, мальчик позабыл
страх и ответил, смело и прямо глядя в неприятное лицо:
— Не буду! Ты от фронта убежал!
— Не разговаривай, щенок! — огрызнулся дезертир.
Каврис очень пожалел, что в этот момент нет с ним Халтарах — она бы уж точно отделала этого труса, только посмел бы приставать. Четырехглазую пришлось оставить в аале — не держать же собаку в школе-интернате...
— Не открою! — заупрямился мальчик.— Я продукты не для чужих зарабатывал...
Тогда страшный незнакомец ударил по ящику, на котором сидел Каврис, своим тяжелым ботинком, мальчик упал и покатился под гору, но удержался, вскочил на ноги и, как барс, одним рывком, бросился на обидчика. Незнакомец уже открыл ящик и стал жадно выгребать из него хлеб и крупу. Каврис зубами вцепился в его руку и не отпускал. Дезертир, боясь громко кричать, стонал. Пытаясь освободиться, он бил мальчика по голове тяжелым кулаком...
...Каврис очнулся, не веря, что живой: в висках колотило, словно кто-то рядом ковал железо. На лице он чувствовал чье-то дыхание. «Наверно, он не ушел. Если узнает, что жив,— убьет». И Каврис зажмурил глаза, глядя сквозь ресницы. На небе горели звезды. Значит, пролежал без сознания весь день. Долго лежал! Ведь когда он дрался с незнакомцем, солнце стояло высоко.
Послышался шорох. Мальчик не выдержал, приподнялся — невдалеке сидела собака! Нет, не Халтарах. Она была бы уже рядом, лизалась, ластилась, прыгала на грудь. Это была совсем неизвестная собака. «Кажется...— мальчик замер от страха,— волк! Волк с торчащими ушами и белеющими в темноте зубами... Наверно, подлый человек все-таки ушел...» Каврис силился подняться на ноги, но ноги не слушались, голова — как разбитый чугунный чайник. Сердце громко стучало: тук-тук... Волк шевельнулся: он, очевидно, ждал смерти человека. Каврис пощупал горло: оно опухло и болело — дезертир хотел задушить!..
С большим трудом мальчику удалось приподняться
1
и сесть на землю. Зверь продолжал оставаться на прежнем месте. Каврис видел, как он облизывал черные губы языком, похожим на пламя. Мальчик и раньше часто встречался с волками, когда ходил в горы за сусликами, но с ним всегда была верная, храбрая Халтарах, а в руках — железная палка. Попробовал бы какой хищник приблизиться — живо бы размозжил голову! Однажды он даже отбил у волка колхозную овцу. Теперь в руках не было надежного оружия, чтобы отпугнуть зверя. Где-то в кармане должен быть маленький нож-складень для разделки сусликов, но, поискав, Каврис не нашел его — подлый человек забрал и нож. Тогда мальчик нащупал в темноте острый осколок камня и метнул его в золка. Видно, бросок получился удачный — зверь отпрянул и кинулся в сторону, треща валежником. Конечно, не случайно Каврис угадал — он и на сусликов так охотился.
Поднявшись на ноги, Каврис ощупал голову; ладони сразу стали мокрыми, с правой стороны ныла рана, и кровь, вытекая из нее, застывала на щеке коркой, шершавой, как кора дерева.
Луна очень ярко, по-осеннему, освещала лес и горы. Каврис, встав на ноги, осмотрелся. От ящика остались одни щепки, но книги и Один мешочек с крупой уцелели... Завтра нужно быть в школе.
...До Аскиза мальчик дошел к утру. В поселке была тишина и безлюдье, зато в поле, рядом, тракторы пахали зябь, а подальше гудела молотилка.
Каврис шел к двухэтажному Дому Советов. Как-то примет его председатель, как ответит на просьбу Мук-лая помочь ему, Каврису Танбаеву?..
За широким столом с двумя телефонами сидел крупный человек с зоркими черными глазами. Увидя вошедшего мальчика, лицо которого было измазано запекшейся кровью, он мягко спросил:
— Ты ко мне?
— К вам... Из аала. Муклай, наш председатель, вам записку написал, в ней все про меня... Отец погиб, мать и бабушка умерли. И еще хочу сказать... Там в горах...
Но председатель уже читал письмо про Кавриса. Потом он быстро снял телефонную трубку:
— Это директор? Звонят из райисполкома. Да, да, он самый... Потрудитесь включить в список остронуж-дающихся учеников Кавриса Танбаева... Какой класс? — обратился он к Каврису.— Седьмой, говорит... Вот и хорошо. Большое спасибо... Все в порядке, дорогой, только смотри учись хорошо, меня не подведи и Муклая! А кстати, что это у тебя с лицом? Подрался?
— Ага,— ответил Каврис.— С дезертиром.
— С каким дезертиром? Ну-ка расскажи.
Каврис, согретый лаской и заботой, принялся рассказывать о приключении в горах. По мере рассказа добрые черные глаза председателя становились все строже и суровей. Выслушав мальчика до конца, он потянулся к телефону:
— Да, я, Николай Иванович! Извольте немедленно быть у меня. Дело очень важное.
Вскоре в кабинет вошел милиционер с горбатым носом, похожим на клюв кобчика. Председатель сам поведал ему о том, что случилось с Каврисом.
— Место? — коротко спросил милиционер.
— Там, на высокой горе, где по утрам бывает туман, — ответил мальчик. — Там остался разбитый ящик, который смастерил отец, когда был еще живой...
— Верхом на коне можешь ездить?
— Конечно.
— Хорошо. Говоришь, в школу шел? Если чуть-чуть задержишься, я думаю, не беда. Надо помочь нам, милиции, поймать ту птичку, которая тебя поклевала.
Каврис крепко держался в седле и не отставал от других, хотя милиционеры ехали рысью. От быстрого хода свистело в ушах, осенний густой воздух бил в лицо.
Когда доехали до вершины, спешились. Каврис показал место, где встретил незнакомца-дезертира. Тут же валялись щепки от разбитого ящика, земля вокруг была истоптана, трава помята. Кое-где кучками белела рассыпанная крупа.
— Здесь сидел? — спросил мальчика милиционер. Каврис кивнул головой.
— Откуда он вышел?
Каврис указал.
— Оружие было?
— Двустволка.
У мальчика не хватало сил пускаться в подробные объяснения: после езды сильно разболелась голова и он едва терпел, чтобы не застонать.
Невдалеке, под горой, где остановились лошади, темнела неглубокая ложбина, похожая на корыто. Какая-то женщина гнала по ней овец и, чтобы упрямые животные не мешкали, кидала в них какой-то легкий черный предмет. Издали невозможно было рассмотреть, но Каврису он показался знакомым. Мальчик указал милиционеру:
— Вон, смотрите, по-моему, это его шапка.
— Проверим. Не исключено, что, когда вы с ним боролись, шапка могла упасть и скатиться вниз.
Трое всадников-милиционеров помчались вниз, в ложбину. Увидев скачущих милиционеров, женщина сначала испугалась, но потом сама побежала им навстречу :
— Товарищи! Вы приехали вовремя. Здесь появился негодный вор. Прошлой ночью он меня совсем разорил: увел коня и овцу... еще и собаку-сторожа застрелил.
— Его-то мы и ищем. Это бандит-дезертир. В какую сторону он мог податься? Может, знаете?
— В горы, где густой лес... Ах он проходимец! Мы здесь работаем день и ночь, а он, как волк, зорит добро!..
— Не переживайте,— успокоил женщину горбоносый милиционер.— Найдем обязательно и накажем... А ты,— обратился он к Каврису,— возвращайся в школу. Спасибо за помощь.— Милиционер поднял с земли шапку-ушанку, где вместо звездочки остался лишь пятиконечный след.— Ушанка действительно форменная... Обесчестил форму, негодяй!
Каврис хотел было повернуть коня, но у него вдруг закружилась голова.
Мужчины осторожно сняли мальчика с седла и подвели к женщине:
— Побудьте с ним. Он тоже пострадал от подлеца... Ну, мы поехали!
— Чего уж там! Конечно, я ребенка в беде не оставлю.
Когда всадники ускакали, женщина спросила у Кавриса:
— По голове, говоришь, ударил? Сильно?
— Ага.
— Вижу по глазам. Тускен у тебя. Какой бесстыдный, дармоед! На дитя руку поднял... Дай-ка проверю твою голову. Если тускен, помогу. Это нашенское лечение, народное. Сейчас промерю и все узнаю.— Она оторвала от корня длинную пикульку, опоясала ею голову Кавриса, потом острым камешком отметила черточки на висках, лбу и затылке, сняла травинку и стала внимательно ее рассматривать.
— Мой мальчик,— всплеснула женщина руками,— как ты только мог терпеть? На целый вершок разница — тускен! Тускен и есть твоей голове. Надо править кости.
Голова мальчика оказалась в сильных руках. Руки принялись сдавливать ее со всех сторон.
Сначала было очень больно, но постепенно боль проходила.
— Спасибо вам, тетя,— прошептал Каврис.
— На здоровье, мой мальчик. Ко мне много людей ходит лечиться. А теперь проверим.— Женщина опять обвязала голову травинкой, отметив нужные места, посмотрела ее на свет и сказала удовлетворенно: — Все на месте. Болеть больше не должно. Можешь идти себе в школу. Учись хорошенько,— улыбнулась она на прощанье ласково, по-матерински.
Сдав коня на милицейскую конюшню, Каврис отправился в школу.
Первыми, кого он встретил там, были две любимые учительницы: Софья Михайловна и Ольга Павловна.
— Здравствуй, Танбаев,— сказала Софья Михайловна.— Вот и хорошо, что вернулся к нам.
— Кому, как не тебе, Каврис,— добавила Ольга Павловна,— учиться, ведь ты у нас самый способный, самый прилежный...
Первый день в школе был для Кавриса очень удач
ным: учителя наговорили ему много теплых, ободряющих слов, а завуч сказал, что по распоряжению райисполкома он будет получать пятьсот граммов хлеба каждый день. «Если и колхоз,— подумал Каврис,— поможет — проживу».
Вечером, когда солнце уже закатилось и поселок укрыли голубые сумерки, он увидел из окна интерната знакомую фигуру: впереди двух конных милиционеров уныло плелся дезертир.
«Так тебе и надо, крыса! Попался-таки в мышеловку!» — обрадовался Каврис.
Глава двенадцатая
Прошла первая четверть; Каврис Танбаев окончил ее на четверки и пятерки. Увлеченный школьной жизнью, мальчик стал понемногу забывать о тяжелых временах, которые только что пережил. Кругом были верные товарищи. Учителя, видя его старания, ставили Кавриса в пример остальным.
«Ах, дядя, дядя,— частенько вздыхал Каврис,— услышал бы ты все эти хорошие слова!»
Нет-нет да и вспоминал он Карнила. Прошло уже порядочно времени с того страшного дня, как он прочитал горестные строчки: «Пропал без вести». Почтальон Тамара так больше и не подошла к ограде их дома,— в ее большой сумке, видно, не хватало места для тоненького фронтового треугольничка с обратным адресом полевой почты. Каврис ждал письма от дяди, ждал настойчиво. На отца пришла похоронная, мать и бабушку он хоронил сам, но ведь Карнила никто не видел мертвым!
Вот почему, очевидно, Каврис мысленно беседовал с дядей, не веря, что больше никогда с ним не увидится.
...Сегодня учитель математики, Григорий Семенович, выглядел сердитым и недовольным. Он досадливо протирал очки и оглядывал притихший класс со строгим упреком — никто не мог доказать теоремы.
Макар стоял у доски, вертел в пальцах кусочек белого мела и мотал головой, как ленивая лошадь.
— Садись. Двойка! — сухо произнес Григорий Семенович, подвигая к себе классный журнал.
После Макара вызвали Тонку. Она начертила чертеж, написала условие: что дано и что требуется доказать. Но дальше этого дело не пошло.
— Танбаев! — Учитель взглянул на Кавриса, поднявшего руку.
Каврис, выйдя к доске, уверенно застучал мелом. Хмурое лицо Григория Семеновича прояснилось, а когда Каврис кончил доказательство, учитель сказал, об-вращаясь ко всему классу:
— Вот как надо готовиться к урокам! Ясно? Если так будет продолжаться, то из Танбаева может выйти отличный математик.
— Он по всем предметам так успевает! — выкрикнул с места нетерпеливый Пронка.
— Вот как? Не мешало бы всем у него поучиться, тем более сами знаете, как ему нелегко пришлось.
...Этот день Каврис запомнил на всю жизнь. Он готовился к нему целый месяц. Остались позади школьные собрания, а потом и заседание бюро, когда Танбаева и его друзей принимали в комсомол. Но еще предстояло одно, самое главное,— вызов в райком и вручение комсомольского билета. После уроков, когда Каврис шел по коридору, он столкнулся с Софьей Михайловной и секретарем комсомольской организации.
— Танбаев,— остановила его секретарь,— в три часа в райком комсомола. Подготовился?
— В этом нет сомнения,— ответила за Кавриса Софья Михайловна,— он у нас дисциплинированный.
«Будут вручать комсомольский билет! Мне!» Каврис вихрем помчался по коридору и едва не сбил с ног Тонку.
— Что с тобой? — спросила она.
— Что и с тобой! В три часа нас вызывают в райком.
— Ой, боюсь! — тоненько вскрикнула Тонка.— Только бы поменьше вопросов задавали.
— Ты трусливый заяц!
— Тебя, конечно, со мной не сравнить. Вон как тебя все хвалят! — Девочка обиженно поджала губы.
— Не сердись! — Каврис примирительно тронул ее за руку.
Но Тонка словно не слышала его последних слов — она пристально смотрела на его голову.
— Что ты там увидела? — недовольно пробурчал Каврис, заметив ее странный взгляд.
— Седые... волосы седые...
— Врешь!
— Нет, правда! Хочешь, вырву?
— И много?
— Не очень, но все-таки есть.
— Никто не замечал, а вот ты...
— Говорят, если пристально смотреть, то и на солнце родинки увидишь. Просто никто, наверно, на тебя так не смотрит, как я,— закончила Тонка и смутилась.— Ладно, я пошла.
«Чего это она? — подумал Каврис.— Дались ей мои волосы! Все-таки девчонки глупый народ. Тут такое дело, а она про седые волосы... Что особенного нашла?»
...Девушка в гимнастерке, секретарь райкома комсомола, была похожа на военного комиссара.
— Вот мои питомцы,— сказала ей Софья Михайловна. Видно было, что и она волнуется за ребят: как-то они ответят на вопросы, как будут вести себя в такой ответственный момент своей жизни.
Секретарь смотрела на ребят строгими глазами.
— Все знакомы с Уставом? Но прежде давайте-ка поговорим по душам. То, что произойдет в этот день, изменит вашу жизнь не только на сегодня, но и на много лет вперед. Комсомолец — звание высокое, и, пожалуйста, подумайте об этом, проверьте себя, можете ли принять его с чистой душой и чистой совестью. Пусть каждый расскажет о себе. Предлагаю начать Танбаеву. Прошу тебя, Каврис.
Сначала Каврис очень волновался, но, заметив, как серьезно и внимательно смотрят на него ребята, Софья Михайловна и секретарь, быстро освоился и рассказал о себе все, начиная с первой похоронки и кончая недавним случаем — поимкой дезертира.
Девушка в военной гимнастерке слушала очень сосредоточенно, не прерывая ни одним вопросом, хотя Каврис говорил почти целый час. Софья Михайловна нервно теребила край пухового платка, у Тонки дрожали губы, а мальчишки хмурились и сжимали кулаки, особенно в том месте рассказа, где Каврис боролся с дезертиром — подлым трусом и грабителем. Потом он отвечал на вопросы по Уставу ВЛКСМ. Отвечал четко, без запинки.
— Что, если перед тобой, Танбаев,— спросила секретарь,— вновь оказались трудности? Как бы ты поступил?
— Как герои-комсомольцы!
— Верю тебе — это не пустые слова. Хотя ты не был на фронте, не совершал героических поступков, но примеры из твоей жизни говорят нам, что ты можешь быть сильным, честным, принципиальным, не отступишь от своей цели, не струсишь, не предашь. Можешь считать себя принятым в ряды Ленинского комсомола.— Девушка в военной гимнастерке крепко пожала Каврису руку и приколола на грудь комсомольский значок.
Комсомолец Каврис вышел из райкома окрыленный. И хотя на дворе стояла ранняя зима, ему казалось, что яркое солнце светит тепло, по-летнему. Провода пели, как струны чатхана. Сухие тополиные листья, кружась по мерзлой земле, тоненько выводили свой нежный напев. Даже молчаливая зимняя синица просвистела по-весеннему: «Дин-тень»!
Вечером все, кого приняли в комсомол, собрались идти в кино. У Кавриса, конечно, денег на билет не оказалось.
— Ерунда! — беспечно отмахнулся Пронка.— Так пройдем.
— Как это * пройдем»?
— Пойдешь — увидишь.
У дверей клуба толпился народ, контролер проверял билеты. Пронка показал два, и ребят пропустили.
— Откуда у тебя билеты? Купил? — удивился Каврис.
— Хе,— засмеялся Пронка,— это просто... Видел,
контролер надрывает только контроль, а потом бросает весь билет в урну. Я его оттуда вынимаю, потом склеиваю — и порядок!.. Идем, со мной не пропадешь!
— Ты меня обманул! Это нечестно! Это подло! Я не останусь! Забыл, что мы теперь комсомольцы?!
Г лава тринадцатая
Наступил декабрь. Посылки из аала частенько задерживались. Каврис не жаловался: видел, какой хлеб присылают Макару — одна картошка. На Октябрьские праздники Мария Владимировна принесла ему в подарок килограмм крупы. Чтобы растянуть ее подольше, мальчик не варил кашу, а по горсточке добавлял крупу в суп. Когда и этот скудный запас кончился, Каврис перешел лишь на хлеб и воду.
В один из голодных дней на душе у него потемнело от закравшегося сомнения: может, бросить все и вернуться в колхоз? Он стоял в очереди за хлебом в школьном буфете и прислушивался, о чем говорят учителя. А они говорили о Ленинграде, о том, что там сейчас очень трудно: выдают всего лишь по сто граммов хлеба, рабочие у станков дежурят по две смены и без выходных, к тому же каждую ночь налеты и артобстрелы.
Услышав такое, Каврис застыдился: можно ли жаловаться на свою жизнь! Нет, надо терпеть. Что тогда сказала ему девушка в военной гимнастерке?!
Ребята, которым кое-что присылали из дома, делились с Каврисом гостинцами, но он чаще всего отказывался, так как знал: многие родители последнее от себя отрывают, как его покойная течен. Чтобы вытерпеть и не соблазниться, Каврис выходил на мороз и бродил по улицам дотемна.
Каврис шагает по улице. До угла тридцать шагов, обратно уже меньше: мороз подгоняет, щиплет коленки, приходится шагать шире. Двадцать пять! У ворот он останавливается... Холодно, но возвращаться в интернат не хочется... Каврис сам не знает, что с ним та
кое, он подчас не ощущает своего тела и с удивлением прислушивается к своему голосу: как странно, что его зовут Каврис, и неужели это он сам говорит таким хриплым, ломающимся баском... Аальские, когда приезжают навестить, качают головами: смотри-ка, подрос наш «колхозный ребенок». Каврис опускает глаза: неужели есть кому-то дело до него, разве важно кому-то знать, растет он или нет...
Как сияет Полярная звезда— «Железный гвоздь»! Эта звезда всегда неподвижна, не гуляет по небу, подобно остальным. Свет ее прямой и яркий, как преданный взгляд... Кто посмотрит на него, сироту, здесь, на земле, такими же верными глазами?..
...Проходили дни. Каврис все больше и больше замыкался в себе. Если его о чем-нибудь спрашивали, отделывался короткими ответами: «да», «нет», «не знаю».
Одно утешение — музыка. По вечерам мальчик учил ноты по самоучителю. Чатхана в интернате не было, зато были домбра и баян. В музыкальном кабинете он засиживался допоздна, пока не прогоняла уборщица, а затем еще долго писал что-то в старой, растрепанной книге, заменявшей ему тетрадь.
Однажды, когда Каврис писал глубокой ночью, Пронка проснулся и стал следить за товарищем. Прокравшись тихонько за его спиной, Пронка заглянул в тетрадь и увидел какие-то непонятные значки. Он ничего не сказал Каврису, незаметно вернулся на свою койку и лег как ни в чем не бывало.
...В это утро Мария Владимировна, несмотря на ранний час, разбудила ребят громким, радостным криком:
— Вставайте! Сейчас по радио...
Каврис выбежал в коридор раньше всех — ему не надо было тратить время на долгое одевание: он лишь йатянул на ноги серые растоптанные валенки.
Знакомый голос диктора сообщал о том, что наши войска прорвали блокаду Ленинграда. После того как репродуктор замолчал, коридор наполнился веселым гулом: «Блокаду прорвали! Кончились мучения ленинградцев! Ура!»
Мария Владимировна плакала, по ее бледным морщинистым щекам текли слезы радости:
— Милый мой город! Слава богу, дождались!..
В позапрошлом году, помнится, ее не было в Аскиз-ской школе. Каврис подошел к воспитательнице и осторожно спросил:
«А вы, Мария Владимировна, из Ленинграда?»
«Из Ленинграда, милый. Эвакуировалась в конце сорок первого».
«Трудно было?»
«Очень. Мужа моего убили... Когда-нибудь страдания ленинградцев дети будут изучать на уроках истории...»
Вечером Мария Владимировна устроила своим воспитанникам настоящий «пир»: на плите в коридоре варился целый котел картошки «в мундире».
— Ешьте, ребятишки! Ешьте за нашу победу! Теперь она уже не за горами. Вот увидите, скоро проклятым фашистам конец!
Каврис ел картошку, обжигая губы и пальцы. Он думал: «Мария Владимировна правду говорит. Я тоже чувствую, что мы скоро победим. Не надо только отчаиваться, падать духом».
Глава четырнадцатая
В седьмом классе шел урок географии. Ольга Павловна рассказывала о богатстве нашей Родины — о полезных ископаемых. О том, как фашисты хотели их захватить. Каврис не пропускал ни единого слова из ее объяснения. Он решил взять себя в руки, не позволять мыслям гулять в голове как попало и не думать о еде. Вот уже второй день задерживали школьный паек.
— У Гитлера был подлый план,— продолжала учительница,— оккупировать Кавказ и Урал. В Баку — нефть; на Урале — руда. Нефть — это горючее для военной техники; руда — это танки, самолеты, пушки, оружие. Советская Армия разрушила замыслы врага: разбила немцев под Сталинградом и отбросила фашистские войска от Москвы и Ленинграда...
Такой хороший рассказ Каврис мог слушать хоть целый день, забыв обо всем на свете. Но вдруг мальчик почувствовал, что ему плохо: на лбу выступил холодный липкий пот, в глазах зарябило. Каврис попросил разрешения выйти из класса.
Свежий воздух и яркий свет заставили его пошатнуться. Чтобы не упасть, Каврис ухватился за забор. Земля казалась желтой. Когда он дошел до интерната, земля вдруг завертелась крыльями ветряной мельницы и опрокинула его.
Мальчик не помнил, как поднялся и добрел до своей койки.
...В комнате стояла необычная тишина — все были на уроках. Взгляд Кавриса скользил по привычным предметам: кроватям, застеленным байковыми одеялами, голубым тумбочкам, где хранились вещи и продукты. Вон тумбочка Пронки. Там лежит талган. У Макара есть хлеб, две буханки,— недавно мать из аала привезла. Помнится, сказала ему тогда: «Учись хорошенько. Мы сами хлеба не едим — тебе оставляем».
Каврис приподнялся, прислушался — никого, пусто. Очевидно, до конца урока осталось минут двадцать. Значит, можно успеть. Он встал и подошел к тумбочке Макара; распахнул дверцу — запахло хлебом. Мальчик с ловкостью кошки схватил буханку, но тут... руки у него задрожали. Он никогда-никогда без спроса не брал чужого. С малых лет его учили: «Воровать — значит оказаться в черном позоре». Каврис оглянулся — видит ли кто его сейчас? Дрожь в руках не проходила. Он положил хлеб на место, закрыл тумбочку. Случайно взгляд упал на книгу. Оказывается, и Макар читает «Как закалялась сталь». Эта книга как-то уже помогла Каврису справиться с тяжелыми мыслями. Тонка дала почитать. В те дни, когда умерла бабушка, и он сам хотел умереть...
Хорошая книга дорога, как хороший друг. Каврис с нежностью прижал томик к груди. Так он и уснул с ним.
На следующий день Каврис получил паек сразу за три дня. От сытной еды он повеселел, и Макар даже решился пошутить над ним:
— Наш Каврис здорово книжки читает — спит с ними в обнимку!
— А ты не смейся. Между прочим, я твою книгу и раньше читал.
— Так почему же опять взял?
— Хорошую книгу можно читать много раз.
— Что же там хорошего? Тебе что понравилось?
— Все.
— Так не бывает. Мне, например, интересно было читать, как Павка стащил у немецкого офицера наган и еще как он помог матросу Жухраю в драке с петлюровцами...
— И только? Ты всю книгу читал или с пятое на десятое? В этой книге есть очень мудрые слова, их нельзя забыть.
— Скажешь тоже! Я на слова никогда внимания не обращаю. Самое толковое — это кто и что делает. Делает, понял? А слова... За словами следить — много ли книг прочитаешь? Их вон целая библиотека! Жизни не хватит...
...Он, конечно, не выучил стихи Пушкина — проспорил с Макаром весь вечер, как надо книжки читать.
На перемене, перед звонком на урок, Каврис шепнул Пронке:
— Сбегу! А?
— Хуже будет,— рассоветовал Пронка.— Признайся Софье Михайловне, что всю ночь про Павку Корчагина читал. Она добрая.
— Обмануть? Я же не читал, я с Макаром спорил.
— Какая разница! Скажи — и все!
Прозвенел звонок, а Каврис все стоял и раздумывал, как поступить, пока Софья Михайловна не появилась у дверей класса, держа под мышкой классный журнал.
— Что это вы в дверях застряли? — спросила она мальчиков.
— Заговорились, — нашелся бесцеремонный Пронка.
— Эх, была не была! — махнул рукой Каврис.— Пошли!
Первым, как нарочно, вызвали Танбаева. Он неохотно поднялся из-за парты:
— Як уроку не подготовился, Софья Михайловна. — А почему?
— Так...
В классе зашумели: «Вот какой он «отличник»! А еще в пример ставили!»
Каврис, конечно, слышал все реплики в его адрес, слышал и страдал от обидных, но справедливых слов. Он пытался взять себя в руки, но ничего не выходило. Как научиться закалять себя? Если есть сила желать — например, желать есть и пить,— то, наверно, есть и сила, чтобы терпеть и бороться с желаниями, презирать их, отстранять и переставлять с первого места на второе. Как Корчагин!
Каврис вскинул голову: нет, он не будет стыдливо смотреть вниз и прятать глаза! Пусть все видят, что он не просит снисхождения, а сам первый, именно сам, осуждает себя за слабость и безволие. Но тут неожиданно с места выкрикнул друг Пронка:
— Он всю ночь «Как закалялась сталь» читал! Я сам видел!
— Не обманывай,— покраснел Каврис,— не читал, а только в руках держал. Это такая книга...
— Какая, Танбаев? — Софья Михайловна с надеждой взглянула на его взволнованное лицо.— Что тебя в ней заинтересовало?
— Слова Корчагина. Он сказал: «Умей жить, когда тебе невыносимо жить».— Подумав, Каврис продолжал:— «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое».
— Очень хорошо, Каврис,— похвалила учительница.— Садись, оценку тебе сегодня не поставлю, но учти — спрошу на следующем уроке. Поэзия Пушкина учит прекрасному и возвышенному не меньше, чем проза Николая Островского. Но коль скоро мы здесь заговорили об Островском, я хочу немного дополнить Танбаева, хотя это и не по программе. Есть книги, которые не просто развлекают: рассказывают нам о каких-то необыкновенных приключениях, о странах и народах, которые от нас далеко,— есть такие, которые учат
жизни. Ну да, жизнь ведь тоже учеба, трудная и увлекательная. Одному, без учителей, без наставников, ее не одолеть: обязательно свернешь на кривую тропку или, споткнувшись о первое препятствие, так и не встанешь. Кто хочет жить, а не прозябать в топком и вязком болоте, а это значит потакать каждому своему желанию, жалеть себя, пасовать перед трудностями,— тот должен дружить с книгами-наставниками. Такие книги, как дружеская рука, всегда протянуты человеку. Надейтесь на них, дорожите ими, слушайтесь их... Я думаю, что Каврис не случайно запомнил слова Павла Корчагина. Я уверена, что он их не «зубрил», чтобы щегольнуть сейчас перед нами своей отличной памятью. Они запали в его сердце и теперь будут гореть в нем путеводной звездой, освещая каждый поворот, каждую преграду. Верю, что Каврис Танбаев научится жить, как жил герой Николая Островского — прекрасно и светло!
Все время, пока говорила учительница, в классе стояла необычайная тишина.
Каждый думал о себе: может ли он сам хоть одной черточкой своего характера сравниться с Павлом Корчагиным?
— Куда нам, грешным,— вздохнул Пронка.
— Из всего нашего класса,— прошептала Тонка,— только Каврис такой.
Софья Михайловна улыбнулась:
— Посмотрим, как он кончит учебный год.
Когда выходили из класса, Пронка подтолкнул Кавриса под локоть:
— Видел? Здорово! А ты еще разозлился: «Неправду говорит»... Двойку не поставила и весь урок проговорила. Я, между прочим, тоже не выучил. Если бы спросила — амба!
— Эх, голова бедовая! Чего бы тебе, Пронка, ни сказали, будто горох об стену...
Мороз белой зимы опять рисует на окнах узоры. Тополя, стоящие возле интерната, покрылись инеем. Сороки, которые никогда не улетают на юг, сидят на заборах и деревьях округлившиеся, спрятав головы. Птицы боятся летать в такой жгучий мороз.
Хорошо, что расстояние между школой и интернатом короткое, а то бы замерз, как сорока на лету.
На черноватом небе зимнего вечера горят густые звезды. Безжалостный мороз щиплет щеки, нос, колени. У Кавриса не хватает ладоней, чтобы одновременно растереть все стынущие места.
— Морозы еще долго будут стоять,— рассуждает Каврис,— звезды густые. Пусть бы примета не сбылась, а то я совсем пропал...
Открыв дверь, мальчик вошел в интернат. Ворвавшийся вслед за ним белый пар — дыхание мороза — покатился по коридору и тут же растаял.
Проходя мимо двери Марии Владимировны, Каврис остановился: кажется, там Макар — его бас. Интересно, что он может делать сейчас у воспитательницы? Как будто ничего за день не натворил... Кричит-то как! Оправдывается? Ого! Про меня...
Каврис приник ухом к двери.
— Я... я хорошо знаю его,— говорил Макар срывавшимся от волнения голосом,— мы с ним из одного аала. Он — круглый сирота, ему труднее всех...
— Мы все за него переживаем: и я, и Макар, и Тонка. Макар, конечно, правду говорит, но Каврис сам немного виноват. Сил мало, а он сидит до ночи в музыкальной комнате, играет, ноты учит. Надо посоветовать, чтобы он так не делал. Первое — учеба, а музыка... хе, просто так!
Так-так, два дружка у ясе про него докладывают! Кажется, не просил их лезть не в свое дело. Теперь остается услышать еще один знакомый голосочек... Пожалуйста, вот и он!
— Музыка для него не «хе», не «просто так». Не равняй всех по себе,— возмущенно возражала Тонка.— Никто из вас и не знает, какую музыку сочиняет
Каврис, какие песни. Если бы ты мог так, давно бы всем раззвонил!
С него хватит! Надо уходить из школы. Не хочет он больше быть ни «колхозным мальчиком», ни «ручным ягненком», ни... какое еще прозвище придумают ему здесь? Неужели он не сможет сам прокормиться? Неужели не сможет... чтоб никто не ходил и не просил за него...
...На следующий день Каврис не пошел в школу. Глядя в заиндевевшее окно, он думал, как добраться до дома в такой морозный день. Кажется, из аальских в Аскизе никого нет, чтобы можно было доехать на попутных санях.
В самый разгар его размышлений в комнату вошла Мария Владимировна, в руках она держала новое белье, брюки, рубашку.
— Все в порядке,— сказала она.— Вот, бери вещи, паек дополнительный будешь получать...
— Я ни у кого не просил,— буркнул Каврис.
— Вот странный мальчик! — удивилась Мария Владимировна.— Другой бы не стал возражать.
— Я не «другой»!
— Хорошо, хорошо, не будем спорить. По-моему, ты сам отчасти виноват — никогда и никому ни слова! Разве так можно? Надо людям побольше доверять. Ты не думай — много людей к тебе хорошо относятся: и учителя, и товарищи. Вещи и паек выданы по решению исполкома. Это государственная помощь, так что, пожалуйста, не капризничай!
Глава шестнадцатая
На сцене районного Дома культуры отчетный концерт учащихся средних школ. Художественное чтение, сцены, интермедии, вокальные и музыкальные номера.
Конферансье объявляет: «Выступает ученик седьмого класса Аскизской средней школы Каврис Танбаев. Он исполнит на баяне музыкальную пьесу собственного сочинения».
Кавриса трудно было узнать. Вместо серых растоптанных валенок — новые сапоги; вместо линялой рубахи неопределенного цвета — черная косоворотка с белыми пуговицами, подпоясанная кожаным ремешком.
Усевшись на стул, он развернул мехи, положил пальцы на белые пуговицы баяна. В зал полетела музыка. В ней слышалась печальная жалоба женщины, и песня воинов, и песня одиноких тополей, простившихся с летней листвой, и весенняя песня жаворонков, и песня пастуха, и журчание ручья, и вой злой пурги — все звуки родной природы, казалось, таились в глубине баяна. Юный музыкант извлекал их силою своего таланта.
Софья Михайловна, не выдержав, шептала на ухо своей соседке, Ольге Павловне:
— Послушайте, Оля, как он талантлив, как одарен! Просто удивительно...
Когда смолкли последние звуки замечательной песни, зал замер. Каврис уходил со сцены в полной тишине, без аплодисментов. Софья Михайловна в отчаянии оглядывалась по сторонам: «Что за народ, неужели не оценили?» И вдруг... прорвалось! Грянуло оглушительное «бис»!
Кавриса долго не отпускали, он играл еще и еще...
За кулисами он столкнулся с Тонкой, нарядной, как настоящая артистка.
— Чатхан настроен? — спросила она и добавила: — Очень страшно выступать?
— Не бойся. Мы же вдвоем!
Тонка и Каврис вышли на сцену. Зрители восхищенно ахнули: что за красивая парочка! Стройный паренек и нежная, как цветок, девочка-подросток. На груди у Тонки лежали черные косички, на их кончиках блестели бисеринки, словно капельки росы в свете утреннего солнца. На девочке было платье цвета июльского неба, на широком подоле, как радуга, развевалась цветная кайма. На голове платок в оранжевых жарках, ноги обуты в маленькие красные сапожки.
Зазвучал чатхан. Ему вторил звонкий девичий голосок.
Многие женщины, сидевшие в зале, утирали слезы.
Тонка пела старинную песню о батраке-пастухе, который пас байский скот в широкой необъятной степи. Бедный пастух плакал и жаловался на свою судьбу весенней бурной реке, чернеющему за рекой лесу. Его слезы, падая на землю, превращались в росу.
Кавриса и Тонку опять просили повторить «Слезы». Уважая просьбу зрителей, девочка безотказно исполняла одну песню за другой под звуки семиструнного чатхана.
После концерта они вышли из душного клуба. На улице, рядом с заборами, высились холмики осевших сугробов, из-под которых сочились маленькие ручьи. Пели птицы, призывая теплые дни. По небу большими белыми лебедями проплывали облака.
Каврис и Тонка стояли на краю невысокого яра молча, не находя слов. Над чернеющим лесом весело летали сороки. Белобокая сорока с длинным хвостом взмывала то вверх, то вниз. Наконец она уселась на верхушку дерева и застрекотала.
— Теперь, в теплое время, и сорока высоко летает,— сказал Каврис.
Тонка засмеялась.
— А на морозе разве не может?
— Куда там! Сидит на заборе как привязанная. И серый воробей зимой помалкивает, забившись под застреху. А чуть пригреет солнышко — выглянет и расчирикается на весь свет: «Жив! жив! жив!»
— Ты тоже, как воробей, ждал солнышка!
— Да, эта зима показалась мне самой холодной. И всякие другие неприятности, сама знаешь! Чуть из школы не вылетел...
— И все-таки ты выдержал! Семилетку окончил с самыми лучшими отметками.
— Если бы мне тогда не помогли, помнишь... Между прочим, и ты мне помогла и ребята. Ты для меня как сестренка. Мне весело, когда ты рядом, хочется петь и петь без конца!
Тонка подняла свои длинные ресницы. От ее теплого взгляда, казалось, быстрые ручейки потекли еще быстрей. От такого взгляда и зима убегала без оглядки в страхе за свои снежные шубы, которые могут растаять от Тонкиных горячих глаз.
Каврис вспомнил, как в самый разгар зимы заболела Тонка. Девочку положили в больницу, и он ходил ее навещать. Тонка сидела на деревянном диване, бледненькая, худенькая. Даже длинные ресницы ее стали как будто короче. На ней был большой и некрасивый больничный халат. У Кавриса сердце сжалось от жалости: «Ну что ты так раскисла? Скоро зима кончится, цветы зацветут!» — «Цветы...— протянула Тонка.— Ты — синий колокольчик, а я — прошлогодний цветок ромашки. Этот белый цветок уже не играет со своими лепестками».— «Ты совсем не похожа на такую ромашку. Ты похожа на ту, о которой я сочинил стихи:
Ромашка, Белый цветок, Белее белого снега Твоя плоская чашечка — Ни одна соринка не посмеет к ней пристать, Ни одна пылинка не приблизится.
Цветком чистоты ты называешься, Моя белая ромашка!
И ты поправишься! Обязательно! Верь мне».
Думая о том, как все получилось замечательно: вот и Тонка поправилась, и зима прошла, и на концерте они выступали вместе,— Каврис взял девочку за руку.
— Отпусти,— покраснела она, пытаясь освободить свою узенькую ладошку из крепких пальцев,— Макар и Пронка увидят — засмеют...
Каврис с сожалением выпустил руку. Тонка убежала. Лишь красные ленты на ее широкой юбке закружились от быстрого бега.
Каврису показалось, что в груди у него зажегся большой костер. Он оглянулся, посмотрел, нет ли кого поблизости, и произнес только что родившиеся строчки:
С приходом весны согреваются горы И злые снега убегают с полей.
Уносятся слезы, уносится горе, И каждое сердце стучит веселей.
Через два месяца после того памятного для Кавриса и Тонки концерта учеба кончилась.
Весна покрыла землю зеленью. В небе опять зазвенели жаворонки, в лесах — птичьи голоса.
Все это веселило Кавриса, который шел прощаться с учителями.
— Летом будешь в колхозе работать? — спросила его Софья Михайловна.
— Наверно.
— А осенью чтобы непременно вернулся в школу. Непременно! Конечно, тебе надо самому о себе заботиться, но ведь и мы не в стороне. Война, верю, скоро кончится, будет полегче.— У учительницы заблестели глаза.— Кончатся, Каврис, холод, голод, лишения! Терпели больше, остается потерпеть самую малость!
— Вернусь,— пообещал Каврис, хотя и был не особенно в этом уверен: сумеет ли выстоять, как прошлой зимой? Обещать — просто, а вот выполнить обещания... Впрочем, времени еще много — целое лето впереди.
Каврис шагал по знакомой дороге. Курганы, степь, жаворонки. Ах, жаворонки! Опять они здесь. Опять поют. О чем поют эти неунывающие птицы? И мальчик стал складывать в уме песенку жаворонков:
Весной с веселым солнцем
Летим мы в край родной, Повиснув колокольцем Над степью золотой.
Мы славим наши горы
И быстрые ручьи,
Привольные просторы, Курганы, ковыли.
Вскоре он увидел одинокого жеребенка. Жеребенок стоял на кургане. Черные большие глаза его были печальны, кудрявый хвостик развевал легкий ветерок.
«Где же мать? — подумал Каврис.— Видно, забрали на войну...»
Что стоишь на кургане высоком, Жеребенок с кудрявым хвостом,— Так печально стоишь, одинокий, Ржаньем степь оглашая кругом?
Ты не стой, сирота, так понуро, Не зови свою мать, не грусти. Знаю: вырастешь рослым — подпруга Не коснется могучей груди.
Ведь в народе моем говорится: «Жеребенок в коня превратится. Пережив все печали, кручины, Сирота вырастает в мужчину».
Хорошо идти одному, подставлять лицо солнцу, сочинять стихи! Каврис шел по старой тропинке, убегавшей от дороги в горы. Это было то самое место, где он встретился с дезертиром. Как же это было давно! Сколько событий произошло за один лишь год!..
Пропыленные сапоги очистились о свежую траву. Вскоре тропинка привела путника в аал. По дороге Каврис сорвал два цветка: синий и белый. Прежде чем идти к себе, он взглянул во двор Асапа. Тонка уже была дома...
— Это тебе,— сказал смущенно Каврис.— Помнишь, о чем в больнице говорила? Видишь, я оказался прав. И весна пришла, и цветы расцвели, и ты здорова.
— Какие красивые...— Девочка прижала синий цветок к своим нежным губам.— Синий — лучше!
— Это подснежник.— Каврис покраснел до корней волос.— Про него можно так сказать:
Подснежник,
Овечий цветок,
Пушистый, как нежная шерсть,
Раньше всех ты цветов расцветаешь, Торопясь из холодной земли, Нежными ладонями лепестков приветствуешь солнце.
Самый сильный из всех цветов, Как я тебя ждал!
До чего счастливыми бывают дни! О мой милый край! Всю бы жизнь ходил по твоей просторной земле! А Тонка! Она красивей цветка, который он ей подарил
и который теперь трепещет в ее пальцах, играя лепестками.
...Дома Кавриса ожидала еще одна радость. Пришло письмо от Карнила. Дядя писал, что был тяжело ранен, попал в плен к фашистам, бежал, а потом воевал в партизанском отряде, в тылу врага. «Сейчас, после еще одного тяжелого ранения, нахожусь в Москве, лечусь в госпитале, скоро выпишусь,— писал Карнил.— Но это ничего, я здоров, только вот левую руку пришлось ампутировать. Остаюсь, по всей вероятности, в Москве. Женился. На медсестре из госпиталя. Дорогой племянник, приезжай к нам, будешь жить у нас, как родной сын».
...Уложив вещи, Каврис перед дорогой присел на крыльцо. Вот и кончилось его трудное одинокое детство. Начинается новая жизнь. Он уезжает. Милый край с его реками, горами, лесами, птицами и цветами, с добрыми людьми, которые помогали в тяжелые минуты, друзья и любимые — все это останется с ним навсегда! И Тонка. Он будет писать ей каждый день. Может быть... Конечно, и это может случиться, если очень сильно верить.
Послесловие
С тех пор прошло немало лет. Время войны кончилось. Те, кому пришлось подымать бремя суровых лет, теперь уже седоголовые старики, дедушки и бабушки. Они прижимают любимых внуков к своей груди.
Так поступает и бывший председатель колхоза Муклай. «Ох,— говорит он,— внук, оказывается, еще слаще сына»,— и берет за руку карапуза, как две капли воды похожего на Макара.
...Однажды весь аал собрался в клуб на концерт. Дедушка Асап со своей старушкой, Муклай, Макар с семьей; Пронка с супругой и детьми тоже был здесь.
Занавес открылся. На клубной сцене сидели музыканты; их было столько, что казалось, они и рукой не могут шевельнуть, не то чтобы играть. Спиной к залу стоял высокий мужчина в черном костюме.
Из-за кулис вышла женщина в длинном платье. По клубу прошел восхищенный шепоток: «На Тонку Аса-пову похожа! Красавица!» Асап гордо выпятил старческую грудь, а его старушка всхлипнула, прижимая к губам платочек.
Муклай покосился на бывшего бригадира:
— Ты чего же скрывал?
— Что такое? — притворился непонимающим Асап.
— Да что твои молодые приехали.
На стариков зашикали: «Не мешайте слушать!»
— Выступает симфонический оркестр Красноярской государственной филармонии! Дирижер — Каврис Давыдович Танбаев.
Мужчина в черном костюме поклонился.
Увидя знакомое лицо, жители аала пришли в страшное волнение. «Это же наш Каврис! Сын Давыда Танбаева! Говорят, он десять лет в Москве музыке учился. Сам выучился, и Тонка выучилась. Оба теперь артисты. А ведь каким был горьким сиротой».
Дирижер поднял палочку, взмахнул ею в воздухе и... хлынула музыка. В ней было журчание реки, пение жаворонка, звуки чатхана, женский плач, ржание коней, грохот пушек, курлыканье журавлей и грустная песня пастуха. Мелодия уводила слушателей в далекие грозные годы. Всяк находил в ней свое, и казалось, композитор не сочинил музыку, а подслушал тайные глубины и теперь заставляет звучать все, что лежит в памяти каждой души.
— Как может так играть? — удивлялся Муклай.— Все нутро переворачивает. А мы своего Макара так и не смогли выучить, сколько ни заставляли... Теперь он, конечно, неплохой механизатор, но с Каври-сом разве сравнишь? Недаром говорят: «Хороший конь и в жеребенке виден».
После концерта Кавриса окружила толпа односельчан. Макар с Пронкой едва протиснулись к нему и стали наперебой приглашать в гости.
— Не обижайтесь, ребята, мы домой пойдем,— ответил Каврис, прижимая к себе счастливую, разрумянившуюся Тонку.
...Полная луна светила ярко, как дневное солнце. Кругом стояла тишина, только на краю аала лаяла собака.
— Совсем как твоя Халтарах,— улыбнулась Тонка,— очень похоже.
Когда пришли домой, белоголовая старушка, мать Тонки, зачерпнула по обычаю полную чашку айрана и подала зятю:
— С приездом на родину, сынок!
Потом на столе появилась тарелка со сдобой, чай со сливками. Каврис ел и нахваливал:
— Бывало, мать и бабушка меня так потчевали. Как вкусно!..
...Каврис проснулся рано. Быстро одевшись, он вышел на улицу и тотчас был объят лучами поднимавше
гося из-за горы солнца. Горы, по которым он бродил когда-то, остались прежними, и лес, куда он ходил со своими товарищами за смородиной и кислицей, весь в пене цветущей черемухи, был не менее прекрасен, чем в дни его детства. В воздухе кружились разноцветные бабочки. Заметив густые заросли пикульки, Каврис вспомнил женщину, которая когда-то лечила его от «тускен». По правде говоря, он вспоминал только самое хорошее, как тот самый воробей, про которого он когда-то рассказывал Тонке.
Каврису захотелось крикнуть на весь этот зеленый благоуханный свет: «Вы видите, я жив! Вы видите меня, горы, небо, река Абакан, белые чайки? Смотрите на меня все, кто учил меня мужеству и любви!»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава первая.............................5
Глава вторая............................12
Глава третья............................15
Глава четвертая.........................24
Глава пятая.............................34
Глава шестая............................40
Глава седьмая...........................44
Глава восьмая ..........................48
Глава девятая...........................51
Глава десятая...........................57
Глава одиннадцатая......................64
Глава двенадцатая.......................72
Глава тринадцатая.......................76
Глава четырнадцатая.....................78
Глава пятнадцатая.......................83
Глава шестнадцатая......................84
Глава семнадцатая.......................88
Послесловие.............................91
Для среднего возраста
Николай Егорович Тиников
ПЕСНИ КАВРИСА
Ответственный редактор
И. М. Пугачева
Художественный редактор И. Г. Найденова
Технический редактор Г. Г. Стан
Корректоры
Л. А. Рогова и Н. А. Сафронова
Сдано в набор 19/V 1975 г. Подписано к печати 14/VIII 1975 г. Формат 84X108’/s2. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 3. Усл. печ. л. 5,04. Уч.-изд. л. 4,82. Тираж 100 000 экз. Заказ № 181. Цена 29 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.
Тиников Н. Е.
Т42 Песни Кавриса. Повесть. Пер. с хак. К. Ткаченко. Рис. В. Кулькова. М., «Дет. лит.», 1975.
94 с. с ил.
Повесть о жизни хакасского мальчика в годы Великой Отечественной войны.
С(Хак)
Издательство «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» выпускает в 1975 году для детей среднего и старшего возраста произведения писателей народов СССР:
Б р ы л ь Я. ИДУ В РОДНОЕ.
Повести и рассказы.
В книгу входит лучшее из того, что создано выдающимся белорусским писателем для детей и юношества— повесть о детстве, о сиротской доле, о нелегкой жизни некогда оторванных от родного края крестьян Западной Белоруссии, а также и о сегодняшней жизни в Советской Белоруссии.
Перевод с белорусского
ЛагздыньВ. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ.
Повесть.
Повесть о современных латышских пионерах, живущих в сельской местности, об их занятиях и приключениях.
Перевод с латышского
Нестайко В. ТАИНА ТРЕХ НЕИЗВЕСТНЫХ.
Повесть.
Повесть о веселых мальчишках Яве Рене и Павлуше Завгороднем, знакомых читателю по двум предыдущим книгам писателя: «Приключения Робинзона Кукурузо» и «Незнакомец из тринадцатой квартиры».
Перевод с украинского.
Цена 29 коп.