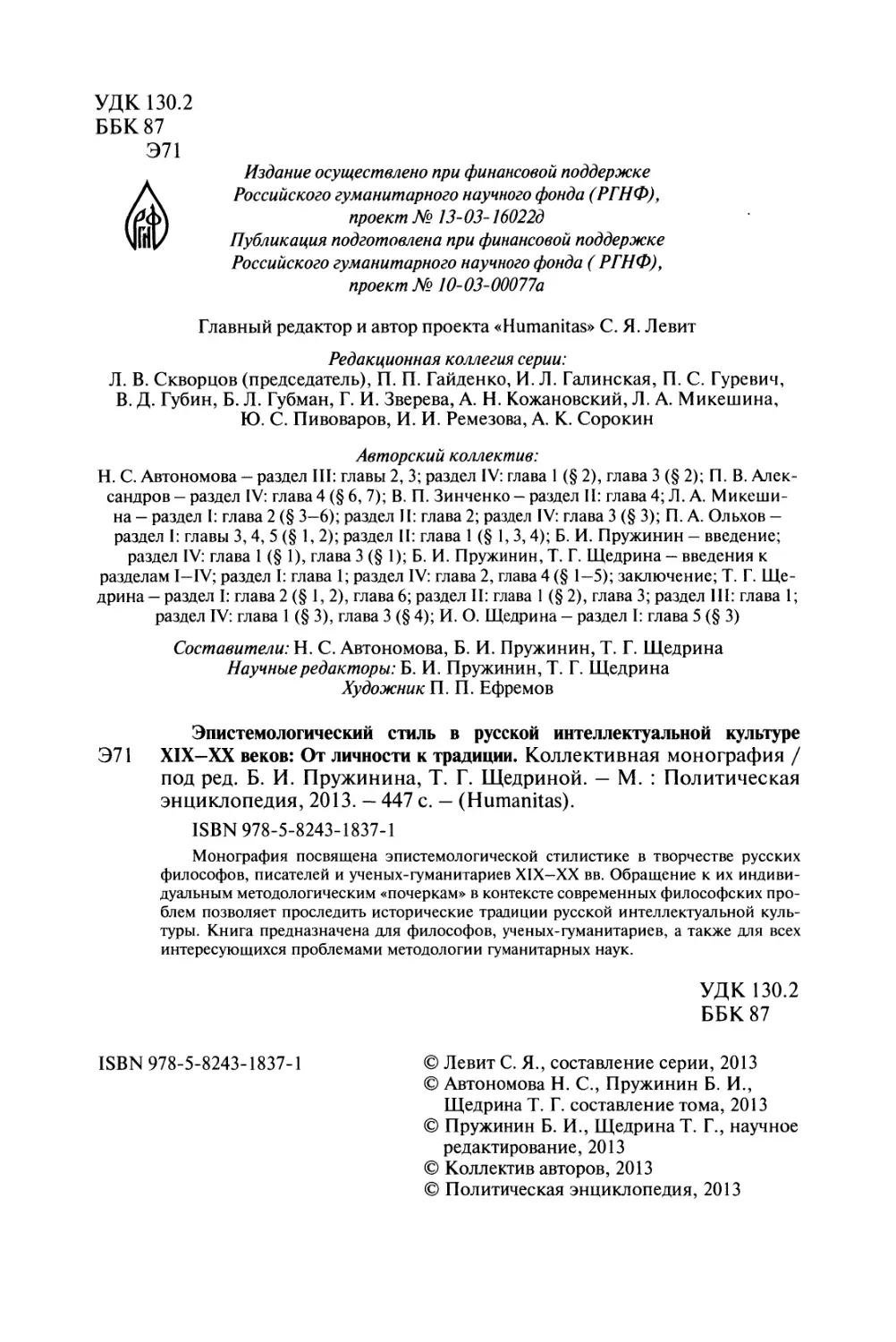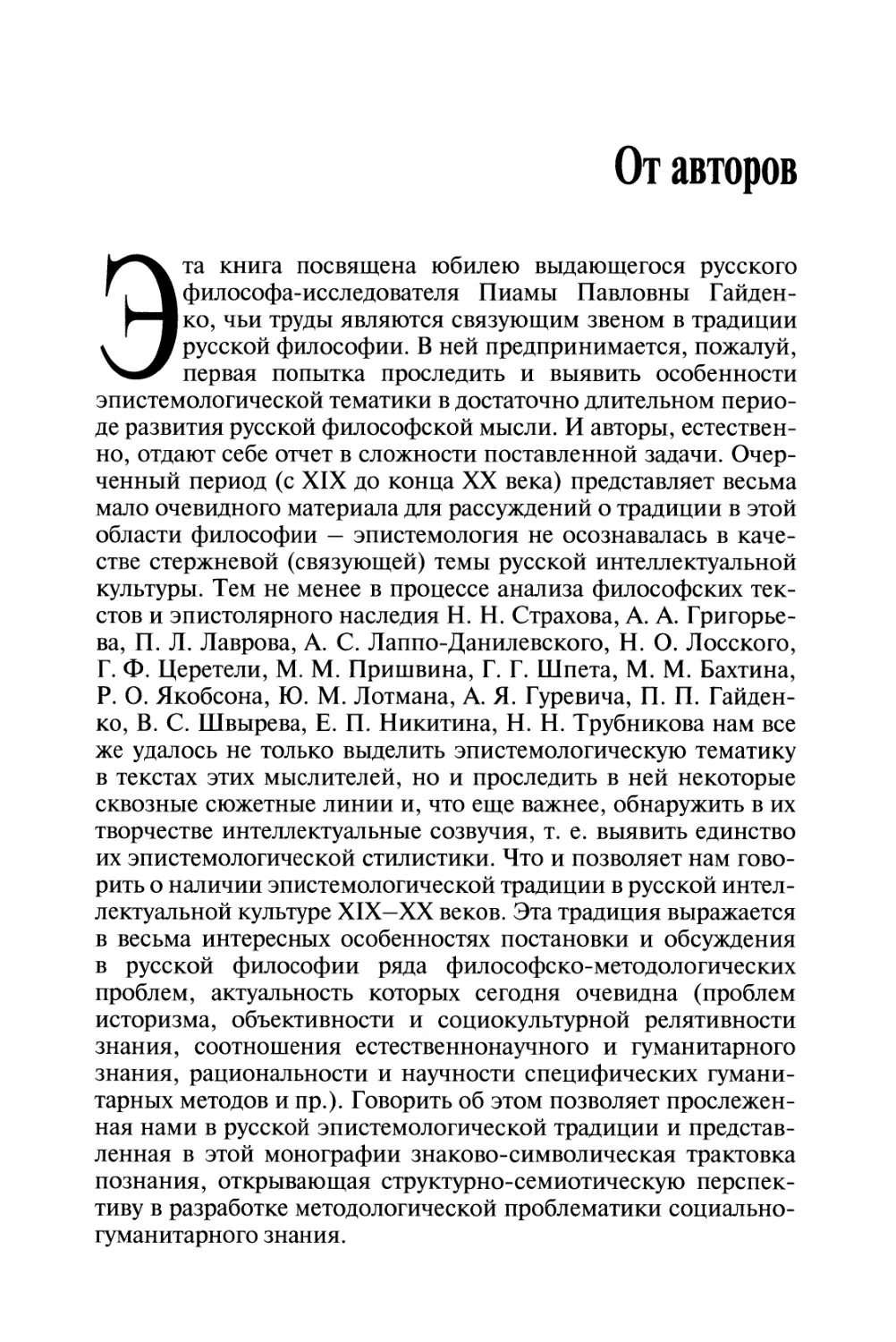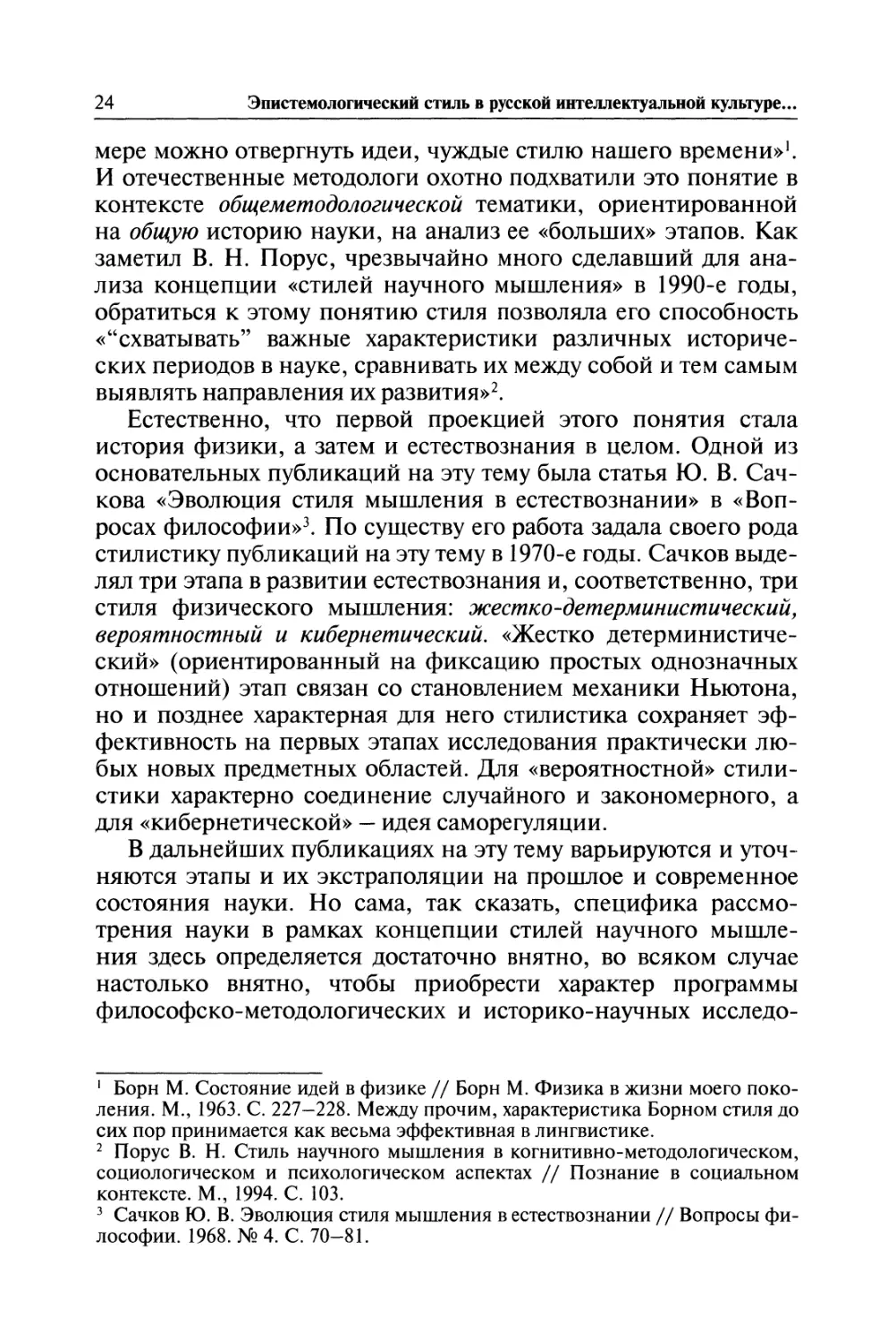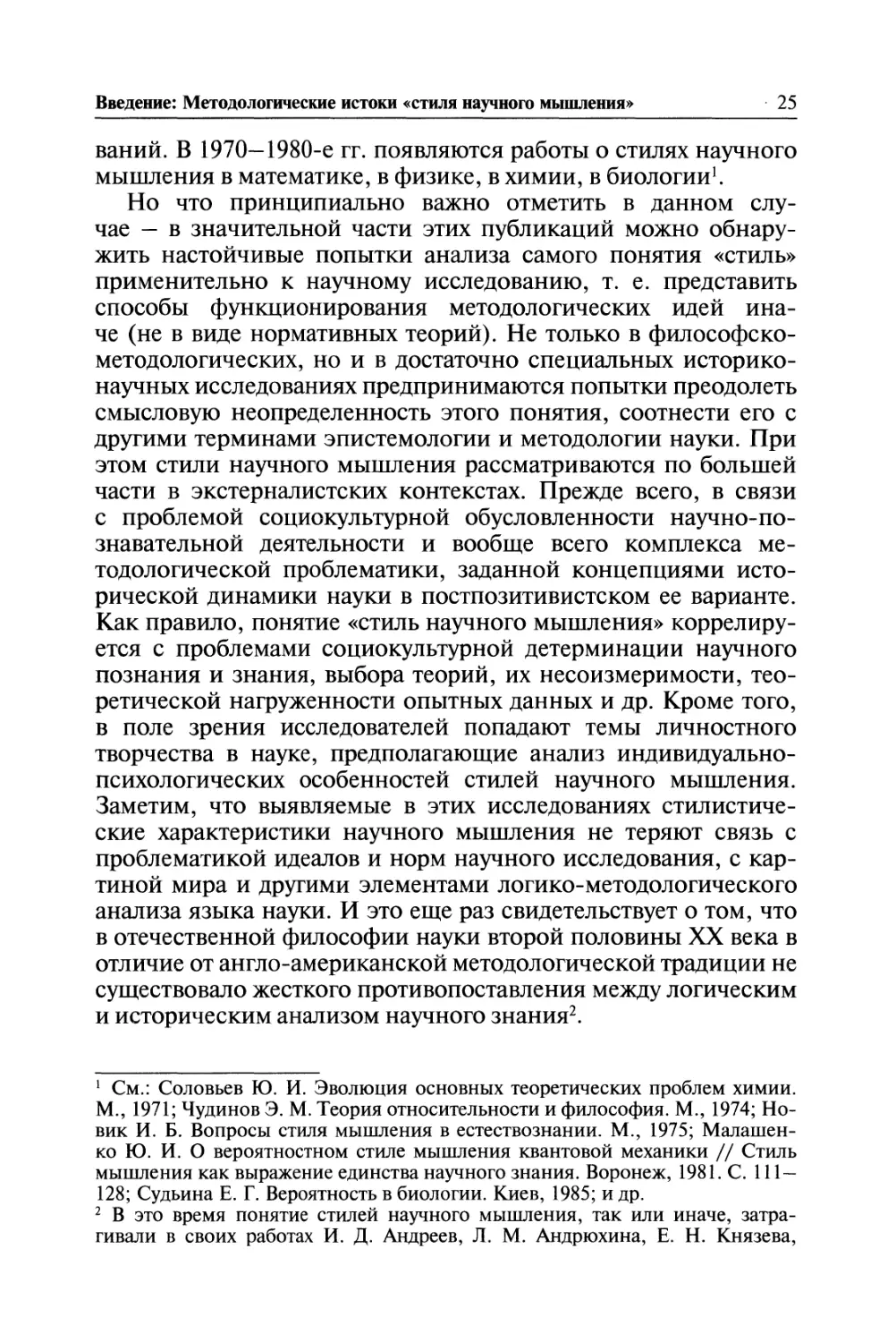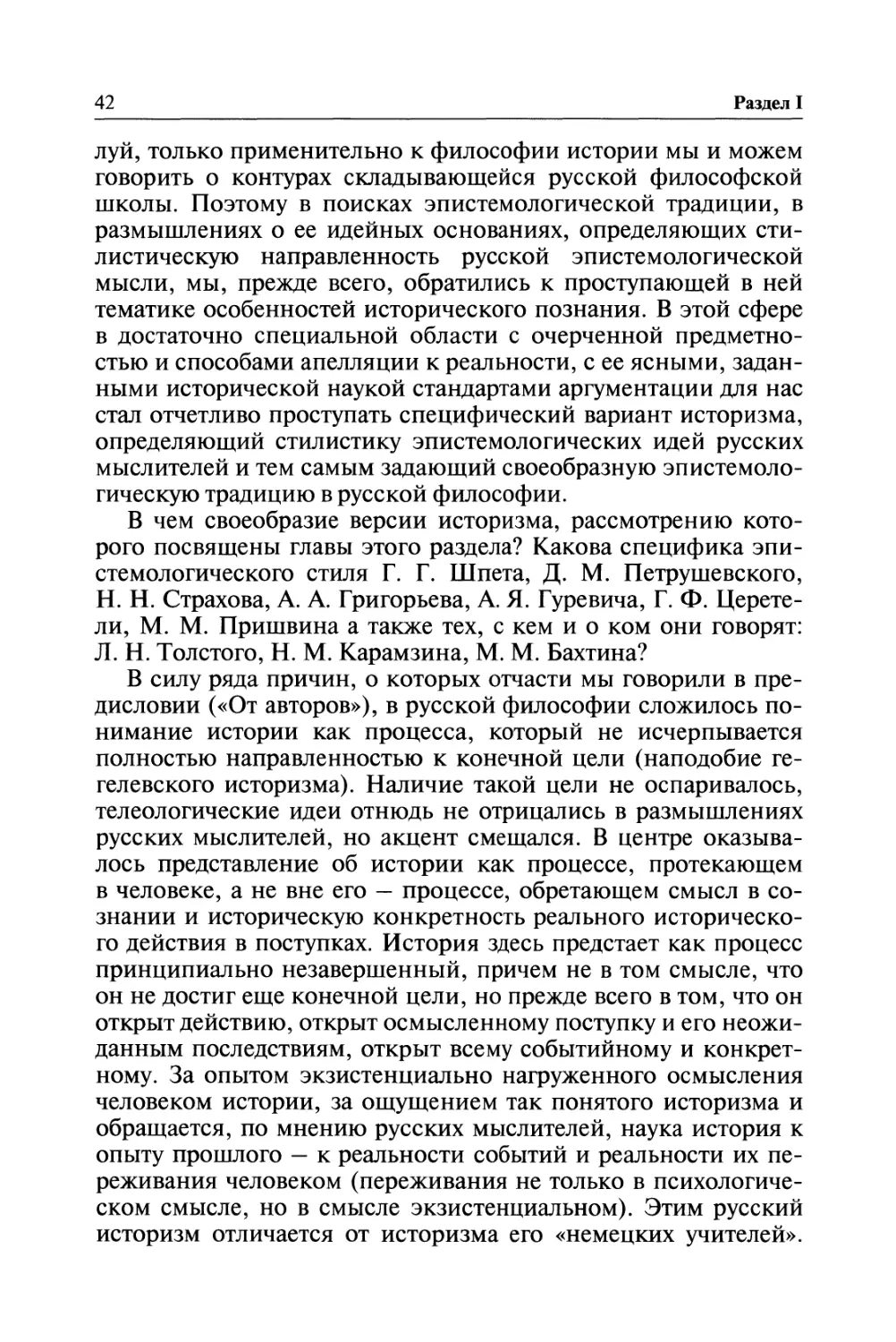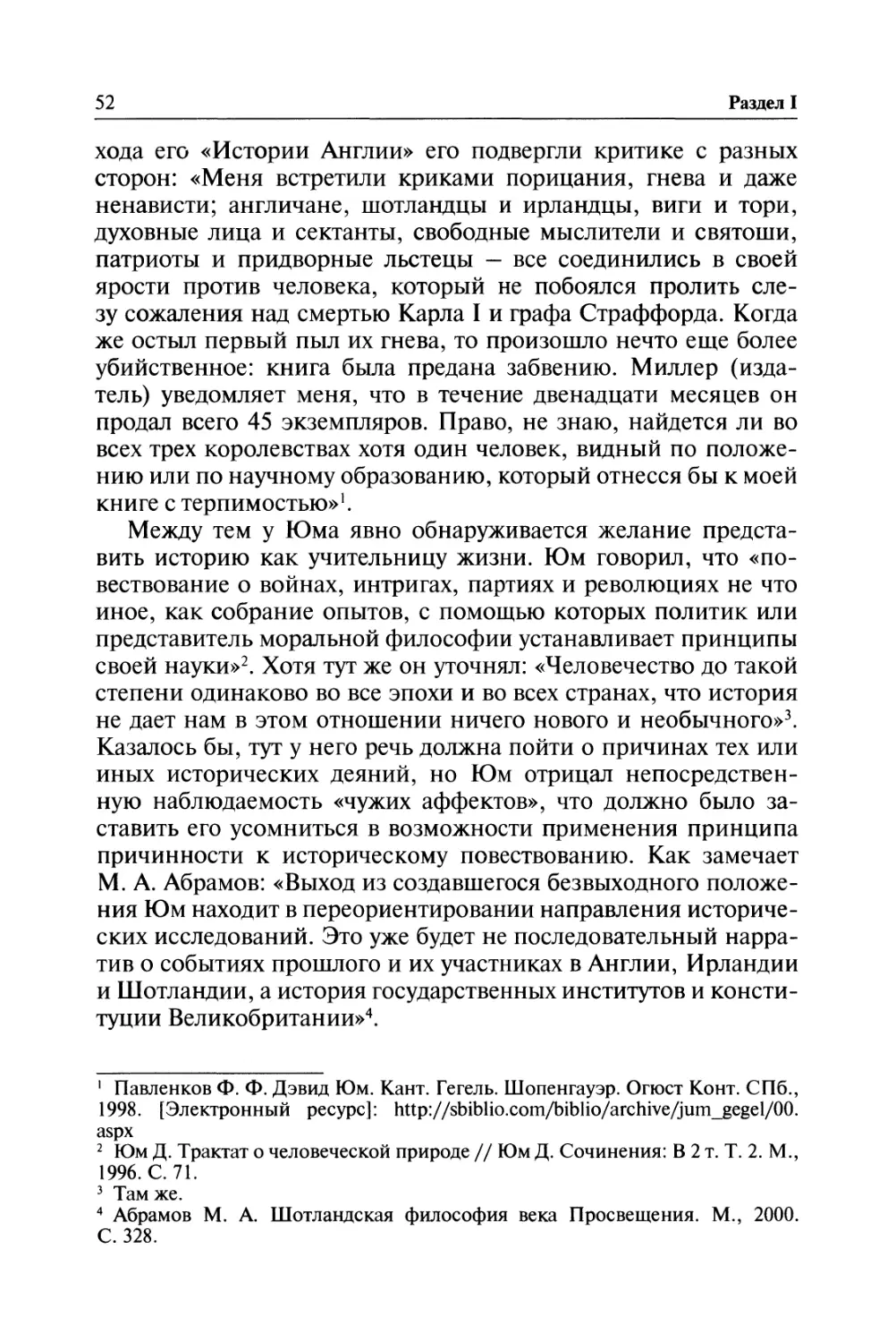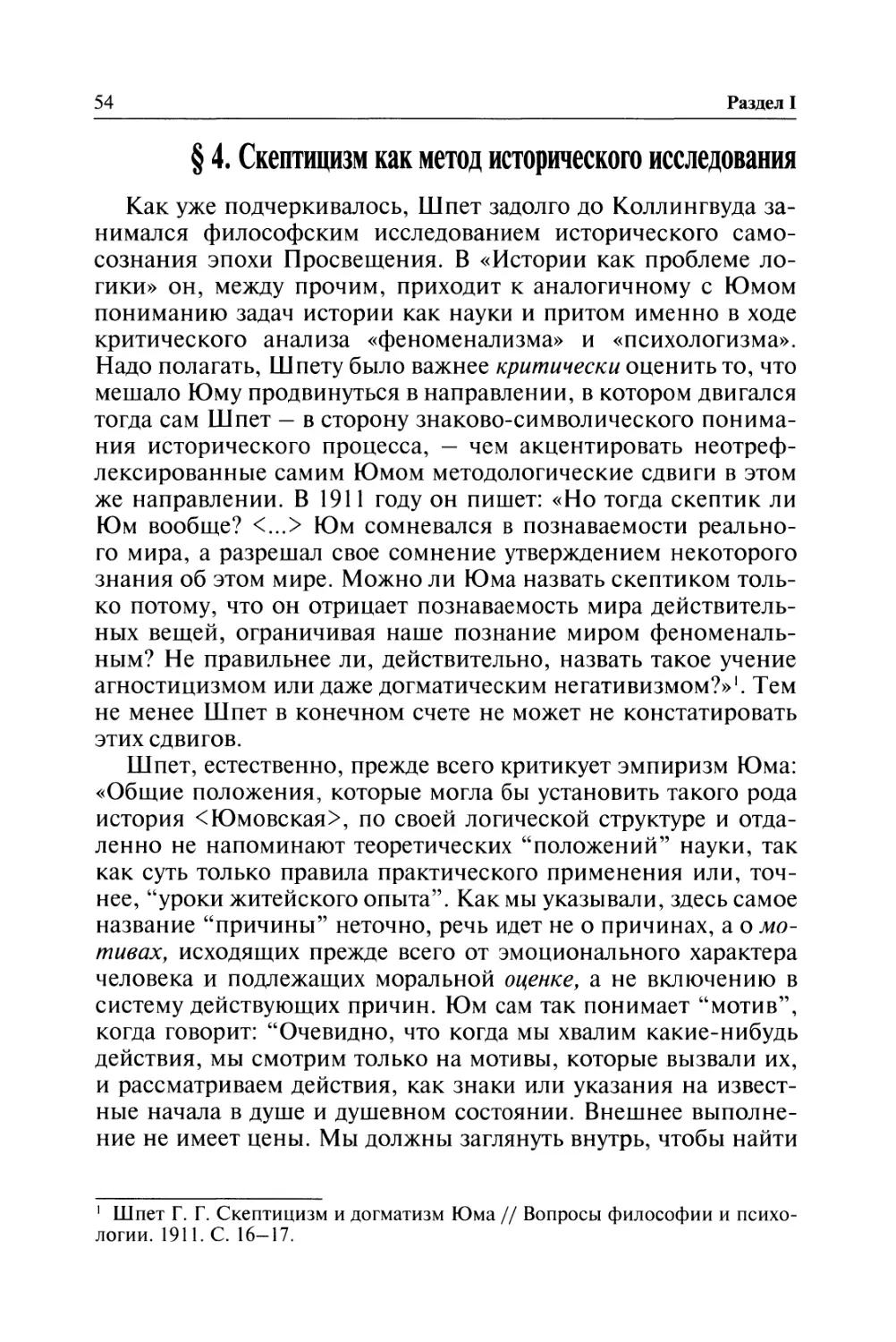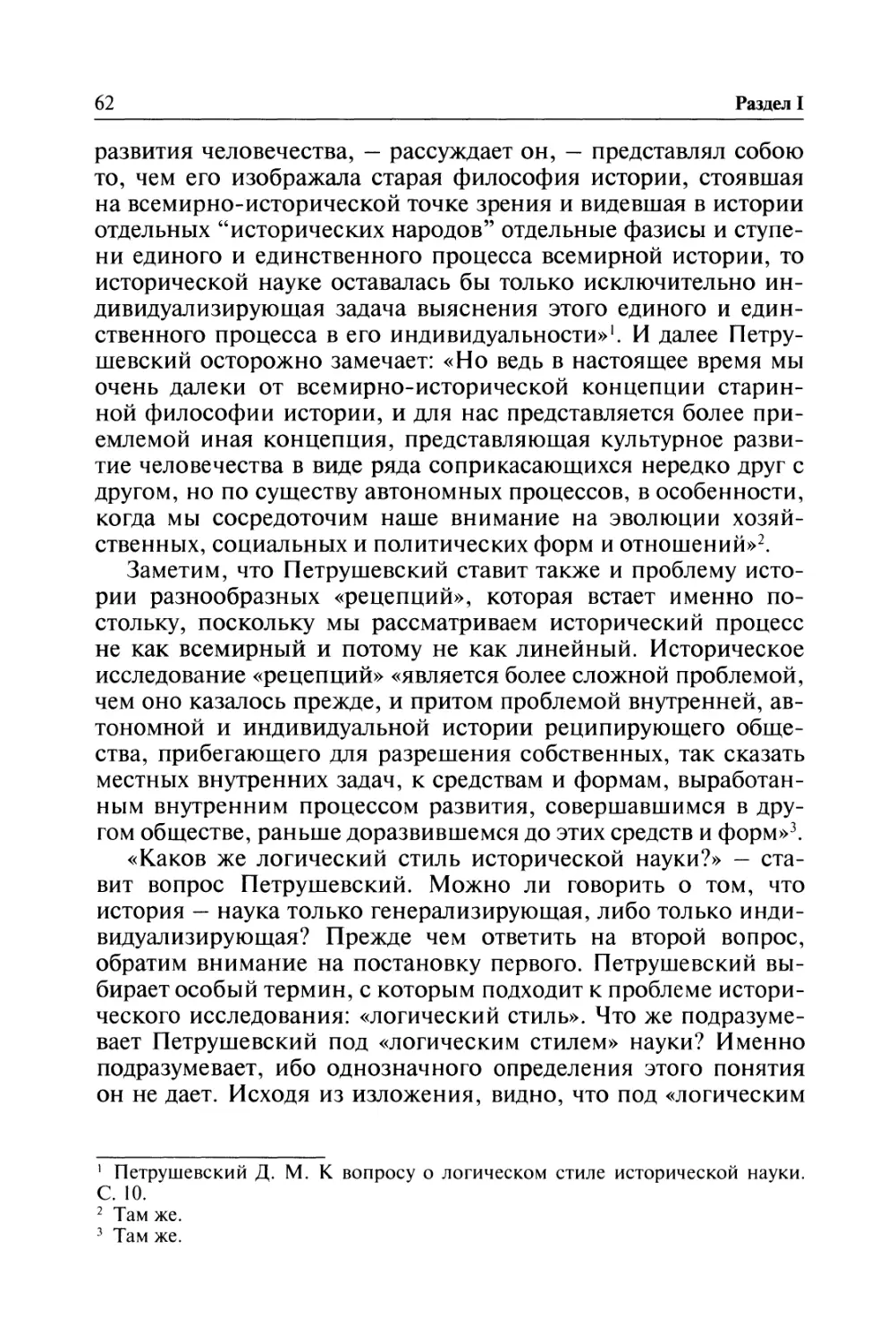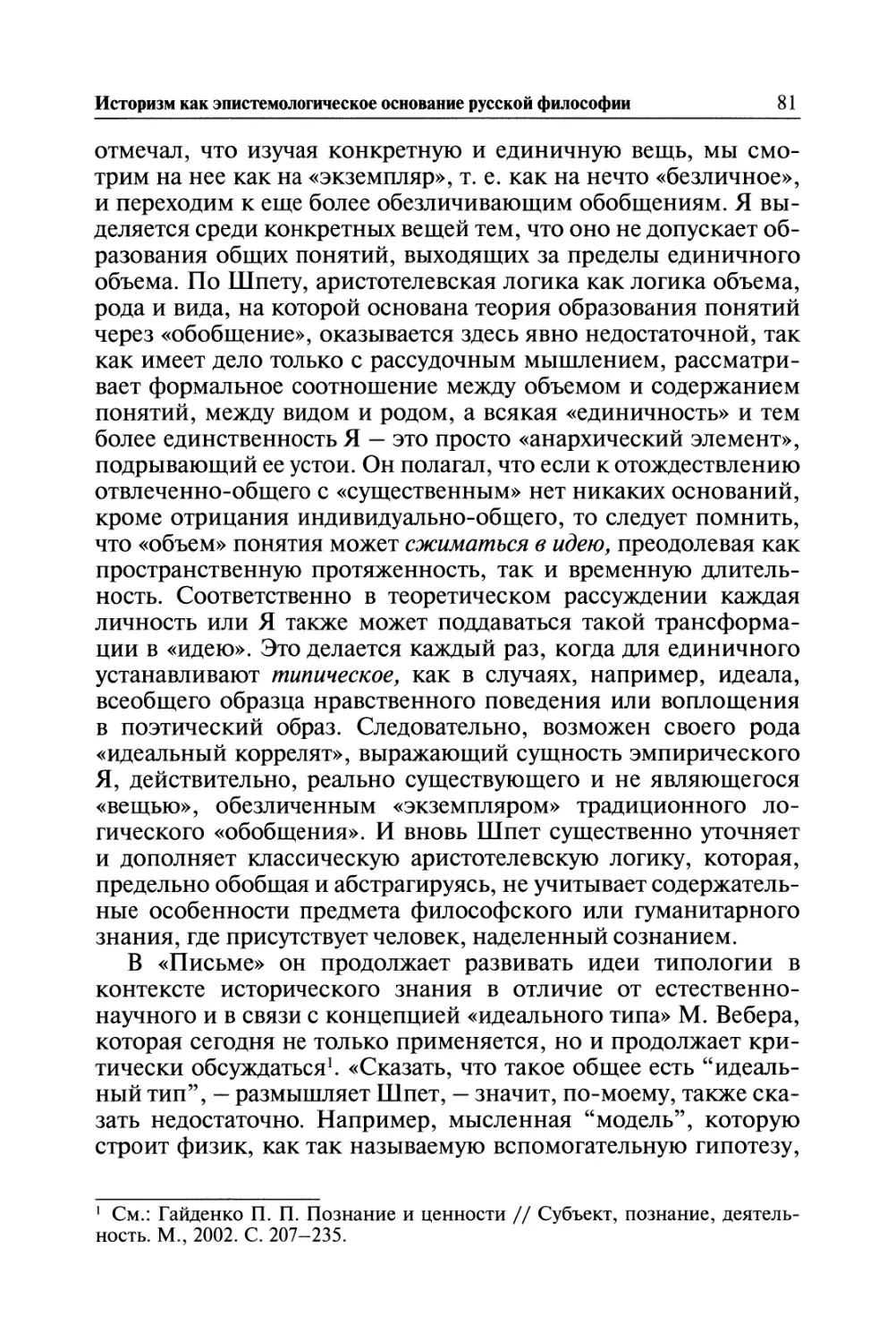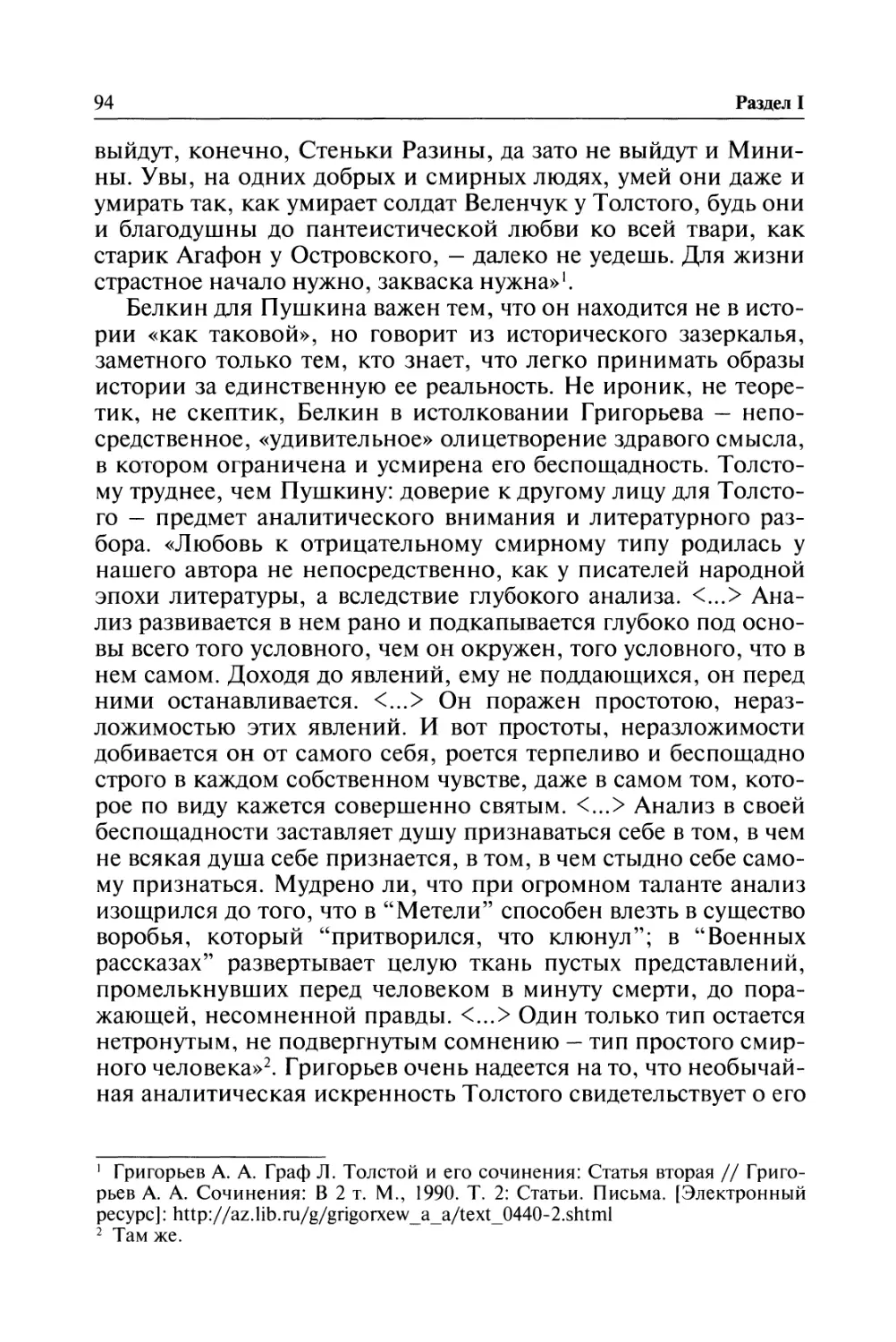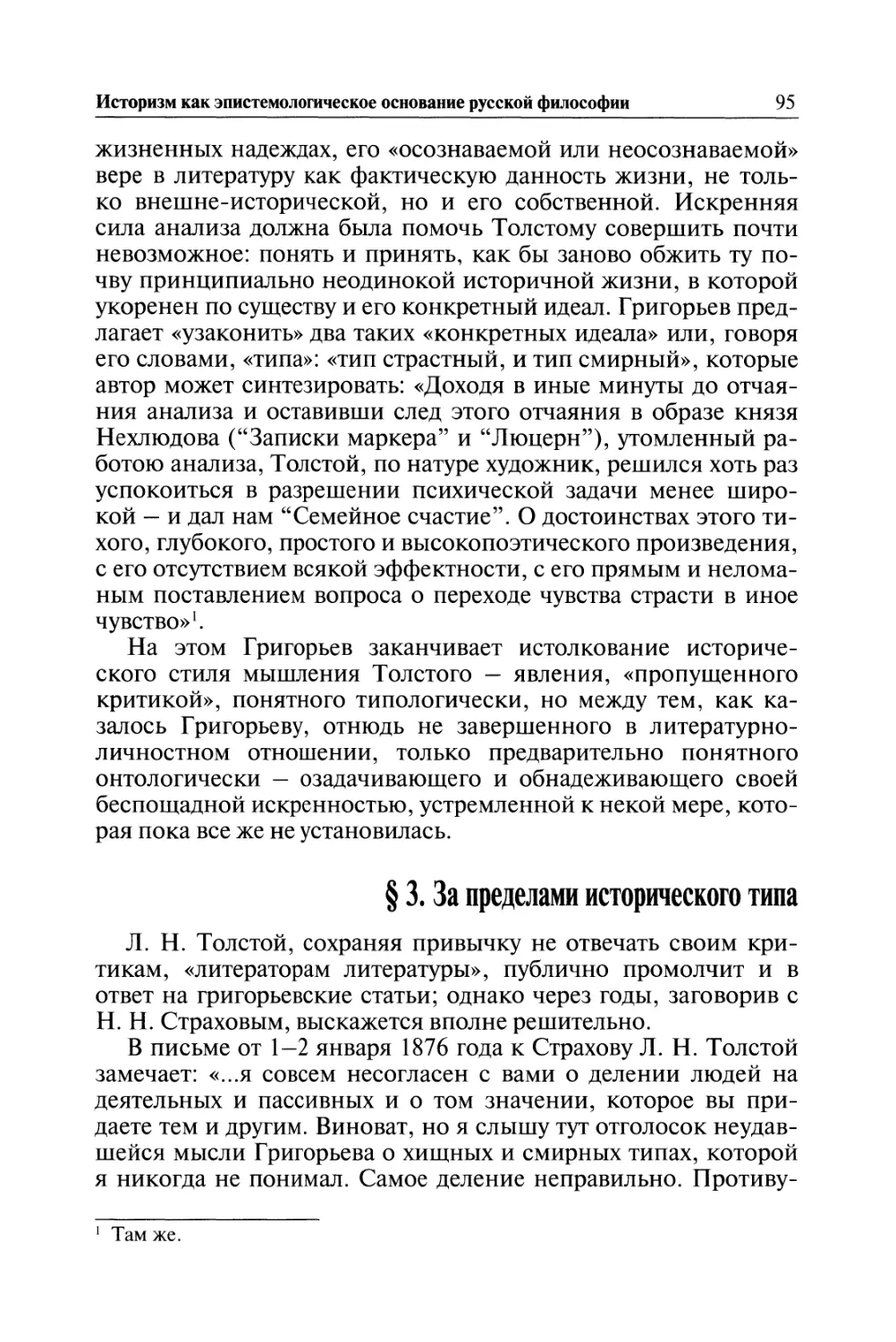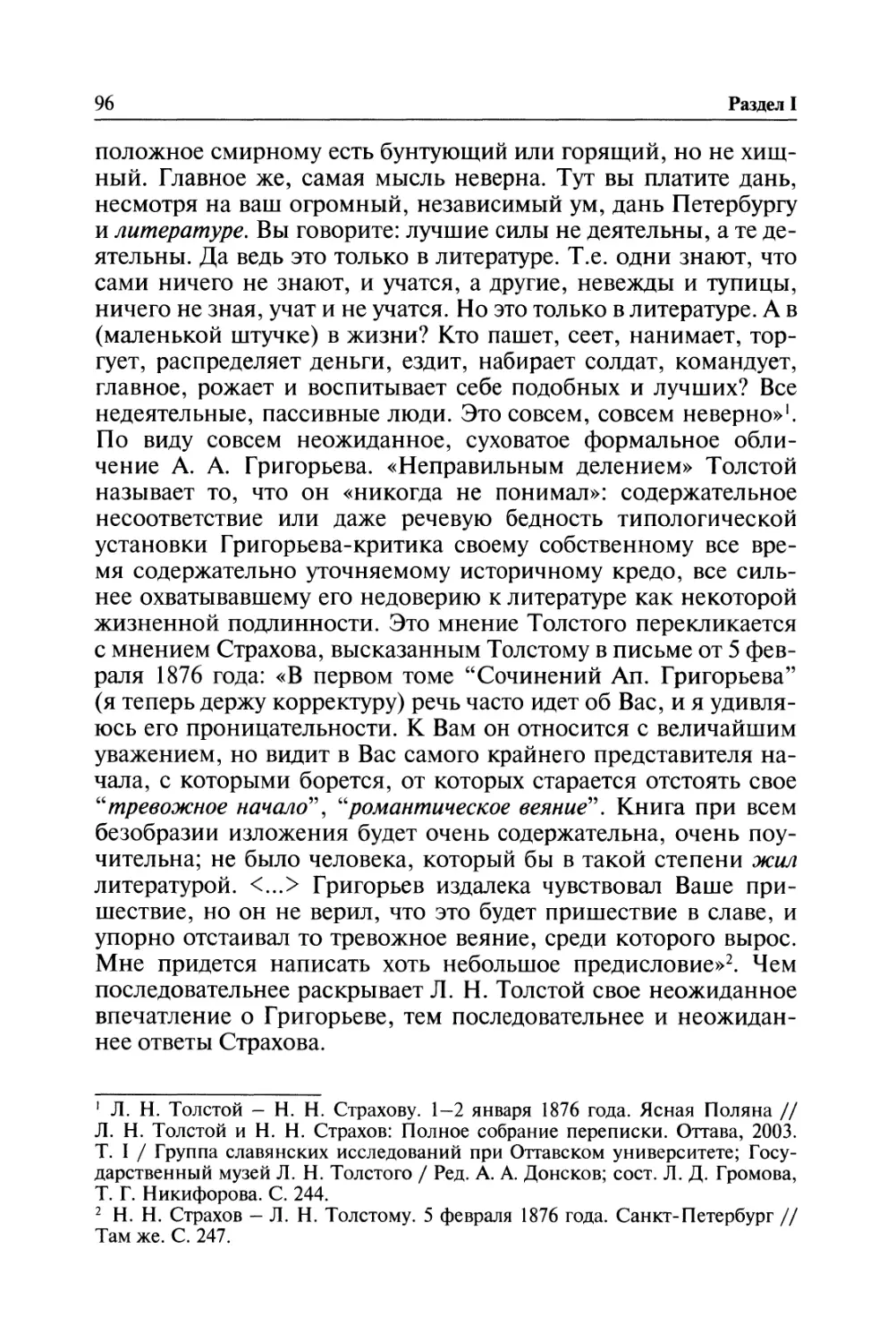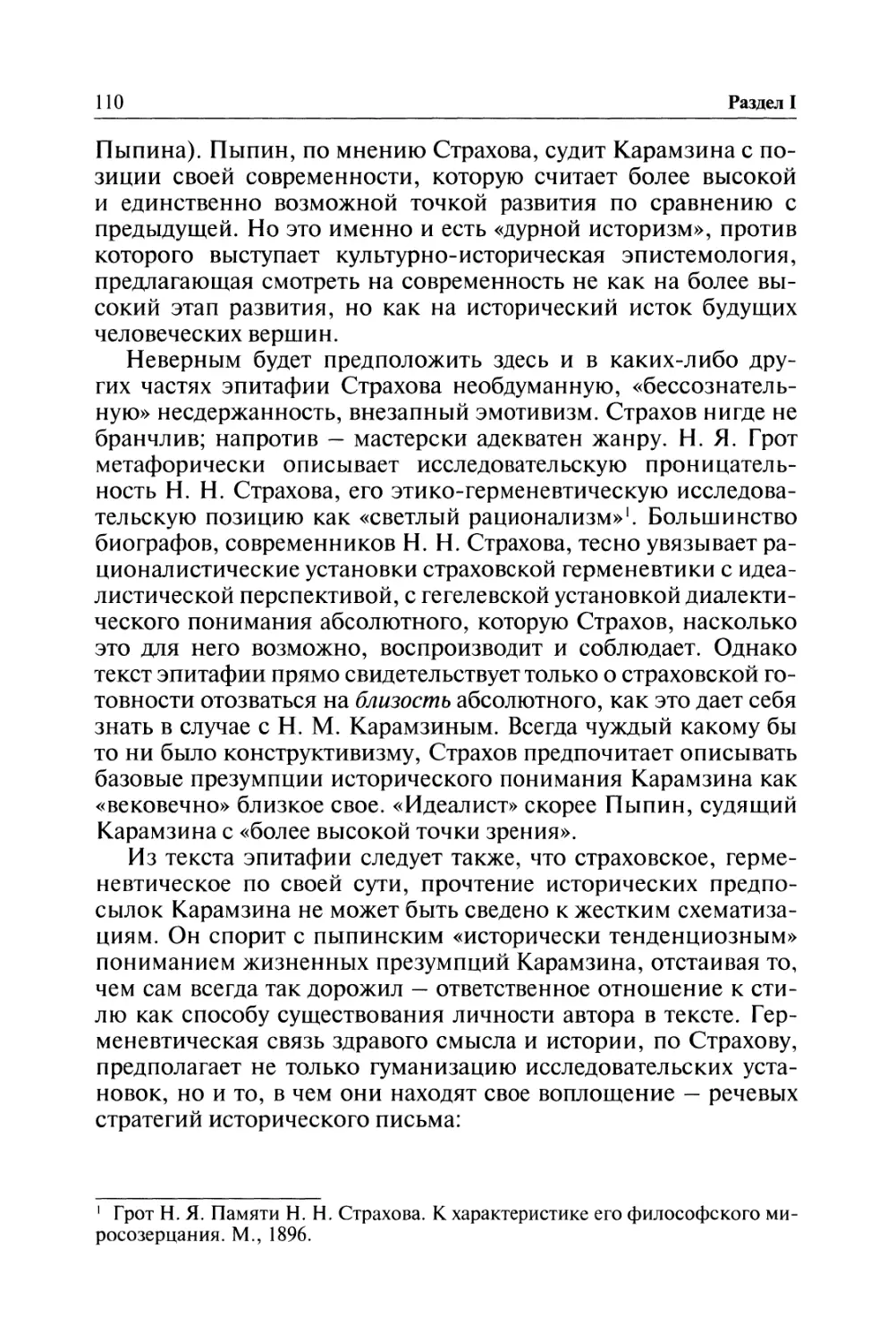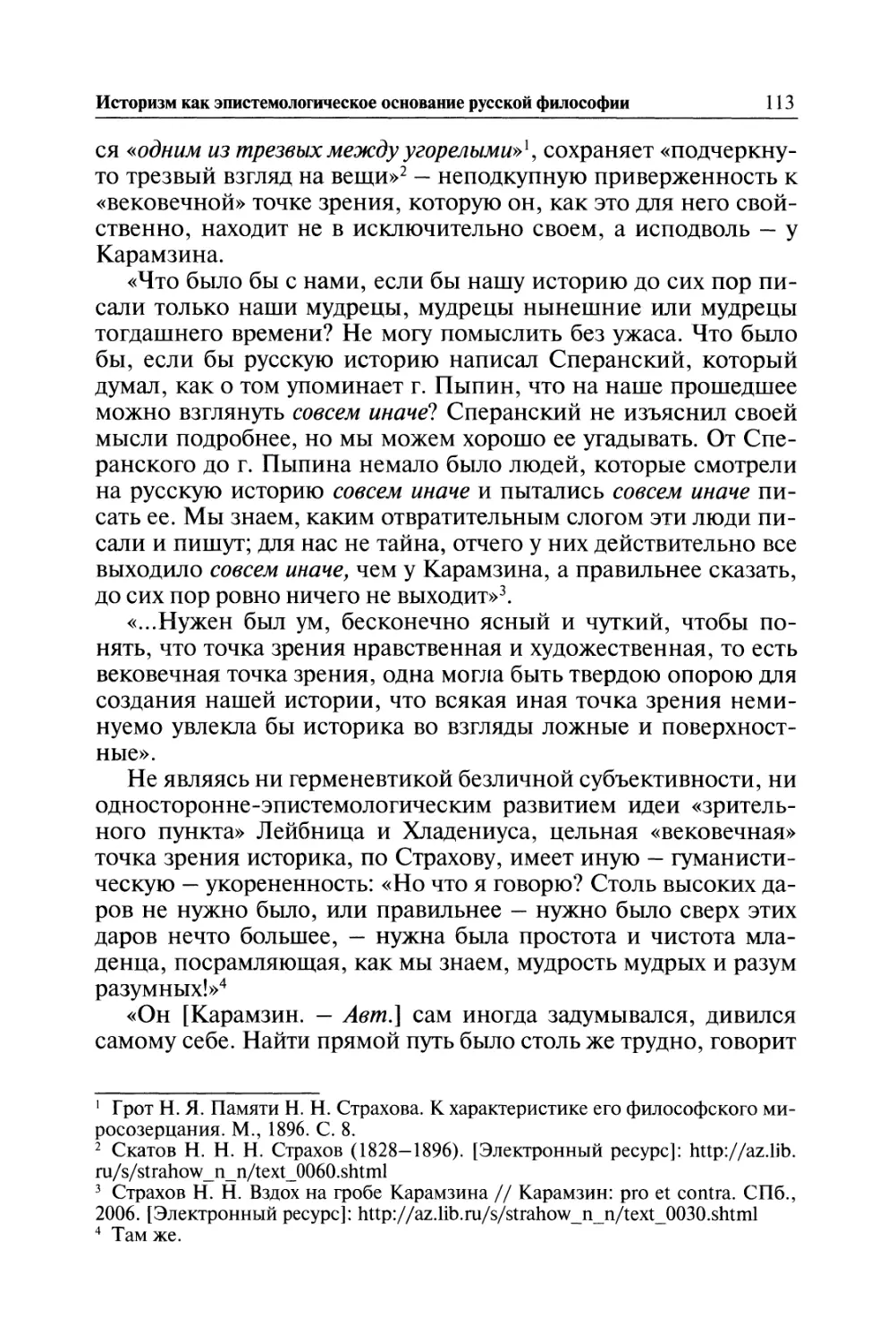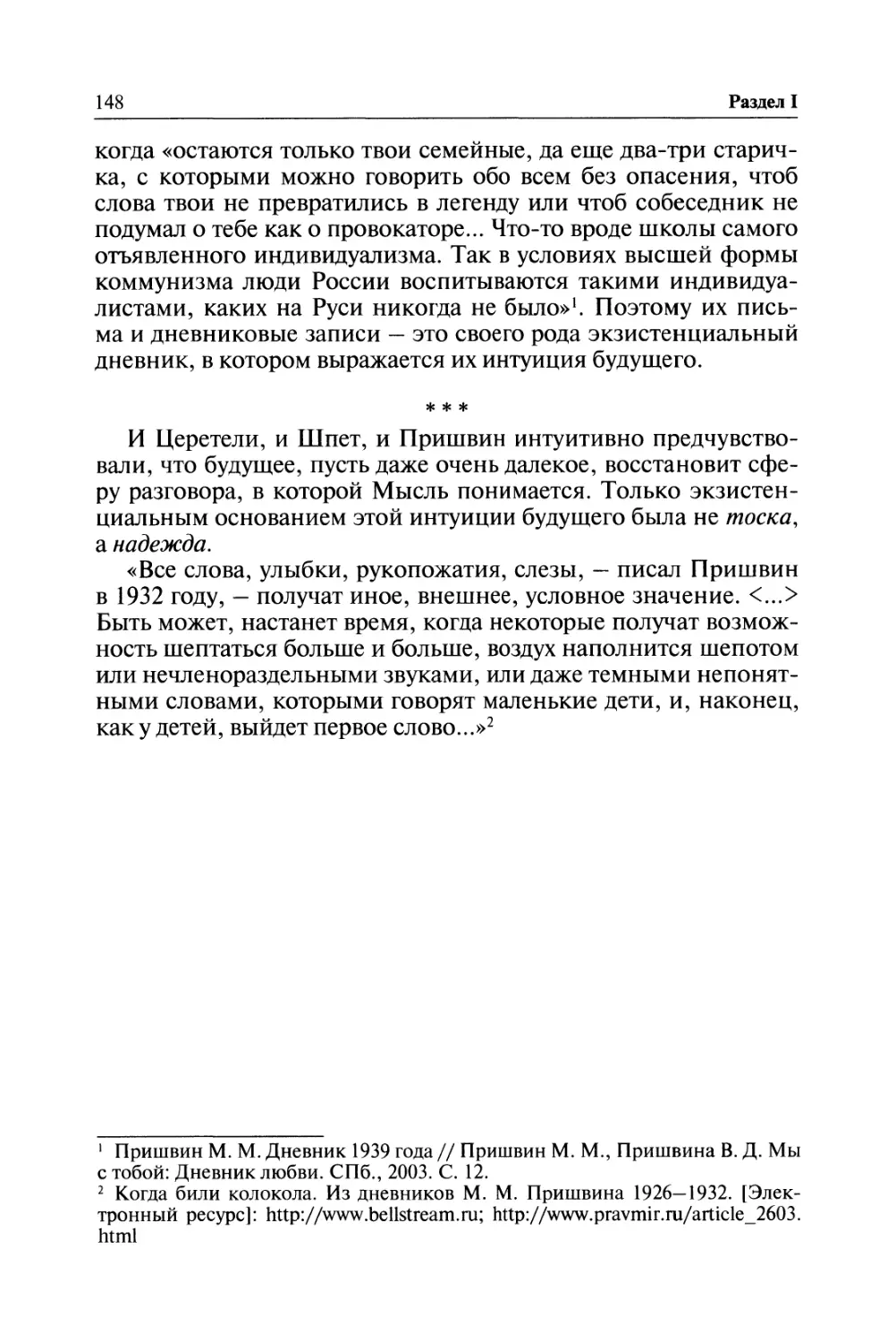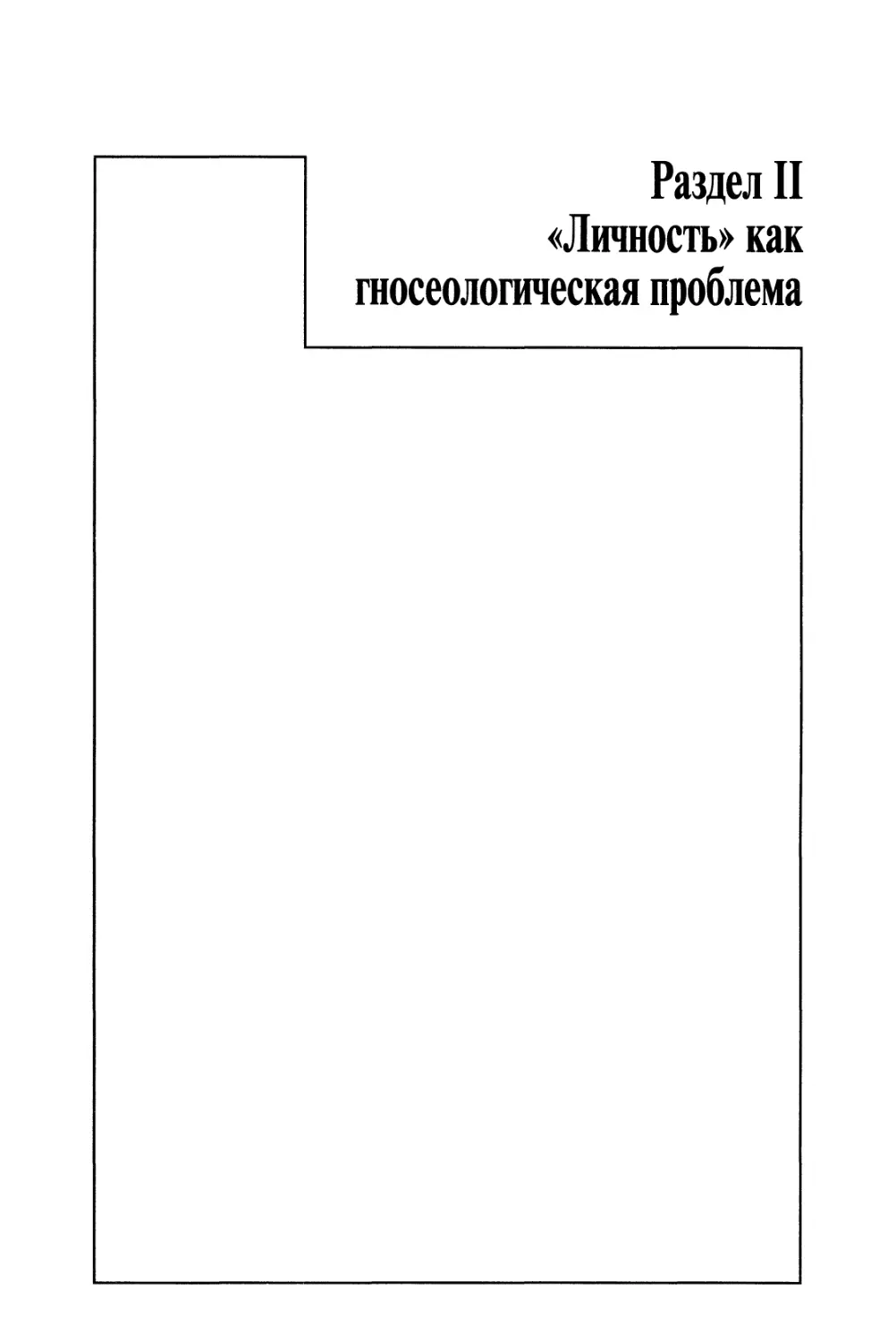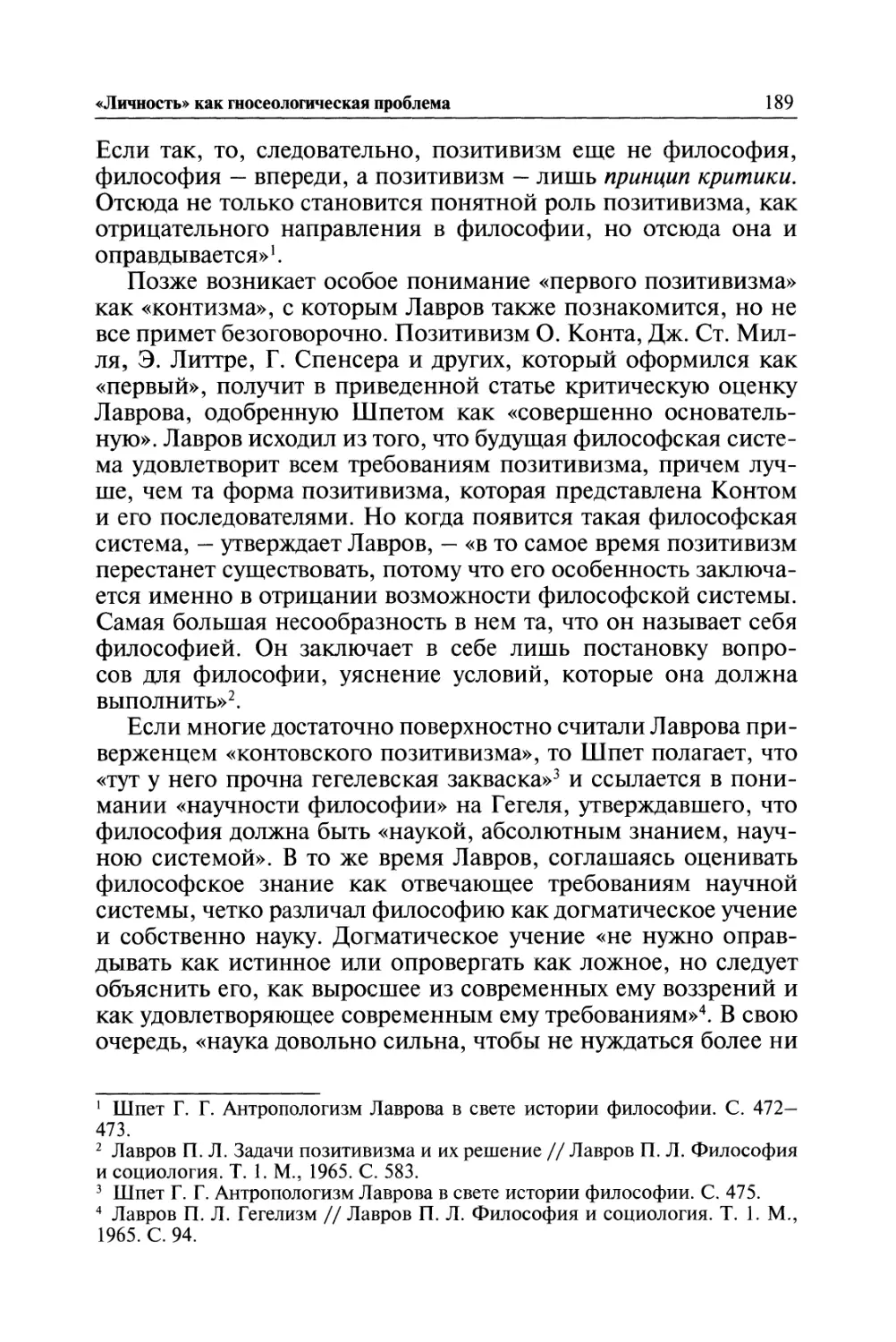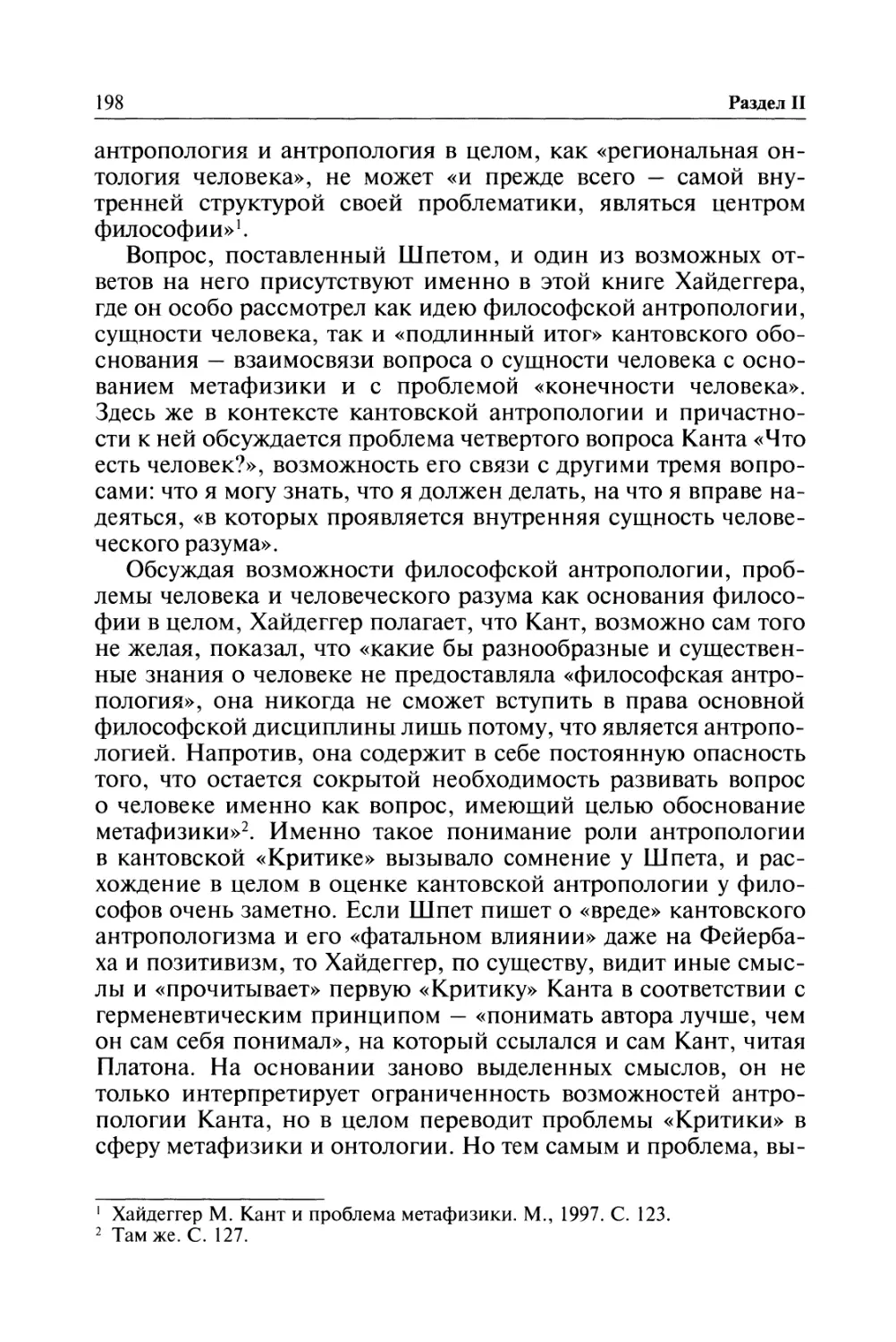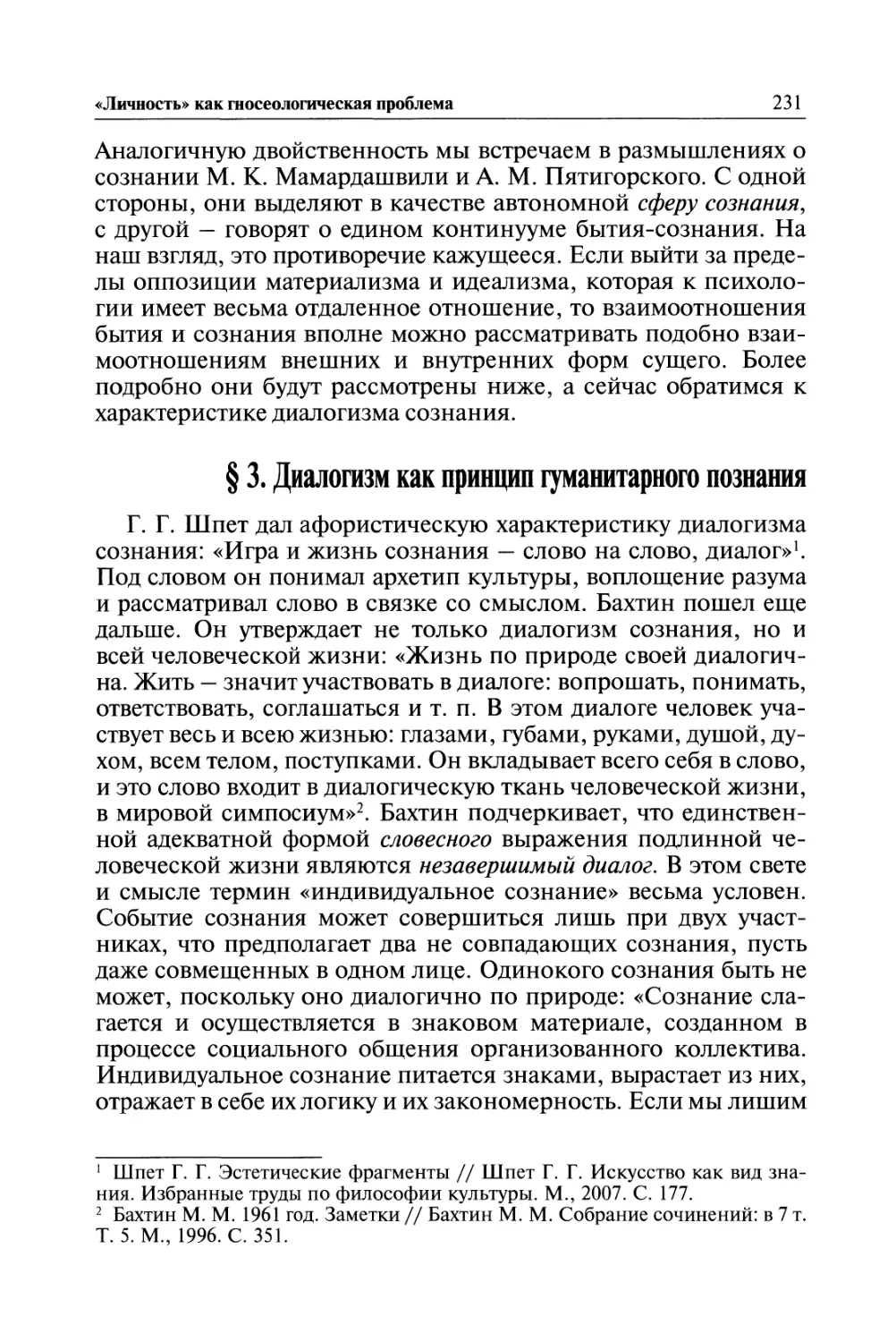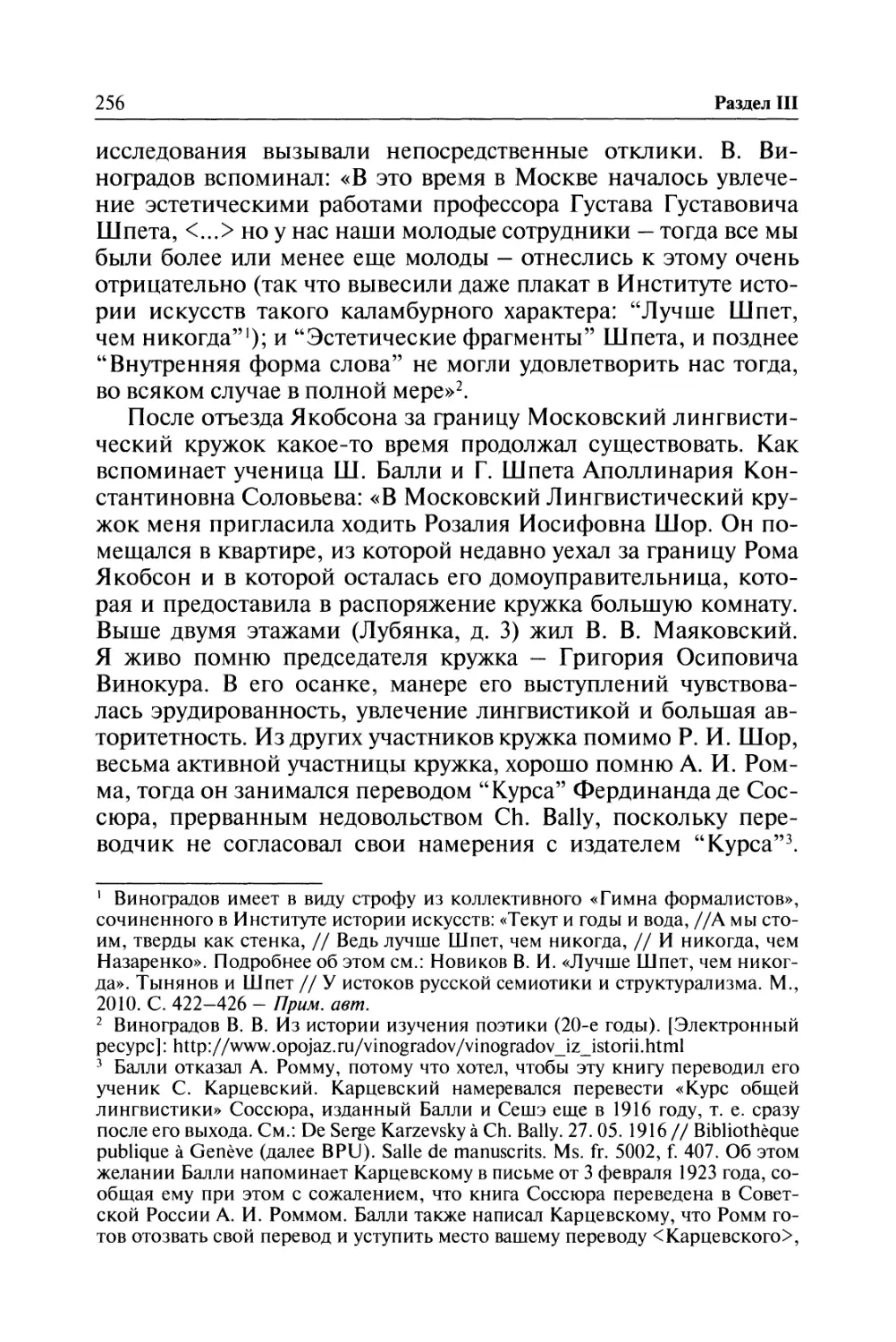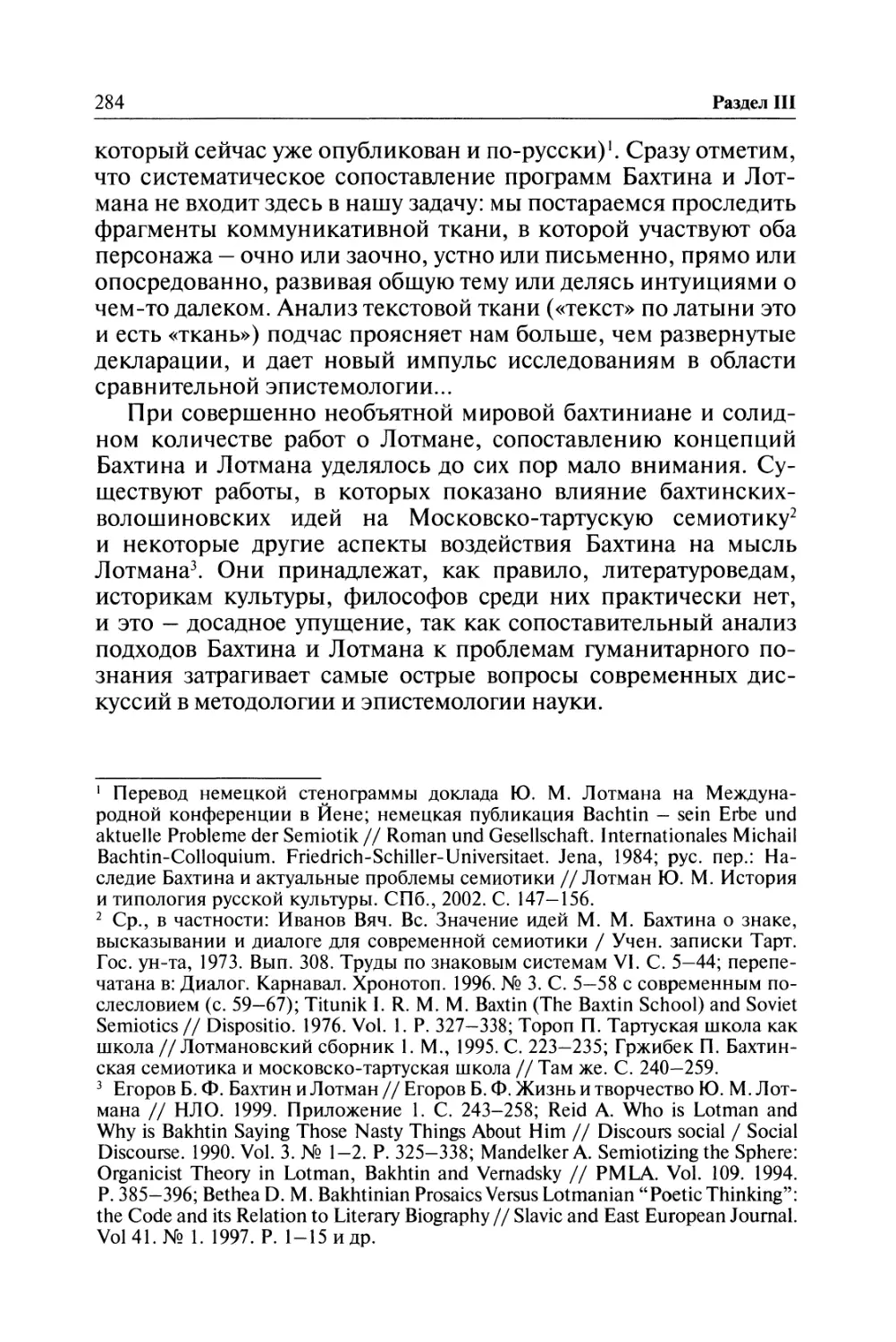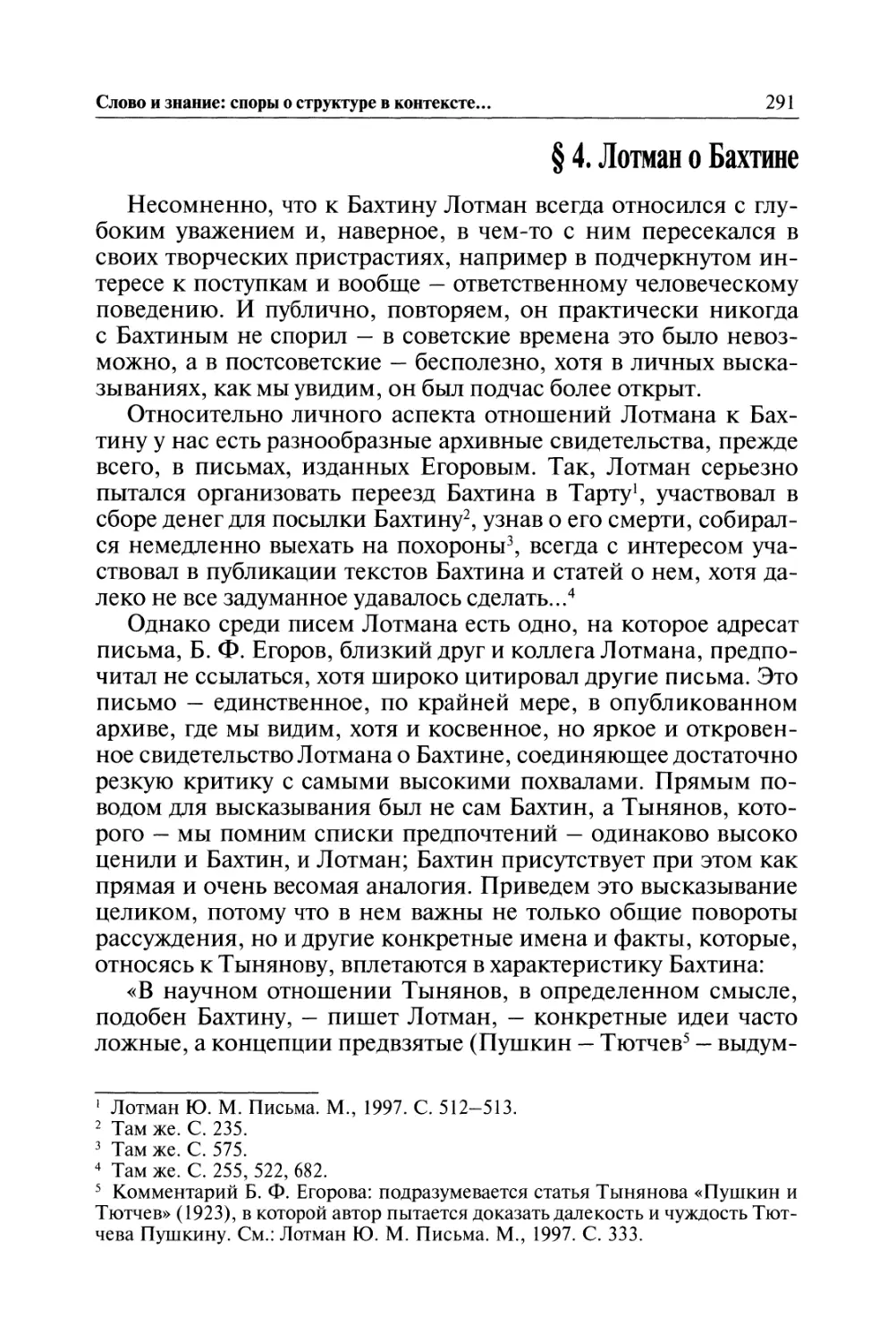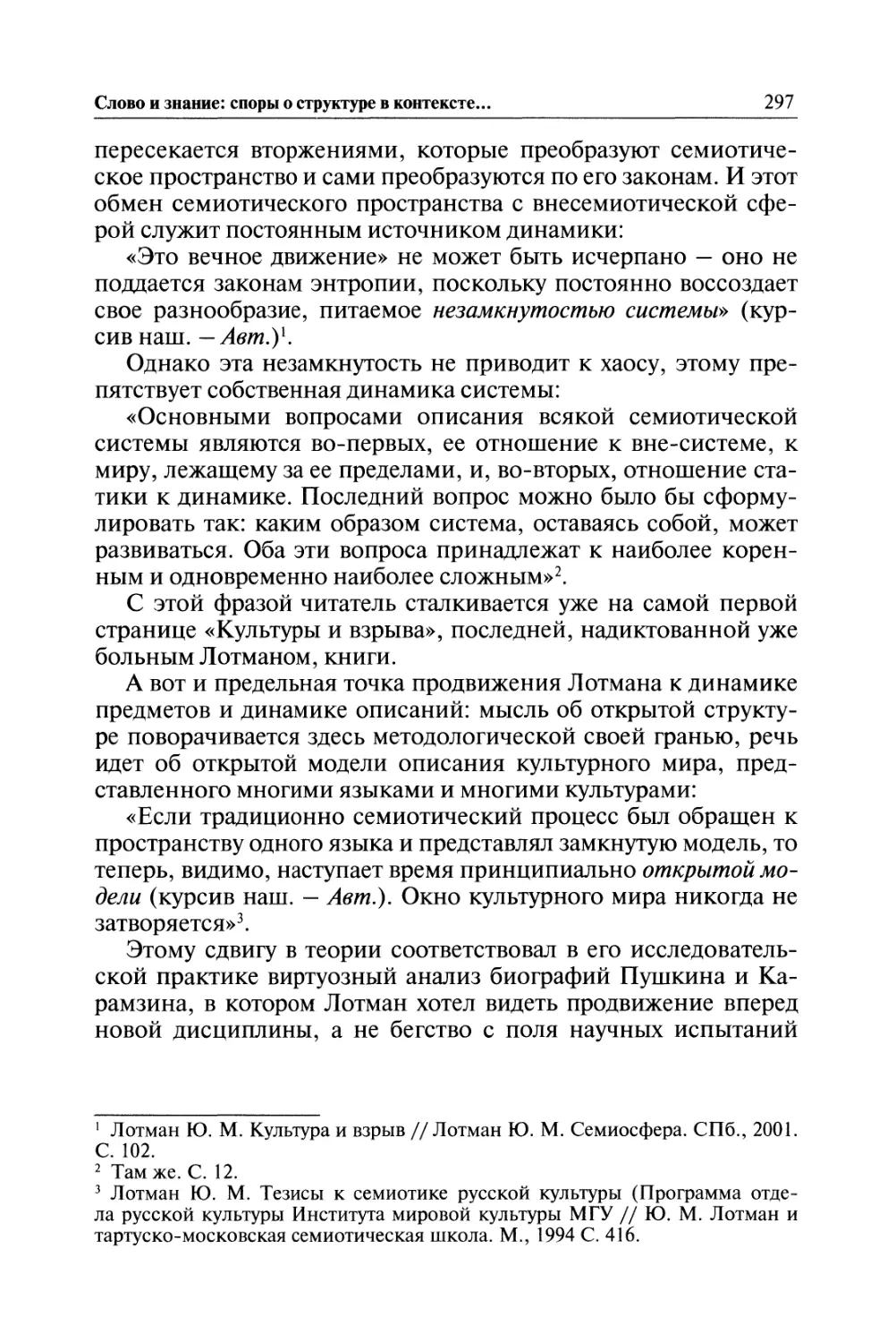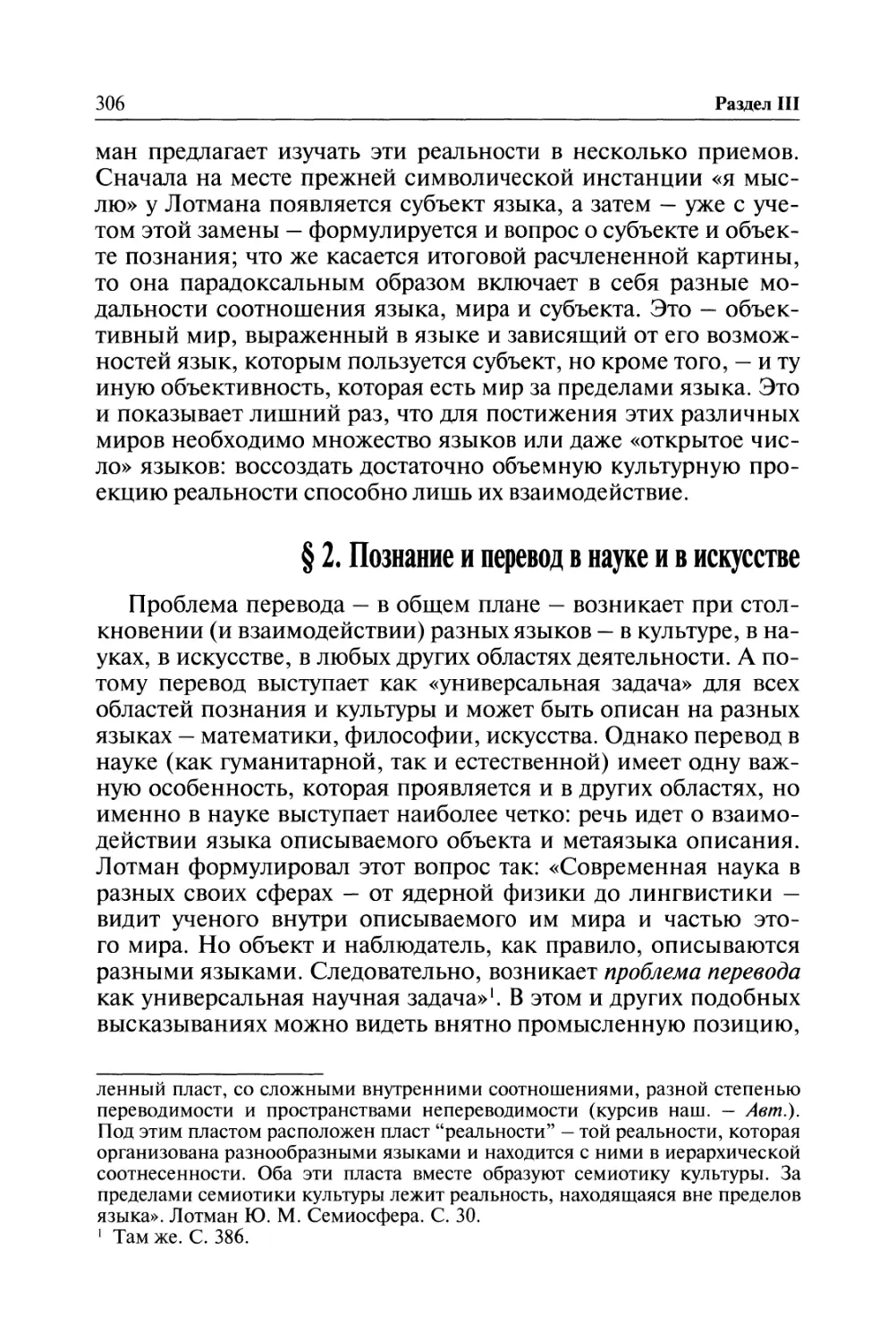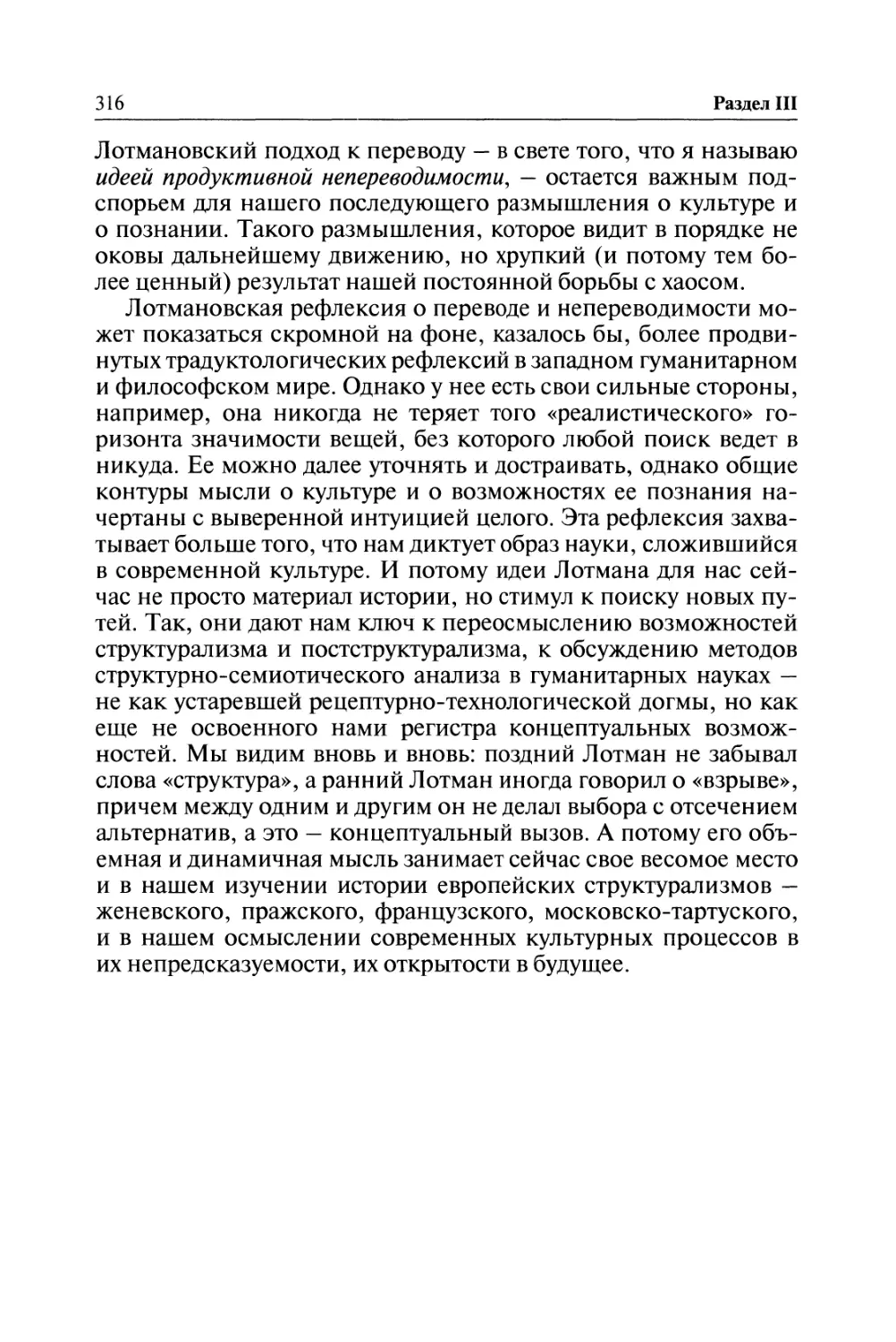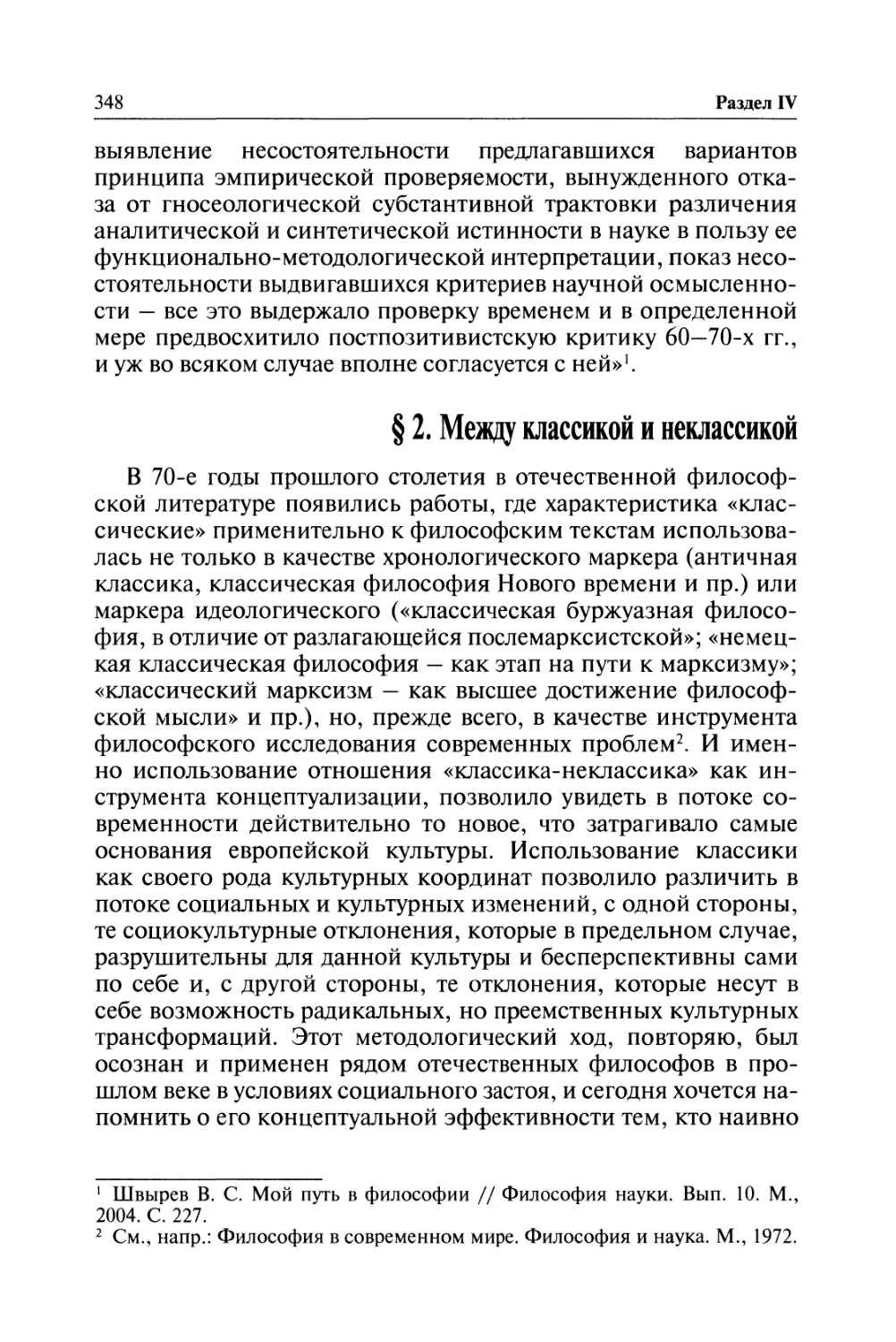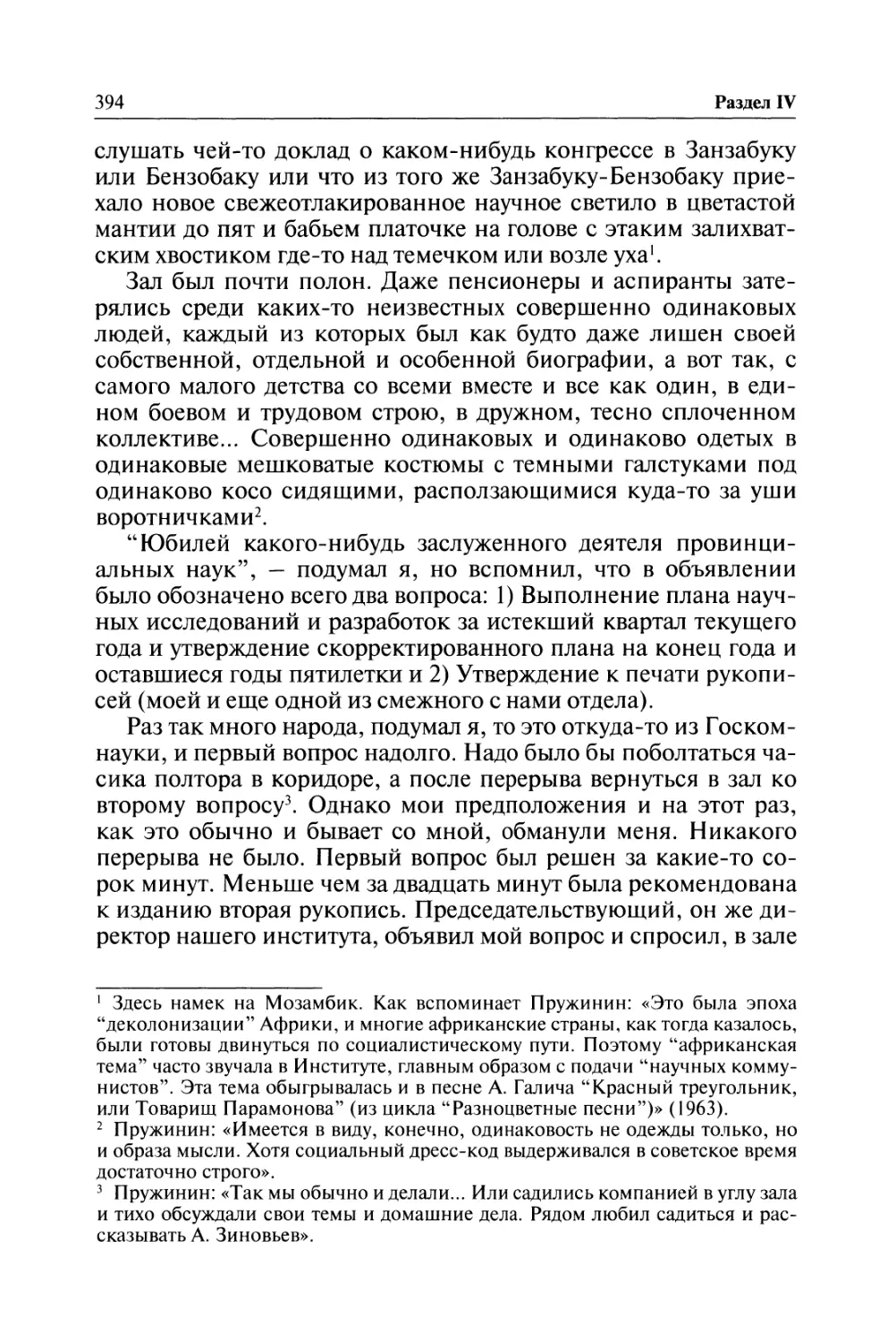Автор: Левит С.Я.
Теги: философия культуры системы культуры культурологические учения философские науки культура история культуры русская литература русская культура эпистолярный жанр
ISBN: 978-5-8243-1837-1
Год: 2013
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
Эпистемологический стиль
в русской интеллектуальной
культуре Ж-ХХ веков:
От личности
к традиции
РОССПЭН
Москва
2013
УДК 130.2
ББК87
Э71
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект №13-03-16022д
Публикация подготовлена при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда ( РГНФ),
проект № lO-03-OOOlla
Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С. Я. Левит
Редакционная коллегия серии:
Л. В. Скворцов (председатель), П. П. Гайденко, И. Л. Галинская, П. С. Гуревич,
В. Д. Губин, Б. Л. Губман, Г. И. Зверева, А. Н. Кожановский, Л. А. Микешина,
Ю. С. Пивоваров, И. И. Ремезова, А. К. Сорокин
Авторский коллектив:
Н. С. Автономова — раздел III: главы 2, 3; раздел IV: глава 1 (§ 2), глава 3 (§ 2); П. В.
Александров — раздел IV: глава 4 (§ 6, 7); В. П. Зинченко - раздел II: глава 4; Л. А.
Микешина — раздел I: глава 2 (§ 3—6); раздел II: глава 2; раздел IV: глава 3 (§ 3); П. А. Ольхов —
раздел I: главы 3,4, 5 (§ 1, 2); раздел II: глава 1 (§ 1, 3,4); Б. И. Пружинин — введение;
раздел IV: глава 1 (§ 1), глава 3 (§ 1); Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина - введения к
разделам I—IV; раздел I: глава 1; раздел IV: глава 2, глава 4 (§ 1—5); заключение; Т. Г.
Щедрина — раздел I: глава 2 (§ 1, 2), глава 6; раздел II: глава 1 (§ 2), глава 3; раздел III: глава 1 ;
раздел IV: глава 1 (§ 3), глава 3 (§ 4); И. О. Щедрина — раздел I: глава 5 (§ 3)
Составители: Н. С. Автономова, Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина
Научные редакторы: Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина
Художник П. П. Ефремов
Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре
Э71 XIX—XX веков: От личности к традиции. Коллективная монография /
под ред. Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной. — М. : Политическая
энциклопедия, 2013. - 447 с. — (Humanitas).
ISBN 978-5-8243-1837-1
Монография посвящена эпистемологической стилистике в творчестве русских
философов, писателей и ученых-гуманитариев XIX-XX вв. Обращение к их
индивидуальным методологическим «почеркам» в контексте современных философских
проблем позволяет проследить исторические традиции русской интеллектуальной
культуры. Книга предназначена для философов, ученых-гуманитариев, а также для всех
интересующихся проблемами методологии гуманитарных наук.
УДК 130.2
ББК87
ISBN 978-5-8243-1837-1 © Левит С. Я., составление серии, 2013
© Автономова Н. С, Пружинин Б. И.,
Щедрина Т. Г. составление тома, 2013
© Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г., научное
редактирование, 2013
© Коллектив авторов, 2013
© Политическая энциклопедия, 2013
К юбилею
Пиамы Павловны Гайденко
От авторов
Эта книга посвящена юбилею выдающегося русского
философа-исследователя Пиамы Павловны
Гайденко, чьи труды являются связующим звеном в традиции
русской философии. В ней предпринимается, пожалуй,
первая попытка проследить и выявить особенности
эпистемологической тематики в достаточно длительном
периоде развития русской философской мысли. И авторы,
естественно, отдают себе отчет в сложности поставленной задачи.
Очерченный период (с XIX до конца XX века) представляет весьма
мало очевидного материала для рассуждений о традиции в этой
области философии — эпистемология не осознавалась в
качестве стержневой (связующей) темы русской интеллектуальной
культуры. Тем не менее в процессе анализа философских
текстов и эпистолярного наследия H. H. Страхова, А. А.
Григорьева, П. Л. Лаврова, А. С. Лаппо-Данилевского, Н. О. Лосского,
Г. Ф. Церетели, М. М. Пришвина, Г. Г. Шпета, M. M. Бахтина,
Р. О. Якобсона, Ю. М. Лотмана, А. Я. Гуревича, П. П.
Гайденко, В. С. Швырева, Е. П. Никитина, H. H. Трубникова нам все
же удалось не только выделить эпистемологическую тематику
в текстах этих мыслителей, но и проследить в ней некоторые
сквозные сюжетные линии и, что еще важнее, обнаружить в их
творчестве интеллектуальные созвучия, т. е. выявить единство
их эпистемологической стилистики. Что и позволяет нам
говорить о наличии эпистемологической традиции в русской
интеллектуальной культуре XIX—XX веков. Эта традиция выражается
в весьма интересных особенностях постановки и обсуждения
в русской философии ряда философско-методологических
проблем, актуальность которых сегодня очевидна (проблем
историзма, объективности и социокультурной релятивности
знания, соотношения естественнонаучного и гуманитарного
знания, рациональности и научности специфических
гуманитарных методов и пр.). Говорить об этом позволяет
прослеженная нами в русской эпистемологической традиции и
представленная в этой монографии знаково-символическая трактовка
познания, открывающая структурно-семиотическую
перспективу в разработке методологической проблематики
социальногуманитарного знания.
8 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
Методология социально-гуманитарного знания (как,
впрочем, и вся область философско-методологической рефлексии
над современной наукой) находится сегодня в состоянии
глубокого кризиса. Она не способна противостоять буквально
захлестывающему ныне философско-методологическое сознание
науки размыванию знания в социальных структурах,
превращению его в социальную конструкцию и, как следствие, в товар.
А между тем исследование методологической тематики в
русской философии дает возможность увидеть проблематику
современной эпистемологии социально-гуманитарного знания в
несколько ином ракурсе, открывающем, как мы пытаемся
продемонстрировать, новые, еще не реализованные в
философскометодологических исследованиях перспективы.
Как известно, в русской философии с XIX столетия
использовался европейский концептуально-понятийный
инструментарий, и в этом плане она вполне соответствовала уровню
развития мировой философии. Вместе с тем она обладала рядом
особенностей, поскольку рефлексивно прорабатывала
проблемы русской действительности. Заметим, эти особенности:
культурные, исторические, социальные и даже географические
(Россия между Востоком и Западом) не исчезли и сегодня.
Современный язык, на котором пытаются осмыслить мир и
отыскать «главное» в бытии мыслители России, напоминает нам о
них. Поэтому, говоря о традиции русской философии, мы
имеем в виду и век XIX, и день нынешний1. Современные
иссле1 Конечно же, были весьма и весьма разные периоды в истории русской
лософии XIX-XX вв. Но мы полагаем, что прав был В. Н. Садовский,
оценивающий ее внутреннюю целостность в один из самых сложных периодов
ее истории. В философском сообществе 40—60-х годов XX века в СССР
просматриваются три поколения, или «генерации»: «небольшая группа
сохранившихся — буквально чудом - философов старшего поколения (их деятельность
начиналась еще в 20-е и 30-е гг.), ифлийцы (так себя называли слушатели
Московского института истории, философии и литературы, существовавшего
в 1931—1941 гг.) — поколение людей, родившихся в 20-е гг., прошедших войну
и завершивших свое философское образование или перед самой войной, или
вскоре после ее окончания уже на философском факультете МГУ, и, наконец,
поколение философов конца 40-х — 50-х гг. <...> Студенты-философы 60-х
и более поздних годов — это уже другие, скажем, четвертое, пятое и т. д.
поколения)». Садовский В. Н. Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. // Как это
было: воспоминания и размышления /Под ред. В. А. Лекторского. М., 2010.
С. 387—388. «Причем поколения эти <...> существовали не изолированно,
но в постоянном общении, которое, по выражению Н. Ф. Овчинникова, "не
просто единственная роскошь, <...> но скорее хлеб наш насущный": на
лекциях, семинарах, в неформальных дискуссиях». Щедрина Т. Г. Архив эпохи:
От авторов 9
дования в области эпистемологии социального и
гуманитарного знания базируются в основном на западноевропейском
методологическом опыте. Как правило, заимствуются
методологические схемы и концепции: феноменологии Э.
Гуссерля, герменевтики Г.-Г. Гадамера, деконструкции Ж. Деррида,
«власти-знания» М. Фуко, коммуникативной рациональности
Ю. Хабермаса, «символического обмена» Ж. Бодрийяра,
«шизоанализа» Ж. Делеза, социальной эпистемологии С. Фулера,
Э. Голдмана, Д. Блура и др. Между тем методологический
потенциал русской эпистемологической традиции не
редуцируется к западноевропейским методологическим установкам
полностью по целому ряду принципиальных параметров.
Обратившись в свое время к конкретным областям
социальногуманитарного знания, отечественные философы еще в самом
начале XX века сформулировали ряд идей, оказавших влияние
на развитие европейской философии. Именно русские
философы и гуманитарии стимулировали идеи семиотики и
структурализма, разрабатывавшиеся затем в Европе и вернувшиеся
позднее в Россию. Подчеркнем, эта констатация
продуктивного влияния русской философии на формирование
семиотических идей рассматривается в данной работе не в качестве
локального исторического примера, но как стержневая тема
русской эпистемологической традиции, расширяющая
концептуальный горизонт философско-методологической
рефлексии над наукой.
В отечественной философской литературе имеется уже
достаточно обширный массив публикаций, посвященных
обсуждению эпистемологических идей русских философов
(Г. Г. Шпета, Н. А. Бердяева, Л. И. Шестова, П. А.
Флоренского и др.) В нашей работе речь идет о конкретизации этой темы.
Мы попытались обозначить контуры русской
эпистемологической традиции. Раскрывая общую идейную направленность
отечественной философии в контексте тогдашней
западноевропейской мысли, Н. Я. Грот в программной, по существу,
статье, опубликованной в первом номере журнала «Вопросы
философии и психологии», следующим образом определял ее
основную задачу: «...построить цельное, чуждое логических
противоречий учение о мире и о жизни, способное
удовлетворить не только требованиям нашего ума, но и запросам нашего
страницы истории философии в России второй половины XX века //
Вопросы философии. 2011. № 6. С. 128.
10 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
сердца»1. Этот философский проект, именовавшийся
«положительной философией», принимался очень многими
русскими философами, весьма и весьма различавшимися в иных
отношениях. В основании «положительной философии» лежит
принцип, предполагающий духовный рост и обогащение этой
традиции через обращение к духовному опыту отечественной
культуры, органично включавшей в себя и религиозные идеи,
и моральные установки, и принципы социального устройства
общества, и принципы познания. Между прочим, такой
подход находил выражение и в отношении русских философов к
их профессиональной деятельности - они воспринимали ее не
как отвлеченную, но как способ конкретного существования,
способ их жизни в философии. И не удивительно, что в таком
профессиональном контексте традиционная для философии
проблема общения ставилась особо, по-своему. Аспектом этой
проблемы был вопрос о правде, о правдивости во
взаимоотношениях людей, обнаруживающий явные эпистемологические
коннотации. Основные характеристики традиции, связанной с
этим аспектом русской философской мысли, мы и стремимся
продемонстрировать в нашей коллективной работе.
В монографии, таким образом, предпринята попытка
эксплицировать собственно эпистемологические измерения
провозглашенного в русской философии союза «ума» и «сердца» и,
по возможности, оценить познавательную эффективность этих
измерений эпистемологии, их конкретную методологическую
значимость для гуманитарной науки. В основу реализации
нашего замысла положена идея культурно-исторического
характера русской эпистемологической традиции — трактовка
эпистемологической тематики в контексте идеи общения, как эту
идею понимали в русской философии. Такой подход к
эпистемологической тематике мы называем культурно-исторической
эпистемологией. А в качестве центрального методологического
понятия этого подхода мы рассматриваем понятие
эпистемологического стиля (стиля научного мышления), в котором
фиксируются интегральные характеристики исторически конкретных
форм знания в их смысловом единстве.
На одну из характерных культурно-исторических черт
эпистемологического стиля русской интеллектуальной традиции,
имеющих очевидное методологическое значение, мы
указа1 Грот Н. Я. О задачах журнала // Вопросы философии и психологии. 1889.
№ 1.С. IX.
От авторов 11
ли выше: трактовка знания как знаково-символического
феномена. Другими его существенными чертами, куда менее
освещенными в историко-философской и тем более
философско-методологической литературе, являются
своеобразное понимание историзма, акцентуация личностного
смысла познания и антиномическая трактовка рациональности.
Последовательное рассмотрение, анализ и попытки
концептуальной реконструкции этих характеристик
эпистемологического стиля русской интеллектуальной традиции и определили
структуру нашей книги.
Работать над темой этой книги мы, ее авторы, начали в
2009 году с составления исследовательского проекта на грант
РГНФ «Современные проблемы социально-гуманитарного
знания в контексте эпистемологических традиций русской
философии» (№ 10-03-00077). Книга завершила проект. И сегодня,
опираясь на пятилетний опыт нашей работы, мы можем с
уверенностью сказать: перспективность и масштабы темы далеко
превзошли наши тогдашние прогнозы. Но если о
перспективности мы можем сказать читателю этой монографии с
гордостью, то по поводу масштабности темы мы должны сделать
несколько поясняющих замечаний. Дело в том, что масштабность
открывавшихся по мере работы над темой исследовательских
перспектив требовала от нас привлечения все нового и нового
материала, а попытки самоограничения оказывались всякий
раз очевидно условными.
И прежде всего это касалось круга тех исторических
персонажей, на обсуждении идей которых собственно и строится
монография. В подзаголовке книги сказано: «От личности к
традиции». Так мы обозначили вектор нашего исследования.
Двигаясь таким путем, мы стремились воссоздать и, тем самым,
восстановить характерное для данной традиции созвучие
глубоко оригинальных эпистемологических идей и установок,
разделяемых весьма разными по своим убеждениям мыслителями.
Но далеко не все личности, которые, как выяснялось в ходе
нашей работы, имеют самое прямое отношение к этой традиции
в русской философии, представлены в этой монографии. Более
того, даже сам подбор имен и соответствующих сюжетов несет
на себе печать некоторой условности. И мы вполне отдаем себе
в этом отчет. Однако, и на этом мы настаиваем, вектор
нашего исследования отнюдь не случаен. Эпистемологическая
традиция, о которой мы пишем, присутствует в истории не в виде
провозглашенной системы познавательных норм, строгих стан-
12 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
дартов и набора познавательных ориентиров, которым ученый
должен безропотно следовать. Эта традиция существует лишь
как определенный эпистемологический стиль,
открывающийся только при прикосновении к нему лично
заинтересованного исследователя — философа, ученого-гуманитария, писателя,
публициста.
Такой заинтересованностью мы, авторы этой коллективной
работы, и попытались компенсировать ограниченность наших,
так сказать, временных и физических ресурсов, чтобы по
возможности демонстративно представить читателю (хотя бы
обозначив пунктиром) основные характеристики
эпистемологического стиля русской интеллектуальной традиции. На первый
взгляд, книга представляет серию отдельных статей, точнее,
очерков современных российских исследователей, написанных
зачастую с разных позиций. Но мы — ее авторы —
объединены стремлением приобщиться к русской эпистемологической
традиции и участвовать в ее продолжении. В работе над
монографией мы, естественно, опирались на свои предшествующие
исследования и публикации, но, излагая в книге свои взгляды,
как правило, учитывали ее общую идейную устремленность, ее
целостность, что зачастую существенно меняло смысловую
направленность даже прежних публикаций. Конечно, ни на какую
завершенность темы мы не претендуем. Предлагаются именно
очерки, но очерки, связанные общей тематикой, связанные
настолько, что мы решились употребить слово традиция. И это
позволяет нам говорить о перспективах, актуализирующих
стилистику эпистемологических размышлений в русской
интеллектуальной культуре XIX—XX веков для современной нам
философско-методологической рефлексии над наукой.
Отыскивая слова-термины, пригодные для того, чтобы
выявить эпистемологическую традицию в русской философской
мысли, определить ее контуры, проанализировать и, наконец,
продемонстрировать перспективы ее конкретного
методологического применения в гуманитарном исследовании, мы
остановили свой выбор на понятии «эпистемологический стиль»,
производном от понятия «стиль научного мышления».
Естественно, возникает вопрос: почему для характеристики
эпистемологической тематики русской философии нами
используется понятие стиля? Почему для этих целей не
используется традиционная философско-методологическая
терминология — например теория познания, эпистемологическая
концепция, или эпистемологическая программа, модель, нако-
От авторов 13
нец? Почему используется понятие, применяющееся, как
правило, для описания художественного творчества, но не для
описания методологических характеристик научного познания?
По поводу последнего заметим, что попытки
методологического описания науки с использованием понятия «стиль»
(стиль научного мышления) предпринимались
неоднократно. Причем, применительно к естествознанию. Но об этом во
Введении. Главное же заключается в следующем. Практически
вся традиционная философско-методологическая
терминология накрепко связана с нормативной эпистемологией. А это
противоречит самой сути рассматриваемого нами феномена.
Цель нормативной эпистемологии — формулирование
предписаний, которым ученый должен строго следовать в своей
познавательной практике. Предписания нормируют методы его
работы, гарантируя воспроизводимость результатов научного
исследования, а тем самым его научность. Так что сами
предписания должны формулироваться предельно однозначно — как
алгоритмы строгих познавательных процедур.
Соответственно, наиболее подходящей формой для демонстрации такого
рода предписаний является теория, лучше формализованная.
Ныне, однако, в философии науки утвердилось мнение, что
такого рода теория методов имеет весьма отдаленное отношение
к реальности познавательных практик в науке, и уж во всяком
случае, сегодня она не рассматривается ни учеными, ни
философами науки в качестве решающего критерия научности.
Обращение к истории науки показало, что строго нормированный
научный разум оказался не самодостаточным, т. е. не
способным сам по себе выполнять функции рационального основания
познания. И с середины прошлого столетия философы науки
стали привлекать для описания динамики науки внешние по
отношению к разуму факторы — социальные, культурные,
психологические, фактически направляющие работу разума.
Вообще говоря, для живого описания истории науки такого
рода расширение философско-методологических концепций
оказалось очень выигрышным. Появилось множество изящных
реконструкций казусов из истории наук (case studies), которые
никакого методологического значения для исследовательской
работы ученого не имеют. Научный разум, лишенный
абсолютного статуса, превращался в этих «историйках» в игрушку
внешних социокультурных и психологических обстоятельств.
А наука лишалась своих рациональных оснований. При этом,
конечно, можно и не принимать столь радикальную трактовку
14 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
роли научного разума в научном познании, но так или иначе,
процесс отказа от прескриптивной методологии в пользу
дескриптивной вполне адекватно представляет положение дел в
современной философско-методологической литературе. А мы
в связи с констатацией этого положения дел позволим
спросить: зачем пытаться сохранять традиционные теоретические
формы выражения учений о методе, если представленная в них
методология теряет связь с реальностью познания и лишается
своих методологических функций?
Описанный выше процесс размывания нормативной
методологии науки шел тем более интенсивно, что критика
просвещенческих иллюзий по поводу абсолютной самодостаточности
разума началась в различных сферах сознания европейского
общества значительно раньше, чем в науке, была радикальнее
и последовательнее. Ее крайней формой стал постмодернизм.
Наука, если угодно, была последней крепостью рационализма.
Методология науки была ее последней линией обороны. В
середине прошлого столетия эта линия обороны была прорвана:
применение рациональных методов познания само лишь
отчасти базируется на рациональных основаниях; научный разум не
в состоянии сам себя обосновать. А раз так, получается, что
разум — лишь инструмент, не имеющий права самостоятельного
голоса. Так была поставлена точка в критике просвещенческих
иллюзий по поводу возможностей разума, в том числе и по
поводу познавательных возможностей. А вместе с тем и по поводу
«сциентистских» надежд, что наука позволит построить
культуру на принципах разума.
Нормативно-предписательная методология науки пала
усилиями постпозитивистов, и ее развалины ныне сравнивают с
прочими областями релятивистского сознания —
идеологического, политического, социально-экономического и даже
бытового (повседневного). Мы не думаем, что эта тенденция
является положительной для европейской культуры, и уж во
всяком случае плодотворной для науки. Мы полагаем, что
наличие рациональных норм является если и не достаточным
условием существования науки, то по крайней мере
необходимым. И потому мы считаем чрезвычайно важным поиск
таких форм соединения разума и широких социокультурных
контекстов, которые позволили бы сохранить статус разума в
культуре и социуме. Рациональность для нас остается
ценностью европейской культуры. Вот почему для нас важен поиск
таких эпистемологических форм соединения научного разума
От авторов 15
и культурно-исторических контекстов его функционирования,
которые позволили бы сохранить его статус в науке. Это
сегодня, на наш взгляд, главная положительная задача
эпистемологии. И именно за опытом ее осмысления мы обращаемся к
эпистемологическим исканиям отечественных мыслителей. Мы
ищем эпистемологическую традицию, чтобы попытаться
продолжить ее сегодня.
Дело в том, что в русской интеллектуальной культуре всегда
была очень основательно представлена критическая позиция по
отношению к просветительским и, так сказать, сциентистским
программам построения общества исключительно на базе
разума. Эта позиция, казалось, была полностью искоренена в
период сквозной идеологизации интеллектуальной жизни страны.
Но как только открылась возможность, позиция возродилась.
Видимо, основания этой позиции укоренены в русской
культуре и языке. И, может быть, именно поэтому, отечественные
философы не видели особой необходимости радикально отвергать
идеи Просвещения, в том числе и идею основанного на разуме
познания. Популярной в русской философии была иная идея,
идея «положительной философии», ориентированной на
«цельное знание», соединяющее в себе «разум и сердце», на знание,
несущее в себе возвышающий человека смысл. Выше мы
приводили высказывание Н. Я. Грота на этот счет. Но в
принципе, это была общая идейная установка русских философов, от
П. Д. Юркевича и Вл. Соловьева, соединявших критику
позитивизма с идеей достоинства знания, до высланных из России в
1922 году русских философов и далее, до шестидесятников. Их
усилиями идея эта была, на наш взгляд, весьма основательно
проработана. И обращение к ней сегодня открывает
перспективу радикально новую, перспективу иной методологии, столь
необходимой для самосознания науки (по крайней мере —
гуманитарной) в нашу, по сути, переходную эпоху. А в данном
случае нам важно заметить, что ее проработка сопровождалась
становлением особого типа философско-методологического
осмысления познания, особой формы ее представления и
преемственной трансляции. Эту форму мы и обозначаем как стиль,
как особый эпистемологический стиль русской философии.
Мы не видим никакой необходимости приводить здесь
многочисленные искусствоведческие и культурологические
определения понятия стиля. Они общеизвестны, их
можно почерпнуть из соответствующих словарей. А чтобы
уточнить смысл этого понятия применительно к нашей теме,
16 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
мы обратимся к рассуждению на этот счет Г. Г. Шпета.
Такое обращение будет здесь тем более уместным, что Густав
Шпет — ключевая фигура в этой монографии. Мы
позаимствовали у него две идеи, образующих как бы координаты
релевантной философско-методологической проблематики: идею
культурно-исторической трактовки процессов научного
познания (т. е. рассмотрение их как типа общения) и идею
методологии, основанной на знаково-символической трактовке
знания (что предполагает смещение акцентов методологического
анализа знания на его смысловые структуры). Соотнесение
этих идей в реальном методологическом исследовании знания
требует иных форм выражения результатов его осмысления.
И именно за этими формами мы и обратились к Г. Г. Шпету.
Рассуждая о динамике мысли, Шпет констатировал: «Стиль
данной эпохи или данного поколения предопределяется
душевной жизнью предыдущего поколения; новое пытается в готовых
формах передать свое новое душевное содержание, но
поскольку его экспрессия — нова, она разрушает и преобразует
унаследованные формы <...>, пока не дойдет до новых своих
предназначенных к разрушению следующим поколением. Стиль,
потому, не конструктивные формы, и не чисто экспрессивные,
а их отношение, т. е. внутренние экспрессивные формы»1.
В контексте указанных выше идей Шпета об обсуждаемой
здесь эпистемологической тематике его описание стиля можно
уточнить. И в случае культурно-исторической трактовки
процессов научного познания, и в случае знаково-символической
характеристики его результатов Шпет отправляет нас к Слову,
к языковой реальности, наполненной смыслом. Только в
первом случае речь идет о знании как истинном мнении,
выраженном для Другого в процессе общения (под «экспрессией» Шпет
понимал выраженность в слове). А во втором — о неизменной
смысловой переполненности выражения знания, которое по
самой своей сути предназначено для сообщения Другому, но
которое в динамике познания всегда выходит за рамки
сложившихся языковых форм с их определившимися прежде
значениями. Смысл знания, которое мы хотим сообщить, никогда не
умещается в сложившихся языковых формах, но слово
способно символически указывать на нечто большее в своем
содержании, выходящее за его ставшее значение. Это «большее» в слове
1 Шпет Г. Г. Конспекты работ разных авторов // ОР РГБ. Ф. 718. К. 7.
Ед. хр. 10.
От авторов 17
и несет в себе стиль, стилистика выражения как характеристика
дополнительного смыслового пласта общения, как тот уровень
общения, который, собственно, и требует понимания.
Таким образом, выражение «эпистемологический стиль
русской философии», или шире, «эпистемологический стиль
в русской интеллектуальной культуре», с учетом приведенного
уточнения, означает, что знание и познание рассматриваются в
рамках этого направления эпистемологической мысли, прежде
всего в их смысловом измерении и фиксируются в их
стилистических характеристиках. А кроме того, это означает, что само
это направление мысли выражает результаты своих
исследований смысловых характеристик знания также стилистически, в
стиле, в стилевых особенностях, выводящих ее за рамки
теоретических конструкций традиционной нормативной
эпистемологии. Эти особенности требуют от нас понимания — именно
таким способом фиксируется здесь динамика знания в науке,
загоняющая в релятивистские тупики традиционную теорию
познания. Таким путем вырабатывается в рамках русской
интеллектуальной культуры философско-методологическая
традиция, преодолевающая закрытость нормативистских схем
традиционной методологии. И хотя бы пунктиром обозначить этот
путь — цель нашей монографии.
Книгу открывает Введение, излагающее концепцию стилей
научного мышления, сложившуюся в естествознании. Нам
представляется, что опыт и сложности обращения к понятию
стиля именно в методологии естественных наук необходимо
осознавать и гуманитариям. Затем следуют разделы,
представляющие основные стилистические характеристики
эпистемологической традиции, где в очерках-реконструкциях об отдельных
русских философах и гуманитариях эксплицируются
особенности эпистемологической стилистики их творчества. В первом
разделе речь идет о ее глубинном историзме, о своеобразном
понимании истории, пронизывающем всю ее философскую
тематику и фактически задающим ее стилистику. Во втором —
рассматривается «гнездовой» концепт, с помощью которого в
русской эпистемологической традиции
концептуализируются рассуждения об особенностях ее эпистемологического
стиля — концепт личности. В третьем разделе описывается опыт
конкретного методологического применения
эпистемологической стилистики русской философской традиции в конкретных
научных исследованиях — речь идет о философских истоках,
судьбе и перспективах методов структурно-семиотического ис-
18 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
следования в гуманитарной науке. Четвертый раздел посвящен
теме рациональности — основной теме дискуссий,
актуализирующих эпистемологический стиль отечественной
интеллектуальной культуры.
Все разделы книги построены на конкретном материале
пересекающихся суждений и (взаимных, по возможности)
откликов русских мыслителей, образующих развернутую в
историю сеть эпистемологических идей отечественной философии,
т. е. фактически образующих традицию. Мы исходим из того,
что никакая авторская концепция не вырастает как одиночное
растение, что она неизбежно формируется, учитывая, отвергая,
развивая, переводя в план собственных потребностей
различные контекстуальные влияния и тенденции. А потому историк
науки и эпистемолог, которые реконструируют факты
рождения всех этих исследовательских импульсов в толще неясных и
неопределенных напряжений и прослеживают их последующую
развертку, добывают для нас крупицы драгоценного
историкокультурного и познавательного опыта. При этом мы должны
отдавать себе отчет, что в традицию входит не только понимание
друг друга, но и точки взаимного непонимания, которые
привлекали наше особое внимание как свидетельства внутренней
жизни традиции. Таким способом изложения мы попытались
продемонстрировать историческое единство научного знания,
единство знания как «открытой системы». На наш взгляд, эта
демонстрация — чрезвычайно важное актуализирующее
направление нашей работы.
И еще на одну особенность книги мы хотим обратить
внимание в Предисловии. Взыскательный и искушенный в
философии читатель заметит, конечно же, различия во взглядах
авторов монографии. И, наверное, отметит, что эти различия —
результат отнюдь не только того, что книга — по самой своей
направленности — «открытая структура». Вот почему в
Предисловии указано авторство соответствующих разделов
монографии. Однако чтобы подчеркнуть общность идейных оснований
работы и перспективность реализованных в ней подходов,
авторы сочли возможным указать на титуле коллективное
авторство этой книги.
Коллектив авторов благодарит Российский гуманитарный
научный фонд, без финансовой поддержки которого эта книга
не была бы подготовлена и не увидела бы свет.
Введение:
Методологические истоки «стиля научного мышления»
Мы полагаем, что во Введении имеет смысл
обстоятельно продемонстрировать опыт и сложности
обращения к понятию стиля именно в методологии
естественных наук. Для гуманитариев
принципиальная историческая конкретность их исследований и
открытость их науки в пространство истории более или менее
очевидны. Поэтому методологическая актуальность понятия
стиля в гуманитарной науке требует не столько общего
обоснования, сколько конкретного обсуждения. Чему, собственно, и
посвящена эта книга. А вот опыт обращения к этому понятию в
методологии естествознания заслуживает особого внимания.
Начать с того, что попытки ввести в методологический
оборот понятие «стиль мышления» (производным от которого
является у нас понятие эпистемологического стиля) были в свое
время предприняты самими учеными — физиком Максом
Борном и биологом Людвигом Флеком (каждым самостоятельно).
В обоих случаях эти попытки были мотивированы желанием
найти методологический инструмент, позволяющий
определить, к какому целостному в смысловом плане периоду
истории науки может быть отнесено то, что они осмысливают как
ученые. Однако эти попытки не были оценены сообществом
философов науки.
Профессиональная философия науки предпочла иное
понятие — понятие «парадигма». Это центральное ныне понятие
в свое время (середина XX столетия) вытеснило понятие стиля
научного мышления и из отечественной, и из западной
философии науки, а вместе с ним и важнейшее методологическое
измерение научно-познавательной деятельности — осознание
ученым целостности того смыслового (семиотического) поля, в
котором он реально работает. Эта утеря смыслового единства, в
котором работает научное сообщество, восполняется в понятии
парадигмы психологизацией, а главным образом,
социологизацией механизмов, обеспечивающих единство мнений членов
научных сообществ. Так что фактором, определяющим научное
знание, оказывается его, так сказать, заданность локальным
20 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
социокультурным окружением науки, направляющим работу
социальных структур в исторически локальных научных
сообществах. К этой локализации, собственно, и сводился в
постпозитивистской философии науки «исторический» взгляд на
науку—ее динамика объяснялась через ее отнесение к изменчивой
социокультурной среде.
Между тем понятие стиля научного мышления
открывало возможность нерелятивистского осмысления
исторических этапов динамики знания. Ибо это понятие содержит,
во-первых, идею внутренней смысловой целостности истории
познания, реализующейся в стиле как специфической
характеристике языка различных периодов развития науки (например,
механистический стиль, вероятностный, синергетический и
пр.) и, во-вторых, идею поливариантности, предполагающую
стилистическое многообразие выражения в научном языке
знания об одном и том же фрагменте мира (например,
вероятностное и синергетическое описание). Сегодня, на наш взгляд,
эти идеи открывают новые горизонты перед
философскометодологической рефлексией над наукой. И именно
обращение к истории формирования этих идей позволяет выявить
содержащийся в них методологический потенциал. Тем более что
именно отечественная философия науки внесла определенный
вклад в разработку таких идей, подхватив, если угодно,
эпистемологическую традицию русской философии.
Надо сказать, что отечественная философия науки второй
половины XX века под именем логики и методологии науки
двигалась практически в том же направлении, что и вся мировая
философия науки того времени, т. е. от неопозитивистских
программ логико-методологического анализа языка науки через
«историзацию» в направлении «социологизации» своих
представлений о научно-познавательной деятельности, т. е.
двигалась к постпозитивизму, которого в общем и достигла в
последней трети XX века. Но нас в данном случае интересует прежде
всего процесс, а не результат. Ибо двигалась отечественная
философия науки своими особыми путями, в том смысле, что
обходила свои особые препятствия, зачастую абсолютно
непонятные западным коллегам, и использовала зачастую
абсолютно «невозможные» возможности своего идейного (в том числе
идеологического и административного) контекста.
Это своеобразие пути, конечно же, не могло не выразиться
в своеобразии возникавших в отечественной философии и
методологии мыслительных ходов, в необычности с точки зрения
Введение: Методологические истоки «стиля научного мышления» 21
постпозитивистского «мейнстрима» концептуальных
конструкций и в их, зачастую, неожиданных интерпретациях. Правда,
когда все эти социально-идеологические обстоятельства враз
исчезли, сошел на нет и интерес к этим замысловатым путям
и извивам мысли - как к чему-то конъюнктурному и
абсолютно случайному, по крайней мере для «магистрального» пути
развития такой достаточно строгой области философии, как
философия науки. И вполне возможно, этот интерес исчез бы
навсегда, если бы не очевидная застойность того состояния, к
которому в последние десятилетия XX века привел философию
науки этот «магистральный» путь. Именно замысловатость
путей, которыми отечественная эпистемология и философия
науки 70—80-х годов прошлого столетия сумела поставить себя
вровень с мировыми исследованиями в этой области, стала
сегодня привлекать все больший и отнюдь не только
«историкомузейный» интерес1.
В данном случае речь пойдет о вариантах
философскометодологической рефлексии над наукой, связанных с
концепцией стилей научного мышления. Понятие стиля научного
мышления достаточно широко использовалось в те годы в
отечественной философско-методологической литературе в ходе
разработки исторического взгляда на методы научного
познания. Причем использовалось это понятие не столько как
оппозиция логико-методологическим программам исследования
структуры ставшего знания, сколько в качестве их исторически
ориентированного дополнения. Правда, надо полагать,
именно по этой причине оно и было вытеснено из философии науки
своими более радикально «историзующимися» и
«социологизирующимися» конкурентами — прежде всего понятием
«парадигмы», пришедшим из англо-американской традиции.
Радикальный отказ западных методологов от логико-методологических
программ неопозитивизма с их концентрацией на проблеме
языка науки казался тогда для отечественных методологов
науки условием эффективного развертывания исторического
взгляда на науку. Собственно, постпозитивистский историзм
и утверждался через отрицание этих неопозитивистских
программ. И соответственно, вместе с концепцией «стилей
на1 Из последних публикаций, имеющих отношение к данной теме, сошлюсь
здесь на выход в серии «Философия России второй половины XX века» книг,
посвященных В. А. Смирнову, П. В. Копнину, А. А. Зиновьеву, Б. М. Кедрову,
Г. П. Щедровицкому, Э. Г. Юдину. А также ряд книг и статей, посвященных
памяти Е. П. Никитина, С. В. Илларионова, Л. Б. Баженова, В. С. Швырева.
22 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
учного мышления» были вытеснены из области
философскометодологической рефлексии и те смысловые пласты, которые
делали понятие стиля как бы соотносимым и
«дополнительным» к логико-методологической рефлексии над языком науки
и фактически открывали перед этой рефлексией новые,
связанные с анализом знаково-символической природы знания,
перспективы. Сегодня, на наш взгляд, именно эти смысловые
пласты и открывают новые горизонты перед философией науки.
Понятие «стиля (научного) мышления» стало активно
использоваться в советской философско-методологической
литературе к концу 60-х годов прошлого столетия, т. е.
несколько позже разворота западной (буржуазной, в тогдашней
терминологии) философии науки от неопозитивизма к
постпозитивизму. Этот разворот, конечно, не мог не повлиять на
отечественную философию науки. Но в отличие от
постпозитивистской реакции непосредственно на проблемы и
сложности исчерпавших себя к тому времени неопозитивистских
логико-методологических программ сама идея стилей научного
мышления в отечественной философии была порождением
совсем иных идейных движений. В отечественной
философскометодологической литературе того времени (1970—80-е гг.)
обращение к концептуальному потенциалу понятия стиля не
было напрямую вызвано конкретными сложностями и
проблемами логико-методологических исследований языка науки.
Проблемы эти, конечно же, были хорошо известны
отечественным методологам и, естественно, стимулировали
альтернативные методологические искания. Но, во всяком случае,
концепция стилей научного мышления конституировалась в
отечественной философии и методологии науки отнюдь не в
качестве альтернативы неопозитивизму. Мощная
диалектическая традиция1, обосновывающая целостность логического и
исторического обусловила и тот факт, что в отечественной
методологии историческая по своей сути концепция стилей
научного мышления не противоречила (по крайней мере внешне)
логико-методологическому анализу научного знания, как это
произошло в англо-американской методологической традиции.
Понятие «стиль научного мышления», скорее, как бы
«отслои1 Здесь мы имеем в виду не только работы Э. В. Ильенкова, А. А. Зиновьева,
В. С. Библера и других советских диалектиков, но и тех, благодаря которым
в советской России сохранилась философская и логико-методологическая
культура (П. А. Флоренский, Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев, Б. А. Фохт, П. С.
Попов, В. Ф. Асмус и др.).
Введение: Методологические истоки «стиля научного мышления» 23
лось» (в общей атмосфере постпозитивистской «историзации»
философско-методологической рефлексии над наукой) от
общеметодологических марксистских представлений об истории
общества в целом и истории науки в частности. Оно вполне
соответствовало марксистским идеям включенности науки в
процессы развития общества и ее относительной
самостоятельности в рамках этой «включенности», идеям, так сказать,
«формационного» своеобразия этапов развития всех подсистем
общества, революционной прерывности переходов в развитии от
этапа к этапу и пр. При этом немаловажную роль в
методологической рецепции понятия стиля сыграла возможность его, так
сказать, практического оправдания. Предпринимались
попытки с помощью концепции стилей научного мышления
наметить пути развития науки, предвидеть ее грядущий облик,
предсказать ее перспективу и тем самым обеспечить возможность ее
интенсификации. Собственно проекция этих идей на историю
естествознания и образовала первоначальный содержательный
стержень использования понятия «стиль» в отечественных
работах по философии науки.
М. Борн, перевод книги которого «Физика в жизни
моего поколения» (1963) фактически и стимулировал обращение
к понятию «стиль мышления» в отечественной методологии,
использовал этот термин, прежде всего, для интегральной
характеристики нового (релятивистского и
квантовомеханического) этапа в развитии физики. Но при этом в его трактовке
стиля очень отчетливо проступал общеметодологический,
общенаучный смысл этого понятия. «Я не хочу сказать, — писал
Борн, — что (вне математики) существуют какие-либо
неизменные принципы, априорные в строгом смысле этого слова.
Но я думаю, что существуют какие-то общие тенденции
мысли, изменяющиеся очень медленно и образующие
определенные философские периоды с характерными для них идеями
во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в
науке. Паули в недавнем письме ко мне употребил выражение
"стили": стиль мышления — стили не только в искусстве, но и в
науке. Принимая этот термин, я утверждаю, что стили бывают
и у физической теории, и именно это обстоятельство придает
своего рода устойчивость ее принципам. Последние являются,
так сказать, относительно априорными по отношению к
данному периоду. Будучи знакомым со стилем своего времени,
можно сделать некоторые осторожные предсказания. По крайней
24 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
мере можно отвергнуть идеи, чуждые стилю нашего времени»1.
И отечественные методологи охотно подхватили это понятие в
контексте общеметодологической тематики, ориентированной
на общую историю науки, на анализ ее «больших» этапов. Как
заметил В. Н. Порус, чрезвычайно много сделавший для
анализа концепции «стилей научного мышления» в 1990-е годы,
обратиться к этому понятию стиля позволяла его способность
«"схватывать" важные характеристики различных
исторических периодов в науке, сравнивать их между собой и тем самым
выявлять направления их развития»2.
Естественно, что первой проекцией этого понятия стала
история физики, а затем и естествознания в целом. Одной из
основательных публикаций на эту тему была статья Ю. В.
Сачкова «Эволюция стиля мышления в естествознании» в
«Вопросах философии»3. По существу его работа задала своего рода
стилистику публикаций на эту тему в 1970-е годы. Сачков
выделял три этапа в развитии естествознания и, соответственно, три
стиля физического мышления: жестко-детерминистический,
вероятностный и кибернетический. «Жестко
детерминистический» (ориентированный на фиксацию простых однозначных
отношений) этап связан со становлением механики Ньютона,
но и позднее характерная для него стилистика сохраняет
эффективность на первых этапах исследования практически
любых новых предметных областей. Для «вероятностной»
стилистики характерно соединение случайного и закономерного, а
для «кибернетической» — идея саморегуляции.
В дальнейших публикациях на эту тему варьируются и
уточняются этапы и их экстраполяции на прошлое и современное
состояния науки. Но сама, так сказать, специфика
рассмотрения науки в рамках концепции стилей научного
мышления здесь определяется достаточно внятно, во всяком случае
настолько внятно, чтобы приобрести характер программы
философско-методологических и историко-научных
исследо1 Борн М. Состояние идей в физике // Борн М. Физика в жизни моего
поколения. M., 1963. С. 227—228. Между прочим, характеристика Борном стиля до
сих пор принимается как весьма эффективная в лингвистике.
2 Порус В. Н. Стиль научного мышления в когнитивно-методологическом,
социологическом и психологическом аспектах // Познание в социальном
контексте. М., 1994. С. 103.
3 Сачков Ю. В. Эволюция стиля мышления в естествознании // Вопросы
лософии. 1968. № 4. С. 70-81.
Введение: Методологические истоки «стиля научного мышления» 25
ваний. В 1970—1980-е гг. появляются работы о стилях научного
мышления в математике, в физике, в химии, в биологии1.
Но что принципиально важно отметить в данном
случае — в значительной части этих публикаций можно
обнаружить настойчивые попытки анализа самого понятия «стиль»
применительно к научному исследованию, т. е. представить
способы функционирования методологических идей
иначе (не в виде нормативных теорий). Не только в
философскометодологических, но и в достаточно специальных
историконаучных исследованиях предпринимаются попытки преодолеть
смысловую неопределенность этого понятия, соотнести его с
другими терминами эпистемологии и методологии науки. При
этом стили научного мышления рассматриваются по большей
части в экстерналистских контекстах. Прежде всего, в связи
с проблемой социокультурной обусловленности
научно-познавательной деятельности и вообще всего комплекса
методологической проблематики, заданной концепциями
исторической динамики науки в постпозитивистском ее варианте.
Как правило, понятие «стиль научного мышления»
коррелируется с проблемами социокультурной детерминации научного
познания и знания, выбора теорий, их несоизмеримости,
теоретической нагруженности опытных данных и др. Кроме того,
в поле зрения исследователей попадают темы личностного
творчества в науке, предполагающие анализ
индивидуальнопсихологических особенностей стилей научного мышления.
Заметим, что выявляемые в этих исследованиях
стилистические характеристики научного мышления не теряют связь с
проблематикой идеалов и норм научного исследования, с
картиной мира и другими элементами логико-методологического
анализа языка науки. И это еще раз свидетельствует о том, что
в отечественной философии науки второй половины XX века в
отличие от англо-американской методологической традиции не
существовало жесткого противопоставления между логическим
и историческим анализом научного знания2.
1 См.: Соловьев Ю. И. Эволюция основных теоретических проблем химии.
М., 1971; Чудинов Э. М. Теория относительности и философия. М., 1974;
Новик И. Б. Вопросы стиля мышления в естествознании. М., 1975;
Малашенко Ю. И. О вероятностном стиле мышления квантовой механики // Стиль
мышления как выражение единства научного знания. Воронеж, 1981. С. 111-
128; Судьина Е. Г. Вероятность в биологии. Киев, 1985; и др.
2 В это время понятие стилей научного мышления, так или иначе,
затрагивали в своих работах И. Д. Андреев, Л. М. Андрюхина, Е. Н. Князева,
26 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
Философское осмысление включало понятие «стиль
научного мышления» в более широкий культурный контекст —
предполагало обращение к идеям исторической преемственности, к
исходным смыслам понятия «стиль», к аспектам его значений
и к разным контекстам употребления, прежде всего в
искусстве. Это расширение, давая новый взгляд на науку через
призму стилей научного мышления, уточняло само понятие стилей
научного мышления как характеристики различных периодов в
динамике научного познания. И на этом фоне стал проступать
тот философско-методологический потенциал этой концепции,
который собственно и привлекает внимание ученых сегодня1.
Но идеи целостности и поливариантности, акцентирующие
и концептуализирующие методологический смысл понятия
стиля, повторяю, проступали в отечественных
философскометодологических исследованиях не прямо, не в
непосредственной связи с обращением к языку науки тех или иных
исторических периодов, но главным образом в контексте анализа
психологических и социальных аспектов научного мышления.
Анализ языка науки был, так сказать, прочно ассоциирован с
логико-методологическими исследованиями и имел ярко
выраженную неопозитивистскую окраску. Поэтому экспликация
методологических аспектов понятия стиля в научном познании
развертывалась в основном в «материале» социологических и
психологических аспектов познавательной деятельности
ученого. И тем не менее отмеченные выше методологические
характеристики понятия стиля научного мышления постепенно
проступали все более отчетливо.
С точки зрения дня сегодняшнего поиски того
когнитивного «материала», в котором реализуется, воплощается
стилистическое единство научно-познавательной деятельности,
осуществлялись отечественными методологами 1960—1970-х гг. в
контексте ответа на вопрос: каким образом понятие «стиль
научного мышления» может обеспечить реконструкцию реальной
Л. И. Кострюкова, А. С. Кравец, С. Б. Крымский, Б. А. Парахонский,
В. Н. Порус, Ю. В. Сачков, Е. Н. Устюгова и др.
1 См.: Митина И. В. Понятие «стиль»: генезис и эволюция // Гуманитарные и
социально-экономические науки. Ростов н/Д, 2000. № 2; Устюгов В. А.
Формирование классического стиля мышления в научной химии XVII века //
Вестник Красноярского государственного ун-та. Серия «Гуманитарные
науки». 2005. № 6; Кепчик Н. В. О необходимости развития вероятностного
стиля мышления у студентов-биологов. Минск: Б ГУ. [Электронный ресурс]:
http://www.bsu.by/main.aspx7guicH27231
Введение: Методологические истоки «стиля научного мышления» 27
истории науки и определить варианты ее динамики. В плане
такого рода конкретизации (что чрезвычайно важно),
содержательное ядро понятия «стиль научного мышления», коль скоро
речь шла именно о научном мышлении, кристаллизовывалось
с учетом логико-методологической организации научного
знания. Речь при этом шла не о попытках сведения понятия «стиль
научного мышления» к логико-языковым структурам
познавательных процедур и не о представлении стилей как
интегральной характеристики выявленных и достаточно хорошо и полно
проанализированных к тому времени логико-методологических
структур и процедур знания в их конкретном
функционировании. Речь шла о погружении этих структур в познавательную
деятельность ученых, реально творящих историческую
динамику научного знания о мире. Здесь те же, фактически,
логикометодологические элементы и структуры ставшего научного
знания (формальные и содержательные) как бы погружались в
живую историческую реальность научно-познавательной
деятельности. И здесь, в контексте конкретных научных поисков,
в живой реальности столкновения альтернативных теорий,
нерешенных проблем и споров, проступают «стилистические»
характеристики деятельности ученых, реализующих в своих
исследованиях тонированный смыслом целостный взгляд на мир.
Мир при этом предстает то как однозначно детерминистский,
то как вероятностный, то как кибернетический или
синергетический и пр. И еще при этом обнаруживалось, более или менее
отчетливо, что гипотетико-дедуктивные теории, модели,
процедуры верификации, фальсификации, интерпретации,
моделирования и пр., а также нормы, идеалы, принципы, картины
мира, работающие метафоры и пр. уже не представали для
работающего ученого как жесткие нормы познавательных
процедур, которые он просто должен прилагать к материалу в их
жестко заданном статусе, последовательности и роли (как это
фактически предлагал неопозитивизм). Они представали для
ученого как инструменты, включаемые по мере
необходимости в его познавательную активность в конкретных поисковых
ситуациях и обретающие свой методологический статус в
рамках стилистически целостной деятельности. А это значит, что
не парадигма, не даже исследовательская программа, но
именно стиль должен выступать основным методологическим,
организующим познание фактором в поисковой деятельности
ученого.
28 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
Ход такого рода исследований методологического
потенциала понятия стиля приводил отечественных философов
науки к трактовке логико-методологических структур науки
как «регулятивных средств»1 (от общей картины мира до
индивидуальных представлений об идеале и нормах познания),
которые ориентируют ученого в данный исторический
период и в данной предметной области. Причем сама
стилистическая специфика выявляется в этом случае благодаря тому, что,
как заметил В. Н. Порус: «Множество регулятивных средств
науки неоднородно и исторически относительно по своему
элементному составу»2. И хотя в нем есть ядро и другие
структурные элементы, но все равно, в нем все сдвигается со своих
мест. Погружение в реальную работу ученого в данном случае
означает, что все эти элементы как бы перемешиваются,
лишаются своих мест в системе познавательных процедур и теряют
в связи с этим свой статус. Наличная картина мира в
познавательной деятельности ученого может, скажем, фактически
оцениваться как нечто третьестепенное, а красивое допущение
малообоснованной гипотезы — как нечто решающее. Все
срывается со своих мест в ходе познавательной деятельности
ученого, увидевшего в мире что-то новое, интуитивно ясное, ему
очевидное, и на передний план выступает организующее поиск
ученого стремление выразить это увиденное для других. Даже
требования логики могут терять статус решающих элементов
познания и становятся объектом выбора, они становятся
инструментами, использование которых определяется некоторым
представлением субъекта познания об уместности их
применения в каждом конкретном случае. Особую эпистемологическую
значимость в этих случаях приобретает целостность его
языковых средств, с помощью которых он пытается выразить свое
видение объекта. Эта целостность и фиксируется понятием стиля
научного мышления.
Таким образом, методологическая специфика этого понятия
связывалась с тем, что относилось оно к собственно
познавательной деятельности, к реальной познавательной работе
научных сообществ, а не к ее готовым результатам — не к контексту
1 «В этом аспекте стиль научного мышления предстает прежде всего как
система "регулятивных средств", используемых наукой в данный
исторический период». Порус В. Н. Стиль научного мышления в
когнитивнометодологическом, социологическом и психологическом аспектах //
Познание в социальном контексте. М., 1994. С. 105.
2 Там же.
Введение: Методологические истоки «стиля научного мышления» 29
обоснования (в терминологии Рейхенбаха)1. Чтобы обосновать,
и прежде чем обосновать тот или иной конкретный результат
по стандартам научности, его смысл надо выразить понятным
для сообщества образом. Стиль как характеристика смысловой
целостности выражения располагается ближе к контексту
открытия, но в свете задач выражения этого открытия он может
быть представлен в контексте обоснования как сознательно
избранная и потому доступная исследованию манера выражения
этого открытия для сообщества.
Апелляция к стилю в этом случае означает включение
исторического измерения научного объяснения и обоснования.
Демонстрация того, что объяснение включается в вероятностный
стиль мышления, а не в механический, фиксирует тот факт, что
это объяснение апеллирует к вероятностным закономерностям
и соответствующей картине мира, а не к динамическим и
механическим законам, т. е. дает историческую идентификацию
поискам познающего субъекта. При этом история предстает как
нечто, происходящее здесь и теперь, как событие, открывающее
нечто новое, т. е. неожиданное, чреватое новыми событиями.
Но в то же время история предстает как продолжающееся, как
открывающееся в старых формах новое. В исторической
идентификации собственно и реализуется статус стиля как
методологического инструментария научного мышления — мышления,
всегда, по самой своей сути, устремленного к целостности.
Характер выражения смыслов научного открытия для другого
ученого, для общения и для выработки общего взгляда становится в
этом случае главной интегральной характеристикой
деятельности ученого2. Этой задаче — поиску целостных в смысловом
отношении средств выражения знания — подчинено
использование всех прочих логико-методологических средств науки.
Однако, как мы уже говорили, в англо-американской
традиции, а чуть позже и в отечественной методологии, анализ языка
науки был жестко привязан к неопозитивистскому контексту
обоснования. Это привело к тому, что интерес в анализе стилей
научного мышления сдвигался к контексту открытия, где
внятно звучали лишь моменты психологические и социологические.
1 См. об этом: Пружинин Б. И. Между контекстом открытия и контекстом
обоснования: методология науки Густава Шпета // Густав Шпет и
современная философия гуманитарного знания. М, 2006. С. 135—145.
2 При этом надо различать стиль научного мышления как смысловое
стилистическое единство языка науки и специфику научного стиля как
литературного жанра.
30 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
И понятие стилей научного мышления стало оттесняться
близкими ему по смыслу понятиями постпозитивистских
концепций — прежде всего, понятием «парадигма». Именно
оттесняться или вытесняться, ибо никаких особых споров на этот счет не
было. Куновский термин «парадигма», включавший в себя
почти все смысловые пласты понятия «стиль», обладал по крайней
мере двумя очевидными преимуществами. Он был более
определенным, позволял четче очертить область значений и
достаточно четко идентифицировать соответствующие ему реалии в
истории науки и, кроме того, с самого начала демонстрировал
свою инструментальную эффективность для позитивных
социологических исследований науки. Куновская концепция
открывала перспективы для новых исследований науки — прежде
всего, социологических и исторических с культурологическим
уклоном (case studies).
Несколько позднее, благодаря усилиям В. Н. Поруса, стали
известны у нас идеи Людвига Флека о стиле научного
мышления и «мыслительном коллективе». (Сама его книга
«Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию
стиля мышления и мыслительного коллектива» была
переведена Порусом и издана только в 1999 году.) Однако к тому
времени место доминирующего смыслового гнезда в
отечественных философско-методологических исследованиях уже
было плотно занято «парадигмой», «сообществом»,
«научноисследовательской программой», «тематическим анализом
науки», «личностным знанием» и пр. И эти понятия
перекрывали почти всю содержательную сферу понятия «стиль
научного мышления»: историческая изменчивость научного знания,
теоретическая нагруженность его фактуального основания,
социокультурная обусловленность выбора концептуальных
структур, социальные, по сути, механизмы функционирования научных
сообществ и смены их приверженностей к определенным наборам
познавательных образцов и средств, роль гештальтов на
психологическом уровне работы ученого и социальные механизмы,
закрепляющие их переключение в моменты смены этих
приверженностей и пр. и пр. Именно это «почти» и представляет интерес
в данном случае, т. е. именно то, что осталось за рамками всех
этих понятий постпозитивистской философии науки. Интерес
в данном случае представляет именно то, к чему приближалась
отечественная методология благодаря понятию стилей
научного мышления.
Введение: Методологические истоки «стиля научного мышления» 31
Чтобы содержательно прояснить этот интерес, мы
обратимся к идеям Л. Флека. При этом мы имеем в виду не судьбу его
книги, изданной в 1935 г. на немецком языке и переведенной
на английский не без участия Т. Куна, только в 1976. В данном
случае будут иметь значение лишь концептуальные причины, в
силу которых идея стилей научного мышления не была
воспринята после-позитивистской философией науки. Но начнем мы
этот сюжет с определения понятия, которое сегодня является
фактически центральным в понимании исторической
динамики науки — с понятия парадигмы.
С ним сегодня обращаются так вольно, что в
воспроизведении аутентичного определения возникает необходимость. Более
того, воспроизведем весь фрагмент полностью. Вот
уточненный самим Куном контекст функционирования этого понятия
в книге «Структура научных революций»: «В параграфе,
который следует дальше, — пишет Кун в "Дополнении 1969 года", —
я предполагаю, что для того чтобы выйти из затруднительного
положения, целесообразно отделить понятие парадигмы от
понятия научного сообщества, и указываю на то, как это можно
сделать, а также обсуждаю некоторые важные следствия,
являющиеся результатом такого аналитического разделения. Далее
я рассматриваю, что происходит, когда парадигмы
отыскиваются путем изучения поведения членов ранее определившегося
научного сообщества. Это быстро обнаруживает, что термин
парадигма часто используется в книге в двух различных смыслах.
С одной стороны, он обозначает всю совокупность убеждений,
ценностей, технических средств и т. д., которая характерна для
членов данного сообщества. С другой стороны, он указывает
один вид элемента в этой совокупности — конкретные
решения головоломок, которые, когда они используются в качестве
моделей или примеров, могут заменять эксплицитные правила
как основу для решения не разгаданных еще головоломок
нормальной науки»1.
Обычно, воспроизводя это определение, цитировать
чинают с середины приведенного фрагмента, упуская весьма
важную, оговоренную Куном чуть выше собственно
определения деталь — он отделяет парадигмы от научного сообщества
(и позднее закрепляет это отделение, апеллируя к понятию
«дисциплинарная матрица»). Но тогда возникает вопрос, в чем,
в каком материале воплощаются и, стало быть, каким образом
Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. С. 224-225.
32 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
функционируют, т. е. выполняют свои функции элементы
парадигмы как дисциплинарной матрицы в качестве именно
матрицы, управляющей ученым? Кун отвечает на этот вопрос так:
они функционируют в качестве образцов успешного решения
головоломок. Но ведь не сами же по себе эти элементы
обретают роль образцов и тем самым неявных, но действенных
регулятивов — ученый должен к ним отнестись как к. регулятивам,
и лишь в рамках этого отношения в них проступают неявные
регулятивные требования. Собственно Кун и не скрывает, что
здесь имеется «логический круг»1 и проступает причина, по
которой Кун вынужден отделить сообщество от парадигмы и
обратиться к социальным параметрам сообщества за
поддержкой — социальность обеспечивает закрепление
неэкплицированных правил в образцах, которым и следует ученый, решая
головоломки. Эти правила воплощаются в самих определенных
ученых и закрепляются через их статус в структуре сообщества
как социального института. При этом для Куна
принципиально важно, что правила, по которым функционирует парадигма,
неэксплицированны — Кун даже использует термин
«эзотерический» как синоним «профессиональный»2, и переносит центр
тяжести своей концепции на деятельность ученого,
«решающего головоломки» в «нормальной науке» и не озабоченного
вопросом: почему он вообще что-то принимает за образец и
поступает так, а не иначе?3
Иными словами, парадигма, управляющая
(регулирующая) деятельностью членов научного сообщества, зависает,
как улыбка Чеширского кота, между сообществом (т. е. вполне
социальным институтом) и удачным решением той или иной
когнитивной задачки отдельным ученым. У этого решения нет
собственного потенциала для регуляции деятельности
сообщества, нет собственного статуса, нет собственных механизмов
реализации. Все это обеспечивает социальная и
социальнопсихологическая структура научного сообщества, т. е.
фактически иерархическая структура. При этом Кун и не пытается
представить парадигму как знак, который устанавливается в ходе
общения членов сообщества, он уходит от ее языковых
аналогий. А когда касается языка, то рассуждает о коммуникациях
между различными языковыми сообществами, т. е. фактически
1 Кун Т. Структура научных революций. С. 226.
2 Там же. С. 49.
3 См.: Там же. С. 77-78.
Введение: Методологические истоки «стиля научного мышления» 33
рассуждает о возможностях перевода в контексте тезиса о
непереводимости1. Вот в этой «беспомощности» полученного
ученым когнитивного результата, мы полагаем, и обнаруживается
тот дефицит смысла, который заставляет внимательно
присматриваться к смысловому потенциалу понятия «стиль
научного мышления», — понятия, явно предполагающего апелляцию
к языку как к мощной «индивидуально-надиндивидуальной»,
культурно-исторической знаковой системе, в данном случае
к языку науки. Слово «парадигма» создает иллюзию, наделяя
статусом образца то, что само по себе не имеет для этого силы.
«Парадигма» обращает нас к социуму как внешней для
научного результата силе для поддержки его образцовых функций.
Но именно эта апелляция дает Куну преимущество по
сравнению с Флеком, так же не сделавшим решающего шага в
сторону исследования «стиля мышления» как словесного выражения
смысла.
Что отличало Л. Флека от Т. Куна и тем более от таких
радикально-постпозитивистских фигур как, скажем,
Фейерабенд? В общем, принципиально негативное отношение к
социологизирующей релятивизации науки, к социокультурному
релятивизму. Представление о науке как об одной из социальных
подсистем, детерминированных внешними социальными, а не
внутренними когнитивными целями, было глубоко чуждо
Флеку по тем же соображениям, по каким оно вызывало негативную
реакцию у отечественных ученых и методологов 1960—1970
годов, у которых еще были свежи воспоминания о социальных
экспериментах Т. Лысенко в биологической науке,
Павловских сессиях и научных изысканиях в «шарашках». Человек,
вынужденный работать на «арийскую науку» в концлагере, не
мог принять установку о сквозной детерминации социальным
когнитивного. И дело, повторяю, не в социально-гражданском
протесте, но в реальном опыте научно-познавательной
деятельности в условиях прямого вмешательства социальности в
когнитивные процессы. «Мыслительный коллектив», в котором
довелось работать Флеку в концлагере, такое вмешательство
оценивал и даже манипулировал им, четко представляя себе его
когнитивные последствия, его когнитивный смысл.
Вместе с тем Флек настаивал, что мы не можем
игнорировать социокультурные условия, в которых научное познание
реально осуществляется, и тем более не можем игнорировать
Там же. С. 226.
34 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
изменчивость этих условий, поскольку она сказывается на
содержании добываемого знания. В этом собственно и состояла
суть проблемы, которую он отчетливо сознавал и которую
пытался решить: проблема такого соотношения когнитивного и
социокультурного в научном познании, которое делало бы
возможным познание. «Исключительно важное значение, — пишет
Порус, — имеет главная идея Флека: продуктивная
эпистемология не может развиваться в отрыве от социального и
социальнопсихологического аспектов научного познания.
Эпистемологические понятия должны анализироваться и разрабатываться
в "многомерном пространстве", образуемом совокупностью
когнитивных и социальных измерений науки. В таком анализе
должны приобрести новое содержание традиционные
эпистемологические понятия (факт, теория, метод, истина,
доказательство и др.), а рядом с ними стать такие понятия, как "стиль
мышления", "мыслительный коллектив", "идеал познания",
"консенсус" и другие, имеющие очевидную социальную и
социально-психологическую нагруженность. Понятие истины
должно быть поставлено в смысловую связь с этими
понятиями. Отсюда глубокая реформа теории научной рациональности,
которая должна открыть новые перспективы эпистемологии»1.
Какой вариант решения этой проблемы предложил Кун, мы
уже видели. Собственно, и сама эта проблема как
эпистемологическая не очень остро переживалась Куном. Его, скорее,
вынудили обратиться к ней критики. В отличие от Куна, Флек
остро ощутил эту проблему, тем более остро, что фактически не
нашел пути к ее решению, точнее, к ее трансформации в
конструктивный план. Ведь дело не в том, чтобы избежать
вульгарного социологизма и глухого интернализма в трактовке науки,
и не в поиске умеренного решения - дело сложнее, ибо здесь
мы имеем дело с действительно философской проблемой,
требующей нового взгляда на знание, нового варианта его
рефлексивного осмысления. Мы, авторы этой книги, обратились в
поиске этого нового варианта философско-методологической
рефлексии к эпистемологической традиции русской
философии, к ее поискам «живого знания», соединяющего в себе «ум
и сердце». И в этих поисках нам важно подчеркнуть следующее:
1 Порус В. Н. На пути к сравнительной эпистемологии // Флек Л.
Возникновение и развитие научного факта. Введение в теорию стиля мышления и
мыслительного коллектива / Составл., предисл., пер. с англ., нем., польск.
яз., общ. ред. В. Н. Поруса. М., 1999. С. 16-17.
Введение: Методологические истоки «стиля научного мышления» 35
бесспорная заслуга Флека состоит в том, что он увидел
проблему и не удовлетворился ее видимыми решениями.
«Гносеологический подход к проблеме социальной детерминации
требует <...> таких понятий, в которых получил бы выражение тот
механизм, при помощи которого социальный контекст науки
преломляется в когнитивных процессах и наполняет их
определенным содержанием. Такими понятиями для Флека, по мысли
Поруса, были «стиль мышления» (Denkstil) и «мыслительный
коллектив» (Denkkollektiv). Собственно, это не разные понятия,
а две стороны одного и того же явления, подобно тому, как
понятие «парадигмы» сопряжено с понятием «научного
сообщества» в терминологии Т. Куна»1.
Напомним, однако, Кун был вынужден развести эти
понятия. И сделать это он был вынужден потому, что столкнулся с
вопросом: в каком, собственно, пространстве реализуется
образец как образец (как парадигма) для научного коллектива? С
какой стати и каким образом определенный способ мышления
становится единым для научного коллектива? Кун ответил на
этот вопрос вполне определенно — через социальные и
психологические механизмы. Флек движется как бы тем же путем.
Взамен старой гносеологической схемы «субъект-объект» Флек
предлагает новую эпистемологическую схему «субъект —
мыслительный коллектив — объект», в которой главная роль
принадлежит «мыслительному коллективу».
Таким образом, то «почти», с которого мы начали наше
обращение к Флеку, состояло как раз в том, что делало его
противоречивым и непоследовательным. Он почувствовал
глубинные основания противоречия, с которым он столкнулся. Он не
сделал тот шаг, который сделал Кун и др. постпозитивисты, в
сторону социологизации оснований познавательной
деятельности сообщества, он не представил социальные механизмы
достижения единства мнений в сообществе как саму суть
познания. И потому Кун, сославшийся на книгу Флека в первом
издании «Структуры научных революций» (1962) как на один
из источников его концепции и тем самым способствовавший
изданию английского перевода книги Флека «Возникновение
и развитие научного факта», в предисловии к этому изданию
позволил себе забыть, чем же он, собственно, обязан Флеку.
«Меня не раз спрашивали, — пишет Кун, — что я взял у
Флека, и я могу только ответить, что почти совершенно не знаю,
что сказать об этом. Конечно, меня подбодрило существование
1 Там же. С. 11.
36 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
этой книги, что было немаловажно, потому что в 1950 г. и еще
несколько лет после этого я не знал никого, кто бы так смотрел
на историю науки, как я в то время. Также весьма вероятно, что
знакомство с работой Флека помогло мне понять, что
проблемы, которыми я занимался, имеют фундаментальное
социологическое измерение. Во всяком случае, именно в этой связи я
упомянул его книгу в моей «Структуре научных революций».
Но я не уверен, что взял что-либо конкретное из книги
Флека, хотя, очевидно, мог бы взять и, несомненно, должен был
это сделать»1. Действительно, историзм Флека как бы «завис»,
но он остановился перед действительно философской,
эпистемологической проблемой, заставляя нас искать перспективу ее
решения, а не перевел ее, так сказать, в технический план
социологических исследований. Он очень остро почувствовал
натяжку, которую лишь маскировали ссылки Куна на работу
ученых, производящих нечто, принимаемое ими и обществом как
знание о мире, но по своей сути являющееся чисто социальной
конструкцией. И остановиться его, в принципе, заставило то, в
общем, исторически случайное для науки обстоятельство, что
у него был опыт научной деятельности, научного познания в
условиях тоталитарного режима. Аналогичный опыт был и у
советской науки и философии.
Надо сказать, что «социологизация» конкретных
исследований в области истории науки и сегодня является
фактически основным направлением разработки
философско-методологической тематики. Однако сегодня уже можно, пожалуй,
констатировать: инициированная постпозитивизмом
социологизация и социокультурная релятивизация практически всех
аспектов научно-познавательной деятельности ведет к тому,
что философия науки фактически теряет из виду какие-либо
имманентные основания собственно познания. Социальное
и когнитивное оказываются в рамках этого взгляда на научное
познание «несовместными», точнее, отношения между ними
всякий раз оказываются иерархическими —
социально-историческое полностью подчиняет когнитивное и превращает
знание в исключительно социокультурную конструкцию, а по
1 Кун Т. Предисловие к английскому переводу // Флек Л. Возникновение и
развитие научного факта. Введение в теорию стиля мышления и
мыслительного коллектива / Составл., предисл., пер. с англ., нем., польск. яз., общ. ред.
В. Н. Поруса. М., 1999. С. 19.
Введение: Методологические истоки «стиля научного мышления» 37
сути, т. е. исходя из содержания понятия знания, — в фантом1.
Такого рода «превращение» научного знания является сегодня
«мейнстримом» в исследовательской работе (case studies)
большинства продвинутых в этом направлении философов и
историков науки2.
Конечно же вполне допустимо представлять науку как
социальную подсистему - изучать ее таким способом и
оценивать эффективность механизмов, направляющих деятельность
ученых на получение социально-приемлемого продукта.
Соответственно этому можно рассуждать о социально-культурном
смысле внутринаучных дискуссий - о социальных механизмах
установления авторитета в науке и о репрессивных механизмах,
обеспечивающих господство того или иного типа научного
дискурса, и т. д. Важность и нужность исследования этих аспектов
научно-познавательной деятельности сомнений не вызывает,
тем более что эти исследования созвучны весьма мощным
процессам, происходящим в современной науке и вокруг нее, —
наука во все большей степени становится социальным
институтом. Но коль скоро речь идет о философии, а не только о
позитивном и прагматически значимом рассмотрении тех или
иных аспектов науки, следует иметь в виду, что философский
взгляд, акцентирующий именно такого рода процессы в
качестве сущностной характеристики научно-познавательной
деятельности, представляет ко всему прочему в качестве иллюзии
все, что до сего дня мотивировало в культуре само
существование сообщества ученых (как, впрочем, и философов). Можно,
конечно, представлять такую трактовку культурной мотивации
научно-познавательной деятельности как работу критической
рефлексии, развеивающей иллюзии ученых (которые наивно
полагали на протяжении последних двух с половиной тысяч
лет, будто бы они открывают что-то объективное или, по
крайней мере, хоть в чем-то независимое от разнообразных
запросов и установок социума). Тем более что, повторю, подобные
критические взгляды имеют сегодня вполне реальные
осно1 Что, кстати, никак не мешает «натурализации» эпистемологии — широкому
использованию естественнонаучных гипотез для описания собственно
когнитивных механизмов познания.
2 См., например, сборник статей: Наука и научность в исторической
перспективе / Под общ. ред. Д. Александрова, М. Хагнера. СПб., 2007.
38 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре...
вания1. И тем не менее мы рискнули, на фоне подобных
тенденций в философии науки, предложить очерк
философскометодологической концепции, которая была в свое время
инициирована в отечественной философии, и мы надеемся, что
сумели таким образом продемонстрировать
эпистемологическую возможность иного взгляда на перспективы научного
познания. Именно такой «иной» взгляд мы и попытались
конкретизировать в книге, введением к которой служит этот очерк.
1 См. об этом: Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры
культурно-исторической эпистемологии. М., 2009.
Раздел I
Историзм как
эпистемологическое
основание русской
философии
Введение к разделу I
Историзм как восприятие мира в его динамике не
просто вплетен в русскую философскую мысль, он —
условие ее органической целостности. Его трактовкой
задается тематическая структура русской философии.
С XVIII века именно история является основным
предметным полем размышлений русских философов,
гуманитариев, публицистов — она указывает направления
исследования и определяет идейное предназначение создаваемых
концептуальных систем — этических, религиозно-философских,
социально-утопических. И мы согласны со Шпетом в том,
что «...наша философская литература и возникла прежде
всего как философско-историческая, и никогда не переставала
интересоваться историей как проблемой, — об этом говорить
много не приходится. Но и наука история у нас стоит
особенно высоко. Здесь больше всего проявилась самостоятельность,
зрелость и самобытность нашего научного творчества. Как не
гордиться именами Соловьева, Ключевского, Антоновича,
Владимирского-Буданова и многих, многих других? И
замечательно, что это все — школы, т. е. методы, свои методы, и в
конечном счете, следовательно, свои философские принципы.
Какой интерес среди современных русских историков
вызывают методологические и философские вопросы, видно из
большого количества соответствующих работ наших историков. Не
говоря уже об многочисленных статьях, назову только такие
курсы, как курсы проф. Виппера, проф. Лаппо-Данилевского,
проф. Кареева, проф. Хвостова — это из появившихся в
печати; иные выходят "на правах рукописи"; иные не появляются
в печати, но читаются у нас почти в каждом университете. При
таком отношении к теоретическим проблемам истории со
стороны представителей этой науки, кажется прямо-таки
обязанностью и со стороны нашей философии внести свой вклад и
свой свет в решение этих трудных и сложных вопросов»1.
Именно исследования историков были самой продвинутой
областью гуманитарной науки в России, и именно философия
истории была целостной областью русской философии.
Пожа1 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Ч. I. Материалы. М, 1916. С. VII.
42 Раздел I
луй, только применительно к философии истории мы и можем
говорить о контурах складывающейся русской философской
школы. Поэтому в поисках эпистемологической традиции, в
размышлениях о ее идейных основаниях, определяющих
листическую направленность русской эпистемологической
мысли, мы, прежде всего, обратились к проступающей в ней
тематике особенностей исторического познания. В этой сфере
в достаточно специальной области с очерченной
предметностью и способами апелляции к реальности, с ее ясными,
заданными исторической наукой стандартами аргументации для нас
стал отчетливо проступать специфический вариант историзма,
определяющий стилистику эпистемологических идей русских
мыслителей и тем самым задающий своеобразную
эпистемологическую традицию в русской философии.
В чем своеобразие версии историзма, рассмотрению
которого посвящены главы этого раздела? Какова специфика
эпистемологического стиля Г. Г. Шпета, Д. М. Петрушевского,
Н. Н. Страхова, А. А. Григорьева, А. Я. Гуревича, Г. Ф.
Церетели, M. M. Пришвина а также тех, с кем и о ком они говорят:
Л. Н. Толстого, H. M. Карамзина, M. M. Бахтина?
В силу ряда причин, о которых отчасти мы говорили в
предисловии («От авторов»), в русской философии сложилось
понимание истории как процесса, который не исчерпывается
полностью направленностью к конечной цели (наподобие
гелевского историзма). Наличие такой цели не оспаривалось,
телеологические идеи отнюдь не отрицались в размышлениях
русских мыслителей, но акцент смещался. В центре
оказывалось представление об истории как процессе, протекающем
в человеке, а не вне его — процессе, обретающем смысл в
сознании и историческую конкретность реального
исторического действия в поступках. История здесь предстает как процесс
принципиально незавершенный, причем не в том смысле, что
он не достиг еще конечной цели, но прежде всего в том, что он
открыт действию, открыт осмысленному поступку и его
неожиданным последствиям, открыт всему событийному и
конкретному. За опытом экзистенциально нагруженного осмысления
человеком истории, за ощущением так понятого историзма и
обращается, по мнению русских мыслителей, наука история к
опыту прошлого — к реальности событий и реальности их
переживания человеком (переживания не только в
психологическом смысле, но в смысле экзистенциальном). Этим русский
историзм отличается от историзма его «немецких учителей».
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 43
Эти идеи не приобрели четкого концептуального
выражения, но они достаточно явно обнаруживают себя в их
эпистемологической стилистике, в способах обсуждения проблем и
в понимании исследовательских перспектив. Именно к этой
традиции в понимании истории, к историзации научного
мышления мы и пытаемся вернуться сегодня. Ибо сегодня она
актуальна, как никогда, по крайней мере в области
философскометодологического сознания науки.
Глава 1
Густав Шпет: Давид Юм
и историзм в исторической науке
§ 1. Место Д. Юма в философии Г. Шпета:
Юма не поняли...
В философских исследованиях Густава Шпета идеи
Давида Юма занимают особое место. С Юмом связан первый
его философский успех1, первый опыт философского
преподавания в Московском университете2 и одна из
первых опубликованных критических рецензий3. Как
вспоминал Андрей Белый, юмовский скептицизм стал
своего рода визитной карточкой Шпета в московских
философских диспутах того времени. И для нас важно в характеристике
А. Белого не только то, что Шпет «в юмовском скептицизме,
как в кресле уселся с удобством; это было лишь формой
отказа его от тогда господствовавших течений»4, но и шпетовская
мысль о том, что «Юма не поняли»5. Эта мимоходом
брошенная Г. Шпетом и подмеченная наблюдательным А. Белым
фраза свидетельствует о многом.
1 Золотая медаль за конкурсное сочинение «Ответил ли Кант на вопросы
Юма». См.: Шпет Г. Г. Проблема причинности у Юма и Канта. Ответил ли
Кант на сомнения Юма. Киев, 1907.
2 Шпет стал вести спецкурс в Московском университете. Материалы
спецкурса сохранились в ОР РГБ. Ф. 718. См. также записи шпетовского
спецкурса, сделанные Б. Пастернаком. Boris Pasternaks Lehrjahre.
Неопубликованные философские конспекты и заметки Бориса Пастернака. Stanford, 1996.
Р. 208—230. Он прочел пробную лекцию о Юме, которую опубликовал потом в
виде статьи. Основные положения этой лекции см.: Шпет Г. Г. Скептицизм и
догматизм Юма// Вопросы философии и психологии. 1911. № 106. С. 1 — 18.
3 Шпет Г. Г. Юм Д. Исследование человеческого разумения. Пер. с англ.
С. И. Церетели. СПб., 1902 // Мир Божий. 1903. № 11. С. 88-91. Републ.:
Шпет Г. Г. Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры / Отв. ред.-сост.
Т. Г. Щедрина. М., 2012. С. 21-26.
4 Белый А. Между двух революций. М., 1990. С. 273.
5 Там же. С. 275.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 45
В своих ранних работах Шпет рассматривает
гносеологические идеи Юма в контексте традиционной
теоретикопознавательной проблематики. Еще будучи студентом и
посещая занятия Психологической семинарии Г. И. Челпанова,
Шпет делал сообщения по следующим темам: «Юм против
рационализма», «Причинное суждение Юма», «Вопрос о
необходимой связи у Юма» (все три - в осеннем семестре 1903—
1904 уч. года)1. Казалось бы, в то время Юм его интересовал
прежде всего как философ, но не как историк. Между тем
проблема причинности, выбранная для анализа идей Юма и Канта,
уже тогда волновала Шпета не столько как проблема
общеэпистемологическая, сколько как философско-методологическая,
выводящая его к проблемам обоснования знания в
гуманитарных науках. И может быть поэтому еще в 1903 году рецензию
на русский перевод юмовского «Исследования человеческого
разумения» Шпет начинает следующей характеристикой Юма:
«Шотландский философ Давид Юм, занимая в истории
философии одно из почетнейших мест, и для нашего времени
должен считаться лучшим будильником мысли. Беспощадная
логика, ясность мысли и изложения, стройность общих построений
и занимательность в деталях делают его привлекательным для
всякого обращающегося к философии как к источнику не
только умственного и нравственного просвещения, но и чисто
эстетического наслаждения. Чуждый узкого доктринерства и
скучного морализирования, Юм действительно овладевает умом и
настроением читателя и невольно зарождает в его уме тот
скептический критицизм, который одинаково хорошо предохраняет
как от излишнего увлечения метафизическими туманами, так и
от слепой преданности пошлости здравого смысла»2. А вот здесь
для нас важно, что юмовский критицизм, по Шпету, пытается
найти путь между «рассудком», с одной стороны, и
«чувственностью» - с другой.
Разработка «исторической философии»3 — так определял
смысл своей философской деятельности Г. Г. Шпет. Он
про1 См.: Отчет о деятельности Психологической семинарии при университете
св. Владимира за 1902-1906 годы // Философские исследования. Киев, 1907.
Т. 1.Вып.4. Паг.Ш.С.8.
2 Шпет Г. Г. Юм Д. Исследование человеческого разумения. Пер. с англ.
С. И. Церетели. СПб., 1902 // Шпет Г. Г. Философская критика: отзывы,
рецензии, обзоры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2012. С. 21.
3 См.: Шпет Г. Г. Философия и история // Шпет Г. Г. Мысль и Слово.
Избранные труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 196.
46 Раздел I
тивопоставлял ее как сциентистскому рационализму, так и
позитивизму. По мнению Шпета, в историческом познании мы
идем от чувственной действительности как загадки к идеальной
основе ее, чтобы разрешить эту загадку через осмысление
действительности, через усмотрение разума, в самой
действительности реализованного и воплощенного. «Если понимание есть
путь постижения духа, то одинаково и на одном уровне для
лософии становятся вопросы о реальности "внешнего мира",
и реальности "чужой личности", и реальности "меня самого".
В конечном итоге, — и следовательно, для исследования с
самого начала — это одна проблема: проблема духовной
исторической реальности. Историческая реальность, как сказано, есть
осуществленное, но в тоже время и осуществляющееся и
подлежащее осуществлению. Словом, это есть непрерывное
движение. Но движение не механическое, а движение теоретическое:
осуществления, воплощения, реализации идеи»1. Шпет
фактически ищет путь исторического познания между «рассудком» и
«чувственностью». Поэтому он возвращается к Юму в «Истории
как проблеме логики. Ч. I» (1916). И здесь можно наблюдать, что
Шпет расширяет контекст рассмотрения юмовского
скептицизма и эмпиризма. Он констатирует: «Английская философия
прошла весь логический круг, который предначертывается
внутренним смыслом эмпиризма, как философского мировоззрения,
и в этом отношении она, действительно, попадает в конфликт
с "историей", поскольку действительность объекта последней
идет прямо против феноменалистических схем»2. Прежде всего
этот «конфликт с "историей"» привлекает внимание Шпета. Мы
полагаем, что этот конфликт представляет интерес и для
современной эпистемологии и философии науки3.
§ 2. Юм-историк vs Юм-философ
Итак, в свое время Шпет сказал, что «Юма не поняли».
И слова эти он произнес потому, что в сложившейся к тому
вре1 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и Слово.
Избранные труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 414—415.
2 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы:. В 2 ч. М., 2002. Ч. 1. С. 119.
3 См.: Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г. Скептицизм Юма и современные
проблемы культурно-исторической эпистемологии // Дэвид Юм и
современная философия: материалы конференции. М., 2011. Т. 2. С. 28—32.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 47
мени историко-философской традиции гносеологические
воззрения Давида Юма интерпретировались как «скептицизм» и
«эмпиризм». Так они и реконструируются в дальнейшей линии
развития гносеологии, идущей через противостояние
рационализму к И. Канту, а затем, через противостояние
неокантианству, к позитивистской философии науки и далее к нынешней,
постпозитивистской. Последнее замечание может показаться
неточным. В работах, так сказать, классиков
постпозитивистской философии науки ссылки на Юма встречаются более чем
редко. А когда эти обращения к юмовскому скептицизму
встречаются, то он (именно в качестве методологического
инструмента), подвергается довольно жесткой критике1. Дело,
однако, в том что скептицизм и эмпиризм настолько растворены и
трансформированы в сегодняшнем стиле мышления философов
науки, что ссылки на классическую историко-философскую
традицию действительно кажутся здесь неуместными.
Юмовские гносеологические идеи растворились в «здравом смысле»
аксиом современной философии науки: из опыта невозможно
извлечь ничего, кроме мнения; эмпирические основания
научного знания, как и его теоретическое содержание, условны.
Сегодня, правда, господствует представление, что научное знание
определяется социокультурными обстоятельствами. Это,
конечно, отличает «конструирование» как основу познания
нынешней социологистической философии науки от юмовского
психологистического «привыкания». Но суть дела от этого не
меняется.
Шпет попытался увидеть Юма в широком (историческом,
а не гносеологическом только) контексте, и его
методологический ракурс чрезвычайно актуален сегодня2. В свете
современного состояния философии науки «скептицизм» и «эмпиризм»
Юма не следует превращать в нечто исчерпывающее; имеет
смысл вернуться к его гносеологическим идеям в более
широком и, главное, целостном контексте его весьма
разностороннего творчества. Ведь историческое движение мысли содержит
множество путей, и к прошлому имеет смысл обращаться не
только для того, чтобы проследить цепочку реализовавшихся
1 Пожалуй, наиболее внимательно отнесся к этим юмовским идеям М.
Полани, критически рассмотревший юмовскую идею сомнения. См.: Полани М.
Личностное знание. М., 1985. С. 280-297.
2 См. об этом подробнее: Материалы конференции «Дэвид Юм и
современная философия». М., 2011.
48 Раздел I
возможностей, но и для того, чтобы увидеть там пути мысли
(мыслительные ходы), актуальные для решения сегодняшних
проблем. С этой целью важно преодолеть исследовательскую
тенденцию, которую в свое время критически оценивал
отечественный историк философии М. А. Абрамов: тенденцию «к
отделению Юма-историка от Юма-философа»1, расчленению его
целостного философского мировоззрения и к интерпретации
«как независимых друг от друга I и III Книги Трактата,
самого Трактата и Эссе Юма, Трактата и Первого исследования
и т. п.»2.
Этим путем и пошел Шпет в «Истории как проблеме
логики». Он фактически предвосхитил «Идею истории» Р. Дж.
Коллингвуда, в которой ставилась задача исследовать историю
«философии истории», под которой он понимает историю
исторического самосознания европейской культуры3. И в
свете этой задачи Шпет, как и позднее Коллингвуд, рассматривает
гносеологические воззрения Юма в более широком контексте,
учитывающем культурно-исторические смыслы эпистемологии
и, стало быть, включающем в поле их исследования
ценностный статус знания в культуре, а отнюдь не только
социальнопрагматические контексты его функционирования.
Заметим, что внимательное и достаточно ясное сознание
этих культурно-исторических смыслов было, если угодно,
естественным для эпохи Нового времени. Знание для ученых
и философов той эпохи имело очевидную экзистенциальную,
символическую ценность, и, может быть, поэтому они
подчеркивали и прописывали именно его практическую значимость
для общества. Сегодня ситуация изменилась: символическая
ценность знания отошла на второй план, прагматическая
значимость заслонила ее. И сегодня обращение к скептицизму и
эмпиризму Юма в их реальном историческом контексте
выглядит для нас куда интереснее и поучительнее, чем их
представление в виде экстрагированной из реальной познавательной
1 Абрамов М. А. Шотландская философия века Просвещения. М., 2000.
С. 325.
2 Там же.
3 Заметим, что в кругах современных шпетоведов полагают, что «философия
истории» Густава Шпета «одна из самых оригинальных. В известном смысле
она предвосхитила "лингвистический поворот", произошедший на Западе в
области теории истории в последней четверти XX века». Стайнер П. Tropos
logicos: философия истории Густава Шпета // Вопросы философии. 2004.
№ 4. С. 155.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 49
деятельности гносеологической схемы. Узкий взгляд на эти
установки юмовской эпистемологии не устраивал и Г. Г. Шпета
(как не устраивал он почти тогда же, хотя и по другим
основаниям, английского историка В. А. Найта1).
Эпоха становления науки, эпоха Юма примечательна еще и
тем, что именно в это время конституируется историческое
самосознание Европы, возникает история как знание. Но
особенно важно, что в этот период историческая научность совмещала
в себе признаки научного исследования и литературного
произведения. Юм пишет исторический труд «История Англии»2
в духе эпохи. Это произведение еще вряд ли можно
рассматривать в качестве «исторического исследования» в полном
смысле этого слова. Юм здесь выступает скорее как писатель,
ведущий рассказ (нарратив), чем как исследователь, пытающийся
обосновать свой взгляд на то или иное историческое событие.
Тем не менее он все-таки пытается критически оценивать
источники. Так, Юм, опираясь на существующие исторические
исследования (историографию), проявляет скептическое
сомнение по поводу непроверенных фактов, находящихся в его
время, так сказать, на слуху3. Фактически Юм здесь выступает в
роли скептика, но скептицизм его в данном случае иного рода4.
Отличный от его собственной общегносеологической схемы,
1 Knight W. A. Hume. Edb., 1896. P. 224, 226.
2 Hume D. The History of England I—VI. L., 1841. В данной главе цитируется
нью-йоркское издание 1859. [Электронный ресурс]: http://www.archive.org/
stream/studentshumehistO 1 hume #page/296/mode/1 up
3 См., например, отношение Юма к общеизвестному в его время рассказу о
сожжении Дж. Бочер как апокрифической истории. Hume D. The History of
England I-VI. N. Y., 1859. С 297. [Электронный ресурс]: http://www.archive.
org/stream/studentshumehistO 1 hume#page/296/mode/1 up
4 На это и обратил внимание В. А. Найт (при этом он сводит скептицизм
Юма к простой критике источников). См.: Knight W. A. Hume. Edb., 1896.
P. 224. А также: Г. Шпет и его ученик Б. Пастернак. Шпет писал:
«...скептицизм Юма — совершенно особый скептицизм, не бессмысленный скептицизм
"здравого смысла", а скорее именно критицизм. Этот здоровый
гносеологический скептицизм надо всегда отличать от скептицизма, явившегося у Юма
прямым следствием его несостоятельных психологических теорий. Юм сам
тщательно определял свое место по отношению к пирронизму и другим
видам некритического скептицизма, но в силу смешения у него двух указанных
видов скептицизма, надо признать его определение своего места
совершенно неудачным». Шпет Г. Г. Проблема причинности у Юма и Канта.
Ответил ли Кант на сомнения Юма. Киев, 1907. С. 11; См. также: Boris Pasternaks
Lehrjahre. Неопубликованные философские конспекты и заметки Бориса
Пастернака. Stanford, 1996. Р. 218.
50 Раздел I
которая при применении к историческому исследованию дает
сбой или вообще ничего не дает.
§ 3. Причинность как проблема исторического познания
Именно этот сбой общегносеологической схемы
скептицизма и эмпиризма зафиксировал Шпет и в «Истории как
проблеме логики». Он констатировал: «Наконец, когда все же
философски была решительно выставлена проблема
причинности, то разрешение, которое она получила у Юма, не могло
обосновать ни индукции вообще, ни оказаться сколько-нибудь
пригодным специально для логики исторического объяснения.
Центр тяжести юмовского обоснования заключения от
причины или к причине состоял в признании повторения как
достаточного основания такого заключения. Могла ли идти речь
о самой возможности обоснования единичной необходимой
связи? История при таких условиях могла трактоваться либо
как простое описание, само по себе не представляющее как
будто никакой логической загадки, либо историческое
приравнивалось в задачах объяснения "естественному", т. е.
объяснялось из общего, и отыскание объяснения было
равносильно исканию закона. Но и в последнем случае, при отсутствии
специального анализа исторической работы, это объяснение
понималось в высшей степени примитивно, как
"психологическое" объяснение, но не в смысле установления тех или
иных психологических обобщений или законов, а в смысле
того практически-психологического объяснения, к какому мы
прибегаем в обыденной жизни для истолкования поступков и
действий отдельного лица. <...> Юм оказывается типическим
прагматистом»1. Имея в виду этот шаг, Шпет делает следующий
вывод: «Юм обратился к прагматической истории с ее
моральными и эмоциональными мотивами точно так же, как Кант
<...> обратился к помощи "практического разума"»2. Что
означает это для понимания истории как науки?
В другом месте Шпет поясняет, что из различения Кантом
теоретического и практического разума следует, что история
попадает в область свободы человеческой воли, т. е. в сферу
этики. Там она «уже не подчиняется тем методологическим и
1 Шпет Г. Г. История как проблема логики: В 2 ч. Ч. 1. М., 2002. С. 119-120.
2 Там же. С. 123.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 51
логическим требованиям, которые предъявляет к науке сам
Кант, а должна принять какую-то новую, руководимую не
логическими, а этическими оценками форму. В самом
содержании должен образоваться тогда sui generis отбор, который
выбрасывает в поле зрения историка то, что тесно связано с
"нравственностью" и заметает следы в сущности всего
исторического как такого. Говоря конкретно, вниманию историка
должна предстать историческая действительность
исключительно со стороны тех эмпирических форм, в которых
выражается сама нравственность, право и политика, все
остальное потеряет в его глазах "научную" ценность. Философия
истории неопределенно заговорит о соответственных целях
и идеалах государственной организации, сам исторический
прогресс приобретет смысл только в соответствующей
интерпретации, и наконец, причинно объясняющая сторона
вопроса ограничится подсчетом внешних причин и факторов,
т. е. условий развития названных форм человеческой
деятельности, а в виде внутреннего фактора истории может выступить
либо сам эмпирический человек, либо неизбежная в таких
случаях qualité obscure природы — ее "намерение" или
"задатки", "зародыши" и т. п. псевдотелеологические
истолкования. Вся эта программа Кантом проводится последовательно
и неуклонно»1.
Действительно, феноменализм не знает ни действующих
причин, ни «внутренних оснований». Однако опора Юма
исключительно на опыт, т. е. его феноменализм со всеми его
гносеологическими ограничениями сочеталась у него с желанием
«видеть весь человеческий род с самого начала его истории как
бы дефилирующим перед нами, в подлинных красках и без тех
масок, которые доставляют столько затруднений суждению
современников исторических событий»2. Ему хотелось получить
подлинную, объективную в исходном смысле этого слова,
картину происходившего, дабы использовать ее как «опыт» уже в
смысле «опыта» действия. Как он сам писал: «Я имею дерзость
думать, что не принадлежу ни к какой партии и не провожу
никакой тенденции»3. И Юм сильно переживал, когда после
вы1 Там же. С. 424.
2 Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.,
1996. С. 708.
3 Павленков Ф. Ф. Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт. СПб.,
1998. [Электронный ресурс]: http://sbiblio.com/biblio/archive/jum_gegel/00.
aspx
52 Раздел I
хода его «Истории Англии» его подвергли критике с разных
сторон: «Меня встретили криками порицания, гнева и даже
ненависти; англичане, шотландцы и ирландцы, виги и тори,
духовные лица и сектанты, свободные мыслители и святоши,
патриоты и придворные льстецы - все соединились в своей
ярости против человека, который не побоялся пролить
слезу сожаления над смертью Карла I и графа Страффорда. Когда
же остыл первый пыл их гнева, то произошло нечто еще более
убийственное: книга была предана забвению. Миллер
(издатель) уведомляет меня, что в течение двенадцати месяцев он
продал всего 45 экземпляров. Право, не знаю, найдется ли во
всех трех королевствах хотя один человек, видный по
положению или по научному образованию, который отнесся бы к моей
книге с терпимостью»1.
Между тем у Юма явно обнаруживается желание
представить историю как учительницу жизни. Юм говорил, что
«повествование о войнах, интригах, партиях и революциях не что
иное, как собрание опытов, с помощью которых политик или
представитель моральной философии устанавливает принципы
своей науки»2. Хотя тут же он уточнял: «Человечество до такой
степени одинаково во все эпохи и во всех странах, что история
не дает нам в этом отношении ничего нового и необычного»3.
Казалось бы, тут у него речь должна пойти о причинах тех или
иных исторических деяний, но Юм отрицал
непосредственную наблюдаемость «чужих аффектов», что должно было
заставить его усомниться в возможности применения принципа
причинности к историческому повествованию. Как замечает
М. А. Абрамов: «Выход из создавшегося безвыходного
положения Юм находит в переориентировании направления
исторических исследований. Это уже будет не последовательный
нарратив о событиях прошлого и их участниках в Англии, Ирландии
и Шотландии, а история государственных институтов и
конституции Великобритании»4.
1 Павленков Ф. Ф. Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт. СПб.,
1998. [Электронный ресурс]: http://sbiblio.com/biblio/archive/jumgegel/00.
aspx
2 Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.,
1996. С. 71.
3 Там же.
4 Абрамов М. А. Шотландская философия века Просвещения. М., 2000.
С. 328.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 53
В «Истории Англии» Юм постоянно обращается к
«Конституциональной истории» Г. Хэллама1, который (как и Юм)
совмещал мастерство ученого-историка и писателя даже при
описании политических институтов. Исследование
Хэллама фактически становится историографической опорой для
юмовского изложения. При таком повороте история
приобретает вид нарратива, обоснованного некоторыми целевыми
установками. Юм, таким образом, в своей исторической
работе делает новый методологический шаг: его скептицизм
относительно возможности извлечь хоть какое-то причинное
объяснение из «феноменалистического описания» исторических
событий становится основанием для принципиально иного
понимания исследовательской задачи историка. От
житейскипсихологических смыслов человеческих деяний он обращается
к поиску смысла событий, происходивших в истории Англии,
отыскивая эти смыслы в становлении ее социальных структур,
ее социальных институций. И, может быть, именно поэтому
его позиция часто воспринималась как субъективизм в
изложении исторических событий. Так, Маколей характеризует
Юма-историка как «образцового адвоката», искусно
выдвигающего вперед благоприятные для защиты своего тезиса
обстоятельства и сглаживающего неблагоприятные факты2. В
дальнейшем исторический труд Юма неоднократно подвергался
критике именно с точки зрения научного исследования: и не
только за субъективизм, но и за недостаточность источниковой
базы (особенно при работе над древнейшей историей Англии).
На это, в частности, указывал и Р. Дж. Коллингвуд. Но именно
Коллингвуд весьма высоко оценил философские размышления
Юма о природе исторического знания, когда писал свою «Идею
истории».
1 См., напр.: Hume D. The History of England. Vol. I-VI. N. Y., 1859. P. 272,
450, 539, 560, 588, 605. [Электронный ресурс]: http://www.archive.org/stream/
studentshumehist01hume#page/296/mode/lup. — Хэллам (Hallam) Генри (1777—
1859) - английский историк, автор труда «Конституционная история Англии
от Генриха VII до смерти Георга II» (Constitutional History of England from the
Accession of Henry VII to the Death of George II, 1827), который, несмотря на
то что симпатии автора явно на стороне вигов, является первой серьезной
попыткой целостной правовой интерпретации английских политических
институтов.
2 Macaulay Т. В. History // Macaulay Т. В. Miscellaneous works. Vol. I. N. Y.
1880. P. 188. [Электронный ресурс]: http://www.archive.org/stream/
miscellaneouswoOOtrevgoog#page/n 184/mode/2up
54 Раздел I
§ 4. Скептицизм как метод исторического исследования
Как уже подчеркивалось, Шпет задолго до Коллингвуда
занимался философским исследованием исторического
самосознания эпохи Просвещения. В «Истории как проблеме
логики» он, между прочим, приходит к аналогичному с Юмом
пониманию задач истории как науки и притом именно в ходе
критического анализа «феноменализма» и «психологизма».
Надо полагать, Шпету было важнее критически оценить то, что
мешало Юму продвинуться в направлении, в котором двигался
тогда сам Шпет — в сторону знаково-символического
понимания исторического процесса, — чем акцентировать
неотрефлексированные самим Юмом методологические сдвиги в этом
же направлении. В 1911 году он пишет: «Но тогда скептик ли
Юм вообще? <...> Юм сомневался в познаваемости
реального мира, а разрешал свое сомнение утверждением некоторого
знания об этом мире. Можно ли Юма назвать скептиком
только потому, что он отрицает познаваемость мира
действительных вещей, ограничивая наше познание миром
феноменальным? Не правильнее ли, действительно, назвать такое учение
агностицизмом или даже догматическим негативизмом?»1. Тем
не менее Шпет в конечном счете не может не констатировать
этих сдвигов.
Шпет, естественно, прежде всего критикует эмпиризм Юма:
«Общие положения, которые могла бы установить такого рода
история <Юмовская>, по своей логической структуре и
отдаленно не напоминают теоретических "положений" науки, так
как суть только правила практического применения или,
точнее, "уроки житейского опыта". Как мы указывали, здесь самое
название "причины" неточно, речь идет не о причинах, а о
мотивах, исходящих прежде всего от эмоционального характера
человека и подлежащих моральной оценке, а не включению в
систему действующих причин. Юм сам так понимает "мотив",
когда говорит: "Очевидно, что когда мы хвалим какие-нибудь
действия, мы смотрим только на мотивы, которые вызвали их,
и рассматриваем действия, как знаки или указания на
известные начала в душе и душевном состоянии. Внешнее
выполнение не имеет цены. Мы должны заглянуть внутрь, чтобы найти
1 Шпет Г. Г. Скептицизм и догматизм Юма // Вопросы философии и
психологии. 1911. С. 16-17.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 55
моральное качество"1»2. Юм здесь представлен еще, так сказать,
психологистически. Но трактовка «внешнего» как знака
фактически уже выводит Юма к новой онтологии.
Этот ход Шпет сам для себя, т. е. безотносительно к Юму,
представляет следующим образом. «Названная очевидная
разница между психологическим и историческим изучением, хотя
бы они были направлены на один и тот же факт,
совершенно внешне состоит в том, что один раз мы изучаем человека в
"единственном" числе, другой раз во "множественном", но как
мы знаем, это чисто внешнее различие коренится в том
различии, какое существует вообще между индивидом как
психофизическим организмом и организацией»3. И, методологически
обобщая это движение мысли, идущее фактически не без
апелляции к скептицизму, Шпет пишет: «Так как психическая
причинность составляет единственный случай, где причинность
дается нам непосредственно, то обо всех остальных видах
причинности можно сказать, что они доступны нашему познанию
только постольку, поскольку они проявляются вовне. Это
соображение имеет особое значение в области социальных явлений,
так как "внешняя" данность других эмпирических предметов
констатируется нами прежде всего как некоторый
чувственный комплекс, тогда как для социальных явлений чувственные
данные — только "знак". Таким образом, "объективная"
данность чувственных предметов не возбуждает, вообще говоря,
сомнений, напротив, "семиотический" характер социального,
по-видимому, и побуждает многих сводить социальное к
психическому, "субъективному". Во всяком случае и для
психологистов ясно, что познание социального возможно только тогда
и постольку, когда и поскольку оно "объективируется". Эту
характеристику социального мы принимаем, поскольку речь идет
об его действенном проявлении, поскольку подразумевается,
что в данном социальном явлении обнаруживается некоторое
действие, т. е. подразумевается причина самого явления.
Объективирование для социального, следовательно, есть как бы
закрепление его вовне, и только таким способом оно доступно
нашему познанию. Но можно сказать больше: если нечто, что
вызывает социальное явление, не "обнаружилось", не
объек1 Hume D. Treatise... В. III. P. II. Sect. I.
2 Шпет Г. Г. История как проблема логики: В 2 ч. Ч. 1. М., 2002. С. 123.
Там же. С. 1120.
56 Раздел I
тивировалось, то о социальном явлении вообще нет и речи, так
как самого социального явления нет»1. Шпет, фактически,
подводит философское обоснование под необходимость
скептического метода для исторических исследований как исследований
научных или, иначе говоря, рефлексирует, так сказать, за Юма.
Ведь сам Юм в своей «Истории Англии», к сожалению, этого не
делает, что, по всей вероятности, и послужило поводом к
различению в историографии «Юма-историка» от «Юма-философа».
Таким образом, сам смысл скептицизма и эмпиризма Юма
меняется при применении его в качестве метода
исторического исследования. Он становится инструментом, позволяющим
прорваться к знаково-символической природе человеческой
истории. Скептицизм по отношению к опыту (эмпирии) и
позволяет Юму продвинуться, т. е. здесь скептицизм Юма
выводит его за рамки поиска в истории простых причинных
цепочек в эмпирических данных. Рассмотренный в более широком
контексте, скептицизм Юма оказывается на самом деле куда
более плодотворной позицией, чем это зачастую
представляется. Впрочем, здесь меняется и само понимание скептицизма —
он приобретает иные оттенки, становясь эпистемологическим
средством расширения онтологических горизонтов,
прокладывающим путь к осмысленным цепочкам событий, образующим
собственно историю. И в той мере, в какой скептицизм Юма
перерождается в историческую критику источника и
историографии, мы получаем методологические основания
классической исторической науки.
Между прочим, на инструментальное использование
скептицизма Юмом обращает внимание и Р. Дж. Коллингвуд. «Я не
хотел бы заходить слишком далеко и утверждать, — писал он в
"Идее истории", — что вся его <Юма> философия была
аргументированной защитой исторической мысли, но эта защита,
вне всякого сомнения, была одной из задач, которую, хотя и в
неявной форме, попыталась решить его философия. Мне
кажется, что когда он завершил свои труды в области философии
и задал себе вопрос, чего он достиг в ней, он с полным правом
мог ответить на него, сказав, что, во всяком случае, одним из
завоеваний его философии было доказательство законности
и обоснованности истории как типа знания, фактически даже
большей обоснованности, чем большинство других форм
знания, так как она не обещает дать большего, чем может, и не
заШпет Г. Г. История как проблема логики: В 2 ч. Ч. 1. С. 1120-1121.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 57
висит ни от каких сомнительных метафизических гипотез. От
того общего скептицизма, к которому он пришел, более всего
пострадали те науки, притязания которых были наиболее
догматическими и абсолютными. Ураган его философской
критики, низведший всякое знание до положения не
противоречащего природе человека и аргументированного верования,
пощадил историю, как тот единственный тип знания, который
мог смириться с этим положением»1.
Но что, собственно, подвигло Юма в этом направлении? Для
«современного человека», т. е. человека, живущего «по
европейской культуре», знание о прошлом имеет специфическую
знаково-символическую природу и является существенным
элементом его культурного, т. е. знаково-символического
самосознания. Оно имеет специфический статус как знание,
именно как знание — т. е. как аргументированное и претендующее
на истинность и общезначимость, независимое от
нежелания представление о прошлом. Именно в этом качестве
оно и выполняет роль консолидирующего общество сознания.
Оно действует через рацио и реализуется в социальных
проектах как опыт социальной деятельности, как «учитель» общества.
Вместе с тем не менее очевидно, что прошлое в сознании
человека представлено и, так сказать, функционирует отнюдь не
только в форме знания. Современный европеец усваивает
прошлое и не по-европейски: в виде мифов, и в виде
мифологизированных историй внутри различного рода художественных и
бытовых традиций повествования и пр. и пр. Эту
составляющую культурного сознания, несущую в себе сведения (не
знания!) о прошлом человеческого общежития, можно обнаружить
в любой культуре, а не только европейской. Опыт прошлого
нужен любым типам человеческих общностей, ибо, помимо всего
прочего, выполняет функцию их консолидации и
самоидентификации. Такого рода сведения о прошлом можно считать
универсальной составляющей культурного сознания —
европейского ли, или какого другого. И вообще говоря, для стабильных,
тысячелетиями не меняющихся обществ он достаточен. Знание
же о прошлом, а тем более научное знание о прошлом как
форма сохранения и трансляции культурного опыта — изобретение
европейское и сравнительно недавнее. Его истоки — в эпохе
Просвещения, к которой принадлежат и исторические
исследования Д. Юма.
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 74.
58 Раздел I
Настоятельная потребность в историческом осмыслении
действительности, т. е. необходимость в истории как
исследовании прошлого, как науке, ставящей себе целью получить
истинное представление о прошлом человечества, получить ответ
на вопрос, какой смысл имело, а стало быть, и как возможно
было то или иное историческое событие, и с этой целью,
изучающей самые разные свидетельства (источники) об этом
событии, а тем более пытающейся найти его подлинный смысл,
обострилась в европейской культуре во времена Юма. И ради
этого он реабилитирует Стюартов, вопреки мнению всех
слоев английского общества того времени. Для него скептицизм
здесь не есть граница и принцип, но начало исторического
исследования как исследования научного, ибо он предполагает
объективность знания, противостоящего частичным интересам
и смыслам.
Ценность исторического знания для Юма
оказывается выше его общегносеологической скептической позиции и
фактически модифицирует ее. Можно и к этой модификации
предъявить критические претензии. Но она богаче. И главное,
демонстрирует сегодняшней философии науки, что
эпистемологические схемы есть лишь средство движения к знанию. При
условии, которое фиксирует культурно-историческая
эпистемология — достоинство знания, — скептицизм Юма
функционален, инструментален и отнюдь не сводится к
гносеологической нормативной схеме, самодостаточной и безусловной. Это
и выявил в свое время Г. Г. Шпет, и этим путем идет
современная культурно-историческая эпистемология.
Глава 2
Дмитрий Петрушевский: Густав Шпет
и логический стиль исторической науки
§ 1. Д. Петрушевский о «логическом стиле»
исторической науки
Философские идеи Г. Г. Шпета, высказанные в
«Истории как проблеме логики», нашли противоречивые
отклики в русском философском и гуманитарном
сообществе. В «Вестнике Европы» появилась рецензия
Т. И. Райнова, который весьма скептически отнесся
прежде всего к способу изложения Шпета, видя в книге
некоторое собрание конспектов, анализ концепций
западноевропейских мыслителей. «В его <Шпета> книге, — писал Райнов, —
нет ни систематического, ни исторического исследования
вопроса, а только "материалы", необходимые для этого»1. Он
не увидел внутренней целостности шпетовского философского
замысла. Однако были и другие исследователи, которые иначе
отнеслись к шпетовским идеям. Среди них — историк,
профессор Московского университета Д. М. Петрушевский, который
содержательно оценил шпетовские исследования (как
историкпрофессионал).
Дмитрий Моисеевич Петрушевский (1863—1942) —
крупнейший медиевист, специалист по средневековой Англии,
занимавший кафедры в Варшаве, Петербурге, Москве, где он был
директором РАНИОН2. Но в дальнейшем, даже будучи
академиком, он был отстранен от педагогической деятельности. Уже
в 1970-е гг. А. Я. Гуревич, сам испытавший немало в советское
время, писал, что Петрушевский — выдающийся русский
историк — «в последних своих работах в конце 1920-х гг. с редким
1 Райнов Т. И. Густав Шпет. История как проблема логики. Критические и
методологические исследования. Часть I. Материалы. Москва, 1916 //
Вестник Европы. 1917. № 1. Январь. С. 418.
2 РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов
общественных наук.
60 Раздел I
мужеством, если вспомнить идеологическую обстановку того
времени, высказывал новые для нашей историографии
взгляды, опираясь на идеи Риккерта, Макса Вебера и всего
неокантианского течения, которое в XX в. явилось наиболее
продуктивным для теории и практики исторической науки»1.
В 1915 году Дмитрий Петрушевский написал небольшую
брошюру «К вопросу о логическом стиле исторической науки»,
которая во многом мотивировала «разговор» Шпета и
Петрушевского. Его идеи и сегодня не потеряли своей актуальности
для методологии гуманитарного знания. В первых строках
брошюры Петрушевский формулирует основную задачу науки как
особой деятельности человека: «преодолеть бесконечное
разнообразие бытия путем переработки его в понятия»2. Он
фиксирует две точки зрения на «данную конкретную индивидуальную
действительность»3, исходя из которых можно научно
интересоваться ею. Мы можем рассматривать ее либо «как материал
для образования общих понятий, постепенно восходящих до
полного отрешения от всего конкретного и индивидуального,
либо «как индивидуальную конкретную комбинацию,
выделяемую нами из всего комплекса бесконечно разнообразной и
сложной действительности»4.
Исходя из этого деления, делает вывод Петрушевский,
вытекает и различие методологических приемов, с которыми мы
подходим к действительности. Либо мы рассматриваем
«каждый отдельный объект как типический экземпляр в
бесконечном ряде ему подобных лишь с той его стороны, какой он похож
на остальные объекты»5, что дает нам право образовать «общие
понятия», обладающие всеобщей приложимостью и имеющие
характер законов, либо мы «стремимся понять данную частную,
конкретную и индивидуальную действительность в ее
конкретности и индивидуальности, стремимся образовать понятие, не
претендующее на сколько-нибудь широкую приложимость к
действительности, не выходящее в своей приложимости за
пределы данной индивидуальной комбинации действительности»6.
Отсюда, как пишет далее Петрушевский, вытекает и
возмож1 Гуревич А. Я. История историка. М, 2004. С. 43.
2 Петрушевский Д. М. К вопросу о логическом стиле исторической науки.
СПб., 1915. С. 1.
3 Там же.
4 Там же. С. 1-2.
5 Там же. С. 2.
6 Там же. С. 2.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 61
ность рассматривать науку либо как генерализирующую, либо
как индивидуализирующую. Это очень важный для нас тезис,
поскольку Петрушевский не предлагает делить все науки на
генерализирующие и индивидуализирующие (что мы сегодня
очень часто наблюдаем).
Петрушевский видит тесную связь между этими
методологическими типами науки: «Наука об общем и наука об
индивидуальном отправляются от изучения одного и того же
конкретного материала и приступают к его изучению, вооруженные
одними и теми же общими понятиями. Но в том время как
наука об общем ищет в конкретном общего, проверяет на изучении
конкретного свои общие понятия, видя в этом изучении лишь
средство для достижения своей цели — образования общих
понятий, наука об индивидуальном в изучении конкретного в его
конкретности и индивидуальности и видит свою главную
задачу, и те общие понятия, с которыми она приступает к этому
изучению, служат для нее лишь средством, без которого она не
может достигнуть своей цели — разобраться в данной
конкретной комбинации, понять ее в ее конкретной индивидуальности,
перевести ее на язык общих понятий с индивидуальным,
конкретным содержанием»1. Более того, он даже говорит о том, что
«наука об общем и наука об индивидуальном, это — две стороны
одной и той же науки, два ее аспекта, два подхода ее к
конкретной действительности»2.
Петрушевский не идет за Риккертом, он только принимает
его способ выделения двух методов изучения действительности,
но как только речь заходит о том, чтобы разделить и
существующие науки, исходя из такого методологического различения,
тут Петрушевский и высказывает свои сомнения.
Петрушевский спорит с Риккертом прежде всего по самому
существенному вопросу предложенной последним классификации наук.
Мы знаем, что Риккерт именно делит существующие науки,
и делит их по методу. Он пытается обосновать тезис о том, что
весь класс наук индивидуализирующих берет в качестве
основного исторический метод, который только описывает
действительность. С этим решительно не согласен Петрушевский.
В качестве аргумента он выдвигает положение, которое и
сегодня не потеряло своей значимости для ученых гуманитариев,
и для философов-методологов. «Если бы процесс культурного
1 Там же. С. 4.
2 Там же.
62 Раздел I
развития человечества, — рассуждает он, — представлял собою
то, чем его изображала старая философия истории, стоявшая
на всемирно-исторической точке зрения и видевшая в истории
отдельных "исторических народов" отдельные фазисы и
ступени единого и единственного процесса всемирной истории, то
исторической науке оставалась бы только исключительно
индивидуализирующая задача выяснения этого единого и
единственного процесса в его индивидуальности»1. И далее
Петрушевский осторожно замечает: «Но ведь в настоящее время мы
очень далеки от всемирно-исторической концепции
старинной философии истории, и для нас представляется более
приемлемой иная концепция, представляющая культурное
развитие человечества в виде ряда соприкасающихся нередко друг с
другом, но по существу автономных процессов, в особенности,
когда мы сосредоточим наше внимание на эволюции
хозяйственных, социальных и политических форм и отношений»2.
Заметим, что Петрушевский ставит также и проблему
истории разнообразных «рецепций», которая встает именно
постольку, поскольку мы рассматриваем исторический процесс
не как всемирный и потому не как линейный. Историческое
исследование «рецепций» «является более сложной проблемой,
чем оно казалось прежде, и притом проблемой внутренней,
автономной и индивидуальной истории реципирующего
общества, прибегающего для разрешения собственных, так сказать
местных внутренних задач, к средствам и формам,
выработанным внутренним процессом развития, совершавшимся в
другом обществе, раньше доразвившемся до этих средств и форм»3.
«Каков же логический стиль исторической науки?» —
ставит вопрос Петрушевский. Можно ли говорить о том, что
история — наука только генерализирующая, либо только
индивидуализирующая? Прежде чем ответить на второй вопрос,
обратим внимание на постановку первого. Петрушевский
выбирает особый термин, с которым подходит к проблеме
исторического исследования: «логический стиль». Что же
подразумевает Петрушевский под «логическим стилем» науки? Именно
подразумевает, ибо однозначного определения этого понятия
он не дает. Исходя из изложения, видно, что под «логическим
1 Петрушевский Д. М. К вопросу о логическом стиле исторической науки.
С. 10.
2 Там же.
3 Там же.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 63
стилем» науки Петрушевский понимает те методологические
и онтологические принципы, с которыми наука подходит к
изучению действительности (не объекта!), или, говоря иначе,
«логический стиль» науки включает в себя философские
представления ученого о том, что и как он изучает. Кроме того, для
Петрушевского важно, что ученый, приступая к исследованию,
должен отдавать себе отчет о своих «общих понятиях», в
которых он будет регистрировать ход исследования и выражать его
результаты. Именно такая постановка проблемы о
соотношении предмета и метода применительно к исторической науке и
привлекла внимание Шпета.
Петрушевский, как и Шпет, не может согласиться с
Риккертом в том, что история дает общий метод для всех наук о
культуре и этот метод индивидуализирующий, описательный,
исторический. Он рассматривает науку как целостный и
конкретный феномен, в структуре которого есть место и для
генерализирующего и для индивидуализирующего методов. «Как
и всякая другая наука, — полагает он, — и наука историческая
по необходимости должна быть и наукой об индивидуальном, и
наукой об общем»1.
Идеи, высказанные Петрушевским, стали своего рода
ориентиром в постановке методологических проблем
исторической науки для Шпета. Он отметил факт развития
методологической рефлексии в сфере русского исторического и
философского сообщества в своей книге «История как
проблема логики»2 и далее, он ссылается на суждение
Петрушевского о состоянии русской истории: «И как поощряюще должны
быть приняты нижеследующие слова одного из лучших
представителей нашей исторической науки: "Прибавим к этому,
что начавшаяся в самое последнее время энергичная работа
философско-критического пересмотра основных исторических
(социологических) понятий, в значительной мере вызванная
недавними и еще до сих пор не замолкнувшими спорами
материалистов и идеологов и обещающая очень ценные
результаты для общественной философии и науки, да уже и теперь
оказывающая свое освежающее и оздоровляющее влияние на
научную атмосферу, успела уже поколебать не мало
общепризнанных воззрений и давно утвердившихся в исторической
науке рубрик, схем и классификаций, показав всю их, в лучшем
1 Там же. С. 13-14.
2 См.: Введение к разделу I наст. изд.
64 Раздел I
случае, поверхностность и наивную (в философском
смысле) субъективность, и поставила ряд вопросов там, где до сих
пор царила догматическая уверенность и определенность"
(Д. М. Петрушевский)»1. В ответ Петрушевский послал Шпету
свою брошюру о логическом стиле исторической науки и
письмо. «Мне было крайне интересно, - писал он, — Ваше
впечатление от брошюры, задевающей очень близкую Вам область, я
хотел хоть в такой скромной форме выразить Вам мою
сердечную признательность за Ваше, так выручившее меня,
внимание ко мне, данное в тексте Вашей книги. Не оставляю
надежды, что для Вас не подлежит сомнению искренность моих слов.
Брошюру посылаю»2.
§ 2. «Непродуктивное непонимание»: критика идей
Петрушевского в «Историке-марксисте» 1928 года
Общение между Петрушевским и Шпетом продолжилось и
после политических событий 1917 года, когда в
университетских кругах стал устанавливаться в качестве господствующего
«марксистский» (идеологический) подход к истории, который
сводился к признанию непосредственного влияния внешней
среды на историческое развитие. Поэтому и Шлет и
Петрушевский, отстаивающие, по мнению марксистских идеологов,
«индивидуалистскую позицию» в методологическом направлении
исторического исследования, постепенно оказывались в кругу
«недоброжелателей».
Накал страстей пришелся на 1928 год, когда Петрушевский
выпустил свою книгу «Очерки из экономической истории
средневековой Европы» (1928). M. H. Покровский встретил эту
книгу резкой критикой: «...в последнем произведении проф.
Петрушевского («Очерки из экономической истории
средневековой Европы») отчетливо проводится линия, которую нельзя
назвать иначе, как антинаучной»3. Далее Покровский
критикует методологическую концепцию Петрушевского. И сегодня
нам несложно увидеть, что в основании этой критики лежат не
1 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы: В 2 ч. Ч. 1. М, 2002. С. 39-40.
2 Письмо Д. М. Петрушевского Г. Г. Шпету от 25 декабря 1916 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред.-сост. Т. Г.
Щедрина. М., 2005. С. 448.
3 Покровский M. H. «Новые» течения в русской исторической литературе //
Историк-марксист. 1928. Т. 7. С. 5.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 65
серьезные эпистемологические доводы, а политическая
конъюнктура 1928 года. Только у Покровского она присутствует в
завуалированной форме, а вот у участников диспута, материалы
которого продолжают в следующем томе журнала «критику»,
начатую Покровским, — вполне откровенно.
Петрушевский описал этот диспут1 в письме к Шпету: «Вы
может быть, слышали, как Коммунистическая, с позволения
сказать, Академия целых две пятницы (ведь суббота —
праздничный день) потратила на разоблачение ересей, содержащихся
в моей книге, и через самого своего президента объявила войну
мне, моей книге и моей школе (слово "школа" употреблено
было им)»2. Здесь Петрушевский имеет в виду M. H.
Покровского, от которого и пошли все формулировки, фигурирующие
в выступлениях «марксистов» на диспуте о книге Д. М.
Петрушевского.
«Военные действия, — продолжает Петрушевский, —
начались еще до этого торжественного объявления, статьей некоего
Фридлянда в журнале «Под знаменем марксизма»3. Ц.
Фридлянд писал: «Марксизм должен быть воинствующим учением,
а не любвеобильным меценатством», книга Петрушевского —
«манифест антимарксистской школы в СССР. <...> Общий
вывод: проф. Д. М. Петрушевский, блестящий знаток
английского средневековья, пытался выступить в СССР с
антимарксистским манифестом. Он дал нам блестящие доказательства
тому, что подобная попытка грозит научной квалификации
автора. Проф. Петрушевский сделал два шага назад; историческое
значение его книги в том, что она вызовет, будем надеяться, у
нас, марксистов, решительный отпор. Пора нам вспомнить,
что в истории, как в философии и политэкономии мы должны
оставить академическое благодушие: на нашем знамени
написано "воинствующий материализм"»4.
Статьи этой Петрушевский не читал. Вероятно, он слышал о
поведении и оценках Ц. Фридлянда от своего ученика А. И.
Не1 События, о которых идет речь, освещены в журнале «Историк-марксист»
(1928. Т. 8).
2 Письмо Д. М. Петрушевского Г. Г. Шпету от 14 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 459.
3 Там же. Петрушевский имеет в виду статью Ц. Фридлянда. См.:
Фридлянд Ц. Два шага назад (О книге Д. М. Петрушевского «Очерки из
экономической истории средневековой Европы») // Под знаменем марксизма. 1928.
№ 2. С. 147-161.
4 Под знаменем марксизма. 1928. № 2. С. 147, 161.
66 Раздел I
усыхина, который присутствовал на диспуте и был одним из
тех, кто выступил в защиту своего учителя. «Д. М.
Петрушевский написал специальную работу по средневековой истории,
не думая этим бороться ни с марксизмом, ни решительно с чем
бы то ни было, кроме тех взглядов на средневекову историю,
которые ему представлялись неправильными. Допустим, что
в его введении имеются ошибки; но ведь не всякий историк
является специалистом-философом. <...> Чему же учит нас
книга Д. М. Петрушевского? Она зовет нас (как это уже
отметил А. Д. Удальцов) к критическому исследованию фактов, к
скептическому отношению ко всяким шаблонам, и в этом ее
ценность...»1 От Неусыхина Петрушевский мог слышать и о
«других соплеменниках Кушнере и Аптекаре, оказавшихся
особенно глубокими знатоками феодализма, в непонимании
которого они меня уличили»2.
Приведем рассуждения Кушнера и Аптекаря, чтобы
представлять себе уровень ведения полемики.
П. И. Кушнер писал: «Несколько слов относительно общей
оценки взглядов проф. Петрушевского, поскольку они
отразились в разбираемой нами книге. Я думаю, что та теория,
которую защищает проф. Петрушевский, реакционна со всех точек
зрения и, в особенности со стороны научной. <...> Такая
идеализация средневековья, по-моему, вещь реакционная. Перед
нами выступает феодальная эпоха в совершенно новых чертах:
спокойное житье, культурная роль крупного землевладения (не
хозяйства даже, а землевладения, потому что хозяйство велось
трудом крестьян, при помощи крестьянского инвентаря, или
раздавалось в аренду по мелким клочкам...), и, наконец,
внеклассовая роль государства, защищавшего всех граждан, без
различия их социального положения... Нет, картина, которую
рисует проф. Петрушевский, не может правильно, правдиво
осветить феодальные отношения. Здесь эпоха искажена в угоду
безусловно реакционным теориям»3.
1 Диспут о книге Д. М. Петрушевского (О некоторых предрассудках и
суевериях в исторической науке). Стенограмма заседания социологической секции
общества историков-марксистов от 30 марта и 6 апреля 1928 г.) //
Историкмарксист. 1928. Т. 8. С. 104.
2 Письмо Д. М. Петрушевского Г. Г. Шпету от 14 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 459.
3 Диспут о книге Д. М. Петрушевского (О некоторых предрассудках и
суевериях в исторической науке). Стенограмма заседания социологической секции
общества историков-марксистов от 30 марта и 6 апреля 1928 г.) //
Историкмарксист. 1928. Т. 8. С. 112, 115.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 67
В. Д. Аптекарь оппонировал защитникам Петрушевского:
«...если взять книгу проф. Петрушевского, то ни в коем случае
нельзя согласиться с той оценкой, которая дана проф.
Косминским, видящим в этой работе последнее слово науки. Эта
книга не является последним словом ни западной, ни нашей
советской науки. Нельзя подходить к европейскому
средневековью изолированно, не рассматривая его в связи с другими
видами феодализма, в частности восточного феодализма. <...>
Последний вопрос по порядку, но первый по значению — это
вопрос о методе. Метод для т. Неусыхина никакого значения
не имеет. Этим и объясняется недоумение т. Неусыхина:
почему, когда при анализе книги Петрушевского доходят до
риккертианства, марксисты дальше этих раскопок не ведут. Мне
кажется, что нелепо возвращаться к старым уже решенным
вопросам. Риккертианство достаточно известное
общественное явление, и все что связано с риккертианством, имеет
достаточно ясное и определенное общественное же значение.
Непонимание марксистского метода в особенности наглядно
проявилось у т. Косминского в его формулировке, что труд
проф. Петрушевского — это книга и марксистская и
немарксистская, но которая по существу работы может быть
признана марксистской. Эта его формулировка, переведенная на
более простой и понятный язык, сводится к тому, что книга
Петрушевского — это ни рыба, ни мясо, и нечто съедобное.
Естественно возникает вопрос: для кого съедобное?»1 Ко
всему этому добавилась вышеупомянутая статья «отца русской
исторической науки», так Петрушевский называет в письме
М. Покровского2.
«Вы представляете себе, — обращается в том же письме к
Шпету Петрушевский, — чем для меня на этом
беспросветно унылом фоне духовного запустения и одичания были Ваши
глубокие строки и заключенные в них ростки богатого
развития нашей науки и культуры»3. Речь идет о большом
письмеразмышлении Шпета, которому мы и посвятим наше
дальнейшее изложение.
1 Там же. С. 116, 117.
2 См.: Покровский M. H. «Новые» течения в русской исторической
литературе // Историк-марксист. 1928. Т. 7. С. 3—17.
3 Письмо Д. М. Петрушевского Г. Г. Шпету от 14 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 459.
68 Раздел I
§ 3. Эпистолярный «разговор»
на исторические темы
«Письмо»1 Шпета вводит в самый центр проблем
методологии истории и социально-гуманитарного знания, широко
обсуждавшихся русскими историками и философами в конце
XIX — начале XX века, до установления господства
марксизма в этих сферах знания. Петрушевский был достойным
собеседником. Он счастлив общаться со Шпетом и благодарит его
за «интереснейшие соображения, за букет глубоких и тонких
мыслей»2, желает ему «заложить непререкаемые основы
логики исторического, так необходимой всем нам»3. «Истинную
радость» от письма Шпета он получил и «по контрасту с тем
площадным бормотанием, которое вот столько лет угнетает
нашу барабанную перепонку и не преминуло сделать центром
внимания и <...> "Очерки"4, усматривая в них бомбу,
начиненную антимарксистскими удушливыми газами, и не подозревая
того, что автор во время писания "Очерков" совершенно забыл
о существовании марксизма»5. Когда Шпет пишет
историкупрофессионалу Петрушевскому, что стремится
«воспользоваться <его> методологически образцовой работою»6, — это
дорогого стоит: за плечами у философа уже опубликованная «История
как проблема логики. Часть I», рукописные материалы ко
второй части (в том числе история герменевтики с богатейшими
идеями и результатами), но ему интересна работа и
методологические размышления историка. Перед нами идеальный и чуть
ли не единственный случай намечавшегося диалога и
сотрудничества философа и историка, который будет грубо и трагически
разрушен в последующие годы.
1 См.: Письмо Г. Г. Шпета к Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред.-сост.
Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 449—458. Далее в тексте: «Письмо».
2 Письмо Д. М. Петрушевского Г. Г. Шпету от 14 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 459.
3 Там же.
4 Имеется в виду книга Д. М. Петрушевского «Очерки из экономической
истории средневековой Европы».
5 Письмо Д. М. Петрушевского Г. Г. Шпету от 14 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 459.
6 Письмо Г. Г. Шпета к Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред.-сост.
Т. Г. Щедрина. М, 2005. С. 450.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 69
Главная идея «Письма» — специфика исторической науки, ее
методологии и философии, особенности соотношения общей
логики и логики исторического знания.
И сегодня мы можем опираться на одно из определений,
данных Шпетом: «Методология не есть дело удобства или
приятности, она диктуется особенностями, внутренне
присущими предмету как такому, и потому она не есть дело опыта или
навыка соответствующего представителя науки, а есть в себе
законченная система, которая в силу этого сама становится
наукой sui generis. Это не список правил, а внутренно
связанный органон, служащий не лицам, а научному предмету в его
изначальных и принципиальных основаниях. И в таком виде
методология есть одна из философских основных наук. В
противоположность методам исследования, она говорит о методах
изложения или изображения»1. При этом «правила как нормы
предписываются не "субъектом", а самим предметом. Именно
из его анализа раскрывается правило его поведения. Поэтому
и логика, если и выставляет какое-либо правило, то только как
закон самого предмета»2.
Темы, которые излагает Шпет в «Письме»: логические и
методологические особенности объяснения, сходство и
различие типов объяснений; важный и новый, специфический
для исторической науки подход к пониманию
соотношения общего и единичного, не совпадающий с традиционным
формально-логическим; корректное и специфическое
понимание индивидуального в истории, фактичность, объективность
исторического знания, различия между историком,
филологом, естественником. Философский интерес представляют
отношение Шпета к неокантианской методологии истории, его
спор с Риккертом и Вебером, обсуждение взглядов Риккерта
и проблема ценностей. «Письмо» посвящено вопросу,
который актуален и сегодня, восемьдесят лет спустя, — специфике
социально-гуманитарных наук, включая историю, их отличию
от естествознания.
Шпет обращает внимание на корректность использования
понятий «единичное», «общее», «частное», «индивидуальное»,
поскольку часто ученые не придают этому особого значения,
но, как выясняется, с этим связано само понимание природы
1 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С. 73.
2 Там же. С. 83.
70 Раздел I
исторического, социального знания в отличие от
естествознания. Кроме того, возникает необходимость уточнения не только
применения, но и значения самого круга и варьирования этих
понятий. Проблема тем более актуальна, что она тесно
связана с методологическими идеями неокантианства и М. Вебера,
широко обсуждаемыми среди историков в конце XIX —
начале XX века, в том числе и Петрушевским, и, как представляется,
не потерявшими значения и сегодня. Потому Шпет и
включает рассмотрение проблемы в контекст дискуссии с Риккертом,
что немецкий философ «противопоставляет общему единичное
и генерализирующему методу индивидуализирующий»1. Как
следует из «Письма», «"общий" и "общее" имеют много
значений. Среди них есть одно, мимо которого Риккерт не должен
был бы пройти. Условно — и, может быть, не очень удачно — я
здесь говорю по-русски об "общном", или, столь же условно,
по-латыни: communis в отличие от generalis. He входя в анализ
этого понятия, укажу только примеры: общее ("общное")
происхождение, общее ("общное") владение, общая родина,
общее подданство, общий вход и т. д. Не трудно видеть, что такое
"общное" по самому существу своему, как предмет, есть
именно индивидуальное, и притом такое, с каким история имеет дело
на каждом шагу»2. Итак, отмечается многозначность понятия
«общее», принципиальное различие, хорошо фиксируемое в
латыни, но не в словах русского языка, а также видение
определенных форм «общного» как индивидуального — своеобразная
диалектика. Это существенное добавление к традиционному
пониманию общего.
Шпет показывает также, что традиционное в логике
противопоставление «общего» и «единичного» неточное и
недостаточное прежде всего потому, что «одно и то же
понятие считается то родовым, то видовым, в зависимости от его
соотнесенности»3. «Точное противопоставление знает только
пару: общее — частное, т. е., в сущности, оно есть указание
некоторой степени: более или менее общее, а "единичному"
противостоит "множественное" и "повторяющееся". Единичное как
индивидуальное в этот ряд не должно входить, и истолкование
его в смысле последней ступени ряда как minimum общности
1 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 453.
2 Там же. С. 455.
3 Там же. С. 454.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 71
(по объему) и maximum признаков — своего рода "абсолютное"
единичное — произвольно. Сама традиционная логика,
например, в учении о предложениях находит возможным единичное
предложение (типа: Сократ — человек) принимать как общее»1.
Существенна и другая мысль Шпета — не только для спора с
неокантианской методологией, но и для логики вообще, — о
том, что «индивидуальное нужно вовсе вывести из
упомянутого ряда и анализировать как самостоятельный предмет, а не
только как продукт индивидуализирующего метода, в связи с
этим — удостовериться, что и другой край ряда — не maximum
объемной общности и minimum содержания, — как бы
абсолютное общее, — а также выпадающая из ряда, взятая из другого
плана, категория. <...> Просто мы выходим здесь в иной
логический план»2. Шпет считает бесспорной заслугой
неокантианцев то, что они «вернулись к признанию индивидуального
характера за историческим предметом, и что <...> старались показать
логическую специфичность исторических наук»3. Однако Шпет
считает, что «они не преодолели до конца натурализм»4, и
причина тому — опора на «кантианство, знающее только теорию
познания "математического естествознания"»5, соответственно
«индивидуальное для них, прежде всего, единичное, т. е.
логически — противоположное множественному и
повторяющемуся, а познавательно — предмет непосредственного восприятия
или как бы восприятия»6.
Эти тонкие критические наблюдения философа значимы не
только для уточнения понятий, но и для понимания
индивидуального характера исторического предмета. «Исторический
предмет в непосредственном восприятии и в созерцании
никогда не дается. Это — предмет, принципиально данный
только в свидетельствах (the evidence): документе, памятнике, акте,
показании и т. д.»7 Шпет, таким образом, реализует
методологически очень важное требование, предъявляемое
неокантианцам, — «логика исторического предмета требует прежде всего
точного онтологического анализа этого предмета»8, тогда как
1 Там же.
2 Там же.
3 Там же. С. 450.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же. С. 453.
72 Раздел I
они, противопоставляя общему единичное и
генерализирующему методу индивидуализирующий, единичное понимают
традиционно неточно, как это принимают в естествознании1.
§ 4. Проблема объяснения в истории
Рассмотрим собственно логико-методологические
проблемы объяснения, как они рассматриваются в «Письме»
Шпетом. Почему общеизвестная проблема объяснения существенна
для исторической науки и ей отводится в «Письме»
специальное место как особо значимой? Прежде всего это связано с
необходимостью выяснения статуса исторического знания. При
анализе собственно логических и методологических
особенностей объяснения оно предстает как дедуктивный процесс.
Однако для философа важно напомнить, что следует
различать два плана: изложение, «когда из готовой теории или
гипотезы, сведенных в формулу так называемого закона, делаются
частные выводы»2, и исследование, которое ведет к теории и
закону, но уже с помощью индукции, и потому оно
«принципиально гипотетично»3. Таким образом, Шпет выявляет
такой важный факт для любого познания, как одновременность
присутствия и взаимодействия обоих методов, подчеркивая
необходимый характер знания на этапе изложения-дедукции и
гипотетический на этапе исследования — индуктивного, лишь
вероятного обобщения-теории (гипотезы). Продолжая
обсуждать в «Письме» проблему гипотезы в науке, Шпет отмечает,
что возможность превратить гипотезу в теорию — это скорее
спекулятивный интерес «натуралиста» к методологии и
метафизике, чем желание преодолеть гипотетический и вероятный
характер полученного знания. «Практически естествознание
вполне удовлетворяется теоретической вероятностью»4,
ценность и степень которой в конце концов определяются
практикой, возможностью технического приложения выводов
науки.
1 Как указывает В. П. Золотарев, Н. И. Кареев еще до неокантианцев ввел две
категории наук: номологические (изучающие законы) и феноменологические
(описывающие факты). См.: Кареев Н. И. Основные вопросы философии
истории. Т. 1-2. М., 1883. Т. 1. С. 106.
2 Там же. С. 452.
3 Там же.
4 Там же.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 73
«Принципиально иначе обстоит дело в исторической
науке, — отмечает Шпет. — Ее объяснение также индивидуально,
как и объясняемый факт, и в том же смысле индивидуально.
Это есть переход от некоторой части к конкретному целому,
а не к отвлеченной теории»1. У натуралиста интерес к факту
как проверка теории, у техника — интерес к теории как
проверке факта. И только в исторической науке «восстанавливается
факт как factum, в его полной индивидуальности. Здесь нет
гипотезы в е<стественнонауч>ном смысле термина, нет и
индукции в таком же смысле, т. е. вероятного заключения к общей
причине через наблюдение повторяющихся ее действий <...>
Причина устанавливается так же, как факт данный и
абсолютный <...> {«так было\»), — и это — независимо от того,
отражает историческое изложение аналитический интерпретативный
путь исследователя или оно ведется синтетически, как
изображение во временной последовательности»2. Логически «догадка
о причине» имеет иную природу, «она не становится теорией, а
остается констат<ирован>ием факта»3, оправдание которого не
в практике, а в интерпретации и критике источника,
свидетельства. Если же у историка, по аналогии с естественником,
возникает желание «изобразить историческую причинность в виде
общих положений и формул», то это приводит его к
«установлению сентенций морального, а не научного типа», в то время как
«действительное жизненное значение истории в ее культурно
образовательной ценности»4.
Выяснение специфики объяснения в историческом знании
предполагает, по Шпету, выявление разных типов объяснения,
определяющих характер той или иной науки. В «Письме» он
показывает это различие на причинном объяснении и именно в
том случае, когда учитывается присутствие/отсутствие влияния
фактора времени. В естественных науках время «полностью
обратимо, и всякий процесс в нем также обратим и
"относителен". На этом основаны так называемые предвидения и все
вычисления, для которых безразлично "вперед" и "назад", —
вопрос знака соответствующего математического действия.
Система вселенной разрешается в систему уравнений»5.
1 Там же.
2 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 452—
453.
3 Там же. С. 453.
4 Там же.
5 Там же. С. 451.
74 Раздел I
Здесь вспомним еще одно тонкое наблюдение Шпета:
«Глубокий философский корень риккертовского отрицания лежит
в его кантовском понимании причинности, — оно признает
только ту причинность, которая связывается с
феноменалистическим истолкованием необходимой временной связи: все, что
сверх этого, относится к "свободе", но не как абсолютной
причинности, а как области морали и ценностей»1. Именно особое
понимание причинности — только в ее временной
последовательности, в ее соотношении со свободой, понимаемой как
произвол и неупорядоченность (точка зрения, близкая О.
Конту и его последователям), — привело неокантианцев к
отрицанию объяснения в идеографических науках, в том числе
истории. С другой стороны, безусловно, в истории, как отмечает
Шпет в «Письме», «каждая причина и каждое действие —
таковы только в данных единственных конкретных условиях»2. Ни
при каких условиях время в истории не обратимо, «и поэтому
всякий совершившийся в нем процесс абсолютен»3. «Вперед»
и «назад» во времени «имеют для историка абсолютное
значение, никаких вычислительных уравнений здесь не может быть
<...> Вот почему причинное объяснение в истории должно
обозначать нечто совершенно иное, чем в естествознании. И если
иногда указывают на сходство объяснений в обеих науках, то
<...> имеют в виду случаи, когда натуралист применяет к
своему предмету исторический метод объяснения»4. Это имеет
место не только в науках, где присутствует развитие, эволюция,
как в биологии, палеонтологии, геологии и т. п., но даже в
химии, когда «обратное» разложение веществ оказывается
невозможным, реально необратимым, что, по сути дела, приводит к
«исторической точке зрения»5. Подмеченная Шпетом
особенность — перенос метода из исторической (гуманитарной) науки
в естественную — имеет место и, более того, становится
необходимым при написании истории данной науки. Он особо
отмечает это в «Письме»: «Сами естественные науки приобретают
подлинно образовательное значение, - а не узкоутилитарное, —
когда они вводятся исторически, в связи с историей общей
1 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С 96.
2 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 451.
3 Там же.
4 Там же. С. 451-452.
5 Там же. С. 452.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 75
культуры, и когда в современном результате своем они также
представляются и преподаются как продукты общего развития
человеческой мысли и энергии»1. Следует подчеркнуть, что
сегодня в философии науки и эпистемологии дисциплина
«история науки» рассматривается как гуманитарная.
Отметим еще один значимый тип объяснения в
исторической науке — объяснение через обращение к закону,
рассматриваемое Шпетом в первой части «Истории как
проблемы логики» в различных его проявлениях. Прежде всего, он
утверждал, что «исторические теории суть не менее теории,
чем теории физики или биологии, какие бы свои особенности
не имели эти теории и науки»2. Противоречие между
единичным, неповторяющимся характером исторических явлений и
закономерностью явлений природы, проистекающей именно
из повторения их, как это отмечают неокантианцы, только
кажущееся и возникает в результате произвольного
отождествления теоретического и «подчиненного закону». Шпет различал
также «законоустанавливающую» и объяснительную науки,
полагая, что «история может не быть наукой
законоустанавливающей и тем не менее она есть наука объяснительная, т. е.
наука, логической задачей которой является установление
объяснительных теорий»3. Таким образом, «неправильно думать,
будто наука истории ограничивает свои задачи только
пониманием и интерпретацией»4 и не выполняет логического
требования — объяснения и составления теории, что противоречит как
факту, так и логике. В то же время Шпет развернул
исследование проблемы интерпретации в полной мере при анализе
истории герменевтики.
Шпет различает закон как логическую необходимость, не
приписывая необходимости объектам, но признавая
необходимость нашего суждения об их отношениях. Необходимость,
содержащаяся в объектах, может быть и причинным
отношением, т. е. мы устанавливаем законы как «постоянные
необходимые логические отношения между объектами, исходя из
анализа причинных связей между ними»5. Однако «понятие закона
не есть также и родовое понятие по отношению к причинному
1 Там же. С. 453.
2 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С. 64.
3 Там же. С. 65.
4 Там же. С. 64.
5 Там же. Ч. И. С. 604.
76 Раздел I
отношению»1, нахождение закона не должно отождествляться с
установлением причинной связи между объектами, можно
выявить единственную причинную связь. В свою очередь причины
могут действовать необходимо, но не закономерно. Поскольку
лежащее в основе закона всякое логическое отношение
вневременно, то такая причинность стоит вне формул, выражающих
логическое отношение, следовательно, в форме закона
выражена быть не может. «Понятия причинной необходимости и
закона только частично совпадают»2.
Эпистемологическое различение природы объяснения,
предпринятое Шпетом в «Истории как проблеме логики»,
прозвучало и в «Письме», где он раскрыл богатый спектр аспектов
и оттенков в изучении специфической логики объяснения в
историческом познании.
§ 5. Ценности как проблема исторического познания
Особое место в «Письме» занимает тема ценностей: как в
понимании Риккерта, так и в интерпретации Шпета, который
считал, что позиция неокантианцев, исходящая от кантианства
и от Лотце, двойственна. Заметим, что идеи Лотце были близки
Шпету, они должны «вывести из субъективизма», и, главное,
здесь понятие ценности — «вопрос особого бытия идеального
предмета»3.
Не рассматривая всех аспектов обсуждения проблемы у
Риккерта, отметим, что признание самостоятельного мира
ценностей — это, как нам представляется, метафорически
выраженное стремление понять, утвердить объективную
(внесубъектную) природу ценностей, способ выражения его
независимости от обыденной оценивающей деятельности субъекта,
от его воспитания, вкуса, привычек, недостатка информации.
Ценности — это феномены, сущность которых состоит в
значимости, а не фактичности; они явлены в культуре, ее благах, где
кристаллизуется множество ценностей. Соответственно,
философия как теория ценностей исходным пунктом должна иметь
не оценивающего индивидуального субъекта, но
действитель1 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. Ч. И. С. 604.
2 Там же.
3 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля - 6 мая 1928 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 457.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 77
нЫе объекты — многообразие ценностей в благах культуры.
Утверждая, что философия истории имеет дело именно с
ценностями, исходя из логики истории, Риккерт дает своего рода
типологию ценностей в этой области знания: во-первых, «...это
ценности, на которых зиждутся формы и нормы
эмпирического исторического познания; во-вторых, это ценности, которые
в качестве принципов исторически существенного материала
конституируют саму историю; и в-третьих, наконец, это
ценности, которые постепенно реализуются в процессе истории»1.
Метод отнесения к ценности выражает сущность истории,
но в таком случае возникает проблема «научной строгости»
этой области знания. Риккерт не сомневается, что история
может быть так же «научна», как и естествознание, но лишь при
соблюдении ряда условий, позволяющих ученому избежать
Харибды «пожирающего индивидуальность генерализирующего
метода» и Сциллы «ненаучных оценок». Во-первых,
теоретическое отнесение к ценности, осуществляемое
трансцендентальным субъектом, следует отделять от практической
оценки, даваемой индивидуальным субъектом. В своей логической
сущности это два принципиально отличных акта, и, если
история имеет дело с ценностями, поскольку многие объекты
рассматриваются как блага, она не является все же оценивающей
наукой. «Отнесение к ценности остается в области
установления фактов, оценка же выходит из нее»2. Во-вторых, вслед за
А. Рилем он признает, что «один и тот же исторический факт,
в зависимости от различной связи, в которой его рассматривает
историк, приобретает очень различный акцент, хотя
объективная ценность его остается той же самой»3. В-третьих,
индивидуализирующая история, пользующаяся методом отнесения к
ценности, также должна заниматься исследованием причинных
связей, хотя бы для изображения индивидуальных причинных
отношений, но методический принцип выбора существенного
и определения причинных связей в истории зависит в полной
мере от ценностей4. Наконец, в-четвертых, благодаря
всеобщ1 Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г. Философия жизни. Киев,
1998. С. 202-203.
2 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. С. 94. См. также: Риккерт Г.
Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в
исторические науки. СПб., 1997. С. 294.
3 Там же. С. 95.
4 Там же. С. 97. См. также комментарий Т. Г. Щедриной: «Риккерт перенес
идею долженствования в область теоретического разума, рассматривая исти-
78 Раздел I
ности культурных ценностей «уничтожается произвол
исторического образования понятий», т. е. именно эта всеобщность
является основанием объективности. Таким образом, Риккерт
предложил методологический подход к изучению наук о
культуре с учетом их ценностной природы, а также
фундаментальных проблем значения (значимости), смысла, понимания и
истолкования1. Представляется, что в этих рассуждениях находит
свое выражение реальное соотношение когнитивного
(суждение факта) и ценностно-нормативного в процессе познания.
Хотя Шпет и не поддерживал концепцию ценностей
Риккерта, тем не менее в «Письме» попытался найти ей
методологическое оправдание. Если ценности рассматривать как
«интерес», то они могут иметь объективные основания: «Интерес
историка как интерес его эпохи, понятно, относителен, но если
"интерес" может входить в историческую науку как
методологический принцип, как principium методологического отбора
или как идея, то нельзя ли тот "интерес", который строго
соответствовал бы "интересу" самой изучаемой и излагаемой
эпохи, эпохи данного factura, счесть интересом "абсолютным"?»2.
Эта позиция принципиальна для Шпета: историческая наука
имеет дело с выраженными в слове и обоснованными
ценностями, которые не сводятся к произвольному предпочтению.
Это интерес самой изучаемой эпохи, интерес времени
устанавливаемого факта. Именно поэтому он не видит «логических (не
психологических или социально-психологических)
оснований к тому, чтобы современный историк в изложении, скажем,
древней истории не мог стать на точку зрения или видеть ее в
аспекте "интереса"»3 той или иной эпохи и времени, тем более
ну не как "сущее", отображаемое в человеческом познании, а как "ценность",
которая имеет своей "экзистенциальной" предпосылкой утверждающую и
"признающую" волю. Что касается Г. Лотце, то исходным понятием его
аксиологии является понятие "значимости" (Geltung). Риккерт дает ему
субъективистическую интерпретацию, как бы "заменяя" им платоновский
онтологизм и реализм в понимании идеи. Однако, по верному замечанию Г. Шпета,
данное понятие может вывести из субъективизма, указывая лишь на "особое
бытие идеального предмета", как это было, например, у Гуссерля».
Щедрина Т. Г. Комментарии // Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное
наследие. М., 2005. С. 675.
1 Следует отметить, что из отечественных историков высокую оценку идеям
неокантианства в этой области, а также М. Веберу еще в советское время дал
А. Я. Гуревич. См.: Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 110—112.
2 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 457.
3 Там же.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 79
уже исследованного и обоснованного известными учеными —
например Нибуром, Моммзеном, Буркхардом, Эд. Мейером.
Итак, «нет логической невозможности интерпретировать
изучаемое прошлое и в свете абсолютно (объективно)
историческом, т. е. в свете "интереса" самой изучаемой эпохи». Шпет не
имеет в виду обычный «презентизм» — то, что «историк должен
смотреть глазами той эпохи», «притвориться» ее
современником, — но полагает возможным «логическое конечное
завершение той методологической работы интерпретации, с которой
историк начинает свое дело. Его конечная задача тогда была
бы интерпретацией установленного им факта в свете
основного "интереса" времени этого факта <...> раскрытием конечного
исторического смысла эпохи. <...> Все осуществленное
содержание эпохи, таким образом, разместилось бы вокруг
основного "интереса", "смысла", "идеи" по своим, — не "категориям",
в отличие от естествознания, и не "ценностям", в отличие от
Риккерта, а по своим специфицированным формам реализации
исторического содержания»1.
Итак, ценности и интересы имеют право на существование
внутри истории как науки, сохраняя ее статус, если они
основаны на такой реальности, как «уже осуществленное»,
произошедшее, как интересы времени и самой эпохи, а не
узкосубъективные предпочтения исследователя. Шпет стремится
найти условия, при которых интересы могут быть вписаны в
науку, логически (методологически) исследованы. Вместе с тем
Шпет отмечает, что «возникает новый методологический
вопрос: где окончится задача собственно истории как
эмпирической науки, и где начнется философия истории и как
установить систему названных форм? Но это действительно новый
вопрос, формально же, во всяком случае, историк кончит, как
начал: интерпретацией. И в этом его коренное отличие от
натуралиста, чего Риккерт все-таки не увидел, а между тем
отсюдато и вытекает все своеобразие исторической науки»2.
И в «Письме», и в предыдущих работах по методологии
исторического знания одна из главных задач Шпета, не потерявших
актуальности и сегодня, — выявить специфику исторических,
филологических, психологических и других наук, формулируя
при этом их логические и методологические различия. Эту
позицию он обосновывает тем, что «методология, исходя из
принци1 Там же. С. 458.
2 Там же.
80 Раздел I
пиального признания "плюрализма" наук и их методов, должна
в своих интересах требовать такого же плюрализма "теорий
познания". Самой роковой ошибкой для логики является спешное
перенесение методологической характеристики одной науки на
другую. Не "теория познания", а теории познания — вот что
нужно методологии. "Теории познания" в этом смысле суть прежде
всего теории методов исследования, с помощью которых
предмет из предмета "исследования" превращается в предмет
познания. "Теории познания" суть теории наблюдения,
самонаблюдения, эксперимента, истолкования и т. п.»1. Одной из таких
теорий для гуманитарной науки может стать, по мысли Шпета,
герменевтика, которая является «своей теорией познания» для
истории, в таком качестве ее и необходимо разрабатывать. Она —
связующее звено между учением о методах исторического
исследования и методах изложения (основные понятия
герменевтики — сообщение и понимание). На этой почве он и разрабатывал
специальную историческую герменевтику и специальную
логику исторической науки. А если верно, как утверждал Шпет, что
история — основа всех эмпирических наук, то герменевтика в
качестве теории познания может лечь в основу их всех2.
Эта идея Шпета о специальных «теориях познания»,
соответствующих той или иной науке или типам наук, принципиальна,
так как не принимает упрощенный вариант позитивистской
идеи «единой науки» и опирается на логичесю^е и
методологические особенности социально-гуманитарных наук.
§ 6. Место «конкретного типа» в логическом стиле
исторической науки
Несомненный интерес для методологии исторического,
гуманитарного знания вообще имеют идеи о типологии и «типе»,
высказанные Шпетом в «Письме». Заметим, что Шпет, как
методолог гуманитарного знания, обращался к проблеме общего
и типологии в ходе рассмотрения логической природы
эмпирического Я в работе «Сознание и его собственник» (1916)3. Он
1 Шпет Г. Г. История как предмет логики // Шпет Г. Г. Мысль и Слово.
Избранные труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 247.
2 Там же.
3 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis.
Избранные психолого-педагогические труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина.
М., 2007. С. 268, 274.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 81
отмечал, что изучая конкретную и единичную вещь, мы
смотрим на нее как на «экземпляр», т. е. как на нечто «безличное»,
и переходим к еще более обезличивающим обобщениям. Я
выделяется среди конкретных вещей тем, что оно не допускает
образования общих понятий, выходящих за пределы единичного
объема. По Шпету, аристотелевская логика как логика объема,
рода и вида, на которой основана теория образования понятий
через «обобщение», оказывается здесь явно недостаточной, так
как имеет дело только с рассудочным мышлением,
рассматривает формальное соотношение между объемом и содержанием
понятий, между видом и родом, а всякая «единичность» и тем
более единственность Я — это просто «анархический элемент»,
подрывающий ее устои. Он полагал, что если к отождествлению
отвлеченно-общего с «существенным» нет никаких оснований,
кроме отрицания индивидуально-общего, то следует помнить,
что «объем» понятия может сжиматься в идею, преодолевая как
пространственную протяженность, так и временную
длительность. Соответственно в теоретическом рассуждении каждая
личность или Я также может поддаваться такой
трансформации в «идею». Это делается каждый раз, когда для единичного
устанавливают типическое, как в случаях, например, идеала,
всеобщего образца нравственного поведения или воплощения
в поэтический образ. Следовательно, возможен своего рода
«идеальный коррелят», выражающий сущность эмпирического
Я, действительно, реально существующего и не являющегося
«вещью», обезличенным «экземпляром» традиционного
логического «обобщения». И вновь Шпет существенно уточняет
и дополняет классическую аристотелевскую логику, которая,
предельно обобщая и абстрагируясь, не учитывает
содержательные особенности предмета философского или гуманитарного
знания, где присутствует человек, наделенный сознанием.
В «Письме» он продолжает развивать идеи типологии в
контексте исторического знания в отличие от
естественнонаучного и в связи с концепцией «идеального типа» М. Вебера,
которая сегодня не только применяется, но и продолжает
критически обсуждаться1. «Сказать, что такое общее есть
"идеальный тип", — размышляет Шпет, — значит, по-моему, также
сказать недостаточно. Например, мысленная "модель", которую
строит физик, как так называемую вспомогательную гипотезу,
1 См.: Гайденко П. П. Познание и ценности // Субъект, познание,
деятельность. М., 2002. С. 207-235.
82 Раздел I
есть также "идеальный тип", однако это - "модель"
отвлеченная и для историка не может служить методологическим
образцом; какой-нибудь единственный экземпляр, — это — более
конкретно, — ископаемого животного может для натуралиста быть
"типом", однако и это не "тип" историка или социолога»1. Как
известно, идея М. Вебера о необходимости такой абстракции,
как «идеальный тип», оказала существенное влияние на
развитие истории и социологии XX в. наряду с понятием Маркса
«общественно-экономическая формация». «ОЭФ», как менее
абстрактное понятие, выделяет и фиксирует конкретные
формации по социологическим и экономическим признакам, что и
создало предпосылки для их полной онтологизации в советской
науке, философии и идеологии2.
Понятие «идеальный тип» Вебер разрабатывал и применял
именно как абстрактное методологическое средство
исследования социальных и историко-культурных феноменов, которое не
имеет прообразов в эмпирической действительности и не
должно онтологизироваться для подтверждения или опровержения,
тем более что одно и то же общество может одновременно
содержать в своей структуре разные типы и виды социальных
отношений. Вебер специально оговаривал, что «грань между
идеальным типом и действительностью» не должна стираться,
и следует помнить, что это понятие «конструируется» и может
успешно выполнять эвристическую функцию. Вместе с тем он
осознавал, что «возникает осложнение, так как понятие
"типического" сразу же вводит ложную натуралистическую идею,
согласно которой цель социальных наук есть сведение элементов
действительности к "законам"»', и необходимо понимать, «что
идеально-типическую конструкцию развития, с одной стороны,
и историю — с другой, следует строго разделять»3.
1 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 455.
2 Ср. заявление П. И. Кушнера на обсуждении книги Петрушевского:
«Формации — понятие совершенно объективное, потому что оно существует в
действительности». Диспут о книге Д. М. Петрушевского (О некоторых
предрассудках и суевериях в исторической науке). Стенограмма заседания
социологической секции общества историков-марксистов от 30 марта и 6 апреля
1928 г.) // Историк-марксист. 1928. Т. 8. С. 105.
3 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально
политического познания // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 402—403.
См. также: Петрушевский Д. М. Очерки из экономической истории
средневековой Европы. С. 26—40.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 83
Шпет положительно рассматривает эти идеи, однако при его
требовании тщательного логического анализа он
неудовлетворен, поскольку «М. Вебер указывает в понятии "типа", так
сказать, место соответствующей проблематики, но не раскрывает
ее»1. И Шпет прав в том смысле, что немецкий социолог не дает
необходимого, собственно логического анализа введенного им
понятия «идеальный тип», ограничиваясь, скорее,
эпистемологической и методологической, достаточно общей
характеристикой. Это определяет значимость работы Шпета, который
раскрывает логику типического в своих работах и в «Письме»,
рассматривая проблему «типа» как фундаментальную, что уже
отчасти мы стремились показать выше.
Вместе с тем Шпет осознает, что «логики "типа" вообще
мы еще не имеем»2, и полагает, что эта проблема, в частности,
тесно связана с понятием структуры. Так, в «Письме» вводится
тема структуры в понимании исторического процесса3, «и
первая методологическая задача наша в том и состоит, чтобы
выяснить структуру соответствующего предмета»4. «Структурность
предмета обозначает, прежде всего, конкретность, т. е.
самостоятельную, не отвлеченную природу этого предмета. Каждая
его часть только до тех пор сохраняет в изучении свое
предметное значение, пока она рассматривается как член в строении
целого, выполняющий свою специфическую и относительно
самостоятельную функцию»5. Рассматривается определенная
«иерархия» системы: элемент структуры, или «структурный
член», есть некоторое «общное» по отношению к
составляющим его элементам (индивидуальным ячейкам), которые также
структурны. С этой позиции, по Шпету, можно также указать
на особенность предмета истории: «Изменение структуры — что
и есть исторический процесс, "развитие" и т. п. — совершается
через усиление и, так сказать, выпячивание одного члена,
ослабление другого, поглощение функций соседнего <...>
Поскольку здесь речь идет о реальном историческом процессе, все
привыч1 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 453—
454.
2 Там же. С. 455.
3 О понятии «структура» в методологии Шпета см. наст. изд. раздел III,
глава 1: Роман Якобсон: Густав Шпет у истоков семиотики и структурализма.
4 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 455.
5 Там же.
84 Раздел I
ные в естествознании понятия: причины, фактора, условий и пр.
должны быть применительно к новому понятию предмета наново
анализированы и, где нужно, модифицированы в своем смысле»1.
Такой подход позволяет «составить некоторую историческую
модель или конкретный исторический тип, где показана
соответствующая идеальная — хотя бы в исторической
действительности не имевшая ни одного exemplum — полнота. <...> Этот
тип может быть сфантазирован (у Вебера — сконструирован. —
Авт.), его методологическая ценность остается реальной»2.
И такой тип Шпет находит у Д. М. Петрушевского, о чем и
указывает в своем письме, цитируя его книгу: «У Вас, Дмитрий
Моисеевич, я читаю: "Основные формы тогдашней жизни
('порядковое' время!), несмотря на резко выраженную
индивидуальную печать, на них лежащую, мы находим и в следующую за
средними веками эпоху (idem!), но лишь в развившемся в полной
мере виде" (79); "Инд<ивидуальн>ая история
накладывала инд<ивидуальн>ый отпечаток на поместный строй , не
закрывавший, однако, их типических черт, " (156);
"Поместье являлось живым организмом, ни на минуту не
перестававшим находиться в живом взаимодействии оно никогда
не пребывало в состоянии неподвижности, и облик его
постоянно менялся, " (162); и т. д. и т. п. Все это для меня примеры
исторического мышления и изложения, осуществляемых по
категориям "исторического времени", "структуры",
"конкретноиндивидуального", "общного", "специфического
функционирования" и т. д. Понятно, я не могу сказать здесь и сотой доли
того, что хочется, но нельзя удержаться, чтобы хотя бы
пробормотать намек на те мысли, которые рождаются, когда видишь,
как на деле осуществляется то, до чего додумался, наблюдая это
дело со стороны»3.
Чтение книги Петрушевского утвердило Шпета в мысли о
том, что история как наука имеет свой логический стиль, о
котором писал Петрушевский еще в 1915 году. Только сам Шпет
пошел еще дальше, углубляя спецификацию этого стиля до
семиотического понимания предмета исторического
исследования: «"историк — дважды филолог". Ибо историк, прочитав
филологически памятник, вновь подвергает его своей критике
1 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля - 6 мая 1928 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 455.
2 Там же. С. 456.
3 Там же.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 85
и своей интерпретации. Вещи (realia) филолога для историка все
еще только знаки, слова, символы: "призвание варягов",
"убийство Цезаря", "смерть Карла Великого" — для него знаки,
требующие расшифровки и скрывающие за собою особую
историческую ens reale: социальные группы, партии, отношения,
организации и т. д.»1.
Там же. С. 450—451. Курсив наш. — Авт.
Глава 3
Аполлон Григорьев: Лев Толстой
и историзм в русской литературе
§ 1. Л. Толстой - vox clamantis in deserto?
Я ев Николаевич Толстой не оставил особого труда по
философии истории; однако тема историчности
присутствовала в его философской публицистике,
художественных работах, дневниках, записных книжках и
объемистой переписке. Впервые в истории восприятия
толстовских работ, еще в самом начале 1860-х годов, когда были
изданы только ранние его сочинения, Аполлон Александрович
Григорьев (1822—1864) толковал Толстого исторично. Для стиля
Толстого было характерно обращение к опыту «чужой
душевной жизни», т. е. уяснение внутренних мотивов, которые
«двигали» человеком в истории. Именно на эту особенность обратил
внимание Григорьев, поставив вопрос об историчности самого
Толстого. Он предпринял усилия для выявления исторической
мотивации Толстого, которой были проникнуты работы
писателя, тогда уже замеченного, но никем не выделенного.
В 1861 году Григорьев работал над статьей о Л. Толстом, о
чем сообщал Страхову: «Вся статья непременно (conditio sine
qua non) должна быть под заголовком "явления, пропущенные
нашею критикою: граф Л. Толстой и его сочинения". Первый
ее отдел — общий и называется "Взгляд на отношения
современной критики к литературе — vox clamantis in deserto1". Тут
я рассмотрел все направления, не щадя ни одного»2. Ф. М.
Достоевский, M. M. Достоевский, H. H. Страхов и А. А.
Григорьев — основные сотрудники журнала «Время», для которого
писалась эта объемистая статья о Толстом, — предпочитали
сохранять историчность своих авторских и издательских
установок «почвенно», избегая жесткой теоретической
ангажиро1 Глас вопиющего в пустыне {лат.).
2 Письмо А. А. Григорьева H. H. Страхову. 12 декабря 1861 года. Оренбург//
Григорьев А. А. Сочинения: В 2 т. Т. 2: Статьи. Письма. М., 1990.
[Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0450.shtml
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 87
ванности, к чему были привычны тогда многие «литераторы
литературы». Важным признавалось целостное понимание
жизни, требующее от авторов и соиздателей особой
публицистической честности и авторской ответственности. Специфика
стиля Л. Н. Толстого, написавшего к тому времени основные
свои работы до «Войны и мира», историчная мера искренности
его трудов, нимало не похожих на отрешенные от жизни
сочинения, стала главным предметом исследовательского интереса
и целостной, последовательно почвенной, органической
критики А. А. Григорьева. Впоследствии эта манера критики была
поддержана усердным и многолетним свидетелем
исторического движения Толстого Николаем Николаевичем Страховым
(1828—1896). Он был автором известной критической поэмы о
Толстом, весьма укрепившей толстовскую философскую
репутацию, неизменным сторонником уже состоявшегося
Толстого, десятилетиями разговаривавший с ним и о нем после
публикации этой поэмы. При этом для нас важно, что Страхов
воспринимал философско-исторические идеи Толстого в
определенной сфере разговора, т. е. выступал как последователь и
интерпретатор тех рассуждений о Толстом, авторство которых
принадлежало А. А. Григорьеву1.
В опубликованной статье Григорьев подчеркнул
содержательный смысл «vox clamantis in deserto». Эта библейская
цитата была выведена из заголовка и обособлена в виде общего
эпиграфа для того, чтобы уточнить необычное, трудно
определимое авторское присутствие Толстого в его «разомкнутом»
литературно-жизненном мире. Григорьев писал: «Толстой
прежде всего кинулся всем в глаза своим беспощаднейшим
анализом душевных движений, своею неумолимою враждою ко
вся1 Особое внимание к исследованиям А. А. Григорьева, предваряющим
работы Н. Н. Страхова о Л. Н. Толстом, было проявлено Б. Сорокиным еще в
работе 1976 года. См.: Sorokin В. Moral regeneration: N. N. Strakhov's «organic»
critiques of War and Peace // The Slavic and East European Journal. AATSEEL,
1976. Vol. 20. № 2. P. 130—147. Однако вопрос о преемственности
Григорьева и Страхова в уяснении или истолковании исторического кредо Толстого
остается открытым. Решение этого вопроса затруднено многими
обстоятельствами, среди которых — и речевая порывистость Григорьева, его
склонность увлекаться расхожими словами или именами, хотя бы и обновляя их.
Увлеченно-свободное отношение А. А. Григорьева к стилю мышления
Толстого оказалось под силу положительно изжить H. H. Страхову, сумевшему
уточнить суждения Григорьева и в процессе чтения Толстого и разговоров с
ним переосмыслить проблему историчности его произведений, впервые
обстоятельно представшую в контекстах григорьевских статей.
88 Раздел I
кой фальши, как бы она тонко развита ни была и в чем бы она
ни встретилась. <...> Он первый посмел говорить вслух,
печатно, о таких душевных дрязгах, о которых до него все молчали, и
притом с такою наивностью, которую только высокая любовь к
правде жизни и к нравственной чистоте внутреннего мира
отличает от наглости. <...> Никто не задал себе вопросов: подлинно
ли искренность эта есть непосредственная, наивная, или в ней
есть тоже своего рода надломленность и тронутость? И чем эта
беспощадная искренность отличается, например, от
искренности столь же несомненной, столь же и даже до цинизма смелой
реалиста Писемского или от искренности Островского, которая
так проста и так в себе уверена, что никогда и не заботится даже
показывать публике, что вот, дескать, какая я, искренность:
любуйтесь и ужасайтесь?»1 Очевидно, что вопрос о личности
таланта оборачивается для Григорьева проблемой осмысления
историчности писателя. С позиции Григорьева Толстой был
«вопиющим в пустыне» потому, что он был историчен, его
произведения написаны не извне, но изнутри социальности.
Именно историчность Толстого позволяет Григорьеву представить
беспощадную, разрушительно-аналитическую искренность
его трудов как единственную в своем роде. Поверхностность
уже состоявшихся к тому времени попыток определить место
Толстого в общем литературном процессе, в которых никто не
решился назвать его единственным из всех и никто не заметил
подлинные начала его историчности, дает А. А. Григорьеву
возможность начать разговор с Толстым о нем самом.
Заметим, что со стороны Григорьева это было вполне
правомерно, поскольку он один из основных сотрудников «Времени»
знал Л. Н. Толстого лично. Судя по всему, это знакомство со
стороны Толстого никогда не достигало обширной симпатии,
какую он проявлял в те годы по отношению к А. В.
Дружинину, В. П. Боткину, П. В. Анненкову, И. С. Тургеневу или совсем
уж закадычным, многолетним товарищам: кн. С. С. Урусову и
Б. Н. Чичерину, тогда же или позже писавшим о нем2.
1 Григорьев А. А. Явления современной литературы, пропущенные нашей
критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья первая // Время. 1862.
№ 1. [Электронный ресурс]: http://smalt.karelia.ru/~filolog/vremja/1862/Jan/
Tolstoy.htm
2 О переписке Толстого с Григорьевым ничего неизвестно. В дневниках
Толстого Григорьев упоминается только дважды, в кратких записях 1856 года:
«18 мая во второй половине дня был на даче в Кунцево, пришли Дружинин,
Боткин, «вечером пришел Григорьев и мы болтали до 12-ти весьма приятно».
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 89
Как бы то ни было, Григорьев устремлен к откровенному и
последовательному истолкованию личности Толстого как
писателя, причем не самого по себе, но в кругу русских писателей
той эпохи. Он ставит вопрос об историческом опыте,
мотивирующем стиль мышления Толстого. Этот исторический опыт
мы можем увидеть, говоря словами Григорьева, в
«преследующем писателя образе». Фактически речь идет о «конкретном
идеале» писателя, в данном случае о Толстом как социальном
субъекте1. Воспроизведем большой фрагмент из статьи
Григорьева о Толстом, где он рассуждает об этом: «У самых
объективных, равно как у самых субъективных художников можно
доискаться одного главного, преследующего их образа. <...>
У Толстого точно так же есть этот преследующий его образ, к
которому приковался его анализ, то лицо, от имени которого
рассказывает он "Детство, отрочество и юность" и которое в
"Семейном счастье" меняет только пол и является женщиной.
Образ этот раздвояется, но раздвояется только внешне — в
"Записках маркера", в "Люцерне", являясь князем Нехлюдовым и
представляя только крайние, последние грани того анализа,
который отличает героя "Детства, отрочества и юности" от других
современных героев. <...> Не "пошлость пошлого человека"
обличал Толстой, подобно Гоголю; не смеялся он болезненным
смехом Гамлета Щигровского уезда над несостоятельностью
так называемого развитого человека, как Тургенев; не
противополагал он, как Писемский, здоровый, хотя и грубоватый,
хотя и несколько низменный взгляд на жизнь мишуре
сделанСм.: Толстой Л. Н. Дневник 1856 года // Толстой Л. Н. Полное собрание
сочинений. М., 1937. Т. 47: Дневники и записные книжки 1854—1857 годов.
С. 73. А. А. Григорьев в письмах к Дружинину вспоминал эту встречу как
«препоэтическую ночь, жаркую беседу». Там же. С. 324. «3 ноября... Обедал
у Боткина. Григорьев и Островский, я старался оскорбить их убеждения.
Зачем? не знаю». Там же. С. 98. В последующие годы Толстой никогда не пишет
0 Григорьеве ничего специально и ни с кем, кроме как с H. H. Страховым, не
переписывается о нем сколько-нибудь содержательно — притом что
инициатива обсуждения всегда исходит от Страхова.
1 См. об этом рассуждения Г. Г. Шпета: «Последний <социальный субъект>
живет, пока не исчезло, какое бы то ни было свидетельство его творчества.
Поэтому, и обратно, можно сказать, что и в каждом своем "отдельном"
произведении субъект дан целиком, но только субъект данного момента.
Субъект данного момента, и это надо подчеркнуть, значит данного
произведения. В другом произведении он — другой, и, в то же время, в обоих — один».
Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина.
М., 2007. С. 483.
90 Раздел I
ных, заказных или подогретых чувствований; не относился, как
Гончаров, к идеализму во имя узкой практичности, к праздной
мысли во имя узкого и условного дела»1. Первоначально
кажется, что Григорьев извлекает стиль мышления Толстого из
литературной эпохи, делает его внешним по отношению к стилям
других писателей и тем самым оправдывает эпиграф:
произведения Толстого — «глас вопиющего в пустыне». Но, добавим
мы, следуя за Григорьевым, Толстой вопиет именно в пустыне,
он говорит изнутри нее, и Григорьев это очень тонко
подмечает: «но вместе с тем чувствовалось всеми, что у него
<Толстого> есть что-то общее со всеми исчисленными стремлениями».
Следовательно, Толстой как писатель находится не вне
литературной «пустыни», но внутри нее.
§ 2. Русская литература в поисках исторического типа
Что же, по мнению Григорьева, дает нам право говорить
о Толстом не только как о «вопиющем в пустыне», но и как о
представителе «пустыни»? Послушаем его ответ: «Близкий к
Тургеневу поэтическою нежностью чувства и глубокою
симпатиею к природе, но диаметрально противоположный ему
своей суровой трезвостью взгляда, беспощадною ко всем
маломальски необыденным ощущениям, своей враждою ко всякой
фальши, как бы она ни была блестяща, — он <Толстой> этими
последними качествами был бы всего ближе к Писемскому,
если бы этот реализм был ему прирожден, а не порожден
анализом. Своим внешним, враждебно-недоверчивым отношением к
идеализму он был бы сходен с Гончаровым, если бы заказным
образом поставил себе идеальчик в практичности. С другой
стороны, своей беспощадностью к пошлости, таящейся не только
в пошлом, но во всяком человеке, он как будто развивает
задачи Гоголя, но он не плачет ни о каком разбитом кумире, ни о
каком условно-прекрасном человеке. Общего у него со всеми
этими задачами эпохи одно: отрицание»2.
Однако, признавая эту общность Толстого с задачами
литературной эпохи, Григорьев говорит о нем как «о временной
1 Григорьев А. А. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья вторая //
Григорьев А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2: Статьи. Письма. [Электронный
ресурс] : http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml
2 Там же.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 91
жертве отрицательного процесса»1 и тем самым оправдывает его
как писателя, укорененного в истории глубже других.
«Отрицанием он, по происхождению и воспитанию разъединенный
с почвою, старается, как все, дорыться до почвы, до простых
основ, до первоначальных слоев. Особенность его в том, что
он роется глубже всех других. Он не удовлетворяется, как
Тургенев, тем, чтобы издали благоговейно увидеть почву и
поклониться ей в восторге Моисея, узревшего обетованную землю.
Ему <...> мало того, чтобы почувствовать только черноземную
силу в Уваре Ивановиче2, — он хотел бы разгадать и в самом себе
поднять эту сиднем сидящую силу. Он не может также,
смахнувши слои фальшивого идеализма, принять, как Гончаров, за
слои настоящие - столь же наносные, но гораздо более
грязные слои практичности и формализма; он не останавливается
и на тех, по-видимому, прочных, но, в сущности, только
загрубелых слоях, на которых твердою ногою стоит Писемский; он
так же мало способен симпатизировать, положим, хоть
ЗадорМановскому или даже Павлу Бешметеву, как Ельчанинову и
Бахтиарову, так же мало тетушке ипохондрика Соломониде,
как и Дурнопечину3. <...> С идеалами же на воздухе, со всяким
созиданием сверху, а не снизу, с тем, что погубило нравственно
и даже физически самого Гоголя, он способен помириться
всего менее. <...> Он только роется вглубь, добросовестно роется,
руководимый своим необычайным анализом, и, еще не
дорывшись, кончает пантеистическою скорбию "Люцерна" —
скорбию за жизнь и ее идеалы, отчаянием за все сколько-нибудь
сделанное в душе человеческой, отчаянием, очевидным в "Трех
смертях", из которых самою нормальною является смерть дуба,
суровою покорностью судьбе, не щадящей цвета человеческих
чувств в "Семейном счастье", и затем — апатиею, без сомнения,
временною и переходною. Апатия ждала непременно на
середине такого глубоко искреннего психического процесса, но что
она не конец его, - в этом, вероятно, никто из верующих в силу
таланта вообще и понявших силу таланта Толстого даже и не
сомневается»4.
1 Там же.
2 Персонаж романа И. С. Тургенева «Накануне». — Прим. авт.
3 Герои произведений А. Ф. Писемского «Боярщина», «Ипохондрик»,
«Тюфяк». — Прим. авт.
4 Григорьев А. А. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья вторая //
Григорьев А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2: Статьи. Письма. [Электронный
ресурс]: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml
92 Раздел I
Григорьев характеризует толстовский стиль мышления,
исторически ориентирующий его способ письма как
познавательный интерес, «преследующий» писателя в самых разных
его литературно-жизненных состояниях, которые всегда
оказываются состояниями крайнего познавательного одиночества —
«отчаяния анализа» (отсюда и апатия, неизбежно приходящая
на смену «добросовестному рытью»). Именно крайности
толстовского анализа, отрицающего завершенность или
окончательность чего бы то ни было (в том числе и самого отрицания),
подводят Григорьева к выяснению общих смыслов
аналитической добросовестной работы Толстого. Материалы дневников,
записные книжки и иные рукописи Л. Н. Толстого показывают,
что он не думал тогда о себе с такой литературно-личностной
определенностью, в такой тесной смысловой связи с
рассказанными им литературными историями, которую замечает и
исследует А. А. Григорьев (оговариваясь, впрочем, что Толстой
соблюдает эту связь «осознанно или неосознанно»). Григорьев
исторически оправдывает беспощадное и искреннее
толстовское отрицание и поэтому считает необходимым переработать
и включить в состав статей о Толстом уже опубликованные им
исследования о «цельной натуре Пушкина», поскольку «в ее
борьбе с различными тревожившими ее и пережитыми ею
идеалами, заключается слово разгадки наших стремлений»1. Он
обращается к Пушкину как к историческому истоку,
давшему начало русской литературе как «отрицательному процессу».
«Пушкин все наше перечувствовал — от любви к загнанной
старине до сочувствий к реформе, от наших страстных увлечений
блестящими, эгоистически-обаятельными идеалами до
смиренного служения Савелия ("Капитанская дочка"), от нашего
разгула до нашей жажды самоуглубления <...> и только смерть
помешала ему воплотить наши высшие стремления. <...> Я
говорил уже и говорю, что за исключением совершенно новых в
литературе нашей явлений, имеющих только
общеисторическую, преемственную связь с Пушкиным, каковы со всеми их
достоинствами и недостатками Кольцов, Островский, Некрасов
и Достоевский, — в нашей современной литературе нет ничего
истинно замечательного и правильного, что в своем зародыше
1 Григорьев А. А. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья вторая //
Григорьев А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2: Статьи. Письма. [Электронный
ресурс]: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 93
не находилось бы у Пушкина»1. Характеризуя цельность,
историческую открытость и образное единство пушкинского опыта,
Григорьев находит, что искреннее отрицание — один из
моментов этого историчного опыта. Наиболее ясное и
обнадеживающее олицетворение отрицательного начала у Пушкина, «того
лица»2, которое переменчиво и неуклонно все еще уточняется
Толстым для себя, — персонаж поздних пушкинских повестей
И. П. Белкин. «Весь отрицательный процесс наш, не исключая
даже и самого Гоголя, по прямой линии ведет свое начало от
взгляда на жизнь Ивана Петровича Белкина. <...> Что же такое
этот пушкинский Белкин, - тот самый Белкин, который
прогладывает потом под другими формами в повестях Тургенева, —
которому в произведениях Писемского страшно хотелось взять
верха над фальшиво блестящим и фальшиво страстным
типом, — которому с излишком, через меру дает права Толстой?..
Белкин пушкинский есть простой здравый толк, простое
здравое чувство, кроткое и смиренное, — толк, вопиющий против
всякой блестящей фальши, чувство, восстающее законно на
злоупотребления нами нашей широкой способности понимать
и чувствовать»3.
Пушкинский Белкин ничуть не последний герой
Пушкина, не «пестрый сор» пушкинской отзывчивости напоследок;
напротив, он есть уже литературно-жизненный образ всерьез,
образ здравомыслия - дело позднего Пушкина, который уже
вполне отдает себе отчет в том, что литература становится
жизнью тогда, когда перестает преклоняться перед жизнью, и не
принимает литературу за некое исключительно добротно
перевоссозданное, чистое средоточие жизни. Белкин существует в
историчном познавательном между: он именно временно
олицетворенный «конкретный идеал» — «законный тип», реальный
и в жизни, и в литературе. «Это начало отрицательное, и право
оно только как отрицательное, ибо предоставьте его самому
себе — оно способно перейти в застой, мертвящую лень,
хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова»4. С
такими, как Белкин, «немыслима никакая история. Из таких не
1 Там же.
2 Имеется в виду социальный субъект, от имени которого автор ведет
рассказ.
3 Григорьев А. А. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья вторая //
Григорьев А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2: Статьи. Письма. [Электронный
ресурс]: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml
4 Там же.
94 Раздел I
выйдут, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдут и
Минины. Увы, на одних добрых и смирных людях, умей они даже и
умирать так, как умирает солдат Веленчук у Толстого, будь они
и благодушны до пантеистической любви ко всей твари, как
старик Агафон у Островского, — далеко не уедешь. Для жизни
страстное начало нужно, закваска нужна»1.
Белкин для Пушкина важен тем, что он находится не в
истории «как таковой», но говорит из исторического Зазеркалья,
заметного только тем, кто знает, что легко принимать образы
истории за единственную ее реальность. Не ироник, не
теоретик, не скептик, Белкин в истолковании Григорьева —
непосредственное, «удивительное» олицетворение здравого смысла,
в котором ограничена и усмирена его беспощадность.
Толстому труднее, чем Пушкину: доверие к другому лицу для
Толстого — предмет аналитического внимания и литературного
разбора. «Любовь к отрицательному смирному типу родилась у
нашего автора не непосредственно, как у писателей народной
эпохи литературы, а вследствие глубокого анализа. <...>
Анализ развивается в нем рано и подкапывается глубоко под
основы всего того условного, чем он окружен, того условного, что в
нем самом. Доходя до явлений, ему не поддающихся, он перед
ними останавливается. <...> Он поражен простотою,
неразложимостью этих явлений. И вот простоты, неразложимости
добивается он от самого себя, роется терпеливо и беспощадно
строго в каждом собственном чувстве, даже в самом том,
которое по виду кажется совершенно святым. <...> Анализ в своей
беспощадности заставляет душу признаваться себе в том, в чем
не всякая душа себе признается, в том, в чем стыдно себе
самому признаться. Мудрено ли, что при огромном таланте анализ
изощрился до того, что в "Метели" способен влезть в существо
воробья, который "притворился, что клюнул"; в "Военных
рассказах" развертывает целую ткань пустых представлений,
промелькнувших перед человеком в минуту смерти, до
поражающей, несомненной правды. <...> Один только тип остается
нетронутым, не подвергнутым сомнению — тип простого
смирного человека»2. Григорьев очень надеется на то, что
необычайная аналитическая искренность Толстого свидетельствует о его
1 Григорьев А. А. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья вторая //
Григорьев А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2: Статьи. Письма. [Электронный
ресурс] : http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml
2 Там же.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 95
жизненных надеждах, его «осознаваемой или неосознаваемой»
вере в литературу как фактическую данность жизни, не
только внешне-исторической, но и его собственной. Искренняя
сила анализа должна была помочь Толстому совершить почти
невозможное: понять и принять, как бы заново обжить ту
почву принципиально неодинокой историчной жизни, в которой
укоренен по существу и его конкретный идеал. Григорьев
предлагает «узаконить» два таких «конкретных идеала» или, говоря
его словами, «типа»: «тип страстный, и тип смирный», которые
автор может синтезировать: «Доходя в иные минуты до
отчаяния анализа и оставивши след этого отчаяния в образе князя
Нехлюдова ("Записки маркера" и "Люцерн"), утомленный
работою анализа, Толстой, по натуре художник, решился хоть раз
успокоиться в разрешении психической задачи менее
широкой — и дал нам "Семейное счастие". О достоинствах этого
тихого, глубокого, простого и высокопоэтического произведения,
с его отсутствием всякой эффектности, с его прямым и
неломаным поставлением вопроса о переходе чувства страсти в иное
чувство»1.
На этом Григорьев заканчивает истолкование
исторического стиля мышления Толстого — явления, «пропущенного
критикой», понятного типологически, но между тем, как
казалось Григорьеву, отнюдь не завершенного в
литературноличностном отношении, только предварительно понятного
онтологически — озадачивающего и обнадеживающего своей
беспощадной искренностью, устремленной к некой мере,
которая пока все же не установилась.
§ 3. За пределами исторического типа
Л. Н. Толстой, сохраняя привычку не отвечать своим
критикам, «литераторам литературы», публично промолчит и в
ответ на григорьевские статьи; однако через годы, заговорив с
H.H. Страховым, выскажется вполне решительно.
В письме от 1—2 января 1876 года к Страхову Л. Н. Толстой
замечает: «...я совсем несогласен с вами о делении людей на
деятельных и пассивных и о том значении, которое вы
придаете тем и другим. Виноват, но я слышу тут отголосок
неудавшейся мысли Григорьева о хищных и смирных типах, которой
я никогда не понимал. Самое деление неправильно.
Противу1 Там же.
96 Раздел I
положное смирному есть бунтующий или горящий, но не
хищный. Главное же, самая мысль неверна. Тут вы платите дань,
несмотря на ваш огромный, независимый ум, дань Петербургу
и литературе. Вы говорите: лучшие силы не деятельны, а те
деятельны. Да ведь это только в литературе. Т.е. одни знают, что
сами ничего не знают, и учатся, а другие, невежды и тупицы,
ничего не зная, учат и не учатся. Но это только в литературе. А в
(маленькой штучке) в жизни? Кто пашет, сеет, нанимает,
торгует, распределяет деньги, ездит, набирает солдат, командует,
главное, рожает и воспитывает себе подобных и лучших? Все
недеятельные, пассивные люди. Это совсем, совсем неверно»1.
По виду совсем неожиданное, суховатое формальное
обличение А. А. Григорьева. «Неправильным делением» Толстой
называет то, что он «никогда не понимал»: содержательное
несоответствие или даже речевую бедность типологической
установки Григорьева-критика своему собственному все
время содержательно уточняемому историчному кредо, все
сильнее охватывавшему его недоверию к литературе как некоторой
жизненной подлинности. Это мнение Толстого перекликается
с мнением Страхова, высказанным Толстому в письме от 5
февраля 1876 года: «В первом томе "Сочинений Ап. Григорьева"
(я теперь держу корректуру) речь часто идет об Вас, и я
удивляюсь его проницательности. К Вам он относится с величайшим
уважением, но видит в Вас самого крайнего представителя
начала, с которыми борется, от которых старается отстоять свое
"тревожное начало", "романтическое веяние". Книга при всем
безобразии изложения будет очень содержательна, очень
поучительна; не было человека, который бы в такой степени жил
литературой. <...> Григорьев издалека чувствовал Ваше
пришествие, но он не верил, что это будет пришествие в славе, и
упорно отстаивал то тревожное веяние, среди которого вырос.
Мне придется написать хоть небольшое предисловие»2. Чем
последовательнее раскрывает Л. Н. Толстой свое неожиданное
впечатление о Григорьеве, тем последовательнее и
неожиданнее ответы Страхова.
1 Л. Н. Толстой — H. H. Страхову. 1—2 января 1876 года. Ясная Поляна //
Л. Н. Толстой и H. H. Страхов: Полное собрание переписки. Оттава, 2003.
Т. I / Группа славянских исследований при Оттаве ком университете;
Государственный музей Л. Н. Толстого / Ред. А. А. Донсков; сост. Л. Д. Громова,
Т. Г. Никифорова. С. 244.
2 Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 5 февраля 1876 года. Санкт-Петербург //
Там же. С. 247.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 97
Л. Н. Толстой пишет: «Благодарю вас, дорогой Николай
Николаевич, за присылку Григорьева1. Я прочел предисловие,
но — не рассердитесь на меня — чувствую, что, посаженный в
темницу, никогда не прочту всего. Не потому, что не ценю
Григорьева — напротив, но критика для меня скучнее всего, что
только есть скучного на свете. В умной критике искусства все
правда, но не вся правда, а искусство потому только искусство,
что оно все»2. H. H. Страхов отвечает: «Искусство — все, Вы
пишете; да, так именно и думал Ап. Григорьев, и он один так
думал. Можно сказать, что его книга написана против критики»3.
Держась своего, Л. Н. Толстой пишет, наконец, о
познавательном начале того кредо, которое он издавна
вырабатывает и уточняет, о чем только вскользь, стилистически заметил
А. А. Григорьев: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною
руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между
собой, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная
словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда
берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само
же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то
другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно
словами никак нельзя; а можно только посредственно - словами
описывая образы, действия, положения. <...> Так вот почему
такая милая умница, как Григорьев, мало интересен для меня.
Правда, что если бы не было совсем критики, то тогда бы
Григорьев и Вы, понимающие искусство, были бы излишни. Теперь
же, правда, что когда 9/ю всего печатанного есть критика, то для
критики искусства нужны люди, которые бы показывали
бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном
произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном
лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства,
и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений»4.
Безоговорочное признание Толстым деятельно-единого,
невысказываемого, «чего-то другого», познавательного начала,
ко1 Имеется в виду книга: Григорьев А. А. Сочинения / Изд. H. H. Страхова.
СПб., 1876. Т. 1: (С портретом). - Прим. авт.
2 Л. Н. Толстой — H. H. Страхову. 8—9 апреля 1876 года. Ясная Поляна //
Л. Н. Толстой и H. H. Страхов: Полное собрание переписки. Оттава, 2003.
Т. I. С. 259.
3 Н. Н. Страхов - Л. Н. Толстому. Вторая половина апреля 1876 года.
СанктПетербург // Там же. С. 265.
4 Л. Н. Толстой — H. H. Страхову. 23 и 26 апреля 1876 года. Ясная Поляна //
Там же. С. 267-268.
98 Раздел I
торое как будто неявно сплачивает, «сцепляет» внутри и между
собою различные мыслительные действия, означает, что в
григорьевском предварительном понимании толстовских трудов
было немало несбыточного и фактически поспешного.
Толстой и не предполагал искать «то лицо» как некую последнюю
типологическую очевидность или полноту. Его
литературноличностные находки — вполне искренний, широкий горизонт
его беспощадного познавательного настроения, аналитически
опротестовывающего какую бы то ни было полноту
единственного лица. Иными словами, перед нами попытки прорыва к
знаково-символическому пониманию исторического процесса.
Поэтому Толстой и ссылается на искусство, в котором
«сцепления», в том числе и познавательные, осуществляются отнюдь не
формально-логически. Толстовские «лица», схожие с
пушкинским Белкиным, у Толстого характерно немотствуют — как в
отношении отвлеченных слов, так в отношении собеседников; их
познавательные «сцепления» происходят как бы за пределами
лицеприятии. Толстой еще в рассказе «Рубка леса» предложил
свое подробное типологическое описание подобных смирных
лиц1. Здесь и «покорный и хлопотливый малороссиянин»
Веленчук2, и замеченный А. А. Григорьевым дяденька Жданов, и
1 Н. А. Некрасов в письме к И. С. Тургеневу (18 августа 1855 года): «В IX №
"Совр." печатается посвященный тебе рассказ юнкера: "Рубка лесу".
Знаешь ли, что это такое? Это очерк разнообразных солдатских типов (и
отчасти офицерских), то есть вещь доныне небывалая в русской литературе.
И как хорошо!». Цит. по: Пыпин A. H. H. А. Некрасов. СПб., 1905. С. 135. —
Л. Н. Толстой посвящал рассказ Тургеневу, поскольку «невольно подражал
его рассказам». Толстой Л. Н. — И. И. Панаеву. 14 июня 1855 года. Бельбек //
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1935. Т. 59: Письма 1844—
1855 годов. С. 315, в том числе и «Трем портретам». Однако это подражание, и
в самом деле невольное, было далеким от подражания, «схватывающего одну
внешность». Пыпин A. H. H. А. Некрасов. СПб., 1905. С. 135. — Более того,
Н. А. Некрасов настаивал, что «формою она точно напоминает Тургенева, но
этим и заканчивается сходство; все остальное принадлежит вам и никем,
кроме вас, не могло бы быть написано». Некрасов Н. А. — Л. Н.Толстому. 2
сентября 1855 года // Нива. Ежемесячные литературные приложения. СПб.,
1898. С. 344. Толстой подражает Тургеневу в своем интересе к типу, но все
остальное, в том числе и вторая часть рассказа, в которой внезапно, небывало
для художественной литературы, предлагается явное дихотомическое
описание смирных, или, как тогда писал Толстой, «покорных» лиц — «покорных
хладнокровных» и «покорных хлопотливых». См.: Толстой Л. Н. Рубка леса.
Рассказ юнкера // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1935. Т. 3:
Произведения 1852—1856 годов. С. 43.
2 Толстой Л. Н. Рубка леса. Рассказ юнкера // Толстой Л. Н. Полное
собрание сочинений. М., 1935. Т. 3: Произведения 1852—1856 годов. С. 44.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 99
«слишком смирный и невидный, чтобы быть произведенным в
фейерверкеры»1 и «простодушный и милый» батальонный
адъютант2. В еще более раннем «Набеге» к такому типу относится
капитан Хлопов, избегающий отвлеченных понятий, которого
Григорьев, характерно оговариваясь или ошибаясь, называет в
своей статье капитаном Храбровым3.
Всесторонне непосредственный Белкин,
свидетельствующий о пушкинском мире русской жизни и вполне ясного
русского слова, преобразовывается и уточняется Толстым в «Двух
различных версиях улья с лубочной крышкой». Изначально
иносказательно, отвлеченно и в сцеплениях здесь
существует историк Прупру — во всем хваткий и настойчивый, усердно
внимательный ко многим свидетелям истории как таковой,
которая между тем остается для него только историей
лицеприятного трутня как такового, научно, без видимой корысти
заинтересованного общими чертами только своего басенно-роевого
лица. Прупру, историк ex professo, невольно и концептуально
лицеприятный трутень, саркастически альтернативен Белкину
и характерно безлик. Его собственное имя, постепенно
утрачиваемое по ходу историографического изложения (история
заканчивается как написанная трутнями, без указания на
авторство), звукоподражательно и является в смысловом
отношении неотчетливой, скрытой совокупностью различных речевых
смыслов, «общим местом» ничьей речи. Мир улья с лубочной
крышкой последовательно безлик: разнообразное белкинское
начало существенно дифференцировано. Л. Н. Толстой
посвоему историзует Белкина: дробит смысловое единство этого
лица и, одновременно, стремится удерживать и расширять это
единство иносказательно и исторично. Белкин поучителен для
1 Там же. С. 48.
2 Там же. С. 63.
3 Капитан Хлопов отклоняет расспросы волонтера, который ищет
определений храбрости: «Что же вы называете храбрым? — Храбрый? храбрый? —
повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется
подобный вопрос: — храбрый тот, который ведет себя как следует,
сказал он, подумав немного». Толстой Л. Н. Набег. Рассказ волонтера //
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1935. Т. 3: Произведения 1852—
1856 годов. С. 16—17. Григорьев, оговариваясь, невольно сличает прозаически
смирного капитана Хлопова с персонажем поэмы В. Л. Пушкина —
замысловатым капитаном Храбровым, «романтиком новым», от имени которого
написана поэма. См.: Пушкин В. Л. Капитан Храбров // Русская
романтическая поэма. М., 1985. [Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/p/pushkin_w_l/
text OOlO.shtml
100 Раздел I
Толстого, но отнюдь не решена проблема Белкина — проблема
познавательно неразложимого и невысказываемого в
фактичной истории, того, что еще А. А. Григорьевым было замечено
как «удивительное знание этих нравов и такое любовное и
вместе совершенно правильное к ним отношение»1.
«Две версии истории улья с лубочной крышкой» написаны к
концу 1880-х годов, десятилетия спустя после того как Толстой
с особенным вниманием стал заниматься Пушкиным (первая
дневниковая запись о Пушкине сделана еще в 1854 году2;
первое сильное увлечение пушкинским наследием — в 1856—1857
годах3; к «Повестям Белкина» особенно внимателен в 1873
году4); однако и Пушкин с его интересом к истории, и
пушкинский «удивительный» историк Белкин останутся предметом
аналитического, дифференцирующего внимания Толстого.
Обнаруженная А. А. Григорьевым проблема Белкина, «того
лица» в истории, всегда будет тревожить Толстого — как
вопрос возвратного и встречного понимания «искреннего своего»,
историчного другого, существующего прежде исторических
теорий и абстрактно-общих концептуализации исторических
смыслов.
1 Григорьев А. А. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья вторая //
Григорьев А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2: Статьи. Письма. [Электронный
ресурс]: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml
2 Толстой Л. Н. Дневник 1854 года // Толстой Л. Н. Полное собрание
сочинений. М., 1937. Т. 47: Дневники и записные книжки 1854—1857 годов. С. 9—10.
3 См.: Толстой Л. Н. Дневник 1856 года // Толстой Л. Н. Полное собрание
сочинений. М., 1937. Т. 47: Дневники и записные книжки 1854-1857 годов.
С. 108-111.
4 Дневники С. А. Толстой. 1860-1891. М., 1928. С. 35-36.
Глава 4
Николай Страхов: Николай Карамзин
и практическая философия истории
§ 1. «Вздох на гробе Карамзина»
Николай Николаевич Страхов — один из самых
теоретически «осторожных» исследователей в отечественной
философии истории. Специфика его трудов в том, что
они содержат не только историософские
размышления, но и попытки исторического понимания многих
значительных собеседников, для которых он был сердечным
читателем, желанным оппонентом и комментатором.
Особенно принято замечать влияние, которое
испытывала философия истории Н. Н. Страхова со стороны Н. Я.
Данилевского. Можно даже, скорее, говорить о философской
инициативе Н. Я. Данилевского и о взаимовлиянии — активном
соучастии в проблеме истории этих двух собеседников,
«расходившихся» друг с другом «во множестве вещей»1. Страхов
дорожит Данилевским не как изобретателем новой концепции
философии истории, а как естественно мыслящим философом,
предпочитающим понимать историю, исходя из собственных
предпосылок, естественного «славянофильства» и «славянской
терпимости», обдуманного патриотизма, а не из некоторой
искусственной теоретической озабоченности новым знанием
истории2.
1 См.: Скатов H. H. H. Страхов (1828-1896). [Электронный ресурс]: http://
az .lib. ru/s/strahow_n_n/text_0060. shtml
2 См.: Страхов H. H. О книге H. Я. Данилевского «Россия и Европа».
[Электронный ресурс]: http://gumilevica.kulichki.net/DNY/dnyl8.htm;
Страхов H. H. Наша культура и всемирное единство. [Электронный ресурс]:
http://gumilevica.kulichki.net/DNY/dnyl8.htm; Страхов H. H. Последний ответ
г. Вл. Соловьеву. [Электронный ресурс]: http://gumilevica.kulichki.net/DNY/
dnyl8.htm. Ср.: Султанов К. В. Социальная философия Н. Я. Данилевского:
конфликт интерпретаций. СПб., 2001.
102 Раздел I
Одним из таких, угодивших в архивную складку
времени1, страховских текстов следует признать «Вздох на гробе
Карамзина»2 — полемически заостренную эпитафию,
характеризующуюся «театральностью», нисколько, впрочем, не
оскорбительной по отношению к памяти Карамзина, современника
повсеместных искусных перевоплощений, театрализации
почти всех жизненных практик3.
Одна из последних бумаг, написанных рукой самого
Карамзина, заканчивается фразой: «Потомству приветствие из
гроба!»4 Театральность страховской эпитафии, в свою очередь,
многократно подтверждается обстоятельствами ее публикации.
Обнародованная «Зарей» в 1870 году, она была написана
автором, родившимся через два года после смерти Карамзина (1828
и 1826 годы), а прочитана российской публикой через четыре
года после юбилейных торжеств 1866 года, в котором
отмечалось столетие со дня рождения «особого избранного человека».
При этом H. H. Страхов заслонил свое авторство в этой
публикации излюбленным полемическим псевдонимом Н. Косица
(парафраз пушкинского «Феофилакт Косичкин», псевдонима,
который Пушкин использовал в полемике с Булгариным, —
характерно страховский прием самопереименования как отклика
и самоумаления!); тем самым уже масочно изобличался
прогрессизм А. Н. Пыпина, трактовавшего Карамзина как
человека из прошлого. Текст эпитафии последовательно
миметичен: пластичный, риторически выдержанный стиль Страхова
здесь повсюду отзывается на сентименталистскую стилистику
H. M. Карамзина.
1 Даже Ю. М. Лотман и Н. Я. Эйдельман, внесшие наибольший вклад в
современную отечественную карамзинистаку, не упоминают об этой работе.
Ю. М. Лотман упускает ее из виду даже тогда, когда предпринимает попытку
«понять позицию Карамзина» в связи с тем же карамзинским сочинением и
возражая тому же оппоненту, что и Н. Н. Страхов. См.: Лотман Ю. М. «О
древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях»
Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века // Лотман Ю. М.
Избранные статьи: В 3 т. Т. II. Таллинн, 1992. С. 194-205.
2 Страхов H. H. Вздох на гробе Карамзина // Карамзин: pro et contra. СПб.,
2006. [Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0030.shtml
3 См.: Лотман Ю. М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века.
Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения
человека начала XIX столетия // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. I.
Таллинн, 1992. С. 269-295.
4 См.: Лотман Ю. М. Колумб русской истории //Лотман Ю. М. Избранные
статьи: В 3 т. Т. II. С. 227.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 103
Полемический характер этой эпитафии препятствует
усмотрению герменевтической «лепты», внесенной здесь
Страховым в историку — практическую философию истории. Однако
без этого усмотрения понимание страховского текста было бы
существенно неполным. Редкая способность Страхова к
пониманию, замеченная еще Ап. Григорьевым1, придает
достоинство этому его философскому исследованию.
Эта способность, или, как говорил сам Страхов, «жгучий
интерес взаимного ауканья»2 обнаруживается в «эпитафии» прежде
всего в риторико-полемическом изобличении H. H. Страховым
своего оппонента — Александра Николаевича Пыпина3.
Позволим себе большую цитату.
«В сентябрьской книжке "Вестника Европы" явилась
огромная статья г. Пыпина "Очерки общественного движения при
Александре I. IV. Карамзин. Записка "О древней и новой
России", <...> в которой подробно и пространно осуждается
деятельность Карамзина и доказывается, что она имела самое
зловредное влияние на судьбы России.
Карамзин — вреден! Карамзин — зло в нашем развитии, язва
в нашей литературе, тормоз в нашем общественном движении!
Остановитесь, милостивый государь, на этой мысли*,
вдумайтесь в нее, вглядитесь, измерьте всю чудовищность ее смысла,
весь ужас, который она в себе заключает. Если Карамзин
вреден, то кто же может быть полезен? Если труд души и сердца
Карамзина были злом и бедствием, то кто же может льстить
1 См.: Наст. изд. Раздел 1, глава 2.
2 Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым. СПб., 1914. С. 305. - В
отечественном философском сообществе широко известно о том особом
достоинстве, которое придает эта способность переводам Страхова с немецкого (в том
числе фундаментальной «Истории философии» Куно Фишера).
3 Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — филолог, переводчик,
академик Петербургской Академии наук (1898), вице-президент АН (1904).
Наиболее известен как автор «Истории русской литературы», «Истории русской
этнографии», «Истории славянских литератур» (совместно с В. Д.
Спасовичем). К моменту появления «эпитафии» Страхова Пыпин был весьма
известным ученым и публицистом. — Ю. М. Лотман рассматривает
разоблачительную позицию А. Н. Пыпина в юбилейных карамзинских дискуссиях 1866 года
как нехарактерную для него: «Обычно академически объективный, Пыпин
излагает воззрения Карамзина с <...> очевидной тенденциозностью». См.:
Лотман Ю. М. Колумб русской истории. С. 195. В 1900 году — при третьем
издании своих «Исторических очерков общественного движения при
Александре I» — А. Н. Пыпин сумел включить в публикацию бывшую предметом
«герменевтической схватки» с H. H. Страховым и никогда не жалуемую
цензурой работу H. M. Карамзина в качестве приложения.
104 Раздел I
себя надеждою, что он трудится во благо? Если Карамзин
действовал против интересов России, то кто имеет право сказать,
что работает для ее пользы? Не господин ли Пыпин? Вижу,
очень хорошо вижу, что он так о себе думает, но после того, что
случилось с Карамзиным, не верю, не могу верить, не хочу
верить! Что такое г. Пыпин? Кому и в чем он может служить
примером? Я знать не хочу г. Пыпина! Если человек столь
возвышенной души, такого изумительного таланта, как Карамзин, не
сумел найти надлежащего пути и всю жизнь с величайшим
благодушием и чистою совестью наносил вред своему отечеству,
то каких глупостей и мерзостей (разумеется, бессознательных)
я не могу ждать от г. Пыпина, который, может быть, и
почтенный человек, но во всяком случае далек от Карамзина, как
земля от неба? Если суд г. Пыпина над Карамзиным справедлив, то
во сколько раз более жестокого суда должен ожидать от
потомства сам г. Пыпин? Не будет ли его статья клеймом позора для
его имени? В невинности души своей г. Пыпин не задает себе
этого страшного вопроса; беспечно и самоуверенно он играет в
отношении к Карамзину роль беспристрастного потомства; он
забывает — несчастный и наивный человек — что он тоже сидит
на скамье подсудимых и что с него взыщется тем строже, чем
выше сияет та слава, до венца которой он тянется своею
дерзкою рукою!
Карамзин вреден! Но стоит ли после этого жить и писать?
Когда подобный приговор составляет награду писателя столь
знаменитого, то как не приходят в отчаяние все писатели? На
что трудиться мне, г. Пыпину и всем? На что писали наши
предшественники? На что будут писать наши преемники? Нет,
г. Пыпин, тут что-нибудь да не так; нет, вы чего-нибудь не
сообразили, ибо из вашего заключения следовало бы, что вообще
вредна литература, или по крайней мере, что русская
литература до сих пор была злом для русского народа. Такая
кощунственная мысль, вероятно, нравится г. Пыпину; но берегитесь,
смелые и дерзкие люди! Есть граница, за которой смелость
свидетельствует только о тупоумии, и дерзость доказывает, что
человек не способен ценить и понимать того, о чем судит.
О, моя бедная Россия! О, мое несчастное отечество!.. Часто
я спрашивал себя: каким образом возможна у нас история,
поэзия, литература? как они могли явиться при столь
неблагоприятных условиях? казалось бы, русская жизнь должна порождать
одних Пыпиных, а между тем у нас есть Карамзин!.. О, я
понимаю то великое озлобление, которое царствует в известных
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 105
кружках против каждого светлого явления в нашем умственном
и литературном развитии! Я понимаю, что каждое такое
явление эти люди должны считать незаконным, неестественным,
противоречащим их заветнейшему убеждению! И когда я
подумаю о том, что это убеждение столь разительно
опровергается фактами, что мы имеем литературу при таких условиях,
при которых, по-видимому, никакая литература невозможна, то
я начинаю радоваться, начинаю смеяться над нелепыми
рассуждениями наших новейших историков, начинаю думать, что
история есть дело таинственное и трудно постижимое,
укрепляюсь все больше и больше в той утешительной мысли, что жизнь
немножко глубже, чем как понимает ее г. Пыпин»1.
§ 2. Здравый смысл и история
Насколько ярко здесь проявляется историзм мышления
Страхова, его ощущение потока истории, в котором работает и
историк Карамзин, и его критик Пыпин, и сам Страхов. Здесь,
как и повсюду в эпитафии, Страхов не принимает в расчет
возможные формально-доказательные стратегии полемики, как,
впрочем, далек он и от какой-либо герменевтической
«спиритуалистики». Эпитафическое рассуждение имеет в своем
основании дилемму здравого смысла и истории — то, как эта дилемма
предстает в историке H. M. Карамзина, и как она должна быть
герменевтически, в виду оппонента, «наивного душою»,
представлена и уточнена. «История есть дело таинственное и
трудно постижимое» - для тех, кто умозрительно поверхностен по
отношению к жизни; если история — не живой и жизненный
Карамзин, с его «трудом души и сердца», а только некое
отвлеченное познавательное поприще, безличная территория
исторических истин, то возможно и отвлеченное от реальной
жизни — в сторону личного «тупоумия»! — будто бы отважное
и дерзкое, абстрактно естественное, умозрительно
привлекательное и очевидно «нелепое», «смешное» рассуждение о
Карамзине — «кощунственное» историческое понимание.
Такое безличное, далекое от здравого смысла и опасное в своих
основаниях мнимое понимание истории, по Страхову, должно
быть не только разоблачительно представлено, но и
трезвопрозаически выяснено. Поэтому вернемся к тексту Н. Страхова
1 Страхов H. H. Вздох на гробе Карамзина // Карамзин: pro et contra. СПб.,
2006. [Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0030.shtml
106 Раздел I
и поставим вопрос: «Каким образом возможно самое появление
Карамзина?»
«Если мы послушаем наших новейших историков, то
должны будем сказать, что это был какой-то урод или сумасшедший,
а отнюдь не произведение исторических обстоятельств того
времени. Представьте себе картину тогдашней России так, как
ее изображают нынешние наши историки, столь
беспристрастные и проницательные. Всюду — зло и мерзость; помещики —
изверги, крестьяне — стада диких животных; господство грубой
силы, разврата, азиатского абсолютизма. И вдруг является
Карамзин. "Все условия жизни, — говорит г. Пыпин, — условия,
создавшиеся целыми десятками и сотнями лет, делали
невозможною добродетель". Кажется, ясно? И однако же — вдруг
является человек добродетельный. Является человек, кроткий,
как голубь, нежный и чувствительный, стыдливый, как девица.
Я радуюсь, а г. Пыпин негодует и недоумевает. Я преклоняюсь
перед таинственною глубиною жизни, готовящей обновление
русской литературы; г. Пыпин возмущается и злобно
издевается. По его мнению, законными, уместными, правильными
явлениями тогдашнего времени были какие-нибудь злодеи,
разбойники, Пугачевы; Карамзин же с его голубиною нежностию
ему кажется явным уродом, родившимся для того, чтобы
задержать исторический ход нашего развития.
<...> Из своего воспитания Карамзин вышел самим собою.
Я радуюсь, а г. Пыпин сердится и удивляется.
Но вот Карамзин едет путешествовать. При тогдашних
обстоятельствах какая это была огромная опасность! С его
идеями, с его увлечением французскою литературою, с пламенной
любовью к человечеству — что будет делать Карамзин, попавши
во Францию?.. Юный Карамзин посмотрел на события
революции с такой точки зрения, что они не покорили вполне его
души. Карамзин, как уверяет г. Пыпин, вовсе не понял этих
великих событий. И Карамзин возвращается. Карамзин спешит
домой. Какое благополучие. Я радуюсь всей душою, а г. Пыпин
негодует. Г. Пыпин думает, что в этом случае Карамзин был
глуп; я мог бы, однако же, доказать, что глупость не на
стороне Карамзина, что смысл французской революции, о которой
теперь так свободно рассуждает г. Пыпин, был величайшею
неожиданностью не только для человека чужого, а и для самой
Франции. "Кто мог думать, ожидать, предвидеть?" — писал
впоследствии Карамзин, — и это было не риторическою фразою,
как, вероятно, полагает г. Пыпин, а чистою правдою...
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 107
О, неразумные историки! О, славные толкователи
прошедшего! Как же вы не видите, что совершалось в душе Карамзина
и что помешало ему сочувствовать революции? Карамзин думал
о своем образовании, Карамзин в ту самую пору, о которой идет
речь, преобразовывал наш слог своими письмами, Карамзин уже
мечтал о своей истории! А главное, существенное, непобедимое
препятствие состояло в том, что Карамзин всей душою был в
России, не покидал ее мыслью ни на минуту, весь жил
воспоминаниями своей родины, своего детства, своих друзей. Что же
дивного, что он смотрел на революцию невнимательно, видел
вещи в розовом свете, и лишь впоследствии понял истинный
смысл виденного?»1
Здесь, как и в предыдущей цитате, для нас важно, что
Страхов, защищая Карамзина, апеллирует к
конкретноисторической ситуации, к историческому контексту, который
оправдывает именно такое, а не иное поведение Карамзина,
делает его стиль исторического повествования достойным
своего времени. Карамзин появляется не в аспекте некоторого
будущего пыпинского понимания, но осмысленно, «классически»2
присутствуя в исторично понимаемой им жизни; решительное
благоразумие Карамзина, как условие плодотворности этого
присутствия, Страхов предельно максимизирует в
контрастирующей, герменевтически расходящейся стилистике изложения —
стиле акафиста, преобразованного ради прославления само
собою понятного, славного своей нравственно-исторической
адекватностью Карамзина; с другой стороны — ради
разоблачения мнимостей беспристрастного исторического понимания
А. Н. Пыпина («Радуйся»: «Я радуюсь, а г. Пыпин негодует и
недоумевает», «Я радуюсь, а г. Пыпин сердится и удивляется»,
«Я радуюсь всей душою, а г. Пыпин негодует»). Пыпинское
«недоумение» является, как видно, неким побочным
результатом доверия Пыпина к иной ипостаси здравого смысла — sensus
communis logicus, понуждающего доверять «историческому ходу
1 Страхов H. H. Вздох на гробе Карамзина // Карамзин: pro et contra. СПб.,
2006. [Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0030.shtml
2 См. реплику Л. В. Пумпянского в отношении Г. Р. Державина, чтимого
Н. Н. Страховым наряду с Н. М. Карамзиным и М. В. Ломоносовым
(«светила и образцы»): «...как и Пушкин, Державин был поэтом центральных,
руководящих идей; классики сектантами не бывают, они на службе всей страны,
а не мартинистов и не декабристов». Пумпянский Л. В. К истории русского
классицизма // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: собрание трудов
по истории русской литературы. М., 2000. С. 106.
108 Раздел I
нашего развития», которому должен соответствовать
Карамзин1. Это «доверие» абстрактным обстоятельствам, понятое как
негативная редукция исторического понимания, является
своего рода «схематическим идеализмом», который с точностью до
наоборот напрасно подозревали у самого Страхова. H.H.
Страхов, как видно, легко соглашается с возможностью умаления
Карамзина («что же дивного, что он смотрел на революцию
невнимательно, видел вещи в розовом свете наследия») — но не
столько с точки зрения sensus communis logicus, сколько
настаивая на том целостном здравом смысле, который проясняет
значение «историчного» Карамзина с «вековечной» точки зрения2.
Вот как это делает Страхов, продолжая полемизировать с
Пыпиным:
«...Какое право имеет г. Пыпин поступать здесь так, как он и
везде поступает по отношению к Карамзину, а именно —
истолковывать все его слова и действия в дурную сторону? Разве
Карамзин подал к этому хотя малейший повод? Если бы мне
сказали, что г. Пыпин сделал глупость или подлость, то и тогда я
не считал бы себя правым, злорадно поверивши первому слуху.
Во сколько же раз виноватее г. Пыпин, постоянно
подкладывающий под слова и действия Карамзина побуждения подлые и
низкие? Г. Пыпин обходится с Карамзиным так, как я никогда
не решусь обойтись даже с г. Пыпиным. <...>
Г. Пыпин уверяет нас, как мы видели, что Карамзин был
льстецом по отношению к верховной власти; что же касается до
народа, то, по словам г. Пыпина, Карамзин смотрел на него "с
1 Этот sensus communis logicus, сугубо эпистемологический план здравого
смысла, надо полагать, хорошо известный Страхову из его немецких
философских штудий, есть некая односторонность мышления: «нет никакой
возможности отличить мыслимое бытие от бытия действительного».
Страхов Н. Н. Философские очерки. СПб., 1895. С. 32. Ср.: Грот Н. Я. Памяти
Н. Н. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания. М.,
1896. Но доверие к целостному здравому смыслу, осмысливаемое
посредством этого центона, — страховское.
2 Это понимание, довольно близкое шотландской школе здравого смысла,
Страховым осмысливается без теоретических или практико-религиозных
обособлений, именно герменевтически. Х.-Г. Гадамер отличает подобный
здравый смысл от «просветительского» (вплоть до кантовского различения
sensus communis logicus и sensus communis aestheticus), называя его одним из
«ведущих гуманистических понятий», или «гуманистическим здравым
смыслом». См. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики.
С. 61-72 и ел. Ср.: Шестакова М. А. Функции здравого смысла в герменевтике
Гадамера // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1999.
№4. С. 90-100.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 109
брезгливостью помещика, считавшего, что крестьяне
принадлежат к другой породе"; Карамзин будто бы любил и одобрял
"торговлю людьми, как собаками"; у Карамзина "парни
женились и девки выходили замуж по барскому приказанию";
словом, он был заражен "самым дюжинным крепостничеством" и
его чувства в этом отношении "граничили с совершенным
бессердечием".
...На чем основывает свои выводы г. Пыпин? Единственно
и исключительно на том, что Карамзин не желал отмены
крепостного права. Какое нелогическое заключение! Какое явное
невежество в механизме пружин человеческих действий и в
свойствах души человеческой! Из того, что Карамзин защищал
крепостное право, не только не следует, что он был дурной
помещик, а напротив, должно быть выведено, как несомненное
следствие, что он был помещик прекраснейший и
человеколюбивейший, почему и не видел зла в крепостном праве.
Сия мысль достойна рассмотрения более внимательного.
Крепостное право есть вздор в сравнении с вечностию —
таково мое мнение, утвержденное во мне долгими размышлениями.
И всякая мудрость человеческая есть вздор в сравнении с
тайнами мира и человека; даже мудрость г. Пыпина, гордящегося
тем, что он усматривает зло в крепостном праве, мне кажется,
составляет слабое возражение против ничтожности
человеческого разумения. Но благородство души человеческой не есть
вздор ни в каком случае, ни в каком сравнении. И потому вот
где истинное мерило жизни и руководящая нить наших
суждений. Что Карамзин был помещик и заблуждался — это еще
небольшое горе, если бы мы узнали; но истинное было бы горе,
если бы мы узнали, что он был действительно человек
бессердечный. По счастию, его нравственный характер есть
незыблемая истина, и свет этой истины нам озаряет дело гораздо яснее,
чем вся ученость г. Пыпина»1.
Сквозь метафорический и риторически сложный язык
Страхова проступает с ясностью историческая конкретность,
ориентированная на смысл событий, на символическое значение
тех или иных событий, вписанных в структуру эпохи, в которую
вписан Карамзин. Кроме того, здесь достаточно ясно
обозначена позиция самого Страхова, не приемлющего абстрактный
характер социальных схем развития (именно за это он ругает
1 Страхов H. H. Вздох на гробе Карамзина // Карамзин: pro et contra. СПб.,
2006. [Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0030.shtml
ПО Раздел I
Пыпина). Пыпин, по мнению Страхова, судит Карамзина с
позиции своей современности, которую считает более высокой
и единственно возможной точкой развития по сравнению с
предыдущей. Но это именно и есть «дурной историзм», против
которого выступает культурно-историческая эпистемология,
предлагающая смотреть на современность не как на более
высокий этап развития, но как на исторический исток будущих
человеческих вершин.
Неверным будет предположить здесь и в каких-либо
других частях эпитафии Страхова необдуманную,
«бессознательную» несдержанность, внезапный эмотивизм. Страхов нигде не
бранчлив; напротив — мастерски адекватен жанру. Н. Я. Грот
метафорически описывает исследовательскую
проницательность H. H. Страхова, его этико-герменевтическую
исследовательскую позицию как «светлый рационализм»1. Большинство
биографов, современников H. H. Страхова, тесно увязывает
рационалистические установки страховской герменевтики с
идеалистической перспективой, с гегелевской установкой
диалектического понимания абсолютного, которую Страхов, насколько
это для него возможно, воспроизводит и соблюдает. Однако
текст эпитафии прямо свидетельствует только о страховской
готовности отозваться на близость абсолютного, как это дает себя
знать в случае с H. M. Карамзиным. Всегда чуждый какому бы
то ни было конструктивизму, Страхов предпочитает описывать
базовые презумпции исторического понимания Карамзина как
«вековечно» близкое свое. «Идеалист» скорее Пыпин, судящий
Карамзина с «более высокой точки зрения».
Из текста эпитафии следует также, что страховское,
герменевтическое по своей сути, прочтение исторических
предпосылок Карамзина не может быть сведено к жестким
схематизациям. Он спорит с пыпинским «исторически тенденциозным»
пониманием жизненных презумпций Карамзина, отстаивая то,
чем сам всегда так дорожил — ответственное отношение к
стилю как способу существования личности автора в тексте.
Герменевтическая связь здравого смысла и истории, по Страхову,
предполагает не только гуманизацию исследовательских
установок, но и то, в чем они находят свое воплощение — речевых
стратегий исторического письма:
1 Грот Н. Я. Памяти H. H. Страхова. К характеристике его философского
миросозерцания. М., 1896.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 111
«Кому случилось в жизни написать хоть одну страницу,
достойную имени литературного произведения, тот знает, что
создавая эту страницу, он клал свою душу на бумагу, изливал на
бумагу свое сердце; иначе ничего бы не вышло, или вышло бы
нечто такое, что обличило бы лишь кривляющуюся пустоту и
напрягающуюся глупость писавшего. Повторяю — слог есть
выражение души писателя. Карамзин преобразовал русскую
литературу своею душою»1.
§ 3. Субъективность как чистая историчность
В риторически весьма оживленном тексте эпитафии
трудно заметить, насколько непретенциозен H. H. Страхов в своей
верности здравому смыслу — мимоходом, оговорочно
перемежая свои высказывания кенотическими репликами:
«Г. Пыпин обходится с Карамзиным так, как я никогда не
решусь обойтись даже с г. Пыпиным»2.
«Не знаю, насколько позволительно и полезно желать, чтобы
не было того, что уже было; в этом вопросе есть глубина,
смущающая мою философию»3.
«Неохотно и не без некоторого смущения касаюсь я
предметов этого рода. Далекий от дел государственных, нередко я
втайне благословляю свою смиренную долю, когда помыслю,
в какое великое затруднение привели бы меня задачи, с коими
другие обращаются легко, отважно, не задумываясь»4.
«Что скажем в заключение? Заговорим ли об "Истории
государства Российского"? Но величие предмета изумляет меня и
внушает мне дерзость безмолвия»5.
Если не знать Страхова и судить его только по
представленной полемической эпитафии, нелегко понять как бы сами
собою разумеющиеся заметки В. В. Розанова о «тонком Страхове»
или Страхове-«шептуне»6; здесь-то H. H. Страхов как раз счел
должным «сказать в лицо» — исполнил то обязательство
говорить откровенно, которое предполагал эпитафический жанр, —
1 Страхов Н. Н. Вздох на гробе Карамзина // Карамзин: pro et contra. СПб.,
2006. [Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0030.shtml
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Розанов В. В. Мимолетное. М., 1994. С. 42, 94.
112 Раздел I
вплоть до вполне кенотического предположения о том, как
принята будет эта откровенность:
«Ну, что значит мое письмо? Г. Пыпин может считать его за
шутку от первой строчки до последней. Мы все шутим, у нас
все шутки! Статьи г. Пыпина, на мой взгляд, тоже чистейшие
шутки. Даже целый "Вестник Европы" есть не что иное, как
огромная шутка, ежегодно издаваемая в двенадцати толстых
томах, — шутка над русскою литературою, над русскою историею,
над памятью Карамзина, имени которого посвящен сей журнал.
Мы резвимся и играем — кто как умеет, кто во что горазд, кто в
европейскую цивилизацию, кто в русскую народность! А жизнь
и история между тем идут своим чередом, и ни цивилизация, ни
народность нас знать не хочет»1.
За пределами эпитафии этот
кенотически-предположительный момент будет усилен и преобразован в письме
Н. Н. Страхова Л. Н. Толстому: «Что же я сделал? Я стал
смеяться над ними, стал вступаться за логику, <...> за историю, за
философию. Шутки мои едва ли многим были понятны и
только покрыли мое имя позором»2. Афористичный В. В. Розанов
в мимолетной записи 1915 года, спустя почти двадцать лет
после смерти Страхова, отчетливо припоминает то, что было
известно всем, сколько-нибудь близко его знавшим: «Страхова не
подкупишь»3.
То, что Страхов «говорит в лицо» А. Н. Пыпину, не совсем
обычно для самого Страхова, но вполне допускаемо жанром и
тогдашним разночинным «этическим регламентом» полемик.
Кто не говорит откровенно, в стиле «неистового Виссариона» в
середине XIX в., в послениколаевские времена? Таковы и
бывшие петрашевцы (в том числе Н. Я. Данилевский), и ровесник
Страхова Н. Г. Чернышевский, П. Л. Лавров, М. А. Антонович,
Д. И. Писарев и др.; не стал исключением и А. Н. Пыпин, так
поразивший Страхова — не столько своей неакадемической
несдержанностью, сколько своим недомыслием, стремлением
последовательно отстаивать не мысль, и не здравый смысл, а
социально-политическую ангажированность мышления4. Сам
H. H. Страхов, соблюдая этико-риторическую адекватность
времени, в котором он поневоле исследует Карамзина,
остает1 Розанов В. В. Мимолетное. М., 1994. С. 42, 94.
2 Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым. СПб., 1914. С. 447.
3 Розанов В. В. Мимолетное. С. 276.
4 Стиль этот сохранился и в наши дни. Можно даже сказать, что именно
сегодня он переживает своеобразный Ренессанс.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 113
ся «одним из трезвых между угорелыми»1, сохраняет
«подчеркнуто трезвый взгляд на вещи»2 — неподкупную приверженность к
«вековечной» точке зрения, которую он, как это для него
свойственно, находит не в исключительно своем, а исподволь — у
Карамзина.
«Что было бы с нами, если бы нашу историю до сих пор
писали только наши мудрецы, мудрецы нынешние или мудрецы
тогдашнего времени? Не могу помыслить без ужаса. Что было
бы, если бы русскую историю написал Сперанский, который
думал, как о том упоминает г. Пыпин, что на наше прошедшее
можно взглянуть совсем иначе? Сперанский не изъяснил своей
мысли подробнее, но мы можем хорошо ее угадывать. От
Сперанского до г. Пыпина немало было людей, которые смотрели
на русскую историю совсем иначе и пытались совсем иначе
писать ее. Мы знаем, каким отвратительным слогом эти люди
писали и пишут; для нас не тайна, отчего у них действительно все
выходило совсем иначе, чем у Карамзина, а правильнее сказать,
до сих пор ровно ничего не выходит»3.
«...Нужен был ум, бесконечно ясный и чуткий, чтобы
понять, что точка зрения нравственная и художественная, то есть
вековечная точка зрения, одна могла быть твердою опорою для
создания нашей истории, что всякая иная точка зрения
неминуемо увлекла бы историка во взгляды ложные и
поверхностные».
Не являясь ни герменевтикой безличной субъективности, ни
односторонне-эпистемологическим развитием идеи
«зрительного пункта» Лейбница и Хладениуса, цельная «вековечная»
точка зрения историка, по Страхову, имеет иную —
гуманистическую — укорененность: «Но что я говорю? Столь высоких
даров не нужно было, или правильнее — нужно было сверх этих
даров нечто большее, — нужна была простота и чистота
младенца, посрамляющая, как мы знаем, мудрость мудрых и разум
разумных!»4
«Он [Карамзин. - Авт.] сам иногда задумывался, дивился
самому себе. Найти прямой путь было столь же трудно, говорит
1 Грот Н. Я. Памяти H. H. Страхова. К характеристике его философского
миросозерцания. М., 1896. С. 8.
2 Скатов Н. Н. Н. Страхов (1828-1896). [Электронный ресурс]: http://az.lib.
ru/s/strahow_n_n/text_0060. shtml
3 Страхов H. H. Вздох на гробе Карамзина // Карамзин: pro et contra. СПб.,
2006. [Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0030.shtml
4 Там же.
114 Раздел I
он, как найти философский камень; но его несравненное
сердце указало ему этот путь безошибочно! "La religion de mon coeur
m'a fait presque trouver la pierre philosophale" <Моя сердечная
вера позволила мне чуть ли не найти философский камень> —
из письма к жене...»1
Отстаивая гуманистический здравый смысл, Страхов, судя
по всему, предпочитает обойтись без принимаемой
безоговорочно А. Н. Пыпиным идеи «исторического прогресса»;
никак не предпочитает время в качестве меры истории. Именно в
этом состоит смысл культурно-исторического взгляда на
историю. В чистой событийности человеческой жизни нет истории,
но нет ее и в историческом исследовании, имеющем в себе
«набросок» (М. Хайдеггер) чистой историчности. «Вздыхая на
гробе Карамзина», Страхов не устает повторять, что «история есть
дело таинственное»; но это не тайна, раскрытие которой
требует научной отрешенности от исторически реального. Это
светлое таинство, некая очевидность, недоступная только
«засмысленному» уму (M. M. Пришвин), и вполне открытая тому, кто
силится, подобно Карамзину, соблюдать фактичность истории
в единстве реального и мыслимого, в нравственно
обдуманном, свободном и ясном слове — единственно доступном месте
встречи с минувшим, которое всегда гуманистично, всегда
олицетворено.
«Когда я представляю себе Карамзина, возвратившегося из
путешествия, когда воображу себе этого удивительного
юношу, в котором тогда воплотилась наша литература, я не нахожу
меры своему восхищению. Это было зрелище очаровательное,
ослепляющее; это было чудо едва постижимое. Вот человек,
который посетил чужие края, — и однако же любит свою родину
прежнею пламенною любовью; он беседовал с первыми умами
Европы — и однако же умственные интересы Москвы имеют
для него ту же кровную драгоценность; он украшен всею
глубиною и тонкостию тогдашнего образования, и однако же он
вполне русский, русский до мозга костей. Какова сила, каково
притяжение русской жизни! Какая способность взять у Запада
много, очень много — и не отдать ему ничего заветного! Душа
моя наполняется умилением...»2
1 Страхов H. H. Вздох на гробе Карамзина // Карамзин: pro et contra. СПб.,
2006. [Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0030.shtml
2 Там же.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 115
В философском наследии H. H. Страхова — впрочем,
никогда не порывавшегося создать философию in statu nascendi, —
проблематика исторического знания имеет особый вид. Весь
XIX век охвачен историческими настроениями и представлен
событиями, которым историки, современники H. H. Страхова,
охотно подыскивают место во вновь открываемой ими
«всемирной истории» (Weltgeschichte, по слову Л. фон Ранке). История
как некая жизненная действительность является и
непременным условием философских разговоров о России, ведшихся в
обстановке радикальной социальной искренности, вплоть до
искренности «отвратительной», свойственной особенно эпохе
«великой русской гласности» (П. И. Вейнберг), 60—70-м годах
XIX в. Активно присутствуя в этих разговорах H. H. Страхов —
то ли как «всепонимающий философ» (Ап. Григорьев), то ли
как философ «второстепенный» (В. В. Зеньковский) или даже
«кладбищенский» (М. А. Протопопов) — никак не претендовал
на оригинальность мысли, но упорно стремился к тому, чтобы
не потерять лицо, оставаться «трезвым между угорелыми»1.
Эта особенная историчная непреклонность H. H.
Страхова, мыслителя, знавшего толк в интеллектуальной игре, еще
ждет своих исследователей. Однако уже сейчас можно
присмотреться к неформализованному идеальному, к ценностным
ориентирам, которые дают себя знать в разговорах H. H.
Страхова со своими значительными современниками. Единство
этих ценностных ориентиров у H. H. Страхова отметил еще
В. В. Розанов2; у самого Страхова они предстают в некотором
практическом, центонном тождестве свободомыслия и
самоумаления — в решимости высказываться, ориентируясь на
собеседника и, одновременно, учитывая различные стратегии
самопонимания, как они предстают в трудах его
современников по эпохе и столетию3. Перечитывает ли Н. Н. Страхов
рас1 Грот Н. Я. Памяти H. H. Страхова. С. 10.
2 Розанов В. В. Мимолетное. С. 276.
3 Об эпистемологическом ресурсе концепта центона см., напр.:
Аверинцев С. С. Литература // Культура Византии IV — первой половины VII в. М.,
1984. С. 281; Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению
действительности // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной
традиции. М., 1996. С. 158; Данилевский И. Н. «Повесть временных лет»:
герменевтические основы источниковедения летописных текстов. — М.,
2004. С. 55—75. Концепт центона, на наш взгляд, позволяет не упускать из
виду именно конкретность социальных рефлексий H. H. Страхова,
историчный или онтологически «участный» (M. M. Бахтин) характер его социального
мышления.
116 Раздел I
суждения H. M. Карамзина о социальной истории,
дискутирует ли с В. С. Соловьевым о доктрине социально-исторических
типов Н. Я. Данилевского, исследует ли пушкинскую историю
небывалого села Горохина1, пишет ли о совести, комментируя
вольтеровского «Микромегаса» или «Путешествия Гулливера»
Дж. Свифта, - повсюду заметно страховское стремление
сблизиться с чужим словом с некоторой предельной точностью,
освоить его, понять и принять то, о чем говорит собеседник, с
микроаксиологической адекватностью с точки зрения
конкретно и индивидуально-практически понимаемой им «вечности».
Позднее незавершенное исследование проблемы времени
H.H. Страхов успевает подвести к пониманию «живой
вечности» («волнующемуся океану вечности»), не тождественной
ни «вечности созерцательной», ни «вечности мыслительной»,
которые «суть два различные представления»2. Со сходной
точностью и последовательностью начнет рассуждать о
времени в эпоху Н. Н. Страхова, пожалуй, только Ш. Ренувье в
своей «аналитической философии истории», но доведет разговор
только до абстрактной этико-персоналистической постановки
проблемы того, о чем Страхов замечает только как о наиболее
«удобном» субъективном представлении о времени. Проблема
темпоральное™ исторического исследования не является
разрешенной и в современной исторической эпистемологии, и в
исторической герменевтике. «После Страхова» она только
различным образом поставлена, описана или предварительно
обсуждена. В своем предпонимании этой проблемы H. H.
Страхов — актуальный, «заслуженный» собеседник X. Г. фон Вригта,
Х.-Г. Гадамера, M. M. Бахтина или Л. В. Пумпянского;
мыслитель, который был бы, надо полагать, интересен М. Серто,
П. Рикеру, Д. Карру, X. Уайту, Фр. Анкерсмиту и др.
1 Под названием «Летопись села Горохина» H. H. Страхову и его
современникам была известна пушкинская «История села Горюхина» —
официальный цензурный вариант, напечатанный после смерти Пушкина в 1837 г. См.,
напр.: Пушкин А. С. История села Горюхина // Пушкин А. С. Полное
собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. М., 1960. [Электронный ресурс]: http://www.rvb.
ru/pushkin/02comm/0863 .htm
2 Страхов H. H. О времени // Страхов H. H. Философские очерки. Киев,
1906.
Глава 5
Арон Гуревич: Михаил Бахтин и проблемы
эпистемологии исторического знания
§ 1. А. Гуревич о методологических идеях М. Бахтина
Исследования историка-медиевиста А. Я. Гуревича
оказали большое влияние на философию, культурологию,
антропологию, историю. Именно этого ученого можно
назвать создателем историко-антропологического
направления в отечественной исторической науке;
именно он впервые поставил вопрос о значении идей M. M. Бахтина
для эпистемологии исторического знания. «Я не думаю, что
понятие "диалог" - простая метафора»1, - размышлял в 1990 году
А. Я. Гуревич — историк, всегда остававшийся примером
ученого, редчайшего по своей познавательной отваге, искренности и
научной плодотворности. Благодаря его
контридеологическому, ничем, кроме собственного профессионализма, не
ангажированному интересу к Бахтину, во многом стали возможными
попытки осмысления философской программы Бахтина в
исследованиях практикующих историков. Для него тогда
диалог, являясь эпистемологической метафорой, был верен в его
нормативно-ценностном статусе, как своего рода
культурноисторический ориентир, который вопреки познавательной
догматике санкционирует практикующему историку отказ от
единственной, только нюансируемой, идеологической версии
историзма и эвристически обеспечивает другой историзм —
антропологический познавательный интерес к своему
непредрешаемому историческому другому.
Конкретная полемика с Бахтиным была связана с
приложением принципа диалогизма к историческому исследованию
(полемика о карнавально-смеховой культуре). В течение
полутора десятилетий методологическая позиция А. Я. Гуревича
корректируется: диалог как эпистемологическая метафора
из1 Гуревич А. Я. Европейское средневековье и современность // Европейский
альманах. История. Традиции. Культура. М., 1990. С. 135.
118 Раздел I
живает себя. На передний план выходят те глубинные
характеристики диалогизма, которые к собственно диалогу (понятому
во внешнем, лингвистическом смысле) имеют весьма
опосредованное отношение. Акцент сдвигается на вопрошание:
«Историки ставят только те вопросы перед своими источниками
(относящимися, может быть, к очень глубокому или
недавнему прошлому), которые так или иначе существенны для
современности. И они отвечают на них»1. Диалогический контекст
остается, поскольку остается вопрос о том, как историки
отвечают: «Разумеется, переносить современные представления об
индивиде на прошлое — это искажение истории, это путь
негодный, хотя по нему очень часто ходили. Гораздо реже
пытались выяснить, каков же этот человек, живший в другую эпоху,
тот, применительно к которому Ле Гофф употреблял понятие
"l'autre" — другой. Человек другой эпохи — он другой, иной.
У него есть свои представления о жизни, о смерти, обо всем, и
он руководствуется этим миросозерцанием, может быть, и не
продуманным, но присутствующим в подсознании — и
индивидуальном, и коллективном»2. И все же основной
эпистемологической проблемой исторического знания становится для
Гуревича отнюдь не другой сам по себе, но отношение «я — другой»:
«Мне кажется, — размышляет он, — что центральная проблема,
проблема проблем современного гуманитарного знания,
волнующая не только историков, но и философов, филологов,
искусствоведов, — это проблема проникновения во внутренний
мир людей, живших в ту или иную эпоху»3. Более того,
проблематичен сам историк в его индивидуальной или коллективной
историчности постольку, поскольку он познает себя через
других: «историческое познание — это всегда, так или иначе,
самопознание общества»*. Диалог из эпистемологической метафоры
с ценностно-нормативным смыслом, каким он когда-то
представлялся А. Гуревичу, трансформировался в принцип
диалогизма, предполагающий ответственность историка за свою
современность и за собственные действия (реконструкцию) по
отношению к исторической действительности. «Всякая
историческая реконструкция есть не что иное, как историческая
1 Гуревич А. Я. Историк у верстака // Отечественные записки. 2004. № 5.
[Электронный ресурс] : http://www.strana-oz.ru/?numid=20&article=939
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 119
конструкция. Это именно я конструирую. Я хочу
реконструировать прошлое, но я его воссоздаю исходя из идей, которые
не столько из источников взяты, сколько из той жизни —
индивидуальной, социальной, идеологической, — к которой я сам
приобщен»1.
Если мы интерпретирует идейное движение А.
Гуревича от диалога как эпистемологической метафоры к
диалогизму как принципу исторического исследования, то особую
философско-методологическую значимость приобретает один
из самых экспрессивных лабораторных текстов M. M. Бахтина:
«Узкое понимание диалогизма как спора, полемики,
пародии. Это — внешне наиболее очевидные, но грубые формы
диалогизма. Доверие к чужому слову, благоговейное приятие
(авторитетное слово), ученичество, поиски и вынуждение
глубинного смысла, согласие, его бесконечные градации и оттенки
(но не логические ограничения и не чисто предметные
оговорки), наслаивания смысла на смысл, голоса на голос, усиления
путем слияния многих голосов (коридор голосов),
дополняющее понимание, выход за пределы понимаемого и т. п. Эти
особые отношения нельзя свести ни к чисто логическим, ни к
чисто предметным. Здесь встречаются целостные позиции,
целостные личности (личность не требует экстенсивного
раскрытия — она может сказаться в едином звуке, раскрыться в едином
слове), именно голоса»2.
Диалог здесь предлагается осмысливать вполне
методологически, определяя то, что выходит за границы известных
когнитивных стратегий. Он является некоей сквозной и требующей
нового слова познавательной подлинностью. Приобщение к
этой реальности становится возможным в ситуации
радикальной познавательной открытости или необобщаемой полноты
познания. Позиции «участников диалога», с одной стороны,
мировоззренчески различны, личностно целостны и полны
в голосе. С другой стороны, они всегда открыты друг другу.
Стоит снять в рациональном определении
эмоциональноличностные интонации, заглушить голоса диалога, их
свободу воли, как тут же он будет стушеван и пленен монологизмом
абстрактного сознания3. Стоит безапелляционно определиться
1 Там же.
2 Бахтин M. M. 1961 год. Заметки // Бахтин M. M. Собрание сочинений. Т. 5.
М., 1996. С. 332.
3 Ср.: Там же. С. 341, 350-351 и др.
120 Раздел I
в глубине и границах диалога, как он тут же обезвременится в
абстрактно заданной позиции. Из диалога исчезнет
познавательная открытость, предполагающая инаковость и понимание.
Реальность диалога есть реальность полноты познавательного
действия, представляемого различными историческими
типами диалогического отношения (платоновский диалог, диалог
Иова) и к этим типам несводимой. Диалог очевидным образом
авторитетно упрочен, предполагает любовную полноту доверия
к другому (любовь к себе здесь является только
«координатным отношением»1), его возможность «нудительна», поскольку
предполагает постижение глубоко личных смыслов другого, как
скоро или непредрешаемо они бы ни раскрывались, — таким
образом «вынуждаются», высвобождаются в диалогической
реальности несобственные, глубинные смыслы каждого из
вступивших в диалог.
Размышляя над работами M. M. Бахтина, А. Я. Гуревич
писал, что диалогическая установка, избираемая историком,
позволяет ему изучать свой предмет, «вненаходясь». И, конечно,
он имел в виду прежде всего фрагмент из бахтинского «Ответа
на вопрос редакции "Нового мира"»: «Великое дело для
понимания — это вненаходимостъ понимающего — во времени, в
пространстве, в культуре — по отношению к тому, что он хочет
творчески понять. Ведь даже собственную наружность человек
сам не может по-настоящему увидеть и осмыслить в ее целом,
никакие зеркала и снимки ему не помогут; его подлинную
сущность могут увидеть и понять только другие люди, благодаря
своей пространственной вненаходимости и благодаря тому, что
они другие. В области культуры вненаходимость — самый
могучий рычаг понимания. Чуждая культура только в глазах
другой культуры раскрывает себя полнее и глубже (но не во всей
полноте, потому что придут и другие культуры, которые увидят
и поймут еще больше). Один смысл раскрывает свои глубины,
встретившись и соприкоснувшись с чужим смыслом: между
ними начинается как бы диалог, который преодолевает
замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур. Мы
ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не
ставила, мы ищем в ней ответы на эти наши вопросы, и чужая
культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои
сто1 Бахтин M. M. 1961 год. Заметки // Бахтин M. M. Собрание сочинений. Т. 5.
М., 1996. С. 358.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 121
роны, новые смысловые глубины. Без своих вопросов нельзя
творчески понять ничего другого (но, конечно, вопросов
серьезных, подлинных). При такой диалогической встрече двух
культур они не сливаются и не смешиваются, каждая
сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно
обогащаются»1.
О чем здесь говорит Бахтин? Прежде всего, именно то, на
что и обратил внимание А. Гуревич: чтобы понимать другого,
нужно иметь свои вопросы, свою смысловую глубину. В то же
время смысл бахтинского ответа (как и многие его
афористические наброски о диалоге) может быть истолкован по-разному и
требует контекстуальной определенности. Культура может быть
истолкована и как «диалогический другой», и как «свой», и как
«пространство диалога» (или среда герменевтического опыта).
Да и его словесно-понятийная «новинка» - вненаходимость
также может иметь множество интерпретаций. Если мы
понимаем диалог как некоторое «поле разговора» (говоря словами
Г.-Г. Гадамера), то мы должны признать, что диалог, строго
говоря, не избирается, он определенным образом дает понять
себя по мере выявления того особого напряжения, которое
обнаруживается у каждого его участника как направленная,
мировоззренческая, любящая, конкретная вненаходимость «меня
единственного»2. Вместе с тем мы сегодня (да и Гуревич в свое
время), хорошо понимаем, что «вненаходимость», по Бахтину,
не предполагает какой-то абсолютной среды или
безвоздушного пространства «диалога», поскольку таковой просто не может
быть в реальности человеческой жизни. Человек всегда
откудато, всегда историчен и его «вненаходимость» всегда есть
находимость в другом месте по отношению к другому участнику
диалогической ситуации.
Однако были в истории люди, которые не понимали, что
«вненаходимость» принципиально исторична. Бахтина (как и
когда-то Юма) не поняли...
Нерешенный вопрос об историзме M. M. Бахтина как
соответствии его исследовательских установок тем
субстанциальным умонастроениям, которые были распространены в
XIX—XX вв. и предполагали как «коренную историзацию
на1 Бахтин М. М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Бахтин М. М.
Собрание сочинений. Т. 6. М., 2002. С. 457.
2 Бахтин М. М. <К философии поступка> // Бахтин M. M. Собрание
сочинений. Т. 1.М., 2003. С. 40, 67.
122 Раздел I
шего знания и мышления»1, так и доверие к истории как
особой познавательной реальности, — является немалым
препятствием для того, чтобы признать значение M. M. Бахтина для
эпистемологии исторического знания. Эпистемологически
непрозрачной остается философская программа гуманитарных
наук M. M. Бахтина, внимание к которой ограничивается, по
преимуществу, историческим литературоведением и
исторической лингвистикой. В социальной истории или истории
философии эпистемологические комментарии к этой программе
спорадичны и признают ее возможности в некоем
экспериментальном порядке2.
Со времени догматически-исторического изобличения
М. М. Бахтина неофициальным, сугубо идеологическим его
оппонентом, выступившим неожиданно на защите его
диссертации: «истории-то не остается»3, — не так много переменилось.
Действительно, и сегодня исследователи зачастую трактуют
«диалог» как полное выпадение из истории, поскольку
попавшие в диалогическую ситуацию участники становятся
абсолютно вненаходимыми.
Этот момент нужно обязательно учитывать, чтобы понять
эпистемологическое уточнение А. Я. Гуревича: «Наша позиция
есть позиция заинтересованных сторонних наблюдателей»4, в
которой реализуется «принцип, лежащий в основе
новейшего культурологического знания, — принцип диалога,
"беседы на равных" между человеком конца второго тысячелетия
нашей эры и человеком средневековья (античности,
Нового времени...)»5. Конечно, эти метафорико-гуманистические
акценты, преобладающие и развивающиеся в размышлениях
А. Я. Гуревича о насущности исторического синтеза,
создании целостной картины мира, — могут быть истолкованы с
позиции «абсолютной вненаходимости». Ведь Гуревич, казалось
бы, говорит об историках как о «сторонних наблюдателях»,
1 Трельч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994. С. 15.
2 Из работ последнего времени см., напр.: Щедрина Т. Г. Архив эпохи:
тематическое единство русской философии. М., 2008; Махлин В. Л. Второе
сознание: Подступы к гуманитарной эпистемологии. М., 2009; и др.
3 Стенограмма заседания Ученого совета института мировой литературы
имени Горького. Защита диссертации тов. Бахтиным на тему «Рабле в истории
реализма». 15 ноября 1946 года// Бахтин M. M. Собрание сочинений. Т. 4 (1).
М., 2008. С. 1030.
4 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 8—9.
5 Гуревич А. Я. Предисловие // Культура и общество в средние века. М., 1982.
С. 28.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 123
исторически обнадеживших себя пониманием
гуманистического достоинства своей вненаходимости. Тем не менее
очевидно, что для Гуревича здесь важно не столько слово
«сторонний», сколько «заинтересованный», т. е. тот историк, который
имеет свои вопросы к чужой эпохе и свои глубинные смыслы,
с помощью которых он может открывать ддя себя историю.
Заинтересованность историка и есть то, что позволяет нам
говорить о его трактовке «вненаходимости» не как
абстрактногуманистической, но в бахтинском смысле. Ведь Бахтин нигде
не говорит о вненаходимости с такой гуманистической или,
точнее, теоретико-исторической отчужденностью, как о
специальном эпистемологическом феномене диалогического
отношения. Теоретическое отчуждение такого рода
неприемлемо, когда речь идет о реальности, которая сама по себе чужда
всякому теоретизму1.
Диалог символологичен, инонаучен и целостен в своей
открытости, в том, что не дает ему завершиться и остановиться.
Различные проявления мировой культуры в историческом их
понимании составляют некий символистический предмет
познания. Однако «всякая интерпретация символов сама
остается символом, но несколько рационализированным, т. е.
несколько приближенным к понятию»2. При этом «истолкование
символических структур принуждено уходить в бесконечность
символических смыслов, поэтому оно не может стать
научным в смысле научности точных наук»3. Незачем оперировать
структуралистскими экстрактами естествознания4;
символистичную интерсубъективность исторического познания,
которую образуют межчеловеческие отношения, складывающиеся
в ней, следует называть ее собственным диалогическим
именем.
Собственно, в этом и затруднение, которое приходится
принимать во внимание при выявлении историзма M. M. Бахтина,
произведения которого всегда есть голос конкретного
исторического диалога, но никогда не принимают вид диалогической
теории, отрешенной от истории как словесной реальности
исторического опыта.
1 Ср.: Махлин В. Л. Михаил Бахтин: философия поступка. М., 1990. С. 25
и др.
2 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М, 1986. С. 382.
3 Там же. Ср.: С. 383 и др.
Ср.: Там же. С. 393 и др.
124 Раздел I
§ 2. Диалогическая природа высказывания
Сквозь различные терминологические описания,
разносторонние подходы, столь свойственные ему, Бахтин
выводит мысль о ценностной природе диалогического
высказывания, дает знать об историчном смысле последнего, который
непредставим и немыслим суммарно и отдельно. Отношение
Бахтина к высказыванию в самом общем виде можно
определить как речевой реализм - позиция, которая бесспорно
требует филологической эрудиции, но ею не ограничивается,
напротив — преодолевает ее, осиливает далеко идущие претензии
лингвистического разбора, стилистического анализа и т. д.
Эта позиция безупречна в своем «трезво-прозаическом
кеносисе» (В. Л. Махлин): всякое высказывание возымеет смысл и
обнаружится в живом речевом бытии — в нем образуется
событийно, как исторически непременное, на время
выступающее из этого бытия для исполнения единственной,
конкретнонеповторимой роли.
Высказывание не есть особая онтологическая данность,
допустимые параметры которой следовало бы осмыслить.
Сплошь индивидуальное, изолированное, законченное
высказывание ничуть не диалогично; оно есть «последняя данность
и исходный пункт»1 мышления, злоупотребляющего своим
правом отрешающего высказывание от его речевого и
реального контекста. «Высказывание, как таковое, наличествует между
говорящими. Индивидуальный речевой акт (в точном смысле
слова "индивидуальный") — contradictio in adjecto»2. Напрасно
думать, будто вступающий в разговор намеревается
демонстрировать приверженность некоей абстрактной системе языковых
норм или блюсти психофизиологическую природу
высказывания. Однако говорящий не может обойтись без того, чтобы
приложить усилия к укреплению высказывания, выведению в
нем понимания, достигаемого в речевом общении, длящемся
разговоре: понимание осмысливается в высказывании; смысл
высказывания показывается тематически, нудится в нем, как
индивидуальный и неповторимый (даже механический повтор
будет указывать на некий новый умысел). В высказывании,
набирая полноту, вместе с тем утверждается каждый раз заново
его историчный смысл.
1 Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929. С. !
2 Там же. С. 118.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 125
Важна речевая ориентация, двоякая обращенность
высказывания как диалогической данности: «В сущности слово является
двусторонним актом. Оно в равной степени определяется как
тем, чье оно, так и тем, для кого оно... В слове я оформляю себя
с точки зрения другого... Слово - мост, перекинутый между
мной и другим... Слово — общая территория между говорящим
и собеседником»1. Такое слово должно бы быть максимально
ясным, размеченным, должно образовываться единым
комплексом (звуковым, произносительным, зрительным), покоясь
в известных пределах, на определяемом основании.
Высказывание творится в живительной ценностной атмосфере общения;
будучи событийным по своему смыслу2, высказывание
неразрывно вплетено в событие общения и в нем актуализируется,
«организует общение, устанавливает его на ответную реакцию,
само на что-то реагирует»3, — никогда не становясь со своим
смыслом окончательно, до конца словарно или грамматически
устаиваясь, закрепляясь неколебимо в передающихся
тождественных формах4. Высказывание не может стать знаком или
постоянным моментом знака, но смысл его без остатка связан:
«эта связь созидается, чтобы разрушаться и снова созидаться,
но уже в новых формах, в условиях нового высказывания»5.
Высказывание неповторимо, исторично в своем
побуждающем единстве. Высказывание есть явление непосредственно
историческое, «поступочное»; в высказывании нет никакой
субстанциальной реальности, ничего, помимо смысла,
тяготеющего к тому, чтобы быть точно ответным: отодвигая предел
несказанного, но не сосредоточиваясь на самом пределе,
преодолевая «чуждость чужого», но не обладая правом
превращения его в «чисто свое»6. Сознание ответной предназначенности
высказывания позволяет понять неповторимую диалогическую
связанность высказываемого, предназначая его речевому
бытию, не ограничивая высказывание гносеологическим
подозрением в его частичности или релятивности. Императив
ответно1 Там же. С. 102.
2 Высказывание — «событие истории, хотя и бесконечно малое».
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в
социологическую поэтику. Л., 1928. С. 163.
3 Там же.
4 Настояние M. M. Бахтина: «Высказывание строится между двумя
социально организованными людьми, и если реального собеседника нет, то он
предполагается». Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. С. 101.
5 Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. С. 164.
6 Ср.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 386, 392.
126 Раздел I
сти, который дает себя знать в высказываниях, как поступках
речи, раскрывается альтернативно «роковому теоретизму» —
некоему истинностному «отвлечению от себя единственного»1.
Высказывание, как поступок речи, совершается и как
целиком ответственное в себе; внутри такого поступка «нет ничего
субъективного и психологического, в своей ответственности
поступок задает себе свою правду как объединяющую оба эти
момента, равно как и момент общего (общезначимого) и
индивидуального (действительного). Эта единая и единственная
правда поступка задана как синтетическая правда»2. То, что
Бахтин во многом аллегорически называет «нададресатом»,
оказывается вполне действенным в поступочном
долженствовании высказывания — в действительном конкретном
долженствовании, обусловленном его единственным местом в
данном речевом контексте. Для диалогического высказывания, в
котором ответно-ответственно, неповторимо в историческом
речевом бытии поступается смысл, нужна вся историческая
осмысленно-речевая полнота слова.
«Мы представляем себе, что хочет сказать говорящий, и
этим речевым замыслом, этой речевой волей (как мы ее
понимаем) мы и измеряем завершенность высказывания. Этот
замысел определяет как самый выбор предмета (в
определенных условиях речевого общения, в необходимой связи с
предшествующими высказываниями), так и границы и его
предметно-смысловую исчерпанность. Он определяет,
конечно, и выбор той жанровой формы, в которой будет строиться
высказывание... Этот замысел — субъективный момент
высказывания — сочетается в неразрывное единство с объективной
предметно-смысловой стороной его, ограничивая эту
последнюю, связывая ее с конкретной (единичной) ситуацией
речевого общения, со всеми индивидуальными обстоятельствами его,
с персональными участниками его, с предшествующими их
выступлениями — высказываниями. Поэтому непосредственные
участники общения, ориентирующиеся в ситуации и в
предшествующих высказываниях, легко и быстро схватывают
речевой замысел, речевую волю говорящего и с самого начала речи
ощущают развертывающееся целое высказывание»3.
1 См.: Бахтин M. M. К философии поступка // Философия и социология
науки и техники. Ежегодник 1984-1985. М., 1986. С. 80-160. Махлин В. Л.
Михаил Бахтин: философия поступка. М., 1990.
2 Бахтин M. M. К философии поступка. С. 103.
3 Там же. С. 269-270.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 127
Жанр, в бахтинском понимании, тесно связан с
ценностноречевыми началами высказывания; здесь мало заботы о
миметическом возвращении жанра к себе, к своей однозначной
природе, о которой на тысячелетия авторитетно писал Аристотель1.
«Речевые жанры организуют нашу речь почти так же, как ее
организуют грамматические формы (синтаксические). Мы
научаемся отливать нашу речь в жанровые формы, и, слыша чужую
речь, мы уже с первых слов угадываем ее жанр, предугадываем
определенный объем (т. е. приблизительную длину речевого
целого), определенное композиционное построение,
предвидим конец, т. е. с самого начала мы обладаем ощущением
речевого целого, которое затем только дифференцируется в
процессе речи. Если бы речевых жанров не существовало, и мы не
владели бы ими, если бы нам приходилось их создавать впервые
в процессе речи, свободно и впервые строить каждое
высказывание, речевое общение было бы почти невозможно»2. Жанр
экспрессивно тематизирует высказывание: замысел сказать еще
несказанное, опознаваемое в ситуации общения как жизненно
важное, изначально окружает жанровое, из другого
высказывания приходящее слово особым «стилистическим ореолом» —
непроизносимым, в жанре интонативным, лежащим на
границе словесного и несловесного, сказанного и не-сказанного3;
смысл, в определенном жанре высказываемый, интонативно
отзывчив. Жанровое становление высказывания есть раньше
всего установление его интонации, выражающей ценностную
атмосферу высказывания, без которой невозможна ни его
цельность, ни его историческая ответность.
Уточняя историзм M. M. Бахтина, разумеется, следует
принимать во внимание и тот ностальгический фон, на котором
происходит радикализация современного исторического
мышления, перепроверка познавательной подлинности
историзма как некоей теоретической установки, развитой в конце
XVIII — начале XIX столетия и «все еще являющейся главным
источником современного исторического сознания»4.
«Исто1 Ср.: Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и жанр как реальность:
диалектика замкнутости и разомкнутости // Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в
развитии античной литературы. М., 1989. С. 3—25.
2 Бахтин M. M. Эстетика словесного творчества. С. 271—272.
3 Ср.: Волошинов В. Н. Конструкция высказывания // Литературная
учеба. 1930. № 3. С. 77-78.
4 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.,
2003. С. 351.
128 Раздел I
ризму... мы обязаны фрагментированием всей истории в
независимые сущности или частности»1. Становится открытым
вопрос о стратегиях исторической дефрагментации, решение
которого связано с пониманием истории как словесной,
речевой реальности прежде всего. Трудно сказать, будут ли эти
решения связаны с возобновлением понятия исторического
опыта (Фр. Р. Анкерсмит), или же речь пойдет об особых
исторических состояниях (П. Рикер), или герменевтике
исторических высказываний (Г.-Г. Гадамер). Изнутри отечественного
опыта эпистемологического переживания проблемы истории
весьма важными представляются предложения, которые
связаны с именем М. М. Бахтина, наследие которого, некогда
актуализированное, нуждается в историческом возобновлении.
Уточняя позиции M. M. Бахтина в разговоре с нашими
современниками, плодотворным затем представляется уточнить
нашу вненаходимость той «ушедшей расе», собеседникам вроде
Г. Г. Шпета, А. А. Мейера и др., в разговоре с которыми прежде
всего давал знать его конкретно-речевой историзм. С теми, с
кем продолжает он оставаться в полуразобранном архиве своей
исторической эпохи.
Мода на диалог — одну из категориальных доминант
бахтинского мышления, все усиливавшаяся в 70—90-х гг. XX в. в
отечественной исторической мысли, имела довольно
короткое эпистемологическое развитие2. В исторической рецепции
Бахтина тогда дал себя знать и остался, по существу,
непреодоленным «синдром» Б. Пула, указывавшего в порядке
преодоления «исторической инверсии восприятия» на генетическую
ничтожность бахтинского новаторства в области истории
лософии, его сводимость к смысловым и терминологическим
инициативам немецкого и русского неокантианства3. С другой
1 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.,
2003. С. 352.
2 О печальных последствиях этой моды для гуманитарных наук см.
критические рассуждения Н. С. Автономовой: Автономова Н. С. Открытая структура:
Якобсон - Бахтин - Лотман - Гаспаров. М., 2009. С. 117-124.
3 Пул Б. Роль М. И. Кагана в становлении философии M. M. Бахтина (от
Германа Когена к Максу Шелеру) // Бахтинский сборник. Вып. 3. М., 1994.
С. 162. См. также, напр.: Дорофеев Д. Ю. Взаимодействие философской
антропологии Макса Шелера и Михаила Бахтина. (Русский вариант текста
выступления на английском языке на конференции в Чикаго 18 февраля 2010 г.,
организованной Северо-американским обществом Макса Шелера и
американской философской ассоциацией). [Электронный ресурс]:
http://www.maxscheler.spb.ru/content/view/156/52/; и др.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 129
стороны, даже у самых заинтересованных социальных
историков возникли предположения об источниковедческой зыбкости
исторического мышления Бахтина1.
Историзм познавательных инициатив M. M. Бахтина между
тем становится все заметнее в эпистемологии науки — извне
специальных исторических познавательных практик2 — и все
более настоятельно нуждается в возвратном понимании.
§ 3. А. Гуревич: диалогизм как принцип
исторического исследования субъективности
Вот почему мы снова возвращаемся к историческим
исследованиям А. Я. Гуревича, диалогизм которого проявился и в его
анализе исландских саг и в осмыслении своей собственной
деятельности как историка.
В центре внимания А. Я. Гуревича — средневековые тексты.
Рассматривая поэзию скальдов и саги, он проводит анализ
словесной ткани литературного произведения. При этом он
различает дискурсивную индивидуальность героев, авторов и свою
собственную. Гуревич пытается показать, что автор выражает
себя в текстах (осознанно или неосознанно), свою оценочную
позицию. Так, например, он показывает, что в песнях «Эдды»
авторская позиция прикрывалась мнением общества: «Автор
саги не может сказать: "Данный поступок дурной", он
прибегает к выражению: "Люди думали, что дело это дурное". Даже
эмоциональность и оценочность при описании предметов в
сагах обычно исключается или ослаблена»3.
С помощью культурно-исторического анализа Гуревич
выявляет особую форму объективации суждения, которая,
впро1 Гуревич А. Я, Историк у верстака // Отечественные записки. 2004.
№ 5. [Электронный ресурс]: http://www.strana-oz.ru/?numid=20&article=939
(«Бахтин построил структуру, которую я вынужден назвать научной
мифологией»; «даже в гениях, а Бахтин был гений, есть пласт сознания, который
они не подвергают или не полностью подвергают самоанализу»). Ср.:
Аверинцев С. С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к
литературе: Сборник в честь 75-летия Е. М. Мелетинского. М., 1993. С. 341—345.
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 588-593. Махлин В. Л.
«Невидимый миру смех»: карнавальная анатомия нового средневековья //
Бахтинский сборник. Вып. 2. М., 1992. С. 186.
2 Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.
С. 80-101.
3 Гуревич А. Я. сага и эпос // «Эдда» и сага. М., 1979. [Электронный ресурс]:
http://norse .ulver.com/articles/gurevich/eddasaga/è .html
130 Раздел I
чем, не отменяет проявлений индивидуальности автора.
Фактически, он применяет принцип «двойной историзации» к
историческому исследованию. Так, например, он
анализирует историческую личность скальда Эгиля Скаллагримссона в
двух аспектах: как автора литературного произведения и как
героя литературно-мемуарного произведения, которое
можно считать историческим исследованием. Тем самым Гуревичу
удается не только зафиксировать речевую индивидуальность
Скаллагримссона-автора, но и подтвердить свои
исследования его речевых особенностей через анализ описания личности
Скаллагримссона-героя.
Для Гуревича важна не только общая форма саги и песни как
устной литературной традиции, в которой автор не анализирует
и не интерпретирует событие, словно очевидец. Важно
различие двух установок: литературной и литературно-исторической.
Как ученый, историк-мемуарист, описывающий личность
Скаллагримссона-героя в саге, должен был придерживаться
исторически заданной формы выражения, в отличие от самого
Скаллагримссона-автора, который складывал песни, не
задумываясь, т. е. свободный в собственной субъективности.
Примечательно, что не только в средние века, но и в
современной Гуревичу (да и нам) исторической науке есть свои
«рассказчики саг». Как подмечает Гуревич, эта позиция идет из
глубины веков: «"Реконструируя" историю, вместе с тем ее
"сочиняют". Средневековые хронисты и поэты заселяли древность
рыцарями и сеньорами, приписывали древним куртуазию и
феодальный образ жизни, а современные историки находят в
далеком прошлом классы, их борьбу, развитие частной
собственности, развитие производительных сил, борьбу материализма с
идеализмом, "реакционную роль религии" и даже атеизм...»1
Но ведь субъективизм их как раз состоит в том, что они
думают, будто их позиция объективна — во многом за счет
отсутствия научной рефлексии. И в этом смысле современные
Гуревичу ученые практически ничем не отличаются от
средневековых историков — также исходя исключительно из своих
концепций, выстраивая их на фундаменте из уже готовых
рассуждений.
Герои исследования Арона Яковлевича в этом плане более
честны — им не нужно давать объективную картину, хотя
рассказчики саг пытаются следовать установке на безличное
изоГуревич А. Я. История историка. М, 2004. С. 183.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 131
бражение истории в саге. В работе «История и сага» ученый
пишет: «Историческая концепция автора не может быть четко им
сформулирована. Она выражается лишь косвенно,
преимущественно через критерии, которыми автор саги руководствуется,
строя свое повествование и характеризуя его участников.
Следовательно, для раскрытия исторических представлений автора
королевской саги необходимо исследовать эти критерии,
попытаться выявить их в тексте саг»1. Для понимания этих
критериев выражения личности Гуревич анализирует и текст, и
историческую эпоху, рассматривая социальные, этические аспекты,
общественно-политические особенности того времени и т. д.
Анализируя исследование литературного произведения
«Хеймскрингла»2, мы видим, как Гуревич подчеркивает:
личность древнего автора практически растворяется в
повествовании, задача исследователя — подметить особенности, увидеть
ее. Однако в скандинавских текстах присутствуют и
исключения, и об этом исследователь также не забывает: «Правда, в
отдельных, довольно редких случаях (помимо Пролога) в
"Хеймскрингле" встречаются такие личные обороты, как, например;
"я назвал некоторых..."; "теперь я хочу написать об
исландцах"; "я надеюсь, об этом будет впоследствии рассказано в саге
о конунге Олафе", или прямое обращение автора к читателям:
"И вот вы можете узнать..." и т. п.»3. Разумеется, этого
недостаточно. Сага для Гуревича важна как некий отчет скандинавской
цивилизации о себе самой и о своем прошлом. И прежде
всего ученый хочет исследовать автора — его мировоззрение. Для
Гуревича необходимо «познакомиться с образом мышления
ее автора и его социального окружения, т. е. с тем
культурнопсихологическим аппаратом, через который, своеобразно
преломляясь, проходили образы исторической действительности»4.
Для нас важно, насколько сильно различаются в культуре
между собой авторы саг и скальды. Если автор саг, как мы уже
1 Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972. [Электронный ресурс]: http://norse.
ulver.com/articles/gurevich/historysaga/chapterl.html
2 «Хеймскрингла» («Круг земной» или «Саги о норвежских конунгах») —
крупнейший памятник скандинавской литературы XIII в. «Heimskringla» — Kringla
heimsins — название происходит от первых слов в тексте: «Круг земной,
который населен людьми, сильно изрезан; большие моря врезаются в землю из
океана».
3 Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972. [Электронный ресурс]: http://norse.
ulver.com/articles/gurevich/historysaga/chapterl.html
4 Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972. [Электронный ресурс]: http://norse.
ulver.com/articles/gurevich/historysaga/chapterl.html
132 Раздел I
заметили выше, опирался на уже известные сюжеты, на
канонические формы записи текстов, — то скальд в этом плане
обладал гораздо большей свободой. Еще одна важная особенность:
обычно авторы исландских и скандинавских саг неизвестны,
и Гуревич также обращает на это внимание: «Наконец, — и это
обстоятельство заслуживает особого внимания — в
противоположность анонимному эпосу и сагам, авторы которых, за
редчайшими исключениями, не названы, скальдическая песнь
имеет индивидуального автора, его имя известно. Никому из
средневековых исландцев или норвежцев не пришло бы в
голову сочинить сагу о ком-либо, кто рассказывал или записывал
саги, а между тем сохранилось несколько саг, повествующих о
прославленных скальдах»1. Неудивительно, поскольку во
время написания скальдической песни автор стремится остаться
в людской памяти2, часто заявляя о своем даровании, играя с
формой написания произведения. В процессе анализа
древних текстов Гуревич приходит к важному выводу: «Немалая
доля скальдических стихов посвящена саморефлексии поэтов:
они превозносят свое поэтическое уменье или обсуждают и
критикуют песни других скальдов<...> В определенной
степени скальдическая поэзия представляет собой не что иное, как
поэтический комментарий на самое себя»3. В качестве
примера можно привести отрывок из песни «Утрата сыновей» Эгиля
Скаллагримссона: «Рад я не чтить / брата Вили, / главу богов /
отвергнуть гордо, / но Мимира друг / дал дар мне дивный, / все
несчастья / возмещая»4.
Поэтический дар настолько ценен для Эгиля, что скальд
готов простить «Брату Вили, главе богов» — Одину — утрату
сыновей и собственную старость. Благодаря своему дару, творчеству,
скальд может поведать читателю о своих поступках,
переживаниях — и проанализировать их. Это не исключительное
явление, напротив, в скандинавской культуре, говорит Гуревич,
проанализировав текст, можно понять личность автора —
скальда, конунга или бонда.
1 Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005.
С.111.
2 Известны имена более трехсот скальдов.
3 Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005.
С. 113.
4 Эгиль Скаллагримссон «Утрата сыновей» в пер. Петрова С. В.
[Электронный ресурс]: http://norse.ulver.com/poetry/egill.html#son
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 133
Таким образом, в процессе анализа литературных
произведений предметом для Гуревича становится не безличная
эстетическая реакция, но открытость субъекта, т. е.
сохранившиеся в тексте литературного или литературно-мемуарного
произведения любые проявления авторской
индивидуальности. Эта позиция, как мы видели выше, проявляется не только
в исторических исследованиях Гуревича, но и в его
автобиографическом тексте «История историка»1. Пытаясь выявить
автора, находясь в поиске индивидуального субъекта,
Гуревич обращает свою концепцию на себя самого, создает
особую проекцию — и «История историка» приобретает отнюдь
не только личностное значение, но является
продолжением поиска оснований объективистского взгляда на историю.
Автобиографический текст становится попыткой выявить
основания, зафиксировать свою субъективность, свою
историчность — и тем самым, свою индивидуальность. В
работе «Индивид и социум на средневековом Западе» он пишет:
«...на каком-то этапе работы я, разбирая вопрос о личности на
средневековом Западе, испытал потребность написать некий
автобиографический этюд. Я стремился дать себе отчет о
собственном пройденном пути историка, охватывающем не менее
полустолетия... Я размышлял уже не о личности
средневекового человека, столь же изменчивой, сколь и проблематичной,
но о чем-то, казалось бы, непреложном - моем собственном
Я. Сюжеты различные, но отнюдь не лишенные внутренней
связи. Ибо я попытался на самом себе поставить опыт,
которому до этого подвергал людей, живших многие столетия тому
назад. Материал, возможности проникновения в него и его
осмысления кажутся несопоставимыми, и вместе с тем такого
рода перекличка не вовсе лишена смысла»2.
Подчеркнем, что анализ литературных произведений,
который осуществляет Гуревич, фактически продолжает
методологический подход Бахтина, в котором автор произведения
сохраняет свое лицо и индивидуальный стиль выражения в
позиции вненаходимости: «каждый видит мир из своего
ме1 Имеется любопытная особенность, которая играет большую роль в
мемуарах Арона Яковлевича. В 1973 году он пишет первый вариант «истории
историка» и в книге 2004 года приводит отрывки своих размышлений,
написанных в 80-е годы.
2 Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М.., 2005.
С. 372.
134 Раздел I
ста во вселенной». Несмотря на критическое отношение
Гуревича к бахтинской концепции средневековой культуры как
преимущественно «смеховой», оба стараются четко
фиксировать субъективность своих взглядов на мир — и, тем самым,
приобретают особые преимущества, возможность проникать
в основания документов, теорий, вообще любых источников.
Зная, что каждую проблему или событие можно рассмотреть
с различных сторон, Бахтин и Гуревич не останавливаются на
одной лишь точке зрения — а методы сравнительного анализа
и интерпретаций здесь становятся ключевыми: «...у каждого
свое виденье, своя оценка того, что произошло, и поэтому
сопоставление воспоминаний разных индивидов об одном и том
же предмете не лишено определенного интереса. Волею судеб,
и не без собственной воли, я оказался в гуще событий, через
меня проходили некоторые силовые линии, и поэтому я могу
представить свидетельство из первых рук, разумеется, со всеми
ограничениями и поправками, без которых мемуарист не
может обойтись»1.
Историческое описание событий во многом субъективно,
но тем не менее в этой субъективности непосредственно
проявляется личность автора. И еще больше — в попытке
проанализировать собственный текст и свои же размышления над
ним. Осмысливая саморефлексию автора, мы можем разглядеть
сквозь прихотливый след его мысли, собственно, личность.
«Это мои представления о том, — пишет Гуревич, — что
происходило, мои оценки, они не могут не быть субъективными и
лишенными полноты: что-то запомнилось, а что-то отошло на
задний план; одному я придаю особое значение, другое
оказывается не столь значимым. Масса подробностей всплывает в
сознании. Естественно, эти мемуары несут на себе отпечаток того
лица, которое перед вами выступает, и того времени, когда это
вспоминается»2.
Разумеется, процесс саморефлексии не прост. Зачастую
перед тем, как что-либо написать, автору приходится изрядно
1 Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 10. Кстати, на этом примере
мы также можем увидеть, в чем состоит различие между мемуарами и
дневником, в частности — экзистенциальным дневником. Автор, готовя текст для
предоставления его читателю, редактирует его, поправляя, вынося за скобки,
зачастую неосознанно, события, на первый взгляд незначительные. В то
время, как владелец дневника пишет, не думая о правке или критике.
2 Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 10.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 135
помучиться — для того чтобы облечь мысль в нужные слова,
доступные пониманию читателя. Коммуникативный аспект
неотделим от сферы нарратива. И здесь неважен возраст
писателя или количество его опыта — к примеру, следующие
строки Гуревич пишет в 1973 году и не меняет их спустя три
десятка лет: «Я вновь и вновь возвращаюсь мысленно к
вопросу: с чего и как началась моя "реконструкция" как историка и
испытываю трудность в объяснении»1. Гуревич не сразу
приходит к идее рассмотрения личности в процессе исследования
литературных произведений. Более того, это становится для
него неожиданностью: «Саги столкнули меня с
непредвиденным персонажем истории: с живым человеком, обладающим,
помимо социальной функции, еще и индивидуальными
качествами, психологией, мыслями, чувствами, словами и
совершающим поступки, диктуемые как его принадлежностью к
коллективу, так и его характером, этикой общества,
религиозными верованиями и т. п.»2. Однако, решив подойти с иной
стороны к работе, он дает возможность и нам взглянуть на
личностный аспект в историческом источнике — а благодаря
мемуарам мы можем проследить все его грани в научном
исследовании.
Для нас важно провести параллели между самим историком,
и героями его исследований. Автор в любом случае осознает
собственную субъективность, будь он ученым или же скальдом
XII века. Причины могут быть разными — начиная от простой
индивидуальности воспоминаний, как у Гуревича: «Пытаясь
подготовиться к своим выступлениям, я все больше
сталкиваюсь с трудностью, которую не осознавал, начиная эти устные
воспоминания: неизбежно происходит напластование времен.
К тому же, разумеется, мои воспоминания субъективны:
фактическая канва событий, история, с одной стороны, и память —
с другой, вступают в известное противоречие»3, и заканчивая
как раз наоборот - отсутствием индивидуальности у автора саг
и желание написать текст «так как было»4. Но при этом
субъективность все равно будет заметна — об этом можно судить уже
по самим текстам. К примеру, можно вспомнить пролог
позд1 Там же. С. 64.
2 Там же. С. 67.
3 Там же. С. 121.
4 Известно крылатое выражение: «Pat verdr at segja sva hverja sogu sem hun
gengr» — «каждую сагу надобно рассказывать так, как она случилась».
136 Раздел I
ней редакции «Саги о Сверрире1», где прямым текстом
написано об участии самого конунга в написании этой саги: «Здесь
начинается повесть о тех событиях, которые недавно
произошли и еще не изгладились из памяти людей, рассказывавших о
них, — повесть о Сверрире конунге, сыне Сигурда конунга сына
Харальда. Начало повести списано с той книги, которую писал
аббат Карл сын Иона2, а сам Сверрир конунг говорил ему, что
писать»3. Фактически субъективность поддается контролю, но
другое дело, что используется она с разными целями. Гуревич
озабочен ее преодолением, конунг же — наоборот, осознает ее и
использует. Нужна она ему не для объективной картины, а для
создания как раз иллюзии объективности — пытаясь остановить
время и преградить путь к сути дела, конунг, принимавший
участие в написании саги о себе, использует это прагматически.
Прагматическая установка идет в противоречие с установкой на
объективное исследование и при этом — достаточно применить
анализ, чтобы субъективность автора раскрылась перед
исследователем. Этот слой субъективации в своей работе подмечает
и Гуревич: «Историк, как и писатель, важен нам не только как
создатель некоего труда. Можно использовать его выводы и
наблюдения, из его работ можно черпать фактический материал,
но мне историк, если это самостоятельная фигура, крупный
ученый, не менее интересен как личность»4.
Гуревич чувствует историзм своих взглядов, что и отразилось
в его работах, в том числе и его параллелях жизни авторов
прошлого и самого себя как ученого-исследователя. «Моя
нынешняя работа протекает одновременно в двух планах — это
попытка проникнуть в сознание человека, жившего много веков тому
назад, и опыт восстановления собственной жизни,
рассматриваемой в связи с общим развитием современной исторической
мысли»5.
История становится для Гуревича таким произведением, где
каждая личность оставляет свой неповторимый след, который
можно увидеть среди множества точек зрений, теорий и
интер1 Сверрир — реальное историческое лицо. Сверрир Сигурдссон, или Сверрир
Норвежский (1151 —1202) — король Норвегии с 1184 по 1202 год.
2 Карл Йоссон — исландский историк, монах, живший в XII веке.
3 Сага о Сверрире. [Электронный ресурс]: http://vbrg.ru/articles/vikingi_istorii_
sagi_pesni_khronika/sagi/saga_o_sverrire/
4 Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 147.
5 Там же. С. 175.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 137
претаций. Его интересует историческое самораскрытие
человека в литературном произведении. Таким образом, мы видим у
него культурно-исторический подход к анализу текста
литературного произведения. Свой путь к личности ученый совершает
через субъективацию исторических и литературных тонкостей,
не обезличивая ни автора, ни литературного героя, что в
определенном смысле коррелятивно идеям М. Бахтина.
Глава 6
Григорий Церетели
Михаил Пришвин - Густав Шпет:
Самопознание как основа
интуиции будущего
§ 1. Интуиция будущего как эпистемологическая проблема
Русские мыслители, жившие в эпоху образовательных
реформ Советской России, оставили нам богатейший
исторический опыт. В своих письмах и дневниковых
записях они говорят, по сути, об одном «предмете» (в
будущем времени): об интеллектуальной культуре России.
При этом экзистенциальная форма повествования придает их
высказываниям о настоящем герменевтический характер.
Современный исследователь, прочитывая «экзистенциальный
дневник», про-брасывает, проецирует смысл целого.
Современное понимание их интуиции будущего исторично по своей сути.
Мы схватываем смысл того, что «стоит на бумаге» потому, что
имеем предварительную проекцию смысла, которая, впрочем,
постоянно пересматривается в зависимости от того, что
получается при дальнейшем вникании в смысл. Если мы
рассматриваем их интуицию будущего как феномен герменевтический,
мы, следовательно, строим мост между прошлым и будущим.
Понятие предвидения (интуиции) в обыденной жизни часто
отождествляется с понятием предсказания, что придает
предвидению весьма рационализированный вид. Действительно,
в предвидении всегда присутствует элемент рассуждения.
Однако исторический смысл предвидению придает
экзистенциальное переживание происходящего. Способы исследования
предсказаний в значительной мере прозрачны, поскольку
предсказатель (ученый или писатель) занимается этим намеренно,
он сознательно конструирует ситуацию будущего и выражает ее
в слове. Так что исследователю остается только проверить ло-
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 139
гическую связность или достоверность предсказания. Конечно,
предсказывающий опирается на свою интуицию, на свое
предвидение, однако как только он начинает намеренно овнешнять,
обосновывать предвидение, представлять его на бумаге в виде
предсказания, т. е. рационализированных картин будущего,
предназначенных для Другого, экзистенциальные основания
предвидения стираются, они фактически не видны в
результатах предсказания. Даже в литературно и художественно
оформленных предсказаниях (утопиях и антиутопиях), не говоря уже
о научно-прогностической работе или мысленном
эксперименте, интуиция будущего подстраивается под законы жанра.
Исчезает экзистенциальная наполненность высказывания: его
искренность, откровенность, открытость.
Что же делать исследователю, который задался целью
проанализировать не сами результаты предсказания, но способы
предвидения, его экзистенциальные основания? Как возможно
получение знания об интуиции будущего? Дело в том, что
интуиция эта, как и любая другая, осуществляется в
высказывании, в слове, в сообщении. Она всегда словесно оформлена, а
значит, может быть исследована как герменевтический феномен.
При таком способе рассмотрения будущее может трактоваться
как соответствующий способ бытия историчности, а
исследовательское внимание устремлено к таким формам письма, где
интуиция выражается в экзистенциальной форме (искренне,
откровенно, открыто). Контекст, заставляющий человека
делать такие записи, экстремален.
Интуиция человека, находящегося в пограничных
ситуациях (перед лицом вины, смерти, тяжелых жизненных
испытаний, стрессовых ситуаций, в том числе тотального страха быть
уничтоженным, стертым с лица земли), обладает колоссальной
проникающей силой. Эти ситуации подводят человека к
границам существования, к «последней черте», выход за которую
меняет как положительно, так и отрицательно конфигурацию
жизненных пристрастий, личностных оценок, ценностных
ориентиров. Пограничная ситуация проявляется, как правило, не
только при изменении социальных, политических, жизненных
и культурных контекстов. Каждое изменение контекста
сопровождается речевыми трансформациями, вплоть до
исчезновения «сферы разговора», в которой мысль понимается. При
любом изменении контекста подлинное общение уходит из жизни
человека полностью, а на его месте остается либо «безмолвие»,
либо «публичные» коммуникативные связи. Единственным
140 Раздел I
«заслуженным собеседником»1 в «разговорном вакууме»
остается собственное я, а формой беседы — дневник или письмо
единственному собеседнику. Этот тип документов,
содержащих не только результаты предсказания, но и выражение себя,
собственных переживаний, интуитивных предчувствий я
определяю как «экзистенциальный дневник»2. Исследование
экзистенциальных дневников позволяет очень многое проследить, в
том числе и формы выражения интуиции будущего.
Здесь мы рассматриваем интуицию будущего, выраженную
в экзистенциальных формах письма ученого (Григорий
Церетели3), писателя (Михаил Пришвин), философа (Густав Шпет),
поскольку в их деятельности выражаются разные аспекты
интеллектуальной культуры. Под форму «экзистенциального
дневника» подпадают следующие блоки архивных документов:
1) Письма Г. Ф. Церетели к жене и друзьям 1923—1930 годов4;
2) Дневники М. М. Пришвина (1923, 1926, 1930); 3) Записные
1 Термин А. А. Ухтомского: «Каждый видит в мире и людях то, что искал и
чего заслужил. И к каждому мир и люди поворачиваются так, как он того
заслужил. Это... "закон заслуженного собеседника"». И еще: «Пока человек
не освободился еще от своего Двойника, он, собственно, и не имеет еще
Собеседника, а говорит и бредит сам с собою; и лишь тогда, когда он пробьет
скорлупу и поставит центр тяготения на лице другого, он получает впервые
собеседника. Двойник умирает, чтобы дать место Собеседнику. Собеседник
же, т. е. лицо другого человека, открывается таким, каким я его заслужил
всем моим прошлым и тем, что я есть сейчас». См.: Запись А. А. Ухтомского
в письме к Е. И. Бронштейн-Шур от 6 апреля 1927 года // Ухтомский А. А.
Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб., 1996.
С. 252.
2 См. об этом: Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской
философии. М., 2008.
3 Церетели Григорий Филимонович (1870—1938) — филолог, один из
основоположников папирусологии, исследователь античной литературы. Профессор
Санкт-Петербургского университета. В 1905-1914 годах он возглавлял
кафедру классической филологии в Юрьевском университете, ас 1914 года после
защиты докторской диссертации стал профессором и заведующим кафедрой
классической филологии Санкт-Петербургского университета. Среди его
студентов был Осип Мандельштам. В 1917 году Церетели был избран
членомкорреспондентом Академии Наук. В 1920 году Г. Церетели возглавил кафедру
классической филологии Тбилисского государственного университета, а с
1923 также Научную библиотеку ТбГУ. Г. Ф. Церетели был почетным членом
Папирологического общества Германии и Берлинского археологического
института. 67-летний ученый с мировым именем был арестован в 1937 коду и
вскоре расстрелян в тюрьме.
4 При анализе эпистолярного наследия с Г. Ф. Церетели мы опирались
только на опубликованные письма.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 141
книжки Г. Г. Шпета 1920-х годов; 4) Письма Г. Г. Шпета к жене
и друзьям 1930-х годов.
Способ повествования в этих эго-документах задается
методом самонаблюдения, предполагающим феноменологическое
описание «вещей», данных сквозь призму сознания. При этом,
замечу, наиболее глубоким видением будущего обладает
человек, способный не только наблюдать за собой, за своими
положениями и экзистенциальными переживаниями пограничных
ситуаций, но и рефлексивно оценивающий и выражающий мир
сквозь призму перспектив и реальности его профессии как
через прибор оценки. Рефлексия наших героев направляется не
на внешний мир, и не на отвлеченную социальность, но на
содержание своего сознания. В случае дневника — через
самонаблюдение — на свое миро- и само- чувствие. Для нас важно, что
на этом уровне рефлексии в сферу особого внимания автора
«экзистенциального дневника» попадает его «жизненный мир»,
т. е. собственные «интуиции, переживания, акты восприятия»1
и другие «движения души», осознание которых раскрывает
перед ним самоценность Я, его неисчерпаемость. С помощью
записи собственной «живой» речи наши герои пытаются
преодолеть ощущение своей социальной «смерти», осознать
необратимые последствия исчезновения интеллектуального круга
общения и выразить их в интуитивных высказываниях о
будущем.
В записной книжке 1921 года Шпет писал: «Декабрь 30.
Почему печатают заметки и записки "Из записной книжки"
только по смерти авторов, а не сами авторы? — Потому что
авторы надеются развить когда-нибудь свои мысли, т. е.,
следовательно, верят в свое бессмертие. Иначе может относиться
к своим заметкам тот, у кого зародилось подозрение в своей
смертности»2.
Словно услышав Шпета, Пришвин размышляет: «Наконец,
сегодня осознал, почему не могу до сих пор приняться за
разборку своих архивов. <...> Потому что я надеюсь в будущем
оправдать свою жизнь книгой, совсем настоящей»3.
1 Подробнее о феноменологическом подходе к исследованию эго-документов
см.: Новоселова И. Г. «Дневники» M. M. Пришвина: духовный космос.
Владивосток, 2004. С. 155.
2 Записная книжка Шпета 1921 года // Архив семьи Шпета.
3 Пришвин M. M. Дневники 1926 года. Запись 2 мая. [Электронный ресурс]:
http^/uni-persona.srcc.msu.su/site/authors/prishvin/pri-l^é.htm
142 Раздел I
Ход мысли Шпета и Пришвина можно интерпретировать
следующим образом. Пока автор пишет ни для кого, он
только в пространстве этой ничейности и остается автором, он
записывает свою живую речь, полную субъективных, ему одному
присущих стилевых, грамматических, речевых, графических
неточностей, нюансов, экспрессивной выразительности. Он не
создает текст, но пишет «себя» с помощью слов. И когда
наступает физическая смерть автора, неопубликованные им самим
при жизни заметки делают его бессмертным, т. е. сохраняют
присутствие его как субъекта в сфере разговора, позволяют
читателям судить о нем самом, об элементах его субъективности,
его личности, его поворотах мысли, его стиле и присущем ему
способе выражения. Как только автор желает сделать свои
заметки достоянием читателя, ситуация кардинально
меняется. Готовя к публикации свои записи, он осознает конечность
своего бытия, он пытается завершить запись, остановить ее и
оформить в текст. Он начинает готовить свои заметки к
публикации и тем самым умерщвляет себя как субъекта «живой»
речи. Он умирает для себя не только потому, что он
останавливает запись, но и потому, что слова, с помощью которых он
записывал себя, в процессе остановки и «оформливания»
(термин Шпета), как выражения для другого, требуют соблюдения
социальных правил письма. Автор ведет свой дневник или
пишет записки не ради прямого воздействия на себя или на
действительность, но ради самого рассказа, предназначенного для
той или иной сферы разговора. И тогда с нами говорит уже не
автор, а «язык как таковой», т. е. письмо как «изначально
обезличенная деятельность»1. Публикация дневниковых заметок
самим автором делает их уже не способом существования, а
жанром литературы и подлежит литературоведческому анализу.
Они перестают быть экзистенциальным дневником.
§ 2. Самопознание в экзистенциальных дневниках
Мы обращаемся к историческому настоящему наших героев
и к их переживанию этого настоящего как будущего: «Борьба
прошлого и будущего называется настоящим, или
собственною "жизнью" — тут состояние войны, называемое
революцией, и мирное приспособление — быт. В эту эпоху строительства
1 Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.
М., 1994. С. 385.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 143
(быта) прошлое заглядывает в будущее, а будущее оглядывается
на прошлое»1.
Вот как переживает настоящее Церетели:
«Общее чувство тоски осталось, мне все время не по себе,
словно я одел платье, которое и жмет и давит не переставая.
Да и может ли быть иначе? Где университет? Его в
сущности нет. Удалены Кареев, А. И. Введенский, Гревс,
ДобиашРождественская, Заозерский, Лавров, Д. К. Петров.
Прикреплены не к своим курсам: Жебелёв (Рим вместо Греции),
Платонов (древняя Русь вместо Московской)2 и т. д. Ряд лиц
попал на положение сверхштатных профессоров, т. е. без
жалования. Появились махровые цветы красной профессуры:
Тюменев (Греция), Боричевский (философия)3 и др. Ректор
Державин4 надеется, что скоро "затхлая старина" заменится
"новой блестящей новизной". Одним словом, всюду начинают
пробиваться ростки невежества, наглости и научной дерзости.
Настоящие же ученые ходят, как потерянные. Это настоящие
morituri5, ждущие момента своей смерти! Прав Сережа
Жебелёв, когда он с горечью сказал мне: "Нет нашего университета,
он умер"»6.
1 Пришвин M. M. Дневники 1923 года. Запись 17 ноября. [Электронный
ресурс] : http://uni-persona.srcc.msu.su/site/authors/prishvin/pri-1923.htm
2 Кареев Николай Иванович (1850—1931) — историк, член-корреспондент
Петербургской Академии с 1928 года, почетный член АН СССР (1929).
Введенский Александр Иванович (1856—1925) — философ, профессор
СанктПетербургского университета. Гревс Иван Михайлович (1860—1941) — историк,
профессор. Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874—1939) —
историк, член-корреспондент АН СССР (1929). Заозерский Александр Иванович
(1874—1941) — историк, профессор Санкт-Петербургского университета.
Лавров Петр Алексеевич (1856—1929) — славист, академик (1923). Петров Дмитрий
Константинович (1872-1925) — филолог, профессор Санкт-Петербургского
университета. Жебелёв Сергей Александрович (1867—1941) — крупнейший
советский историк, академик АН СССР (1927). Платонов Сергей Федорович
(1860-1933) - историк, академик АН СССР (1920). - Прим. авт.
3 Тюменев Александр Ильич (1880-1959) - историк древнего мира, академик
АН СССР (1932). Основные труды по истории античного и древневосточной
материалистической методологии и социологии истории. Боричевский Иван
Адамович (1886 (1892?) — 1941) — историк философии, профессор
СанктПетербургского университета, преподаватель исторического материализма в
Коммунистическом университете. — Прим. авт.
4 Державин Николай Севастьянович (1877—1953) — филолог-славист и
историк, академик АН СССР (1931), последователь Н. Я. Марра. — Прим. авт.
5 Morituri (лат.) — идущие на смерть.
6 Письмо Г. Церетели к И. Джавахишвили от 1 августа 1923 года //
Литературная Грузия. 1989. № 8. С. 206.
144 Раздел I
В этой цитате переживание Церетели (тоска) оказывается
весьма созвучным предчувствиям Пришвина, хотя и
высказанным в другом контексте:
«Мысль о гибнущей родине, постоянная тоска (курсив
наш. — Авт.) не забывается ни при каких восторгах, напротив,
все эти ручейки из-под снега, песенки жаворонков или
зябликов, молодая звезда на заре — все это каким-то образом
непременно возвращает к убийственной росстани: жить до смерти в
полунищете среди нищих, озлобленно воспитанных на идее
классовой борьбы, или отдаться в плен чужих людей, которые
с иностранной точки зрения взвесят твою жизнь и установят ее
небольшую международную значимость...»1
Переживание Шпета выражено позднее (в ссылке),
поэтому его тоска уже не от переживания гибели родины, но своей
собственной социальной «смерти» и от разлуки с любимой
женой: «Состояние чертовское! Говорят, нельзя испытывать двух
чувств сразу, но тогда есть какое-то третье чувство — синтез
двух: нервного напряжения и тоски. Малейший шорох, — и весь
напряжен, сердце бьется, а тоска не перестает сжимать грудь и
тянуть, тянуть...»2
Тоска — это то состояние духа, которое охватывало и
Церетели, и Пришвина, и Шпета. Неизбывная тоска по прошлому —
это именно то переживание настоящего, которое составляло
экзистенциальное основание их интуиции будущего. Тоска
придает смысловую определенность их высказываниям о
будущем, тонирует их, делает их точными, несмотря на то, что
высказывания эти сами по себе носят размытый характер.
Церетели: 26 августа 1923 года. «Об университете не пишу:
старый университет умер. Теперь порождается новый. Думаю,
что, как было это в средние века, работа научная будет идти
помимо университета. Но среди молодежи есть очень талантливые
люди, которые группируются вокруг старой профессуры: новая
слишком слаба знаниями»3.
6 декабря 1927 года «В университете здесь неважно: ряд
профессоров удален (Жебелёв, Платонов и др.), часть сделана
1 Пришвин M. M. Из Дневников 1930 года // Отечественные Записки. 2005.
№ 6. [Электронный ресурс]: http://magazines.mss.ru/oz/2005/6/2005_6_26.
html
2 Письмо Густава Шпета к жене Наталье Шпет от 23 октября 1937 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 286.
3 Письмо Г. Церетели к И. Джавахишвили от 26 августа 1923 года //
Литературная Грузия. 1989. № 8. С. 208.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 145
сверхштатными (Коковцев, Крачковский, Петя Ернштедт)1,
часть переведена на особое положение: могут, если хотят,
читать gratis (Крюгер, Фармаковский2 и др.). Жалуются на тяжесть
и восточники. У них снова введен институт лекторов, ну а
профессора, по их выражению, на положении "поддужных".
Хорошо живется физикам, математикам и химикам. В Академии
делается что-то странное. Впечатление такое, как будто Академия
стоит на перепутье: влево пойдешь, шею сломаешь, вправо —
костей не соберешь, а прямо идти Академия разучилась. Кого
я видел — те в панике. <...> Вообще, что-то ожидается и во что
все отольется, сказать пока трудно! Я лично думаю, что
Академию ждет судьба университета и коренная перестройка. <...> А
куда плывет наш университетский корабль: ведь у него ни руля,
ни ветрил»3.
25 января 1928 года. «Вообще неразбериха полная, а над всей
этой мышиной беготней веет грозная тень грядущих
сокращений, чего многие боятся. Пострадают, конечно, стрелочники,
но не тузы, пострадают те, кому и так есть нечего. И когда
смотришь на все это и слышишь про то, что делается, на душе
становится остро тоскливо и начинаешь жалеть, что нет Фиванды4,
где спасались святые отшельники. Теперь такое время, что будь
даже простой улиткой, и то враги найдутся. Но самое обидное
это то, что-то гадкое, что творится, творится "солью земли",
т. е. самими учеными»5.
Пришвин: «7 февраля 1930. Университет, говорят,
превращается в Политехникум, и это, «вообще говоря», вполне понятно:
революция наша с самого начала не считалась с тогами
ученых и так постепенно через 12 лет превратила науку в технику
1 Коковцев Павел Константинович (1861—1942) — лингвист, академик.
Крачковский Игнатий Юлианович (1883—1951) — основоположник советской
арабистики, академик. Ернштедт Петр Викторович (1890—1966) —
филолог, специалист в области греческого, коптского и хеттского языков,
членкорреспондент АН СССР (1946). Ученик Г. Ф. Церетели. — Прим. авт.
2 Крюгер Отто Оскарович (1893—1967) — советский папиролог, эпиграфист.
Ученик Г. Ф. Церетели. Фармаковский Борис Владимирович (1870—1928) —
археолог античности, академик АН СССР (1917) — Прим. авт.
3 Письмо Г. Церетели к И. Джавахишвили от 6 декабря 1927 года //
Литературная Грузия. 1989. № 8. С. 217.
4 Фиванда — пустыня, куда спасались монахи — последователи первого
отшельника этой пустыни, св. Антония. — Прим. авт.
5 Письмо Г. Церетели к И. Джавахишвили от 25 января 1928 года //
Литературная Грузия. 1989. № 8. С. 218.
146 Раздел I
и ученую деятельность в спецслужбу. Было благо-го-го-вение к
науке даже и у попа Мишки Рождественского: занимался
краеведением и стариной. Теперь поп Мишка Рождественский
служит в Рудметаллтресте, занимается добыванием цветного
металла из колоколов и больше не поп Мишка Рождественский, а
тов. Октябрьский.
Я лично давным-давно расстался с научным
«миросозерцанием», но сохранил уважение и теперь сохраняю к аскетизму
ученых и их независимости от влияния многоразбойной
повседневной жизни. Несомненно, особенно у нас, корпорация
ученых была определенной большой общественной и
политической силой. Теперь она снишла до основания, и ученые стали
просто техниками.
И Космос изъят из Академии. Давно пора! спектральный
анализ почтенный метод для техника, но он именно противник
космоса.
Что же принесет с собой новый молодой человек на ту
сторону бездны, разделившей нас с мечтой о любви к ближнему по
церковным заветам и с милым гуманизмом науки?»1
Шпегп: «Настоящий момент есть момент величайшей
опасности для духа. Коммунизм обнаружил себя со стороны,
которую до сих пор — как и много другого в себе — тщательно
скрывал. Ему нужна только техника, медицина и государственные
чиновники, ему не нужна наука, дух, мысль. То, чем пугали в
коммунизме и чему мы не верили, оказалось
действительностью. Коммунизм хочет довершить то, что не удалось
христианству. Во имя спасения души христианство отказывалось сперва,
а потом гнало чистую мысль, науку и творчество; то же делает
коммунизм, но во имя сохранения чрева. Это может оказаться
более действительным. Как и христианство, коммунизм, каким
он изображается в идее, не будет осуществлен, но как и в
христианстве, то, что будет осуществлено — достаточно для
уничтожения культуры мысли. Восток двинулся на Запад всерьез.
Равнение в коммунизме по плебсу было предвидено, но полное и
откровенное уничтожение мысли раскрылось только теперь; до
сих пор казалось, что остается minimum, обнаружилось, что
хотят довести до нуля. Ницше раскрыл тайну спасенья — в
сверх1 Когда били колокола. Из дневников M. M. Пришвина 1926—1932.
[Электронный ресурс]: http://www.bellstream.ru; http://www.pravmir.ru/article2603.
html
Историзм как эпистемологическое основание русской философии 147
человеке — но он и растоптал ее. Поэтому остается действовать
в открытую»1.
Когда сегодня читаешь выраженное в «экзистенциальном
дневнике» Церетели, Пришвина и Шпета переживание
настоящего как будущего, то видишь из нашего времени, что их
предсказания были в своей конкретике ошибочными: и университет
не погиб, и наука продолжала развиваться, и люди не все стали
насквозь прагматичными. Тем не менее они предвидели
оттеснение культурных оснований своего времени на периферию,
уход ценностных ориентиров в тень, изменение траектории
интеллектуальной культуры России. Интуитивные прозрения
Церетели, Шпета и Пришвина не носили негативно-критического
утопического характера2, а во многом оказались
позитивнокритическим осмыслением окружающей их реальности3. Их
интуиция будущего базировалась на созерцании результатов
воплощения Советской утопии, а потому уже не предполагала,
что из реальности можно изъять все то, что отрицает их идеал,
и идеал воплотится сам собой. Все уже и так изъяли. Жизнь
наших героев оказалась перечеркнутой, потому что они
находились в таком возрасте, когда уже очень трудно принимать
«новую» реальность и «задрав штаны, бежать за комсомолом»
(С. Есенин). Они переживали события в стране как трагедию
и личную и социальную. Пространство общения сжималось,
пока не дошло до точки, до атома. Коммуникативная
атомизация советского общества достигла своего апогея в 1930-е годы,
1 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. II. Материалы.
Реконструкция Татьяны Щедриной. М., 2009. С. 521.
2 Очень часто размышления о будущем представляют как утопическое
сознание. Действительно, «утопия выражает глубинную потребность
человеческого духа. В ее основании лежит порожденная несовершенством (курсив
наш. — Авт.) реальной жизни, устремленность человека к иной —
"совершенной" (с его точки зрения) реальности. <...> Это стремление к совершенному
устройству жизни, понятно, может представать в различных формах (в виде
мифа, религиозных представлений, художественных творений, идеологии
и пр.). Утопия — способ структурной тематизации этого стремления (в самом
широком смысле) — может в той или иной степени присутствовать во всех этих
формах». Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009. С. 377. Критическое осознание несовершенства
существующего миропорядка предполагает в рамках утопии рациональное
рефлексивное проектирование совершенного состояния реальности, что
определяет и специфику функционирования утопии в социокультурной среде.
3 Заметим, что разделение утопического сознания на позитивно и
негативно критическое было произведено Б. И. Пружининым. См.:
Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии.
М., 2009. С. 378-380.
148 Раздел I
когда «остаются только твои семейные, да еще два-три
старичка, с которыми можно говорить обо всем без опасения, чтоб
слова твои не превратились в легенду или чтоб собеседник не
подумал о тебе как о провокаторе... Что-то вроде школы самого
отъявленного индивидуализма. Так в условиях высшей формы
коммунизма люди России воспитываются такими
индивидуалистами, каких на Руси никогда не было»1. Поэтому их
письма и дневниковые записи — это своего рода экзистенциальный
дневник, в котором выражается их интуиция будущего.
И Церетели, и Шпет, и Пришвин интуитивно
предчувствовали, что будущее, пусть даже очень далекое, восстановит
сферу разговора, в которой Мысль понимается. Только
экзистенциальным основанием этой интуиции будущего была не тоска,
а надежда.
«Все слова, улыбки, рукопожатия, слезы, — писал Пришвин
в 1932 году, — получат иное, внешнее, условное значение. <...>
Быть может, настанет время, когда некоторые получат
возможность шептаться больше и больше, воздух наполнится шепотом
или нечленораздельными звуками, или даже темными
непонятными словами, которыми говорят маленькие дети, и, наконец,
как у детей, выйдет первое слово...»2
1 Пришвин М. М. Дневник 1939 года // Пришвин M. M., Пришвина В. Д. Мы
с тобой: Дневник любви. СПб., 2003. С. 12.
2 Когда били колокола. Из дневников M. M. Пришвина 1926—1932.
[Электронный ресурс]: http://www.bellstream.ru; http://www.pravmir.ru/article_2603.
html
Раздел II
«Личность» как
гносеологическая проблема
Введение к разделу II
Мы сразу просим читателя оставить в стороне
многочисленные смысловые ракурсы употребления
понятия «личность» в политико-правовых и даже
общегуманитарных контекстах. Не то чтобы связанные
с этими контекстами многочисленные
смысловые коннотации этого понятия не имели отношения к нашей
теме, но их звучность может помешать услышать нюансы его
эпистемологических коннотаций. Между тем именно
«личность» может служить идентификатором русской
эпистемологической традиции, ибо оно фактически замещает в ней
центральное понятие традиционной гносеологии — понятие
субъекта познания. Именно оно связывает смысловую ткань
этой традиции, выражая ее стилистическое единство. В
работах Г. Г. Шпета, M. M. Бахтина, а также тех, с кем и о ком они
говорят: А. С. Лаппо-Данилевского, П. Л. Лаврова, Н. О.
Лосского, это понятие (и его языковые вариации) выражает,
фиксирует понимание познания как самопознания, во всяком
случае, применительно к гуманитарной науке и тем самым меняет
традиционный ракурс рассмотрения эпистемологической
проблематики.
Вопрос о познавательном выборе, о выборе
интерпретации опытных данных, встающий перед ученым, переносится в
сферу сознания, и его решение включает в себя личностное
измерение. В этом выборе участвует сознание ответственности,
тема, которая в развернутом виде предстала в концепции
Бахтина, — диалог и с предметом, и с обществом. Чего, заметим,
лишены современные разновидности конструктивистской
эпистемологии, в лучшем случае, погружающие решение этого
вопроса в стилистику, построенную на обращении к
нейрофизиологической природе человека. Обращение к личности ученого,
исследующего гуманитарную реальность, с одной стороны,
погружает вопрос о выборе способов представления реальности
в знании в культурно-исторический контекст человеческого
бытия, а с другой — акцентирует эпистемологические аспекты
темы самопознания. То, что мы осмысливаем как знание о
бытии, имеет аспекты, наполняющие смыслом наше
существование. Осознанная субъективность собственного взгляда на мир
не противопоставляется здесь претензии разума на объектив-
152 РазделИ
ность. Через познание мира личность познает себя в мире. Эта
простая на первый взгляд формула приобретает в текстах
персонажей этого раздела конкретный эпистемологический смысл,
демонстрируя концептуальное единство их стилистики.
Глава 1
Густав Шпет:
Александр Лаппо-Данилевский и проблема
«чужого Я» в методологии истории
Человек, в противопоставлении со Вселенной,
такое ничтожество в пространстве, о
котором и говорить нечего, и думать не
стоит. Но если он будет рассматривать себя
как атом, как частицу, хотя бы малейшую
частицу мирового знания, как шорох,
незначительный звук в гармонии Вселенной,
словом, если мы взглянем на себя как на
участников в мировой жизни, не человеческой
только, но именно мировой, — тогда получим
значение и станем на свое место.
А. С. Лаппо-Данилевский1
§ 1. «Методология истории» А. С. Лаппо-Данилевского:
проблемы рецепции
Размышляя о состоянии методологии исторического
знания в России в диссертации «История как проблема
логики», Густав Шпет заметил, что это одна из наиболее
развитых в эпистемологическом отношении областей
гуманитарного знания в России, и в качестве ведущих
историков, создавших собственные курсы по методологии
истории, он упомянул и Александра Лаппо-Данилевского2.
Немногим более века прошло от начала его публикации
«Методологии истории», фундаментального эпистемологического
труда, выполненного представителем особого поколения
европейских мыслителей — наследников исторического XIX
столетия. Ровесниками А. С. Лаппо-Данилевского (1863-1919) были
Г. Риккерт (1863-1936), Ш. Ланглуа (1863-1929), Д. М.
Петру1 Лаппо-Данилевский А. С. Дневник («Зеленая книжка»). Цит. по: Гревс И. М.
Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (Опыт истолкования души) //
Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 64-65.
2 См.: Наст. изд. Введение к разделу I.
154 РазделП
шевский (1863—1942); немногими годами моложе или старше
М. Вебер (1864-1920), Г. Зиммель (1858-1918), Ф. Мейнеке
(1862-1954), Э. Трельч (1865-1923), И. М. Гревс (1860-1941),
Р. Ю. Виппер (1859—1954); к этому же поколению относятся
В. Оствальд, Т. Липпс, Ш. Сеньобос, И. И. Лапшин, А. И.
Введенский, М. А. Дьяконов, П. Г. Виноградов, M. M. Хвостов
и др. Современники А. С. Лаппо-Данилевского —
представители поколения, идущего за В. Дильтеем, С. М. Соловьевым,
В. О. Ключевским, К. Н. Бестужевым-Рюминым, H. H.
Страховым, В. И. Герье и др., — радикальным образом переживали
преподаваемые им уроки историзма, избегая каких бы то ни
было отвлеченных теорий исторического знания.
Первая часть «Методологии истории» была
опубликована в 1910 г. — это время творческого расцвета для поколения
Лаппо-Данилевского. В опыте отечественной философии
исторической науки эта работа была и остается шедевром,
единственным в своем роде. Тем не менее история восприятия идей
Лаппо-Данилевского и его ближайшим научным
окружением (во время создания этой книги), и в широких исторических
и философских кругах уже после ее выхода драматична. Как и
многих русских ученых-гуманитариев, Лаппо-Данилевского
мы не поняли...
Подготавливая книгу по мере чтения соответствующего
лекционного курса для студентов, Лаппо-Данилевский
почти не имел возможности вступать в разговор с теми, которые
могли бы стать эпистемологически равносильными ему
собеседниками или критиками. Не было недостатка в
компетентных читателях, критиках и некотором вполне устойчивом
круге учеников. Однако основными отечественными визави
А. С. Лаппо-Данилевского в области методологии истории
являлись всего несколько человек. Прежде всего его учитель
К. Н. Бестужев-Рюмин, впервые предпринявший в России
обстоятельное исследование общих оснований исторического
метода1. Для Лаппо-Данилевского разговоры с
БестужевымРюминым были желанными и между тем ведшимися
осторожно: «Он все же старик, и мы довольно разных мировоззрений,
так что всего ему высказать нет возможности, не оскорбивши
его внутреннего чувства»2.
1 Краткий очерк истории этих отношений см., напр.: Ростовцев Е. А.
А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань,
2004.
2 Там же. С. 60.
«Личность» как гносеологическая проблема 155
Кроме того, он общался на методологические темы с
Н. И. Кареевым, который хотя и был весьма заинтересован в
разработке теории исторического знания, но его
познавательная установка стала преградой для понимания идей
ЛаппоДанилевского, — разговоров с ним последний постепенно и
сам стал избегать. Ростовцев указывает на характерное
приватное высказывание Лаппо-Данилевского: «Кареев, хотя и
занимается теоретическими вопросами, но у него голова не
философская»1.
Не состоялся в качестве обстоятельного собеседника
ЛаппоДанилевского Г. Г. Шпет, разговоры с которым могли бы,
возможно, стать самыми плодотворными. Весьма близкий
А. С. Лаппо-Данилевскому по своему эпистемологическому
кругозору, Г. Г. Шпет успевает только высказать, помимо уже
приведенной, несколько публичных реплик в его адрес,
признательных или критических2. Но об этом ниже.
В зарубежной исторической науке Лаппо-Данилевский был
хорошо известен как русский историк и едва только был
замечен в качестве инициативного мыслителя-методолога.
Известно в этой связи только об одном выступлении А. С.
ЛаппоДанилевского, состоявшемся в Кембридже в 1916 г. и
1 Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая
школа. С. 72. Ср., напр.: Халтурин Ю. Л. Антипозитивистская концепция
исторического закона Н. И. Кареева // София: Рукописный журнал
Общества ревнителей русской философии / под ред. Б. В. Емельянова.
Екатеринбург, 2003. № 6. [Электронный ресурс]: http://www.eunnet.net/sofia/06-2003/
text/0617.html; Халтурин Ю. Л. Структура исторического знания по Н. И.
Карееву // Там же; Филимонов В. А. «Основные вопросы философии истории»
и «Сущность исторического процесса и роль личности в истории» Н. И.
Кареева в рецензиях отечественных исследователей // Теории и методы
исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной научной
конференции. М., 2008. С. 86-288; и др.
2 См.: Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и
методологические исследования. Материалы. В двух частях. М., 2002. С. 39, 128, 305. Ср.:
Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...». Очерки интеллектуальной
биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 105-106; Зинченко В. П., Пружинин Б. И.,
Щедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии:
философскогуманитарный контекст. М., 2010. С. 112. Примечательно, что книгой, на
которую обращают внимание А. С. Лаппо-Данилевский и Г. Г. Шпет в конце
своей жизни, оказывается гегелевская «Феноменология духа». Шпет
переводит ее в томской ссылке, Лаппо-Данилевский читает ее в свои последние дни
в больничной палате: «Никогда не было времени внимательно
проштудировать ее...» Малинов А. В., Погодин С. Н. Александр Лаппо-Данилевский —
историк и философ. СПб., 2001. С. 57.
156 РазделП
опубликованном в 1917 г.; обстоятельства и познавательные
последствия этого выступления малоизвестны1.
А. С. Лаппо-Данилевский работал над «Методологией
истории», существенно дорабатывая и обновляя текст, вплоть до
своей внезапной смерти в 1919 г. В 1923 г. состоялось
посмертное второе, переработанное издание первого тома2; однако
широкого читателя эта публикация уже не имела. Книга попала в
существенно новый полемический контекст. M. H.
Покровский, в свойственной ему воинственной манере «профессора
с пикой» (выражение Н. И. Бухарина), в рецензии 1923 же года
отмечал, что «оригинального постановка Лаппо-Данилевского
ничего собой не представляет»3, находил ее полной
«гелертерского тупоумия», «упрощений» и т. п.4 Титанический труд был
надолго приговорен: «В общем, безусловно, полезно
пользоваться этой книгой для справок. Но как теоретическая работа,
она никакого интереса не представляет»5. Оставшиеся ученики
А. С. Лаппо-Данилевского практиковали преимущественно
как историки; традиция нового методологического
мышления, казалось бы основательно им установленная, угасла и
затем медленно и косвенно реабилитировалась на протяжении
XX столетия6,
1 См.: Lappo-Danilevsky A. The development of science and learning in Russia //
Russian Realities & Problems. By P. Milyoukov, P. Struve, A. Lappo-Danilevsky,
R. Dmowski, and Harold Williams. Edited by J. D. Duff, Fellow of Trinity College.
Cambridge, 1917. P. 153—229; Есаков В. Д. Неосуществленный проект
Академии Наук // Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 12. С. 1129-1139; и др.
2 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. 1. Пг., 1923. Выпуск
второй остался в издании 1913 г.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология
истории. Вып. 2. СПб., 1913. Третий выпуск сохранился в литографическом
виде: Лаппо-Данилевский А. С. Пособие к лекциям по теоретической
методологии, читанным студентам ПБ ун-та А. С. Лаппо-Данилевским в 1906-
1907 уч. году. Б.м. Б.г. (хранится в книжном фонде Российской
государственной библиотеки).
3 Покровский М. Н. О книге академика Лаппо-Данилевского // Под
знаменем марксизма. М., 1923. № 4-5. С. 191.
4 Там же. С. 192, 196; и др.
5 Там же. С. 196.
6 См., напр.: Медушевская О. М. Феноменология культуры: Концепция
А. С. Лаппо-Данилевского в гуманитарном познании новейшего
времени // Исторические записки. М., 1999. Т. 2 (120). С. 100-136;
Медушевская О. М. Теория исторического познания. Избранные произведения. Сост.
И. Л. Беленький. М., 2010; Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и
петербургская историческая школа; и др.
«Личность» как гносеологическая проблема 157
Несмотря на всплеск интереса к методологическому
наследию историка, произошедший на рубеже 1990—2000-х гг.1,
историческая дистанция, отделяющая довольно многочисленные
исследования последних лет от обширного наследия
ЛаппоДанилевского, остается значительной. Тщательным образом
возобновляются забытые и полузабытые имена тех, чьи труды
упоминает А. С. Лаппо-Данилевский, но отношение к ним пока
не выходит заметным образом за архивно-историографические
границы, очерчивающие проблему актуализации
эпистемологического опыта этого историка-методолога. К сожалению,
переиздание «Методологии истории», состоявшееся в 2006 г.,
впервые после 1924 г., было произведено в крайне
«экономичном» археографическом режиме: напечатанная по изданию
1910—1913 гг., и в новой орфографии, книга вышла без
какихлибо редакторских предуведомлений и научного комментария,
с кратким аналитическим очерком О. М. Медушевской в
качестве дополнения2.
Показательны стратегии интеллектуальных биографий
Лаппо-Данилевского, в которых, насколько можно судить,
доминирует определенная аналогия с биографическими
исследованиями тех его современников, которые были
охвачены общим порывом к научной деятельности, к которой они
обращались как к профессии и призванию3. Характерно
обращение к устному автореферату кембриджского
выступления А. С. Лаппо-Данилевского, посвященного русской науке:
«Я много думал о своей работе, много перечел и пересмотрел,
и мне показалось, что ясно вижу, как через всю научную
рабо1 См. вышеуказанные работы А. В. Малинова, С. Н. Погодина, Е. А.
Ростовцева; см. также: Румянцева М. Ф. «Чужое я» в историческом познании:
И. И. Лапшин и А. С. Лаппо-Данилевский // История и историки. 2001. № 1.
С. 161—175; и др. Почти в одно время были защищены три диссертации,
посвященные методологическим исследованиям А. С. Лаппо-Данилевского:
Берус В. В. Проблемы философии истории в русском неокантианстве.
А. С. Лаппо-Данилевский: диссертация ... кандидата философских наук.
СПб., 1998; Николаи Ф. В. Методологические идеи А. С. Лаппо-Данилевского
в отечественной историографии: диссертация ... кандидата исторических
наук. Нижний Новгород, 2003; Трапш Н. А. Эволюция научных взглядов
А. С. Лаппо-Данилевского и актуальные проблемы отечественной истории
XVII-XVIII вв.: диссертация ... кандидата исторических наук.
Ростов-наДону, 2001.
2 См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. М., 2006. Здесь и
далее цитируется это издание.
3 Ср., напр.: Малинов А. В., Погодин С. Н. Александр Лаппо-Данилевский:
историк и философ. СПб., 2001. С. 51.
158 РазделИ
ту русских ученых, в какой бы области они ни работали,
проходит одно настроение, одно чувство, одна мысль: их работа
связывается с жизнью, с тем, что мы в России зовем идеею; для
русского ученого нет науки вне жизни и без жизни; конечно,
есть отдельные исключения, но это те исключения, которые,
как говорится, подтверждают правило»1. Этот реферат известен
со слов С. Ф. Ольденбурга, со студенческих лет весьма хорошо
знавшего А. С. Лаппо-Данилевского. Однако воспоминания
Ольденбурга относятся к 1920 г.: между тем различия между
академическим сообществом России в 1916 и 1920 гг.
значительны, что уже требует известной осторожности. Впрочем, в
1918 г. состоялся и знаменитый мюнхенский доклад М. Вебера
«Наука как профессия и призвание», на который не могли не
обратить внимание симпатизировавшие Веберу русские
интеллектуалы (в том числе П. Б. Струве, корреспондент Вебера,
выступавший вместе с Лаппо-Данилевским в Кембридже) — это
также требует внимания2. Действительно, существуют
документально яркие свидетельства, позволяющие заключить о науке
как особой и единственной религии Лаппо-Данилевского. Вот
цитата из его письма 1891 г.: «Я должен иметь или религию, или
философию (а не простой кодекс нравственных правил) и без
них не могу себе представить своей жизни. Но религию в
обыденном, обрядовом смысле я утерял. На смену явилась другая
религия под названием философии»3.
Между тем эта же аналогия препятствует усмотрению иных
образовательных, социально-семейных и т. п. предпосылок и
конфигураций жизненного мира мыслителя, до сих пор
архивно сводимых к его преднайденному по аналогии кумиру
научности4. Ближайшие историко-философские контексты
методологического мышления А. С. Лаппо-Данилевского исследованы
весьма предварительно; и нам еще предстоит воссоздание его
1 Ольденбург С. Ф. Работа Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского в
Академии наук// Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 179—180.
2 Ср. также: Есаков В. Д. Неосуществленный проект Академии Наук.
3 Цит. по: Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская
историческая школа. С. 60.
4 Ср., напр., у Е. А. Ростовцева, вплоть до цитаты из письма А. Е.
Преснякова, комментирующего высказывание И. М. Гревса о «странной натуре»
Лаппо-Данилевского: Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и
петербургская историческая школа. С. 81; и др.
«Личность» как гносеологическая проблема 159
диалогизирующего фона, «сферы его разговора»1. Высказаны
и первоначально историографически оспорены, не получив
обстоятельного историко-философского развития, гипотезы
о неокантианстве, будто бы доминирующем в работе
ЛаппоДанилевского, его риккертерианстве, гуссерлианстве и
«осторожном эклектизме»2. Тем более не начинались возможные
сравнительные исследования3; между тем, кроме Г. Г. Шпета, с
его энциклопедизмом, очевидно диалогичен
Лаппо-Данилевскому В. И. Герье, «давший превосходный очерк идей Гердера»,
но с неокантианским (баденским) акцентом4; весьма заметны
мыслительные сходства в трудах Лаппо-Данилевского и Ф.
Мейнеке (по источникам и порядку развития своих идей) и т. д.
Малая эпистемологическая раскрытость оснований
познавательного методологического опыта А. С. Лаппо-Данилевского
предполагает, на мой взгляд, первоочередное исследование тех
условий, при которых происходило восприятие и решение им
методологической проблемы истории как «своеобразной точки
коммуникативного напряжения»5 научного сообщества, —
выявление диалогически-экзистенциального мотива
эпистемологических исканий мыслителя, который в его труде сильнее
всего дает себя знать в понятии конкретной индивидуальности.
§ 2. Г. Шпет и А. Лаппо-Данилевский:
несостоявшийся разговор
Г. Г. Шпет, один из несостоявшихся значительных
собеседников А. С. Лаппо-Данилевского, его возможный
историко-философский «другой», отвел в рукописи своей книги
1 Ср. обобщенный, без различения преемственности, перечень теоретиков
исторического знания рубежа XIX—XX вв., обеспечивающих «легитимизацию
истории как науки», в котором оказываются разом Э. Мейер, Э. Бернгейм,
И.-Г. Дройзен, Б. Кроче, Р. Коллингвуд и др. Ростовцев Е. А. А. С.
ЛаппоДанилевский и петербургская историческая школа. С. 103.
2 Метафора П. Н. Милюкова, высказанная относительно учеников
К. Н. Бестужева-Рюмина. См.: Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и
петербургская историческая школа. С. 99.
3 Пионерской работой здесь является указанная статья М. Ф. Румянцевой.
4 Шпет Г. Г. История как проблема логики. С. 462 (Шпет здесь усиливает
внимание к исследованиям В. И. Герье, отмечая затем, «что дальнейшее
развитие философии истории идет на почве ее теоретического уразумения от
Гердера мимо Канта, через Гегеля, к современности»).
5 Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г. Истоки
культурноисторической психологии: философско-гуманитарный контекст. С. 112.
160 Раздел II
«Герменевтика и ее проблемы»1 несколько страниц анализу
«Методологии истории» Лаппо-Данилевского, поскольку тот
рассуждает о проблемах интерпретации исторического
источника. «Общее понятие о ней, — пишет Лаппо-Данилевский, —
до последнего времени оставалось не вполне выясненным,
частью же зависело от того, что не все принципы и методы ее
обращали на себя достаточное внимание тех, которые
рассуждали о ней»2. При этом заметим, что Шпет читал «Методологию
истории» направленно, изнутри своего (по сути,
феноменологически фундированного) понимания проблемы
интерпретации. Можно даже сказать, что он настолько увлекся критикой
позиции Лаппо-Данилевского, исходя из «современного
состояния философии»3 (читай феноменологического), что прошел
мимо весьма важных проблем, им поставленных. А между тем
именно эти проблемы (правда, выраженные на другом
эпистемологическом «языке» и нуждающиеся в «переводе») и
сегодня остаются весьма актуальными для культурно-исторической
эпистемологии.
Основной упрек, который делает Шпет
ЛаппоДанилевскому, состоит в том, что «почтенный историк вносит
психологизм не только в обоснование герменевтики, но и в
самое историю, так как, утверждая, что интерпретация
источника как такого, а не только самого автора этого источника,
раскроет нам "некое единство сознания", он тем самым заставляет
нас думать, что исторический процесс или вообще то, что наука
история считает своим предметом, и есть не что иное, как
психологический процесс или психологический предмет»4.
Действительно, Лаппо-Данилевский различает два вида
интерпретации: формальную (рационалистическую) и реальную
(собственно историческую). Первая раскрывает общий смысл
источника, а вторая обращается к типизирующему и
индивидуализирующему методам. Шпет приводит следующую цитату
Лаппо-Данилевского: «...такие методы преимущественно
ха1 Рукопись была подготовлена Г. Г. Шпетом к публикации в 1918 г., но
издана только в 1989—1991 гг. Републикация текстологически уточненной версии
осуществлена Т. Г. Щедриной. См.: Шпет Г. Г. Герменевтика и ее
проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды / Отв. ред.-сост. Т. Г.
Щедрина. М., 2004. С. 373-377. В дальнейшем цитируется это издание.
2 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: Пособие к лекциям. СПб.,
1913. Вып. 2. С. 406.
3 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы. С. 373.
4 Там же. С. 375.
«Личность» как гносеологическая проблема 161
растеризуют реальную, или собственно историческую,
интерпретацию источников, т. е. истолкование его содержания
(курсив мой. — Г. Ж), по возможности во всей совокупности его
(idem), в его (idem) зависимости от данных условий места,
времени и личности, породившей в этих именно условиях данный
источник...»1
И далее Шпет задает весьма важный вопрос, остающийся,
к сожалению, в данной работе без ответа: «Неужели, наконец,
одно и то же: истолкование содержания источника, того, о нем
он сообщает, хотя бы во всех возможных и невозможных
зависимостях, и раскрытие условий времени, места, например,
появления или составления сообщающего об этом содержании
источника или того, кто сообщает?»2
Однако для полной картины мы должны учитывать, что
рукопись «Герменевтика и ее проблемы» готовилась Шпетом не в
качестве самостоятельного труда, но как «остатки от
материалов, приготовлявшихся для других целей, где экскурс в область
герменевтики был только вспомогательным средством»3. Здесь
Шпет имеет в виду свой большой труд «История как проблема
логики» и объясняет появление рукописи «Герменевтика и ее
проблемы» так: «В моих работах по методологии истории
накопился значительный материал, который я не хотел бы прямо
вводить в содержание соответствующих исследований во
избежание излишней громоздкости и пестроты их. Часть этого
материала, связанного с историей герменевтики как наукообразной
дисциплины, я счел полезным напечатать в виде предлагаемой
монографии, имея в виду, с одной стороны, опереться на этот
материал в подготовляемом мною третьем томе моих
исследований по методологии истории, а с другой стороны, питая
надежду, что предлагаемая книга может оказаться интересной и
не бесполезной также для историков, филологов и историков
литературы»4. Поэтому вполне правомерно обратиться к
материалам второго тома «Истории как проблемы логики»
(впервые опубликованного исследователями в 2002 году) для того,
чтобы найти там не критическое, а положительное изложение
концепции Шпета об интерпретации. Позволим себе привести
большую цитату.
1 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: Пособие к лекциям. СПб.,
1913. Вып. 2. С. 505.
2 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы. С. 377.
3 Там же. С. 248.
4 Там же.
162 РазделИ
Шпет различает два вида интерпретации: «Пользуясь для
наших целей только пониманием другого, мы остаемся только
как бы передатчиками его мнений, повествований, мы как бы
не восходим до самого содержания их, до вещей, процессов и
объектов, о которых он повествует, мы - бесстрастный
передаточный механизм. Дело меняется, как только мы вступаем в
пререкательство с рассказчиком, когда мы как бы претендуем
знать самое вещь лучше его, тут мы переделываем его
показания и восходим к самой вещи. Ввиду того, что нередко чужое
понимание становится для нас своим, — все равно, проистекает
это из силы мышления, конгениальности, умения проникнуть
в мышление другого или от слабости, подчинения авторитету,
веры в слова учителя, — все равно первый вид интерпретации
совершенно естественно переходит во второй. Тем не менее
ввиду разных целей мы можем различать эти два вида
интерпретации. Интерпретацию, исходящую из наших собственных
логических задач и целей, мы предлагаем назвать ввиду указанных
ее признаков активной или диалектической интерпретацией,
интерпретацию, только осведомляющую нас о чужом
понимании, — пассивной или авторитарной»1. Сопоставим два типа
интерпретации, выделенные здесь Шпетом, с его «риторическим»
вопросом о возможном различении интерпретации содержания
источника и интерпретации автора сообщения, т. е. раскрытии
условий авторского понимания источника (см. выше).
Очевидно, что перед нами два самостоятельных типа
различений, имеющих разные основания. В основании различий
между интерпретацией содержания источника и
интерпретацией автора сообщения лежит предмет исследования. В
основании различения активной и пассивной интерпретации лежит
метод. Мы, конечно, понимаем, что история не терпит
сослагательных наклонений, но представим себе, что Шпет
рассмотрел бы концепцию Лаппо-Данилевского, вооружившись не
предметным, а методологическим различением интерпретаций.
На наш взгляд, это бы дало возможность Шпету увидеть то, что
так волновало Лаппо-Данилевского, для которого активная
интерпретация оборачивалась проблемой историчности самого
историка.
В случае с Лаппо-Данилевским, как и в случае с Юмом2,
Шпет критикует сам способ постановки проблемы, который
1 Шпет Г. Г. История как проблема логики. С. 721.
2 См.: Наст. изд. Раздел I, глава 1, § 1.
«Личность» как гносеологическая проблема 163
заводит в тупик, и не видит возможных продуктивных
следствий их проблематизации, требующей «перевода» их на язык
современной Шпету философии. Однако приходится признать,
что Шпет в своих исследованиях Лаппо-Данилевского и Юма
занимается не продуктивным «переводом», но поиском
соответствия их философских оснований своему
(феноменологогерменевтическому). Как и в случае с Юмом, Шпета не
устраивает психологистическая трактовка субъекта познания в
«Методологии истории» Лаппо-Данилевского. Шпет не
находит у него то же самое, чего не находит и у Юма:
знаковосимволического понимания предмета познания. Отсюда и его
критические высказывания в адрес отдельных исторических
суждений, высказанных Лаппо-Данилевским, в основании
которых лежит неокантианское по сути противопоставление
идеографического и номотетического метода исследования ее
предмета.
Шпет отмечает: «А. С. Лаппо-Данилевский в своем
интересном курсе "Методология истории" <...> считает, что со
времени сочинения Бэкона De dign. можно начинать историю
"эмпирического построения исторического знания в
идеографическом смысле". В оценке Бэкона я решительно расхожусь с
почтенным автором. Почему тогда не начинать
"идеографическое" понимание истории с Аристотеля? Ведь это утверждение
основано только на том, что Бэкон считает предметом истории
"индивидуальное". Идея же "номотетической" истории, — если
принимать это несколько примитивное противопоставление
идеографического и номотетического, — есть выдумка XIX
века, тут только имеет смысл названное противопоставление;
в эпоху Бэкона "идеографическое" понимание истории было
естественным, само собою разумеющимся»1. Однако Шпет не
заметил, что для Лаппо-Данилевского, хотя и выражавшего
свои мысли в неокантианской терминологии, прежде всего был
важен достигший некоторого экзистенциального максимума
историзм исторической науки: все более приумножаемые
полемики относительно свободных начал исторического
социального познания должны были быть выражены в слове как уже
существующие методологические возможности.
А. С. Лаппо-Данилевский излагает ради этого свои
представления насчет предельных значений «главного объекта
исторической науки» — того, на что, собственно, могут и должны быть
Шпет Г. Г. История как проблема логики. С. 128.
164 РазделП
направлены познавательные усилия историка-ученого,
реконструирующего былое, историю по мере ее «наукообразности»
(синоним научности, который предпочитался еще и во времена
Лаппо-Данилевского). Этот объект в силу историзма
исторической науки нельзя было рассматривать с научно-теоретической
бесспорностью; его качественную определенность следовало
установить только с учетом некоего гуманитарного
обстоятельства — достоверного признания его «одушевленности». В
историческом и, шире, научном познании эта одушевленность
всегда выступала в качестве «чужой одушевленности»,
предполагалась в виде некоторого трудно выразимого «чужого Я». На
признание А. С. Лаппо-Данилевским «чужого Я» в качестве
общего условия исторического исследования обращает внимание
и Г. Г. Шпет. Не раскрывая этого условия специально, Шпет
соглашается с Лаппо-Данилевским, но только в том, что «чужое
Я» действительно является проблемой в практике «изучения
исторического материала».
§ 3. «Чужое Я» как эпистемологическая предпосылка
Эпистемологическая посылка Лаппо-Данилевского о
необходимой познавательной объективации истории означала, что
историческая наука «обыкновенно» есть познание
«качественных изменений во времени», которые подразумеваются при
рассуждении об исторических фактах. В таких случаях историк
«обыкновенно имеет в виду какое-либо изменение в
состоянии данного субъекта (индивидуального или коллективного),
<...> имеет дело с такими качественными изменениями,
которые происходят в чужой психике; рассуждая о них, он уже
опирается на особого рода принцип: он предпосылает наличность
чужой одушевленности, с точки зрения которой он и
конструирует такие перемены в чужой психике, в сущности недоступной
эмпирическому его наблюдению»1. Собственно, и точки зрения
на эту чужую одушевленность оказываются плохо различимы.
Комментируя проблему «чужой одушевленности» именно
как научную, Лаппо-Данилевский вынужден обращать
основное внимание не на собственно исторические исследования
(даже об «Историке» И.-Г. Дройзена он замечает попутно),
а на работы психологов или философские труды, в которых
Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. С. 237.
«Личность» как гносеологическая проблема 165
проблема «чужого Я» дает себя знать косвенно по
отношению к социально-историческому познанию. Прежде всего,
Лаппо-Данилевского привлекает работа молодого философа
И. И. Лапшина «Проблема "чужого Я" в новейшей
философии», поскольку здесь он находит «обстоятельное обозрение
множества теорий» — «отсылая желающих ознакомиться с ними
к его любопытному труду, я ограничусь только несколькими
общими и краткими указаниями на важнейшие из высказанных
точек зрения, присоединяя к ним и некоторые критические
замечания»1; затем только называются около тридцати
различных работ, в том числе труды В. Оствальда, Г. Кафки, Т.
Липпса, Н. О. Лосского, Р. Декарта, И. Канта, Д. Юма, В. Шуппе,
Р. фон Шуберта-Зольдерна, Г. Когена, Р. Авенариуса, Г.
Зиммеля, И. Г. Фихте, А. И. Введенского, Т. Рибо, В. Воррингера,
В. Клиффорда, Дж. Болдуина, У. Джеймса, И.-Г. Дройзена,
А. Фиркандта, Н. И. Кареева, Р. Флинта, П. Барта, Э.
Бернгейма и др.
Осваивая это предварительное многообразие
исследований «чужой одушевленности», Лаппо-Данилевский не находит
уместным подробный разбор метафизических исследований
«чужого Я»: «В метафизическом смысле можно или отрицать
чужую одушевленность, или утверждать ее существование,
смотря по тому, придерживаться материалистической или
спиритуалистической точки зрения; <...> при метафизической
постановке проблемы решение ее, в сущности, опирается уже на
такие состояния сознания, как вера, и... оно, во всяком случае,
выходит за пределы тех эмпирических данных, какими наука
располагает»2. Большего внимания заслуживает
теоретикопознавательная постановка проблемы. Полезным оказывается
даже докритическое ее усмотрение: из последовательного
солипсизма, по крайней мере, явствует, «что отрицание чужой
одушевленности приводит к целому ряду затруднений»; как
ясным становится и то, что и обоснование принципа чужой
одушевленности затруднительно. «Чужое Я» оказывается
прежде всего некоторым запросом, возникающим в историческом
познании относительно того, что предстоит предпринять
историку, устанавливающему свободно-смысловую непрерывность
истории, разыскивающему меру своей исходной
вовлеченно1 Там же. С. 238.
2 Там же.
166 РазделИ
сти в историю, своего действительно бывшего
познавательного опыта — «представить самого себя» в виду «представления
другого». В это «чужое Я» невозможно поверить; оно никогда
не дано непосредственно; однако невозможно узнать это «Я»
и в порядке теоретической критики. «С теоретической точки
зрения можно, казалось бы, утверждать, что понятие о
"сознании вообще" уже включает признание чужого "Я" <...>
Следует иметь в виду, однако, что понятие о сознании вообще в его
трансцендентности, т. е. внепространственности и
вневременности, не дает основания признавать существование чужого
"Я" в его конкретной индивидуальности»1.
Последовательно ограничивая значение «чужого Я» как
конкретной индивидуальности, Лаппо-Данилевский замечает, что
здесь лишь немного помогает понятие самосознания.
«"Самосознание есть вместе с тем сознание другого", сознание своего
"Я" достигает наибольшей своей характерности лишь под
условием его соотношения с другим "Я": они мыслятся как
взаимно обусловливающие друг друга части одного целого. С такой
точки зрения, сознание своего "Я" логически <...> требует его
противоположения чужому "Я", т. е. ведет к утверждению, что
и последнее существует. Рассуждение подобного рода, однако,
все же не дает возможности установить объективные
признаки, на основании которых познающий субъект мог бы
утверждать одушевленность той, а не иной конкретно данной ему
индивидуальности»2.
Решаясь обострить проблему, Лаппо-Данилевский
утверждает, что фактическое признание «чужой одушевленности»
«всяким нормальным сознанием» означает установление ее как
принципа регулятивно-телеологического значения. Тем самым
«категорически не утверждая его в данное время в качестве
безусловно доказанной истины, можно пользоваться им для целей
познания в качестве научной гипотезы, нужной для объяснения
некоторой части действительности; но можно принять его и в
качестве нравственного постулата, без которого нельзя
представить себе "другого" как самоцель, в отношении к которой
наше поведение и должно получить нравственный характер»3.
Схематическая, экзистенциально мерная
неукоснительность, с которой Лаппо-Данилевский распределяет
познава1 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. С. 240.
2 Там же. С. 241.
3 Там же. Курсив наш. — Лет.
«Личность» как гносеологическая проблема 167
тельную возможность принципа чужой одушевленности,
означает и некоторую бесповоротность относительно «чужого Я»,
конкретной индивидуальности, как исключительно
промежуточной инстанции исторического познания. От собственно
историчной, диалогически вольной разработки такой
индивидуальности вполне возможно уклониться: нормативно
установленная как научная гипотеза или этический императив, эта
индивидуальность оказывается как будто последовательно
очищена от неясных смыслов, лишена неопределимых
исторических познавательных перспектив и может быть только
познавательно уточнена.
Далее следуют оговорки: «Такую гипотезу нельзя смешивать
с мнимо-эмпирическим знанием "чужого Я": ведь всякий
познает "чужое Я" при помощи подстановки самого себя в
условия его душевной жизни и, значит, строит ее исходя из
представления о собственной своей индивидуальности как некоего
единства, а также из элементов собственной своей жизни; но
гипотетически конструируя "чужое Я" для объяснения его
действий, нельзя забывать, что познающий субъект не обладает
эмпирическим знанием "чужого Я" и принужден ограничиваться
наблюдением над "внешними" обнаружениями его душевной
жизни... значения которых он толкует на основании
собственного своего "внутреннего" опыта; только благодаря такому
допущению, например целесообразности данных действий, он
получает, однако, возможность установить некоторую
непрерывность в их ряде, представить себе развитие данной
деятельности, а значит и соответствующих событий и т. п.»1.
Соответственно, «нравственное сознание моего "Я" требует, чтобы я
признавал чужую одушевленность: ведь нравственно свободная
деятельность моего "Я" не может быть деятельностью без
объекта; но такой объект должен побуждать меня к
нравственно свободной деятельности, а не механически связывать ее в
причинно-следственном смысле; значит, он должен
мыслиться мною таким же нравственно свободным, признающим мою
свободу субъектом, как и я сам, что нельзя высказать, не
признавая "чужого Я", не считаясь с его индивидуальностью как
самоцелью, не уважая в нем самобытной человеческой
личности; следовательно, с указанной точки зрения каждое "Я"
1 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. М., 2006. С. 242. Курсив
наш. — Авт.
168 РазделИ
должно признавать чужую одушевленность, хотя бы оно и не
могло доказать ее действительное существование»1.
Ограничив таким образом рассмотрение
теоретико-познавательных оснований «чужой одушевленности»,
Лаппо-Данилевский затем предпринимает гносеологический анализ чужой
одушевленности - рассматривает то, как «представление о ней
возникает в нашем сознании»2. Этот анализ позволяет уточнить
двойной ассоциативный характер «сочувственного
переживания» этой одушевленности (ассоциирование своих состояний
сознания с соответствующими своими же действиями и
ассоциирование чужого действия, отождествляемого со своим
собственным, с соответствующим собственным состоянием
сознания); уточняется, таким образом, и то, что заключение о другом
«Я» происходит по аналогии, которая тем прочнее, чем более
становится общепризнанным. «Объективное существование
чужого "Я" признается с тем большею убежденностью, чем
больше утверждающий сознает, что то же "чужое Я" и другими
признается объективно существующим»3. Гносеологически можно
представить и регулятивно-телеологическое признание чужой
одушевленности, и «чужое Я» как развитие самосознания.
Эпистемологическое развитие Лаппо-Данилевским избранного
им экзистенциального мотива мало меняет дело по существу:
«Воспроизведение чужой одушевленности во всей ее полноте
представить себе нельзя хотя бы уже потому, что в таком акте
всегда соучаствует то сознание, в котором чужая
одушевленность воспроизводится: "Я" не могу перестать быть "Я" даже в
момент сочувственного переживания чужого "Я". Такое
переживание, ассоциирование и заключение по аналогии
обыкновенно сводится к воспроизведению в себе не чужого "Я", а
более или менее удачной комбинации некоторых элементов его
психики или даже просто отдельно выхваченных состояний
чужого сознания»4. «Чужая одушевленность» остается
принципом пользовательским, без гарантий и принципиально новых
перспектив.
Экзистенциально отмежевывая историка от «чужого Я»,
которое оказывается таким образом в сугубо координатном
отношении к нему, Лаппо-Данилевский замечает, что «подобно
1 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. С. 243. Курсив наш. —
Авт.
2 Там же. С. 243.
3 Там же. С. 246.
4 Там же. С. 246-247.
«Личность» как гносеологическая проблема 169
другим ученым, имеющим дело с аналогичными объектами, и
историк в сущности уже противополагает себя как
познающего субъекта познаваемому им объекту, т. е. тому именно
объекту, которому он и приписывает некоторую одушевленность»1.
Историк оказывается тем самым обречен на некий
эпистемологический мимесис: «Он основывает свое истолкование на
предпосылке единообразия природы вообще и единообразии
психической природы человека в частности... Лишь опираясь
на такую предпосылку о единообразии психической природы
человека, историк может сознательно пользоваться
заключением по аналогии»2. И, наконец, «процесс собственно научного
психологического понимания характеризуется не
инстинктивным воспроизведением чужой одушевленности, а возможно более
наукообразным заключением по аналогии»3. Гипотеза чужой
одушевленности или «души» оказывается настолько
вынужденной, настолько внешней по отношению к «наукообразной
истории» и представимой для историка разве что через
соотношение «между данным состоянием своего сознания и внешним
его обнаружением», что историк не более чем «стремится
перевоспроизвести в себе то именно состояние сознания, которое
ему нужно для научного объяснения изучаемого им объекта; он
анализирует пережитые им состояния и выбирает то из них,
которое, судя по чисто научному исследованию внешних его
признаков, <...> всего более подходит к данному случаю; он как бы
примеряет наиболее подходящие состояния своего
собственного сознания к проанализированному и синтезированному им
внешнему обнаружению чужой одушевленности, подделывается
под нее и т. п.; ему приходится искусственно <... > ставить себя в
условия, при которых он может вызвать его и т. п., хотя бы и
несколько раз. Лишь после таких исследований он может
перевоспроизвести в себе то именно состояние сознания, которое он
считает нужным для надлежащего понимания чужих действий...
Следует иметь в виду, что ученый, в частности и историк,
постоянно подвергает свое научно-квалифицированное
психологическое построение чужой душевной жизни научному же контролю;
он признает его лишь гипотезой, сила которой зависит от
степени ее пригодности и области ее применения; он принимает
ее лишь в том случае, если факты не противоречат ей и если она
1 Там же. С. 247.
2 Там же. С. 247.
3 Там же. С. 248. Курсив наш. — Авт.
170 РазделИ
помогает ему объяснить эти факты»1. Мало-помалу выясняется,
что дело, собственно, не в чужой одушевленности или ее
смысловой конкретной индивидуальности: «ведь историк
интересуется не столько изменениями в чужой психике, сколько
индивидуальным ее воздействием на окружающую среду»2.
Насколько это выводное представление об историке и его
участии в историческом познании не устраивает самого
ЛаппоДанилевского, можно судить по тому решению о
гибридизации понятия конкретной индивидуальности —
понятийносмыслового ядра проблемы «чужого Я», — к которому он
приходит.
§ 4. Личность историка как эпистемологическая проблема
Индивидуальные воздействия чужой психики на
окружающую среду являются для историка в качестве некой
фактичности истории, или, иначе, объективируются в виде некоторых
исторических фактов, что позволяет усматривать эти
воздействия как некоторую целостность того, что совершено: «Сама
этимология слова заслуживает внимания: слово factum означает
то, что сделано; но историк не может довольствоваться таким
чисто механическим пониманием факта: для него factum
означает то, что кем-либо сделано»3; «Под историческим фактом в
наиболее характерном, специфическом смысле следует
преимущественно разуметь воздействие сознания данной
индивидуальности на среду, в особенности на общественную среду»4.
Эпистемологический мимесис историка, стало быть,
далек от поэтики бессознательного участия в истории: напротив,
возникающая в порядке этого мимесиса единственность и
неповторимость реконструируемых исторических фактов, как
всегда чьих-то, фактичное познавательное оцельнение этого
всегда конкретного мимесиса — своего рода смысловая
прививка, которую делает Лаппо-Данилевский понятию конкретной
индивидуальности, казалось, безнадежно
схематизированному, — является нетривиальным гибридом кантианского и
гердеровского начал исторического познания: конкретная
индивиду1 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. С. 248—249. Курсив наш. —
Лет.
2 Там же. С. 250.
3 Там же. С. 253. Последний курсив наш. — Авт.
4 Там же. С. 254. Курсив наш. — Авт.
«Личность» как гносеологическая проблема 171
альность приобретает здесь вид «коэкзистенциального целого»
и некоторую эволюционную эпистемологическую перспективу.
Определяется, что «историк интересуется целостною
"действительностью", или совокупностью исторических фактов,
связанных между собою, а не разрозненными и оторванными друг
от друга обломками действительности»1. Предельным понятием
исторического познания оказывается понятие мирового
целого: «Только мировое целое, единое и единичное,
представляется в полной мере действительностью, каждая из частей которой
лишь искусственно может быть извлекаема из реального его
единства для научного его рассмотрения. Следовательно,
историк, научно строящий действительность, должен стремиться к
образованию понятия о ней как о таком целом; он изучает его
в соотношении его частей и в совокупности заключающихся в
нем исторических фактов»2. Отсюда историк «признает
главным объектом собственно исторического познания
содержание своего понятия об историческом целом, под условием
которого он только и может установить историческое значение
каждого отдельно взятого факта, группы, серии, народа и т. п.,
но такое содержание он, в сущности, может свести к истории
человечества»3. Человечество оказывается той «великой
индивидуальностью», реальное познавательное единство которого
характеризует историк: «Человечество состоит из
индивидуальностей, способных сообща сознавать абсолютные ценности,
что и может объединять всех»4; при этом «понятие об
историческом целом строится... преимущественно, с эволюционной
точки зрения» — «оно получает <...> соответствующее
содержание в истории человечества»5. Общий результат
эпистемологической гибридизации А. С. Лаппо-Данилевского: «Историк
восходит к тому понятию об объекте исторического познания,
которое можно назвать "историей человечества": нисколько не
устраняя <...> понятий об изменении и историческом факте, об
истории народа и т. д., оно, напротив, предполагает их, только
подвергая их дальнейшей индивидуализации»6.
1 Там же. С. 260. Это общее утверждение: историк-специалист, разумеется, не
рассуждает о «мире как целом», а представляет себе некую часть этого мира в
виде «относительного исторического целого». Там же. С. 261.
2 Там же. С. 261.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же. С. 262.
6 Там же.
172 РазделИ
Предельность понятия исторического мирового целого
может быть представлена в схематическом методологическом
выражении, номотетическом или же идеографическом, но «даже в
том случае, если ученый принимается за исследование с
обобщающей точки зрения, он не должен забывать, что имеет дело
только с частью или частичкою действительности; тем не менее
историк может выпускать из виду подобные ограничения,
научно строя историю в идеографическом смысле»1. Схематизм этой
познавательной позиции не заключает в себе всецело
проблемы конкретной индивидуальности и не решает ее. Тем не
менее Лаппо-Данилевский приходит к активной интерпретации
(в терминологии Шпета), как важнейшей составляющей
исторического исследования, которая, как мы уже говорили выше,
оборачивается для историка проблематизацией собственных
исторических оснований.
Таков последний экзистенциальный выбор
Лаппо-Данилевского — в пользу profession de foi практикующего
историка, того, что нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть
теоретически окончательным образом, для чего можно находить
предварительное интуитивное понимание — «веруя в то, что
мы мыслим»2. Примечательно, что в те же годы, что и
ЛаппоДанилевский, обратит внимание на веру как условие
исторического познания и разовьет ее единственным же образом в
опыте русской теологической эпистемологии П. А. Флоренский:
«Приемы исторической критики, порою кажущиеся
наивному уму чем-то неумолимо логичным, на деле так же основаны
на вере, как и убеждения верующего сердца. В сущности, не
приемы различны - они одинаковы, ибо одинаково устроение
ума человеческого, — а различны веры, лежащие в основе тех
и других. У одного — вера в неверие, вера в сей преходящий и
растленный мир, у другого — вера в веру, вера в иной, вечный и
духовный мир. У одного - вера в законы дольнего, у другого
в законы горнего. И согласно вере своей, каждый говорит,
раскрывает в объективных по виду приемах доказательства чаяния
своего сердца. "Где сокровище ваше, там и сердце ваше
пребудет" (Лк. 12:34, ср. Мф. 6:21.)... И потому, если кто сдается на
доводы исторической критики, то это не значит, что они
осно1 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. С. 261.
2 Реплика Т. Липпса, на которую ссылается А. С. Лаппо-Данилевский. См.:
Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. С. 239.
«Личность» как гносеологическая проблема 173
вательны, а то, что он уже расслаб в своей вере, и душа его
тайно вожделела, с кем бы ей пасть»1.
Между прочим, эта способность верить в идеалы (в
идеальное, в высшее предназначение человека) не была чужда и
Шпету. Он шел по пути осуществления своих философских и
культурных идеалов, или, как он сам говорил, пытался достигнуть
«идеальных отношений» с действительностью. Судя по
письмам, он верил в идеальные отношения, «...даже если бы они не
существовали на всем белом свете, — писал он, — тогда я только
поставил бы своей задачей их выполнить. Но, слава Богу, они и
фактически существуют. <...> Эмпирический кругозор каждого
отдельного человека — ничтожен, и человек не имеет права,
исходя из него, судить о всем белом свете. Нас не всегда окружают
лучшие люди, а культура воплощается только в них, создается
ими. Но я повторяю, — если бы даже никогда не было
идеальных отношений, - это не доказательство их невозможности.
Они должны быть осуществляемы. И тут я совершенно с
Кантом согласен, это буквально верно: что должно, то возможно.
<...> ...идеал — это задача, которую еще должно разрешить, а
не пришел ...и взял. <...> Я говорю это так серьезно, как может
только говорить человек, сознающий все последствия своих
слов»2.
В своей фундаментальной работе, дожидающейся
обстоятельного историко-философского исследования и архивной
реконструкции, А. С. Лаппо-Данилевский
эпистемологически выверяет этот выбор и тем самым переоткрывает его.
Оказавшись вне большого разговора со своими
современниками, А. С. Лаппо-Данилевский становится актуальным в
современной философии исторического знания, интенсивно
обращающейся к опыту своего прошлого. Предпринимая
попытки культурно-исторического понимания условий
исторического познавательного опыта, решая: следовать ли
возвышенному опыту XVIII столетия или же, переживая вместе с
практикующими историками последний «критический
поворот», мы не должны забывать «точки коммуникативного
напряжения», возникавшие в историческом сообществе
рубежа XIX—XX вв. Поэтому сегодня в трудные, промежуточные
для философии исторической науки времена нам очень важно
1 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 551.
2 Письмо Г. Г. Шпета к Н. К. Гучковой от 23 (9) мая 1912 года // Густав Шпет:
жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 46.
174 РазделИ
учитывать экзистенциально-диалогический опыт А. С.
ЛаппоДанилевского изнутри его «сферы разговора». В процессе
современного исследования проблемы релятивности
исторического познания его опыт анализа оснований исторического
знания ясно показывает, что историк — личность, выбирающая
позицию, и этот выбор он должен осознавать. Принцип
свободы выбора позиции должен входить как смысловой элемент в
систему исторической критики. При этом мы должны иметь в
виду, рассуждая в контексте культурно-исторической
эпистемологии, что этот выбор не абстрактный, но конкретный,
выбор конкретной личности. В этом и состоит
эпистемологический прорыв Лаппо-Данилевского.
Глава 2
Густав Шпет: Петр Лавров
и проблема антропологизма
§ 1. «Антропологический поворот» в философии: истоки
В эпистемологическом смысле «поворот» — это прежде
всего диалог когнитивных практик в форме
экстраполяции понятий, методологических принципов,
парадигм и методов с одной области научного знания на
другую1. При этом традиционные методологические и
теоретические системы приобретают новые смыслы, новое
понимание и способы объяснения, происходит расширение форм
рациональности, вскрываются ее новые, часто неожиданные
возможности при взаимодействии разных сфер знания и
понимания. Уже существующие тексты получают новые
интерпретации, существенно расширяется их языковое поле и
понятийные возможности исследования. Чаще всего сегодня говорят
о лингвистическом, антропологическом, герменевтическом,
когнитологическом поворотах. Можно, например, проследить,
каким образом осуществляется «лингвистический поворот» —
экстраполяция в таких новых направлениях развития теории
исторического знания, как изучение истории общества и
культуры через изучение «истории понятий». Немецкий ученый
Р. Козеллек и его последователи осуществили лингвистический
поворот в методологии исторических наук, экстраполировав
на нее методы и идеи лингвистики, семантики, диахронный и
синхронный подходы при изучении истории как «истории
понятий». Еще более яркий пример — экстраполяция приемов
литературоведения, в частности тропологии — учения о метафоре
и других художественных приемах как методологии
теоретической истории в широко известной и обсуждаемой монографии
американского историка X. Уайта «Метаистория. Историческое
воображение в Европе XIX века».
Микешина Л. А. Диалог когнитивных практик. М., 2010. Гл. 3.
176 РазделП
Антропологический поворот, особенно значимый сегодня
для развития эпистемологии социально-гуманитарного знания,
имеет существенные предпосылки и основания в истории
русской философии. Идеи русских философов, обратившихся к
эпистемологическим проблемам своего времени, обсуждавших
место и роль абстрактного субъекта в теории познания (Вл.
Соловьев, С. Трубецкой, Л. Лопатин и др.), имеют
принципиальное значение для современных дискуссий об
антропологизации философии. Их критика собственнических представлений
сознания, выход к пониманию личности в ее онтологическом
измерении позволяют нам сегодня усомниться в
продуктивности традиционных теоретико-познавательных схем и понятий
как в области естественных, так и в области гуманитарных наук
(в том числе критически переосмыслить понятие абстрактного
субъекта). Понимание субъекта познания с учетом принципов
антропологизма — это один из ведущих подходов в современной
философии. В этом контексте значимым и необходимым,
особенно для этики, эстетики, гуманитарных и социальных наук,
наук о культуре в целом, стало понятие эмпирического
субъекта. Все шире в эпистемологию входят понятия текста, смысла,
значения, понимания и интерпретации, а также
интенциональности, интерсубъективности и коммуникации, «жизненного
мира» и жизни в ее небиологическом значении. «Целостный»
человек, на место которого традиционная теория познания
ставила «частичного» гносеологического субъекта,
возвращается в современную эпистемологию, сочетающую
абстрактнотрансцендентальные и экзистенциально-антропологические
компоненты. Однако путь «возвращения» не может быть
просто обратным тому, что проделал в свое время, восходя к cogito,
Декарт, — здесь важно не исключить свойства «обыденного
человека», но осмыслить категориальное содержание понятия
«эмпирический субъект», его сложную когнитивную структуру,
а также увидеть необходимость дальнейшего развития самого
понятия трансцендентальное™1.
В этом процессе необходимо не только решить
собственно эпистемологическую задачу, но понять эту задачу как
важнейшую философскую проблему, имеющую фундаментальные
предпосылки в истории русской философии. При этом,
подчеркнем, сам наш выбор фигур для анализа не является
традици1 Микешина Л. А. Эмпирический субъект и категория жизни //
Эпистемология и философия науки. 2009. Т. XIX. № 1.
«Личность» как гносеологическая проблема 177
онным с точки зрения историков русской философии. Сегодня
ни Шпет, ни Лавров не рассматриваются в качестве исконных
образцов для определения специфики русской философии.
А Лавров еще и потому, что долгое время исследовался только в
контексте «народнической» философии. Тем не менее мы
снова можем сказать: Лаврова и Шпета (как и Юма, и Бахтина) мы
не поняли... И обратимся к исследованию их идей в контексте
культурно-исторической эпистемологии.
Существует исследование Г. Г. Шпета о философском
антропологизме Лаврова в обстоятельной статье памяти философа,
опубликованной в 1920 году и переизданной Т. Г. Щедриной в
наши дни. Мы будем опираться именно на эту работу Шпета,
где он исследовал, хотя и в сжатой форме, проблему
антропологизма в истории философии. Шпет определяет два подхода в
понимании антропологии и оба связаны с философией, но
различным способом, что принципиально важно. В первом случае
антропология понимается как наука и в этом случае становится
принципиальной основой философии. Сама
«антропологическая точка зрения определяется тогда развитием антропологии
как науки и знания»1 о душе и душевной жизни человека,
включая учения материалистов. Во втором случае, если
«рассматривать самого человека как последнее и самое полное
осуществление действительности», то «антропологическая точка зрения
определяется тем местом, которое занимает в философии
проблема человека как проблема реальности... в его отношении к
действительности внешнего мира, Бога или иной
трансцендентной или актуальной реальности»2. Уже платоновское
учение о душе Шпет рассматривает как «учение описательное и
антропологическое», у Аристотеля видит объяснительные
тенденции и «антропологические» гипотезы о жизненной функции
души и душевной жизни, что в дальнейшем имеет место, в
особенности в стоицизме и в христианстве. Он полагает, что эти
две тенденции являются ведущими, однако к ним существенно
добавились моралистические идеи и мотивы.
Различив два подхода к пониманию антропологии — как
самостоятельной области знания и как философского
принципа, Шпет выявил тем самым ту проблему, которая и сегодня
1 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии // Шпет Г. Г.
Очерк развития русской философии. II. Материалы. Реконструкция Татьяны
Щедриной. М., 2009. С. 441. Далее цитируется по этому изданию.
2 Там же.
178 РазделИ
структурирует эпистемологическую тематику. Более того, она
составляет стержень европейской интеллектуальной культуры.
В кратком и очень насыщенном историческом обзоре учений о
человеке Шпет акцентирует внимание на том, как
происходило разделение этих двух типов философского антропологизма.
Иначе говоря, он показывает, каким образом антропология
становилась положительной наукой, с одной стороны, и как
антропологизм становился «отрицательной» философией — с
другой. И для нас сегодня этот исторический обзор Шпета
важен не только тем, что в нем XVII век выделяется как
подготовивший почву для этого разделения двух типов
антропологизма, но еще и тем, что он зафиксировал фундаментальную
проблему: человек как проблема философии теряет свои
антропологические характеристики, а антропология становится
естественнонаучным знанием, где человек, представленный
только как природный объект, отсутствует в своей
моральноантропологической сущности.
Эта проблема наиболее ярко проявилась уже в XIX веке,
периоде расцвета гуманитарных наук: социологии, истории,
юриспруденции. Они стремились сделать то, что в истории
оказалось разделенным, вернуться к целостному пониманию
человека. Забегая вперед, заметим, что сегодня олицетворением
этого движения к целостному человеку становится
культурноисторическая психология, которая фактически явилась истоком
нашего поворота к эпистемологии в ее культурно-историческом
измерении. Особая роль в осмыслении методологического
статуса и специфики гуманитарных наук принадлежит В. Дильтею,
на работы которого Шпет опирается в своих рассуждениях. Он
отмечает, что «за Дильтеем нужно признать большую
философскую чуткость»1, в том числе в проблемах антропологии.
Дильтей констатирует, что человечество, с одной стороны, доступно
естественнонаучному познанию, и с другой — в науках о духе
человеческие состояния переживаются и понимаются.
Соответственно образуются как бы два центра: при первом человек
определяется природой, ее законами, она — центр по
отношению к человеку; при втором — человек обращается к жизни, к
самому себе, от чувственно данного к тому, что недоступно
чувствам, и здесь вступает в свои права понимание. Оно
обеспечивает общность между индивидами, а «сама общность образует
1 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и Слово.
Избранные труды. М., 2005. С. 390.
«Личность» как гносеологическая проблема 179
предпосылку для понимания»1. При дальнейшем развитии
антропологии в XIX веке, по Шпету, сложилось понимание того,
что «в своей истинной полноте человек есть социальный
человек, его проблема есть социальная проблема, и наука о нем есть
история. Антропологическая проблема стала проблемою
историческою и философско-историческою»2.
Шпет также обращался к идеям Гегеля, Канта, Фейербаха
для выявления и критической оценки их вклада в развитие
антропологизма. Разумеется, в рамках статьи мог быть дан только
обзор проблемы, но Шпет осуществил его на основе не
только знания собственно антропологии и антропологизма, но и
на фундаментальном основании истории европейской
философии. Однако он ставил себе задачу теоретически углубить
изучение природы антропологизма, вписав его в конкретные
проблемы философии, особенно XIX века — после Гегеля, во
времена Фейербаха и становления «первого» позитивизма
Конта, Милля, Спенсера. Такой материал он нашел и у русского
философа XIX века П. Л. Лаврова.
В российской истории П. Л. Лавров (1823—1900) известен
прежде всего как «ветеран революционной теории», идеолог
народничества, представитель русской революционной
эмиграции в Европе, а также один из авторов «субъективного метода»
в социологии. Но он был также глубоко и разносторонне
образованным ученым, математиком и антропологом, педагогом
и историком, философом, социологом и известным
публицистом. Он мало занимался философией естественных наук и, как
сам он пишет в автобиографии, «в понимании природы...
становится по необходимости на материалистическую точку
зрения, видоизмененную эволюционизмом. Он считает
необходимым для человека различным образом понимать требование
открытия законов в науках повторяющихся явлений и в науках
эволюции, хотя признает, что это — различие в точках зрения
на явления природы, а не в существенном понимании этих
явлений»3. Лавров неоднократно пытался построить
классификацию наук, прежде всего естественных, но в целом среди его
исследовательских работ преобладали историко-философские,
1 Цит. по: Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы. С. 393.
2 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. С. 443.
3 Лавров П. Л. Биография-Исповедь // Лавров П. Л. Философия и
социология. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1965. С. 636.
180 РазделИ
философско-антропологические, социально-исторические и
социологические тексты.
Как правило, в советское время оценка деятельности и
социальной теории Лаврова осуществлялась только по принципу
совпадения или расхождения с идеями К. Маркса или В. И.
Ленина, а также в сравнении с мнением и идеями Н. Г.
Чернышевского, что вызывает определенное сомнение в избранных
«эталонах», особенно при оценке философских и социологических
идей Лаврова, которые выходили далеко за пределы избранных
критериев оценки и исследуемых им проблем. Понимание
Лавровым социальных реалий крестьянской России XIX в., не
скованное жесткой структурой и оценками марксистской теории,
ее неуклонного применения в некапиталистической стране в
начале XX века, представляет несомненную значимость
сегодня для переосмысления истории нашего общества.
Сегодня не меньший интерес, чем социологические работы,
представляет изучение философских идей и работ Лаврова, его
«методологических» оценок философии Гегеля, анализа
становящегося позитивизма, свидетелем чего он был
непосредственно, а также развитие идей антропологизма в философии, что до
сих пор не оценено в полной мере никем, кроме Г. Г. Шпета.
Именно он прояснил характер антропологизма и
«позитивизма» Лаврова. При этом мы стремимся показать ценность идей и
особенности философии познания этого русского философа, а
также его понимания места и роли личности, человека в
познании и в преодолении господствовавшего абстрактного
гносеологизма и нарождавшегося позитивизма.
Основной корпус работ П. Лаврова по истории философии,
позитивизму, антропологизму и проблемам личности,
социальным отношениям позволяет выявить главные направления
в исследовании собственно познания. На основании как
автобиографии, так и опубликованных работ можно понять, что
Лавров не был изначально приверженцем какого-либо одного
философского учения или школы, он изучал и критически
оценивал, начиная с «гегелизма», философские и научные
направления в Европе и России, годами вырабатывая собственное
философское видение проблем. Его научные интересы лежали
в области истории научной мысли, особенно антропологии и
близких ей истории культуры, мифологии, этнологии и
психологии, на основании чего он уяснял себе понятия человек,
личность, цельный человек, наконец, Я, которые у него
пронизывают всю философию, а не только размышления о познании.
«Личность» как гносеологическая проблема 181
§ 2. Учение П. Л. Лаврова о знании: тема личности
Чтобы уяснить формирование Лаврова как философа, Шпет,
в частности, вводит понятие «философской атмосферы», в
которой «легче понять и общие тенденции его
антропологизма, и его оригинальное индивидуальное место в этом общем
течении»1. По Шпету, «семя антропологизма» не было
заброшено в философию Лаврова ни от Гегеля (хотя в статьях о
«Гегелизме» и вслед за известной монографией Гайма2 он
рассуждает о проблеме личности), ни непосредственно Фейербахом, ни
представителями левого гегельянства, но скорее пониманием
проблемы личности у А. И. Герцена. Из русских философов,
кто оказал наиболее сильное влияние на Лаврова, — это
Герцен и его работы «Дилетантизм в науке» и «Письма об
изучении природы». Для Герцена идея человека — центральный
пункт философского мировоззрения. «В человеке видел Герцен
основной предмет всего знания... Никогда Герцен не щадил
усилий философски осмыслить и разгадать загадку человека,
никогда не прекращая стремлений найти для идеи человека
конкретное осуществленье в действительной жизни»3. В целом
же философские искания Лаврова начались на основе
хорошего знания и понимания Гегеля, но уже с самого начала он
подходит к нему критически, и притом в духе новых
«положительных проблем».
В «Трех беседах о современном значении философии» (1860)
Лавров объясняет специфическую роль философии в знании,
в творчестве, в жизни. У него редко встречаются классические
гносеологические категории субъекта, объекта, только в случае
1 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. С. 458. Он
пишет, что «Гегель, транспонированный Фейербахом, и собственная
антропософия этого последнего, Прудон, своеобразно применявший метод Гегеля
к решению этической проблемы "справедливости", Кант с его
феноменализмом и критикой метафизики, Конт с его философией наук, но не с его
позитивизмом, Милль с его психологической логикой, — это то, что
последовательно наиболее привлекало к себе внимание Лаврова в первые годы его
литературной работы». Там же. С. 439—440. Разносторонность и
многообразие интересов иногда служило поводом обвинять Лаврова в «эклектизме», с
чем категорически не согласен Шпет, понимавший его искания как
необходимое основание для создаваемой Лавровым целостной философии
антропологизма.
2 Гайм Р. Гегель и его время. М., 2006.
3 Шпет Г. Г. Философское мировоззрение Герцена // Шпет Г. Г. Очерк
развития русской философии. II. Материалы. Реконструкция Татьяны
Щедриной. М., 2009. С. 207-208.
182 РазделП
работы с чужими философскими текстами, где используются
эти категории, например у Гегеля. Как и у Герцена, вместо
гносеологического субъекта речь идет о личности, человеке,
цельном человеке и не только в контексте антропологизма, но
всюду, где философ пишет о познании. Итак, предмет внимания не
гносеология, но философия познания и ее роль в знании и
познании — так дифференцируется проблема, не сводясь к
традиционным субъектно-объектным взаимодействиям.
Лавров прежде всего показывает, что «философия, и она
одна, вносит смысл и человеческое значение во все, куда она
входит. <...> Пренебрежение философией есть искажение в
себе человеческого сознания»1. Философия в разных формах
присутствует во всякой нашей мысли и во всех видах
человеческой деятельности — именно это философ стремится доказать
и проиллюстрировать в «Трех беседах». Насколько философия
составляет «элемент знания» и как мы получаем знание?
Лавров объясняет это следующим образом: мы представляем себе
какой-либо предмет, представление формируется с помощью
чувства, памяти, воображения. Но это представление
«действительно только для нашего воображения, а вне нас оно
ничему не соответствует»2. Накопленные существенные признаки
предметов мы разделяем на отделы, по присутствию или
отсутствию именно этих признаков. Так образуются области знания,
группы наук. Если это для нас «предметы прямого наблюдения,
предметы внешнего мира»3, то они относятся к естествознанию.
Если исследуемые предметы не подлежат прямому нашему
наблюдению, мы имеем перед собой лишь слова и знаки, то это
«предметы свидетельства, и они преимущественно относятся
к истории»4. Наконец, «предметы принадлежат только нашему
сознанию, внутреннему миру нашего Я; они относятся к науке
духовных явлений, к психологии, в самом обширном смысле
этого слова. Вот три главные области знания, в разных случаях
сливающиеся одна с другой»5.
«Знаем ли мы предметы внешнего мира?» — задается
вопросом Лавров и приходит к выводу, что «мы знаем не предмет, а
1 Лавров П. Л. Три беседы о современном значении философии //
Лавров П. Л. Философия и социология. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М.,
1965. С. 517.
2 Там же. С. 522.
3 Там же. С. 523.
4 Там же.
5 Там же. С. 523.
«Личность» как гносеологическая проблема 183
некоторые явления, нами воспринимаемые», такие как свет
и тень, цвет, температуру, твердость или мягкость,
шероховатость или гладкость поверхности и т. п. «Весь внешний мир
дает нам только рад явлений, обнаруживающихся радом
впечатлений. Вся наука имеет предметом только явления». «Все
целое во внешнем мире принадлежит мне, моему построению.
Я получаю только отдельное, отрывочное. Самые явления я
признаю имеющими самостоятельное реальное бытие лишь
на основании моего обсуждения их. Мое мышление
придает им реальность или отнимает ее у них. <...> Все мое знание
внешнего мира сводится на рад явлений, происходящих в моем
Я. Весь внешний мир является как результат умозаключений,
извлеченных из процессов, во мне происходящих. Насколько
этот процесс правилен, настолько лишь я могу знать внешний
мир»1. Перед нами почти рассуждения современного
конструктивиста, но не радикального, а конструктивиста-реалиста,
поскольку все-таки признается, что внешний мир является
результатом моих умозаключений, но «насколько этот процесс
правилен, настолько лишь я могу знать внешний мир»2. Здесь
также легко узнаваемы и «позитивистские» мотивы, в
частности идеи «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна,
но заметим, что приводимые строки были написаны Лавровым
значительно раньше.
Вопрос о нашем Я оказывается вопросом о сущности вещей;
какая истинная зависимость между нашим Я и внешним
миром, между мыслью и бытием, между всем реальным, что в нем
существенно? Все эти вопросы и ответы на них подспудно
присутствуют в научном знании, но не являются таковым, они
необходимы науке, но, как очевидно, другой природы,
подчеркивает Лавров, — это философское знание внутри научного знания
и прежде всего знание о сущности вещей. «В построении
законов ученый употребляет философское мышление, и без него
ученость заключалась бы лишь в собрании фактов; без него
наука не могла бы существовать. Философия присутствует в
сближении наук, в объяснении всего сущего как единого целого, в
отыскании зависимости одних явлений и существ от других, в
решении вопросов о сущности вещей»3.
1 Там же. С. 524-525.
2 Там же. С. 525.
3 Там же. С. 528.
184 РазделН
Лавров полагал, что в этом можно увидеть корень всех
главных философских систем: «Три главные области
человеческого знания (естественные, исторические и психологические
науки. — Авт.) могут служит к основному разделению
философских систем»1. У всех была одна и та же цель —
построить единое логически обоснованное целое «всего мыслимого
человеком»2, охватывая все факты знания и имея «свою долю
истины». Одних мыслителей поразила зависимость человека
от внешнего мира, как материалистов, предполагающих, что
природа «дает как все явления внешнего мира, так и явления
нашего сознания»3. Это «философы природы». Другое
направление — «отец новой философии Рене Декарт»4 с его cogito ergo
sum, а также «великая школа германских идеалистов»5 —
рассматривало «зависимость фактов нашего знания от процессов
нашего сознания»6. «Человеческое сознание здесь сделалось
исходным пунктом»7, но одни «философы сознания» исходили из
двойственности мира - двух сущностей: духа и вещества;
другие выше всего ставили «обобщающую мысль», как нечто
самостоятельное, отдельное от человека и «построили все сущее как
процесс развивающейся безусловной мысли»8, как Гегель.
Несомненный интерес представляют эти наблюдения
Лаврова о предпосылках и структуре философских концепций
различного типа, что, по сути дела, осуществляется как
эпистемологический анализ философского теоретического знания.
Философ формулировал также и определенные требования к
построению такой формы знания, как философская система,
существование которой считалось необходимым для
философа, иначе он определялся как эклектик. «Но должно постоянно
иметь в виду главные условия построения правильной
философской системы. Факты знания должны служить ей
основанием. Всякое противоречие между фактом и системой влечет за
собой неизбежное осуждение системы. <...> Чем меньше
гипо1 Лавров П. Л. Три беседы о современном значении философии //
Лавров П. Л. Философия и социология. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М.,
1965. С. 529.
2 Там же. С. 528-529.
3 Там же. С. 529.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
«Личность» как гносеологическая проблема 185
тез она допускает, тем она делается вероятнее, и ее идеал — это
группировка фактов, которая сама собою указывает на их
построение в одно стройное целое»1.
Итак, философия в знании осуществляет ряд
методологических функций: раскрывает суть употребляемых в данном тексте
слов-понятий, группирует факты, осуществляет построение
данной науки, создает системы. По Лаврову, следует
учитывать также и особое «психологическое начало, которое в
области знания приводило к философии»2, это — творчество. «Оно
строит науку из фактов знания и охватывает науки
философской системой»3, хотя его проявления несравненно обширнее,
и оно само имеет «философский элемент творчества»4.
Предмет, оставшийся в памяти и воображении наблюдателя, лишен
реального бытия, т. е. проходя через процесс познания, он
«потерял свою реальность»5, а также «полноту, живость, цельность
своих признаков»6. Он стал достоянием нашей мысли,
«реальным признаком моего состояния духа»7, а назвав его словом
и «дав ему форму, я обособил его»8. «Знание уменьшает бытие
предмета, уменьшает число признаков в том, что узнается,
переходит от реального к отвлеченному, от формы единичного
предмета к существенным признакам представления предмета;
творчество увеличивает бытие предмета, <...> прибавляет
реальный признак к представлению, в нас существующему, <...>
вводит в мир реальный то, что принадлежало только нашему
внутреннему миру»9. Таким образом, Лавров прослеживает
«превращение» реального предмета в идеальный и его
специфическое существование в этом качестве, на что обычно не
обращается внимание.
В статьях о Гегеле Лавров размышляет о различных смыслах
и значениях, а также формах существования знания. При этом
описание форм знания уже имеет определенные личностные
аспекты, как это в полной мере представлено при сравнении
научного и религиозного знания, что он осуществляет как
по1 Там же. С. 530.
2 Там же.
3 Там же. С. 531.
4 Там же. С. 532.
5 Там же. С. 535.
6 Там же.
7 Там же. С. 536.
8 Там же. С. 536.
9 Там же. С. 537.
186 РазделП
следователь секуляризма. В первом случае «права» познающей
личности определяются тем, что «наука опирается на личное
исследование; она кладет в свое основание беспредельное
сомнение. <...> Она беспрестанно сознается в своей
недостаточности, неточности, неполноте, <...> предоставляет личной
свободе каждого принять то или другое мнение; <...> Наука
требует метода, разделяющего неоднородные понятия, строго
последовательного. <...> Для нее есть только истина или замена
последней — наибольшая вероятность»1. Наконец, «науке нет
дела до общественных, нравственных, гражданских,
религиозных убеждений, но ученый тогда только может возвыситься до
действительной науки, когда среда, в которой он движется как
человек, достаточно очищена от вредных, удушающих миазмов,
чтобы в этой среде могла развиться здоровая, смелая,
беззаботная и неуклончивая мысль»2.
В религии положение личности совсем иное. Если личность,
человек во многом определяет развитие научного знания, то
религия «высший, внечеловеческий авторитет». Она
требует безусловной покорности. Истинная религия должна обнять
все, охватить всего человека, в ней спорных вопросов нет,
споры принадлежат лишь человеческому рассуждению, которому
самая сущность религии недоступна. В религии не может быть
различных мнений, все остальное есть ересь, заблуждение, ее
торжество в «провозглашении догмата, недоступного
обыкновенному пониманию»3.
В статьях о гегелевской философии, в которую Лавров
достаточно глубоко проникает и высоко ее оценивает, дается
жесткая характеристика догматизма в знании, в частности на
примере самой философии Гегеля, что неудивительно, так как
это годы осмысления и критики великого философа после его
смерти. «Бездоказательное начало, таинственное соединение
несоединимого, путь, предписанный извне для мышления,
фанатическое преследование противников, наконец, наклонность
к основному началу всякого человеческого верования — к
авторитету <...> не суть ли это явные признаки догматического,
вненаучного характера гегелизма?»4. Лавров обнаруживает, что
в действительности эта философия оказалась «религиозным
1 Лавров П. Л. Гегелизм //Лавров П. Л. Философия и социология.
Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1965. С. 90-91.
2 Там же. С. 117.
3 Там же. С. 91.
4 Там же. С. 93.
«Личность» как гносеологическая проблема 187
учением» в смысле — догматическим, при этом он выступает не
против религии, но против превращения философии в некий
догмат, как у Фейербаха — в религию о человеке, в
материализме—в поклонение «веществу».
По Лаврову, догматизм бездоказателен как в
подробностях, так и в основании, нетерпим к противникам; совершает
«прыжки» от доказанного к предполагаемому, временное
преобладание и падение после некоторого промежутка времени.
«Немногие ученые останавливаются на рубеже истины и
творчества; немногие удерживают ясное сознание деятельности
собственного своего творчества. Как только это сознание
исчезло, немедленно создание собственной фантазии становится
перед автором как нечто отдельно от него существующее, как
нечто самостоятельно и безусловно истинное, и догмат
ученого или философского верования образовался»1. Итак, знание
Лавров начинает исследовать уже с первых лет своей
философской биографии, при этом не в традиционном гносеологизме
субъектно-объектных отношений, а с обращением к теме
личности, социокультурным и историческим условиям ее
познавательной деятельности.
§ 3. Был ли П. Л. Лавров «позитивистом» и как он понимал
природу позитивизма?
Особое внимание Лавров уделяет отношению философии и
науки: «Философия опирается на науку и ею питается. Из
фактов последней философия строит одно стройное целое, не имея
права ничего выкинуть, ничему противоречить. Чем она
ближе к науке, тем она проще, нагляднее, убедительнее. Чем более
разработана какая-либо часть науки, тем менее к этой
отдельной части остается сделать философии; факты сами
подсказывают и обязывают мыслителя к такому, а не к другому роду
построения. Итак, научное основание должно предшествовать
1 Там же. Лавров замечает, что «весьма интересно было бы проследить во всех
науках, и в особенности во всех философских учениях, этот психологический
процесс образования догматов из собственных гипотез ученых и философов.
Когда-нибудь это будет сделано и составит немалое приобретение истории
развития человечества. Но нигде этот процесс не происходил так полно и
совершенно, как в гегелизме». Разумеется, он не мог знать, как будет
представлен догматический гегелизм в советском догматическом марксизме.
188 РазделИ
зданию философии»1. Такое отношение Лаврова к науке
давало повод некоторым современникам философа считать его
последователем позитивизма, который формировался в эти
десятилетия в европейской науке и философии. Но уже в эти годы
он начинает разрабатывать проблемы антропологизма, что
продолжится всю жизнь, а тема личности станет важнейшей
особенностью его философии познания. Однако прежде, чем
обратиться к антропологизму в познании, необходимо выяснить
особое отношение Лаврова к позитивизму.
Непосредственно о позитивизме он размышляет в статье
«Задачи позитивизма и их решение» (1868), из которой
следует, что еще до и вне «контизма» возникает позитивизм, как
«отрицательная философия». «Замечательные умы, весьма
мало знавшие о Конте, другие, на которых его влияние,
повидимому, было крайне ограничено, наконец, третьи, прямо
оппонирующие Конту, при ближайшем беспристрастном
рассмотрении должны быть поставлены с позитивизмом в более
близкую связь, чем с каким бы то ни было другим из
предшествующих течений мысли»2. При этом он называет имена
А. фон Гумбольдта, Р. Вирхова, Э. Ренана, И. Тэна, Ш. Ренувье
и др. И сам себя он видит на этом пути, по сути, отрицающим
метафизику в статусе науки и философии, выражающим
«скептицизм в отношении всякой метафизической теории»3. Шпет
подтверждает, что позитивизм, к которому обратился Лавров,
не был «контизмом», и имел свои «непреложные основания»
на существование в современной цивилизации. «О
позитивизме можно сказать: это — наше время, схваченное в вопросе», —
писал Лавров, и Шпет отмечает, что «нельзя не видеть в этом
тонкого и остроумного подхода к позитивизму. Позитивизм
есть не философская система, а лишь постановка вопроса для
философии, уяснение условий, которые она должна выполнить.
1 Лавров П. Л. Что такое антропология //Лавров П. Л. Философия и
социология. Т. 1. М., 1965. С. 465. Позже такую зависимость философии от
науки, как и построение философской системы в единое целое, Лавров назовет
догматическими принципами. См.: Лавров П. Л. Очерки систематического
знания // Знание. 1873. III —IV. С. 152. Цит. по: Щедрина Т. Г.
Комментарии // Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. II. Материалы. М.,
2009. С. 797.
2 Лавров П. Л. Задачи позитивизма и их решение //Лавров П. Л. Философия
и социология. Т. 1.С. 580.
3 Лавров П. Л. Моим критикам. Цит. по: Шпет Г. Г. Очерк развития русской
философии. И. Материалы. М., 2009. С. 475.
«Личность» как гносеологическая проблема 189
Если так, то, следовательно, позитивизм еще не философия,
философия — впереди, а позитивизм — лишь принцип критики.
Отсюда не только становится понятной роль позитивизма, как
отрицательного направления в философии, но отсюда она и
оправдывается»1.
Позже возникает особое понимание «первого позитивизма»
как «контизма», с которым Лавров также познакомится, но не
все примет безоговорочно. Позитивизм О. Конта, Дж. Ст.
Милля, Э. Литтре, Г. Спенсера и других, который оформился как
«первый», получит в приведенной статье критическую оценку
Лаврова, одобренную Шпетом как «совершенно
основательную». Лавров исходил из того, что будущая философская
система удовлетворит всем требованиям позитивизма, причем
лучше, чем та форма позитивизма, которая представлена Контом
и его последователями. Но когда появится такая философская
система, — утверждает Лавров, — «в то самое время позитивизм
перестанет существовать, потому что его особенность
заключается именно в отрицании возможности философской системы.
Самая большая несообразность в нем та, что он называет себя
философией. Он заключает в себе лишь постановку
вопросов для философии, уяснение условий, которые она должна
выполнить»2.
Если многие достаточно поверхностно считали Лаврова
приверженцем «контовского позитивизма», то Шпет полагает, что
«тут у него прочна гегелевская закваска»3 и ссылается в
понимании «научности философии» на Гегеля, утверждавшего, что
философия должна быть «наукой, абсолютным знанием,
научною системой». В то же время Лавров, соглашаясь оценивать
философское знание как отвечающее требованиям научной
системы, четко различал философию как догматическое учение
и собственно науку. Догматическое учение «не нужно
оправдывать как истинное или опровергать как ложное, но следует
объяснить его, как выросшее из современных ему воззрений и
как удовлетворяющее современным ему требованиям»4. В свою
очередь, «наука довольно сильна, чтобы не нуждаться более ни
1 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. С. 472—
473.
2 Лавров П. Л. Задачи позитивизма и их решение // Лавров П. Л. Философия
и социология. Т. 1. М., 1965. С. 583.
3 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. С. 475.
4 Лавров П. Л. Гегелизм // Лавров П. Л. Философия и социология. Т. 1. М.,
1965. С. 94.
190 Раздел II
в каком предании... ни в какой метафизике»1. Очевидно, что
философ не против верования, но против того, чтобы
верование выдавалось за науку и за знание, чем «грешила» всегда не
столько религия, сколько метафизика, принимающая форму и
видимость науки.
Размышляя собственно о позитивизме, его
методологических особенностях и о праве и основании определять кого-либо
как позитивиста, Шпет и Лавров ставят проблему выявления
«исторического типа позитивизма» и дают свое понимание
исторических источников позитивизма и его соотношения
с философией. Это было необходимо не только для оценки
взглядов Лаврова и их существенного развития, но в целом для
понимания истории позитивизма, его соотношения с
философией. По Шпету, позитивизм антиметафизичен, т. е. стремится
провести четкую грань между научной и метафизической
теорией, он восстает против мифологических объяснений, гипотез
и объяснительных теорий, стремится четко различить знания и
верования не только в философии, но и в специальных науках.
Но при этом он «приходит к феноменалистическим выводам,
заставляющим отвергнуть не только гипотетические теории,
как простые эмпирические обобщения, но и наличность
вообще каких бы то ни было источников познания, кроме
сенсуальных дат эмпирии. Вместе с фантазией отрицается, таким
образом, и умозрение, вместе с гипотетическим — и идеальное.
Эмпиризм, с его релятивизмом и скептицизмом,
умиротворяет позитивиста. Перестав быть требованием и становясь
системою, позитивизм, действительно, уничтожает и себя и всю
философию»2.
По существу, и Лавров, и Шпет предвидели смену форм
«первого позитивизма», как оно и произошло при переходе
ко «второму позитивизму», а затем к «третьему» —
неопозитивизму, логическому позитивизму как реакции на
программу эмпирического обоснования науки. С появлением новых
типов позитивизма, в стремлении ответить на поставленные
«первым позитивизмом» вопросы, усиливались «логические
компоненты», которые уже в значительной мере были
представлены в знаменитом труде Дж. Ст. Милля «Система
логики силлогистической и индуктивной» (1843). Антропологизм
1 Лавров П. Л. Механическая теория мира. Цит. по: Шпет Г. Г. Очерк
развития русской философии. II. Материалы. М., 2009. С. 470.
2 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. С. 473.
«Личность» как гносеологическая проблема 191
Лаврова формируется независимо от контовского
позитивизма, но присутствие в нем идей классификации, историзма и
социологии сыграли положительную роль для «собственных
самостоятельно установленных идей» философа. Требование
научности, систематичности, синтетичности, единства — это
скорее дух времени, чем «дух Конта», в целом эпохи, которую
Лавров называл своею. Формировалась новая философия как
философия науки, в которой существенно усилилась
логическая, методологическая и языковая составляющие и в
разных формах осуществлялась критика «метафизики». Сегодня
сформировалось принципиально новое направление —
постпозитивизм как новое понимание взаимоотношения между
философией и наукой, прошедшее от контовского
понимания «наука — сама себе философия» и последующей борьбы с
«метафизикой как онтологией» к признанию значения
философской онтологии для науки. Теперь аналитические и
логические методы применяются не только для изучения науки, но
и метафизики как онтологии, а также для исследования
личностных, социо-гуманитарных и культурно-исторических — в
целом антропологических — предпосылок научного знания.
Сторонниками именно такого «позитивизма»,
включающего, а не изгоняющего философию, личность, антропологизм в
целом были Герцен, Шпет и Лавров, именно о такой «будущей
философии», где сочетаются философия, наука и человек, они
и писали.
§ 4. Философский антропологизм Лаврова и познание
Рассматривая антропологию и отношение к ней
философии1, он основывается на сформулированных им трех
принципах. «Первый принцип ставит человека как действительную
личность, второй — как познающую личность, скептический
принцип — как мыслящую личность и в мышлении
отрицающую познание сущности вещей. Но это отрицание есть лишь
требование двойного философского построения. Философия
1 Термин антропология, применяемый к «всеохватывающему знанию человека
так, чтобы это могло послужить основою философии», впервые употребляется
Лавровым в статье «Современное состояние психологии» (1860);
антропологизм как система, раскрывается впервые в статье «Что такое антропология?»
(1860) и затем в более систематизированном виде в статье
«Антропологическая точка зрения в философии» (1862).
192 Раздел II
природы строит личность, мыслящую себя как продукт
внешнего мира; философия духа, наоборот, строит личность,
мыслящую себя как источник того же мира. В совокупности они
заключают полный круг всего сущего, оставляя непоколебимыми
все три основные принципа»1. Эти антропологические
принципы он стремится реализовать в своих исследованиях по
философии познания.
Для оценки философии антропологизма Лаврова есть
возможность опереться на методологию Шпета как двух подходов
в понимании антропологии, о которых шла речь выше. Как нам
представляется, эти два подхода к антропологизму в целом
различаются и Лавровым.
«Первые шаги» в исследовании антропологизма Лавров
делает под влиянием работ Герцена, но при этом «он
остается оригинален» и в развитии близких мыслей, в содержании
и в выводах, что «устанавливает преемственность мысли двух
больших русских людей, выражавших две, следующих одна
за другою, эпохи нашего культурного сознания»2. Эта
оценка Шпета предельно значима для понимания роли Лаврова в
европейской и русской культуре как философа в одном ряду
с Герценым, а не только как «народника» и «революционного
деятеля». «Положительная проблема философии задана — это
человек», — пишет Шпет вместе с тем отмечая, что с
Фейербахом при этом у Лаврова совпадение только в одном — «в общем
требовании цельного человека как проблемы философии и
выражения действительности», чего требовали и другие философы,
а также психологи. Еще в статьях о «гегелизме» Лавров
обращается к человеку, а затем к личности, что говорит о стремлении
осмыслить формы проявления антропологизма в философии.
Началом новой философии могут стать человек как существо,
отдельное от мира, в котором осуществляются чувства,
мышление, творчество и вера; человек, сознающий внешний мир
и свое отличие от него — самостоятельное Я; человек,
осознающий, что часть знаний и убеждений он получил от других
людей, т. е. в целом речь идет о «личности, природе, предании».
Итак, первый источник познания — личность, что «с
необыкновенной яркостью выдвинуло конкретное определение и
по1 Лавров П. Л. Что такое антропология // Лавров П. Л. Философия и
социология. Т. 1.С. 484.
2 Шпет Г. Г. П. Л. Лавров и А. И. Герцен // Шпет Г. Г. Очерк развития
русской философии. II. Материалы. С. 437.
«Личность» как гносеологическая проблема 193
становку проблемы действительности», а «философия должна
понять действительность»1.
В этот период Лавров еще не пользуется в полной мере
понятием «антропология», осознавая, по-видимому, что к
этому - ни в естественнонаучном, ни в психологическом
смыслах — не должна быть сведена философия, но он хочет, чтобы
человек в его действительности и как личность стал бы
основной проблемой философии. «Только весь человек, в целости
явлений его жизни — истинный предмет философии, — писал
Лавров в "Механической теории мира". — Задача будущей, еще
несуществующей философской системы, должна заключаться
в стройном уяснении всего человека в его тройном
отношении: к своему сознанию, к внешнему миру и к преданию. Все
видоизменения сознания, все законы природы, весь процесс
предания исторического должны построиться в этой системе в
единое целое»2. Приводя эту мысль философа, Шпет в полной
мере поддерживает ее, также полагая, что человек, как предмет
философии и подлинная личность, не сводится к знанию, но
предстает как «действующий и творящий», что напоминает ему
близкие высказывания Герцена. И еще одно условие Лаврова
принимает Шпет, считая это «прекрасной мыслью», — человек
может быть «началом» философии только если в нем
присутствует «единство бытия и того, что должно быть, идеала», т. е.
не только ставшее, но и становящееся». Для Лаврова это и есть
философия истории, где человек «есть источник природы,
источник истории, источник собственного сознания. В
общечеловеческом существе коренится вся философия знания, из живого
исторического человека объясняется его философия творчества,
особенностью его личности определяется его философия жизни.
И они взаимно действуют одна на другую»3.
Отметив у Лаврова главные позиции антропологизма в
философии и во многом соглашаясь с ними, Шпет дает
также критическую оценку позиции в целом, принципиальную
для понимания антропологизма, но главное — самой
природы и существа философии. Прежде всего Лавров, точно в
со1 Лавров П. Л. Практическая философия Гегеля. Статья IV//Лавров П. Л.
Философия и социология. Т. 1.С. 336.
2 Лавров П. Л. Механическая теория мира // Отечественные Записки. 1859.
№ 4. Цит. по: Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии.
С. 483.
3 Лавров П. Л. Три беседы о современном значении философии //
Лавров П. Л. Философия и социология. Т. 1.С. 570.
194 РазделИ
ответствии с задачей философии его времени, «в основание
построения системы ставит цельную человеческую личность»,
как и его современники, видит в человеке ответ на все
философские вопросы. По Шпету, этого не избежал также и
Фейербах, видевший в «человеке» разрешение как религиозных,
так и философских вопросов. Эта же тенденция присутствует
и у Лаврова. « Человек у него не только задача и не только
исходный пункт, ...а еще и основа»1. Соответственно человек
становится безусловной, «недоказуемой предпосылкой
философии», либо это понятие берется из науки, или смешиваются
оба члена этой дилеммы. В таком случае «философия
опирается на науку и ею питается. <...> Научное основание должно
предшествовать зданию философии»2. И здесь Шпет, уже из
20-х годов XX века — «прекрасного далека» для Лаврова, — не
соглашаясь с ним, ставит проблему, значимую для нас и
сегодня. Если философия должна опираться на науку, т. е. на
человека как данное, получаемое, в частности, из антропологии, то
это «явно обезличивает философию и делает ее каким-то
нахлебником науки», — считает Шпет. В то же время «сама наука
нуждается в основании, и притом философском... Философия
же, основанная на эмпирическом фундаменте, есть здание
ненадежное, — карточный домик, разлетающийся от самого
легкого дуновения скептицизма»3. Однако если наука покоится не
на принципиальном базисе философии, а на «фактах», то она
может «обрасти» некой метафизикой, поскольку философия,
построенная только на науке, необходимо становится
метафизикой. По Шпету, время Лаврова - это время «пониженного
философского чутья»4, когда формирующийся позитивизм
закрывал глаза на метафизику, а «эмпирия усердно его потчевала
тою же метафизикой». На самом деле, Лавров должен был
держаться того, что он сам поймет позже: «Позитивизм лишь
ставит вопросы философии и не решает их».
По Шпету, Лавров допускает своего рода
«психологистическую ошибку», когда признает в личности главную задачу
своего времени, мышление заменяет личностью, и наконец, в
поисках «непосредственно данных», приходит к сознанию, которое
1 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии... С. 489.
2 Лавров П. Л. Что такое антропология // Лавров П. Л. Философия и
социология. Т. 1.С. 467.
3 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. С. 489.
4 Там же. С. 490.
«Личность» как гносеологическая проблема 195
для Лаврова есть первичная и непосредственная данность,
«логическое доказательство антропологизма», начало и исходный
пункт философии, а не «наука», которая вторична и не
непосредственна. Так формулируется первый антропологический
принцип Лаврова, который, по Шпету, есть принцип
философский, как принцип действительности сознания: процесс сознания
действительно совершается.
Рассматривая проблему реальности в антропологизме
П. Л. Лаврова, Шпет полагал его «оригинальным типом учения
о реальности», значимым для философского антропологизма в
целом. Для него, как и для Лаврова, осуществляемый в истории
человек и есть реальность как центральная проблема
философии. «Только внося сознательность и связность в нашу жизнь,
делаем мы ее вполне человечною. Но этим самым мы вносим в
нашу жизнь философию»1, — пишет Лавров, и Шпет
подтверждает: «Это сознание есть теперь проблема философской
реальности».
Лавров в статье «Наука психических явлений и их
философия» (1871) в представленной там классификации определяет
антропологизм как реализм; соответственно «антропологисты...
принимают за основной принцип — человека, и за полное
философское построение — мир, мыслимый человеком и
реализируемый его деятельностью, по законам человеческой мысли и
деятельности, оставляя совершенно в стороне мир, как он есть
в самом себе»2.
В целом антропологизм Лаврова, как один из видов этого
направления в философии в целом, философии познания в
частности, определяется и по форме и по содержанию тем, что для
него полной реальностью является «личность в ее не только
натуралистической, но и социальной полноте» в каждый данный
исторический момент. В то же время антропологизм Лаврова
в значительной мере связан с феноменалистическим подходом
к философии и имеет черты психологизма. По этому поводу
Шпет высказывает предположение, что в дальнейшей
философской работе Лавров поймет: это — не настоящий путь
философии, но таких наук, как психология и антропология. К
философии же ведет другое, считает Шпет, ссылаясь на В. Дильтея
1 Лавров П. Л. Три беседы о современном значении философии //
Лавров П. Л. Философия и социология. Т. 1.С. 563.
2 Цит по: Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии.
С. 504. Примечание.
196 Раздел II
с его антропологизмом «цельной личности» как пути для
нового обоснования «реалистически и критически объективно
направленной теории познания»1 (курсив наш. — Авт.). В целом,
для Шпета важнее антропологизм Лаврова как истолкование и
осмысление реальности через человека, нежели
психологические ошибки, допускаемые им в истории и философии.
«Человек в учении Лаврова — это линза, через которую преломляются
все лучи света, идущие от действительности; затем они
собираются в одном фокусе, и вновь расходятся, неся с собою
творчески преломленный философский образ этой действительности.
<...> Через человека философия не только оживляет и
осмысливает всю действительность, очеловечивает ее, но и творит ее
человечески и для человека»2. Очевидно, что Шпет, как
глубокий мыслитель, понимающе и доброжелательно прочитал
философию Лаврова, объяснил несправедливым критикам
особенности его позитивизма, антропологизма, философии в целом,
отвел обвинения его в эклектизме, но вместе с тем высказал
и обосновал свои критические замечания. Что касается
собственно философского антропологизма, то его вывод очевиден:
«антропологизм — лишь проблема и поскольку мы искренне
держимся этого определения, и вся история мысли для
философии — лишь проблема. Философское разрешение этой
проблемы - очередная задача нашей философии. Лавров - один из
тех, кто дал материал для ее решения»3.
Философия познания Лаврова, опирающаяся на
антропологизм, содержит и соответствующее понимание социального и
исторического знания, в частности в «Исторических письмах»
(1869), а также объясняет причину возникновения его
«субъективного метода» в социологии, где главным он считает человека
и его нравственность. Взгляды Лаврова за два века подверглись
критике с разных сторон — от марксизма, обвиняющего его в
идеализме, до обвинения во всяких «измах» и
«полупозитивизме» со стороны В. В. Зеньковского, не прощающего ему
секуляризма в философском мышлении4. Мне представляются оценки
1 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. С. 505. См.
также: Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен
Возрождения и Реформации. М.; Иерусалим, 2000.
2 Шпет Г. Г. Философия Лаврова // Шпет Г. Г. Очерк развития русской
лософии. II Материалы. С. 429—430.
3 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. С. 508.
4 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1.4. 2. Л., 1991. С. 155—
169.
«Личность» как гносеологическая проблема 197
Шпета, в том числе и антропологической философии познания
Лаврова, более взвешенными, глубокими и основательными.
Оба философа осознавали всю важность дальнейшего развития
философии и методологии познания не в предельном
отвлечении от личности, целостного человека, а в полной мере с
признанием его роли в философии познания в целом.
§ 5. Г. Шпет, М. Хайдеггер и философский статус
современной антропологии
По Шпету, «истинным проводником ошибки
антропологизма в философии был Кант»1. Если Локк свой «Опыт о
человеческом разумении» рассматривал как введение в философию, а
не ее обоснование, то Кант «провозгласил исследование
познавательных способностей не только введением в философию, но
и принципиальною основою всякой философии»2. При этом
кантовский антропологизм характеризуется Шпетом как
«антропологизм субъективный», который и в XX в. угрожает всякой
философии, если она некритически отнесется к кантовским
предпосылкам.
Столь категоричная позиция вызывает вопросы и
порождает сомнения. Разумеется, критическая философия Канта
прежде всего имеет прямое отношение к теории познания, и в
таком случае его антропологизм может быть интерпретирован
как учение о человеке познающем. И, по существу, Шпет
ставит проблему: насколько верно, что все центральные философские
проблемы коренятся в человеке, в частности человеке познающем ?
Как известно, через десять лет после написания
рассматриваемой статьи Шпета М. Хайдеггер поставит этот вопрос (в
близкой редакции) в книге «Кант и проблема метафизики» (1929),
где текст кантовской «Критики чистого разума»
интерпретируется им как метафизически-онтологический, и показано,
что кантовская философия не может быть понята однозначно
как только гносеологическая концепция3. Однако кантовская
1 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. С. 444.
2 Там же.
3 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997. С. 123. Известна
философская критика онтологической интерпретации М. Хайдеггером
«Критики чистого разума», в частности Э. Кассирером, К. О. Шрагом, П. П.
Гайденко, однако перед публикацией книги он успешно читал лекции на эту тему, а
сама книга только в Германии выдержала три издания.
198 РазделИ
антропология и антропология в целом, как «региональная
онтология человека», не может «и прежде всего — самой
внутренней структурой своей проблематики, являться центром
философии»1.
Вопрос, поставленный Шпетом, и один из возможных
ответов на него присутствуют именно в этой книге Хайдеггера,
где он особо рассмотрел как идею философской антропологии,
сущности человека, так и «подлинный итог» кантовского
обоснования — взаимосвязи вопроса о сущности человека с
основанием метафизики и с проблемой «конечности человека».
Здесь же в контексте кантовской антропологии и
причастности к ней обсуждается проблема четвертого вопроса Канта «Что
есть человек?», возможность его связи с другими тремя
вопросами: что я могу знать, что я должен делать, на что я вправе
надеяться, «в которых проявляется внутренняя сущность
человеческого разума».
Обсуждая возможности философской антропологии,
проблемы человека и человеческого разума как основания
философии в целом, Хайдеггер полагает, что Кант, возможно сам того
не желая, показал, что «какие бы разнообразные и
существенные знания о человеке не предоставляла «философская
антропология», она никогда не сможет вступить в права основной
философской дисциплины лишь потому, что является
антропологией. Напротив, она содержит в себе постоянную опасность
того, что остается сокрытой необходимость развивать вопрос
о человеке именно как вопрос, имеющий целью обоснование
метафизики»2. Именно такое понимание роли антропологии
в кантовской «Критике» вызывало сомнение у Шпета, и
расхождение в целом в оценке кантовской антропологии у
философов очень заметно. Если Шпет пишет о «вреде» кантовского
антропологизма и его «фатальном влиянии» даже на
Фейербаха и позитивизм, то Хайдеггер, по существу, видит иные
смыслы и «прочитывает» первую «Критику» Канта в соответствии с
герменевтическим принципом — «понимать автора лучше, чем
он сам себя понимал», на который ссылался и сам Кант, читая
Платона. На основании заново выделенных смыслов, он не
только интерпретирует ограниченность возможностей
антропологии Канта, но в целом переводит проблемы «Критики» в
сферу метафизики и онтологии. Но тем самым и проблема,
вы1 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997. С. 123.
2 Там же. С. 127.
«Личность» как гносеологическая проблема 199
явленная Шпетом, как бы снимается, чем вряд ли бы он был
удовлетворен.
По Шпету, несмотря на знаменитый вопрос «что есть
человек?», «Кант не понимал и не поднимал вопроса о человеке, как
философского вопроса о действительности, его Антропология
с прагматической точки зрения есть эмпирическая
антропология, или собственно эмпирическая психология, и по
выполнению и по задаче. Целый ряд антропологии примыкает к Канту
и не меняет принципиально своего характера по сравнению с
его Антропологией»1. Кантовским антропологизмом Шпет
заканчивает рассмотрение первого значения термина
«антропологизм», которому он дает, скорее, отрицательную оценку,
поскольку «как субъективизм, он идет против объективизма, как
феноменализм — против реализма, как сенсуализм, — все
равно материалистический или спиритуалистический, — против
рационализма...»2 и т. д.
В целом позиция Шпета, определяющая два подхода в
понимании антропологии, несомненно, значима и сегодня. Если
антропология понимается как наука, знание о душе и душевной
жизни человека, то она становится принципиальной основой
философии в целом. Если же «рассматривать самого
человека как последнее и самое полное осуществление
действительности», то антропологическая точка зрения определяется тем,
какое место занимает в философии проблема человека в его
отношении к действительности внешнего мира или
трансцендентной реальности. Это наблюдение русского философа не
потеряло значения и сегодня, в начале XXI века.
1 Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. С. 452—
453.
2 Там же. С. 445-446.
Глава 3
Густав Шпет: Николай Лосский
и проблема «л» в гносеологической
проекции
§ 1. Точки соприкосновения и расхождения
В 90-е годы XX века в исследованиях русской
философии обозначилось направление, пытавшееся вписать
русскую философию в европейскую интеллектуальную
традицию. Речь идет о попытках феноменологического
прочтения русской философии начала XX века.
Причем такие попытки предпринимали не только сами
феноменологи, но и историки философии, и методологи науки. Сегодня
мы видим, что эти попытки, конечно, существенно обогатили
современную русскую философию, но желаемого результата
интерпретации традиции русской философии как
феноменологической по преимуществу и акцентуации глубинных корней
русской философии как феноменологических — они, очевидно,
не достигли. В современной русской феноменологической
лософии также пришло осознание того, что русская
философская традиция не сводится только к феноменологии и ее
интерпретация только как феноменологической не продуктивна
сегодня. Поэтому прав, конечно, В. И. Молчанов, полагающий,
что для развития современных феноменологических
исследований в России уже недостаточно ни констатации «сходства»
концепций русских философов начала XX века с феноменологией,
ни «маркировки» их как феноменологических. «На передний
план выступила аналитическая работа», предполагающая их
критический (как содержательный, так и терминологический)
1 Молчанов В. И. Исследования по феноменологии сознания. М., 2007.
С. 23-24.
«Личность» как гносеологическая проблема 201
Русская философия выходит за рамки феноменологии в
«классическом» (гуссерлевском) ее варианте. Даже в своем
непосредственном обращении к гуссерлевской феноменологии
(в том числе и в процессе общения с Гуссерлем - Шпет,
Шестов и др.) она не копировала его интеллектуальные ходы, но
пыталась творчески переработать феноменологическую
проблематику, исходя из собственного культурно-исторического
контекста и контекста исторической традиции исследования
общения, соборности, социальности в широком смысле. Эта
позиция специфической «вненаходимости» русской
философии по отношению к феноменологическим поискам
оказывается для нас сегодня весьма перспективной и позволяет
выявить новые грани в исследовании проблемы «я», как одной
из фундаментальных проблем философии. Причем
продуктивность русского эпистемологического поиска связана с ее
критическим отношением к гуссерлевской феноменологии, где
сохраняется антиномия психологизм—антипсихологизм, и,
следовательно, по-своему акцентируется проблема
познавательного источника, проблема нередуцируемого смыслового ядра,
проблема «я».
В данном случае мы обратимся к историческому опыту
Николая Онуфриевича Лосского и Густава Густавовича Шпета.
Выбор этих мыслителей для прояснения конфигурации
проблемы личности как проблемы эпистемологической обусловлен
тем, что в их философских исканиях ясно обозначились
крайние точки проблемы «я»1.
1 Выбор именно этих фигур обусловлен еще и тем, что Шпет и Лосский в
своих идейных установках олицетворяют два различных варианта синтеза
интеллектуального и экзистенциального, характерного для русской философии.
«Мысль его <Лосского> двигалась в <...> круге понятий и выражалась <...>
языком, идущим от неокантианства, имманентной философии,
феноменологии Гуссерля, философии Бергсона. Вместе с тем по своей
направленности и ключевым идеям <...> гносеологические и метафизические построения
Лосского были созвучны основной традиции отечественной философии».
Филатов В. П. Предисловие к публикации статьи Н. О. Лосского «Идея
конкретности в русской философии» // Вопросы философии. 1991. № 2. С. 126.
«Уникальным случаем пересечения трех <...> парадигм <кантианской,
феноменологической и парадигмы сознания в русской философии > является
мировоззрение Густава Шпета. Именно изучение его философских корней
открывает доступ к скрытой до сих пор за религиозно-нравственной
проблематикой парадигме сознания в русской философии». Молчанов В. И.
Парадигмы сознания и структуры опыта // Логос. 1992. № 3. С. 8.
202 Раздел II
Николай Онуфриевич Лосский, «разносторонне
образованный, энциклопедически начитанный, наделенный отличной
памятью, ясным умом и вкусом к последовательно-логическому
развитию мысли и четкому ее изложению, <...> обладал редким
даром синтезирования»1. Способность к схватыванию целого
была развита у него в высшей степени, может быть, поэтому он
был склонен к обоснованию интуитивизма. Все эти
характеристики можно отнести и к Густаву Густавовичу Шпету. Но, в
отличие от Лосского, направлявшего свой дар синтезирования на
создание целостной философской системы, Шпет, обладатель
мощных аналитических способностей, сконцентрировал свой
синтетический дар на «положительной критике»2, необходимой
для проверки сложившихся систем на жизненность и
интеллектуальную продуктивность.
Лосский — один из немногих русских философов, идеи
которого попали в сферу непосредственного внимания Густава
Шпета3. Он обращается к анализу статьи Лосского «Реформа
понятия сознания» (в книге Лосского «Введение в
философию», 1911) и к разбору книги Лосского «Материя в системе
органического мировоззрения» (ежегодник «Мысль и Слово»,
1917). Кроме того, в процессе работы над ежегодником «Мысль
и Слово», Шпет приглашал Лосского к участию и просил
написать статьи по темам: «имманентные философы» и о теории
познания Маха4. Лосский, насколько мне известно, в открытую
полемику со Шпетом не вступал, хотя в одном из писем и
заметил, что высказанная Шпетом критика в его адрес огорчила его:
«Вашу статью обо мне я читал. В ней фраза "миропонимание,
которое восходит к Богу, есть мировоззрение, восходящее к
капризу" очень огорчила меня: на меня, как и на всякого
челове1 Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М.,
2001. С. 211.
2 «Положительная критика, — обосновывает Шпет, — всегда предполагает
некоторое основание, как регулятивную идею собственной работы, иначе она
рискует выродиться в простое и утомительное отыскивание мелких
недочетов, противоречий в словах и выражениях, и пр.». Шпет Г. Г. История как
проблема логики. Критические и методологические исследования.
Материалы. В двух частях. М., 2002. С. 47-48.
3 (Кроме него, можно говорить о Зеньковском и Эрне, которым Шпет
посвятил свои рецензии.)
4 См.: Письма Н. О. Лосского к Г. Г. Шпету от 26 марта и 25 апреля 1918
года // Густав Шпет: жизнь в письмах. М., 2005. С. 446—447.
«Личность» как гносеологическая проблема 203
ка, верующего в Бога и знающего, что Он есть, она производит
впечатление чего-то кощунственного»1.
В приведенном письме обозначен водораздел, по
отношению к которому Шпет оказывается вовне, и его разговор с
Лосским становится невозможен. Но тогда непонятно,
почему, говоря о своих истоках, и Лосский и Шпет называют одну
и ту же традицию «конкретной» (Лосский), «положительной»
(Шпет) философии на русской почве. Причем оба, определяя
специфические характеристики этой традиции, выделяют в
качестве таковых прежде всего «цельность». Размышления Шпета
мы уже приводили в другой главе. Здесь нас интересует, каким
образом эту традицию интерпретирует Лосский. Он
посвящает этому вопросу статью «Идея конкретности в русской
философии» (Прага, 1933). Здесь он, так же как и Шпет, говорит о
цельности и конкретности, как об основных характеристиках,
составляющих традицию русской философии. Более того, он
созвучен и в выборе философских персонажей этой традиции,
идущей от Соловьева и славянофилов. Лосский тем не менее
расширяет круг традиции и доводит ее до своей современности,
включая в ее рамки концептуальные установки С. Л. Франка,
П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева и др. Шпет, кроме Вл.
Соловьева, указывает на системы Л. М. Лопатина, С. Н.
Трубецкого, П. Д. Юркевича. Казалось бы — интеллектуальное
созвучие Лосского и Шпета в отношении к традиции русской
философии налицо. Однако когда мы начинаем
анализировать смысл понятий, т. е. выяснять, что, собственно, понимали
Шпет и Лосский под конкретным и цельным, — вот здесь-то и
начинаются концептуальные различия, не мешающие, однако,
пониманию Лосским и Шпетом и друг друга, и философских
проблем, конституирующихся в сфере их разговора. Но сначала—
различия.
Лосский определяет конкретное бытие как цельное, т. е.
«индивидуальное целое, содержащее в себе бесконечное множество
доступных отвлечению определенностей, в основе которых
лежит металогическое, сверхвременное и сверхпространственное
начало как неиссякающий творческий источник их»2. И далее
1 Письмо Н. О. Лосского к Г. Г. Шпету от 26 марта 1918 года // Густав Шпет:
жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 446.
2 Лосский Н. О. Идея конкретности в русской философии // Вопросы
философии. 1991. № 2. С. 128.
204 Раздел II
он формулирует важнейшие следствия, вытекающие из
такого определения конкретного бытия: «1) Учение о приоритете
конкретного перед отвлеченным; 2) Учение о приоритете
индивидуального над общим — а) над родовым и видовым бытием,
Ь) над законами и правилами, с) вместо приоритета рода и
вида признание приоритета целого, органической цельности;
3) В составе всего философского мировоззрения господство
идеи жизни как творческой активности: воля и сила
мыслятся не как закон изменения, а как творческая активность»1. Все
эти принципы Лосский формулировал и в своих ранних
работах2. В данном случае его интересовала идея конкретности как
специфическая тема русской философии, где проблема я
высвечивается наилучшим образом.
Где же точка различия Шпета и Лосского? Она находится на
пересечении их гносеологических рассуждений о том, каким
образом мы к этому конкретному приходим. Или, говоря иначе,
как возможен мир как органическое целое? Лосский полагал,
что на эти вопросы «не дают ответа теории, согласно которым
знание есть отображение (копирование) вещей в нашем уме,
образующееся путем накопления у нас впечатлений от вещей;
не решают этих вопросов также и те теории, согласно которым
природу как систему явлений строит сам наш рассудок,
прикладывающий друг к другу, согласно категориям,
разрозненные сами по себе чувственные данные»3. Только интуитивизм,
с точки зрения Лосского, дает ответ на эти вопросы.
Но прежде чем реконструировать аргументацию Лосского,
демонстрирующую рационалистические доводы в пользу
интуитивизма, позволю небольшое отступление. Когда Лосский
перечисляет русских философов, имеющих «тягу к
конкретному», он упоминает среди прочих и исследование И. А. Ильина
1 Лосский Н. О. Идея конкретности в русской философии. С. 128.
2 Причем кристаллизация этой проблематики стала возможной именно в
русской философской сфере разговора. В своих «Воспоминаниях» он писал:
«В ноябре 1913 г. о. Павел Флоренский прислал мне свою только что
вышедшую книгу "Столп и утверждение истины", которая дала мне толчок к
завершению учения об органической связи деятелей друг с другом <...> Я
подхватил мысль Флоренского о единосущии тварных личностей и, задумавшись
над вопросом о различии между единосущием Лиц Св. Троицы и единосущии
тварных существ, пришел к различению понятий конкретного и
отвлеченного единосущия». Цит. по: Вопросы философии. 1991. № 11. С. 173.
3 Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский И.О. Избранное.
М., 1991. С. 345.
«Личность» как гносеологическая проблема 205
«Философия Гегеля как конкретное учение о Боге и человеке»
(1918). Эта работа стала предметом внимания и Шпета. Он
посвятил ее разбору большую статью, черновик которой
сохранился в архиве. Шпет отнесся к концептуальным установкам
Ильина критически. Ильин, по мнению Шпета, понимает
конкретное Гегеля вне его системы, т. е. как самостоятельное
целое, а значит, отвлеченно. Шпет говорит о том, что
конкретное для Гегеля — это не только целое, превышающее сумму
своих частей, но и реализующееся в опыте истории.
«Подлинный "опыт", — замечает Шпет, — исторический. И весь
вопрос я свожу к месту гегелевской Философии истории. Оно ясно
выражено Гансом: Vorrede1 XIII: "sie bei aller speculativen Kraft
doch der Empirie und Erscheinung ihr Recht widerfahren lassen,
..."2. <...> Это величайшее дело Гегеля: показать
действительность как историческую! В его лице "история" покончила с
"природой". Весь последующий материализм и психологизм
боролся не с историей, как это было в XVIII веке, где
механизм хотел убить зарождавшуюся историю, в чем некоторые
видели даже признак века, — а он боролся, как и историзм, —
впрочем, дурно понятый, — с реализированием абсолютного!
Поэтому-то они и шли под знаком позитивизма и позже
модифицируются в позитивный феноменализм! Их философская
ложь — в отрицании абсолютного, их историческая правда — в
отрицании реальности абсолютного»3. Из приведенного
суждения Шпета видно, что именно его не устраивает в
интерпретации Ильина, направленной на прояснение гегелевского
термина «конкретное», — отсутствие исторической
обусловленности познания со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Эти кригаческие замечания Шпет направляет и
против Лосского.
1 Vorrede — предисловие (нем.).
2 Ганс пишет: «Главная заслуга ныне издаваемых лекций состоит именно в
том, что при всей проявляющейся в них способности к умозрению они
всетаки отдают должное эмпирии и явлению... что они схватывают идею как в
логическом развитии, так и в историческом повествовании, которое
кажется ничем не связанным, но так, что это не замечается в последнем» (См.:
Ганс Э. Предисловие к «Философии истории» Гегеля. См.: Гегель. Г. В. Ф.
Сочинения. Т. VIII. Философия истории. М., 1935. С. 429.
3 Шпет Г. Г. Опыт популяризации философии Гегеля // Шпет Г. Г.
Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина.
М., 2010. С. 233-234.
206 Раздел II
§ 2. Рецепция Гуссерля
Однако самое интересное в том, что и Лосский, и Шпет в
процессе анализа «конкретности» исходят из одного и того же
источника — гуссерлевской феноменологии1. Уже «Логические
исследования» Гуссерля вызвали в русском философском
сообществе довольно сильный резонанс, который был обусловлен
тем, что, как резюмировал Лосский, «в этой книге особенно
обстоятельно изложена характеристика психологизма и путем
ясного различения акта суждения (который представляет собой
психический процесс) и содержания (смысла) суждения
(которое не есть психический процесс) указан путь для
освобождения от психологизма. На почве этого различения Гуссерль во
втором томе "Логических исследований" строит свой
интенционализм (учение о том, что акт знания не содержит в себе
предмета знания, но имеет его в виду, интендирует его)»2.
Заметим, что для нас сегодня важна даже не столько констатация
единства исходного (феноменологического) пункта и Лосского
и Шпета, сколько разность точек их исхода. Лосский, как мы
видели, исходит из Гуссерля времени «Логических
исследований», Шпет — из «Идей I». И эта разность точек исхода
существенно влияет на дальнейшие траектории движения
Лосского и Шпета. Несмотря на то что и Лосский, и Шпет признают
вслед за Гуссерлем «действительность человеческих
переживаний, предметно данных сознанию», они акцентируют в этом
признании разные аспекты. Для Лосского важны логические
новации Гуссерля в «Логических исследованиях», где речь идет
о том, чтобы «положить в основу философии суждения,
истинность которых не может быть подвергнута сомнению»3, т. е. его
1 Шпет учился у Гуссерля, он первым в России представил «Идеи к чистой
феноменологии и феноменологической философии» в книге «Явление и
смысл» (1914). Лосский сохранил интерес к Гуссерлевским исследованиям
на протяжении всей жизни: от рецензии на русский перевод первого тома
«Логических исследований» до критической статьи
«Трансцендентальнофеноменологический идеализм Гуссерля» (Путь, 1939). Феноменологические
траектории каждого из них — тема особого исследования.
2 Лосский Н. О. Гуссерль Э. Логические исследования. Ч. I. Пролегомены
к чистой логике. Разрешенный автором перевод с немецкого Э. А.
Бернштейн под редакцией и с предисловием С. Л. Франка. СПб., 1909 // Русская
мысль. 1909. № 12. С. 292-293.
3 Лосский Н. О. Трансцендентально-феноменологический идеализм
Гуссерля//Логос. 1991. № 1.С. 133.
«Личность» как гносеологическая проблема 207
в большей степени интересуют гуссерлевские рассуждения об
истинности и очевидности предметных актов сознания, данных
в интуиции. Именно этот аспект — аспект «присутствия
предмета в интуиции самолично, т. е. "в оригинале"» Лосский
выделяет и в «Идеях I» Гуссерля, не задаваясь вопросом о
возможной эволюции гуссерлевской проблематики от 1900 до 1913 года
(от «Логических исследований» до «Идей I»)1.
Траектория шпетовской рецепции Гуссерля иная. Он
начинает свое восхождение к Гуссерлю от «Идей I». И уже в своем
«Явлении и смысле», которое написано буквально вослед
«Идеям I», он находит обширную область, которая для Гуссерля в
тот момент еще не стояла в центре. Кроме наук о фактах и наук
о сущностях, каковое деление Гуссерль кладет в основание
различения видов предметного опыта, существует еще один
бытийный пласт — социальное, предполагающее и свой
специфический вид опыта, и свой источник познания, и свой способ
постижения и последующего выражения. Причем он не
останавливается только на вычленении социального в отдельный
бытийный пласт, который существует рядом с фактическим и
идеальным, но полагает, что именно он (этот пласт) первичен
по отношению к ним. С этим «открытием» Шпета связано и
его иное отношение к «Логическим исследованиям», где
проблема объединяющего принципа наиболее остро поставлена.
Именно здесь Гуссерль «отвергает кантовскую чистую
апперцепцию в качестве объединяющего принципа, <...> пытается
разрешить дилемму между брентановским и кантовским
пониманием единства сознания»2. Но для Шпета, в отличие от
Лосского, важна не столько сама постановка проблемы
гносеологического единства источника познания, сколько модус ее
феноменологического развертывания. И именно с реализацией
идеи феноменологии в ее полной определенности и связывает
Шпет эволюцию Гуссерля от «Логических исследований», где
«идея феноменологии еще не реализуется во всей своей
определенности и законченности», к «Идеям I», где гносеологическая
постановка проблемы единства сознания приобретает ярко
выраженные феноменологические очертания. В «Идеях I», т. е.
«в опыте обоснования феноменологии», Гуссерль
сталкивает1 Там же. С. 134.
2 Молчанов В. И. Опыт и фикции: Поток сознания и гипертрофия Я //
Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге / Под ред.
Н. С. Плотникова и А. Хаардта при участии В. И. Молчанова. М., 2007. С. 48.
208 Раздел II
ся с тем, что я принципиально нередуцируемо, оно «выступает,
как некоторая своеобразная "трансцендентность в
имманентности" — и как такая, т. е. в самом имманентном находимая, она,
очевидно, уже не может быть подвергнута
феноменологической редукции, а входит в состав содержания феноменологии,
так как необходимо и по существу быть "направленным на
чтонибудь", "быть занятым чем-нибудь", что-нибудь испытывать,
страдать и т. д. и т. д., требует исхождения из Я или
направления к нему»1. Для Шпета это принципиальный вопрос, поэтому
он и признает «действительность переживаний», как исходный
пункт проблемы единства сознания, т. е. проблемы Я.
Фактически Шпет, в отличие от Лосского, сумел ухватить
смысл «дрейфа» Гуссерля к трансцендентальной фокусировке
дальнейших феноменологических исследований проблемы я.
Ведь одно дело - признавать «действительность переживаний»,
а другое — считать ее основанием гносеологической стратегии.
И если для Шпета признание «действительности переживаний»
есть фундаментальная проблема, открывающая гуманитарной
науке новые горизонты для познания человеческой
субъективности, то для Лосского — исходный пункт для обоснования
интуитивизма2.
§ 3. Проблема «я»: позиция Лосского
Итак, Лосский полагает, что интуитивизм может разрешить
проблемы теории познания, в том числе и проблемы я,
соединив в себе элементы «теорий отображения» (наивного
реализма) и элементы «идеализма», конструирующего систему
явлений с помощью рассудка. В основание своих рассуждений
он кладет принцип имманентности3. Поэтому «чтобы познать
1 Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. М., 2005. С. 87.
2 То же можно сказать и об Ильине. Шпет, между прочим, в одном из
писем Гуссерлю рассказывал о том, как он делал доклад по феноменологии в
«Психологическом обществе». И хотя он отмечал, что «оценка
феноменологии повсюду высока и благосклонна» и «феноменология рассматривается как
серьезный и новый шаг в философии», тем не менее были и возражения. Суть
их сводилась к тому, что большинство русских философов видели в тот
момент в феноменологии новую «теорию познания». См.: Письмо Г. Г. Шпета
Э. Гуссерлю от 26 февраля 1914 года // Логос. 1996. № 7. С. 126.
3 Этот принцип Лосский сформулировал для себя еще в молодости. Он писал:
«Однажды (приблизительно в 1898 г.), в туманный день, когда все предметы
сливаются друг с другом в петербургской осенней мгле, я ехал <...> на извоз-
«Личность» как гносеологическая проблема 209
предмет, нужно иметь его в сознании, т. е. достигнуть того,
чтобы он вступил в кругозор сознания познающего субъекта,
стал имманентным сознанию. <...> Сознание о предмете есть
результат своеобразного (не причинного) отношения между
сознающим субъектом и сознаваемым предметом: при
наличности этого отношения субъект созерцает предмет
непосредственно, "имеет его в виду" в подлиннике»1. Лосский
полагает, что «весь мир, включая природу, других людей и даже Бога,
познается нами также непосредственно, как и мир
субъективный, мир нашего Я»2. Однако возникает вопрос о том, как
возможно такое интуитивное знание о мире во всей его полноте,
включая и «чужую душевную жизнь»? Для того чтобы ответить
на этот вопрос, необходимо ввести онтологическое допущение,
и тезис Лосского о том, что «всё имманентно всему»,
фактически является таковым. Лосский идет дальше по
метафизическому пути, заявляя, что гносеологическая теория, названная
интуитивизмом, «задается целью возродить право метафизики на
существование»3 и рассмотреть во всех ракурсах вопрос о мире
как органическом целом.
Мы не будем воспроизводить здесь всю аргументацию
Лосского. Для нас важно проследить за конфигурацией
развертывания проблемы я. Как я познает не-я? Остается ли Лосский в
рамках гносеологической постановки проблемы я или
выходит в область онтологии? И если выходит, то в чем специфика
его исхода? Лосский вводит второе онтологическое
допущение, отождествляя понятия «не-я» и транссубъективный мир и
фактически возвращаясь при этом к Лейбницу и его учению о
я как о замкнутых в себе субстанциях-монадах. Но лишь
отчасти, поскольку в силу своего учения о всеобщем
имманентизме полагает, что я принципиально открыто для других. Лосский
чике и был погружен в свои обычные размышления: "я знаю только то, что
имманентно моему сознанию, но моему сознанию имманентны только мои
душевные состояния, следовательно, я знаю только свою душевную жизнь".
Я посмотрел перед собою на мглистую улицу, подумал, что нет резких
граней между вещами, и вдруг у меня блеснула мысль: "все имманентно всему"».
См.: Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция.
Париж, 1938. С. 156-157.
1 Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное.
М., 1991. С. 345.
2 Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М.,
2001. С. 216.
3 Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное.
М., 1991. С. 339.
210 РазделП
различает не только я и не-я, но и выделяет в познающем я
познавательные процессы как объекты познания и как функции
познающего субъекта. Это разделение позволило ему
продемонстрировать, что не-я трансцендентно я тогда, когда я
познает мир. Но в то же время не-я остается имманентным самому
процессу знания. Следовательно, знание о не-я есть процесс,
развертывающийся и в материале знания, и в мире я. А это
предполагает «совершенную объединенность я и не-я
(подобную той объединенности, какая существует между различными
душевными процессами в самом я), благодаря которой жизнь
внешнего мира дана познающему субъекту так же
непосредственно, как и процесс его собственной внутренней жизни»1.
Вот почему Лосский, в отличие от Лейбница, признает
принципиальную открытость я.
Шпет задает Лосскому принципиальный вопрос. В чем же
тогда состоит разница между «трансцендентной
метафизикой» и «имманентной философией», если и в том и в другом
случае все сводится к «чистому Я» (по Гуссерлю2) или, как
называет его Лосский, к «субстанциальному носителю»? Если
принять во внимание отмеченные нами метафизические
допущения, на которых Лосский строит свою имманентную
философию, то разница в понимании я и в том и в другом случае
будет невелика. «..."Я" Лосского призывается к тому, — пишет
Шпет, — чтобы выступить дальше в роли "гносеологического
субъекта", следовательно в роли того субъекта, который
должен быть коррелятивен "объекту" или, по собственной
терминологии Н. Лосского, который находится в "гносеологической
координации" с "объектом"»3. Шпет здесь мимоходом
замечает, что в данном рассуждении Лосского имеется скачок от
принципиального анализа сознания (сознания как предмета)
1 Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма// Лосский Н. О. Избранное. М.,
1991. С. 85.
2 Несколько в иной форме Шпет задает тот же самый вопрос Гуссерлю,
который рассматривал «чистое Я» как предметную трансцендентность, т. е. как
трансцендентность в имманентности. Шпет формулирует вопрос следующим
образом: «Уясняет ли сколько-нибудь дело это вычурное сочетание латинских
слов? И если мы убеждены, что я, имрек, есть именно социальная вещь, то для
нас только вопрос обобщения: не является всякая социальная вещь —
трансцендентностью в имманентности?». См.: Шпет Г. Г. Сознание и его
собственник // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические
труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2006. С. 298.
3 Там же. С. 283-284.
«Личность» как гносеологическая проблема 211
в область теории познания, из которой сам Лосский хочет как
раз вырваться. Шпет возвращается к этому замечанию в своей
рецензии на книгу Лосского «Материя в системе
органического мировоззрения» (1916). Здесь он уже последовательно
проводит мысль о том, что учение Лосского о мире как
органическом целом, базирующемся на интуитивизме, принципиально
мифологично, поскольку «исходит из признания реальности
объясняющего фактора вне, — актуально или инактуально —
данной действительности»1. Шпет выдвигает это критическое
замечание потому, что его способ рассмотрения я — иной.
Однако на языке Лосского это утверждение Шпета не имеет
смысла, поскольку он сам считает, что с помощью
онтологических допущений выходит из гносеологических тупиков, т. е.
я в теории интуитивизма принципиально «онтологично». Но
Шпет с такой интерпретацией «онтологичности» не согласен.
Он насчитывает более пяти онтологических допущений у
Лосского и настаивает на их мифологической природе. И среди
них: «Всякое человеческое я есть субстанциальный деятель,
осуществляющий материальные процессы отталкивания и
направляющий, по крайней мере некоторые из них, сообразно
своим желаниям (стр. 21)»2. Мог ли Шпет принять такое
истолкование я? Конечно нет, поскольку для него важно, вслед
за Гуссерлем, что я не может быть источником познания, что
я это проблема, это единство во множестве, и я может познать
самого себя и других не в акте особой мистической интуиции,
но через словесное выражение других я своего отношения к
этому я.
§ 4. Проблема «л»: позиция Шпета
Именно такое понимание приводит Шпета к критическому
переосмыслению понимания личности как субъекта, как
условия познания. Поставив вопрос именно таким образом, Шпет
апеллирует прежде всего к западноевропейской традиции
такой критики: «Вопрос собственно о "личности" был поставлен,
разумеется, раньше, и послелокковская философия уделяет
1 Цит. по: Шпет Г. Г. Некоторые черты из представления Н. О. Лосского о
природе // Шпет Г. Г. Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры /
Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2010. С. 196.
2 Там же. С. 197.
212 РазделИ
ему видное место. Можно было бы подумать еще, что
античная и средневековая философия были слепы, но раз вопрос
был поднят, значит, философия "прозрела". И тем не менее мы
встречаемся с фактами категорического отрицания
непосредственной данности самотожественного я. Уже Лейбниц, как
мы видели, указывал на тот факт, что для того чтобы ему
убедиться в тожестве своего я "в колыбели" и в момент полемики
с Локком, ему пришлось вспомнить об "отношении других"»1.
Но, что особенно важно, Шпет обращается и к русской
традиции критики субъективизма (В. С. Соловьеву, С. Н.
Трубецкому и др.): «И я опять апеллирую к другому русскому философу
<С. Н. Трубецкому>: "И потому, провозгласив личность
верховным принципом в философии, все равно как
индивидуальность или как универсальную субъективность, мы приходим к
иллюзионизму и впадаем в сеть противоположных
противоречий. — Поставив лычное самосознание исходною точкой и вместе
верховным принципом и критерием философии, мы не в силах
объяснить себе самого сознания"»2.
Шпет осуществляет философско-методологический анализ
понятия личность, т. е. рассматривает это понятие как объект
исследования гуманитарных наук (психологии, истории,
искусствоведения, литературоведения), причем каждый раз
показывает, что значение термина меняется от контекста одной
науки к контексту другой. Он пишет: «Личность есть объект
и термин как психологии, так и истории — другие значения
здесь можно оставить без рассмотрения. Как объект
психологии она рассматривается также в социальной и исторической
психологии: личность, личное самосознание в данной
социальной и исторической обстановке. Личность в этом смысле
берется всегда как нечто в данных условиях времени и места
типическое. Исторической реальностью в этом смысле
личность не является — никакого института, конституции или
другой социальной организации такая личность не знает. Есть
социально исторические категории гражданина, человека,
юридического лица, подданного, совершеннолетнего,
правомочного и пр. и пр., но нет "личности". Другое дело, когда
человек как психологически — психофизически —
определен1 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis.
Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 293.
2 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. С. 291.
«Личность» как гносеологическая проблема 213
ная личность является носителем или выразителем
некоторой совокупности объективируемых социально-исторических
потенций, является сама знаком, интерпретация которого
раскрывает нам определенные социально-исторические
институты и организации. Личность здесь говорит и действует
как социальный фактор, она есть социально-историческая
реальность»1.
Наиболее отчетливо критическая позиция Шпета в
отношении субъективизма в философии проявилась в «Сознании и
его собственнике», где личность не выступает в качестве
самостоятельного предмета исследования, но берется как синоним
«я», «имярека»2. Он видит проблему логико-методологического
анализа в том, что личность (как синоним я) «обобщению не
подлежит». А если и пытаются обобщать, то в таком случае
происходит потеря ее индивидуальных признаков. И далее Шпет
опять употребляет понятие личность как синоним «я», но уже
в контексте проблемы интерсубъективности. «Во всяком
случае, раз вспомнился Лейбниц, напомню его же замечание о
необходимости свидетельства других для установления "тожества
личности", имрека, например, в колыбели, на поле сражения
и на острове св. Елены. Свидетельства самого имрека,
следовательно, тут недостаточно, и если предыдущие мои
замечания вызовут вопрос: да кто же сознает этот предмет sui generis,
"самого себя", имрека? — я отвечаю пока: во всяком случае, не
только я сам, не только сам имрек»3. Шпет показывает
односторонность понимания личности как единственно
возможного предмета психологии (психологическая интерпретация
личности не должна сводиться к субъекту). Он рассматривает
личность как «высшую способность уразумения», различая при
1 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и Слово.
Избранные труды. М., 2005. С. 402.
2 Ср.: «Это — только оборотная сторона названной многозначности
термина "я", когда я оказывается синонимом личности, индивида, души, субъекта,
рассудка и пр. Не касаясь пока вопроса о правомерности этих и сходных с
ними отожествлений и принимая во внимание только формальные
отношения понятий, мы можем подметить, что в целом все значения термина "я"
имеют в виду или сферу эмпирического предмета, как личность, душа и
подобное, или идеального, как "субъект", родовое (в логическом смысле) или
общее я и т. п.». Там же. С. 265. См.: также: С. 271, 275, 281.
3 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis.
Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 282. См. также:
С. 270.
214 РазделИ
этом уразумение и понимание1. Такая интерпретация личности
позволяет ему сделать вывод о том, что «и в самом деле,
психологии не представляет труда допустить, что реальное единство
сознания есть не сознание личное, а сознание соборное. Т. е. я
не только знаю с самим собою, но и с другими индивидами из
множества»2.
§ 5. Чужая субъективность как проблема эпистемологии
Лосский лишь в одном месте своей статьи «Восприятие
чужой душевной жизни» затрагивает проблему словесного
выражения, но только в аспекте восприятия чужой речи. Однако
все рассуждение Лосского умещается в одном абзаце, где он
вскользь затрагивает сложнейшую проблему подразумевания
(имения в виду), проблему многозначности/однозначности
значений слов и пр. Но, к сожалению, свертывает это
рассуждение, полагая, что «проблема понимания речи так
осложняется указанными обстоятельствами, что в этой статье неуместно
было бы отклониться в сторону дальнейшего обсуждения ее»3.
Проблема общения я и не-л рассматривается Лосским в
аспекте проблемы взаимодействия я и не-я на уровне постижения
друг друга через интуицию, под которой он понимает «тесное
общение», т. е. «непосредственное созерцание одними бытия
других»4. Однако проблема словесного выражения, как
важнейшего элемента общения, также принципиально не ставится
1 Шпет Г. Г. История как проблема логики: развернутый план III и наброски
IV тома // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М., 2005. С. 209—
210.
2 Шпет Г. Г. Сознание феноменологическое и реальное / Реконструкция
текста Т. Г. Щедриной//Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г. Истоки
культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст.
М., 2010. С. 391. См. также: Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию //
Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды.
М., 2006. С. 445.
3 Лосский Н. О. Восприятие чужой душевной жизни // Логос. 1914. Т. I.
Вып. И. С. 194.
4 Лосский Н. О. Свобода воли //Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 526.
Далее он развивает это положение, определяя общение я с миром и Богом как
необходимый элемент существования я как личности. Поскольку отчуждение
я от этого общения меняет онтологическую структуру самого я. См.: Там же.
С. 541. Ср. у Гадамера: «Разговором для нас было нечто такое, что потом
оставило в нас какой-то след. Разговор не потому стал разговором, что мы узнали
что-то новое, — нет, с нами приключилось нечто такое, с чем мы не
встречались еще в собственном опыте жизни. <...> Разговор способен преображать
«Личность» как гносеологическая проблема 215
Лосским. Для него важнее не обращенность я к другому, но
собственное действие и собственное проявление я. Лосский
подчеркивает, что, хотя многие проявления я возникают на основе
общения с внешним миром, события внешнего мира не
являются причиной таких проявлений, а служат только поводом к
ним.
В работе «Трансцендентально-феноменологический
идеализм Гуссерля» Лосский задумывается о продуктивности
гуссерлевской постановки проблемы познания чужой
субъективности. Забегая вперед, скажем, что он не принимает идеи
интерсубъективности Гуссерля, так же как он не принял и идеи
Шпета. Гуссерль в «Картезианских размышлениях» пытается
найти «путь к трансцендентальному Ego», т. е., как
формулирует это Н. В. Мотрошилова, у Гуссерля «при "остранении",
редукции мира и меня самого как природно исторического
существа впрок заготовлен "возврат" к ним на новой
когитальнотрансцендентальной основе»1, т. е. возвращается к проблемам,
которые Шпет увидел в феноменологии в 1914 и еще более
продвинулся в 1916 году. Но контекст обсуждения этой проблемы
у Лосского иной. Его интересует проблема истинности
суждения, проблема критерия объективности. Гуссерль связывает
этот критерий с понятием интерсубъективности,
предполагающей присутствие другого я (alter ego) в мире, без которого само
истинное суждение о мире невозможно для я. Лосский, для
которого мир — это множество субстанциальных деятелей, не
зависящих друг от друга и в то же время проникающих друг в
друга через интуицию, исходит из внутренней природы такого
критерия истинности. Этот критерий не может быть
социальным (причем, все формы социальных критериев Лосский
сводит фактически к конвенционализму), но должен опираться на
очевидность. Гуссерль, как полагает Лосский, утверждая
данность предмета в подлиннике, противоречит сам себе,
«нагромождая» над этим интерсубъективные критерии истинности.
Зачем нужна интерсубъективность, когда я существует
независимо и зависимо одновременно, и то, что дано одному я в
интуиции, то и другой человек видит таким же?
человека». См.: Гадамер Г.-Г. Неспособность к разговору // Гадамер Г.-Г.
Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 87.
1 Мотрошилова Н. В. «Картезианские медитации» Гуссерля и
«Картезианские размышления» Мамардашвили // Мотрошилова Н. В. Работы разных
лет: избранные статьи и эссе. М., 2005. С. 397.
216 РазделП
Чтобы ответить на этот вопрос, для нас важен голос Шпета
с его устремленностью к социальности и историчности
действительности. Необходимо также учитывать и то, что понятие
«социальность» Шпета развертывается в определенном смысле
в той же самой плоскости феноменологического поиска, что и
«жизненный мир» Гуссерля1. Почему Шпет так настаивает на
проблеме выражения мысли (в том числе и суждения) в
словесной форме? Почему так важны для Шпета язык и
герменевтические методы исследования? Шпет отчетливо осознавал, что,
хотя два человека смотрят на один и тот же предмет, они могут
видеть не одно и то же, в силу того, что их социальный мир
(горизонт понимания) будет разный. Ведь в жизни существуют
ситуации, в которых «симпатическое понимание», т. е.
общение без слов, предполагающее общный контекст, оказывается
бессильным, и тогда начинается работа по обоюдному
переводу разных концептуальных языков и разных контекстов. А это
значит, что идея Лосского об интуитивном проникновении,
как общении субстанциальных деятелей друг с другом,
базирующаяся на возможности сведения одного я к другому я,
недостаточна. Необходимо учитывать культурный и исторический
контекст их общения. На чем и настаивают Гуссерль и Шпет.
Но Лосского этот ответ и соответствующий ему критерий
истинности не удовлетворяет, поскольку открывает путь к
релятивизации классической идеи объективности знания.
Никакой истины, возникающей на пересечении многих мнений,
никакой интерсубъективной проверяемости в качестве условия
идеи объективности Лосский принять не может. Этот критерий
внешний, поэтому Лосский делает вывод: «Философия
Гуссерля не основывается на очевидности и не содержит в себе
строгой теории, состоящей из действительно ясных и отчетливых
понятий»2. Вместо этого Лосский постулирует метафизическое
допущение открытости субстанциальных деятелей, которые
подчиняются воле Творца. Фактически он прошел мимо
«Кар1 И хотя понятие «жизненный мир» имеет значительные возможности для
различных философских интерпретаций, здесь для нас важно следующее:
«Жизненный мир толкуется <Гуссерлем> как универсально изначальный —
как постоянно "предданный" людям и всему, что они в каждый данный
момент уже сделали, делают или еще могут сделать». Цит. по:
Мотрошилова Н. В. Понятие и концепция жизненного мира в поздней философии
Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии. 2007. № 7. С. 110.
2 Лосский Н. О. Трансцендентально-феноменологический идеализм
Гуссерля//Логос. 1991. № 1. С. 146-147.
«Личность» как гносеологическая проблема 217
тезианских медитаций» Гуссерля1. Но Лосский и не хотел
связывать себя интерсубъективными критериями познавательной
деятельности. Он остается в рамках персоналистической
трактовки, как он сам о себе говорит, и дальнейшее свое
рассуждение переводит в плоскость этико-правовой проблематики. Но
это уже тема отдельного исследования.
1 Хотя, если бы Лосский смог в свое время прочесть немецкий вариант
«Картезианских медитаций» Гуссерля, вышедший лишь в 1950 году, он, возможно,
иначе бы отнесся к феноменологическим поискам своих коллег (Гуссерля и
Шпета).
Глава 4
Михаил Бахтин: Личность и сознание
в русской эпистемологической традиции
§ 1. Самопознание как проблема культурно-исторической
эпистемологии, или Бахтин как психолог
Проблема сознания относится к числу
междисциплинарных. Оно полифонично, и свой вклад в его
понимание вносят голоса представителей разных областей
знания: философии, психологии, лингвистики,
искусствоведения, эстетики и др. К перечисленным сферам
знания самое непосредственное отношение имел
выдающийся мыслитель XX века, философ Михаил Михайлович Бахтин
(1895—1975), сознание которого было полифонично и
диалогично в высшем смысле этих слов. Мы рассмотрим его вклад
в психологию сознания, конечно, зная, что M. M. Бахтин
сочувственно относился к нелестным высказываниям Ф. М.
Достоевского в адрес психологии. Комментаторы трудов Бахтина
пишут о его решительном антипсихологизме, да и он сам давал
основания для такого утверждения. Следует признать, что
упреки Бахтина в адрес современной ему психологии были отчасти
справедливы. Он упрекал ее в том, что она даже такое чувство,
как любовь рассматривает с точки зрения психологического
пассивного сознания; что психология роковым образом
ориентирована на пассивно переживающего субъекта. Это не оценки
стороннего наблюдателя. Бахтин в 1912—1914 годах в Одессе
активно посещал лекции и занятия известного психолога —
профессора Новороссийского университета, ученика В. Вундта
Н. Н. Ланге. Последний в 1914 году утверждал, что
«психическая жизнь, хотя субъективная (в нашем личном переживании),
должна быть мыслимой объективной, чтобы психология была
возможна»1. Кто знает, может быть не без уроков H. H. Ланге
Бахтин впоследствии настаивал на том, что сознание не только
Ланге Н. Н. Психология. М., 1914. С. 29.
«Личность» как гносеологическая проблема 219
должно быть мыслимо объективным, оно таким и является.
Более того, оно участно в бытии, организует, нередко определяет
бытие и даже творит его.
Конечно, после упреков и уколов, высказанных Бахтиным
еще в ранние 1920-е годы, много воды утекло, изменилась и
психология и ее отношение к роли чувств, переживаний в
деятельности, сознании, личности. Появились и физиология
активности, а по сути, психологическая физиология, и
деятельностный подход в психологии. Но лишь сравнительно
недавно, то ли пришло время, то ли психология достигла
соответствующего духовного возраста, чтобы начать извлекать уроки
из богатого научного наследия Бахтина. Слабым
оправданием является трудность понимания плотной смысловой ткани
его текстов. Когнитивная нейрофизиология «сознания» много
проще. Понимание, по Бахтину, — это видение живого смысла
переживания и выражения, видение внутреннего,
осмысленного, так сказать, самоосмысленного явления. Важным его
условием является встречная активность познаваемого предмета,
своего рода «приглашение к разговору». Понимание, в
особенности смысла, а не значения — вообще трудная работа, которая
содержит награду в себе самой. Бахтин говорил, что творческое
понимание продолжает творчество, а ведь сознание (без
кавычек) — это синоним творчества.
Когда мы произносим слово «сознание», за ним скрывается
чудовищно сложная для понимания и исследования
деятельность: не только я в мире, но и мир во мне, в моем сознании
они даны оба, но оно же должно их различать, с чем далеко не
всегда успешно справляется. Бахтин пишет: «Свое сознание я
переживаю как бы объемлющим мир, охватывающим его, а не
вмещенным в него в виде и осязании небольшого
ограниченного предмета»1. Автор ссылается на самопереживание Ф.
Тютчева: Всё во мне, и я во всем! В сознании присутствуют, действуют,
вступают в диалог, а то и в конфронтацию разные я, каждое из
которых обладает своим сознанием. Особое внимание Бахтин
уделял разным позициям я: я-для-себя, я-для-другого,
другойдля-меня. Подобный, к тому же поверхностно
охарактеризованный объект даже помыслить трудно, не говоря о том,
чтобы сконструировать и смоделировать его в качестве предмета
экспериментального психологического исследования. Бахтин
1 Бахтин M. M. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 118.
220 Раздел II
считал, что из многих видов сознания наиболее разработаны
два: активное гносеологическое сознание и пассивное
психологическое (сознание—объект). Гносеологическое сознание
есть отчасти эстетическое, поскольку в нем должны быть
выяснены ценностные категории его оформления.
«Психологическое сознание есть познавательный объект, особым образом
сконструированный»1. Автор, правда, не приводит примера
психологических конструкций сознания. Однако в его
сочинениях имеется богатый материал для их создания. Его волновали
проблемы не гносеологического и не психологического
сознания, а сознания бытийного, со-бытийного, действующего,
поступающего. Такое сознание-действие, сознание-поступок, на
наш взгляд, относится и к компетенции психологии, хотя
конструирование его в качестве предмета собственно
психологического исследования делает лишь первые робкие шаги.
Утешает, что материал для продолжения этой работы уже
имеется. Бахтин писал, что в различных литературных жанрах
встречаются различные виды морально-психологического
экспериментирования. М. К. Мамардашвили, размышлявший о
топологии души, о психологии сознания на материале
произведений М. Пруста, утверждал, что художественная
литература - это своего рода экспериментальная, а не наблюдательная
психология. Из нее мы можем почерпнуть «данные» о
целостном человеке, а не об абстрактных, даже не извлеченных, а
отвлеченных от него психических свойствах и функциях.
Несомненно, для Бахтина художественная литература послужила
экспериментальным материалом, разумеется, не только
психологическим, на котором разыгрывалось и строилось его
собственное творчество. Особенно богатую пищу ему дали
романы Достоевского, который писал: «Меня зовут психологом: не
правда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все
мубины души человеческой»2. Несмотря на протест писателя, за
ним прочно закрепилось «звание» психолога. Думаем, что оно
закрепится и за Бахтиным, который, вслед за Достоевским,
размышлял о диалогической интуиции, позволяющей проникать
в незавершимое ядро личности. Однако он считал это делом
эстетики, а не психологии и не этики. С ним трудно спорить,
1 Бахтин M. M. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 164.
2 Цит. по: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 71.
«Личность» как гносеологическая проблема 221
тем более, что психологи (не все!) сами отказались от изучения
души. В отличие от них Бахтин использует понятия тела, души
и духа равноправно с другими психологическими
понятиями. И все же мы полагаем, что психология не должна отдавать
душу «на откуп» эстетике, как не может отдать ее на откуп
религии. Уверены, что неизведанные силы души понадобятся ей
самой. Так или иначе, но важно подчеркнуть, что Бахтин
признает реальность, бытийность и со-бытийность психического
(переживания, памяти, мысли, души, сознания и т. п.).
Признание онтологии психического у Бахтина выступает
значительно более определенно и ярко, когда оно рассматривается за
пределами психологии. В самой же психике «ничего нет, кроме
психических образований, которые как таковые субъективны
и с точки зрения любой смысловой области — познавательной,
этической, эстетической — равно случайны и не адекватны»1.
Это «антипсихологическое» высказывание представляет собой
реакцию на попытки (или опыты) психологической
экспансии на перечисленные им «смысловые области». Бахтин как бы
указывает психологии свое место: «Под психикой должно
понимать только психику — предмет эмпирической науки
психологии, методически чисто ею полагаемый и обладающий
своею психологической закономерностью»2. Спасибо и на этом.
Но все же смущает и, вместе с этим, вдохновляет, что, вслед
за одной из антипсихологических элоквенций Бахтин пишет:
«Момент свершения мысли, чувства, слова, дела есть
активноответственная установка моя — эмоционально-волевая по
отношению к обстоянию в его целом, в контексте действительной
единой и единственной жизни»3. Что же это если не
психологическая характеристика рождения психических актов, которой
может позавидовать профессиональный психолог?
Экспансионистские тенденции у психологии,
действительно, имеются, здесь она не одинока: таковые имеются у любой
науки, и благодаря им на границах складываются иногда более,
иногда менее продуктивные междисциплинарные области
исследований. А относительно субъективно-случайных
образований, характеризующих психику, можно сказать, что в ней
существует всякое: и случай {Бог-изобретатель, псевдоним судьбы),
1 Бахтин M. M. К вопросам методологии эстетики словесного творчества //
Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 307.
2 Там же.
3 Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 1. М.,2003.С. 36.
222 Раздел II
и вероятность, и неопределенность, и превратность,
своеволие (самовластность) и спонтанность (самочинность). Все это
условия становления самораскрывающегося бытия, которое не
может быть вынужденно и связано. Такое бытие, согласно
Бахтину, свободно и не представляет никаких гарантий: Верь тому,
что сердце скажет. Нет залогов от небес, — цитирует Бахтин
В. А. Жуковского. Свобода не противоречит тому, что
внутренняя жизненная направленность обладает имманентной
смысловой необходимостью, самозаконностью живого сознания.
Бахтин дает замечательную психологическую характеристику
необходимости и свободы: «Необходимость серьезна — свобода
смеется»1. Свобода — это не познанная необходимость, а
необходимое условие познания и не только его...
Материализованный смысл выражения (высказывания) — элемент свободы,
пронизывающий необходимость. Значит, Бахтин не отрицал
наличия в психике ни неопределенности, ни закономерности
(см. выше).
Существенна фиксация интересного парадокса. M. M.
Бахтин, как Г. Г. Шпет, А. А. Ухтомский, а позднее М. К.
Мамардашвили и В. П. Зинченко, многое сделал для расширения
понятия (и сферы) объективного за счет включения в него
субъективного. И тем не менее субъективному, взятому в
контексте психологии, он отказывает в объективности, характеризует
его как случайное, пассивное. Отнесем этот парадокс на счет
пристрастности Бахтина, которую он с лихвой компенсировал
вполне объективной и здравой оценкой экспансионистских
притязаний физиологии на исследование сознания и его
механизмов. Бахтин рассматривал сознание, мышление, мысль
исключительно в гуманитарном аспекте без каких-либо аллюзий
к нейрофизиологии мозга. В этом состояла его
принципиальная позиция. Приведем более чем категорическое суждение на
этот счет: «Идея — как ее видел художник Достоевский — это не
субъективное индивидуально-психологическое образование с
"постоянным местопребыванием" в голове человека; нет, идея
интериндивидуальна, интерсубъективна, сфера ее бытия - не
индивидуальное сознание, а диалогическое общение между
сознаниями. Идея — это живое событие, разыгрывающееся в
точ1 Бахтин M. M. К философским основам гуманитарных наук //
Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 10.
«Личность» как гносеологическая проблема 223
ке диалогической встречи двух или нескольких сознаний»1.
Сознаний, а не нейронов, пусть даже «зеркальных». Для Бахтина
сознание само есть зеркало, часто кривое или разбитое, а все
существенное отражено в системе сознаний-зеркал романов
Достоевского, брошено в диалог как в горючий материал, т. е.
все диалогизировано2. Его протест против редукции сознания
к мозгу означает не отрицание онтологии сознания, а поиск ее
в другом месте. Сознание начинается там, где начинается
диалог, который Достоевский сумел прослушать во всех
проявлениях осознанной и осмысленной человеческой жизни. Бахтин
сочувственно оценивает борьбу Достоевского с
механистическим материализмом, в котором нет места свободе, и с до сих
пор модным физиологизмом. Разумеется, сознание — это
тайна, мозг — это тоже загадка и тайна, но это разные, не
сводимые одна к другой тайны. Подмена одной тайны другой в
равной степени мешает тому, чтобы прикоснуться к ним обеим.
От бодрствующего мозга до бодрствующего сознания, как семь
верст до небес, и все лесом: запутаешься в сетях дендритов и
аксонов. Объективность сознания, как и идея Бога, не нуждается
в доказательствах от нейрофизиологии. Это хорошо понимал
выдающийся физиолог А. А. Ухтомский, еще в начале XX века
утверждавший, что субъективное более объективно, чем так
называемое объективное. Понимал это и Л. С. Выготский, и его
ученик — создатель нейропсихологии А. Р. Лурия. Свои резоны
были и у П. Я. Гальперина, определившего психологию как
объективную науку о субъективном мире человека (и животных).
На этом разговор о Бахтине как о психологе не
заканчивается, а только начинается. Будем называть его метапсихологом,
выходящим за пределы психологии. Однако не без его влияния
происходит расширение этих пределов и то, что было «мета»,
постепенно входит в тело психологии.
§ 2. Личность как «выразительное и говорящее бытие»:
онтология сознания
Согласно Бахтину, сознание столь же онтологично, как и
бытие. Сознание участно в бытии, сознание со-бытийно, оно
1 Бахтин M. M. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 6. М, 2002. С. 99.
2 Бахтин М. М. <Дополнения и изменения к «Достоевскому» > //
Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 315.
224 Раздел II
не просто выявляется или проявляется в бытии, оно в нем
образуется и само участвует в его создании: бытие свершается
через меня. Мысль, идея, возникающая в точке диалогической
встречи сознаний, «мысль, вовлеченная в событие, становится
сама событийной, и приобретает тот особый характер
"мыслипоступка", "идеи-чувства", "идеи-силы", который создает
неповторимое своеобразие "идеи" в творческом мире
Достоевского. Изъятая из событийного взаимодействия сознаний и
втиснутая в системно-монологический контекст, хотя бы и
самый диалектический, идея неизбежно утрачивает это
своеобразие и превращается в плохое философское утверждение»1. К
сожалению, такими утверждениями полнится психологическая
наука. Не последнюю роль в этом играет дефицит подлинного
диалога. Впрочем, такой дефицит — достояние не только
нашего времени. На небольшом «пятачке» культурно-исторического
подхода к проблеме сознания одновременно работали
Г. Г. Шпет, М. М. Бахтин, Н. А. Бернштейн и Л. С. Выготский,
которые почти не ссылались друг на друга, как бы оставляя
своим последователям и комментаторам пространство для диалога
относительно сходства и различий их взглядов. Это
пространство еще не заполнено до конца. Сегодня трудно сказать, были
ли у перечисленных ученых особые соображения, по которым
они игнорировали друг друга в своих публикациях, или
сходство их тематики (мысль, слово, действие, переживание,
сознание и др.) объясняется «культурно-исторической телепатией»,
как назвал Бахтин подобные совпадения.
Все же к главной претензии Бахтина к психологии стоит
прислушаться. Не только психология, но и другие науки
недостаточно различают два мира: теоретический мир, в котором
объективируется акт нашей деятельности, и мир, в котором
этот акт единожды действительно протекает, свершается. «И в
результате встают друг против друга два мира, абсолютно не
сообщающиеся и не проницаемые друг для друга: мир культуры и
мир жизни, единственный мир, в котором мы творим, познаем,
созерцаем, живем и умираем»2. Писатель Аркадий Белинков,
характеризуя советскую литературу, заметил, что
социалистический реализм непрерывно приходит в противоречие с весьма
1 Бахтин M. M. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 14.
2 Бахтин М. М. <К философии поступка> // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 1.М.,2003. С. 7.
«Личность» как гносеологическая проблема 225
реалистическим социализмом. Обсуждая конфликт между
культурой и жизнью, Бахтин с сомнением отнесся к возможности
практической ориентации своей жизни в «индифферентном,
принципиально готовом и завершенном теоретическом
бытии», такой мир «не может определить мою жизнь, как
ответственное поступление, не может дать никаких критериев для
жизни практики, жизни поступка, не в нем я живу, если бы оно
было единственным, меня бы не было»1. Бахтин сравнивает акт
нашей деятельности, нашего переживания с двуликим Янусом,
гладящим в разные стороны: в объективное единство
культурной области и в неповторимую единственность переживаемой
жизни. Это различие принципиально и, согласно Бахтину,
нет единого и единственного плана, где оба лика взаимно себя
определяли бы по отношению к одному единственному
единству, которое автор характеризует как событие свершаемого
бытия. В таком акте все теоретическое и эстетическое должно
быть определено -- как момент его, конечно, уже не в
теоретических и эстетических терминах. Другими словами,
соединение обоих планов в один план, в котором преодолевается
отчуждение, дурная неслиянность, невзаимопроникновенность
культуры и жизни, добавим — теории и практики, возможна
только в ответственном (нравственном) поступке личности,
не безразличной к теоретическому бытию и участвующей в его
создании. Значит, при всей автономии теоретического мира
психологии от ее жизненной практики взаимодействие между
ними все же возможно, но не путем провозглашения
банального, нередко демагогически провозглашаемого требования к
их единству. Подлинное единство Бахтин видел в другом: «Три
области человеческой культуры - наука, искусство и жизнь
обретают единство только в личности, которая приобщает их
своему единству»2. Между ними устанавливается не
механическая внешняя связь: они должны быть проникнуты внутренним
единством смысла, единством вины и ответственности. Это
понимал Л. С. Выготский, ставивший задачу построения особой
философии практики. Ф. Е. Василюк3 говорит о необходимости
разработки философии и методологии практики.
1 Бахтин M. M. <К философии поступка> // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 13.
2 Бахтин М. М. Искусство и ответственность // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 5.
3 Василюк Ф. Е. Культурно-антропологические условия
психотерапевтического опыта // Культурно-историческая психология. 2007. № 1. С. 80—92.
226 Раздел II
Психологи многие десятилетия безуспешно ищут пути
интеграции разрозненных психологических знаний, что
неудивительно, поскольку анализ (не только в психологии) намного
опережает синтез, который, к тому же, нередко бывает
иллюзорным. Лучшим и наглядным «синтезатором и интегратором»
всех сил души, изученных и не изученных психологами,
является бахтинский ответственный поступок: «Я поступаю всей
своей жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть
момент моей жизни-поступления»\ В создаваемой таксономии
(возможно, иерархии) единиц анализа психики именно так
понятый поступок будет занимать высшую ступень. Строго
говоря, поступок — это больше, чем единица анализа психики.
Он — единица анализа широко понимаемой сознательной
жизни личности. Единицы анализа психики должны быть подобны
поступку. Напомню, что Л. С. Выготский, обсуждая требования
к единицам анализа мышления, говорил о том, что они
должны сохранять свойства целого. В качестве примера он приводил
химическую формулу воды Н2О. Об этом же говорил С. Л.
Рубинштейн, выдвинувший в качестве единицы анализа психики
действие, которое в зачаточном виде содержит в себе все
элементы психологии. Г. Г. Шпет (до Выготского), обсуждая туже
проблему, предупреждал, что соединяя Н2 и О, мы ни единой
капли живой воды с ее богатой флорой и фауной не получим.
Живое не только упорно сопротивляется синтезированию, но
и концептуализации; столь же упорно сопротивляется и живое
сознание.
Сознание (и душа), конечно, тоже может рассматриваться
как «синтезатор» и «интегратор», хотя оно не обладает
наглядностью. М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорский пишут:
« Сознание не имеет языка для себя, а только язык для психики, и
этим языком является язык символов»2. Язык, который еще
нужно суметь прочесть, что, судя, например, по практике
психоанализа, далеко не просто. По сути, изучение сознания
следовало бы назвать родом символологии или символологию — родом
изучения сознания. Бахтин ссылается на С. С. Аверинцева,
говорившего, что «надо будет признать символологию не
научной, но инонаучной формой знания, имеющей свои
внутрен1 Бахтин M. M. К философии поступка // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 8. Курсив наш. -Авт.
2 Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. М., 2009.
С. 152.
«Личность» как гносеологическая проблема 227
ние законы и критерии точности»1. Бахтин разъясняет, что
истолкование символических структур принуждено уходить в
бесконечность символических смыслов, поэтому оно и не может
стать научным в смысле точных наук. Тем не менее такая
интерпретация смыслов глубоко познавательна, и она может
непосредственно послужить практике работы с вещами2.
Последнее связано с тем, что в самом символе всегда соединены вещь
и идея (П. А. Флоренский). Именно символическая природа
сознания является причиной того, чтобы вывести его (часто
вместе с личностью) за пределы психологии. Так упомянутые
выше Мамардашвили и Пятигорский автономизируют
сознание от психики: любой психический процесс может быть
представлен как в объектном плане, так и в плане сознания. Они
рассматривают такую двойственность (см. выше — двуликий
Янус) как двойственность психологии и онтологии. Ее
наличие, по словам авторов, предполагали еще древние буддийские
мыслители, утверждавшие, что «сознание не есть один из
психических процессов, но что оно есть уровень, на котором
синтезируются все конкретные психические процессы, которые
на этом уровне уже не являются самими собой, так как на этом
уровне они относятся к сознанию»3. В культурно-исторической
психологии такие процессы называются высшими
психическими функциями. На них лежит печать сознания и личности. То
что психические процессы могут изучаться и рассматриваться
не только вне я, вне личности, вне души, а также и вне
сознания, для психологии давно стало естественным и привычным.
Субъект в психологической лаборатории чаще всего
испытывается как автомат, лишенный сознания. Сознание же, во всяком
случае в психологии, не может рассматриваться вне психики,
психических процессов, их предметного содержания.
Отсюда и трудности различения сознания и психики и
недоразумения, когда вырванный из жизненного контекста элементарный
психический акт выдается за сознание4. «Чистое» сознание для
психологии такой же фантом, как «чистое» ощущение. Но
фан1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 362.
2 Там же.
3 Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. М., 2009.
С. 152.
4 Эта позиция сегодня преодолевается. См.: Зинченко В. П., Пружинин Б. И.,
Щедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии:
философскогуманитарный контекст. М., 2010; Методология психологии / Под общ. ред.
В. П. Зинченко, науч. ред. Т. Г. Щедрина. М., 2012.
228 Раздел II
томы разные. Если последний можно измерить, например
ощущение цвета с помощью монохроматора, то первое — только
осмыслить. Но это еще не основание отказывать психологии в
праве на изучение сознания, личности и, если продолжить
подобную логику, то и деятельности. Она ведь тоже не
подчиняется закону тождества, и поэтому измеримость ее весьма и весьма
проблематична. То же можно сказать об измеримости высших
психических функций. Г. Г. Шпет за несколько лет до открытия
А. Эйнштейна предлагал ввести в психологию общий закон
относительности, подобный закону Вебера-Фехнера. Да и до сих
пор никто не доказал, что исчисление, например
высказываний, точнее, чем их осмысление и понимание, которое не
имеет границ. Звучащие в последние годы призывы к психологам
быть толерантными к неопределенности — это лишь запоздалое
признание того факта, что полной определенности в
психологии (а как выясняется сейчас, и в других науках) никогда не
было. Что делать, главная черта не только сознания, но
человеческой психики — спонтанность.
Трудности соединения теоретического и жизненного миров
наблюдаются не только в психологии. В преодолении разрыва
между ними существенную роль играет развитие
деятельностного подхода и в психологии, и в других гуманитарных науках,
и в разного рода человеко-ориентированных психологических
практиках. Не следует пренебрегать замечательным опытом
анализа живого сознания, накопленным Бахтиным на
материале «экспериментальной психологии», предоставляемым
художественными произведениями (а подлинное произведение
искусства живо). Для Бахтина Достоевский как художник
поднимается до объективного видения жизни сознаний и форм их
живого сосуществования. Сознание никогда не довлеет себе,
но находится в напряженном отношении к другому сознанию1.
Выделенные и изученные им свойства сознания характеризуют
его как таковое, а не только сознание излюбленных Бахтиным
героев Достоевского и других писателей.
Сознание больше, чем интегратор и синтезатор, оно —
модератор психики, организатор и регулятор поведения и
деятельности, инициатор создания человеком новых функциональных
органов (способностей — способов деятельности). Как говорил
1 Бахтин M. M. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 2. М., 2000. С. 4L
«Личность» как гносеологическая проблема 229
И. Г. Фихте, человек создает органы, душой и сознанием
назначенные.
Эти методологические замечания понадобилось нам в
качестве мостика, чтобы перейти к проблеме сознания, которое
Бахтин рассматривал не абстрактно, а в контексте жизни, в
качестве бытийного образования. Выражаясь словами М. К.
Мамардашвили, предметом размышлений Бахтина был единый
континуум бытия-сознания. Не только сознания. Он определял
предмет всех гуманитарных наук как выразительное и говорящее
бытие. «Это бытие никогда не совпадает с самим собою и
поэтому неисчерпаемо в своем смысле и значении»1.
Утверждая диалогизм сознания в качестве основания его
бытийности (участности в бытии), Бахтин
противопоставляет диалогизм монологизму и раскрывает истоки последнего.
С его точки зрения, наиболее отчетливое выражение
принципы идеологического монологизма получили в идеалистической
философии: «Монистический принцип, то есть утверждение
единства бытия, в идеализме превращается в принцип
единства сознания»2. В свою очередь, это ведет к превращению
монизма бытия в монологизм, в единство одного сознания. Автору
безразлично, какую метафизическую форму приобретает такое
сознание: «сознания вообще», «абсолютного сознания»,
«абсолютного духа», «нормативного сознания», которое одно знает,
как надо и т. п. Идеалом идеализма является (Бахтин
вынужденно умалчивает, что идеалом сюрреалистической идеологии
исторического материализма тоже) одно сознание, одни уста
совершенно достаточны для всей полноты познания: во
множестве сознаний нет нужды и для него нет основы3. По этому
поводу Бахтин замечает, что из самого понятия истины вовсе
не вытекает необходимости одного и единого сознания.
«Вполне можно допустить и помыслить, что единая истина требует
множественности сознаний, что она принципиально
невместима в пределы одного сознания, что она, так сказать, по
природе событийна и рождается в точке соприкосновения разных
сознаний»4. Бахтин не отрицает наличия монологического и
1 Бахтин M. M. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 8.
2 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 91.
3 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 91-92.
4 Там же.
230 Раздел II
абсолютного сознания, но говорит, что оно не имеет ничего
трансгредиентного1 себе, ничего вненаходимого и
ограничивающего извне, не может быть эстетизировано, ему можно
только приобщиться, но его нельзя видеть, как завершимое целое2.
Вместе с тем он настойчиво подчеркивает, что монологическая
форма восприятия, познания и истины — лишь одна из
возможных форм, возникающих там, где единство бытия превращается
в единство сознания. Мы встречаем у него и более
категорические утверждения: «Одинокое сознание — иллюзия или ложь и
узурпация»3.
В принципе Бахтин не возражал против трактовки сознания
как надбытийного образования. Более того, находясь в этой
позиции, сознание только и может играть в бытии активную
роль. «Поскольку я активно нахожу и осознаю нечто данным
и наличным, определенным, я тем самым в своем акте уже над
ним <...>: в этом моя архитектоническая привилегия — исходя
из себя, находить мир вне себя — исходящего в акте <...> Это
абсолютно продуктивный, прибыльный акт моей активности.
Но чтобы действительно быть продуктивным, обогащать
бытие, этот акт должен быть сплошь надбытийственным»4.
Бахтин еще иначе выразил этот кажущийся парадокс соотношения
бытия и смысла (сознания): «Свидетель и судия. С появлением
сознания в мире (бытии) <...> мир (бытие) радикально
меняется. <...> Этого нельзя понимать так, что бытие (природа) стало
осознавать себя в человеке, стало самоотражаться. В этом
случае бытие осталось бы самим собою, стало бы только
дублировать себя самого (осталось бы одиноким, каким и был мир до
появления сознания — свидетеля и судии). Нет, появилось нечто
абсолютно новое, появилось надбитые. В этом надбытии уже
нет ни грана бытия, но все бытие существует в нем и для него»5.
1 Комментаторы трудов Бахтина следующим образом разъясняют этот
термин: «"Трансгредиентный" — от лат. transgrediens, -entis, причастие
настоящего времени от глагола transgredi "перешагивать (через)", "переходить,
перебираться", "выходить за пределы, переступать"». Термин
"трансгредиентный" применялся разными мыслителями в разных контекстах. См.
Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 590.
2 Бахтин M. M. Автор и герой в эстетической деятельности// Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 102.
3 Бахтин M. M. <Дополнения и изменения к «Достоевскому»> //
Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 323.
4 Бахтин M. M. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 203-204.
5 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М, 1979. С. 341.
«Личность» как гносеологическая проблема 231
Аналогичную двойственность мы встречаем в размышлениях о
сознании М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского. С одной
стороны, они выделяют в качестве автономной сферу сознания,
с другой — говорят о едином континууме бытия-сознания. На
наш взгляд, это противоречие кажущееся. Если выйти за
пределы оппозиции материализма и идеализма, которая к
психологии имеет весьма отдаленное отношение, то взаимоотношения
бытия и сознания вполне можно рассматривать подобно
взаимоотношениям внешних и внутренних форм сущего. Более
подробно они будут рассмотрены ниже, а сейчас обратимся к
характеристике диалогизма сознания.
§ 3. Диалогизм как принцип гуманитарного познания
Г. Г. Шпет дал афористическую характеристику диалогизма
сознания: «Игра и жизнь сознания — слово на слово, диалог»1.
Под словом он понимал архетип культуры, воплощение разума
и рассматривал слово в связке со смыслом. Бахтин пошел еще
дальше. Он утверждает не только диалогизм сознания, но и
всей человеческой жизни: «Жизнь по природе своей
диалогична. Жить — значит участвовать в диалоге: вопрошать, понимать,
ответствовать, соглашаться и т. п. В этом диалоге человек
участвует весь и всею жизнью: глазами, губами, руками, душой,
духом, всем телом, поступками. Он вкладывает всего себя в слово,
и это слово входит в диалогическую ткань человеческой жизни,
в мировой симпосиум»2. Бахтин подчеркивает, что
единственной адекватной формой словесного выражения подлинной
ловеческой жизни являются незавершимый диалог. В этом свете
и смысле термин «индивидуальное сознание» весьма условен.
Событие сознания может совершиться лишь при двух
участниках, что предполагает два не совпадающих сознания, пусть
даже совмещенных в одном лице. Одинокого сознания быть не
может, поскольку оно диалогично по природе: «Сознание
слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в
процессе социального общения организованного коллектива.
Индивидуальное сознание питается знаками, вырастает из них,
отражает в себе их логику и их закономерность. Если мы лишим
1 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид
знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 177.
2 Бахтин M. M. 1961 год. Заметки // Бахтин M. M. Собрание сочинений: в 7 т.
Т. 5. М., 1996. С. 351.
232 Раздел II
сознание его знакового идеологического содержания, от
сознания ничего ровно не останется»1. Подобная логика характерна
и для Л. С. Выготского, утверждавшего интериндивидное
происхождение высших психических функций, в том числе,
разумеется, и сознания. Продолжу выписку из В. Н. Волошинова
(M. M. Бахтина): «Сознание может приютиться только в
образе, в слове, в значащем жесте и т. п. Вне этого материала
остается голый физиологический акт, не освещенный сознанием,
т. е. не освещенный, не истолкованный знаками»2. И наконец:
«Знак может возникнуть лишь на МЕЖИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИИ, причем эта территория не "природная" в
непосредственном смысле этого слова... Необходимо, чтобы два
индивида были социально-организованы»3. Бахтин расширил
число «мест», в которых может приютиться сознание. Возражая
против чисто гносеологических трактовок сознания, он
«приютил» его, помимо словесного диалога, в действии, в поступке,
которые, впрочем, подпадают под бахтинскую характеристику
жизни как Большого диалога, или игры с природой ли, с
социумом, с самим собой. Напомним, что поступок по определению
причастен бытию, участей в нем, поступок — это не алиби в
бытии. Сознание не просто находит приют в поступке, оно
уплотняется, овнешняется, воплощается в нем. Сознание
приобретает выражающий его внешний лик.
Бахтин настойчиво повторяет упрек в адрес теории
познания, «которая стала образцом для теорий всех остальных
областей культуры: этика, или теория поступка, подменяется
теорией познания уже совершенных поступков, эстетика, или
теория эстетической деятельности, подменяется теорией
познания уже совершившейся эстетической деятельности <...>,
единство свершения события подменяется единством
сознания, понимания события, субъект — участник события
становится субъектом безучастного, чисто теоретического познания
события»4. Как мы уже видели, этот «грех пассивности» Бахтин
адресовал и психологии. Она, конечно, виновна, но
заслуживает снисхождения. В начале 1920-х годов, когда Бахтин писал
процитированные выше тексты, физиологи, психологи,
педо1 Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы
социологического метода в науке о языке. Л., 1929. С. 14.
2 Там же.
3 Там же.
4 Бахтин M. M. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 160-161.
«Личность» как гносеологическая проблема 233
логи, психотехники, психоаналитики, социальные психологи
обратились к проблематике действия, деятельности, общения,
сознания. Если воспользоваться советским жаргоном, они
попытались занять активную жизненную позицию. Этот поступок
для слишком многих из них имел печальные, а то и гибельные
последствия. Вернемся к поступающему сознанию, помня, что
диалог может и должен быть поступком. Там, где такой диалог
кончается, кончается сознание, строго говоря, нет личности.
Как говорил философ Б. И. Шрагин, остаются своевольники, а
бытие, жизнь превращаются в безысходность.
Уплотненность и скрытость сознания во внутренней форме
поступка создает иллюзию его реактивности, рефлекторности,
импульсивности. На самом деле поступок создается, творится
на глазах, творится сознанием, которое Бахтин, вслед за
Достоевским, отождествлял с личностью. Есть и другой вид
уплотнения сознания и психики. А. Белый во время болезни писал:
Психология оплотневала во мне в физиологию (!).
Использование понятий внешней и внутренней формы в
размышлениях о наследии Бахтина соответствует проводимому
им различению форм внешнего и внутреннего бытия, внешней
и внутренней плоти последнего. Внутренняя плоть может
принимать форму души, форму сознания. Он, характеризуя
словесное художественное творчество, использовал понятие
внутренней пространственной формы.
Введенные В. Гумбольдтом, развитые А. А. Потебней и
Г. Г. Шпетом, понятия внешней и внутренней формы целого,
в частности, внешней и внутренней формы слова, значительно
более плодотворны по сравнению с расплывчатыми и
распространенными в психологии представлениями о внешнем и
внутреннем. Привлечение этих более строгих понятий обогащает
и психологизирует лингвистическую трактовку диалога.
Внешние и внутренние формы подразумевают наличие способного к
трансформации динамического смыслового целого, в котором
возможны эффекты обратимости или взаимного порождения
его форм. Проиллюстрируем это на примере единиц, развитие
и взаимодействие которых образует, а точнее - порождает
сознание. К числу таких единиц относятся символ (сознание ведь
не только бытийно, но и символично), слово, образ, действие,
аффект, которые вместе с их значениями и смыслами образуют
в актах взаимодействия и общения диалогическую ткань
сознания.
234 Раздел II
Перечисленные единицы (А. Н. Леонтьев ввел термин
«образующие сознания») имеют собственные внешние и внутренние
формы. Например, структуру внутренних форм слова по-своему
представляли себе А. А. Потебня, Г. Г. Шпет и M. M. Бахтин;
структуру внутренних форм действия, его внутреннюю
картину по-своему представляли М. М. Бахтин, Н. А. Бернштейн1,
А. В. Запорожец2, Н. Д. Гордеева3. Не будем вдаваться в
описание этих самих по себе достаточно сложных внутренних форм.
Обратим внимание на другое. Слово, действие, образ, аффект
выступают не только в качестве относительно автономных
внешних, но могут выступать в роли внутренних взаимно
освещающих и осмысляющих друг друга форм. Так, слово, взятое
как внешняя форма, имеющее свою собственную сложную
внутреннюю форму, вмещает в себя (в нее!) образ, действие,
аффект. То же следует сказать об образе, действии и аффекте.
Скрытость слова и образа в действии не означает его
бессловесности и безобразности, равным образом, скрытость действия в
слове не означает его бездейственности. Конечно, одни формы
«вторгаются» во внутренние формы других не в своей
натуральной, так сказать, первозданной, а в превращенной форме.
Подобное вторжение еще более усложняет и без того не простую
структуру претерпевающих вторжение форм, но, делая их
гетерогенными, расширяет адаптивные и продуктивные
возможности последних, усиливает их активность, облегчает даже не
поиск, а обнаружение находящихся во внутренних формах слова,
образа, действия ассоциаций. В том числе, постулированных
А. Кёстлером бисоциаций или мультисоциаций, играющих
существенную роль в творчестве. Остается тайной смысловая,
хронотопическая и ценностная и пространственная
синхронизация диалогической активности различных гетерогенных
внутренних форм как между ними, так и с обладающими своей
макро-микроструктурой и микродинамикой внешними
формами. В самонаблюдении все выглядит (если «выглядит»)
значительно проще: «Во время трудного и опасного действия я весь
сжимаюсь до чисто внутреннего единства, перестаю видеть и
слышать что-либо внешнее, свожу себя всего и свой мир к
чи1 Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность. М., 1990.
2 Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М., 1960.
3 Гордеева Н. Д. Экспериментальная психология исполнительного действия.
М., 1995.
«Личность» как гносеологическая проблема 235
стому самоощущению»1. Внутренняя собранность разряжается,
взрывается действием, поступком.
Внутренние формы — это внутренние голоса слова, образа,
действия, чувства, обеспечивающие симультанность
восприятия, идентификации, опознания, категоризации воспринятого
или помысленного. Эти голоса образуют своего рода
микродинамический диалог. Сложность строения и динамичность
взаимоотношений внешних и внутренних форм слова, образа,
действия, которые можно рассматривать как своего рода
насыщенные метаформы, не нарушает их единства, не препятствует
возникновению продуктивных, нередко губительных
напряжений и противоречий внутри них. Это живые, беспокойные,
ищущие, предметные, открытые миру формы, потенциально
способные трансформироваться одна в другую: слово
воплощается в действие, действие — в образ и т. п. Это происходит в
результате бахтинского микродиалога, перебоя внутренних
голосов, пререкания движений (И. Бродский), стремящихся
вырваться наружу, стать самостоятельным голосом (метаформой).
Г. Г. Шпет не случайно рассматривал внутреннюю форму как
путь, предполагающий ее овнешнение. С этим согласен и
Бахтин, писавший, что путь свершения действия — чисто
внутренний путь, и непрерывность этого пути тоже чисто внутренняя2.
В том числе и путь свободного действия, действия-поступка,
путь, строящийся и корректирующийся «на ходу». Внутренняя
форма еще и мост к новому, неведомому содержанию.
Чтобы прикоснуться к тайне синхронизации активности
внешних и внутренних форм, вспомним, что это формы
целого, значит, границы между ними весьма относительны. Эти
границы можно уподобить контактным барьерам между
сознанием, подсознанием и бессознательным, существование которых
постулировали психоаналитики, двусторонним проницаемым
мембранам и т. п. По этому поводу Бахтин писал:
«"Подсознательное" может стать творческим фактором лишь на
пороге сознания и слова (полусловесное-полузнаковое сознание)»3.
Учитывая гетерогенность целых форм (метаформ),
участвующих в работе и конституировании сознания, можно говорить
1 Бахтин M. M. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М, 2003. С. 122-123.
2 Там же. С. 121.
3 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. 1979. С. 365.
236 Раздел II
о полутекстовом-полутелесном сознании. Хотя, строго говоря,
образы, действия, аффекты тоже являются текстами, как знаки
и слова. Но слова могут быть тяжелыми гирями, могут ветшать,
как платье. Бахтин говорит о теле смысла, М. К.
Мамардашвили — о теле желания, Л. Н. Толстой — о теле любви.
Относительность, нечеткость, текучесть, подвижность,
проницаемость границ типичны не только для характеристики внешних
и внутренних форм. Перечисленные свойства границ
объясняют акты объективации субъективного и субъективации
объективного, одушевления тела и оплотнения, овнешнения души
(различные пласты души в разной степени поддаются
овнешнению1, означения смысла и осмысления значения,
интериоризации внешнего и экстериоризации внутреннего, переходов от
интериндивидных к интраиндивидным отношениям
(отношения я—другой) и т. п. Не менее важны и акты порождения,
преодоления и прехождения границ, как и существование на самих
границах. В последнем случае, согласно Бахтину, сама форма
есть граница, как, например, культура: «Внутренней
территории у культуры нет: она вся расположена на границах, границы
проходят повсюду, через каждый момент ее, систематическое
единство культуры уходит в атомы культурной жизни, как
солнце отражается в каждой капле ее. Каждый культурный акт
существенно живет на границах: в этом его серьезность и
значительность: отвлеченный от границ, он теряет почву, становится
пустым, заносчивым, вырождается и умирает»2. Надо ли
говорить, что границы со всеми их свойствами есть продукт широко
понимаемых диалогических отношений, которые представляют
собой «почти универсальное явление, пронизывающее всю
ловеческую речь и все отношения и проявления человеческой
жизни, вообще все, что имеет значение»3. Интересный опыт
сравнения психологических и телесных границ и их динамики
накоплен Т. С. Леви4.
У читателя не должно сложиться впечатление, что Бахтин,
давая возвышенную характеристику диалогизму, вовсе отрицал
1 Бахтин M. M. К философским основам гуманитарных наук //
Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 9.
2 Бахтин M. M. К вопросам методологии эстетики словесного творчества //
Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 282.
3 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 51.
4 Леви Т. С. Телесная парадигма развития личностной аутентичности. М,
2011.
«Личность» как гносеологическая проблема 237
положительные стороны монолога. Во-первых, он
психологически точно показал, как возникает монолог на ранних этапах
развития человека. Внетекстовые влияния облекаются в слова
(или другие знаки), прежде всего материнские. Затем эти
«чужие слова» перерабатываются диалогически в «свои-чужие
слова» с помощью других ранее услышанных «чужих слов», а затем
и в свои слова, носящие уже творческий характер. Постепенно
забываются авторы — носители чужих слов. Чужие слова
становятся анонимными, присваиваются (в переработанном виде,
конечно): сознание монологизуется. Творческое сознание,
монологизуясь, пополняется анонимами. Затем
монологизованное сознание как одно единое целое вступает в новый диалог
уже с новыми внешними чужими голосами1. Таким образом,
монолог, разумеется, необходим. Важно, чтобы он не
становился самодовлеющим и не переставал быть частью большого
диалога, или, как говорил Бахтин, частью большого времени.
Итак, диалог есть образ жизни сознания. Не забудем, что
Достоевский, а вслед за ним Бахтин, отождествляли сознание и
личность, все проявления которой пронизаны
эмоциональноволевым тоном. Еще раз подчеркнем, имеется в виду диалог
не только внешний — между людьми, но и внутренний —
внутри «роистого я» (М. Пруст), внутренний диалог с известным
и с неизвестным другим (другими). Бахтин заметил, что
человек - это уравнение я и другого. Кто другой? Где граница между
нами? Это уже полифония, разговор о которой впереди.
§ 4. Познание как осмысление
Динамика внешних и внутренних форм служит
необходимым условием порождения новых моторных, перцептивных,
мыслительных и др. форм, несущих смысловую нагрузку. Столь
же верно и то, что смысл, как и интенциональность сознания
обеспечивают такую динамику. У Бахтина понятия «сознание»,
«ценность», «смысл», «творчество», «переживание» как будто
имеют общее гнездо. «Смысл подчиняется ценности
индивидуального бытия, смертной плоти переживания»; в свою очередь,
«Переживание — это след смысла в бытии, это отблеск его на
нем, изнутри самого себя оно живо не собою, а этим
внележащим и уловляемым смыслом, ибо, когда оно не уловляет
смысБахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 365—366.
238 Раздел II
ла, его вообще нет...»1 Значит, и смысл, и переживание, как и
сознание, бытийны. Г. Г. Шпет писал, что смысл укоренен в
бытии, хотя и может быть из него абстрагирован. Л. С.
Выготский называл переживание единицей анализа личности и
единицей сознания, в которой даны все его основные свойства2.
Он же говорил о системном (?) и смысловом строении
сознания. А. Н. Леонтьев возражал против того, что переживание
является единицей анализа сознания. Со своей стороны, он
предложил рассматривать в качестве «единицы» человеческой
психики разумный смысл того, на что направлена активность
человека3. Впоследствии он оставил эту идею и оставил вопрос
о единице анализа психики и сознания открытым.
В связи с бытийностью смысла само собой
напрашивается вывод о его объективности. Г. Г. Шпет и M. M. Бахтин
говорили об относительности разделения субъективного и
объективного, так как в человеческой жизни, психике, сознании,
творчестве постоянно наблюдаются акты субъективации
объективного и объективации субъективного, поэтому их различение
весьма условно. Столь же решителен был А. Ф. Лосев,
назвавший область, которая не субъективна и не объективна, особым
видом или сферой бытия. Именно к такой сфере относится
смысл. Основное его качество — значимость. Смысл значит, но
не есть. В этом нет ничего противоестественного, потому что
смысл вещи еще не есть вся вещь. Лосев разъясняет: «Смысл
вещи не есть не только чувственная вещь, но не есть также и
сверхчувственная субстанция»4. Важнейшее качество смысла,
отмечаемое Лосевым, состоит в том, что он так же возможен до
субъект-объектного противостояния, как бытие социальное —
после этого противостояния. Подобный взгляд отсылает нас к
проблеме начала развития, которое, согласно Бахтину, должно
быть не разъятым на части, а целым, как первофеномен
человеческого движения.
Смысл, как и все живое, упорно сопротивляется
концептуализации, что не означает недостатка в его определениях.
Скорее, их слишком много. Одно из лучших принадлежит
M. M. Бахтину: «Смыслами я называю ответы на вопросы. То,
1 Бахтин M. M. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 187-188.
2 Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. М., 1982-1984. С. 382.
3 Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 274.
4 Лосев А. Ф. Логическая теория числа // Философия, наука, культура.
«Вопросам философии» 60 лет. М., 2008. С. 455.
«Личность» как гносеологическая проблема 239
что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла»1.
С. С. Аверинцев, комментируя это определение, связывает
характеристику смысла с бахтинским пониманием
ответственности поступка: «Ответственность есть ответ кому-то, перед
кем-то — перед Богом или человеком — а не в безличном
пространстве "этических ценностей"»2. Согласно Бахтину, смысл
следует понимать как производное от акта осмысления. Он
персоналистичен: в нем есть не только вопрос, но и обращение, и
предвосхищение ответа, в нем всегда есть двое (диалогический
минимум). Это персонализм не психологический (Бахтин верен
себе!), а смысловой. Говоря о «телах смысла», Бахтин
предупреждает, что полное, предельное овеществление смысла
неизбежно привело бы к исчезновению бесконечности и бездонности
всякого смысла3.
Недостатки многих определений смысла компенсирует
избыток его живых метафор. Приведем наиболее уместные в
настоящем контексте. Человек — это животное, находящееся в
паутине смысла (М. Вебер), которую он же сплел из бытия,
совместной деятельности и общения с себе подобными.
Последнее обязательно. Согласно M. M. Бахтину, смертная плоть
мира имеет ценностную значимость лишь оживленная
смертною душою другого4, т. е. оживленная душой, способной к
сопереживанию. В метафоре Вебера смысл выступает как своего
рода внешняя форма, обволакивающая человека. Он не
просто витает, а определяет его действие, поведение,
деятельность. Г. Г. Шпет использовал метафору кровеносной системы
смысла, которая омывает внутренние формы слова, образа,
действия. Можно сказать, что она омывает человека
внутреннего. Значит, смысл и снаружи, и внутри. Если позволить себе
пофантазировать, то можно предположить, что вибрации
паутины и пульсации кровеносной системы вступают в состояния
резонанса. Состояния смыслового резонанса возможны и в
отношениях Я - Ты, благодаря наличию у них «общего
духовного кровообращения» (С. Л. Франк). Согласно M. M. Бахтину,
внутреннее, пусть по-своему и осмысленно, но, если оно
отрывается от лица противостоящего смысла, которым только оно и
1 Бахтин М. М. Рабочие записи 60-х — начала 70-х годов // Бахтин М. М.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 409.
2 См.: Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 443.
3 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 363.
4 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 203.
240 Раздел II
создано, и противопоставляет себя ему — как самостоятельную
ценность, то этим оно впадает в противоречие с самим собою,
становится ложью; бытием лжи или ложью бытия. И, наконец,
отрыв от лица смысла означает отпадение в бытие: «Когда я
сам сплошь отпадаю в бытие, я погашаю ясность события
бытия для меня, становлюсь темным, стихийно-пассивным
участником в нем»1. Исчезает и любое творчество, которое «всегда
связано с изменением смысла и не может стать голой
материальной силой»2. Причина «отпадения в бытие в том, что
сознание подкуплено бытием. В отличие от сознания, простая душа
(правда, в редкие минуты) поднимается до суда над миром, над
бытием и виновником бытия»3. И в этом смысле за смерть
сознания человек отвечает сам. Как отвечает за сохранение его
жизни. Последнее слово сознания - это постоянная
возможность и нужность преобразовать жизнь формально, вложить в
нее новый смысл4. «Последнее слово» — почти как у Т. Элиота:
В моем конце — мое начало.
Возможность отпадения человека в бытие и бытийность
сознания — это продуктивное противоречие (диалектика?!),
которое надо держать в сознании. Автономность сознания означает
относительную свободу от бытия. Не отпадение в бытие, а
отрешение (остранение) мира, как в искусстве. Свобода сознания
относительна, а не абсолютна, поскольку сознание
пронизывает поведение, деятельность, поступок, которые от бытия не
свободны. И в то же время сознание может, например, отказаться
от той или иной утратившей смысл деятельности, предпочесть
другую или построить новую. Сознание, как и смысл, — это
особый вид бытия, вплетенного в бытие. Смысловые глубины
миров культуры, сознания столь же бездонны, как и глубины
материи5.
Закончим разговор о бахтинских смыслах на мажорной ноте:
«Нет ни первого, ни последнего слова и нет границ
диалогическому контексту (он уходит в безграничное прошлое и в
безгра1 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 195.
2 Бахтин М. М. Рабочие записи 60-х — начала 70-х годов // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 397.
3 Бахтин M. M. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 6. М, 2002. С. 109.
4 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 193.
5 Бахтин М. М. Рабочие записи 60-х — начала 70-х годов // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 399.
«Личность» как гносеологическая проблема 241
ничное будущее). Даже прошлые, то есть рожденные в диалоге
прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильными
(раз и навсегда завершенными, конченными) — они всегда
будут меняться (обновляясь) в процессе последующего, будущего
развития диалога. В любой момент развития диалога
существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в
определенные моменты дальнейшего развития диалога, по ходу
его они снова вспомнятся и оживут в обновленном (в новом
контексте) виде. Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого
смысла будет свой праздник возрождения»1. Было бы большим
преувеличением сказать, что для смыслов Бахтина такой
праздник уже наступил. Кажется, А. И. Герцен говорил, что в России
от посева до жатвы проходят многие десятилетия. Вчерашний
день еще не наступил, как бы вторит Герцену О. Мандельштам.
Но все же грех жаловаться: закончилось, наконец,
многотомное и многолетнее издание сочинений Бахтина. Комментарии
к ним едва ли не равны по объему авторскому тексту. Собрание
сочинений Бахтина — это научный подвиг комментаторов,
редакторов и издателей, и приглашение к диалогу в Большом
времени.
§ 5. Полифония сознания: личности как голоса
Бахтин видел основную заслугу Ф. М. Достоевского в
создании полифонического романа, в котором представлена
множественность неслиянных голосов и сознаний, т. е. подлинная
полифония полноценных голосов. В романах Достоевского
множественность равноправных сознаний с их мирами
сочетаются, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого
события2. Вместе с тем он говорил не только о полифонии
музыки, романа, но и полифонии мира, самой жизни, замысла,
мысли, творчества. Отсюда можно было бы сделать
заключение относительно полифонии индивидуального сознания.
У Бахтина на этот счет имеются прямые указания. Анализируя
речь Голядкина («Двойник»), он говорит: «Все произведение
построено, таким образом, как сплошной внутренний диалог
трех голосов в пределах одного разложившегося сознания. <...>
Одна и та же совокупность слов, тонов, внутренних установок
1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 373.
2 Бахтин M. M. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 2. М., 2000. С. 12.
242 Раздел II
проводятся через внешнюю речь Голядкина, через
рассказчика и через двойника, причем эти три голоса повернуты лицом
друг к другу, говорят не друг о друге, а друг с другом. Три
голоса поют одно и то же, но не в унисон, а каждый ведет свою
партию»1. Собственно, достаточно фиксации Бахтиным
наличия «внутриатомного контрапункта голосов в пределах одного
разложившегося сознания»2. Полифоничность сознания
понятна и психотерапевтам и исследователям измененных
состояний сознания. Нас, однако, интересует не полифония (может
быть, скорее, какофония) разложившегося или
изменившегося вербального сознания, а полифония «распределенного»
поступающего сознания. Чтобы быть (стать) таким, оно должно
уметь (научиться) прислушиваться к многочисленным
перечисленным выше и не перечисленным голосам, в которых
состоит секрет его автономности и свободы. Ведь каждый голос
в этом многоголосии (полифонии) обладает избытком
степеней свободы, которые нужно уметь (научиться) ограничивать и
преодолевать, дирижировать голосами и при этом самому
оставаться свободным. Разумеется, диалогические отношения в
таком многоголосии предполагают общность предмета интенции
(направленности)3.
Многоголосое, полифоническое сознание требует не
только нового метода изучения, но и особого полифонического
художественного мышления, выходящего за пределы романного
жанра. Основание для такого заключения Бахтин видел в том,
что «мыслящее человеческое сознание и диалогическая сфера
этого сознания во всей своей глубине недоступна монологическому
художественному подходу»4. Если это действительно так, то,
может быть, настала пора ввести полифоническое мышление
в пока еще никем не установленные пределы психологии,
разумеется, не только для изучения полифонического сознания.
Это, правда, легко сказать, но трудно сделать. Ведь и сам
Бахтин предупреждает, что сравнение романа Достоевского с
полифонией имеет значение только образной аналогии, простой
метафоры, не больше. Тем не менее он выделил существенные
черты полифонического мышления. Секрет успеха Бахтина
со1 Бахтин M. M. Проблемы творчества Достоевского. С. 119.
2 Там же. С. 120.
3 Бахтин M. M. 1961 год. Заметки // Бахтин M. M. Собрание сочинений:
в 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 350.
4 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 6. М, 2002. С. 298.
«Личность» как гносеологическая проблема 243
стоит в том, что он, подобно тому, как Достоевский искал и
показывал в человеке человека, искал и показывал в Достоевском
Достоевского. Полифоническое мышление не только должно
смириться, но и поставить себе на службу многоплановость и
смысловую многоголосость сознания, наличие в нем
разномирности, наличие многих систем отсчета, что подобно
эйнштейновской вселенной. Сознание, как и романный мир
Достоевского, на первый взгляд, представляется хаосом, каким-то
конгломератом чужеродных материалов и несовместимых
принципов его оформления. Пути преодоления хаоса могут
быть самыми разными: от окостеневания сознания, редукции
его к одному единственному голосу и достижения им
ригидного «порядка» до подлинной свободы сознания, свободы, не
ущемляющей образующих его голосов. «Сущность полифонии
именно в том, что голоса здесь остаются самостоятельными и,
как таковые, сочетаются в единстве высшего порядка, чем в
гомофонии»1. Полифоническое мышление полисемично и
синкретично: в нем встречаются и перекликаются голоса живых
понятий, образов, представлений, личных действий, аффектов,
символов, ощущаемых смыслов, мыслей, метафор, метонимий,
перебивающих, упреждающих, сопровождающих и
дополняющих или отрицающих монологический голос рацио.
Бахтин сочувственно ссылается на проведенный Л. П.
Гроссманом анализ творчества Достоевского, который «смело
бросает в свои тигеля все новые и новые элементы, зная и веря,
что в разгаре его творческой работы сырые клочья
будничной действительности, сенсации бульварных повествований
и боговдохновенных священных книг расплавятся,
сольются в новый состав и примут глубокий отпечаток его личного
стиля и тона». Бахтин не согласен только с последним, говоря
что единство романа Достоевского не подчиняется, а
находится «над личным стилем и над личным тоном, как их понимает
роман до Достоевского»2. Со своей стороны Бахтин отмечает
характерную черту, но уже не писателя, а его героя: «В то
время как обычно самосознание героя является лишь элементом
его действительности, лишь одною из черт его целостного
образа, — здесь, напротив, вся действительность становится
элементом его самосознания. Достоевский не оставляет для себя,
1 Бахтин M. M. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M. Собрание
сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 28.
2 Там же. С. 20-21.
244 Раздел II
т. е. в своем кругозоре, ни одного определения, ни одного
признака, ни одной черточки героя: он все вводит в кругозор
своего героя, вводит в тигель его самосознания»1. Мы привели эти
выписки не только для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что
романы Достоевского это, действительно, благодатный
материал («экспериментальная психология») для изучения
сознания и самосознания. Оба автора используют метафору тигля:
Л. П. Гроссман — для характеристики сознания писателя,
Бахтин — для характеристики самосознания его героев. Эта
метафора — не новость: ее использовали В. Гумбольдт, Л.
Витгенштейн, М. К. Мамардашвили («котел cogito»), 3. Фрейд и др.
для характеристики работы сознания, в том числе и для
характеристики творчества. Метафора полифонии голосов сознания
ее удачно дополняет и опредмечивает. Переплавке в тигле
подвергаются внутренние формы (голоса) слов, действий, образов,
аффектов (как ахматовский сор, из которого, не ведая стыда,
растут стихи.), а в итоге появляются совершенные внешние
формы произведений искусства и других творений человека2.
Естественно, в актах творчества звучат голоса и сознания и других
людей. Можно, конечно, такую работу назвать
бессознательной, но, видимо, есть большая правда в утверждении Ж.
Лакана, что бессознательное - это голос другого.
Монологизм узурпирует права на системность и на истину.
Бахтин, разумеется, признает, что есть система науки как
совокупность готовых достижений. «Но становление науки не
может быть выражено в системно-монологической форме»3.
Полифоническое мышление признает объективность
неопределенности, случая, судьбы, смиряется с принципиальной
незавершимостью избранного предмета исследования, с
приближенным знанием, взыскует живого знания, живых понятий,
живого слова, наконец. Другими словами, признает внутренние
глубины личности и мыслящего сознания, т. е. признает
наличие тайны сознания, к которой оно, следуя совету И. Канта,
сможет (если сможет?) лишь прикоснуться, чтобы сделать ее
более осязаемой, но не раскрыть. Это требование к мышлению
вытекает из принципиальной незавершимости диалога голосов
сознания. Это справедливо и для сознания, достигшего своих
1 Бахтин M. M. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 2. М., 2000. С. 44.
2 Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010.
3 Бахтин М. М. Рабочие записи 60-х — начала 70-х годов // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 393.
«Личность» как гносеологическая проблема 245
вершин: «Там на высях сознанья — безумье и снег» (Н. Гумилев).
Судьба приготовила поэту не снег, а черную дыру. Может быть,
психологии последовать примеру искусства, озабоченному
художественной правдой и претендовать не на истину, а на
психологическую правду?
«Полифоническое мышление (видение) должно проникать
в новые глубинные пласты, но не в глубь бессознательного, а в
глубь-высоту сознания. Глубины сознания есть одновременно
его вершины (верх и низ в космосе и в микромире
относительны). Сознание страшнее всех бессознательных комплексов»1.
По поводу последнего комментаторы приводят слова 3.
Фрейда: «Когда сознание потрясено, невозможно испытывать
интерес к бессознательному»2. Советская власть явно перестаралась,
запретив в 20-е годы психоанализ. Самому потрясенному
большевистским переворотом сознанию стало не до
бессознательного, а потом людям стало и не до сознания и не до бытия. То
ли А. Белый, то ли Б. Пастернак (то ли оба!) сказал, что бытие
заменилось бытом. О. Мандельштам заговаривал свое «Сознанье
полуобморочным бытием...». Парадоксальным образом в таком
полуобморочном бытии потрясенное сознание у ряда людей
начинало испытывать интерес к подлинному бытию, к самому
себе. Почти по Достоевскому: страдание — единственная
причина сознания. И по Н. Гумилеву: Кричит наш дух, изнемогает
плоть, Рождая орган для шестого чувства. В том числе для
сознания. Переживший предощущение казни, Достоевский
написал: «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие».
И после несостоявшейся казни сделал практический вывод:
«Диалектика кончилась и началась жизнь». Для истории этот
вывод оказался иллюзией. «Диалектика» длится по сию пору и
конца ей не видно.
Полифоническое мышление рассматривает сознание в
целом как «большой диалог», сущностью которого является
творчество, что вместе с тем предполагает его макро- и
микроанализ. Учитывая имеющийся в психологии опыт, можно добавить
к этому необходимость микроструктурного и
микродинамического анализа голосов сознания.
Наиболее существенное требование полифонического
мышления — сохранять целое целым, т. е. делить его не на
элементы, а на единицы, сохраняющие свойства целого. Как говорил
1 Бахтин M. M. 1961 год. Заметки // Бахтин M. M. Собрание сочинений:
В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 345-346.
2 См.: Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 663.
246 Раздел II
В. Гёте: сущее не делится на разум без остатка. Бахтин пишет:
«Разъятие, разрывание, расчленение на части, разрушение
целого как первофеномен человеческого движения — и
физического и духовного (мысль)»1. Он добавляет, что и анализ и
синтез нового времени одинаково лежат в сфере расчленяющего
сознания. Художественному и мыслительному, добавим, и
психологическому жесту расчленения на части Бахтин
противополагает дистанцирующий, отдаляющий, оцельняющий и
героизирующий эпический жест (движение сознания), относящий в
абсолютное прошлое, увечняющий жест2.
Выше была дана эскизная и предварительная
характеристика полифонического мышления, которое, конечно, и само есть
род сознания. В ходе его изучения мы сталкиваемся с
беспрецедентной ситуацией: полифоническое сознание (желательно
осознающее себя таковым) должно создать полифонический
(а не набивший оскомину системный) подход (полифоническое
мышление) для разработки средств познания себя самого.
Такое похоже на характеристику поэтического искусства, данную
О. Мандельштамом: «Поэт не только музыкант, он же и
Страдивариус, великий мастер по фабрикации скрипок, озабоченный
вычислением пропорций "коробки" — психики слушателя»3.
Но этого мало. Полифоническое же сознание должно служить
критерием адекватности им самим создаваемого метода. Если
персонифицировать предмет и метод его изучения, то получим
ситуацию, с которой постоянно сталкиваемся в романах Ф.
Достоевского, т. е. с ситуацией большого неслиянного и
незавершимого диалога. Ведут такой диалог незавершимые личности,
а не подозрительные «психологические субъекты». Личности,
характеризующиеся известной невоплощенностью, готовые на
беспредельный к беспредельности порыв (Р. Фрост), обладающие
бескорыстным смысловым избытком. С этим нужно не
только смириться, но и принять в качестве источника
вдохновения. 3. Фрейд, К. Юнг, Э. Гуссерль, Г. Г. Шпет, М. Хайдеггер,
М. М. Бахтин, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н.
Леонтьев, М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский и др. — каждый
по-своему подходя к сознанию, расширял наши представления
1 Бахтин М. М. <О Флобере> // Бахтин M. M. Собрание сочинений: В 7 т.
Т. 5. М., 1996. С. 135.
2 Там же. С. 137.
3 Мандельштам О. Слово и культура. Разговор о Данте. Статьи. Рецензии. М.,
1987. С. 49.
«Личность» как гносеологическая проблема 247
о нем. Их мышление, несомненно, обладает чертами
полифонии. А взятые все вместе они олицетворяют творческий спор —
согласие — диалог (хотя и заочный), который несомненно
должен быть продолжен. Итог этого диалога полифоническое, а не
монологически-системное сознание.
В подтексте или во внутренней форме размышлений
Бахтина о полифонии сознания и о полифоническом мышлении
чувствуется протест против тоталитарных и авторитарных
моделей мышления и бытия. Иногда подтекст прорывается в текст.
В эссе о Флобере Бахтин писал: «Ужас равнодушия, ужас
совпадения с самим собою, примирения со своей данной жизнью
в ее благополучии и обеспеченности, удовлетворенности
одномысленными, однозначными и сплошь данными и готовыми,
совпадающими сами с собой мыслями. Равнодушие как
нежелание переродиться, стать другим. Политика строит жизнь из
мертвой материи, только мертвые, себе равные кирпичи годны
для построения политического здания (48-й год в изображении
Флобера)»1. Год в скобках Бахтин мог бы и не указывать. К
несчастью, сказанное им действительно на все времена.
Приведенный пассаж поучителен для тех, кто, не вспоминая Б.
Спинозу, Л. С. Выготского, M. M. Бахтина и ряда других, открыли
для себя, что мышление вовсе не всегда и не у всех бывает
эмоционально тупым. Тем не менее новооткрыватели старых истин
заслуживают благодарности. Ведь даже Нобелевский комитет
признал, что эмоции оказывают влияние на принятие решений
(возможно, и решений самого Нобелевского комитета). А если
говорить всерьез, то эмоциональный интеллект, умные эмоции,
холодная мысль, смех и мысль, даже страшное и бесстрашное
сознание — все это необходимые качества, свойства (или
компоненты) полифонического мышления.
Обратим внимание на то, что проведенный выше,
разумеется, гипотетический и предварительный анализ бытия сознания
не потребовал привлечения деятельности фрейдовского Оно.
По Бахтину, — это деятельность сознания без «саморефлекса»
(с чем можно бы и поспорить), без я. Тем не менее такая
деятельность не является бессознательной. Когда мы говорим о
деятельности сознания, то это означает, что сознание,
психические процессы и акты с самого начала привлекаются к
анализу не как отношения к действительности, а как отношения
1 Бахтин М. М. <О Флобере> // Бахтин M. M. Собрание сочинений: В 7 т.
Т. 5. М., 1996. С. 136-137.
248 Раздел II
в действительности, то есть актуального отношения, или как
живые формы — не только внутреннего, но и внешнего
события, действия, поступка. Отношения в действительности
обладают своей формой рефлексии, названной фоновой1.
Рефлексивные отношения к действительности — это особый
уровень развития сознания, который своими нитями связан с
бытием, с проблематикой психологии действия и деятельности.
Несколько слов в заключение. Какой бы ни была
самоидентификация Бахтина, как бы он ни относился к психологии,
вклад его в психологию огромен. И не только в психологию
сознания. В трудах Бахтина содержатся пролегомены к будущей
событийной психологии, к теории действия и поступка. Нам
удалось лишь прикоснуться к его экскурсам и размышлениям
по проблемам сознания. В них мы ни разу не встретили
упоминания о джеймсовском потоке сознания. Он как бы
остановил этот поток, сделал его дискретным (как и все в живом
организме). И вместе с тем не овеществил сознание, а представил
его в динамике полифонического диалога. Благодаря этому он
открыл новые возможности для работы по структурированию
сознания2. Для нас это не последнее слово о психологическом
наследии Михаила Михайловича Бахтина, а начало разговора о
нем.
1 Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Роль рефлексии в построении предметного
действия // Человек. 2001. № 6. С. 26-41.
2 См. об этом: Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010.
Раздел III
Слово и знание: споры
о структуре в контексте
культурно-исторической
эпистемологии
Введение к разделу III
В этом разделе речь идет о конкретной методологической
реализации в когнитивных практиках (в гуманитарных
науках) того познавательного идеала, который способен
«удовлетворить не только требованиям нашего ума, но и
запросам нашего сердца» (Н. Я. Грот). Попытка
реализовать такого рода единство разума и культурно-исторического
контекста, в котором разум воплощается в знании, была
фактически предпринята в ряде гуманитарных наук в первой
половине XX столетия. Знаково-символическое понимание знания
послужило основой для разработки методов структурного анализа
в лингвистике, литературоведении, антропологии.
Эффективность этой методологии была весьма убедительно
продемонстрирована. Но к середине прошлого столетия
структуралистские подходы в гуманитарных науках стали подвергаться все
более жесткой критике. Основным объектом этой критики был
формализм структуралистской методологии, исключающий из
рассмотрения гуманитарных феноменов историческое
измерение: синхрония в ущерб диахронии, статика в ущерб динамике.
В разделе предпринимается попытка вернуться к истокам
русского структурализма и семиотики, чтобы показать, что отнюдь
не весь методологический потенциал русской
эпистемологической традиции был исчерпан в рамках структурализма и что
обращение к ней открывает новые перспективы для методологии
гуманитарного познания.
Глава 1
Роман Якобсон: Густав Шпет у истоков
семиотики и структурализма
§ 1. Лингвистические кружки (МЛК и ОПОЯЗ)
как «сфера разговора» Шпета и Якобсона
Осмысливая отношения лингвистики с философией,
Роман Якобсон вспоминал: «В начале 20-х гг. в
Московском лингвистическом кружке под руководством
Густава Шпета, который был, по мнению Гуссерля,
одним из наиболее талантливых его учеников, велись
постоянные жаркие дискуссии об использовании в
лингвистике Logische Untersuchungen, а также о плодотворном
предложении Гуссерля и Антона Марти вернуться к разработке
"универсальной грамматики, которая была задумана рационалистами
XVII—XVIII вв." и предвосхищена средневековыми
философами языка»1. Однако несмотря на эти высказывания Якобсона,
имя Густава Шпета и его идеи долгое время находились в
стороне от мировых магистральных направлений развития
семиотики и структурализма. Да и сегодня, говоря о семиотике, мы
вспоминаем скорее Пирса и Соссюра, чем Шпета. Точно
также в структурализме мы апеллируем к идеям самого Якобсона
и Леви-Строса. Между тем, как неоднократно отмечал
Вячеслав Всеволодович Иванов, формирование традиций русского
структурализма неразрывно связано с философскими идеями
Густава Густавовича Шпета, звучащими сегодня как «знак,
посланный в будущее». Он также подчеркнул, что идейное
содержание шпетовской книги «Герменевтика и ее проблемы»,
которая издана сравнительно недавно, но написана в 1918 году,
имеет непосредственное отношение к развитию в России
науки о знаках — семиотики. Действительно, в «Герменевтике...»
1 Якобсон Р. О. Лингвистика в ее отношении к другим наукам //
Якобсон Р. О. Избранные работы. М., 1985. С. 406.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 253
Шпет приоткрывает нам свои идеи, но лишь отчасти,
поскольку книга эта написана в историческом ключе и содержит не
столько концептуальные построения самого автора, сколько
конструктивно-критический анализ исторического развития
герменевтических и семиотических идей Шлейермахера, Бека,
Эрнести, Дильтея и др. Но сегодня, помимо «Герменевтики...»,
опубликован реконструированный текст его книги «Язык и
смысл», в котором Шпету удалось ясно и отчетливо выразить
сущность своего методологического подхода к семиотическим
и герменевтическим проблемам. И мы сегодня можем
соотнести структурно-семиотические идеи Шпета со
структуралистскими исследованиями Якобсона прежде всего для того, чтобы
открыть новые методологические перспективы для развития
структурно-семиотического анализа в современной
гуманитарной науке.
Как известно, идеи структурализма и семиотики возникают
в России в 20-х гг. XX века. Они берут свое начало в дискуссиях
Московского лингвистического кружка (МЛК) и ОПОЯЗа
(Петроград). МЛ К — как писал Якобсон — это «объединение
молодых исследователей, основанное в марте 1915 г. по инициативе
группы студентов историко-филологического факультета
Московского Университета при активной поддержке
руководителя Московской Диалектологической Комиссии Д. Н. Ушакова
и благожелательном одобрении, оказанном проекту устава
академиками Ф. Е. Коршем и А. А. Шахматовым»1. Это
объединение, как указывает М. И. Шапир, быстро вышло за «рамки
студенческого кружка: с одной стороны, студенты, прослушав
полный курс университета, становились профессиональными
филологами, с другой стороны, серьезность и значительность
поднимавшихся в МЛК проблем привлекала в кружок новых
членов, в том числе многих авторитетных лингвистов и
литературоведов. В 1920 г. почетными членами МЛК были избраны
В. К. Поржезинский, Д. Н. Ушаков и H. H. Дурново. Среди
действительных членов кружка были С. И. Бернштейн, С. М.
Бонди, О. М. Брик, Н. Н. Волков, Н. И. Жинкин, В. М.
Жирмунский, С. О. Карцевский, М. М. Кенигсберг, А. М. Пешковский,
Е. Д. Поливанов, А. И. Ромм, Ю. М. Соколов, Б. В.
Томашев1 Якобсон Р. О. Московский лингвистический кружок / Публ. М. И.
Шапира // Philologica. 1996. Т. 3. [Электронный ресурс]: http://www.rvb.ru/
philologica/03rus/03rusjakobson.htm
254 Раздел III
ский, Ю. H. Тынянов, В. Б. Шкловский, Р. О. Шор, Г. Г. Шпет,
Б. И. Ярхо и мн. др.»1
Хотя Шпет и входил в объединения лингвистов и
литературоведов (он стал действительным членом МЛ К), тем не менее
он был все-таки профессиональным философом. Именно с
этим обстоятельством связан спор вокруг его имени,
произошедший между членами МЛ К. Исследователь Г. Левинтон
цитирует и пересказывает факты, приведенные в статье
Чудаковой и Тоддеса, в которых раскрывается весь контекст спора, а
также очерчивается «сфера разговора» Шпета и Якобсона.
Приведем этот отрывок полностью: «М. О. Чудакова и Е. А. Тоддес,
говоря о довольно бурном заседании МЛ К 21 марта 1921 г., где
обсуждались планы собственного издательства кружка, <...>
упоминают разделившиеся мнения: "Выступившие за
приглашение философа А. А. Буслаев, М. М. Кенигсберг, Б. В.
Горнунг (они выдвинули кандидатуру своего учителя Г. Г. Шпета,
состоявшего действительным членом МЛК), и возражавшие им
(принципиально, а не против самой кандидатуры) Н. Ф.
Яковлев, С. Я. Мазе, П. П. Свешников и А. И. Ромм". Вся первая
группа входила в редколлегию "Гермеса"2. Эпизод этот
интересен и специфическим соотношением собственных и
нарицательных имен: спор идет о "философе", но имеется в виду
именно Шпет — ситуация, напоминающая средневековую,
когда "философ" (напр., у Данте) значило: "Аристотель"»3.
1 Шапир М. И. Вступительная заметка к публикации статьи Р. О. Якобсона
«Московский лингвистический кружок» // Philologica. 1996. Т. 3.
[Электронный ресурс]: http://www.rvb.ru/philologica/03rus/03rusjakobson.htm
2 Из документальных свидетельств, попавших в печать еще в советское
время, упомянем записку Бориса Горнунга к Шпету:
«Многоуважаемый Густав Густавович!
Несмотря на наши старания, не удалось достать ни второго экземпляра
самого де Соссюра, ни изложения Sechehaye <Имеется в виду: Sechehaye A. Les
problèmes de la langue à la lumière d'une théorie nouvelle. — Revue philosophique
de la France et de l'étranger, 1917, t. 84, N 7>. На всякий случай передаю Вам
через M. П. Якобсона русский перевод первой части де Соссюра (рукопись
А. И. Ромма). Б. Горнунг. 22.VI.22». ЦГАЛИ. Ф. 1495. Оп. 1. Ед. хр. 32. См.
также: Чудакова М. О., Тоддес Е. А. Первый русский перевод «Курса общей
лингвистики» Ф. де Соссюра и деятельность Московского лингвистического
кружка (Материалы к изучению бытования научной книги в 1920-е годы) //
Федоровские чтения 1978. М., 1981. С. 235.
3 Как явствует из протокола заседания 21 марта 1922 г., стоял вопрос об
организации специального издательства МЛК. <...> Кроме того, возник спор
о том, следует ли привлечь в редакцию предположенных изданий кружка
профессионального философа и какова должна быть его роль. И выступив-
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 255
Шпет принимал самое непосредственное участие в
заседаниях МЛК. Более того, он был одним из тех участников
кружка, деятельность которых привела к отделению части ученых в
особую самостоятельную группу. Именно об этом круге
филологов, которые к тому времени почти в полном составе
перешли в ГАХН, писал Р. О. Якобсон в письме к H. H. Дурново:
«В Москве молодежь вне университета, льнет к академии
художественных наук, где в лингвистике господствует шпетиальное
направление (Мазе, Буслаев, Горнунг). Винокур пытается
сочетать шпетизм с марксизмом»1.
Другим центром, послужившим своеобразным истоком
для развития структурно-семиотических идей, стало
Общество по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ),
«основанное в 1916 году в Петрограде при участии В. Б. Шкловского,
О. М. Брика, Е. Д. Поливанова, Р. О. Якобсона, Л. П.
Якубинского и других»2. В 1920-е годы деятельность основных членов
этого объединения продолжилась в Отделении словесных
искусств Государственного института истории искусств.
«Москвичи шли к поэтике от лингвистики, петроградцы — от
теории литературы»3. В Петрограде, как и в Москве, шпетовские
шие за приглашение философа, и возражавшие им были согласны в том, что
кружок подошел к пересмотру основ лингвистики и что обращение к
философии и философам нужно для такого пересмотра. Разногласия сводились к
тому, каково должно быть соотношение конкретной лингвистики и
лингвистики теоретической, в какой степени последняя должна ориентироваться
на философское знание. Голосование проводилось по весьма дипломатично
сформулированным вопросам и дало следующие результаты: «Необходимо ли
вхождение философа в редакцию? Не необходимо. Желательно ли вхождение
философа в редакцию? Не желательно. Допустимо ли вхождение философа
в редакцию? Допустимо». Члены кружка, возражавшие против привлечения
философа, предпочитали, «чтобы теоретические проблемы лингвистики
разрешались лингвистами же». См.: Чудакова М. О., Тоддес Е. А. Первый
русский перевод «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра и деятельность
Московского лингвистического кружка (Материалы к изучению бытования
научной книги в 1920-е годы) // Федоровские чтения 1978. М., 1981. С. 240—
241. Цит. по: Левинтон Г. А. Густав Шпет и журнал «Гермес» // Густав Шпет и
его философское наследие: у истоков семиотики и структурализма. М., 2010.
С. 468-469.
1 Письмо Р. О. Якобсона к H. H. Дурново. Конец 1925. Якобсон говорит,
видимо, со слов В. М. Жирмунского и С. Я. Мазе, которых он видел в Германии.
См.: Letters and Other Materials from the Moscow and Prague Linguistic Circles /
J. Toman (ed.). Ann Arbor, 1994. P. 97, прим. 59-60.
2 Левинтон Г. А. ОПОЯЗ // Лингвистический энциклопедический словарь.
[Электронный ресурс]: http://tapemark.narod.ru/les/347b.html
3 Шапир М. И. Вступительная заметка к публикации статьи Р. О. Якобсона
«Московский лингвистический кружок» // Philologica. 1996. Т. 3.
[Электронный ресурс]: http://www.rvb.ru/philologica/03rus/03rusJakobson.htm
256 Раздел III
исследования вызывали непосредственные отклики. В.
Виноградов вспоминал: «В это время в Москве началось
увлечение эстетическими работами профессора Густава Густавовича
Шпета, <...> но у нас наши молодые сотрудники — тогда все мы
были более или менее еще молоды - отнеслись к этому очень
отрицательно (так что вывесили даже плакат в Институте
истории искусств такого каламбурного характера: "Лучше Шпет,
чем никогда"1); и "Эстетические фрагменты" Шпета, и позднее
"Внутренняя форма слова" не могли удовлетворить нас тогда,
во всяком случае в полной мере»2.
После отъезда Якобсона за границу Московский
лингвистический кружок какое-то время продолжал существовать. Как
вспоминает ученица Ш. Балли и Г. Шпета Аполлинария
Константиновна Соловьева: «В Московский Лингвистический
кружок меня пригласила ходить Розалия Иосифовна Шор. Он
помещался в квартире, из которой недавно уехал за границу Рома
Якобсон и в которой осталась его домоуправительница,
которая и предоставила в распоряжение кружка большую комнату.
Выше двумя этажами (Лубянка, д. 3) жил В. В. Маяковский.
Я живо помню председателя кружка — Григория Осиповича
Винокура. В его осанке, манере его выступлений
чувствовалась эрудированность, увлечение лингвистикой и большая
авторитетность. Из других участников кружка помимо Р. И. Шор,
весьма активной участницы кружка, хорошо помню А. И.
Ромма, тогда он занимался переводом "Курса" Фердинанда де
Соссюра, прерванным недовольством Ch. Bally, поскольку
переводчик не согласовал свои намерения с издателем "Курса"3.
1 Виноградов имеет в виду строфу из коллективного «Гимна формалистов»,
сочиненного в Институте истории искусств: «Текут и годы и вода, //А мы
стоим, тверды как стенка, // Ведь лучше Шпет, чем никогда, // И никогда, чем
Назаренко». Подробнее об этом см.: Новиков В. И. «Лучше Шпет, чем
никогда». Тынянов и Шпет // У истоков русской семиотики и структурализма. М,
2010. С. 422-426 - Прим. авт.
2 Виноградов В. В. Из истории изучения поэтики (20-е годы). [Электронный
ресурс]: http://www.opojaz.ru/vinogradov/vinogradov_iz_istorii.html
3 Балли отказал А. Ромму, потому что хотел, чтобы эту книгу переводил его
ученик С. Карцевский. Карцевский намеревался перевести «Курс общей
лингвистики» Соссюра, изданный Балли и Сешэ еще в 1916 году, т. е. сразу
после его выхода. См.: De Serge Karzevsky à Ch. Bally. 27. 05. 1916 // Bibliothèque
publique à Genève (далее BPU). Salle de manuscrits. Ms. fr. 5002, f. 407. Об этом
желании Балли напоминает Карцевскому в письме от 3 февраля 1923 года,
сообщая ему при этом с сожалением, что книга Соссюра переведена в
Советской России А. И. Роммом. Балли также написал Карцевскому, что Ромм
готов отозвать свой перевод и уступить место вашему переводу <Карцевского>,
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 257
Помню еще очень молодого Б. В. Горнунга (1923), активного
участника. Тематика докладов была многообразной,
насколько помню, доклады были посвящены вопросам теории языка,
общей прагматике, а также поэтике. Прения по докладам
всегда были очень оживленными. Приходилось читать в печати и
в кружковом органе, что доклады читали гости из Ленинграда,
видные лингвисты»1.
Споры в лингвистических объединениях того времени
непосредственно развертывались вокруг методологических
подходов к исследованиям лингвистических дисциплин. Одна
группа единомышленников, основателей формального
метода в литературоведении и структурного анализа в лингвистике
(В. Б. Шкловский, О. М. Брик, Р. О. Якобсон, Ю. Н. Тынянов
и др.) отстаивала эмпирический (позитивно-научный) подход
в исследованиях лингвистических и литературоведческих
дисциплин в их многообразии, включая фонетику, опираясь на
анализ конкретных языков, а также на материал поэзии и
прозы. Другая, в центре которой стоял Шпет, отводила ведущую
роль философскому — целостному конкретно-историческому
и методологическому — подходу к языку вообще, видя в
семиотике (Шпет называл ее семасиологией) своеобразную
«логику языка», т. е. основу основ любого лингвистического
знания.
В своей энциклопедической статье о Московском
лингвистическом кружке Р. Якобсон указывает: «Явственный
отпечаток наложили на развитие М. л. к. в заключительную пору его
жизни основы феноменологии языка в увлекательной
трактовке Г. Г. Шпета»2.
§ 2. Феноменология как философский исток структурализма
и семиотики: движения Шпета и Якобсона
Действительно, если и говорить о значении идей Шпета для
развития семиотических и структуралистских исследований, то
при условии, что другой переводчик не является эмигрантом, лишенным
права возвращения в Россию. См.: De Ch. Bally à Serge Karzevsky. 03. 02. 1923 //
BPU. Salle de manuscrits. Ms. fr. 5009, f. 45-46.
1 Соловьева А. К. Воспоминания // ОР РГБ. Ф. 709. К. 1. Ед. хр. 23.
2 Якобсон Р. О. Московский лингвистический кружок / Публ. М. И.
Шапира // Philologica. 1996. Т. 3. [Электронный ресурс]: http://www.rvb.ru/
philologica/03rus/03rus_jakobson.htm
258 Раздел III
прежде всего именно в связи с феноменологической
составляющей его философской концепции. Феноменология и
привлекала к Шпету внимание и, одновременно, многих отталкивала
от него. Она трудно входила в русское философское и
научногуманитарное сознание того времени. В своем письме к
Гуссерлю 1914 года Шпет свидетельствует, что «феноменология
вызывает здесь <в России> большой и серьезный интерес во всех
философских кругах. "Идеи" изучены пока не очень хорошо,
но о феноменологии говорят почти все, имеются даже
специальные общества по изучению феноменологических вопросов.
<...> Оценка феноменологии повсюду высока и благосклонна,
феноменология рассматривается как серьезный и новый шаг в
философии. Возражения моих оппонентов были пространны, и
в своих ответах я был тоже очень обстоятелен. Почти все
замечания были просто недоразумениями и доказывали
недостаточное разумение самих задач феноменологии»1.
Шпет одним из первых в России ознакомился с «Идеями
чистой феноменологии и феноменологической философии»
Гуссерля (он находился в момент выхода этой книги в
Гёттингене и обсуждал ее с Гуссерлем непосредственно) и изложил их
в «Явлении и смысле». Но и до встречи с Гуссерлем Шпет был
знаком с его «Логическими исследованиями». О своем
общении с Гуссерлем Шпет писал Челпанову, который ему отвечал:
«Меня очень радует Ваше сближение с Гуссерлем. Если бы та
точка зрения, которую Вы усвоили, получила выражение в
диссертации, то это было бы превосходно. Точка зрения и новая и
интересная!»2 Забегая вперед, заметим, что
феноменологическая точка зрения во многом ориентировала Шпета при
написании диссертации «История как проблема логики».
Действительно, общение между Шпетом и Гуссерлем
развертывалось в пространстве феноменологических проблем.
Обсуждались проблема феноменологического времени,
проблема «чистого сознания», феноменологической редукции
и др. Находясь в Гёттингене, Шпет ходил к Гуссерлям
почти каждый день, и это непосредственное общение во
многом способствовало осуществлению его замысла «Явления и
1 Письмо Г. Шпета к Э. Гуссерлю от 26 февраля 1914 года // Логос. 1996.
№ 7. С. 125-126.
2 Письмо Г. Шпета Г. Челпанову от 11 августа 1913 года // Густав Шпет:
философ в культуре. Документы и письма / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М.,
2012. С. 74.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 259
смысла», а также позволило внести ясность в те вопросы,
которые возникали у Шпета в процессе слушания лекций и
семинаров Гуссерля.
В феноменологии, утверждающей предметность сознания,
Шпет увидел возможность кардинального поворота в
определении предмета, задач и метода философии. Феноменология,
писал он, содержит в себе попытку построения философии как
строгой, «универсальной и абсолютно обосновывающей»
науки. В процессе работы над «Явлением и смыслом» цель
Шпета существенно углубляется и расширяется от простого
изложения, пересказа «Идей...» Гуссерля, до ее проблематизации,
переосмысления, и, как следствие, интерпретации
феноменологического учения. По Гуссерлю, феноменологическая
редукция, являясь главным методом феноменологии, опирается
на два рода интуиции: чувственная интуиция опыта изучает
действительный естественный мир и интуиция идеальная,
интуиция сущности, изучает мир идеальный. Такое различение
интуиции проистекает из классификации наук, предложенной
Гуссерлем, смысл которой состоит в делении всех наук на
науки о фактах и науки о сущностях. Шпет задавался вопросом:
«Является ли это разделение исчерпывающим, достаточно ли
признать эти два рода интуиции, чтобы показать возможность
всякого познания, другими словами, всякое ли бытие дается
нам только в интуиции этих двух родов?»1. Он предположил,
что между чувственной интуицией и идеальной «...есть еще
нечто третье...»2. Этим «третьим», по мысли Шпета, является
третий род интуиции, интуиция интеллигибельная, первичная
по отношению к обеим вышеуказанным и с помощью которой
постигаются феномены социального бытия. Шпет поставил
вопрос о третьем источнике познания, наряду с выделенными
Гуссерлем двумя родами интуиции (опытной и идеальной). Он
полагает, что существует только один род интуиции,
соответствующий познанию феноменов социального мира, который
всегда представительствует как за чувственную интуицию, так
и за идеальную. Таковым для Шпета выступает понятие, в
котором всегда так или иначе выражаются чувственные и
идеальные представления и которое является феноменом
социальным. Не случайно уже после публикации «Явления и смысла»
1 Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 121.
2
Там же. С. 122.
260 Раздел III
он дописал на полях своего экземпляра этой книги
следующее размышление: «Философия изучает действительность не
как данность и поэтому прежде всего обязана спросить: как
дана данная действительность? В ответ на это философия
изучает действительность не в данности, а через данность.
Данность действительности есть данность опыта, переживания,
сознания — через них изучает философия действительность.
(В этом ее конкретность и полнота!) Прямой объект
философии есть, поэтому сознание, в котором и через которое все
дано. (Это "через" определяет философию как рефлексию, в
отличие от непосредственности [нрзб.] опыта; для философии
эта непосредственность есть опосредствование; ее
непосредственность — в преодолении этого опосредствования.)
Другими словами, опыт и наука — о действительности,
философия — о понятии действительности! (Действительности через
понятие.)»1.
Иначе говоря, Шпет повернул в иную плоскость вопрос об
источнике образования смыслов - с трансцендентального
субъекта на понятия, а, следовательно, — на логику, язык,
слово. Именно здесь он будет искать источник синтезов,
определяющих смысловую целостность предметов познания, именно
это позволило ему построить методологию исследования
социального бытия.
Феноменология была в центре внимания и Романа
Якобсона. Как пишет Э. Холенштайн: «Впервые обратил внимание
Якобсона на Гуссерля именно Г. И. Челпанов, у которого
Якобсон посещал два семинария в 1915/16 гг.»2 После знакомства со
Шпетом в 1917 году феноменологический контекст
Якобсона расширяется. В круг его интересов с подачи Шпета входит
А. Марти, концепцию которого Шпет потом критически
изложит в «Языке и смысле». Конечно, общение Якобсона и
Гуссерля в 1930-е годы продолжалось, тогда как Шпет уже находился
в ссылке (последнее письмо от Гуссерля он получил в 1921
году3), но мы не будем здесь на этом останавливаться, поскольку
1 Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 45.
2 Холенштайн Э. Якобсон и Гуссерль //Логос. 1996. № 7. С. 8.
3 Гуссерль звал Шпета в Германию. «Настало время, — писал он, — Вам снова
соприкоснуться с продолжением нашей работы, с нашими новыми трудами,
новыми достижениями, чтобы то, о чем думают здесь, было бы доступно и
Вашим ученикам. А нам тоже хотелось бы услышать о том, какие идейные
содержания в философской России оказались мощными, и хотелось бы это
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 261
для сравнения движения Якобсона и Шпета в
феноменологическом поле нам важен их общий исток и точки расхождения,
т. е. то время, когда они оба как исследователи развивались «на
равных».
Если Шпет в своем критическом постижении
феноменологии двигался от «Идей...» Гуссерля, то Якобсон — от
«Логических исследований»: «Якобсоновскую рецепцию "Логических
исследований" можно назвать оригинальной, — полагает
Холенштайн, — а в некотором отношении даже единственной в
своем роде. <...> Якобсон же сильнее всего был захвачен,
наряду с 1-м "Исследованием" ("Выражение и значение"),
прежде всего 3-м ("К учению о целом и части") и 4-м ("Различие
между самостоятельным и несамостоятельным значениями и
идея чистой грамматики"), в котором обнаруженные ранее
отношения были распространены на языковые данности»1.
Однако это только внешнее различие. Важнее здесь другое. Шпет,
как уже говорилось, обогащает гуссерлевский опыт «третьим
источником познания» (интеллигибельной интуицией) и
открывает путь исследования феноменов социального бытия,
выраженных в слове-понятии. А Якобсон хотя и берет у Гуссерля
основные принципы: антипсихологизм, телеологизм, но не
преображает их философский смысл. Он остается в рамках
эмпирической интуиции и понятие «структуры» он рассматривает
изнутри объекта познания: для него язык остается
эмпирическим феноменом. Как справедливо замечает М. Денн, ссылаясь
при этом на П. Серио: «"Для пражан структура есть исходная
данность, свойство реального объекта". "Для Якобсона и
Трубецкого язык есть онтологически структурированный объект".
Конечно, как мы знаем, Якобсон принес с собой нечто из
наследия Густава Шпета, но <...> это наследие уже
трансформировалось: структура находится в объекте, уже
конституированном, но не в акте продуцирования смысла»2. Это кардинальное
отличие Шпета и Якобсона в их движении от общего
феноменологического истока.
услышать из призванных уст». Письмо Э. Гуссерля Г. Шпету от 11 апреля
1921 года / Публикация Т. Г. Щедриной, перевод В. Янцена // Вопросы
лософии. 2013. № 4. С. 119.
1 Холенштайн Э. Якобсон и Гуссерль //Логос. 1996. № 7. С. 9.
2 Денн М. Структура слова и выражения в творчестве Густава Шпета и ее
значение для истории структурализма // Густав Шпет и его философское
наследие: у истоков семиотики и структурализма. М., 2010. С. 146.
262 Раздел III
§ 3. Выход к структуре
Несмотря на, казалось бы, непреодолимые идейные
разногласия, Якобсон и его единомышленники в своих
структуралистских изысканиях во многом оказывались созвучны
философско-методологическому подходу Шпета к языку.
Реальность интеллектуального общения, русская
коммуникативная «сфера разговора», внутри которой какое-то время
находились и Якобсон и Шпет, непосредственно оказала
влияние на формирование их идей. Московский
лингвистический кружок был именно такой «сферой разговора»,
которая в определенном смысле оказывала влияние на всех его
участников. Поэтому мы не можем говорить о прямых
влияниях Шпета на Якобсона, или о заимствованиях Якобсона
у Шпета. Тем не менее мы должны учитывать свидетельство
Якобсона о том, что феноменология языка, которую Шпет
развивал в своих выступлениях на кружке, «вызвала
непримиримые споры о месте и границах эмпиризма и о роли
семантики в науке о языке, о проблеме "внутренней формы",
поставленной Гумбольдтом, и о критериях разграничения
поэтической и обиходной речи»1. Именно в этот период
жарких дискуссий и был написан текст книги «Язык и смысл»,
отдельные части которой сохранились в семейном архиве
Шпета. Идейное содержание этой книги непосредственно
связано с проблематикой написанных Шпетом в 1922—1923 гг. II и
III выпусков «Эстетических фрагментов». Но отличается от
последних более глубокой философско-методологической
тематизацией проблем языка, которые в «Эстетических
фрагментах» были лишь контурно намечены. «Моя задача, —
писал Шпет во II выпуске, — только самая общая, минимальная
схема»2. Иначе говоря, тщательный теоретический анализ
внешних и внутренних языковых форм, особая и специальная
работа над словесной структурой, как ее обозначил Шпет в
«Эстетических фрагментах», была осуществлена в
неопубликованной книге.
1 Якобсон Р. О. Московский лингвистический кружок / Публ. М. И.
Шапира // Philologica. 1996. Т. 3. [Электронный ресурс]: http://www.rvb.ru/
philologica/03rus/03rusjakobson.htm
2 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид
знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 218.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 263
В то же время в «Эстетических фрагментах» Шпет
сформулировал, пожалуй, самое главное: понятие «структура». А также
раскрыл значение знаково-символического подхода для
гуманитарных наук. Приведем это определение полностью.
«Структура есть конкретное строение, отдельные части
которого могут меняться в "размере" и даже качестве, но ни одна
часть из целого in potentia не может быть устранена без
разрушения целого. In actu некоторые "члены" могут оказаться
недоразвившимися, в состоянии эмбриональном, или
дегенерировавшими, атрофированными. Схема структуры от этого
не страдает. Структура должна быть отличаема от "сложного",
как конкретно разделимого, так и разложимого на абстрактные
элементы. Структура отличается и от агрегата, сложная масса
которого допускает уничтожение и исчезновение из нее каких
угодно составных частей без изменения качественной
сущности целого. Структура может быть лишь расчленяема на новые
замкнутые в себе структуры, обратное сложение которых
восстанавливает первоначальную структуру.
Духовные и культурные образования имеют существенно
структурный характер, так что можно сказать, что сам "дух" или
культура — структурны. В общественном мире структурность —
внешне привходящее оформление. Само вещество
принципиально лишено структуры, хотя бы состояло из слагаемых,
структурно оформленных. Масло, хлеб, воск, песок, свинец, золото,
вода, воздух. Дух принципиально не-веществен, следовательно,
не допускает и соответствующих аналогий. Воздух приобретает
формы лишь в "движении" ("дух"), вода — в течении, в сосудах
и т. д. Структурны в вещественном мире лишь оформленные
образования — космические, пластические, органические,
солнечная система, минеральный кристалл, организм. Организм
есть система структур: костяк, мышечная система, нервная,
кровеносная, лимфатическая и т. п. Каждая структура в системе
сохраняет свою конкретность в себе. Каждая часть структуры —
конкретна и остается также структурою, пока не рассыпется и
не расплавится в вещество, которое, хотя также конкретно, но
уже не структурно.
В структурной данности все моменты, все члены структуры
всегда даны хотя бы in potentia. Рассмотрение не только
структуры в целом, но и в отдельных членах требует, чтобы никогда
не упускались из виду ни актуально данные, ни потенциальные
264 Раздел III
моменты структуры. Всякая структурная форма
рассматривается актуально и потенциально полною. Актуальная полнота не
всегда дана explicife. Все имплицитные формы принципиально
допускают экспликацию»1.
Для нас важно отметить здесь следующее:
1) структура динамична;
2) структура целостна в своей связности частей;
3) структура принципиально оформлена;
4) структура конкретна.
Именно эта конкретность открывает ее для изменений и
позволяет нам сегодня говорить о том, что шпетовская
«структура» коррелятивна современному понятию «открытая
структура». Именно эта идея была воспринята даже теми учеными,
которые в целом относились к разработкам Шпета негативно.
Здесь мы вновь обратимся к воспоминаниям Виноградова,
который выше вспоминал о том, что идеи Шпета не приняли
петроградские литературоведы. Тем не менее он продолжает:
«...но вот одна идея незаметно и без ссылок на сочинения
Густава Густавовича все-таки обнаружилась и в наших работах.
Это вот какая идея. Шпет вообще различал понятия системы и
структуры. Помню один разговор с ним личный, он говорил о
том, что такое вообще система. Это что-то данное в одной
плоскости. Система — это рядоположение элементов, находящихся
в каких-то соотношениях, а структура представляет собой
внутреннее объединение в целое разных оболочек, которые,
облекая одна другую, дают возможность проникнуть вглубь, в
сущность, и вместе с тем составляют внутреннее единство. Понятие
структуры казалось более подходящим при изучении
композиции художественного произведения, потому что только
таким образом и можно открыть какую-то внутреннюю сущность
целого»2. Такое понимание структуры Шпет в дальнейшем
распространяет на все гуманитарные феномены, в том числе и на
феномен культурно-исторического сознания.
Не менее важно для современных интерпретаций
шпетовской концепции структуры осознание того, что она
вырабатывалась применительно не просто к знаково-символической
ре1 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид
знания. Избранные труды по философии культуры / Отв. ред.-сост. Т. Г.
Щедрина. М, 2007. С. 209.
2 Виноградов В. В. Из истории изучения поэтики (20-е годы). [Электронный
ресурс]: http://www.opojaz.ru/vinogradov/vinogradov_iz_istorii.html
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 265
альности как таковой, но к слову как архетипу культуры. Слово
есть знак сообщения, но не каждый знак является словом.
Шпет выделяет восемь функций словесных выражений
(слов-понятий) как знаков сообщения (или другими словами,
восемь уровней понимания — лучше даже сказать — слова):
1. Слово как голос — непосредственное восприятие
услышанного, выделение его среди других природных звуков.
2. Слово как голос данного человека — отождествление
голоса с конкретным человеком.
3. Слово как знак особого психофизического состояния
собеседника.
Все это — естественные функции слова, в
противоположность социальным, культурным особенностям. Собеседник
воспринимается как часть окружающего мира, и хотя он
выделяется, однако сказанное им слово на данных этапах ничего «не
сообщает»1 собеседнику. На следующих этапах слово
воспринимается человеком уже как часть не только природного мира,
но и культурно-социального:
4. Слово как признак наличности культуры и
принадлежности собеседника к определенной культурной группе,
объединенной единством языка.
5. Узнавание и распознавание — узнаем фонетические
лексические и семасиологические особенности языка.
6. Понимание слышимого слова, улавливание смысла,
различение функции (сообщение мы слышим, приказ или вопрос),
вставляя, таким образом, слово в смысловой и логический,
номинативный контекст.
7. Воспринимаем и различаем условно установленные на
данной ступени морфемы, синтаксис и этимологию —
производится аналитический разбор слова.
8. На последнем этапе происходит различение
эмоционального тона собеседника — мы воспринимаем интонационные
конструкции речи.
В качестве особого случая можно выделить ситуацию,
когда собеседник пытается в разговоре подавить свои чувства,
обмануть или играть: Шпет называет это — экспрессивным
символизмом, говоря, что «он очень важен <...> при анализе
эстетического сознания, но не составляет принципиально нового
1 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид
знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 211.
266 Раздел III
момента в структуре слова»1. В целом понимание можно
определить как синтез всех вышеизложенных моментов восприятия
словесного выражения, которые различил и проанализировал
Шпет.
Заметим, что такое понимание структуры слова и функций
его восприятия было развито Ш петом в процессе развития
феноменологических идей. В процессе написания «Явления
и смысла» у Шпета возникает сомнение в абсолютной
ясности методов и приемов феноменологического анализа. У него
возникают вопросы, прежде всего, в отношении проблем,
связанных с постижением смысла и структуры понимающей
деятельности, которая не зависела бы от психологических
особенностей субъекта. Другими словами, в работе «Явление и
смысл» он подходил к анализу феноменологии Гуссерля,
исходя из принципа историзма (Гегель). Именно такой способ
исторического постижения феноменологических проблем
дал возможность Шпету поставить вопросы к самой
феноменологии и выявить ее проблемные области. Шпет писал: «Но
главные ее трудности (феноменологии) связаны все же с
главной темой — чистым сознанием: надо не только сделать его
объектом феноменологического исследования, но и показать,
что оно не представляет собою той пустой единицы, которая
остается вне скобок действительности и идеальности, как
лишенный содержания индекс. Таким образом, точно
определена первая проблема феноменологии: в чем состоит бытие
чистого сознания, как оно изучается как такое и каково его
содержание?»2
Шпет заметил, что «сознание», характеризуемое Гуссерлем
как «поток переживаний», тем не менее предстает перед нами
как некая статичная структура, как субъективный коррелят
разнообразных психических актов, как данность.
Структурностатический подход к «полю интенциональных предметностей»
не является, по мнению Шпета, исчерпывающим, поскольку
всегда существует возможность задаться вопросом о
диалектическом подходе к исследованию «сознания», сущность
которого выражена в следующем высказывании Гегеля: «Ибо сознание
есть, с одной стороны, осознание предмета, а с другой стороны,
осознание самого себя: сознание того, что для него есть
истин1 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. С. 213.
2 Шпет Г. Г. Явление и смысл. М., 1914. С. 55.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 267
ное, и сознание своего знания об этом... На этом различении,
которое имеется налицо, основывается проверка. Если в этом
сравнении одно не соответствует другому, то, по-видимому,
сознание должно изменить свое знание, дабы оно согласовалось
с предметом; но с изменением знания для него фактически
изменяется и сам предмет, так как наличное знание по существу
было знанием о предмете; вместе с знанием и предмет
становится иным, ибо он по существу принадлежал этому знанию...
Это диалектическое движение, совершаемое сознанием в самом
себе как в отношении своего знания, так и в отношении своего
предмета — поскольку для него возникает из этого новый
истинный предмет, есть, собственно говоря, то, что называется
опытом»1. Думаю, что Шпет искал выход из статичности
феноменологического исследования социальных феноменов в
диалектическом подходе, т. е. его методологический ход можно
обозначить так: от Гуссерля к Гегелю2.
Что произойдет, если попытаться исследовать
феноменологические структуры сознания сквозь призму диалектической
методологии? Как повернется проблема, и какова может быть
дальнейшая направленность методологических поисков? Шпет
анализирует диалектические принципы Гегеля с позиции
феноменологического подхода. Он формулирует отличие
феноменологического исследования от диалектического так: «для
Гегеля, (т. е. для диалектического подхода. — Авт.) мысль и предмет
мысли, как мышление — одно; они разделены в абстракции и в
относительности, но они тожественны абсолютно; только в
отрицании (se. в отрицании реальности внешнего мира) Ideelle3
отделяется и противопоставляется реальному»4. При
феноменологическом подходе: «Мысль и предмет мысли ("нечто")
соотносительны, и в этом смысле — одно; отношение, термины
коего они составляют — мыслимое содержание (смысл):
предмет — ноэма, интенциональный предмет, а мысль — ноэза, сама
интенция; предмет наполняется мыслью и через это становится
1 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. Феноменология духа. М., 1959. С. 48.
2 Размышляя над движением шпетовской мысли, к аналогичному выводу
приходит В. А. Лекторский. См.: Лекторский В. А. Немецкая философия и
российская гуманитарная мысль: С. Л. Рубинштейн и Г. Г. Шпет // Вопросы
философии. 2001. № 10. С. 159.
3 Ideelle — идеальное {нем.), термин Гегеля.
4 Шпет Г. Г. Опыт популяризации философии Гегеля // Шпет Г. Г.
Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры. М., 2010. С. 244.
268 Раздел III
мыслимым»1. В чем плодотворность «диалектической
прививки» к феноменологии, сделанной Шпетом? Думаем, что такой
подход позволил Шпету выйти за рамки феноменологии, и, в
процессе критического переосмысления диалектики,
обосновать плодотворные методологические возможности
герменевтики (как исторической философии) при исследовании
социальных феноменов.
Но вернемся к Якобсону и рассмотрим его понимание
структуры. Как он сам вспоминал: «Именно в 1915 г. группа
студентов, которая вскоре образовала Московский
лингвистический кружок, приняла решение изучать
лингвистическую и поэтическую структуру русского фольклора, и термин
"структура" уже приобрел для нас свои соотносительные
коннотации, хотя во время войны Курс Соссюра был неизвестен
в Москве»2. Насколько нам известно, сам Якобсон не давал
такого развернутого, как у Шпета, определения структуры,
тем не менее по его употреблениям этого термина можно
реконструировать, что он подразумевал, говоря о ней в разных
исследованиях. Прежде всего мы согласимся с Н. С.
Автономовой в том, что «Якобсон трактует структурное как
"номотетическое", т. е. закономерное, упорядоченное, проверяемое,
имеющее свойство всеобщности»3, а также в том, что он
понимает язык как структуру, т. е. «связную систему приемов на
уровне всех единиц»4. Структура целостна, она состоит из
отдельных компонентов, которые взаимодействуют (находятся
в отношениях) друг с другом. Структура подобна организму и
имеет свои правила саморегулирования. Структура динамична
(находится в постоянном движении) и подвержена
внутренним трансформациям.
Приведем еще одно свидетельство Якобсона, которое важно
для нас: «Исследование языковой структуры, — пишет он, —
является основной задачей всех направлений современной
лингвистики, а кардинальный принцип такого структурного (или,
по другой терминологии, номотетического) подхода к языку,
разделяемый всеми направлениями лингвистики, можно
опре1 Шпет Г. Г. Опыт популяризации философии Гегеля // Шпет Г. Г.
Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры. М., 2010. С. 244.
2 Якобсон Р. О. Структура языка // Якобсон Р. О. Язык и бессознательное.
М, 1996. С. 181.
3 Автономова Н. С. Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман —
Гаспаров. М., 2009. С. 33.
4 Там же.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 269
делить как сочетание инвариантности и относительности»1.
Между тем, хотя Якобсон пытается объединить инвариантность
и относительность, полагая, что «языковые изменения
относятся к динамической синхронии»2, это не снимает упреков
критиков структурализма. И прежде всего потому, что с помощью
концепции «динамической синхронии» мы сможем объяснить
только трансформации, т. е. упорядоченные переходы одной
подструктуры в другую на основе правил порождения. Понятие
трансформации структуры, структурных изменений потому и
позволяло формализацию языковой системы, что не
включало в себя важнейшую характеристику истории: открытость и
принципиальную незавершенность. Признание языковых
изменений и динамизма структуры внутри формально понятой
языковой системы проблему отнюдь не решало. Однако
именно формалистические принципы, положенные в основу
понимания языка, позволили Якобсону разработать оригинальную
схему функционирования языковой структуры.
Мы имеем в виду известную схему акта коммуникаций. Она
состоит из шести элементов: отправителя, сообщения,
получателя, контекста, контакта, кода. Каждому из элементов
соответствует определенная функция языка. Говоря точнее,
определенная функция языка ориентирована (направлена) на один из
элементов акта коммуникации: экспрессивная ориентирована
на отправителя, конативная — на получателя, познавательная
(референтивная) - на контекст, металингвистическая — на
код, фатическая - на контакт. Заметим, что Якобсон выделяет
функции языка, взятого самого по себе.
§ 4. Шпет - Якобсон - Гуссерль: шаги к интерсубъективности
Опубликовать рукопись «Язык и смысл» Шпет так и не
сумел, хотя идеи, содержащиеся в ней, могли бы существенно
повлиять на дальнейшее развитие русской семиотики и
структурализма, но история распорядилась иначе. Якобсон и его
единомышленники, вынужденные эмигрировать, основали
1 Якобсон Р. О. Лингвистика в ее отношении к другим наукам //
Якобсон Р. О. Избранные работы. М., 1986. С. 405.
2 Якобсон Р. О. Из Бесед с Поморской // Якобсон Р. О. Язык и
бессознательное. М., 1996. С. 224.
270 Раздел III
Пражский лингвистический кружок и выбрали свой путь
структурализма. Шпет и его последователи, оставшиеся в России,
оказались в своеобразном вакууме и, именно по этой причине,
их идеи исторического и герменевтического исследования
словесных внутренних форм знаков не были услышаны, а потом и
вообще забыты.
Тем не менее общение Шпета и Якобсона какое-то
время сохранялось и после отъезда последнего в Прагу. В
семейном архиве Густава Шпета сохранилось несколько писем
Р. О. Якобсона. Они были написаны им в процессе работы над
журналом «Славите Рундшау». Внутренний тон писем
позволяет уточнить и ту особую духовную атмосферу формирования
мысли Шпета и Якобсона. Бесспорно, «Славише Рундшау»
задумывался Якобсоном как научно-исследовательский журнал,
но публиковавшиеся в нем статьи носили не только чисто
научный характер, они предназначались для широкой аудитории,
поэтому требования к изложению были весьма высоки и по
форме и по содержанию. Органическое сплетение «научного» и
«вненаучного» разговора, характерное для московского
интеллектуального сообщества того времени, повлияло на тон писем
Якобсона, где личное и предметное обращение интимно
сливаются, образуя целостный комплекс эмоционально
окрашенного смыслового сообщения.
В письмах Якобсон предлагал Шпету новые темы статей для
своего журнала, делился своими научными идеями, что
позволяет уточнить траекторию его интеллектуального движения от
отдельных лингвистических исследований к конструированию
целостной фонологической системы. Якобсон затрагивает в
письмах ряд тем, которые были наиболее идейно близки
Шпету. Наиболее важным для нас является следующее письмо:
«Прага, 24. XI. 1929
Глубокоуважаемый Густав Густавович.
Уже Ю. М. Соколов1, когда был в Праге, говорил мне, что
моя и Богатырева точка зрения на фольклор очень близка и
Вашей. Все же мы были очень рады, получив Вашу открытку,
свидетельствующую, что наши фольклористические взгляды схожи.
Недавно вышла моя книга об эволюции русской
фонологиче1 Соколов Юрий Матвеевич — известный фольклорист, был в то время
редактором журнала «Художественный фольклор».
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 271
ской системы в сопоставлении с эволюцией прочих славянских
языков. В этой книге я пытаюсь поставить вопрос о
фонологической структуре языка, о ее анализе, о ее закономерности и о
ее закономерной эволюции. Главы 3—9 очень специальны, но
главы 1, а особенно 2 и 10, имеют характер принципиальный,
и мне было бы чрезвычайно интересно узнать, близки ли наши
взгляды и на вопросы языка. В Ваших работах по языку я всегда
находил много такого, что мне было близко и существенно, но в
этой моей книге круг проблем несколько иной, и я жду с
великим интересом Ваших критических замечаний.
Мне все яснее, что анализ языковой системы можно
радикально эмансипировать от психологии, исходя из тех
продуктивных предпосылок, которые даны в Вашем Введении в
этническую психологию. В примечаниях к книге я касаюсь этой
темы, но теперь я вижу, что можно было бы в этом отношении
проявить в самой работе больший радикализм»1.
Прежде всего заметим, что в письме речь идет о статье
Р. Якобсона и П. Богатырева о русском фольклоре и обратимся
к свидетельствам Холенштайна о том, как развивались
отношения Якобсона и Гуссерля в 1930-е гг.
В 1931 году Гуссерль выпускает «Картезианские
размышления», на которые обратил внимание Якобсона другой
ученик Гуссерля А. Койре. Холенштайн сообщает о том, что
«Якобсона особенно заинтересовали заключительные
параграфы об интенциональном анализе во второй главе
"Медитаций", имеющей знаменательный заголовок: "Область
трансцендентального опыта, открытая в отношении своих
универсальных структур", и пятая глава, посвященная
проблеме интерсубъективности»2. В этой главе Гуссерль
формулирует положения, весьма созвучные с тематикой, которой
занимался Шпет уже в 1920-е гг. «1. Каждая данность указывает
на горизонт связанных с ней данностей, а также на возможные
модификации самой себя. 2. Все данности — вещественные
культурные объекты (в том числе языковые сущности
различных уровней), а также соответствующие им состояния
сознания (восприятие, память и т. д.) — не обладают бесконечной
1 Письмо Р. Якобсона Г. Шпету от 24 ноября 1928 года // Густав Шпет: жизнь
в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 505—506.
2 Холенштайн Э. Якобсон и Гуссерль // Логос. 1996. № 7. С. 11.
272 Раздел III
изменчивостью, несмотря на свойственную им текучесть: "они
постоянно остаются в пределах структурного типа"»1. Сравним
хотя бы его положения со шпетовской мыслью о том, что
«слово есть архетип культуры», который сохраняет свой динамизм
даже в пределах типа.
В ноябре 1935 года Гуссерль прочел в Пражском
лингвистическом кружке доклад на тему: «Феноменология языка»,
после которого состоялось обсуждение, где главной темой
стала интерсубъективность языковых феноменов. Здесь для
нас важно следующее рассуждение Холенштайна: «Якобсон
занялся проблемой интерсубъективности в языке за
несколько лет до "Картезианских размышлений" и доклада в
Лингвистическом кружке. Таким образом, Гуссерль в этом
отношении не оказал на него непосредственного влияния, речь
может идти лишь о конвергенции взглядов двух мыслителей.
Более того, в данном случае не исключено даже определенное
влияние Якобсона на Гуссерля. Во время пребывания
Гуссерля в Праге Якобсон подарил ему оттиск статьи "Фольклор как
особая форма творчества", написанной им в 1929 г. вместе с
П. Богатыревым. Статья посвящена специфической
интерсубъективной организации фольклорных объектов. Ее тема
живо напоминает всякому хорошо знакомому с наследием
Гуссерля его статью "О происхождении геометрии" (1939),
написанную через год после его визита в Прагу. В некоторых
высказываниях, содержавшихся в этом сочинении, можно
увидеть воздействие статьи о фольклоре или отзвуки
дискуссии в пражском кружке»2.
Теперь вернемся к письму Якобсона Шпету от 24 ноября
1929 года, где он сообщает о близости своей позиции и
Богатырева, выраженной в их совместной статье «Фольклор как
особая форма творчества» со шпетовской точкой зрения на
фольклор. Далее Якобсон пишет ключевую фразу: «В Ваших работах
по языку я всегда находил много такого, что мне было близко и
существенно», а затем он раскрывает свою интенцию: «Мне все
яснее, что анализ языковой системы можно радикально
эмансипировать от психологии, исходя из тех продуктивных
предпосылок, которые даны в Вашем Введении в этническую
пси1 Холенштайн Э. Якобсон и Гуссерль // Логос. 1996. № 7. С. 11.
2 Там же. С. 12.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 273
хологию». В книге «Введение в этническую психологию» Шпет
развивает свою концепцию слова как интерсубъективного
феномена, имеющего знаково-символическую природу
применительно к этнопсихологии. Таким образом, мы можем
констатировать если не влияние шпетовской «философии слова» на
развитие структуралистских идей Якобсона, то хотя бы их
коррелятивность. Заметим, что Холенштайн здесь прямо говорит о
значимости «антипсихологических» идей Шпета для Якобсона:
«Для Якобсона с его проблематикой интерсубъективности было
немаловажным то обстоятельство, что уже Шпет
интерпретировал антипсихологическую направленность "Логических
исследований" как наступление на индивидуально-психологическую
концепцию духовных явлений»1.
§ 5. Культурно-историческое сознание
как семиотическая проблема
Итак, для Якобсона важны продуктивные предпосылки к
анализу языковой системы, сформулированные Шпетом во
«Введении в этническую психологию». Якобсон видел их в
шпетовском анализе языкового сознания как общного, т. е.
возникающего «через» общение, выраженного в словесной форме
в отношениях людей к продуктам культуры. Действительно,
Шпет как философ-методолог прежде всего тематизирует не
столько проблемы становления и развития материальной и
духовной культуры как таковой, сколько тенденции, связанные с
изменением способов, методов изучения социокультурных
феноменов, т. е. наибольшую значимость в его концепции
приобретало исследование знаково-символической (читай, словесно
выраженной) культурной «предметности» сквозь призму
сознания ученого, осуществляющего методологическую рефлексию
на процесс собственного осмысления феноменов
культурноисторического бытия.
Шпет полагал, что историческое сознание как сознание
общное, возникающее через общение, выражается в
отношениях людей к продуктам культуры. Он называл такие отношения
коллективными переживаниями, не сводя их только к эмоциям
или только к познавательным способностям личности.
СоТам же.
274 Раздел III
держание коллективных переживаний, или «дух» в понимании
Шпета, довольно близко к тому, что в современной
гуманитаристике называют ментальностью, когда понимают ее, вслед
за французскими историками школы «Анналов» — как «общий
тип поведения, свойственный и индивиду, и представителям
определенной социальной группы, в котором выражено их
понимание мира в целом и их собственного места в нем»1.
С другой стороны, основоположник школы «Анналов» —
Л. Февр проводил строгое различие между ментальностью и
ментальным инструментарием, под которым понимал
«совокупность категорий восприятия, концептуализации, выражения
и действия, которые структурируют опыт — как
индивидуальный, так и коллективный»2. Шпет, в свою очередь, осознавал,
что культура по своей сути презентативна, т. е. признавал
необходимость личностного, субъективного начала в культуре, без
которого невозможно представить себе уникальных
произведений, шедевров вообще. Иначе говоря, Шпета, как и его
современников, так и исследователей культурно-исторической
школы сегодня, волновала проблема соотношения
единичного («Я») и общного («МЫ») в культуре и истории, проблема
знаково-символической природы «культурно-исторического
сознания». Историческое единство человека с народом, как
полагал Шпет, определяется обоюдным актом признания.
Личность идентифицирует себя с той или иной общностью, и
общность проявляет свое отношение (коллективное переживание)
к конкретной личности.
Ход мысли Шпета можно интерпретировать следующим
образом. Допустим, что одни и те же общезначимые смыслы
культуры создают многообразную картину регионов бытия.
Своеобразным основанием этих регионов является способ их
бытия и переживания, или, как говорил Шпет, «дух» эпохи.
Заметим, что исходным пунктом его логико-онтологического
анализа является «дух» не в его всеобщности, а в
сравнительно ограниченной сфере его приложения к «социальному»,
«историческому» и «этническому». В зависимости от
собственной историчности или личного культурно-исторического
опыта каждый человек видит мир в многообразии его форм
1 Ле Гофф Ж. Можно ли считать представления и культуру надстройкой //
Споры о главном. Дискуссия о настоящем и будущем исторической науки
вокруг французской школы «Анналов». М., 1993. С. 9.
2 Там же. С. 53.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 275
по-своему, индивидуально. Вместе с тем многообразие форм
должно вылиться в нечто общее, суммирующее и
выражающее реальную логику происходящего. Шпет полагал, что как
бы индивидуально ни были люди различны, все-таки есть
нечто общее, типическое в их переживаниях. Именно поэтому
возможно диалектически соединить понятие «дух» и
«коллективность», ибо они выражают стиль, тип поведения.
Динамический коллектив «живет "своей" жизнью, но всякая попытка
фиксировать хотя бы один момент в нем необходимо требует
соотнесения этого момента к вещам и отношениям,
находящимся вне этого коллектива. Ни один момент не "действует"
здесь в собственном смысле, а только "участвует" в целом,
будучи направлен на нечто "вне" себя и целого»1. Шпет
называл такой коллектив коллективом типа. И если провести
соотношение между понятиями «дух» и «колективность», то
общность их будет вытекать из того, что коллективность как
единство переживаний — есть коллективность бесконечного
числа элементов, другими словами, коллективность духа как
типа. «Дух — коллективность» непосредственно связаны друг с
другом, создают своего рода дуальную модель, которая
является необходимой предпосылкой для функционирования и
развития «культурно-философского» сознания в истории. Шпет
отмечал, что нигде так ярко не сказывается психология народа,
как в его отношении к им же «созданным» ценностям. «Ничто,
никакое усовершенствование, никакая духовная работа
немыслима вне этого духа»2. Именно эти положения Шпета были
близки Якобсону и Богатыреву.
Иначе говоря, Шпет искал философские основания
многообразия культурно-исторической действительности, пытаясь
прояснить конкретные ее феномены. Созданная им
междисциплинарная герменевтическая методология или, как он сам
обозначает, «герменевтическая диалектика», базировалась на
динамической концепции слова как ratio cognoscendi,
включающей как интуитивно-творческий момент, так и механизмы
его переработки в дискурсивные формы, т. е. в попытке
соотнесения рассудочных параметров научной мысли с
творчески1 Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию // Шпет Г. Г. Philosophia
Natalis. Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 475.
2 Письмо Г. Г. Шпета к Н. К. Гучковой от 5 июля (22 июня) 1912 года //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 97.
276 Раздел III
разумными измерениями человеческого духа. Созданная
Шпетом методология могла бы и сегодня реально отвечать на
запросы гуманитарных наук, быть востребованной при
анализе социальных (этнических, политических, религиозных и др.)
организаций, групп в их связях и отношениях.
§ 6. Шпет и Якобсон: интеллектуальные созвучия
и идейные разногласия
Возникает вопрос: почему Якобсон, во многом соглашаясь
с теоретическими положениями шпетовской концепции,
говорит в указанном письме о возможном дальнейшем повороте в
исследовании языка, предлагая радикально эмансипировать от
психологии анализ языковой системы?
Здесь мы фиксируем и интеллектуальные созвучия, и
идейные разногласия философского (Шпет) и научного (с
элементом позитивизма, Якобсон) подходов к языку как
гуманитарному феномену.
Мы полагаем, что своеобразной точкой интеллектуального
созвучия Шпета и Якобсона является, прежде всего, их
концептуальная, реалистическая по своей сути, общность в понимании
предмета познания. В исследованиях Якобсона, как и Шпета,
предмет реально предшествует знанию о нем, и исследователь
может лишь постоянно приближаться к нему, подтверждая
существование этой гармоничной целостности концептуальными
поисками соответствий и построением моделей. Только
предметы Якобсона и Шпета были разными: для Якобсона это
эмпирический язык, взятый сам по себе, для Шпета это язык как
философский феномен (т. е. слово-понятие, данное сквозь
призму его осознания). Кроме того, как мы показали, существовал
и еще один тональный элемент их идейного созвучия —
феноменология Гуссерля, а точнее, его «Логические исследования»,
особенно второй том, в котором Гуссерль отстаивает
антипсихологический подход к языковым явлениям.
Феноменологические «штудии» (анализ концепции Гуссерля в «Явлении и
смысле») приводят Шпета к тематизации социально-исторической
природы языка, что послужило еще одной точкой
интеллектуального соприкосновения с Якобсоном.
Кратко охарактеризуем концептуальные установки Шпета и
Якобсона, в которых фиксируются их идейные разногласия.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 277
Густав Шпет. Философский подход к феноменологическому
истоку. Понимание структуры как динамической, целостной
и конкретной системы, где каждая часть присутствует даже in
potentio (глубинный разрез). Понимание вещи как
социального предмета и следовательно понимание слова как
осмысленного слова, а не отдельного отрезка языковой системы
(принципиальное отличие от понимания слова Якобсоном).
Выявление 8 функций слова как знака сообщения, т. е. в акте его
уразумевания.
Роман Якобсон. Эмпирическая трактовка
феноменологического истока. Понятие структуры как инварианта системы
(плоскостной разрез). Формально понятая телеология.
Понимание слова как отдельной единицы языковой системы.
Выработка коммуникативного кода, открывающего путь не только к
формализации исследований языковых единиц, но и типизации
речевых ситуаций и участников речи.
Из приведенных характеристик очевидно, что Якобсон
применяет усвоенные в «сфере разговора» МЛК философские
принципы к определенной научной дисциплине —
лингвистике, которая, заметим, обособилась в отдельную область лишь в
1928 году на первом международном съезде лингвистов1. Более
того, его сильной стороной было именно умение осуществлять
перевод (о котором он сам так прекрасно потом сказал)
принципов (как определенного языка) к языкам предметных
плоскостей лингвистики. Идет ли речь о системе русского глагола,
афазии, или стиховедении, всегда и везде основание у Якобсона
одно: формально-структуралистское, т. е. телеологический тип
связи явлений, принадлежащих к формально (а не исторически,
и не по смыслу) определенной структуре.
В свою очередь Шпета как философа интересовал прежде
всего принципиальный анализ «слов-знаков» в их смысловой
определенности, методологическая рефлексия над способом
артикуляции их внутренних форм, т. е. исследование самой
системы структурных элементов «знака — значения» как sui generis
отношения. Этот анализ он осуществил в своей
неопубликованной при жизни книге «Язык и смысл». Радикализм Якобсона,
как и других членов Пражского лингвистического кружка,
про1 Об этом съезде Шпету сообщает в письме С. Мазе. См.: Письмо С. Мазе
Г. Шпету от 25 ноября 1928 года // Густав Шпет: философ в культуре.
Документы и письма. М., 2012. С. 41.
278 Раздел III
явился на практике в повороте от шпетовского
философскометодологического исследования внутренних форм
«словзнаков» к разработке метода структурного описания реальных
языков (структурной фонологии). А методологические подходы
Шпета к исследованию «слов-знаков», не реализованные
полностью им самим по объективным причинам, были на долгое
время преданы забвению в русской семиотической традиции.
Обращает на себя внимание и еще одно существенное
отличие шпетовского подхода к семиотическому анализу от более
поздних структурно-семиотических исследований, не
учитывавших в полной мере проблему исторической динамики
осуществления слова как знака. Шпетовский методологический
ход может быть обозначен как синтез логического и
исторического подходов к исследованию знаков, а его особенность
состоит в попытке осуществления исторического подхода к
логическому исследованию знаков, выраженных в словесных
формах, т. е. в его своеобразном понимании слов-знаков как
исторических фактов. «Слово, — полагал Шпет, — как
осуществление знака, как отношения, есть социальный факт, но в своей
полной и подлинной конкретности, <...> он есть исторический
факт. <...> Подлинные формы истории, поэтому, как формы
этих форм суть формы знака, слова: и внутренне и внешне...
<...> Потому и сходится так неожиданно то, что казалось столь
противным: логика и история. Первая всякое содержание
рассматривает как форму; вторая — всякую форму, как
содержание. Философия само отношение их, т. е. отношение, где
термины: слово (логика) и факт (история)»1.
Семиотические идеи Шпета актуальны еще и потому, что на
первый план он выдвигает не субъективную (психологическую)
интерпретацию слов-знаков, хотя и признает необходимость
исследования таковой, но поиск адекватных способов передачи
интерсубъективных смыслов, т. е. осуществление объективной
(как интерсубъективной), не зависящей от конкретного
носителя, интерпретации информации, заключенной в знаках и
нацеленной на передачу самой идеи, мысли, заложенной в
слове. Поэтому и важны его размышления о том, что «слово — это
отношение двух "вещей", как интерсубъективное отношение
"сообщения", слово в качестве этого сообщения, представляет
1 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды.
М., 2005. С. 545..
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 279
в двух аспектах: субъективном и объективном. В первом
аспекте слово есть субъект отношения, термином которого
является действие; само такое отношение есть отношение средства к
цели, где слово — средство; представления, желания и под., —
цель; и слово же — осуществленная цель. Во втором аспекте
слово — субъект отношения, где термин — мысль; само
отношение есть отношение логически оформленной мысли к себе самой
как содержанию', здесь слово — логическая форма, значение —
идея, и слово же - осуществленная идея, т. е. понятие»1.
Именно этот подход оказывается сегодня поразительно созвучным
современным исследованиям, тематизирующим проблематику
«знания, на основе которого можно конструировать новые
технологии и типы коллективных практик, т. е. существующего в
интерсубъективной форме...»2.
Герменевтический подход к исследованию знаков,
разработанный Шпетом, дает ему возможность убедительно
продемонстрировать, что реальная идея всегда развертывается и
осуществляется в мировоззренческом и социокультурном контексте.
Вместе с тем его понимание философии как строгой науки
позволяет отчетливо и ясно выразить мысль, что научное
исследование не исчерпывается только одним контекстом, поскольку
важен нацеленный на объективность собственно
познавательный когнитивный слой знания, который, так или иначе,
раскрывает его динамику, тем самым развертывается перспектива
для творческого преображения самого понятия, т. е. постоянно
расширяется научный исследовательский горизонт. Именно
шпетовский методологический подход к семиотическим
проблемам может быть сегодня актуален в связи с широко
распространившимися в современной науке междисциплинарными
герменевтическими исследованиями динамики научных
понятий как знаков посредством интерпретации их
интерсубъективных смыслов (значений) в контексте общей истории идей.
Специфика философии позволяла представить эти идеи во
всей их полноте, а не редуцированными к отдельным научным
областям.
Структурализм, как показала история, взял лишь одно из
измерений шпетовских идей, реализовав их в
структурализ1 Там же. С. 556-557.
2 Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.
С. 6.
280 Раздел III
ме, который мощно прозвучал в XX веке и вернулся в Россию
через Якобсона, вызвав всплеск отечественных
структурносемиотических исследований 1960-х годов. Это направление
сегодня отодвинуто на периферию гуманитарного знания.
Фактически, и мы на этом настаиваем, оно отодвинуто, поскольку
когда-то реализовало только одно из измерений, которые
предложил Шпет. Это сделало его эффективным, но сузило его
границы. Оно было лишено исторического измерения, и в этом
как раз та проблема, с которой напрямую столкнулся Ю.
Лотман.
Глава 2
Юрий Лотман: Михаил Бахтин
и его влияние на русскую традицию
структурализма
§ 1. На пути к открытой структуре
Обширное наследие Юрия Михайловича Лотмана
представляет сегодня не только историко-философский
интерес, ибо позволяет нам вернуться к истокам
структурализма и семиотики в России, осмыслить эти
направления как актуальные методологические стратегии
социально-гуманитарного познания и, помимо всего
прочего, пересмотреть распространенные сегодня представления о
Лотмане как о постструктуралисте. Действительно, принято
считать, что структурализм в гуманитарных науках — это дела
давно минувших дней. И, соответственно, — что Лотман
интересен нам сейчас лишь как мыслитель, сумевший преодолеть
свои структуралистские заблуждения (речь обычно идет о
позднем Лотмане) и подчеркнуть в гуманитарном знании все то, что
противоположно структуре и порядку, вывести на первый план
динамику и принципиальную неопределенность. Мы
оппонируем такой позиции сразу в нескольких направлениях.
Неверно, что ранний Лотман был структуралистским догматиком,
сосредоточенным на закрытом и статичном; столь же неверно,
что зрелый, или поздний, Лотман отказался от
структурализма, сосредоточившись на чем-то ином. Ни ранний, ни поздний
Лотман не был таким, каким его теперь обычно рисуют.
Изначально он был историком, а структурно-семиотические методы,
открытые им для себя в 1960-е годы, были вовсе не
свидетельством его отказа от сложных исторических объектов, но скорее
новым подходом к этим объектам: ни карточные игры, ни
простенькие систематизации никогда не интересовали Лотмана,
его объекты всегда были сложными. Точно так же поздний
Лотман никогда не отказывался от своего главного девиза,
сформулированного еще в 1960-е годы: «литературоведение должно
282 Раздел HI
быть наукой», а не собранием идеологем, говорящих больше об
эпохе или взглядах пишущего, чем об изучаемом произведении
(хотя, разумеется, сейчас мы более требовательны к значениям
слов, входящих в этот девиз, и вопрос о том, что значит
«наука» и в каком смысле «должна», мы обязательно себе зададим,
даже если Лотман от нас этих уточнений и не требовал: в
идеологическом контексте его рассуждения смысл выдвигаемого
требования был достаточно определенным). Средством такого
продвижения «от не-науки к науке» и была для него
структура. Только не замкнутая и догматичная, а открытая. В течение
жизни в Лотмане, как и во всяком человеке, многое менялось, и
прежде всего менялся фокус его взгляда на некоторые научные
предметы. Так, вслед за конкретными литературными
произведениями он в дальнейшем все больше интересовался общими
закономерностями культуры в целом, ее строением и
функционированием; соответственно менялись и акценты, и приемы
исследования.
Однако заметим, что лотмановская концепция структуры
никогда не чуралась неструктурного, не исключала всего того,
что в структуру не умещается. При этом важно, что
неструктурное (например, «непереводимое» в ситуации постоянного
культурного многоязычия) — это для него не мусор на фоне
главного и магистрального. Совсем наоборот: именно неструктурное,
непереводимое, находящееся за границами упорядоченных
культурных миров, подталкивает нас к неустанному поиску
механизмов культурной переводимости, упорядоченности. Так
функционирует то, что Лотман называл «открытой моделью»
культуры: она предполагает различные формы взаимодействия
структурного и неструктурного, переводимого и
непереводимого, устойчивого и взрывного на разных уровнях. Нередко
оказывается, что механизмы устойчивого, повторяющегося —
именно из-за их привычности — труднее бывает уловить,
нежели моменты яркой новизны, которые между тем становятся
заметны лишь на фоне устойчивого. Сейчас вокруг нас так много
внимания к динамичному, хаотичному, якобы принципиально
неструктурному, что, полагаем, более смелым актом
исследователя уже становится не столько прозревание нового
момента неупорядоченности, сколько открыто заявленный интерес к
тому, что, несмотря на всю видимость абсолютной хаотичности
являет черты структуры — только более сложной, чем раньше
казалось. Для выработки такого - нового, а не архивного —
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 283
взгляда на вещи Лотман оказывается для нас своевременным и
бесценным помощником.
§ 2. Бахтин и Лотман: смещенные рецепции
Для человека нашего времени все то, что относится к сфере
идейных противостояний 1960—1970-х годов прошлого века, —
теперь уже далекие события. От нас самих зависит, останется
ли оно мертвым грузом или войдет в современные дискуссии.
Вслед за Фуко мы теперь видим в «документах» архива не
просто отдельные письменные следы эпохи; мы различаем особые
конфигурации или иначе «исторические априорности» —
условия возможности мысли и высказывания, характерные доя того
или иного периода. Такая направленность внимания
позволяет разглядеть за конкретными отношениями главных
персонажей, протагонистов в исследовательском поле — M. M.
Бахтина и Ю. М. Лотмана — проблемные напряжения, связанные с
судьбой структурно-семиотических исследований в России,
которые эхом отдаются и в современных спорах о перспективах
гуманитарного познания. При этом мы будем пользоваться
рабочими тетрадями, письмами, то есть тем, что не выходило при
жизни авторов. Для Бахтина это уточненное издание набросков,
вышедших в 6-м томе Собрания сочинений под общим
заглавием «Рабочие записи 60-х — 70-х годов»1, а доя Лотмана —
отрывки из писем 1960—1980 гг.2 (а также трудно доступный текст
немецкого его доклада о Бахтине на конгрессе в Иене (1984),
1 Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 6. М., 2002. Речь идет о
публикации (с атрибуцией ранее не идентифицированных фрагментов чужих работ,
а также контекстуальных аллюзий) тех отрывков, которые выходили ранее
в сборниках «Контекст» («Контекст-1974». М., 1975), «Эстетика словесного
творчества» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979) под
заглавиями «Из записей 1970—71 гг.», «К методологии гуманитарных наук».
В целом огромная культурно-текстологическая работа реконструкции по
6-му тому Собрания сочинений Бахтина была проделана С. Г. Бочаровым,
И. Л. Поповой, Л. А. Гоготишвили. В этой связи отметим особо: в
текстологическом плане — расшифровки чужих вкраплений в текстах Бахтина о Рабле
на основании работы с рукописями (Попова И. Л. «Лексический карнавал»
Франсуа Рабле: книга M. M. Бахтина и франко-немецкие методологические
споры 1910-1920-х годов // НЛО. 2006. № 3 (79). С. 86-100), в общем
проблемном плане — раздел «Двуголосие в соотношении с монологизмом и
полифонией (мягкая и жесткая версия интерпретации идей M. M. Бахтина) в
книге Л. А. Гоготишвили «Непрямое говорение» (М., 2006. С. 139-219).
2 См.: Лотман Ю. М. Письма. 1940-1993. М., 1997.
284 Раздел III
который сейчас уже опубликован и по-русски)1. Сразу отметим,
что систематическое сопоставление программ Бахтина и
Лотмана не входит здесь в нашу задачу: мы постараемся проследить
фрагменты коммуникативной ткани, в которой участвуют оба
персонажа — очно или заочно, устно или письменно, прямо или
опосредованно, развивая общую тему или делясь интуициями о
чем-то далеком. Анализ текстовой ткани («текст» по латыни это
и есть «ткань») подчас проясняет нам больше, чем развернутые
декларации, и дает новый импульс исследованиям в области
сравнительной эпистемологии...
При совершенно необъятной мировой бахтиниане и
солидном количестве работ о Лотмане, сопоставлению концепций
Бахтина и Лотмана уделялось до сих пор мало внимания.
Существуют работы, в которых показано влияние
бахтинскихволошиновских идей на Московско-тартускую семиотику2
и некоторые другие аспекты воздействия Бахтина на мысль
Лотмана3. Они принадлежат, как правило, литературоведам,
историкам культуры, философов среди них практически нет,
и это — досадное упущение, так как сопоставительный анализ
подходов Бахтина и Лотмана к проблемам гуманитарного
познания затрагивает самые острые вопросы современных
дискуссий в методологии и эпистемологии науки.
1 Перевод немецкой стенограммы доклада Ю. М. Лотмана на
Международной конференции в Йене; немецкая публикация Bachtin — sein Erbe und
aktuelle Probleme der Semiotik // Roman und Gesellschaft. Internationales Michail
Bachtin-Colloquium. Friedrich-Schiller- Universitaet. Jena, 1984; рус. пер.:
Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики //Лотман Ю. М. История
и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 147-156.
2 Ср., в частности: Иванов Вяч. Вс. Значение идей M. M. Бахтина о знаке,
высказывании и диалоге для современной семиотики / Учен, записки Тарт.
Гос. ун-та, 1973. Вып. 308. Труды по знаковым системам VI. С. 5—44;
перепечатана в: Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 3. С. 5—58 с современным
послесловием (с. 59-67); Titunik I. R. M. M. Baxtin (The Baxtin School) and Soviet
Semiotics // Dispositio. 1976. Vol. 1. P. 327—338; Тороп П. Тартуская школа как
школа//Лотмановский сборник 1. М., 1995. С. 223—235; Гржибек П.
Бахтинская семиотика и московско-тартуская школа // Там же. С. 240—259.
3 Егоров Б. Ф. Бахтин и Лотман // Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М.
Лотмана // НЛО. 1999. Приложение 1. С. 243-258; Reid A. Who is Lotman and
Why is Bakhtin Saying Those Nasty Things About Him // Discours social / Social
Discourse. 1990. Vol. 3. № 1-2. P. 325-338; Mandelker A. Semiotizing the Sphere:
Organicist Theory in Lotman, Bakhtin and Vernadsky // PMLA. Vol. 109. 1994.
P. 385-396; Bethea D. M. Bakhtinian Prosaics Versus Lotmanian "Poetic Thinking":
the Code and its Relation to Literary Biography // Slavic and East European Journal.
Vol 41. № 1. 1997. P. 1-15 и др.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 285
Напомним вкратце некоторые основные моменты в
российской судьбе обеих концепций. Прежде всего отметим
различие — применительно к Бахтину — трех основных периодов,
трех исторических контекстов. Первый — это контекст
творчества: преимущественно 1920—1930-е годы, когда создавались
и были опубликованы «Проблемы творчества Достоевского»
(1929) и написана книга «Франсуа Рабле» (защищенная как
диссертация в 1940 году и опубликованная впервые лишь в
1965). Второй — это контекст распространения идей Бахтина,
их первооткрытия: это преимущественно 1960-1970-е годы,
когда в СССР была переиздана в новой редакции работа
«Проблемы поэтики Достоевского» (1963), издан «Рабле» (1965),
когда Бахтин был переоткрыт и стал распространяться также на
Западе: так, в США в 1968 году вышел перевод «Рабле» с
предисловием Кристины Поморской1, а во Франции в 1970 — перевод
«Поэтики Достоевского» с предисловием Юлии Кристевой2.
В 1960-е годы переоткрытие Бахтина в России, издание «Рабле»
и выпуск «Достоевского» в новой редакции стали
символами духовного освобождения личности от тоталитарного
целого. Наконец, третий — этот нынешний период, охватывающий
последние десятилетия: в это время происходит то, что можно
было бы назвать «беатификацией» Бахтина как в России, так
и на Западе. Впрочем, одновременно нарастают и тенденции
критического прочтения. Соответственно предсказанию
Романа Якобсона интерес к Бахтину породил целую дисциплину —
«бахтинологию»; издается большое количество литературы,
периодически выходят «бахтинологические» сборники3. Начиная
с 1995 года, когда конгресс к 100-летию Бахтина состоялся в
Москве, центр тяжести в мировой бахтинологии переместился
в Россию, а в последнее десятилетие все новое в бахтинистике
так или иначе зависит от работы с архивом и от публикации
архивных материалов, проливающих новый свет на
существующие прижизненные тексты. В постсоветское время Бахтин стал
восприниматься как символ духовного возрождения и
одновре1 Pomorska К. Preface. In: M. Bakhtin. Rabelais and his world. Cambridge, 1968.
P. 1-Х.
2 Kristeva J. Une poétique ruinée. Présentation. In: M. Bakhtine. La poétique de
Dostoievski. Paris, 1970. P. 5—27. Эта статья стала заглавием ее вышедшего
недавно в России сборника трудов: Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение
поэтики. М, 2004.
3 См., в частности, последний в этой серии, содержательный сборник,
составленный В. Л. Махлиным: Бахтинский сборник. Вып 5. М., 2004.
286 Раздел III
менно методологическое орудие для выхода из эпохи
догматизма, как средство нового мышления в гуманитаристике.
Антропологи, эстетики, этики и даже эпистемологи легитимировали
ряд его тезисов (о субъект-субъектном мышлении, о мысли о
мире и мысли в мире, о большом времени и «празднике
возрождения»), которые нередко используются как доводы против
теоретического мышления, против самой субъект-объектной
структуры как якобы не применимой в гуманитарном
познании. В любом случае в постсоветское время Бахтин все чаще
предстает как специфически русская духовная ценность, и даже
как символ национального возрождения.
Иначе обстояло дело со структуралистами-семиотиками и
Лотманом. В советское время их обвиняли в механицизме,
формализме, дегуманизации. В поздние годы жизни, когда Лотман
впервые получил возможность зарубежных поездок,
структуралистские концепции, казалось, никого уже не интересовали,
сменившись более «продвинутыми» вариантами теории
литературы и культуры. А когда в Россию хлынул поток
постструктуралистских и постмодернистских концепций, главным образом
французских, идея структуры, концепция, ориентированная
на науку и научность, стала восприниматься как нечто
существующее лишь в плюсквамперфекте и фактически была
«сдана в архив». Если все вокруг читается через игру знаков и
свободно скользящих означающих, а с референтами покончено,
то это означает, что и науке места нет1. Лотман стал чаще всего
интерпретироваться как догматическое наследие
догматической эпохи, причем те, кто стремился спасти его от забвения,
стремились показать, что Лотман стал другим — каким именно
другим, зависело от пишущего — постструктуралистом,
постмодернистом. Все эти трактовки так или иначе стирали
преемственность его исследовательского проекта, заявленного в
1967 году программной статьей «Литературоведение должно
1 С критикой этого тезиса применительно к Лотману и, в частности, попыткой
увидеть в антидогматизме новые формы догматизации мышления выступил
М. Л. Гаспаров. См.: Гаспаров М. Л. Предисловие к изданию: Лотман Ю. М.
Лекции по структуральной поэтике (1964) // Ю. М. Лотман и
тартускомосковская семиотическая школа. М., 1994. С. 11 — 16; Гаспаров М. Л.
«Анализ поэтического текста» Ю. М. Лотмана: 1960—1990-е годы //
Лотмановский сборник 1. М., 1995. С. 188—191; Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман: наука
и идеология //Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 9—16;
Гаспаров М. Л. Диалектика Лотмана // Ким Су Кван. Основные аспекты
творческой эволюции Ю. М. Лотмана: «иконичность», «пространственность»,
«мифологичность», «личностность». М., 2003. С. 5—10.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 287
быть наукой»; однако этот тезис, высказанный ранним
Лотманом, сохранялся в течение всей его исследовательской
жизни, принимая разные формы: иначе говоря, Лотман пришел к
более динамичным и широким представлениям о структуре, к
идее «открытой структуры», не отказываясь от науки («молодой
семиотики»), но развивая ее возможности1, и такая сохранность
много для нас сейчас значит.
В любом случае, тем кто видит в Лотмане
постструктуралиста, стоит напомнить о том, что внимание к динамике есть и
в ранних статьях Лотмана, а ориентация на науку и
объективность познания присутствует и в поздних. Так, уже в ранних
статьях2 речь идет не только о структурах, но также о
структурировании как процессе, не только о функционировании
знаковых систем, но и о семиозисе как общей динамике процессов
означивания в культуре, только это не динамика хаоса, а
динамика систем. И вместе с тем у Лотмана есть устойчивая
ориентация: поиск порядка в хаосе преобладает над поиском хаоса в
порядке, хотя ко всем факторам динамического нарушения
системности он был образцово чуток. Когда сегодня говорят, что
узкий и догматичный структурализм умер, следует уточнить:
такого структурализма никогда не существовало, а умерла лишь
наша узкая и однобокая абстракция. Сейчас среди западных, да
и некоторых российских исследователей распространились
попытки модернизировать Лотмана, породнив его с Бахтиным, а
основанием для этого представляется новый акцент позднего
Лотмана на диалоге. Присмотримся к этому повнимательнее:
как это было? В чем выражалось это влияние, если оно имело
место? Какой результат давало? Постараемся прояснить
некоторые места этого общего исследовательского поля.
§ 3. Бахтин о Лотмане
Для начала извлечем из нашего архива данные о публичном
обмене приветствиями между Бахтиным и Лотманом. Когда
редакция «Нового мира» (1970) попросила Бахтина рассказать
о наиболее интересных явлениях в современном
литературове1 См. об этом в статье: Автономова Н. С. Лотман, уходящий в память // Юрий
Михайлович Лотман / Под ред. В. К. Кантора. Серия: Философия России
2-й половины XX века / Ред. серии В. А. Лекторский.
2 Ср., например, Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме в
культуре //Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 326—344.
288 Раздел III
дении, Бахтин упомянул Лотмана наряду с другими серьезными
и талантливыми литературоведами - как в прошлом (Потебня,
Веселовский), так и в современности (Тынянов, Томашевский,
Эйхенбаум, Гуковский). А именно, Лотман (вместе с выпуском
Трудов по знаковым системам) был назван в числе «больших
явлений» наряду с Н. Конрадом и Д. Лихачевым: эти авторы,
в противоположность многим другим, не отрывают литературу
от культуры, но стремятся понять литературу в
дифференцированном единстве культуры всей изучаемой эпохи1. Тремя
годами раньше Лотман в ответах на анкету «Вопросов литературы»
(1967) дает список имен, в котором ключевые фигуры
полностью совпадают с теми, кого назвал Бахтин (это Тынянов,
Гуковский, Эйхенбаум, Томашевский), но есть и другие имена
(В. Гиппиус, Н. Мордовченко, Н. Гудзий и др.). В свою очередь
в качестве выдающихся явлений — для широкой публикации и
включения в хрестоматии — он называет «Творчество Франсуа
Рабле» Бахтина и «Славянские языковые моделирующие
семиотические системы» Вяч. Иванова и В. Топорова2. Некоторые
имена из этих списков нам еще встретятся.
Однако эти публично выраженные мнения не отменяли
критической оценки Бахтиным Лотмана и московско-тартуской
семиотики, которая была высказана им в рабочих тетрадях и
частично опубликована (как недавно выяснилось, по
неправленому Бахтиным экземпляру, подготовленному В. Кожиновым)
в текстах «Из записей 1970—71 гг.», «К методологии
гуманитарных наук». Попробуем сопоставить те архивные следы, которые
стирают или подкрепляют друг друга. Вот главная цитата из
«рабочих тетрадей» Бахтина, в которой собраны воедино
большинство его замечаний к Лотману и структуралистам:
«Мое отношение к структурализму. Против замыкания в
текст. Механические категории: "оппозиция", "смена кодов"
1 Как отмечает в своих воспоминаниях о Бахтине С. Н. Бройтман
(Бройтман С. Н. Две беседы с M. M. Бахтиным //Дискурс. Коммуникативные
стратегии культуры и образования. 2003. № U.C. 121-123), Бахтин был
недоволен публикацией интервью в «Новом мире», где его высказывания о Лотмане
были отредактированы припиской «и Лотмана, хотя с ним не все согласны»...
С. Н. Бройтман подчеркивает: Бахтин «при всем своем критическом
отношении к структурализму живо интересовался им, рассказывал мне о немецком
структурализме и мюнхенском журнале по поэтике, на который надеялся
подписаться благодаря сертификатам, полученным за переводы своих книг».
См.: Там же. С. 123.
2 Лотман Ю. М. Ответы на анкету «Вопросов литературы (1967) // Он же.
Воспитание души. СПб., 2003. С. 91-92.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 289
(многостильность "Евгения Онегина" в истолковании Лотмана
и в моем истолковании). Последовательная формализация и
деперсонализация: все отношения носят логический (в широком
смысле слова) характер, Я же во всем слышу голоса и
диалогические отношения между ними»1.
Или еще:
«Семиотика занята преимущественно передачей готового
сообщения с помощью готового кода. В живой же речи
сообщение, строго говоря, впервые создается в процессе передачи и
никакого кода, в сущности, нет»2.
И наконец:
«Контекст и код. Контекст потенциально незавершим, код
должен быть завершимым. Код — только техническое
средство информации, он не имеет познавательного
творческого значения. Код - нарочито установленный, умерщвленный
контекст»3.
Все это — хрестоматийно известные тексты, новым для нас
является в свете архивных публикаций их авторская
композиция, контексты, взаимосоотнесенность. Самые главные
моменты: «замыкание в текст», употребление «механических
категорий», «деперсонализация» и «формализация». Конкретнее
это значит: вместо голосов — коды, вместо живого
высказывания — передача готового сообщения с помощью готового кода,
вместо полифонии - перекодирование, вместо открытого и
незавершенного контекста — код как умерщвленный контекст.
Подробно разбирать здесь уместность и неуместность всех этих
оценок применительно к структурализму мы не будем.
Критики уже неоднократно обращали внимание на их однобокость:
они относятся разве что к совсем раннему Лотману, да и то не
вполне, они игнорируют структуралистское внимание к
внекодовым ситуациям и к творческой роли кодов, а уж анализ
«Евге1 Бахтин M. M. Разрозненные записи // Бахтин M. M. Собрание сочинений.
Т. 6. М., 2005. С. 434. Ср. также сходные мысли в Тетради 2. (Там же. С. 394).
Комментаторы отмечают, что речь, с наибольшей вероятностью, идет здесь
о статье: Лотман Ю. М. О проблеме значений во вторичных моделирующих
системах // ТЗС—2. С. 22—37). Различие в толковании многостильности на
примере «Евгения Онегина» Бахтин считал принципиальным. Сам он
говорит о романной специфике «Евгения Онегина» в работе «Из предыстории
романного слова». См.: Вопросы литературы. 1965. № 8; см. также Бахтин M. M.
Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 355—362.
2 Бахтин М. М. Разрозненные записи // Бахтин M. M. Собрание сочинений.
Т. 6. М., 2005. С. 380.
3 Там же. С. 431.
290 Раздел III
ния Онегина» (не просто «романа», но романа в стихах) и вовсе
требуется вынести в отдельную рубрику и оставить для
особого случая. Правда, Б. Ф. Егоров считал все приведенные выше
бахтинские замечания «весьма деликатными», хотя и
упрощающими картину, и связывает их с недостаточным знакомством
Бахтина с работами Лотмана 1960-х годов1. В частности, Егоров
критикует А. Рида за «явное преувеличение»2 критичности этих
замечаний и всячески подчеркивает концептуальное движение
Лотмана после 1977 года в сторону Бахтина.
В концептуальных взаимоотношениях Лотмана и Бахтина
есть нерешенные вопросы, которые нельзя было откровенно
обсуждать в то время, когда всякая критика могла натолкнуть
официальные инстанции на те или иные оргвыводы. Может
быть, отчасти именно поэтому в публичном пространстве
исполнялась такая пантомима: структуралисты — внешне? —
прислонялись к Бахтину, а Бахтин в это время сторонился
структуралистов и отмежевывался от них. Как отмечает сын Лотмана
литературовед Михаил Лотман, его отец обычно не отвечал на
критику, и тем более сам не пускался в критику: он не хотел
выносить на суд недоброжелателей научную полемику и
предпочитал развивать свою науку, не отвлекаясь на выяснение
отношений; иногда давал себе труд ясно сформулировать свои
позиции, но в целом считал, что шлифовать детали, в том числе
полемикой, — еще рано3.
1 Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999. С. 244.
2 Там же. Ср.: Reid A. Who is Lotman and Why is Bakhtin Saying Those Nasty
Things About Him? // Discours Social / Social Discourse. 1990. Vol. III. № 1-2.
P. 325-338.
3 Один из интересных примеров, который приводит здесь Михаил Лотман —
спорные цитирования Р. Якобсона; Лотман не был с ним согласен в очень
многих принципиальных пунктах, например, он всегда возражал против
монолингвизма Якобсона, защищая в разной форме идеи полилингвизма и
поликультурализма, однако до печати эти возражения не доходили. Впрочем,
можно предположить, что Якобсон был для Лотмана, как и Бахтин, мэтром и
человеком старшего поколения, что могло бы объяснять такую сдержанность.
Правда, и сам Якобсон, как отмечают уже другие критики, не любил
выяснять отношения, он предпочитал просто присоединять к своей концепции
других ученых путем ссылок, мало заботясь о том, насколько их мысли
подходят для данного случая и насколько они сами согласились бы участвовать в
такой конъюнктуре идейного поворота репрезентации... См.: Лотман М. Ю.
Семиотика культуры в тартуско-московской семиотической школе //
Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 5—20.
Нечто сходное говорил о Лотмане и М. Гас паров: анализ реального материала
был для него важнее изощренных теоретических (метатеоретических)
разработок или остроумных полемик.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 291
§ 4. Лотман о Бахтине
Несомненно, что к Бахтину Лотман всегда относился с
глубоким уважением и, наверное, в чем-то с ним пересекался в
своих творческих пристрастиях, например в подчеркнутом
интересе к поступкам и вообще — ответственному человеческому
поведению. И публично, повторяем, он практически никогда
с Бахтиным не спорил — в советские времена это было
невозможно, а в постсоветские — бесполезно, хотя в личных
высказываниях, как мы увидим, он был подчас более открыт.
Относительно личного аспекта отношений Лотмана к
Бахтину у нас есть разнообразные архивные свидетельства, прежде
всего, в письмах, изданных Егоровым. Так, Лотман серьезно
пытался организовать переезд Бахтина в Тарту1, участвовал в
сборе денег для посылки Бахтину2, узнав о его смерти,
собирался немедленно выехать на похороны3, всегда с интересом
участвовал в публикации текстов Бахтина и статей о нем, хотя
далеко не все задуманное удавалось сделать...4
Однако среди писем Лотмана есть одно, на которое адресат
письма, Б. Ф. Егоров, близкий друг и коллега Лотмана,
предпочитал не ссылаться, хотя широко цитировал другие письма. Это
письмо — единственное, по крайней мере, в опубликованном
архиве, где мы видим, хотя и косвенное, но яркое и
откровенное свидетельство Лотмана о Бахтине, соединяющее достаточно
резкую критику с самыми высокими похвалами. Прямым
поводом для высказывания был не сам Бахтин, а Тынянов,
которого — мы помним списки предпочтений — одинаково высоко
ценили и Бахтин, и Лотман; Бахтин присутствует при этом как
прямая и очень весомая аналогия. Приведем это высказывание
целиком, потому что в нем важны не только общие повороты
рассуждения, но и другие конкретные имена и факты, которые,
относясь к Тынянову, вплетаются в характеристику Бахтина:
«В научном отношении Тынянов, в определенном смысле,
подобен Бахтину, — пишет Лотман, — конкретные идеи часто
ложные, а концепции предвзятые (Пушкин — Тютчев5 —
выдум1 Лотман Ю. М. Письма. М., 1997. С. 512-513.
2 Там же. С. 235.
3 Там же. С. 575.
4 Там же. С. 255, 522, 682.
5 Комментарий Б. Ф. Егорова: подразумевается статья Тынянова «Пушкин и
Тютчев» (1923), в которой автор пытается доказать далекость и чуждость
Тютчева Пушкину. См.: Лотман Ю. М. Письма. М, 1997. С. 333.
292 Раздел III
ка, подогнанная "под идею", "Безымянная любовь"1 — вершина
бездоказательности и ложной выдумки и пр.). Но ("но"
подчеркнуто автором снизу!!) — общая направленность
исключительно плодотворна и оплодотворяюща. Импульс им дан огромный
(ведь и Томашевский, когда от критики чужих концепций — а
в этом он, великий деструктор, был блестяще силен — ему надо
было переходить к позитивным концепциям, и Гуковский
питались его импульсами). Вообще он все же был гениален, хотя,
согласен, во многом неприятен»2.
Сентенция напряженная, яркая, мощная... Все упомянутые
в письме фигуры — Тынянов (1894—1943), Томашевский (1890—
1957), Гуковский (1902—1950) — крупнейшие фигуры, близкие
современники Бахтина, поколением старше Лотмана: те, кого и
Бахтин и Лотман в своей табели о рангах помещают, не
сговариваясь, на самое почетное место, так что эти дополнительные
персонажи лишь добавляют Бахтину веса... Посредством
аналогии с Тыняновым Лотман позволяет себе здесь сказать о
Бахтине то, что он не позволял себе говорить вслух. И, конечно, надо
было быть Лотманом, чтобы от критического
(«бездоказательность», «ложные выдумки») уверенной рукой перебросить мост
к утверждающему — «он все же был гениален», он давал
«огромный» творческий импульс общая направленность его мысли
«исключительно плодотворна и оплодотворяюща»...
Задним числом возникает ощущение, что многое в
лотмановском отношении к Бахтину практически реализует эту
письменную характеристику Тынянова-Бахтина: а именно, он
воспринимал творческий импульс, оплодотворяющую
динамику, но оставлял в стороне то, что считал выдуманным или
недоказанным. Как конкретно это происходило, можно судить,
например, по докладу Лотмана о Бахтине, сделанном в
университете Фридриха Шиллера в Йене в 1984 году. В упрощенном
виде все, о чем далее пойдет речь, можно вписать в следующую
схему: Бахтин высказывает прозорливые догадки, формулирует
их в размытом и неопределенном языке, дальнейшее развитие
науки их уточняет, а благодарные наследники помнят, кому
они обязаны первым толчком мысли. Главная тема доклада
Лотмана — роль идей Бахтина для развития современной
семи1 Комментарий Б. Ф. Егорова: «Безымянная любовь» — так по заглавию
статьи Тынянова Ю. М. Лотман называет гипотезу о тайной любви Пушкина к
жене Карамзина. См.: Там же. С. 333.
2 Лотман Ю. М. Письма. М., 1997. С. 331.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 293
отики, и Лотман показывает здесь три главных бахтинских
импульса, вдохновивших современную науку. Первый — данный
Бахтиным толчок к разработке динамического представления о
характере языкового знака: это представление вовсе не было
характерно для ранней рецепции Соссюра в России, но ярко
проявилось в книге Бахтина-Волошинова «Марксизм и философия
языка»1. Второй - идея диалогизма; здесь Лотман сразу
отмечает размытость и неопределенность этого понятия (подобно
тому, как в других работах он отмечает неопределенность
понятий «карнавал» и «народная смеховая культура»2), но
указывает, что со временем они уточняются последующим развитием
науки. Третий — «гениальное прозрение» Бахтина, его тезис о
художественной коммуникации как центральной проблеме
современной науки. Научное содержание понятия «диалог»
конкретизируется далее на материале нескольких
исследовательских ситуаций. Это, во-первых, открытие необходимости более
чем одного (двух или нескольких) каналов связи для создания
новой информации, для выполнения семиотическими
механизмами творческих функций; во-вторых, анализ межполушарной
ассиметрии головного мозга как особого диалогического
механизма; в-третьих, изучение функционирования семиотических
систем с ориентацией на чужое слово (примером такой
системы он считает даже отношения матери и младенца, который,
воспринимая ласковый разговор и улыбку матери, пытается
подражать ей). При этом Лотман подчеркивал важнейшее
отличие естественных семиотических систем от искусственных:
естественные имеют свою историю, память, в которой хранятся
и могут быть реактивизированы все предшествующие
состояния. Может быть, именно поэтому Лотман так любил
бахтин1 С этим тезисом в основном соглашается и В. Алпатов в книге «Волошинов,
Бахтин и лингвистика» (М., 2005): Бахтин говорил о Соссюре то, что не было
актуально в то время, когда это говорилось, так как соссюровская концепция
еще только начала развертывать свои научные потенции, и в этом
направлении перед ней лежал долгий путь, однако после того как через несколько
десятилетий эти разработки были сделаны, бахтинско-волошиновская критика,
высказанная еще в 1920 годы, оказалась на гребне современности и тем
самым впереди планеты всей — в лингвистике речи, лингвистике высказывания,
коммуникативной лингвистике в разных ее направлениях и др. А может быть,
здесь есть какая-то закономерность: некоторые этапы развития науки
повторяются через один (как это отчасти можно проследить в литературе), а потому
можно, пропустив один этап, сразу оказаться в «старом новом» будущем?
2 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 688.
294 Раздел III
ское понятие «память жанра»1; в йенском докладе о нем речь не
идет, но в других работах оно упоминается часто, причем
Лотман трактует «память жанра» не только как способ сохранения
в структуре жанра особенностей, восходящих к предыдущему
периоду, но и, говоря на структурно-семиотическом языке, как
средство «кодовой экономии»2. Самое главное, подчеркивает
Лотман, — в том, что именно Бахтин проложил нам путь к
изучению системы, способной порождать новые тексты. Иными
словами, Бахтин был для Лотмана побуждающей силой,
подталкивавшей его к продвижению по собственному пути.
При этом возникает впечатление, что и в докладе, и в других
своих работах Лотман постоянно пытается перевести
бахтинскую проблематику на свой язык, сформулировать ее в
терминах, которые ему близки. Анализируя различные контексты
использования бахтинских идей и понятий, Лотман нередко
подставляет на место оригиналов свои собственные
эквиваленты, относящиеся к совершенно другому регистру мысли.
Так, на месте бахтинской полифонии у Лотмана
появляется «многоязычие» или же сложная игра подсистем в структуре
(речь идет об анализе одного из стихотворений Лермонтова)3;
в противоположность Проппу, который занят вычленением
единых инвариантов, Лотман приписывает Бахтину
членение в тексте разных «субкодов»4; диалоги в романах
Достоевского и бахтинских анализах он рассматривает как способ
порождения «конфликтующими системами» нового типа
упорядоченностей; а эти упорядоченности бахтинских элементов
включает в собственную рамочную конструкцию, называя их
«диалогическими повествовательными структурами»5 и
«диалогическими текстами»6. Так, бахтинский «карнавал» предстает
у Лотмана как вторжение динамических структур в сакральный
мир7, тогда как бахтинские «амбивалентности» принимают вид
культурно-семиотического феномена, свидетельствующего о
размягчении прежних оппозиций и готовности системы к
пере1 Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 511, 583, 674; Лотман Ю. М.
История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 166.
2 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 219.
3 Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 237.
4 Там же. С. 427.
5 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 289.
6 Там же. С. 566.
7 Там же. С. 660.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 295
ходу в «динамическое состояние»...1 Он позволяет себе прямо
критиковать лишь эпигонов Бахтина (например, за
неоправданно расширительное толкование карнавальной традиции2, а
также идеи перевернутого мира3). Кроме того, он мягко возражает
против неточностей в понимании карнавала и народной
смеховой культуры: ведь смех не всегда отменяет страх, а подчас даже
его подразумевает4; элементы кощунства могут никак не
нарушать рамки сакрального универсума5, а языческие элементы в
западноевропейском карнавале и аналогичных русских обрядах
существенно различаются, что не учитывают даже
специалисты6, и проч.
Если для Бахтина главным понятием был диалог, то у
Лотмана иная доминанта, хотя само понятие диалога у него иногда
появляется. В ряде текстов Лотман трактует диалог как
попеременную направленность «передачи» и «приема» сообщения
при взаимной заинтересованности участников в общении (ведь
если между общающимися нет различия, то диалог
бессмыслен, а если нет сходства, то он невозможен), он видит диалог в
соотношении между памятью культуры и ее саморефлексией, в
соотношениях между различными по структуре языками
(вербальные и невербальные, кино7, театр, литература, музыка) и
даже в знаковом обмене между животными. Но практически
нигде у Лотмана нет диалога равновеликих, равномощных,
равнонужных друг другу индивидов, и тем более — у него
невозможны бахтинские «голоса». И это лишь малая часть несходств
между мыслителями.
В целом, как уже отмечалось, все это прорисовывает
особые отношения персонажей. Если Бахтин все время стремится
остаться в стороне, то Лотман включает Бахтина во все
значимые отношения. Разумеется, от формалистов Бахтин отличен:
они исходят из атомов, чтобы добраться до целостности, тогда
как для Бахтина нерасчленимая целостность — исходная
данность (и в этом мы можем видеть одну из черт русской
мысли1 Там же. С. 552.
2 Там же. С. 324.
3 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. С. 211, 337.
4 Там же. С. 684.
5 Там же. С. 693.
6 Там же. С. 692.
7 У Лотмана есть интересные примеры использования бахтинского понятия
чужой речи и понятия «полифонических структур» в анализе кино — в
частности, фильмов А. Вайды. См.: Лотман Ю. М. Об искусстве. С. 660.
296 Раздел III
тельной традиции, на определенном этапе свойственной
также Р. Якобсону и Н. Трубецкому). Однако во всех остальных
принципиальных отношениях Бахтин у Лотмана всегда
выступает рука об руку со значимыми другими, а не сам по себе. Так,
вместе с Проппом, Тыняновым, Якобсоном он продолжает и
преодолевает семиотические идеи Женевской (соссюровской)
школы; вместе с Л. П. Якубинским, Е. Д. Поливановым или
Я. Мукаржовским — создает традицию диалогического
мышления, саму мысль о диалоге; вместе с Тыняновым — изучает
эволюцию культурно-семиотических моделей и др.
§ 5. Шаг(и) навстречу?
Итак, очевидно, что картина противостояний Лотману и
структурализму, начертанная Бахтиным в «Рабочих тетрадях
1960—70-х годов», не вполне соответствовала
действительности. Она подразумевала, с одной стороны, незавершенность и
открытость, а с другой — коды и замкнутые системы и
оказывалась либо фикцией, либо слишком сильной абстракцией.
Но даже если допустить, что такая картина в известной мере и
в течение какого-то времени имела место, все равно она такой
не осталась. Все, что мы знаем о Лотмане, показывает
динамику его творческого пути, постоянное движение, заставлявшее
апробировать новые приемы, наращивать возможности,
посягать на все более и более сложные объекты. Так, в предисловии
к польскому переводу биографии Пушкина, опубликованной
по-русски в 1980, а по-польски — в 1985 году, т. е. в
завершающий период творческой жизни, Лотман говорит о том, что его
целью было «показать человеческий, личностный (от: личное,
личность) элемент в семиотике как науке»1. Тем самым Лотман
делал новый шаг — если и не навстречу Бахтину, то во всяком
случае к самораскрытию и к открытой структуре; намеки на это
были и у раннего Лотмана, но у позднего эти тенденции
усиливались.
Идея открытой структуры вводила в размышления о
пространстве культуры и пространстве семиозиса как знаковой
деятельности: как подчеркивает Лотман, граница, отделяющая
семиозис от внесемиотической реальности, проницаема, она
1 Цит. по: Bethea D. M. Bakhtinian Prosaics Versus Lotmanian "Poetic Thinking":
the Code and its Relation to Literary Biography // Slavic and East European Journal.
Vol. 41. № 1. 1997. P. 6.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 297
пересекается вторжениями, которые преобразуют
семиотическое пространство и сами преобразуются по его законам. И этот
обмен семиотического пространства с внесемиотической
сферой служит постоянным источником динамики:
«Это вечное движение» не может быть исчерпано — оно не
поддается законам энтропии, поскольку постоянно воссоздает
свое разнообразие, питаемое незамкнутостью системы»
(курсив наш. — Авт.)1.
Однако эта незамкнутость не приводит к хаосу, этому
препятствует собственная динамика системы:
«Основными вопросами описания всякой семиотической
системы являются во-первых, ее отношение к вне-системе, к
миру, лежащему за ее пределами, и, во-вторых, отношение
статики к динамике. Последний вопрос можно было бы
сформулировать так: каким образом система, оставаясь собой, может
развиваться. Оба эти вопроса принадлежат к наиболее
коренным и одновременно наиболее сложным»2.
С этой фразой читатель сталкивается уже на самой первой
странице «Культуры и взрыва», последней, надиктованной уже
больным Лотманом, книги.
А вот и предельная точка продвижения Лотмана к динамике
предметов и динамике описаний: мысль об открытой
структуре поворачивается здесь методологической своей гранью, речь
идет об открытой модели описания культурного мира,
представленного многими языками и многими культурами:
«Если традиционно семиотический процесс был обращен к
пространству одного языка и представлял замкнутую модель, то
теперь, видимо, наступает время принципиально открытой
модели (курсив наш. — Авт.). Окно культурного мира никогда не
затворяется»3.
Этому сдвигу в теории соответствовал в его
исследовательской практике виртуозный анализ биографий Пушкина и
Карамзина, в котором Лотман хотел видеть продвижение вперед
новой дисциплины, а не бегство с поля научных испытаний
1 Лотман Ю. М. Культура и взрыв //Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2001.
С. 102.
2 Там же. С. 12.
3 Лотман Ю. М. Тезисы к семиотике русской культуры (Программа
отдела русской культуры Института мировой культуры МГУ // Ю. М. Лотман и
тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994 С. 416.
298 Раздел III
(как военный артиллерист, он сказал бы «с полигона», военная
метафорика в его текстах встречается довольно часто).
А что же Бахтин? Стал ли он, в итоге этого заочного
взаимодействия каким-то иным? Исследователь Д. Бетеа отвечает:
«Нет, он остался, где стоял — в упоении ситуацией
незавершимости и незавершенности»1... Однако более вероятной нам
представляется иная гипотеза, которую еще предстоит
проверить: можно предположить, что Бахтин тоже сделал «шаг
навстречу» или хотя бы в направлении, не противоположном
путям ранее ему абсолютно чуждой структуралистской
концептуализации. Так, в записях 60—70 годов (да и в более ранний
период, согласно В. Алпатову) он систематически допускает и
даже подчеркивает существование полюсов, или иначе —
пределов возможного познания, более того, эти пределы
формулируются как равноправные. Это язык - речь (высказывание) или
иначе повторимое — неповторимое (в 1920 годы не
признавалось ни «реальное существование» языка, ни теоретическая
дихотомия языка и речи — в пользу динамики высказывания). Это
также «вещь» и «личность», «овеществление» и
«персонификация», причем Бахтин специально оговаривает важное
культурное значение процессов монологизации как естественного
стирания в диалоге «чужого слова»2. Все эти полюса
называются «пределами мысли и практики» или иначе «типами
отношения», между которыми Бахтин фактически признает
отношения дополнительности. Слов о незавершенности и открытости
больше, конечно, у Бахтина, однако реальное продвижение к
открытой мысли о структуре было возможно лишь при учете
реального сопротивления материала, истории. Реальную
историю лучше чувствовал Лотман, историк, так любивший
архивную работу и сделавший свое самое любимое научное открытие
об эзоповской роли «Вестника Европы» в России на материале
огромных архивных разысканий.
1 Бахтин разделял незавершимость самой мысли и незавершенность ее
выражения. «Единство становящейся (развивающейся) идеи. Отсюда и известная
внутренняя незавершенность многих моих мыслей. Но я не хочу превращать
недостаток в добродетель: в работах много внешней незавершенности,
незавершенности не самой мысли, а ее выражения и изложения. Иногда бывает
трудно отделить одну незавершенность от другой. Нельзя отнести к
определенному направлению (структурализму). Моя любовь к вариациям и к
многообразию терминов к одному явлению. Множественность ракурсов. Сближение
с далеким без указания посредствующих звеньев». Бахтин M. M. Собрание
сочинений. Т. 6. М., 2005. С. 431.
2 Там же. С. 425.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 299
Хотя Лотман был последовательным структуралистом, он
работал на границе метода, напрягал и растягивал его,
выявлял его новые возможности. Анализ непредсказуемого не
противоречит структурно-семиотическому подходу и не
исключает его. Более того: чем тоньше и гуще сетка категорий,
тем лучше видно непредсказуемое. Просто акцент можно
поставить или на то, что ею схватывается, или на то, что
проходит сквозь нее. При этом его метод, его подходы уточнялись и
утончались в соприкосновении с более сложными предметами
(такими как биография Карамзина или Пушкина), как вообще
любое человеческое поведение, но не отменялись. Лотман как
ярко одаренный и творческий человек с огромной интуицией
и художественным чутьем мог и теорию сочинить, и
психологию героя ярко описать. Главным в Лотмане — наверное,
всякий с этим согласится, несмотря на различие существующих
точек зрения, — было стремление строить науку, забота о
научности гуманитарного знания. Сейчас это звучит несколько
архаично, как напоминание о далеком прошлом, но на деле
это не так. Лет тридцать назад могло показаться, и на Западе и
в России, что структурно-семиотические исследования со
славой или бесславно завершились, и взоры обращались к
постструктурализму и постмодернизму, идущим ему на смену. Но
теперь, когда наступает закат постмодерна, возникает новая
потребность, которая ставит во главу угла уже не любование
хаосом, но реактуализацию структуры со всеми теми
трансформациями, которые она может претерпеть в современную
эпоху. И потому нам так важно сейчас проанализировать
содержательный состав наших культурных архивов и выбрать в
них те ресурсы, которые могут поддержать нас на этом
переломе.
Но и Бахтин — даже в том ограниченном смысле, в котором
мы его рассматриваем здесь, Бахтин как антагонист
структурализма — не исключен из этой продуктивной динамики.
Считаться пророком структурализма и семиотики в России ему
явно не хотелось. Но он не мог помешать себе быть тем, кем
он был: человеком с удивительным чутьем на новое...
Размышляя в очередной раз над влиянием Бахтина, в частности в
современном искусстве, поздний Лотман приходит к выводу, что
оно осуществляется не через инструкции и рецепты, но скорее
косвенно, через воздействие на культуру, на философское со-
300 Раздел III
знание1. Иначе говоря, одним своим фундаментальным
присутствием, раскопанным, очищенным от очередной рутинной
канонизации, Бахтин дает импульс самому широкому
движению культуры — а в ней даже тому, что он мог считать лично
себе чуждым. И быть может, сегодня он станет одним из
участников возрождения тех элементов рационалистической
традиции, которые мы постарались здесь заново разглядеть, достав
из архива...
1 Ср., напр.: «Это не означает, что теоретические исследования не влияют на
практику искусства. Но влияют они не как инструкции и рецепты, а через
общее воздействие на культуру, формируя мышление художников и их
аудитории. Например, было бы странно отрицать глубокое воздействие M. M.
Бахтина на современное искусство (в особенности, на драматургию и кино, не
говоря уже о непосредственных театрализациях романов Достоевского). Но
это воздействие осуществляется через перестройку философского сознания
нашего современника». Лотман Ю. М. Язык театра // Лотман Ю. М. Об
искусстве. СПб., 1998. С. 604.
Глава 3
Юрий Лотман: Роман Якобсон
и проблемы перевода
§ 1. Проблема перевода и многоязычие культуры
Вопрос о культурном переводе и непереводимости в
творчестве Лотмана исследуется в частичном сопоставлении
с концепцией перевода у Р. О. Якобсона. Отметим сразу,
что у Лотмана непереводимость предстает прежде
всего как выражение сложности переводческого процесса,
как следствие столкновений его с реальностью и одновременно
результат наслоения многих способов перевода, дающих в
совокупности саму возможность восприятия мира. Иными
словами, у Лотмана идея непереводимости, по сути, фиксирует один
из опорных моментов познания и коммуникации, и потому мы
полагаем, что в данном контексте это продуктивная
непереводимость.
У Лотмана речь идет, скорее, о культуре как системном
ханизме порождения и распространения информации, причем
важную роль в этой системе играет перевод, происходящий в
открытом пространстве семиозиса. Лотман пользуется
понятием перевода весьма активно, ссылаясь при этом прежде
всего на Якобсона. Эти персональные и проблемные переклички
позволяют нам лучше уловить проблемные акценты и
концептуальный строй лотмановской мысли. Сразу отметим здесь, что
тема «Лотман и Якобсон» очень обширна и требует отдельного
изучения. Мы не будем здесь специально рассматривать те
ситуации, где Лотман считает необходимым солидаризироваться с
Якобсоном, например по вопросам о динамическом
соотношении синхронии и диахронии, о функциях полушарий головного
мозга, о роли грамматических универсалий, о способах
языковой репрезентации афатических нарушений, о месте имен
собственных в построении человеческих языков и еще о многом
другом. В данном случае нам важно оттенить различия их
позиций по вопросу о переводе и непереводимости.
302 Раздел III
В общем, наша цель — показать один из важных и совсем
не изученных аспектов лотмановской семиотики. Речь идет о
проблеме перевода, которая заставляет нас по-новому
трактовать и саму культуру, и бытие объектов гуманитарного
познания, подчеркивая их несубстанциональность и динамичность.
Отдельных текстов, специально посвященных проблеме
перевода, у Ю. М. Лотмана, насколько мы можем судить, нет,
однако мысль о переводе возникает у него в связи с обсуждением
целого ряда важнейших проблем — культуры в целом и
культурной памяти, человеческих взаимодействий, соотношения
языка наблюдателя и языка наблюдаемого объекта в процессе
познания, способов создания и функционирования
произведений искусства и др. Все это дает нам основания считать эту
проблему существенной для Лотмана, а его самого — автором
интересной концепции перевода, которая, не будучи
проработана в деталях, предстает перед нами в своих основных
чертах. Обычно принято относить динамические идеи к позднему
периоду творчества Лотмана, связывая их преимущественно с
идеей «взрыва» в противоположность его ранней статической
структуралистской семиотике. Можно однако полагать, что
проблема перевода является для Лотмана важным ресурсом для
осмысления динамики познания и культуры, причем она
присутствует — в той или иной мере — в разные периоды его
творчества, от статей начала 1970-х к трем последним монографиям
(новые свидетельства значимости этой темы дает, в частности,
недавно опубликованная в серии «Bibliotheca Lotmaniana»
книга «Непредсказуемые механизмы культуры»1).
Возникая на перекрестке разных дисциплин, проблема
перевода стала в наши дни одной из самых актуальных в
современном гуманитарном познании. Наверное, эта проблема
существовала всегда, но не всегда осмыслялась как таковая, тогда
как в наши дни ее обсуждают представители всех направлений
современной мысли. Если в прежние времена вопрос о
переводе трактовался, прежде всего, как технический и
лингвистический, то теперь он фактически превратился в важнейшую
философскую проблему2. Это произошло на определенной стадии
процесса, нередко именуемого «лингвистическим поворотом»:
сначала проблему «мышления, мыслящего самого себя»,
потеснила проблема языка, затем на первый план в гуманитарном
1 Лотман Ю. М. Непредсказуемые механизмы культуры. Таллинн, 2010.
2 Автономова Н. С. Познание и перевод: Опыты философии языка. М., 2008.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 303
познании вышли проблемы понимания, коммуникации,
диалога, и вот теперь на авансцене интеллектуальной работы
появилась проблема перевода. Здесь перевод понимается не только
в собственном, или узком, смысле слова (как переложение
текста, написанного на одном языке, на другой язык), но также в
более широком смысле: перевод относится не только к языкам,
но и к культурам, к концептуальным системам, он
осуществляется при переходах различных форм человеческого опыта в
вербальные формы, различных семиотических систем друг в
друга и др. Изучая этот круг вопросов, мы мысленно обращаемся
к тем, кто наметил контуры современного подхода к проблеме
перевода, и Юрий Михайлович Лотман занимает среди этих
исследователей особое место.
Прежде всего, отметим, что в основе лотмановской
концепции перевода лежит понимание культуры как многоязычия:
именно наличие разных языков требует перевода,
стимулирует деятельность перевода. В свою очередь понимание
культуры как многоязычия имеет определенные эпистемологические
следствия. Одно из важнейших заключается в том, что
реальность не может описываться одним языком: статическая
модель общения, в которой бы работал лишь один язык, — это
умозрительное отвлечение от той динамики, которая
пронизывает культурную реальность. Исследователю культуры нужна
другая, более сложная модель, подразумевающая
одновременное функционирование многих языков. В этой связи Лотман
мягко, но уверенно спорит с Якобсоном, упрекая его в
безоговорочной опоре на то, что как раз и можно было бы назвать
абстракцией «одного языка», а также на понятие «кода», которое
так или иначе подразумевает единственность и однозначность
передаваемых языком значений. Так, Лотман подчеркивает,
что знаменитая якобсоновская шестичленная схема
коммуникации, исходящая из тождественности языков передающего и
принимающего и - фактически — из возможности исключения
помех, рассматриваемых «как препятствия, вызываемые
неизбежным техническим несовершенством»1, — это лишь
идеальная теоретическая модель. Она не может быть перенесена на
языковую реальность, где язык никогда не бывает просто
«кодом», но выступает как «код плюс его история»2, что приносит с
собой элементы непредсказуемого и неопределенного.
1 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 15.
2 Там же. См. также с. 163—164.
304 Раздел III
Подытоживая опыт Московско-тартуской семиотической
школы, Лотман делает акцент на этом моменте
необходимого культурного многоязычия: «Одна из фундаментальных
особенностей тартуской школы состоит в представлении о том,
что мир не может иметь один язык и что реальность не
описывается одним языком. Минимум — много языков. Можно даже
предположить, что это число открытое»1 (здесь и далее курсив
наш. — Авт.). Дальнейшее обоснование этой мысли у Лотмана
идет сразу в нескольких направлениях - культурологическом,
семиотическом, когнитивном: «Семиотические идеи долгое
время исходили из представления, что есть говорящий,
слушающий и язык общения. Тартуская школа коренным
образом изменила это представление. Система, обладающая одним
языком, может быть теоретической моделью, но в реальности
существовать не может. То что долгое время казалось изобилием
природы, ее расточительностью — она наделила каждого разной
внешностью, разной судьбой, разными языками, — оказалось
необходимостью»1. Стало быть, «объектом <...> семиотики
оказывается не какой-либо изолированный язык (изолированный
язык не работает!), а культура — сложная структура,
включающая в себя языки и другие семиотические объекты и
являющаяся коллективным мозгом человечества»3.
Толкование этих высказываний позднего Лотмана могло бы
стать темой отдельного исследования: здесь емко схвачен ряд
важнейших вопросов, в которых новые акценты не устраняют
преемственности в трактовке семиотической проблематики. Во
всяком случае, даже «онтологический» вопрос о
«коллективном мозге человечества», интересовавший раннего Лотмана,
не снят с повестки дня, не говоря уже о том, что культура
попрежнему трактуется как структура, включающая различные
языки и семиотические объекты. Вместе с тем все эти вопросы,
по сути своей философские, так или иначе взывают к проблеме
перевода как условия возможности культуры. Ведь именно
совокупность взаимодействующих языков, требующих перевода,
способна полноценно учесть «необходимость другого (другой
личности, другого языка, другой культуры)»4.
1 Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 288.
2 Впервые этот текст Лотмана («Нам все необходимо. Лишнего в мире нет...»)
вышел в феврале 1993 г.: публикация готовилась к 71-летию Лотмана.
3 Лотман Ю. М. Воспитание души. С. 116.
4 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 13.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 305
При этом отмечу еще раз, что механизмы перевода
выявляются Лотманом не только между уже существующими
языками культуры, но и на уровне переходов от различных форм
невербального опыта к его упорядоченным и организованным
формам. Так, уже ранний Лотман (в научном содружестве с
Б. А. Успенским1) выдвигал мысль о том, что «само
существование культуры подразумевает построение системы, правил
перевода непосредственного опыта в текст»2, а также анализировал
культурную память как механизм, работающий на основе
перевода.
Как известно, память для Лотмана — одно из главных свойств
и опор культуры. Для того чтобы то или иное индивидуальное
событие вошло в коллективную память, оно должно быть
обработано «запоминающим устройством», включено в развернутую
систему языковых, семиотических связей, или, иначе,
«записано»: только тогда у него появится шанс стать элементом
памяти и тем самым — элементом культуры. Трактовка процесса
запоминания как языковой обработки и трансформации опыта у
Лотмана достаточно последовательна: при этом процесс
функционирования культуры как памяти всегда выступает как
перевод в широком смысле слова: «Внесение факта в коллективную
память обнаруживает все признаки перевода с одного языка на
другой, в данном случае - на „язык культуры"»3.
Соотношение механизмов памяти с механизмами перевода
приводит Лотмана к переосмыслению целого ряда
философских допущений, лежащих в основе исследования. Включение
перевода в анализ культурной памяти требует выхода за
рамки межъязыковых взаимодействий и расширяет философскую
сцену, на которой осмысляются эти процессы. Когда мы видим
в работе «Культура и взрыв»4, как проблема перевода
становится одновременно и общей проблемой семиозиса, из этого не
следует, что все существующее — языки и только языки, и что
этим ограничивается суть семиотической проблематики
применительно к той или иной области. Помимо языка, осмысление
семиозиса не может не учитывать и другие формы реальности —
как выраженной в языке, так и выходящей за его пределы5.
Лот1 Речь идет о статье Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского «О семиотическом
механизме культуры», написанной в 1971 году.
2 Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 томах. Т. III. Таллинн, 1993. С. 329.
3 Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. III. С. 329.
4 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 12-149.
5 Иначе говоря, «семиотическое пространство предстает перед нами как
многослойное пересечение различных текстов, вместе складывающихся в опреде-
306 Раздел III
ман предлагает изучать эти реальности в несколько приемов.
Сначала на месте прежней символической инстанции «я
мыслю» у Лотмана появляется субъект языка, а затем — уже с
учетом этой замены — формулируется и вопрос о субъекте и
объекте познания; что же касается итоговой расчлененной картины,
то она парадоксальным образом включает в себя разные
модальности соотношения языка, мира и субъекта. Это —
объективный мир, выраженный в языке и зависящий от его
возможностей язык, которым пользуется субъект, но кроме того, — и ту
иную объективность, которая есть мир за пределами языка. Это
и показывает лишний раз, что для постижения этих различных
миров необходимо множество языков или даже «открытое
число» языков: воссоздать достаточно объемную культурную
проекцию реальности способно лишь их взаимодействие.
§ 2. Познание и перевод в науке и в искусстве
Проблема перевода — в общем плане — возникает при
столкновении (и взаимодействии) разных языков — в культуре, в
науках, в искусстве, в любых других областях деятельности. А
потому перевод выступает как «универсальная задача» для всех
областей познания и культуры и может быть описан на разных
языках — математики, философии, искусства. Однако перевод в
науке (как гуманитарной, так и естественной) имеет одну
важную особенность, которая проявляется и в других областях, но
именно в науке выступает наиболее четко: речь идет о
взаимодействии языка описываемого объекта и метаязыка описания.
Лотман формулировал этот вопрос так: «Современная наука в
разных своих сферах — от ядерной физики до лингвистики —
видит ученого внутри описываемого им мира и частью
этого мира. Но объект и наблюдатель, как правило, описываются
разными языками. Следовательно, возникает проблема перевода
как универсальная научная задача»1. В этом и других подобных
высказываниях можно видеть внятно промысленную позицию,
ленный пласт, со сложными внутренними соотношениями, разной степенью
переводимости и пространствами непереводимости (курсив наш. — Авт.).
Под этим пластом расположен пласт "реальности" — той реальности, которая
организована разнообразными языками и находится с ними в иерархической
соотнесенности. Оба эти пласта вместе образуют семиотику культуры. За
пределами семиотики культуры лежит реальность, находящаяся вне пределов
языка». Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 30.
1 Там же. С. 386.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 307
которая выходит за рамки «специальной науки» в область
методологии и эпистемологии.
В самом деле, взаимодействие объекта и субъекта
представлено здесь через взаимодействие их языков — языка
описываемого объекта и языка познающего субъекта. «Из
наивного мира», в котором достоверность приписывалась
непосредственному восприятию и обобщению его данных, а
проблема позиции познающего субъекта по отношению к
познаваемому объекту мало кого волновала <...> наука перешла
в мир относительности. Вопросы языка стали касаться всех
наук»1. Получается, иными словами, что именно наличие
языка и других знаково-символических средств, посредством
которых фиксируется, описывается, преломляется взаимодействие
субъекта и объекта познания, позволяет нам отказаться от
наивного реализма и учесть относительность познания, его
преломленность и опосредованность. Было бы неверно заключить
из этого, что тезис об относительном характере познания
обессмысливает сам поиск истины; однако он напоминает нам, что
объекты мысли не субстанциональны, а познание
представляет собой в известном смысле именно перевод, а не буквальное
изображение своего предмета. Для нас это очень важно:
Лотман — один из немногих исследователей, кто прямо связывает
познание с переводом. Познавать — это и значит «описывать, то
есть переводить на какой-то другой язык»2. Переводом с языка
на язык является и любое мыслительное действие: «Сама
природа интеллектуального акта может быть описана в терминах
перевода, определение значения — перевод с одного языка на
другой <...>»3. Эти моменты лотмановской концепции
познания как перевода могут быть апробированы на самом разном
материале, прежде всего — историческом, который для Лотмана
первостепенно важен.
Существенной для историка Лотман считает способность к
тонкому расчленению познавательных уровней и позиций.
Отсюда — лотмановская критика тех исторических подходов
(например, историко-теоретической концепции Коллингвуда),
для которых «мир объекта» и «мир историка» неразличимо
сливаются. В этой связи Лотман упорно ставит вопрос о
соотношении языка-объекта и метаязыка. Человеческий язык как особая
1 Там же. С. 386.
2 Лотман Ю. М. Воспитание души. С. 287.
3 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 17.
308 Раздел III
конструкция имеет свой метауровень: с которым связана
способность к самокоррекции — своего рода внутренней
рефлексии, не обязательно проходящей через ясное самоосознание.
Уже Якобсон пристально вглядывался в метаязыковую
способность языков — в частности, в связи с процессами перевода:
способность говорить на каком-то языке подразумевает также и
способность говорить об этом языке и тем самым отстраняться
от самого себя, переводить свою позицию в иные термины1.
Эти общие положения находят у Лотмана свое применение,
в частности, на уровне методологии исторического познания.
Историк обязан учитывать соотношения между метаязыком
(языком описания) и объектным языком, овладевать
механизмом перевода с одного языка на другой, при всех парадоксах,
которые при этом возникают (чем точнее метаязык, тем уже
область возможного описания, и наоборот). Напротив,
Лотман видит свою задачу в «предельном обнажении различий в
их структурах, описании этих различий и трактовке
понимания как перевода с одного языка на другой»2. Иными словами,
проблема «перевода языка источника на язык исследователя»
выходит здесь на первый план3, и понятно почему: историк и
история, наблюдатель и объект «говорят на разных языках», а
потому их соотнесение невозможно без многократного,
многоуровневого перевода.
В целом, осмысляя проблему перевода в человеческом
познании, Лотман опирался на общелингвистическую
концепцию перевода, некогда предложенную Романом Якобсоном,
однако во многом — выходил за ее пределы. Напомним, что
Якобсон исходил из трех типов перевода: это внутриязыковой,
межъязыковой и межсемиотический перевод. Такой порядок
значимостей может показаться странным: ведь первым, когда
мы говорим о переводе, приходит на ум межъязыковой перевод
(или «собственно перевод»). Однако Якобсон начинает с
другого вида перевода — внутриязыкового: быть может, потому, что
именно в нем с особой ясностью представлен процесс
развертки знака в процессе придания знаку значения4. По Якобсону,
1 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода [1966] / Пер. с англ.
Л. А. Черняховской // Якобсон Р. О. Избранные работы. М., 1985.
С. 363-364.
2 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 388.
3 Там же. С. 386.
4 Определяя значение через процедуру перевода, Якобсон ссылался в
первую очередь на Пирса в его интерпретации Джоном Дьюи. См.: Якобсон Р.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 309
эти три способа перевода представляют собой три способа
интерпретации вербального знака: так, знак может быть переведен
в другие знаки того же языка (или переименован), переведен
на другой язык, наконец, переведен в другую, невербальную,
систему символов. Каждый из этих видов перевода порождает
свои затруднения. Так, внутриязыковой перевод порождает
синонимичные выражения, которые не являются вполне
эквивалентными. Межъязыковой перевод предполагает процесс
перекодировки (слов или целых сообщений), при котором только
обостряется вопрос о том, как достичь эквивалентности,
сохраняя различия. Наконец, третий вид перевода — перевод между
различными семиотическими системами (как, впрочем, и
первые два) — неизбежно упирается в вопрос о взаимной
переводимости этих систем.
В наши дни те, кто столкнулся с непреодолимыми
трудностями в переводческом деле, все громче провозглашают
тезис о непереводимости. Якобсон некогда назвал его «догмой
непереводимости»1, причем он видел опровержение этой
«догмы» как раз в доводах из реальной практики межъязыкового
перевода. Например, если в языке, на который мы переводим,
не находится нужных слов, переводчик может изобрести новые
слова, использовать описательные обороты или же прибегнуть
к заимствованиям. Если в языке, на который мы переводим,
отсутствует какое-то важное грамматическое различение,
формообразующий прием, можно передать понятийную
информацию, содержащуюся в оригинале, иными — допустим,
лексическими средствами. К тому же, что приходится все время иметь в
виду, языки, с точки зрения Якобсона, различаются между
собой не столько тем, что «в них может быть выражено» (а в них
может быть выражено самое разное содержание), сколько тем,
что «в них должно быть выражено»2 (речь здесь идет о том, что
привносится в сообщение самими языками — в силу
специфики их морфологической и лексико-семантической структуры).
В любом случае для Якобсона перевод (который он иногда
называл «перекодирующей интерпретацией») есть то, что в
ко0 лингвистических аспектах перевода. С. 362. Как мы уже видели, Лотман
также — вслед за Пирсом и Якобсоном — подчеркивает роль перевода в
процессе определения значения.
1 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода. С. 363.
2 Там же. С. 365.
310 Раздел III
нечном счете позволяет нам найти выход из ситуаций, поначалу
воспринимаемых с позиций языковой несоизмеримости1.
Что же касается Лотмана, то он понимает перевод шире и в
некоторых существенных моментах - иначе, чем Якобсон.
Пожалуй, наиболее важно здесь то, что в дополнение к трем
якобсоновским типам перевода он обращает наше внимание также
на значимость первичного акта выражения, или вербализации
непосредственно переживаемого опыта. А кроме того,
затрагивает и другие, малозаметные, на первый взгляд, аспекты
широко понимаемого перевода: например, наряду с переводом между
разными семиотическими системами, он пытается также
выявить некоторые типические ситуации переходов (переводов) из
внесемиотического (или, можно сказать, досемиотического)
мира в семиотический, культурно опосредованный мир, и
обратно. Иными словами, он видит процессы перевода не только
на уровне языковой и, шире, семиотической деятельности, но и
на еще более глубоком уровне взаимодействий между
досемиотическим и семиотическим, между механизмами семиотизации
и выпадением тех или иных явлений из круга культурно
значимого. На взаимообратимости этих процессов отчасти строится
и его трактовка перевода как способа запоминания, как
перехода в регистр культурной памяти тех или иных лиц и событий.
Однако, пожалуй, самым важным отличием лотмановской
концепции перевода от якобсоновской была трактовка
вопроса о непереводимости. Если Якобсон, кажется, не видел в
столкновении перевода с непереводимостью ничего хотя бы
потенциально положительного, то Лотман делает шаг к продуктивной
трактовке непереводимого и при этом неизбежно выходит за
пределы межъязыкового и межсемиотического перевода, из
которых черпал свои примеры Якобсон, в область более общей
проблемы понимания. Лотман трактует вопрос о
переводимости и непереводимости через осмысление парадоксов
человеческого общения и его механизмов: чем труднее общение, тем
оно содержательнее, чем проще — тем примитивнее и
бесполезнее. Странность, однако, в том, что мы, оказывается, прежде
всего «заинтересованы в общении именно с той сферой,
кото1 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода. С. 366. При этом,
разумеется, Якобсон не мог не признать, что в поэзии достичь такой соизмеримости
и, стало быть, переводимости между языками сложнее, чем в прозе: при этом
он нередко вспоминал, как перевод поэтического сборника Пастернака
«Сестра моя — жизнь» приводил в отчаяние чешского поэта Йозефа Хору (ведь
само слово ivot 'жизнь' на чешском языке — мужского рода).
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 311
рая затрудняет общение, а в пределе делает его невозможным»1.
В этой ситуации Лотман видит «неразрешимое противоречие»:
«чем труднее и неадекватнее перевод одной
непересекающейся части пространства на язык другой, тем более ценным в
информационном и социальном отношении становится факт
этого парадоксального взаимодействия»2. Иначе говоря, именно
«перевод непереводимого оказывается носителем информации
высокой ценности»3, тогда как безоговорочная победа
какогонибудь одного полюса коммуникативного процесса — полного
понимания или же совершенного непонимания (и то, и другое
возможно лишь гипотетически) — разрушает общение. Таким
образом, если Якобсон трактует «непереводимость» как
помеху коммуникации, устраняемую определенными процедурами,
то Лотман фактически усматривает в самом феномене
непереводимости (или, можно сказать, осложненной переводимости)
тот продуктивный механизм культуры, который, затрудняя
человеческое общение, делает его более интенсивным и
насыщенным, приводит к порождению новых культурных смыслов4.
Здесь уже говорилось о многоязычии как парадоксальном
условии постижения реальности: множественность языков не
закрывает от нас реальность, но позволяет видеть ее более
выпукло и объемно. Неоднократно возвращаясь к этой мысли,
Лотман подчеркивает и усиливает парадоксальность тезиса,
который я называю здесь тезисом о продуктивной
непереводимости. Когда языки, с которыми мы имеем дело, лишь
«ограниченно переводимы» или даже «взаимно непереводимы»,
различные языковые образы реальности наслаиваются друг на
друга, и получение целостной картины требует их
взаимосогласования и взаимоувязывания. Все это подталкивает нас к
мысли, что именно «взаимная непереводимость (или ограниченная
переводимость) является источником адекватности
внеязыкового объекта его отражению в мире языков»5. По-видимому,
непереводимость так или иначе свидетельствует о
«сопротивлении материала», а потому взаимоналожение и взаимодействие
1 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 16.
2 Там же.
3 Там же.
4 «Трудности взаимопонимания, ситуации непереводимости из одной
семиотической системы в другую, семиотическое многоязычие культуры
привлекают внимание исследователя как механизмы смыслопорождения».
Лотман Ю. М. Воспитание души. С. 116.
5 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 13.
312 Раздел III
ряда «неадекватных» переводов может приводить к
некоторому реальному познавательному продвижению. Мы не просто
накладываем на предмет сетку своих понятий и терминов, но
испытываем ограниченность нашего языка и необходимость
дополнительного использования других понятийных средств,
других языков. Таким образом, феномены непереводимости
(если не воздвигать на их основе своего рода «идеологии
непереводимости») в ряде случаев оказываются вполне
продуктивными: они стимулируют механизмы перевода,
интенсифицируют языковую артикуляцию реальности.
Особой областью, позволяющей судить о механизмах и
процессах перевода и непереводимости, выступает для Лотмана
искусство. С одной стороны, искусство для него — область
познавательных экспериментов, причем этот тезис об искусстве как
познании был характерен как для раннего, так и для позднего
Лотмана. С другой стороны, искусство для него — область
высокой степени свободы, богатая возможностями порождения
новых смыслов, и этот момент все яснее предстает в его поздних
работах. При этом в области искусства ситуации
непереводимости возникают особенно часто: это случается как при
попытках перевода произведений искусства на «нехудожественные»
языки, так и при переводе между различными языками
искусства (например, «перевода языка поэзии на язык живописи или
даже, казалось бы, на более близкие языки театра и
кинематографа»).
По Лотману, искусство занимает особое место среди других
смыслопорождающих систем в человеческой культуре. В
частности, потому, языки искусства в динамике их
взаимоотношений охватывают огромный диапазон возможностей — от
«неполной переводимости» до «полной непереводимости»1.
Однако в анализе искусства и прежде всего — словесного
искусства, Лотман никогда не любуется непереводимостью как
таковой. Он подчеркивает тот момент, который действительно
сдвигает нас с мертвой точки полярных противопоставлений,
а именно, антиномичную ситуацию «переводимости
непереводимого» (по-видимому, этот парадоксальный феномен мы
наблюдаем не только в искусстве!). Откуда она берется? Как
она возможна? По-видимому, она возникает в результате того,
что накопление «взаимонепереводимых образов
действительности», которыми щедро снабжает нас искусство, приводит к
Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 13.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 313
смысловым взрывам1 — в точках пересечения этих
непересекающихся образов. Однако столкновение с непереводимостью
не блокирует процесс перевода. Умножение переводов, даже
«неадекватных», предполагает — на пределе возможного —
высокое напряжение между различными языками и потому
становится «механизмом порождения новых смыслов»2. Конечно,
в этом можно видеть лишь набросок ответа: мы находимся на
пороге пространства, в котором творческие «взрывы»
преобразуются в механизмы артикуляции. Напомню: разбирая понятие
вдохновения, Лотман цитирует письмо Пушкина: дело тут не
в «романическом безумии», но в особом «расположении души
к живейшему принятию впечатлений», но также — что для нас
принципиально важно — в «быстром соображении понятий»3.
Иначе говоря, превратить «ситуацию непереводимости в
ситуацию перевода»4 может лишь взаимодополняющее участие
эмоционального и интеллектуального в культурном творчестве: в
эти моменты взаимодействия присущая искусству свобода
моделирования мира прорывается в сферу художественного языка
и запечатлевается в ней.
§ 3. Перевод и непереводимое с позиций семиозиса
Таким образом, внутри семиотического пространства
перевод и непереводимость, по Лотману, вступают в сложные
отношения. В конечном случае, именно давление
непереводимого подводит к прорывам в запредельное, внесемиотическое
пространство, становится стимулом к его освоению. В любом
случае мир семиозиса не есть нечто замкнутое: он все время
«"играет" с внележащим ему пространством, то втягивая его в
себя, то выбрасывая в него свои уже использованные и
потерявшие семиотическую активность элементы»5. По сути, Лотман
описывает здесь механизм существования того, что мы
называем «открытой структурой»6, противопоставляя этот образ
догматической статике расхожих взглядов на структурализм. Речь
идет о динамической ситуации постоянного обмена, в которой
1 Лотман Ю. М. Непредсказуемые механизмы культуры. С. 63.
2 Там же.
3 Там же. С. 64.
4 Там же.
5 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 30.
6 См.: Автономова Н. С. Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман —
Гаспаров. М., 2009.
314 Раздел III
перевод как операциональный механизм межчеловеческого и
межъязыкового взаимодействия в конечном счете обеспечивает
соотнесенность семиотического с несемиотическим,
системного с несистемным.
Как уже говорилось вначале, эти моменты внутренней
динамики семиотических представлений обычно относят скорее
к Лотману «позднему». Полагаю, однако, что между ранним и
поздним периодами лотмановского творчества нет антагонизма:
«взрыв и динамика» существовали и у раннего Лотмана (ведь
Лотман прежде всего — историк, а не семиотик-структуралист),
а поиск научности через исследование структуры культурных
объектов присутствует и у позднего Лотмана. В любом случае
структурно-семиотические построения были важны для него не
сами по себе, но как средство обеспечения определенной
динамики — продвижения научного познания, и никакие внешние
катаклизмы и внутренние сомнения этой общей задачи не
отменяли. Но теперь, полагаю, у нас появляется новый довод в
пользу динамического образа лотмановского структурализма.
Речь идет о его трактовке культуры как совокупности
механизмов перевода, предполагающих динамическую онтологию
изучаемых объектов и динамические возможности когнитивных
и переводческих практик. Конечно, нам предстоит еще более
тщательно соотнести эти разные образы динамики — взрыв и
перевод: перевод может рассматриваться Лотманом и как
механизм упорядочения, артикуляции, и как механизм
непременного столкновения с непереводимым и тем самым — приведения к
взрыву. Лотмановский материал всегда богаче каких-либо
частных схематизации.
В любом случае вопрос о переводе и непереводимости,
который выступает как один из способов лотмановского понимания
культуры (наряду с такими категориями, как энтропийное и
упорядоченное, взрывное и постепенное, динамическое и
статическое), имеет важные следствия для всех составляющих его
метода: «Если мы говорим, что семиотика опирается на точные
методы, то можно, отнюдь не стремясь к парадоксам, сказать,
что она изучает „точными" методами „неточные" системы.
Если же не стремиться к парадоксам, то следует признать, что
именно „точные" методы дают нам возможность уловить
„неточные" структуры»1. И это — не игра слов, но глубоко
взвешенное суждение, учитывающее две уже упоминавшиеся
тенЛотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 175.
Слово и знание: споры о структуре в контексте... 315
денции: «Одна стремится к взаимной переводимости языков
говорящего и слушающего, то есть к пониманию, другая,
противоположная, к их непереводимости. Первая направлена на
увеличение количества информации, вторая — на ее ценность»1.
По-видимому, мы вправе сказать, что такая коммуникация
имеет «открытую структуру», которая подразумевает
одновременно и незавершенность текстовой динамики, и прочность
той основы, на которой она воспринимается. Другой ее аспект
определяется концептуальными и практическими навыками
перевода, которые, не обеспечивая заведомого успеха,
позволяют нам так или иначе справляться с теми внутрисистемными
и внесистемными напряжениями, которые обычно приводят
культурную систему либо к распаду, либо к окостенению. В
механизмах перевода Лотман видит одновременно и путь к
структурно закономерному, и путь к смысловой динамике культуры.
Об этом он писал неоднократно, в частности, размышляя о
наследии тартуско-московской семиотики: «Соединяющее нас
языковое пространство — пространство открытое. Оно может
разрастаться, может сжиматься, может переводить
определенные вещи в статус языка — обязательной структуры, в которую
я закладываю нечто, а ты это нечто получаешь. Но может
случиться, что я заложил — а ты не вынул. Это факультативное
добавление, то, что может получить смысл, а может и не получить.
То есть существует пространство смысла. Так вот, особенность
тартуско-московской (так точнее) школы в том и
заключается, что она изучает смысловое пространство как нечто живое и
очень динамическое»2.
Это последнее высказывание ведет нас сразу в нескольких
разных направлениях, но прежде всего напоминает нам о том
опорном противоречии, которое, в конечном счете,
обеспечивает жизненность культуры: в открытом пространстве языка
существуют и «обязательные» структуры, и «необязательные»,
подчас непредсказуемые, смыслы. Предметом своего
внимания Лотман считал смысловое пространство культуры, но в
отличие от весьма распространенной ныне тенденции, он не
отказывался при этом от изучения «обязательных структур». В его
концепции динамика соотношений между переводимым и
непереводимым разрешает концептуальные напряжения
неустанным поиском меры, тут же нарушаемой новым неравновесием.
1 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 175.
2 Лотман Ю. М. Воспитание души. С. 289.
316 Раздел III
Лотмановский подход к переводу — в свете того, что я называю
идеей продуктивной непереводимости, — остается важным
подспорьем для нашего последующего размышления о культуре и
о познании. Такого размышления, которое видит в порядке не
оковы дальнейшему движению, но хрупкий (и потому тем
более ценный) результат нашей постоянной борьбы с хаосом.
Лотмановская рефлексия о переводе и непереводимости
может показаться скромной на фоне, казалось бы, более
продвинутых традуктологических рефлексий в западном гуманитарном
и философском мире. Однако у нее есть свои сильные стороны,
например, она никогда не теряет того «реалистического»
горизонта значимости вещей, без которого любой поиск ведет в
никуда. Ее можно далее уточнять и достраивать, однако общие
контуры мысли о культуре и о возможностях ее познания
начертаны с выверенной интуицией целого. Эта рефлексия
захватывает больше того, что нам диктует образ науки, сложившийся
в современной культуре. И потому идеи Лотмана для нас
сейчас не просто материал истории, но стимул к поиску новых
путей. Так, они дают нам ключ к переосмыслению возможностей
структурализма и постструктурализма, к обсуждению методов
структурно-семиотического анализа в гуманитарных науках —
не как устаревшей рецептурно-технологической догмы, но как
еще не освоенного нами регистра концептуальных
возможностей. Мы видим вновь и вновь: поздний Лотман не забывал
слова «структура», а ранний Лотман иногда говорил о «взрыве»,
причем между одним и другим он не делал выбора с отсечением
альтернатив, а это — концептуальный вызов. А потому его
объемная и динамичная мысль занимает сейчас свое весомое место
и в нашем изучении истории европейских структурализмов —
женевского, пражского, французского, московско-тартуского,
и в нашем осмыслении современных культурных процессов в
их непредсказуемости, их открытости в будущее.
Раздел IV
Рациональность как тема
русской философии:
возвращение к традиции
Введение к разделу IV
Этот раздел, надо полагать, нуждается в самом обширном
предваряющем тексте. Прочитав его заглавие, читатель
вполне может задаться вопросом: какое отношение
тема философских дискуссий второй половины XX в.,
да еще и протекавших в основном в рамках философии
науки, имеет к традициям русской философии? Да,
действительно, в 1980—1990-е годы в советской философии эта тема
бурно обсуждалась в философско-методологической
литературе (в отличие, между прочим, от западной, где она обсуждалась
куда как менее активно). Обсуждается тема рациональности у
нас и ныне, хотя и спорадически, по конкретным поводам.
Однако в данном случае речь ведь идет о возвращении к вековой
давности традиции, пусть и эпистемологической. Так имеет ли
смысл обсуждать тему рациональности в таком контексте?
Прежде чем приступить к развернутому ответу на этот
вопрос, позволим себе в самом общем виде напомнить об
эволюции этой темы.
Понятие «разум» приобретало в истории — в истории
интеллектуальной и вполне бытовой, в истории различных областей
культуры и соответственно, в истории ее самосознания,
общегуманитарного и философского, столь различные смыслы, что
обсуждать это понятие вне указания на область и эпоху, на
контексты, где оно используется, просто невозможно. В данном
случае речь пойдет о весьма специальной области рефлексии
над наукой — о философском анализе методов и норм
научного познания, и о достаточно определенном периоде — от «краха
логико-методологических программ позитивизма» и угасания
интереса к структуралистским программам в гуманитарных
науках до дня нынешнего. В период разработки методологии этих
программ вопрос о соотношении научного разума и
социокультурной среды, в которой существует наука, казался абсолютно
ясным: среда в принципе некритична, связана с ориентацией
на авторитеты и уже по одной этой причине ничего общего с
научным разумом не имеет; влияние социокультурных
факторов ограничивает разум, а разум, там и тогда, где и когда он
получает возможность свободно действовать, вытесняет эти
влияния. И потому в своей собственной сфере, в сфере
рациональных реконструкций структуры познания, методология нау-
320 Раздел IV
ки не видела никакой необходимости в обращении к
социальным и культурным факторам, которые, конечно вмешиваются в
ход научного познания, но к его рациональной сути отношения
не имеют. Механизмы традиции или подобные им
социокультурные структуры чужды механизмам, обеспечивающим
функционирование научного разума. И, кстати, это обстоятельство
было одной из причин, в силу которой профессиональная
методологическая рефлексия игнорировала методологический опыт
гуманитарной науки. Однако ясность эта по поводу
социокультурных условий функционирования научного разума
сохранялась лишь до тех пор, пока в методологии науки не начал
складываться концептуальный аппарат, позволяющий конкретно
исследовать механизмы и формы динамики научного знания.
Вот здесь и появилась тема рациональности — она выросла из
попытки вполне традиционной философии науки ответить на
вопрос о том, на каких, собственно, основаниях оценивается
рациональность рациональных научных построений. Таким
образом, самодостаточность научного разума, выступавшая как
основание философско-методологической рефлексии над
наукой, трансформировалась в проблему.
Выяснилось, что социокультурные факторы на самом деле
играют в научном познании куда большую и притом куда
более конструктивную роль, чем им отводили просвещенческие
представления о возможностях разума. А процессы роста
знания, ход его исторического изменения и перестройки не
поддаются исчерпывающей рациональной реконструкции на базе
«традиционной» для методологии науки категории научного
разума, научной рациональности. Оказалось, что апелляция к
логическому единству знания недостаточна, чтобы обосновать
его историческое единство, а без этого обоснования наука, и в
синхроническом и в диахроническом планах, предстает как
совокупность разорванных, изолированных друг от друга
интеллектуальных конструкций. И философско-методологическая
рефлексия над наукой стала обращаться к категориям (к таким
как традиция, например, или парадигма), позволяющим
включить в методологический анализ внерациональные механизмы,
ибо именно такого рода механизмы фактически обеспечивают
преемственность научной деятельности и историческое
единство ее результатов. В частности, с особым и все более
нарастающим интересом методология науки 1960-х годов стала
рассматривать механизмы, обеспечивающие следование «образцам»
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 321
научного знания, причем, прежде всего, подчеркнем,
обратилась к механизмам социальным.
Наибольшую известность среди методологических
концепций динамики знания приобрели концепции Т. Куна и
И. Лакатоша. Аналогичный процесс, пожалуй, в еще более
радикальной форме можно было наблюдать и в методологии
гуманитарных наук (стимулированный работами М. Фуко).
Однако на созданном этими концепциями поле методологических
исследований заметные попытки ввести социокультурные
контексты в саму ткань рациональной науки имели место лишь в
историко-научных реконструкциях отдельных (уникальных)
научных событий (в так называемых case studies). При этом в
собственно методологическом плане такие попытки обращения
к социокультурным факторам выполняли, как правило,
релятивизирующую роль по отношению к собственно познавательной
деятельности. Иными словами, противостояние научного
разума и социокультурных контекстов, в которых разум только и
может реализовать свои познавательные функции, сохранялось
и здесь.
Жесткое противопоставление логико-рациональных и
культурно-исторических измерений научного познания начало
фактически размываться не в рамках методологической теории,
но в реальной методологической работе, где концептуальные
философско-методологические конструкции переплетаются с
самосознанием работающих ученых. Во всяком случае, к 90-м
годам прошлого века на этом противопоставлении перестали
конструировать методологические предписания и даже
воздвигать общие ориентиры. И в философии науки стала
ощущаться настоятельная потребность в принципиально ином
понимании оппозиций, которые могут быть положены в основание
методологии науки, потребность в принципиально ином
способе методологического осмысления и научной
рациональности и культурно-исторического контекста научного познания.
Наука изменилась. Она превратилась в мощную
социальноэкономическую подсистему общества. В ней резко возрос
массив прикладных исследований с их акцентом на практическую
эффективность, а не на истинность результатов. Все чаще
демонстрировало свою фактическую неточность и
методологическую неплодотворность восходящее к неокантианству деление
наук по методу на естественные и социально-гуманитарные.
Все эти процессы проблематизировали внутреннее
противостояние научной рациональности и культурно-исторического
322 Раздел IV
контекста. Что особенно заметно сказывается в области
методологии гуманитарных наук. И, наверное, как естественную
реакцию на все сегодня происходящее в науке и вокруг нее
следует рассматривать нарастающие сегодня в философии науки
постмодернистские тенденции, просто растворяющие разум в
социальном контексте.
Вот теперь, в свете сказанного, мы можем более ясно
ответить на поставленный в самом начале введения к этому разделу
книги вопрос: какое отношение тема философских дискуссий
второй половины XX в., протекавших в рамках философии
науки, имеет к традициям русской философии?
Очевидно, процессы, идущие сегодня и в науке, и в ее
методологическом сознании, настоятельно требуют принципиально
пересмотреть сложившиеся способы соотнесения научной
рациональности и человеческой разумности. Во всяком случае,
они настоятельно требуют от нас пересмотреть сложившиеся
представления об этих феноменах. К этому выводу подводит
нас логика обсуждения темы рациональности знания в
отечественной философии, и более того, это обсуждение
отправляет нас к эпистемологической традиции русской философии
первой половины XX века, где тема единства разума и сердца
интенсивно разрабатывалась и находила для себя иные
формы осмысления этих составляющих человеческого познания.
В разделе мы попытаемся показать, что в этих иных формах
тема разума в русской философии приобретает актуальность,
создавая принципиально новый контекст для современной
методологии науки.
Очевидно, все эти процессы, идущие сегодня и в науке, и в
ее методологическом сознании, настоятельно требуют
принципиально пересмотреть сложившиеся способы соотнесения
научной рациональности и человеческой разумности и, во
всяком случае, пересмотреть сложившиеся представления об этих
феноменах. И в этом контексте проблема рациональности,
обсуждаемая в отечественной философии во второй половине
XX века, приобретает более широкий смысл, сближающий ее с
темой разума в эпистемологической традиции русской
философии первой половины XX века.
Глава 1
Пиама Гайденко: «Научная
рациональность и философский разум»
§ 1. Рациональность как культурно-историческая проблема
В трудах Пиамы Павловны Гайденко, посвященных
разным проблемам, тематике, персоналиям и эпохам, —
отчетливая созвучность идей. Созвучность, подводящая к
мысли о проекте, который она специально не
декларирует, но фактически выполняет (что, признаем, явление
далеко не частое в нынешней отечественной философии).
Каждая из ее работ — особый яркий штрих в контурах ее концепции
«философского разума».
В своих работах П. П. Гайденко практически не касается
ни трактовок научной рациональности, несущих на себе
отпечаток неопозитивистской философии науки, ни модных ныне
социальных релятивизаций научно-познавательной
деятельности (буквально противостоящих неопозитивистским
трактовкам). В центре своего исследования она располагает варианты
философии науки, менее зависимые от сциентистских
идеологических веяний и значительно более чувствительные к
общефилософскому контексту и традициям философской критики
научного разума. Она обращает внимание на условия
постановки и способы обсуждения проблематики научной
рациональности неокантианцами (марбургская и баденская школы)
и Э. Гуссерлем в ходе становления феноменологических идей1.
В контексте, прежде всего, этих философских направлений она
вводит в поле своего исследования тематику, собственно и
порождающую проблему рациональности науки — тематику
исторической изменчивости, а стало быть, исторической
релятивности, несамодостаточности научного разума. Неопозитивисты
эту тематику игнорировали. Постпозитивисты просто
погрузились в нее, фактически утеряв всякое основание для
реф1 См.: Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М.,
2003.
324 Раздел IV
лексивной оценки ситуации. Обращение же к неокантианской
философии науки и к соответствующим сюжетам
феноменологии не только версифицирует подходы к проблеме научной
рациональности, но фактически восходит к истокам этой
проблематики в новоевропейской философии науки, что открывает
возможность анализа предпосылок ее постановки и перспектив
решения.
В случае неокантианства, как и в случае феноменологии,
теоретически исходным пунктом является кантовское
представление об активности субъекта познания — трансцендентальными
структурами его сознания очерчивается для них круг
оснований научного познания. Вместе с тем оба эти направления уже
не могли не принять во внимание изменяющуюся реальность
научно-познавательных практик рубежа XIX—XX вв. —
исторические, по сути, процессы становления неклассической науки.
Эти процессы как раз и создавали проблемную напряженность
вокруг рациональных параметров научного знания: из
описания реальных форм научно-познавательной деятельности и их
результатов напрашивался вывод, который они не могли
принять, — вывод об исторической изменчивости
трансцендентальных структур сознания познающего субъекта. Решая эту
проблему, и неокантианцы, и Гуссерль (по-своему) пересматривают
целый ряд весьма важных положений кантовской теории
познания. Но все эти модификации не затрагивают саму суть
трансцендентализма. Основания знания разыскиваются ими,
так сказать, в круге субъекта, и это обстоятельство определяет
характер развертывания их концептуальных построений. Более
того, своеобразный «субъективизм» кантовской позиции даже
усиливается, благодаря окончательному отказу от каких бы то
ни было онтологических допущений, прежде всего, от «вещи в
себе». У неокантианцев, скажем, активность познающего
субъекта приобретает вообще исключительно логический характер,
в отличие от Канта, для которого неотъемлемым моментом
синтеза все же были априорные структуры созерцания. Так или
иначе, оба эти течения пытались учесть фактическую
историкокультурную релятивность научного знания, не выходя за рамки
структур познающего субъекта.
Именно это ограничение, эта установка неокантианцев и
феноменологов оказывается на острие критического анализа
П. П. Гайденко. Ее не удовлетворяет частичность тех идейных
сдвигов, которые оба эти течения предлагают в качестве
концептуального ответа на историко-культурную релятивизацию
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 325
науки (и, соответственно, субъекта познания). Она считает,
что проблема рациональности имеет куда более радикальный
характер и стремится вывести философскую мысль,
анализирующую эти основания, из круга гносеологических и
методологических оппозиций, в котором эта мысль вращается с Нового
времени. Одна из центральных сюжетных линий, которые
разрабатывает П. Гайденко, повествует о том, как неокантианство
и феноменология, два мощных философских движения XX
столетия, ищущих решение проблемы рациональности науки во
внутренних структурах сознания познающего субъекта,
вступают в противоречие с собственными претензиями на
философский универсализм именно в силу такой ориентации своих
изысканий. Настойчивые попытки совместить в круге субъекта
трансцендентализм с культурной релятивностью, научный
разум с историзмом, оборачиваются неизбежной
психологизацией субъекта познания. Высокий трансцендентальный
«субъективизм» Иммануила Канта, соприкоснувшись с исторической
повседневностью научного познания XX века, снижается до
почти бытового прагматичного субъективизма и релятивизма в
оценках и суждениях. П. П. Гайденко детально прослеживает,
как пытаются и не могут избавить основания научной
рациональности от психологизма марбуржцы, баденцы,
феноменологи, герменевты.
Возникает даже своеобразное ощущение трагизма
происходящего, когда П. Гайденко прослеживает судьбу проблемы
ценностей в философии баденской ветви неокантианства и
в эволюции взглядов М. Вебера. Здесь становится отчетливо
видно, что культурно-историческую релятивизацию
ценностных ориентации субъекта познания невозможно преодолеть,
так сказать, изнутри самого субъекта. На одном полюсе
познания (и вообще всякой активности) оказывается субъект,
ценности которого лишены бытия (т. е. значимы для субъекта без
всяких на то оснований, ибо он сам и есть их основание), а на
другом — природа, лишенная всякой самоценности (т. е.
приобретающая какую-то ценность лишь в отношении к субъекту,
к его целям и смыслам). В ситуации же такого разъединения в
принципе невозможно отличить ценности субъекта от
сиюминутных субъективных оценок. А между тем, как показывает
Гайденко, в этой ситуации отчетливо представлена установка,
и поныне определяющая культурный статус европейской
науки, в ее отличии от античной и средневековой. И в античной
и в средневековой науке бытие и благо мыслились едиными и,
326 Раздел IV
стало быть, истинность знания означала не только его
соответствие данному фрагменту бытия, но и способность знания
донести до познающего смысл бытия как блага (в русской
традиции «положительной философии» это единство трактовалось
как «достоинство знания»). Иными словами, знание мыслилось
отнюдь не нейтральным в отношении ценностей — истинное
знание о бытии обосновывает ценности познающего, придает
им бытийственный статус. Основу же разъединения бытия и
блага, констатирует П. П. Гайденко, «составляет представление
о природе как системе объектов, между которыми существует
лишь механическая связь, где нет места так называемой
"целевой причине". Мир природы, таким образом, оказывается
лишенным подлинной жизни, целесообразно-смыслового
начала, которое вынесено за пределы природного мира и отнесено к
сфере человеческой деятельности, — передано субъекту. Такого
рода субъектный подход к категориям цели, смысла формирует
характерную для индустриальной цивилизации ментальность,
определяющую сегодняшнее отношение не только к природе
как к "сырью", но и к человеку только как к производителю и
потребителю материальных благ»1. Заметим — проекция такого
подхода к человеку на ситуации принятия субъектом
познавательных решений, вообще говоря, означает, что в основании
этих решений располагается хорошо если психологически
мотивированное воление, а то и просто потребность,
инициированная на клеточном уровне.
Размышления П. П. Гайденко о культурно-исторических
истоках проблемы рациональности представляются весьма
радикальными для философии науки. «Преодолеть
субъективизм, — пишет она, — ставший в новое время руководящим
принципом при исследовании научного знания и постепенно
превративший гносеологию в основную философскую науку,
можно лишь путем обращения к рассмотрению бытия как
центрального понятия философии и — соответственно — к
онтологическим, бытийным основаниям всякого знания, в том числе
и знания научного»2. В другой своей работе Пиама Павловна
называла сходные шаги «прорывом к трансцендентному».
Надо сказать, такой концептуальный ход укладывается в
общую схему так называемого онтологического поворота,
став1 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003.
С. 44.
2 Там же. С. 44-45.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 327
шего теперь вполне респектабельной философской стратегией.
Пользуются этой стратегией в меру своих сил теперь многие.
Так что главным в ней сегодня оказывается не общая схема, а
способ ее реализации. И здесь мы хотим настоятельно
подчеркнуть: развивая мысль о необходимости обратиться к
бытийным основаниям знания, П. П. Гайденко отнюдь не предлагает
просто внедрить цели и смыслы в познаваемую наукой
природу, возложив функцию по внедрению на восстановленную
для этих целей натурфилософию. Дело в том, что такая
интерпретация «онтологического поворота» является хотя и весьма
яркой, но не очень сообразующейся с реальной практикой
современной науки, да и с историей науки вообще. П. П.
Гайденко представляет иное, значительно более актуальное и весьма
перспективное, на наш взгляд, развитие этой темы,
связанное с знаково-символическим анализом культурных смыслов
тех онтологических допущений, которые наука сама кладет в
основание знания, и которые она сама в ходе своей внутренней
динамики сохраняет и изменяет в соответствии с
культурноисторическими запросами различных эпох.
В этом случае «онтологический поворот» означает, что
философское исследование оснований рациональности научного
знания должно быть направлено, прежде всего, на выявление
имманентных целевых и смысловых установок в собственных
онтологических допущениях науки. Эти допущения,
рассматриваемые как содержательные основания научного знания,
объективно представляют бытие, но именно в силу этого
несут в себе отблеск блага, каковым, с этой точки зрения, бытие
является. Очевидно, такое исследование предполагает
соответствующую реконструкцию историко-научного материала,
что и предпринимает П. П. Гайденко. «Исследование
исторических типов научной рациональности, — пишет она, —
естественно начинать с изучения и сопоставления научных теорий.
Однако это — лишь первый шаг, ибо сопоставительная работа
требует осмысления категорий, которыми оперирует ученый,
таких как число, пространство, время, континуум, конечное и
бесконечное, материя и движение и др. А это выводит за рамки
узко понятой научной теории и предполагает рассмотрение ее
философско-методологических предпосылок, в конечном
счете — реконструирование того духовного контекста, той
смысловой сетки, которая в каждую эпоху определяет человеческую
деятельность и мышление. Эта сетка составляет тот незримый
общий фон, на котором наука, искусство и философия чер-
328 Раздел IV
тят свои узоры. Без выявления такого фона вряд ли возможно
подлинное постижение того, что мы сегодня именуем типом
рациональности»1.
Такие реконструкции впервые были выполнены Пиамой
Павловной еще в 1980 и 1987 годах (две книги «Эволюция
понятия наука»). И в дальнейшем она продолжила поиск
культурноисторических оснований «философского разума».
Трансформации онтологических оснований исторических типов
рациональности науки представлены ею так, что в их
содержании достаточно явно проступают их внутренние (имманентные)
целевые и смысловые установки. Поэтому преемственность
содержания этих оснований в разные эпохи, понятая как
возможность их самостоятельного культурно-осмысленного
исторического движения — главное, что, на наш взгляд, стремится
продемонстрировать своими историко-научными
реконструкциями П. П. Гайденко.
Мы не будем широко иллюстрировать те возможности,
которые открывает перед философией науки предложенный
Пиамой Павловной вариант обращения к онтологическим
основаниям рациональности знания. Позволим себе лишь
один пример, чтобы читатель мог оценить эффективность ее
подхода. Проследив историю античной идеи непрерывности в
науке, она замечает: судьба этой идеи «свидетельствует о том,
насколько неверно то представление (получившее сегодня
широкое распространение как среди философов, так и среди
ученых), что наука в собственном смысле слова начинается только
в XVII в. Столь же несостоятельно и утверждение, что
существует столько же разных, не совместимых между собой "наук",
сколько имеется разных "культур", а потому понятия,
которыми оперирует, скажем, аристотелевская физика, совершенно не
переводимы на язык физики Нового времени. Конечно, в
рамках различных культурно-исторических контекстов научные
теории имеют свои особенности, но эти особенности нельзя
<...> абсолютизировать, иначе окажется невозможной никакая
историческая реконструкция прошлого»2.
Подобного рода выводы, полученные П. П.
Гайденко на пересечениях двух планов исследования —
историкофилософского и историко-научного, - хорошо проецируются
1 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003.
С. 220.
2 Там же. С. 291.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 329
на ситуацию, складывающуюся сегодня в науке и вокруг нее.
Это делает ее концепцию не просто актуальной, но
злободневной. Демонстрируя в своих историко-научных реконструкциях,
как возможно онтологическое обоснование («онтологическое
фундирование») науки, П. П. Гайденко прямо ставит вопрос о
том, «в какой мере оно в состоянии изменить сегодняшнюю
ситуацию, помочь в прояснении структуры современной науки, а
может быть, и содействовать рождению "альтернативной
науки" о природе, в рамках которой человек уже не противостоял
бы природному миру как его "преобразователь" и насильник?»1.
Мы полагаем, что этот вопрос стоит сегодня перед всей
современной философией. Он стоит перед философией науки и
гносеологией, перед герменевтикой и феноменологией, перед
современными версиями метафизики и даже перед
постмодернизмом (Ж. Деррида). Однако заметим, этот же вопрос стоял и
перед философами начала XX века, когда они размышляли о
«Кризисе европейских наук».
§ 2. П. Гайденко и Ж. Деррида: две интерпретации
«Кризиса европейских наук» Эдмунда Гуссерля
Примечательно, что тема «кризиса» европейского разума
(как она прозвучала в гуссерлевских докладах) находилась в
центре российских философских дискуссий 1990-х годов2.
А потому было бы интересно сравнить русский и
французский способы прочтения гуссерлевских «Кризисов...»
середины 1930-х годов: каковы проблемные акценты при чтении и
контексты интерпретации одних и тех же текстов? Гайденко и
Деррида — люди одного поколения, но разных судеб и разных
философских интересов. Оба они фактически не
рассматривают специально англоамериканские дискуссии о
рациональности и выбирают скорее классическую философскую
проблематику рациональности и Гуссерля как связующее звено между
классическим и неклассическим подходом к рациональности.
Гайденко пишет общее концептуальное введение к первой
сокращенной публикации «Кризиса европейских наук и транс
1 Там же. С. 45.
2 См.: Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум в
интерпретации Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии. 1992. № 7; см. также:
Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003.
330 Раздел IV
цендентальной феноменологии» на русском языке1, делая
Гуссерля потенциальным участником современных российских
дискуссий по философии науки, связанных с проблемой
рациональности. Статья Гайденко сопровождает публикацию
12 параграфов из указанной работы Гуссерля2. Во Франции и
в Англии этот перевод был сделан много раньше: так,
Гайденко ссылается на английский перевод «Кризиса...», сделанный
Д. Карром в 1970 г. и серьезно повлиявший на восприятие
Гуссерля в англоязычном философском мире. В ссылке Гайденко
на более позднюю статью Kappa упоминаются и Хайдеггер
вместе с Деррида как сторонники «релятивизма понятий». Kapp
как сторонник раннего Гуссерля включил в эту рубрику
многих европейских философов (например, Витгенштейна
периода «Философских исследований» и Гадамера периода «Истины
и метода») — пожалуй, слишком многих, чтобы принять такую
характеристику, не усомнившись в ее адекватности3.
Очевидно, что дерридианский акцент в развитии темы
рациональности иной, чем у Гайденко: философия науки не
принадлежит к его осознанным преференциям (хотя анализ проблемы
повторяемости в процессе построения идеальных объектов не
только серьезно повлиял на дерридианскую концепцию
деконструкции и ее философского языка, но и, можно считать,
остается значимым и для анализа языка науки и процессов
ее развития). При чтении «Кризиса европейских наук»
Гуссерля и смежных с ним работ Деррида вовлекает в
рассмотрение проблемы разума социально-философскую и
социальнополитическую тематику. Основной материал для нас — два
важнейших выступления Деррида последних лет, позднее
объединенные в книгу «Хулиганы. Два опыта о разуме»4. Эти
выступления близки по времени (июль—август 2002) и по темам,
хотя произносились они в разных аудиториях. Первое —
переведем его «Резон самого сильного (Существуют ли
государства"хулиганы"?)»5 — доклад на декаде в Серизи в июле 2002 года,
1 См.: Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум в
интерпретации Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии. 1992. № 7.
2 Полное издание «Кризиса...» вышло в 2004 г. См.: Гуссерль Э. Кризис
европейских наук и трансцендентальная феноменология // Пер. с нем.
Д. В. Скляднева. СПб.: Фонд Университет, Владимир Даль, 2004.
3 Там же. С. 132.
4 Derrida J. Voyous. Deux essais sur la raison. Galilée, 2003.
5 Derrida J. La raison du plus fort ( Y a-t-il des Etats "voyous"?) // Derrida J. Voyous.
Deux essais sur la raison. Galilee, 2003. P. 9-161.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 331
второе, месяцем позже — на конференции ассоциации обществ
франкоязычной философии в университете Ниццы: общим
заглавием конференции было «Будущее разума и становление
рациональностей», а доклад Деррида назывался «"Мир"
грядущего Просвещения (исключение, расчет и суверенность)»1.
За этими сложно нагруженными заглавиями лежит общая
гипотеза Деррида, объединяющая оба выступления (они очень
большие по объему) в книжку: он полагает, что понятие разума
(практического или теоретического, этического или
юридического, а также технического), а также понятия демократии,
наступления события (или «грядущего» события) принадлежат к
общему проблемному переплетению.
Сопоставляя чтение «Кризисов» у Гайденко и Деррида,
отметим лишь несколько важных для нас моментов. Первое, что
бросается в глаза, это изобилие всяческой «морбидной»
лексики в пересказе Гуссерля у Деррида и полное отсутствие ее у
Гайденко. Поначалу может показаться даже, что Деррида
вводит в свой пересказ какую-то отсебятину. Но нет, тема
болезни действительно одна из основных в гуссерлевском описании
кризиса, особенно в Венском докладе, хотя Деррида еще
больше усиливает ее, как бы через Гуссерля рассказывая о
«трансцендентальной патологии», выражающейся в нарушениях
иммунитета и угрозе автоиммунных процессов2. В данном случае,
рассказывая о Гуссерле, Деррида так или иначе переводит его
на свой — деконструктивистский — концептуальный язык, в
рамках которого апория автоиммунных процессов занимает
далеко не последнее место. Так, если Гуссерль вводил тему
здоровья и болезни и затем рассматривал вопрос о приложимости
этих противопоставленных понятий к «обществам, народам,
государствам»3, то Деррида вычленяет в этой проблематике
«болезни» и «кризиса» (как мы знаем, к идее кризиса он относится
с некоторой настороженностью — как к понятию классической
философии), более сложные процессы, связанные с
двойственностью восприятия внешних воздействий и их переработки — в
данном случае, внутри разума, внутри европейского
культур1 Derrida J. Le "Monde" des Lumières à venir (Exception, calcul et souverainté) //
Derrida J. Voyous. Deux essais sur la raison. Galilee, 2003. P. 165-217.
2 Правда, отметим, французский язык при переводах с немецкого дает
некоторые приоритеты морбидной тематике. Так, Übel (зло) передается
пофранцузски как mal (первое значение которого — зло, а второе — боль).
3 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия (Венский
доклад) // Вопросы философии. 1986. №6. С. 101.
332 Раздел IV
ного организма. Но спрашивается, почему у Гайденко этой
темы здоровья и болезни начисто нет? Думаем, по нескольким
причинам: она работает больше на уровне идей, чем на уровне
концептуального стиля и языка, где все эти метафоры
объективируют идею кризиса, но также, возможно, и потому, что ее
публикация сопровождает тот фрагмент «Кризиса...», в котором
действительно не так много об этом говорится.
Гайденко пытается сделать гуссерлевскую телеологию
более объемной, относя ее и к предпосылкам познания
природы, а Деррида, напротив, стремится полностью изъять ее из
рассуждения — как антипод мысли о событии. Таким образом,
прочтение Гуссерля у Деррида направлено на ограничение
телеологических схем, выход за их пределы и расчистку почвы
для события. Что же касается трансцендентальной
феноменологии, то она, согласно Деррида, видит причину всех этих
аберраций разума в структуре настоящего, в восприятии
присутствия жизни (Гуссерль называл это живым настоящим, die
lebendige Gegenwart; по-французски — le présent vivant). Иначе
говоря, за этот кризис ответствен объективистский
иррационализм, порожденный самим разумом, но представляющий его
извращенное использование, уходящее в узкую
специализацию региональных онтологии. Иначе говоря, будущее разума
сопротивляется телеологическому единству разума, той
бесконечной задаче, которая заключается в выработке где-то на
горизонте некоего единства или тотальности истин (die Allheit
der Wahrheiten zu verwirklichen). То что сопротивляется этому
телеологическому единству, напоминает нам, и не случайно,
кантовские антиномии, которые, по сути, сами же
сопротивлялись собственному архитектоническому проекту разума. Как
бы то ни было, считает Деррида, и гуссерлевская телеология, и
кантовская архитектоника, каждая по-своему, ограничивают и
нейтрализуют то, что можно назвать событием,
непредсказуемостью.
Возникает впечатление, что Гайденко, склоняясь в сторону
телеологии, проводит через телеологическую
концептуализацию даже то, что можно было бы назвать археологией —
обращение к Аристотелю и его концепции природы, которую она
считает альтернативной по отношению к механистическому,
объективистскому новоевропейскому естествознанию XVII и
XVIII вв. Гайденко вместе с телеологической идеей,
распространяемой на природу, включает идею в более тщательно
прочитываемые основания науки идею бытия как блага. Тема Бла-
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 333
га появляется и у Деррида, только основная отсылка у него не
Аристотель, а Платон — в связи с политическими идеями и
«Государством»: неслучайна и отсылка к теме Платонова «Солнца»
в связи с идеей идеального правления и идеей блага, это солнце
так же освещает умопостигаемое в человеческой душе, как
физическое Солнце освещает мир зримого, видимого.
По Гайденко, Гуссерль недостаточен в своей критике
релятивизма: он останавливается на полпути там, где был бы
нужен прорыв к трансцендентному — то есть к бытию. Для
Деррида телеологический подход неправомерен в принципе,
на его место он ставит идею события — в контексте идеи
безусловной и рациональной деконструкции. Так, обсуждая
«будущее разума», «становление рациональностей», Деррида
подчеркивает именно вторжение «событий», изобретение нового
(инвенции, inventions)1: помыслить необходимость разума в
его будущем и его динамике можно лишь там, где мы
сталкиваемся с непредвиденным (imprévisible)2, ибо предвидимость
события нейтрализует вторжение нового. Везде, где у нас есть
возможности наблюдать подход события в некоей
телеологической перспективе, событие оказывается нейтрализовано,
деформировано.
Однако в какой-то момент эти линии явной дивергенции
обнаруживают и иные импульсы. Отвечая на вопрос о том,
насколько рациональны основания научной рациональности
и признавая ограниченность гуссерлевского решения,
Гайденко стремится вывести проблему рациональности за рамки
узко гносеологических ходов — в природу: она ищет выхода на
путях преодоления субъективизма и обращения к бытию как
к фундаменту всякого знания, в том числе и научного.
Конечно, такой ход мысли не означает внедрения смыслов прямо
в природу, что привело бы лишь к архаичной
натурфилософии. По сути, Гайденко предлагает исследовать «культурные
смыслы тех онтологических допущений, которые наука сама
кладет в основание знания, и которые она сама, в ходе своей
внутренней динамики, сохраняет и изменяет в соответствии с
культурно-историческими запросами различных эпох (курсив
1 Между прочим, латинский язык с готовностью указывает нам на забытую
нами неразрывную семантическую связь между такими однокоренными
словами, événement и inventions, равно как в тот же самый ряд попадают также
avenir и devenir, то есть, «будущее» и «становление».
2 Derrida J. Le "Monde" des Lumières à venir. P. 197.
334 Раздел IV
наш. — Авт.)»1. Словом, телеология не перерастает здесь в
натурфилософию: напротив, она приводит к кристаллизации
механизма одновременного сохранения и изменения знания,
опосредованного слоем познавательных предпосылок,
открытых к культурным и историческим контекстам. Вместе с тем и
дерридианский антителеологизм тоже оказывается на
поверку несколько иным, чем нам на первый взгляд представляется.
По Деррида, телеологический разум в мысли о событии или
же о рациональном нам не помощник: ведь он, по сути,
передоверяет мысль о событии иррационализму2, а для Деррида это
недопустимо. А потому нам предстоит изобличать любые
уловки телеологического идеализма (как называл Деррида в своем
философском языке любые априорные подходы к истории).
Каким образом? Постоянно напоминая о не-предвиденности
события: только не-предвиденное (im-prévisible: Деррида пишет
это слово с дефисом, чтобы подчеркнуть его новую семантику)
достойно называться событием. А мысль о событии, в свою
очередь, — единственное, что позволяет улавливать
непредсказуемое и новое. Тонкость требующихся здесь концептуализации
предполагает, что событие должно быть представлено
рационально, но не телеологично: ему нужно дать средства заявить о
себе, но при этом вывести за рамки заданного горизонта
ожидания. Однако телеология есть, только она спрессована в смыслы
настоящего, которое предстает в мессианском модусе а венир,
который дает не проброс в будущее, но мысль о настоящем как
бывшем будущем (из Беньямина, которого чтит Деррида).
Деррида ставит риторический вопрос: как видят эти
«великие трансцендентальные и телеологические рационалисты» то,
что мы называем событием — в том числе и событие подхода к
разуму средствами самого разума3, которое бы нарушало все
заранее прочерченные линии предзаданности? С этой тематикой
нас прямо сталкивает замысел конгресса «Будущее разума,
становление рациональностей»4. Как можно подойти к сущности
этого парадоксального события5 — «события безусловности»?
1 Пружинин Б. И. Рецензия на книгу: Гайденко П. П. «Научная
рациональность и философский разум» // Вопросы философии. № 6. 2004. С. 176.
2 Derrida J. Le "Monde" des Lumières à venir. P. 198.
3 По-французски: événement d'avènement — событие прихода.
4 По-французски здесь мы опять видим игру однокоренных слов: a-venir
(будущее) и de-venir (становление).
5 Внимание: Деррида все-таки иногда пользуется словом «сущность» —
essence!
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 335
Для этого Деррида, по сути, предлагает вновь обратиться ко
всему тому, что архитектонически упорядочивается в систему
трансцендентальным идеализмом и его телеологией с тем,
чтобы уже потом попытаться соотнести «безусловное событие» с
разумом — правда, делать это приходится уже иными способами
и на иных путях, нежели это происходит в классическом разуме
с его эйдосами, идеями, идеалами и др.
Гайденко рисует эволюцию взглядов Гуссерля следующим
образом. Ранний Гуссерль начинал с культа чистого разума,
с отрешения от обыденного мира и необходимости перехода в
мир теоретических идеализации. Поздний Гуссерль стал
выступать против гордыни чистой науки, ее презрения к
обыденному сознанию и здравому смыслу. Феноменология начинала как
наукоучение, а переросла в теорию бытия понимаемого как
бытие сознания (для Гуссерля, собственно говоря, и нет иного
бытия, кроме как коррелятивного сознанию); наконец, в
«Кризисе...» его онтология перерастает в своего рода философию
истории, а историчность, в частности, через идею жизненного
мира1 становится фундаментальной категорией.
Таким образом, Гайденко и Деррида проводят в пересказе,
изложении и анализе Гуссерля прямо противоположные линии.
Гайденко акцентирует телеологическую, а Деррида, в
соответствии со своей концепцией деконструкции и ее обоснования,
антителеологическую линию. Но, как это ни парадоксально,
линии эти соотносимы. Чтобы спастись от субъективизма и
трансцендентализма, Гайденко ведет нас с телеологизмом по
отношению к природе не в натурфилософию, но в глубокое
понимание того уровня, на котором действительно происходит
сцепление сохранения и изменения — а именно, это происходит
на уровне онтологических предпосылок научного познания,
которые соединяют культурно-историческую свою заданность
с относительной имманентностью порядка познания. Но точно
также и антителеологизм Деррида не является прямолинейным
антителеологизмом. У Деррида вообще ничто не может быть
прямолинейным, у него все двойственное, апорийное,
слож1 О понятии жизненный мир в современной русской философской
литературе см.: Мотрошилова Н. В. Понятие и концепция жизненного мира в поздней
философии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии. 2007. № 7, 9; а также:
Савин А. Э. Концепция историчности жизненного мира в
трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии. 2008. № 5;
Савин А. Э. Способ периодизации исторического процесса у Гуссерля //
Вопросы философии. 2008. № 1.
336 Раздел IV
но закрученное, так что и в данном случае его антителеологизм
не означает полного отрицания порядка целеполагания, хотя
он всегда будет предупреждать нас, чтобы мы не углублялись в
надежды на спасение. Однако измерение веры — пусть
нерелигиозной, и даже очень хорошо, что не религиозной, потому что
это позволяет не путать все порядки, выступает как то, что
делает разум открытым к новому, к событию, к неожиданному и
непредопределенному.
Однако и для Гайденко и для Деррида остается открытым
вопрос: как вернуть познанию его претензию на истину, как
соединить бытие и благо, знание и веру. И вопрос этот, пожалуй,
можно даже назвать основным для современной философии.
Ведь в конечном счете это вопрос о существовании не только
науки как таковой — это вопрос о существовании такой
разновидности культуры, где наука возможна.
§ 3. Рациональность и традиция
«положительной философии» в России
П. П. Гайденко намечает свой вариант ответа на
поставленный выше вопрос. Вариант этот, надо признать, радикален,
хотя и серьезно аргументирован. В историко-философском
плане она опирается на то обстоятельство, что «...частичное
спасение начала целесообразности и, соответственно, смыслового
начала, как его мыслили представители неокантианства (учение
о ценностях), Дильтей (учение о понимании), современная
герменевтика, не освобождает нас от субъективизма и связанного с
ним культур-релятивизма»1. В плане же историко-научных
реконструкций Пиама Павловна указывает на тот факт, что «...на
европейской почве имела место развитая естественнонаучная
теория, построенная на прочном онтологическом фундаменте
и давшая цельную и продуманную систему рационального
знания, а не просто мифологему природы. Я имею в виду физику
и — шире — натурфилософию Аристотеля, при этом
рациональность аристотелевской физики отличается от научной
рациональности в ее современном понимании, так что без большой
натяжки мы можем назвать ее альтернативной. Научное
познание мира, с точки зрения Аристотеля, отнюдь не предполагает
1 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003.
С. 26.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 337
абстрагирование от изучающего этот мир сознания и от
существования человека в этом мире, не требует того
противопоставления субъекта и объекта, на котором стоит современная
наука. Такой подход к изучению природы можно назвать
натурфилософским. Сегодня к натурфилософии не случайно
возрождается большой интерес»1.
С этими аргументами, наверное, можно и даже нужно
спорить. Они, конечно же, нуждаются в уточнениях. Но и это
«но» мы прямо адресуем ревнителям причинности и борцам с
любыми проявлениями телеологии в науке, Пиама
Павловна отнюдь не предлагает возвратиться к аристотелевской
натурфилософии, она представляет нам исторический опыт
научно-познавательной деятельности, протекавшей в
соответствующих формах и по-своему решавшей вопрос о
ценностносимволическом измерении знания. Поясняя эту мысль, мы
сошлемся на хронологически более поздний, но в интересующем
нас плане более яркий пример из ее книги «Научная
рациональность и философский разум». П. П. Гайденко показывает,
что изменения в понимании категории бесконечного,
позволившие в эпоху Возрождения поставить на место конечного
космоса бесконечную вселенную и инициировать тем самым
изменения в принципах астрономии, физики (механика),
математике (дифференциальные исчисления), были подготовлены
в средние века и в значительной мере обязаны своим
появлением христианству. Культурная доминанта всемогущего Бога
освящает в этом случае изменения научной доминанты,
придает ей онтологический статус и вообще мотивирует познание
мира как познание Бога. Но это обстоятельство совершенно не
делает категорию бесконечности несовместимой с
рациональным познанием. Так что мы вполне основательно можем
заключить — наука успешно развивалась и в такой форме; такая
форма вполне совместима с ее жизнью; и, может быть,
данный исторический опыт соединения «истин разума» и
«велений сердца» указывает нам выход из нынешних тупиков,
прозябание в которых все более кажется несовместимым с жизнью
науки. Когда П. П. Гайденко показывает, что при вымывании
онтологической составляющей истины мы получаем
технологически полезное, но полностью лишенное самоценности
знание, эта демонстрация воспринимается как очень серьезный
аргумент за возвращение к онтологии. Причем именно в том ее
Там же. С. 45.
338 Раздел IV
варианте, в котором она разрабатывалась в традиции
«положительной философии» на русской почве.
Дело в том, что мы сегодня уже не можем жестко оценивать
русскую философию только как «провинцию»
западноевропейской мысли, если хотим понять, интеллектуально оправдать и
продолжить ее положительные традиции1. В России на
рубеже XIX—XX вв. существовали философские проекты В. С.
Соловьева, С. Н. Трубецкого, Л. М. Лопатина, Н. О. Лосского,
С. Л. Франка, Г. Г. Шпета и др., требующие сегодня
переосмысления и изменения контекста их интерпретации. Проблемное
прочтение этих идей постоянно присутствовало в творчестве
Пиамы Павловны2, и именно в нем, как нам
представляется, — ключ к пониманию ее концепции рациональности.
Поэтому интересно взглянуть на способ осуществления замысла
П. П. Гайденко из контекста развития эпистемологической
традиции в русской философской мысли и показать актуальность
размышлений для развития отечественной методологической
проблематики, и, возможно, для формирования нового
когнитивного стиля отечественной эпистемологии.
В творчестве Пиамы Павловны можно выделить две тесно
переплетенные тематические линии, каждая со своей
интригой и сюжетными линиями. Это историческая «жизнь»
понятий «разум» и «рациональность», их философское и научное
осмысление в разные социокультурные эпохи. Она
осуществляет историко-герменевтическую реконструкцию научного
знания, позволяющую сделать явными проблемные пункты
рационалистических философских программ,
предопределивших кризис науки и научности в XX веке. Именно такой способ
развертывания темы сближает авторскую концепцию с русской
герменевтической традицией. Так, Густав Шпет уже в 1917—
1918 гг. намечает положительные пути к осуществлению
подобного рода реконструктивной работы применительно к истории
науки3. П. П. Гайденко, как и Г. Г. Шпет, определяет работу
1 Мы понимаем, вслед за Г. Г. Шпетом, традицию «положительной
философии» на русской почве, как единое, внутренне связанное, цельное и
конкретное знание о действительности. Шпет Г. Г. Философия и история //
Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М., 2005. С. 193, 199.
2 Среди последних работ П. П. Гайденко по этой тематике см.: «Владимир
Соловьев и философия Серебряного века» (М., 2001).
3 См.: Шпет Г. Г. Конспект курса лекций по истории наук // Шпет Г. Г.
Философия и наука: лекционные курсы. М., 2010. С. 323—340.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 339
философа в исторической сфере научного знания как
герменевтический анализ методологически ориентированных
понятийных образований. Она словно рисует исторические
картины движения науки, погружая ее в разные социокультурные
контексты. Но ее исследовательский ракурс отнюдь не
предполагает описания научных открытий, лабораторных поисков и
организационной работы ученых. Она рассматривает историю
науки сквозь призму исторически существующих философских
трактовок понятия «разум». Причем и Г. Г. Шпет и П. П.
Гайденко работают с исторической реальностью научного знания
как философы-методологи, т. е. фиксируют в постоянно
меняющихся интеллектуальных устремлениях ученых разных
эпох устойчивые понятийные структуры. По сути, речь идет не
о выявлении внешних эпистемологических стандартов,
прилагающихся к реальности науки, но о разработке «иерархической
теории типов рациональностей, которая в определенной форме
все же вносила бы начало единства в многообразие единичных
значений»1.
Еще один элемент интеллектуального созвучия П. П.
Гайденко и русских мыслителей — направленность рефлексии на
методологический опыт неокантианства и феноменологии, чьи
рационалистические программы включают мировоззренческий
компонент. Действительно, в начале XX века в русской
рецепции западноевропейского философского опыта доминирующее
положение занимала критика именно этих философских
направлений. В центр критического осмысления русских
философов (Н. О. Лосского, С. Л. Франка, Г. Г. Шпета и др.) попадает
проблема трансцендентального субъекта в неокантианской и
феноменологической трактовке. Эта проблема фокусирует
критическую направленность их интеллектуального поиска,
позволяет продемонстрировать гносеологическую
несостоятельность неокантианской и феноменологической интерпретаций
научного знания, где принцип системности и связанное с ним
понятие отношения сводятся к субъективной сфере. Эта
критика очень важна для концепции П. П. Гайденко, поскольку в
ней сконцентрированы истоки поворота русской философской
мысли к метафизике, и «в этом отношении она в известном
смысле опередила, — как считает П. П. Гайденко, —
аналогич1 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003.
С. 20.
340 Раздел IV
ный поворот к онтологии, осуществленный в европейской
лософии нашего века»1.
Интеллектуальные установки П. П. Гайденко являются не
повторением и комментированием мыслительных ходов
русских философов начала XX века, но развитием положительной
мыслительной традиции на русской почве. П. П. Гайденко
делает следующий гносеологический шаг. Она изменяет контекст
рефлексии, меняет конфигурацию поиска и помещает
эпистемологические идеи Г. Когена, П. Наторпа, Э. Кассирера,
Э. Гуссерля не столько в строго гносеологический контекст,
сколько в сферу современных проблем методологии науки.
Получается весьма интересная картина. П. П. Гайденко
продолжает онтологическую линию русской философии, осуществляя
поиск «онтологических допущений» там, где их трудно даже
помыслить. Она предлагает онтологическую интерпретацию
неокантианской трактовки философии науки, обосновывая
такой подход тем, что именно таким образом мы получаем
возможность «экспликации тех предпосылок и логически не
могущих быть обоснованными постулатов научной теории,
благодаря которым каждая историческая эпоха, новая фаза в развитии
культуры «понимает» в соответствии с присущими ей
"последними интуициями"»2. Такой онтологический поворот мысли
вполне оправдан, если принять во внимание характеристику
неокантианского направления гносеологии, данную Н. О.
Лосским: «Замечательно, что даже различные неокантианские
направления гносеологии <...> дают логику и гносеологию вместе
с онтологией»3. В то же время онтологическая интерпретация
неокантианского варианта философии науки, предложенная
автором, все же позволяет посмотреть на него как на один из
вариантов системного подхода к пониманию научного знания.
Не менее захватывающая ситуация возникает с
феноменологическим проектом научного знания. Здесь, как и в случае с
неокантианством, критическая направленность П. П.
Гайденко задана «русским контекстом» — рецепцией идей Э.
Гуссерля в России начала XX века. Дело в том, что
феноменологический проект Э. Гуссерля — один из наиболее интеллектуально
близких русской традиции в ряду других западноевропейских
1 Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М.,
2001. С. 211.
2 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003.
С. 451.
3 Лосский Н. О. Основные вопросы гносеологии. Пг., 1919. С. 236.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 341
философских течений того времени — стал для русских
философов предметом критического переосмысления.
Представляя русским читателям феноменологические идеи Э. Гуссерля,
Г. Г. Шпет в «Явлении и смысле» (1914) поставил под
вопрос методологическую эффективность «вынесения за
скобки» трансцендентальной субъективности, поскольку видел в
этом опасность психологизма. С. Л. Франк и Н. О. Лосский, в
целом солидаризируясь с идеями Гуссерля, также видят
«ахиллесову пяту» феноменологического анализа в психологизме,
который Э. Гуссерль сам подвергает критике в ранних
работах. «Феноменологический анализ, — замечает С. Л. Франк, —
предлагаемый учением "интенционализма", есть по существу
анализ психического акта сознания: "феноменология"
интенционального переживания выросла из психологии и носит на
себе ее печать»1. Проблема «трансцендентального Эго» стала
краеугольным камнем в работах «позднего» Гуссерля, где он
пытался разрешить ее с помощью интерсубъективности. Но,
как показывает Н. О. Лосский, Гуссерль не преодолевает
проблему психологизма (по крайней мере, в работах, доступных
Лосскому в 1939 году), поскольку «в связи со своим учением
об интерсубъективности Гуссерль может утверждать, что
данные внешнего опыта не суть психические состояния
индивидуальных я. Однако, поскольку и эти данные
конституируются трансцендентальным я, весь познаваемый мир оказывается
у него предметом психологии, правда, не индивидуальной, а
трансцендентальной»2. Выход из феноменологических тупиков
русские философы видели в повороте к онтологии. И этот шаг
имеет решающее значение для осуществляемого П. П.
Гайденко анализа феноменологической трактовки научного знания и
научности. Несмотря на то что русские философы поставили
Гуссерлю вопросы, они не смогли, да и не ставили себе такой
задачи, проследить эволюцию его феноменологического
проекта. Они были его современниками, а это значит, что
динамика гуссерлевской феноменологии осталась вне поля зрения
русских философов.
Пиама Павловна находится в более выгодном историческом
пространстве, в позиции «вненаходимости», дающей сегодня
1 Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания.
Пг., 1915. С. 79.
2 Лосский Н. О. Трансцендентально-феноменологический идеализм
Гуссерля//Логос. № 1. 1991. С. 137.
342 Раздел IV
возможность понять феноменологическую концепцию как
целостный философский проект. Поэтому она последовательно
реконструирует идейную динамику гуссерлевской
феноменологии, в целом высоко оценивая ее вклад в постановку
философских проблем научного знания. Главный положительный
смысл феноменологии она видит в идее интенциональности,
позволяющей сегодня вернуться к обсуждению проблемы
целерациональности. Но в то же время Гайденко, как и русские
мыслители начала XX века, последовательно демонстрирует,
что попытки «позднего» Гуссерля разрешить противоречия
феноменологического подхода через сближение с историзмом не
дают выхода за рамки трансцендентального субъекта. «В рамках
трансцендентальной феноменологии, — указывает Гайденко, —
обернувшейся историзмом, на место природы встают
исторически сменяющиеся ее образы как проекции вовне жизни
трансцендентального Эго. Пока мы не освободимся от
ставшего сегодня почти всеобщим убеждения, что смысл вносит в мир
человеческая субъективность (трактуется ли она с
психологической или с трансцендентальной точки зрения), пока не вернем
и природе ее онтологическое значение, каким она обладала до
того, как технотронная цивилизация превратила ее не только в
«объект», но и в «сырье», мы не сможем справиться ни с
проблемой рациональности, ни с экологическим кризисом»1.
При чтении работ Пиамы Павловны становится очевидным,
что проблема рациональности — ключевая тема философских
размышлений эпистемологов XX века — и сегодня не потеряла
своей остроты, но, на наш взгляд, изменила траекторию
интеллектуального движения. И это связано с той существенной
разницей историко-культурных ситуаций (включающих и
ситуацию с интеллектуальным наследием русских мыслителей
начала XX века), в которых работали российские эпистемологи
пятнадцать лет назад и ныне. Поэтому необходимо проследить
интеллектуальный вектор этой темы, обусловленный духовным
поиском автора книги в определенном историческом
контексте. Нам важнее понять различие тематических ситуаций,
сложившихся в области исследований русской философской
мысли, — той, в которой П. П. Гайденко только задумывала свой
«рациональный» проект, и нынешней — представляющей его
результаты.
1 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М, 2003.
С. 488.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 343
Ситуация, в которой осуществлялись историко-философские
исследования в конце 80-х — начале 90-х гг. XX века, — время
«"сенсационных" публикаций архивных текстов из богатого
наследия еще недавно запрещенных русских мыслителей»1,
открытие возможностей для архивной работы, разрешение
публикаций текстов русских религиозных философов. В тот момент
«раскрепощенного отношения» к русской философской
традиции многим казалось, что восстановление философских
текстов русских мыслителей начала XX века в правах само по себе
дает новый взгляд на вещи и творчески продолжает прерванную
философскую традицию. Между той ситуацией и сегодняшним
положением дел в российском философском сообществе
около двадцати лет - и кардинальное изменение социокультурной
картины в интеллектуальной России.
Сегодня для многих уже стало очевидным, что для
творческого продолжения русской философской традиции
необходимо не «поспешное утоление духовного голода»2, но, как считает
П. П. Гайденко, «проблемный анализ творчества русских
мыслителей, ...который мог бы дать нам ключ к решению
сегодняшних вопросов, возникающих в сфере онтологии, теории
познания, логики, философии науки, социологии и психологии»3.
Пиама Павловна не только постулирует необходимость
проблемного анализа идей русских мыслителей, но и реализует
свой замысел. Рационалистический поворот П. П. Гайденко к
онтологии позволяет эксплицировать методологические
установки русских философов и, следовательно, поставить под
вопрос тезис об «антиметодологичности» русской
философской мысли. Да, конечно, можно говорить о заимствовании
русскими философами западноевропейских идейных
платформ, но это лишь одна сторона дела. Гораздо важнее
сегодня понять, что русские философы умели учиться у Запада. Это
означает, что они не просто заимствовали голые схемы, но
сумели сохранить собственную философскую традицию
положительного отношения к действительности. Именно поэтому
своим творчеством Пиама Павловна показывает, что можно не
только обсуждать содержательные проблемы рациональности и
1 Янцен В. В. Письма русских мыслителей в базельском архиве Фрица Либа //
Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2001—2002 годы. М.,
2002. С. 229.
2 Там же. С. 229.
3 Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М.,
2002. С. 12.
344 Раздел IV
философского разума, но и осуществлять преемственность
русской эпистемологической традиции. А это значит, что сегодня
необходимо обсуждать гносеологические вопросы даже в той
плоскости русского интеллектуального наследия, где они не
даны окончательно, но принципиально нуждаются в
логикоаналитической и историко-герменевтической реконструкции.
Положительный смысл работ П. Гайденко в том, что ее
философская концепция рациональности и в той и в другой
социокультурной ситуации сохраняет баланс
историко-герменевтического и логико-аналитического подходов. Пиама
Павловна последовательно шла своим путем, сохраняя
преемственность русской положительной философии. И двадцать лет
назад и сегодня она рассматривает проблему рациональности
прежде всего как «жизненно-практический вопрос»1, но не
теряет при этом научно-теоретическую устремленность
интеллектуального поиска. Такой путь интерпретации темы
рациональности, предполагающий рассмотрение феномена науки в
его целостности, значительно расширяет исторический
горизонт современной философской и научной мысли. Более того,
он может стать одной из перспективных возможностей
продления философской жизнеспособности этой темы в российском
эпистемологическом сообществе.
1 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003.
С. 9.
Глава 2
Владимир Швырев: «открытая
рациональность»
§ 1. Историзм как основание философской критики
Идеи Владимира Сергеевича Швырева оказали влияние
на целое поколение отечественных методологов и
философов науки. Прежде всего бросалась в глаза
логическая внятность и цепкость его ума. Однако оценивая
его вклад в развитие современной русской философии,
мы акцентируем внимание не столько на этой особенности его
интеллекта, сколько на внутреннем историзме его мышления,
его способе анализа материала. Историзм, фактически, стал,
говоря словами Шпета, внутренней экспрессивной формой1,
структурирующей стиль мышления Владимира Сергеевича.
В самых, казалось бы, традиционных логико-методологических
сюжетах, где терминологический и концептуальный слои были
настолько устоявшимися, что найти новый поворот было
практически невозможно, ему удавалось сказать (пусть и в
«унаследованных формах») новое слово в философии науки.
В начале 60-х годов прошлого века, после ряда безуспешных
попыток неопозитивистской философии науки разработать на
базе анализа языка науки логические параметры научности
(выявить стандарты рациональности науки), философы науки
оказались просто вынужденными внятно поставить вопрос о том,
насколько рациональны сами основания научной
рациональности. Так начался, пожалуй, наиболее «жесткий» этап
«самопроблематизации» новоевропейского рационализма. Прямым
результатом последовавших бурных дискуссий стало
практически общепринятое теперь среди философов науки убеждение,
что эффективно обсуждать проблему научной рациональности
можно лишь представляя науку в качестве фрагмента весьма
разнородной и к тому же исторически меняющейся
социокульСм. наст. изд. Введение.
346 Раздел IV
турной реальности. Что проблематика научного разума
является важным аспектом, но лишь аспектом значительно более
разносторонней и фундаментальной проблематики места и роли
разума в человеческом бытии. И что, соответственно,
конструктивное философское обоснование границ и возможностей
научного разума предполагает расширение границ философских
исследований науки, и уж во всяком случае, выход за рамки той
их версии, внутри которой проблема научной рациональности
некогда приобрела столь радикальный характер.
Но еще задолго до этого работа В. С. Швырева
«Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки»1
продемонстрировала со всей ясностью: поставленная
позитивистами проблема эмпирического обоснования научного знания и
есть именно проблема реального познания, причем проблема
именно философская, эпистемологическая и как таковая
интересна как раз своим критико-рефлексивным потенциалом,
т. е. историей попыток решения2. Напомним об истине,
которую очень часто забывают, — любая оценка прошлого есть, по
сути, самооценка (концептуальная и нравственная), есть всегда
демонстративное самоутверждение оценивающего. А забывают
эту очевидную истину, подозреваем, в силу ее очевидной
нелицеприятности. Она мешает легко и просто, путем простого
отрицания утверждаться на голом, расчищенном таким способом
месте, утверждаться исключительно за счет отрицания.
Положительная же работа (в том смысле как этот термин
употребляли в русской философии начала XX в.) предполагает отношение
к прошлому как к историческому опыту, который жизненно
необходим для этой работы. Прослеженная Владимиром
Сергеевичем историческая эволюция позитивизма (неопозитивизма)
со всей отчетливостью раскрыла то, что и сегодня чрезвычайно
1 Швырев В. С. Неопозитивизм и проблемы эмпирического
обоснования науки. М., 1966. Как вспоминал сам Швырев: «Параллельно с работой
над дипломом я на 5-м курсе стал серьезно заниматься изучением западной
философии и методологии науки. В частности, я перевел работу Р. Карнапа
"Основания логики и математики" из серии т. н. энциклопедии
унифицированного знания. Эти занятия заложили основу моих дальнейших
исследований неопозитивистской концепции логики науки, нашедших свое выражение
в моей кандидатской диссертации, а впоследствии книги "Неопозитивизм и
проблема эмпирического обоснования науки" 1966 года». Швырев В. С. Мой
путь в философии // Философия науки. Вып. 10. М., 2004. С. 226.
2 См.: Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М,
1978; Швырев В. С. Эмпирическое и теоретическое // Философский
энциклопедический словарь. М. 1983. С. 797.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 347
актуально: рациональными средствами обосновать
рациональность познания невозможно, тем не менее дело науки не
отменяется от того, что усилия философии науки свидетельствуют
о невозможности раз и навсегда редуцировать теоретический
уровень научного знания к эмпирическому, к протокольным
предложениям или к чему-либо подобному. Наука движима
такого рода редукцией, она такого рода задачи постоянно
решает именно средствами логики и решает их более или менее
успешно, хотя никогда не окончательно. В этом суть научного
познания. И в этом суть философской проблемы
рациональности. Впрочем, любой культурный феномен ставит перед нами
аналогичные проблемы — как возможно невозможное — ибо
существование любого культурного феномена есть
существование невозможного. Применительно к науке это очень ярко
демонстрирует в философском плане эволюция позитивизма,
а В. С. Швырев в своей книге отчетливо выявил как раз этот
план.
Эволюция позитивизма представала в этой книге не как
повествование о неудачных попытках логико-методологических
реконструкций науки на базе неверных эпистемологических
позиций, но как история становления стержневой, по сути,
эпистемологической проблемы XX столетия (а на наш взгляд,
и XXI). Он показывал, как каждая неудача на пути реализации
неопозитивистских методологических программ вела к
совершенствованию логического аппарата этих программ, что, в
свою очередь, вело к уточнению наших представлений о
рациональном инструментарии науки. И при этом каждая неудача,
связанная с использованием неопозитивистами новых
логических средств и идейных ходов по-новому и более точно
представляла структуру знания, что опять-таки обнажало новые
повороты проблемы рациональности знания и радикализировало
ее. Для нас важно, что и сам В. С. Швырев оценивал свою
работу аналогичным образом. «Моя цель, — писал он в своих
воспоминаниях, — отнюдь не ограничивалась добросовестным
изложением и подытоживанием неопозитивистских концепций,
она включала именно критический анализ этих концепций, тех
противоречий, трудностей реализации, вынужденных отходов
от первоначальных программ, которые имели место в истории
неопозитивизма, его исходных принципов, пороков и
слабостей. Демонстрация несостоятельности резкого
противопоставления т. н. контекста оправдания и контекста открытия,
отсутствия четкого решения проблемы теоретических конструктов,
348 Раздел IV
выявление несостоятельности предлагавшихся вариантов
принципа эмпирической проверяемости, вынужденного
отказа от гносеологической субстантивной трактовки различения
аналитической и синтетической истинности в науке в пользу ее
функционально-методологической интерпретации, показ
несостоятельности выдвигавшихся критериев научной
осмысленности — все это выдержало проверку временем и в определенной
мере предвосхитило постпозитивистскую критику 60—70-х гг.,
и уж во всяком случае вполне согласуется с ней»1.
§ 2. Между классикой и неклассикой
В 70-е годы прошлого столетия в отечественной
философской литературе появились работы, где характеристика
«классические» применительно к философским текстам
использовалась не только в качестве хронологического маркера (античная
классика, классическая философия Нового времени и пр.) или
маркера идеологического («классическая буржуазная
философия, в отличие от разлагающейся послемарксистской»;
«немецкая классическая философия — как этап на пути к марксизму»;
«классический марксизм — как высшее достижение
философской мысли» и пр.), но, прежде всего, в качестве инструмента
философского исследования современных проблем2. И
именно использование отношения «классика-неклассика» как
инструмента концептуализации, позволило увидеть в потоке
современности действительно то новое, что затрагивало самые
основания европейской культуры. Использование классики
как своего рода культурных координат позволило различить в
потоке социальных и культурных изменений, с одной стороны,
те социокультурные отклонения, которые в предельном случае,
разрушительны для данной культуры и бесперспективны сами
по себе и, с другой стороны, те отклонения, которые несут в
себе возможность радикальных, но преемственных культурных
трансформаций. Этот методологический ход, повторяю, был
осознан и применен рядом отечественных философов в
прошлом веке в условиях социального застоя, и сегодня хочется
напомнить о его концептуальной эффективности тем, кто наивно
1 Швырев В. С. Мой путь в философии // Философия науки. Вып. 10. М.,
2004. С. 227.
2 См., напр.: Философия в современном мире. Философия и наука. М., 1972.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 349
принимает любое состояние философской мысли за ее
самодовлеющий этап. Во всяком случае, тогда этот концептуальный
ход позволил выявить и описать ряд характерных особенностей
и тенденций новой, неклассической культурной реальности,
проступающих сквозь концептуальный каркас классической
европейской философии и попавших в поле зрения
новейших направлений западноевропейской философии. «Ныне
существующие философские направления, — писали тогда
М. К. Мамардашвили, Э. Ю. Соловьев и В. С. Швырев,
принимая в расчет и направления философско-методологические, —
при ближайшем рассмотрении оказываются не чем иным, как
последовательным и откровенным развертыванием внутренних
неувязок, содержательных противоречий классического
мышления, которых оно могло избежать лишь путем значительных
огрублений и упрощений, путем весьма жестких
абсолютизаций и умолчаний»1. Эта знаменитая статья, получившая
впоследствии название «статья трех авторов», до сих пор не
потеряла своей актуальности. В. С. Швыреву, по его собственным
словам, «принадлежит последний раздел, посвященный
логическому позитивизму и аналитической философии.
Вдохновителем же всей этой работы, автором самой идеи различения
понятий классической и постклассической философии, получившей
впоследствии широкий резонанс в отечественном
философской сообществе, был безусловно М. К. Мамардашвили»2.
Вот чем, фактически, с этой точки зрения занимались
позитивисты, марксисты, экзистенциалисты, постпозитивисты, а
позднее — «классики» постмодерна от Делеза до Деррида.
Очевидно, классическая философия была полна «умолчаний» о
реальности, о которой в момент формирования классической
новоевропейской философии можно было и даже, наверное,
следовало «умалчивать», но которая теперь заявила о себе во
весь голос в новейших, неклассических концепциях. Однако
чтобы различить смысл этих «заявлений», чтобы понять суть
происходящего, необходимо эти концепции понять именно как
неклассику на фоне классики, в контексте классики, а не саму
по себе, не как нечто идеологически самодостаточное,
самодовлеющее. Вот тогда, в этом контексте неклассика в области
фи1 Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С. Классика и
современность: две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия в
современном мире. Философия и наука. М., 1972. С. 31.
2 Швырев В. С. Мой путь в философии // Философия науки. Вып. 10. М.,
2004. С. 227.
350 Раздел IV
лософии науки и эпистемологии выступает как проблема, как
философская проблематизация самого существования науки,
самой ее возможности, зафиксированной в концептуальных
схемах классической эпистемологии1.
Надо сказать, использование описанного выше
мыслительного хода, соотносящего новейшие течения западной
философии с классикой в советской ситуации, в рамках
догматизированного марксизма позволяло избавиться от идеологических
оценок, блокирующих само обращение к реальности, так или
иначе представленной этими течениями. Для этого надо было
увидеть в классике не идеологическую схему, по отношению
к которой оценивалось любое из этих течений, а
формулировку условий возможности исторически вполне определенного
типа научно-познавательной деятельности в соответствующей
историко-культурной среде и представить неклассику как
выражение проблем, порожденных реальностью познания в
новых условиях, в новом контексте. Ведь проблемность
указывает на реальность. Отмечу еще, что концептуальные каркасы
такого рода исследований разрабатывались, главным образом,
в рамках философского анализа познавательных процессов.
Однако разработка собственно эпистемологической тематики
обретала в наших тогдашних условиях значительно более
широкое философское звучание. Во всяком случае, она давала
возможность отодвинуть идеологию и увидеть многое из того,
что отечественные философы вообще сумели тогда различить и
оценить в тенденциях философии XX столетия, даже и в
области социальной философии. В частности, отечественные
философы весьма успешно включались в разработку проблематики
философии, методологии и логики науки, акцентируя, между
прочим, социокультурные аспекты познавательной
деятельности и вообще возможности деятельностного, — в самом
широком смысле этого термина, т. е. включающего
культурноисторическую обусловленность — подхода к анализу сознания.
Парадоксальность нашей сегодняшней ситуации, помимо
всего прочего, состоит еще и в том, что соотнесение классики
и неклассики сегодня должно бы позволить нам опять
преодолеть идеологизацию современных философских течений, в
частности, течений неклассической эпистемологии. В
про1 Эту направленность 60-х ясно продемонстрировал своими работами по
эпистемологии В. А. Лекторский. См.: Лекторский В. А. Эпистемология
классическая и неклассическая. М., 2001.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 351
шлом веке, правда, надо было их представить как имеющих
какой-то положительный смысл. Сегодня —
проблематизировать. Тем не менее задача вновь состоит в том, чтобы увидеть
в классике не идеологическую схему (пусть теперь ведущую не
к Марксу, а к «наивному заблуждению»), но формулу условий
культурно-исторической возможности науки. И на этом фоне
опять понять современные течения не как «передовые»
прозрения истины, а как способы проблематизации наивного взгляда
на «очевидную реальность».
В сегодняшней повседневной философской
исследовательской работе подход, использующий категории
«классическое — неклассическое» как концептуальные инструменты,
реализуется в рамках очень простого
общеметодологического требования: философское исследование должно
стремиться выявить проблему (не задачу с техническим решением, а
именно проблему) в том и там, где появляются феномены,
отклоняющиеся от образцов, воспринимавшихся в определенное
время и в определенной области культурной деятельности как
ее сущностное выражение. Этого, собственно, и требует
отношение к образцам как классике. В традиционных культурах
образцам просто следуют, насколько это возможно. В
европейской культуре отношение к образцам несколько иное.
Европейская культура имманентно исторична, и культурные образцы в
ней осознаются исторически. Понятие классики, собственно, и
фиксирует высшие образцы различных типов культурной
деятельности, наиболее адекватно выражающих внутренние
условия существования этой деятельности в определенных
исторических условиях. Классика фиксирует контуры конкретных
типов деятельности (реализуя основные ее понятия, если они
есть). Здесь отношение к образцам определяется через
отношение к ним, прежде всего, как к случаям достижения
гармонии исторической формы и историко-культурного содержания.
Классические образцы возникли однажды в результате усилий
некого (индивидуального или коллективного) автора
(культурного героя), т. е. они всегда суть произведения, и притом, они
суть конкретные произведения. Им подражают (но не
дублируют просто) или от них отклоняются, но в любом случае они суть
индивидуальные авторские работы — фактически
существующие воплощения в индивидуальной форме данной культуры,
несущие на себе следы индивидуальности, решившей ту или
иную проблему в рамках данной культуры на данном ее этапе.
Они суть вершины и достижения культуры. И таковыми оста-
352 Раздел IV
ются, пока данная культура жива (вне зависимости от того,
следуют ли им как образцам или демонстративно отклоняются от
них как от образцов в поиске новых форм существования этой
же культуры).
В нашем случае классика, классическая эпистемология
Нового времени фиксирует условия возможности научного
познания: как это познание сложилось в ту эпоху и как оно
соотносится с реальностью науки нашей эпохи. И в этом суть дела.
Я не принижаю современность — я лишь утверждаю, что:
классика в любой области, это — выражение условий
культурноисторической возможности феномена. И потому все
неклассическое — это выявление нового в познании как проблемы
новой науки, проблемы ее возможности сегодня. И если эти
новые тенденции ведут к новому типу рациональности, то в
любом случае здесь неизбежна преемственная связь, как она
была от античной математики до математического
естествознания. А это значит, что задачей философского исследования
становится поиск форм, в которых оказывается возможным
современное научное познание. Это значит, необходимо
искать философскую формулу современного познания, а не
пытаться возводить в норму описания различного рода
отклонений от формулы Нового времени. Что и стремился сделать
В. С. Швырев, фиксируя в самосознании рациональной науки
ее ценностно-культурный смысл. Культурно-историческое
сознание рациональной науки — это сознание мотивов
познавательной деятельности, сознание, включающее в себя
мотивацию культурную, фиксирующую экзистенциальный смысл
познания. Именно на этой стороне рациональности и
сконцентрировал свое внимание В. С. Швырев, трактуя рациональность
как ценность европейской культуры.
§ 3. «Открытая» и «закрытая» формы рациональности
Сегодня о рациональности написано так много и так
поразному, что зачастую теряются даже следы исходной
постановки вопроса. Конечно, спору нет - философское содержание
темы рациональности далеко выходит за рамки
внутриметодологической проблематики, так что внутринаучные, так
сказать, контуры этой темы оказываются для нее слишком узкими.
В этом, между прочим, состоял мой вывод из анализа книги
В. С. Швырева. Обсуждать сегодня тематику рациональности
вне ее широких общефилософских и общемировоззренческих
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 353
коннотаций абсолютно бесперспективно. Но не менее
бесперспективно, на мой взгляд, терять из виду истоки проблемы
рациональности, вытеснять из ее обсуждения проблематику
гносеологическую и подменять ее общими рассуждениями о месте
и роли разума в человеческом бытии. Ибо вопрос о Разуме
сегодня стоит вполне конкретно — речь идет о месте и роли
науки, научного рационального познания в современной
культуре. И пытаться решать его вне апелляции к современной науке
не следует. Поэтому, несмотря на очевидную правомерность и
даже необходимость расширения понятия «рациональность»,
сегодня не следует терять из виду исток проблемы. Иначе тема
рациональности вырождается в ряд как бы самостоятельных
концептуальных конструкций, каждая из которых более или
менее убедительно и непротиворечиво охватывает, так сказать,
все противоречия Разума в духовном строе нашей эпохи и тем
самым, по сути, «снимает» проблему, некогда внятно
поставленную в философии науки.
Размытые контуры понятия рациональности не позволяют
схватить напряженность процессов, происходящих в
культуре, из которой вымывается одна из ее основополагающих
ценностей. Причем расходящиеся интерпретации рациональности
фактически не соотносятся между собой, даже внешне теряя
способность раскрывать реальную, волнующую людей
смысложизненную проблематику. Так что непонятным становится,
какой собственно смысл имеет для нас, для сегодняшней жизни
то или иное расширение понятия рациональности в культурной
перспективе. Вырванное из своего проблемного поля понятие
рациональности становится описательным и теряет
способность формулировать философскую проблематику. Между тем
поле это, на мой взгляд, в рефлексивно-критическом анализе
соотношения эмпирического и теоретического — именно этот
анализ и очерчивает исходную реальную область
возникновения проблемы рациональности, область, где практически
выполняются оценки рациональности знания, оценки степени его
рациональности. Первая книга В. С. Швырева как раз
прояснила контуры такой рефлексии над наукой, над знанием.
Суть нашей неудовлетворенности сегодняшними
трактовками понятия рациональности сводится к тому, что стали они
«псевдодиалектическими», т. е. не удерживающими
антиномии, но «снимающими» их там, где это снятие еще не
обосновано. Эти конструкции учитывают все — и историческую
изменчивость и историческую устойчивость разума, благодаря
354 Раздел IV
чему (и то... и другое...) совершенно непротиворечиво
описывают разнородные реалии познавательного процесса. Когда мне
говорят, что рациональность и исторична и нормативна, то это
конечно «примиряет» меня с жизнью, но не дает оснований для
конструктивных, методологически значимых суждений. Это
мудро, но это не рационально. Между прочим, сама идея
особой логики, особого типа рациональности, помимо
традиционной, была для В. С. Швырева неприемлема1. Это важно иметь в
виду при оценке того расширения темы рациональности,
которое попытался реализовать В. С. Швырев в различении
рациональности «открытой» и рациональности «закрытой»2.
В. С. Швырев расширяет понятие рациональности так, что
включает его в контекст культурно-исторического сознания
(самосознания) науки. «Открытая рациональность» в его
понимании — это, по сути, не какая-то новая рациональность, не
рациональность, дополненная чем-то «сверхрациональным»
и обладающая какими-то новыми, прежде никому не
ведомыми свойствами. Это акцентированная в рациональности ее же
собственная характеристика. В. С. Швырев лишь подчеркивает
рефлексивность рациональности — «открытая рациональность»,
это просто рефлексивно-критически осознаваемая
рациональность «закрытая», традиционно и классически понимаемая как
нормативно-логическая3. Причем ведь такой рациональность
была всегда — рациональность без рефлексии невозможна4. Что
дает эта акцентуация рефлексивного момента рациональности,
что она демонстрирует? Прежде всего — возможность динамики
рациональности, открытость к изменениям.
1 См. статью: Швырев В. С. Диалектическая логика // Философский
словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М., 2001. С. 157-158.
2 Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры // Вопросы
философии. 1992. № 6; Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры.
Традиция и современность. М., 2003.
3 См.: Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры // Вопросы
лософии. 1992. № 6. С. 95.
4 «Открытие» античными греками рефлексии Г. Г. Шпет считал событием
настолько культурно значимым, что фактически маркировал им
возникновение европейской культуры: «Чистый европеизм, — писал он, —
пробудился в тот момент, когда первый луч рефлексии озарил человечеству его
собственные переживания». В том числе, очевидно, «озарил» и когнитивное
переживание ментальных образов, несущих информацию о мире. Собственно
этим «озарением» и конституируется знание как культурный феномен. См.:
Шпет Г. Г. Мудрость или разум // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 314.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 355
На наш взгляд, чтобы понять концептуальную динамику
темы рациональности у В. С. Швырева, необходимо посмотреть
на нее в контексте концептуальной динамики отечественной
философии второй половины XX столетия. В этом
историческом контексте определялись истоки и смысл его философской
работы, в 1966 году появилась его первая книга, задавшая
исторический вектор его интеллектуальным исканиям. И этот
историзм присутствовал в его исследованиях всегда. Заметим, что
многие авторы, обращавшиеся в своих публикациях 60-х
годов прошлого столетия к ведущим течениям западной
философии, открывали отечественному читателю целые философские
миры: мир феноменологии, мир экзистенциализма, мир
философии науки. И дело далеко не исчерпывалось представлением
отечественному читателю малодоступных зарубежных
концепций. В их работах было нечто очень важное и своеобразное само
по себе, сохраняющее эту важность до сего дня, до дня
нынешнего. То что мы имеем в виду можно, пожалуй, определить как
своеобразное, весьма перспективное в концептуальном плане
переосмысление философской классики в материале
неклассических западных концепций. Эта работа выполнялась
параллельно ходу западноевропейской мысли. Параллельно не
только потому, что производилась в контексте коммуникативной
изоляции от этой мысли. Но еще и потому, что преобладающим
направлением этой работы был поиск способов переосмыслить
классику без крайностей релятивизма. Сегодня, мне кажется,
это направление работы уже не является у нас
преобладающим. Тогда оно было преобладающим в целом ряде областей.
В. С. Швырев пытался это сделать в области философии науки.
При этом для нас важно, что в поисках выхода из
тупиков «закрытой» рациональности Швырев обратился к русской
эпистемологической традиции — к концепциям М. Бахтина и
Н. Бердяева. Он опирается на «Философию поступка» Михаила
Бахтина в публикации и с примечаниями С. С. Аверинцева,
несущей в себе идею диалогического познания как познания
открытого. А также на «Философию свободы» Николая Бердяева.
Предметом их критического анализа становятся «отрыв
научнотеоретического сознания от живой действительности, а затем
подавление авторитетом такого сознания свободы и
многообразия личностного мировосприятия и мироотношения»1,
при1 Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры // Вопросы
философии. 1992. № 6. С. 93.
356 Раздел IV
водящие к уходу человека от ответственности за свои действия,
и как следствие, к догматизации «закрытой» формы
рациональности. «Именно в этом уходе от ответственности, —
подчеркивает Швырев, — от риска принятия решения, от "поступка" (в его
<Бахтина> терминологии) усматривал в свое время основной
порок "теоретизма" как определенного отношения к
действительности наш выдающийся мыслитель M. M. Бахтин»1. Здесь
Швырев делает очень важное примечание, в котором
формулирует главную мысль бахтинской работы «Философия
поступка»: «Надо заметить, что M. M. Бахтин в этой работе признавал
правомерность существования, как он выражался,
отвлеченнотеоретического самозаконного мира в его границах, однако
он, во-первых, выступал против того, чтобы мир как предмет
теоретического познания выдавал бы себя за мир в его целом,
во-вторых, признавал автономию теоретического мира как
содержания научного мышления. Он подчеркивал, что этот мир
должен включаться в "бытие — событие" в акте
личностного "поступка", который носит прежде всего
эмоциональноволевой характер, а собственно познавание, по выражению
M. M. Бахтина, представляет собой лишь его момент»2. Это
примечание Швырева очень важно, поскольку
демонстрирует методологическую сбалансированность его позиции. Он не
призывает отказаться от рациональности, но строго
очерчивает ее границы. И здесь заметим, он оказывается созвучным
позиции Б. И. Пружинина и Н. С. Автономовой3. Для него
важно — и это еще одна точка соприкосновения его с русской
эпистемологической традицией, что «реальность
культурносемиотически объективированных теоретических понятий и
идеальных предметов в конечном счете не может быть
замкнутой на самое себя, чтобы работа в ее рамках не превратилась бы
в «игру в бисер», она должна иметь выход в мир независимой от
человека и его культурно-семиотических артефактов
подлинной реальности, система теоретических «конструктов» должна
иметь каналы обратной связи с этой подлинной реальностью,
этими каналами являются приемы эмпирического
исследования (следует отличать это понятие от понятия эмпирического
1 Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры // Вопросы
философии. 1992. № 6. С. 93.
2 Там же.
3 См.: Пружинин Б. И. Рациональность и историческое единство научного
знания. М., 1986; Автономова Н. С. Рассудок, разум, рациональность. М.,
1988.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 357
познания), доставляющие информацию, препятствующую
замыканию в себе концептуального аппарата науки»1.
Наконец, Швырев апеллирует к другому представителю
русской эпистемологической традиции, Николаю Бердяеву.
«И по существу, - заключает он, — та же тема отказа от
свободы и необходимо связанными с ней риском и ответственностью
личностного усилия, "поступка", попытками спрятаться за
внешнюю принудительность навязываемого извне знания,
авторитет которого усматривается в его детерминации объектом,
пронизывает всю критику Н. А. Бердяевым того, что он в своих
ранних работах оценивает как сущность науки с позиции своей
"философии свободы"2»3. Таким образом, обращаясь к русским
эпистемологическим исканиям, Швырев выходит к «открытой»
форме рациональности, в основании которой лежит рефлексия,
или поступочное сознание, осмысленная интеллектуальная
деятельность.
1 Швырев В. С. Мой путь в философии // Философия науки. Вып. 10. М.,
2004. С. 235.
2 См.: Бердяев Н. А. Философия свободы. М., 1990. (Приложение к журналу
«Вопросы философии»).
3 Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры // Вопросы
философии. 1992. № 6. С. 93-94.
Глава 3
Евгений Никитин:
антропологическая рациональность
§ 1. «Светлый порядок» духовной жизни
Труды Евгения Петровича Никитина практически не
поддавались редакторской правке, ибо он заботился об
их литературных характеристиках не меньше, чем о
теоретических. Он так же продуманно и основательно
подбирал библиографию для своих публикаций и сверял в
них цитаты, как заботился о концептуальной связности своих
построений. Конечно, все это давалось совсем не легко. Но он
бескомпромиссно отстаивал эту целостность своего мира,
своей жизни и своей натуры и в «быту», и в своей
интеллектуальной работе. Проблема единства духовного мира человека всегда
была его главной темой — темой его жизни и темой его
философских размышлений, которые, в общем, были неотъемлемой
частью его жизни.
Он принадлежал к поколению шестидесятников, к тому
самому поколению, об иллюзиях которого сегодня очень любят
рассуждать прагматичные молодые люди. Что же, спорить не о
чем, у шестидесятников, конечно, были иллюзии. Но разве
бывали когда-либо поколения без иллюзий? У нынешнего
поколения, кстати, иллюзий не меньше. Весь вопрос в том, каковы эти
иллюзии? Что они несут реальности? Сколь и чем наполненной
делают они жизнь людей? Сегодня, во всяком случае, можно
уже достаточно определенно сказать, что вопреки ли своим
иллюзиям, или благодаря им, но шестидесятники — поколение,
которое состоялось. Это поколение сумело сделать себя,
сумело сохранить и свое социальное лицо, и свою культурную
самобытность, и свое личностное достоинство. Сумело, вопреки
всему, сделать нечто исторически значимое и в сфере
социальной жизни, и в интеллектуальной сфере. Что касается сферы
профессиональных научных интересов Евгения Петровича, то
именно шестидесятники, и Евгений Петрович в их числе,
сумели сдвинуть отечественную философию с мертвой точки.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 359
Конечно, каждый из философов-шестидесятников делал
свой выбор по-своему, на своих личных основаниях. И
посвоему переживал все последствия этого выбора — идейные,
общественные, иногда социальные. Для Евгения Никитина
таким основанием было внутреннее, абсолютно органичное для
него стремление к цельности, единству духовной жизни в ее
нравственных, эстетических и когнитивных проявлениях. Он
был строг и точен не только в своих логико-методологических
исследованиях, но и в своих социально-политических
суждениях. Он всегда ясно формулировал свое профессиональное
отношение далеко не только к историко-философским
персоналиям, но и к тем или иным персонажам, в окружении которых
ему приходилось работать.
Он никогда не писал и не рассуждал публично о том, что
не представлял себе достаточно отчетливо и ясно. Это была не
«школа», это было свойство его личности. Следование
декартовскому принципу понимать любой рассматриваемый
вопрос «весьма ясно и вполне отчетливо» было тогда, на
протяжении большей части его жизни, не столько интеллектуальным,
сколько нравственным выбором. «Школа» во времена его
ученичества требовала от философа другого — она учила отнюдь не
ясности, но интеллектуальной изворотливости. Собственно, от
философа-профессионала требовалось умение представлять и
мир в целом, и каждый предмет в этом мире так, чтобы любое
утверждение, исходящее «от директивных органов»,
оказывалось истинным. И было это далеко не просто «школьным»
требованием, но условием социального выживания. Ясность же,
интеллектуальная ясность предполагает отчетливое
представление реального положения дел и критику любых суждений на
этот счет. Поэтому очень часто именно ясность оказывалась
наиболее прямой, очевидной и жесткой оппозицией
«интеллектуальной изворотливости». И по той же причине тем, кто
ориентировался на ясность как важнейшую характеристику
философского исследования, приходилось отстаивать свое право по
меньшей мере на само философское исследование.
Все, что он писал как профессионал-философ, было
опубликовано. И при последовательном прочтении его работ
возникает отчетливое впечатление, что перед нами единый текст, от
начала и до конца повествующий об одном предмете и
подчиненный единому замыслу. Как будто мы имеем дело с порядком
изложения некоторого изначально продуманного содержания.
Конечно, даты публикаций не всегда укладываются в идейный
360 Раздел IV
порядок, но, как правило, это было связано с технологией
подготовки публикаций, с особенностями планирования
коллективных трудов и прочими привходящими обстоятельствами.
Общая же картина совпадения была очевидной. Всю свою
профессиональную философскую жизнь он пытался понять, как
возможна гармония человеческого духа, как возможен lucidus
ordo — «светлый порядок» духовной жизни.
Именно это стремление к «светлому порядку» и было
источником ясности его мысли. Именно это стремление, а не
способность раскладывать все по полочкам, следуя формальной норме
или, как сейчас говорят, «по алгоритму». Источником ясности
и его суждений и его поступков был отнюдь не формализм,
но поразительная внутренняя сопряженность рациональных,
нравственных и эстетических смыслов. Конечно же, он
принимал как факт специализацию в человеческой деятельности, в
том числе деятельности духовной, и, насколько нам известно,
никогда не пытался даже в порядке гипотезы обсуждать отмену
этой специализации. Он вообще не любил утопии. Суть и смысл
его позиции заключались в другом. Он не принимал распад
ловеческого духа на абсолютно изолированные друг от друга,
не соотносимые друг с другом спецотрасли духовного
производства — спецмораль, специскусство, спецрациональность. Он
полагал, что духовный мир человека един в своей основе, и его
специализация, протекающая в приемлемых формах, отнюдь
не предполагает распад этого мира. И дело не в том, что такой
распад невозможен — очень даже возможен. Дело в том, что
такой распад оборачивается для отдельного человека распадом
личности, а для общества, его санкционирующего, подобного
рода распад, катастрофой. Е. П. Никитин критически жестко
оценивал возможности и перспективы самоизолирующихся
отраслей человеческой деятельности. И был весьма жесток и
бескомпромиссен в оценках адептов такой самоизоляции.
Как мыслителя его волновал вопрос — что есть человек и
какова природа человеческих отношений (вот откуда его интерес
к феномену человеческого самоутверждения, исследовать
который он начал совместно со своей дочерью — психологом по
профессии). Для такого философа вынужденное ограничение
профессиональных интересов, допускающее обсуждение остро
интересовавших его сюжетов лишь в частном общении, было
невозможно. От частной процедуры объяснения к
универсальной процедуре обоснования, от процедуры обоснования к
анализу гуманитарных феноменов — так пролегали пути его мысли.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 361
§ 2. Гносеология в экзистенциальном измерении
Е. П. Никитин начинал свой путь в науке с гносеологии,
почему - он объясняет сам: гносеология была знаменем
философии времен «первой перестройки», или периода оттепели.
Тогда доступными для более или менее свободного обсуждения
были темы, которые дальше всего отстояли от идеологической
заданности, — гносеология, логика, методология науки. И этот
интерес к гносеологии был стержневым на его пути. Именно
отправляясь от гносеологии, он расширяет и проблематизирует
все другое в философии.
Конечно, показывает Никитин, взаимосвязи гносеологии
(учения о познании) с другими важнейшими частями
философии - онтологией (учением о мире) и антропологией (учением
о человеке) не определены раз и навсегда. Так, онтология и
гносеология сложились в самостоятельные философские
концепции лишь в Новое время, а применительно к античности или
средневековью их приходится специально реконструировать.
Пристально вглядываясь в историю философии, мы вместе с
Никитиным замечаем, что, вопреки общераспространенному
мнению, не учение о бытии определяет принципы познания, а
наоборот — учение о познании подвергается онтологизации и
после этого начинает определять принципы бытия. А потому
разнообразные попытки обосновывать гносеологию
онтологией неизбежно оборачиваются движением по кругу. Эта
парадоксальная вторичность онтологии была блестяще показана
Е. П. Никитиным применительно к рационалистической
(Декарт, Спиноза) и сенсуалистической (Бэкон, Гоббс)
гносеологии.
Но это еще далеко не все. Своеобразно перевернутыми
оказываются также и отношения внутри гносеологии — например
отношения между общей гносеологией и гносеологией науки.
Естественно было бы предположить, что гносеология науки
есть лишь спецификация общей гносеологии, распространение
основных принципов человеческого познания в целом на
науку. Но дело обстоит иначе: генетически первичной, утверждает
Никитин, была гносеология науки, а общая гносеология
сложилась в результате распространения принципов гносеологии
науки на человеческое познание в целом. Иначе говоря,
имело место сведение негносеологического к гносеологическому,
при котором теория научного исследования становилась
единственной подлинной гносеологией. В наши дни, отмечает Ни-
362 Раздел IV
китин, эта тенденция только возрастает: точка зрения
гносеологии науки распространяется на миф, религию, философию,
обыденную мысль, которые отныне трактуются либо как
псевдопознание, либо как этап на пути к науке.
Напомним, что все эти соотношения были прописаны
Е. П. Никитиным применительно к философии и науке
Нового времени. Можно предположить, что гносеология не всегда
была основой онтологии и наверное не всегда ею будет. Был
период, когда преобладала онтологическая проблематика,
затем наступил период, когда ее обсуждение стало
невозможным без вопроса о том, откуда взялось знание. Если, скажем, у
Платона теория познания не была выделена и познавательные
вопросы решались на основе суждений здравого смысла, то в
Новое время ситуация перевернулась: вперед вышла
гносеология, обосновывая то, что онтологически присутствует. В наше
время, по-видимому, возникает некое новое состояние,
связанное прежде всего с изменением - заслуженным или
незаслуженным — отношения к науке. Коль скоро наука не может
определить нормы и стандарты человеческой деятельности
(эта деятельность выходит за рамки всех научных
предсказаний и по своим формам, и по своим последствиям), она
перестает восприниматься как главный смыслообразующий фактор
в культуре.
В любом случае проблематика философии и науки не
является чем-то раз и навсегда сосредоточенным вокруг
гносеологии. Это Никитин подчеркивает неустанно, обращаясь
к другим параметрам духовного мира человека — этическим
и эстетическим. Даже у Канта, которого обычно считают
гносеологом превыше всего, основная идея — отъединение вещи
самой по себе от явления — нужна для теоретического
разрешения вопроса о свободе воли. Дробление человеческого
духовного мира, его специализация и дифференциация превращают
некогда гармоничный и единый духовный мир в
«разбегающуюся вселенную». Тут, отметим, Никитин заостряет лишь одну
сторону дела, раздробление единого мира. Но ведь есть и
другая, не менее важная — углубление анализа, которое позволяет
решать новые задачи, немыслимые и неразрешимые при
исходном синкретизме форм духовного мира.
Никитин представляет гносеологическое, этическое и
эстетическое в виде трех миров — вселенной, общества и
внутреннего мира личности. Эти миры исторически изменчивы и
потому не сводимы к простой формуле «Истина, Добро, Красота»
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 363
(она бессмысленна, если в ней нет истории, исторической
жизни). Переходя от одного мира к другому, человек вживается в
тот или иной образ видения целого, начинает смотреть на все
через гносеологические, этические или эстетические очки. Но,
спрашивается, разве внутренний мир — постигается при одном
лишь эстетическом отношении? Разве познавательное
проявляет себя лишь в отношении к Вселенной? Разве проявления
этического ограничиваются обществом? Если же учесть
возможные взаимопересечения этих трех начал (гносеологического,
этического и эстетического) в трех мирах (вселенной, обществе
и внутреннем пространстве человека), то общая картина
взаимодействий получится гораздо более сложной — но ведь на то
рассуждение и начато, чтобы продолжаться и разветвляться...
Все свои вопросы Никитин ставил и анализировал, исходя
из определенной методологической традиции — из
позитивистской схемы философствования, которую он изучал, критиковал
и преодолевал, выходя за рамки провозглашаемых
позитивизмом принципов и выдвигая новые опорные моменты. Это
относится к таким вопросам, как проблема объяснения и
обоснования в науке и философии, соотношение обоснования и
открытия и др.
Объяснение и обоснование в науке и в философии — это
важнейшая область его интереса. Что может философия и что
может наука? В чем их совместность и в чем их коренные
отличия? Где область их законных претензий, а где граница, за
которой они превращаются в идеологию? Никитин отходит от
резких разграничений формальной логики, опрокинутых
позитивистами на историю науки и историю философии
(философия vs наука, объяснение vs описание, обоснование vs
обобщение, обоснование vs открытие и др.). Но вместе с тем он
решительно отвергает всевозможные игры с
неопределенностью и многозначностью слов, «чем не только грешат, но часто
активно занимаются наши диалектики»1.
Вопреки колебаниям и сомнениям позитивистов, Никитин
показывает нам, что у философии есть свои собственные
принципы обоснования знания, не сводимые к научным. Он также
настаивает на том, что обоснование и открытие нельзя считать
разноуровневыми и несоизмеримыми операциями: они
переплетаются и взаимодействуют на всех этапах и стадиях
познания. Так, обоснование не противопоставляется открытию, а
поИз отзыва Е. П. Никитина на одну из рукописей Н. С. Автономовой.
364 Раздел IV
могает новому знанию войти в существующую систему знания,
оно способствует доведению открытия до внятной формы, или
даже само выступает как разновидность открытия.
Общая траектория его интеллектуального пути напоминает
траекторию некоторых других мыслителей второй половины
XX века (Фуко, Лотман). Через интерес к науке, к
методологии он приходит к проблеме человека. В последней его
монографии, написанной вместе с дочерью, Н. Е. Харламенковой,
ставится вопрос о человеческом достоинстве, о выборе способа
самоутверждения. Все это вовсе не значит, что «поздний»
Никитин стал экзистенциалистом, просто антропологический
мотив зазвучал более явно. Эта книга - научная, она основана на
большом эмпирическом материале, сохраняет строгость мысли,
проявляющуюся в продуманных классификациях, и
показывает, что этика укореняется не столько в иррациональных
проектах, сколько в знании о выбираемых жизненных путях. Мы
помним, что для Сартра, внутри экзистенциалистского
подхода, построение этики осталось неосуществимым делом.
Рациональная этика личного самоутверждения, утверждает
Никитин, нужна человеку везде, а в России особенно, так как
здесь традиционно господствовали доличностные способы
самоутверждения, опиравшиеся на разного рода коллективные
формы (общинность, соборность, социалистический
коллективизм, великорусский патриотизм) и проч. Как найти позицию,
которая не осуществлялась бы ни за счет других людей, ни за
счет собственных интересов? Если «ранний» Никитин
занимался обоснованием науки и философии, то «поздний» — именно
этим выявлением основ самоутверждения личности со всеми
его экзистенциальными и гносеологическими трудностями.
§ 3. Скрытая и открытая антропологизация
Идеи Е. П. Никитина о «скрытой» и «открытой»
антропологизации в философии перекликаются с анализом
антропологических традиций, выполненным Г. Шпетом (см. раздел II).
Он обращает наше внимание на то, что антропологизация
«пронизывает практически всю историю философии», и
выдвигает «гипотезу», что ее понимание менялось в зависимости
от отношения антропологии к онтологии (человека к
внешнему миру). Казалось бы, человек таков, каково внешнее бытие,
но выясняется, что «онтологические концепции, как правило,
строились позднее антропологических. <...> Конструирование
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 365
такой философской системы, которая в конечном счете
оказывается двухкомпонентной, исторически обычно начиналось
с создания антропологии (или какой-либо ее части, например
гносеологии, впоследствии же она дополнялась онтологией)»1.
Онтология строилась по подобию антропологии как учение о
человеке, «опрокинутое» на бытие, соответственно
создавалась «картина гармонии человека и окружающего мира»,
человек чувствовал себя «в своем мире», доступном познанию и
преобразованию, «воспринимался как одноприродный и
потому дружественный». Построение антропологии
основывается на созданном «человекообразном мире». А далее Никитин
высказывает достойное внимание предположение о том, что
«Бэкон и Декарт прервали эту традицию»2. Они не стремились
к созданию «целостной картины внешнего бытия», но, скорее,
были заняты проблемой человека, и не как целого, но «лишь
как познающего существа», причем «научно познающего».
Иными словами, вызвана «эта революционная антропологизация
философии не интересом к человеку самому по себе, <...> а
интересом к науке»3, к новым формам научного познания —
эмпирической, экспериментальной (Бэкон) или «чистой»
математической (Декарт) наукам. Итак, делает плодотворный вывод
Никитин, эти мыслители «де-факто продемонстрировали
возможность обойтись без онтологии прежнего типа»4; появляется
и упрочивается «заданная Бэконом и Декартом форма
открытой антропологизации философии (курсив наш. — Авт.), а
именно преимущественная ориентация на познавательную ипостась
человека»5. Гоббс, Локк, Лейбниц обращались уже не столько к
науке, сколько к человеческому познанию вообще.
В дальнейшем Д. Юм возродил эту новацию Бэкона и
Декарта, создав свою антропологию без соответствующей
онтологии. Однако справедливо утверждая это, Никитин не развивает
столь значимое положение, и мы считаем необходимым
об1 Никитин Е. П. Об одной тенденции в развитии философии // Никитин Е. П.
Духовный мир: органичный космос или разбегающаяся вселенная? М., 2004.
С. 431.
2 Там же. С. 432.
3 Там же.
4 Там же. С. 434.
5 Там же. Никитин ссылается также на сходное утверждение В. А.
Лекторского и др. о том, что «учение о познании стало не только особым, но и
наиболее важным разделом философских систем Нового времени». Философия //
Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 336.
366 Раздел IV
ратиться к антропологии Юма еще с одной стороны, сохраняя
и поддерживая главную интенцию в рассуждении Никитина.
По-прежнему представляется, что по большому счету прав был
Г. Г. Шпет, когда утверждал, что «Юма не поняли»1.
Философия Д. Юма, в центре которой человек, принципиально
антропологична и даже современна потому, что обнаруживает свою
значимость для решения принципиальных задач
эпистемологии, которая не только во времена Юма, но и сегодня стремится
преодолеть абстрактный гносеологизм субъектно-объектной
теории познания. Сама постановка проблемы как «исследование
человеческой природы», морали и добродетелей,
предпосланное «исследованию человеческого познания», служит
непосредственно такому преодолению. Широко известны своего рода
«максимы» Юма: «удовлетворяй свою страсть к науке, <...> но
пусть твоя наука останется человеческой и сохранит прямое
отношение к деятельной жизни и обществу»2; «будь философом,
но, предаваясь философии, оставайся человеком»3. Сегодня в
полной мере осознана недостаточность абстрактного
гносеологизма, эпистемология нуждается в такой категории субъекта,
когда он понимается как целостный человек познающий,
содержащий не только когнитивные, логико-гносеологические,
но и личностные, культурно-исторические составляющие в их
понятийно-абстрактной форме. Иными словами, человек,
полностью замененный субъектом как трансцендентальным
сознанием, гносеологическим субъектом вне индивидуальности и
личности, сегодня возвращается в познание как «эмпирический
субъект», и оно само становится не познанием мирового
разума или духа, но человеческим познанием. Сегодня уже вполне
определенно проявилась тенденция представить человека
познающего как целостность, в единстве чувствования,
мышления и деятельности, в системе социокультурных ценностей, что
соответствует экзистенциально-антропологической традиции
европейской философии, не менее значимой, чем
абстрактногносеологическая, рассудочно-рациональная. И поэтому вновь
возникают классические проблемы, к которым обращался Юм:
как, оставаясь на философском уровне анализа, учесть свойства
реального познания и самого человека познающего, как
перео1 Подробно см. об этом наст изд., раздел I.
2 Юм Д. Исследования о человеческом разумении. М., 1995. [Электронный
ресурс] : http://philosophy.ru/library/hume/01/01 .html
3 Там же.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 367
смыслить то, что традиционно именовалось «психологизмом» и
«эмпиризмом», но на самом деле можно именовать «скрытым
антропологизмом»?
Философия Юма, учитывающая роль социальных условий
для построения наук о человеке, оказывается современной и
значимой для разрабатываемой сегодня эпистемологии
гуманитарных и социальных наук, хотя и не может быть принята без
критического ее осмысления. Юм — один из тех, кто
размышлял над философскими проблемами, следуя «здравому смыслу»
как чувству общего блага и правильности жизни шотландского
общества, придерживаясь его традиций, ценностей и смыслов,
размышляя о них в своих философских исследованиях. Это
проявлялось и в его эпистемологии, что позже, как правило,
рассматривалось как «психологизм» и «эмпиризм» философа.
Нам представляется, что сегодня необходимо заново осмыслить
то, что традиционно именовалось и считалось психологизмом и
иррационализмом, особенно для эпистемологии социального и
гуманитарного знания.
В чем традиционно в истории философии и сегодня
видится «психологизм» Юма и не только с феноменологических
позиций? Видимо, прежде всего в том, что он обращается не к
традиционному абстрактно-гносеологическому субъекту, но
к человеку с его моралью и добродетелями, учитывает
«природу человека», размышляя о познании. Но также и в том, как
он анализирует сам познавательный процесс, насколько
высоко ценит ощущения и восприятия по сравнению с мыслью,
идеей, что одновременно является основой его эмпиризма.
Для Юма «самая живая Мысль все же уступает самому
слабому ощущению»1. Идеи вторичны, они слабее, чем
впечатления — «все наши более живые восприятия, когда мы слышим,
видим, осязаем, любим, ненавидим, желаем, хотим»2, т. е.
весь мир сложных человеческих чувств, не сводящихся к
изначальным ощущениям. Очевидно, что у Юма речь идет не об
абстрактно-гносеологическом, но об эмпирическом
субъекте, что сегодня стало особым предметом внимания в
эпистемологии гуманитарных наук. Однако путь «возвращения» от
абстрактного субъекта к целостному человеку познающему не
может быть просто обратным тому, что проделал в свое время,
восходя к cogito, Декарт, — необходимо не «вернуть» свойства
1 Там же.
2 Там же.
368 Раздел IV
«обыденного человека», но осмыслить категориальное
содержание понятия «эмпирический субъект», его сложную
эпистемологическую структуру. Это предполагает экспликацию
многоуровневости субъекта как разных степеней его абстракции и
разных типов всеобщего.
Обращаясь к Канту, Никитин выявляет радикальные
преобразования: Кант осуществляет их в рамках гносеологии, с
которой до него «совпадала» вся антропология; он «рассматривает
человека не только как познающее существо, но и как
нравственное и эстетическое, т. е. выводит антропологию за
прежние рамки, включая в нее, кроме гносеологии, также этику и
эстетику»1. Они не «довески» к гносеологии, но каждая из них
самоценна и необходима для существования и
функционирования человеческого духовного мира в целом. Третье
преобразование состоит в том, что «от онтологии в ее прежнем виде
следует отказаться»2 и прежде всего потому, что «основные идеи
кантовской философии делают существование подобных
онтологии в принципе невозможным»3.
Никитин полагает и обосновывает, что после Канта «в
гносеологической антропологии произошел откат назад»4, почти до
XVII века, когда О. Конт, Дж. Ст. Милль и другие возродили
бэконовский эмпиризм с целью восстановления полного
господства науки. Но после Шопенгауэра и Ницше стало очевидным,
что наука беспомощна перед главными человеческими
проблемами, и вновь появилась «внегносеологическая
антропология», или этическая антропология. Однако развитие получило
понимание онтологии как учения о внешнем бытии —
объектном статусе научного знания, и возникла идея, что
теоретическая часть этого знания соотносится с внешним миром не
напрямую, но через мир идеальных сущностей — теоретическими,
абстрактными объектами, которые создаются самими
исследователями и вне теории не существуют. «Онтологический статус
науки теперь определялся прежде всего и главным образом ее
соотнесенностью с внутринаучным миром теоретических
сущностей. Итак, прежняя онтология как учение о внешнем мире
практически исчезла <...> ее место заняла онтология совсем
иного вида — учение о мире теоретических сущностей,
создан1 Никитин Е. П. Об одной тенденции в развитии философии // Он же.
Духовный мир: органичный космос или разбегающаяся вселенная? С. 436.
2 Там же. С. 438.
3 Там же. С. 437.
4 Там же. С. 438.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 369
них человеком, т. е. онтология, которая уже не противостояла
антропологии, ибо была ее частью»1.
Итак, Никитин увидел новые аспекты проблемы
антропологизации философии, основываясь прежде всего на истории
лософии и тем самым продолжая традиции русских философов
начала XX века. Но продолжение следует, остается проблема,
которая существует, возможно, в бесконечном процессе.
§ 4. «Со мною вот что происходит...»
Евгений Никитин рассуждал об открытой антропологизации
философии, и как человек «светлого порядка», как настоящий
философ, он жил этой идеей. Она реализуется в его
философских текстах, посвященных памяти его друзей Б. Грязнова и
Н. Трубникова.
Идею открытой антропологизации очень тонко уловил
А. Огурцов в своей рецензии на публикацию трудов
Никитина (ред. Б. И. Дружинин, Н. С. Мудрагей). «Для тематизации
того, — пишет Огурцов, — что духовный мир представляет собой
органичный космос, он <Никитин> прибегает к тому, что он
называет "концепцией лицедейства", согласно которой
человек, попадая в различные ситуации, берет на себя роль другого,
вживается в образ каждого из миров — в мир Вселенной, в мир
общества, в мир человека (см. с. 289). Возникают различные
"лики" субъекта духовной деятельности: в познавательной
деятельности "фрагмент всегда выступает как некий полномочный
представитель целого" (с. 290) — Вселенной, в нормативности
нравственной деятельности человек исходит из отождествления
себя со всем человечеством или социальной группой, в
постижении разнокачественных и разноранговых "я" всегда
существует целостный образ Я — целостного индивидуального мира
личности»2.
Когда Никитин писал о своих друзьях, он словно
восстанавливал изнутри себя «целостный индивидуальный мир <их>
личности». Он вживался, да, но это нечто совсем другое, чем
простое вживание в роль, он постигал «образы их духовных
миров». Концепция «лицедейства» Никитина сопоставима,
1 Там же. С. 441.
2 Огурцов А. П. Е. П. Никитин. Духовный мир: органичный космос или
разбегающаяся Вселенная? М.: РОССПЭН, 2004 (рец.) // Вопросы
философии. 2005. № 3. С. 177
370 Раздел IV
пожалуй, с концепцией Двойника и Заслуженного
собеседника А. А. Ухтомского1, который полагал, что каждый человек, с
которым ты общаешься, может стать либо твоим Двойником,
либо Заслуженным собеседником. В Двойнике ты никого,
кроме себя и не увидишь, а в Заслуженном собеседнике ты можешь
увидеть Мир.
Так и Никитин пытался услышать своих друзей как
Заслуженных собеседников. Даже когда это не удавалось, он честно
и открыто говорил об этом (как он сделал это в статье о
Грязнове2, напоминая читателям и самому себе о том, что их пути в
конце жизни разошлись). Грязнов подолгу сидел в
задумчивости и слушал песню из хорошо знакомого всем нам
кинофильма «Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не
ходит...». То, что происходило с Грязновым, происходило и с
Никитиным, но уже после смерти Грязнова. Теперь он слушал
эту песню и думал о том, почему «вот что» теперь происходит с
ним, почему он не увидел в Грязнове Заслуженного
собеседника, но только Двойника.
Этот мотив стал своего рода рефреном статьи Никитина о
Грязнове. В ней очень ясно — по-никитински —
формулируется значение идей Б. Грязнова для философии, методологии и
истории науки, оценивается его вклад в методологию
историконаучных исследований и проблемы рациональности. Тем не
менее эта статья экзистенциально наполнена духовным миром
личности Грязнова. Никитин разбивает текст на небольшие
отрезки, каждый из которых начинается словами из
стихотворения А. Солянова «Соловей-разбойник» (1963), где речь идет о
«внутреннем двойнике» (или, говоря словами А. А. Ухтомского,
о нашем «заслуженном собеседнике»), который позволяет
человеку творческому быть человеком.
А мой двойник свистит, и нет ему ответа.
А мой двойник грустит — до слез мне жаль его.
Пока не заблестит окно в лучах рассвета,
Двойник мне не простит молчанья моего.
1 См. об этом: наст. изд. раздел I, глава 6, § 1.
2 См.: Никитин Е. П. Борис Семенович Грязнов: разработка
фундаментальных проблем методологии науки // Как это было: воспоминания и
размышления / Под ред. В. А. Лекторского. М., 2010. С. 611-625.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 371
Не менее глубока по своей экзистенциальной
наполненности статья Никитина «Николай Николаевич Трубников:
верность себе», посвященная памяти Николая Николаевича
Трубникова. Как и в случае с Грязновым, Никитин и здесь
воссоздает «духовный мир личности» своего близкого друга. В этой
работе он находит уже иной метафорический ряд,
экзистенциально фундирующий все рассуждение. Трубников как
целостная личность раскрывается Никитиным через состояние
«верности себе».
Дело в том, что в интеллектуальной жизни Трубникова была
ситуация, когда его поступок был воспринят многими как
измена. Приведем описание Никитина: «Но вот в конце 1970 г.
происходит совершенно непонятное. Он <Трубников> пишет
и представляет на суд коллег доклад "Философия и
методология науки". Очень странный доклад! <...> человек, видимо,
решил переменить направление своих представлений о сути и
назначении философии на все 180°. Ведь еще вчера он наравне
со своими коллегами писал и публиковал статьи по теории
познания, сегодня же заявляет, будто она (а тем более
методология науки) вообще не составляет "специфического предмета"
философии и даже какой-либо ее цели, а выступает "лишь как
средство" решения "фундаментальных философских проблем",
к числу которых в первую очередь относит проблемы смерти и
смысла жизни. <...> Он изменил! И не только себе, но и тому
святому делу, которое нас — практически всех сотрудников
сектора — объединяло, — делу оживления, возрождения подлинной
гносеологии, а вместе с тем и всей основанной на ней
философской системы»1. Дальнейшее изложение — это оправдание
философского и нравственного выбора Николая
Трубникова, его удивительной способности сочетать в своем духовном
космосе несочетаемые вещи: логичность кабинетного ученого
и наблюдательность натуралиста, эмоциональную и речевую
сдержанность и любовь к розыгрышам. Но самая главная пара
несочетаемостей: «Талант глубокого философа-мыслителя <...>
с ярким писательским талантом»2. Никитин восстанавливает
духовный космос Николая Трубникова и видит то, что
«неза1 Никитин Е. П. Николай Николаевич Трубников: верность себе // Как это
было: воспоминания и размышления / Под ред. В. А. Лекторского. М., 2010.
С. 596-597.
2 Там же. С. 608.
372 Раздел IV
интересованный Двойник» увидеть просто не мог. С ним опять
происходило что-то... Он превращался в Заслуженного
собеседника, который услышал у Трубникова «удивительную, хотя и не
видную постороннему взору, верность себе»1.
Никитин Е. П. Николай Николаевич Трубников: верность себе. С. 598.
Глава 4
Николай Трубников:
Рациональность субъективности,
или «Время человеческого бытия»
(разговор с очевидцами)
А в самом деле: чем пахнет Время?
Пылью, часами, человеком.
А если задуматься, какое оно —
Время — то есть на слух?
Оно вроде воды, струящейся в темной пещере,
вроде зовущих голосов,
вроде шороха земли, что сыплется
на крышку пустого ящика, вроде дождя...
Р. Брэдбери
§ 1. Интеллектуальная атмосфера
Творчество Николая Николаевича Трубникова (1929—
1983) только начинает выходить из забвения. Помимо
его трудов, изданных посмертно его другом Е. П.
Никитиным, сегодня появилось несколько статей
историкофилософского характера, где предпринимается
попытка зафиксировать хронологические отрезки его жизненного
пути, выделить периоды в его творчестве, определить
философское направление его интеллектуального поиска. Однако для
нас важнее другое. Мы полагаем, что при таком
историкофилософском анализе исчезает понимание прозы
Трубникова как целостного феномена, безусловно имеющего свою
внутреннюю структуру. Чтобы понять эту структуру,
недостаточно аналитически причислить его к экзистенциалистам или
к русским религиозным философам первой половины XX века
(хотя, бесспорно, определенные созвучия обнаруживаются
нетрудно). Важно провести герменевтический анализ
словеснопонятийной реальности сочинений Трубникова, погружая их
в культурно-исторический контекст философской жизни того
времени.
374 Раздел IV
Люди, жившие во второй половине XX века, характеризуют
интеллектуальную атмосферу эпохи одинаковыми эпитетами:
«яростное время»1, «свинцовое время»2 «асфальтовый пресс»3,
«ГУЛАГ духовный»4, «разгул идеологической дубинки»5.
Настоящей философии трудно было прорываться в такой
атмосфере к социальной реальности, «поперек, бревнами (как
однажды громогласно выразился Б. А. Грушин) лежали
твердокаменные корифеи»6. Именно они превращали
критические обсуждения в партийные разносы и давили любое
проявление настоящего философского интереса. Как вспоминал
американский философ Дж. П. Скэнлан о заседаниях
кафедры истории философии народов СССР: «Я не был готов к
атмосфере степенности и отрепетированной формальности
этих заседаний. <...> Совершенно не было возможности
искренне, оживленно обсудить мои мысли»7. Такая атмосфера
накладывала отпечаток на стиль выражения мысли, в «сфере
разговора» того времени формировался специфический
языковой колорит. Существовало как бы два самостоятельных
языка: язык официальной философии («жреческий язык»8,
«доступный и привычный начальству»9) и язык философии
настоящей. К примеру, в официальном языке слово
«гносеолог» употреблялось как свидетельство идеологической
неблагонадежности10, а «ужасные ошибки» были на самом деле
«достижениями»11. Эти герменевтические «перевертыши» или,
говоря словами Митрохина, «своеобразное двоемыслие», мы
обязательно должны учитывать, описывая те времена12. Мы
ча1 Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом. Беседы Л. Н. Митрохина с
Т. И. Ойзерманом // Как это было: воспоминания и размышления / Под ред.
В. А. Лекторского. М., 2010. С. 187.
2 О прошлом и настоящем. Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским //
Там же. С. 263.
3 Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом // Там же. С. 180.
4 Там же. С. 179.
5 Блауберг И. В. Из истории системных исследований в СССР: попытка
ситуационного анализа // Там же. С. 539.
6 Митрохин Л. Н. «Докладная записка»—74 // Там же. С. 507.
7 Скэнлан Дж. П. Американский философ в Московском государственном
университете, 1964/65 гг. // Там же. С. 454.
8 Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом // Там же. С. 149.
9 Овчинников Н. Ф. Вспоминая прошедшее // Там же. С. 383.
10 О прошлом и настоящем. Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским //
Там же. С. 228.
11 Там же. С. 210.
12 Там же. С. 231.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 375
сто вскользь слышим фразу: «не нужно трех слов» (фраза эта
встречается и в философской прозе Трубникова).
Сегодняшние студенты-философы не просто не помнят, они не знают
контекста ее появления, а он, между прочим, весьма
поучителен: «По инициативе Б. М. Кедрова остро обсуждалось
конспективное замечание Ленина о том, что "не надо трех слов":
диалектики, логики, теории познания. Позже это перешло
в пресловутую дискуссию о соотношении диалектической
и формальной логики, на которой громили В. Ф. Асмуса и
М. С. Строговича»1.
Вот как вспоминает это время психолог Владимир
Петрович Зинченко, однокурсник И. Т. Фролова, Ю. Ф. Карякина,
И. В. Блауберга, Л. И. Грекова и др. (тогда отделение
психологии входило в состав философского факультета):
«Своеобразие нашего времени студенческого заключалось в том, что в
философских группах на курсе были фронтовики. А жизнь
курса была единая. Они нас "сопляками" не называли, хотя,
по сути, мы для них были именно такими, ведь они уже
прошли фронт. Они нас окорачивали, "наступали" на наш язык,
или заставляли, чтобы мы его прикусили, потому что они
время чувствовали лучше нас»2. Действительно, было от чего
оберегать молодежь, ведь эти поколения существовали в
массовой среде «случайных людей в философии», а часто и весьма к
ней враждебных. Однако не они определяли живую
философскую мысль в стране, но философские личности. Они, говоря
словами Ясперса, «сделали жизнь в мысли своей профессией.
<...> Хотя они чрезвычайно отличаются друг от друга, общим
для них является то, что они переступали границы,
отваживались быть человеком изначально, словно бы обнажаясь. <...>
Они выходили за собственные пределы, затрагивая и
испытывая самое предельное»3. Поэтому H. H. Трубников выступил в
свое время со «странным докладом», в котором решился
сказать, что гносеология «(а тем более методология науки) вообще
не составляет "специфического предмета" философии и даже
какой-либо ее цели, а выступает "лишь как средство" решения
"фундаментальных философских проблем", к числу которых в
1 Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом // Там же. С. 152.
2 «Живой разговор». Интервью с Владимиром Петровичем Зинченко //
Вопросы философии. 2006. № 8. С. 44.
3 Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. С. 188.
376 Раздел IV
первую очередь относит проблемы смерти и смысла жизни»1.
Он не мог не написать свою «странную» для того времени
философскую книгу «Понятие цели в связи с проблемой времени
(к вопросу о взаимоопределении понятий цели и времени)»,
прекрасно понимая, какая судьба ждет его. Заметим, что
первый вариант книги так и не увидел свет.
Мыслящие люди того времени хорошо понимали, что в
условиях мощного внешнего прессинга самая важная функция
лософии и философского сообщества — спасать и исторически
оправдывать, т. е. сохранять человека. Логическая
аргументация оттачивалась ими не в открытых теоретических дискуссиях,
но в хитроумных словесных баталиях с партийными
функционерами. А разговор, который они вели в тесном кругу, вовсе не
предполагал, что все мыслят одинаково, но заставлял считаться
с разными позициями и мнениями. Жить в философском
сообществе означало в то время — человеческое неформальное
отношение друг к другу.
Трубников был отнюдь не одинок в своем стремлении
вырваться за рамки понимания философии как науки, которое
диктовало определенный стиль выражения, тематические
приоритеты и способы обсуждения проблем. Поэтому, когда он нес
книгу в сектор на обсуждение, все-таки надеялся на то, что
найдутся люди, которые ее поймут. Как свидетельствует Б. И.
Пружинин: «Ближайшим другом Николая Трубникова был Евгений
Никитин, который искал выход к новому пониманию
антропологии. Борис Дынин также интересовался
смысложизненными сюжетами. Это было время, когда только-только появилась
возможность прочесть "На весах Иова" Л. Шестова. И Борис
Дынин сделал на секторе доклад, прослушав который я
чистосердечно "брякнул": "это ж философия жизни..." - Все
захмыкали, засмеялись. А Дынин со свойственной ему
очаровательной простотой сказал: "Ну и что..." А Нэлля Мудрагей просто
ушла в эту проблематику с головой. Причем надо иметь в виду,
что и Никитин, и Нэлля Мудрагей и ее муж Володя Мудрагей
специализировались по кафедре логики. Выход к
смысложизненным проблемам — это было общее движение ближайшего
окружения Трубникова, общая атмосфера сектора».
1 Никитин Е. П. Николай Николаевич Трубников: верность себе // Как это
было: воспоминания и размышления / Под ред. В. А. Лекторского. М., 2010.
С. 596-597.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 377
Несмотря на устремленность к проблемам смысла жизни и
смерти, философии Трубникова не были свойственны ни
религиозность, ни мистицизм. Внутренний мир и образ жизни
Трубникова не укладывался в религиозные мировоззренческие
схемы. Он был философом, рефлексивно осмысливающим
происходящее, выражающим в слове свои сомнения,
внутренние чаяния. Он был рационалистом и пытался понять, как
возможно самопознание вполне рациональными средствами. Эту
мысль он реализовывал во всех своих сочинениях, но особенно
ярко это воплотилось в философской повести «Зефи, светлое
мое Божество, или После заседания (из записок покойного К.)»
(далее по тексту «Зефи»), которая во многом автобиографична
и имеет форму экзистенциального дневника1.
Здесь мы позволим небольшое отступление. Конечно,
«биографический метод» в исследовании литературных
произведений имеет весьма ограниченные возможности. Пользуясь им,
мы фактически интерпретируем автора, а литературное
произведение как феномен остается в стороне. Однако в случае с
творчеством Трубникова мы воспользуемся этим методом,
поскольку хотим не столько прояснить саму прозу, сколько
понять: какие события, персонажи и детали в его произведениях
являются символической реальностью, а какие - буквально
повторяют события реальной жизни. Сегодня такой прием
еще может дать положительный результат (конечно, для
исследования биографии и идей Трубникова), поскольку живы
очевидцы событий, описанных в философской повести. Они и
помогут нам «перевести» его повесть из символического
плана (эзопова языка) в план реальный. При расшифровке
«эзопова языка» формалистический литературоведческий анализ
ничего нам не даст. Здесь нужна стратегия герменевтического
комментария. «Словосочетание "герменевтический
комментарий", — рассуждает Т. Г. Щедрина, — не означает, что
комментарий "сделан" герменевтом или осуществлен по каким-то
определенным, раз и навсегда заданным, критериям
герменевтического анализа. Называя комментарий герменевтическим,
я хочу подчеркнуть не принадлежность его к
герменевтическим канонам, но его внутреннюю характеристику:
направленность, нацеленность на прояснение смысла, т. е. того, что
составляет объективное поле текста, его логический состав.
1 См. Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской
философии. М, 2008. С. 181-182.
378 Раздел IV
А это значит, что комментаторская работа должна
осуществляться в нескольких направлениях. На уровне
внутритекстового анализа: истолкование терминологической основы,
прояснение метафорического фона, а также реконструкция
системы связей и отношений между элементами текста. На
уровне анализа контекстуальной обусловленности:
сравнительный анализ терминологического строя текста в
соотношении с существующими концепциями и идеями»1. Необходимо
погрузиться в историческое время автора, во время
Трубникова, в его архив эпохи. Чтобы понять происхождение отдельных
записей Трубникова, необходимо знать его «сферу разговора»,
«интонацию общения». Люди того времени, писавшие
эзоповым языком (в силу идеологического давления), черпали
символы из реальной жизни. И мы с помощью герменевтического
комментария2 можем расшифровать символическое
пространство этой философской повести.
§ 2. «Заседание Ученого совета»,
которого не было, но которое было...
Как вспоминал Е. П. Никитин: «Рукопись книги <«Понятие
цели в связи с проблемой времени (к вопросу о
взаимоопределенйи понятий цели и времени)»>, представленная на
обсуждение в 1973 г., многими коллегами была встречена весьма
критически. Автора <Трубникова> обвиняли в попытке возродить
давно опровергнутый наукой телеологизм, в шпенглерианстве,
бергсонианстве и во многих других "тяжких грехах". Два года
он "учитывал замечания", а вернее, заново писал книгу, в
которой теперь уже ничего не говорилось ни о цели человеческой
жизни, ни о ее смысле, ни о многом другом, что было так
дорого ему и ради чего первоначально только и затевалась книга.
В итоге получилась работа о времени человеческого бытия»3.
1 Выступление Т. Г. Щедриной на «круглом столе» «Густав Шпет и
современная философия гуманитарного знания. К 130-летию Г. Г. Шпета. Встреча
вторая» // Вопросы философии. 2010. № 7. С. 5.
2 Одним из продуктивных приложений герменевтического комментария к
философской прозе является расшифровка «социокода» (термин М. К.
Петрова). См. об этом: Макаренко В. П. «Решенные вопросы»: повесть «Экзамен
не состоялся» М. К. Петрова // Вопросы философии. 2014. № 1.
3 Никитин Е. П. Николай Николаевич Трубников: верность себе // Как это
было: воспоминания и размышления / Под ред. В. А. Лекторского. М., 2010.
С. 600.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 379
Никитин употребляет слово «обсуждение» в широком смысле,
как некоторую цепь событий (передача книги на
рецензирование в разные сектора и институты, возвращение на доработку,
споры в кулуарах Института и т. д.). Но если понимать
«обсуждение» в узком смысле (как собрание сектора, Ученого совета
и т. д.), то в реальности оно было одно, происходило это в
секторе диалектического материализма, внутри «своих», и
никакого «разгрома» на нем, как вспоминают очевидцы, не было.
До «Заседания Ученого совета», которое описывает Трубников
в «Зефи», дело не дошло, это был его авторский вымысел. Но
вымысел этот основывался на реальных событиях, поскольку в
повести «Зефи» и на уровне метафорическом и на уровне
описательном Трубникову удалось передать общую атмосферу,
которая царила в то время в Институте философии.
То, что происходило с книгой потом, это было уже вне
сектора. В издательство книгу отправлял Институт, а не сектор. Ее
несколько раз выставляли на публикацию. Ее, конечно,
пришлось сильно адаптировать. В 1975 году она начала свой путь
по инстанциям. Ее отдавали на рецензии в разные сектора и
институты, снова возвращали на переделку. Книгу отправили
в сектор физики на отзыв. Ничего хорошего из этого не
получилось. Отзыв был отрицательным. Люди, работавшие тогда в
секторе вместе с Трубниковым, и сегодня помнят, кто это
делал. Физики обвиняли Трубникова в том, что он уходит от
науки ко временам к аристотелевским, к пониманию пространства
и времени доньютоновскому. Это был, как они говорили, «уход
не в ту науку»... Единственный, кто отказался давать отзыв, был
Лев Баженов. Вот как Трубников описал то, что происходило
по-настоящему с его книгой: «Сейчас все мило улыбаются друг
другу, усердно рекомендуют и поздравляют с успехом, дружно
направляют работу в издательство и "капают" куда следует, и
уже само издательство организует так называемое "закрытое"
рецензирование, о чем неугодный кому-либо из начальства
автор даже не подозревает. При осечке или другой нужде делается
еще одна такая же рецензия и еще, сколько угодно, потому что
холуйские услуги оплачиваются довольно хорошо и желающих
приобрести таким путем "научный вес и капитал" всегда
хватает. Так будут "мурыжить" работу год и два, и пять лет, перенося
ее (давно рекомендованную к изданию и получившую высокую
оценку специалистов) из плана текущего года в план грядущих
пятилеток, пока или работа не устареет, или автор не выйдет из
терпения и не "выкинет фортель", что даст основания уже от-
380 Раздел IV
крыто задержать издание, или не схлопочет себе инфаркт или
что-нибудь подобное»1.
Однако даже при таких негативных раскладах, книга
продолжала жить, ходила туда-сюда, ее никак не могли добить.
Затянувшийся «разгром» книги ломал, бил Трубникова, стал
источником его болезни. Но кто-то «невидимый» книгу
защищал, возвращал снова в инстанции, снова и снова
продвигал к публикации... Это надо учитывать сегодня тем, кто
занимается советским периодом. Книга не просто «вышла ровно
через 12 лет - в августе 1987»2, ее «выходили» друзья Николая
Трубникова: Евгений Никитин и Борис Пружинин. Да и
заведующий сектором Владислав Александрович Лекторский, — он
представлен в «Зефи» как «зав», — который не очень принимал
идеи Трубникова, тем не менее поддерживал публикацию этой
книги и в 1975 году и в 1987.
Словом, обсуждения и «разгрома» его книги на «Заседании
Ученого совета» не было (в буквальном смысле), но если бы
Заседание и было, то развертывалось бы по тому сценарию,
который представил Трубников в «Зефи», поскольку был
свидетелем подобных мероприятий. В реальности не было «разгрома»
как одномоментного публичного события. Был растянутый во
времени «разгром», который Трубников в повести описал
«одним махом» (как заседание Ученого совета) для того, чтобы
показать, как функционировал тогда Институт философии как
социальная система. И это «заседание» очень напоминало
случившиеся потом на самом деле разгоны отдела Келле и журнала
«Вопросы философии». Так что, он описал типовое заседание
Ученого совета ИФ РАН, которое собиралось принудительно
по указанию «сверху» (либо по просьбе ЦК, либо по указанию
«директивных органов»).
Борис Пружинин рассказывает: «Я помню обсуждение
книги Трубникова "Понятие цели в связи с проблемой времени
(к вопросу о взаимоопределении понятий цели и времени)".
Это был 1973 год. Я только-только пришел в сектор и еще не
все понимал. Надо сказать, что никакого разгрома там не было.
Было отчасти непонимание, отчасти некоторая растерянность,
1 Трубников H. H. Зефи, светлое мое Божество, или После заседания (из
записок покойного К.) // Трубников Н. Н. О смысле жизни и смерти. М., 1996.
С. 135. Далее: Зефи.
2 Никитин Е. П. Николай Николаевич Трубников: верность себе // Как это
было: воспоминания и размышления / Под ред. В. А. Лекторского. М., 2010.
С. 600.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 381
поскольку Николай Николаевич в книге совершил
неожиданный (по крайней мере для меня) поворот в проблематике.
Никто Николая Николаевича не громил, узкий круг секторских
коллег ничего не уродовал в его книге. Я не помню, как к этой
книге отнесся Ильенков (Трубников когда-то был его
аспирантом, но потом их пути разошлись), а Генрих Батищев склонял
Трубникова к своим идеям "глубинного общения", которыми
он тогда был увлечен. И хотя Николай Николаевич оставался
самим собой, направление их поисков в чем-то перекликалось.
Уже после обсуждения на секторе, в кулуарах Трубникову
говорили: "Коля, это не пойдет". Не пойдет даже не столько
потому, что это концептуально неприемлемо, и не потому, что это
неприемлемо "идеологически". Это не пошло бы потому, что
написано было слишком необычно (по тем меркам стиля
научных работ). Так "советские ученые" не писали. Я до сих пор
помню цитату из того первого вариант рукописи о войне 1914
года, о переломе в Европе. Она произвела на меня сильнейшее
впечатление: "Время, отравленное зарином и расстрелянное из
'максима', корчилось на колючей проволоке". Это поражало
экзистенциальной глубиной».
§ 3. «Время» как герой экзистенциальной прозы
Заметим, что в то время, когда шло обсуждение книги в
секторе, Н. Трубников уже написал рассказ «Золотое на лазоревом,
или Новый убор доя св. Варвары» (1972), в котором трагедия
1914 года дается экзистенциально, сквозь описание жизни
простых русских людей, чьи судьбы она искорежила. Недаром
первым эпиграфом к этому рассказу Трубников взял слова В.
Высоцкого «Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы
в единую слиты».
Однако для нас важно прежде всего то, что этот рассказ, как
и вся философская проза Трубникова, не поддается
литературоведческому анализу: прикосновение к его смысловой ткани
превращает сюжетные линии в пустую банальность. Исчезает
атмосфера недосказанности, недоговоренности. Именно эта
манера придает прозе Трубникова особую открытость и
искренность.
Вот как он описал «дыхание войны», охватившее героев
рассказа жарким июльским днем 1914 года.
«— Этот год густое молоко, — заговорила почему-то
посерьезневшая вдруг хозяйка, — дожди были, травы... Да только...
382 Раздел IV
Не к добру это. В деревне говорят: не к добру... По весне,
почитай, все коровы бычков принесли. И грибы рано пошли. Много
грибов... Перед той войной то же было. А этот год еще больше...
Упаси бог, опять с японцами воевать.
— В городе-то что говорят? — спросила она, и на этот раз
обратившись к Вареньке, но посмотрев также и на Сережу, как
будто именно от него ожидая получить ответ.
И он ответил. Лучше бы...
— Нет, — ответил он, — не с японцами. С немцами и
австрияками. С ними — ничего. Они против нашего пожиже будут. Мы
их били.
Ответил этой чужой, чьей-то, совсем не своей фразой, и
смешался, и покраснел, потому что эта неуместная и глупая фраза,
за кем-то повторенная, за каким-то выжившим из ума или так
и не нажившим ума спесивым генералом; - чужая и чуждая ему
и всем им, и Вареньке, и Ване, и этой приветливой Евдокии
Петровне; — враждебная так легко установившемуся здесь, и на
этом крыльце, миру, самому покою этого просветленно чистого
предвечернего часа, — легла между ними и разрушила не
только очарование этого благодатного солнечного дня, но,
кажется, порядок и строй всей их жизни. Она как бы переломила ее
пополам — во всяком случае для них это было так, но они еще
не знали об этом, — эту их жизнь, и его, Сережину, и
Варенькину, и жизнь этой Евдокии Петровны, о существовании которой
еще утром они даже не подозревали, и жизнь Вани, которому с
этого часа оставалось прожить всего каких-то два года и умереть
на этой войне, уже предвещанной не только неверными
человеческими слухами, но никогда не лгущими травами,
бычками и грибами. — На этой самой войне, которая в конце концов
взорвет весь этот мир, перевернет эту землю и многим, очень
многим, слишком многим из них не оставит на ней места, даже
самого маленького, самого скромного, такого, где можно было
бы просто закопать их»1.
Рассказ этот — как и другие сочинения Трубникова — не
столько литературное произведение со своей интригой и
сюжетными линиями, сколько эстетическая форма
проникновения в историческую реальность. Фактически перед нами
феноменологическое описание истории: событие предстает не само
по себе, но сквозь то, как оно воспринимается героями, сквозь
1 Трубников H. H. Золотое на лазоревом, или Новый убор для св. Варвары //
Трубников Н. Н. О смысле жизни и смерти. М., 1996. С. 268—269.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 383
их словесные выражения, т. е. сквозь символическую ткань.
И даже «забегание вперед и назад» во времени главной
героини Вари (Варвары Владимировны) только усиливает ощущение
прикосновения к реальной истории в ее сути.
Действительно, Время — это и есть самый главный
неперсонифицированный герой практически всех сочинений
Трубникова. Причем не время само по себе, но именно время
внутренней человеческой жизни, которое гораздо важнее для каждого
из нас, чем время как физическая величина.
Время словно играет с героями рассказов Трубникова,
испытывает их. Оно заставляет их ждать, спешить, успевать и
опаздывать. Его может быть «прорва», а потом оно может исчезнуть
совсем, «кануть в небытие», раствориться в глубинах памяти.
Оно может быть приснившимся, а иногда и просто «несуще
ствовавшим», «потусторонним». Его власть, «чуждая
человеческим страданиям»1, бывает неумолима. Время отпечатлевается
на лицах людей: «Это было удивительно и непонятно.
Удивительно было неожиданно увидеть лицо девочки-школьницы
в измученных чертах прожившей жизнь старухи. Еще
удивительнее и непонятнее, иногда просто страшно было разглядеть
вдруг в светленьком личике девочки-школьницы лицо
отчаявшейся старухи, какой та станет через каких-то пятьдесят лет»2.
Оно может стать «коварнейшим из врагов»: «Не то время, в
каком жила теперь она и какое отчасти уже не было временем, а
вот это спешащее, постоянно убегающее вперед и наносящее
предательские удары сзади, в спину»3.
Но бывает и так, что время теряет свою власть над
человеком: «Когда осталась совсем одна, ничего уже не ждала. Не
признавала никакого времени. Оно было само по себе, а она сама
по себе. <...> Сначала это произошло с лицами на
фотографиях, с их временем, а потом и с нею самой, с ее временем. Оно и
для нее переставало быть последовательностью и сменой дней
и все более становилось чем-то совсем иным, несменяемым, уж
никак нельзя было сказать "было", "будет", "тогда", но только
"есть", "всегда"»4.
Человек овладевает временем тогда, когда наполняет свою
жизнь смыслом. Он перестает бояться времени либо потому,
1 Там же. С. 289.
2 Трубников Н. Н. Скальпель и кисть ретушера // Там же. С. 312—313.
3 Там же. С. 317.
4 Там же. С. 296, 313.
384 Раздел IV
что он созидает себя, противостоя тем самым его
разрушительной силе, либо потому, что он останавливает в себе мгновение
и живет только своим временем, временем своей памяти. «Нет,
ее прошлого у нее никто уже не отнимет. Это ее прошлое. Оно
же до конца дней и ее настоящее. Оно никуда не прошло. Оно в
ней, как и она сама вся в этом никуда не прошедшем и никогда
никуда не пройдущем прошлом. Нет. Ничего не прошло.
Время может идти куда угодно и как угодно. Оно может что угодно
изменять, на то оно и время. А она — человек, и она не
изменяет. Она больше, чем время, и сильнее его, потому что умеет не
только разрушать, как оно, но и противостоять этому
разрушению. И она больше не боится его. Она готова все сказать в его
подлое, в его пустое и лживое лицо»1.
Человек овладевает временем в тот момент, когда отчетливо
осознает свою конечность, открытость перед смертью. В этот
миг «...минута его бытия перестает быть для него отвлеченной
мерой физической смены событий, одних длительностей
другими. Время вообще перестает быть для него мерой измерения
жизни. Оно становится мерой ее наполнения, мерой того, чем
здесь и теперь наполняется его бытие, что подхватило его и,
как могучий поток, несет вместе со своими водами в океан
вечности, вбирая в свое течение, сливая в единое русло потоки и
притоки, ручьи и реки, ничего способного двигаться не
оставляя на своем пути, не сожалея о том, что оказалось слишком
тяжелым и навсегда кануло на дно, ничего не прощая и не
забывая. Этим могучим потоком наполняются минуты его жизни,
осмысливаются смыслом, содержанием и ценой того, что было
и есть, что имело и имеет для него смысл, что раскрылось его
взору здесь, перед лицом его смерти. <...> Его настоящее
перестает быть изолированной, влекомой в небытие точкой на
линии физической смены событий, неустанно пожираемой и
уничтожаемой бегом времени. Оно становится узлом физически
не фиксируемой связи, соединяющей одну беспредельность с
другой, уже не существующую с еще не существующей. <...> И
уже не с бездушным механизмом часов сверяет он теперь часы
своего бытия, а с одухотворенным, его мыслью осмысленным
прошедшим»2.
Трубников описывает и предсмертное время, его
непредзаданность и обыкновенность: «И ждать-то ждала, и
готовиться1 Трубников H. H. Скальпель и кисть ретушера. С. 322.
2 Трубников H. H. Притча о Белом ките // Там же. С. 53-55.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 385
то готовилась, и времени прорва была, а не успела. Не все
успела. Очень уж обыкновенно все было. Как всегда. И
накануне. И в это утро тоже»1. И время ухода в мир иной, которое
всегда есть новое рождение: «Тихие, медленно льющиеся
слезы. И только виолончель продолжает плести в ее засыпающей
памяти лиловые узоры прошлого, петь о том, что все это было
и все это есть, потому что ничтожное "было" есть короткая
ловеческая мерка вселенского "есть". Которое всегда есть, как
небо и как земля, как страдание и радость, как боль и любовь,
как вера и надежда. — Петь о том, что "было" и "есть", то и это,
то горе и эта радость, живое и умершее — одно и то же, а
истина всего этого — это не только вечное противостояние
темного и светлого, голубого и зеленого — земли и неба, но и вечное
слияние никогда не смешивающихся звуков смеха и рыданий,
огненно-рыжих цветов жизни и пепельно-лиловых цветов
смерти. <...> Тихо, совсем тихо отстукивает последние свои
удары легкий, как дыхание, смычок. Последняя нить
вплетается в совсем уже готовую ткань. Вот уж и кайма. И кромка.
Последний узелок... Вот только хвостик заделать... — Ныне
отпущаеши рабу свою... — Здравствуй! Здравствуй во веки веков,
здравствуй на веки веков, Жизнь!»2
Сквозь мерную поступь повествования словно слышится
стук метронома, отсчитывающего длительность жизни
человека, которая зависит от того, каков порог ее исторической
наполненности (болевой порог его душевной восприимчивости):
«Как они не поймут, что люди, если их не убивать, живут ровно
столько, сколько хватает сил прожить, сколько может вынести
их рассудок. Не зря гении живут по тридцать, а пастухи в горах
доживают до ста пятидесяти. Просто одни за десяток лет
успевают взвалить на свои плечи столько, сколько другим не унести
и за сотню. — Я тоже набрал свое. С меня хватит. Я слишком
много помню. И моя память протестует. Она отказывается
воспринимать весь этот позор»3.
Время для героев прозы Трубникова это
«отъединеннослитный разлом, где соприкасаются две, раньше такие
далекие и почти скрытые от нас, заслоненные контурами домов
и холмов, а здесь беспредельно раскрывшиеся дали позади и
1 Трубников H. H. Золотое на лазоревом // Там же. С. 259.
2 Там же. С. 294-295.
3 Там же. С. 288-289.
386 Раздел IV
впереди»1. Именно этому времени и была посвящена его
философская книга «Время человеческого бытия».
§ 4. Герменевтический комментарий
философской повести «Зефи»
Но вернемся к философской повести «Зефи».
Осуществляя сегодня герменевтический комментарий этого
произведения, мы, фактически занимаемся переводом его
знаковосимволического слоя в наш современный язык. При этом мы
не только возвращаем повести исторический смысл, но
придаем стереоскопичность философским идеям Трубникова.
Повесть «Зефи» — связующее звено между его
профессиональными философским трудами и экзистенциальной прозой, это
контекст, который позволяет уточнять наши интерпретации
его экзистенциальной прозы, с одной стороны, и раскрывать
внутреннюю мотивацию его профессиональных философских
трудов - с другой.
Как свидетельствуют люди, знавшие Николая
Николаевича, Зефи — это реальное историческое лицо, которое стало для
него символом, соединяющим в себе светлые и темные стороны
жизни. «Мы как-то выходили из Леонтьевского, — вспоминает
Борис Пружинин, — он посмотрел направо, махнул рукой в ту
сторону и сказал: "Вон там жила Зефи..."».
А вот как Трубников сам пишет о своей встрече с ней:
«Усталый, худой, очень печальный и очень одинокий юноша в
летний закатный час возвращался домой после дня изнурительной
работы. И в переулке, где он жил, как раз напротив двери, в
которую должен был шагов через двадцать-тридцать войти,
навстречу ему, но не по тротуару, а по мостовой шли трое:
стройный молодой военный, по-тыловому лихой и щеголеватый,
счастливая молодая женщина, его жена, а на несколько шагов
перед ними их дитя женского пола пяти или шести лет,
темноволосое и с большими, восторженно глядевшими на него
небесно-голубыми глазами. <...> И когда они сблизились, и
он увидел Ее глаза и Ее взгляд, то есть уже за 10 или 15 шагов,
он сказал себе: "Вот моя будущая жена". А потом, через пять
или шесть шагов, как бы увидев что-то, еще сказал: "Да минет
меня чаша сия". Он не знал, почему сказал свои первые
слоТрубников H. H. Притча о Белом ките // Там же. С. 31.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 387
ва, но знал, почему сказал вторые. Но эти слова, первые и
вторые, были сказаны и как будто даже определили, хотя об этом
очень долго никто не догадывался, их дальнейшую судьбу. Его
и Ее. Годы до их очень и очень нескорой встречи. Ее и его.
И годы после этой встречи, их судьбу и начало судьбы их
будущих детей»1.
Заметим, что символический строй и структура этой
философской повести имеют эпистемологический характер, что
проявляется уже на уровне отношений между автором и
героями (напомним, что повесть эта автобиографична). Можем ли
мы сказать, что этот К. — сам Трубников? Безусловно, да. И
тогда получается следующее: он как настоящий философ отделил
себя, существующего в этом мире, «похоронил» себя («после
заседания»), поскольку понял, что его жизнь таким образом
продолжаться больше не может, и рефлексивно наблюдал над
собой (он разделил в себе автора и героя). Он писал свои записки
от имени К. и вместе с тем — от имени издателя (как настоящий
философ, сам себя рефлексивно осмысливающий), а еще — от
имени врача, стороннего наблюдателя, фиксирующего
внешнюю сторону жизни К., которому тот мог доверять свое самое
интимное, и который знал К. (в определенном смысле), лучше,
чем тот сам себя.
Через К. Трубников пытается прописать свою рефлексию,
свои внутренние состояния: «На чем я основываюсь? Вот на
чем. Сейчас, в моем болезненном состоянии, я нередко
замечаю, что, глубоко о чем-нибудь задумавшись, я перехожу в
иной временной мир, вернее, в иную временную размерность
жизни. Процессы моего мышления, и не только мышления,
но всего моего самосознания, протекают в эти минуты
быстрее, значительно быстрее, чем это бывает в обычном нашем,
так называемом "здравом рассудке"»2. Так и в
экзистенциальной прозе: Трубников не просто наделяет своих героев особым
чувством времени, это своего рода описание экзистенциальных
ситуаций, которые происходили с ним. Он свое ощущение
внутреннего мира (мира времени) передает своим героям.
Повесть состоит из множества темпоральных слоев (где
символическое переплетается с реальным): разные отрывки жизни
К., запечатленные в его часто точно датированных записках
(отдельные части заметок К.: молитвы, воспоминания, записи
1 Трубников H. H. Зефи. С. 256-257.
2 Там же. С. 125.
388 Раздел IV
снов, написаны в разное время), время заметок врача, первое
время Издателя (1966), второе время Издателя (1977), третье
время Издателя 1980. И такая хронологическая
раздробленность помогала Трубникову выразить свои представления о
времени как целостном феномене, имеющем сложную
многоуровневую структуру.
Вот как он сам объясняет структуру повести: «Нужно
представить себя объектом наблюдения. А для этого придется
построить в себе еще один, более высоко расположенный субъект
и именно его сделать наблюдателем и регистратором событий...
Но тогда, чтобы он не врал, придется строить над ним еще
один, то есть еще одного регистратора и наблюдателя. И мы,
таким образом, приходим к прогрессии в бесконечность.
Значит, нужно все это делать как-то иначе и проще. А если иначе и
проще, то я должен, не подразделяя себя на субъект и объект и
оставаясь самим собой и по возможности цельным, просто
отвлечься от своего вот этого конечного и временного «я» и
постараться увидеть все, и именно не со стороны и не «сверху»,
а изнутри, глазами того сверхэмпирического, что есть в этом
моем конечном "я", то есть сделать наблюдателем,
беспристрастным и нелицеприятным свидетелем и судьей Того, кого
всегда хотел бы иметь рядом с собой. Пусть Он примет в этом
участие и не даст соврать»1. Здесь Трубников подробно описал
тот эпистемологический принцип, из которого он исходил при
написании философской повести: оставаясь целостным
фиксировать динамику всех уровней самопознания. Повесть
Трубникова — это попытка вырваться из тупиков субъективизма и
психологизма через рациональное выражение субъективности
в словесной форме.
При этом надо иметь в виду, что К. в повести представлен
как душевнобольной человек и потому речь его сбивчива,
изложение нелинейно, что позволяет Трубникову строить текст как
неструктурированный поток сознания2: «рвать» мысли,
постоянно «возвращаться» к разговору о самом главном и «не
прого1 Трубников H. H. Зефи. С. 121.
2 В таком способе выстраивания текста мы видим отчетливую перекличку с
повестью В. Ерофеева «Москва — Петушки», которую Трубников прочитал,
перепечатал на машинке в пяти экземплярах (больше она не пробивала),
переплел с обложкой (он увлекался переплетным делом) и раздал своим друзьям:
Наталии Автономовой, Борису Пружинину, Нэлле и Владимиру Мудрагеям и
Евгению Никитину. Глубинное стилистическое созвучие повестей Ерофеева
и Трубникова требует отдельного исследования.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 389
варивая» этого главного, вновь уходить в кажущиеся не
главными сюжеты. Заметим, что эти неглавные сюжеты и составляют
«главное» этого произведения, т. е. мысль о том, что
«нарезанное» на единицы физическое время, взятое в аспекте
человеческого существования, преодолевает свою дискретность (как и
человеческая мысль может достраивать смысл словесной ткани,
данной в разорванной форме).
Попытаемся с помощью очевидцев расшифровать
некоторые элементы знаково-символической ткани этой повести.
Рамки главы не позволяют нам сделать это в полном объеме, а
потому ограничимся наиболее яркими примерами.
Вот характерное рассуждение Трубникова-издателя: «Что-то
никак не припомню, как сейчас нужно писать Аллаха? С
прописной или со строчной буквы? Бога теперь пишут везде, если,
конечно, в середине фразы, а не в ее начале, как у меня здесь,
только со строчной. Это я хорошо помню. Будду пишут так и
этак. Гаутаму с прописной, а остальных со строчной. А вот как
с Аллахом? У К. то и другое пишется с прописной. Но с богом у
него явная ошибка, и я, наверно, должен был бы ее исправить.
А как быть с Аллахом, не знаю»1. Это рассуждение рисует
издательскую атмосферу того времени вокруг написания слова
«бог» (с прописной или заглавной). Как рассказывал Б.
Пружинину Е. Сидоренко, в книгах 1920-х годов слово «бог» уже
писали со строчной буквы, а слова «Он», «Ему» и т. д. — с заглавной.
Еще одна запись Трубникова-издателя, которая дает ключ к
пониманию внешней атмосферы того времени: «Здесь К.
рассуждает вполне логично и здраво. <...> Однако это уже личность
не вполне здорового человека. Его выводы, действительно, ни
с чем не сообразны. Признаки начавшегося заболевания
можно заметить также и в том, как К. налагает события, связанные
с обсуждением его работы. Да он и сам замечает, что уже
тогда был не вполне здоров»2. Здесь Трубников затрагивает очень
важную часть социальной реальности того времени. Дело в
том, — вспоминает Пружинин, — что диссидентство уже было в
то время. И с ним боролись страшными средствами «карающей
медицины». Инакомыслящие объявлялись умалишенными и
их забирали в психбольницы, где насильно кололи
сильнодействующими психотропными препаратами. После «курса
лечения» человек, как правило, превращался в «овоща», которого
1 Трубников H. H. Зефи. С. 122.
2 Там же.
390 Раздел IV
устраивало все. Трубников наделяет К. «душевным
нездоровьем», чтобы акцентировать в его характеристике отклонение
от общепринятых идеологических норм (да и сам он в это время
заболевал).
«А если учесть при этом еще мое заикание, то приходилось
исключить и возможность какой-либо преподавательской
работы»1. «Он не заикался, конечно, комментирует этот
отрывок Борис Пружинин. Но лекции читать не мог, не читал их.
При этом он сослался на болезнь горла. И это все после того,
как он вел какие-то занятия, на него "накатали бумагу". Стало
ясно, что "выпускать его на широкую аудиторию" нельзя. И его
исключили из системы руководителей методсеминаров в
Политпросвете».
В повести упоминаются в зашифрованной (но узнаваемой
форме) фамилии друзей Трубникова:
«...это несколько неожиданное преобразование верно, то
тогда нам недостанет только одного звена, чтобы через
уравнение Ник—Киттинга—Пружинера прийти к полной и
исчерпывающей модели т и не только дать ей принципиально иную
интерпретацию, но, что неизмеримо важнее, доступную
прямой экспериментальной проверке»2. Здесь имеются в виду два
друга Трубникова: Никитин и Пружинин, которым он давал
читать свою рукопись книги. «Они надо мной веселились, —
вспоминает Б. И. Пружинин, — поскольку моя фамилия
совпадает с надписью на печи в романе Булгакова "Дни Турбиных".
На печи в доме Турбиных было написано: "Дамский мужской и
женский парикмахер Абрам Пружинер"».
«Известный филолог, доктор наук А-ва (мы не приводим
здесь ее полного имени по ее просьбе, хотя ее справка и помощь
в дальнейших наших поисках явились весьма ценными)
отказалась "в достаточной степени" прокомментировать тексты, если
ей, как она сказала, не будет представлен хотя бы в виде
фотокопии источник, откуда они были взяты»3. Здесь и далее
имеется в виду сотрудник сектора и друг Трубникова Наталия
Сергеевна Автономова.
В повести представлены персонажи, имеющие реальных
прототипов. «Вообще-то мой зав считал, что сама по себе идея
любопытна и отвергать ее, не обмозговав как следует, ни в коем
1 Трубников H. H. Зефи. С. 124.
2 Там же. С. 123-124.
3 Там же. С. 103-104.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 391
случае нельзя, но только она потребует "более солидного
обеспечения". "Поговори с боссом, то есть с усатым-полосатым
(виноват, с директором института, это так прозвали его наши
дамы), — советовал он. — Он, кажется, успел сменить гнев на
милость, хотя ты вел себя тогда безобразно и был совершенно
не прав, потому что такие обязанности нам всем приходится
время от времени исполнять. Мы живем в обществе и не
свободны от его законов. Все-таки поговори с ним. Он неплохо
о тебе отзывается в последнее время и, может быть,
согласится подкрепить тебя. Сварганите с ним пару статеек в
'Достижения', он станет твоим ответственным редактором, и работа
пройдет 'на ура'. Он просмотрел рукопись и говорит, что ему
кое-что понравилось, что ее легко довести до публикации. Надо
только уточнить некоторые формулировки, кое-что убрать, а
кое-что добавить, особенно в предисловии и выводах. И все"»1.
Здесь имеется в виду Владислав Александрович Лекторский,
который был заведующим сектором диалектического
материализма. А «усатый-полосатый» — это директор Института
философии того времени Украинцев. Как вспоминают очевидцы,
этот директор не мог принять концепцию Трубникова ни в
каком виде, поскольку ориентировался целиком и полностью на
системный подход, на естествознание и на кибернетику. Он
был большой сторонник кибернетики в то время, стоял за
создание больших автоматизированных систем. Все эти
размышления Трубникова о времени он не мог принять. И еще, надо
иметь в виду, что ситуация разговора с завом (Лекторским)
тоже скорее символична, чем реальна. Лекторский, зная
Украинцева, не мог ничего подобного советовать Трубникову. Но
то, что такие «разговоры» между сотрудниками Института были
типовыми для того времени, это точно.
Трубников продолжает: «Я уже разучился "варганить"
статейки и не видел необходимости что-либо изменять,
добавлять или убирать в своей работе, И с какой, собственно, стати?
В конце концов, я не один месяц потел над этой темой, все до
мелочей продумал и готов нести полную ответственность за ее
содержание. Все выводы я сто раз проверил и за каждый
крючок могу ручаться. И еще я считал и остаюсь при этом
убеждении, что идея моей работы, ее основная мысль не нуждается в
поддержке такого рода. Ей это совсем ни к чему. Я
отказался от "помощи" и не пошел на поклон к директору. "Ну, что
Там же. С. 129.
392 Раздел IV
же, — сказал зав, — делай как знаешь. Но только учти, что
сейчас очень трудно стало с бумагой и тебе придется долго ждать
с публикацией"»1. Пружинин прокомментировал это место так:
«Дело, конечно, не в бумаге. Дело в том, что с приходом
Украинцева контроль за публикациями стал более жесткий. Более
того, он жестко выступал за то, что сотрудник института не
имеет права публиковать что бы то ни было без согласия
руководства института. Такие требования он предъявлял Эвальду
Ильенкову. Надо сказать, что такая манера тоже была типовой.
Как рассказывала Пиама Гайденко, Юрий Давыдов вообще не
мог опубликовать ни одной работы без визы директора
института социологии Михаила Руткевича».
Не только друзей представляет Трубников в повести, но и
тех, кто «все, как один, в едином порыве», готов был по
поручению начальства громить всех и вся. «Затем слово было
предоставлено главному институтскому холую и беззастенчивому
пакостнику Витеньке Т., который всегда готов был выйти
перед публикой, когда нужно было превознести кого-нибудь из
членов дирекции или погромить кого-нибудь, на кого укажет
кто-нибудь из членов дирекции. Как всегда закатив в сторону
и вверх мутные глазки и перекрутив поясницу в двойном
ридбергере в сторону председателя, Витенька начал зудить, что,
очень заинтересовавшись темой, которой он вообще давно
интересуется, поспешил ознакомиться с рукописью,
представленной высокоуважаемым отделом теоретических изысканий,
внимательно все прочитал, и что же... к своему стыду... ничего
не понятно... какой-то не наш язык... и вы только послушайте,
что здесь написано...»2 Имеется в виду сотрудник Института
философии Виктор Тюхтин. Очевидцы свидетельствуют, что он
очень легко узнаваем в описании Трубникова.
Но не только социальная атмосфера и персонажи повести
нуждаются сегодня в герменевтическом осмыслении.
Комментирование содержательных элементов повести позволяет
понять мотивационный контекст интеллектуального поиска
Трубникова. «Нередко я замечаю, — пишет он от имени К., — и
другие, не менее любопытные эффекты. Я начинаю иногда
видеть воздух не как вполне прозрачную среду, но как некоторую,
хотя и прозрачную (правда, с легким фиолетовым оттенком),
однако все-таки видимую, причем своеобразно зернистую <...>
1 Трубников H. H. Зефи. С. 130.
2 Там же. С. 140-141.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 393
И еще. Эти частицы, как правило, видятся на расстоянии
наилучшего зрения и по мере удаления от него сливаются с общим,
несколько светящимся даже ночью и в полной темноте,
зернисто мерцающим фоном. Вот и сейчас, пригляделся,
сосредоточился и вижу то же, но только здесь почему-то заметно меньше
светлых частиц и значительно больше темных. Они
буквально пронизывают воздух и делают его несколько рябоватым)»1.
Это заметка К., а вот очень важный для нас комментарий этих
строк, выполненный Трубниковым-издателем: «Нечто
подобное в видении, правда, не воздуха, а воды описал в своих
воспоминаниях известный советский ученый-энергетик и лингвист
П. Флоренский. Его воспоминания в отрывках совсем недавно
публиковались в каком-то журнале, кажется в "Науке и жизни".
Поэтому мы тоже решили восстановить на его прежнем месте
этот отрывок, ранее исключенный нами из текста, как мало
относящийся к предмету»2. В этих записях для нас важно, что уже
во времена застоя русская философия начинала свое
возвращение в интеллектуальную жизнь страны, хотя и довольно
странными способами. Флоренский, как видно из текста Издателя,
был известен больше как ученый, но не как философ.
Кульминационным моментом повести является описание
разгромного заседания Ученого совета, которое мы приведем
полностью и герменевтически прокомментируем его (в
сносках), опираясь на воспоминания коллег Трубникова.
«При обсуждении произошло нечто чрезвычайно странное.
Я бы даже сказал: фантастическое. Нет, нет, не подумайте, я
вовсе не ожидал никаких лавров. Обычной рутины, не более.
Это когда председатель читает и подписывает какие-то
поминутно приносимые секретаршей бумаги, кто-нибудь мямлит
что-нибудь нечленораздельное на кафедре, а в зале сидит
десяток членов Ученого совета (остальные "в дороге и с минуты на
минуту будут"), первые два ряда стульев заняты заслуженными
пенсионерами, спящими с широко раскрытыми и полными
творческого энтузиазма мутно-водянистыми глазами, а сзади
и в уголках шушукается и хихикает дюжина аспирантов обоего
пола, все менее различимого в последнее время по внешним
признакам.
На этот раз все было иначе. Совсем не так. Когда я пришел
на заседание и вошел в зал, я подумал сначала, что собираются
1 Там же. С. 128-129.
2 Там же. С. 129.
394 Раздел IV
слушать чей-то доклад о каком-нибудь конгрессе в Занзабуку
или Бензобаку или что из того же Занзабуку-Бензобаку
приехало новое свежеотлакированное научное светило в цветастой
мантии до пят и бабьем платочке на голове с этаким
залихватским хвостиком где-то над темечком или возле уха1.
Зал был почти полон. Даже пенсионеры и аспиранты
затерялись среди каких-то неизвестных совершенно одинаковых
людей, каждый из которых был как будто даже лишен своей
собственной, отдельной и особенной биографии, а вот так, с
самого малого детства со всеми вместе и все как один, в
едином боевом и трудовом строю, в дружном, тесно сплоченном
коллективе... Совершенно одинаковых и одинаково одетых в
одинаковые мешковатые костюмы с темными галстуками под
одинаково косо сидящими, расползающимися куда-то за уши
воротничками2.
"Юбилей какого-нибудь заслуженного деятеля
провинциальных наук", — подумал я, но вспомнил, что в объявлении
было обозначено всего два вопроса: 1) Выполнение плана
научных исследований и разработок за истекший квартал текущего
года и утверждение скорректированного плана на конец года и
оставшиеся годы пятилетки и 2) Утверждение к печати
рукописей (моей и еще одной из смежного с нами отдела).
Раз так много народа, подумал я, то это откуда-то из
Госкомнауки, и первый вопрос надолго. Надо было бы поболтаться
часика полтора в коридоре, а после перерыва вернуться в зал ко
второму вопросу3. Однако мои предположения и на этот раз,
как это обычно и бывает со мной, обманули меня. Никакого
перерыва не было. Первый вопрос был решен за какие-то
сорок минут. Меньше чем за двадцать минут была рекомендована
к изданию вторая рукопись. Председательствующий, он же
директор нашего института, объявил мой вопрос и спросил, в зале
1 Здесь намек на Мозамбик. Как вспоминает Пружинин: «Это была эпоха
"деколонизации" Африки, и многие африканские страны, как тогда казалось,
были готовы двинуться по социалистическому пути. Поэтому "африканская
тема" часто звучала в Институте, главным образом с подачи "научных
коммунистов". Эта тема обыгрывалась и в песне А. Галича "Красный треугольник,
или Товарищ Парамонова" (из цикла "Разноцветные песни")» (1963).
2 Пружинин: «Имеется в виду, конечно, одинаковость не одежды только, но
и образа мысли. Хотя социальный дресс-код выдерживался в советское время
достаточно строго».
3 Пружинин: «Так мы обычно и делали... Или садились компанией в углу зала
и тихо обсуждали свои темы и домашние дела. Рядом любил садиться и
рассказывать А. Зиновьев».
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 395
ли я и не желаю ли сказать несколько слов. Я встал и с места
начал говорить, что я, собственно, свою задачу выполнил и т. д.,
но директор, он же председательствующий, очень любезно
попросил меня выйти и занять место на кафедре, "не скрываться
от общественности и не скромничать". "А то некоторые писать
книги не стесняются, а выйти и показаться публике
стесняются. Ха-ха-ха. Просим. Проходите, пожалуйста".
Пришлось выйти и с кафедры повторить сказанное, а
именно что я свою работу выполнил, сделал что мог, выводы все
проверены и завизированы в вычислительном бюро1 и добавить
мне нечего. Слово теперь за читателями. - За рецензентами,
все так же любезно улыбаясь, поправил меня директор, —
прошу товарищей высказаться по существу вопроса. Может быть,
сначала заслушаем официальных рецензентов?
Никто, естественно, не возражал "заслушать" их — вот ведь
идиотское словечко: заслушать, зачитать и т. д. — это была
установленная процедура, и слово было предоставлено
официальным рецензентам. Вот тут и началась сущая фантастика.
(Товарышшы учоныи, Ийнштейны драгаценныи...2) (Нет, нет, вы не
подумайте, что во мне говорит сейчас одна только личная
обида. Не в личном дело. И не в личности. Но, что вы мне ни
говорите, ведь по идее это же все-таки академический институт,
Храм Науки. Ведь сюда нужно приходить, умыв не только лицо
и одежду, как говорил почтеннейший Антон Палыч, но и
мысли для чистого служения Истине. Ладно, пускай, пускай много
званых да мало избранных, пускай не для одного только
служения. Пускай даже и для прислуживания. Но ведь и
прислуживать тоже нужно со знанием дела. Ведь если ты прислужник, то
изволь иметь чистые руки или хотя бы чистые перчатки. Изволь
не залезать пальцами в тарелки и не облить никого
вчерашними щами при этом своем прислуживании. Знай свое дело и свое
место. А если ты не прислужник, если ты, действительно,
Служитель, то тебе тем более нужно знать свое место и свое дело.
Нужно быть подготовленным к этому служению. Ведь
лопатами и вилами вы уже ничего здесь не сделаете. Ничего
хорошего, разумеется, и достойного. А плохого и недостойного можете
наделать очень даже много. В том числе и себе самим. А
чтобы сделать что-нибудь хорошее и достойное, нужно сначала
1 «Вычислительным бюро» были Никитин и Пружинин, которым Трубников
давал читать книгу до обсуждения.
2 Слова из песни В. Высоцкого «Товарищи ученые» (1973).
396 Раздел IV
как следует потрудиться. За партой. За учебником. За книгой.
За письменным столом. В библиотеке. В лаборатории за
прибором. Нужно поработать руками и ногами, а не одним только
языком. Не в одном только зале заседаний, упражняя
голосовые связки и навыки хакающего чтения вслух.)
Итак, началась фантастика.
Двое рецензентов оказались людьми совершенно
неизвестными. Ни по работе, ни по публикациям. При нашей крайне
узкой специализации мы все знаем друг друга хотя бы по
фамилиям. Этих я не знал. И не я один. В зале зашептали: "Кто
это?", "А откуда тот, другой?". Что же касается третьего
(главного рецензента, на самом деле первого), очень уважаемого
сотрудника нашего института, то он, всем хорошо известный
и названный вместе с двумя другими, никому не известными,
не откликнулся, и секретарь совета сообщил, что такой-то
нездоров, но прислал развернутый отзыв, выводы которого он
(секретарь) готов огласить совету. Из пришедших и
откликнувшихся один оказался заместителем директора родственного
института из одной отдаленной республики, а другой был
назван заведующим кафедрой в одном из областных
пединститутов. Ни одной публикации как первого, так и второго я и по сей
день не вспомнил. Впрочем, я не очень уж и слежу за нашей
литературой.
Оба рецензента в один голос объявили мою работу
идеалистической и метафизической. При этом один из них, кажется
первый, с видом глубоко убежденного пакостника утверждал,
что я — замаскировавшийся под передовую науку бергсонианец
кантианского толка и в своей работе подвергаю ревизии вклад,
внесенный в передовую материалистическую науку великим
материалистом нашего времени Альбертом Эйнштейном, а
также проповедую (то есть проповедывыю, как он говорил)
реакционную идеалистическую лжеидею о возможностях
вычислительной техники, якобы способной подменить собой
творческий труд трудовых трудящихся масс.
Другой же, напротив, несколько зловеще уверял уважаемых
членов Ученого совета и всех присутствующих в "этом высоком
собрании", что я - замаскированный кантианец с
бергсонианским оттенком и пытаюсь протащить в передовую
материалистическую науку Давно отвергнутые ею элементы гнилого
идеалистического эйнштейнианства.
Этот второй рецензент, являвший собой вполне
законченный тип зловещего пакостника, столь же тонко разобравшись в
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 397
существе моей работы, буквально угрожал "уважаемым членам
Ученого совета и всему уважаемому высокому собранию", что
мои беспочвенные утверждения перечеркивают все достижения
передовой материалистической науки со времен Исаака
Ньютона и подрывают (на этот раз каким-то прямо
противоположным тому, что вещал первый оратор, способом) веру ученых в
безграничные возможности современной вычислительной
техники, призванной в нашу эпоху научно-технической
революции сделать творческий труд трудящихся трудовых масс более
радостным и производительным. Этот второй говорил также,
что они, те, от имени кого он здесь выступает, "практики и
преподаватели ВУЗов", так остро нуждаются в научной продукции
нашего института, так радуются каждому нашему изданию,
каждому новому выдающемуся (то есть "выдающему") вкладу
в передовую материалистическую науку, и что же? — пощупав
даже с опаской свой разгоряченный лоб, — и что же?.. И это в
тот момент, когда... все мы... как один... в едином трудовом
порыве... в едином боевом строю... вместе со всем прогрессивным
человечеством...
И первый, и второй, оба вместе, как сговорившись,
особенно нажимали на то, что в моей работе скрыто протаскивается
враждебная трудовым трудящимся массам и всему
прогрессивному человечеству реакционная буржуазная лжеидея о
специальной корреляции величин S и F , что уже в прошлой моей
работе я объявил F-функцию фундаментальной величиной,
что, как "всем это хорошо известно", противоречит
передовым научным теориям, согласно которым идея производности
F-функции убедительно доказана всем ходом передового
материалистического естествознания за последние 150—200 лет
и, следовательно, и опять согласно чему-то в настоящее время
(вспомнил: "согласно передового естествознания") у нас нет
никаких оснований подвергать вслед за некоторыми
реакционными буржуазными лжеучеными от науки
необоснованному сомнению то, что так замечательно, с таким неоспоримым
успехом оправдало себя в практике естествознания и
преподавания основ естественных наук ("согласно воинствующего
териализма") за этот длительный исторический период, и что
только махровые реакционеры от науки... на поводу... на
мельницу... всего прогрессивного человечества.
Не хочется не только объяснять все это, но даже и понимать,
что это значит. Скажу только, что все это к моей работе, как к
этой, так и к упомянутой рецензентами прошлой, не имело ни-
398 Раздел IV
какого отношения, ни малейшего, ни прямого, ни косвенного,
ни мало-мальски отдаленного — никакого вообще. Да и сама эта
набившая оскомину "специальная корреляция", о которой они
долбят уже пятьдесят лет, связана с весьма второстепенными,
даже с точки зрения нашей отечественной научной провинции,
именами и скорее относится к истории естествознания, даже,
может быть, к истории курьезов в естествознании, то есть к
давно пройденному на каком-то из глухих задворков науки этапу.
<...> Вот так и пошел этот Ученый совет. Я. перестал слушать
всю эту муть и только ждал, когда все это закончится и можно
будет покинуть это "высокоуважаемое научное собрание"»1.
В дальнейшем повествовании Трубников представил
«заседание Ученого совета» уже сквозь призму внутреннего
восприятия сложившейся с его книгой ситуации. К. видит во сне
«кошачью свадьбу», которая очень напоминает по своему
содержанию вышеописанное «заседание Ученого совета».
«Я шел на это собрание, — пишет Трубников от имени К., —
и заранее знал все. Все, что здесь произойдет. Я не знал, как
произойдет, но что будет вот такая пакость, в этом я ни минуту
не сомневался. И все же шел, как бы ничего подобного не
ожидая. Почему шел? Ну, это-то понятно, куда же было деваться,
я ведь был на работе. А вот откуда знал, это вопрос, и даже, я
бы сказал, вопрос вопросов. И об этом я хочу все же нечто
сказать, иначе зачем вообще было портить столько бумаги. <...> За
два или три дня до этого совета видел я во сне кошачью свадьбу.
Именно так. Несколько десятков грязных, даже не дворовых, а
просто помойных кошек, предводительствуемые каким-то
пакостным драным котом с болтающимся отвислым брюхом, как
у только что разрешившейся от бремени старой суки, завывали
вокруг меня в глубоких сумерках какого-то загаженного двора,
кидались на меня, грызлись между собой, копошились в
какойто вонючей жиже, куда и мне приходилось ступать ногами,
покошачьи шипели и плевались на меня и друг на друга.
Во сне же, не просыпаясь, я сообразил, что вижу сон и что
он означает одно: работа моя дождалась наконец своей очереди
и в ближайшие дни будет вынесена на Ученый совет. Во сне же,
все еще не просыпаясь и продолжая наблюдать всю эту
помойную возню, сообразил, что будет на совете вот такая же пакость.
Тогда же подумал, что ничего иного и не ожидаю, кроме
пакости, но все равно, надо через все это пройти, иначе рукопись
Трубников H. H. Зефи. С. 130-136.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 399
вообще не дойдет до издательства. Проснувшись и припомнив
подробности увиденного, пришел к тем же, в сущности,
выводам, но как-то позабыл о вислобрюхом коте-предводителе, как
бы дирижировавшем поведением всей этой нечистой силы, и
вспомнил о нем уже на самом заседании, в конце его, о чем и
попытаюсь рассказать дальше»1.
Этот отрывок иллюстрирует то чувство, которое испытывал
Трубников от столкновения с официальной «научной»
атмосферой того времени. Для большей наглядности обратимся к
воспоминаниям одного из сотрудников Института философии,
заведующим отделом исторического материализма
Владислава Жановича Келле. Для разгона этого сектора собрали
заседание «Ученого совета», подобное тому, которое так ярко описал
Трубников. Мы позволим себе воспроизвести отрывок из
статьи Б. И. Пружинина и его беседу с В. Ж. Келле, напечатанные
в журнале «Вопросы философии»2.
Заметим, что причины, по которым такие разгоны
происходили, могут показаться малоинтересными — во всяком случае,
в концептуальном плане. Социально-политические
перемены и идеологические потрясения в нашей стране заслонили и
сделали как бы малозначащими события духовной жизни
тогдашней «застойной» эпохи. Тем более события
«внутриинститутского» масштаба. Открылись разнообразные возможности
широко приобщиться к историческому и интеллектуальному
опыту других стран, и нынешняя генерация наших
интеллектуалов зачастую уже просто не видит нужды обращаться к
давней интеллектуальной истории собственной страны.
Поскольку, полагают они, эта история в интеллектуальном плане
малоинтересна. Уж во всяком случае, научить чему-либо
полезному она не может. Не знаем насчет полезности, но полагаем,
научить все же может много чему. Ведь без внимательнейшего
отношения к своей собственной истории, в том числе истории
недавней, никакое движение вперед (т. е. не по кругу)
невозможно ни в какой сфере жизни. Тем более в сфере
интеллектуальной. Так что без осмысления своей, не только давней, но
и недавней истории отечественная философия и
социальногуманитарная наука в целом не смогут сказать ничего
собственного внятного и значимого. Не сумеют актуализировать даже
1 Там же. С. 136-137.
2 Беседа Б. И. Пружинина с В. Ж. Келле (11 мая 2010 г.) // Вопросы
философии. 2011. № 1.С. 60-66.
400 Раздел IV
чужой опыт. Ведь только в преемственности опыта и
формируется концептуальный аппарат, способный схватывать
проблемы новой реальности.
§ 5. «Исторический материализм»: наука vs идеология.
Из беседы с В. Ж. Келле
Келле. Для нас с Матвеем Яковлевичем Ковальзоном
знаковым был 56-й год, когда «Вопросы философии» опубликовали
нашу первую совместную статью «Категории исторического
материализма». В 1959 г. мы выпустили первую книгу «Формы
общественного сознания». И надо отметить, что тут же
получила весьма критическую рецензию. Нам поставили в вину то, что
мы идеологию выводили за грань познания.
Пружиним. Позволю себе небольшое примечание к
повествованию Владислава Жановича. Я нашел эту рецензию и приведу
несколько ее фрагментов.
«Необходимо, однако, отметить, что в рецензируемой книге,
в целом полезной, содержатся отдельные положения, которые
вызывают серьезные возражения и нуждаются во
внимательном разборе и критике.
«В развитии общественного сознания, — пишут авторы, —
необходимо выделять две взаимно связанные друг с другом
тенденции: во-первых, познавательный процесс, обусловленный
интересами реальной жизненной практики общественного
человека, — накопление объективных знаний о природе и
обществе; во-вторых, идеологический процесс, обусловленный в
антагонистических формациях интересами различных
действовавших в истории классов, — возникновение, развитие и смена
идеологий различных классов» (стр. 11). Это
противопоставление познавательного процесса идеологическому
последовательно проводится авторами во всех разделах книги.
Рассматривается ли общетеоретическое положение о преемственности
в развитии общественного сознания в целом, они спешат
заявить: «...следует различать преемственность в области
идеологии от преемственности научного познания» (стр. 22);
излагается ли та же проблема преемственности применительно
к отдельным формам сознания, например философии, авторы
вновь утверждают: «...в развитии философии имеет место
идеологическая и познавательная преемственность...» (стр. 244);
освещается ли содержание определенной формы общественно-
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 401
го сознания, например искусства, они вновь и вновь
повторяют, что это содержание представляет собой «единство
идеологического и познавательного моментов», осуществляемое «на
эстетической основе» (стр. 212), и т. д.
Известно указание В. И. Ленина о том, что научная
идеология в противоположность идеологии ненаучной содержит
объективную истину. Ленин противопоставляет одну идеологию
другой идеологии в их отношении к объективной истине, но
не противопоставляет науку вообще идеологии вообще,
познавательный процесс — идеологическому процессу. Если, как
утверждают авторы, в общественном сознании действуют две
тенденции — познавательная, научная, и противостоящая ей
идеологическая, ненаучная, — то понятие «научная идеология»
в его противопоставлении «ненаучной или антинаучной
идеологии» лишается всякого смысла. Проводимое авторами
противопоставление познавательного и идеологического как двух
противоположных процессов не отвечает действительности и
не согласуется также с указанием В. И. Ленина,
содержащимся в статье «Три источника и три составных части марксизма»:
«Точно так же, как познание человека отражает независимо от
него существующую природу, т. е. развивающуюся материю,
так общественное познание человека (т. е. разные взгляды и
учения философские, религиозные, политические и т. п.)
отражает экономический строй общества» (Соч., т. 19, стр. 5). Как
видим, Ленин здесь называет все формы общественного
сознания — значит, и идеологические формы, идеологию — формами
познания»1.
Пружиним. Поскольку книга вызвала многочисленные
отклики, редакция опубликовала их обзор. Приведу фрагмент
этого обзора.
«Отрицательно относясь к излагаемой в книге концепции о
соотношении познавательного и идеологического моментов
в сознании, доцент И. Миндлин (Москва) считает, что
разделение духовной жизни общества на эти два момента имеет
искусственный характер. В действительности жизнь общества
подразделяется на материальную и идеологическую (то есть
духовную). Материальная жизнь — это та, которая складывается
независимо от сознания людей, а идеологическая складывается,
проходя через сознание людей. Из этого следует, что в
классо1 Гак Г. М., Рачков П. А., Степанян Э. X., Чугаев А. Я. Спорные положения в
интересной книге // Вопросы философии. 1960. № 8. С. 175.
402 Раздел IV
вом обществе общественное сознание не может быть единым,
оно носит классовый характер; оно отражает ту ожесточенную
борьбу классов, которая происходит в обществе и является
главной силой истории. Эта борьба пронизывает от начала до
конца все формы общественного сознания, в том числе и науку.
А отсюда следует, что незачем искусственно расчленять
общественное сознание на эти две тенденции»1.
Келле. Но каких-то организационных выводов тогда не
сделали. Мы с Ковальзоном выдвинули идею, что идеология и
познание образуют две тенденции в развитии общественного
сознания, которые не совпадают друг с другом. Есть
познавательная тенденция, ориентированная на объективность, и есть
идеология, ориентированная на интересы. И в каждой форме
сознания соотношение их своеобразное. В одних превалирует
познание, в других идеология. Но единственная форма
сознания, которая анализирует и оценивает адекватность этих
соотношений — философия. В самой же философии соотношение
идеологии и познания должна, так сказать, оценивать сама
философия. Во всяком случае, философия — это та область
сознания, которая занимается как раз этими вещами. Что мы и
делали в нашей книге. Надо сказать, для нас такая постановка
вопроса была некоторой новацией. На Западе давно идеологию
и познание разделили.
Пружиним. Здесь я вновь не могу удержаться от
комментария. История, о которой повествует Владислав Жанович,
настолько недавняя, что делать какие-то далеко идущие
теоретические обобщения, апеллируя к ней, еще, наверное, рано. И тем
не менее некоторые идейные аналогии с днем нынешним очень
даже просматриваются. Ныне, похоже, в рамках
постмодернистских направлений (с ярко выраженными
конструктивистскими установками) идеологию и познание свели вновь.
Причем свели значительно более радикально, нежели об этом мог
мечтать доцент Миндлин. Постмодернизм просто отождествил
науку (и, притом, отнюдь не только гуманитарную) с
идеологией. А поскольку благодаря этому отождествлению идеология
лишилась какой бы то ни было оппозиции, она вообще
перестала чувствовать свои границы и приобрела характерные
черты мифа. Впрочем, даже насквозь идеологизированное
сознание предполагает все же самооценку, и так или иначе включает
1 Спорные положения в интересной книге [«Авторы других рецензий,
поступивших в редакцию...»] // Вопросы философии. 1960. № 8. С. 179.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 403
в себя взгляд с иных позиций на мир, в котором оно воплощает
свой интерес, взгляд с позиций скажем, знания о мире. Внутри
мифа такой потребности нет — миф не имеет внутренней
опорной точки для самооценки, он не рефлексивен в принципе.
И при этом никакой нужды в том, чтобы стать познанием, а тем
более научным познанием, он не испытывает.
Келле. В начале 60-х годов вышел наш «Курс лекций по
историческому материализму». Еще продолжалась оттепель,
породившая волну шестидесятников. Она подхватила и нас, хотя мы
были немножко старше. Но мы же были изолированы, и мало
было знакомы с тем, что происходило в европейской
философии. Работы западных социальных философов были в
спецхранах, нам было трудно их получить. Мы сами пришли к идее
разделения идеологии и познания, это не было каким-то
заимствованием. Эта идея была проведена и в «Курсе лекций по
историческому материализму» (1962 г). Эта идея и была
ориентиром, которым я руководствовался. Я думал, что в марксизме
в принципе идеология и познание должны совпадать. Это был
принцип — должны совпадать, поскольку рабочий класс,
идеологией которого является марксизм, заинтересован в
объективном знании действительности, и лозунги, которые он
выдвигает, идеологические, так сказать, принципы, они тоже должны
соответствовать реальности для того, чтобы построить новое
общество. Но реально это не получалось. И поэтому задача
заключалась в том, каким образом построить саму идеологию,
чтобы она совпадала с познанием, чтобы была действительно
научная идеология, как это провозглашала марксистская
теория. Противоречие между теорией и жизнью, таким образом,
получало выражение в философской проблематике.
Соответственно, эти идеи определили и направление работы сектора,
руководителем которого меняя назначили.
Когда я пришел в Институт философии, сначала научным
сотрудником, а затем возглавил сектор исторического
материализма, то с удивлением обнаружил, что в самом Институте в это
время многие очень способные люди оказались как-то не у дел.
Или у них возникли сложные отношения с руководством
секторов, где они работали, либо по каким-то другим причинам. А я
талантливых людей не боюсь, мне интересно с ними работать.
В результате собрался великолепный сектор! В нем работали в
разное время Э. Ю. Соловьев, работала Н. В. Мотрошилова,
Е. Г. Плимак, Ю. М. Бородай, Ю. А. Левада. Одно время у меня
работал Б. А. Грушин. Они пришли из Института социологии,
404 Раздел IV
когда их оттуда выгнали. Кто еще? Юра Семенов, Коля
Новиков, который потом эмигрировал... Все это были чрезвычайно
способные люди. А я давал им возможность заниматься тем,
чем они хотят, но, естественно, с учетом того, что они все-таки
в секторе истмата. И мы начали выпускать продукцию.
Я буду говорить только о тех книгах, где я участвовал. Мы
выпустили с Бородаем и Плимаком две книги — «Принцип
историзма в познании социальных явлений» (1972) и «Наследие
К. Маркса и проблема теории общественных формаций» (1974).
Основная идея, за которую нас «долбали», заключалась в том,
что мы придали базисные функции политике в
докапиталистических формациях и, прежде всего, в период феодализма.
Базис — это экономика, так все считали. Мы же сочли, что реально
действующей силой базисного порядка была именно политика,
что в условиях феодализма экономика не играла такой роли,
как при капитализме и выполняла более фундаментальные
функции в жизни общества. Сначала вышел «Принцип
историзма в познании социальных явлений» и его сразу подвергли
очень суровой критике. Я помню, тогда после смерти Копнина
(с Копниным у меня были прекрасные отношения) нам
устроили очень страшную разборку. Но и тогда это все прошло без
оргвыводов. Потом вышла книга «Наследие К. Маркса...», там
эта идея тоже была проведена. Эта книга была интересна тем,
что была предназначена вернуть в марксистское понимание
истории понятие «формация», во-первых, а во-вторых,
показать, что Маркс и Энгельс не дали окончательного решения
вопроса о формациях, что здесь еще много нерешенных проблем.
Дело в том, что в изложении исторического материализма у
Сталина в его знаменитой работе «О диалектическом и
историческом материализме» понятие «формация» вообще
отсутствует. И из «константиновского» истмата понятие «формация»
исчезло. Мы его вернули.
Мы полагали, что поскольку у Маркса и Энгельса имеются
различные трактовки формации, мы можем как ученые
самостоятельно разбираться в этой тематике и вести себя не только
как пропагандисты. Здесь я немножко отступлю. Дело в том,
что при Сталине, конечно, философам отводилась роль
пропагандистов. Академик Ф. В. Константинов говорил: «Мы
должны быть идеологами» и т. д. А нам хотелось заниматься
творческой исследовательской работой. В 40-е годы это было вообще
невозможно, пока жив был Сталин. После 56-го года какие-то
проблески появились, и мы воспользовались, конечно, этим.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 405
Но старое поколение считало, что мы слишком далеко
зашли, начали уже копаться в самом марксизме — чего-то там
разбираться. Наша книга вызвала неудовольствие руководства
Академии общественных наук. М. Т. Иовчук, в частности, там
большую роль сыграл. Они устроили разгромное обсуждение
нашей книги, считая, что мы ревизуем Маркса, и от авторов, от
меня прежде всего, требовали признания своих ошибок. Надо
было каяться. Между прочим, существует стенограмма этого
обсуждения.
Потом некоторые люди после этого обсуждения подходили
ко мне и извинялись за свое выступление. Говорили, что их
заставили.
Пружиним. Идеология, характерными для нее способами,
«подламывала» под себя элемент научности, который вы
пытались отстоять в истмате.
Келле. Да.
Пружинин. И во что вылилось все это? Это обсуждение, эти
претензии?
Келле. Каких-то организационных выводов тогда опять
сделано не было. Они хотели только меня припугнуть, прижать,
чтобы я немножко умерил свой научный пыл. Но я не умерил
этот пыл. Это первое, и второе, что имело значение, — на нас
обратил внимание Московский горком партии,
идеологическим отделом которого заведовал тогда Ягодкин.
Ягодкин в начале 1970-х годов решил сделать карьеру на
разгроме слишком прытких гуманитариев, которые, как он
говорил, нарушают идеологическую дисциплину. Он организовал
проверку Института экономики, он хотел разгромить
«Вопросы философии», и одним из его главных противников был
Иван Тимофеевич Фролов. Ну, у Фролова были связи в ЦК, и
он оказался орешком, который был Ягодкину не по зубам. А я
был, во-первых, членом редколлегии, работал с Фроловым, а
во-вторых, я возглавлял сектор, который все чего-то там
куролесил. Тогда во главе Института был Украинцев, Кедрова они
все-таки смогли сбросить (он сделал некоторые тактические
ошибки). И я попал под прицел Ягодкина. Вот эти два
фактора сработали. Мы выпустили к столетнему юбилею Ленина
книгу «Ленинизм и диалектика общественного развития». Это
Плимака целиком заслуга, я лишь подписался под этим, я был
с этим согласен. Он разделил применительно к оппозиции
гносеологические корни оппозиции и социальные. Эта идея была
признана неприемлемой. Мне передавали, что в некоторых вы-
406 Раздел IV
ступлениях в Институте философии называли эту книгу
троцкистской. Она была запрещена. Она не вышла в продажу.
В главной книге, которую мы задумали, мы собирались
поставить и разработать проблемы, которые ориентированы были
на объективное рассмотрение исторического прогресса, и в
перспективе — на развитие научной теории общественного
развития. Одним из авторов плана этой книги был Ю. А. Левада.
В это время, из Института социологии тогда уволили С.
Виткина, и Б. М. Кедров (тогда еще директор Института философии)
попросил меня, чтобы я взял его в свой отдел. Я читал книжку
Витки на по теории азиатского способа производства. У меня не
было никаких причин не брать Виткина, не выполнить просьбу
директора. Я его сделал секретарем как раз этой книги. Ну и
вообще, достаточно «прегрешений» у меня уже было к 74-му году.
И когда Виткин в декабре 1974 года сказал, что он уезжает в
Израиль, началась вся эта катавасия. Дело в том, что реакция
на еврейскую эмиграцию была разной. Кое-где не обращали на
это внимания, кое-где кого-то наказывали, кому-то давали
выговор. А наш отдел наказали по полной — он был распущен.
Конечно, Виткин оказался очень удобным предлогом, чтобы
избавиться от меня, чего дирекция Института философии очень
желала.
Закончилось это партийным собранием, на котором
большинство выступавших меня осудило. Но нашлись и защитники.
Меня поставили в такую ситуацию, что я вынужден был уйти из
Института. Я попросил С. Р. Микулинского, тогдашнего
директора Института истории естествознания и техники (И И ET),
с которым мы находились в дружеских отношениях, чтобы он
взял меня в свой институт. Он обратился к П. Н. Федосееву, и
по указанию вице-президента АН, меня перевели в И И ET.
Пружиним. Такая вот поучительная история из времени,
когда идеология господствовала и пыталась поглотить все, всю
сферу интеллектуальной и духовной жизни. Точнее, это —
история противостояния ее господству, демонстрирующая нам,
помимо всего прочего, еще и способы, какими такое
противостояние идеологией подавляется. Последнее, на мой взгляд,
заслуживает особого внимания на фоне рассуждений о «властных
претензиях» знания.
Философы, работавшие в то время в Отделе истмата
Института философии АН СССР, попытались различить и по
возможности демаркировать истмат как идеологию и истмат как
концептуальное основание научного взгляда на общество, т. е.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 407
попытались рефлексивно отнестись к использованию
концептуального аппарата одной из важнейших составляющих
марксистской идеологии — исторического материализма. Эти
попытки развертывались в рамках характерного именно для
науки критико-рефлексивного рассмотрения истматовских
концепций.
В те времена более или менее серьезные самостоятельные
разработки в истмате допускались только в рамках задач по
обслуживанию корпуса идеологических установок, а отнюдь
не с целью объективного познания социальной реальности.
Соответственно задачей рефлексии оказывалось не столько
критико-методологическое осмысление истматовских
гипотез в их соотнесении с социальной реальностью, сколько
эффективное участие в их трансформациях под прагматические
конъюнктурные контексты, т. е. прагматизация
историкоматериалистических идей под решение идеологических задач
(причем задачи эти отечественные социальные философы
отнюдь не сами себе ставили). С этой точки зрения
философскометодологическая рефлексия в рамках истмата подчинялась
целям не научно-познавательным, а идеологически-прикладным.
И хотя, в силу претензии истмата на научность своих
идеологических программ, критико-методологическая рефлексия и
не исключалась полностью из повседневной
профессиональной работы тогдашних отечественных социальных философов,
но, так сказать, злоупотреблять ею не рекомендовалось. И не
рекомендовалось тем более настоятельно, чем более
идеологические установки истмата обнаруживали свою нереальность.
В этой ситуации любая попытка четко развести в истмате науку
и идеологию оказывалась фактически равносильной
утверждению, что принимать за основание оценки истматовских идей
следует не идеологическую ангажированность, но элементы
научности, содержащиеся в философско-исторической
концепции марксизма. Так что и для тех, кто пытался исследовать
социальную реальность, и для тех, кто контролировал такого рода
попытки, было очевидно: за разведением науки и идеологии в
рамках истмата явно просматривается критическая позиция по
отношению к его идеологии — сначала текущей, а в
перспективе и стратегической. Понятно, что попытки такого рода всегда
более или менее жестко пресекались. Дело не спасали и ссылки
на пролетариат, который якобы нуждается именно в научной
идеологии. Сколь бы ни были ограниченными концептуальные
основания истмата, они тем не менее позволяли даже изнутри
408 Раздел IV
различить вопиющую неадекватность его идеологической
составляющей той реальности, которая сложилась к тому времени
в стране. Во всяком случае, к 60-м годам прошлого столетия это
было видно уже и невооруженным глазом. Вот за попытку
различить в истмате науку и идеологию и дать серьезную
критикорефлексивную оценку научного потенциала истмата,
собственно и был наказан В. Ж. Келле и сотрудники его отдела.
§ 6. «Время человеческого бытия»
Приступая к чтению и осмыслению книги Трубникова о
проблеме времени, мы должны быть особенно осторожными в
суждениях, поскольку она многократно переделывалась
автором с учетом самых разнообразных замечаний и вышла только
после его смерти. Судя по рассказам очевидцев, первый ее
вариант был гораздо богаче по своему способу выражения и более
субъективен, чем тот, что дошел до нас в опубликованном виде.
В процессе анализа концепции времени Трубникова можно
обнаружить если не влияние, то созвучие его идей с идеями
экзистенциальной философии и феноменологии. Трудно сказать,
имел ли H. H. Трубников возможность ознакомиться с
произведениями Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера в первоисточниках, но
ссылки на некоторых европейских философов говорят о том,
что Трубников все же был знаком с этими именами.
На первый взгляд кажется, что книга эта выстроена по всем
правилам диалектико-метариалистической традиции: с
разбивкой на «исторический» и «диалектический» способы
развертывание проблемы. Требовалось сначала изложить исторические
учения, предшествовавшие исследуемой проблеме, и показать
их ограниченность, а затем дать последнюю и единственно
верную трактовку. Если же ты не исследовал предмет сам по себе,
т. е. не излагал свою позицию, сверяя ее с учениями классиков
марксизма-ленинизма, то в таком случае эти исследования
причисляли к историко-философским материалам (причем
скептически к ним относились), человек-де не может мыслить сам.
На самом деле исторический метод Трубникова отнюдь не
сводится к изложению «истории вопроса». Это то, что в
феноменологии называется раскрытием предмета сквозь
призму того, кто этот предмет видит, исследует, выражает в слове,
т. е. с учетом восприятия его субъектом. Собственно говоря,
книгу «Время человеческого бытия» можно назвать
феноменологической по своему исполнению. И мы попробуем дока-
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 409
зать, что по своему философскому методу Трубников не
только экзистенциалист (как полагают некоторые современные
исследователи его творчества1), но и феноменолог (как бы это
странно ни звучало). Отсюда его стремления к самоописанию
как самовыражению (попытка рационализации
субъективности). Недаром же он везде говорил (в том числе и в своей
философской повести), что он выверил свои рассуждения,
довел их до ясности, до самоочевидности. Когда он
рассуждает о своем Я, о Я, которое надстраивается над ним, он же тем
самым рационализирует (объективирует) эти предметы своего
сознания. И в этом смысле он близок к шпетовскому
варианту феноменологии. Он последовательно раскрывает предмет с
учетом собственного восприятия предмета и с учетом
восприятия другого субъекта, который пишет о времени (Аристотель,
Платон, Секст Эмпирик и т. д.). Он рассуждает не столько о
времени самом по себе, сколько о времени в понимании
Аристотеля, о времени в понимании Секста и т. д. Более того, он
отчетливо осознает, что это именно их время. Для него такой
способ письма — это не просто представление концепций. Это
учет тех языковых выражений, с помощью которых
философы (каждый по-своему) выражали свое понимание проблемы
времени. И хотя такой способ внешне чем-то напоминает
изложение «истории вопроса» в диалектико-материалистической
традиции, все же не может быть сведен к ней. И прежде всего
потому, что представления об истории в феноменологической
и диалектико-материалистической традиции противостоят друг
другу. Диалектико-материалистическая традиция покоилась
на прогрессистском понимании истории — исследователь был
уверен, что он находится на более высокой ступени развития
по отношению к предыдущим концепциям и положениям. При
таком подходе получалось, что личности в истории чего-то
недопоняли, чего-то не учли, к чему-то подошли, но не перешли
и т. д. Исследователь, руководствующийся таким принципом,
был уверен и в том, что предмет, который он исследует,
существует сам по себе, независимо от сознания, он, так сказать,
объективен. И уверенность в этом положении дел укрепляла
исследователя в строгой научности его позиции.
1 См.: Андреева И. С. «Иной» путь Николая Трубникова (обзор) // Русская
философия во второй половине XX века. Ч. 1. М., 1999. С. 101—129;
Глинчикова А. Г. Архитектоника пространства «человеческого бытия» в
философии Н. Н. Трубникова // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Философия. 20IL
Вып. 6(38). С. 75-84; и др.
410 Раздел IV
В случае феноменологического подхода ситуация
кардинально меняется. Исследователь ищет в истории то, что ему
современно как историческому субъекту, т. е. то, о чем он сам
еще не мог помыслить. При таком подходе исследователь
отдает себе отчет в том, что предмет не дан нам сам по себе, он
принципиально реконструируется. Он каждый раз приобретает
личностную окрашенность, поскольку зависит от способа
выражения исследователя. Этот предмет существует
исключительно сквозь мысль того, кто его видит, и передается сквозь речь
того, кто о нем говорит. И каждый раз в процессе
реконструкции субъективность оказывает влияние на интерпретацию
полученных ученым или философом результатов. При этом
предмет, хоть и приобретает формы субъективности, не теряет своей
рациональности, поскольку он выражен в слове. Именно такой
способ рассмотрения проблемы времени предлагает Трубников
и в своей философской повести «Зефи». «Но это изреченное,
это воплощенное словом ("И Слово бысть плоть") и
фиксированное на листе бумаги — не одна только условность, ибо
имеет свой собственный, не обусловленный этим воплощением и
этой фиксацией предмет, раскрыть который перед вами и
показать как-то иначе, чем в слове и его условностях, я просто не
могу. А раз так, то, значит, нужно проникнуть сквозь саму
форму этого воплощения, чтобы понять меня, а мне сделать ее по
возможности более прозрачной, чтобы быть понятым»1. Время
стало для Трубникова таким предметом.
Трубников, конечно, отчетливо осознавал, — и об этом
свидетельствует его историческое изложение проблемы времени, —
что эта проблема во многом зависела от общей концептуальной
системы того или иного мыслителя. Она могла приобретать
гносеологический, онтологический или практический характер.
Но лишь в XX веке проблема времени приобретает
контекстуальный метафизический статус, во многом благодаря
«фундаментальной онтологии» Хайдеггера2. Проблема времени
становится в философии XX века проблемой бытия, прежде всего
бытия человеческого. Именно в таком понимании она обретает
новое звучание и в философии H.H. Трубникова. Он различает
два рода временной реальности: «...время как элемент
физического описания реальности, как одна из координат некоторой
1 Трубников H. H. Зефи. С. 193.
2 И хотя Трубников не ссылался на труды Хайдеггера, тем не менее
сопоставимость их концепций очевидна. Но это тема отдельного исследования.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 411
движущейся точки и время как определенного рода величина
и мера человеческой жизни, как величина и мера
социальноисторического бытия людей, как мера человеческого
осуществления жизни, или иначе, время как параметр физического
измерения длительности физических событий и время как общее
условие человеческого бытия — не одно и то же время.
Реальность одного и другого — не одна и та же реальность»1.
Каковы же основания для различения этих двух родов
временной реальности? Очевидно, что свести один род
реальности к другому столь же невозможно, как и абсолютизировать их
противопоставленность. Трубников различает две формы
времени, исходя из классического гносеологического различения
субъективного («человеческого») и объективного. Объективная
реальность («действительность») сущего и субъективная
реальность (собственно реальность)2 не тождественны. Объективное
время и мыслимое время, конечно же, каким-то образом
соотносятся между собой, но не совпадают. Объективное время,
или физическое время как эмпирическая данность — это лишь
один из двух вышеупомянутых образов времени, которыми по
необходимости обладает человек. Это тот образ, который мы
получаем, наблюдая за различными перемещениями тел в
пространстве. Идеальным образцом такого времени служит
градуированное перемещение стрелки часов. Очевидно, что в данном
случае мы о времени судим косвенно: по характеру
пространственных изменений. Это образ физического времени.
Другой же образ времени — образ времени имманентного,
свидетелями которого мы становимся, когда пребываем в сфере
мысли, мечты, воображения, или будучи просто увлеченными
каким-то делом (это состояния, о которых поэт сказал:
«Счастливые часов не наблюдают!»). Мы не замечаем того,
физического времени, но безусловно переживаем некое дление,
имма1 Никитин Е. П. Звуки иного марша // Трубников H. H. Время человеческого
бытия. М., 1987. С. 6-7.
2 Субъективная (мыслимая) реальность — «не реальность какого-то особого
рода — вроде духовной, а не физической реальности. Сама реальность, потому
что реально лишь то, что дано нам в мысли. Конечно, ализарин и электрон
физически существовали и до наших знаний о них. А что мы о них знали до
наших знаний? Реальна ли вообще для нас реальность, о которой мы не имеем
никакого представления? Реальность ли она? Стоит ли о ней разговаривать?»
Трубников H. H. Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни
(через смерть и время к вечности) // Трубников H. H. О смысле жизни и смерти.
М., 1996. С. 68.
412 Раздел IV
нентное самой сознательной жизни. Это — время человеческого
бытия.
Но правомерно ли считать, задается Трубников вопросом,
что то состояние временности, которое переживается в
моменты подъема духа, не есть некая субъективная иллюзия или
деформированное восприятие физического времени? Ответ на
это вопрос лежит в некотором сущностном различении
величин времени: временных величин времени физического и
временных величин времени имманентного. «Время
естественнонаучного описания и время человеческого определения не есть
одно и то же время, не есть одна и та же величина. Если
величина первого есть, прежде всего, величина измерения, то
величина второго есть в самой своей основе величина изменения.
В сущности, одна предстает перед нами как величина деления и
счета, тогда как другая — как величина определения и связи»1.
Действительно, физическое время есть не более чем
«время механических часов», не более чем условная величина
длительности «настоящего» времени. И как таковое оно есть лишь
«пустая» форма — сосуд для заполнения его определенным
(континуально-смысловым, то есть знаковым) содержанием.
Эта величина есть мера существования сущего, или условная
мера одновременного «течения» сущего в «настоящем».
Движение стрелки часов фиксирует движение сущего — фактическое
изменение. Но будучи «голым» фактом такое изменение
требует смысловой интерпретации и, более того, осуществления
некоторой мыслимой связи трех известных временных состояний:
настоящего, прошлого и будущего. Физическое время не несет
в себе этой связи: состояние настоящего времени отражено в
движении стрелки часов, но само это движение
осуществляется в отношении к прошедшим и будущим состояниям сущего.
Такое отношение возможно лишь в мысли, связь времен
имеет идеальную природу, привносится в сферу сущего субъектом.
«Реальная величина времени, — отмечает Трубников, — есть не
только нечто отличное от нуля и вовсе к нему не стремящееся,
но, напротив, величина самой этой меры движения и жизни,
величина напряженности, разности связанных во времени
потенциалов прошедшего и непрошедшего, сталкивающихся,
взаимодействующих, противоборствующих в настоящем. Оно есть
величина и мера этой связи, взаимной зависимости, взаимного
1 Никитин Е. П. Звуки иного марша // Трубников H. H. О смысле жизни и
смерти. М., 1996. С. 7.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 413
определения того, что было и прошло и породило то, что есть,
чем, в свою очередь, порождается то, что еще не наступило, но
уже задано, уже зачато здесь и теперь в настоящем, задающем
разностью этих потенциалов прошедшего и непрошедшего
истинное напряжение времени, истинный его ток». Заметим, что
эту связь мысли и времени еще более радикально проводит
феноменология. Для Гуссерля работа мысли во времени
определяет изначальную способность конституирования всех
внутренних предметностей сознания. Сознательное восприятие
любого предмета «теперь» всегда содержит воспоминание о его
прошлых восприятиях или состояниях и предвосхищение его
будущих состояний. Наше «теперь», как, впрочем, и «раньше»
и «после», есть результат духовной работы и никогда не
является просто актом чувственного восприятия.
Но какова корреляция «мыслимого» времени с временем
физическим? «Мы видим знаки времени. Мы измеряем следы
движения. Но мы не измеряем самого по себе времени или
самого по себе движения, потому что время и знак времени,
движение и следы движения не есть одно и то же. Мы знаем время.
Вспоминаем события нашей жизни и называем эту способность
памятью. Но мы не отдаем себе иногда отчета в том, что наша
память не есть склад вышедших из употребления вещей или
идей, которые могут когда-нибудь пригодиться, что она есть
образ и подобие реальной связи вещей, образ и подобие
времени, идеальное выражение его реальной сущности»1. В
современной науке такой подход к проблеме корреляции мыслимого
и реального называется «антропным принципом». В
европейской философии этот принцип составляет основную посылку
всякой онтологии: поскольку человек и мысль существуют, то
Мир в своем фундаменте должен быть устроен по образу и
подобию своего феноменального проявления (допущение
обратного делает невозможным всякое познание).
Таким образом, субъективное время действительно
отличается от времени физического тем, что последнее есть время
«настоящего», время бесконечно длительного момента «теперь», а
субъективное время есть связь всех прошедших и будущих
состояний этого момента в единое континуальное целое. В
мысли настоящее из удела бытия сущего превращается в настоящее
бытия вообще. То есть предположения о том, что именно наше
имманентное время передает действительную структуру бытия,
Трубников Н. Н. Время человеческого бытия. М., 1987. С. 176.
414 Раздел IV
а физическое время есть только проекция бытийного времени
(временности) в пространство сущего, имеет вполне
достаточные логические основания. Стало быть, антропологизм
является непременным условием рационального постижения мира,
что особенно характерно для русской философии. «В
настоящем связывается бытие вещей, начала и концы сущего,
начала их будущего с концами их прошлого — подлинные "мировые
линии". Настоящее время есть то, в чем прошлое вещей
прошло, но успело укорениться в их настоящую жизнь и пройти в
их будущее, где семя этого бытия взойдет, даст росток и
расцветет или увянет, прервав одну из "мировых линий" и послужив
почвой и удобрением для другой. Будучи ростком прошлого,
настоящее (наставшее) является питающим корнем
будущего (становящегося), которое рождается в настоящем и
настоящим; здесь и теперь, а не приходит извне, "оттуда" — "сюда",
из небытия в бытие»1. Ни будущее, ни прошлое не имеют
«реального» бытия, только мысль осуществляет их бытие в бытии
сущего, в настоящем. «В настоящем, и только в нем,
пребывают поэтому времена как прошлые, так и будущие»2. Настоящее
принадлежит необходимости, будущее — континууму
возможностей. Прошлое же есть осуществившаяся возможность,
ставшая действительностью настоящего.
В основании человеческих представлений о времени лежит
идея последовательности, то есть определенной связи далеко
не безразличных друг другу моментов длительности. С точки
зрения этого представления «свойство длительности как
таковой оказывается не столько свойством времени самого по себе,
сколько свойством некоторого рода идеальной, к временной
реальности всецело безразличной и чисто мыслимой
делимости, какой реальные события мира, всегда особенные и
неповторимые, не сводимые в своих моментах и в своем течении к
абстрактной общности определения, каково бы оно ни было,
никогда не обладают»3.
1 Трубников Н. Н. Время человеческого бытия. М., 1987. С. 174.
Различение бытия и сущего является основой современной онтологии. См. об этом:
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001;
Гайденко П. П. Мартин Хайдеггер: изначальная временность как бытийное
основание экзистенции // Вопросы философии. 2006. № 3. С. 165—182;
Черняков А. Г. Онтология времени: Бытие и время в философии Аристотеля,
Гуссерля, Хайдеггера. СПб., 2001.
2 Трубников Н. Н. Время человеческого бытия. М., 1987. С. 174.
3 Там же. С. 233.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 415
Длительность времени, «равномерного всегда и везде»,
поделенного на равные доли сменяющих друг друга единиц, есть
нечто существенным образом отличное от действительной,
неравномерной, но многомерной и разномерной реальности
временного, «есть нечто безразличное к тому неотвлеченному
содержанию, с каким приходится сталкиваться во всех случаях,
когда мы выходим за пределы простейшего инструментального
определения времени»1. В отличие от длительности как
таковой, реальное время всегда есть время некоторой
специфической последовательности и связи. Изначально «оно есть время
некоторой конечной последовательности, конечного цикла
или конечной совокупности циклов, есть время конечной
длительности. Таким является "время жизни", жизни человека
или жизни элементарной частицы. Таким является время
жизни физических элементов. Таким является время
общественноэкономических формаций, человеческих сообществ и
цивилизаций. Таким является время событий космической жизни»2.
Время, таким образом, становится временностью. Эта
временность имманентна мысли. Чувственному восприятию
вещи даны лишь пространственно, их временность дается в
умозрении. Временность — это способ становления вещи.
Понять вещь, охватить вещь в понятии, значит постичь ее
временность, потому что временность имманентна пониманию
(мысли). Так историзм в его феноменологической трактовке
проникает в стилистику эпистемологических рассуждений
Трубникова.
§ 7. Временность человеческой субъективности
В философских произведениях «Проблема смерти, времени
и цели человеческой жизни (через смерть и время к вечности)»
и «Смерть и вечность (метафизика или нравственный смысл
смерти в свете соотношения времени и вечности)» H. H.
Трубников ставит в центр своих размышлений проблему
диахронии времени и вечности. Лишь в контексте вечности, по мысли
Трубникова, дается нам время как время человеческое —
временность как жизнь. Лишь в контексте вечности человеческая
жизнь обретает смысл. Но вечность в человеческом понимании
1 Там же. С. 233-234.
2 Там же. С. 234.
416 Раздел IV
есть нечто большее, чем потенциальная бесконечность
физического времени, пустая длительность секунд, часов или веков.
«Понятие вечности в его первичном и самом глубоком смысле
есть понятие, более относящееся к историческому, чем к
физическому. Его следовало бы отнести скорее к длительности дел,
поступков и мыслей человеческих, чем к превышающему
всякую вечность, не измеренному нами и неизмеримому течению
космической длительности»1. Объятая нами, нашей
человеческой историей, измеренная веками и минутами человеческого
бытия длительность получает «если не свою единственную или
единственно возможную, то, во всяком случае, единственно
имеющую для нас смысл меру»2. Это время, эта человеческая
вечность есть «исполненное» время, наполненное
человеческими делами и человеческим смыслом. «И тогда сама история
ловечества, история человеческих жизней и дел предстает перед
нами не как физическое количество минут праздной прогулки в
мир, но как крестный путь созидания человека и человечества,
как переход из времени в вечность»3.
Трубников проводит разграничение между временем
количественным и качественной мерой вечного, человеческого
времени. В количественном отношении вечность проигрывает
времени. «Перед лицом физического, количественного времени
человек — ничто. Меньше, чем ничтожество, чем частица пыли
на бархане вселенной»4. Десятки лет человеческой жизни суть
ничто в сравнении с неумолимым ходом времени. Но время —
ничто перед лицом человеческой вечности. Вечность
принадлежит человеку и не принадлежит времени. «Какой мерой
мерите, той и вам будет отмерено», — Трубников часто повторяет эти
слова. 150-летняя жизнь пастуха «благословенных Кавказских
гор» и 30-летняя жизнь поэта: одна принадлежит времени,
другая — достояние вечности.
Человеческая вечность наделяет жизнь смыслом,
становится мерой ее ценности. Это ценность не жизни вообще, не
ценность рода, вида. Ценность последним диктует время.
Человеческая жизнь ценна лишь ценностью своей человечности,
человеческий смысл лишь потому есть смысл, что есть смысл
1 Трубников H. H. Смерть и вечность (метафизика или нравственный смысл
смерти в свете соотношения времени и вечности) // Трубников H. H. О
смысле жизни и смерти. М., 1996. С. 86.
2 Там же. С. 87.
3 Там же. С. 87.
4 Там же. С. 88-89.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 417
жизни человеческой. «Мера вечности переводит иудейский
страх смерти, убивающий нас и заставляющий убивать и
лишающий жизнь смысла и ценности, в страх предвечный, страх,
лишенный смысла смерти, заставляющий нас преодолевать и
творить, придающий жизни ее единственно человеческий и
единственно достойный человека смысл»1. Здесь Трубников
размышляет как человек в истории, познающий историзм
своего существования. Поэтому для него так важен вопрос о
выборе между временем и вечностью. «Выбор между временем и
вечностью внешне прост: какие могут быть сомнения, когда у
меня, с одной стороны, непостижимый груз веков, который я
должен взвалить на свои слабые плечи, а с другой — не
требующий никаких моих усилий объективный ход часов! Что есть "я"
и что есть объективное время, чтобы мне судить о нем! Однако
за этой внешней простотой...»2 За этой внешней простотой
сокрыта глубочайшая тайна человеческого бытия — свобода к
выбору самой свободы и необходимости.
Враждебное отношение к реальности, видение мира как
начало злое, внешне господствующее над человеком,
осознание человека лишь как средства осуществления или игры
«высшего начала», «мирового духа», сил «живущих»
человеческими жизнями, — все это выбор необходимости,
отречение от свободы. И тогда вся история человечества, сама че-\
ловеческая культура — те самые силы, что живут человеком,
подчиняют себе поколения человеческих жизней. Это
необходимость, лишающая человеческую жизнь всякого
внутреннего смысла, подчиняющая человека внешним
условиям существования, посредственного существования. Тогда
жизнь человека не менее абсурдна, чем смерть: страх смерти
и боли — механизмы подчинения человека внешним
враждебным ему стихиям. И тогда выбор в пользу времени
необратим, лишенная всяких оснований человеческая жизнь
более не принадлежит человеку. «Котел продолжает кипеть,
лопнувшие сверху пузыри заменяются другими, которые тоже
лопнут, чтобы освободить место следующим»3. Но возможен
выбор в пользу вечности, выбор в пользу свободы. Можно
1 Там же. С. 89.
2 Трубников H. H. Проблема смерти, времени и цели человеческой
жизни (через смерть и время к вечности) // Трубников H. H. О смысле жизни и
смерти. М., 1996. С. 79.
3 Там же. С. 81.
418 Раздел IV
сколько угодно твердить, что социальный мир — зло, что
реальность ведома слепыми объективными силами бытия. Но
тогда, критически замечает Трубников, нужно забыть, что
«всякое социальное производно от индивидуального»1. А
забыть — это значит лишить человеческую жизнь каких бы то
ни было оснований, значит снять с человека ответственность
за все происходящее в мире. Значит признать, что «дозволено
все», от убийства «вши асессорши», до Освенцима. «Не
способный изменить что-либо здесь человек твердит о социуме
вообще, который не поддается его власти. Он хотел бы
навязать миру себя и свои особенные представления, скроить мир
по своей собственной мерке. И когда эта мерка оказывается
узкой, когда одежды, которые он пытается надеть на мир,
трещат по всем швам, он кричит про отчуждение, или про
эксплуатацию, или про неразумность мира, или про что угодно,
лишь бы обвинить мир и оправдать свое портновское
мастерство. <...> Он кричит про свободу, которую ему кто-то не дал,
которую у него кто-то отнял, и не знает, как распорядиться
той, которую имеет»2. И тогда он стремится реализовать свою
внутреннюю волю во внешний мир, он стремится властвовать
и тем самым оправдать безнравственность своих стремлений.
Но свобода не в том, чтобы иметь свои руки развязанными
для того, чтобы изменить мир, навязать ему, миру, свои
идеалы и ценности. Свобода состоит в том, чтобы выбирать эти
идеалы и ценности для себя самих. «На самом же деле мир
таков, каким и он и все мы его делаем в каждую минуту своего
бытия. Наша собственная деятельность есть то основание, из
которого с необходимостью физической (пускай
статистически) вытекают следствия этого мира»3. Не только перед
собой, но и перед миром человек всегда ответствен за свои дела
и поступки. Человек в этом смысле действительно есть «мера
всех вещей»: мир таков, каким мы сами его творим. И высшие
ценности мира вовсе не исходят от самого мира, но
привносятся в мир человеком. Это и есть свобода, человеческая
свобода в человеческом мире.
И тогда не человек опосредован внешними силами, но все
внешнее обретает человеческий облик; история, культура,
1 Трубников H. H. Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни
(через смерть и время к вечности). С. 80—81.
2 Там же. С. 81.
3 Там же. С. 82.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 419
нравственность — все это только формы, которые человек
наполняет своим человеческим содержанием. Это и есть выбор
вечности, предпочтение трех десятков лет жизни поэта более
сотни лет жизни кавказских горцев.
Стать соразмерным культуре, истории человечества, найти
ценности человеческой нравственности — в этом свобода
человека. И тогда биологическая смерть уже не повод к
отчаянию. Став соразмерным человечности (культуре), человек
обретает новую жизнь вне себя самого. Он живет к смерти, зная,
что в мире всегда будет пребывать нечто, во что он вложил
свою жизнь, частью чего стал он сам и что стало частью его
самого.
Трубников приводит в пример некоего плотника Орлова,
украсившего в какой-то деревне фронтоны многих домов
красивыми резными надписями. Этот плотник «Арлоф» был
неграмотен, но он был настоящим художником и мастером,
«который надеялся и верил, что дело его рук переживет его руки и
его дела...»1. Плотник Орлов знал, что даже после своей смерти
он будет жить в памяти тех, кто успел увидеть его мастерство.
«А сколько вообще не оставили тени? Вот это и есть самое
ужасное. Это сознание бытия без нашей тени. Ведь если мы не
оставили тени, значит, нас никогда не было. Значит, мы не
существовали, были лишь призраками и жестоко ошибались,
думая, что живем»2.
И этот вопрос о смысле и ценности нашей жизни есть вопрос
о смысле и ценности нашей смерти. «Если моя смерть есть
конец моего бытия, если она ничто для мира, если мир и без меня
останется каким он был, если моя смерть ничего не убавила и
не прибавила, ничего не изменила в мире, значит, и моя жизнь
ничто, меньше чем тень... Тогда я не имею никакой цены,
никакого достоинства. Тогда я могу жить и могу не жить»3.
Выбор всегда есть выбор свободы, выбор вечности. Если мы
выбираем физическое время, то, в сущности, мы отказываемся
делать выбор, и тем самым отказываемся познавать самих себя.
Во времени человек не существует. Его нет. Его жизнь и смерть
суть лишь какие-то биологические факты (вовсе казусы). Перед
лицом вечности человек обретает себя, привносит себя в
вечность...
1 Там же. С. 66.
2 Там же. С. 66.
3 Там же. С. 66-67.
420 Раздел IV
* * *
Философское творчество Николая Трубникова подчинено
единой концепции рационализации субъективности, т. е. он
искал возможности рационального познания человеком
самого себя. И эта концепция проявлялась по-разному в трех планах
его интеллектуального письма: в экзистенциальной прозе
(рассказах), философской прозе (повести о Зефи) и
философсконаучных его трудах (статьях и критических рецензиях).
Идейная составляющая и экзистенциальной, и философской прозы,
и профессиональных работ Трубникова — одна, что позволяет
нам говорить о целостности его концепции «рациональности
субъективности». Это значит, что человек (хочет он того или
нет) в своем внутреннем времени подходит в своей жизни к
черте, за которой начинается самопознание. Это момент, когда
человек осознает свою конечность. Только хронологически для
каждого это время будет своим, индивидуальным. Каждый
человек может стать ценностью, наполняя свою жизнь смыслом,
превращая ее в историю. Он не может отдать ее на заклание во
имя будущего, во имя будущих поколений, потому что он
живет здесь и теперь. Здесь очень отчетливая перекличка со
Шпетом, который считал, что «из футуризма родится фашизм всех
цветов и изнанок»1. Конечно, такие представления шли
вразрез с диалектико-материалистическим мировоззрением. А если
учесть, что осознание конечности могло совпасть с эпохой
застоя, то беспросветность жизни ужасала. В процессе
самопознания человек создает свой внутренний мир, в котором только
и может жить по-настоящему, обогащает его, делает его своим
и пускает в него лишь избранных.
Стиль мышления Трубникова самобытен и по его
идейной составляющей, и по форме выражения, и по
словесносимволической ткани. Его концептуальные поиски проходили
в стороне от общепринятых магистральных философских
линий, тем интереснее было посмотреть его постановку проблем
и вопросов, его тематическое поле, а также заглянуть и в архив
его эпохи.
В заключение вспомним диалектику «духовного космоса» и
«разбегающейся вселенной» Евгения Никитина, о которой мы
писали в предыдущей главе. Трубников пытался преодолеть
«разбегающуюся вселенную» и «собрать воедино» три
динами1 См.: Письмо Г. Шпета Н. Игнатовой от 19 февраля 1937 года // Густав Шпет:
жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 425.
Рациональность как тема русской философии: возвращение к традиции 421
ческие составляющие своего «духовного космоса». Единство
этического, эстетического и рационального начал он пытался
зафиксировать на личностном уровне, в себе и через себя. Этот
духовный космос он в целостности сохранил и в философских
произведениях, и в стиле жизни и мысли.
Заключение
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что все это следует шить.
Зимний вальс — в исполнении артиста Валентина Никулина1
1 Эпиграф к повести Николая Трубникова «Зефи, Светлое мое божество, или
После заседания (из записок покойного К.)».
Список использованной литературы
Абрамов М. А. Шотландская философия века Просвещения. М., 2000.
Аверинцев С. С. Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии
античной литературы. М., 1989.
Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной
традиции. М., 1996.
Автономова Н. С. Открытая структура: Якобсон - Бахтин - Ломан —
Гаспаров. М.,2009.
Автономова Н. С. Познание и перевод: Опыты философии языка. М.,
2008.
Автономова Н. С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988.
Алпатов В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005.
Андреева И. С. «Иной» путь Николая Трубникова (обзор) // Русская
философия во второй половине XX века. Ч. 1. М., 1999.
Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры.
М., 2003.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986.
Бахтин M. M. К философии поступка // Философия и социология
науки и техники. Ежегодник 1984-1985. М., 1986.
Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1996-2012.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
Бахтинский сборник. Вып. 2. М., 1992.
Бахтинский сборник. Вып. 3. М., 1994.
Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004.
Белый А. Между двух революций. М., 1990.
Бердяев Н. А. Философия свободы. М., 1990.
Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность. М., 1990.
Беседа Б. И. Пружинина с В. Ж. Келле (11 мая 2010 г.) // Вопросы
лософии. 2011. № 1.
Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963.
Бройтман С. Н. Две беседы с M. M. Бахтиным // Дискурс.
Коммуникативные стратегии культуры и образования. 2003. № 11.
Василюк Ф. Е. Культурно-антропологические условия
психотерапевтического опыта // Культурно-историческая психология. 2007. № 1.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
424 Список использованной литературы
Виноградов В. В. Из истории изучения поэтики (20-е годы).
[Электронный ресурс] : http://www.opojaz.ru/vinogradov/vinogradovizistorii.
html
Волошинов В. Н. Конструкция высказывания // Литературная
учеба. 1930. № 3.
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы
социологического метода в науке о языке. Л., 1929.
Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1982—1984.
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики.
М., 1988.
Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века.
М.,2001.
Гайденко П. П. Мартин Хайдеггер: изначальная временность как
бытийное основание экзистенции // Вопросы философии. 2006. № 3.
Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум в
интерпретации Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии. 1992. № 7.
Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М.,
2003.
Гайденко П. П. Познание и ценности // Субъект, познание,
деятельность. М., 2002.
Гайм Р. Гегель и его время. М., 2006.
Гак Г. М., Рачков П. А., Степанян Э. X., Чугаев А. Я. Спорные
положения в интересной книге // Вопросы философии. 1960. № 8.
Гаспаров М. Л. Избранные труды. М., 1997.
Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. Феноменология духа. М., 1959.
Гегель. Г. В. Ф. Сочинения. Т. VIII. Философия истории. М., 1935.
Глинчикова А. Г. Архитектоника пространства «человеческого бытия»
в философии Н. Н. Трубникова // Вестник ПСТГУ. I: Богословие.
Философия. 2011. Вып. 6 (38).
Гоготишвили Л. А. Непрямое говорение. М., 2006.
Гордеева Н. Д. Экспериментальная психология исполнительного
действия. М., 1995.
Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Роль рефлексии в построении
предметного действия // Человек. 2001. № 6.
Гревс И. М. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (Опыт
истолкования души) // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6.
Гржибек П. Бахтинская семиотика и московско-тартуская школа //
Лотмановский сборник 1. М., 1995.
Григорьев А. А. Сочинения / Изд. Н. Н. Страхова. СПб., 1876. Т. 1.
Григорьев А. А. Сочинения: В 2 т. Т. 2: Статьи. Письма. М., 1990.
[Электронный ресурс] : http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0450.shtml
Список использованной литературы 425
Григорьев А. А. Явления современной литературы, пропущенные
нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья первая //
Время. 1862. № 1. [Электронный ресурс]: http://smalt.karelia.ru/~filolog/
vremja/1862/Jan/Tolstoy.htm
Грот Н. Я. О задачах журнала // Вопросы философии и
психологии. 1889. № 1.
Грот Н. Я. Памяти H. H. Страхова. К характеристике его
философского миросозерцания. М., 1896.
Гуревич А. Я. Европейское средневековье и современность //
Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1990.
Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005.
Гуревич А. Я. Историк у верстака // Отечественные записки. 2004.
№ 5. [Электронный ресурс]:http://www.strana-oz.ru/?numid=20&article=939
Гуревич А. Я. История историка. М., 2004.
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1999.
Гуревич А. Я. Сага и эпос // «Эдда» и сага. М., 1979. [Электронный
ресурс] : httpy/norse.ulver.com/articles/gurevich/eddasaga/o.html
Гуревич А. Я. История историка. М., 2004.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная
феноменология / Пер. с нем. Д. В. Скляднева. СПб., 2004.
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия
(Венский доклад) // Вопросы философии. 1986. № 6.
Гуссерль Э. Письма Г. Шпету / Публ. и коммент. Т. Г. Щедриной,
археогр. раб. и пер. В. Янцена // Вопросы философии. 2013. № 4.
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред.-
сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005.
Густав Шпет и современная философия гуманитарного знания.
К 130-летию Г. Г. Шпета. Встреча вторая. Материалы «круглого стола» //
Вопросы философии. 2010. № 7.
Густав Шпет: философ в культуре. Документы и письма / Отв. ред.-
сост. Т. Г. Щедрина. М., 2012.
Данилевский И. Н. «Повесть временных лет»: герменевтические
основы источниковедения летописных текстов. М., 2004.
Денн М. Структура слова и выражения в творчестве Густава Шпета и
ее значение для истории структурализма // Густав Шпет и его
философское наследие: у истоков семиотики и структурализма. М., 2010.
Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен
Возрождения и Реформации. М.; Иерусалим, 2000.
Диспут о книге Д. М. Петрушевского (О некоторых предрассудках и
суевериях в исторической науке). Стенограмма заседания
социологической секции общества историков-марксистов от 30 марта и 6 апреля
1928 г.) // Историк- марксист. 1928. Т. 8.
426 Список использованной литературы
Дорофеев Д. Ю. Взаимодействие философской антропологии
Макса Шелера и Михаила Бахтина. (Русский вариант текста выступления на
английском языке на конференции в Чикаго 18 февраля 2010 г.,
организованной Северо-американским обществом Макса Шелера и
американской философской ассоциацией.) [Электронный ресурс]: http://www.
max-scheler.spb.ru/content/view/156/52/
Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999.
Есаков В. Д. Неосуществленный проект Академии Наук // Вестник
РАН. 1997. Т. 67. №12.
«Живой разговор». Интервью с Владимиром Петровичем Зинченко //
Вопросы философии. 2006. № 8.
Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М., 1960.
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. Л., 1991.
Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010.
Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г. Истоки
культурноисторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М.,
2010.
Иванов Вяч. Вс. Значение идей M. M. Бахтина о знаке, высказывании
и диалоге для современной семиотики // Учен, записки Тарт. Гос. ун-та,
1973. Вып. 308. Труды по знаковым системам VI.
Как это было: воспоминания и размышления / Под ред. В. А.
Лекторского. М., 2010.
Карамзин: pro et contra. СПб., 2006. [Электронный ресурс]: http://
az. lib. ru/s/strahow_n_n/text_00 3 0. shtml
Кареев Н. И. Основные вопросы философии истории. Т. 1—2. М.,
1883. Т. 1.
Кепчик Н. В. О необходимости развития вероятностного стиля
мышления у студентов-биологов. Минск: БГУ. [Электронный ресурс]: http://
www.bsu.by/main.aspx?guid=27231
Когда били колокола. Из дневников M. M. Пришвина 1926—1932.
[Электронный ресурс]: http://www.bellstream.ru; http://www.pravmir.ru/
article_2603.html
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980.
Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004.
Культура Византии IV- первой половины VII в. М., 1984.
Культура и общество в средние века. М., 1982.
Кун Т. Структура научных революций. М., 2001.
Л. Н. Толстой и H. H. Страхов: Полное собрание переписки / Ред.
А. А. Донсков; сост. Л. Д. Громова, Т. Г. Никифорова. Оттава, 2003.
Лавров П. Л. Философия и социология. Избранные произведения:
В2т.М., 1965.
Ланге Н. Н. Психология. М., 1914.
Список использованной литературы 427
Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. 1. Пг., 1923.
Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. 2. СПб., 1913.
Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. М., 2006.
Лаппо-Данилевский А. С. Пособие к лекциям по теоретической
методологии, читанным студентам ПБ ун-та А. С. Лаппо-Данилевским в
1906-1907 уч. году. Б.м. Б.г.
Леви Т. С. Телесная парадигма развития личностной аутентичности.
М.,2011.
Левинтон Г. А. Густав Шпет и журнал «Гермес» // Густав Шпет и его
философское наследие: у истоков семиотики и структурализма. М., 2010.
Левинтон Г. А. ОПОЯЗ // Лингвистический энциклопедический
словарь. [Электронный ресурс]: http://tapemark.narod.ru/les/347b.html
Лекторский В. А. Немецкая философия и российская гуманитарная
мысль: С. Л. Рубинштейн и Г. Г. Шпет // Вопросы философии. 2001.
№10.
Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.,
2001.
Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972.
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
Лосский Н. О. Гуссерль Э. Логические исследования. Ч. I.
Пролегомены к чистой логике. Разрешенный автором перевод с немецкого
Э. А. Бернштейн под редакцией и с предисловием С. Л. Франка. СПб.,
1909 // Русская мысль. 1909. № 12.
Лосский Н. О. Восприятие чужой душевной жизни //Логос. 1914. Т. I.
Вып. П.
Лосский Н. О. Идея конкретности в русской философии // Вопросы
философии. 1991. № 2.
Лосский Н. О. Избранное. М., 1991.
Лосский Н. О. Основные вопросы гносеологии. Пг., 1919.
Лосский Н. О. Трансцендентально-феноменологический идеализм
Гуссерля//Логос. № 1. 1991.
Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая
интуиция. Париж, 1938.
Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003.
Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992.
Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002.
Лотман Ю. М. Непредсказуемые механизмы культуры. Таллинн, 2010.
Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996.
Лотман Ю. М. О проблеме значений во вторичных моделирующих
системах//ТЗС-2
Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998.
Лотман Ю. М. Письма. 1940-1993. М., 1997.
428 Список использованной литературы
Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2001.
Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1995.
Макаренко В. П. «Решенные вопросы»: повесть «Экзамен не
состоялся» М. К. Петрова// Вопросы философии. 2014. № 1.
Малинов А. В., Погодин С. Н. Александр Лаппо-Данилевский -
историк и философ. СПб., 2001.
Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. М.,
2009.
Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С. Классика и
современность: две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия
в современном мире. Философия и наука. М., 1972.
Мандельштам О. Слово и культура. Разговор о Данте. Статьи.
Рецензии. М., 1987.
Махлин В. Л. Второе сознание: Подступы к гуманитарной
эпистемологии. М.,2009.
Махлин В. Л. Михаил Бахтин: философия поступка. М., 1990.
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении.
Критическое введение в социологическую поэтику. Л., 1928.
Медушевская О. М. Теория исторического познания. Избранные
произведения / Сост. И. Л. Беленький. М., 2010.
Медушевская О. М. Феноменология культуры: Концепция
А. С. Лаппо-Данилевского в гуманитарном познании новейшего
времени // Исторические записки. М., 1999. Т. 2 (120).
Методология психологии / Общ. ред. В. П. Зинченко, науч. ред.
Т. Г. Щедрина. М., 2012.
Микешина Л. А. Диалог когнитивных практик. М., 2010.
Микешина Л. А. Эмпирический субъект и категория жизни //
Эпистемология и философия науки. 2009. Т. XIX. № 1.
Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. М.,
2002.
Митина И. В. Понятие «стиль»: генезис и эволюция // Гуманитарные
и социально-экономические науки. Ростов н/Д, 2000. № 2.
Молчанов В. И. Исследования по феноменологии сознания. М., 2007.
Молчанов В. И. Опыт и фикции: Поток сознания и гипертрофия Я //
Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге / Под ред.
Н. С. Плотникова и А. Хаардта при участии В. И. Молчанова. М., 2007.
Молчанов В. И. Парадигмы сознания и структуры опыта // Логос. 1992.
№3.
Мотрошилова Н. В. «Картезианские медитации» Гуссерля и
«Картезианские размышления» Мамардашвили // Мотрошилова Н. В. Работы
разных лет: избранные статьи и эссе. М., 2005.
Список использованной литературы 429
Мотрошилова Н. В. Понятие и концепция жизненного мира в
поздней философии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии. 2007. № 7, 9.
Наука и научность в исторической перспективе / Под общ. ред.
Д. Александрова, М. Хагнера. СПб., 2007.
Некрасов Н. А. - Л. Н. Толстому. 2 сентября 1855 года // Нива.
Ежемесячные литературные приложения. СПб., 1898.
Никитин Е. П. Духовный мир: органичный космос или
разбегающаяся вселенная? М., 2004.
Никитин Е. П. Звуки иного марша // Трубников H. H. Время
человеческого бытия. М., 1987.
Новик И. Б. Вопросы стиля мышления в естествознании. М., 1975.
Новиков В. И. «Лучше Шпет, чем никогда». Тынянов и Шпет // У
истоков русской семиотики и структурализма. М., 2010.
Новоселова И. Г. «Дневники» M. M. Пришвина: духовный космос.
Владивосток, 2004.
Огурцов А. П. Е. П. Никитин. Духовный мир: органичный космос или
разбегающаяся Вселенная? М.: РОССПЭН, 2004 (рец.) // Вопросы
философии. 2005. № 3.
Ольденбург С. Ф. Работа Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского
в Академии наук// Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6.
От мифа к литературе: Сборник в честь 75-летия Е. M. M ел ети некого.
М., 1993.
Отчет о деятельности Психологической семинарии при университете
св. Владимира за 1902—1906 годы // Философские исследования. Киев,
1907. Т. 1.Вып.4. Паг. III.
Павленков Ф. Ф. Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт.
СПб., 1998. [Электронный ресурс]: http://sbiblio.com/biblio/archive/jum_
gegel/OO.aspx
Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым. СПб., 1914.
Петрушевский Д. М. К вопросу о логическом стиле исторической
науки. СПб., 1915.
Петрушевский Д. М. Очерки из экономической истории
средневековой Европы. М., 1928.
Письмо Г. Церетели к И. Джавахишвили от 1 августа 1923 года //
Литературная Грузия. 1989. № 8.
Письмо Р. О. Якобсона к H. H. Дурново. Конец 1925 // Letters and
Other Materials from the Moscow and Prague Linguistic Circles / J. Toman
(ed.). Ann Arbor, 1994.
Продолжение разговора: новые письма Э. Гуссерля Г. Шпету /
Публикация Т. Г. Щедриной, перевод В. Янцена // Вопросы философии. 2013.
№4.
Письма Г. Г. Шпета Э. Гуссерлю //Логос. 1996. № 7.
430 Список использованной литературы
Покровский М. Н. «Новые» течения в русской исторической
литераТУРе // Историк-марксист. 1928. Т. 7.
Покровский M. H. О книге академика Лаппо-Данилевского // Под
знаменем марксизма. М., 1923. № 4-5.
Полани М. Личностное знание. М., 1985.
Попова И. Л. «Лексический карнавал» Франсуа Рабле: книга
М. М. Бахтина и франко-немецкие методологические споры 1910—1920-х
годов // НЛО. 2006. № 3 (79).
Порус В. Н. Стиль научного мышления в
когнитивно-методологическом, социологическом и психологическом аспектах // Познание в
социальном контексте. М., 1994.
Пришвин M. M. Дневники 1923 года. Запись 17 ноября. [Электронный
ресурс]: http://uni-persona.srcc.msu.su/site/authors/prishvin/pri-1923.htm
Пришвин M. M. Дневники 1926 года. Запись 2 мая. [Электронный
ресурс): http://uni-persona.srcc.msu.su/site/authors/prishvin/pri-1926.htm
Пришвин M. M. Из Дневников 1930 года // Отечественные
Записки. 2005. № 6. [Электронный ресурс]: http://magazines.russ.ru/
oz/2005/6/2005_6_26.html
Пришвин М. М, Пришвина В. Д. Мы с тобой: Дневник любви. СПб.,
2003.
Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009.
Пружинин Б. И. Между контекстом открытия и контекстом
обоснования: методология науки Густава Шпета // Густав Шпет и современная
философия гуманитарного знания. М., 2006.
Пружинин Б. И. Рациональность и историческое единство научного
знания. М., 1986.
Пружинин Б. И. Рецензия на книгу: Гайденко П. П. «Научная
рациональность и философский разум» // Вопросы философии. № 6. 2004.
Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г. Скептицизм Юма и современные
проблемы культурно-исторической эпистемологии //Дэвид Юм и
современная философия: материалы конференции. М., 2011. Т. 2.
Пумпянский Л. В. Классическая традиция: собрание трудов по
истории русской литературы. М., 2000.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1960.
[Электронный ресурс]: http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0863.htm
Пушкин В. Л. Капитан Храбров // Русская романтическая поэма. М.,
1985. [Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/p/pushkin_w_l/text_OO 10.shtml
Пыпин A. H. H. А. Некрасов. СПб., 1905.
Райнов Т. И. Густав Шпет. История как проблема логики.
Критические и методологические исследования. Часть I. Материалы. Москва,
1916 // Вестник Европы. 1917. № 1. Январь.
Список использованной литературы 431
Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий.
Логическое введение в исторические науки. СПб., 1997.
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
Риккерт Г. Философия жизни. Киев, 1998.
Розанов В. В. Мимолетное. М., 1994.
Якобсон Р. О. Избранные работы. М., 1985.
Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская
историческая школа. Рязань, 2004.
Румянцева М. Ф. «Чужое я» в историческом познании: И. И. Лапшин
и А. С. Лаппо-Данилевский // История и историки. 2001. № 1.
Савин А. Э. Концепция историчности жизненного мира в
трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля // Вопросы
философии. 2008. № 5.
Савин А. Э. Способ периодизации исторического процесса у
Гуссерля // Вопросы философии. 2008. № 1.
Сачков Ю. В. Эволюция стиля мышления в естествознании //
Вопросы философии. 1968. № 4.
Скатов H. H. H. Страхов (1828-1896). [Электронный ресурс]: http://
az. lib. ru/s/strahow_n_n/text_0060. shtml
Соловьев Ю. И. Эволюция основных теоретических проблем химии.
М, 1971.
София: Рукописный журнал Общества ревнителей русской
философии / под ред. Б. В. Емельянова. Екатеринбург, 2003. № 6. [Электронный
ресурс] : http://www.eunnet.net/sofia/06-2003/text/0617.html
Спорные положения в интересной книге [«Авторы других рецензий,
поступивших в редакцию...»] // Вопросы философии. 1960. № 8.
Споры о главном. Дискуссия о настоящем и будущем исторической
науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993.
Стайнер П. Tropos logicos: философия истории Густава Шпета //
Вопросы философии. 2004. № 4.
Стиль мышления как выражение единства научного знания. Воронеж,
1981.
Страхов H. H. Наша культура и всемирное единство. [Электронный
ресурс]: http://gumilevica.kulichki.net/DNY/dnyl8.htm
Страхов Н. Н. О книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа».
[Электронный ресурс]: http://gumilevica.kulichki.net/DNY/dnyl8.htm
Страхов Н. Н. Последний ответ г. Вл. Соловьеву. [Электронный
ресурс] : http://gumilevica.kulichki.net/DNY/dny 18.htm
Страхов H. H. Философские очерки. Киев, 1906 (СПб., 1895).
Судьина Е. Г. Вероятность в биологии. Киев, 1985.
Султанов К. В. Социальная философия Н. Я. Данилевского: конфликт
интерпретаций. СПб., 2001.
432 Список использованной литературы
Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы
международной научной конференции. М., 2008.
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1935. Т. 3:
Произведения 1852—1856 годов.
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1935. Т. 59: Письма
1844-1855 годов.
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1937. Т. 47:
Дневники и записные книжки 1854—1857 годов. Дневники С. А. Толстой. 1860—
1891. М., 1928.
Тороп П. Тартуская школа как школа// Лотмановский сборник 1. М.,
1995.
Трельч Э. Историзм и его проблемы. М, 1994.
Трубников Н. Н. Время человеческого бытия. М., 1987.
Трубников Н. Н. О смысле жизни и смерти. М., 1996.
Устюгов В. А. Формирование классического стиля мышления в
научной химии XVII века // Вестник красноярского государственного ун-та.
Серия «Гуманитарные науки». 2005. № 6.
Ухтомский А. А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки.
Заметки на полях. СПб., 1996.
Филатов В. П. Предисловие к публикации статьи Н. О. Лосского
«Идея конкретности в русской философии» // Вопросы философии. 1991.
№2.
Философия в современном мире. Философия и наука. М., 1972.
Философия, наука, культура. «Вопросам философии» 60 лет. М., 2008.
Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5.
Флек Л. Возникновение и развитие научного факта. Введение в
теорию стиля мышления и мыслительного коллектива / Составл., предисл.,
перевод с англ., нем., польского яз., общая ред. В. Н. Поруса. М., 1999.
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914.
Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного
знания. Пг., 1915.
Фридлянд Ц. Два шага назад (О книге Д. М. Петрушевского «Очерки
из экономической истории средневековой Европы») // Под знаменем
марксизма. 1928. № 2.
Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997.
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001.
Холенштайн Э. Якобсон и Гуссерль //Логос. 1996. № 7. С. 8.
Черняков А. Г. Онтология времени: Бытие и время в философии
Аристотеля, Гуссерля, Хайдеггера. СПб., 2001.
Чудакова М. О., Тоддес Е. А. Первый русский перевод «Курса общей
лингвистики» Ф. де Соссюра и деятельность Московского
лингвистического кружка (Материалы к изучению бытования научной книги в 1920-е
годы)//Федоровские чтения 1978. М., 1981.
Список использованной литературы 433
Чудинов Э. М. Теория относительности и философия. М., 1974.
Шапир М. И. Вступительная заметка к публикации статьи Р. О.
Якобсона «Московский лингвистический кружок» // Philologica. 1996. Т. 3.
[Электронный ресурс] : http://www.rvb.rn/philologica/03ms/03msjakobson.
htm
Швырев В. С. Мой путь в философии // Философия науки. Вып. 10.
М., 2004.
Швырев В. С. Диалектическая логика // Философский словарь / Под
ред. И. Т. Фролова. М., 2001.
Швырев В. С. Неопозитивизм и проблемы эмпирического
обоснования науки. М., 1966.
Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры // Вопросы
лософии. 1992. № 6.
Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры. Традиция и
современность. М., 2003.
Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании.
М. 1978.
Швырев В. С. Эмпирическое и теоретическое // Философский
энциклопедический словарь. М., 1983.
Шестакова М. А. Функции здравого смысла в герменевтике
Гадамера // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1999.
№4. С. 90-100.
Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и
методологические исследования. Материалы: В 2 ч. М., 2002.
Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и
методологические исследования. 4.1. Материалы. М., 1916.
Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды / Отв. ред.-сост.
Т. Г. Щедрина. М., 2005.
Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические
труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2007.
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по
философии культуры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2007.
Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. II. Материалы.
Реконструкция Татьяны Щедриной. М., 2009.
Шпет Г. Г. Проблема причинности у Юма и Канта. Ответил ли Кант
на сомнения Юма. Киев, 1907.
Шпет Г. Г. Скептицизм и догматизм Юма // Вопросы философии и
психологии. 1911. № 106.
Шпет Г. Г. Сознание феноменологическое и реальное /
Реконструкция текста Т. Г. Щедриной // Зинченко В. П., Дружинин Б. И.,
Щедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии:
философскогуманитарный контекст. М., 2010.
434 Список использованной литературы
Шпет Г. Г. Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры / Отв.
ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2010.
Шпет Г. Г. Философия и наука. Лекционные курсы / Отв. ред.-сост.
Т.Г.Щедрина. М, 2010.
Шпет Г. Г. Юм Д. Исследование человеческого разумения. Пер. с
англ. С. И. Церетели. СПб., 1902 // Мир Божий. 1903. №11.
Шпет Г. Г. Явление и смысл. М., 1914.
Щедрина Т. Г. Архив эпохи: страницы истории философии в России
второй половины XX века // Вопросы философии. 2011. № 6.
Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской
философии. М., 2008.
Щедрина Т. Г. Продолжение разговора: новые письма Э. Гуссерля
Г. Шпету// Вопросы философии. 2013. № 4.
Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...». Очерки интеллектуальной
биографии Густава Шпета. М., 2004.
Эгиль Скаллагримссон «Утрата сыновей» в пер. Петрова С. В.
[Электронный ресурс]: http://norse.ulver.com/poetry/egill.html#son
Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
Юм Д. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1996.
Юрий Михайлович Лотман / Под ред. В. К. Кантора. М, 2009. Серия:
Философия России 2 половины XX века / Ред. серии В. А. Лекторский.
Якобсон Р. О. Избранные работы. М., 1985.
Якобсон Р. О. Московский лингвистический кружок / Публ.
М. И. Шапира // Philologica. 1996. Т. 3. [Электронный ресурс]: http://
www.rvb.ru/philologica/03rus/03rusjakobson.htm
Якобсон Р. О. Язык и бессознательное. М., 1996.
Янцен В. Письма русских мыслителей в базельском архиве Фрица
Либа // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2001 —
2002 годы. М., 2002.
Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000.
Bethea D. M. Bakhtinian Prosaics Versus Lotmanian "Poetic Thinking":
the Code and its Relation to Literary Biography // Slavic and East European
Journal. Vol. 41. № 1. 1997.
Boris Pasternaks Lehrjahre. Неопубликованные философские
конспекты и заметки Бориса Пастернака. Stanford, 1996.
Derrida J. Voyous. Deux essais sur la raison. Galilée, 2003.
Hume D. The History of England I—VI. L., 1841. [Электронный
ресурс] : http^/www.archive.org/stream/studentshumehistO lhume#page/296/
mode/lup
Knight W. A. Hume. Edb., 1896.
Список использованной литературы 435
Lappo-Danilevsky A. The development of science and learning in Russia //
Russian Realities & Problems. By P. Milyoukov, P. Struve, A.
LappoDanilevsky, R. Dmowski, and Harold Williams. Edited by J. D. Duff, Fellow of
Trinity College. Cambridge, 1917.
M. Bakhtin. Rabelais and his world. Cambridge, 1968.
Macaulay Т. В. History //■ Macaulay Т. В. Miscellaneous works. Vol. I.
N. Y. 1880. P. 188. [Электронный ресурс]: http://www.archive.org/stream/
miscellaneouswoOOtrevgoog#page/n 184/mode/2up
Mandelker A. Semiotizing the Sphere: Organicist Theory in Lotman,
Bakhtin and Vernadsky // PMLA. Vol. 109. 1994.
Reid A. Who is Lotman and Why is Bakhtin Saying Those Nasty Things
About Him // Discours social = Social Discourse. 1990. Vol. 3. № 1—2.
Sechehaye A. Les problèmes de la langue à la lumière d'une théorie
nouvelle // Revue philosophique de la France et de l'étranger, 1917. T 84. № 7.
Sorokin B. Moral regeneration: N. N. Strakhov's «organic» critiques of War
and Peace // The Slavic and East European Journal. AATSEEL, 1976. Vol. 20.
№2.
Titunik I. R. M. M. Baxtin (The Baxtin School) and Soviet Semiotics //
Dispositio. 1976. Vol. 1.
Указатель имен
Абрамов М. А. 48, 52
Авенариус Р. 165
Аверинцев С. С. 115, 127, 129, 226,
239,355
Автономова Н. С. 128, 268, 287, 302,
313,356,363,388,390
Александр 1103
Александров Д. А. 37
Алпатов В. М. 293, 298
Андреев И. Д. 25
Андреева И. С. 409
АндрюхинаЛ. М. 25
АнкерсмитФ. Р. 116, 127, 128
Анненков П. В. 88
Антонович В. Б. 41
Антонович М. А. 112
Аптекарь В. Д. 66, 67
Аристотель 127, 163, 177, 254, 332,
333,336,409,414
Асмус В. Ф. 22, 375
Баженов Л. Б. 21,379
Балли Ш. 256, 257
Барт П. 165
Барт Р. 142
БатищевГ. С. 381
Бахтин M. M. 7, 42, 115-117, 119—
121, 123-129, 133, 134, 137, 151,
177, 218-248, 268, 281, 283-296,
298-300,313,355,356
Бек А. 253
Беленький И. Л. 156
БелинковА. В. 224
Белый А. 44, 233, 245
Беньямин В. 334
Бергсон А. 201
Бердяев Н. А. 9, 203, 355, 357
БернгеймЭ. 159, 165
БернштейнН.А.224,234
Бернштейн С. И. 253
Бернштейн Э. А. 206
БетеаД.284,296,298
Бестужев-Рюмин К. Н. 154, 159
Библер В. С. 22
Блауберг И. В. 374, 375
БлурД.9
Богатырев П. Г. 270, 271, 272, 275
Бодрийяр Ж. 9
Болдуин Дж. 165
Бонди С. М. 253
Боричесвкий И. А. 143
БорнМ. 19,23,24
Бородай Ю. М. 403, 404
Боткин В. П. 88, 89
Бочаров С. Г. 283
Брик О. М. 253, 255, 257
Бродский И. А. 235
Бройтман С. Н. 288
Бронштейн-Шур Е. И. 140
Брэдбери Р. 373
Булгаков М. А. 390
БулгаринФ. В. 102
БуркхардтЯ. 79
Буслаев А. А. 254, 255
Бухарин Н. И. 156
Бэкон Ф. 163,361,365
Вайда А. 295
Василюк Ф. Е. 225
Введенский А. И. 143, 154, 165
Вебер М. 60, 69, 70, 78, 81-84, 154,
158,239,325
ВейнбергП. И. 115
Вентворт Т. 52
Веселовский А. Н. 288
Виноградов П. Г. 154
Виноградов В. В. 256, 264
Винокур Г. О. 255, 256
Виппер Р. Ю. 41, 154
ВирховР. 188
Витгенштейн Л. 183, 244, 330
Виткин С. 406
Владимирский-Буданов М. Ф. 41
Указатель имен
437
Волков H. H. 253
Волошинов В. Н. 124, 125, 127, 232,
293
Воррингер В. 165
ВригтХ. Г. фон 116
ВундтВ. 218
Выготский Л. С. 223-226, 232, 238,
246,247
Высоцкий В. С. 395
Гадамер Г.-Г. 9, 108, 116, 121, 128,
214,215,330
Гайденко П. П. 7, 81, 197, 202, 209,
323-344, 392, 414
ГаймР. 181
Гак Г. М. 401
Галич А. 394
Гальперин П. Я. 223
Ганс Э. 205
Гаспаров М. Л. 128,286, 290, 313
Гегель Г. В. Ф. 51, 52, 159, 179-182,
184-186,189,193, 205, 266-268
Генрих VII53
Георг II 53
ГердерИ. Г. 159
Герцен А. И. 181,182, 191-193, 241
Герье В. И. 154,159
Гёте И. В. 246
Гиппиус В. В. 288
Глинчикова А. Г. 409
Гоббс Т. 361,365
Гоголь Н. В. 89-91,93
Гоготишвили Л. А. 283
Голдман Э. 9
Гончаров И. А 90,91
Гордеева Н. Д. 234, 248
Горнунг Б. В. 254, 255, 257
ГревсИ.М. 143,153,154, 158
Греков Л. И. 375
Гржибек П. 284
Григорьев А. А 7, 42, 86-100, 103,
115
Громова Л. Д. 96
Гроссман Л. П. 243,244
ГротН. Я. 9, 10, 15, 108, ПО, ИЗ,
115,251
Грушин Б. А. 374,403
ГрязновБ.С.369,370,371
Гудзий Н. К. 288
Гуковский Г. А. 288, 292
Гумбольдт А. фон 188
Гумбольдт В. фон 233, 244, 262
Гумилев Н. С. 245
Гуревич А. Я. 7, 42, 59, 60, 78, 117-
123, 130-136
Гуссерль Э. 9, 78, 201, 206-208, 210,
211, 215-217, 246, 252, 258-261,
266, 267, 269, 271, 272, 276, 323,
324, 329, 330, 331, 332, 333, 335,
340,341,342,413,414
Давыдов Ю. 392
Данилевский И. Н. 115
Данилевский Н. Я. 101,112, 116
Данте Алигьери 246, 254
Декарт Р. 165, 176, 184, 361, 365,
367
ДелезЖ.9,349
ДеннМ. 261
Державин Г. Р. 107
Державин Н. С. 143
ДерридаЖ. 9, 329-336, 349
Джавахишвили И. 143-145
Джеймс У. 165
Дильтей В. 154, 178, 195, 196, 253,
336
Добиаш-Рождественская О. А. 143
Донсков А. А. 96
Дорофеев Д. Ю. 128
Достоевский Ф. М. 86, 92, 218, 220,
222-224, 228, 229, 230, 233, 236,
237, 240-245, 285, 294, 300
ДройзенИ.-Г. 159, 164, 165
ДружининА. В. 88, 89
Дурново H. H. 253, 255
Дынин Б. 376
Дьюи Дж. 308
Дьяконов М. А. 154
Егоров Б. Ф. 284, 290, 291, 292
Емельянов Б. В. 155
Ернштедт П. В. 145
Ерофеев В. В. 388
438
Указатель имен
ЕсаковВ.Д. 156, 158
Есенин С. А. 147
ЖебелевС.А. 143, 144
ЖинкинН.И.253
Жирмунский В. М. 255
Жуковский В. А. 222
Заозерский H.A. 143
Запорожец А. В. 234
Зеньковский В. В. 115, 196, 202
Зиммель Г. 154, 165
Зиновьев А. А. 21,22, 394
Зинченко В. П. 155, 159, 214, 222,
227, 244, 248,375
Золотарев В. П. 72
Иванов Вяч. Вс. 252, 284, 288
Илларионов С. В. 21
Ильенков Э. В. 22, 381, 392
Ильин И. А. 205, 206, 208
Иовчук М. Т. 405
Каган М. И. 128
Кант И. 44, 45, 47, 49-52, 159, 165,
173, 179, 181, 197-199, 244, 324,
325,362,368
Кантор В. К. 287
Карамзин Н. М. 42, 101-114, 116,
297,299
КареевН. И. 41, 72, 143, 155, 165
Карл I 52
Kapp Д. 116, 330
Карцевский С. И. 253, 256, 257
Карякин Ю. Ф. 375
КассирерЭ. 197,340
Кафка Г. 165
Кедров Б. М. 21, 375, 405, 406
Келле В. Ж. 380, 399, 400, 402, 403,
405,408
Кенигсберг M. M. 253, 254
Кепчик Н. В. 26
Кёстлер А. 234
Ким Су Кван 286
Клиффорд В. 165
Ключевский В. О. 41, 154
Князева Е. Н. 25
Ковальзон М. Я. 400, 402
КогенГ. 128, 165,340
Кожинов В. В. 288
Козеллек Р. 175
Койре А. 271
Коковцев П. К. 145
Коллингвуд Р. Дж. 48, 53, 54, 56,
57,159,307
Кольцова. В. 92
Конрад Н. И. 288
Константинов Ф. В. 404
Конт О. 51, 52, 74, 179, 181, 188,
189, 191,368
КопнинП. В. 21, 404
Корш Ф. Е. 253
Косминский Е. А. 67
Кострюкова Л. И. 26
Кравец А. С. 26
Крачковский И. Ю. 145
Кристева Ю. 285
КрочеБ. 159
Крымский С. Б. 26
КрюгерО. О. 145
Кун Т. 31-34, 35, 36, 321
КушнерП. И. 66, 82
Лавров П. А. 143
Лавров П. Л. 7, 112, 151, 175, 177,
179-197, 199
Лакан Ж. 244
Лакатош И. 321
ЛангеН. Н.218
ЛанглуаШ. 153
Лаппо-Данилевский А. С. 7, 41,
151,153-168, 170-174
Лапшин И. И. 154, 157, 165
ЛеГоффЖ. 118,274
Левада Ю. А. 403, 406
Леви Т. С. 236
Левинтон Г. А. 254, 255
Леви-Строс К. 252
Лейбниц Г. В. ИЗ, 209, 210, 212,
213,365
Указатель имен
439
Лекторский В. А. 8, 267, 279, 287,
350, 365, 370, 371, 374, 376, 378,
380,391
Ленин В. И. 180,375,401
Леонтьев А. Н. 234,238, 246
Лермонтов М. Ю. 294
Либ Ф. 343
ЛиппсТ. 154,165, 172
Литтре Э. 189
Лихачев Д. С. 288
ЛоккДж. 197,212,365
Ломоносов М. В. 107
Лопатин Л. М. 176,203, 338
Лосев А. Ф. 22, 129,238
Лосский Н. О. 7, 151, 165, 200-211,
214-217, 338, 339, 340, 341
Лотман Ю. М. 7, 102, 103,128, 280-
284,286-316,364
Лотце Г. 76, 78
ЛурияА. Р. 223
Лысенко Т. Д. 33
Мазе С. Я. 254, 255, 277
Макаренко В. П. 378
Маколей Т. Б. 53
Малашенко Ю. И. 25
МалиновА. В. 155,157
Мамардашвили М. К. 215, 220, 222,
226, 227, 229, 231, 236, 244, 246,
349
Мандельштам О. Э. 140, 241, 245,
246
Маркс К. 82,180, 351, 404,405
Марр Н. Я. 143
Марти А. 252,260
Мах Э. 202
Махлин В. Л. 122, 123, 124, 126,
129,285
Маяковский В. В. 256
Медведев П. Н. 125
Медушевская О. М. 156,157
МейерА.А. 128
Мейер Эд. 79, 159
Мейнеке Ф. 154,159
Мелетинский Е. М. 129
МикешинаЛ. А. 129, 175,176
Микулинский С. Р. 406
Милль Дж. С. 179, 181,189, 190, 368
Милюков П. Н. 156,159
Миндлин И. 401,402
Митина И. В. 26
Митрохин Л. Н. 374
Молчанов В. И. 200, 201, 207
Моммзен Т. 79
Мордовченко Н. И. 288
Мотрошилова Н. В. 215, 216, 335,
403
Мудрагей В. И. 376, 388
Мудрагей Н. С. 369, 376, 388
Мукаржовский Я. 296
Найт В. А. 49
Наторп П. 340
Некрасов Н. А. 92, 98
Неусыхин А. И. 65—67
Нибур Г. 79
Никитин Е. П. 7, 21, 358-366, 368-
373, 376, 378, 379, 380, 388, 390,
395,411,412,420
Никифоров Т. Г. 96
Николаи Ф. М. 157
Ницше Ф. 146, 368
Новик И. Б. 25
Новиков Н. 404
Новиков В. И. 256
Новоселова И. Г. 141
Ньютон И. 24, 397
Овчинников Н. Ф. 8, 374
Огурцов А. П. 369
ОйзерманТ.И.374,375
Ольденбург С. Ф. 158
Оствальд В. 154,165
Островский А. Н. 88, 89, 92, 94
Павленков Ф. Ф. 51, 52
Панаев И. И. 98
Парахонский Б. А. 26
Пастернак Б. Л. 44,49, 245, 310
Паули В. 23
Петров Д. К. 143
440
Указатель имен
Петров М. К. 378
ПетровС. В. 132
Петрушевский Д. М. 42, 59-68, 70,
73,74,76,78,82,84, 153, 154
Пешковский А. М. 253
Пирс 4.252,308, 309
Писарев Д. И. 112
Писемский А. Ф. 88, 89, 90, 91, 93
Платон 198, 333, 362, 409
ПлатоновС. Ф. 143, 144
Плимак Е. Г. 403, 404, 405
Плотников Н. С. 207
Погодине. Н. 155,157
Покровский M. H. 64, 65, 67, 156
Полани М.47
Поливанов Е. Д. 253, 255, 296
Поморска К. 269, 285
Попов П. С. 22
Попова И. Л. 283
Поржезинский В. К. 253
Порус В. Н. 24, 26, 28, 30, 34-36
ПотебняА.А.233,234,288
Пресняков А. Е. 158
Пришвин M. M. 7, 42, 114, 138,
140-148
Пришвина В. Д. 148
Пропп В. Я. 294, 296
Протопопов М. А. 115
ПрудонП.Ж. 181
Пружинин Б. И. 29, 38, 46, 147, 155,
159, 214, 227, 334, 356, 369, 376,
380, 386, 388, 389, 390, 392, 394,
395,399-402,405,406
Пруст М. 220, 237
Пул Б. 128
Пумпянский Л. В. 107, 116
ПушкинА. С. 92-94, 100, 102, 107,
116,291,292,296,297,299,313
Пушкин В. Л. 99
ПыпинА. Н.98, 102-114
Пятигорский А. М. 226, 227, 231,
246
Рабле Ф.122, 283,285,288
РайновТ. И. 59
Ранке фон Л. 115
Рачков П. А. 401
Рейхенбах Г. 29
РенанЭ. 188
РенувьеШ. 116, 188
РибоТ. 165
РикерП. 116, 128
Риккерт Г. 60, 61, 63, 69, 70, 76-79,
153
РильА. 77
Розанов В. В. 111, 112, 115
Ромм А. И. 253, 254, 256
Ростовцев Е. А. 154-159
Рубинштейн С. Л. 226, 246, 267
Румянцева М. Ф. 157, 159
Руткевич M. H. 392
Савин А. Э. 335
Садовский В. Н. 8
СартрЖ.-Л.364,408
Сачков Ю. В. 24, 26
Свешников П. П. 254
Свифт Дж. 116
Секст Эмпирик 409
Семенов Ю. 404
СеньобосШ. 154
СериоП.261
СертоМ. 116
Сидоренко Е. 389
Скатов H.H. 101, 113
СклядневД. В. 330
СкэнланДж. П. 374
Смирнов В. А. 21
Соколов Ю. М. 253, 270
Соловьев В. С. 15, 101, 116, 176,
202,203,209,212,338,340,343
Соловьеве. М. 41, 154
Соловьев Э. Ю. 349, 403
Соловьев Ю. И. 25
Соловьева А. К. 256, 257
Солянов А. 370
Сорокин Б. 87
Соссюр де Ф. 252, 254-256, 268,
293
Спенсер Г. 179, 189
Сперанский M. M. 113
Спиноза Б. 247, 361
Указатель имен
441
Стайнер П. 48
Сталин И. В. 404
СтепанянЭ.Х.401
Страффорд (см. Вентворт Т.) гр.
Страхов H. H. 7, 42, 86, 87, 89, 95-
97,101-103,105,107-116,154
Строгович М. С. 375
Струве П. Б. 156,158
Судьина Е. Г. 25
Султанов К. В. 101
Тоддес Е. А. 254, 255
Толстой Л. Н. 42, 86-100, 103, 112,
236
Томашевский Б. В. 253, 254, 288,
292
Топоров В. Н. 288
Тороп П. 284
ТрапшН.А. 157
ТрельчЭ. 122, 154
Трубецкой Н. С. 296
Трубецкой С. Н. 176,203, 212, 338
Трубников H. H. 7, 369-373, 375-
393, 395, 398, 399,408-420,422
Тургенев И. С. 88-91, 93, 98
Тынянов Ю. Н. 254, 256, 257, 288,
291,292,296
ТэнИ. 188
ТюменевА. И. 143
Тютчев Ф. И. 219,291
Тюхтин В. 392
УайтХ. 116, 175
Удальцов А. Д. 66
Урусов С. С. 88
Успенский Б. А. 287, 305
Устюгов В. А. 26
Устюгова Е. Н. 26
Ухтомский А. А. 140, 222, 223, 370
УшаковД.Н.253
Фармаковский Б. В. 145
Февр Л. 274
Федосеев П. Н. 406
Фейерабенд П. К. 33
Фейербах Л. 179, 181, 187, 192, 194,
198
Филатов В. П. 201
Филимонов В. А. 155
ФиркандтА. 165
Фихте И. Г. 165, 229
Фишер К. 103
ФлекЛ. 19,30, 31,33-36
Флинт Р. 165
Флобер Г. 246, 247
Флоренский П. А. 9, 22, 172, 173,
203,204,227,393
Фохт Б. А. 22
Франк С. Л. 203, 206, 239, 338, 339,
341
Фрейд 3. 244-246
Фридлянд Ц. 65
Фролов И. Т. 354, 375, 405
Фрост Р. 246
Фуко М. 9, 283, 321, 364
Фулер С. 9
ХаардтА. 207
Хабермас Ю. 9
Хагнер М. 37
Хайдеггер М. 114, 197, 198, 246,
330,408,410,414
Халтурин Ю. Л. 155
Харламенкова H. E. 364
Хвостов M. M 41, 154
Хладениус И. М. 113
Холенштайн Э. 260, 261, 271, 272,
273
ХоруЙ. 310
Хэллам Г. 53
Церетели Г. Ф. 7, 42, 138, 140, 143-
145, 147, 148
Церетели С. И. 44,45
Челпанов Г. И. 45, 258, 260
Чернышевский Н. Г. 112, 180
Черняков А. Г. 414
Черняховская Л. А. 308
Чичерин Б. Н. 88
442
Указатель имен
ЧугаевА.Я. 401
Чудакова М. О. 254, 255
Чудинов Э. М. 25
Шапир М. И. 253-255, 257, 262
Шахматов А. А. 253
Швырев В. С. 7, 21, 345-349, 352,
353,354,355,356,357
ШелерМ. 128
Шестакова М. А. 108
ШестовЛ.И.9,201,376
Шкловский Б. В. 254, 255, 257
Шлейермахер Ф. 253
Шопенгауэр А. 51, 52, 368
Шор Р. О. 254, 256
Шпет (урожд. Гучкова) Н. К. 144,
173,275
Шпет Г. Г. 7, 9, 16, 22, 29, 41, 42,
44-50, 54-56, 58-60, 63-76,
78-84, 89, 128, 138, 140-142,
144, 146-148, 151, 153, 155,
159-164, 172, 173, 175, 177-181,
188-208, 210-217, 222, 224, 226,
228, 231, 233, 234, 235, 238, 239,
246, 252-280, 338, 339, 341, 345,
354,364,366,378,420
ШрагК.О. 197
Шрагин Б. И. 233
Шуберт-Зольдерн Р. фон 165
ШуппеВ. 165
Щедрина Т. Г. 8, 44-46, 64, 68, 77,
78, 80, 89, 122, 140, 147, 155, 159,
160, 177, 181, 188, 205, 210, 211,
214, 227, 258-261, 264, 377, 378
Щедровицкий Г. П. 21
Эгиль Скаллагримссон 130, 132
ЭйдельманН.Я. 102
Эйнштейн А. 228,396
Эйхенбаум Б. М. 288
Элиот Т. 240
Энгельс Ф. 404
Эрн В. Ф. 202
Эрнести И. А. 253
ЮдинЭ. Г. 21
Юм Д. 44-58, 121, 162, 163, 165,
177, 365, 366,367
Юнг К. Г. 246
ЮркевичП.Д. 15,203
Ягодкин В. М.405
Якобсон Р. О. 7, 83, 128, 252-257,
260-262, 268-273, 275-277, 280,
285,290,296, 301,303, 308-311,
313
Яковлев Н.Ф. 254
Якубинский Л. П. 255, 296
ЯнценВ. В. 261, 343
ЯрхоБ. И.254
Ясперс К. 375
Dmowski R. 156
DuffJ. D. 156
MandelkerA. 284
Reid A. 284, 290
Sechehaye A. 254
Sorokin B. 87
Titunikl.R. 284
Toman J. 255
Williams H. 156
Об авторах
Автономова Наталия Сергеевна — доктор философских наук,
главный научный сотрудник ИФ РАН, Москва.
Александров Павел Владимирович — магистрант философского
факультета ГАУГН, Москва.
Зинченко Владимир Петрович — действительный член РАО,
заведующий кафедрой психологического факультета НИУ
ВШЭ, Москва.
Микешина Людмила Александровна — доктор философских
наук, профессор МПГУ, Москва.
Ольхов Павел Анатольевич — доктор философских наук,
заведующий кафедрой культурологии и политологии НИУ БелГУ,
Белгород.
Пружинин Борис Исаевич — доктор философских наук,
главный редактор журнала «Вопросы философии», Москва.
Щедрина Татьяна Геннадьевна — доктор философских наук,
профессор кафедры философии МПГУ, Москва.
Щедрина Ирина Олеговна — магистрант философского
факультета ГАУГН, Москва.
Содержание
От авторов 7
Введение: Методологические истоки
«стиля научного мышления» 19
Раздел I. Историзм как эпистемологическое основание
русской философии 39
Введение к разделу 1 41
Глава 1. Густав Шпет: Давид Юм и историзм
в исторической науке 44
§ 1. Место Д. Юма в философии Г. Шпета:
Юма не поняли 44
§ 2. Юм-историк vs Юм-философ 46
§ 3. Причинность как проблема исторического
познания 50
§ 4. Скептицизм как метод исторического
исследования 54
Глава 2. Дмитрий Петрушевский: Густав Шпет
и логический стиль исторической науки 59
§ 1. Д. Петрушевский о «логическом стиле»
исторической науки 59
§ 2. «Непродуктивное непонимание»: критика идей
Петрушевского в «Историке-марксисте» 1928 года 64
§ 3. Эпистолярный «разговор» на исторические темы 68
§ 4. Проблема объяснения в истории 72
§ 5. Ценности как проблема исторического познания 76
§ 6. Место «конкретного типа» в логическом стиле
исторической науки 80
Глава 3. Аполлон Григорьев: Лев Толстой и историзм
в русской литературе 86
§ 1. Л. Толстой — vox clamantis in deserto? 86
§ 2. Русская литература в поисках исторического типа 90
§ 3. За пределами исторического типа 95
Глава 4. Николай Страхов: Николай Карамзин
и практическая философия истории 101
§ 1. «Вздох на гробе Карамзина» 101
§ 2. Здравый смысл и история 105
§ 3. Субъективность как чистая историчность 111
Содержание 445
Глава 5. Арон Гуревич: Михаил Бахтин и проблемы
эпистемологии исторического знания 117
§ 1. А. Гуревич о методологических идеях М. Бахтина.... 117
§ 2. Диалогическая природа высказывания 124
§ 3. А. Гуревич: диалогизм как принцип исторического
исследования субъективности 129
Глава 6. Григорий Церетели — Михаил Пришвин —
Густав Шпет: Самопознание как основа
интуиции будущего 138
§ 1. Интуиция будущего как эпистемологическая
проблема 138
§ 2. Самопознание в экзистенциальных дневниках 142
Раздел П. «Личность» как гносеологическая проблема 149
Введение к разделу II 151
Глава 1. Густав Шпет: Александр Лаппо-Данилевский
и проблема «чужого Я» в методологии истории 153
§ 1. «Методология истории» А. С. Лаппо-Данилевского:
проблемы рецепции 153
§ 2. Г. Шпет и А. Лаппо-Данилевский: несостоявшийся
разговор 159
§ 3. «Чужое Я» как эпистемологическая предпосылка.... 164
§ 4. Личность историка как эпистемологическая
проблема 170
Глава 2. Густав Шпет: Петр Лавров и проблема
антропологизма 175
§ 1. «Антропологический поворот» в философии:
истоки 175
§ 2. Учение П. Л. Лаврова о знании: тема личности 181
§ 3. Был ли П. Л. Лавров «позитивистом» и как
он понимал природу позитивизма? 187
§ 4. Философский антропологизм Лаврова
и познание 191
§ 5. Г. Шпет, М. Хайдеггер и философский статус
современной антропологии 197
Глава 3. Густав Шпет: Николай Лосский и проблема «л»
в гносеологической проекции 200
§ 1. Точки соприкосновения и расхождения 200
§ 2. Рецепция Гуссерля 206
§ 3. Проблема «л»: позиция Лосского 208
§ 4. Проблема «я»: позиция Шпета 211
446 Содержание
§ 5. Чужая субъективность как проблема
эпистемологии 214
Глава 4. Михаил Бахтин: Личность и сознание
в русской эпистемологической традиции 218
§ 1. Самопознание как проблема культурно-исторической
эпистемологии, или Бахтин как психолог 218
§ 2. Личность как «выразительное и говорящее бытие»:
онтология сознания 223
§ 3. Диалогизм как принцип гуманитарного познания... 231
§4. Познание как осмысление 237
§ 5. Полифония сознания: личности как голоса 241
Раздел III. Слово и знание: споры о структуре в контексте
культурно-исторической эпистемологии 249
Введение к разделу III 251
Глава 1. Роман Якобсон: Густав Шпет у истоков семиотики
и структурализма 252
§ 1. Лингвистические кружки (МЛ К и ОПОЯЗ)
как «сфера разговора» Шпета и Якобсона 252
§ 2. Феноменология как философский исток
структурализма и семиотики: движения Шпета
и Якобсона 257
§ 3. Выход к структуре 262
§ 4. Шпет — Якобсон — Гуссерль: шаги
к интерсубъективности 269
§ 5. Культурно-историческое сознание как
семиотическая проблема 273
§ 6. Шпет и Якобсон: интеллектуальные созвучия
и идейные разногласия 276
Глава 2. Юрий Лотман: Михаил Бахтин и его влияние
на русскую традицию структурализма 281
§ 1. На пути к открытой структуре 281
§ 2. Бахтин и Лотман: смещенные рецепции 283
§ 3. Бахтин о Лотмане 287
§ 4. Лотман о Бахтине 291
§ 5. Шаг(и) навстречу? 296
Глава 3. Юрий Лотман: Роман Якобсон
и проблемы перевода 301
§ 1. Проблема перевода и многоязычие культуры 301
§ 2. Познание и перевод в науке и в искусстве 306
§ 3. Перевод и непереводимое с позиций семиозиса 313
Содержание 447
Раздел IV. Рациональность как тема русской философии:
возвращение к традиции 317
Введение к разделу IV 319
Глава 1. Пиама Гайденко: «Научная рациональность
и философский разум» 323
§ 1. Рациональность как культурно-историческая
проблема 323
§ 2. П. Гайденко и Ж. Деррида: две интерпретации
«Кризиса европейских наук» Эдмунда Гуссерля 329
§ 3. Рациональность и традиция «положительной
философии» в России 336
Глава 2. Владимир Швырев: «открытая рациональность» ...345
§ 1. Историзм как основание философской критики 345
§ 2. Между классикой и неклассикой 348
§ 3. «Открытая» и «закрытая» формы рациональности ...352
Глава 3. Евгений Никитин: антропологическая
рациональность 358
§ 1. «Светлый порядок» духовной жизни 358
§ 2. Гносеология в экзистенциальном измерении 361
§ 3. Скрытая и открытая антропологизация 364
§4. «Со мною вот что происходит...» 369
Глава 4. Николай Трубников: Рациональность
субъективности, или «Время человеческого бытия»
(разговор с очевидцами) 373
§ 1. Интеллектуальная атмосфера 373
§ 2. «Заседание Ученого совета», которого не было,
но которое было 378
§ 3. «Время» как герой экзистенциальной прозы 381
§ 4. Герменевтический комментарий философской
повести «Зефи» 386
§ 5. «Исторический материализм»: наука vs идеология.
Из беседы с В. Ж. Келле 400
§ 6. «Время человеческого бытия» 408
§ 7. Временность человеческой субъективности 415
Заключение 422
Список использованной литературы 423
Указатель имен (сост. Т. Г. Щедрина) 436
Сведения об авторах 443
Научное издание
Humanitas
Эпистемологический стиль
в русской интеллектуальной культуре XIX—XX веков
От личности к традиции
Художественный редактор А. К. Сорокин
Художественное оформление П. П. Ефремов
Технический редактор M. M. Ветрова
Выпускающий редактор Н. Н. Доломанова
Компьютерная верстка Т. Т. Богданова
Л.Р. № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 06.11.2013.
Формат 84* 108/32. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28. Тираж 1500 экз. Заказ С-2524.
Издательство «Политическая энциклопедия»
127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1.
Тел.:(499)685-15-75
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии филиала ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru