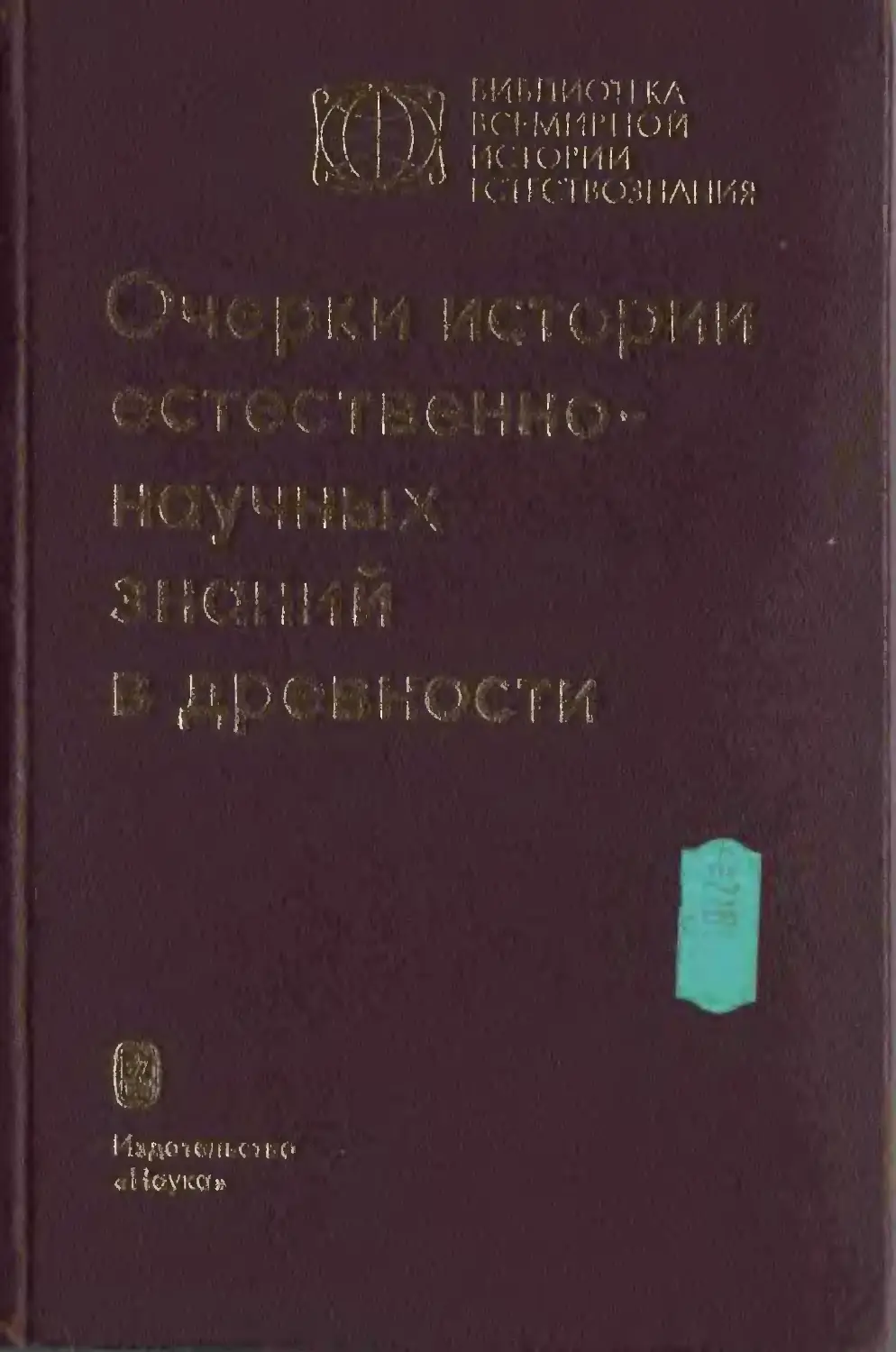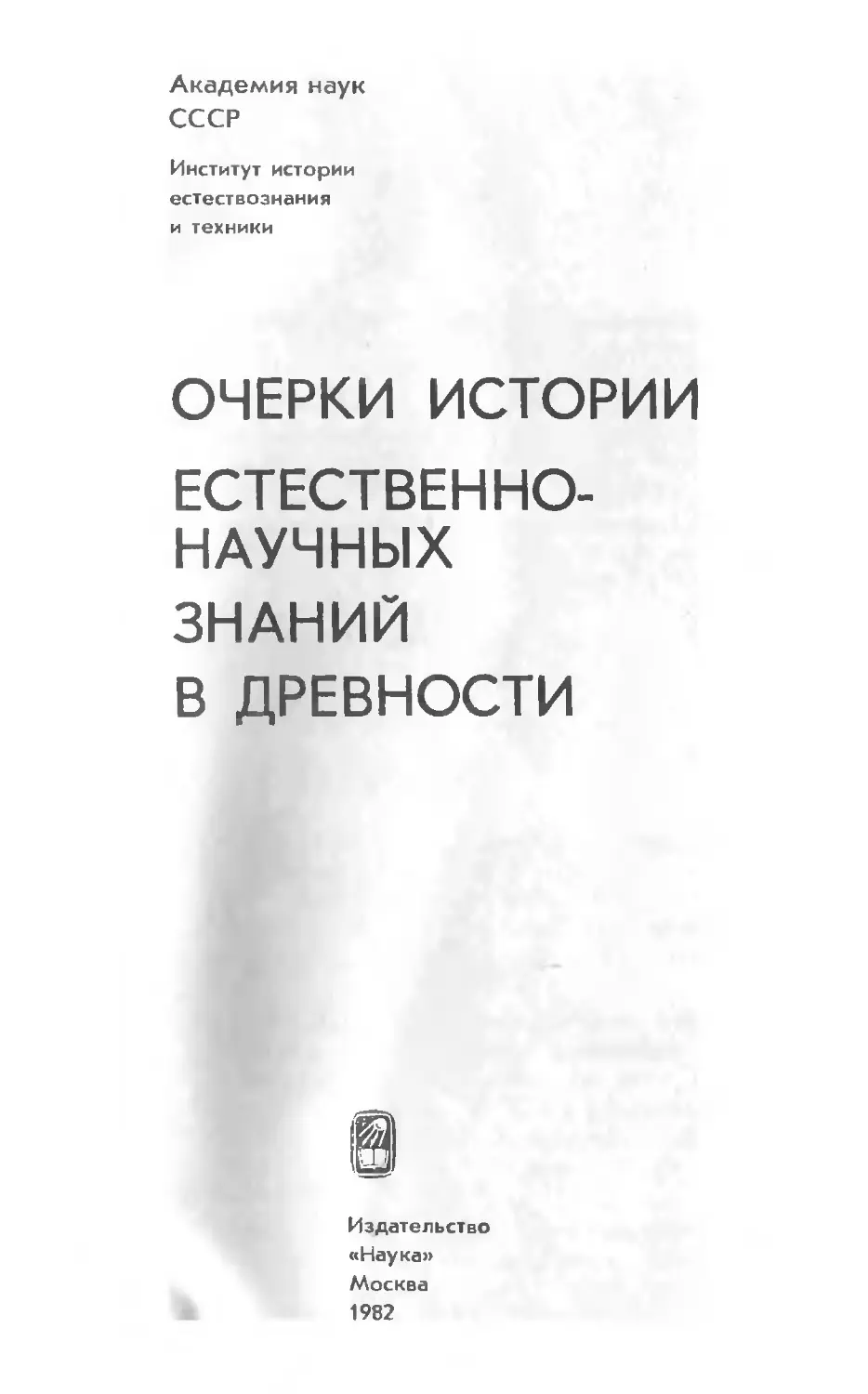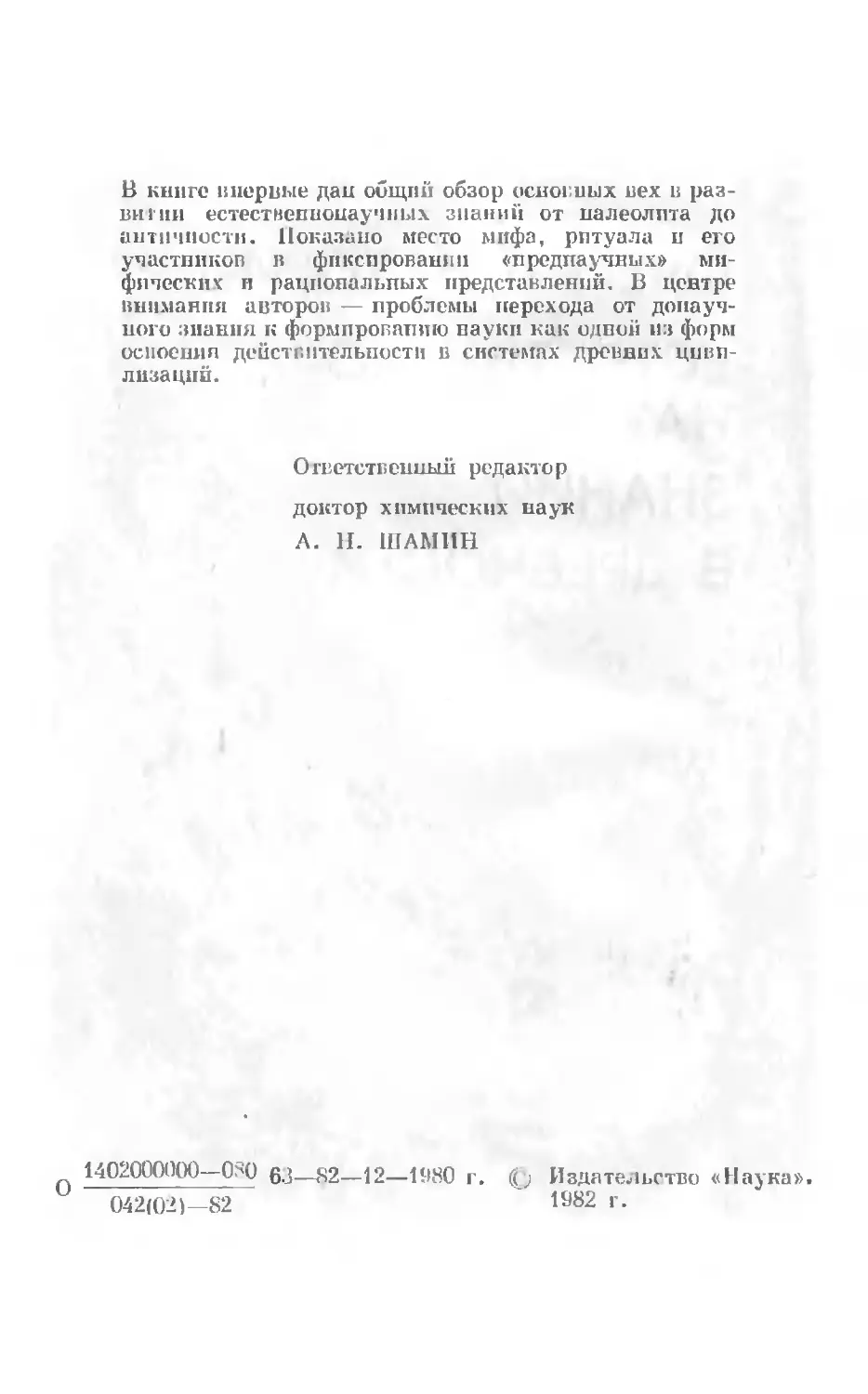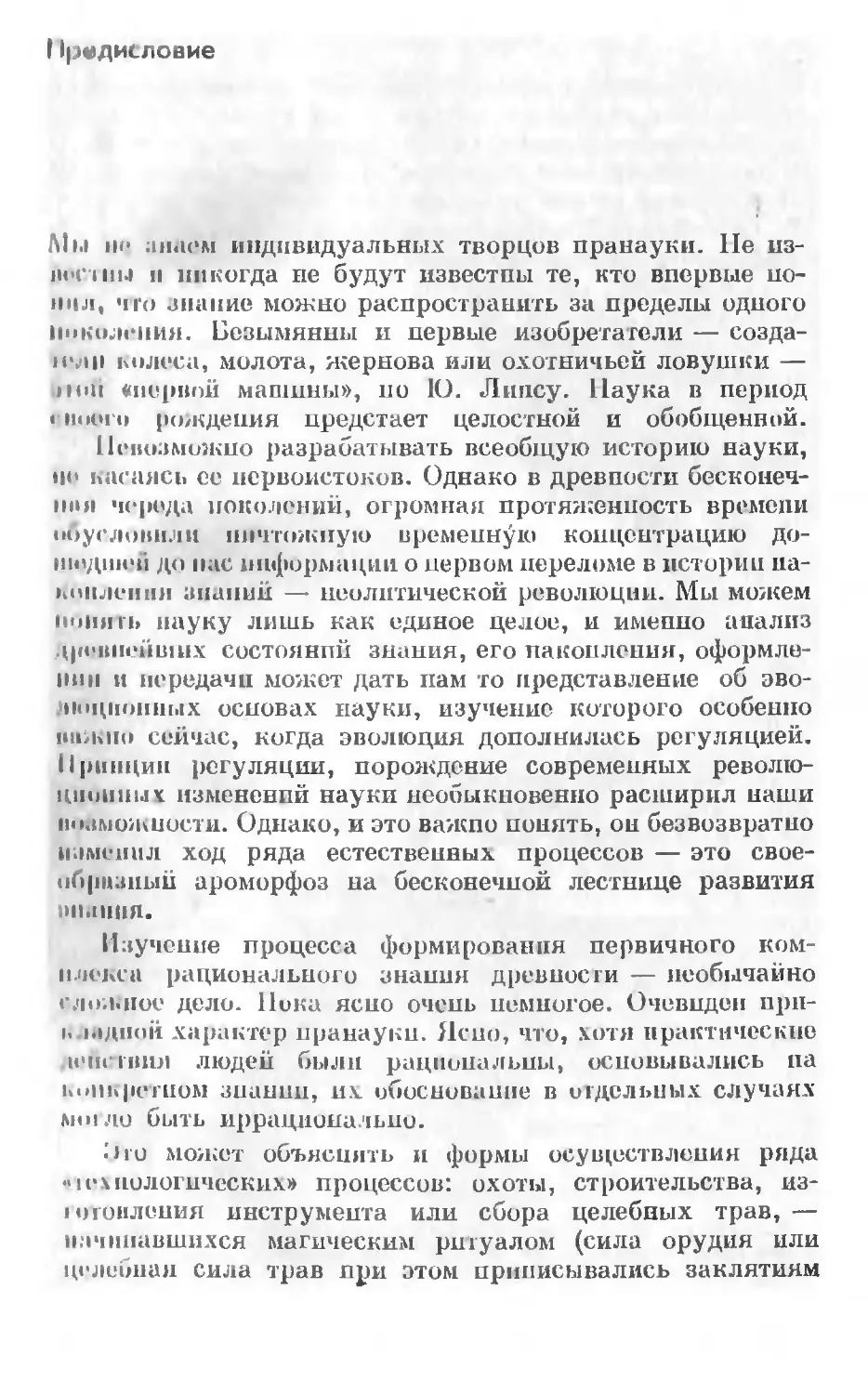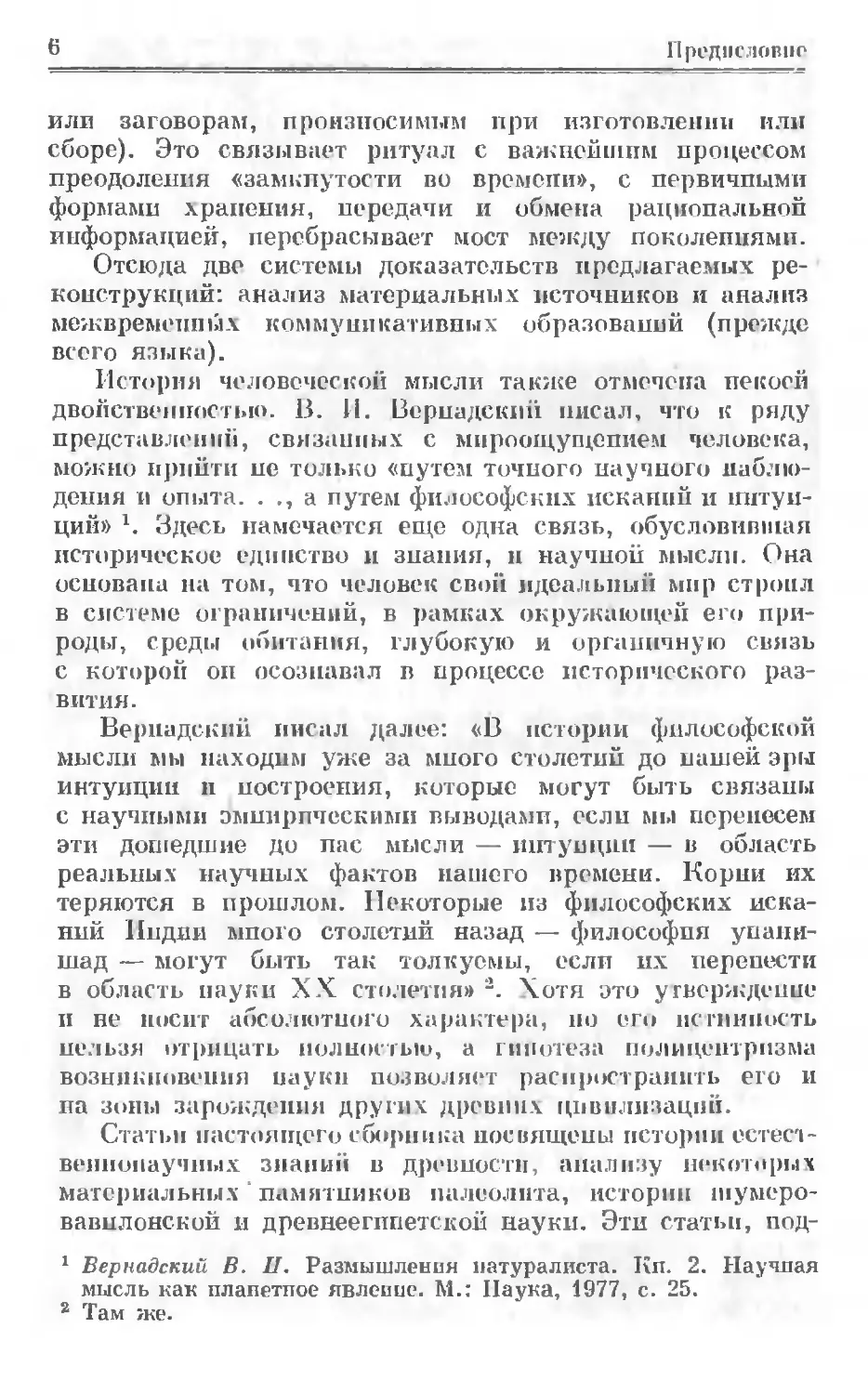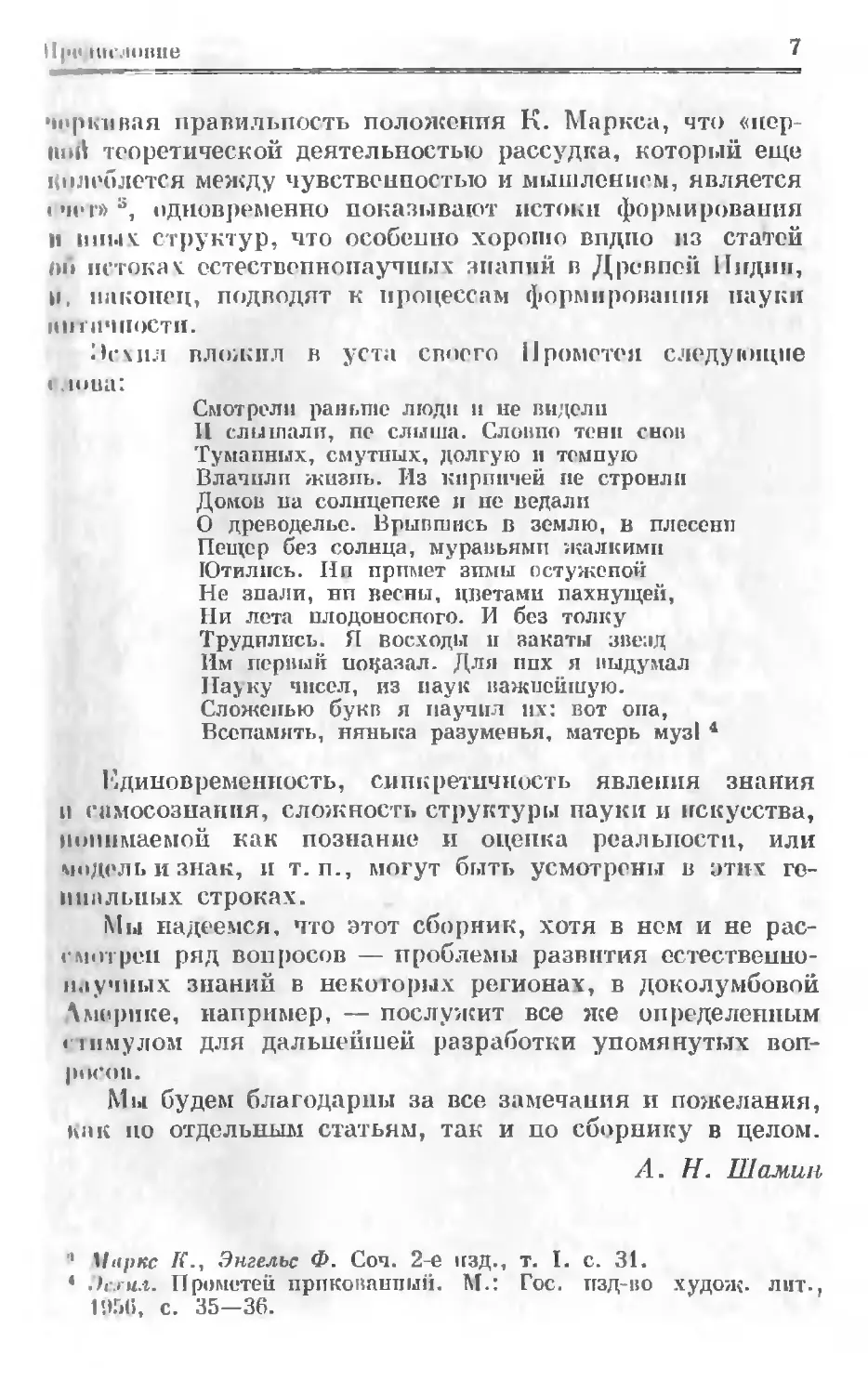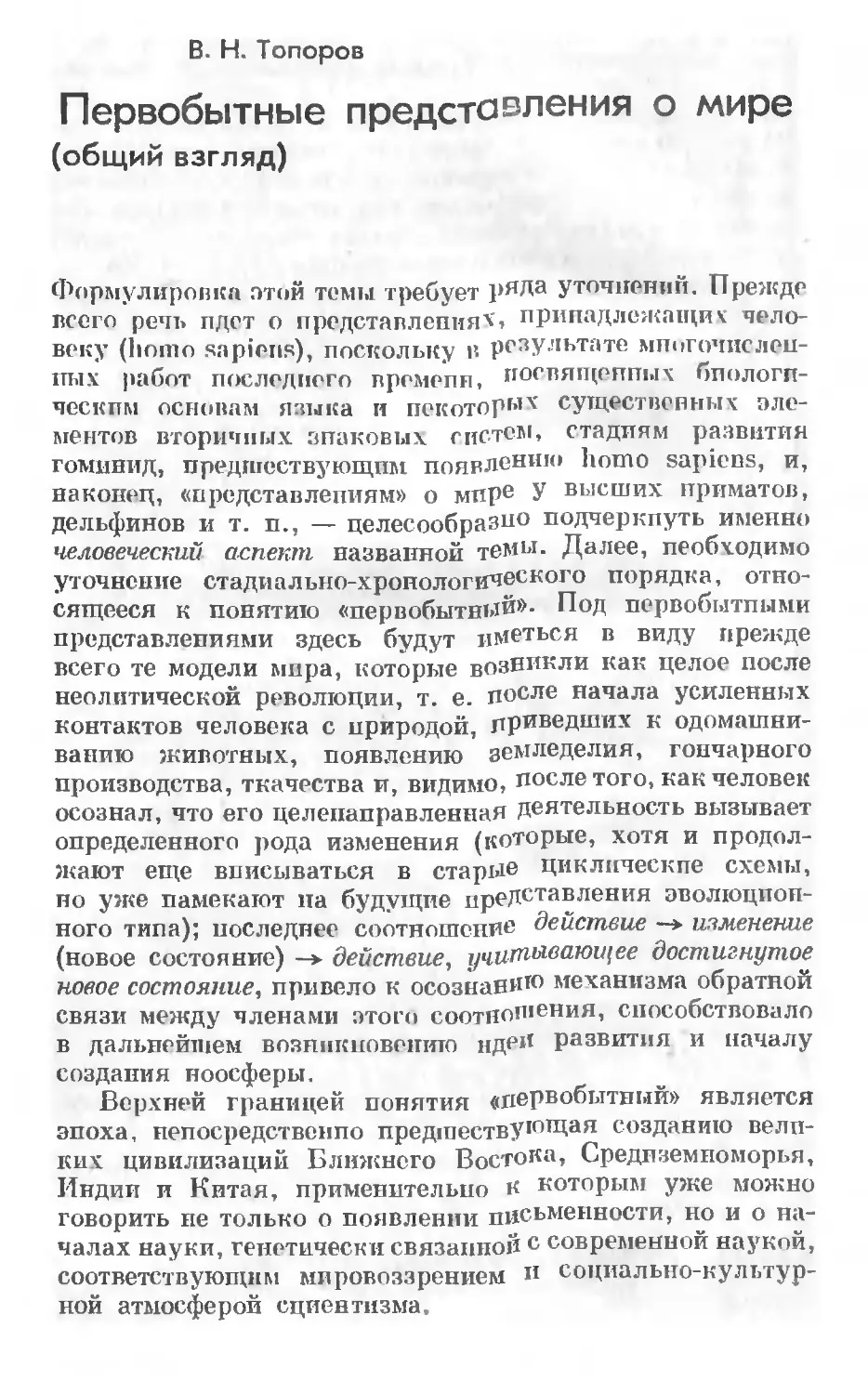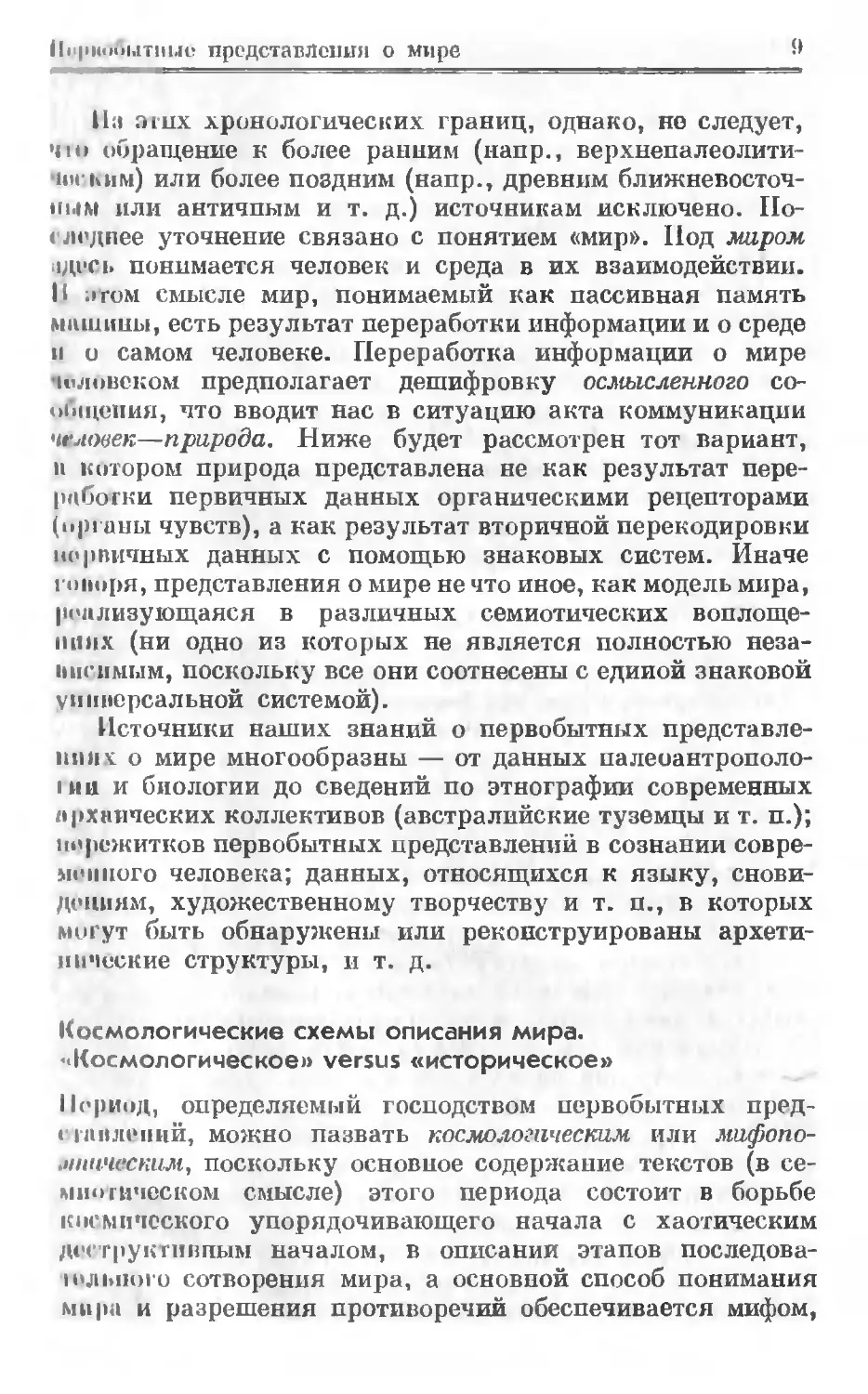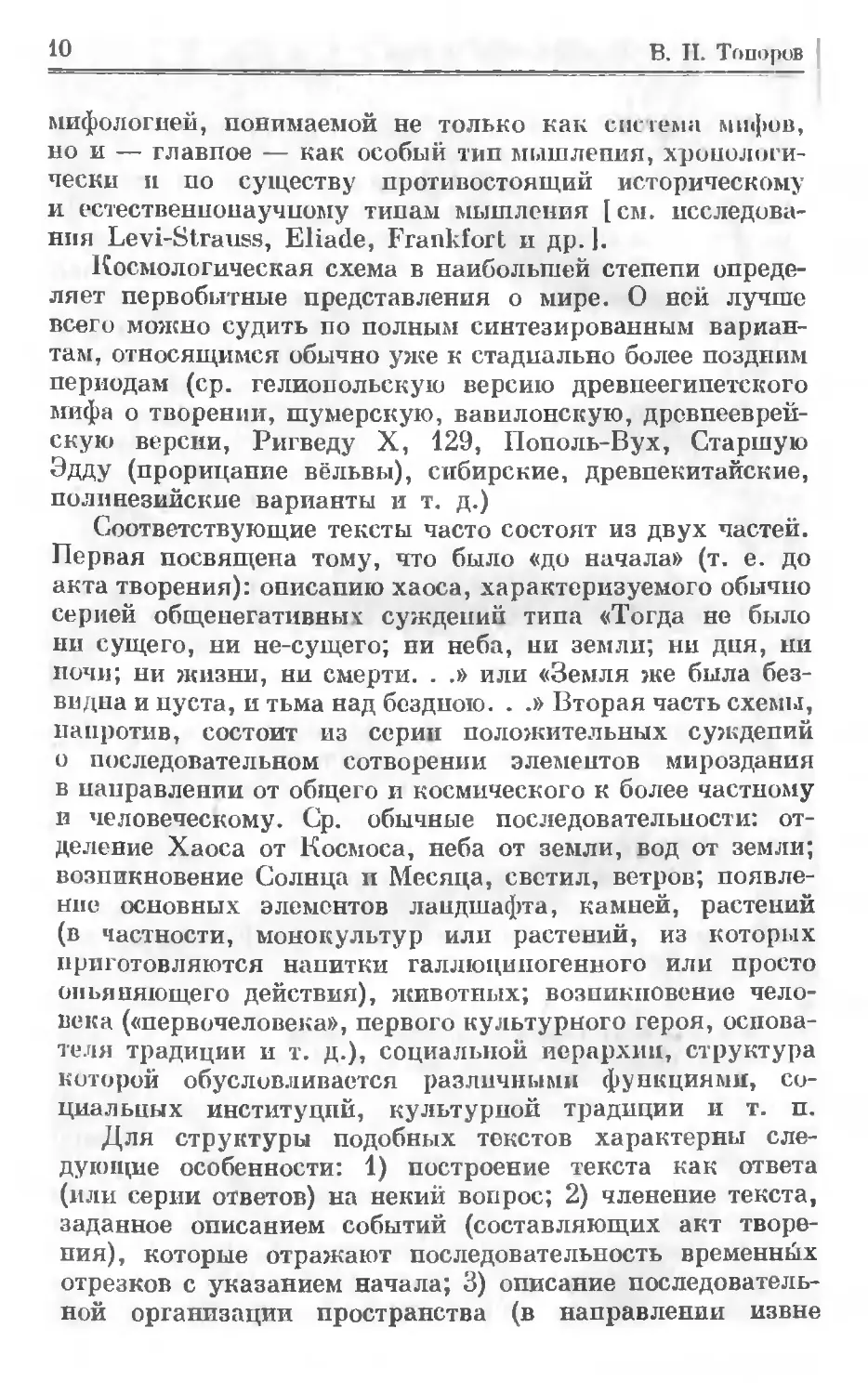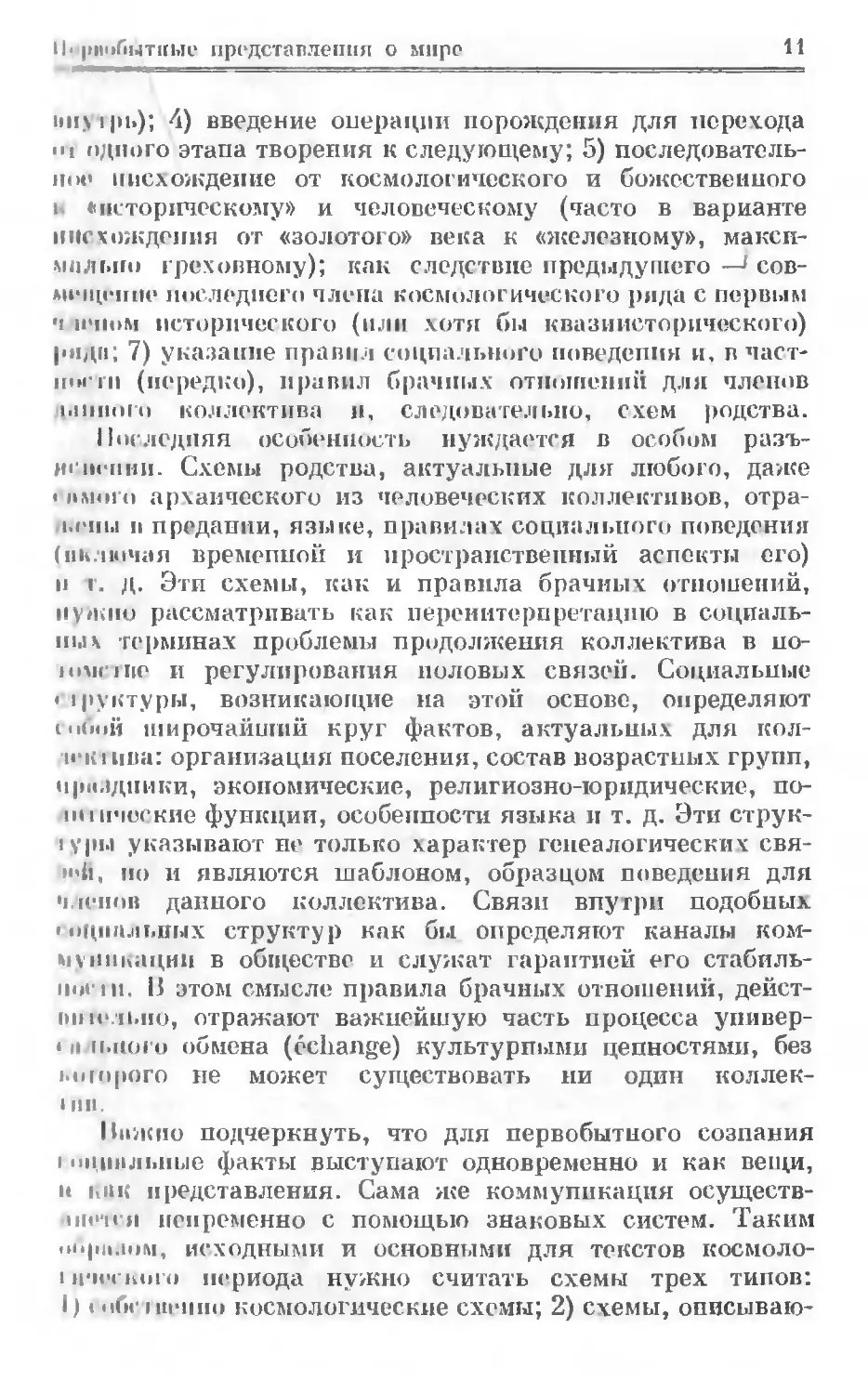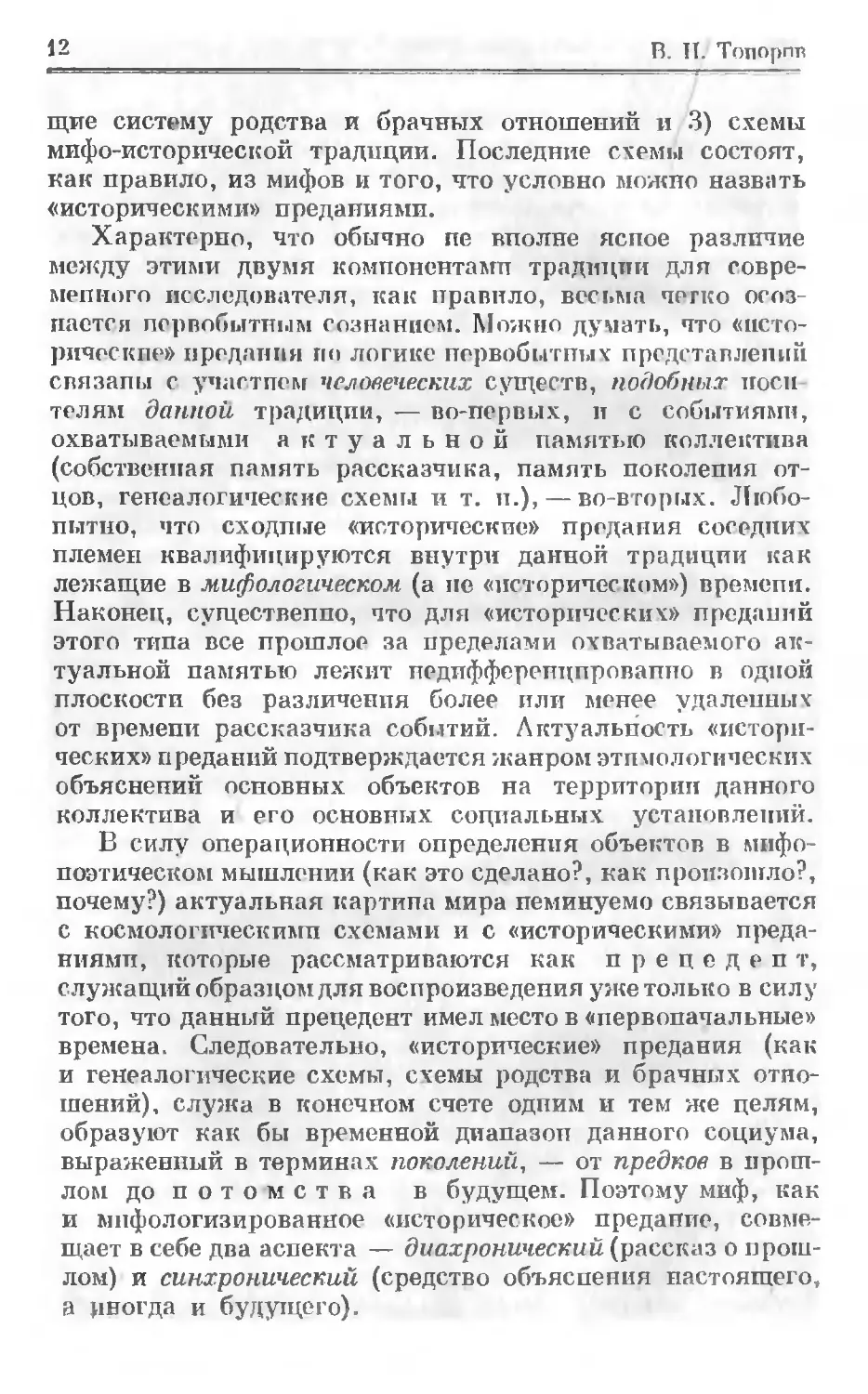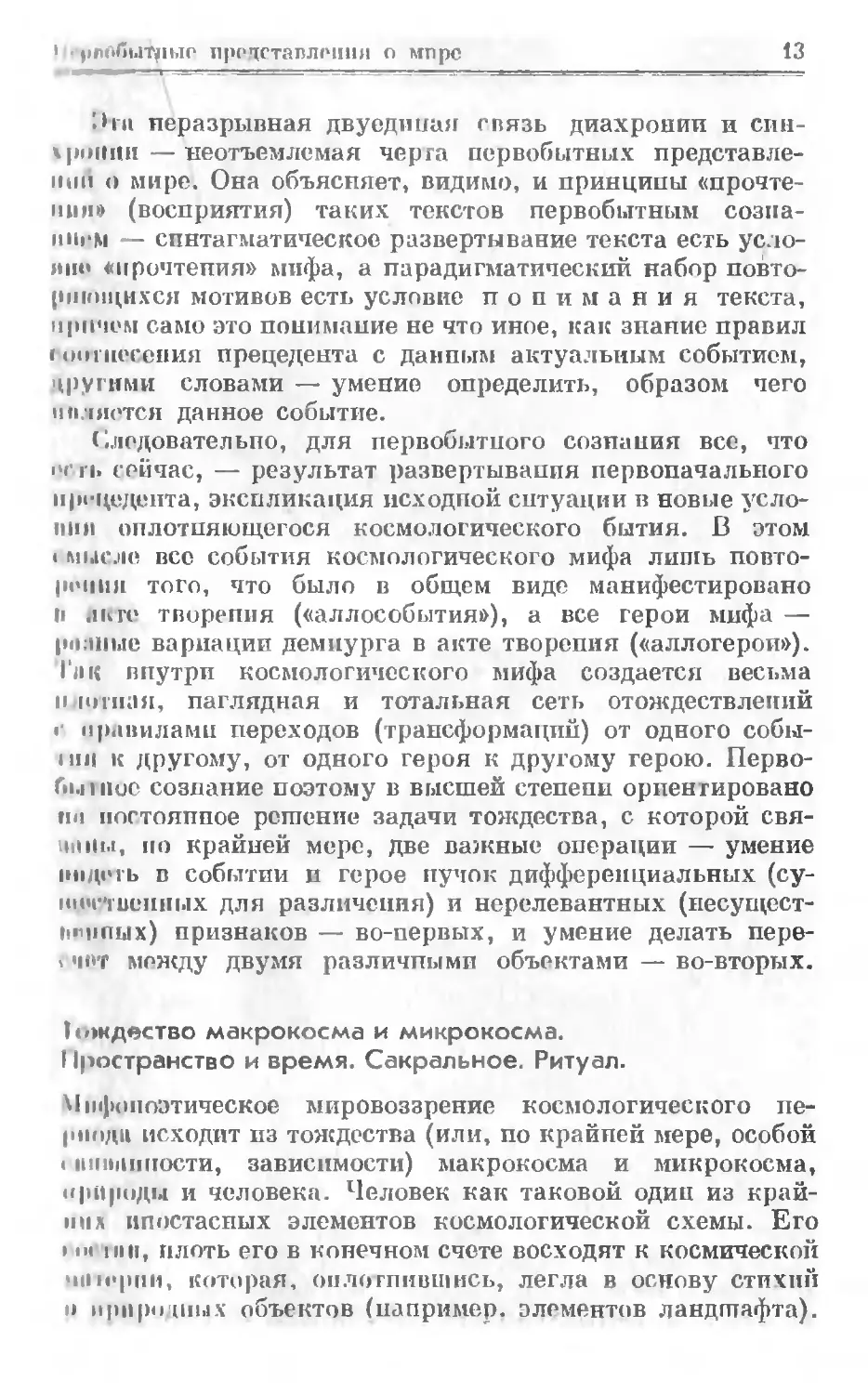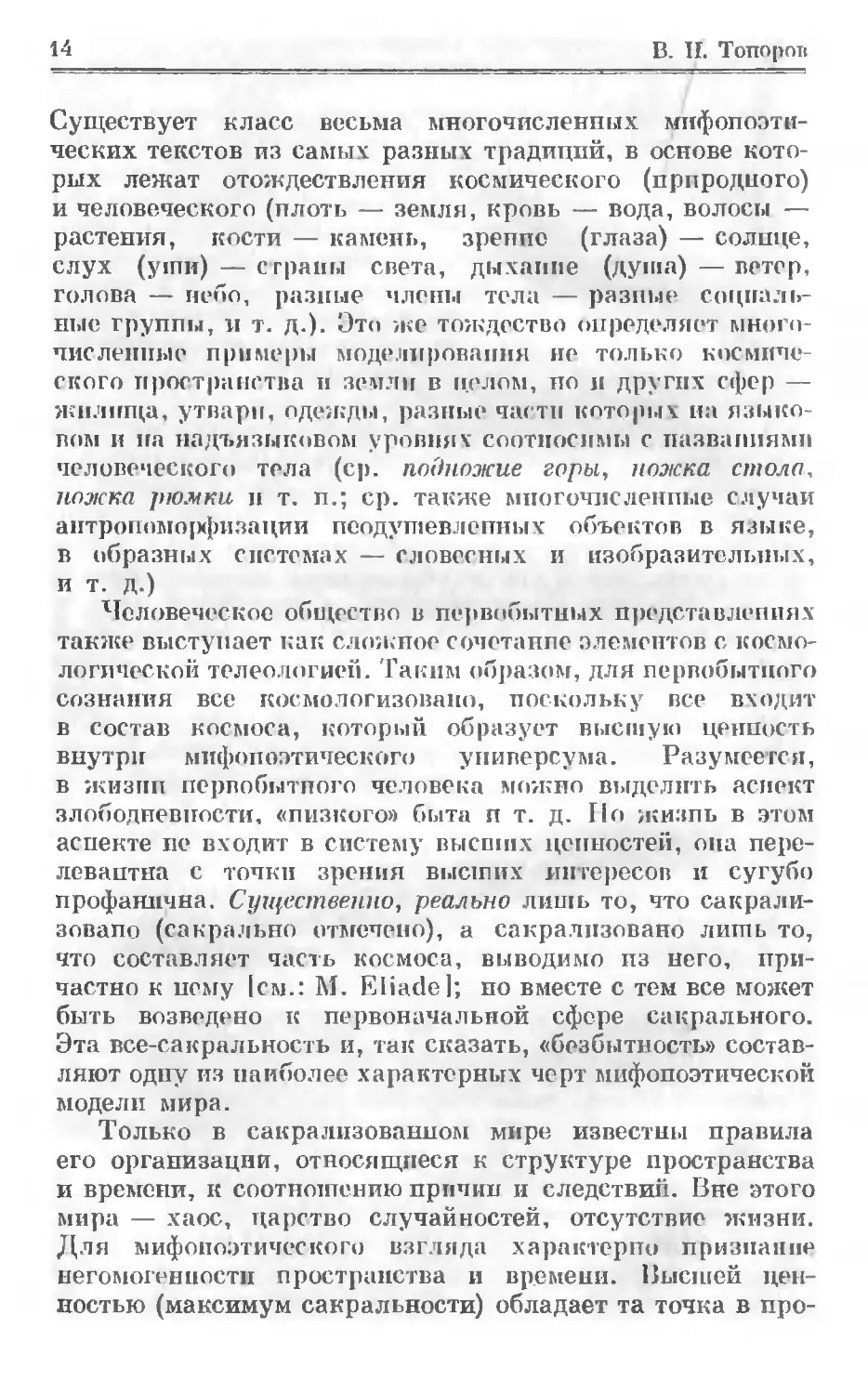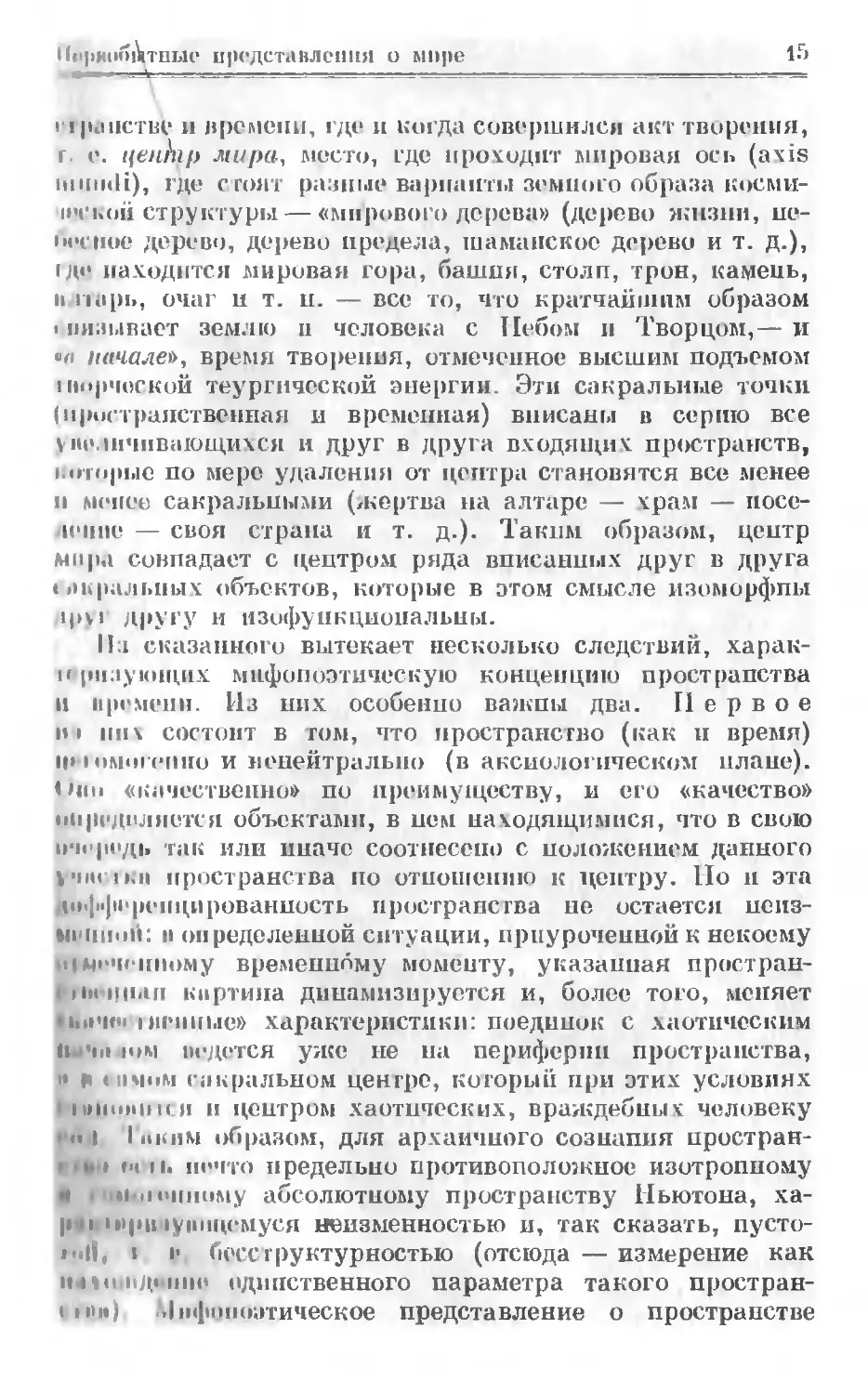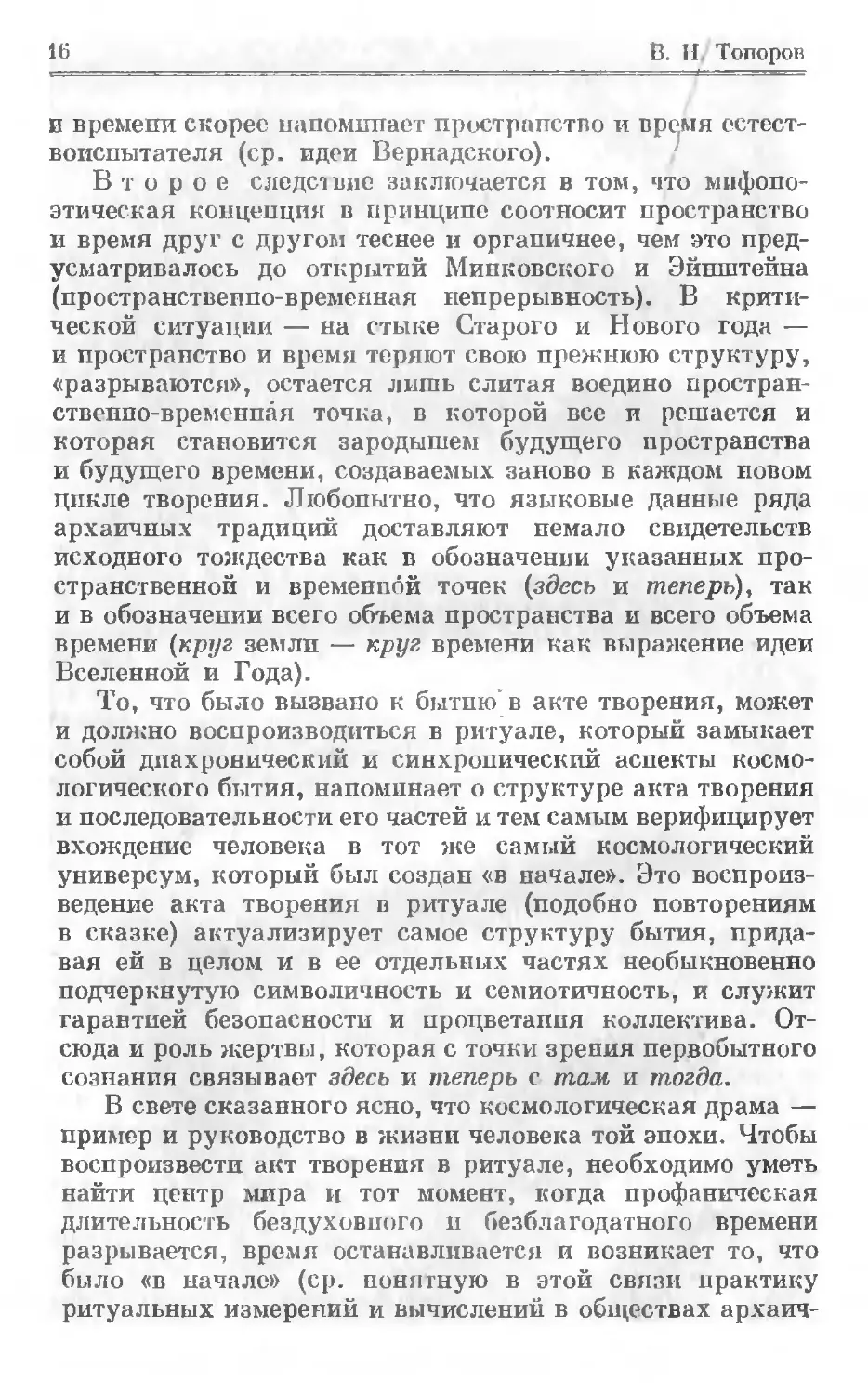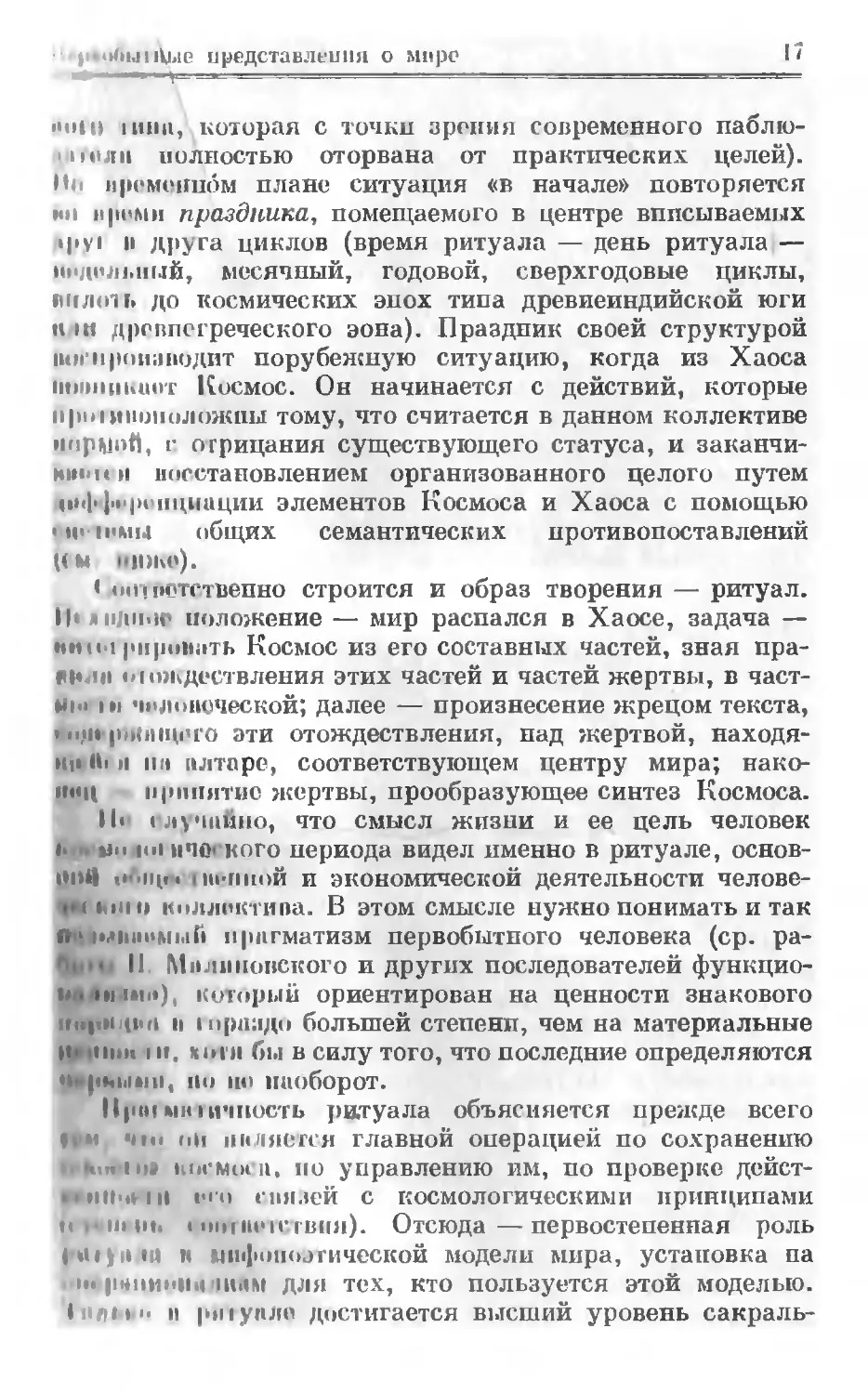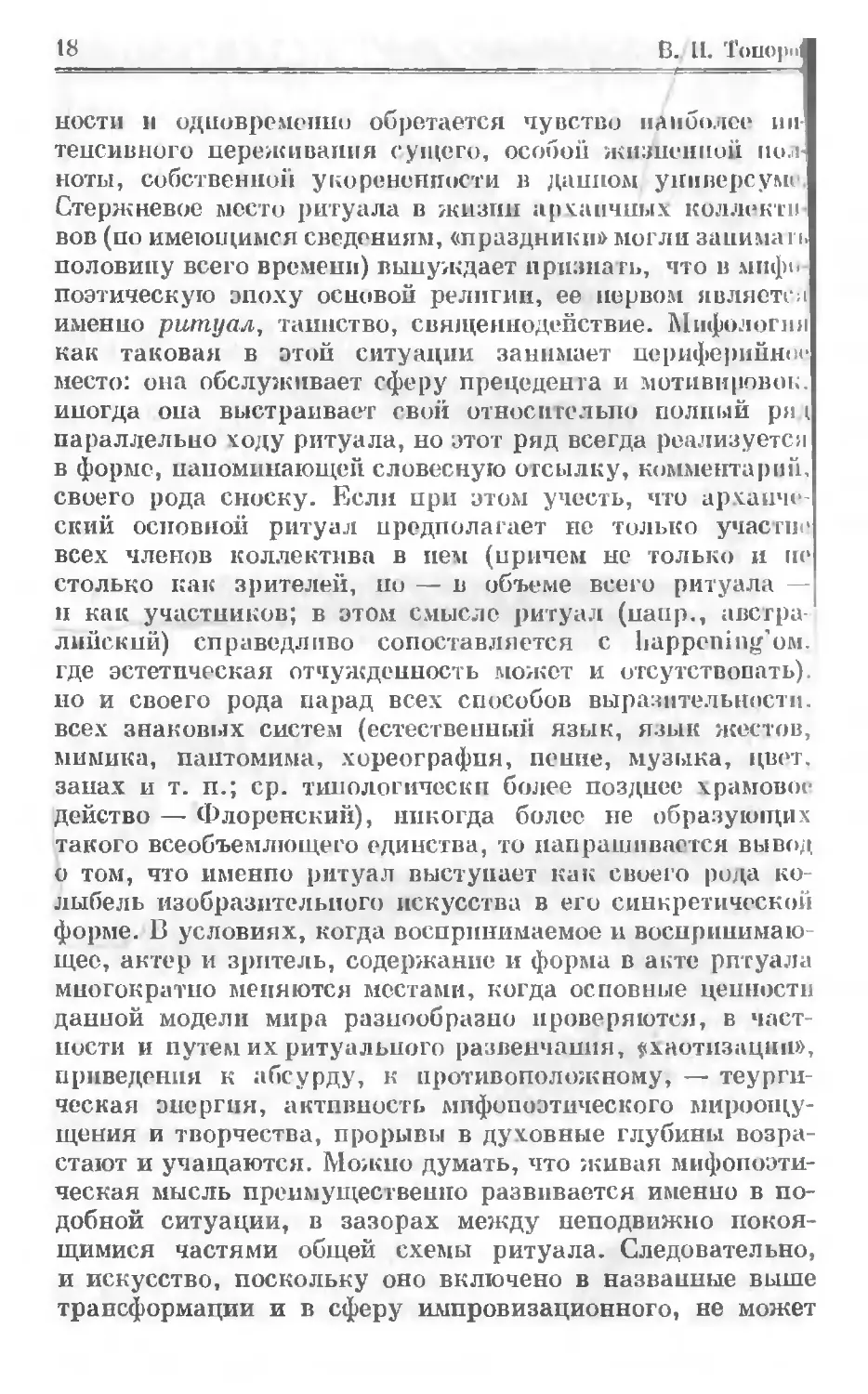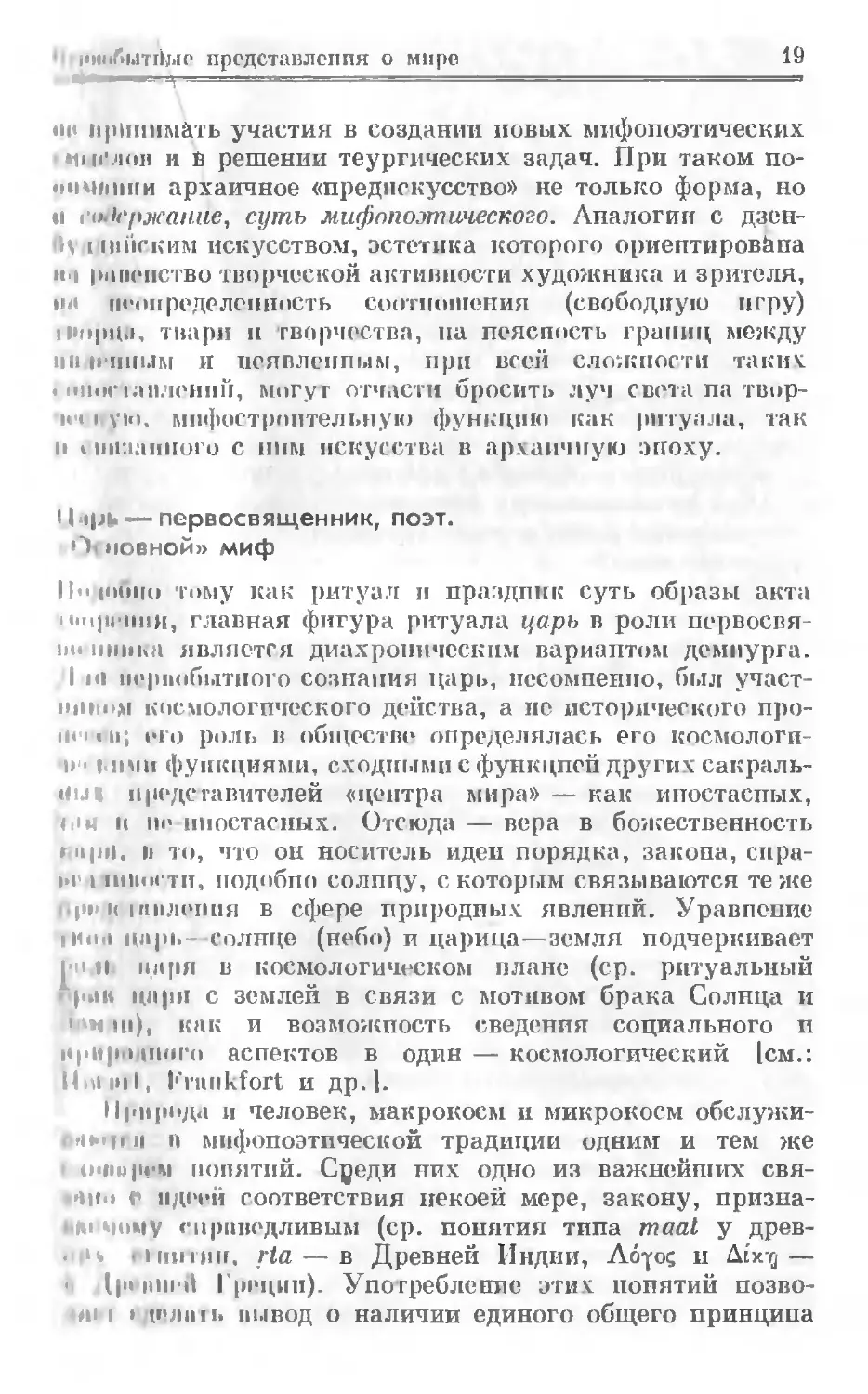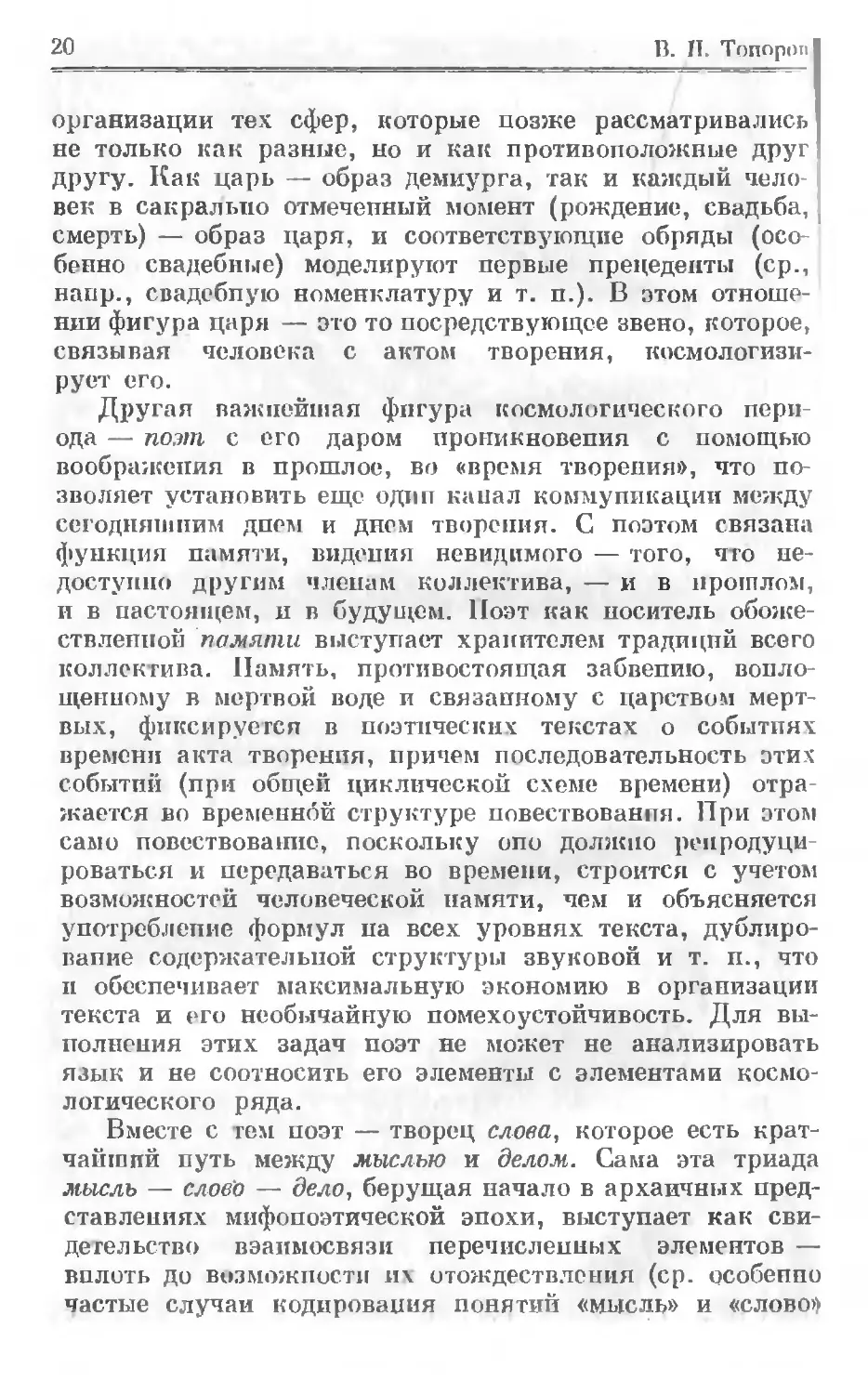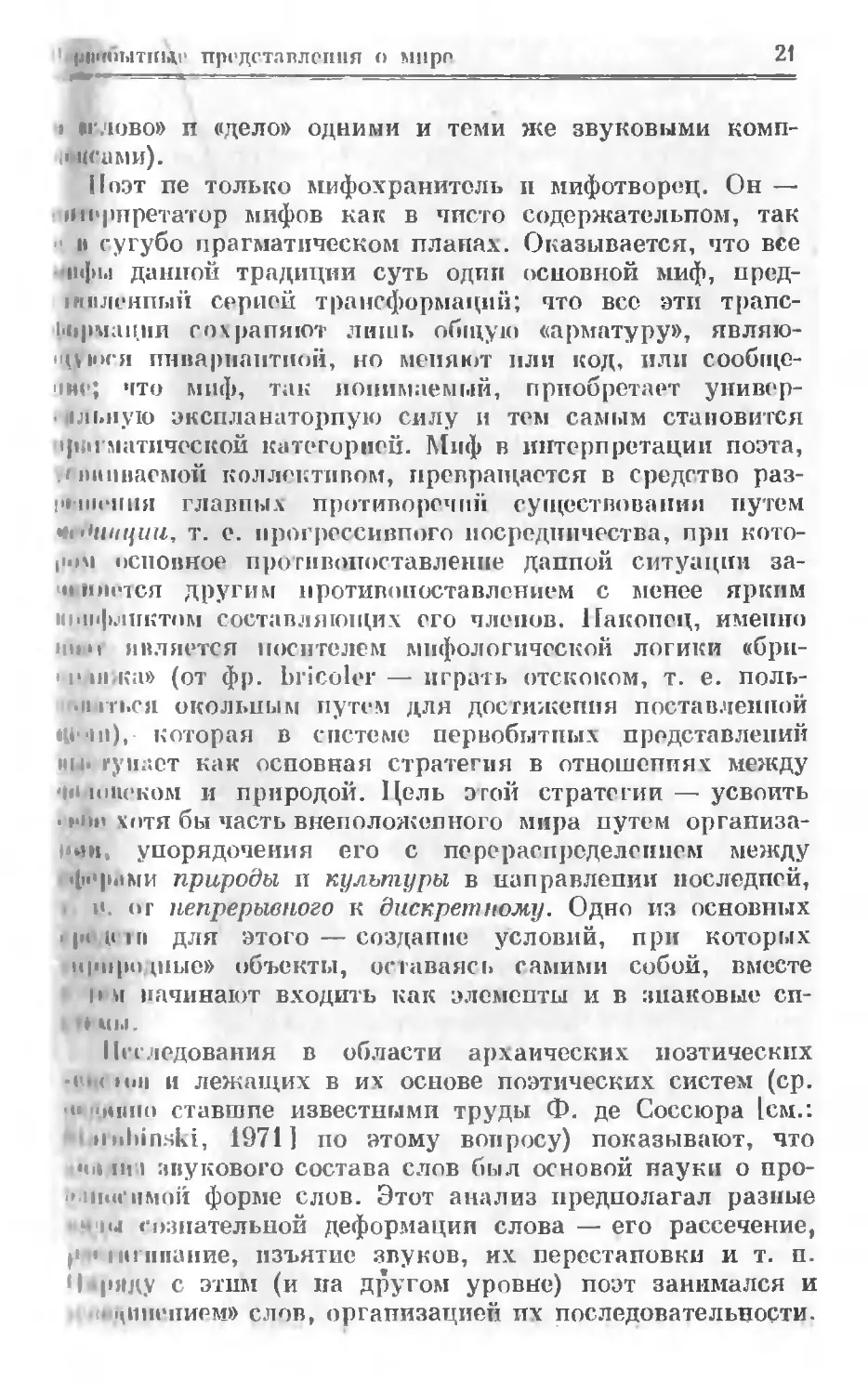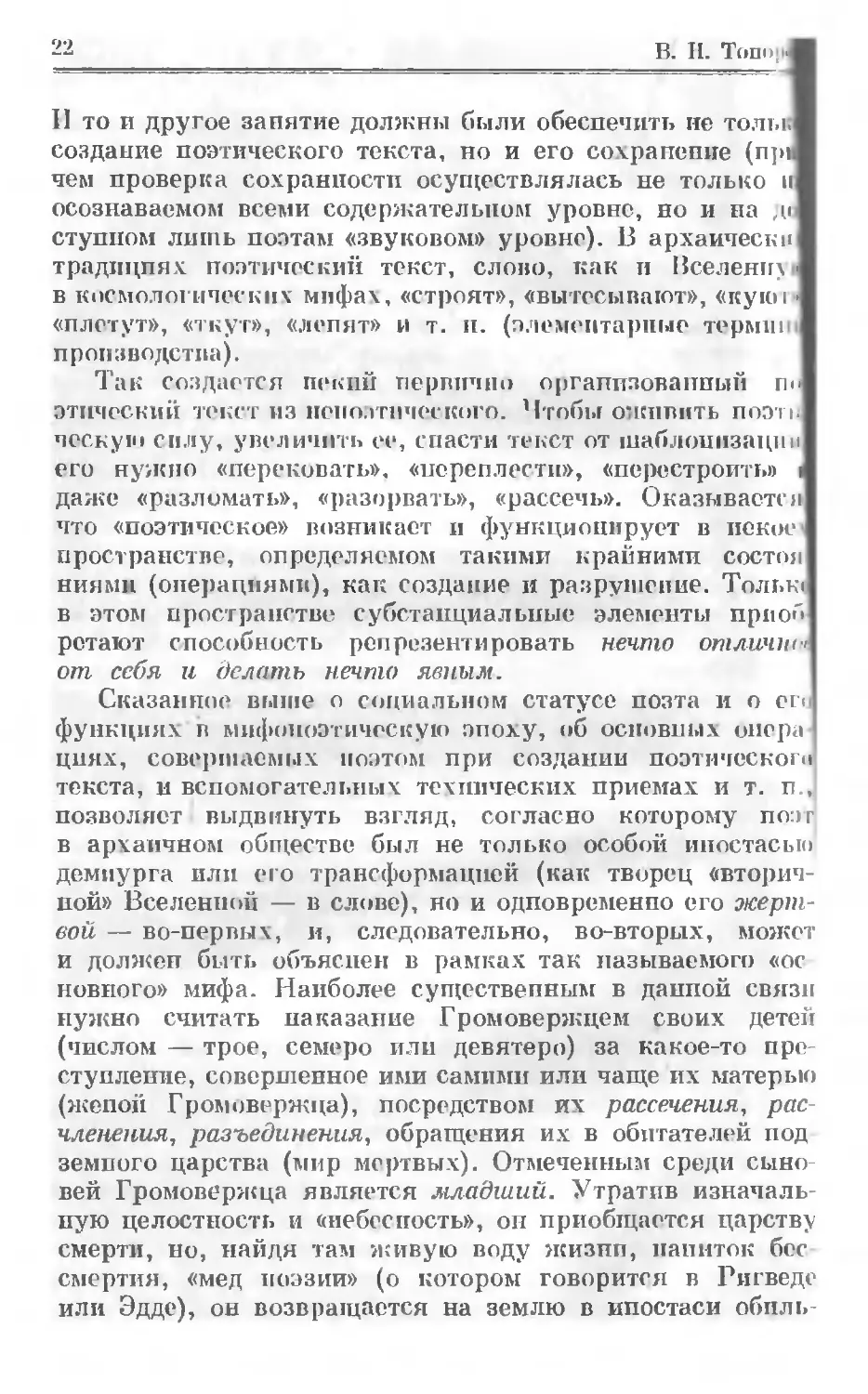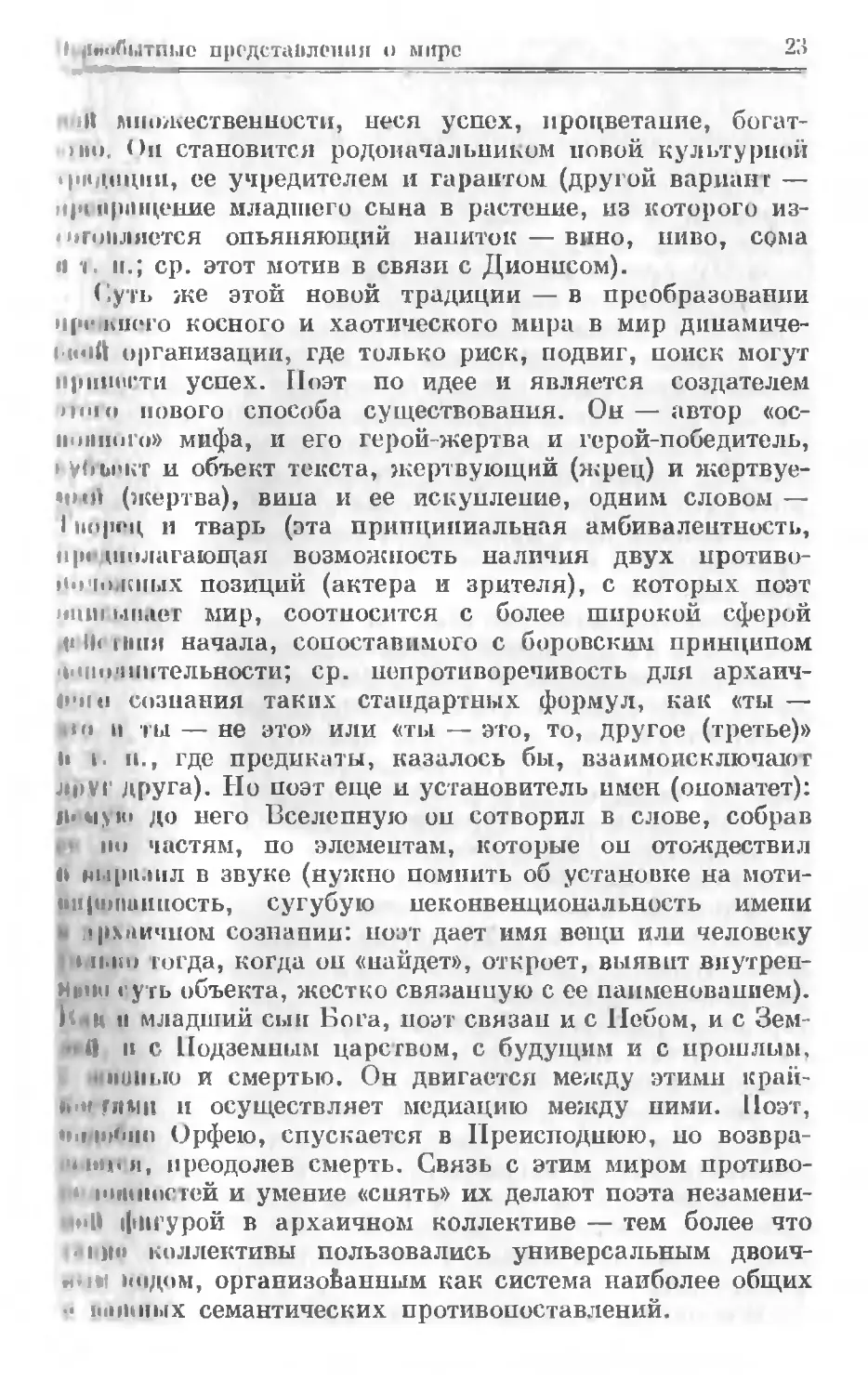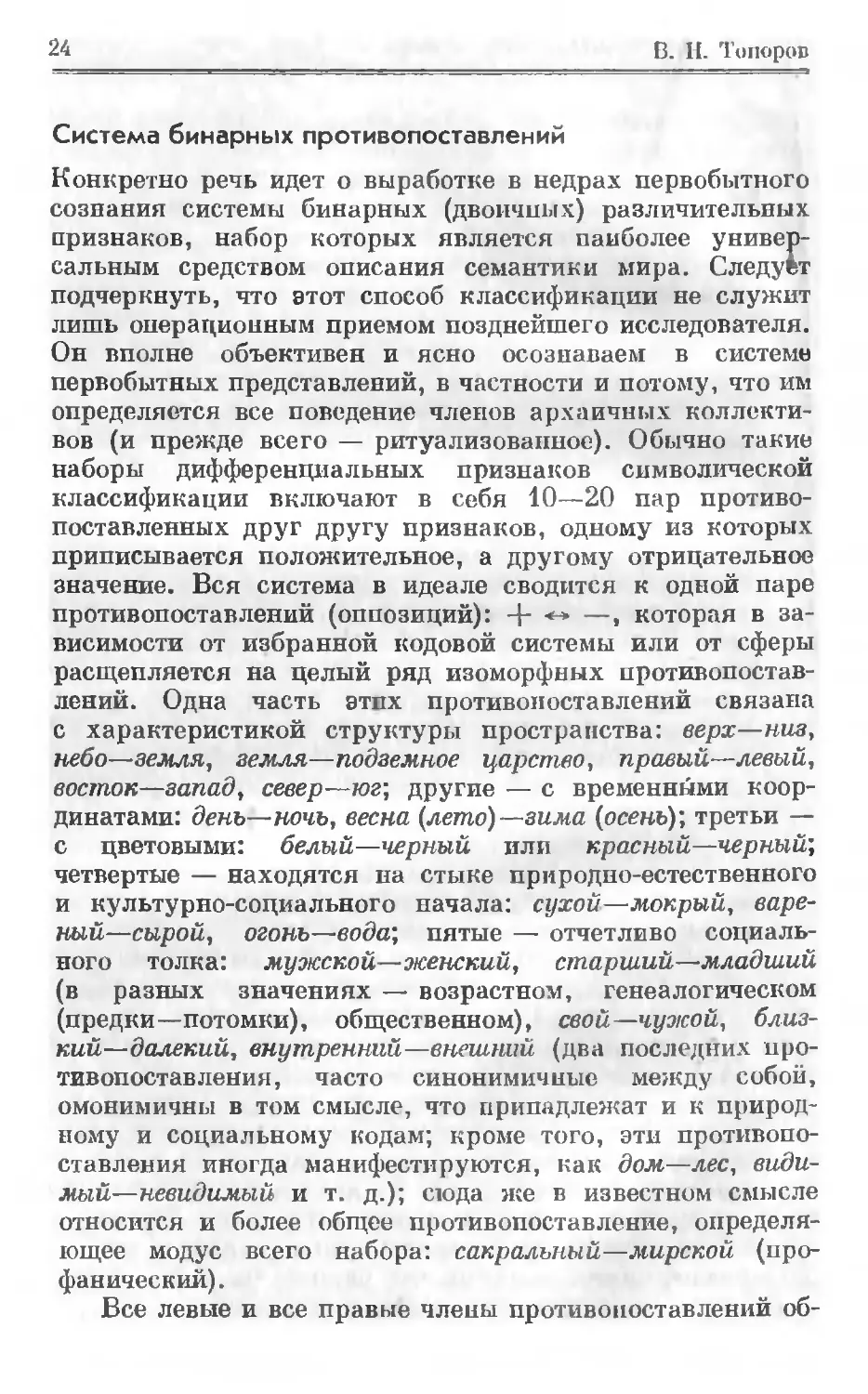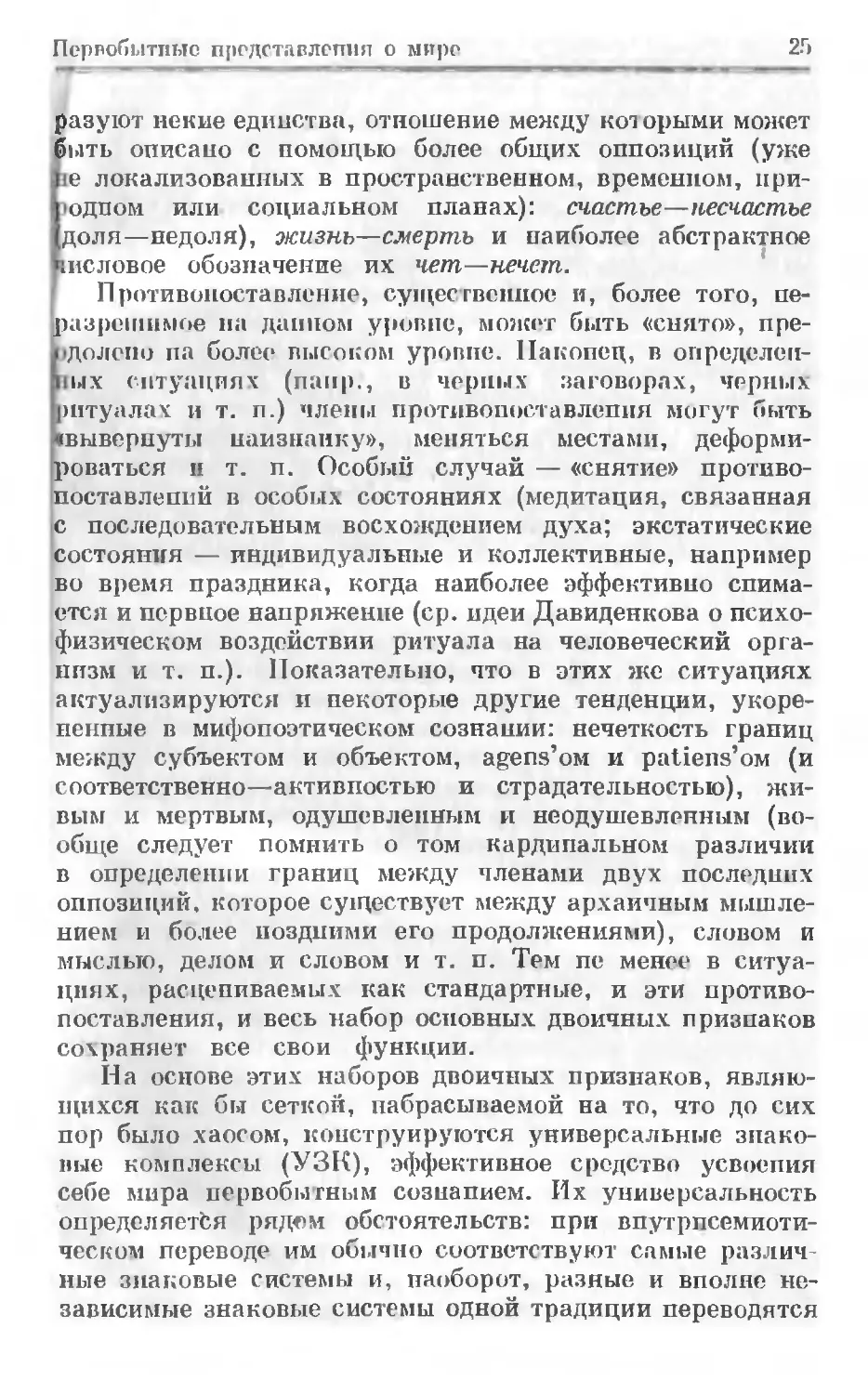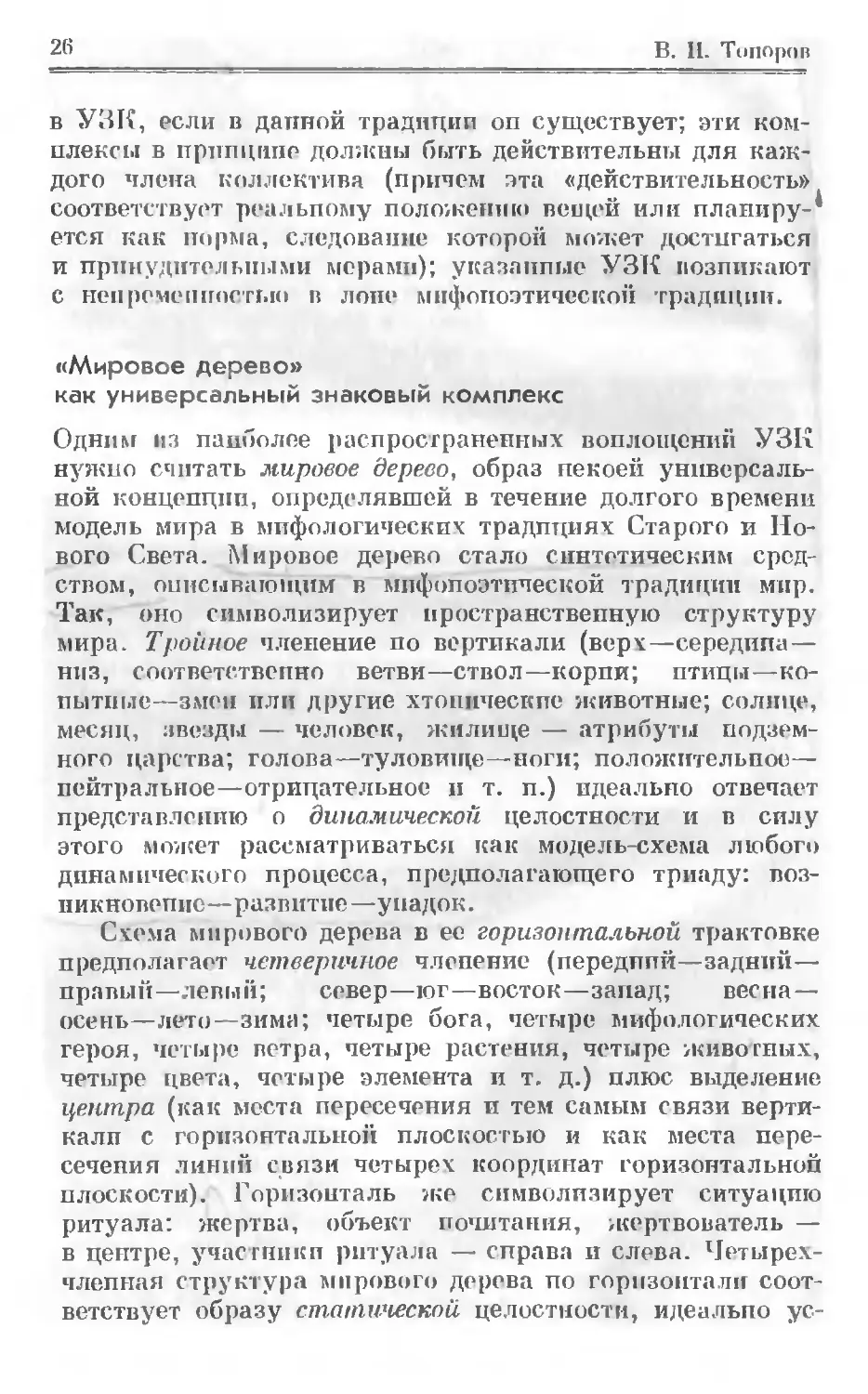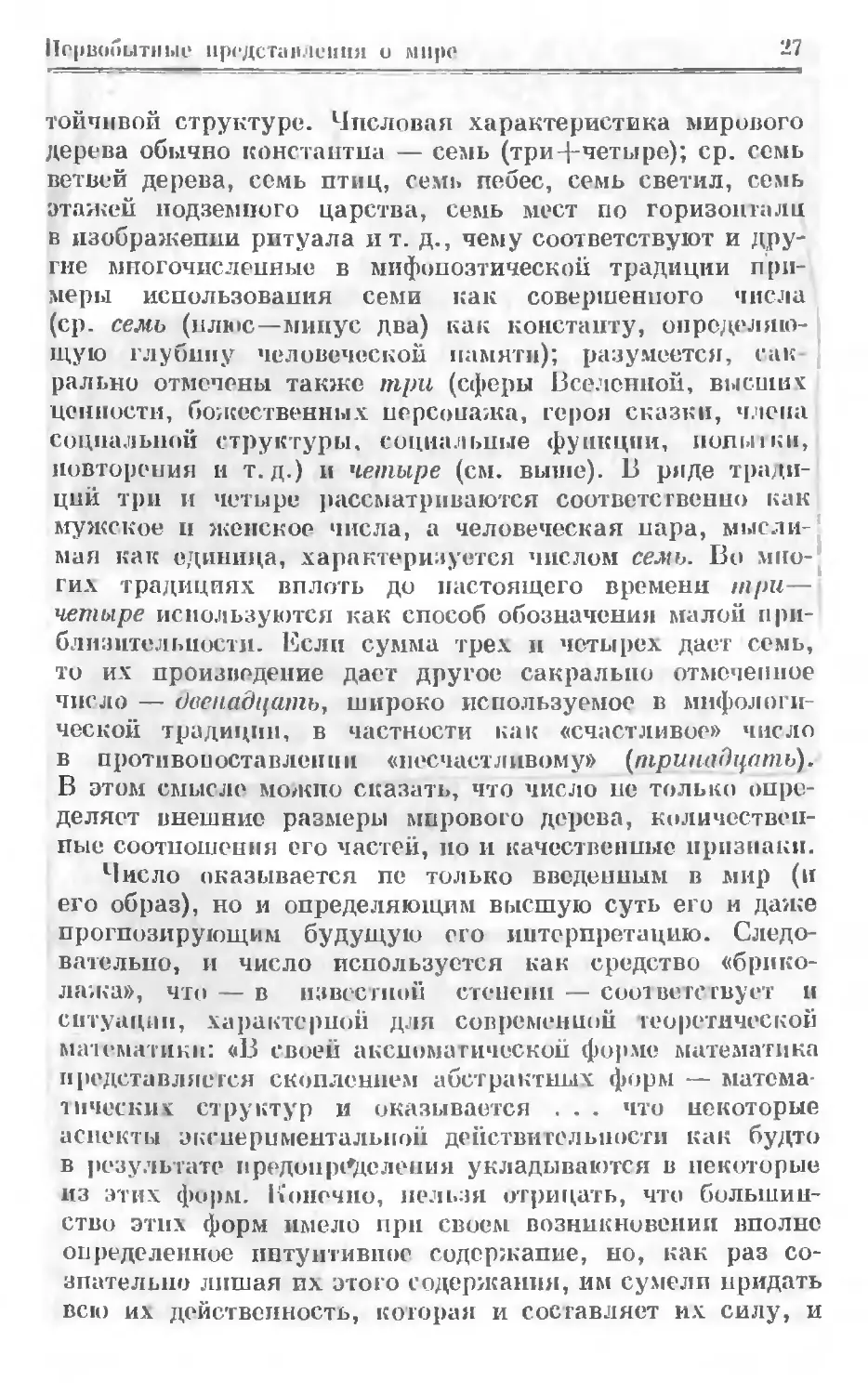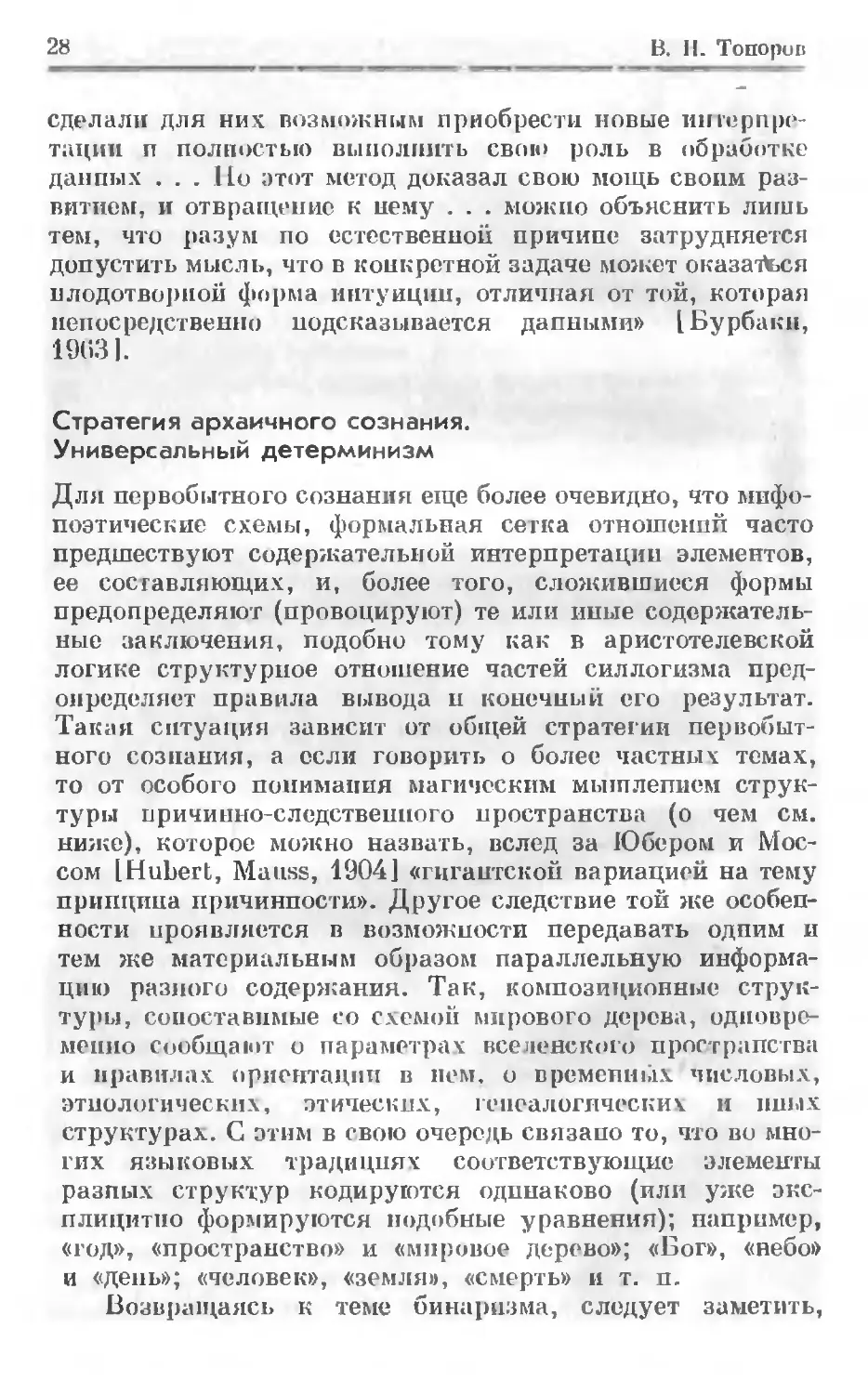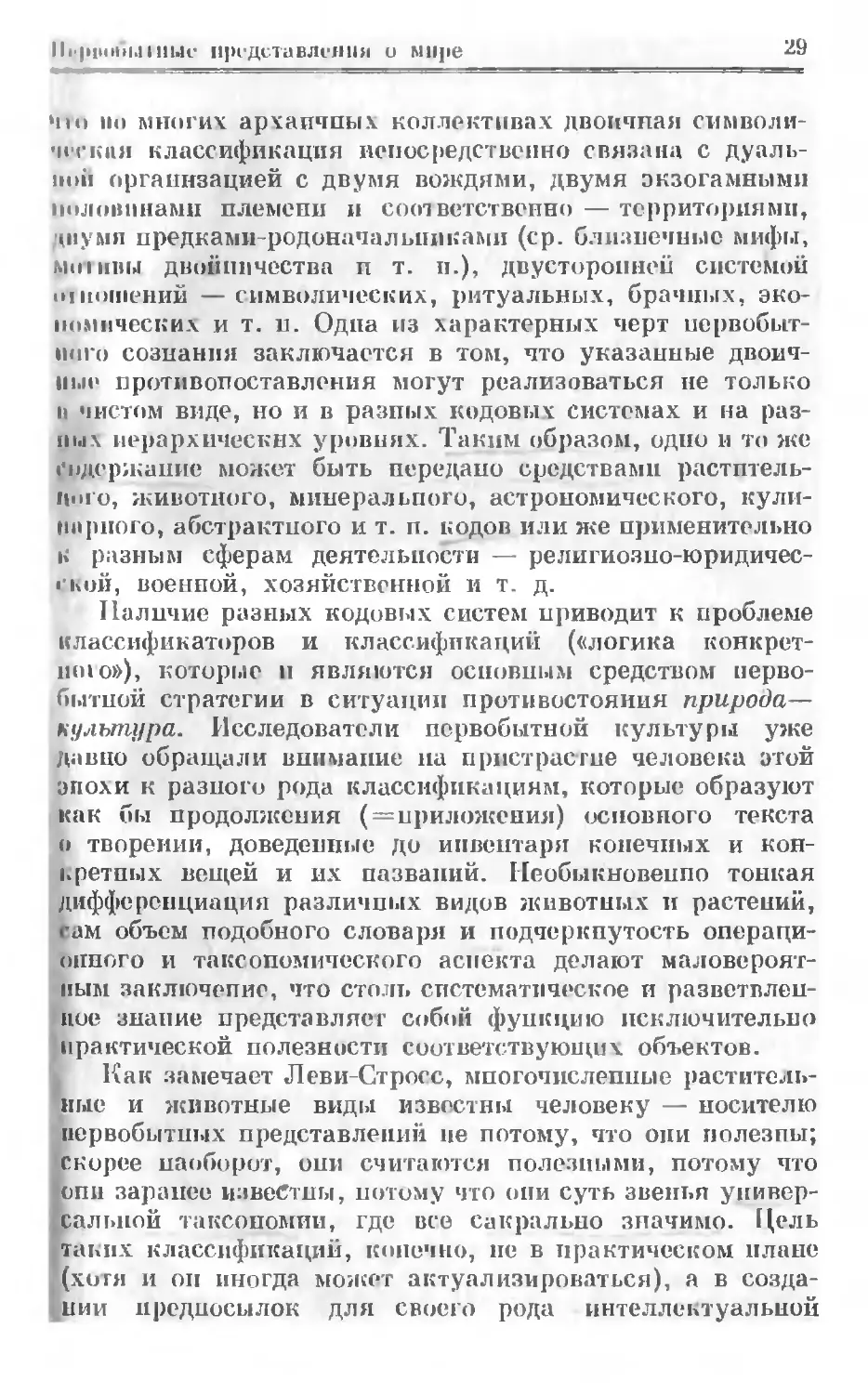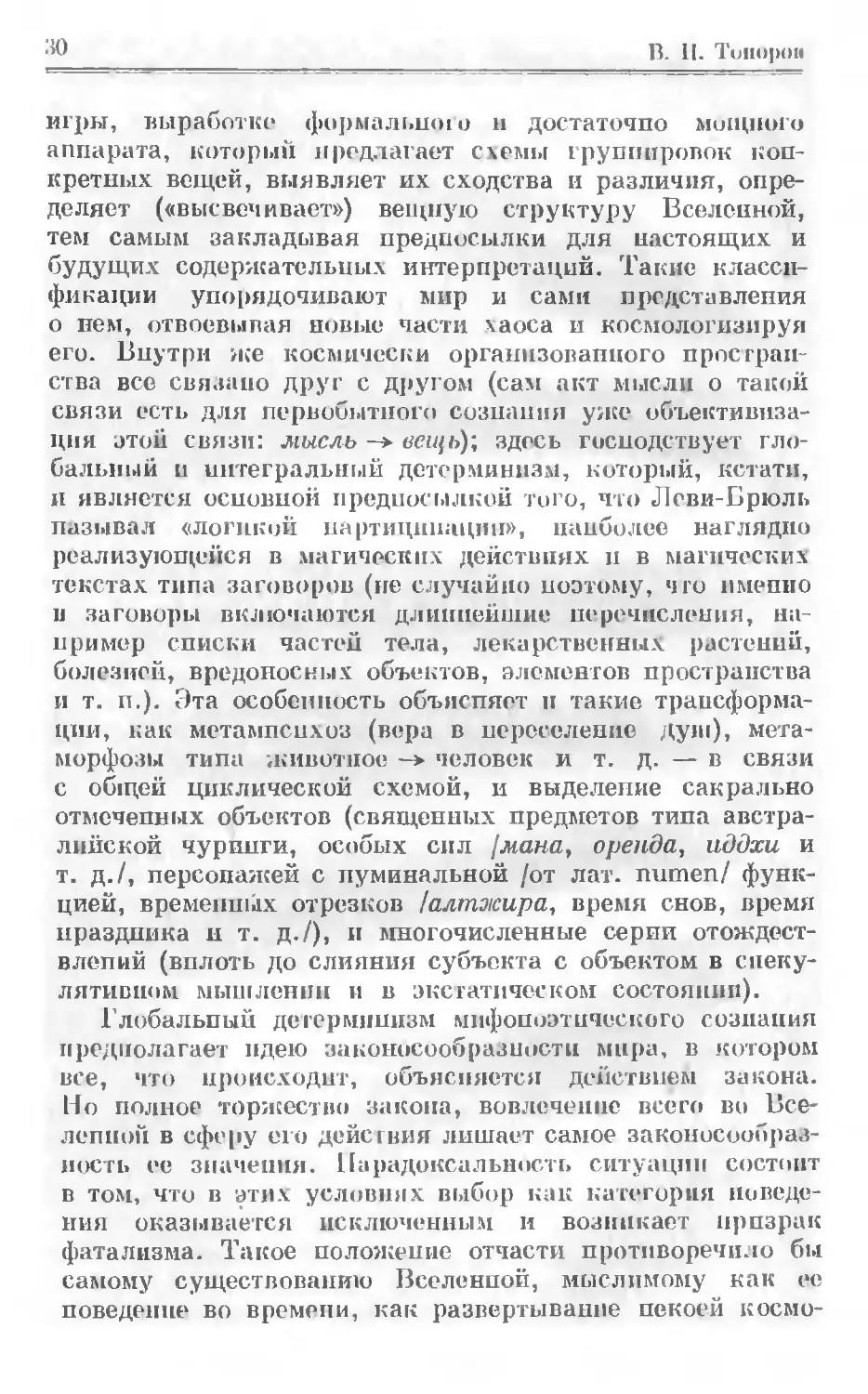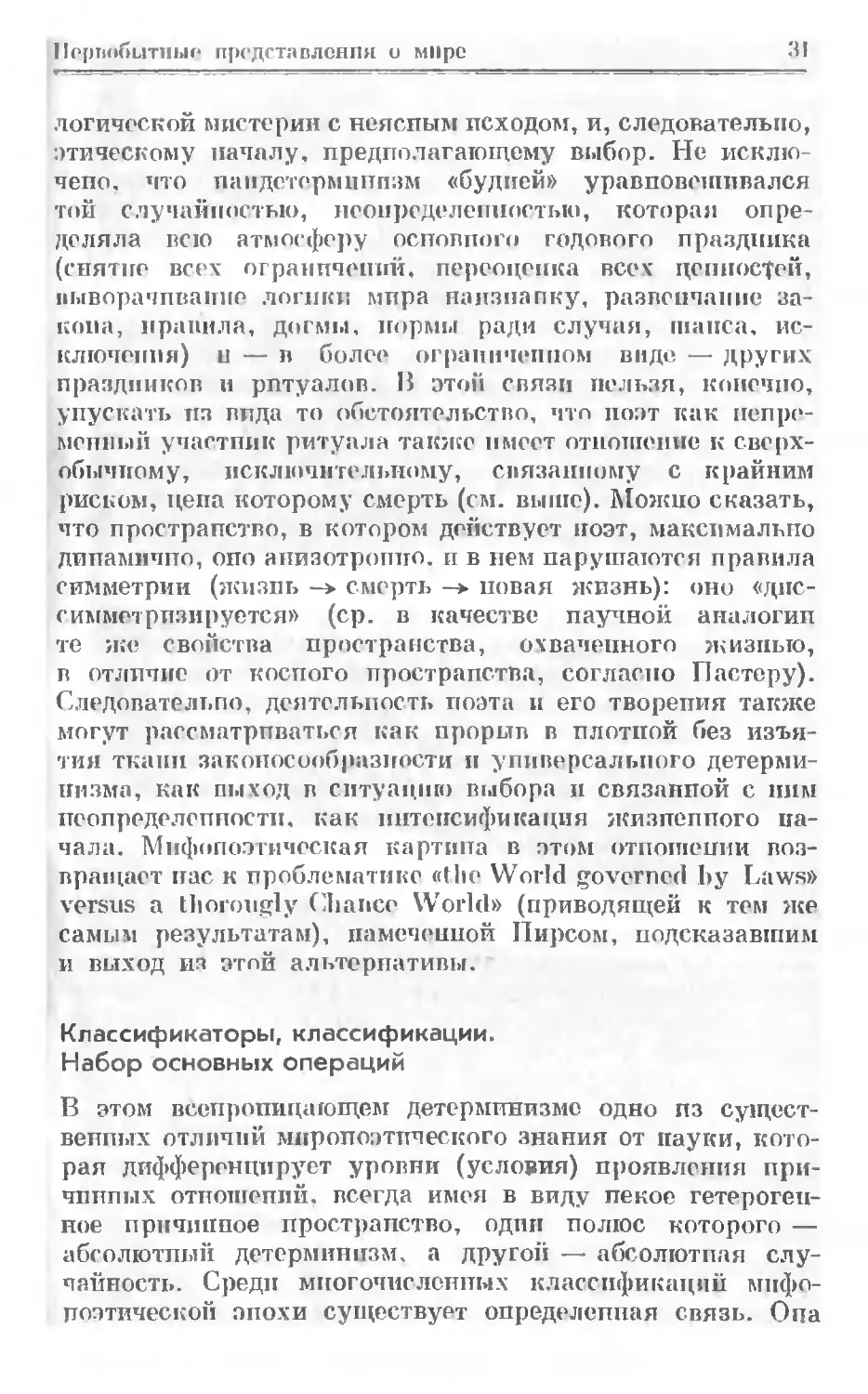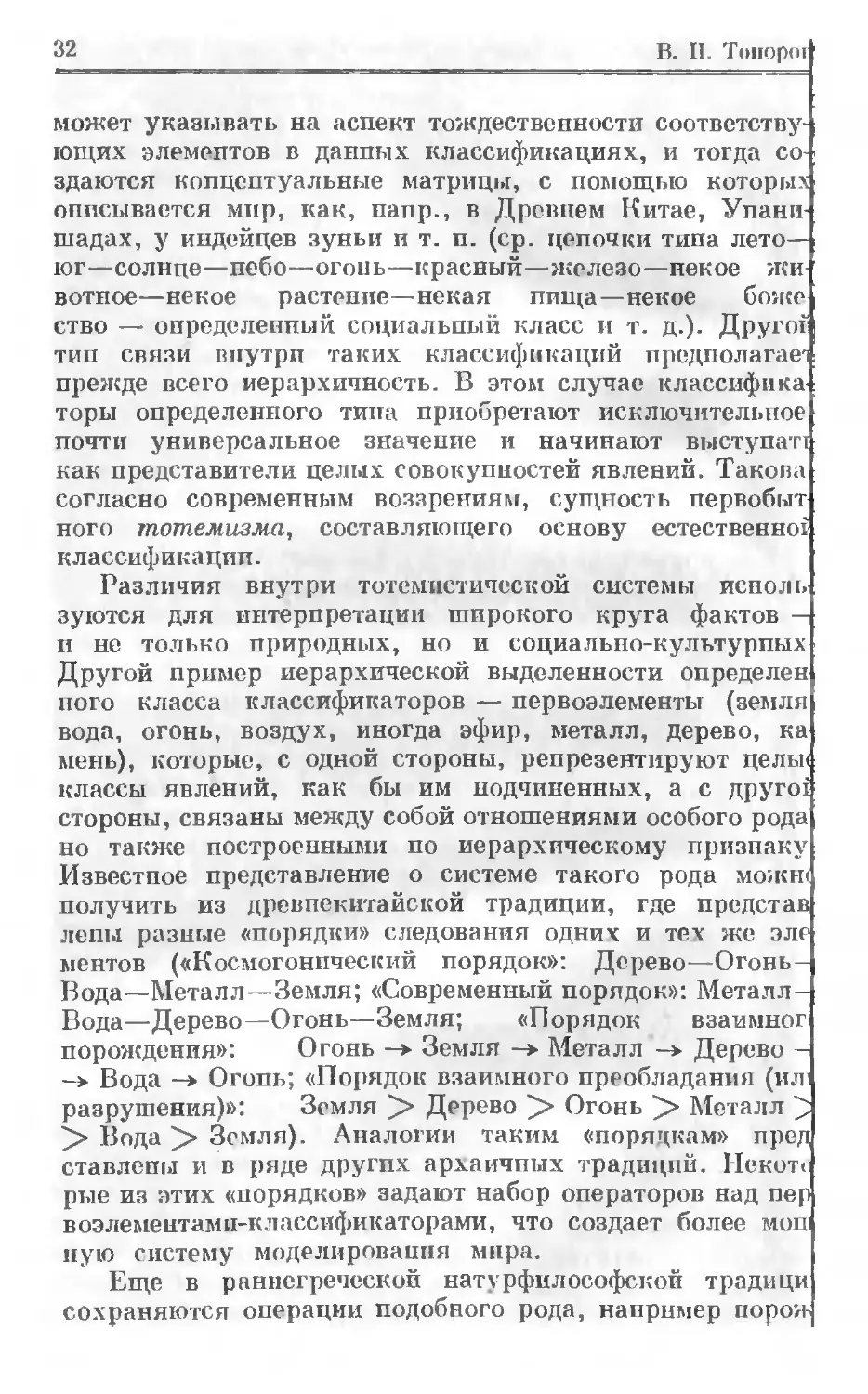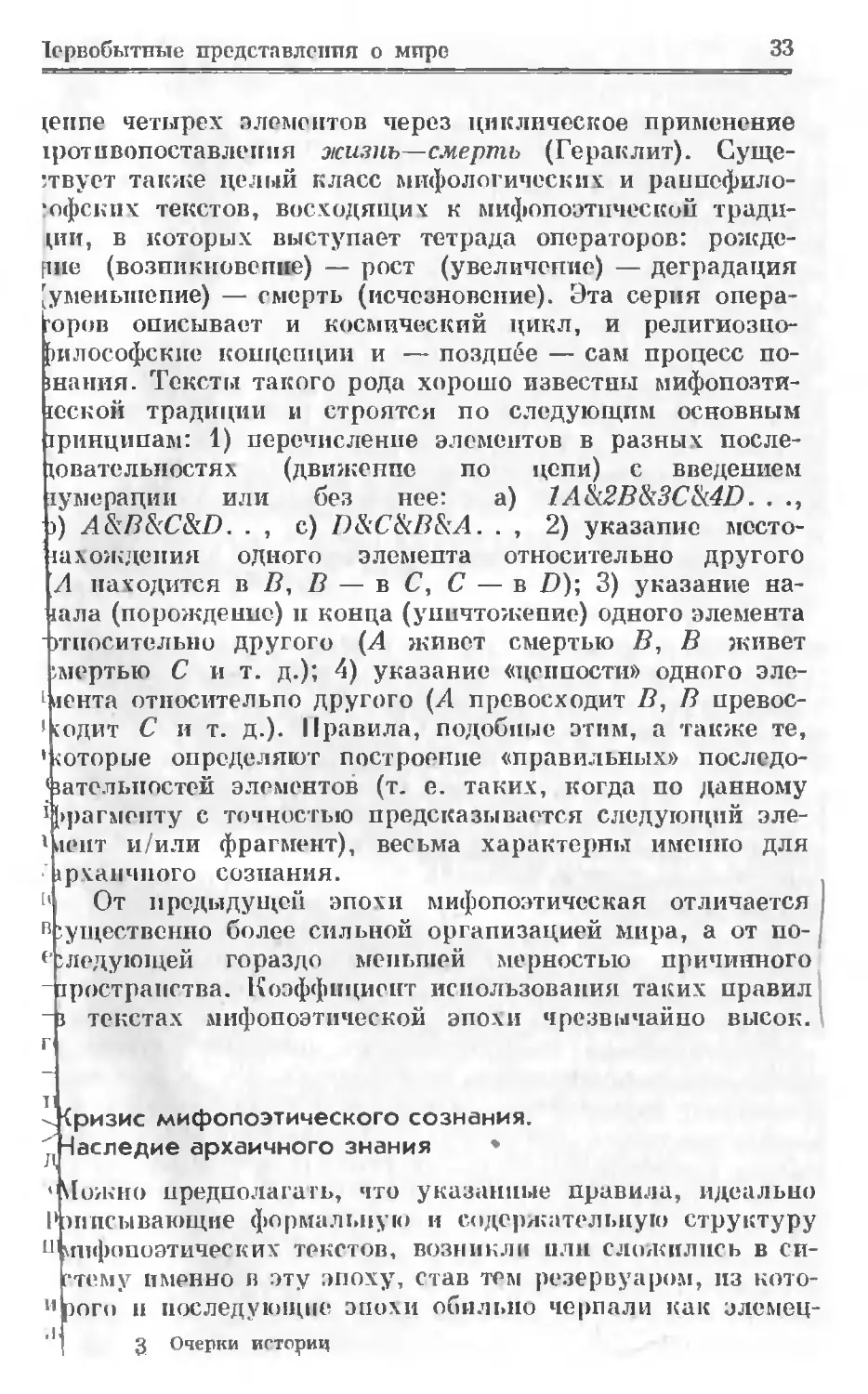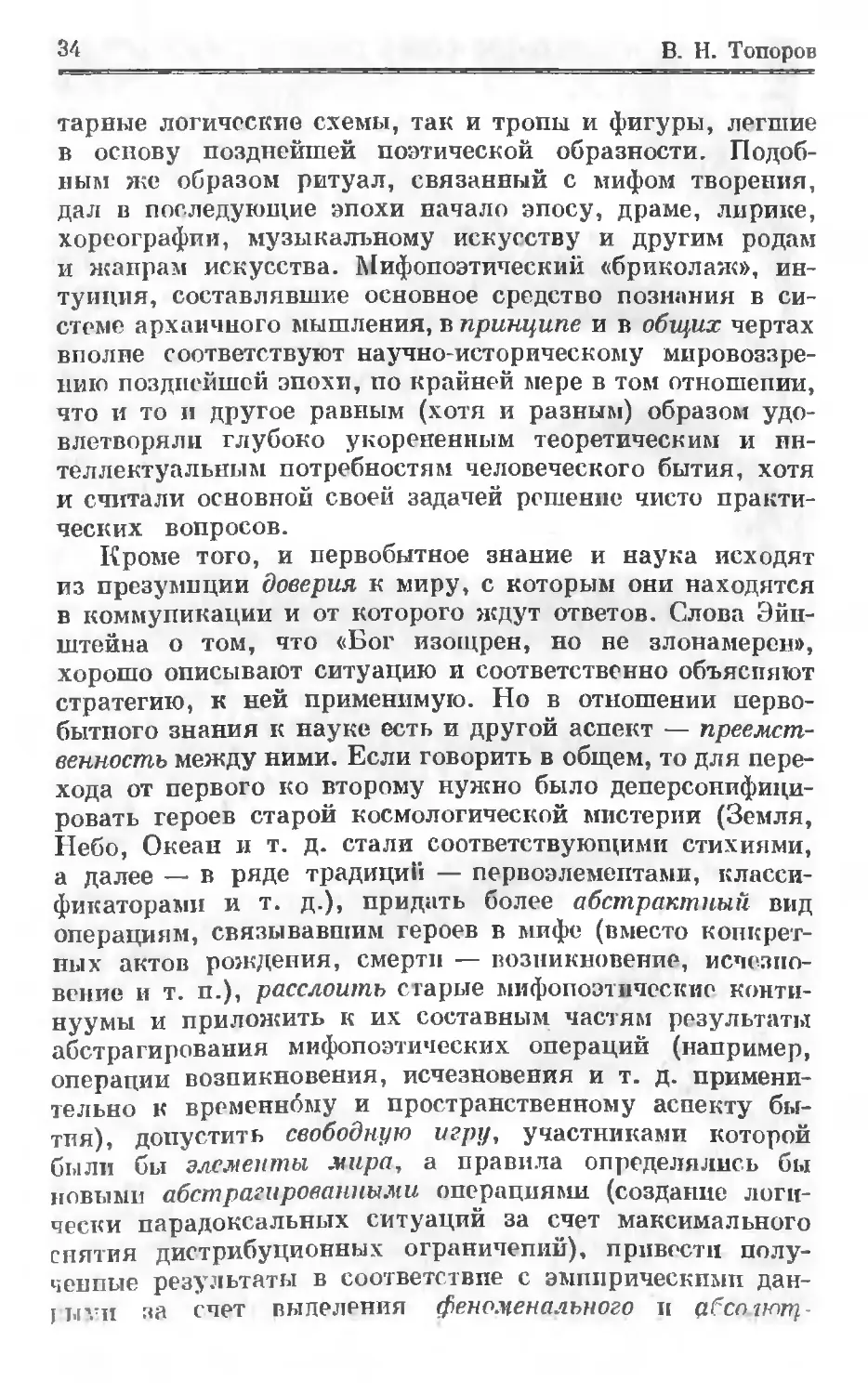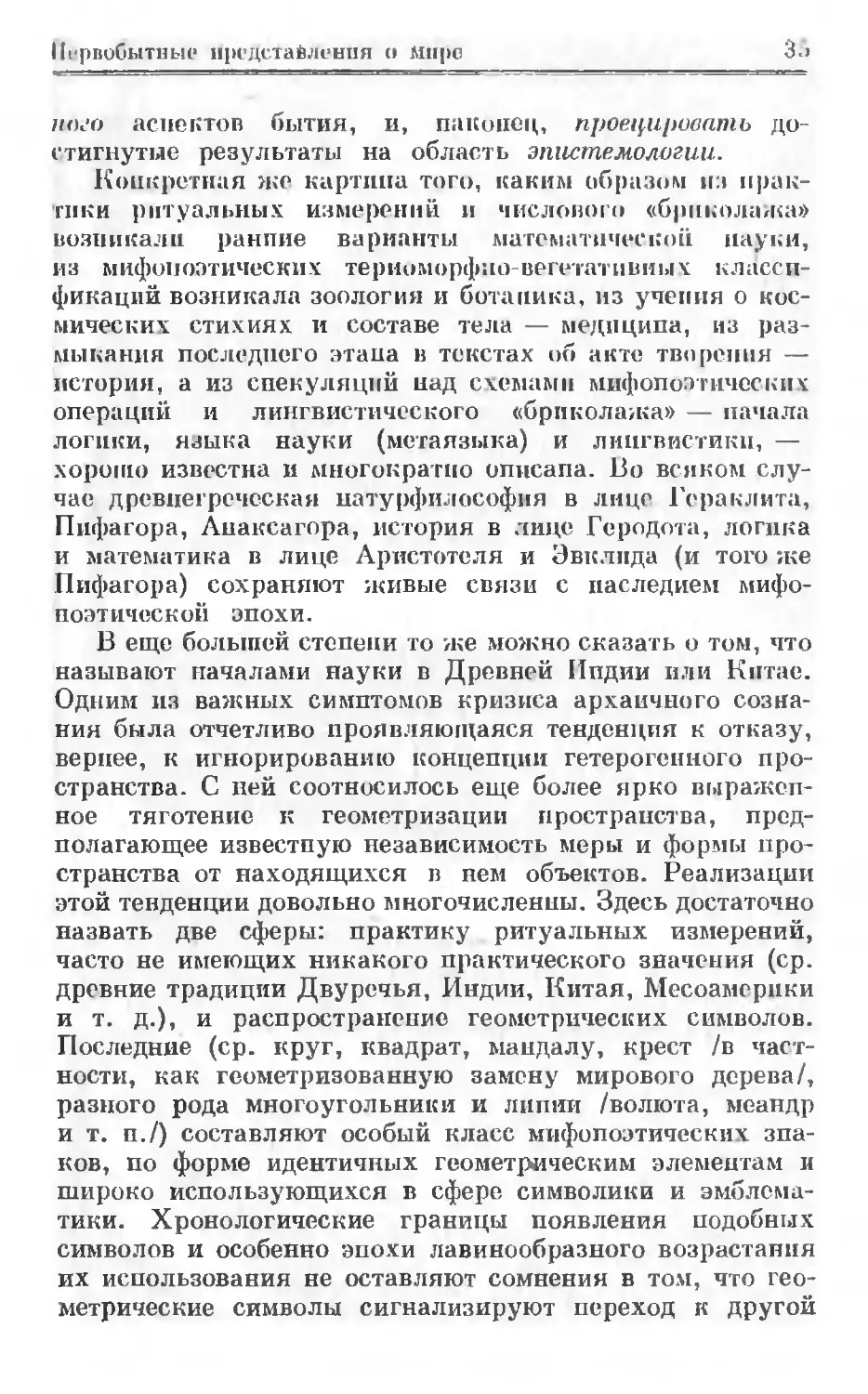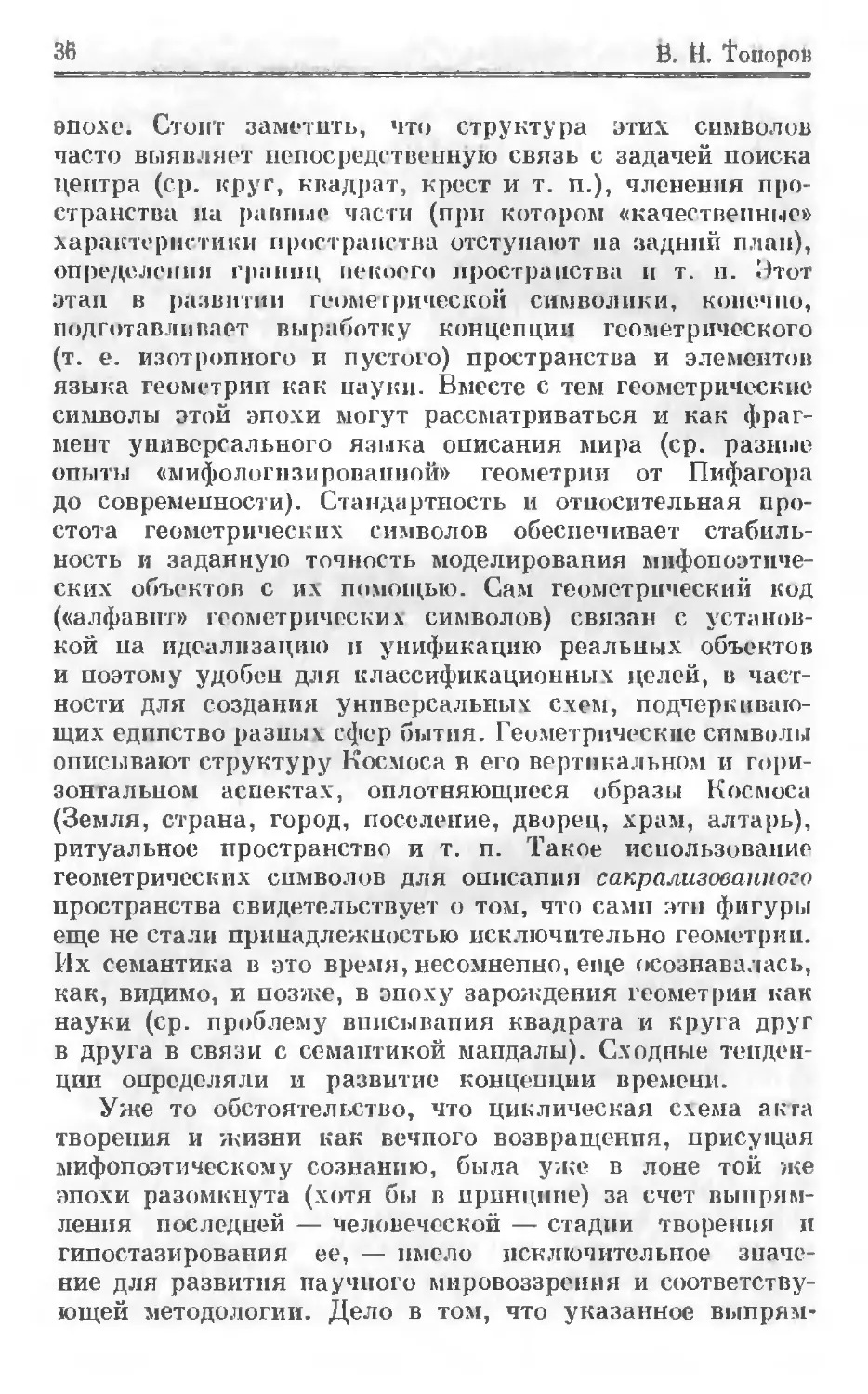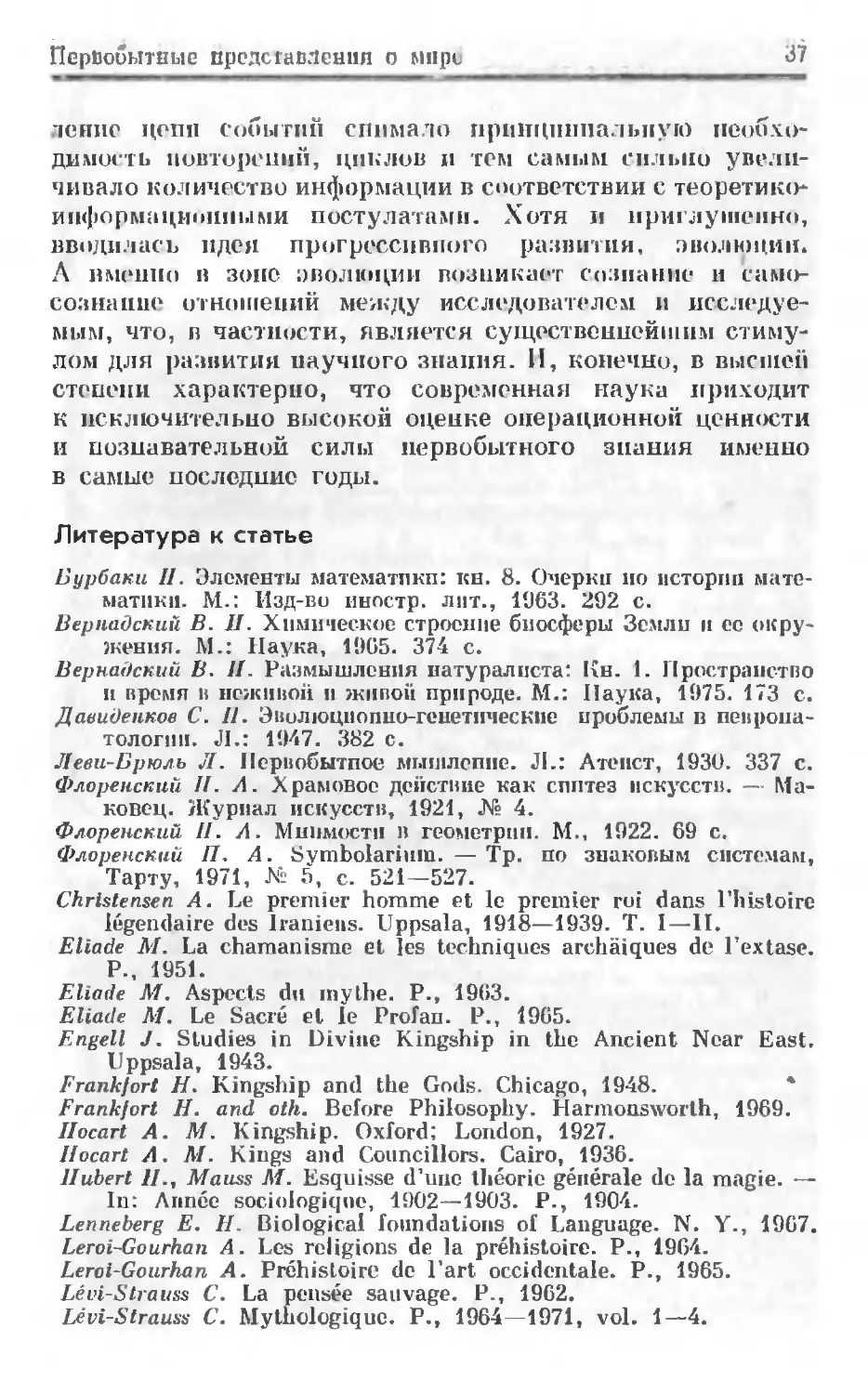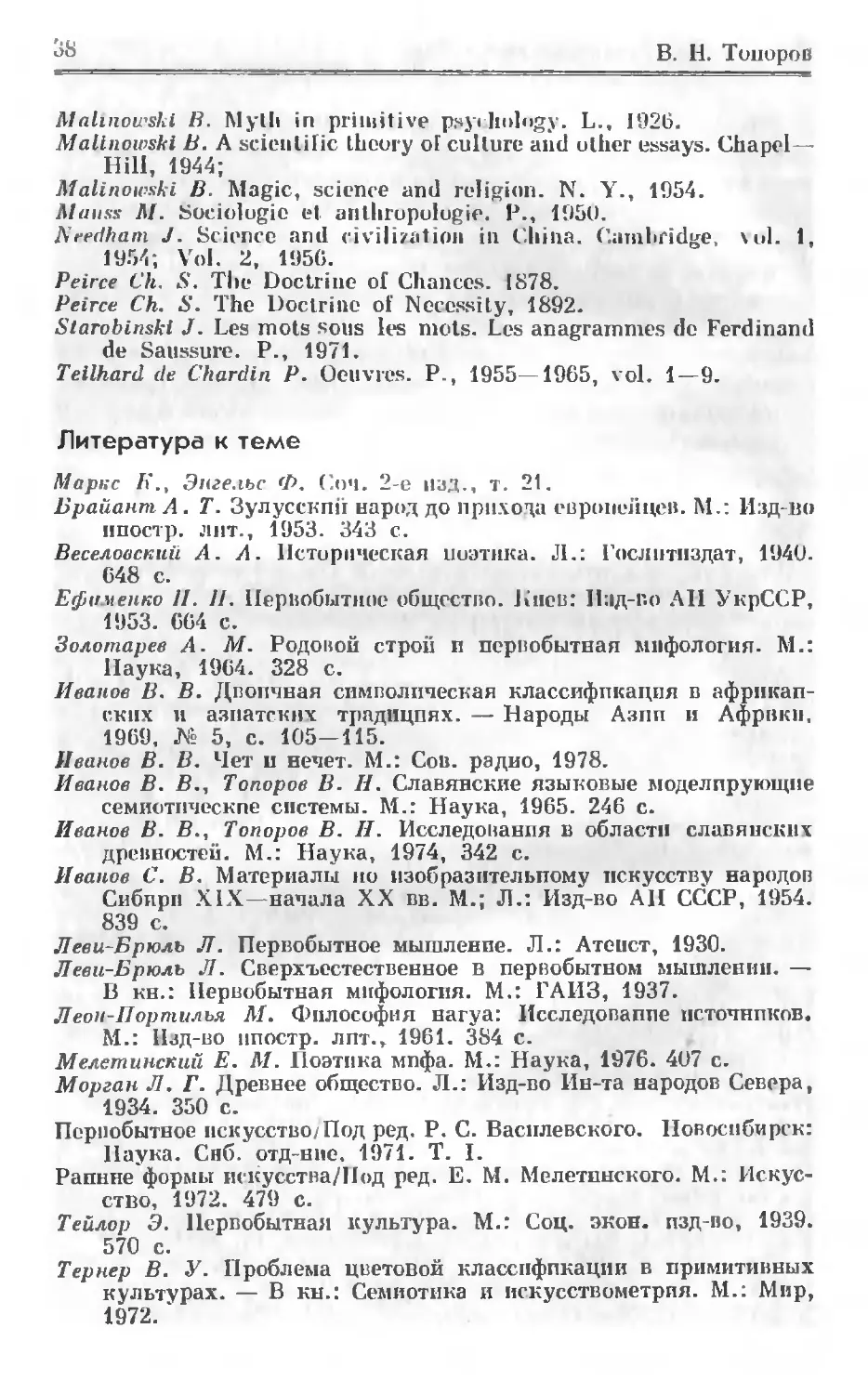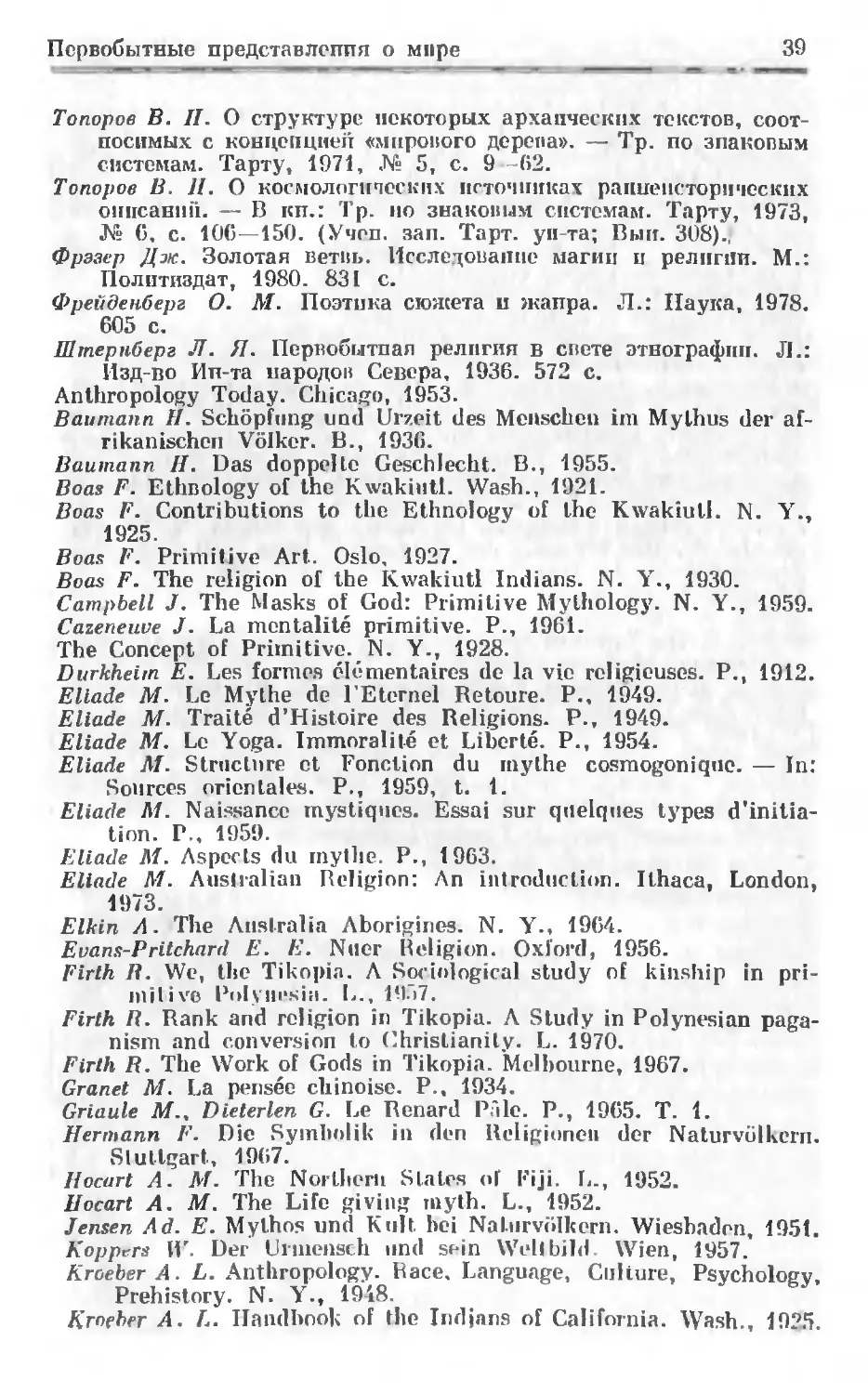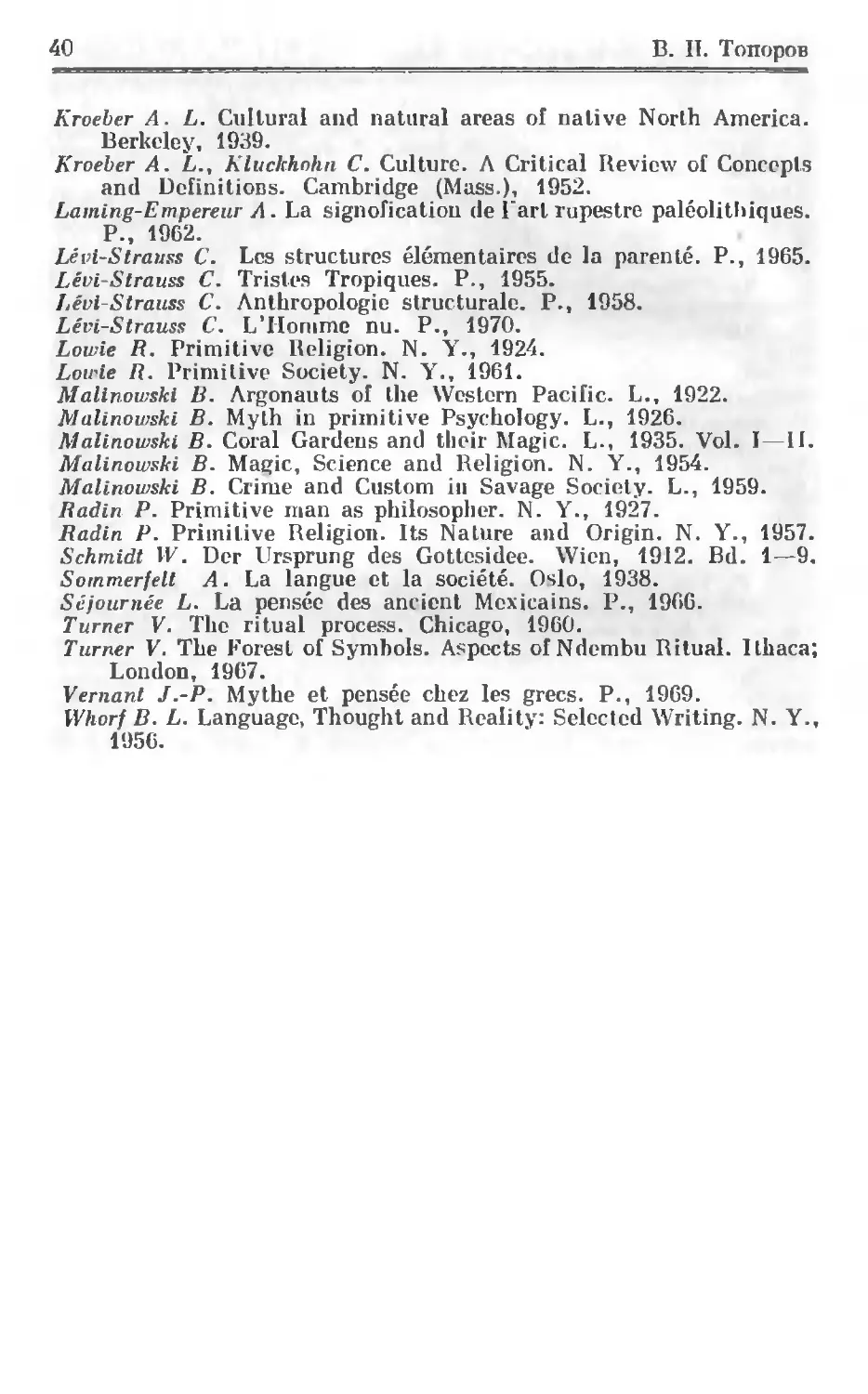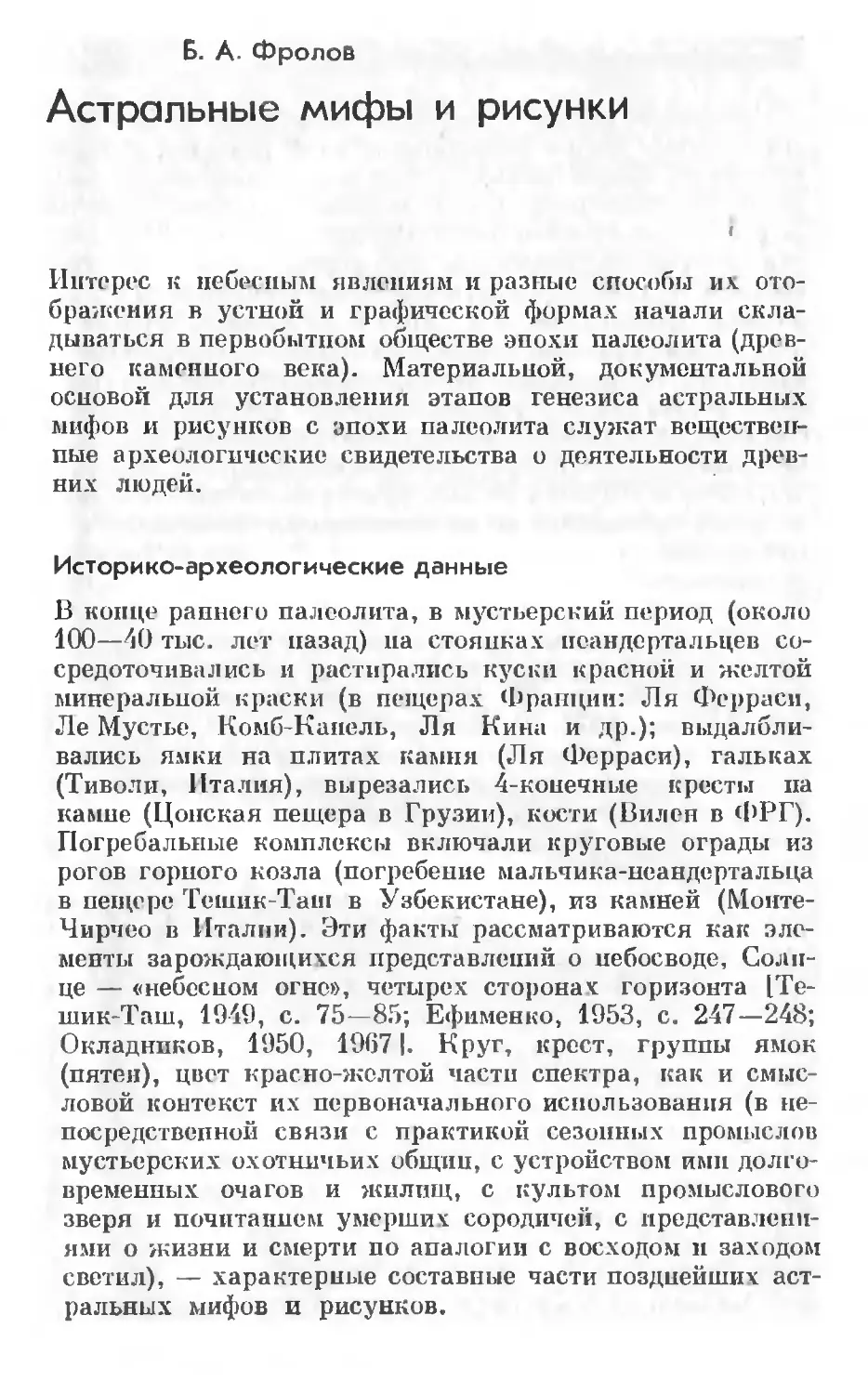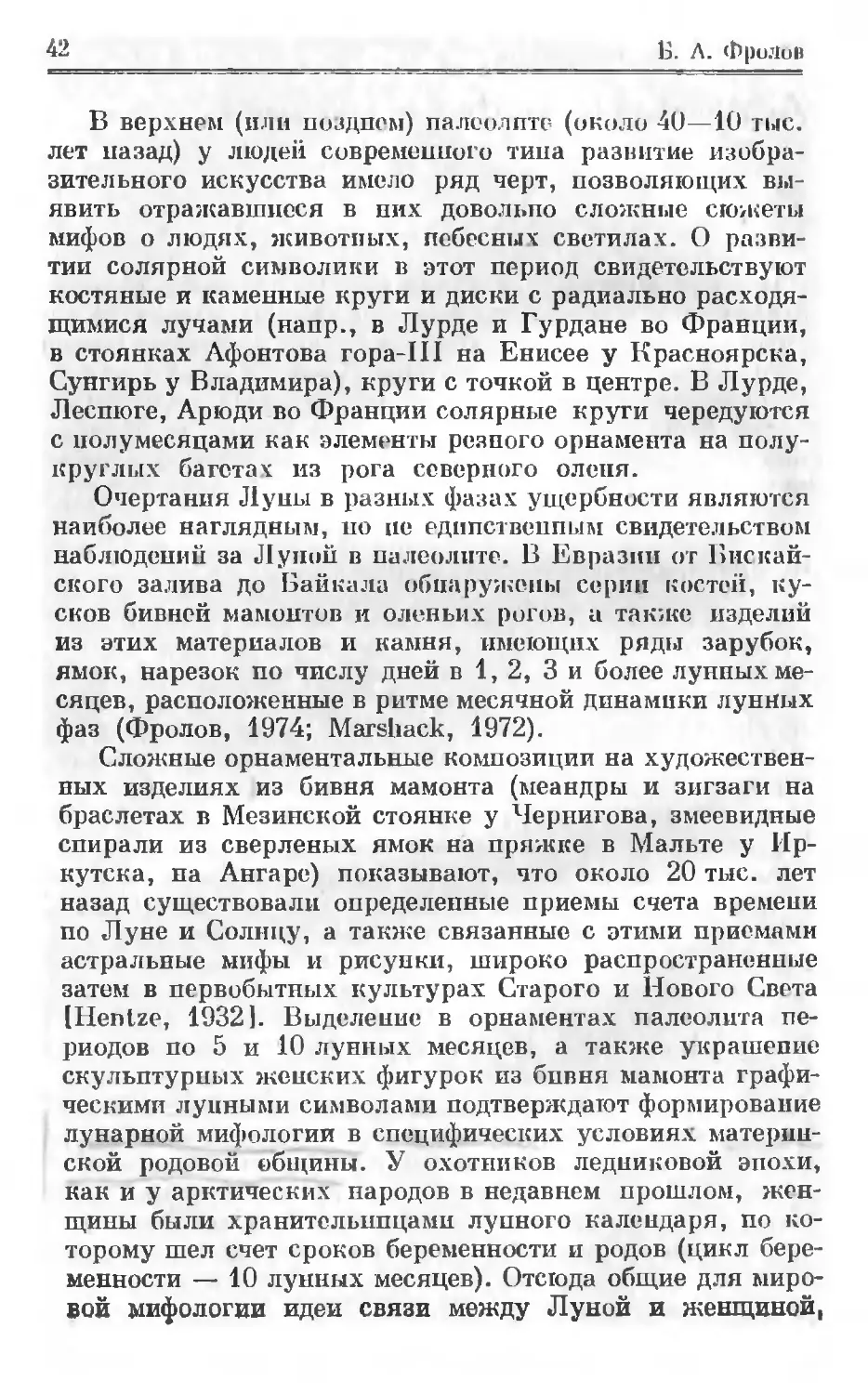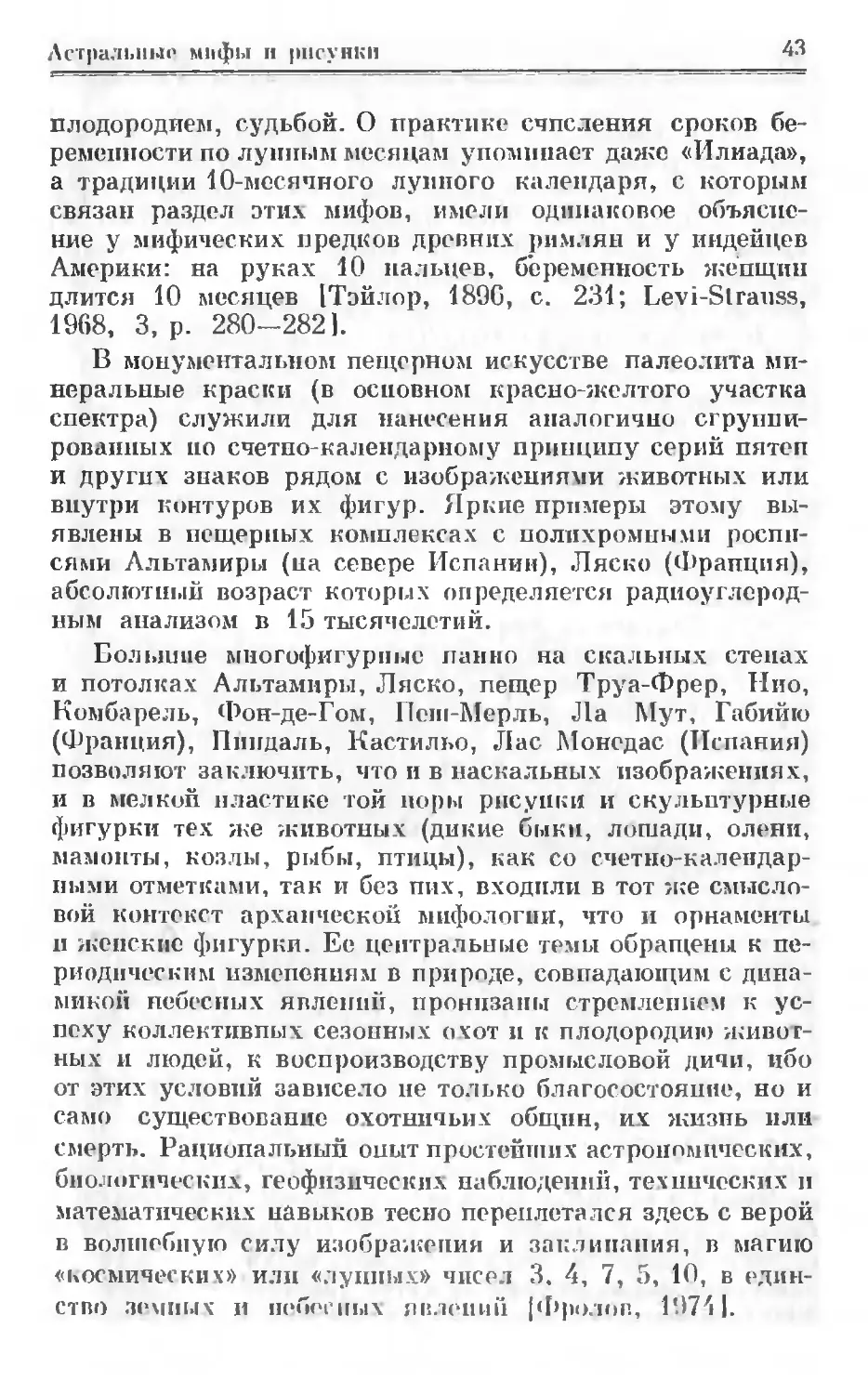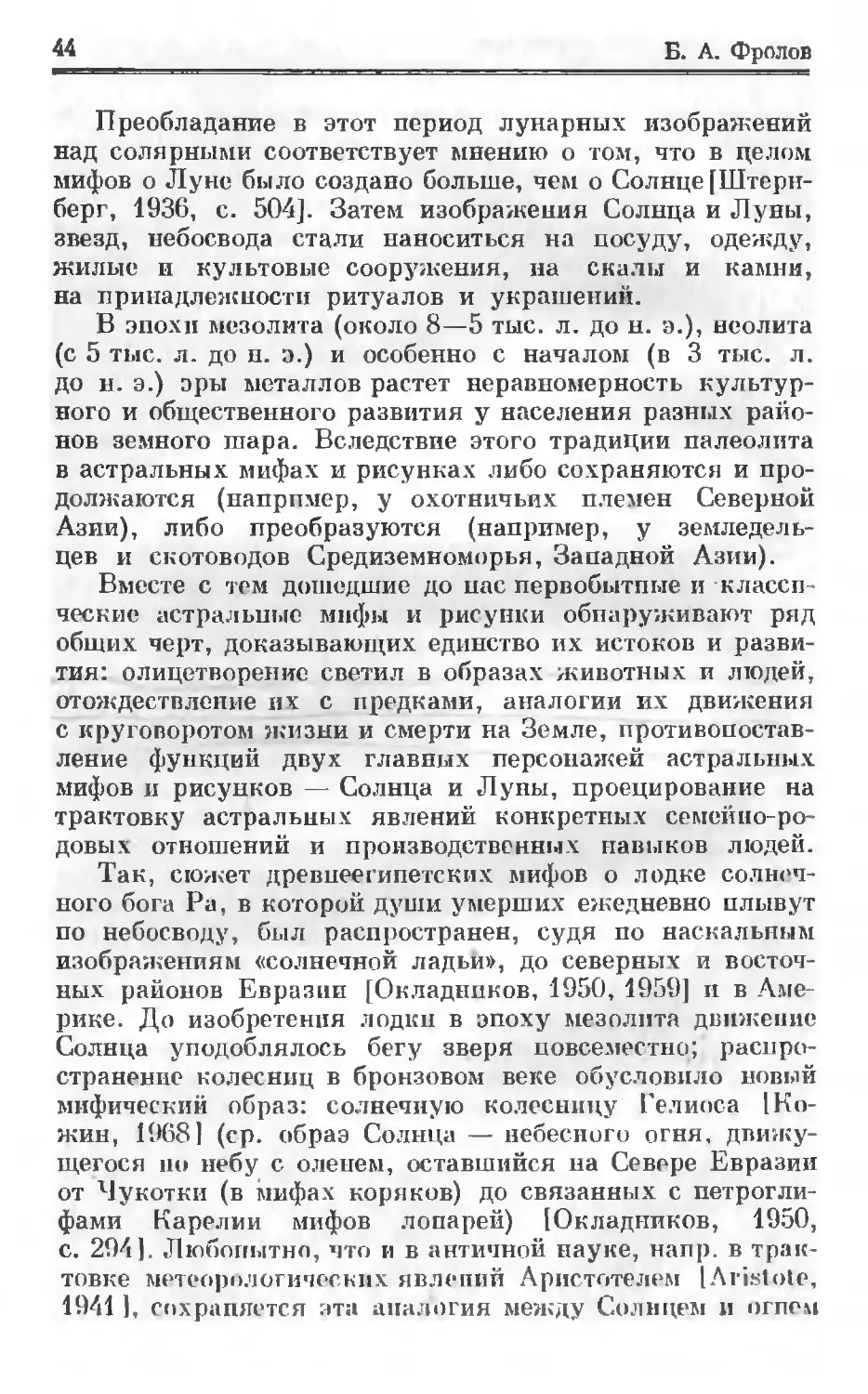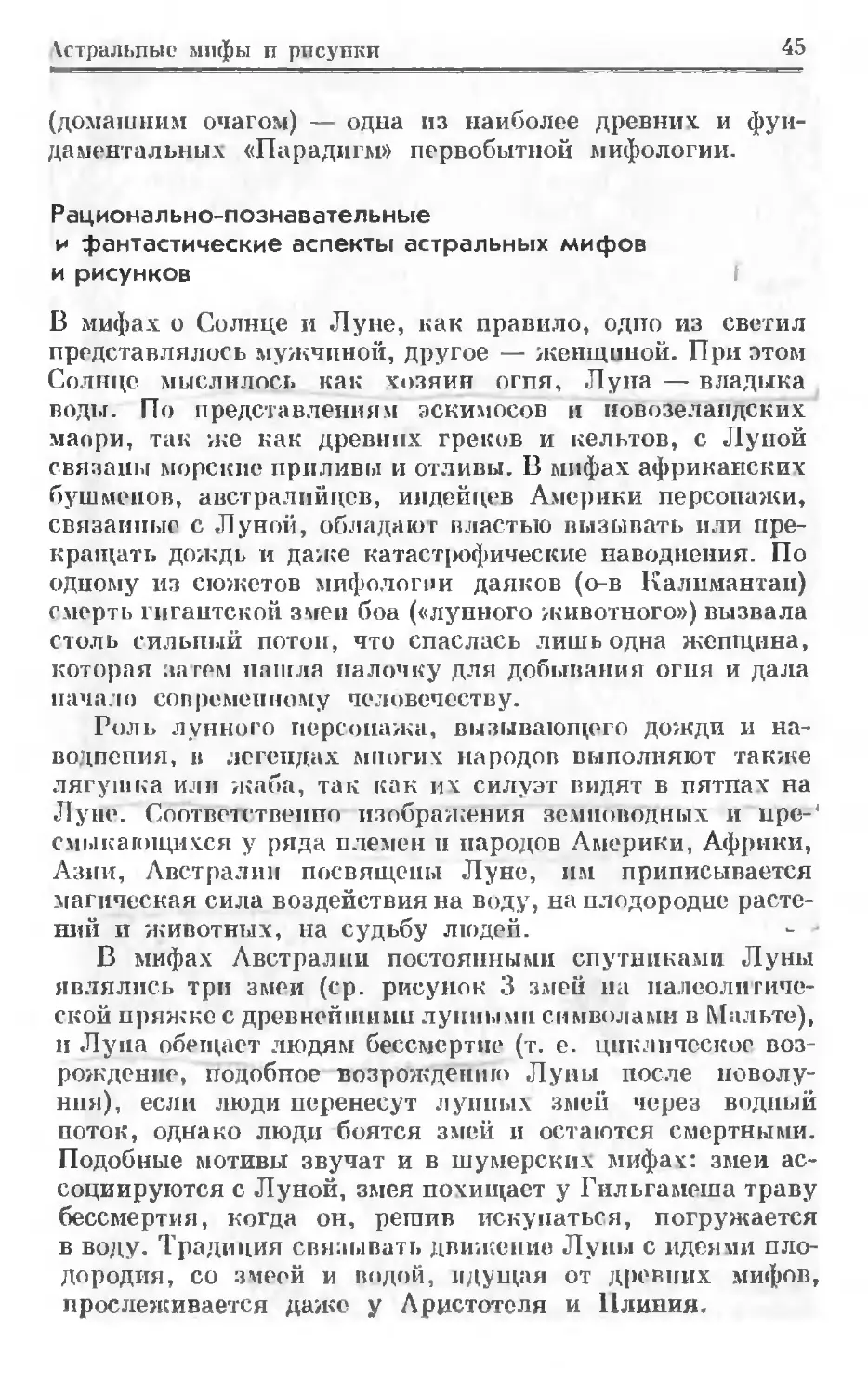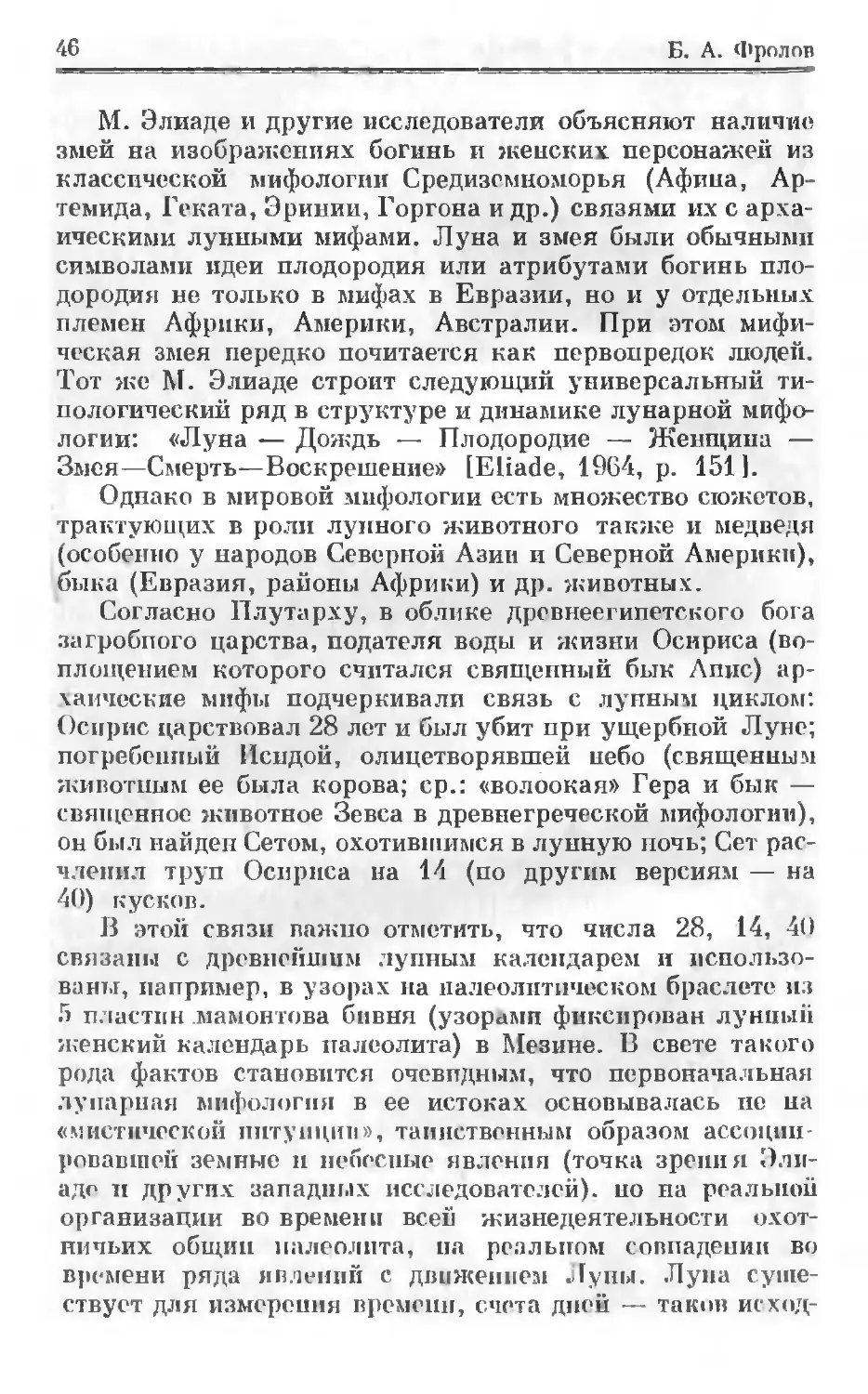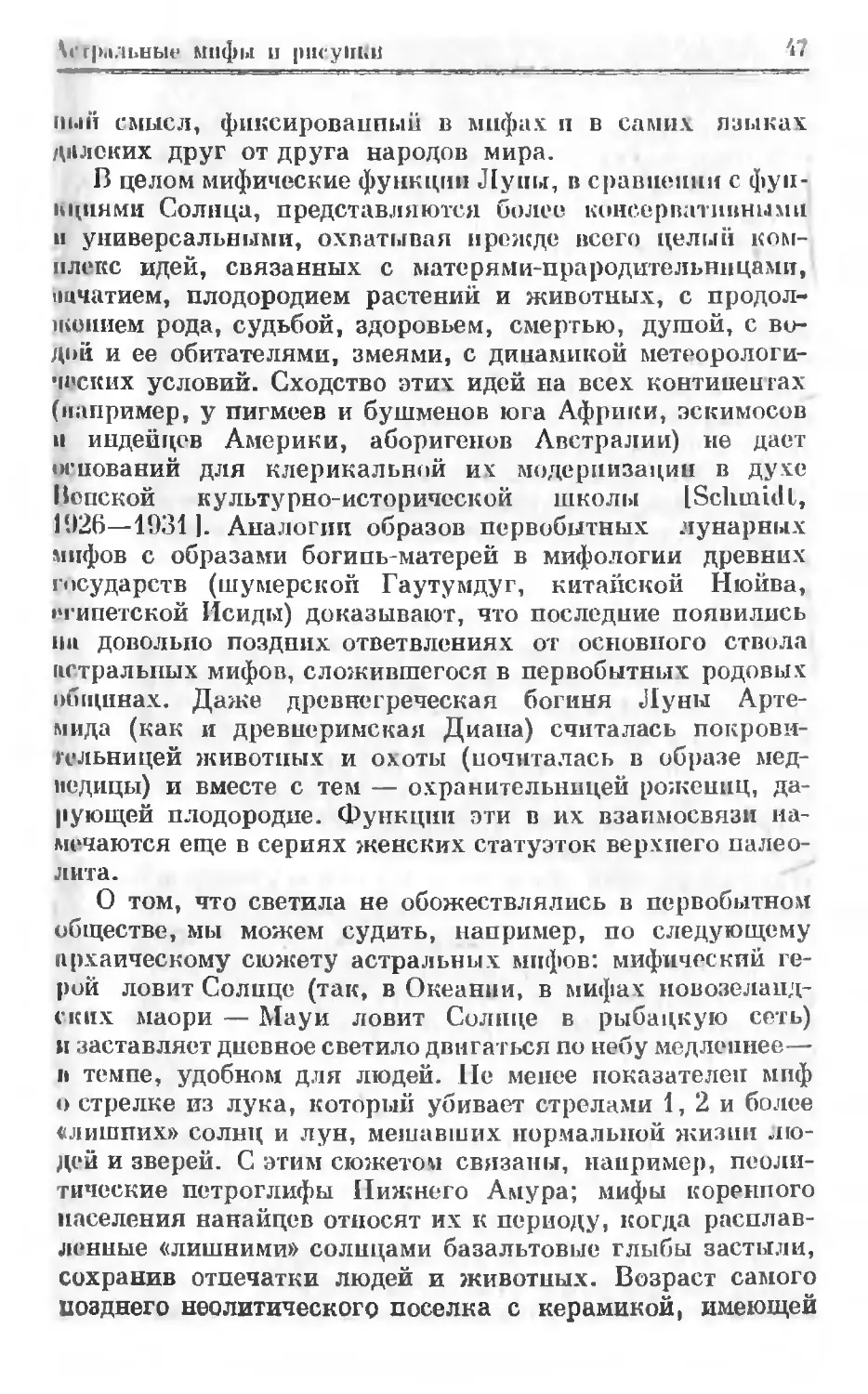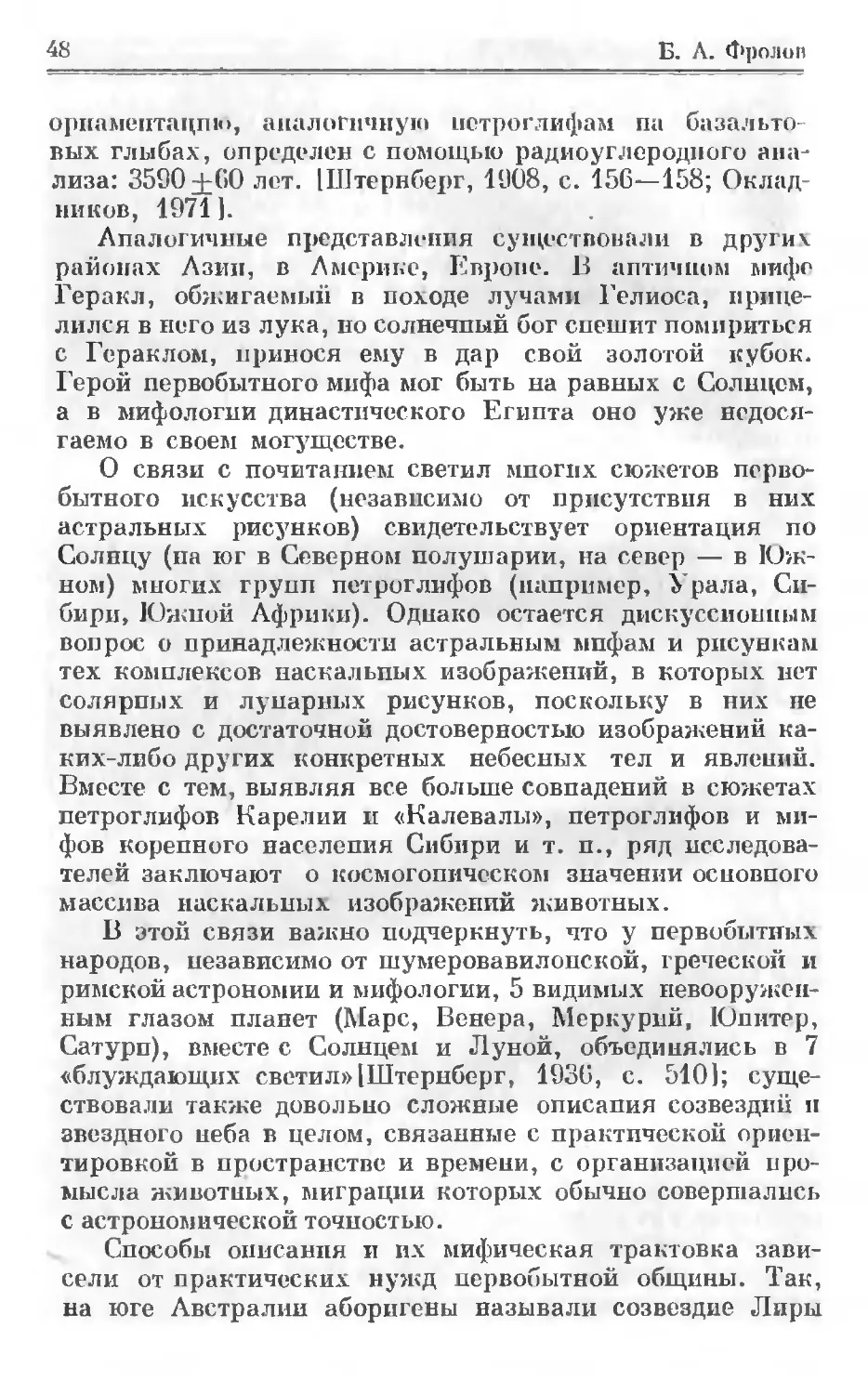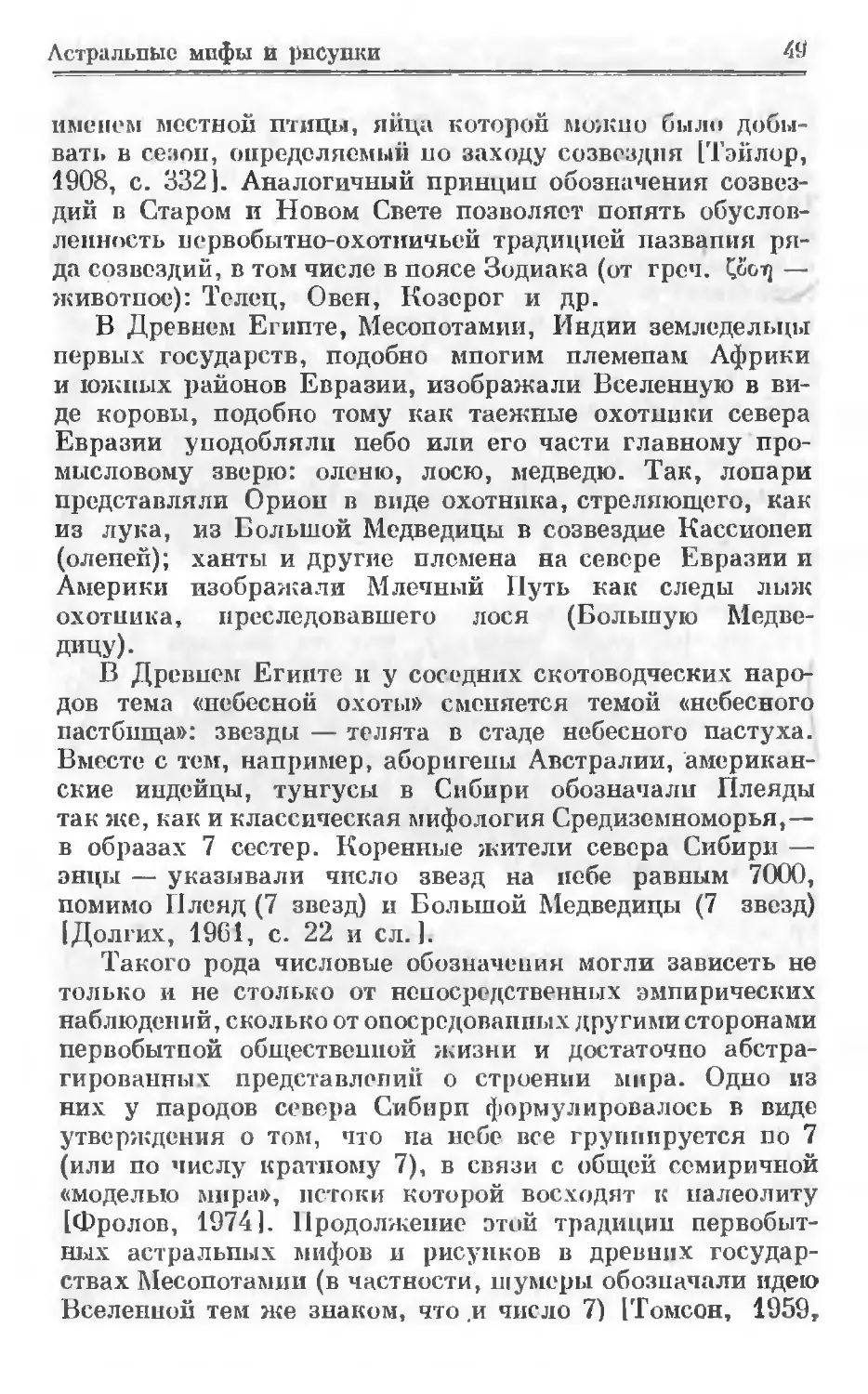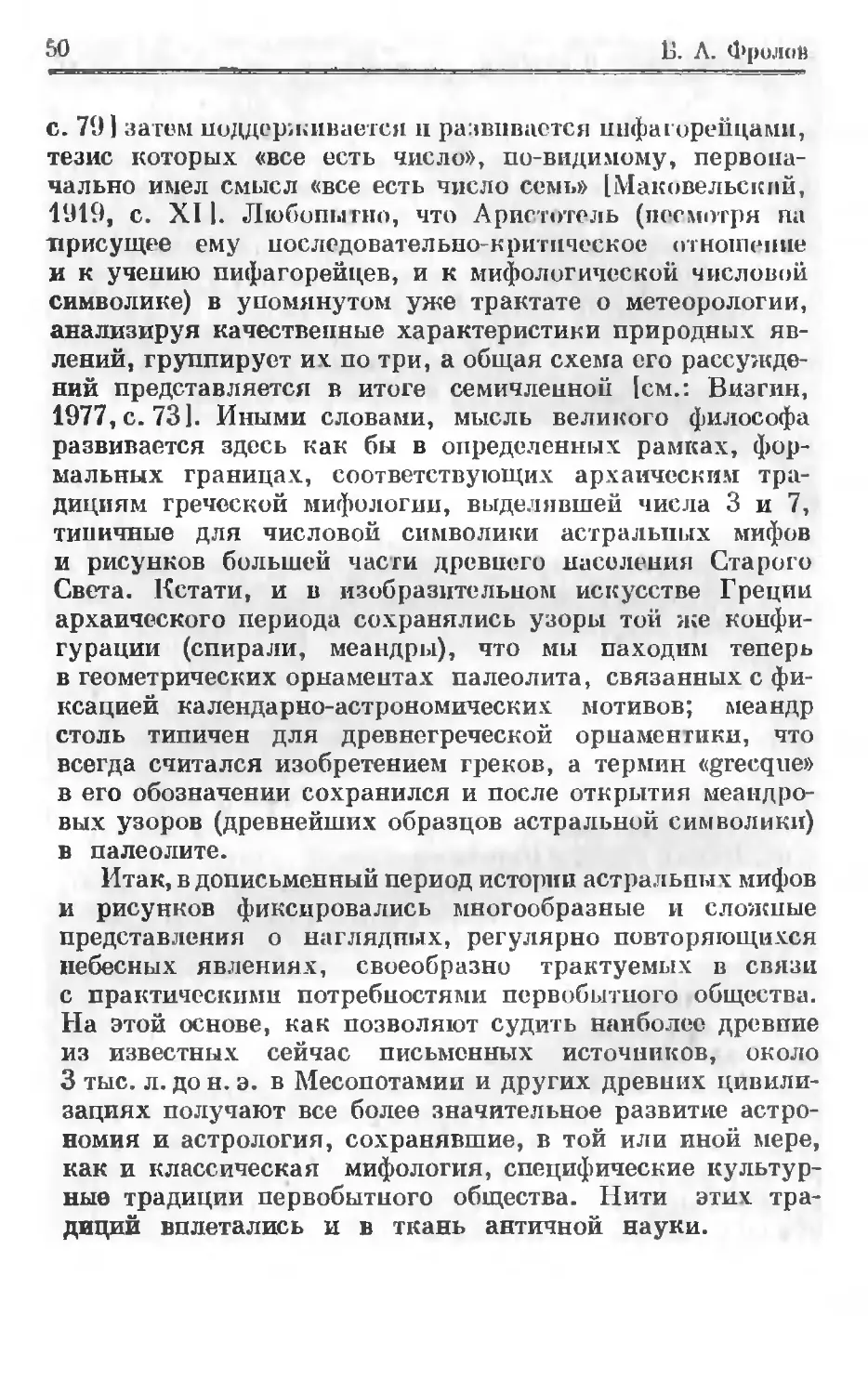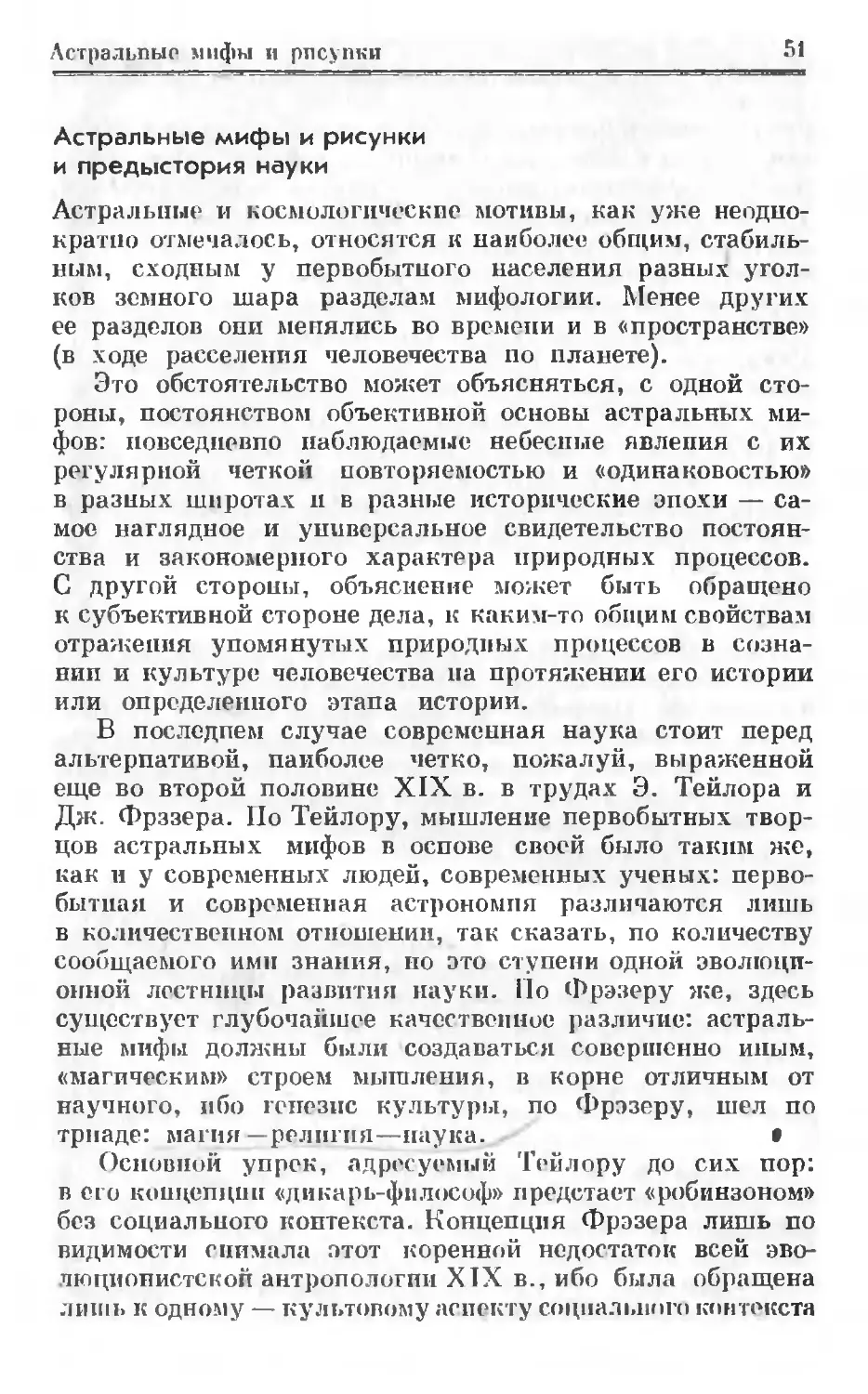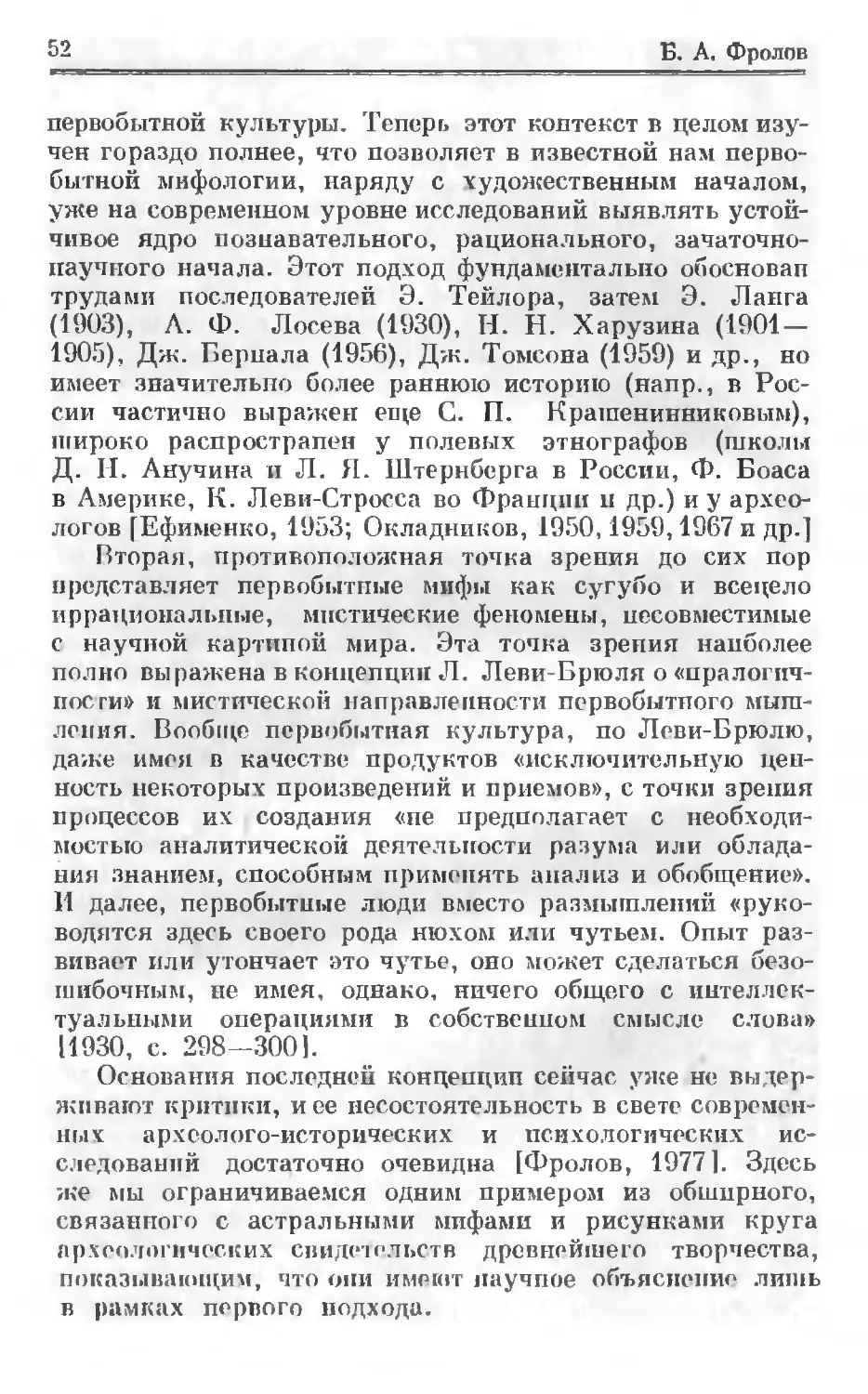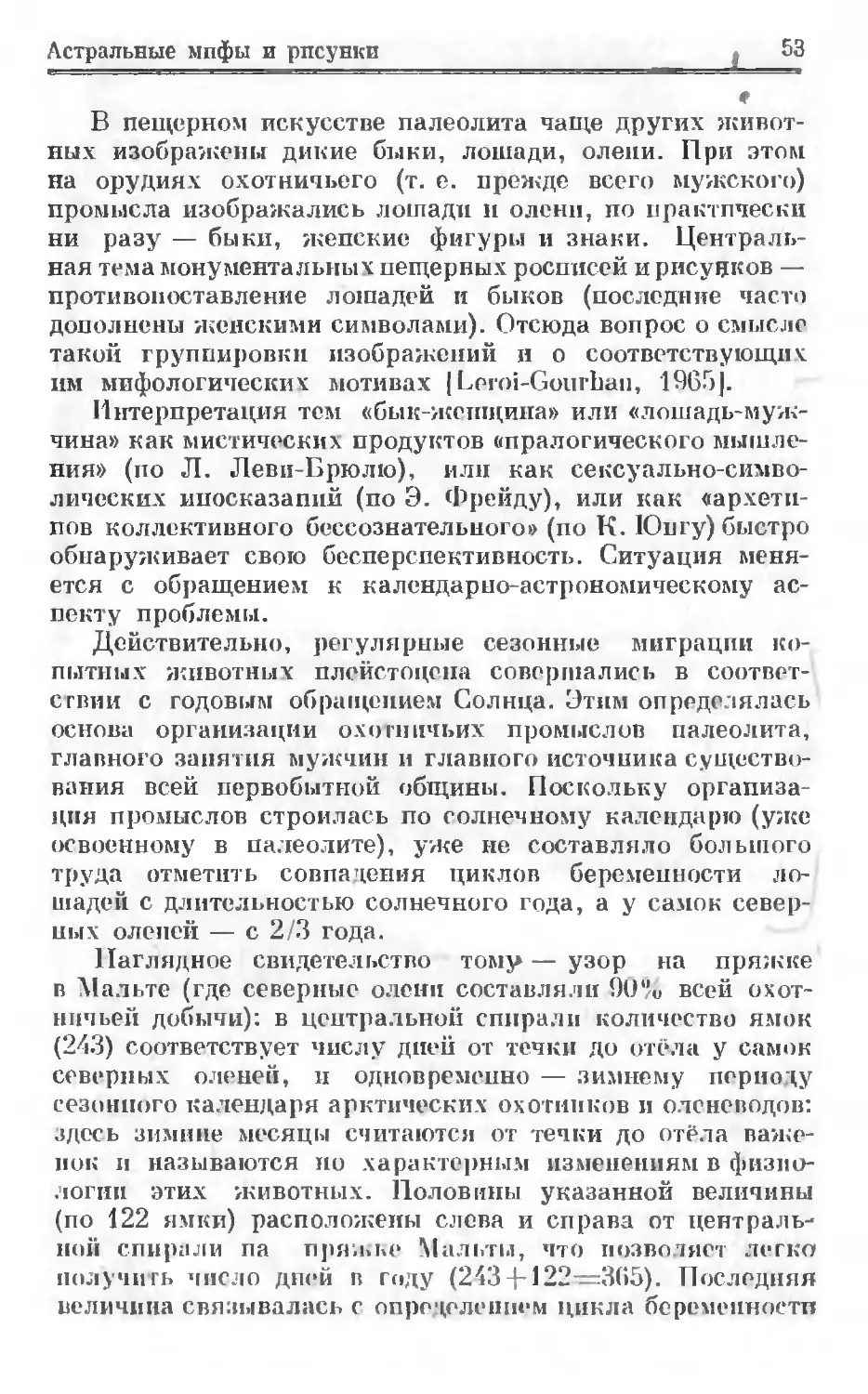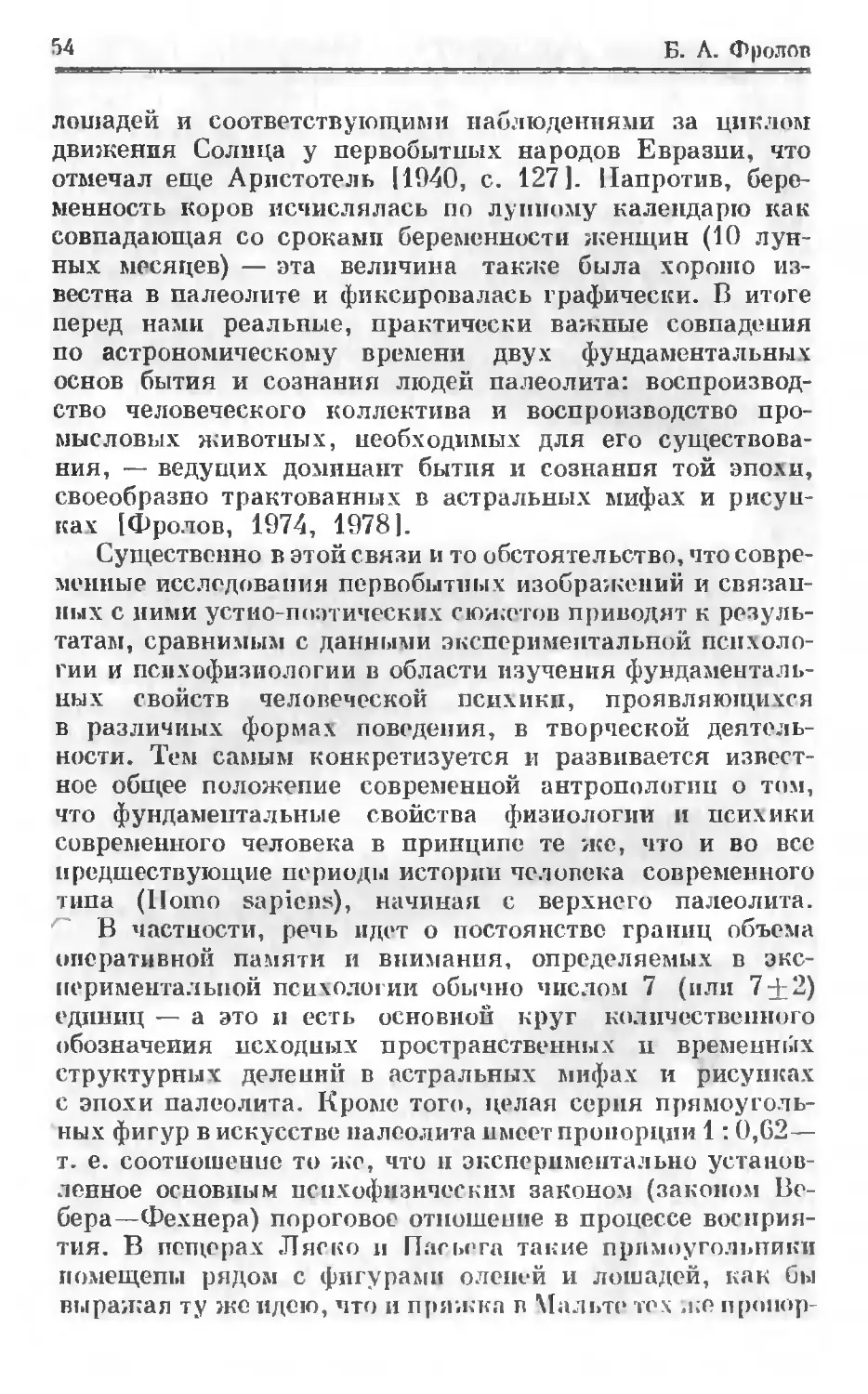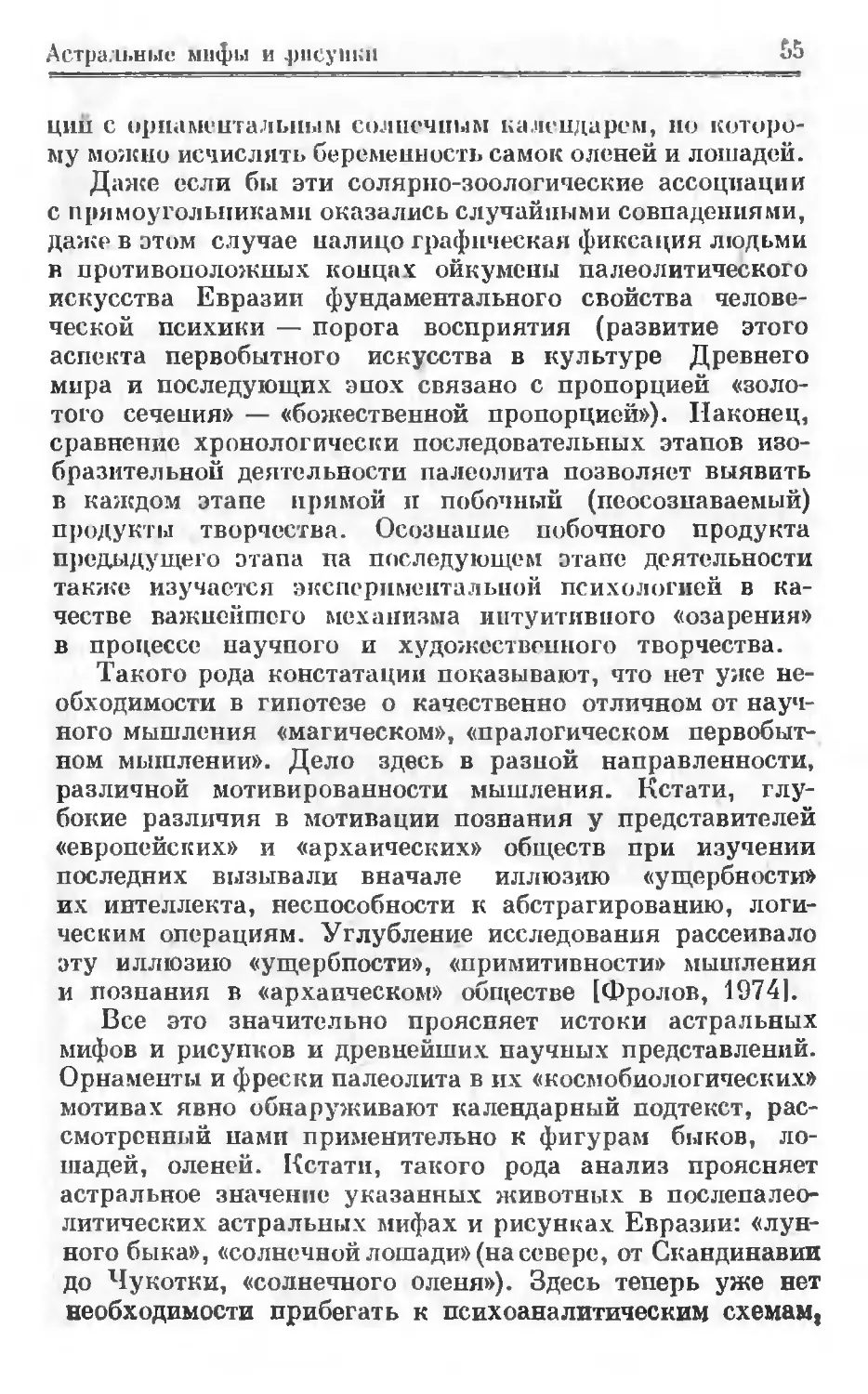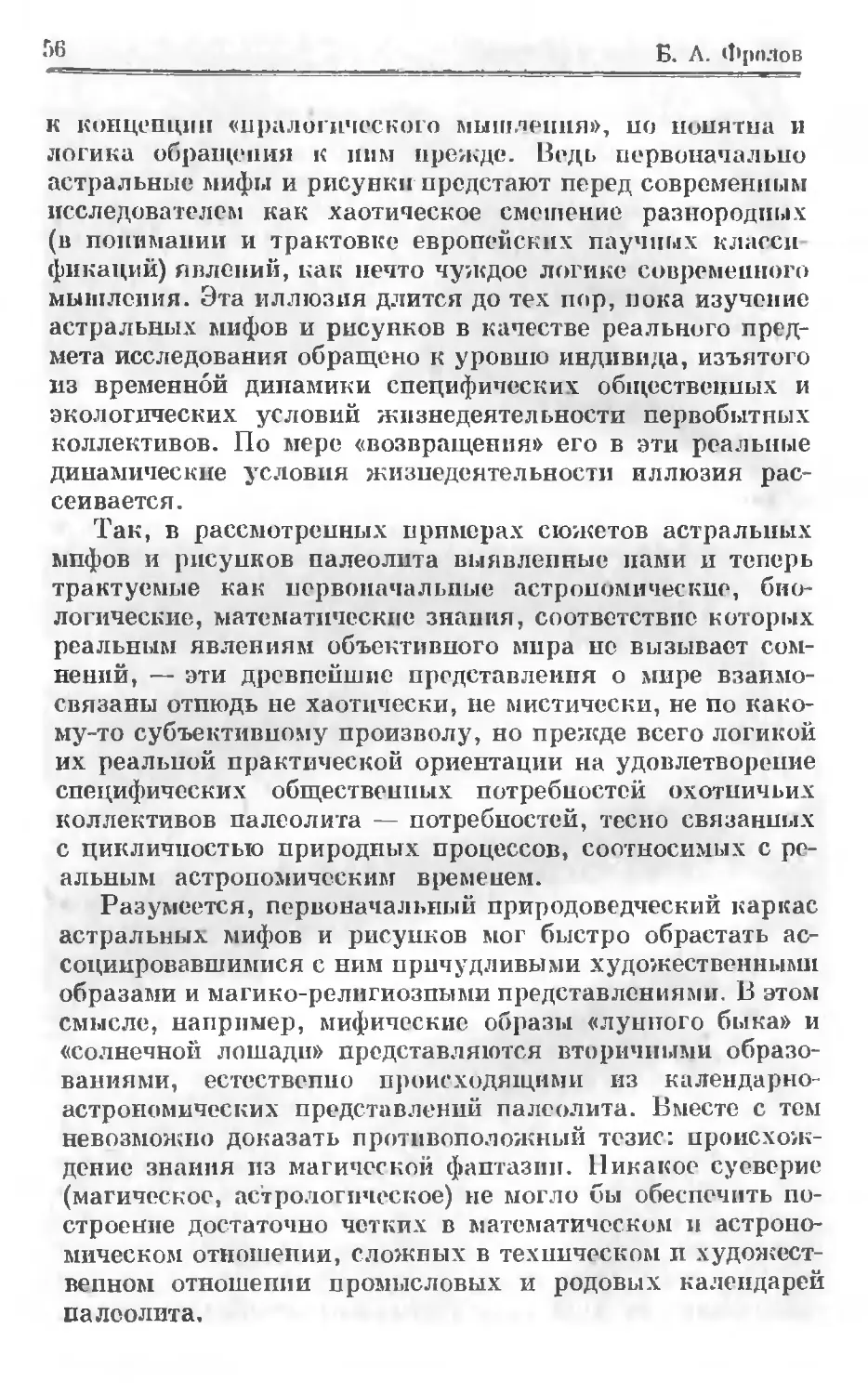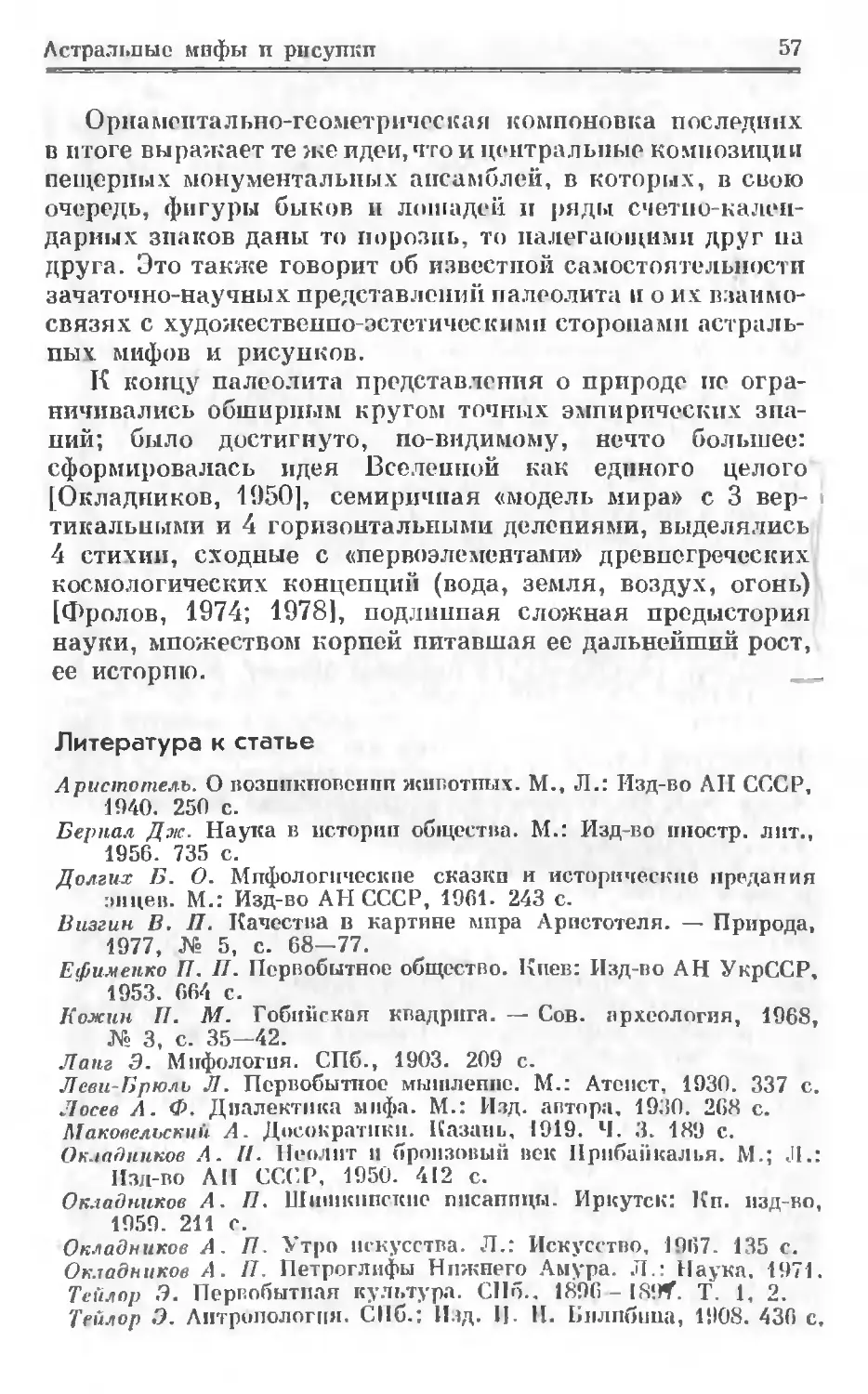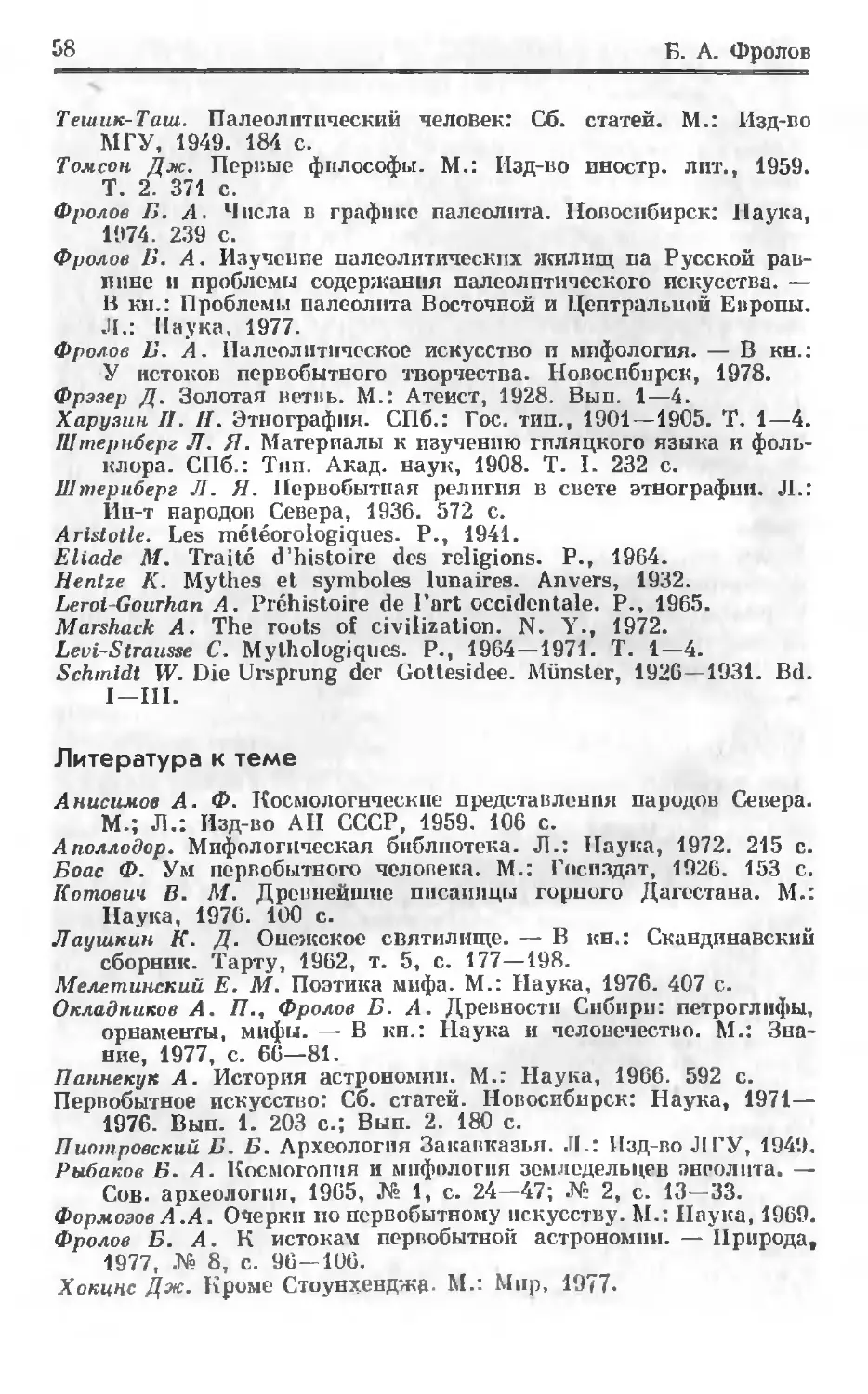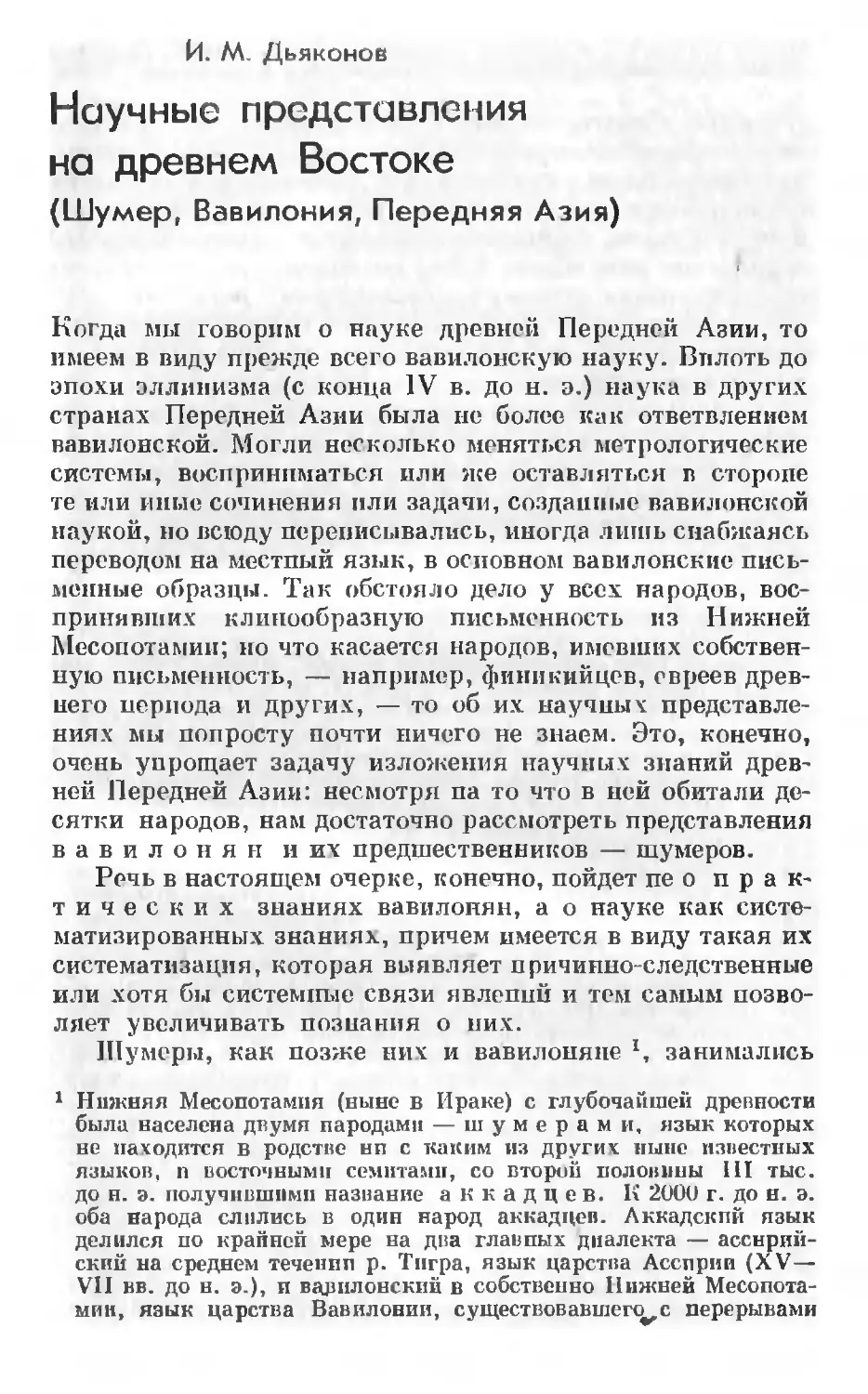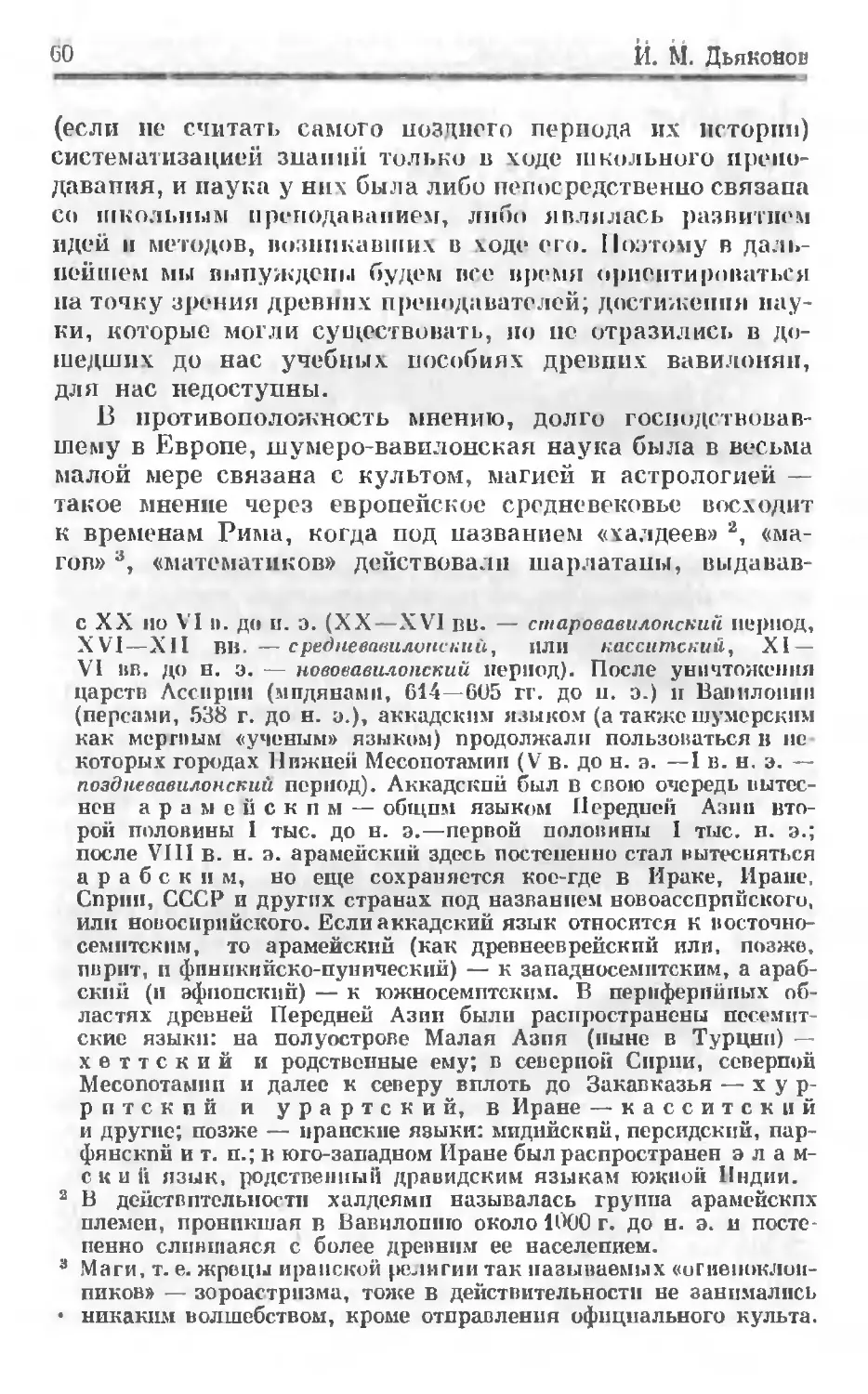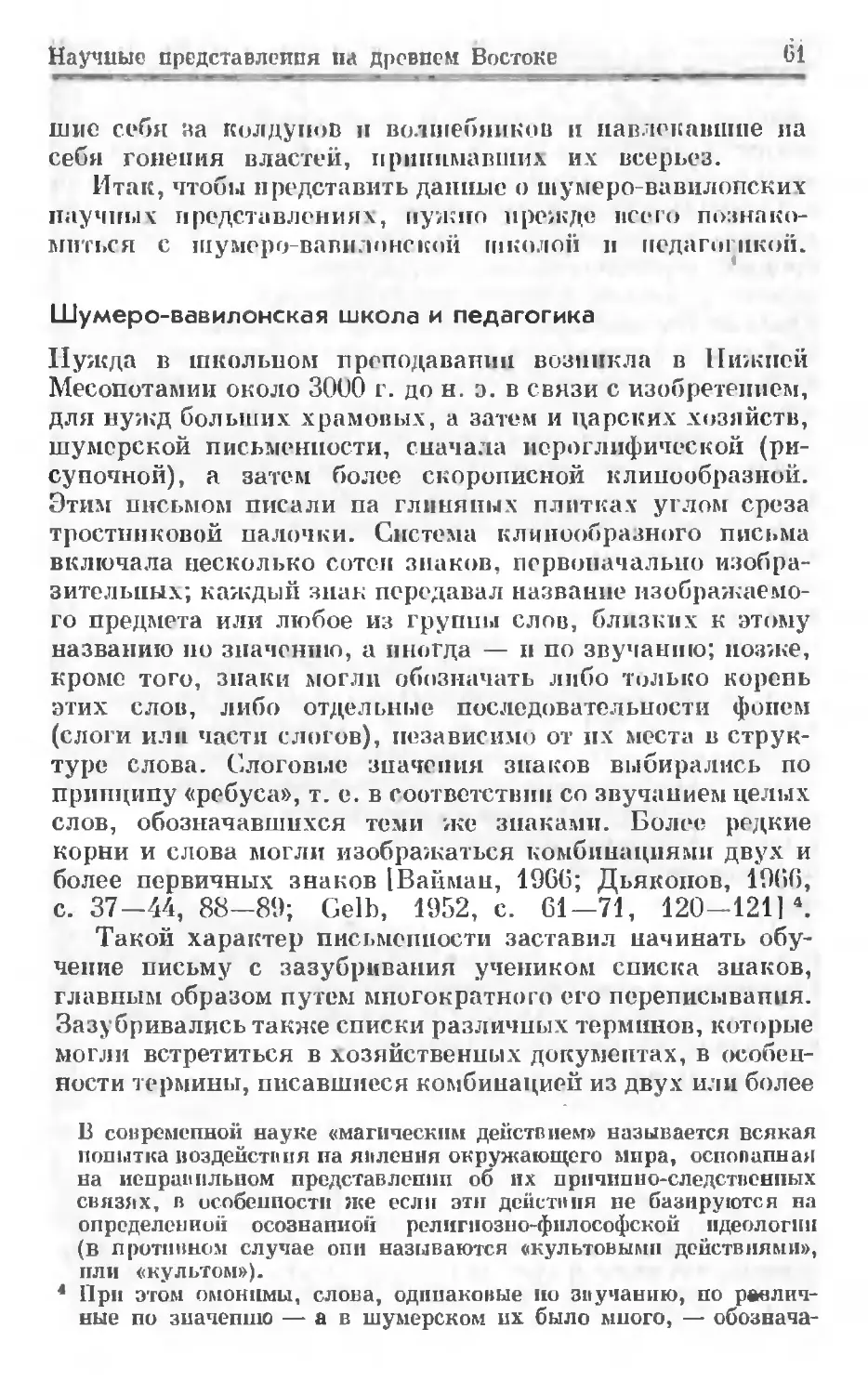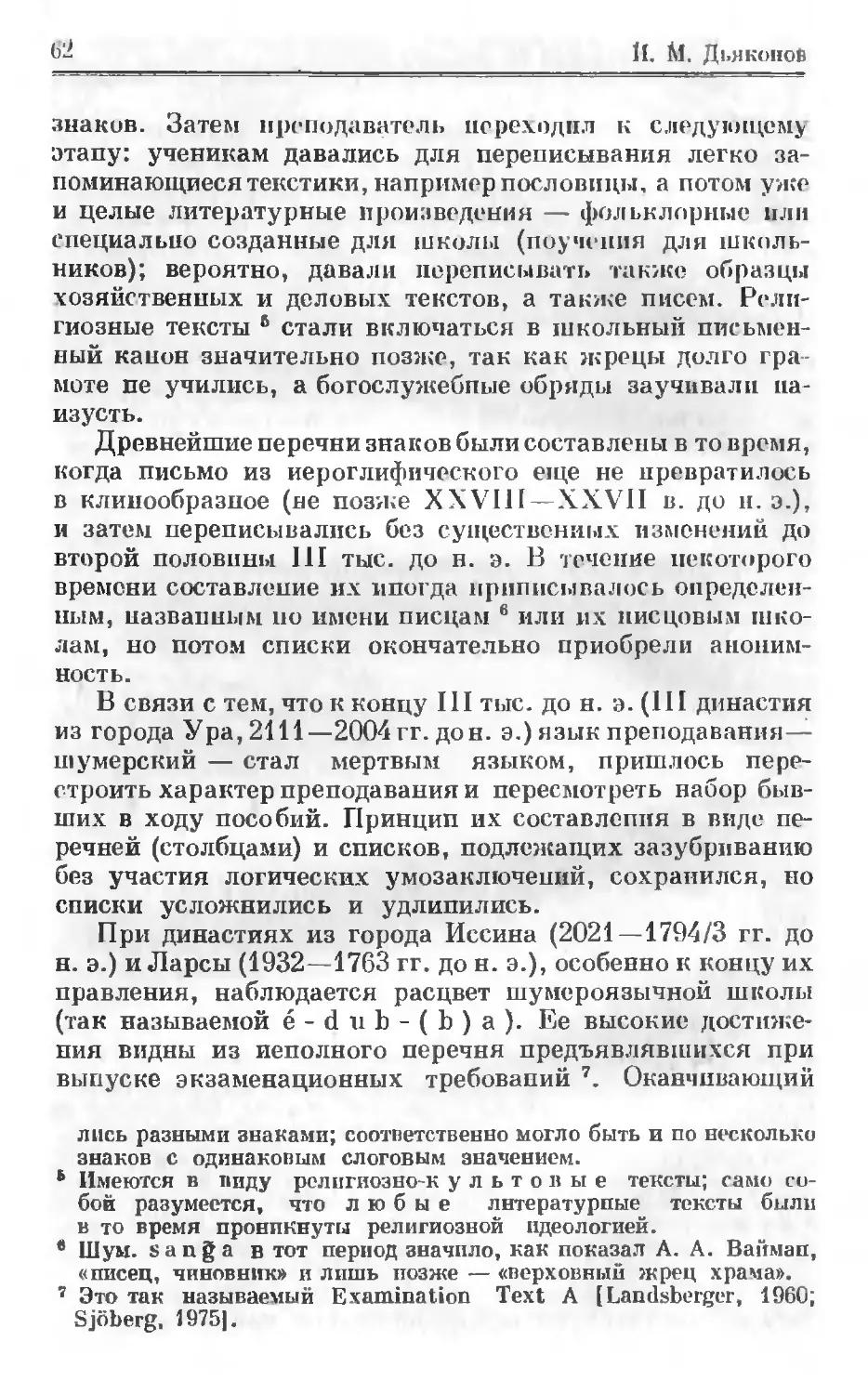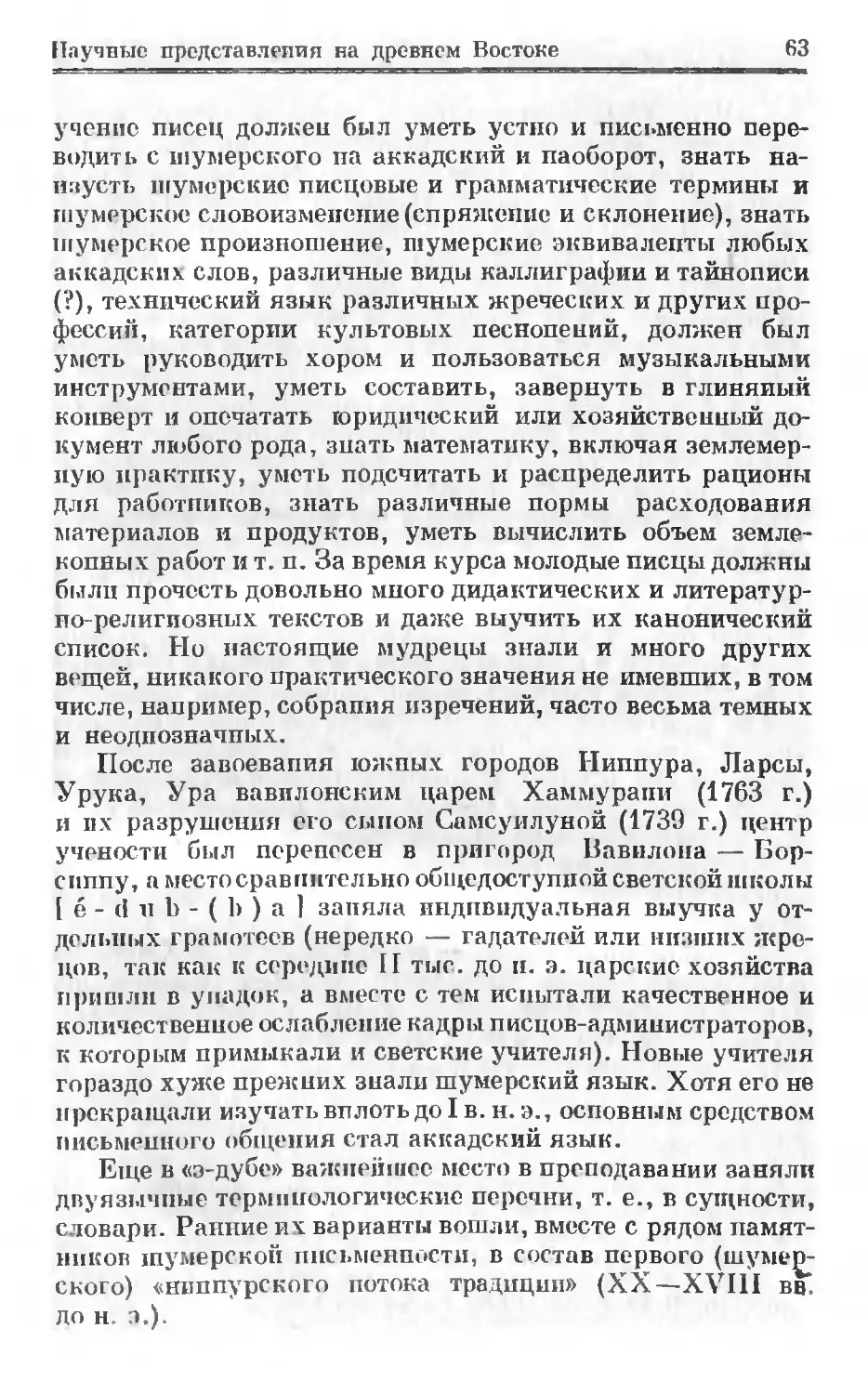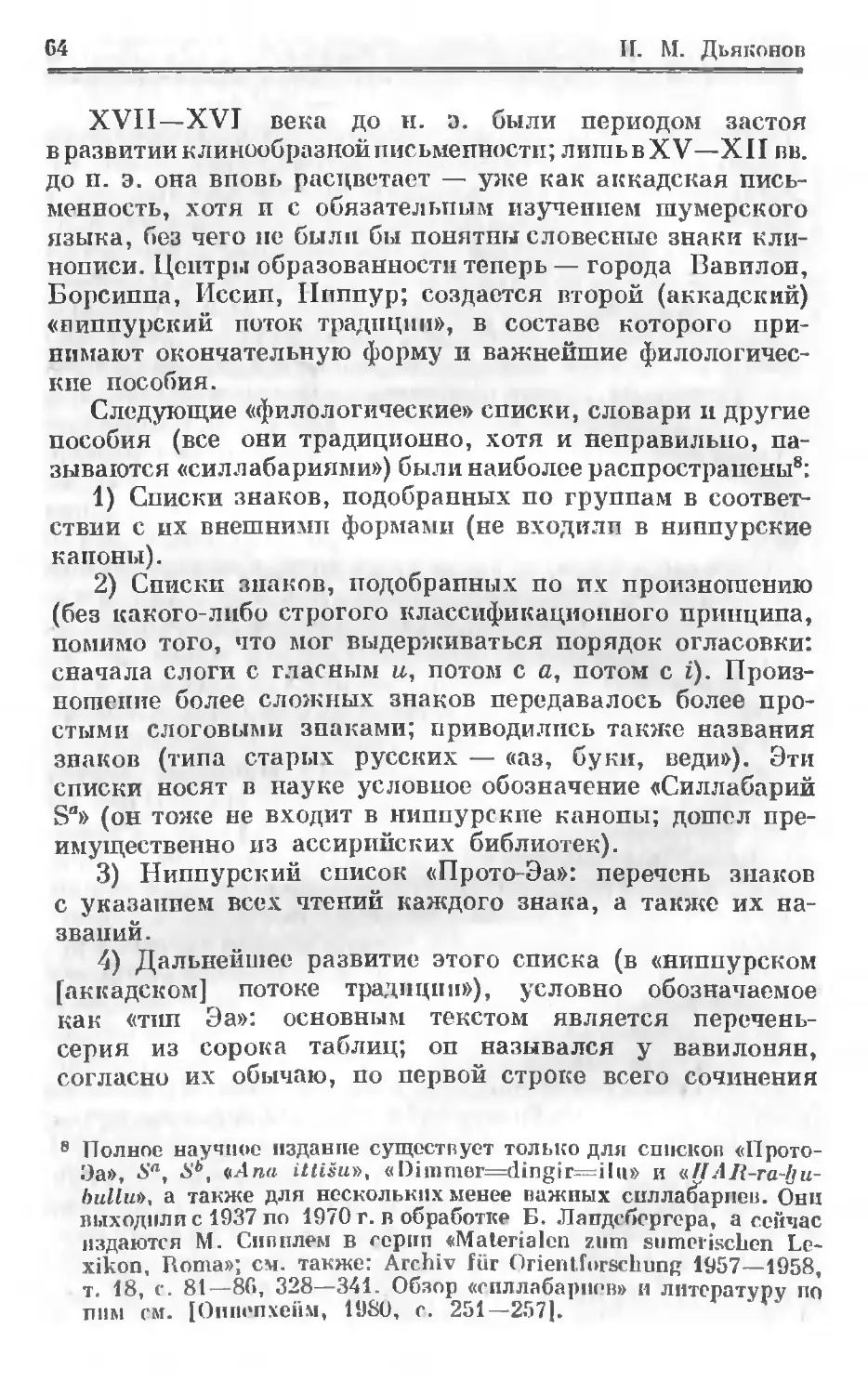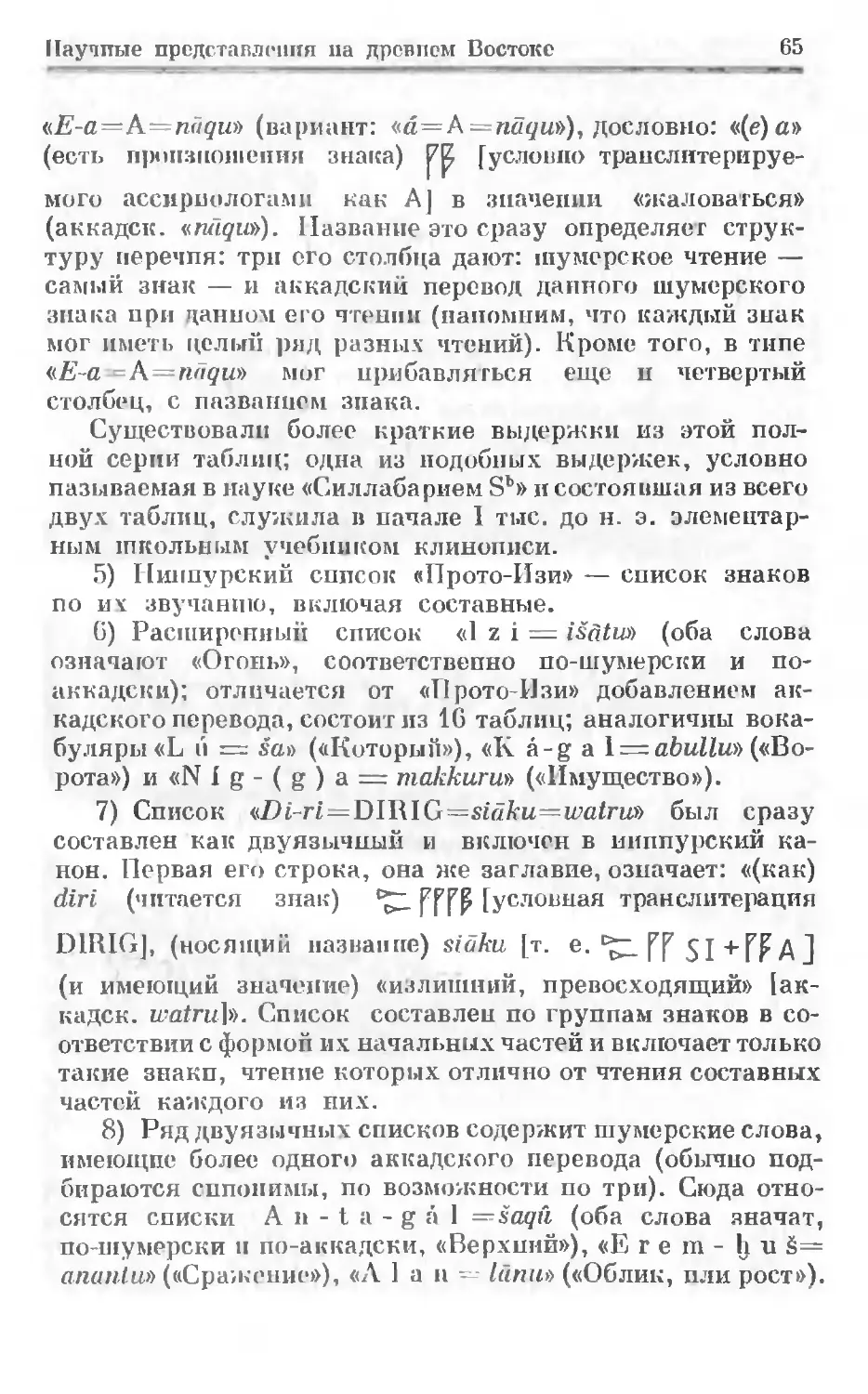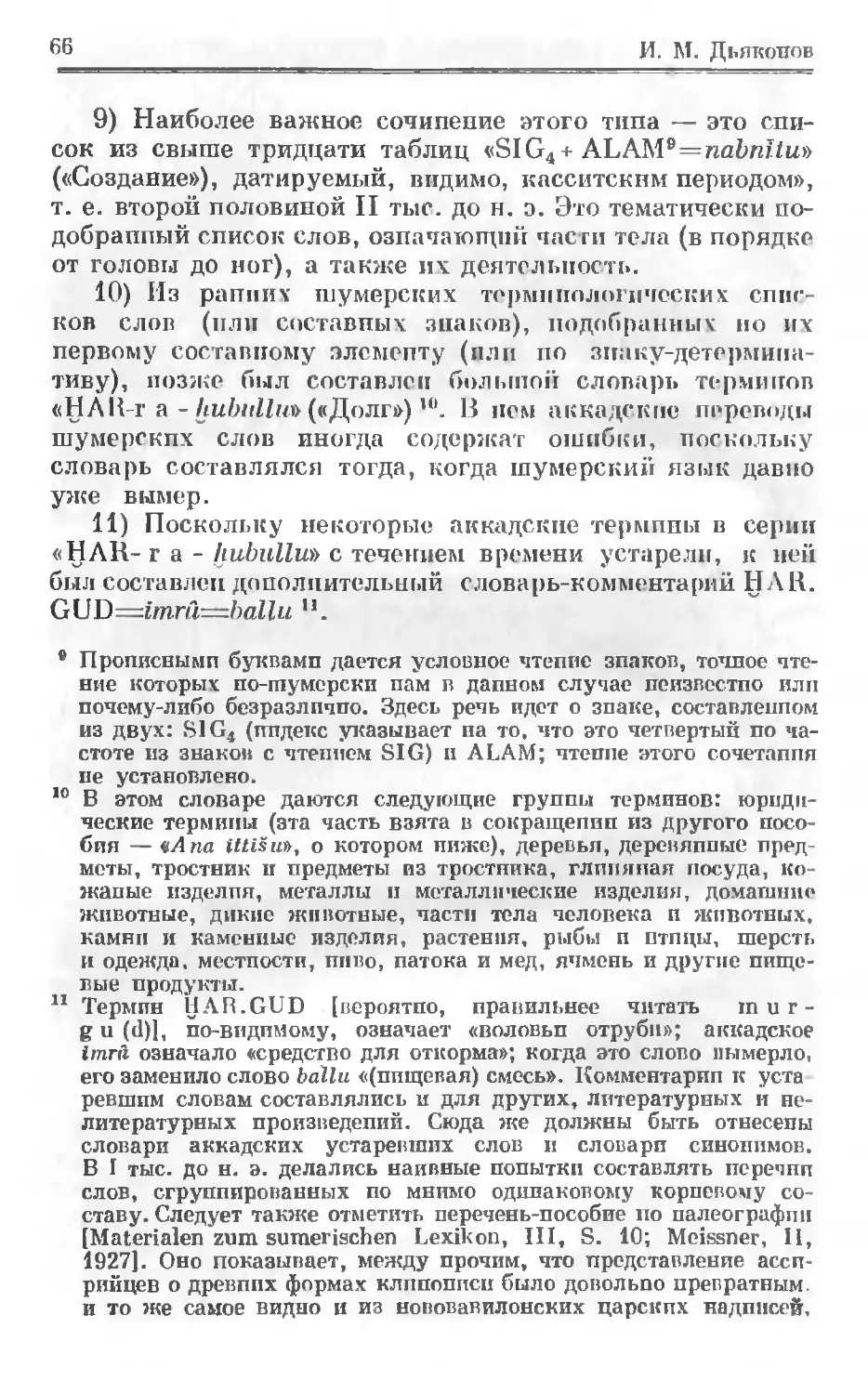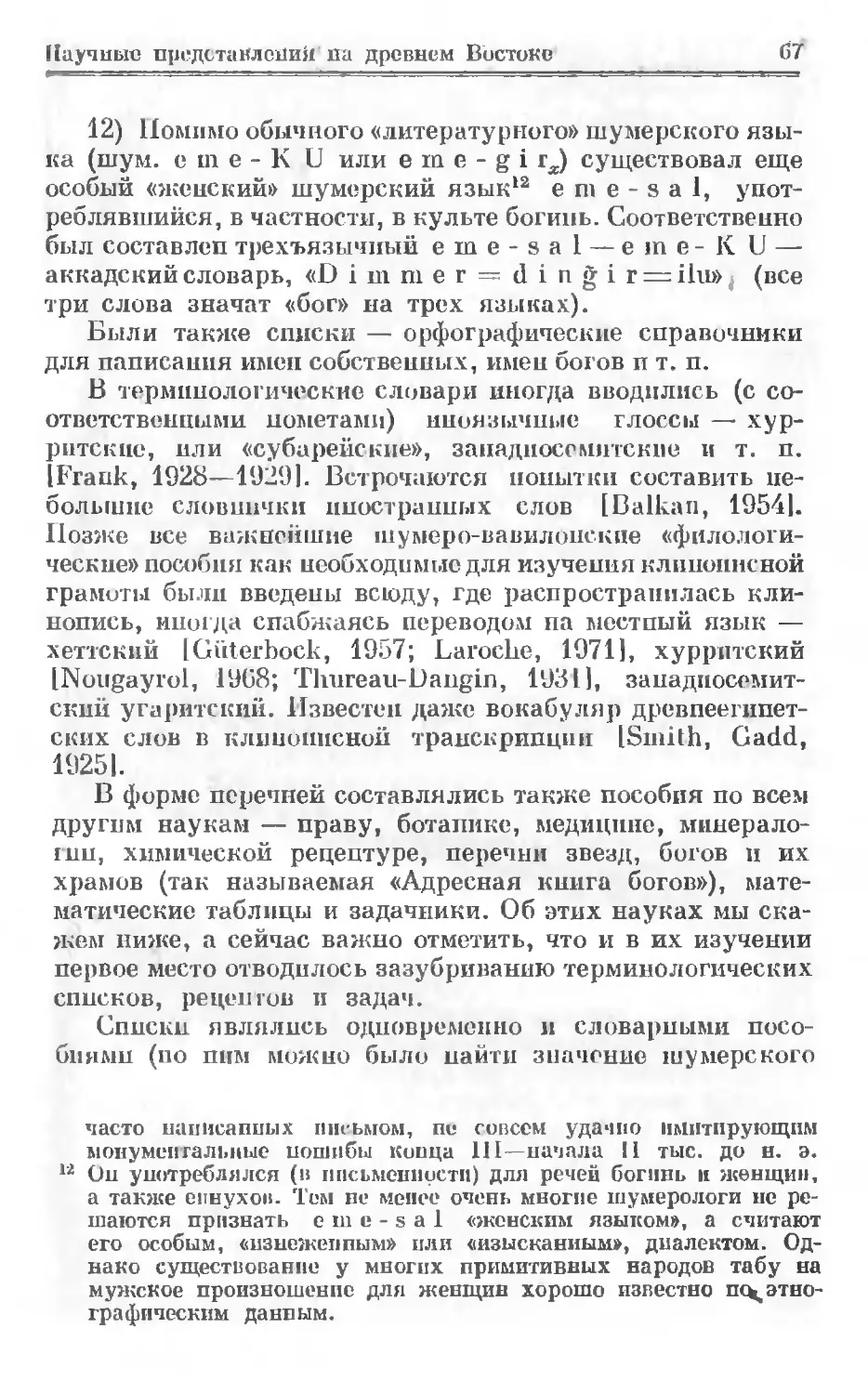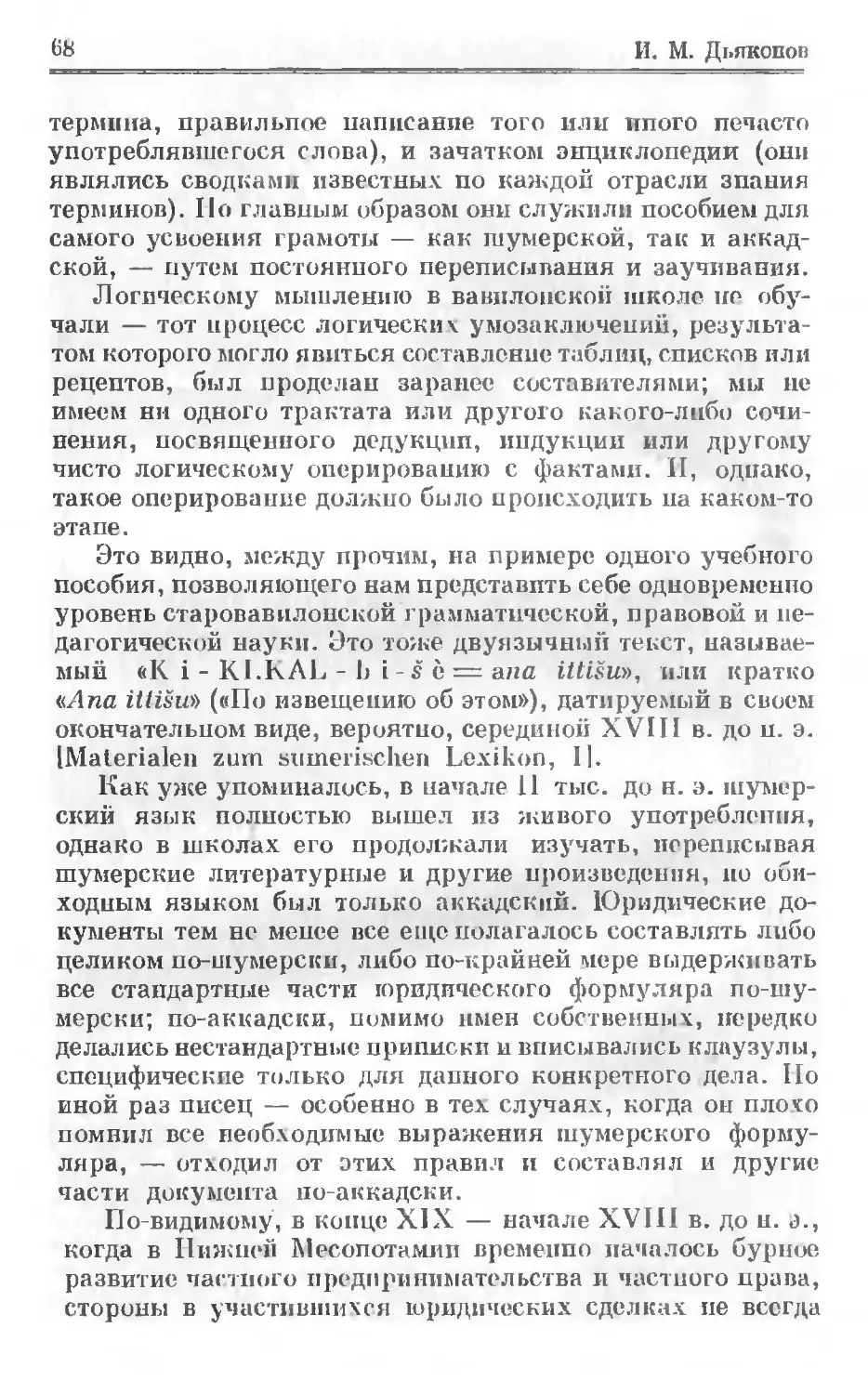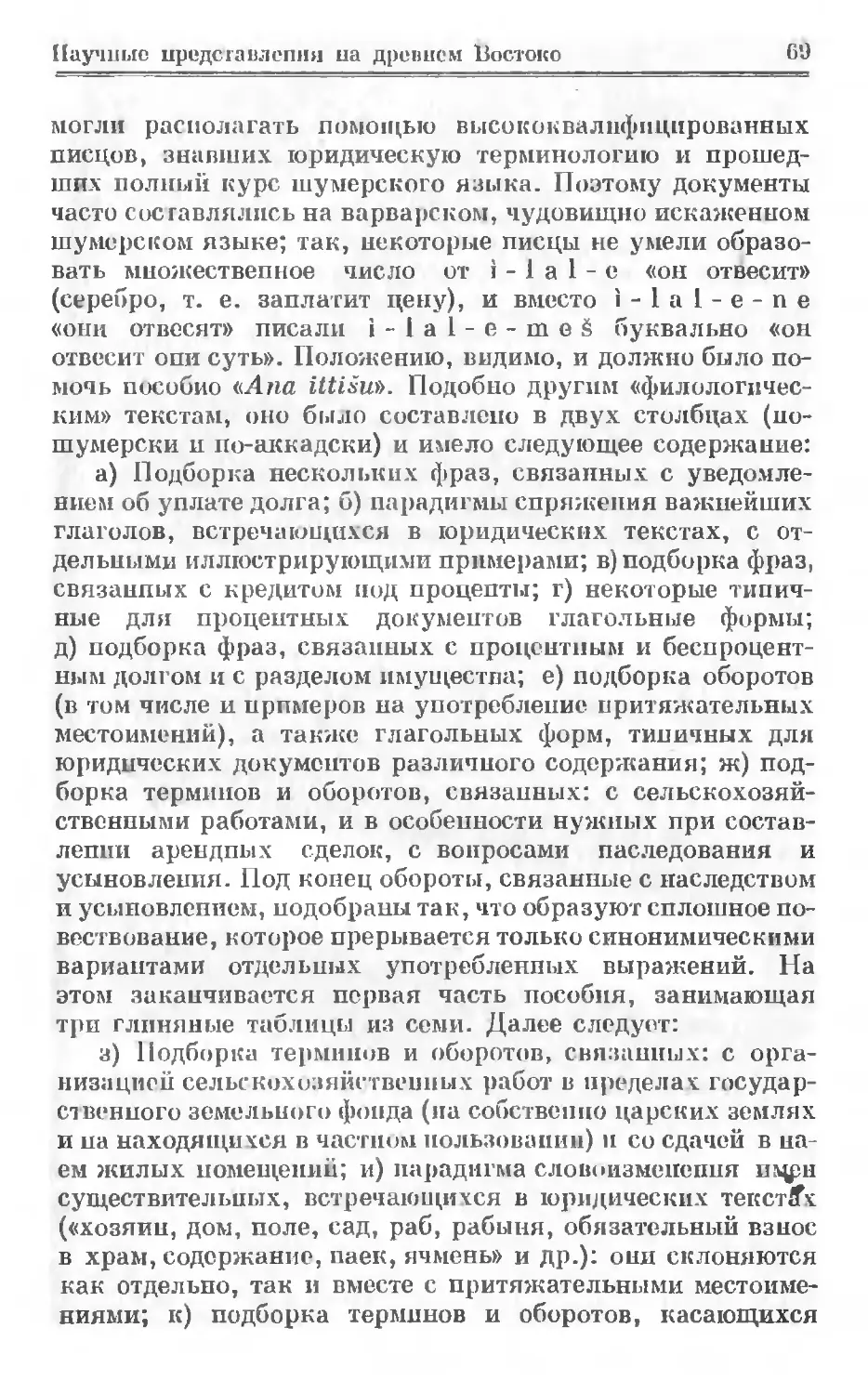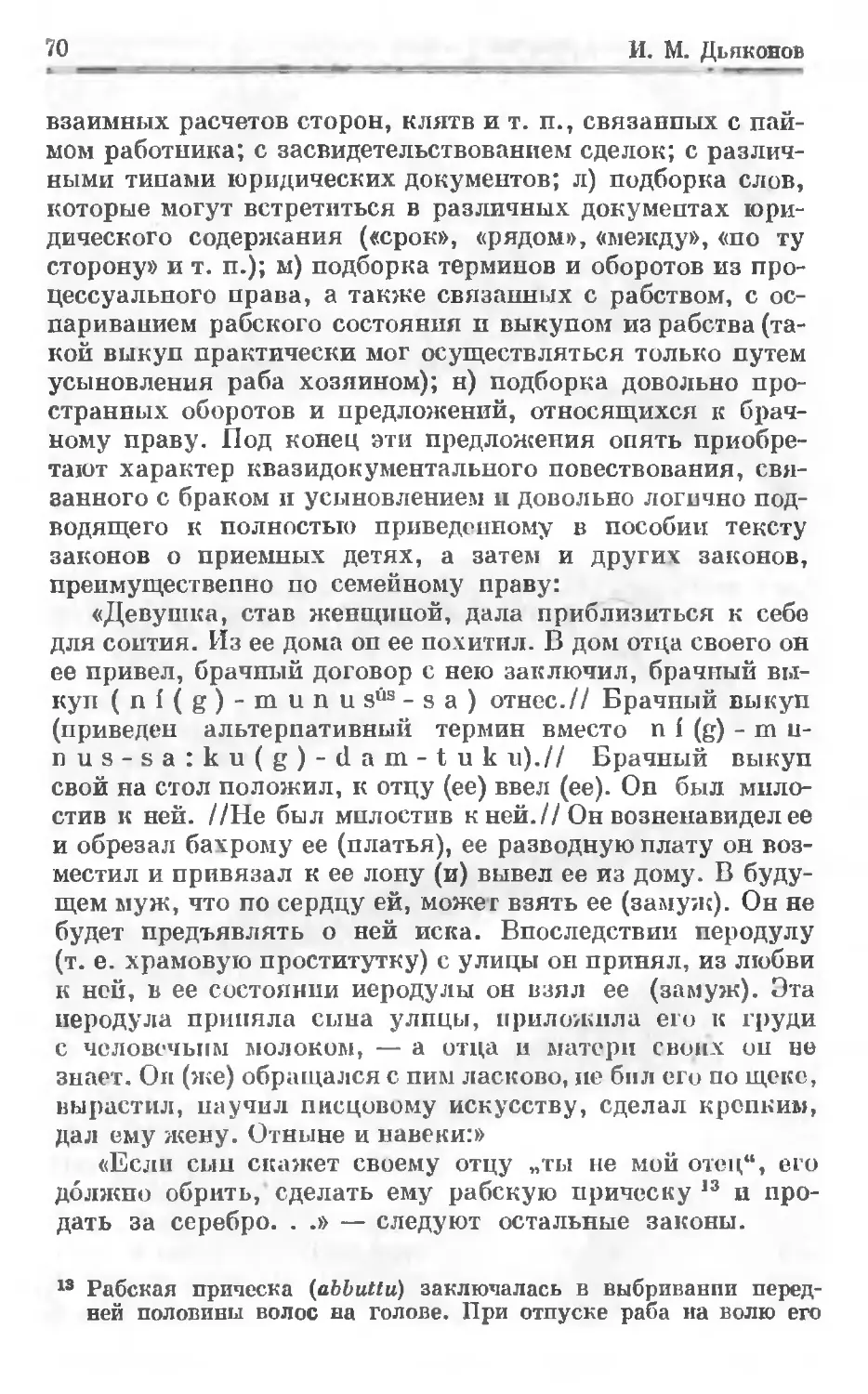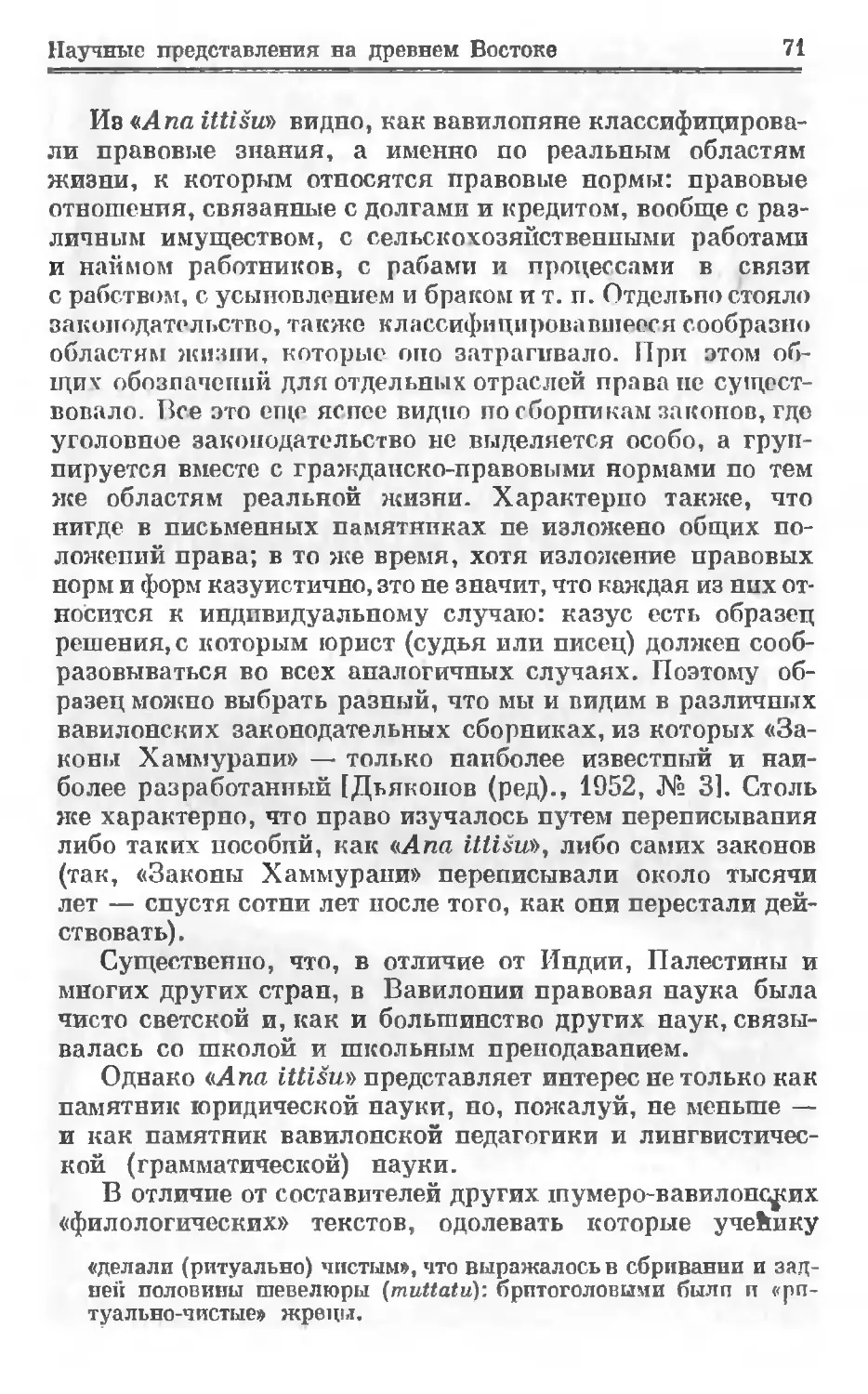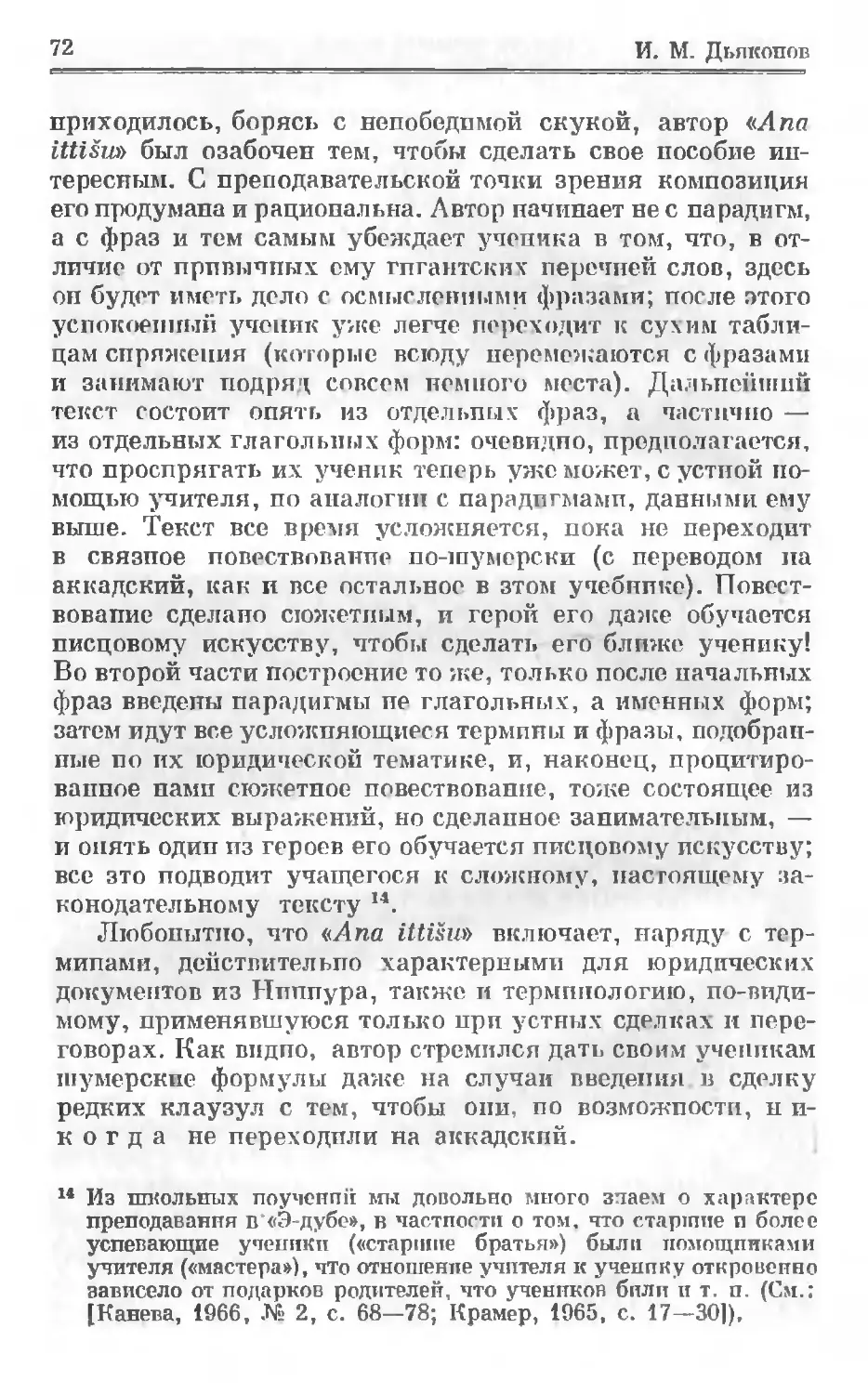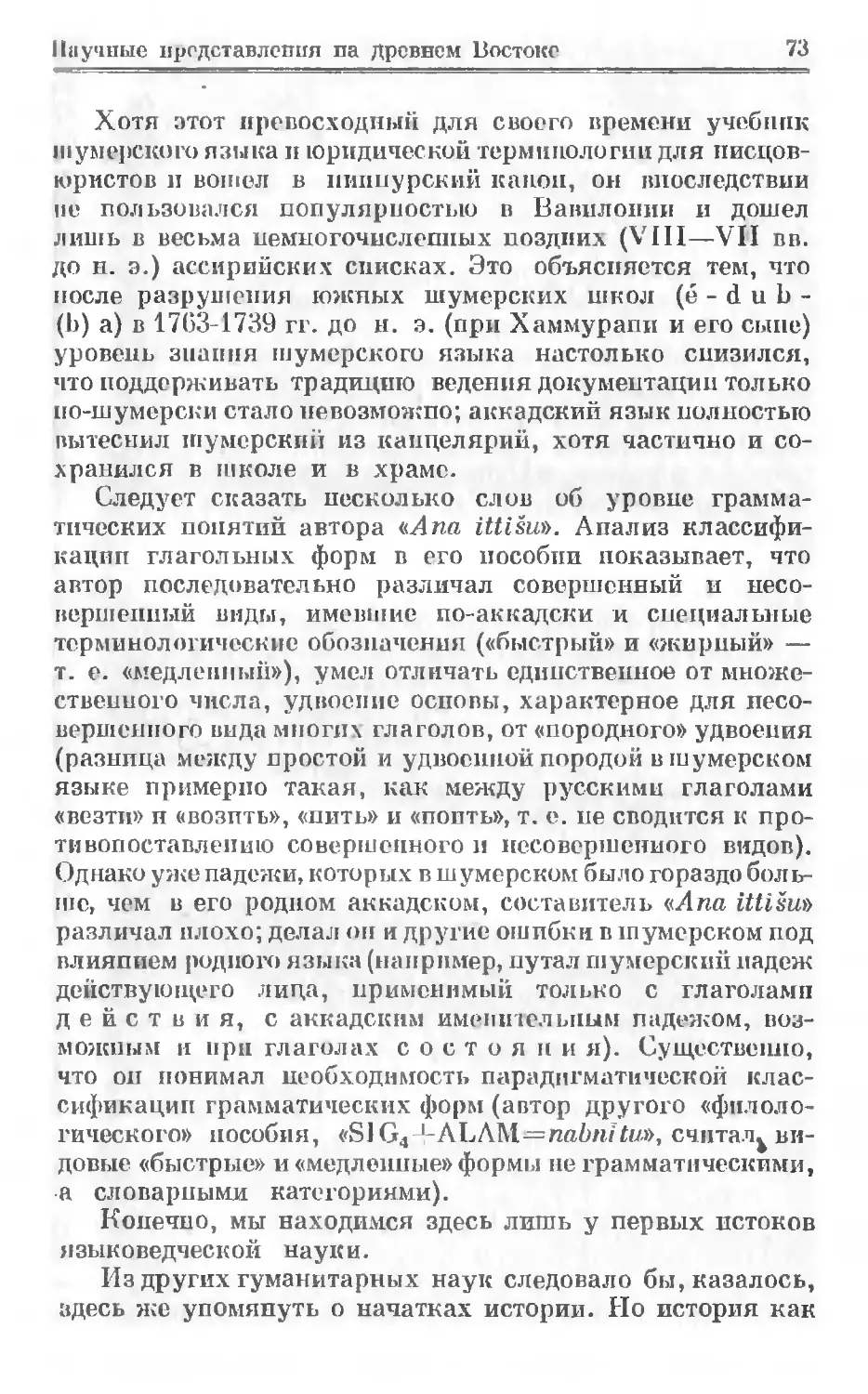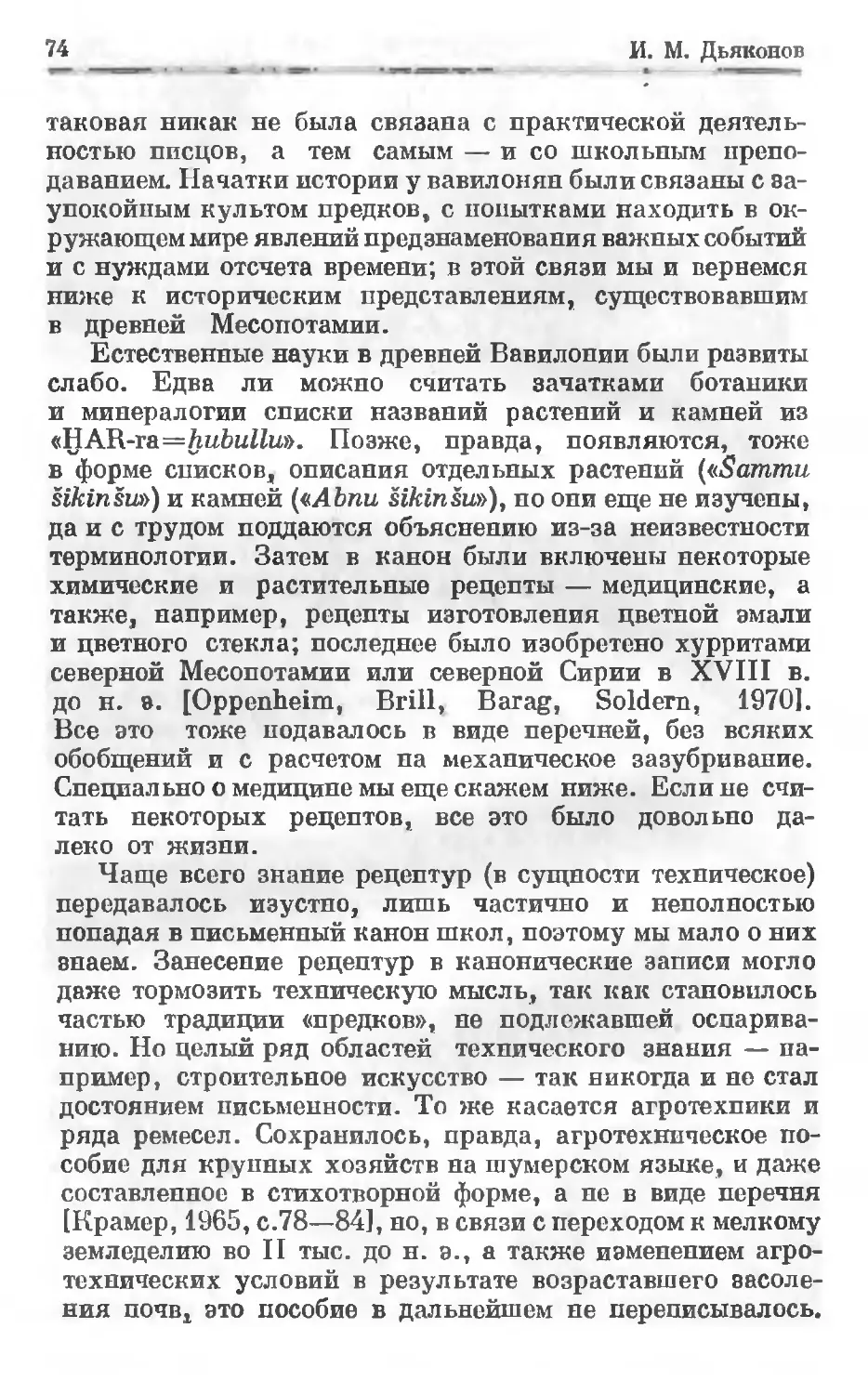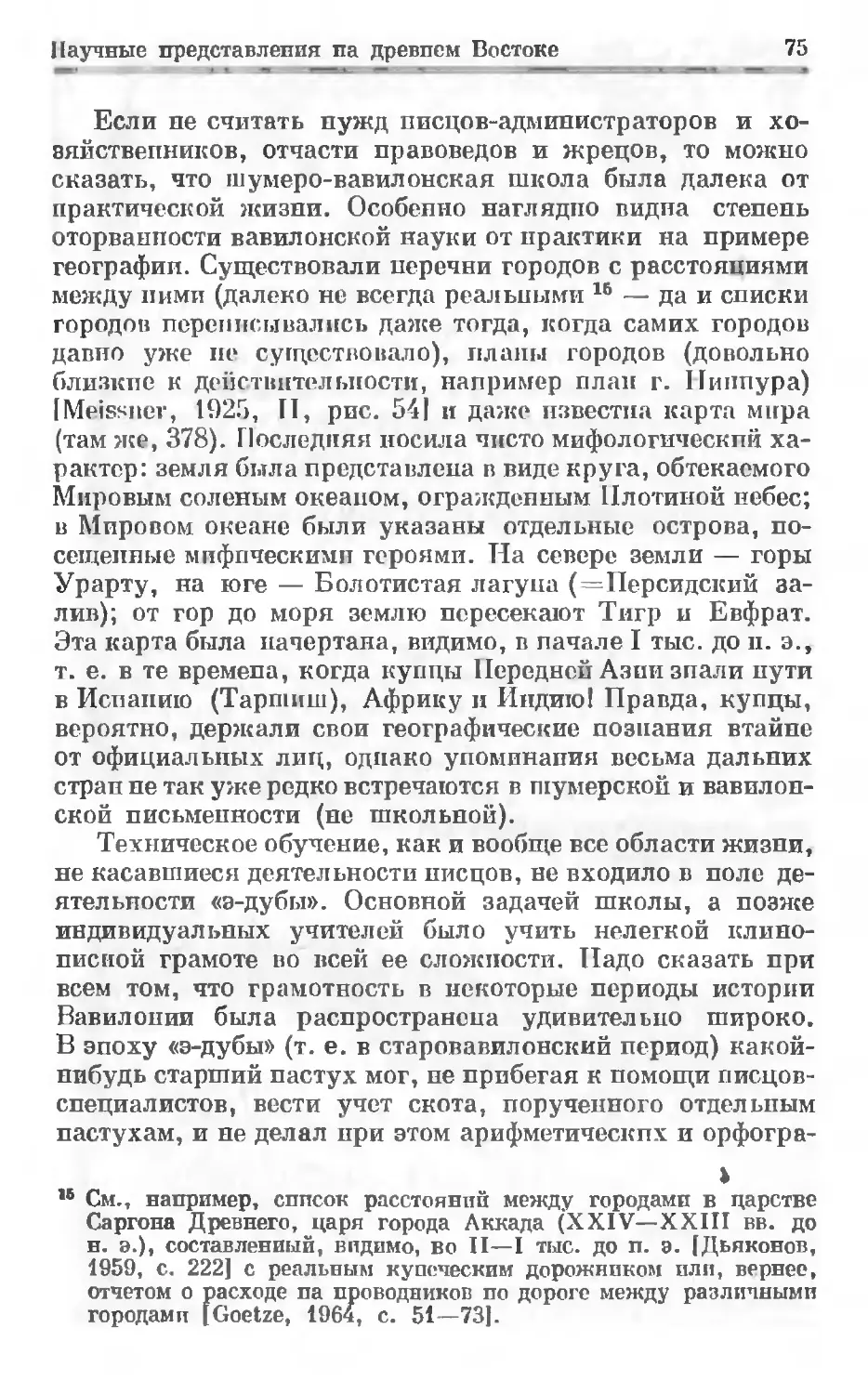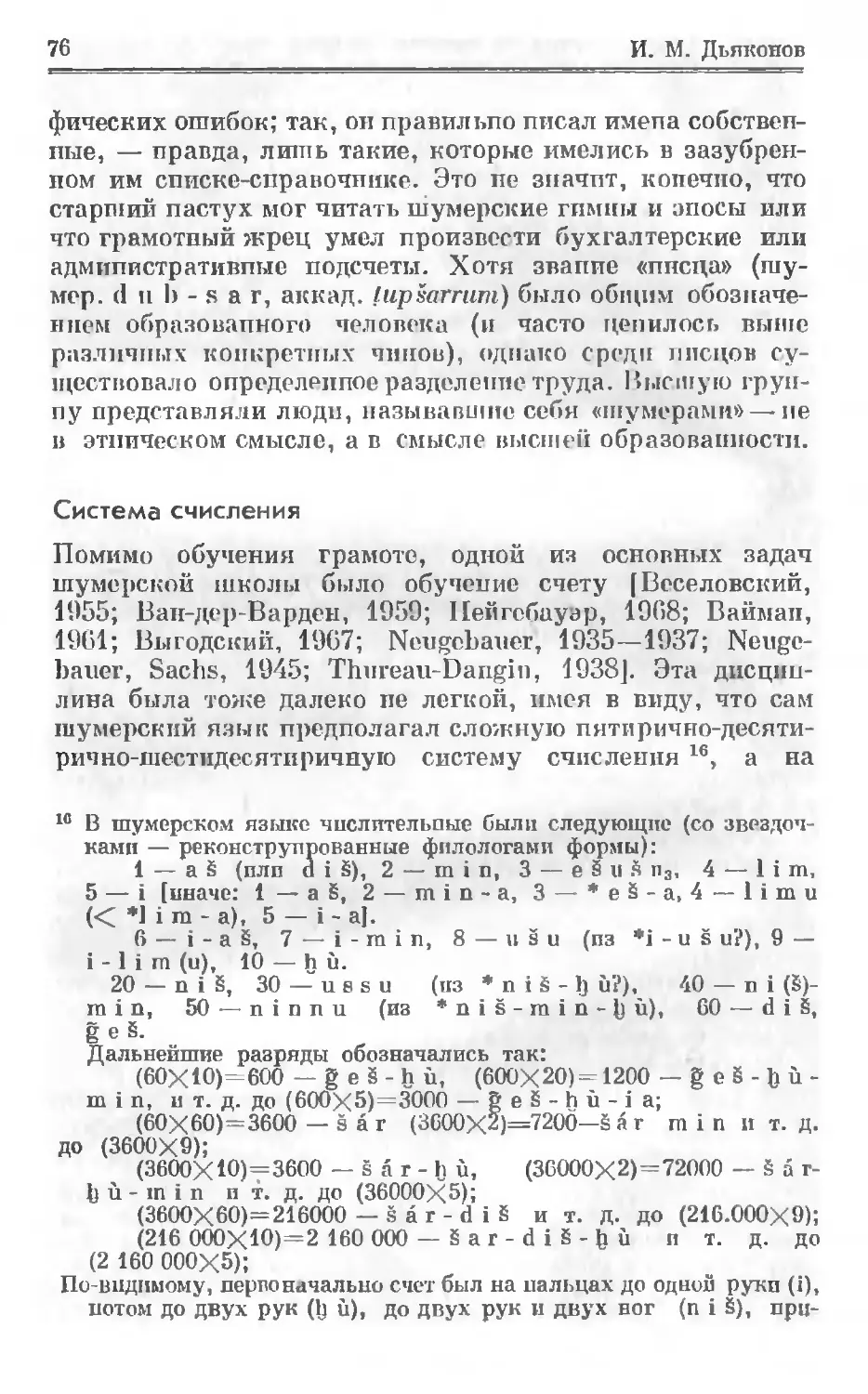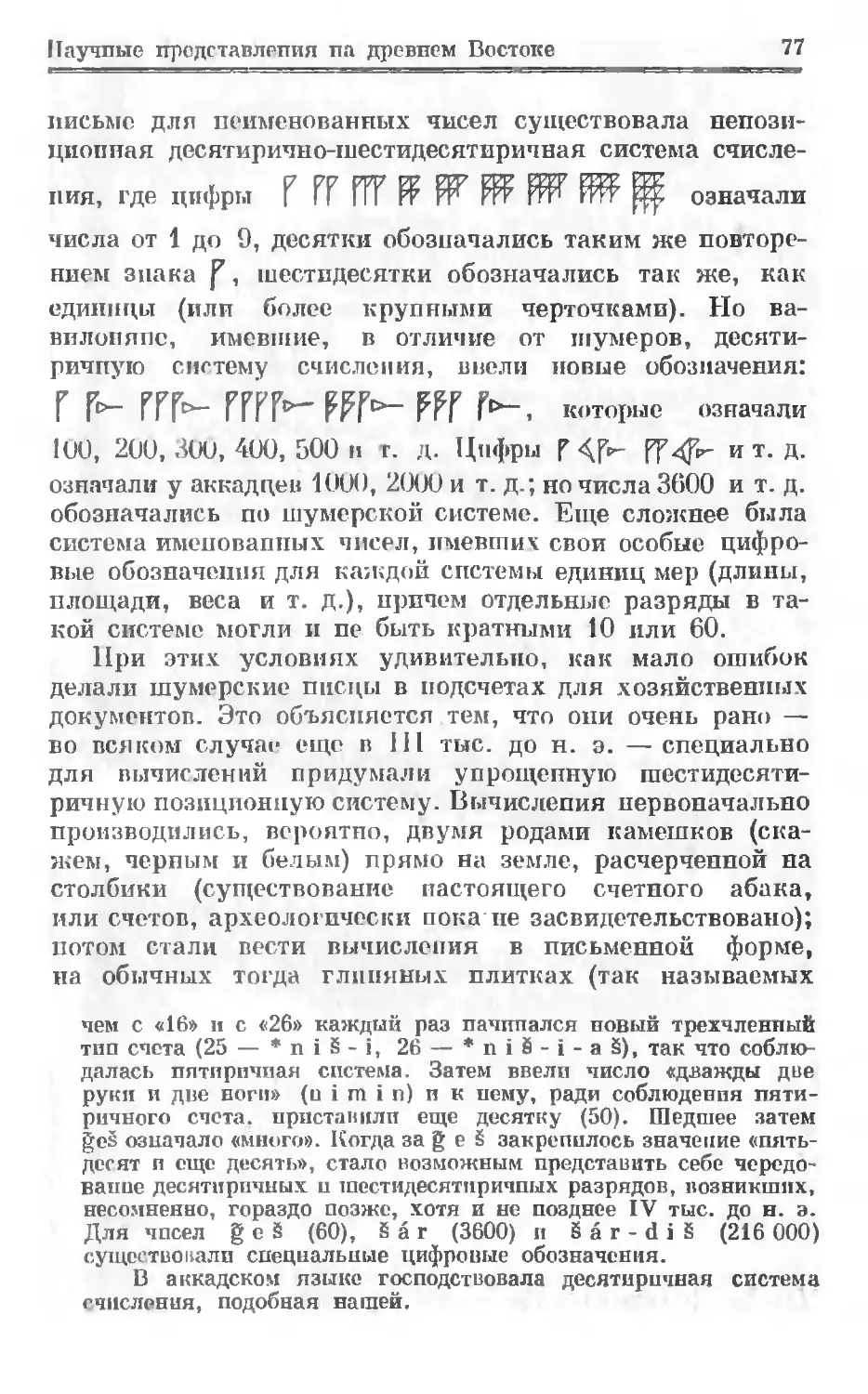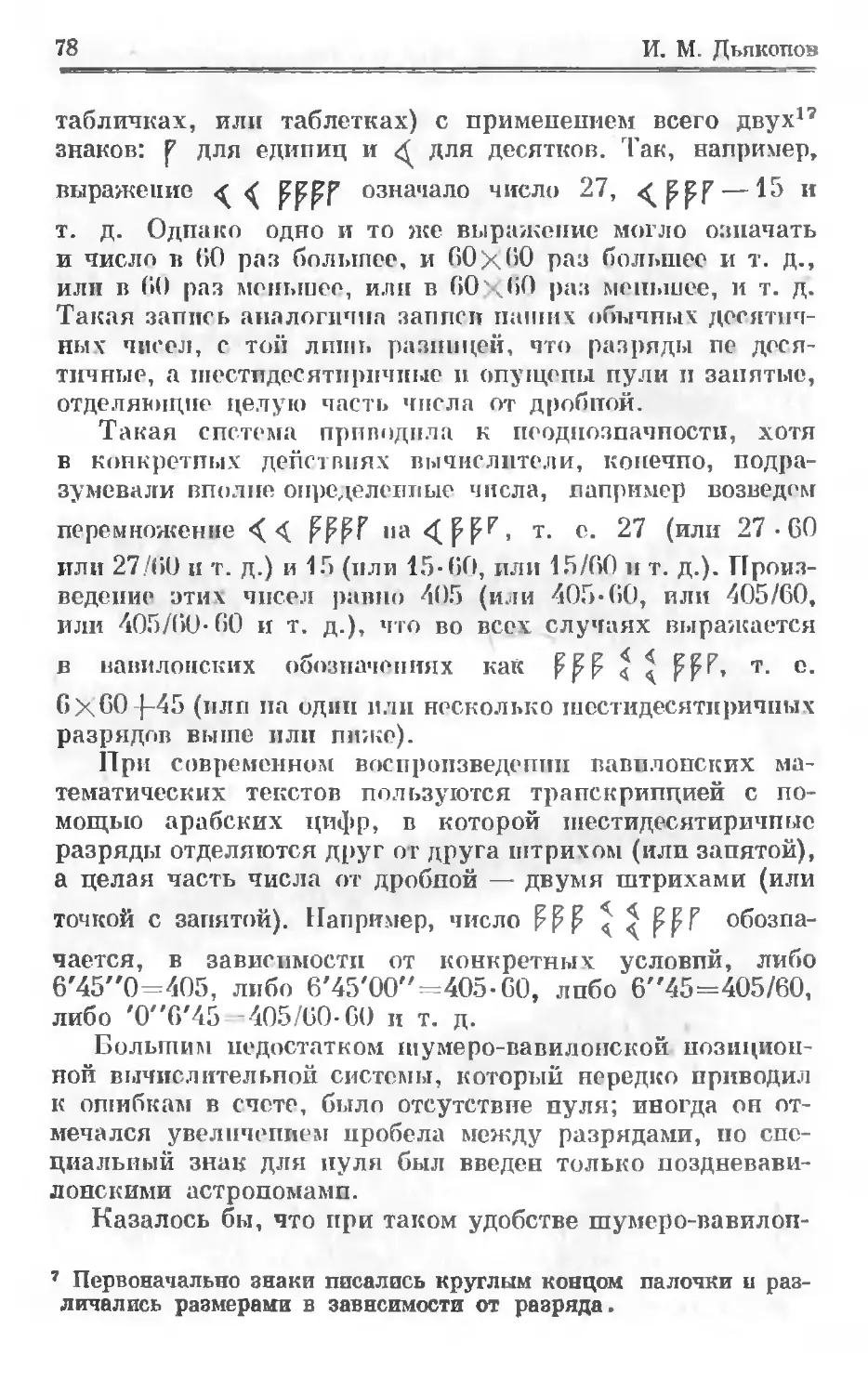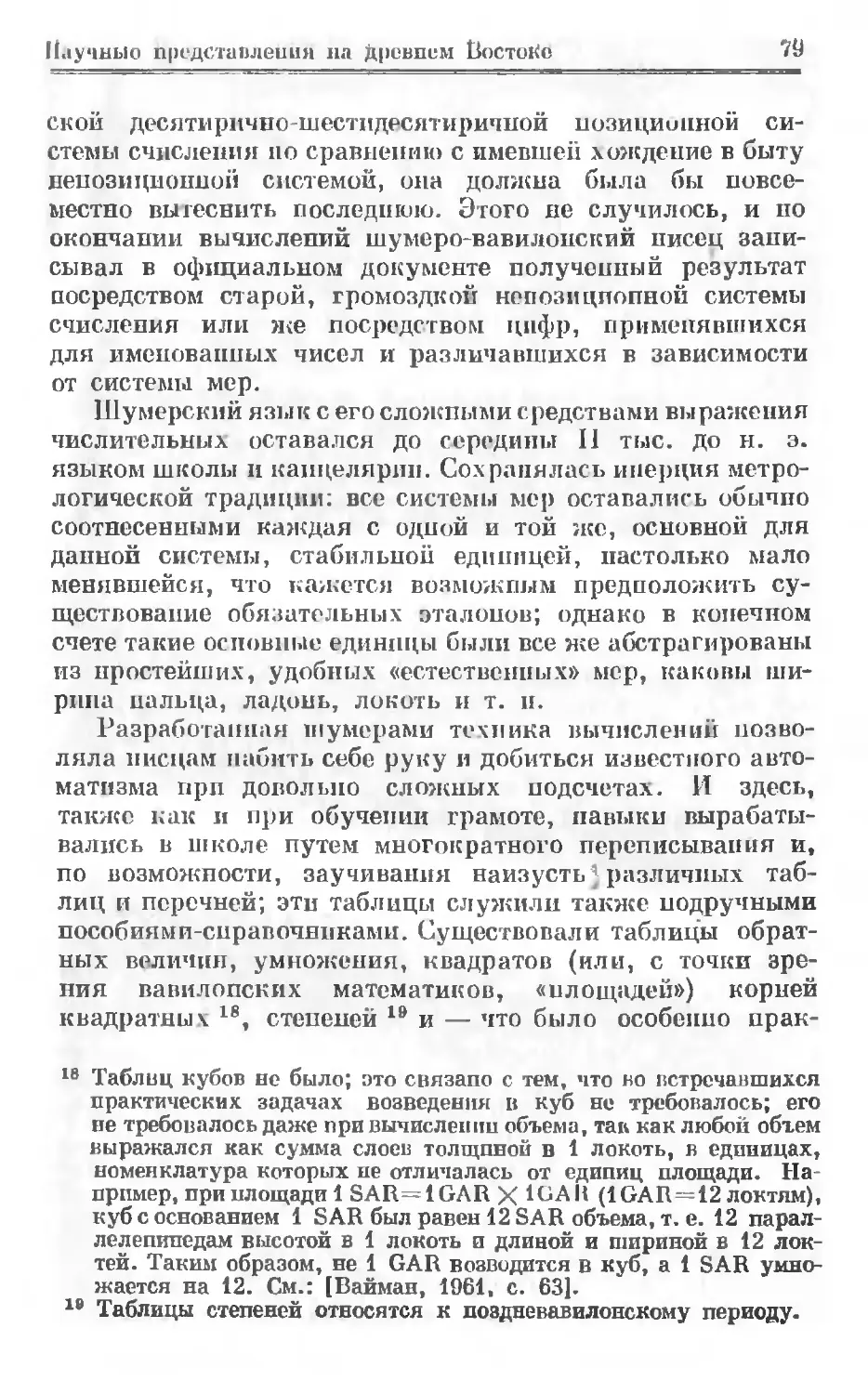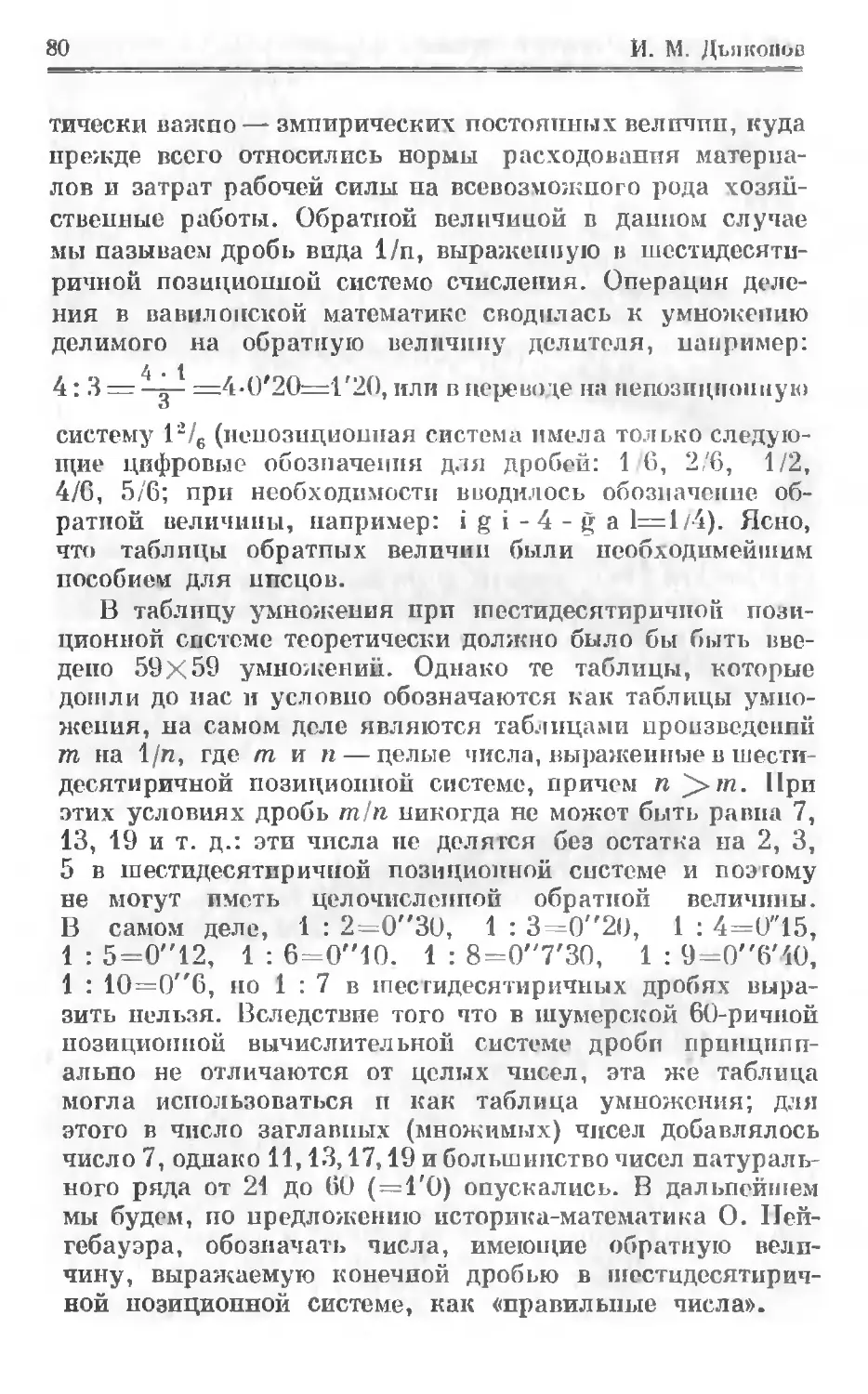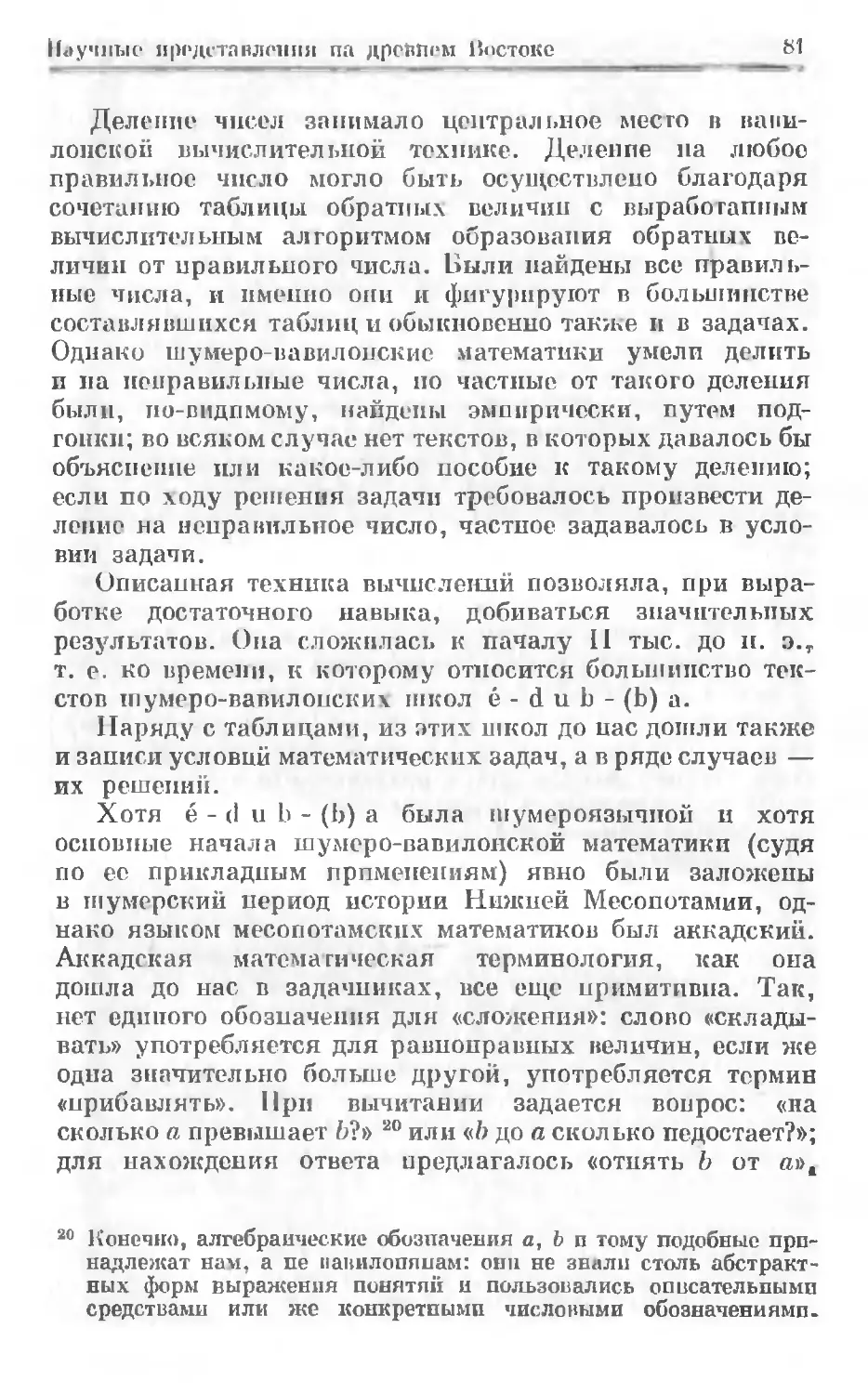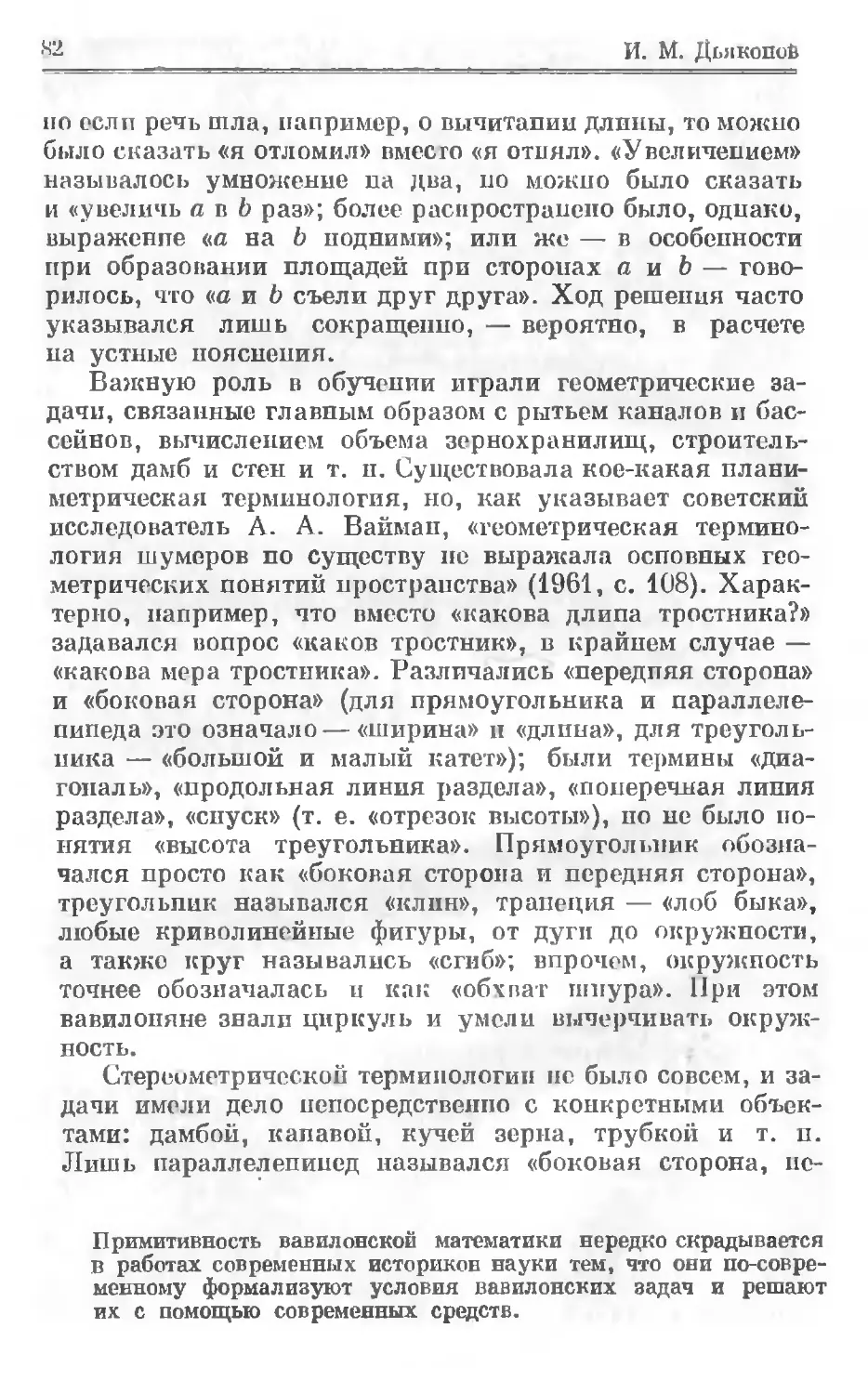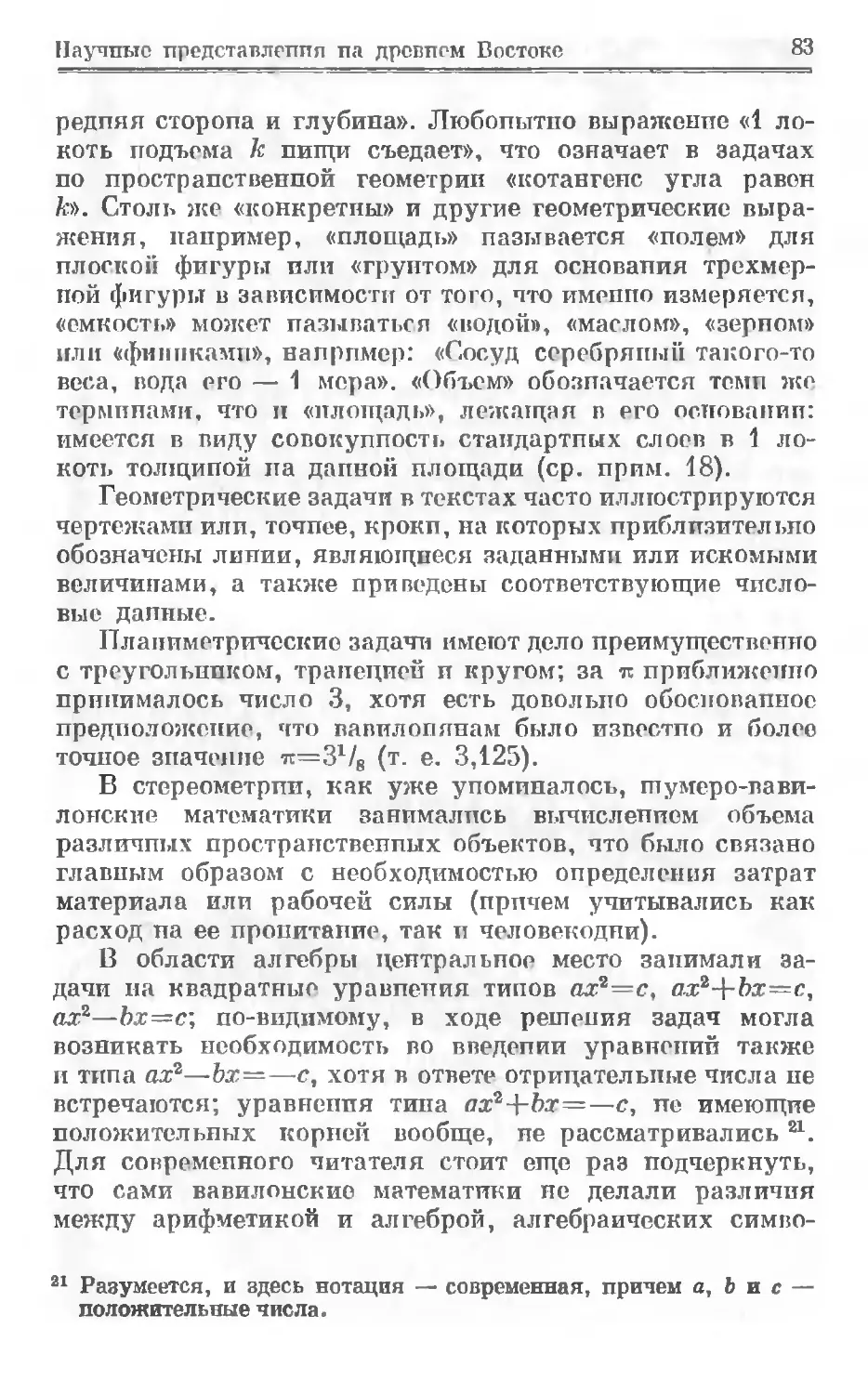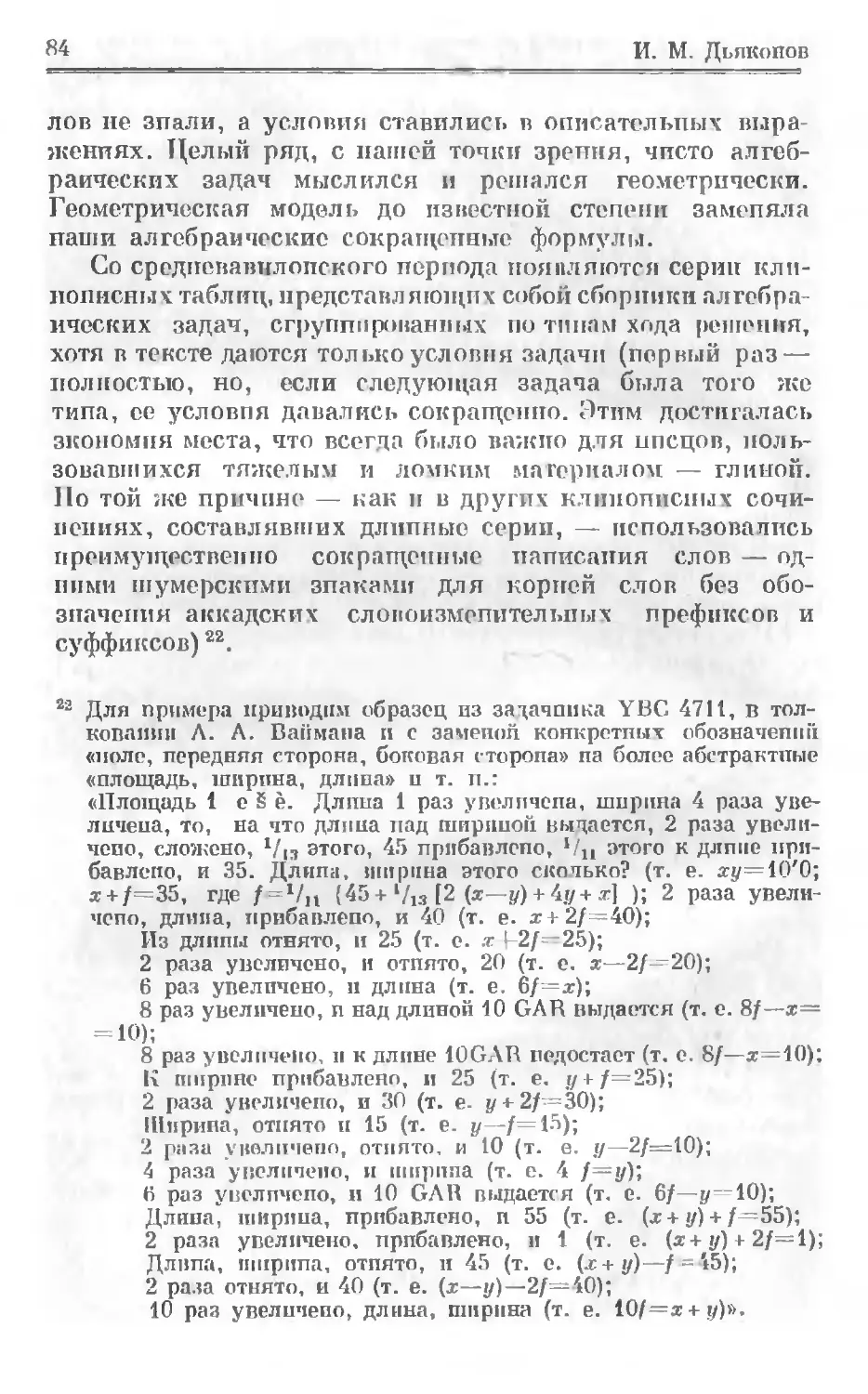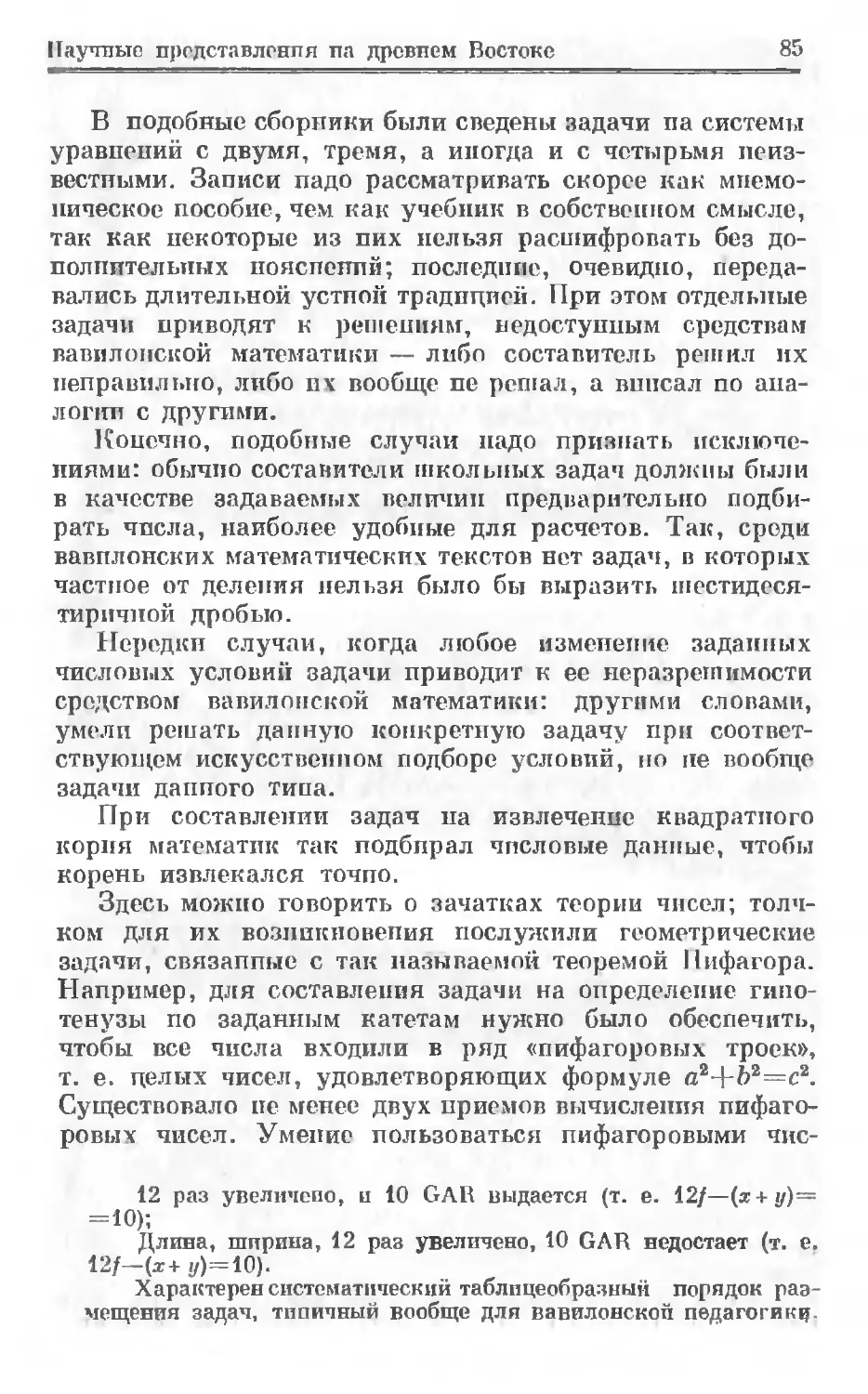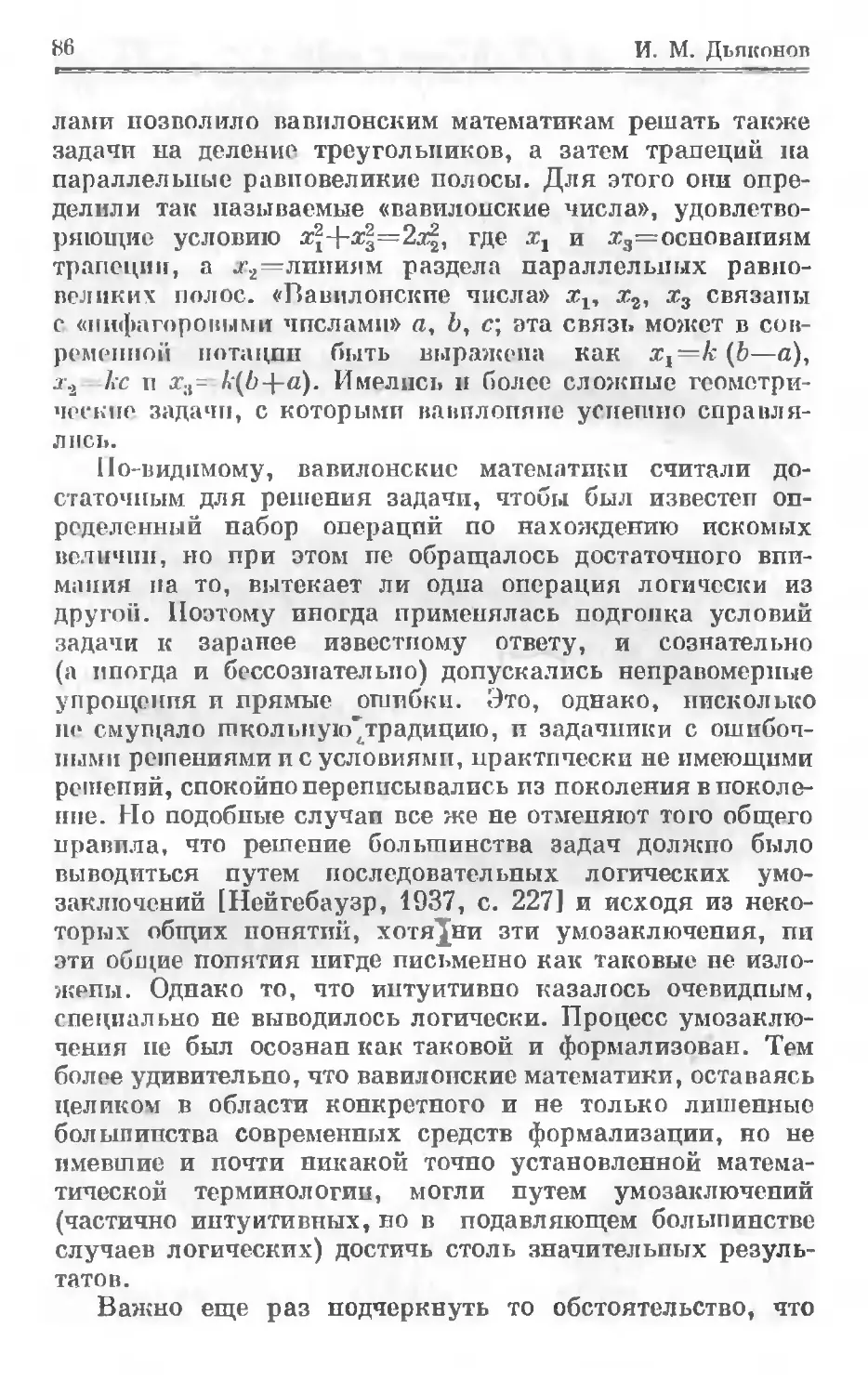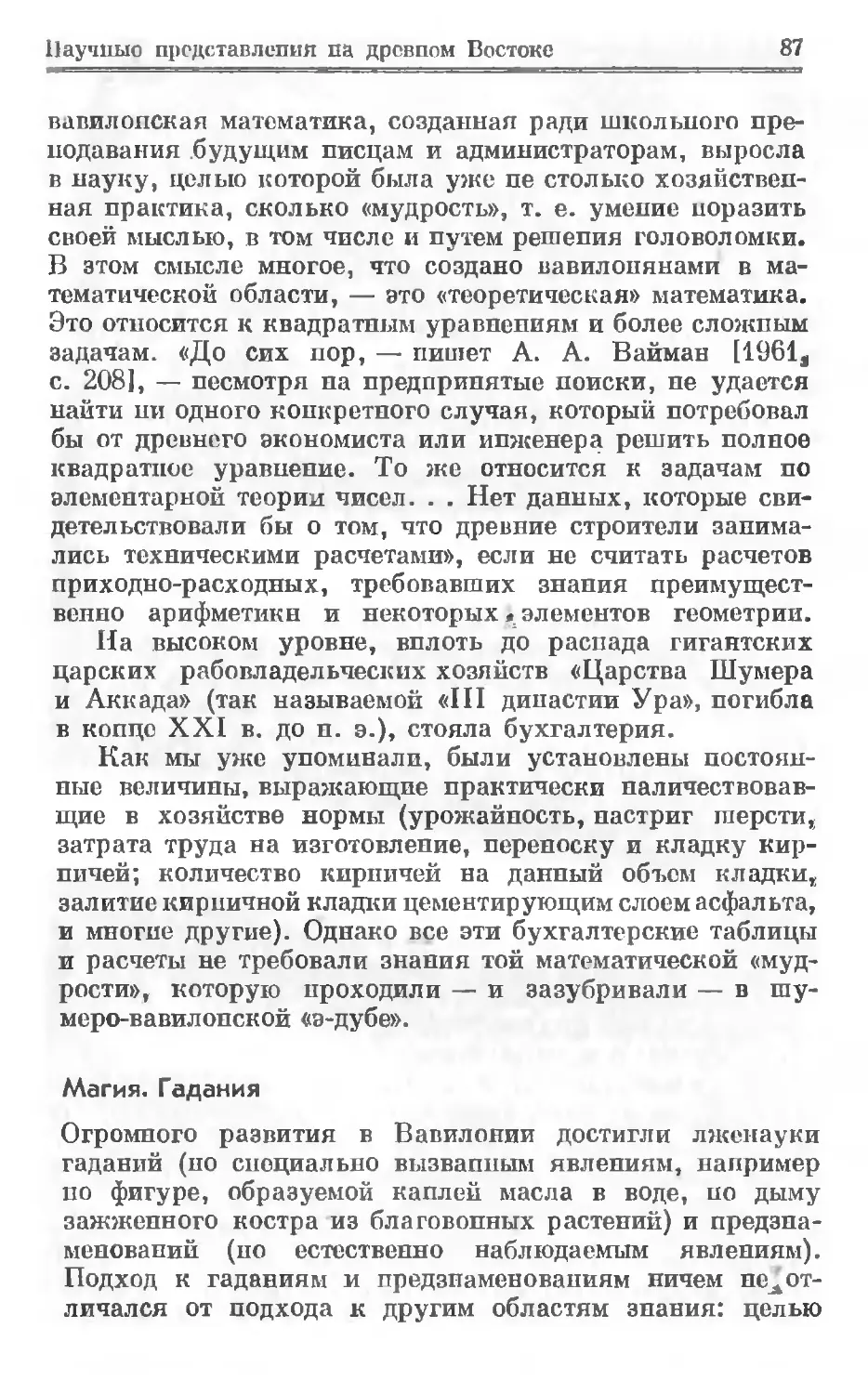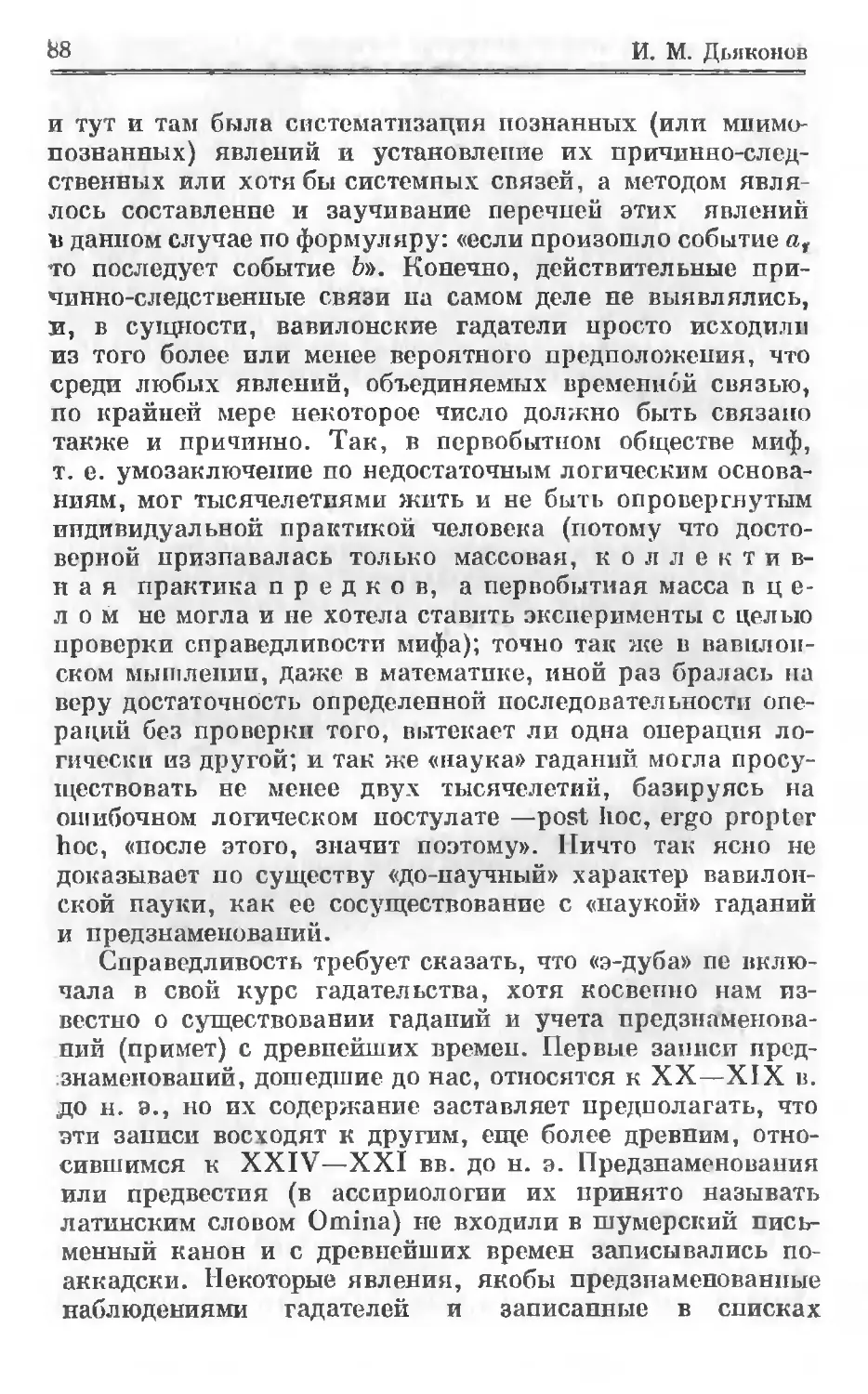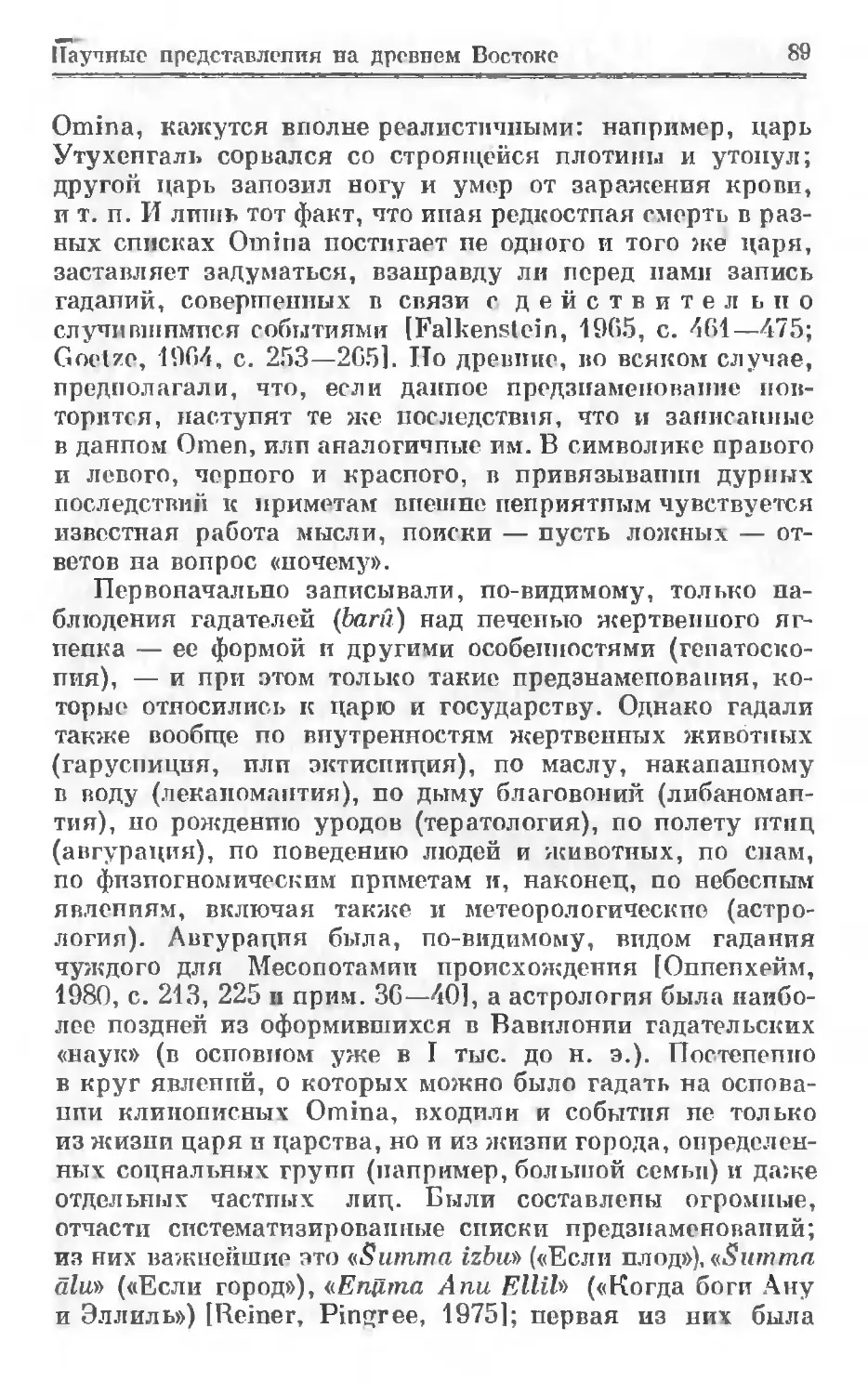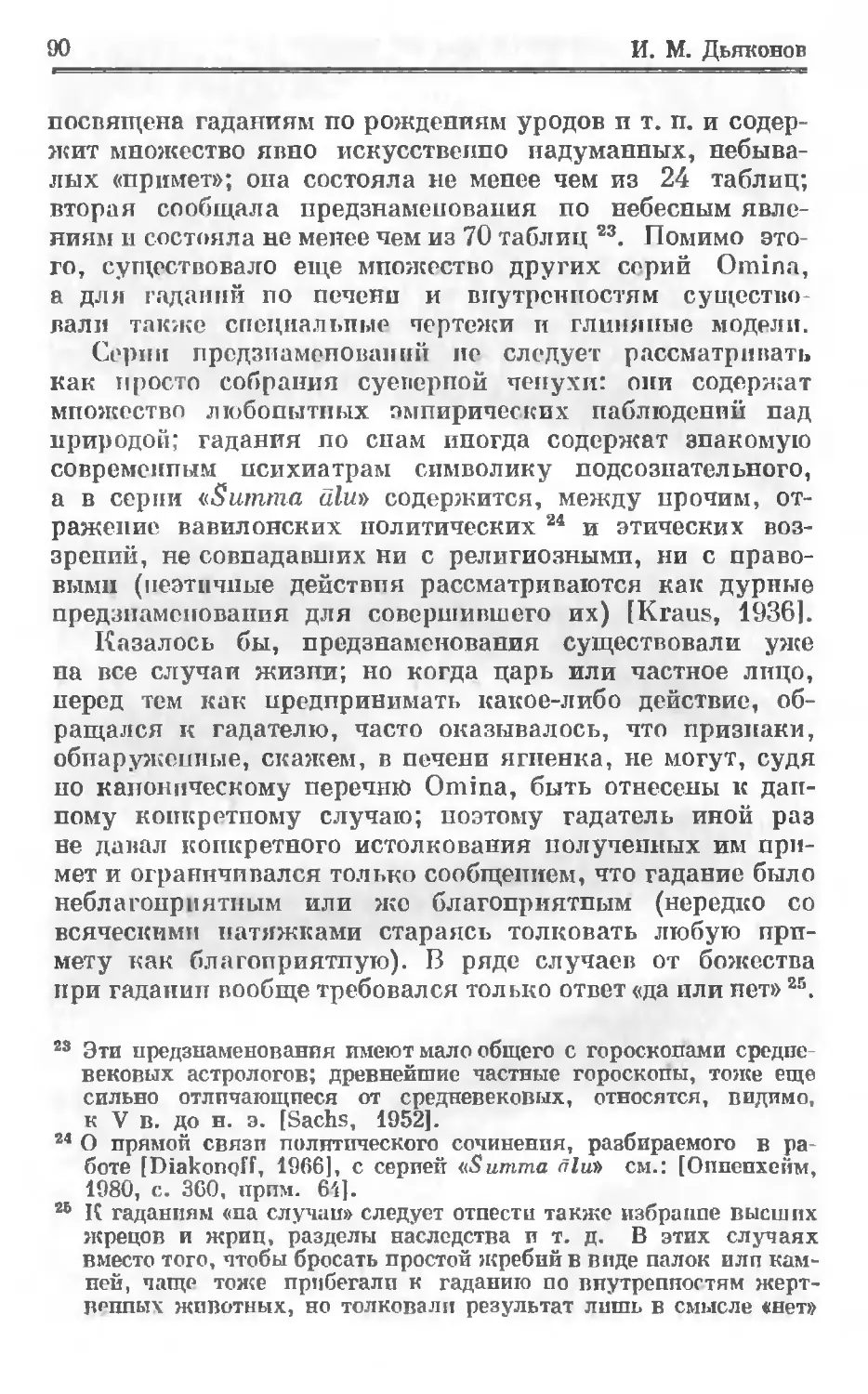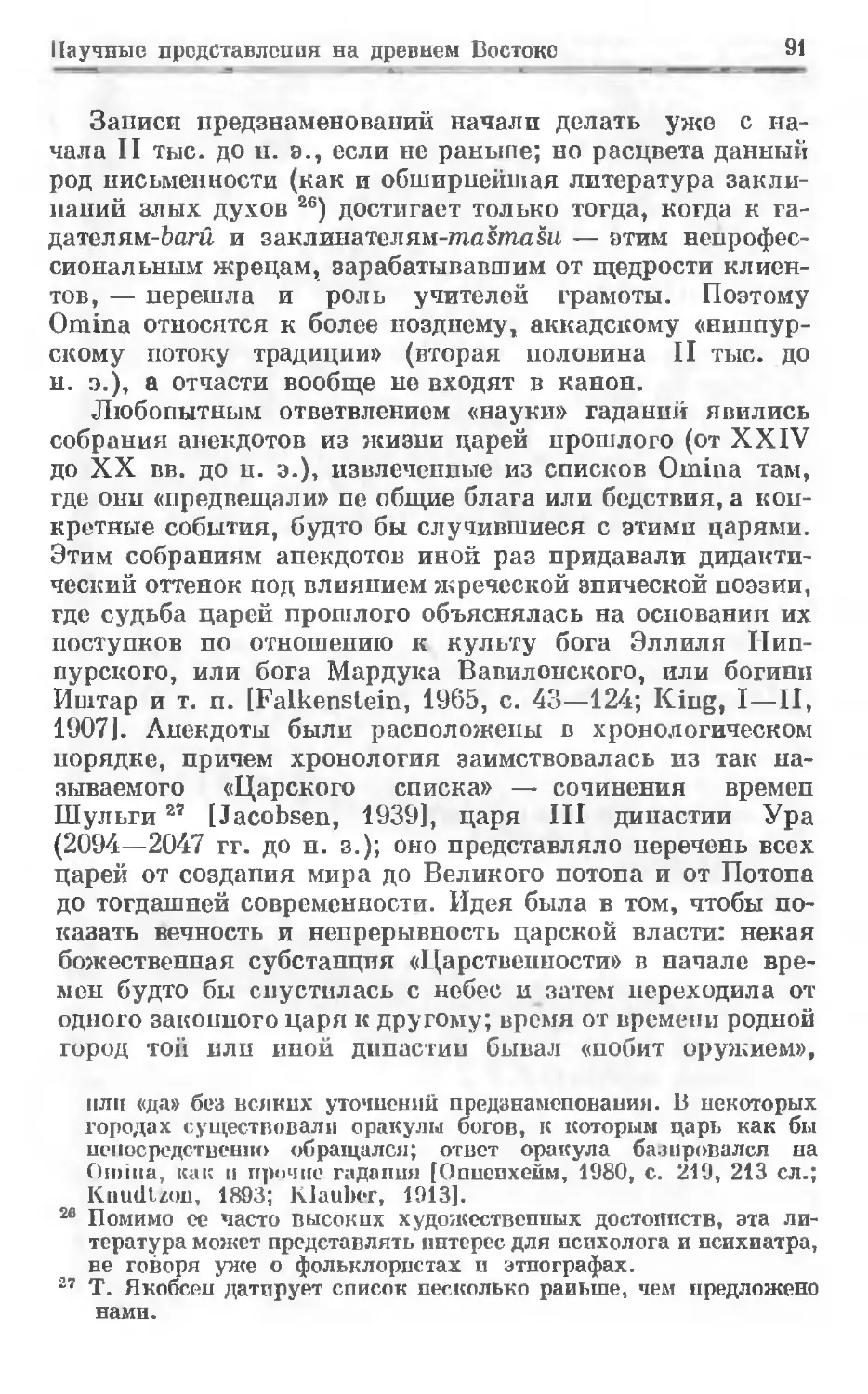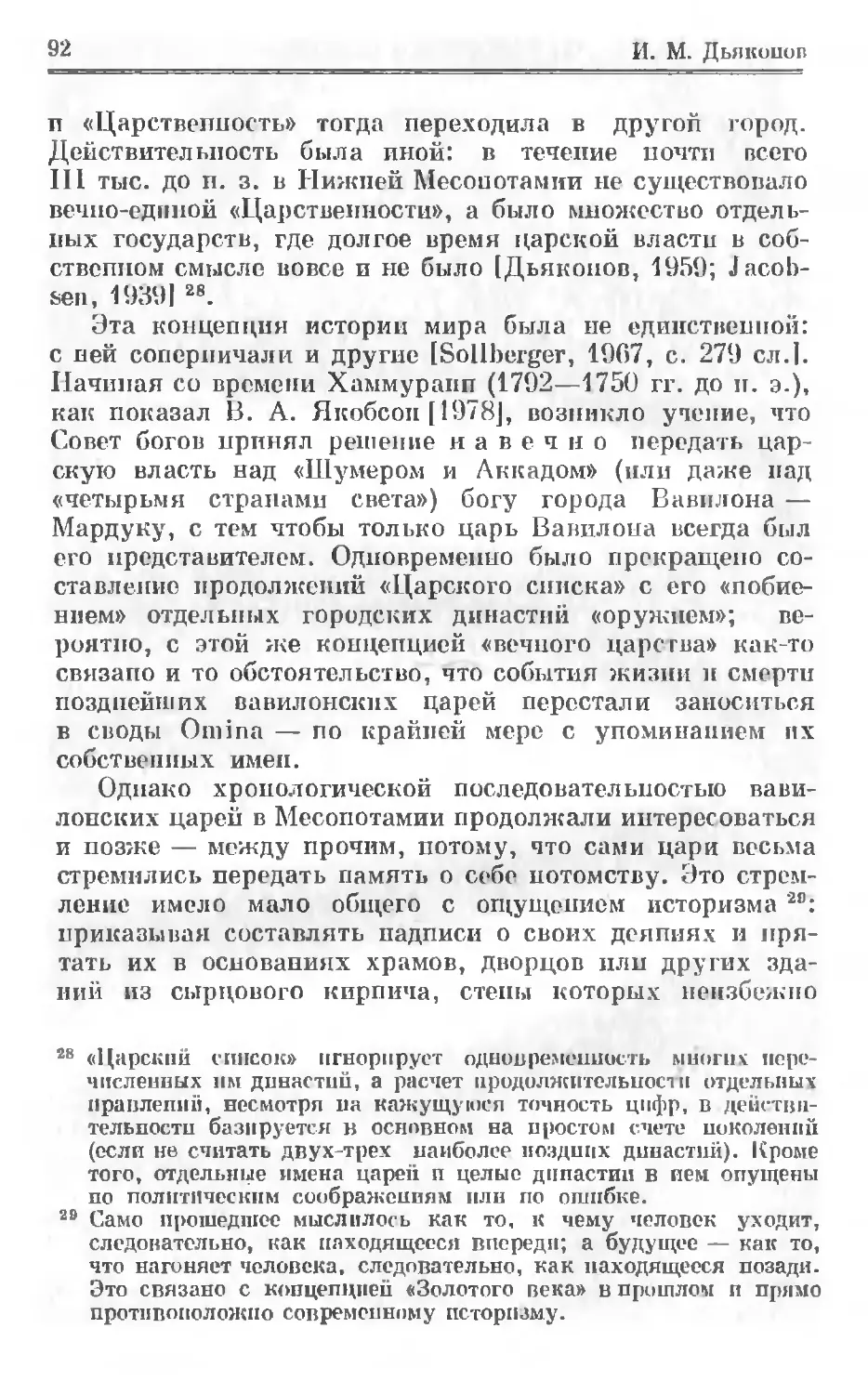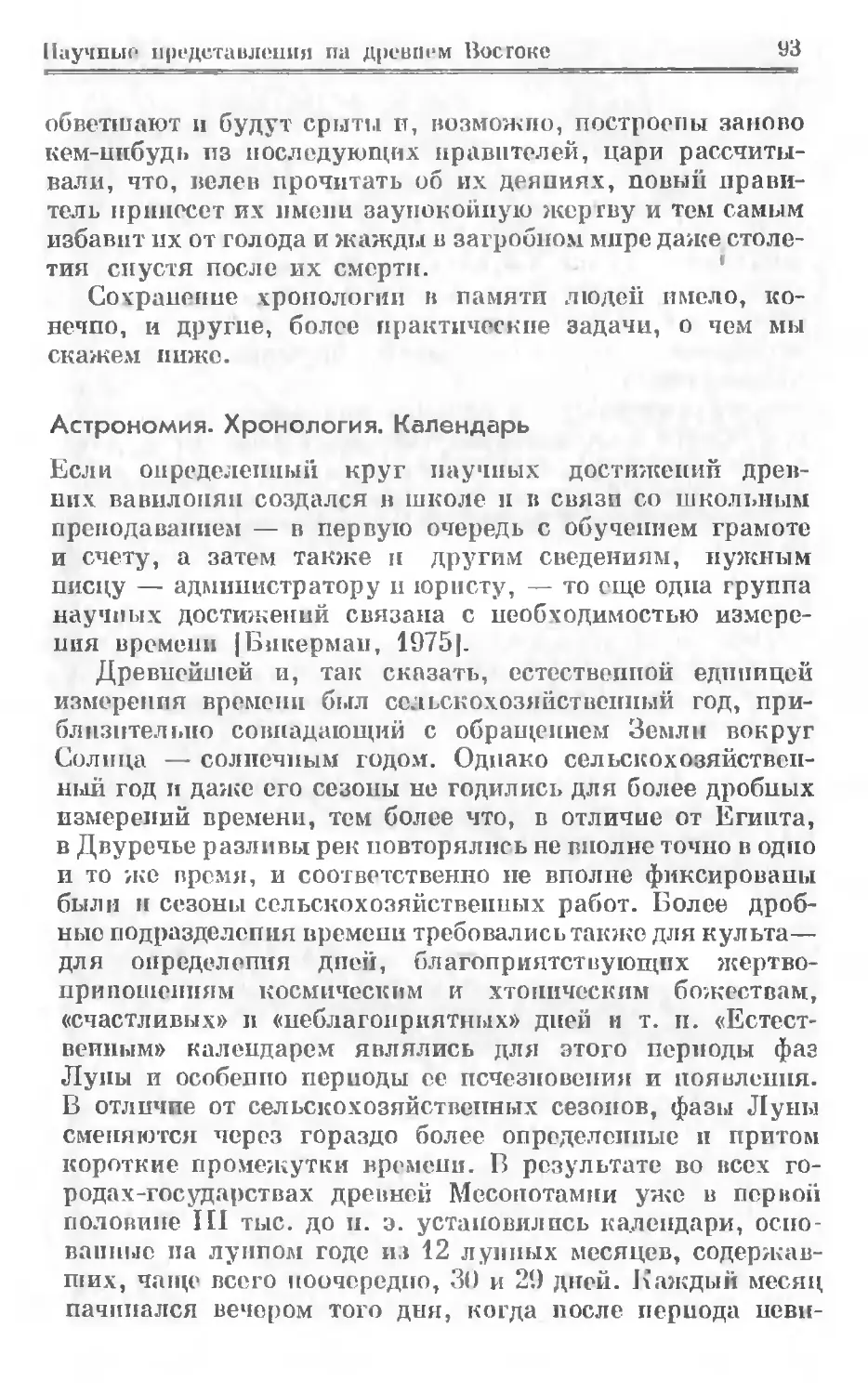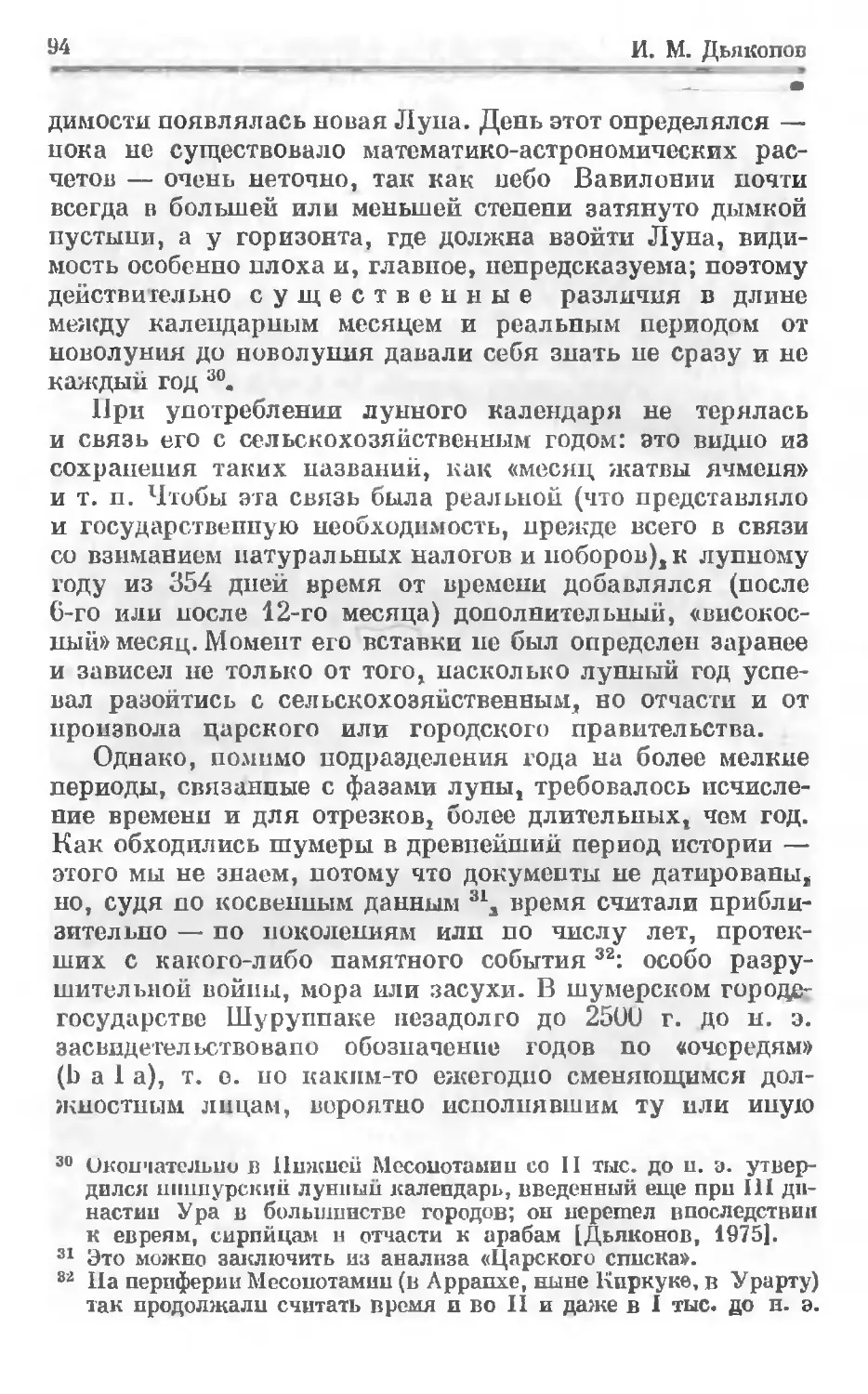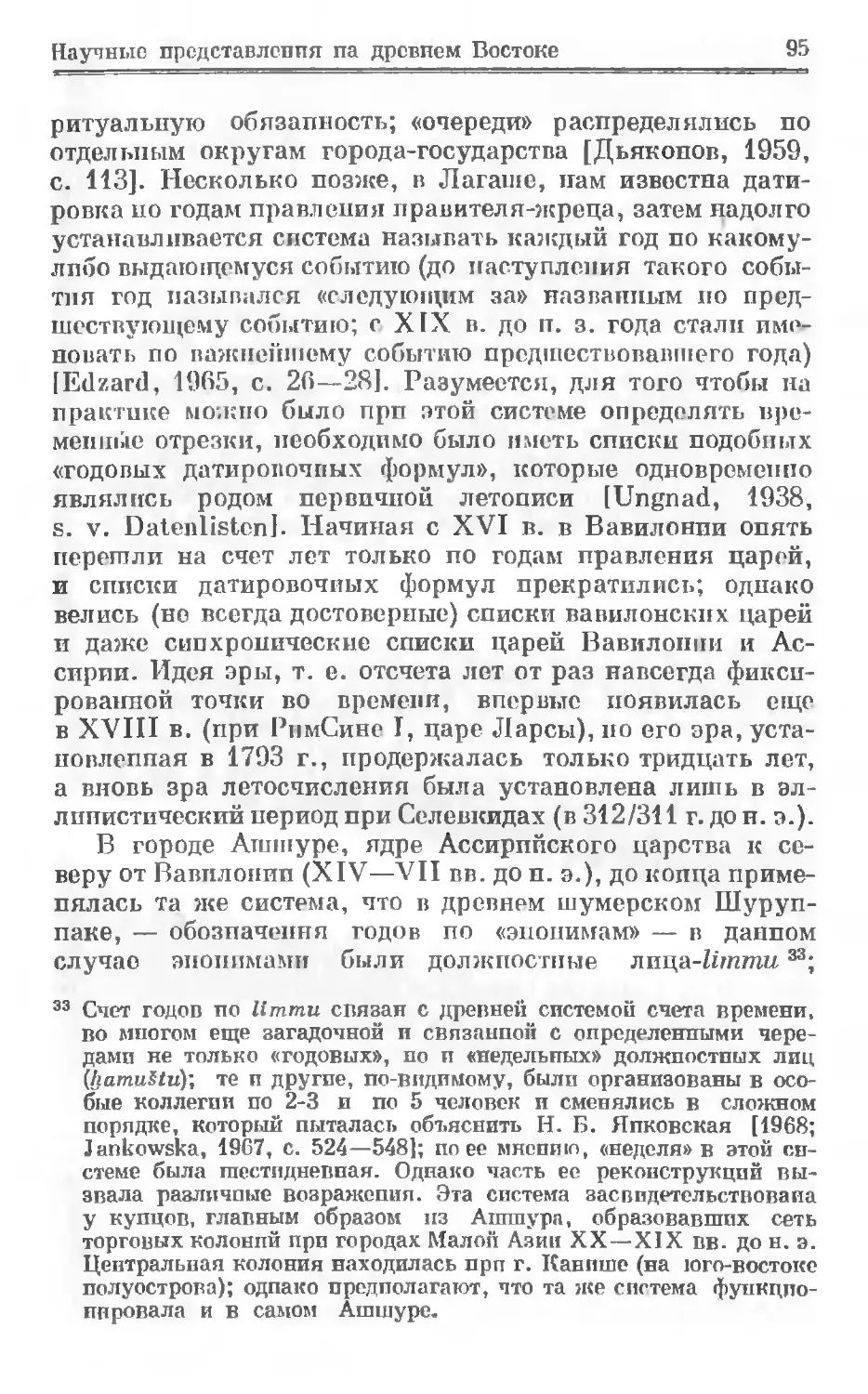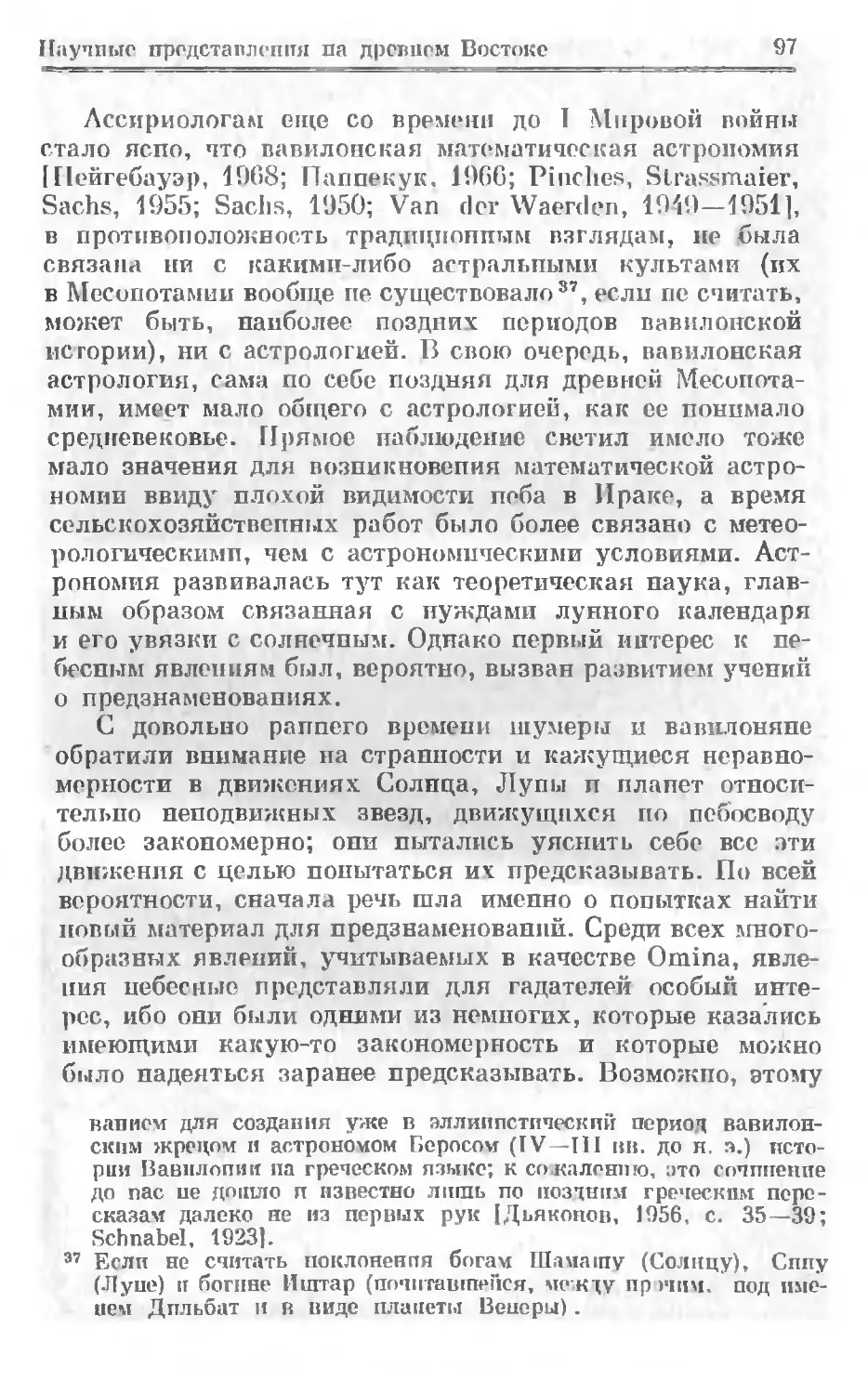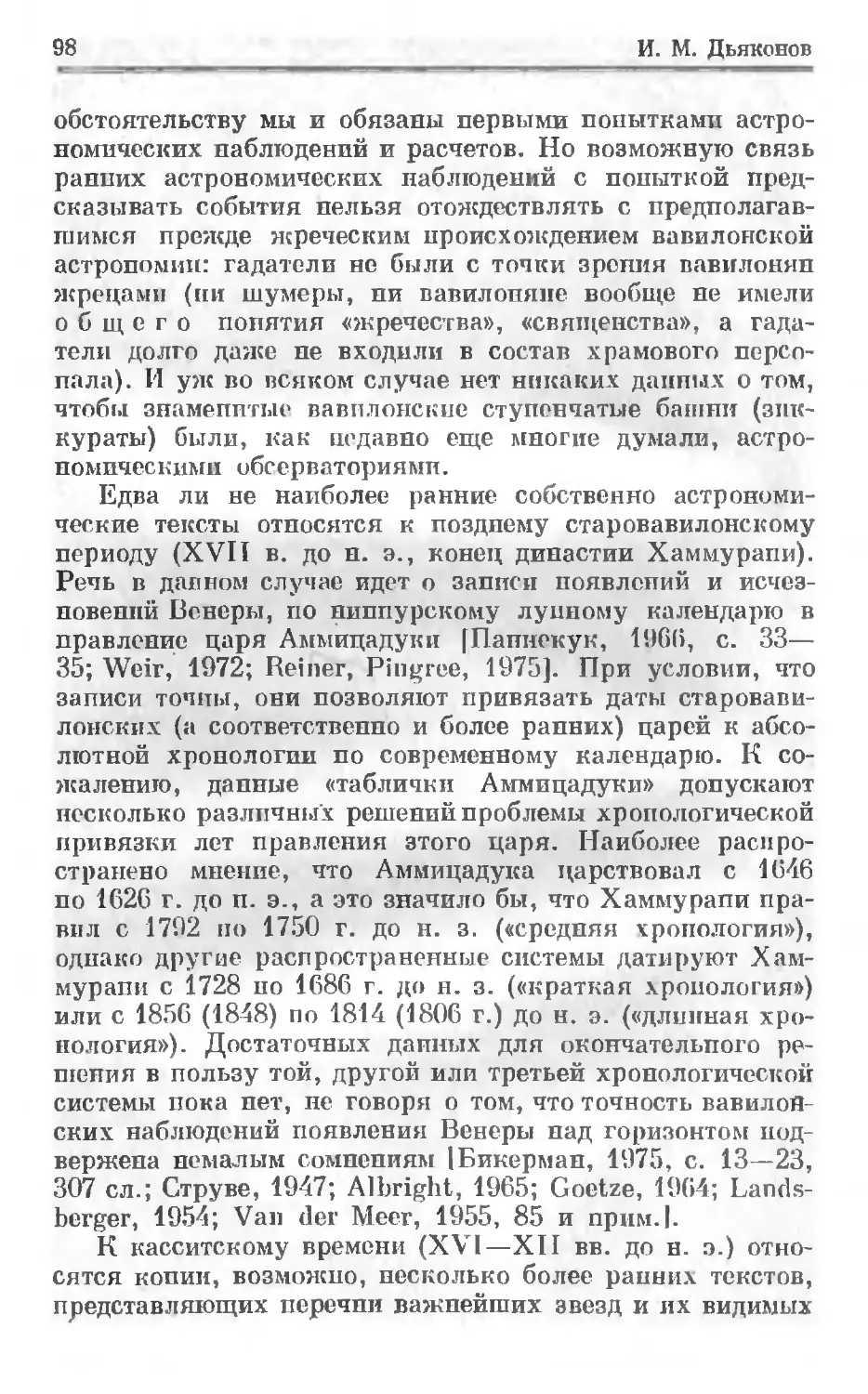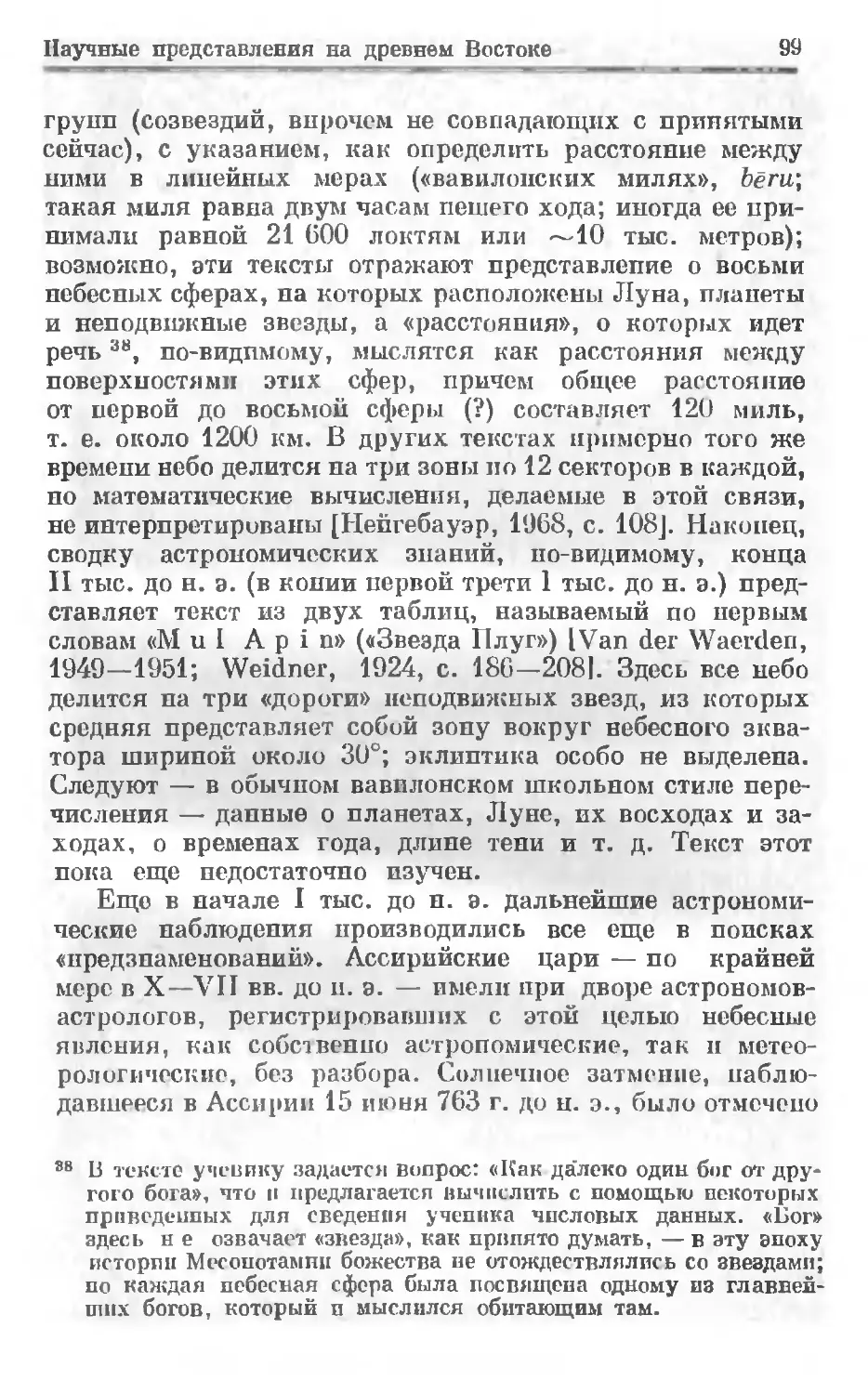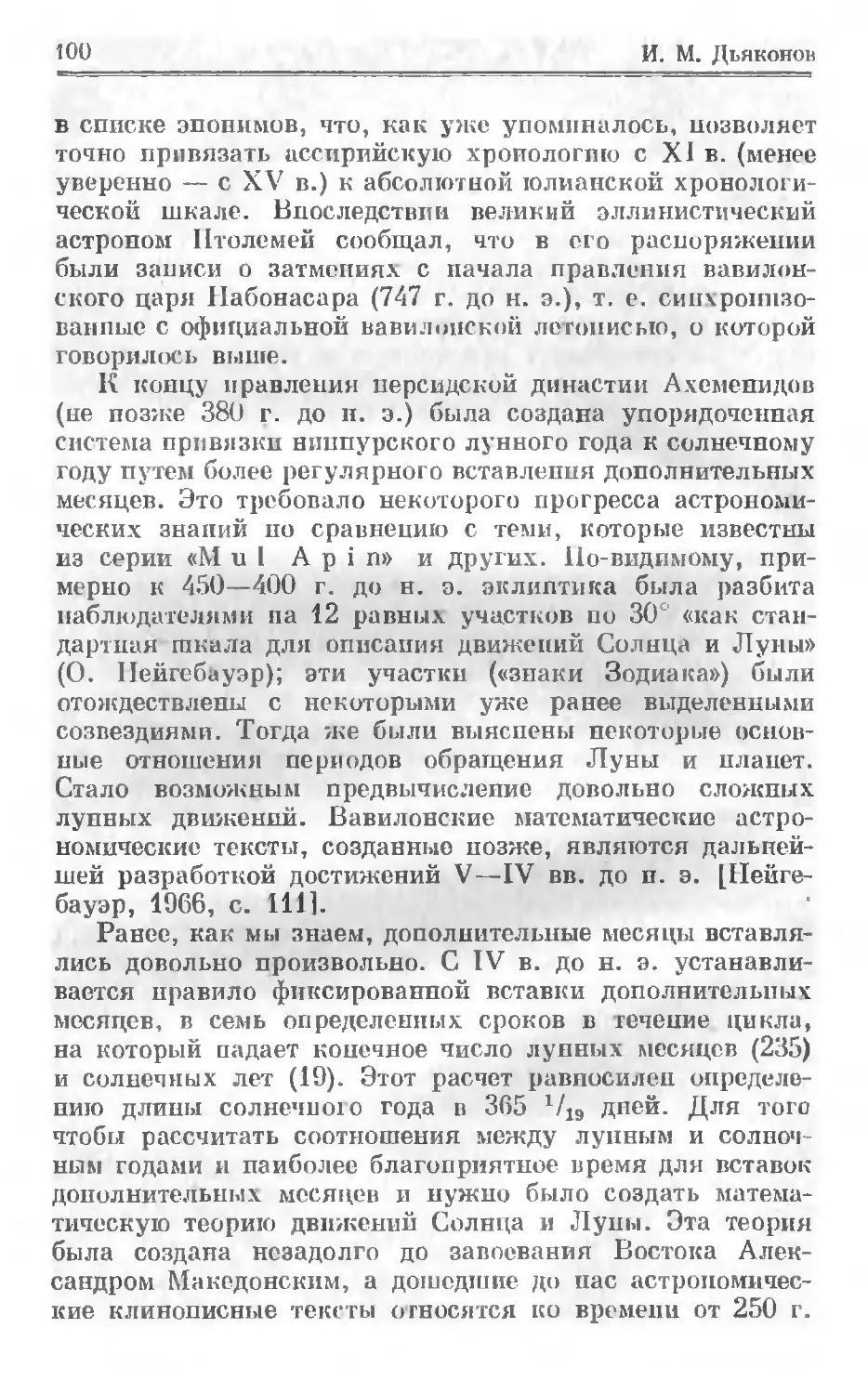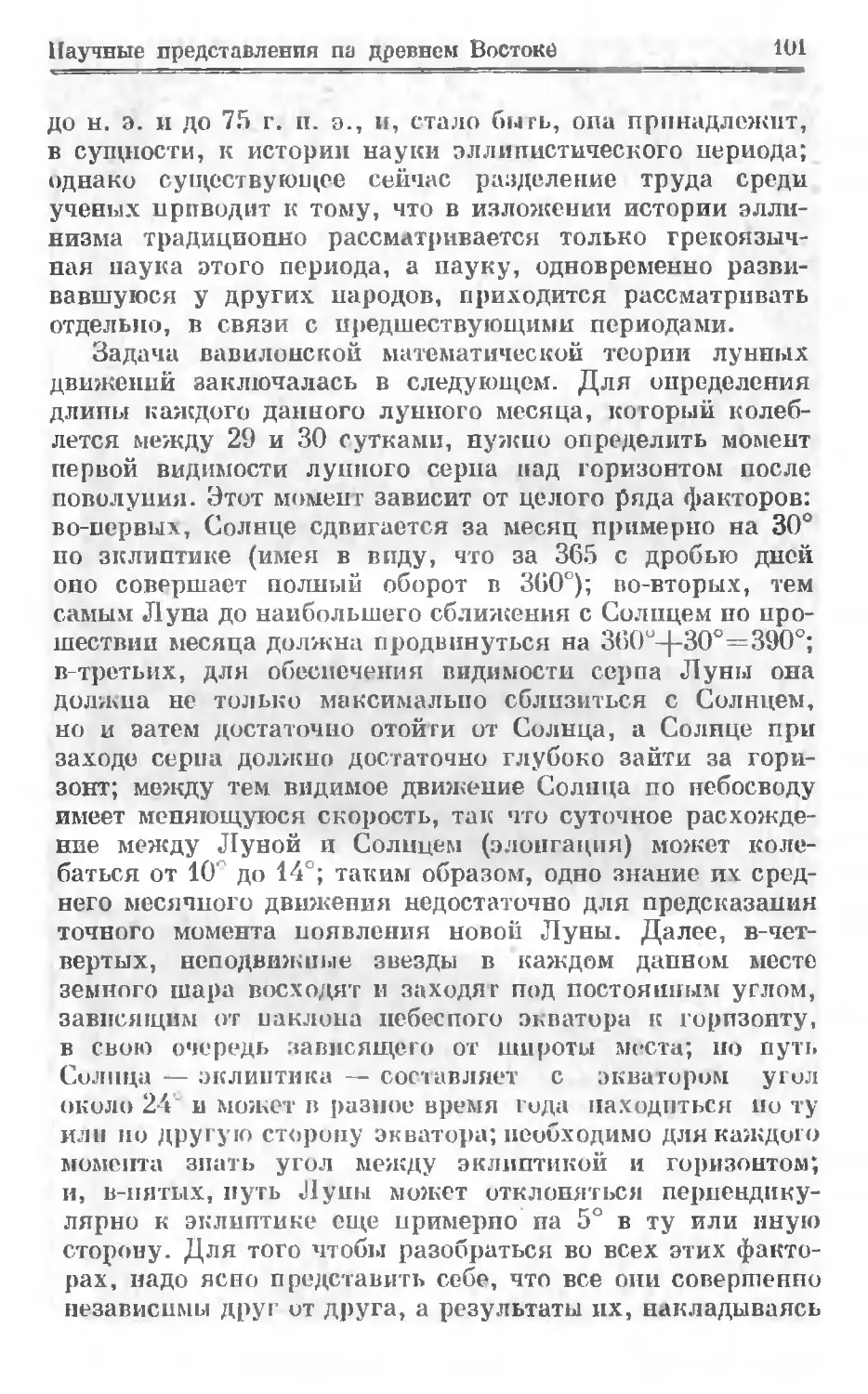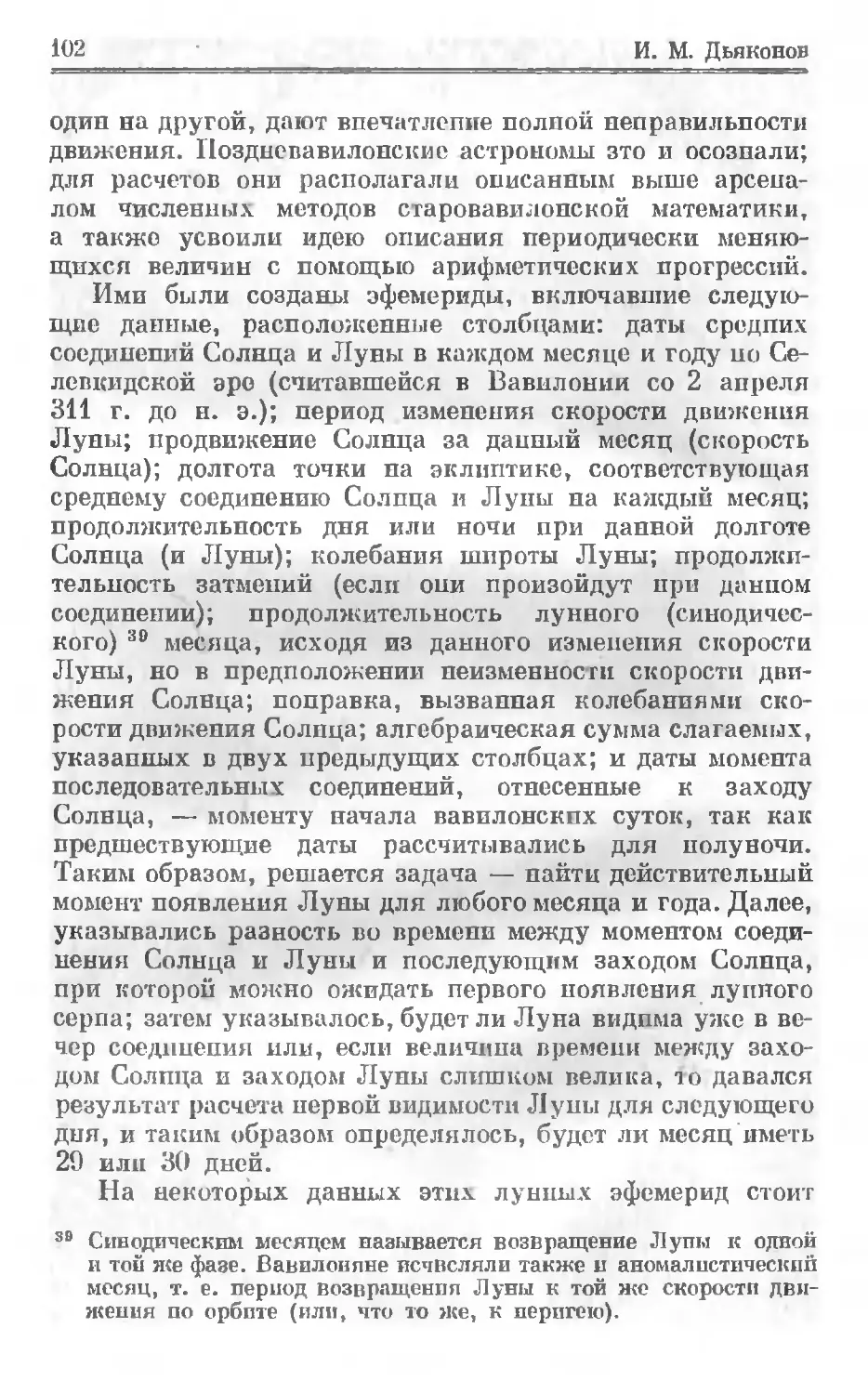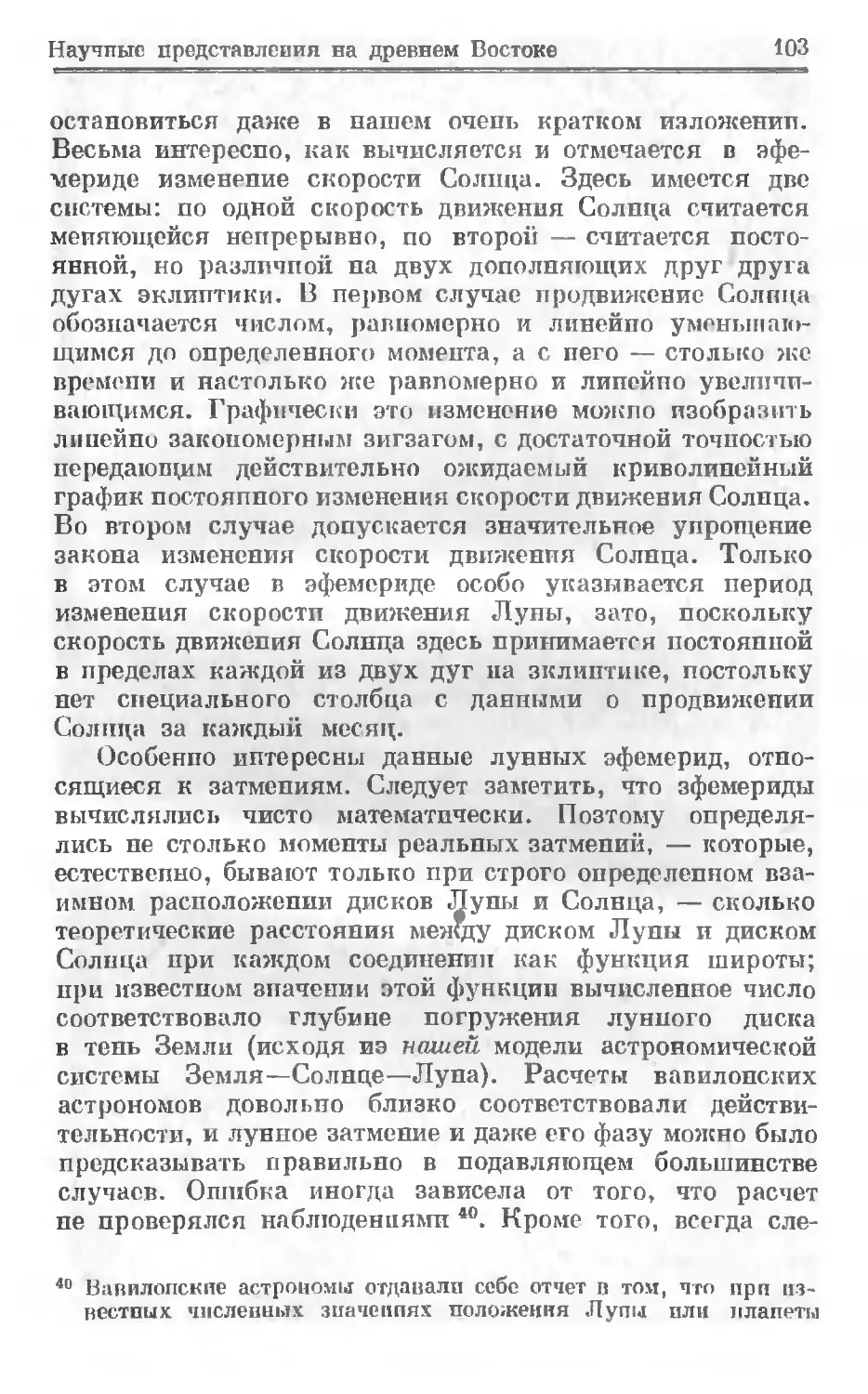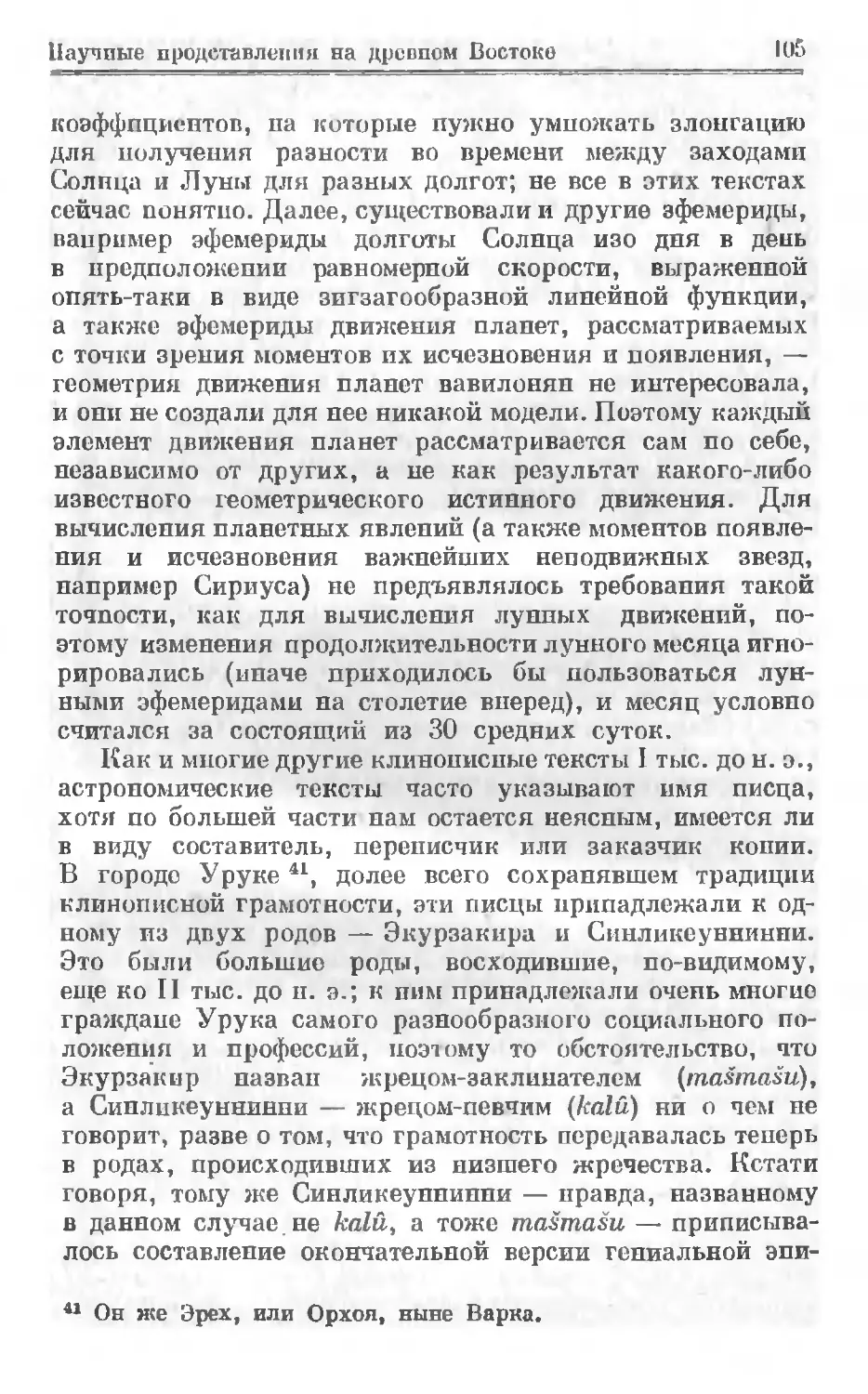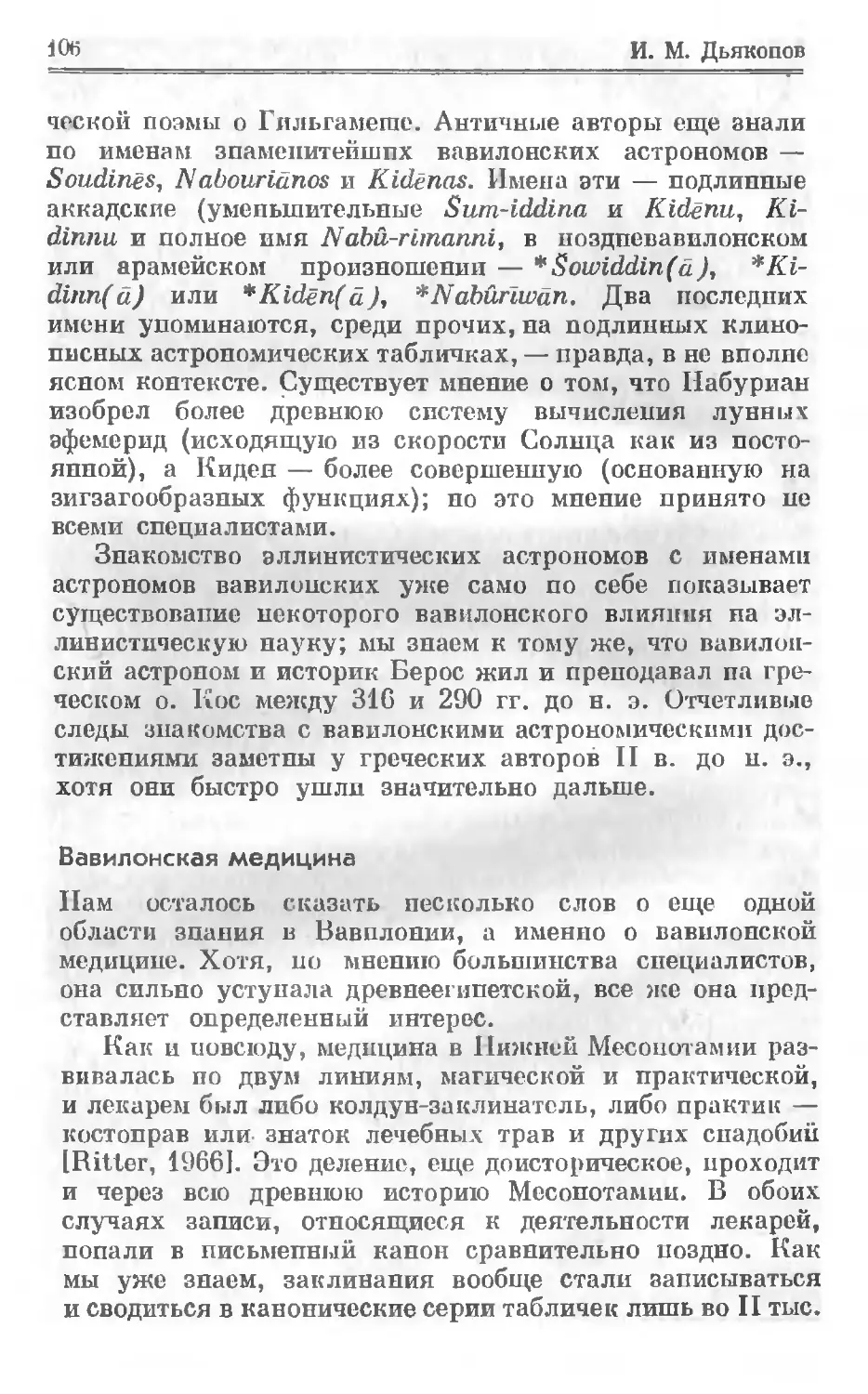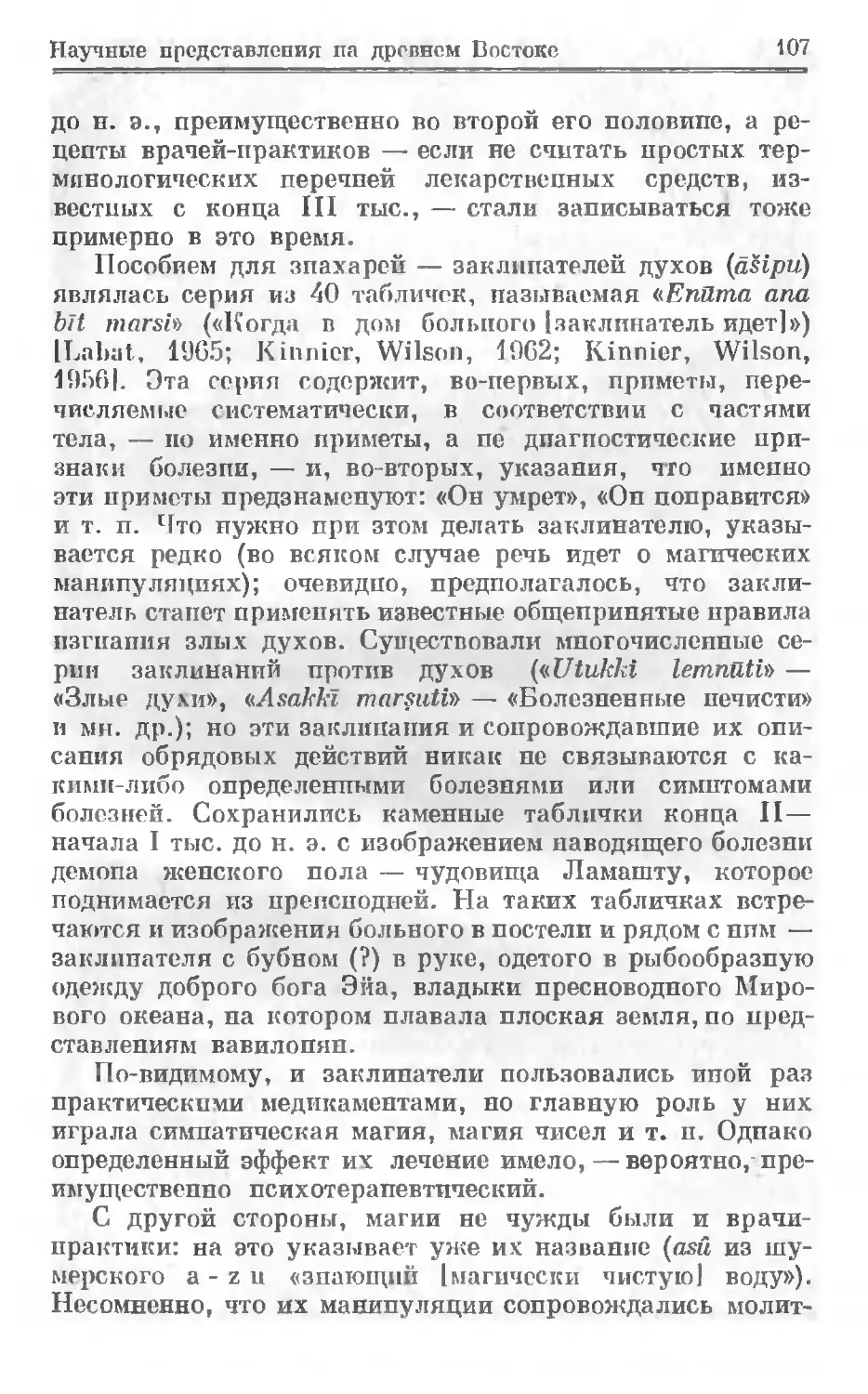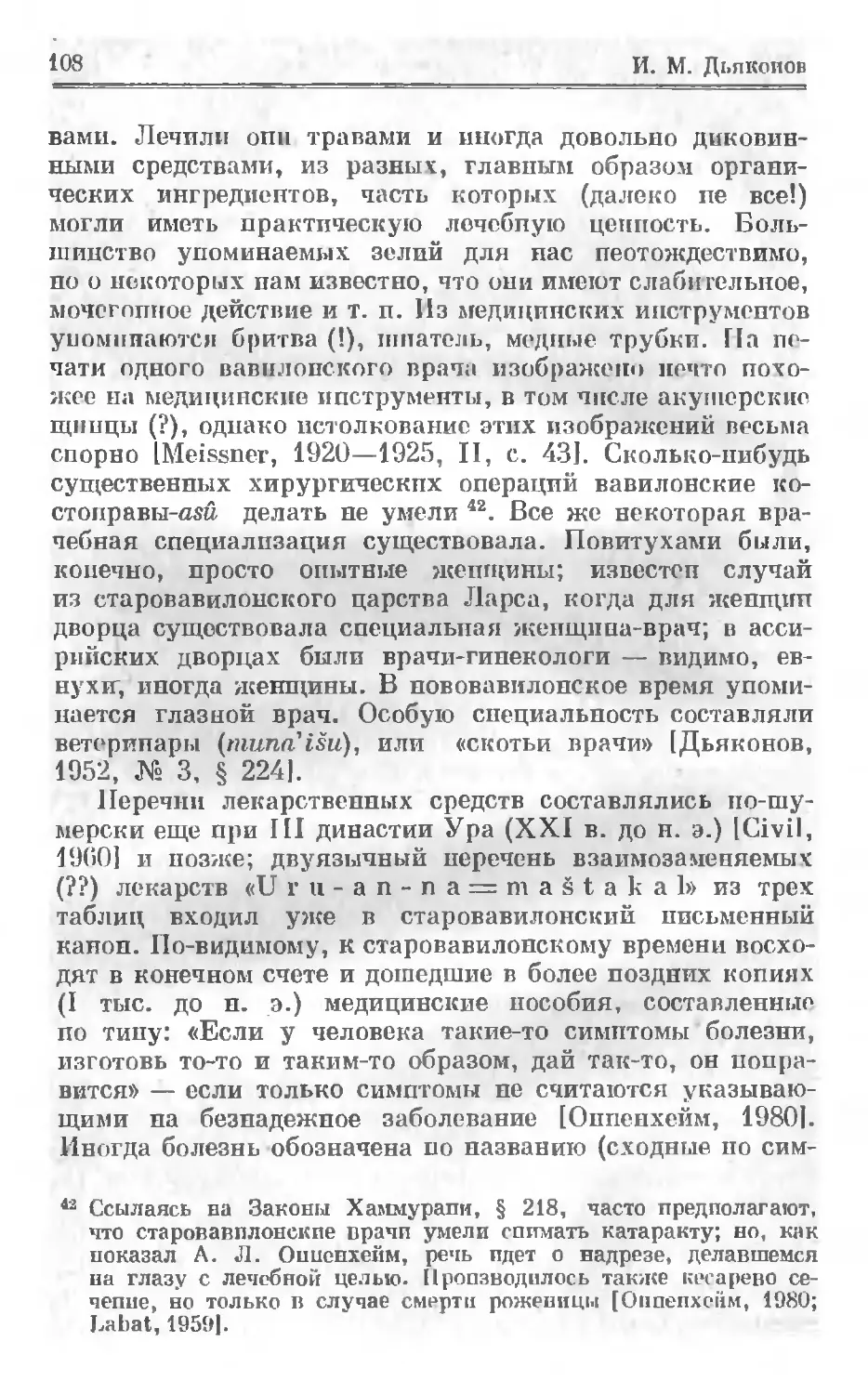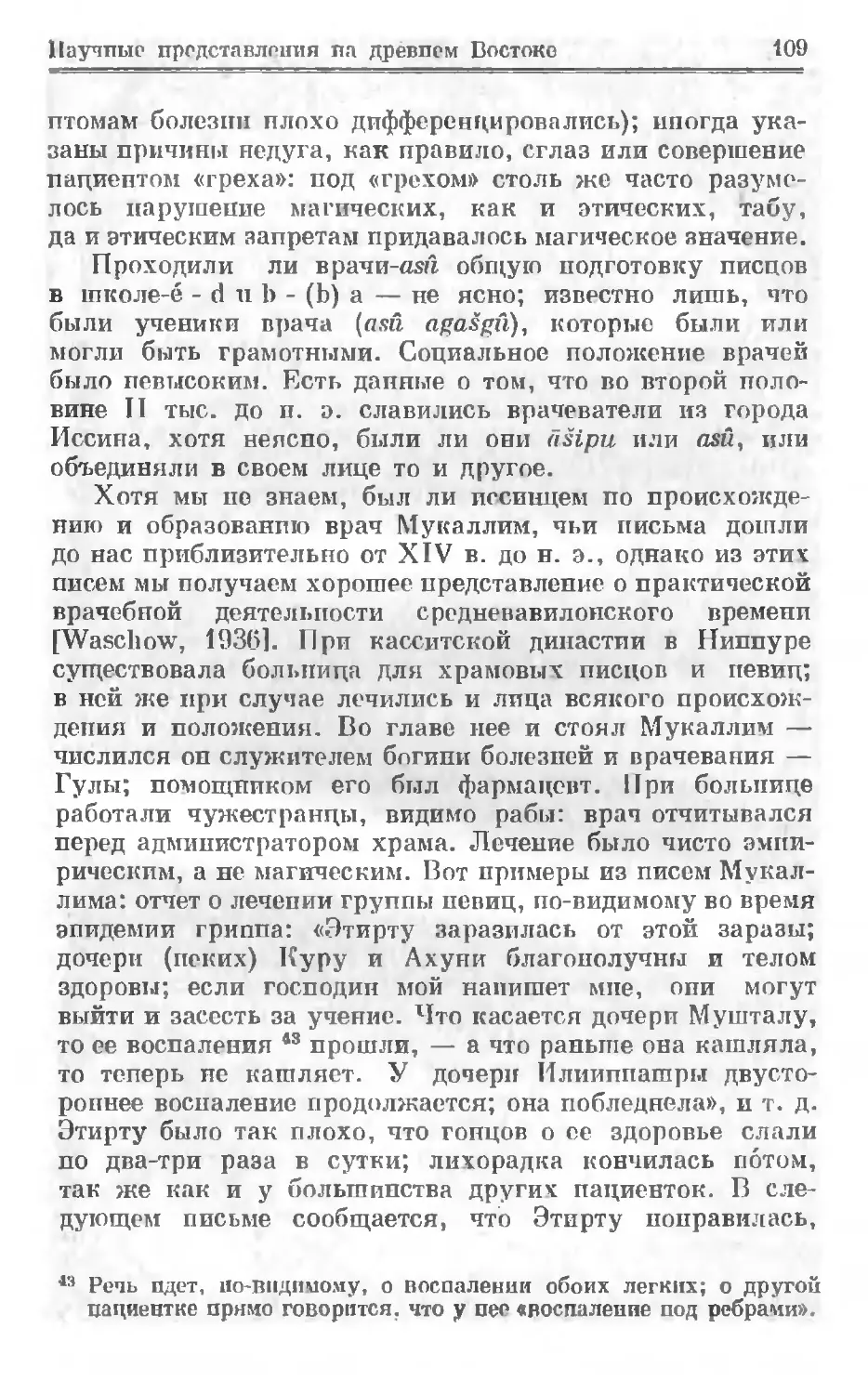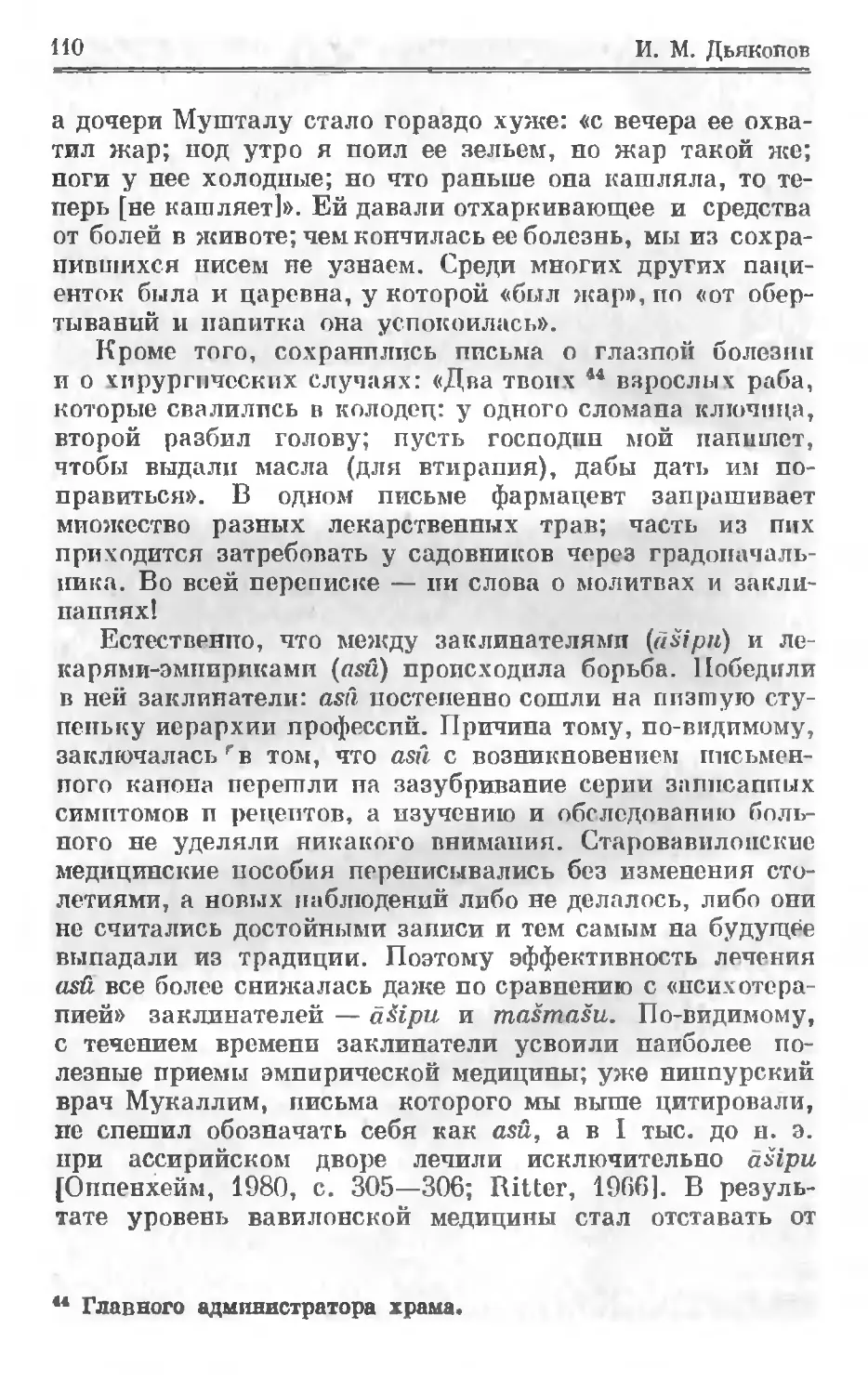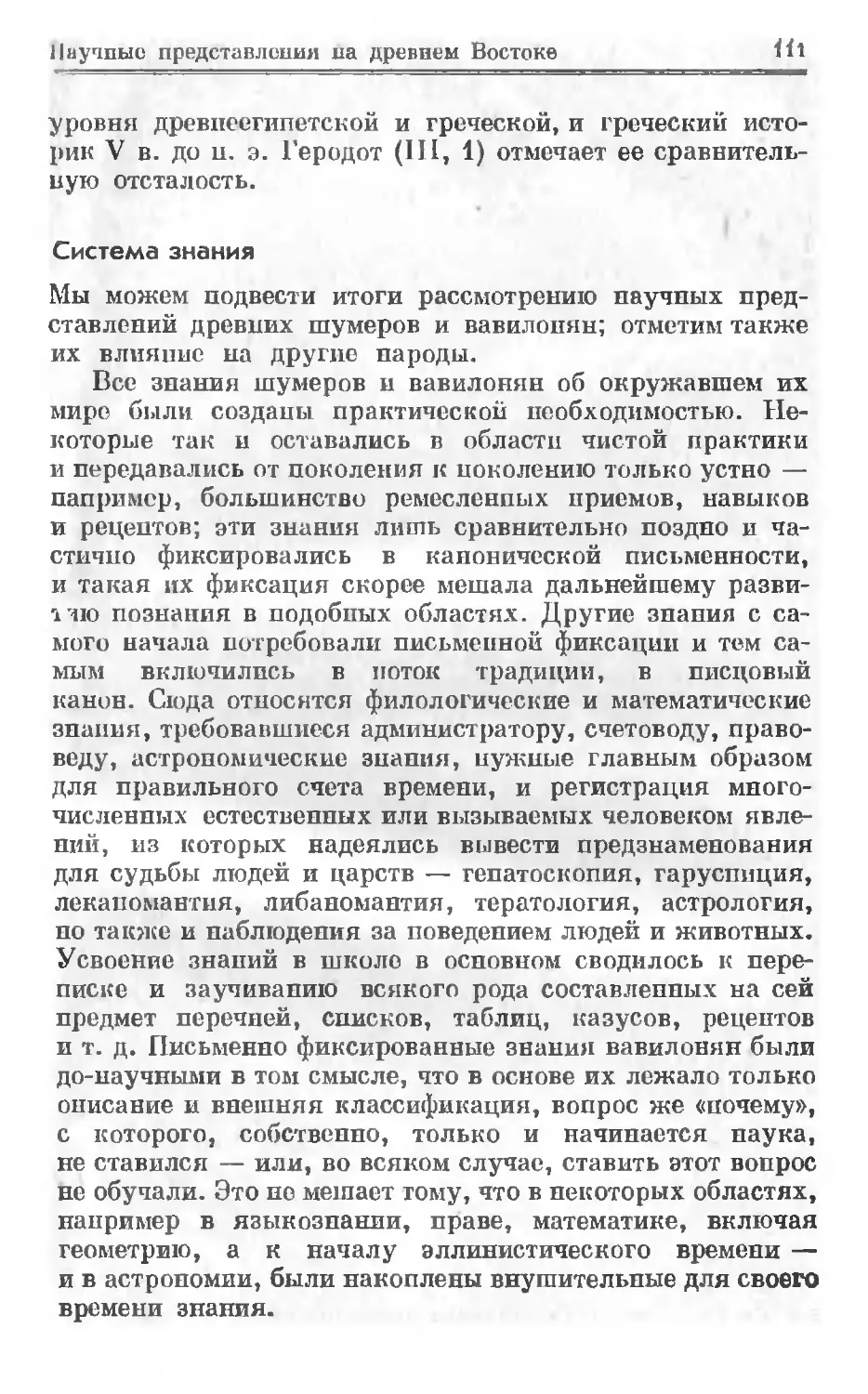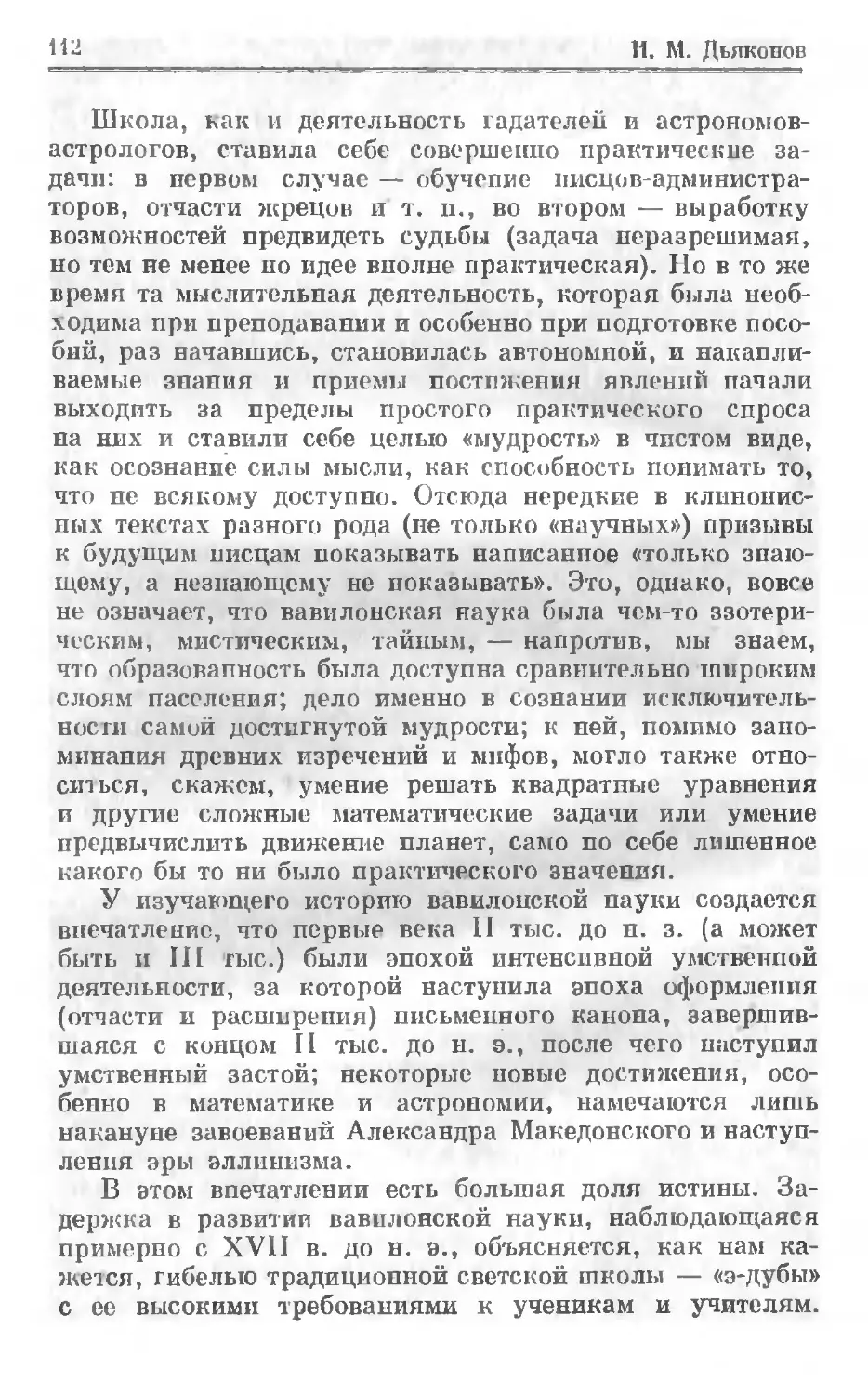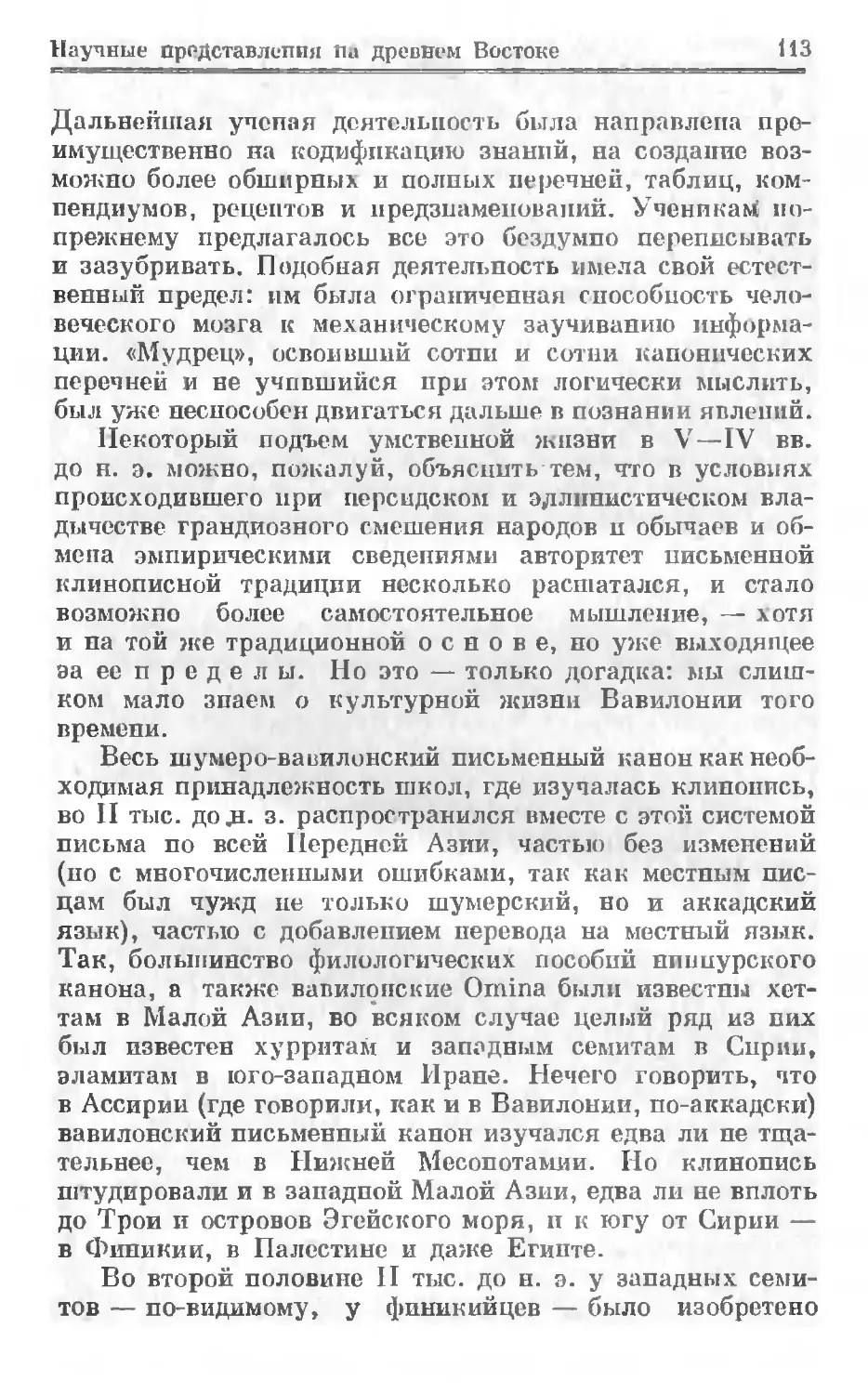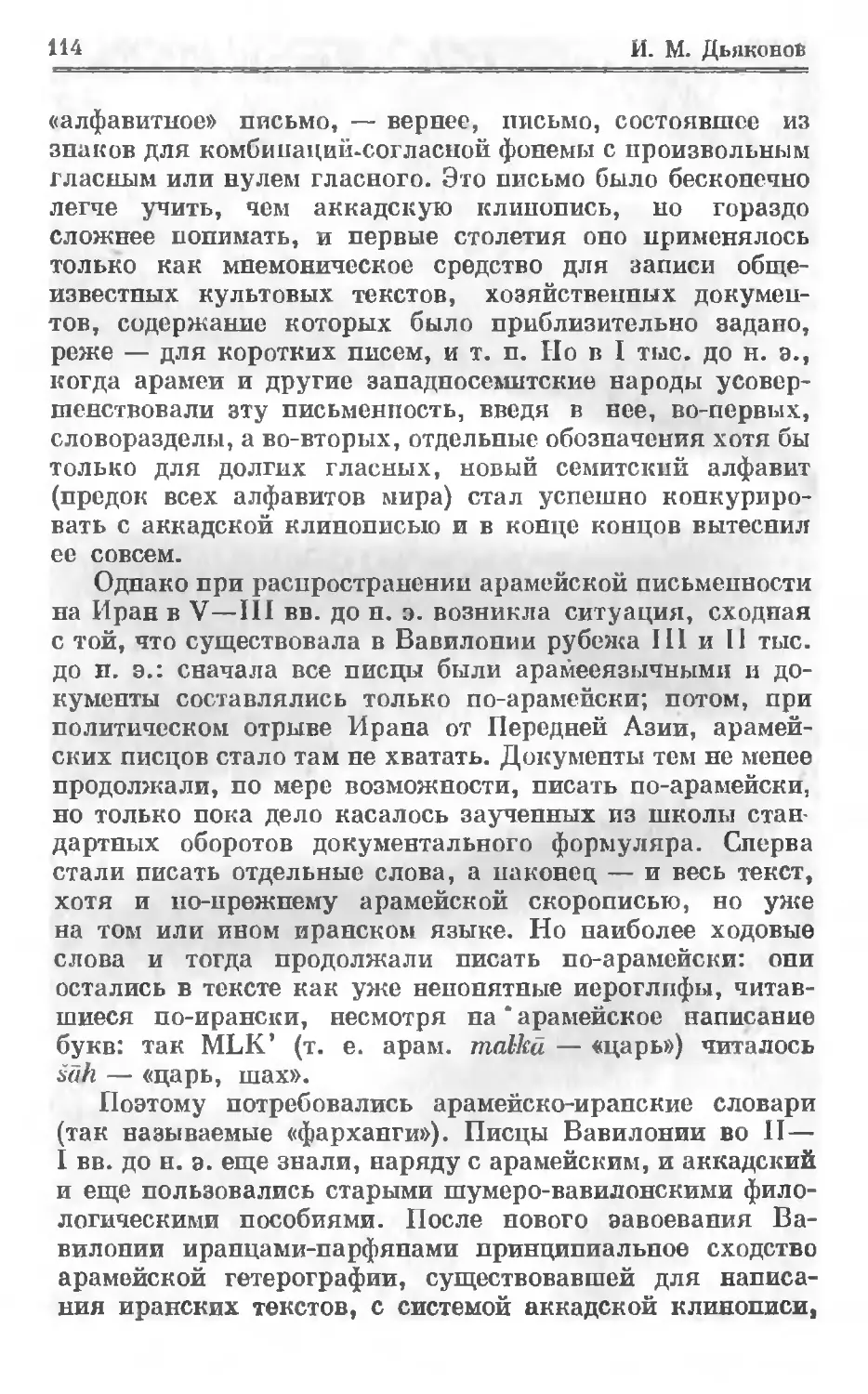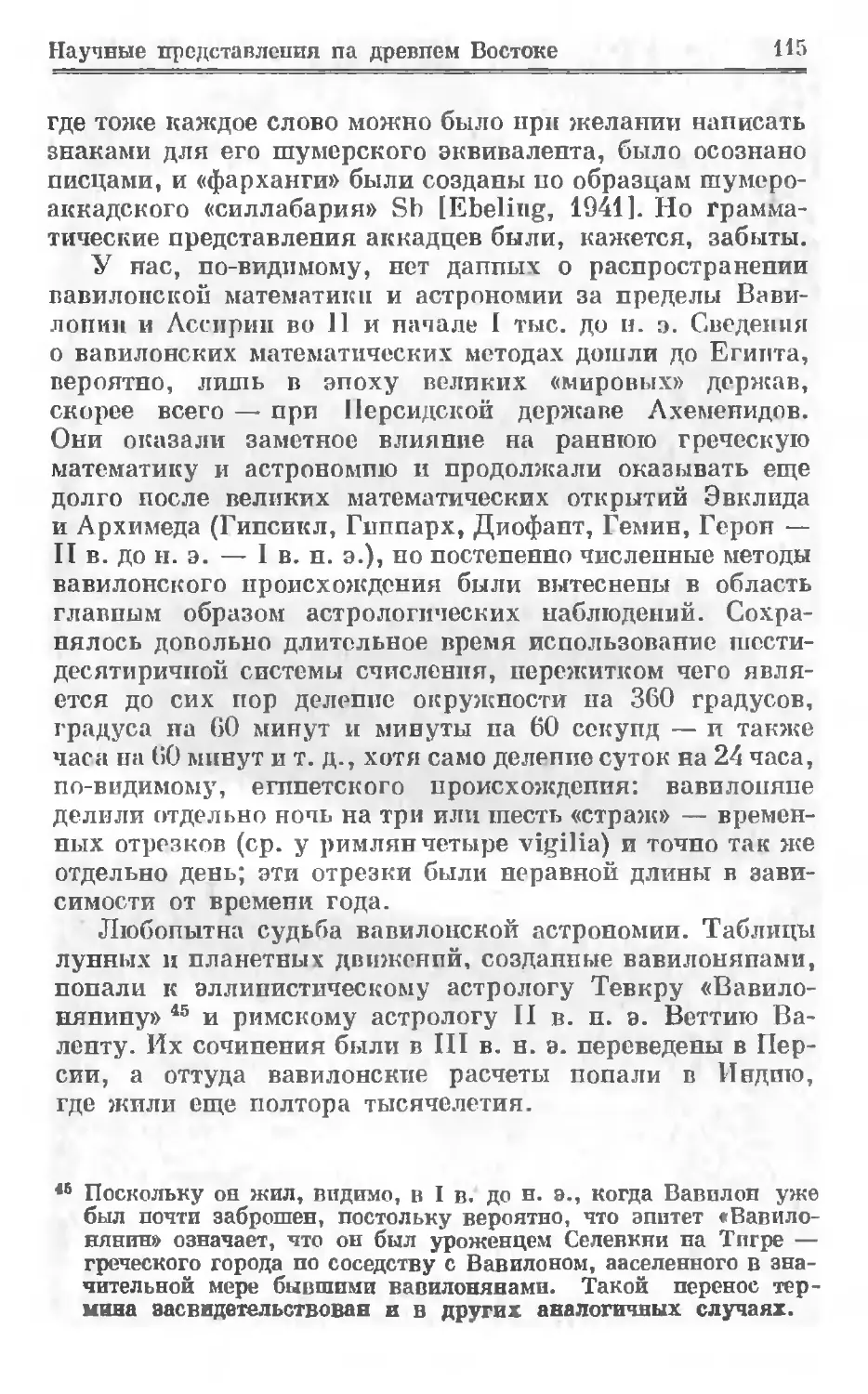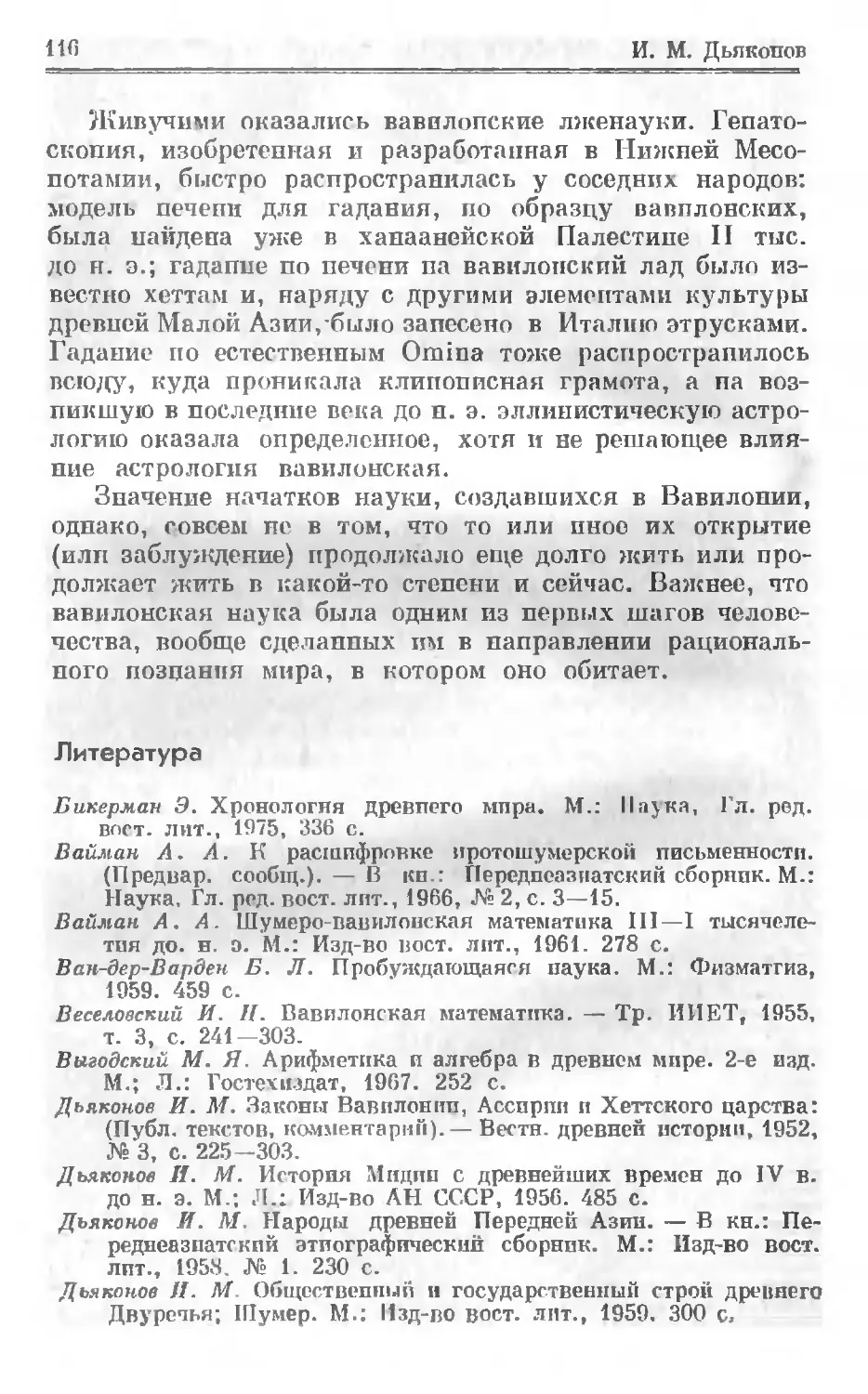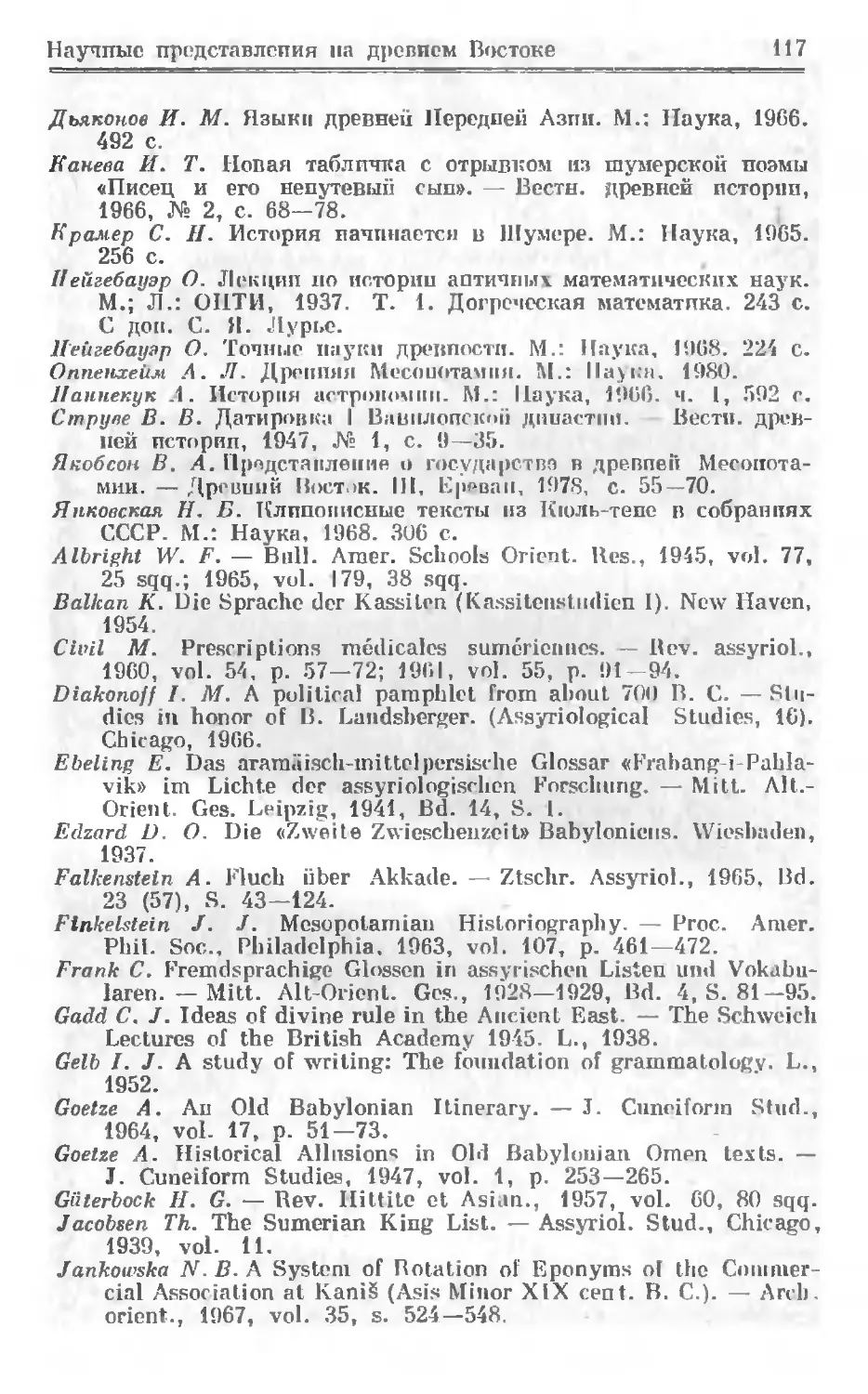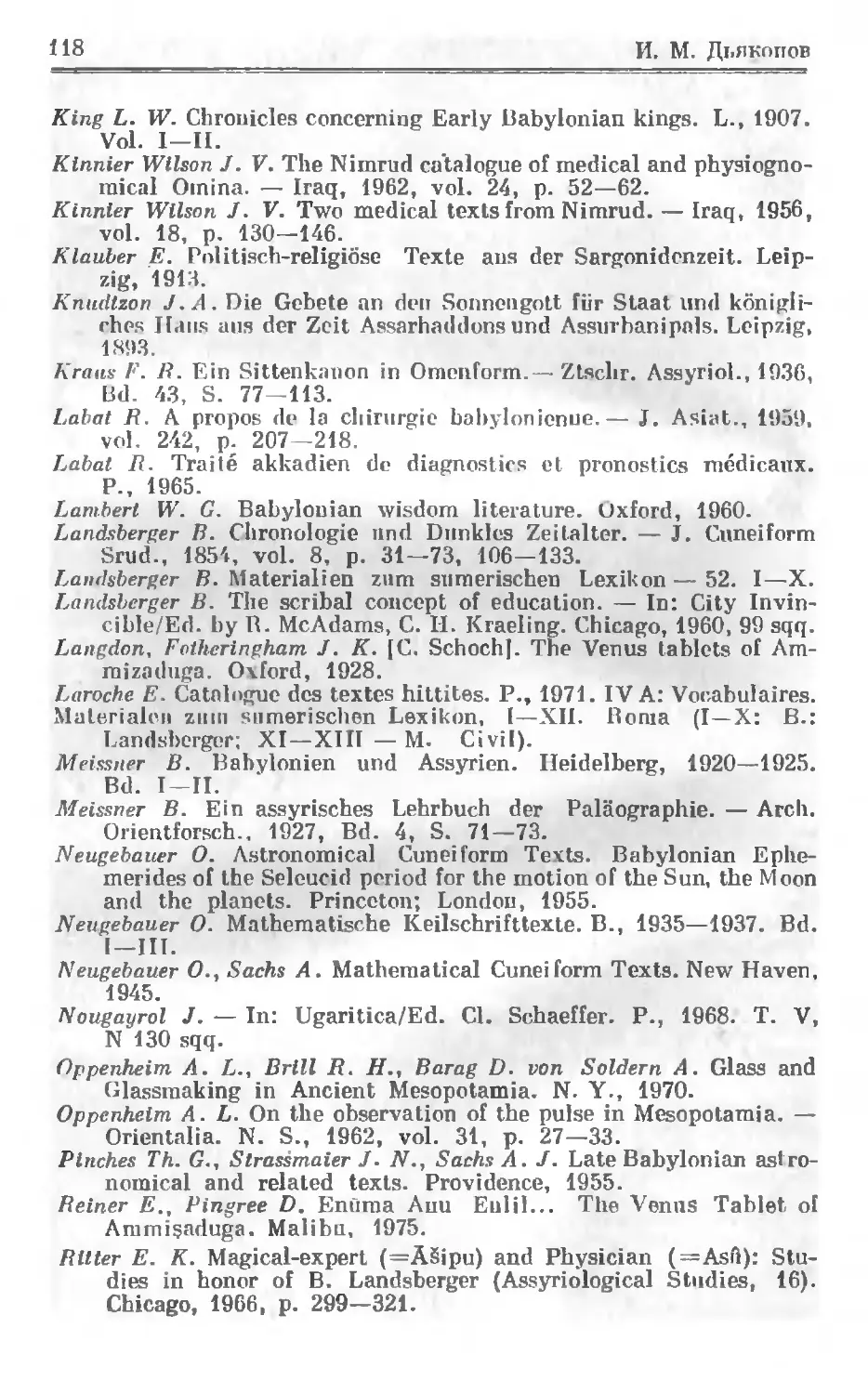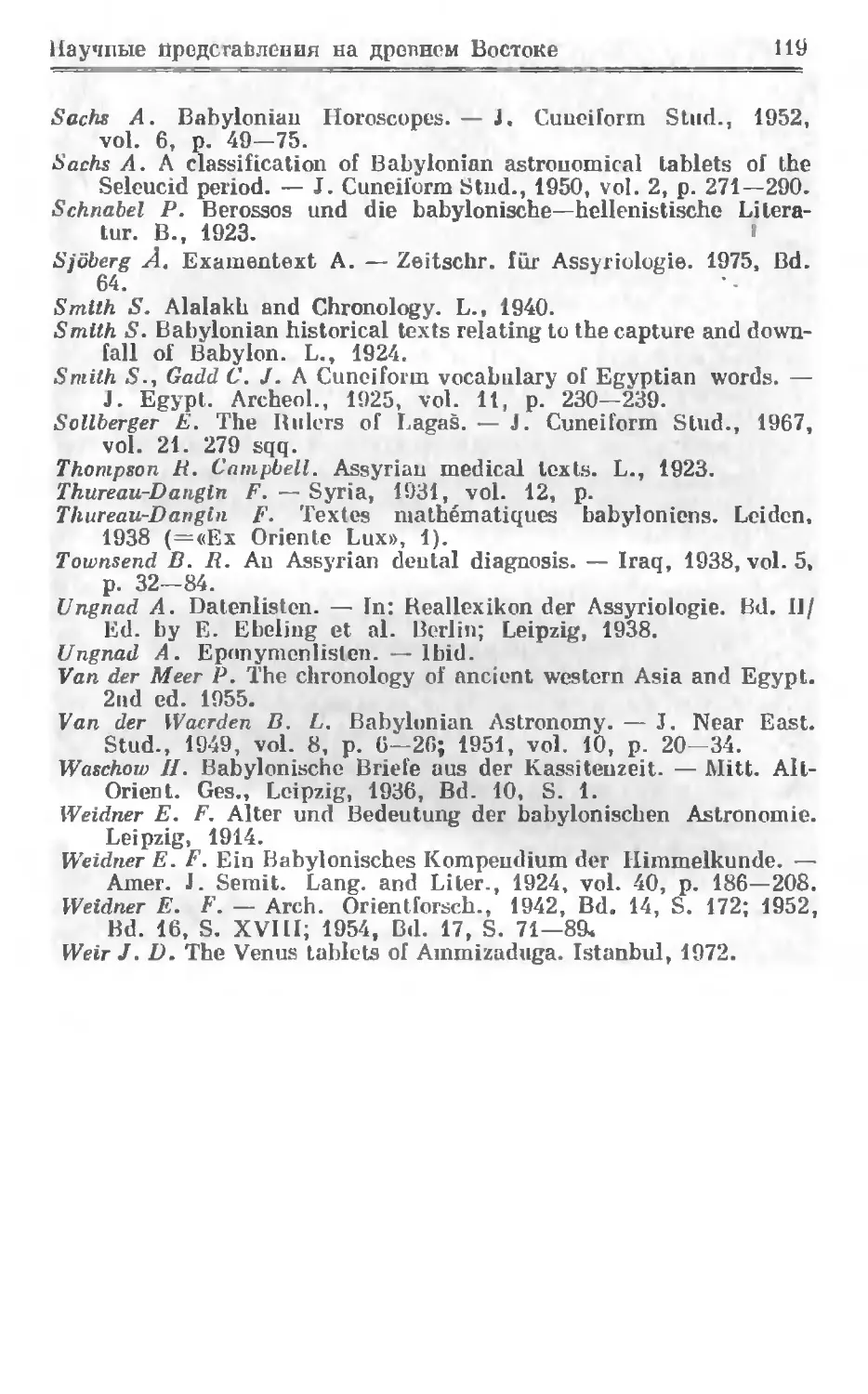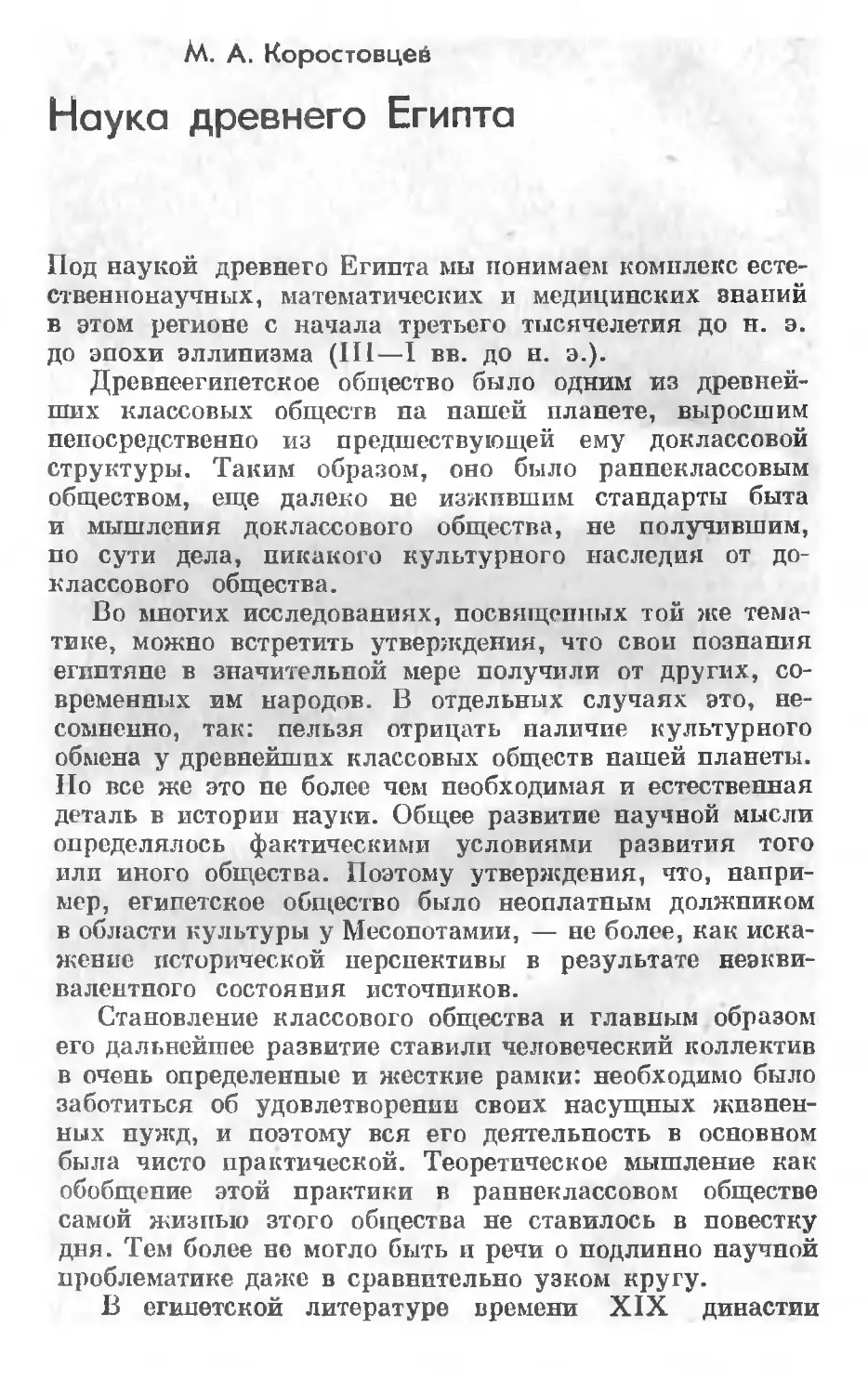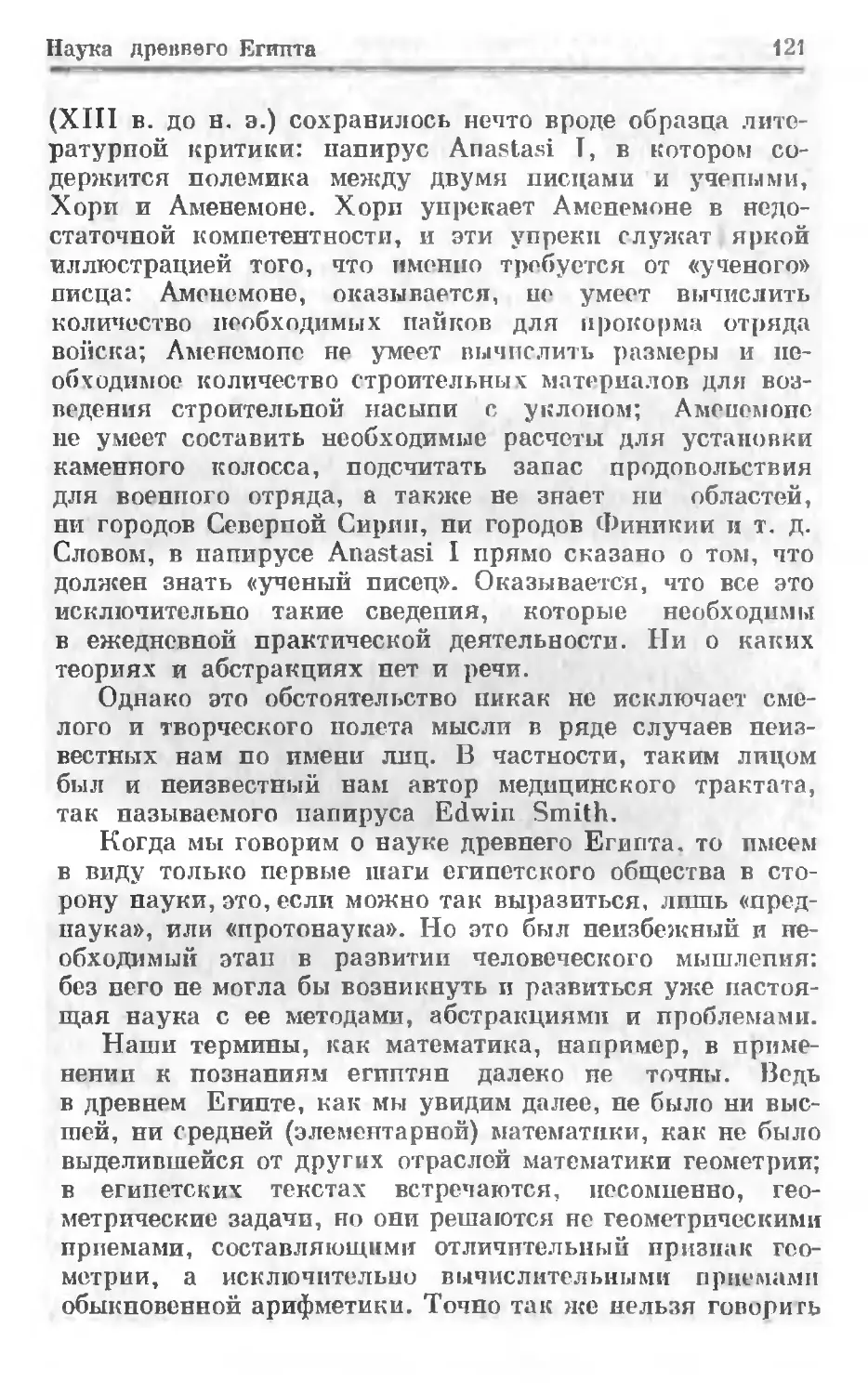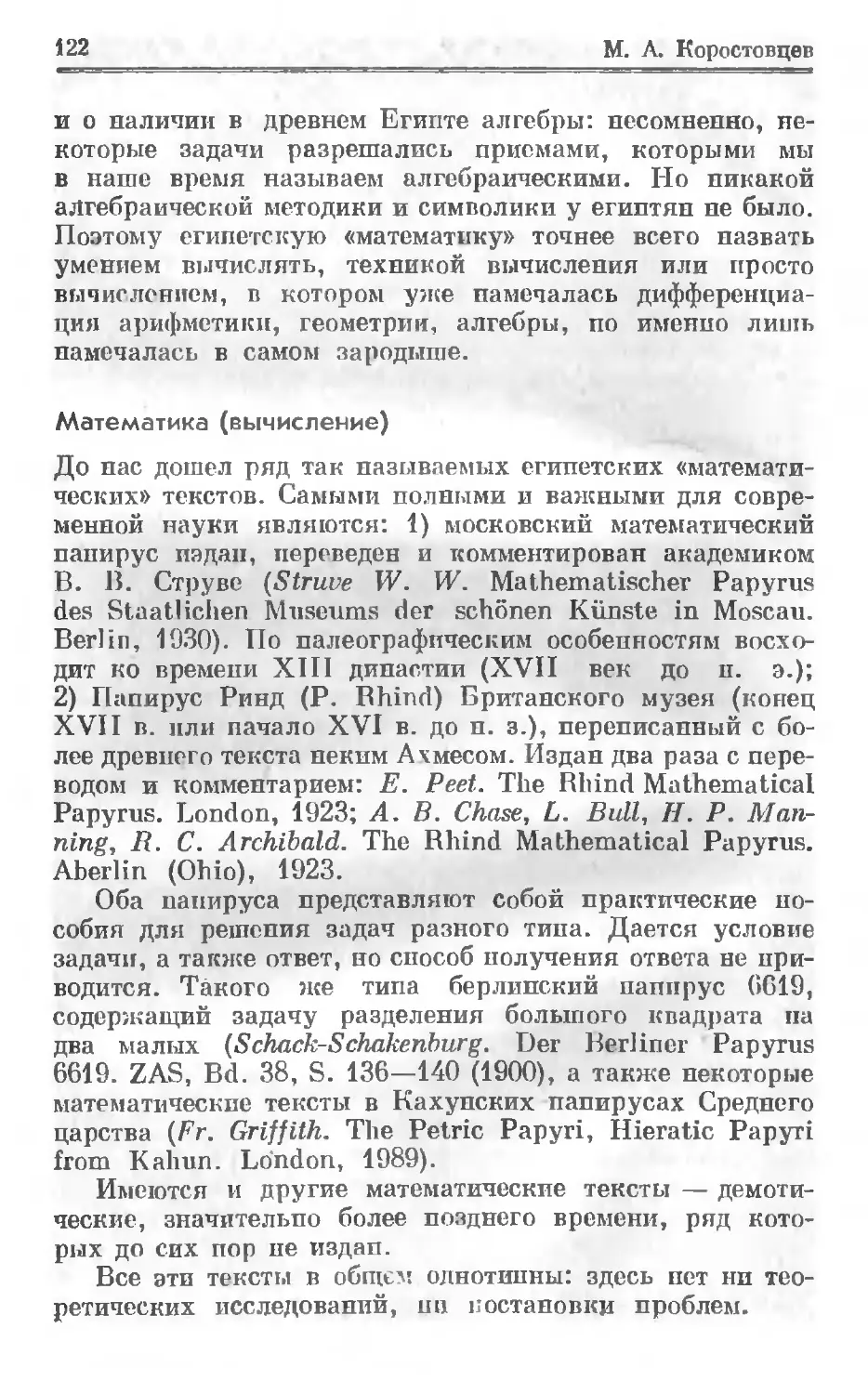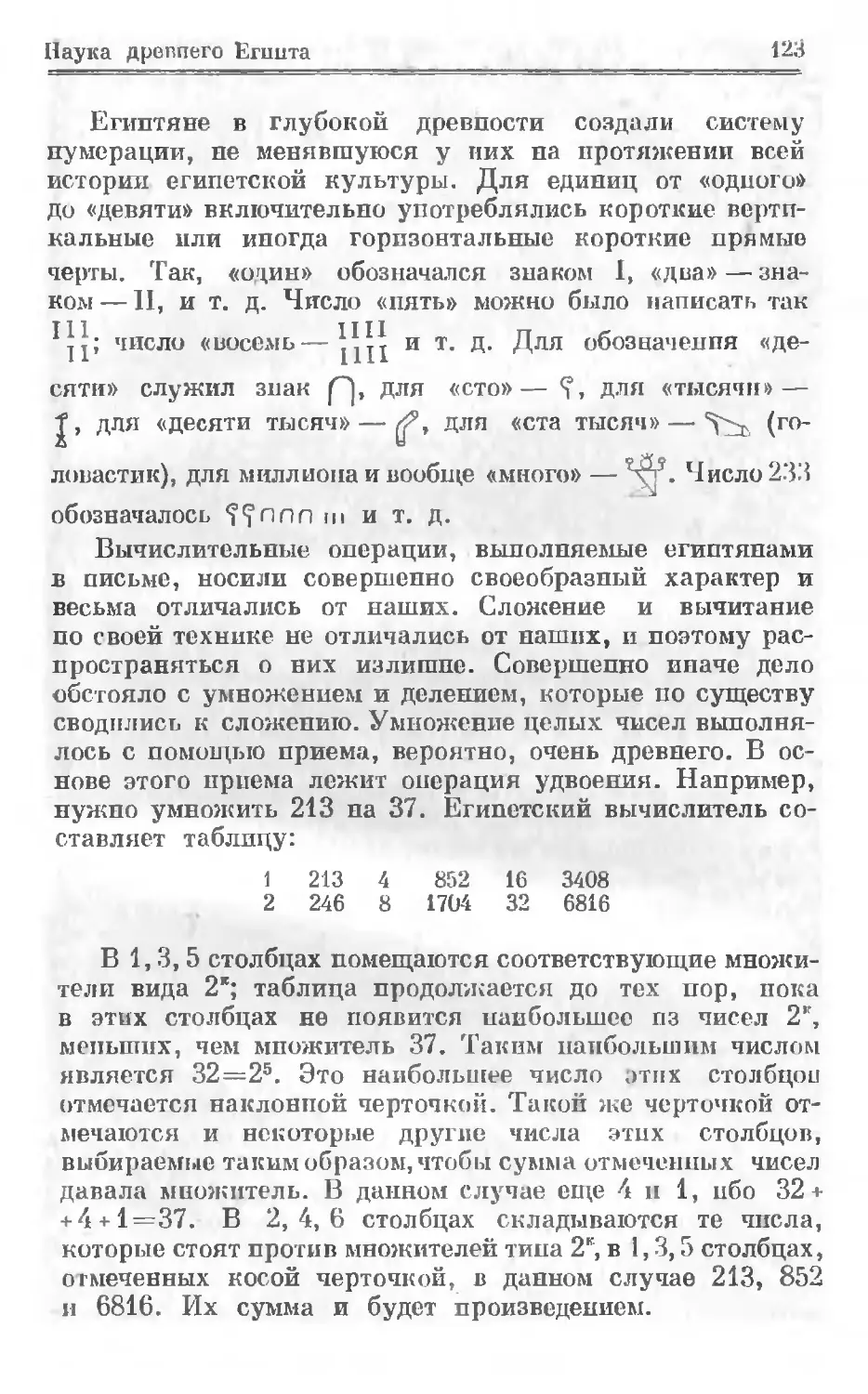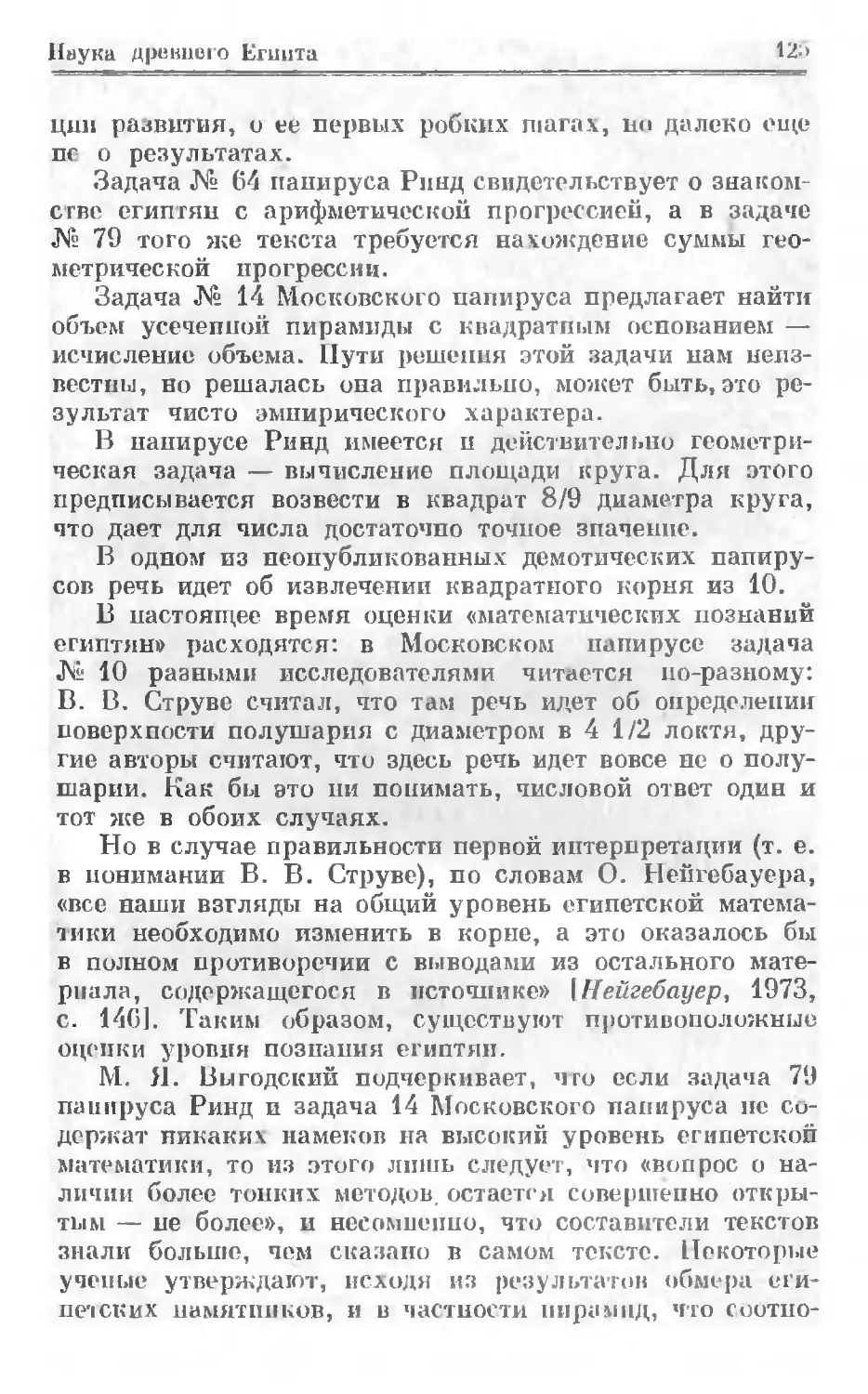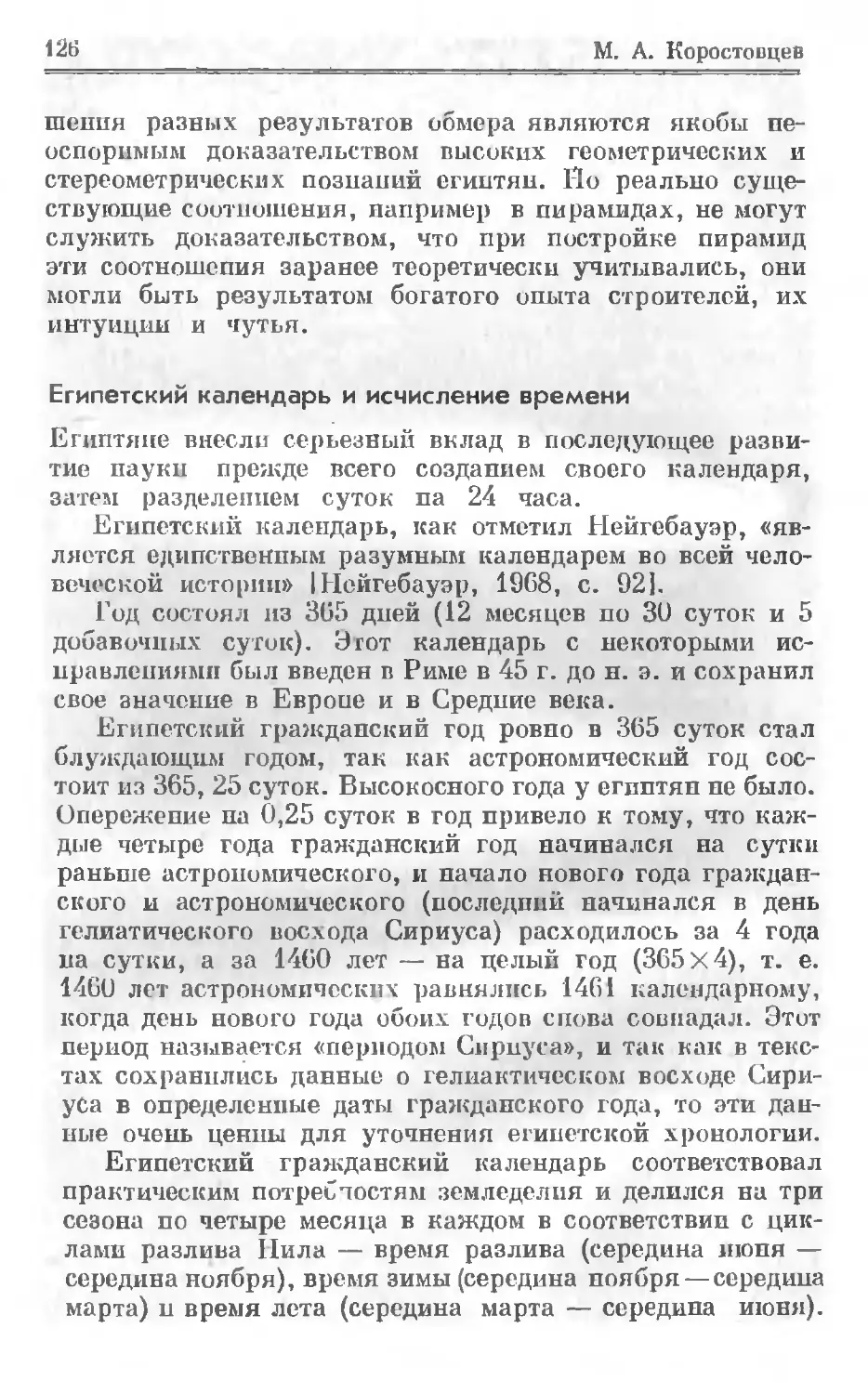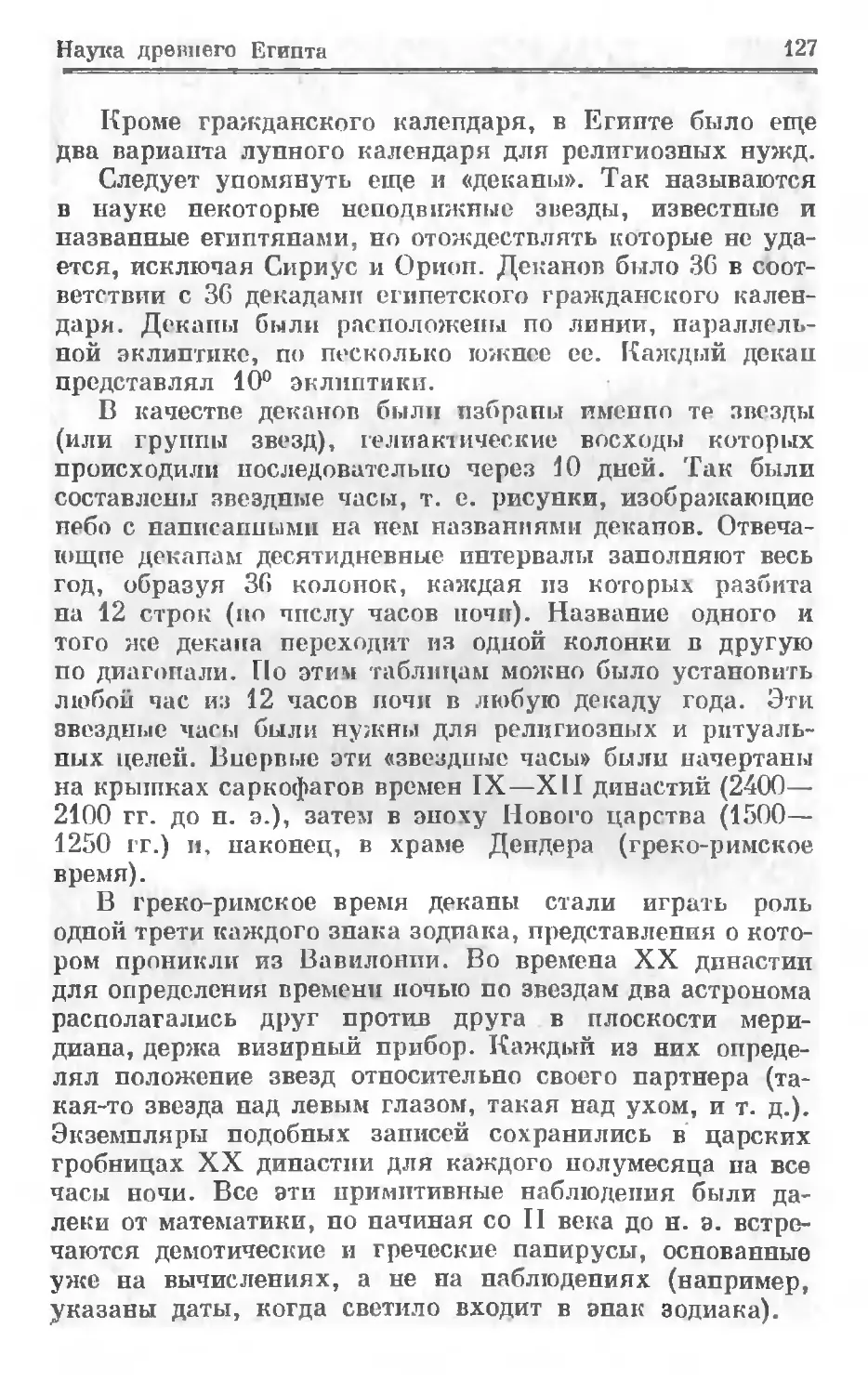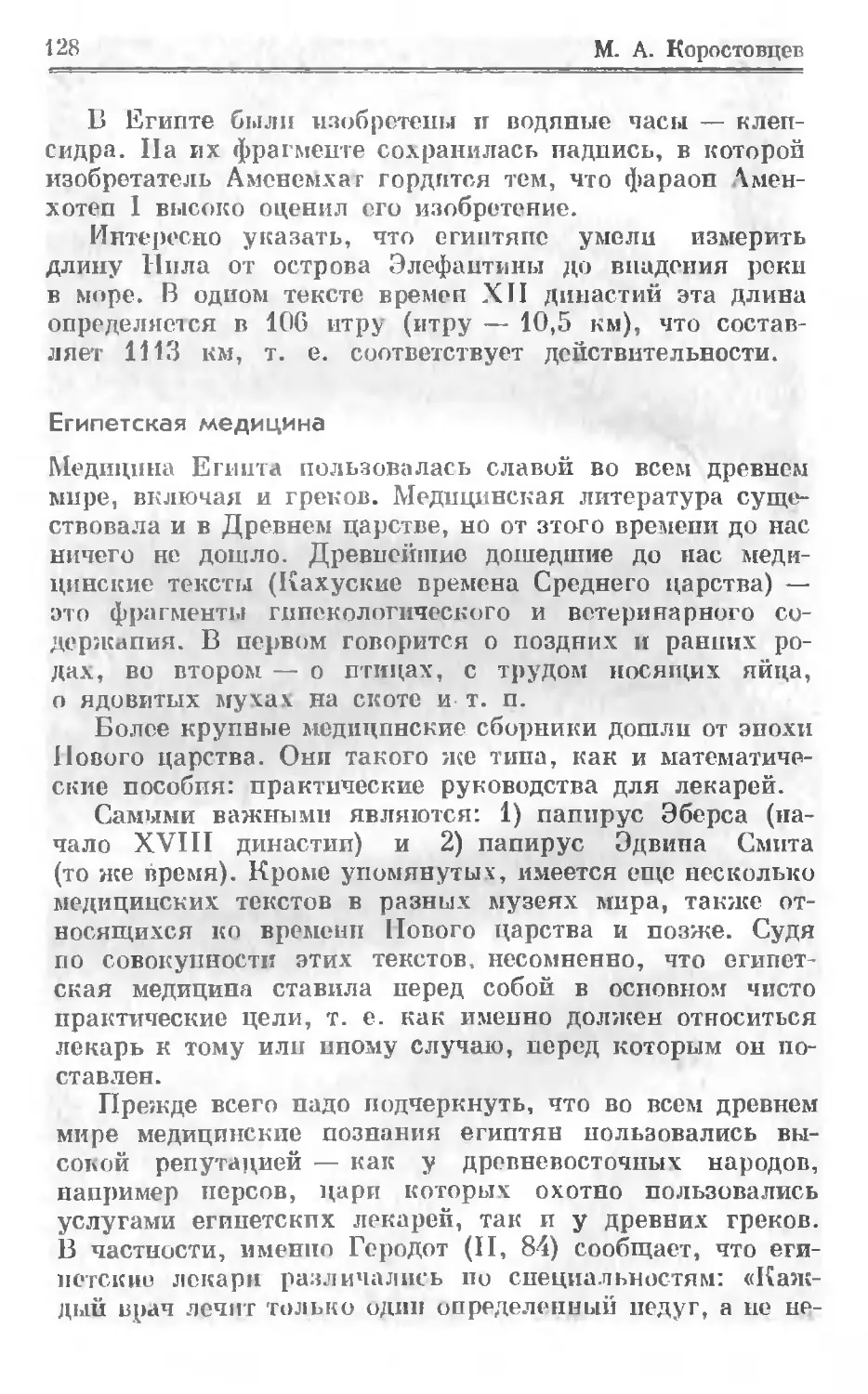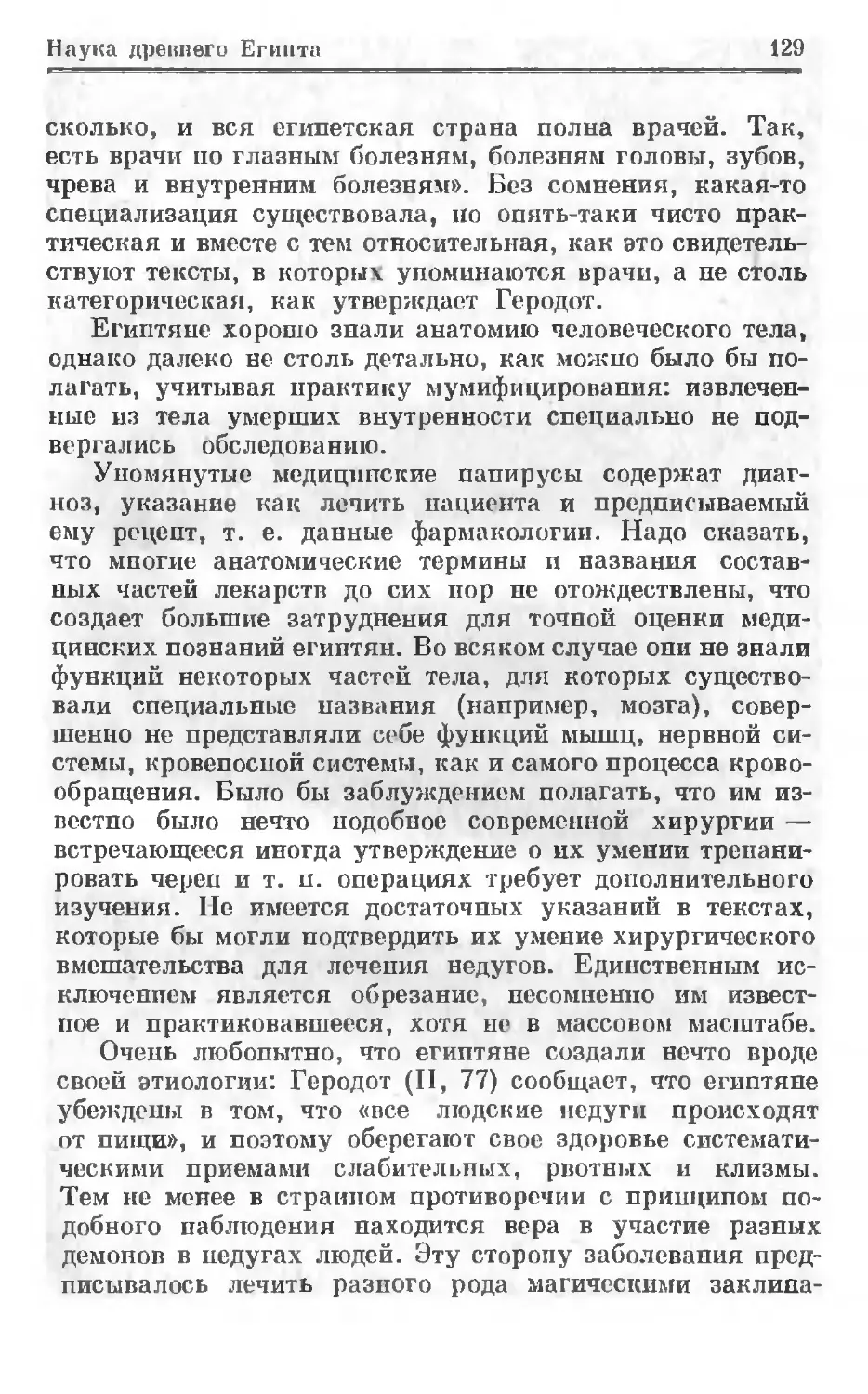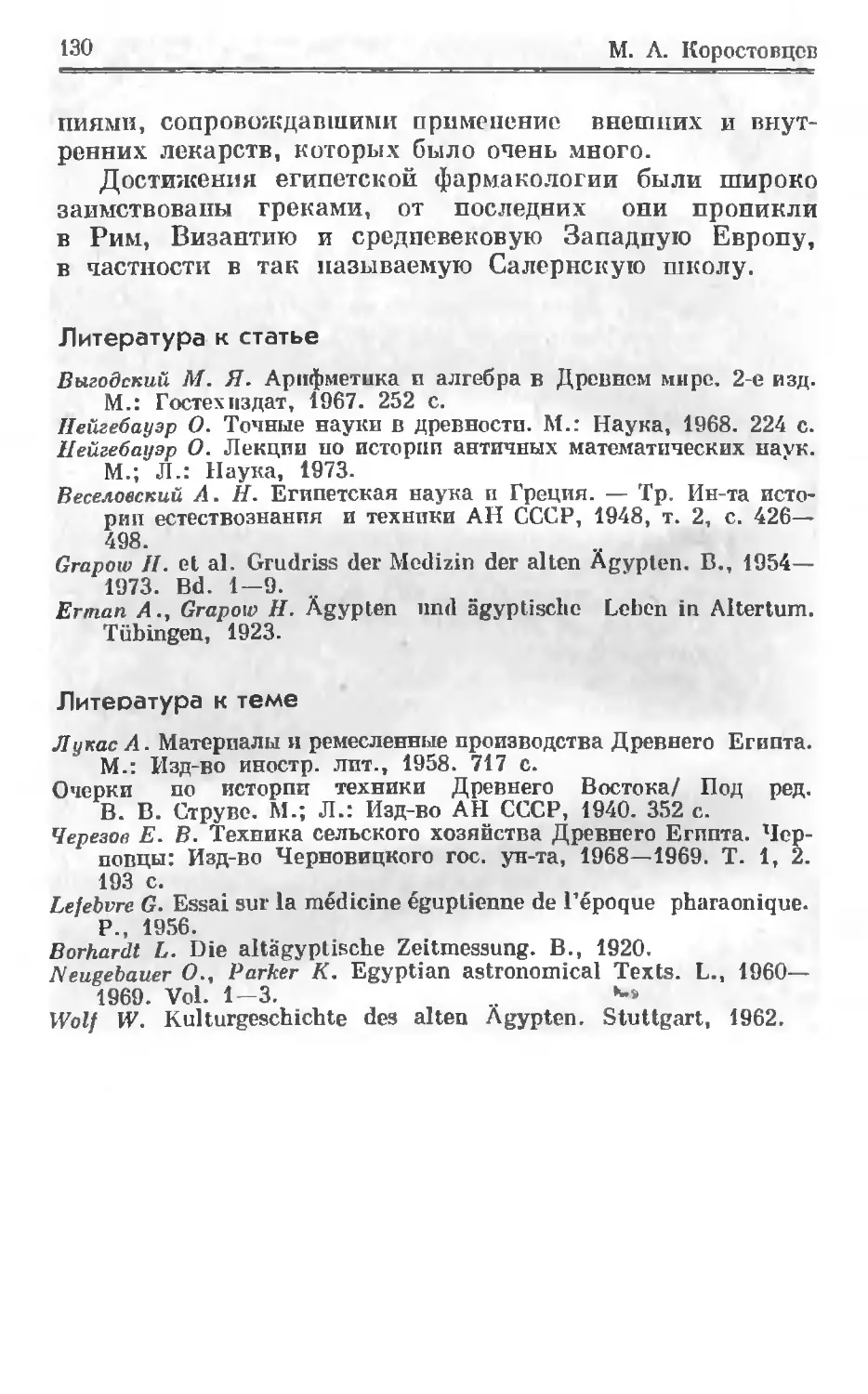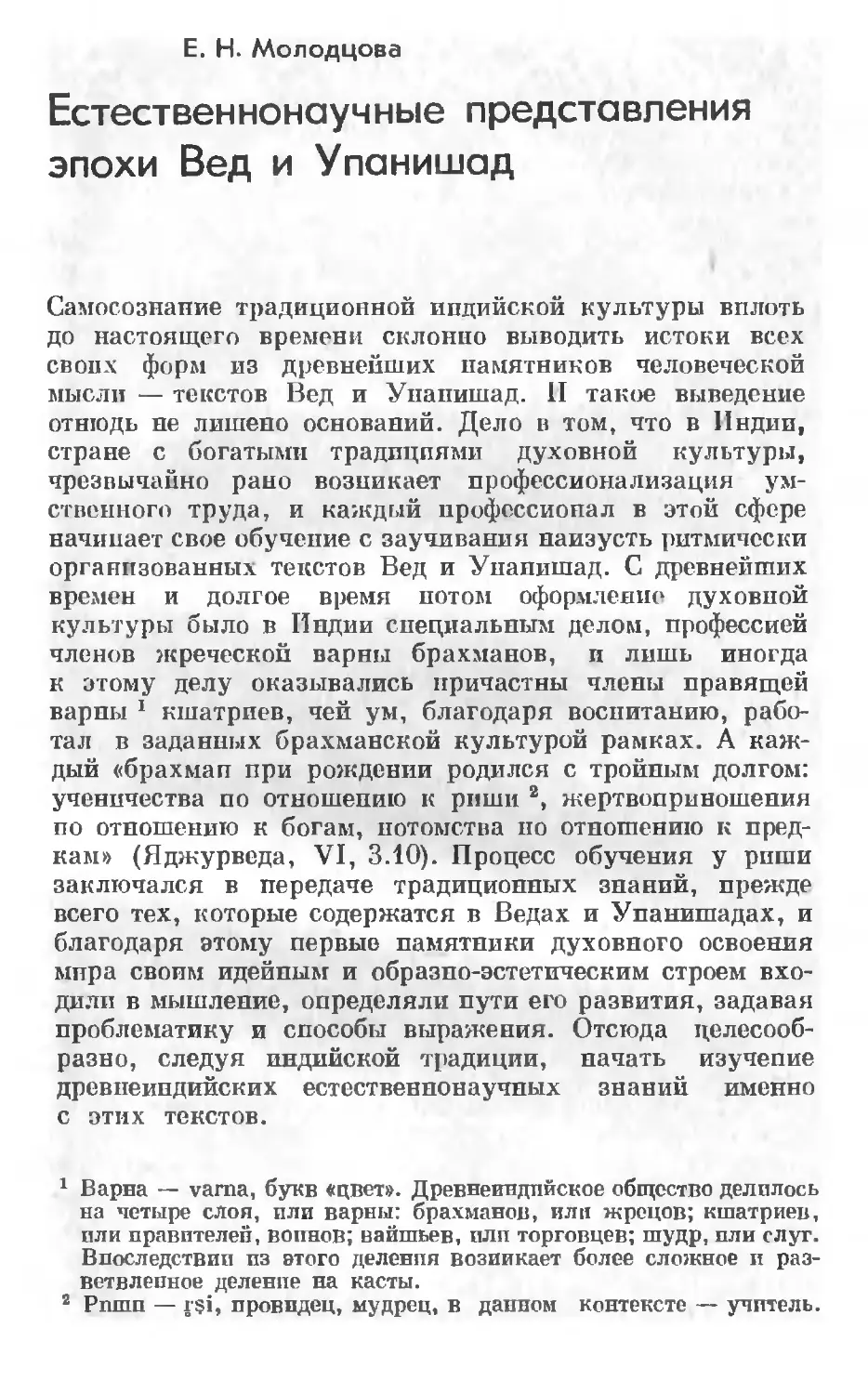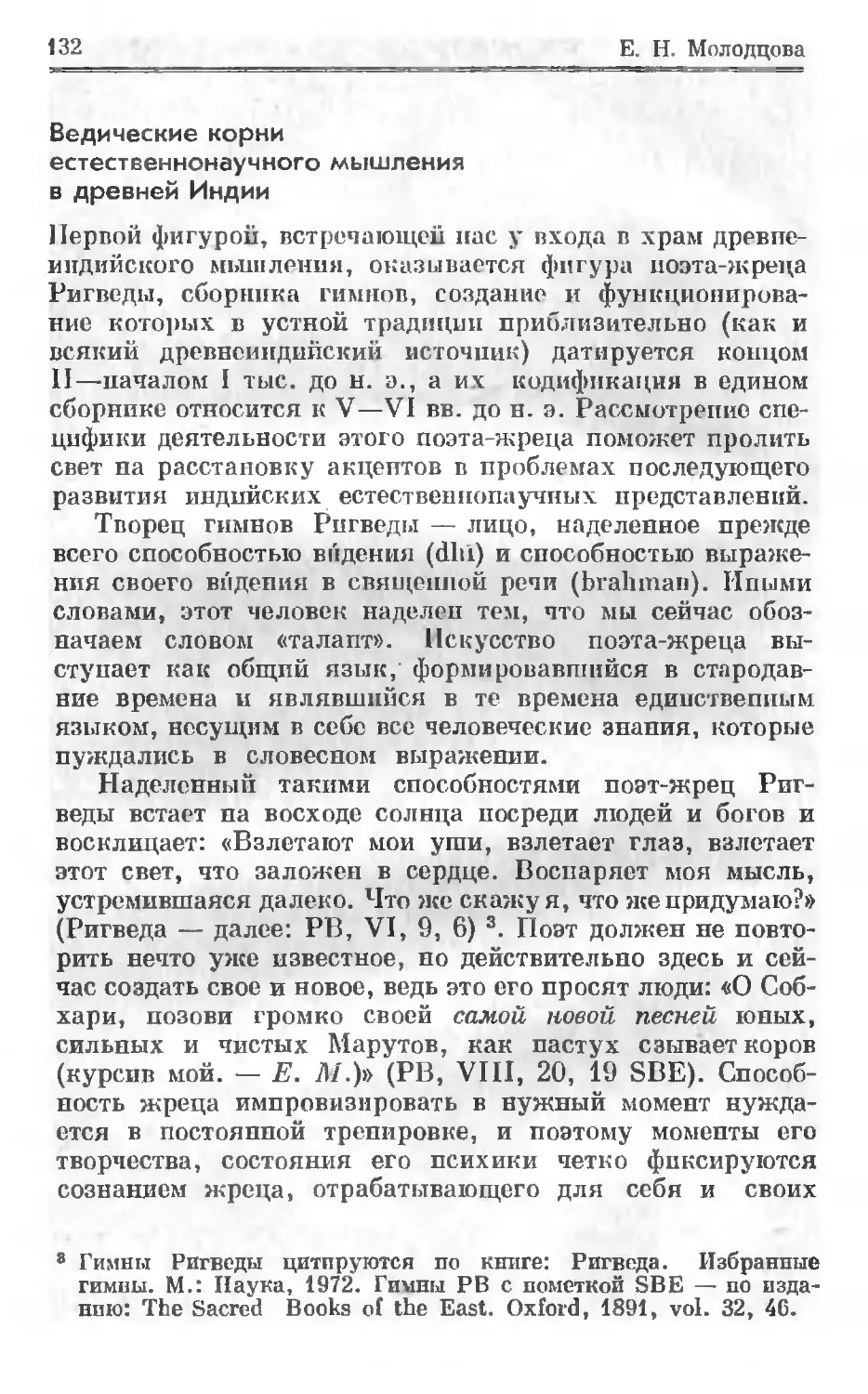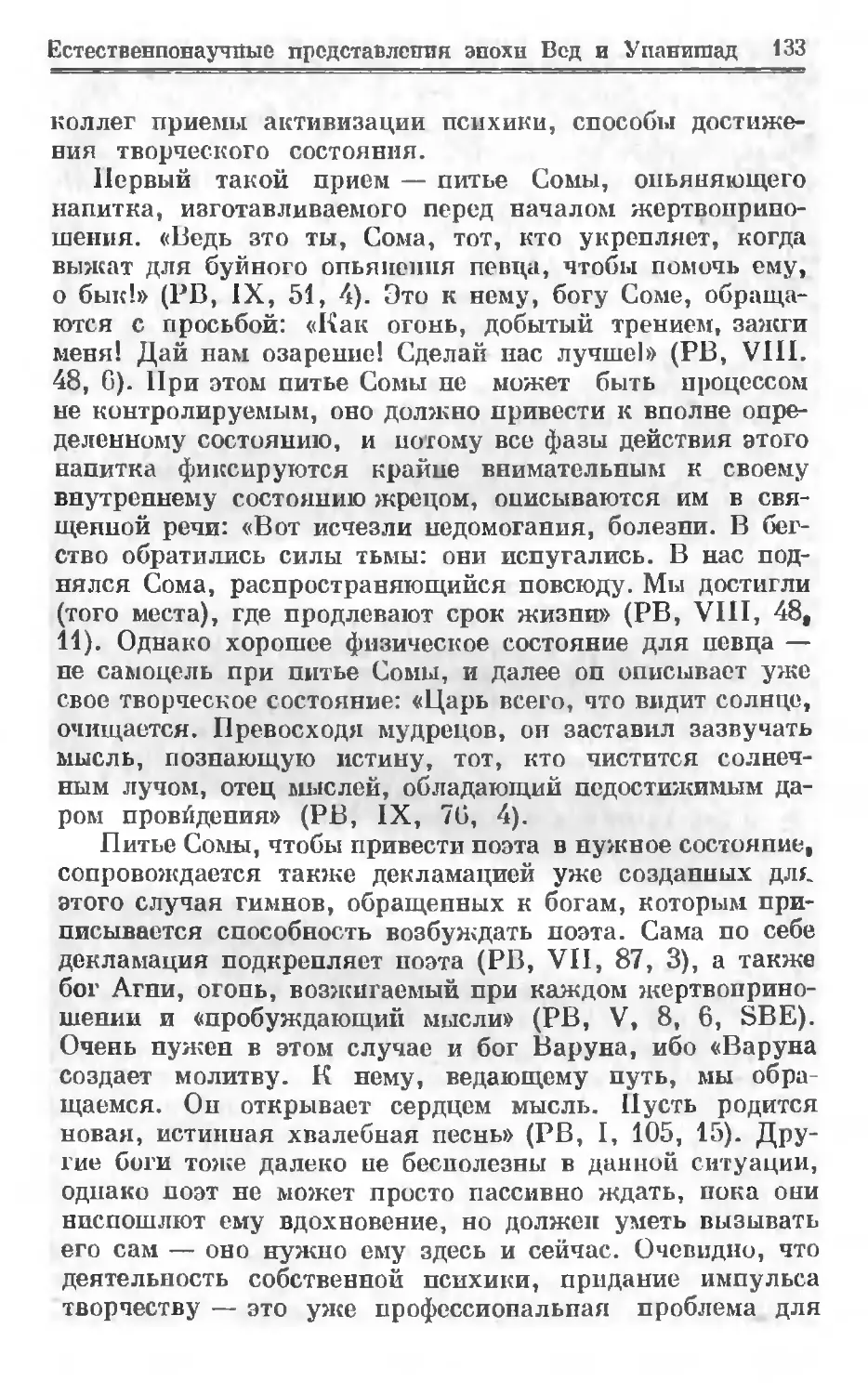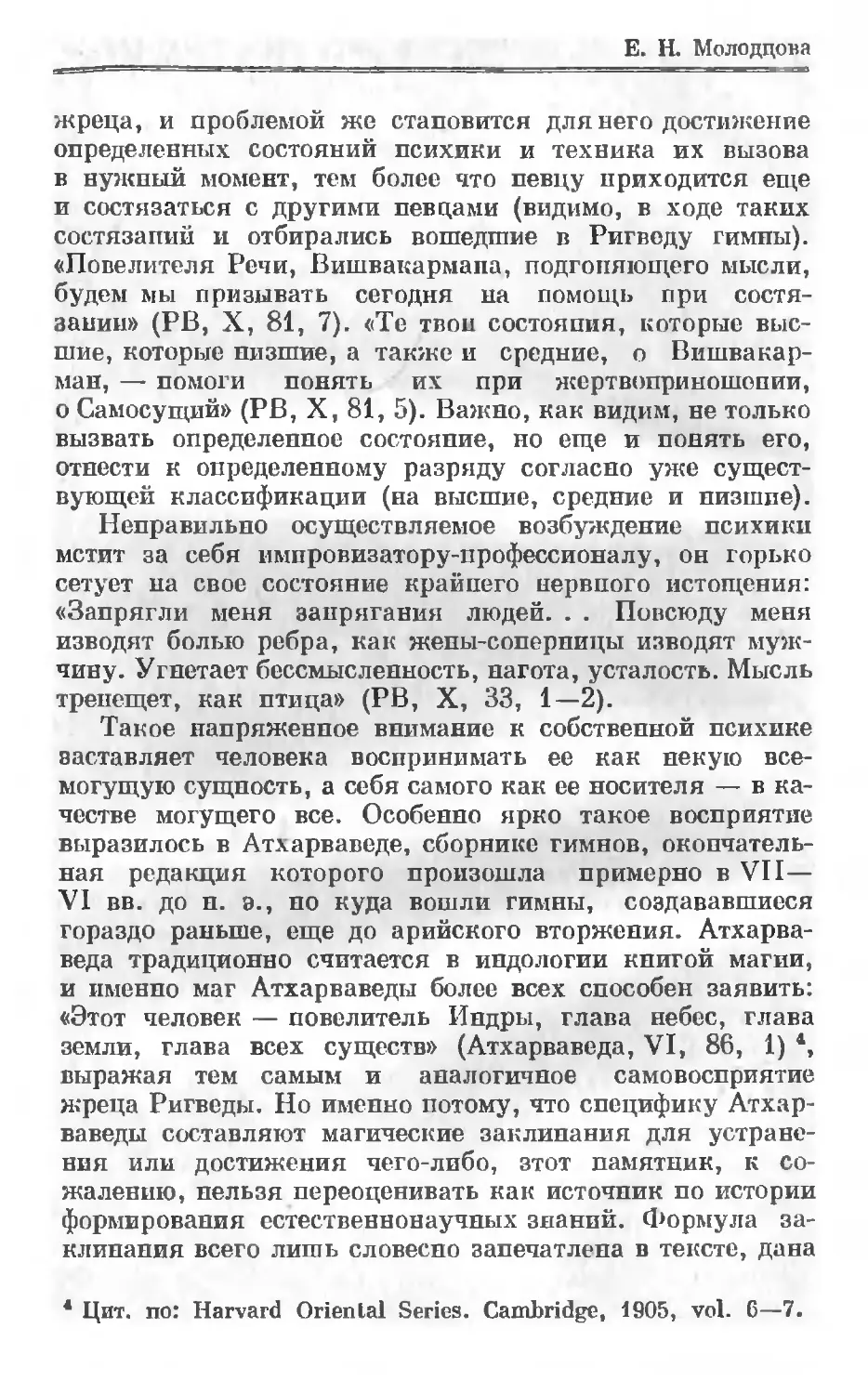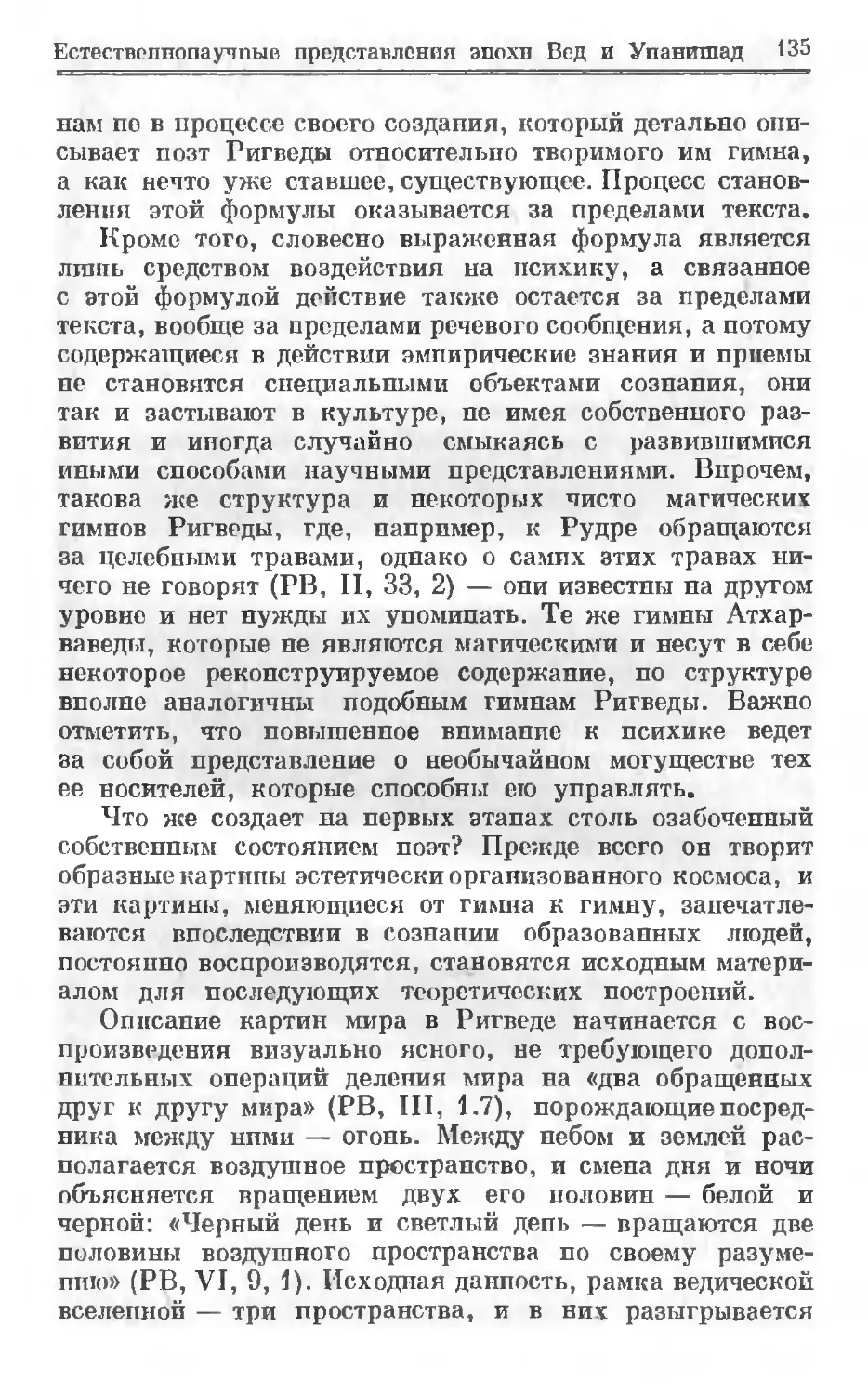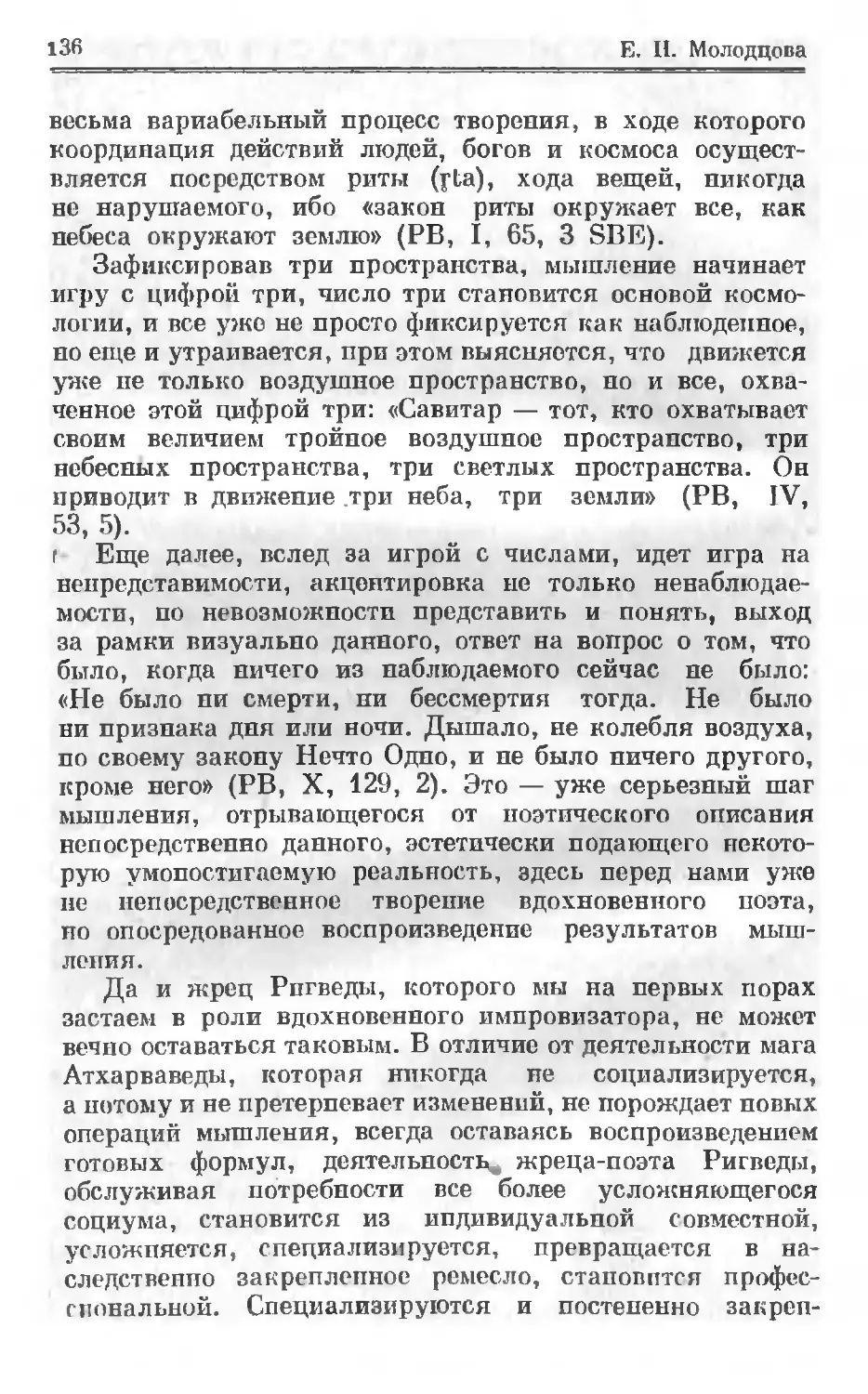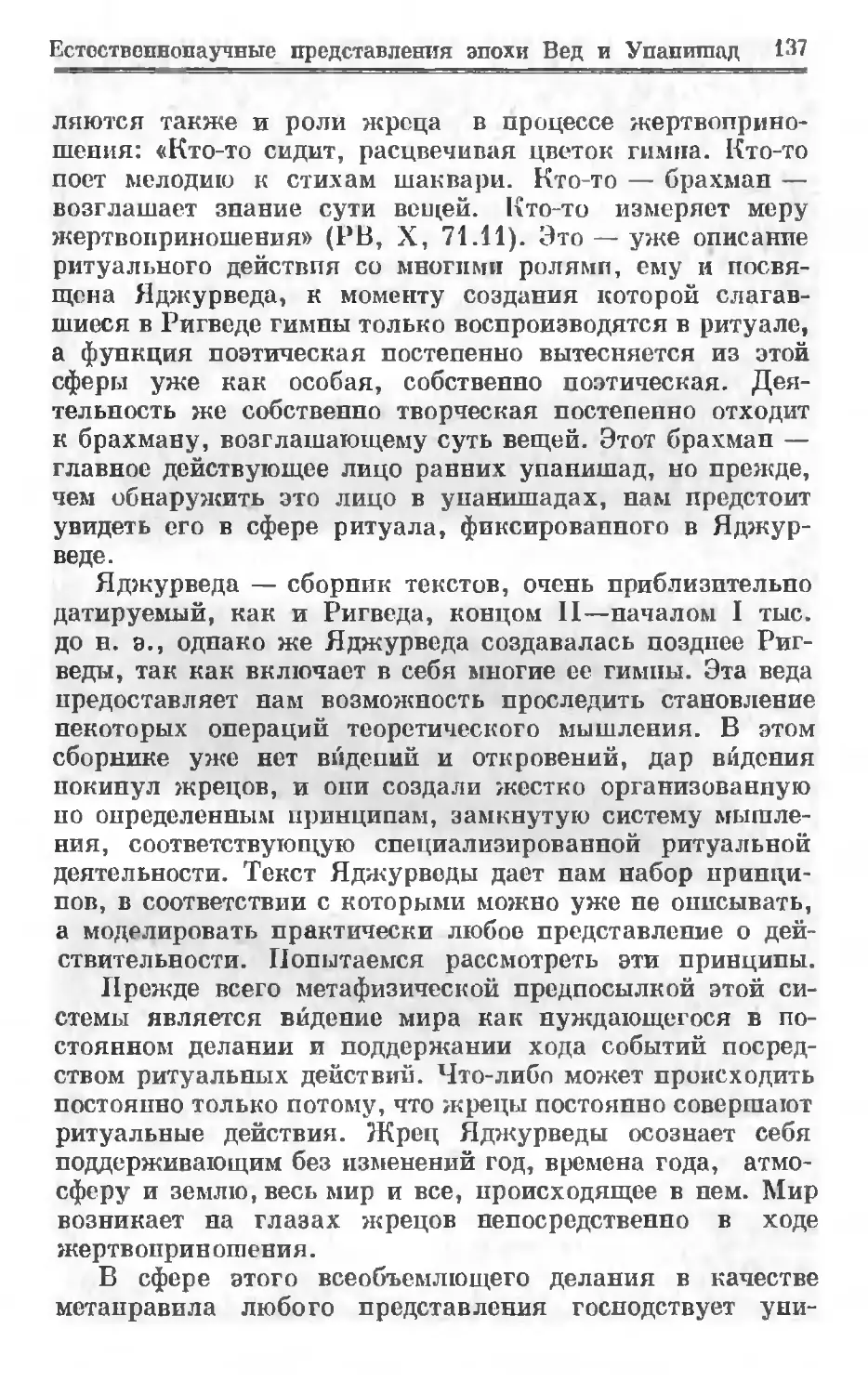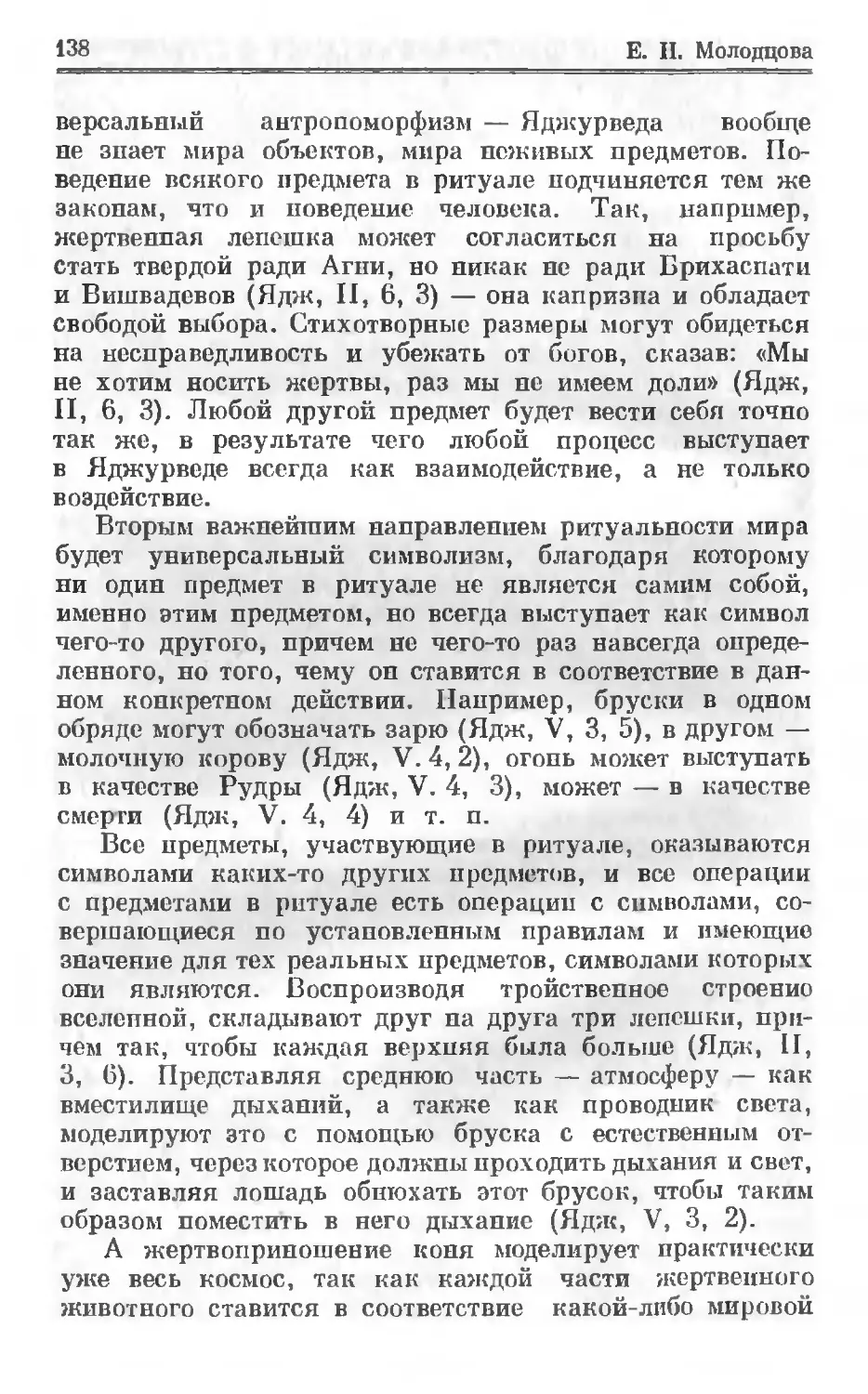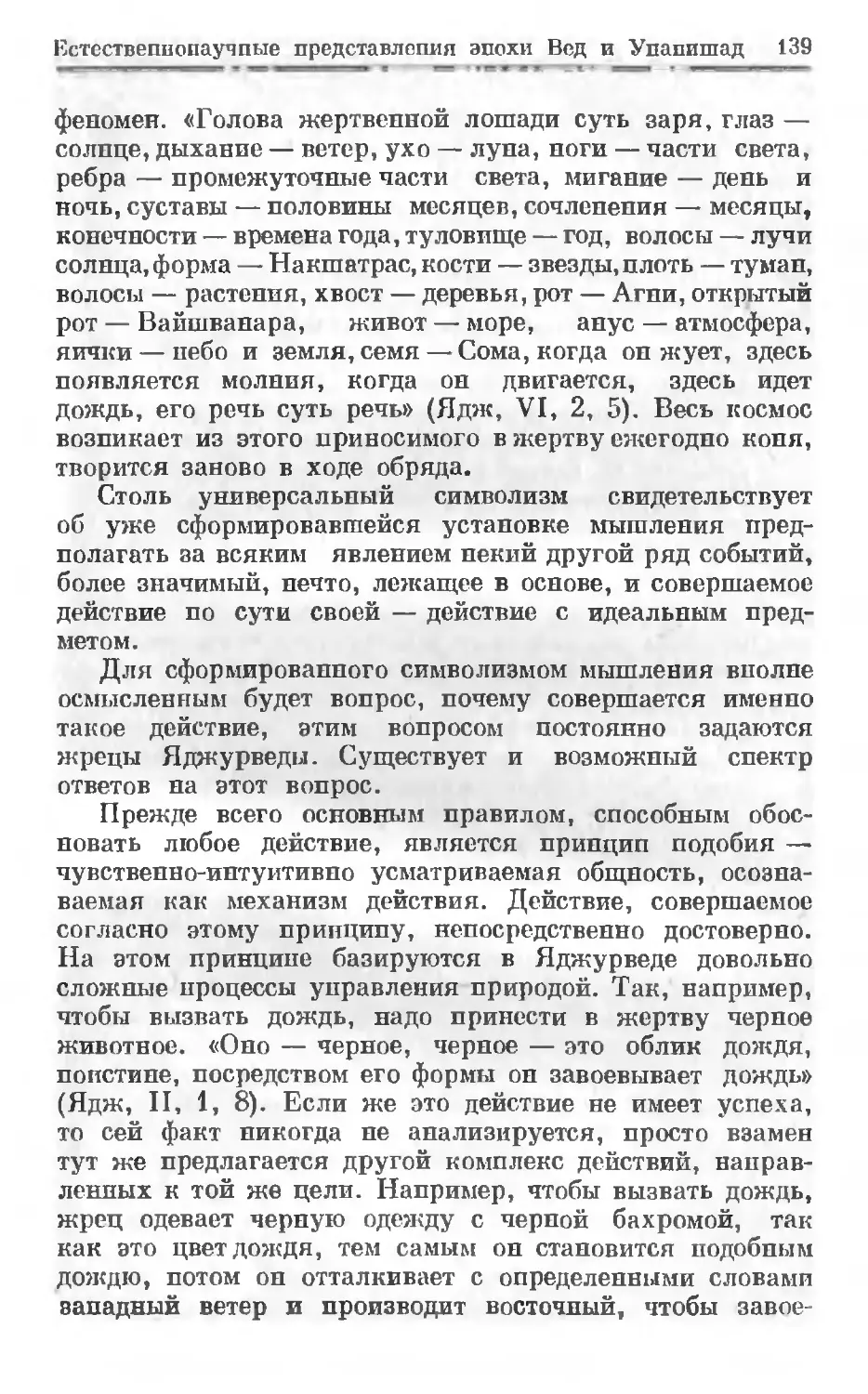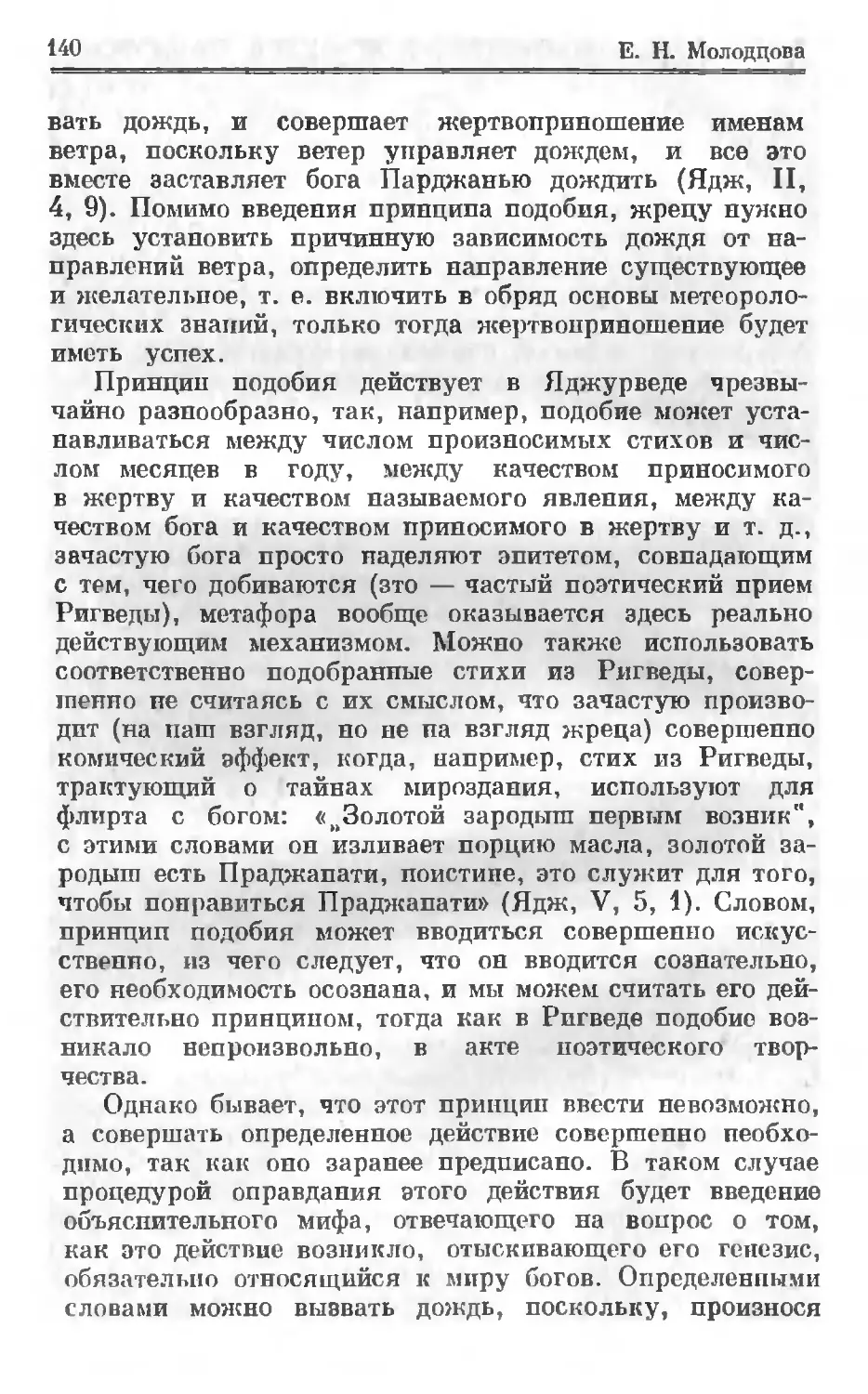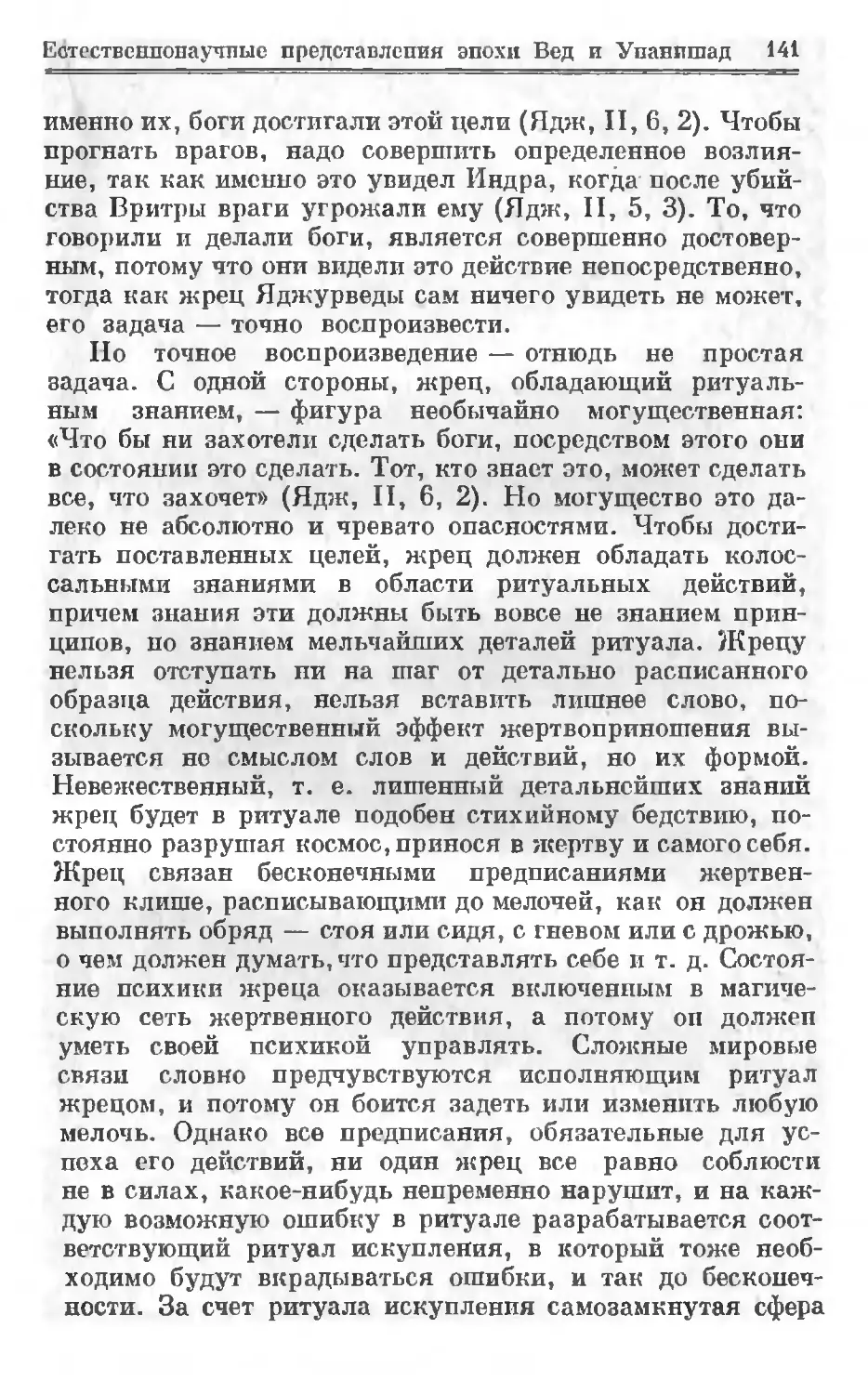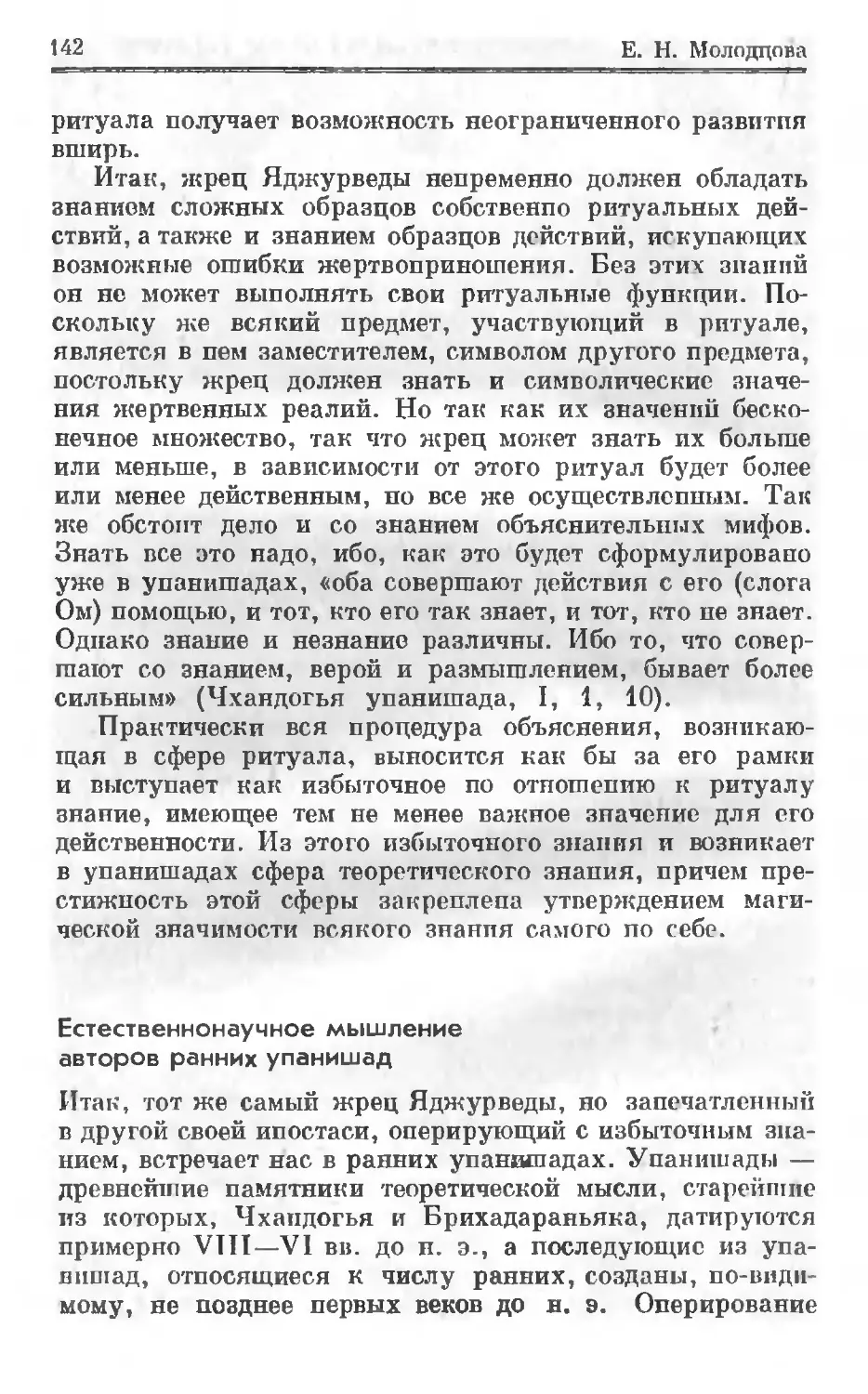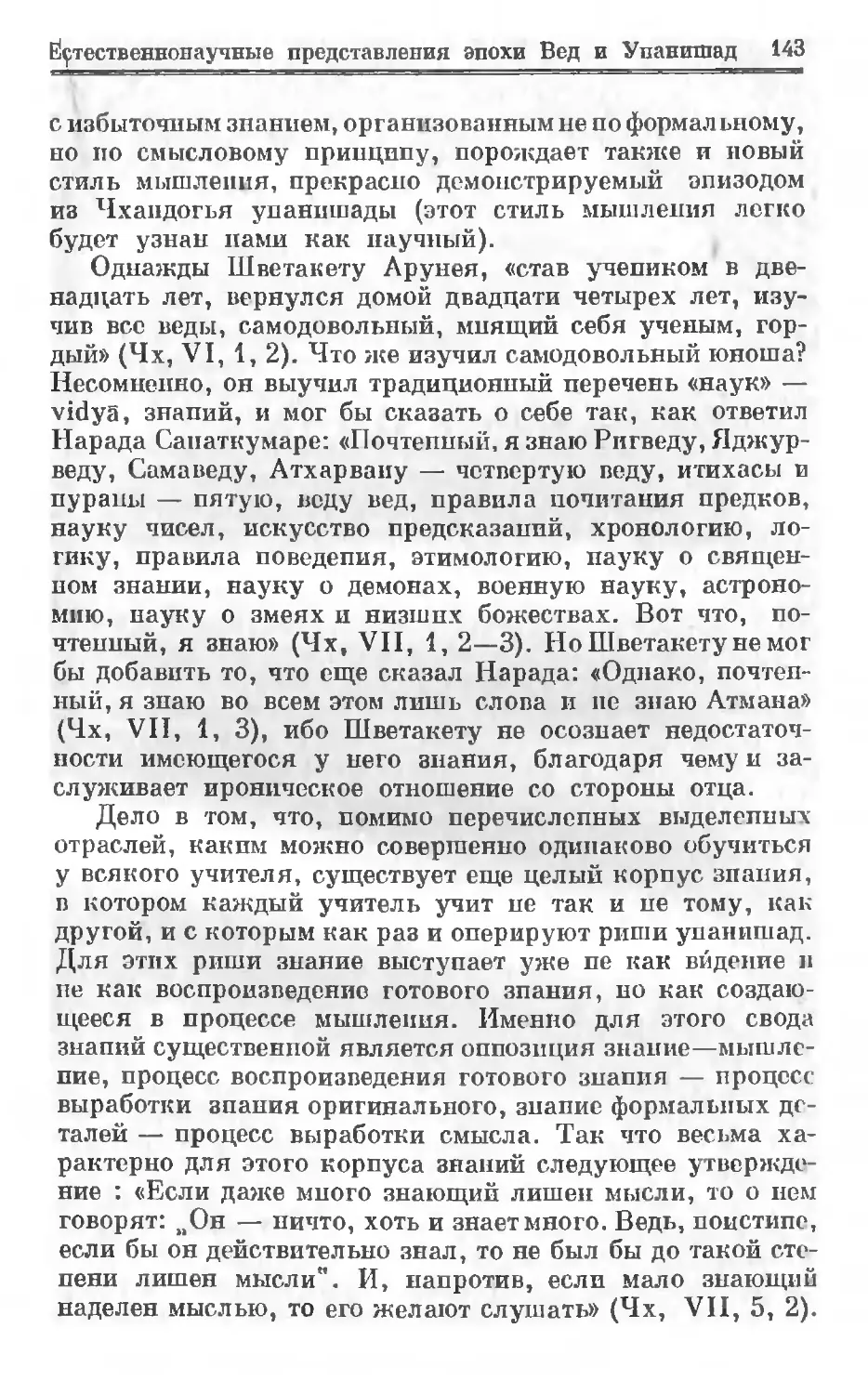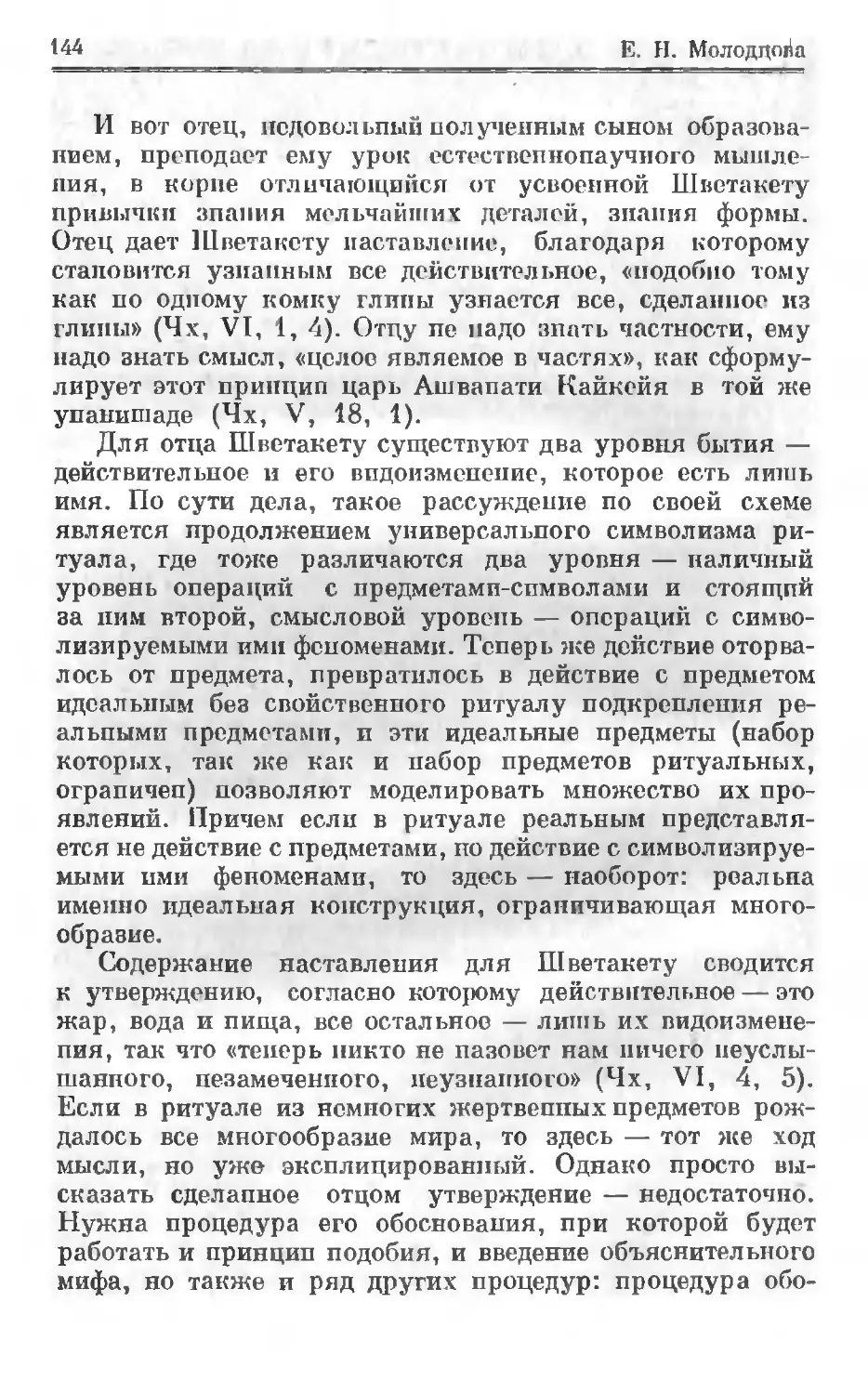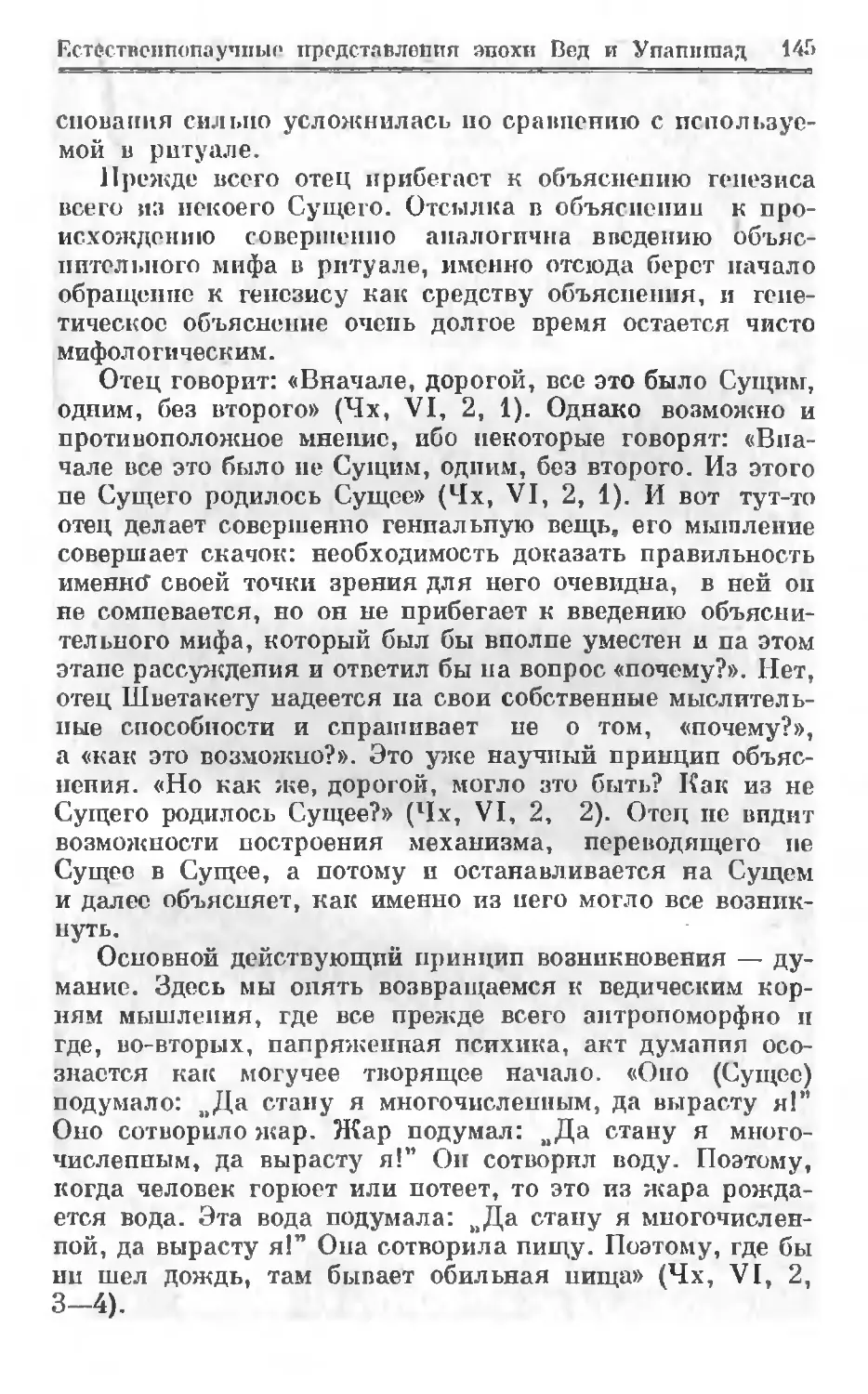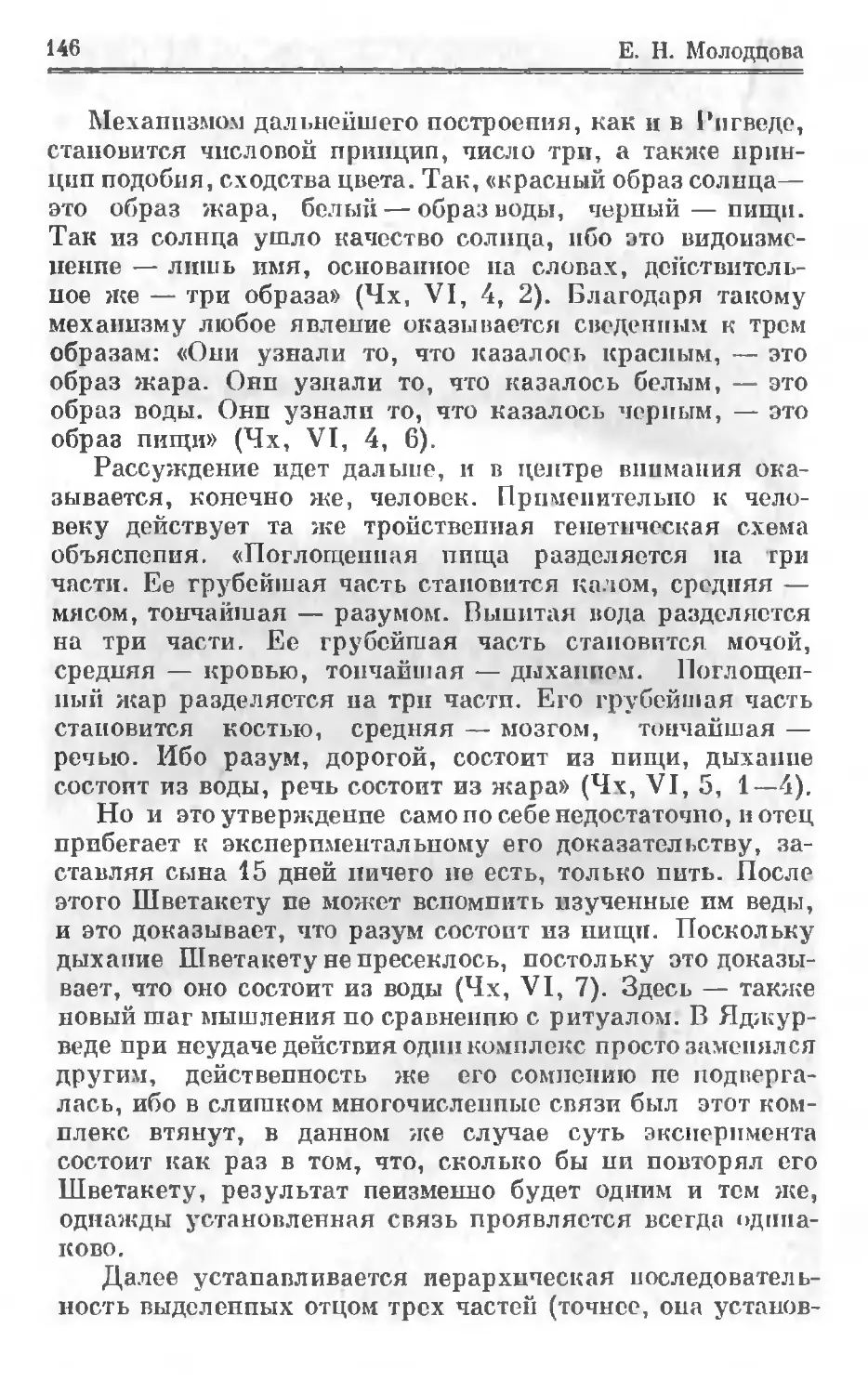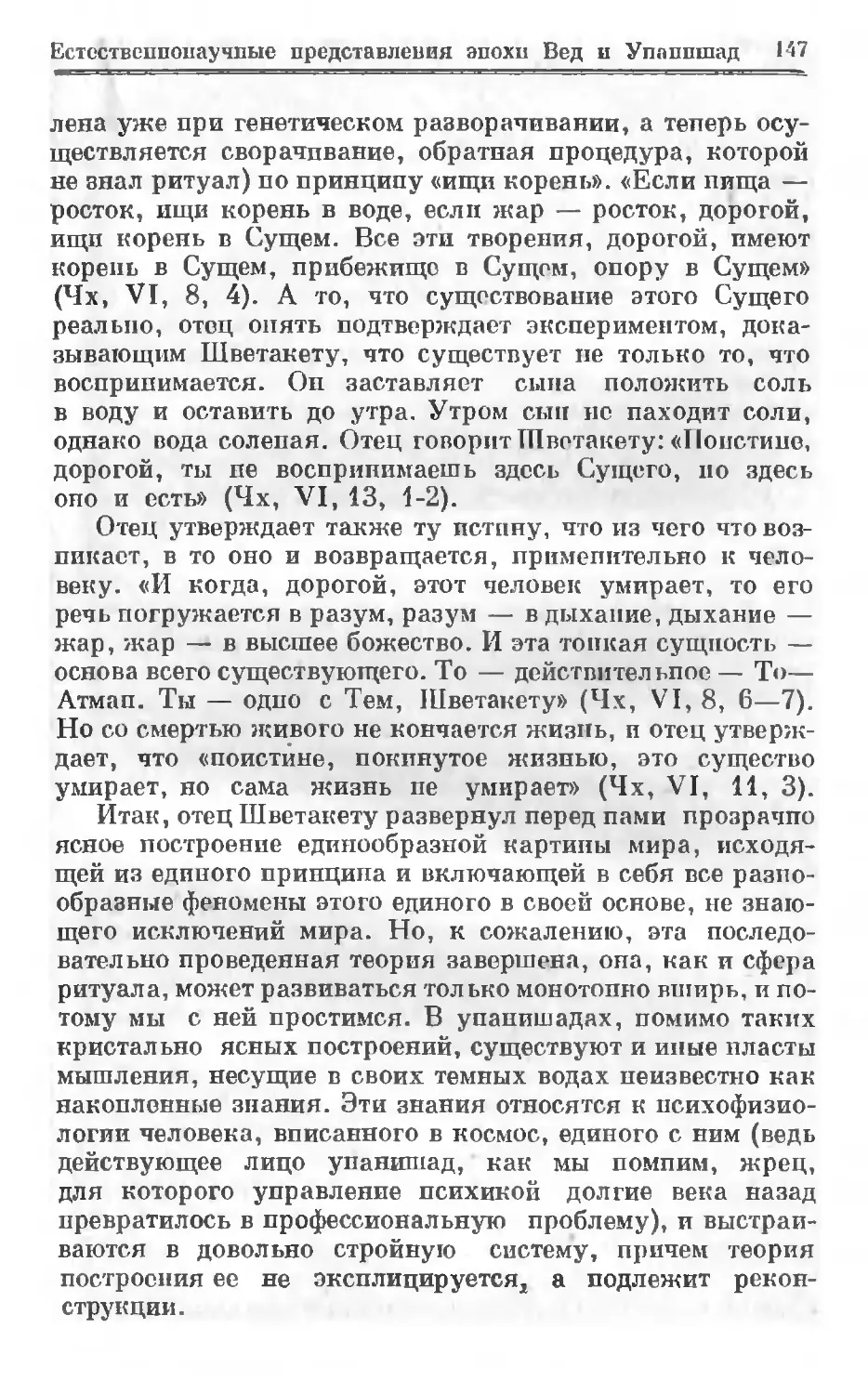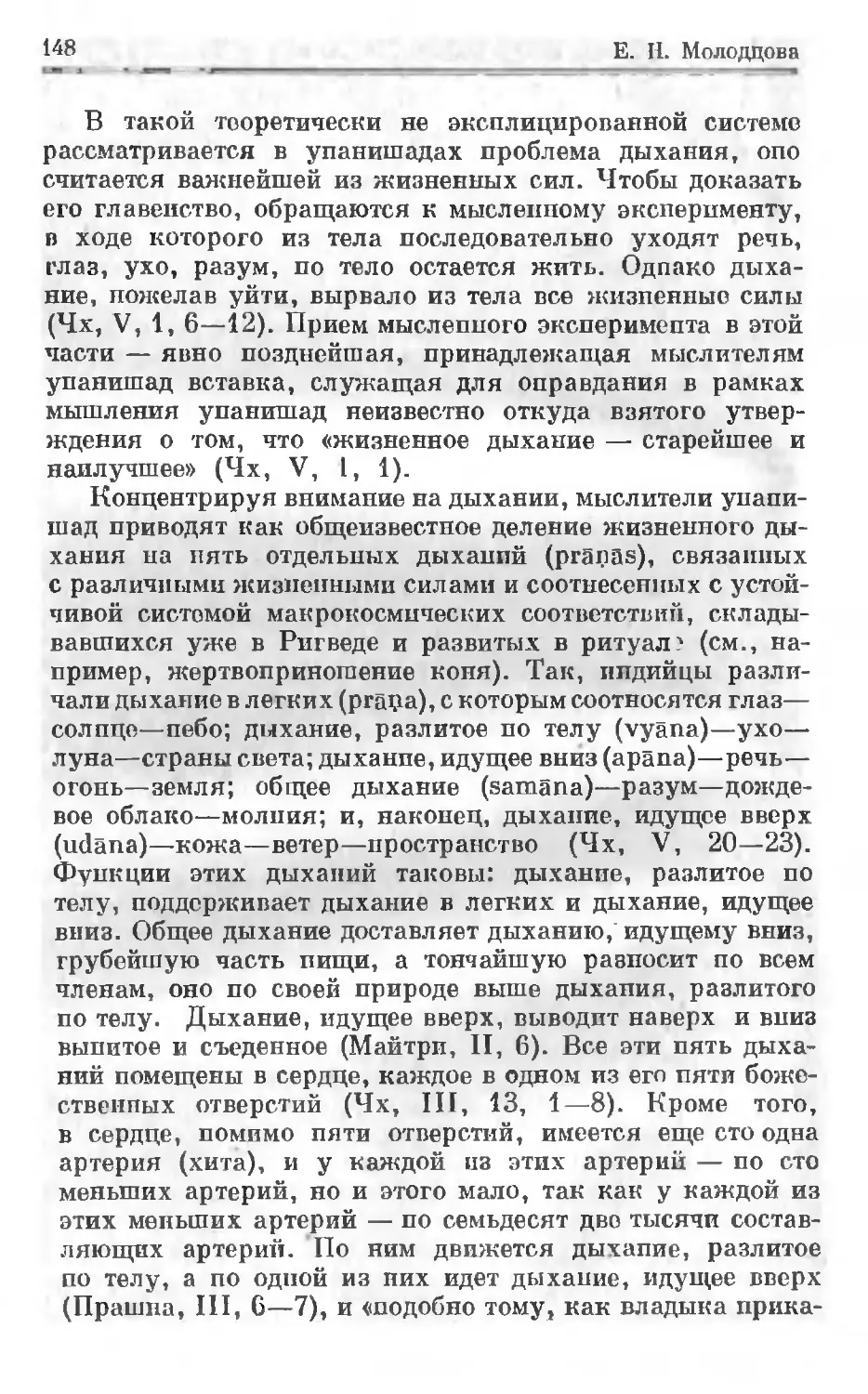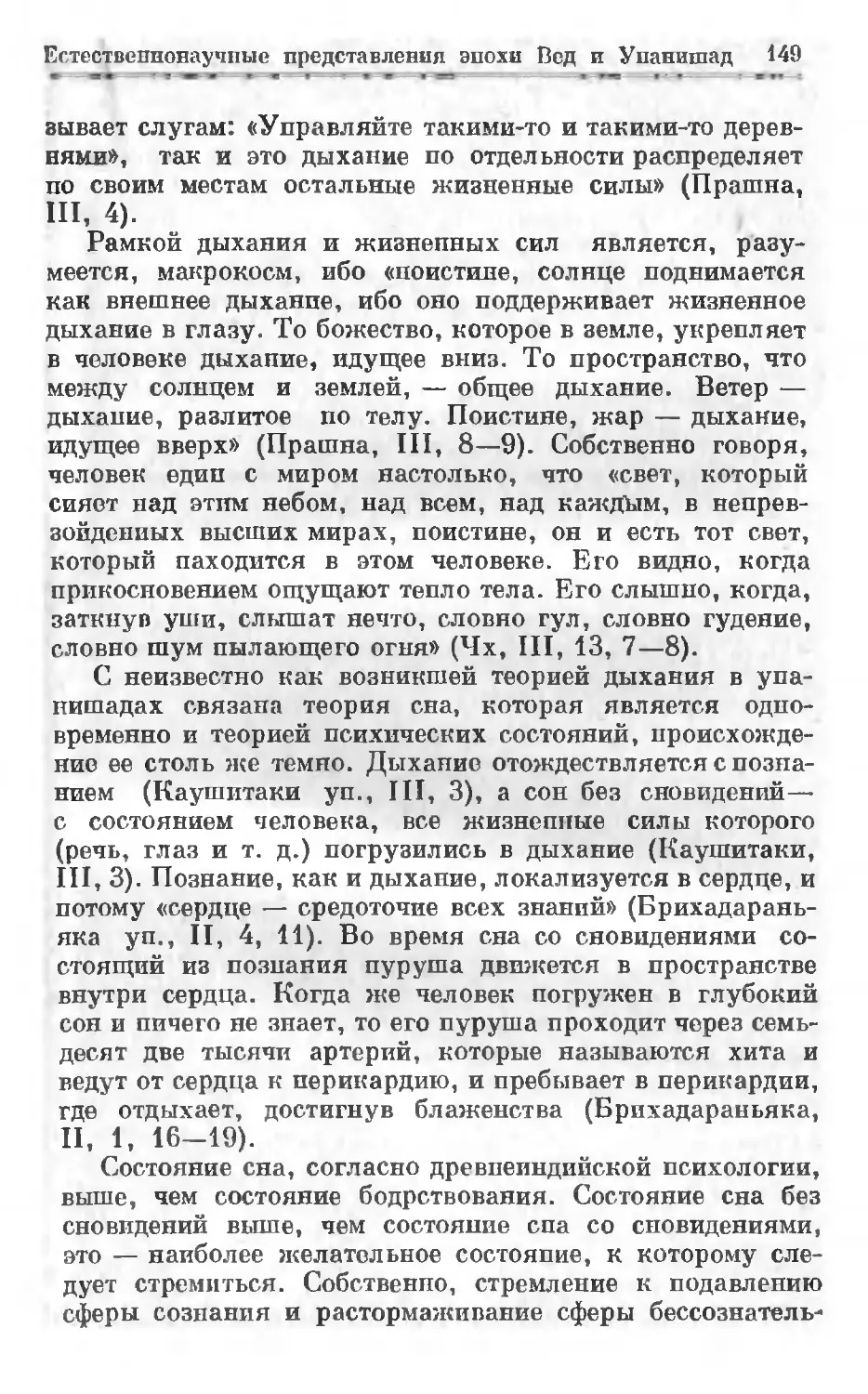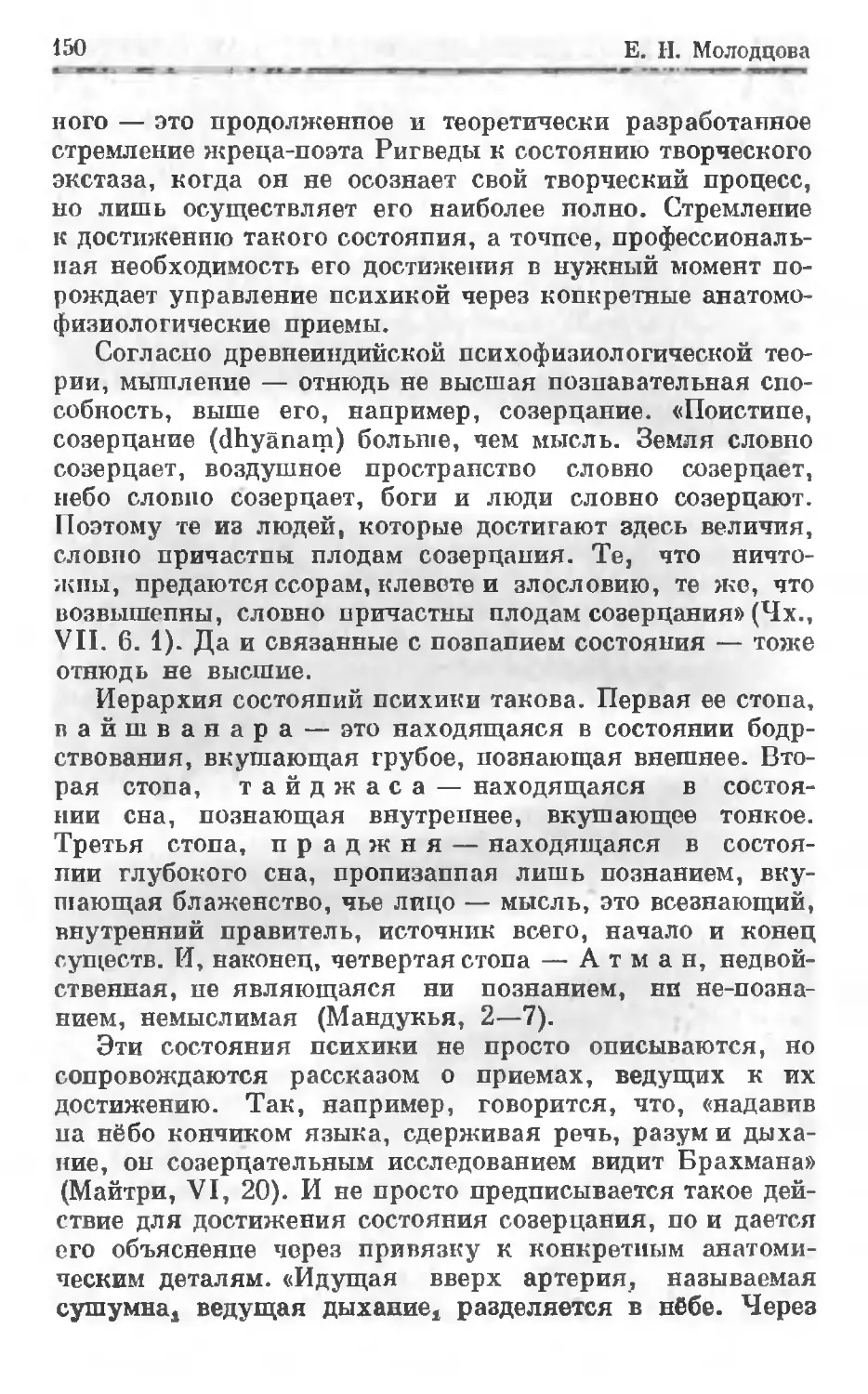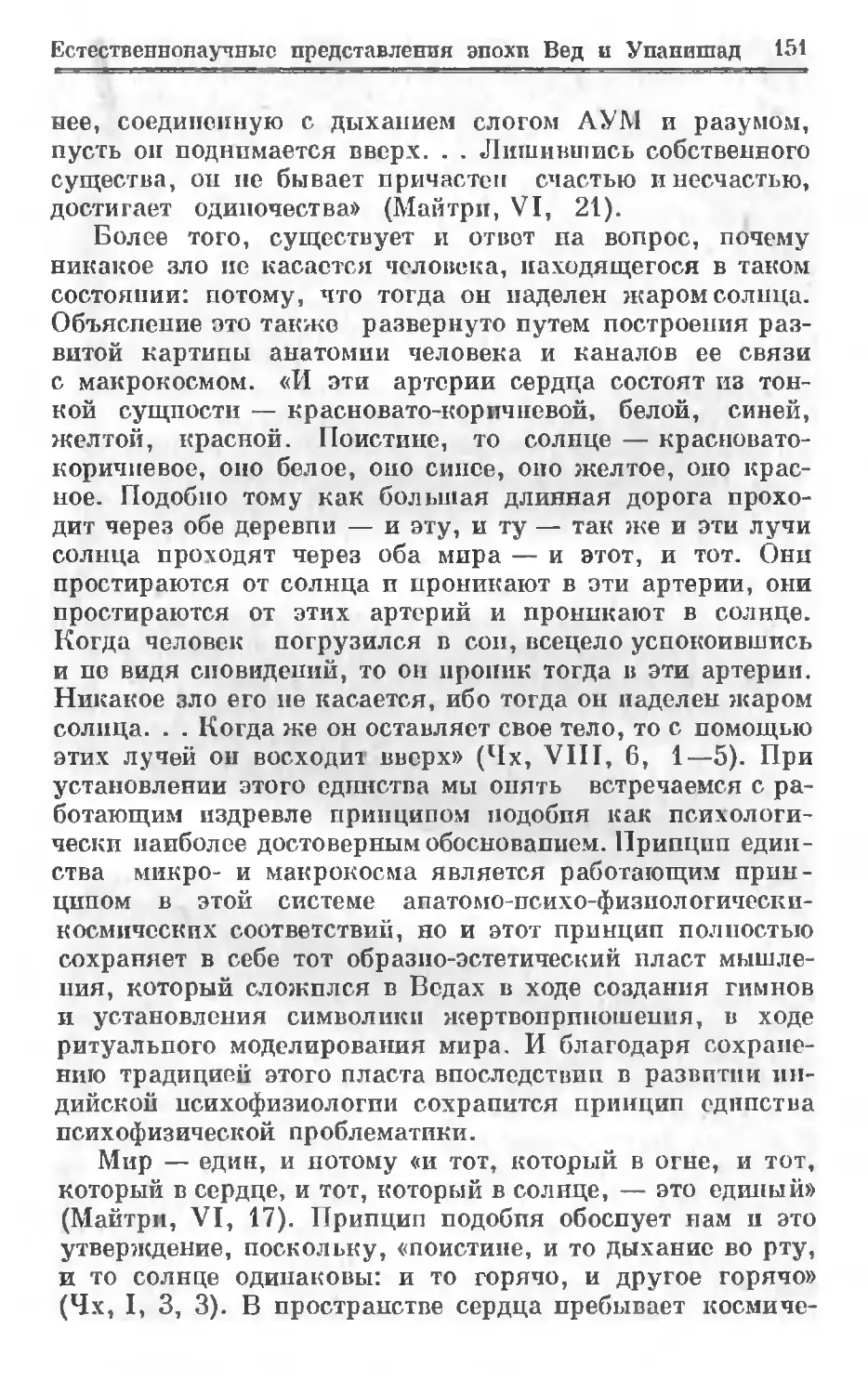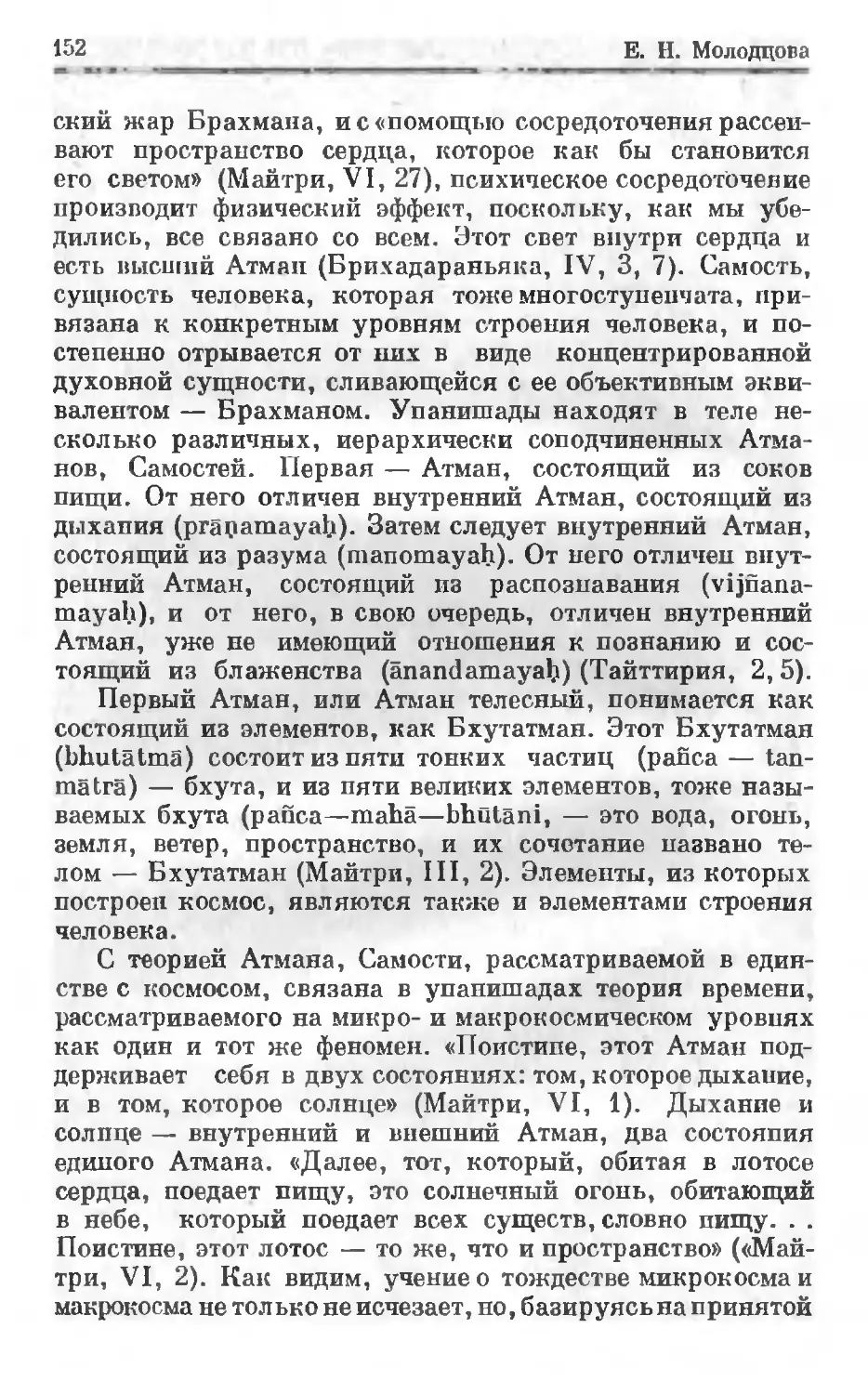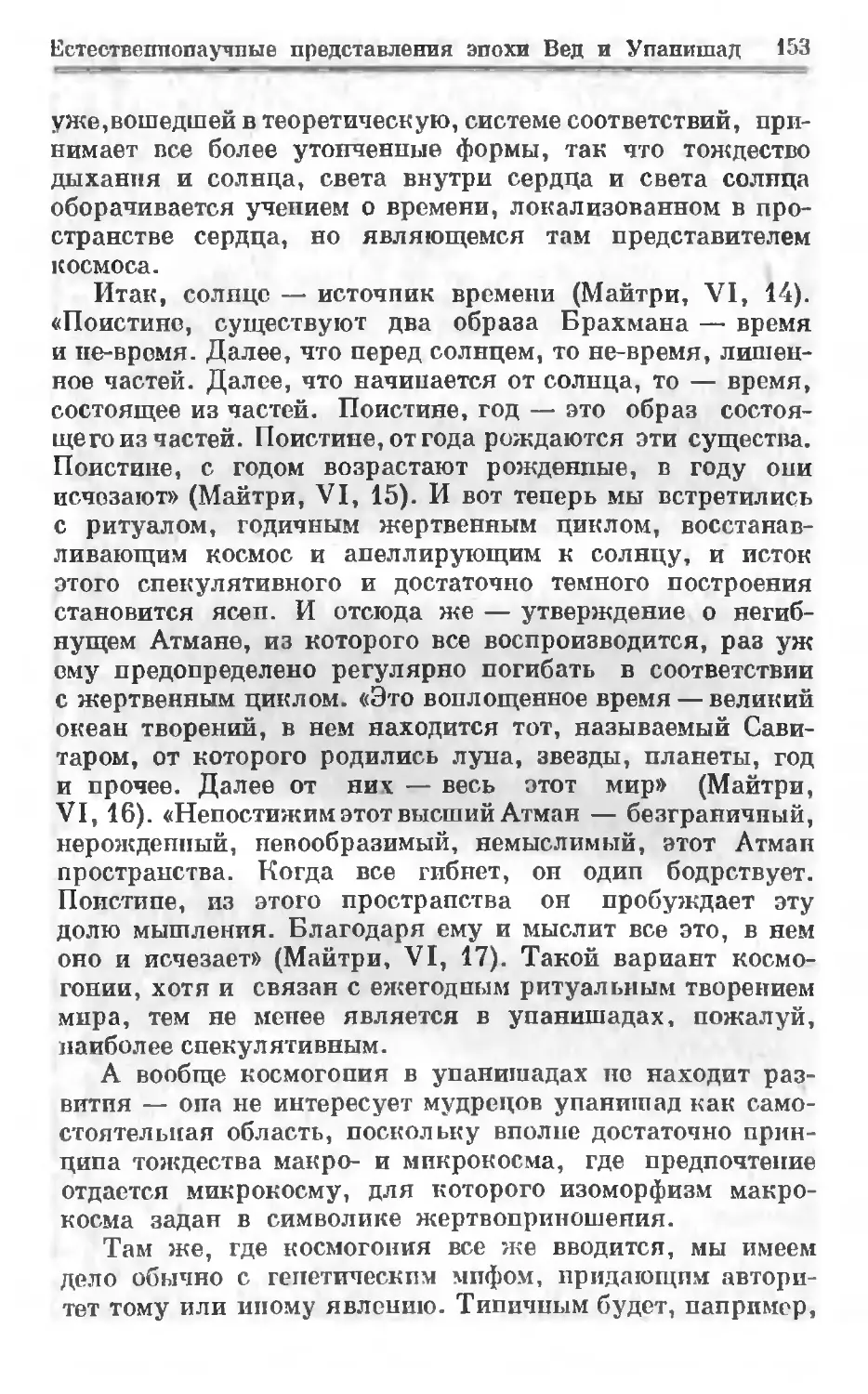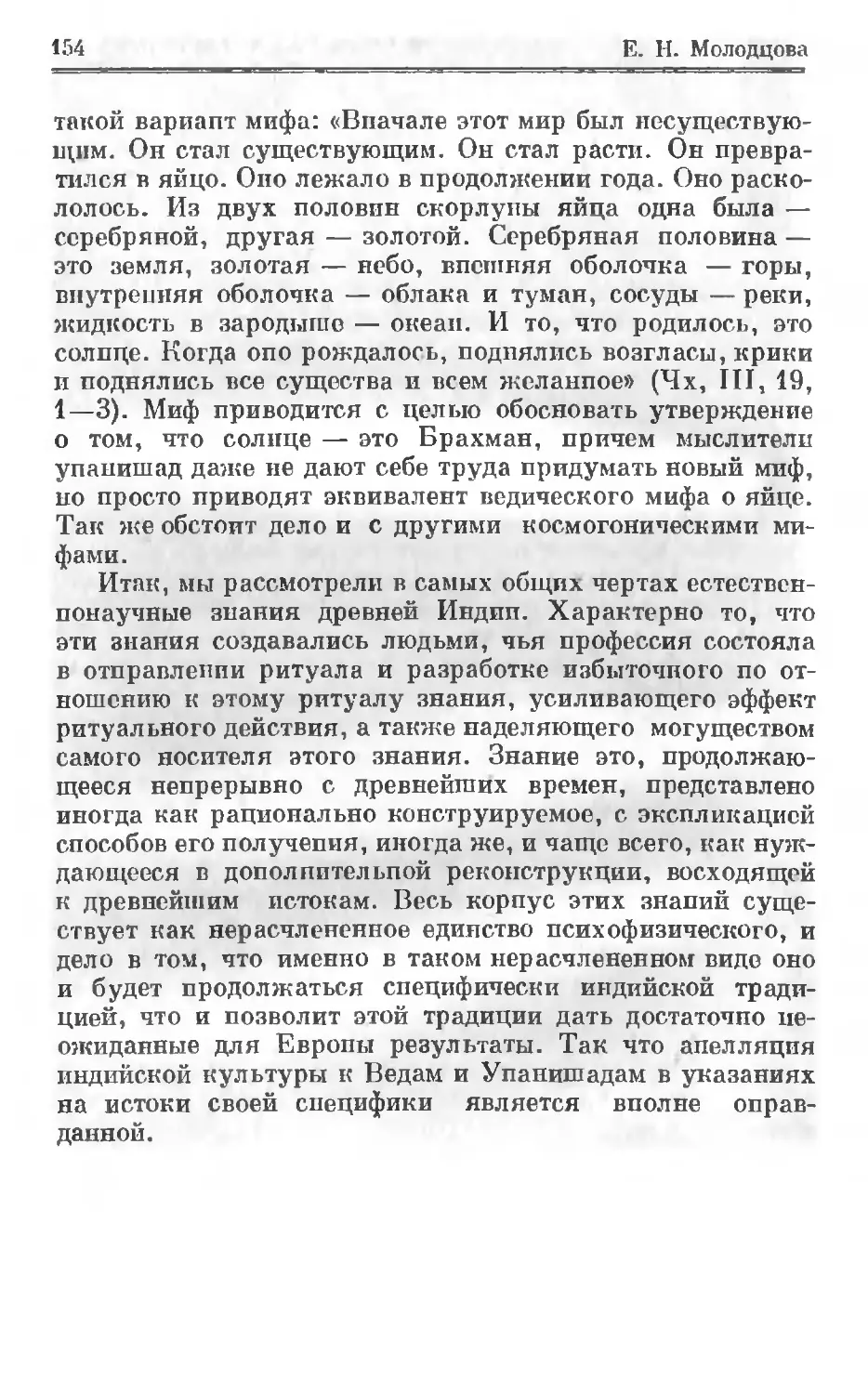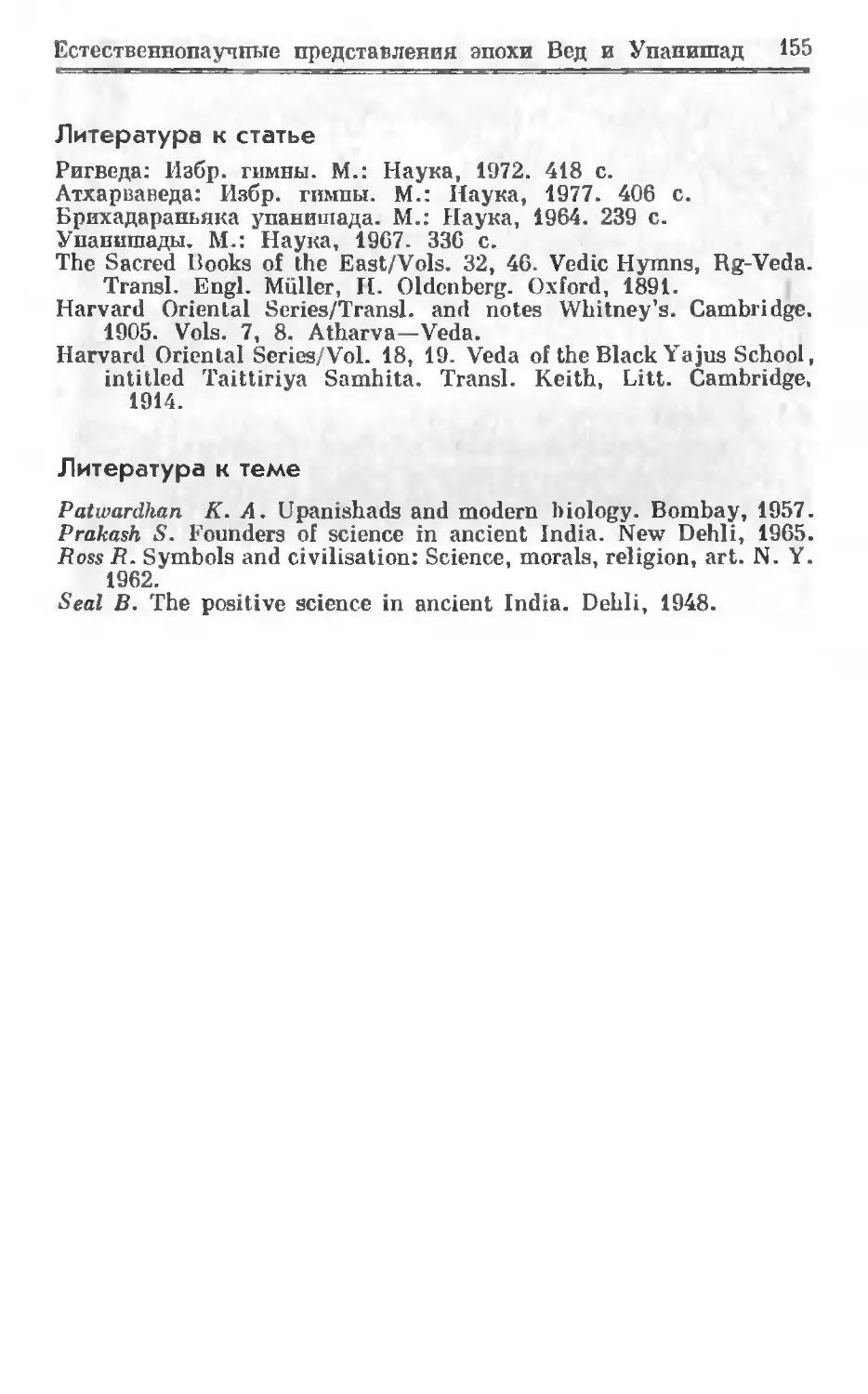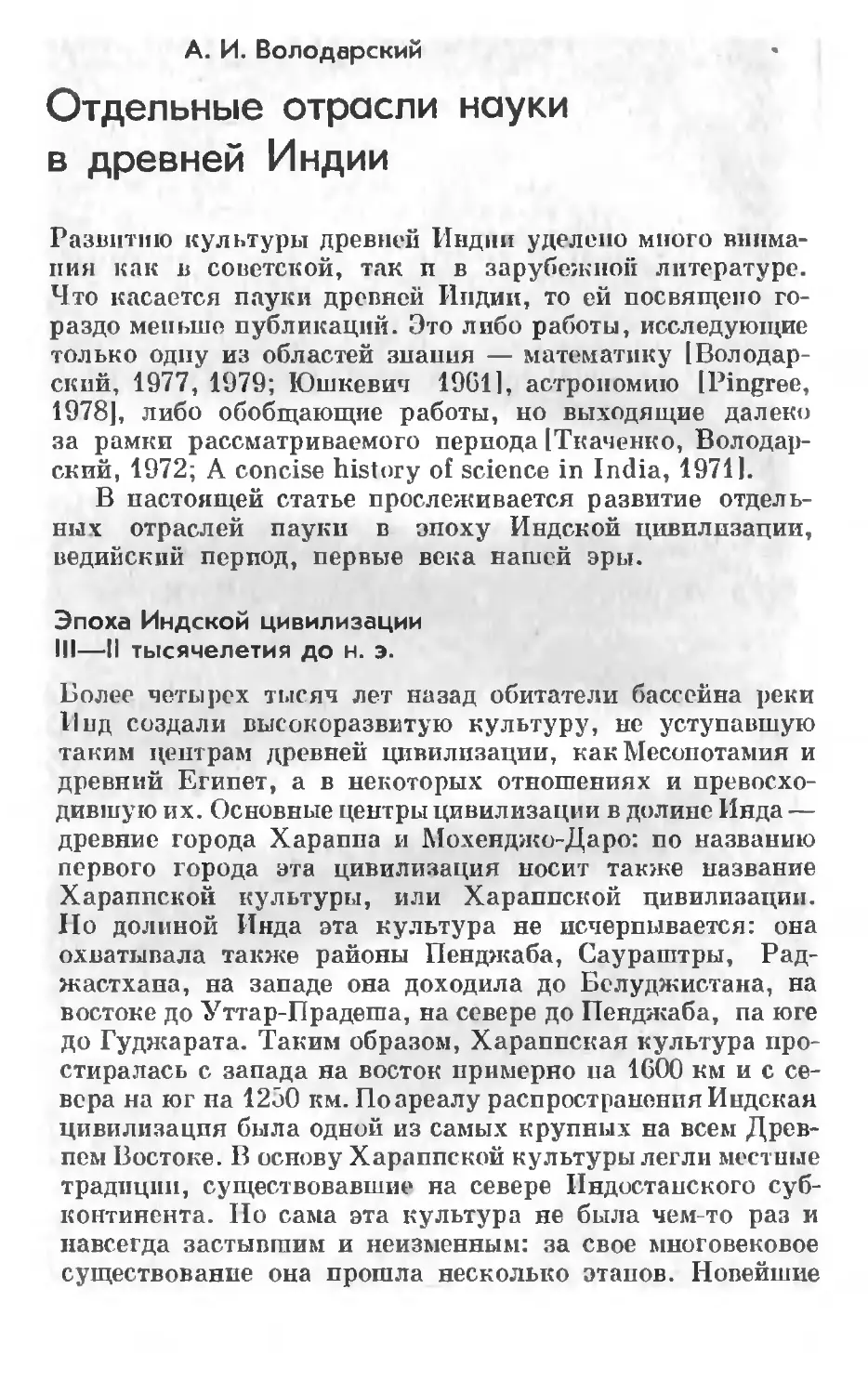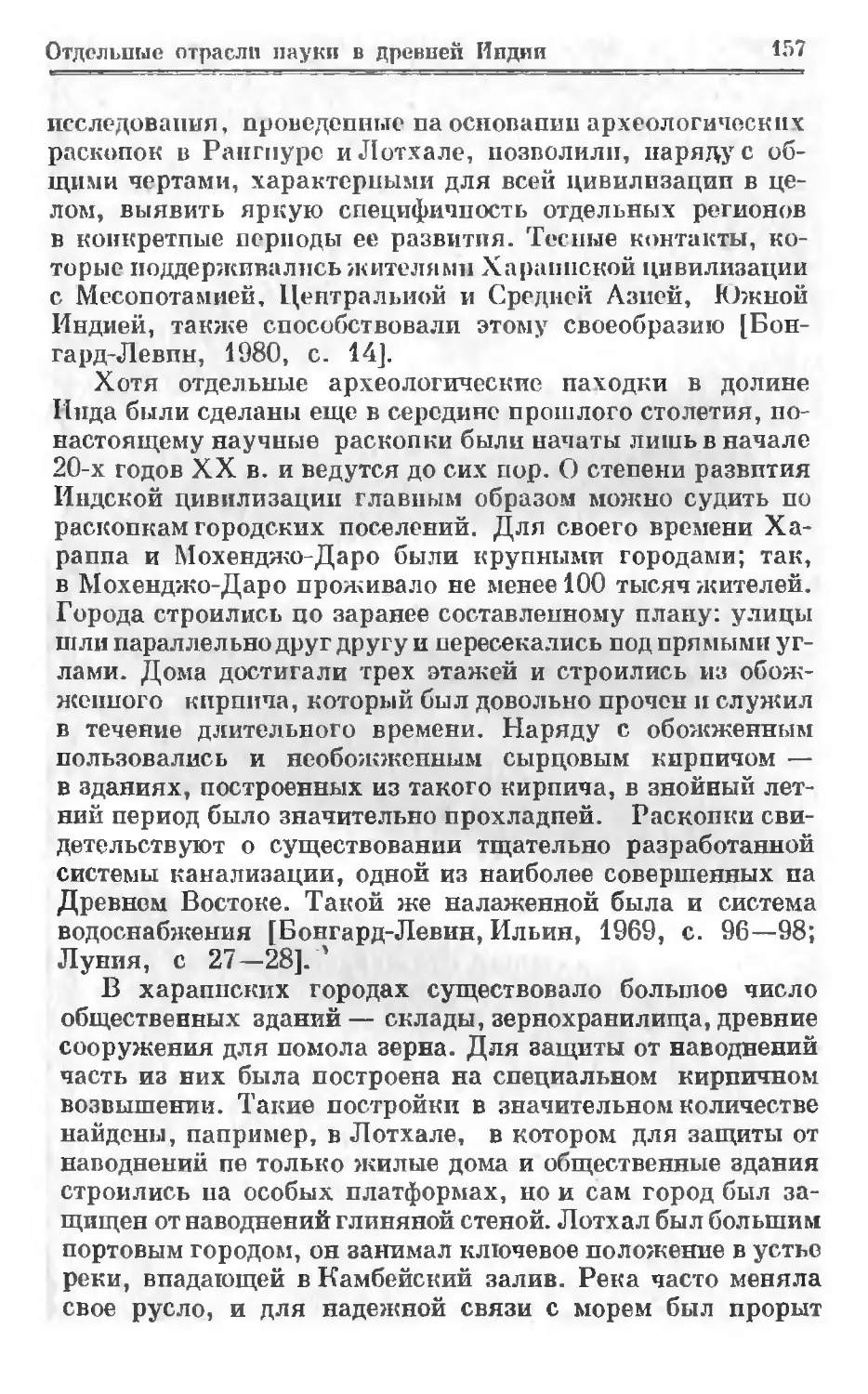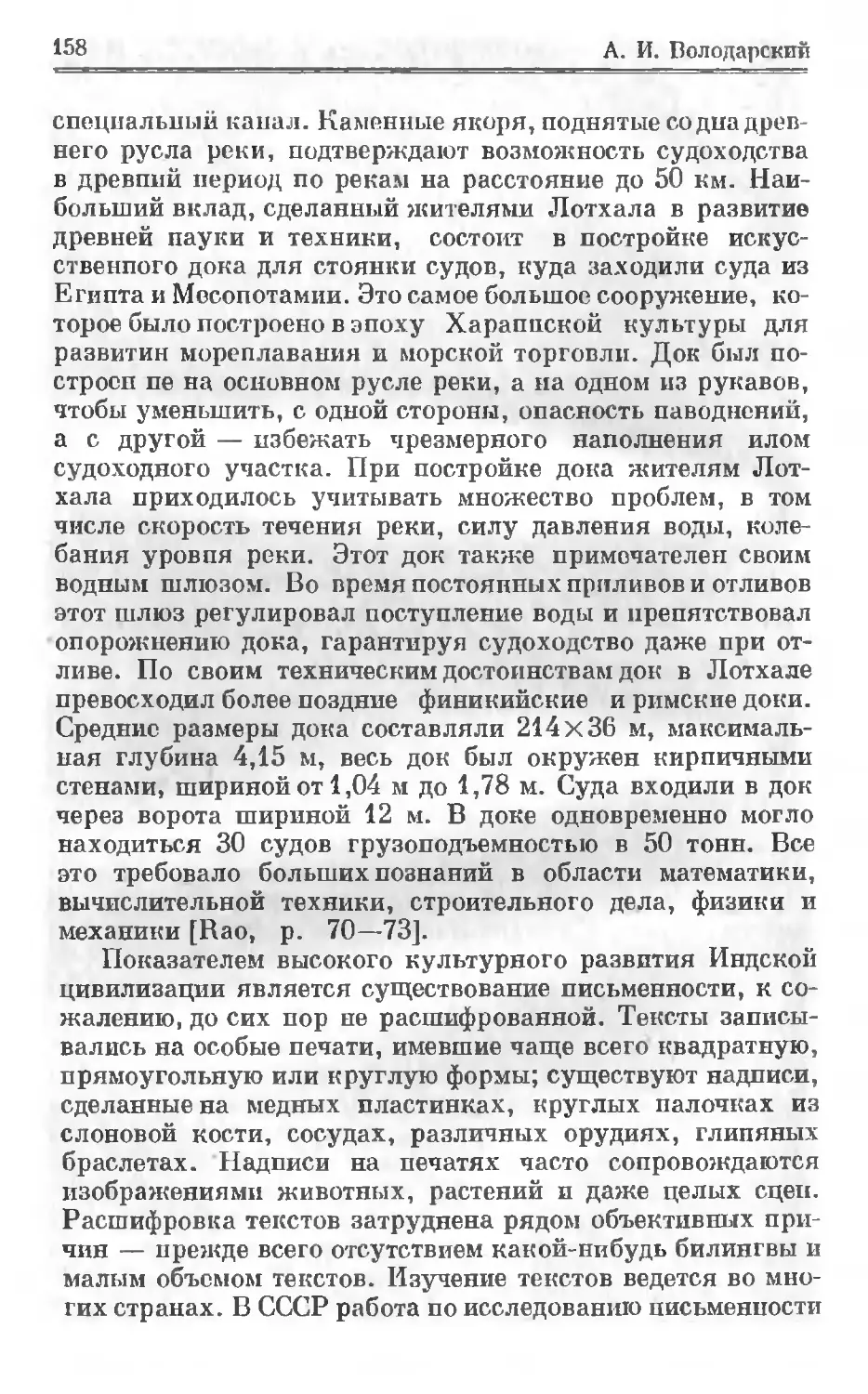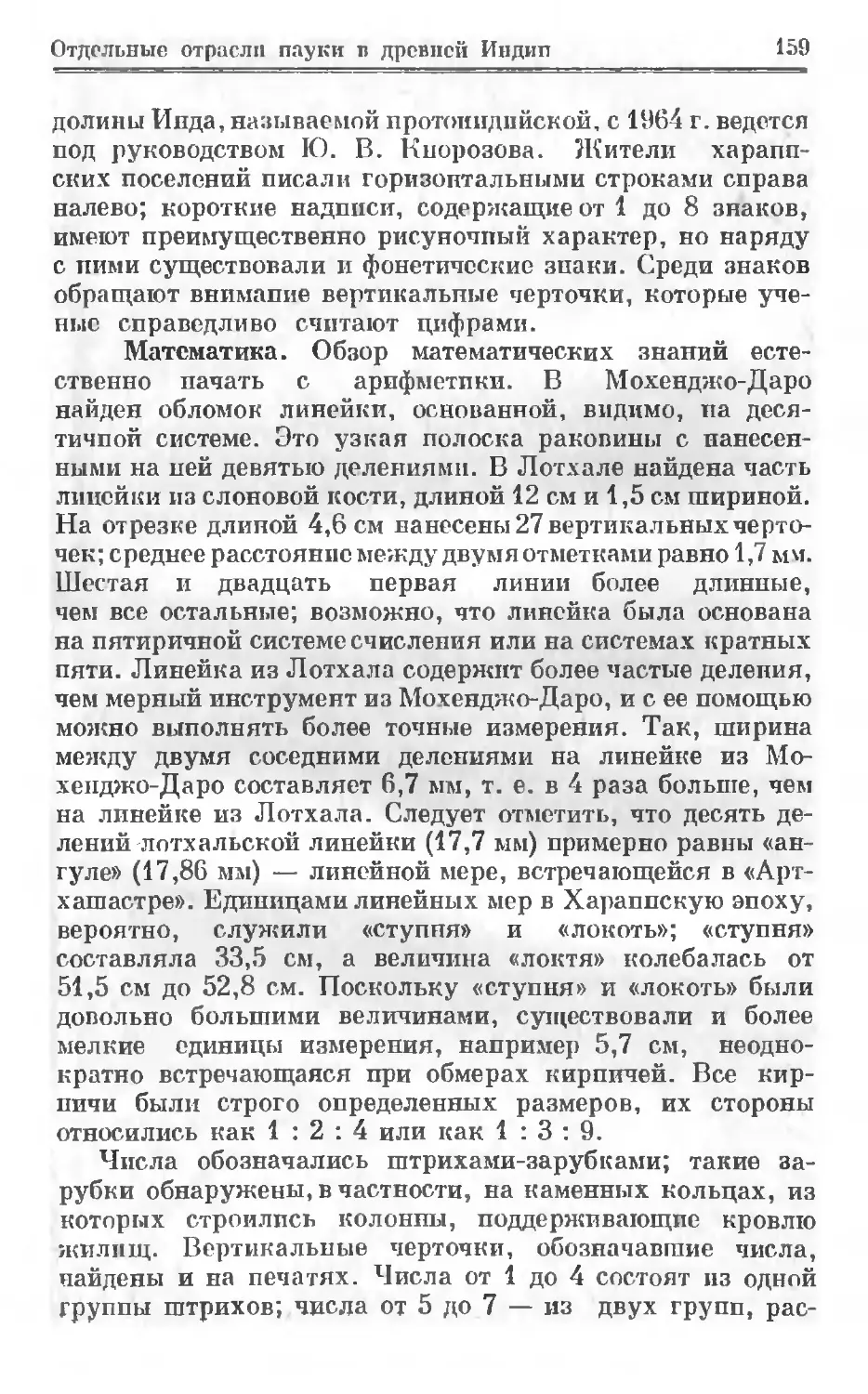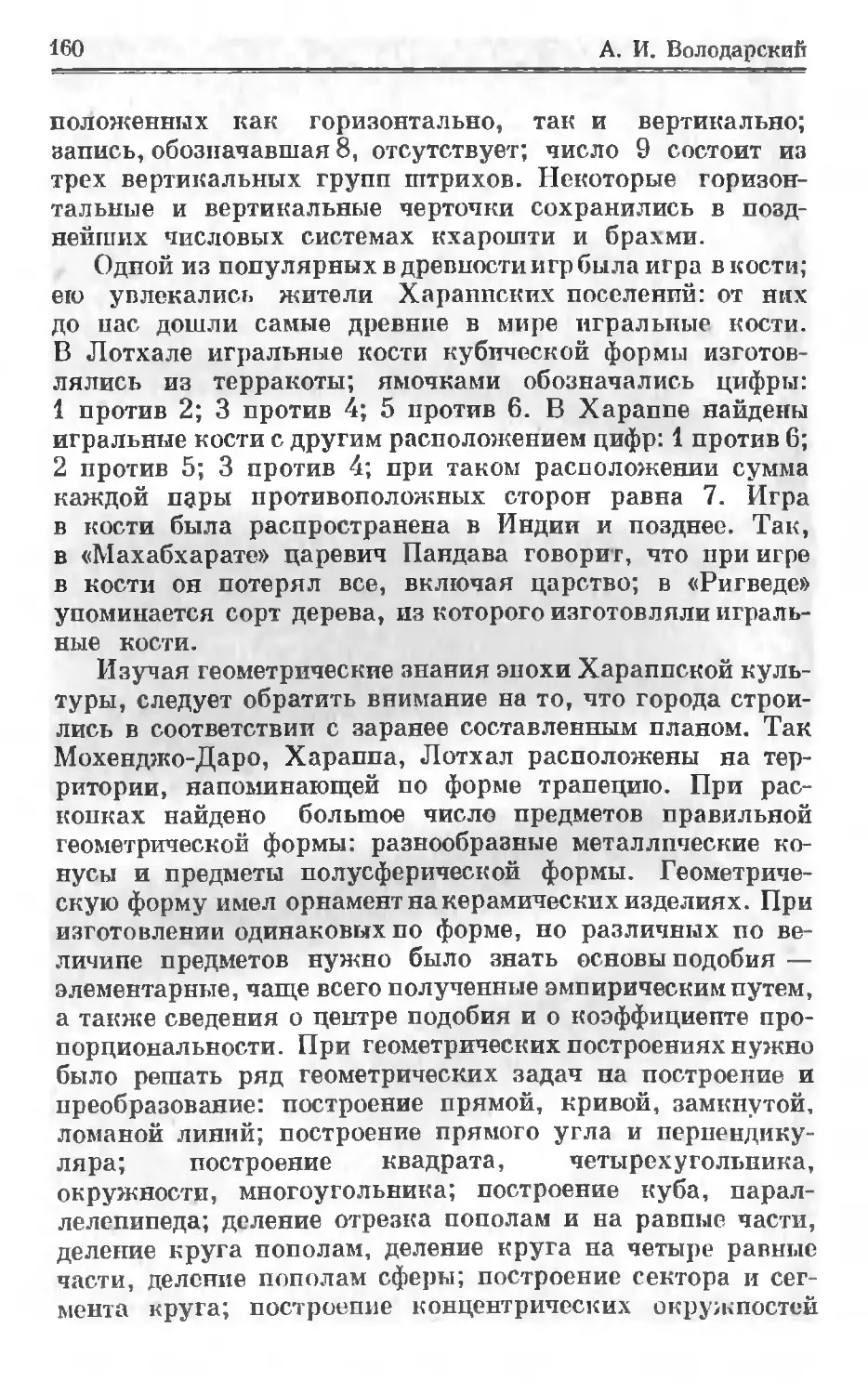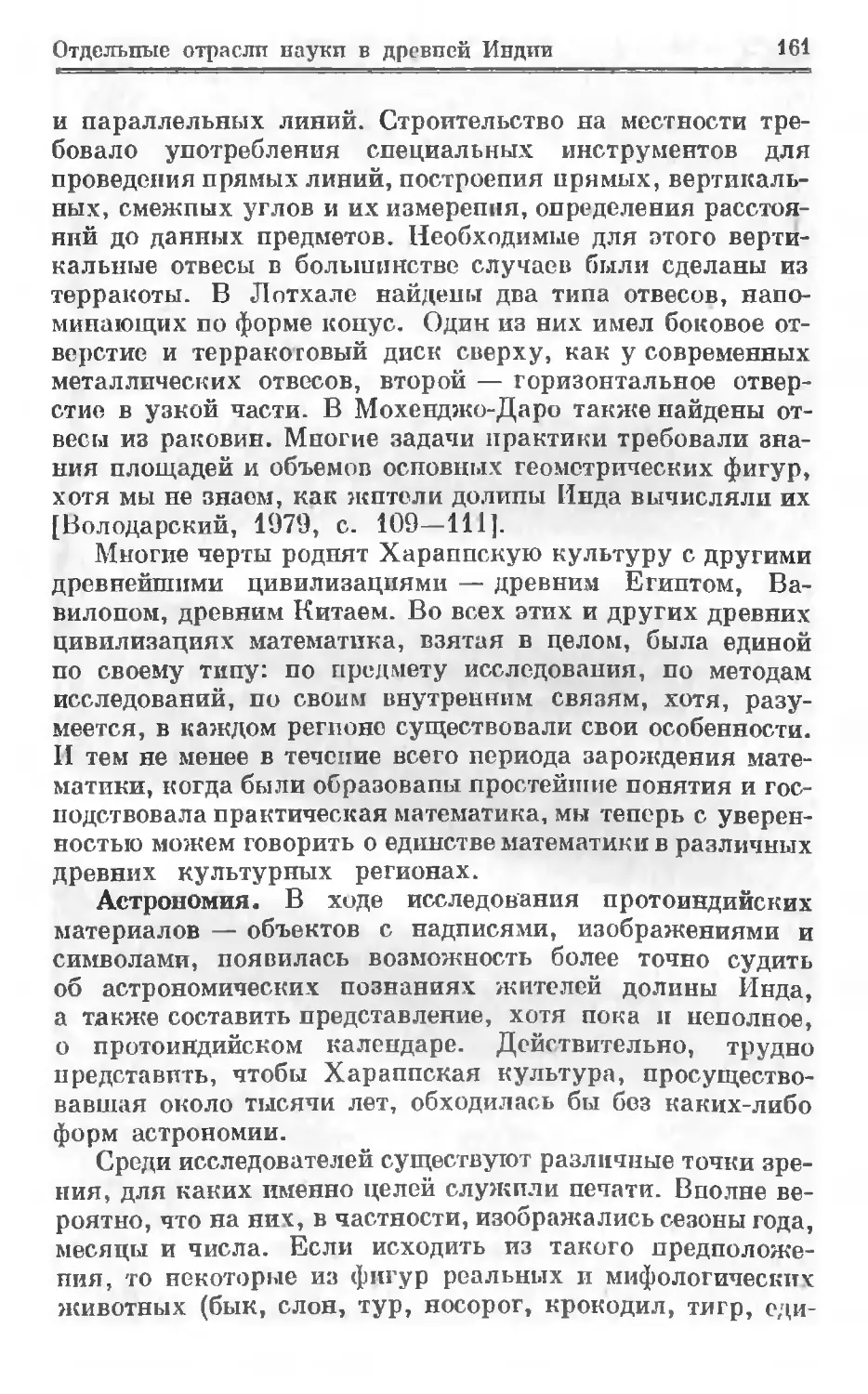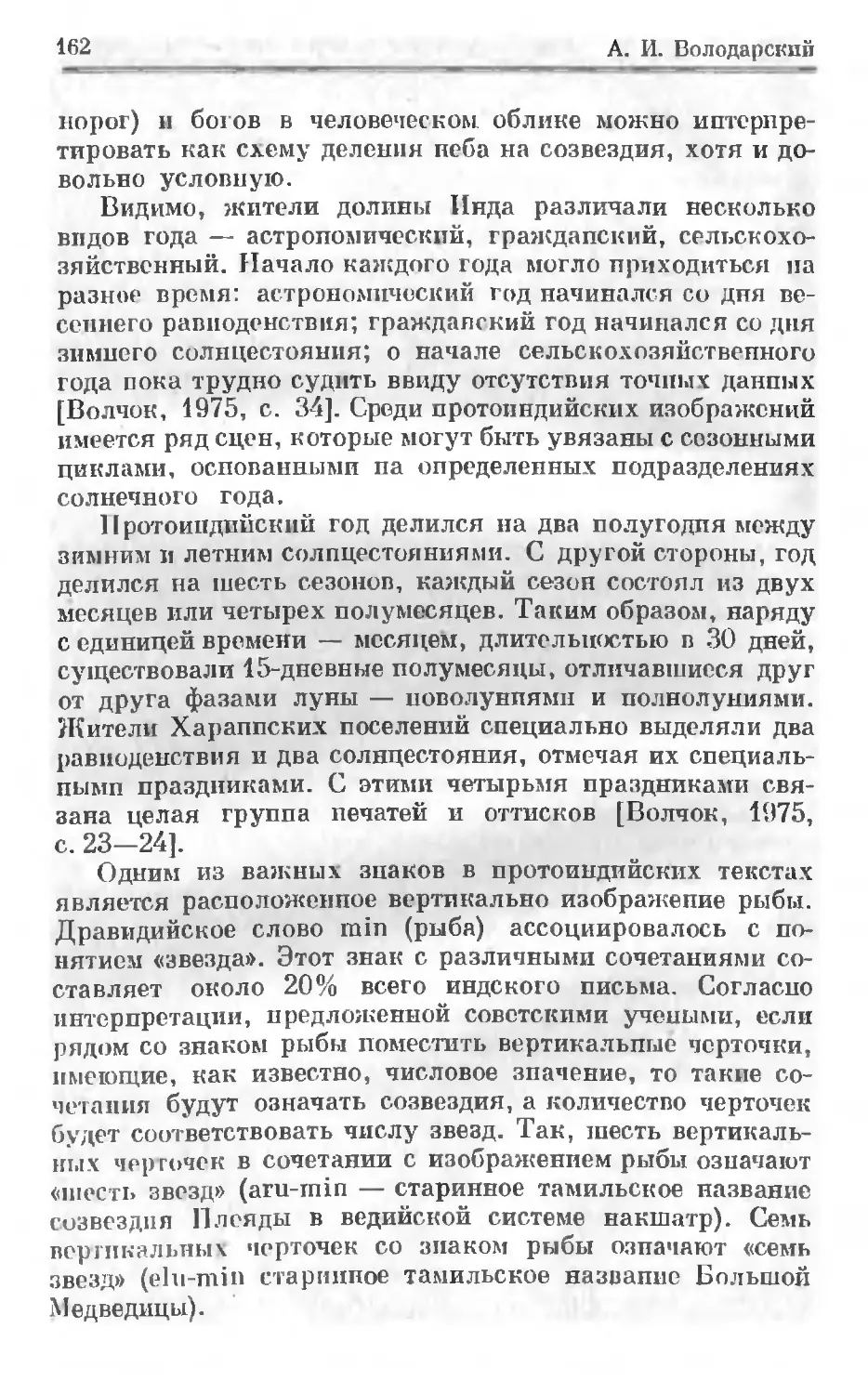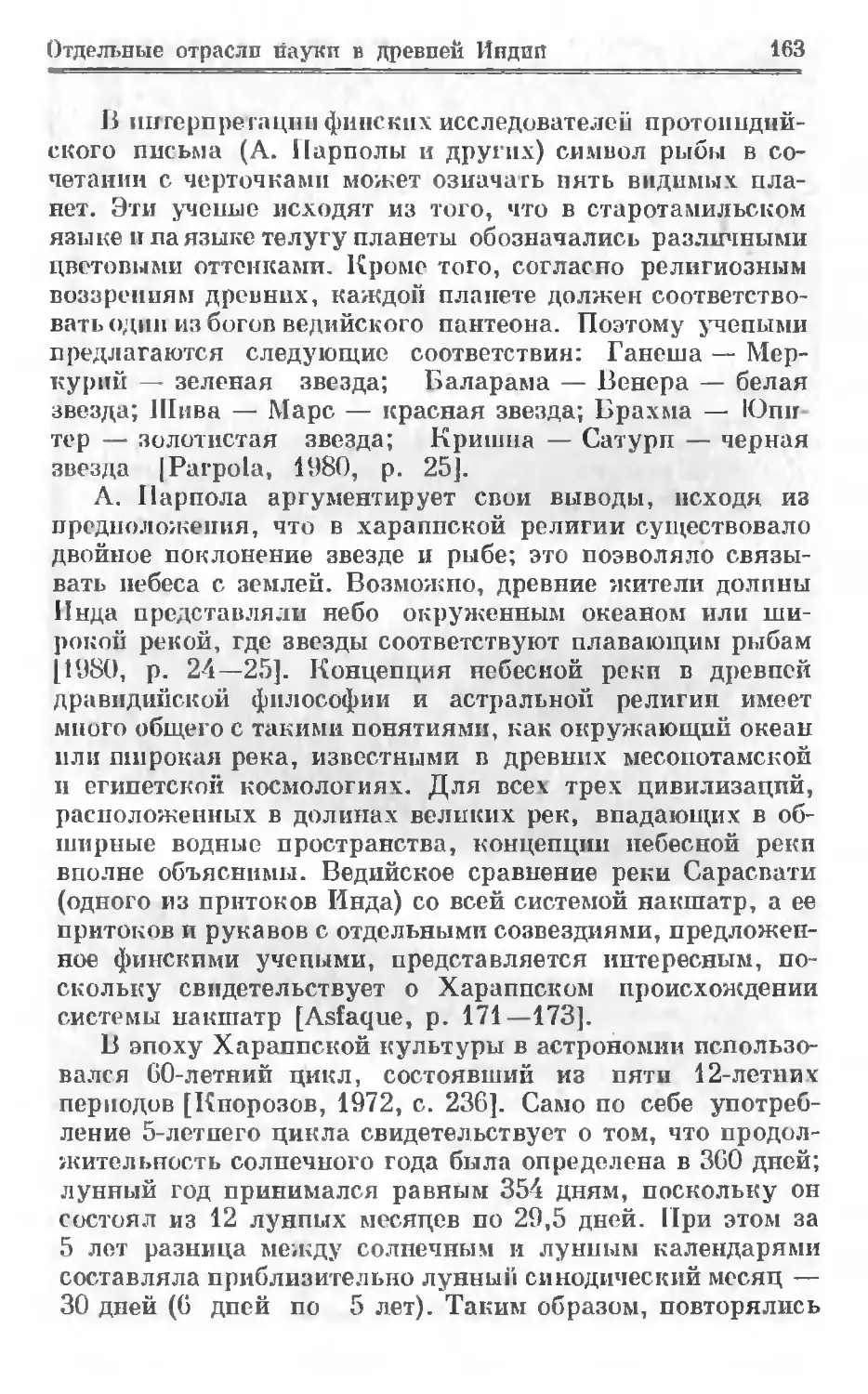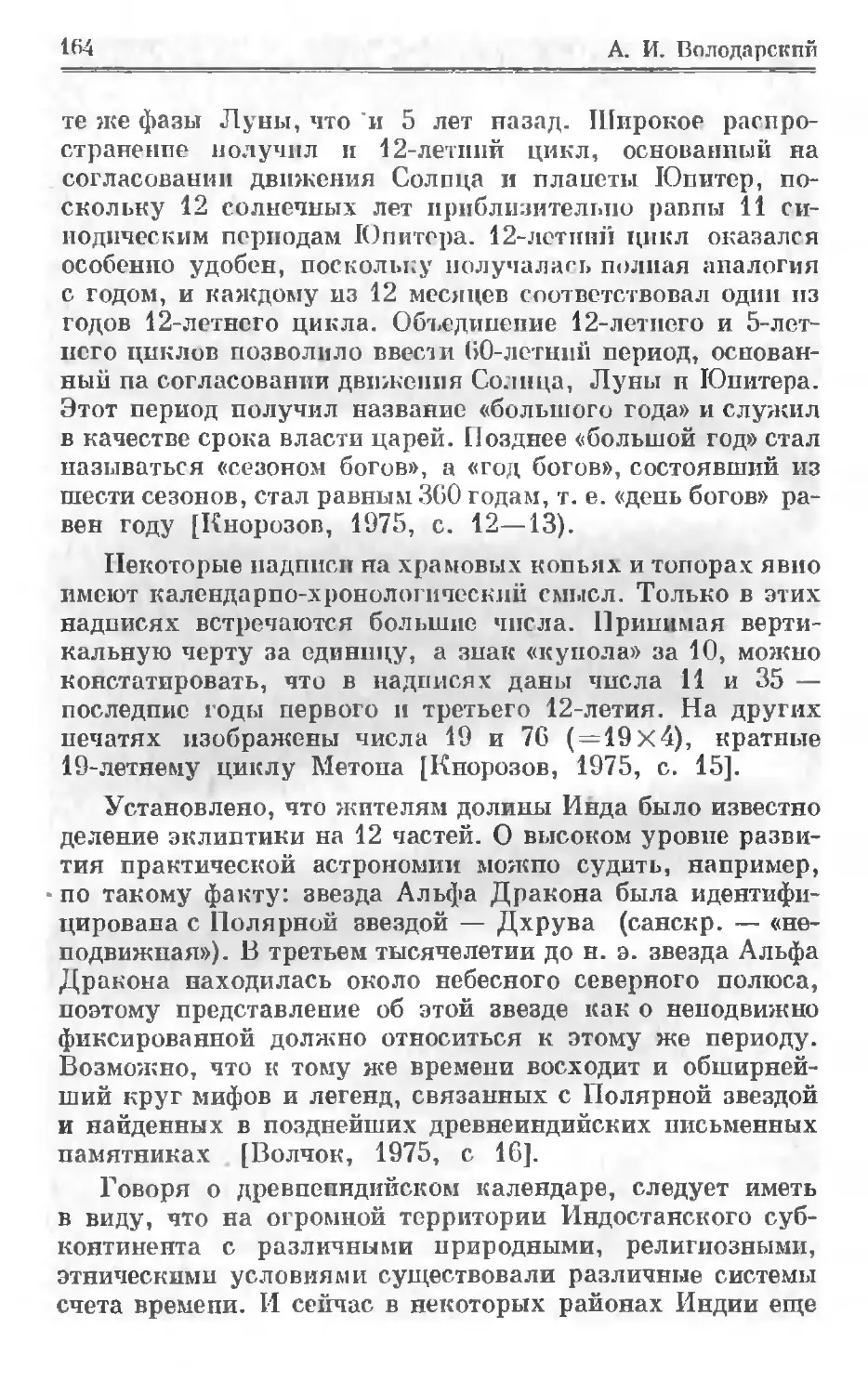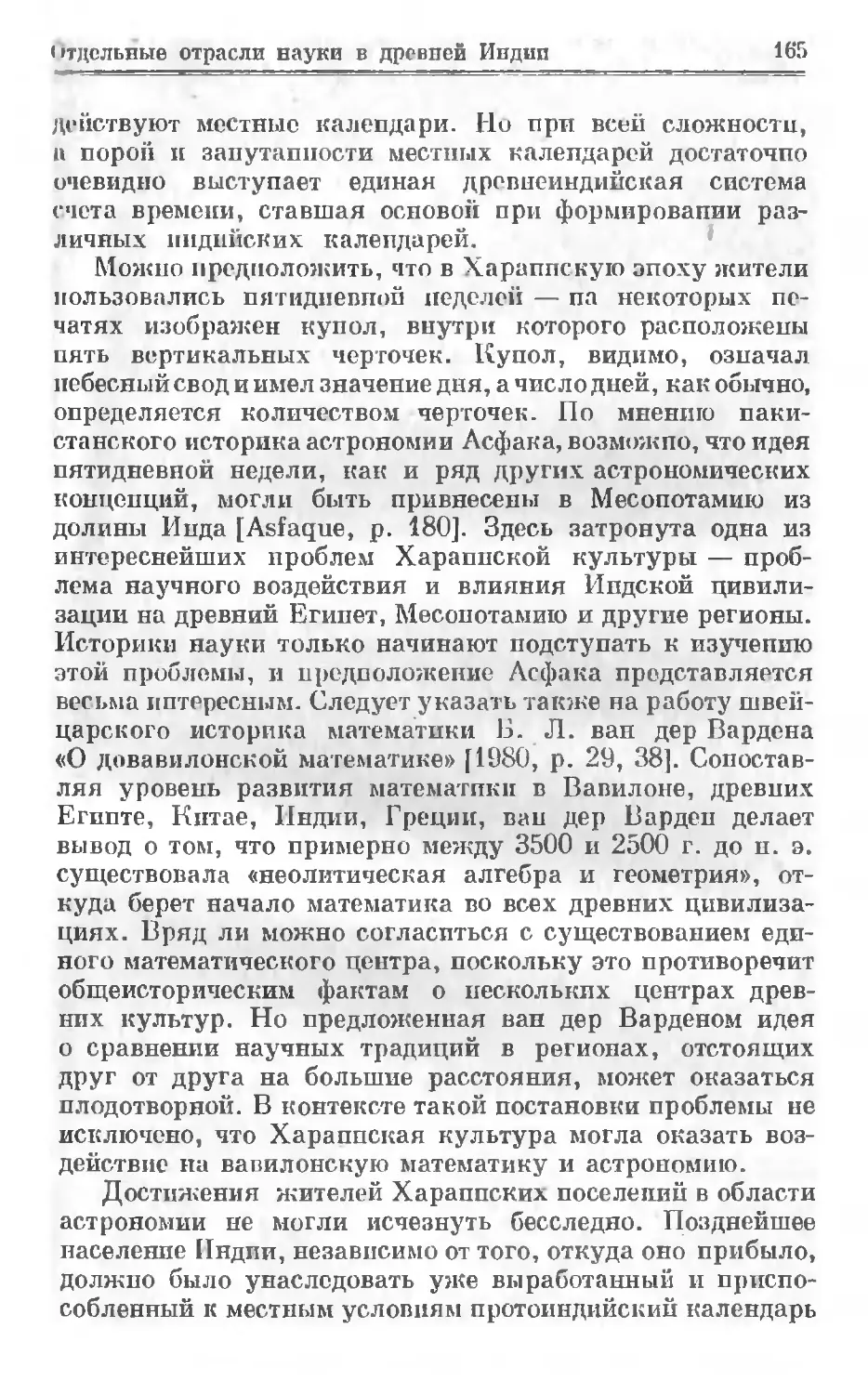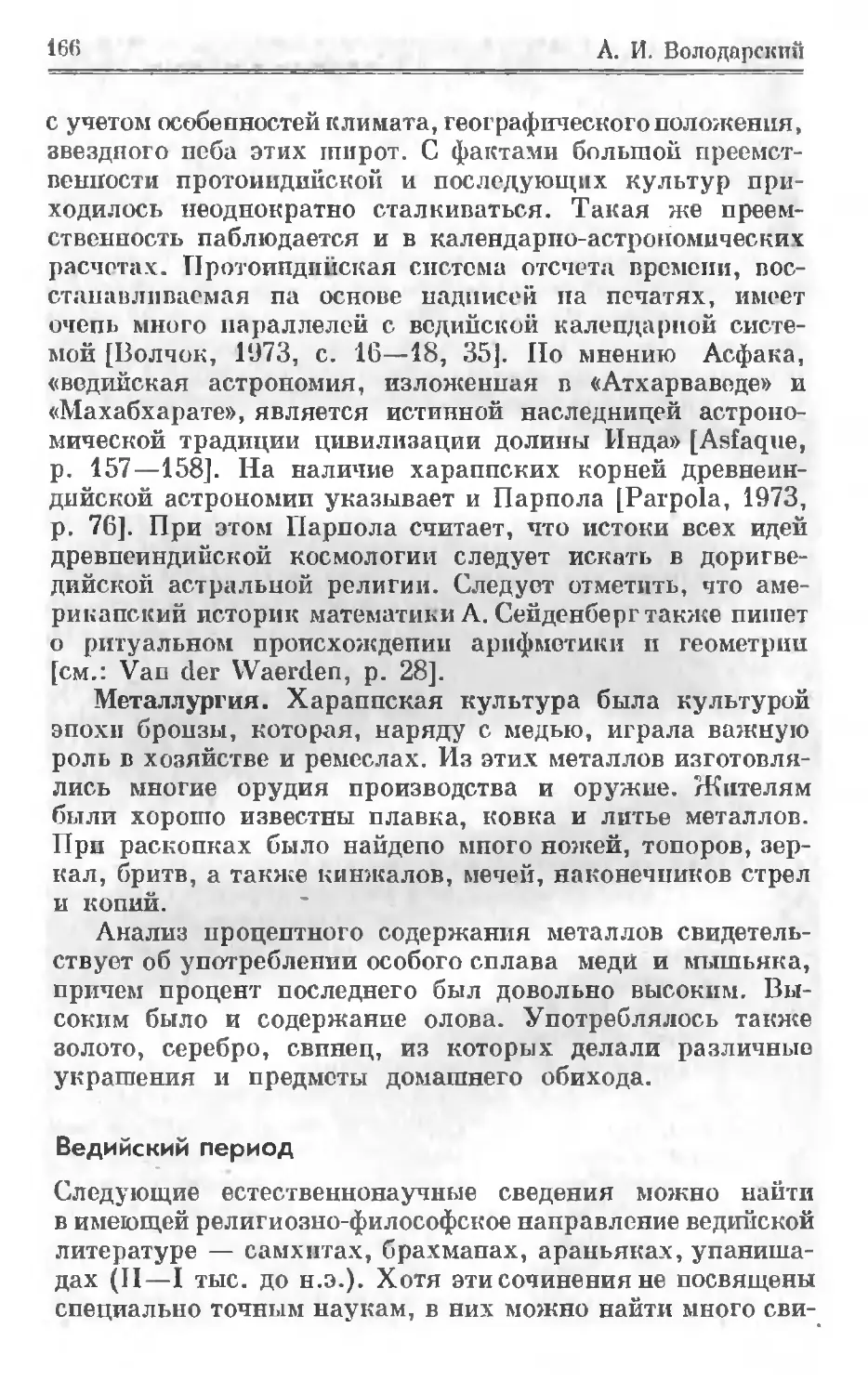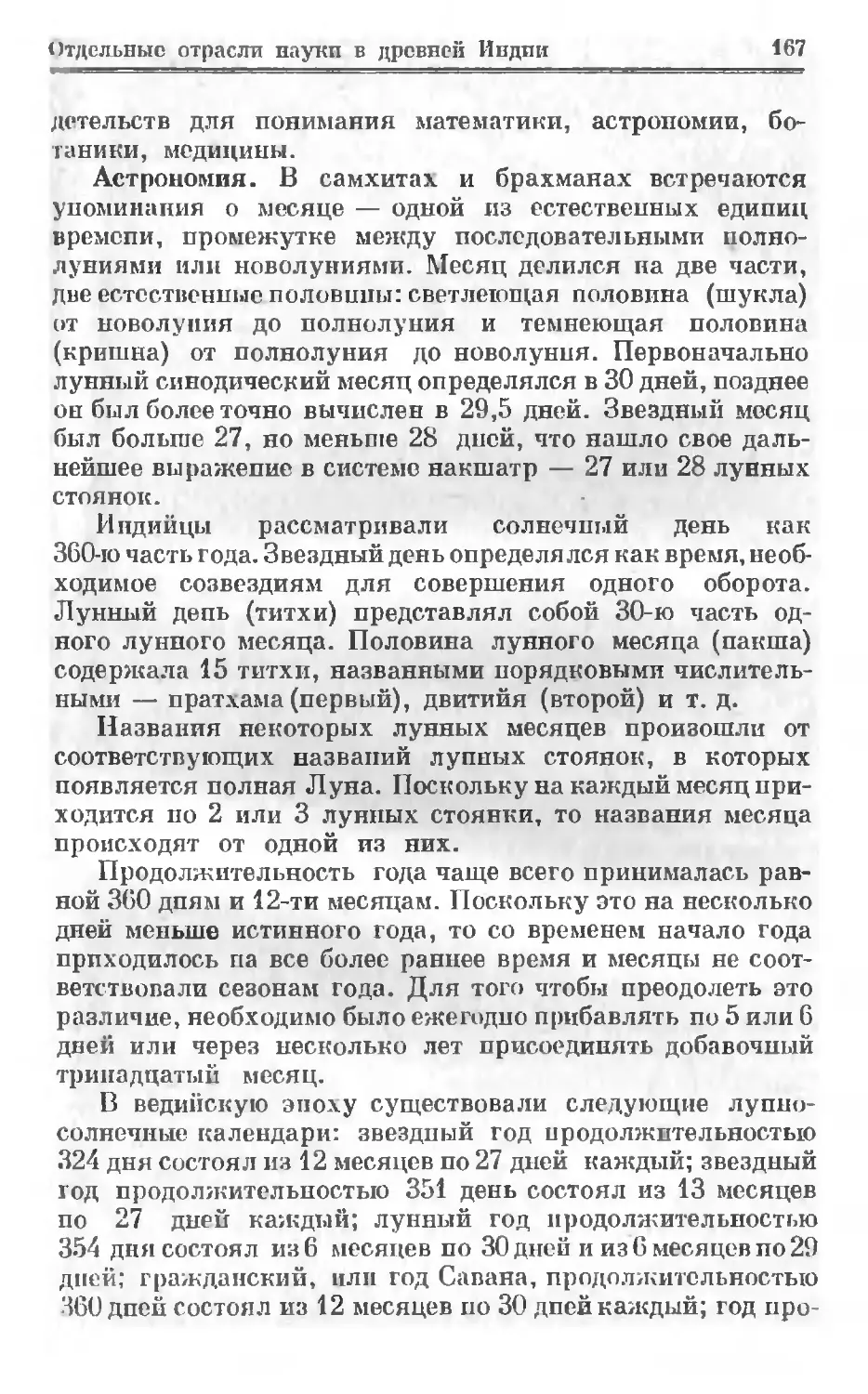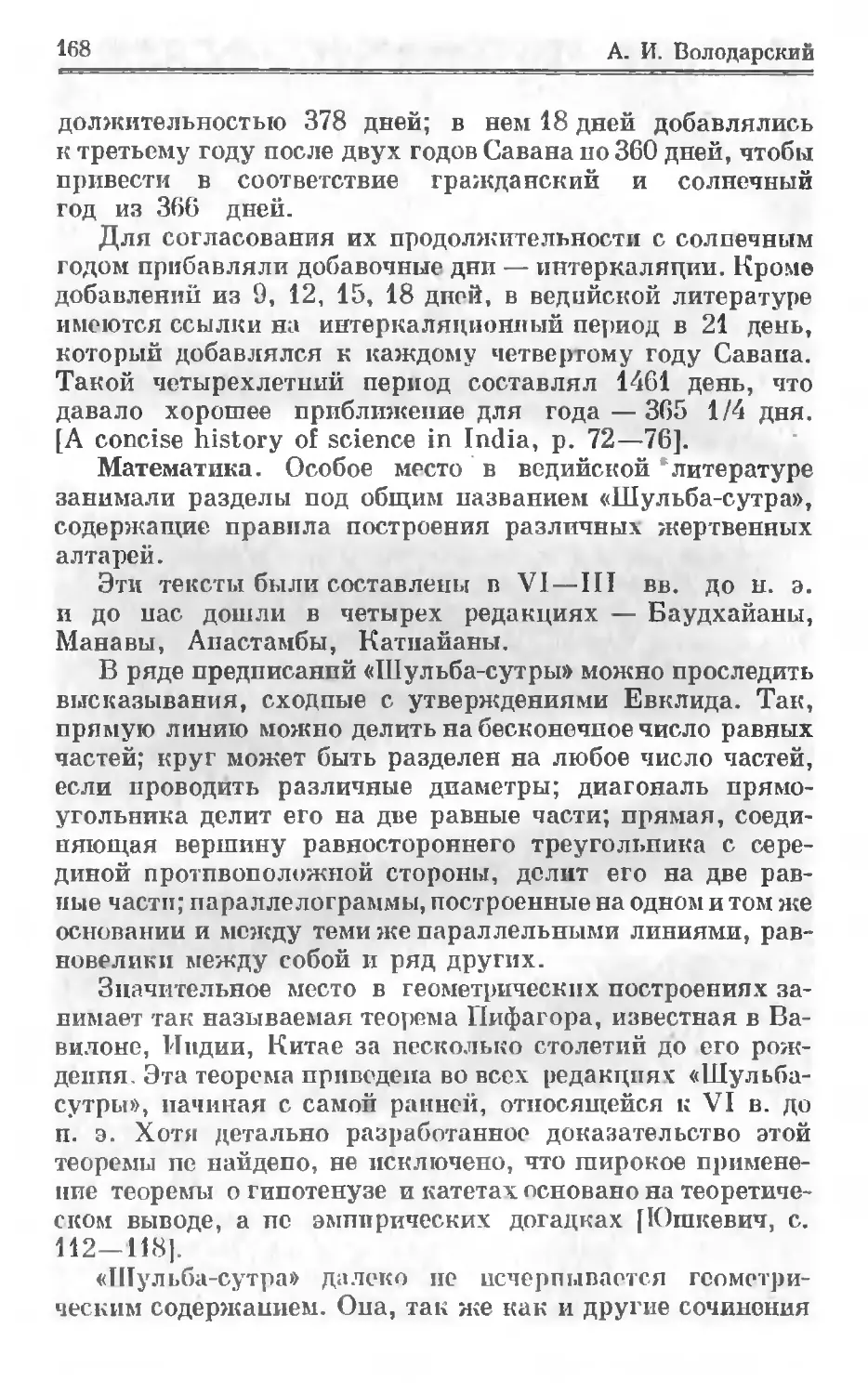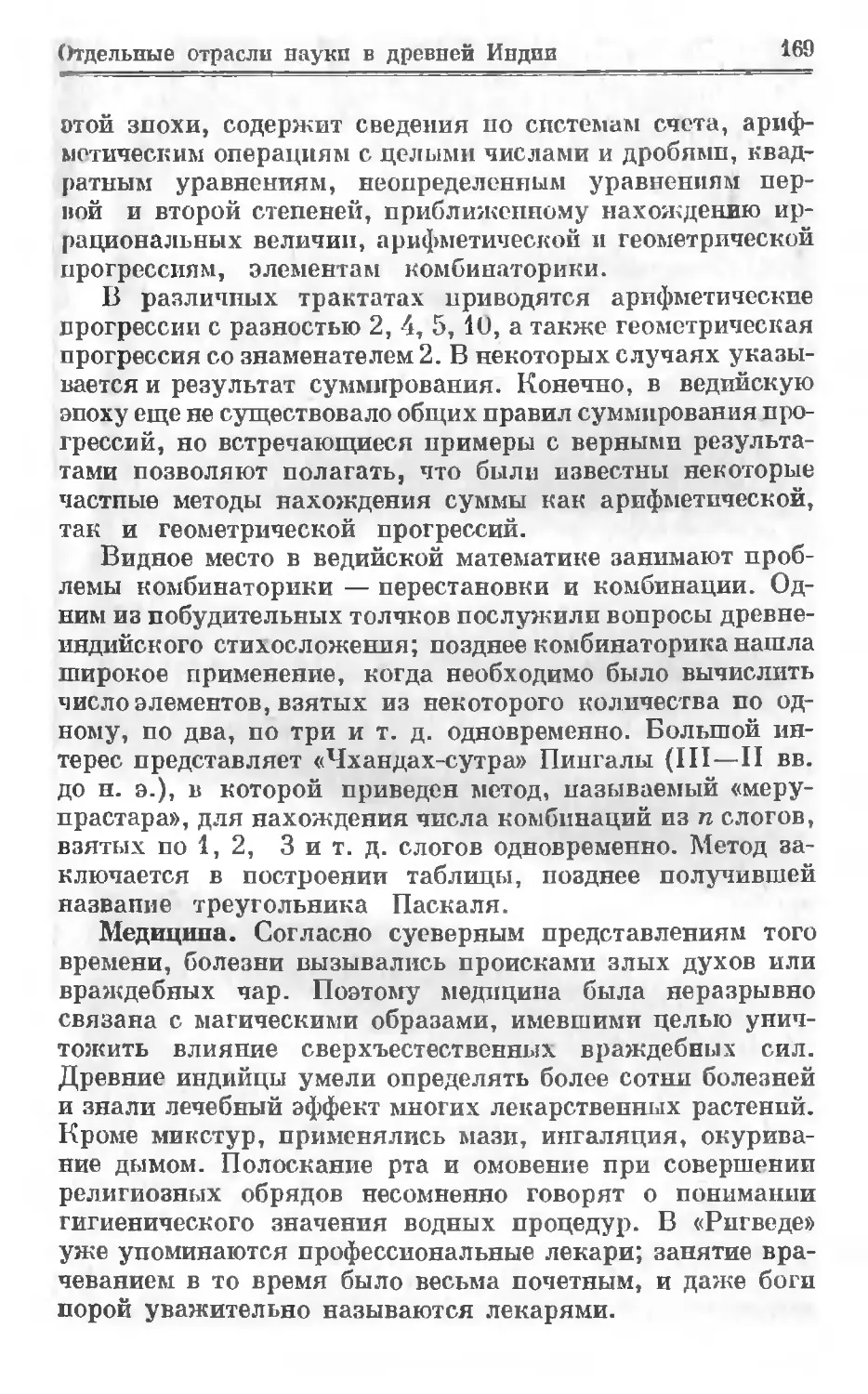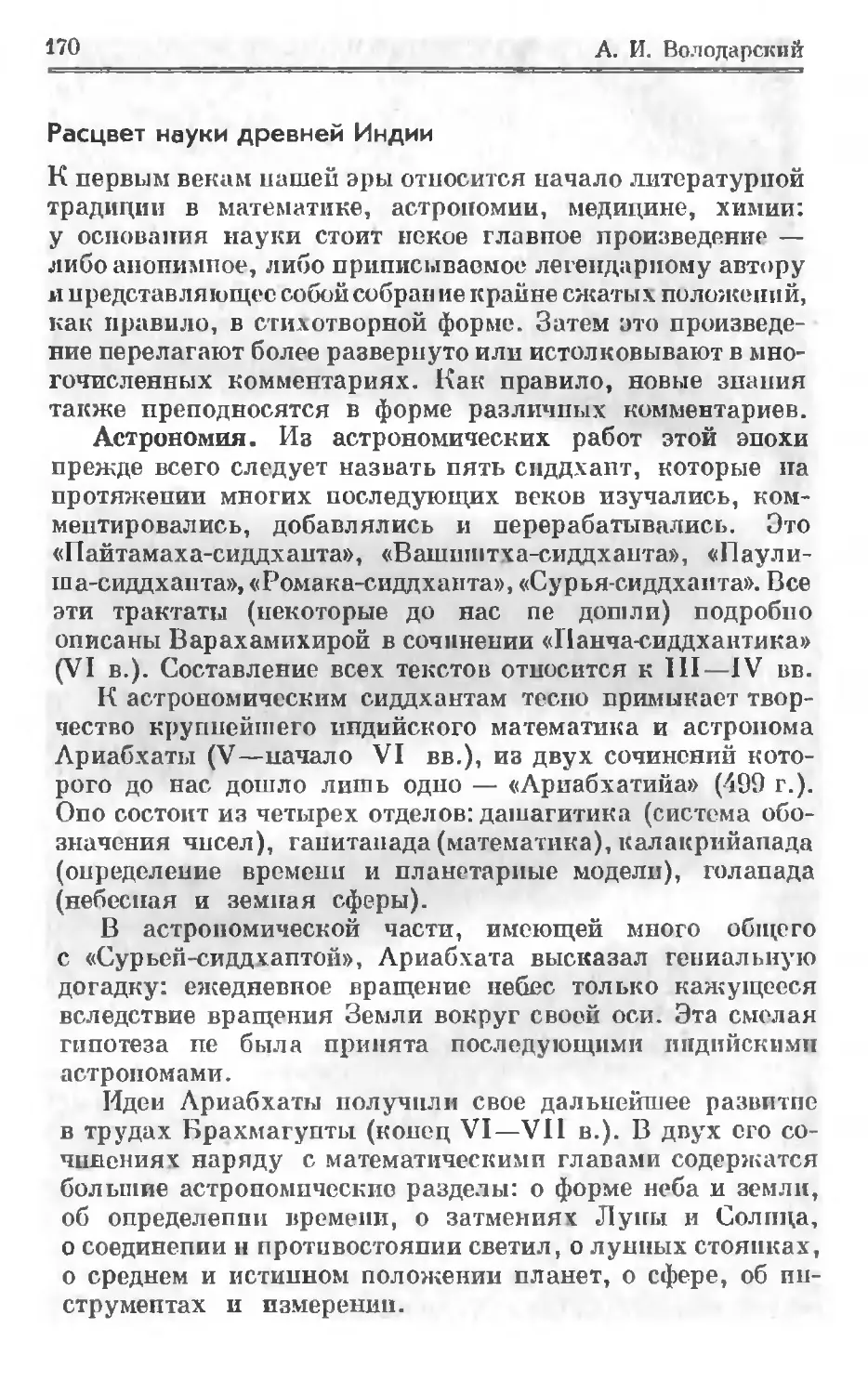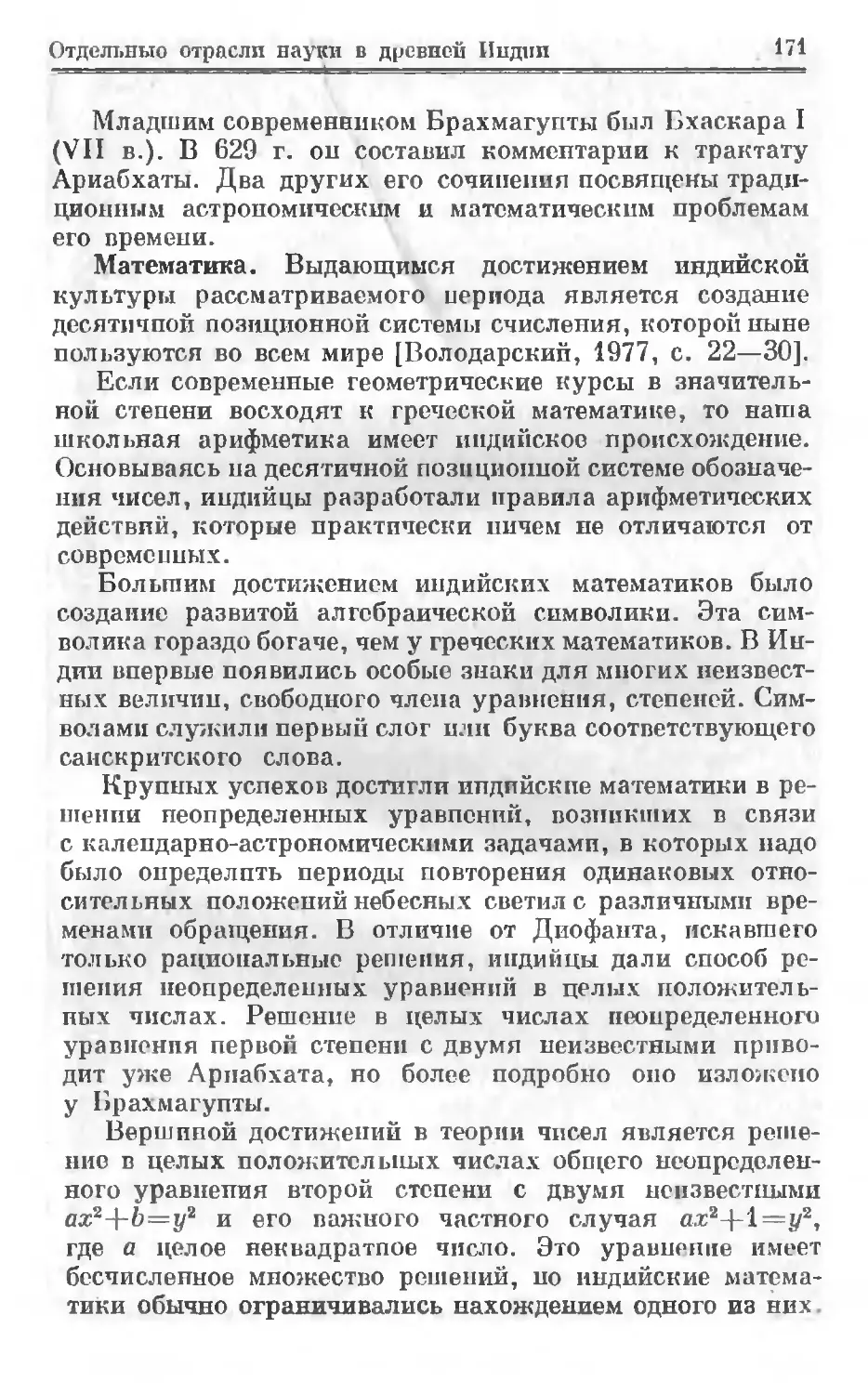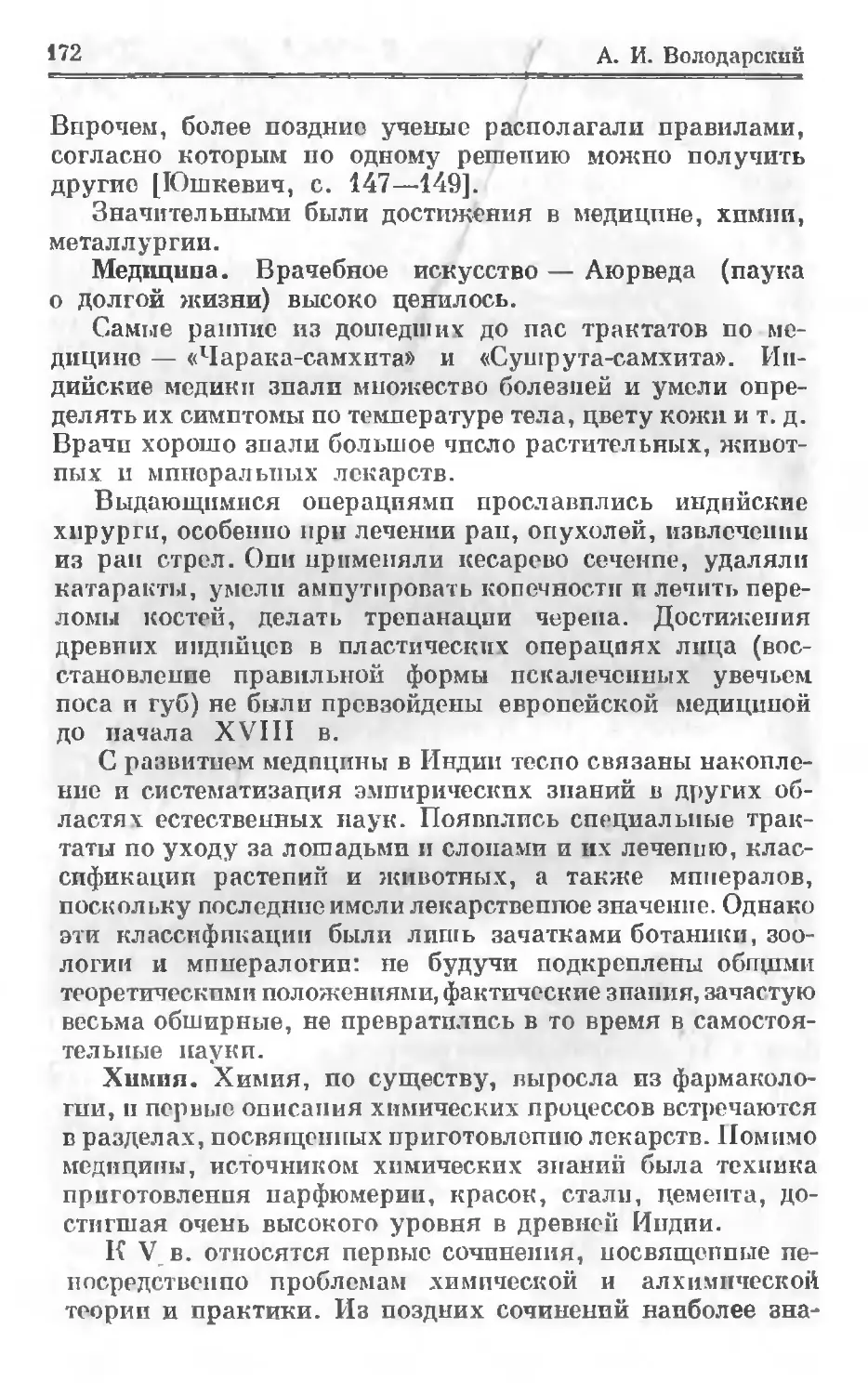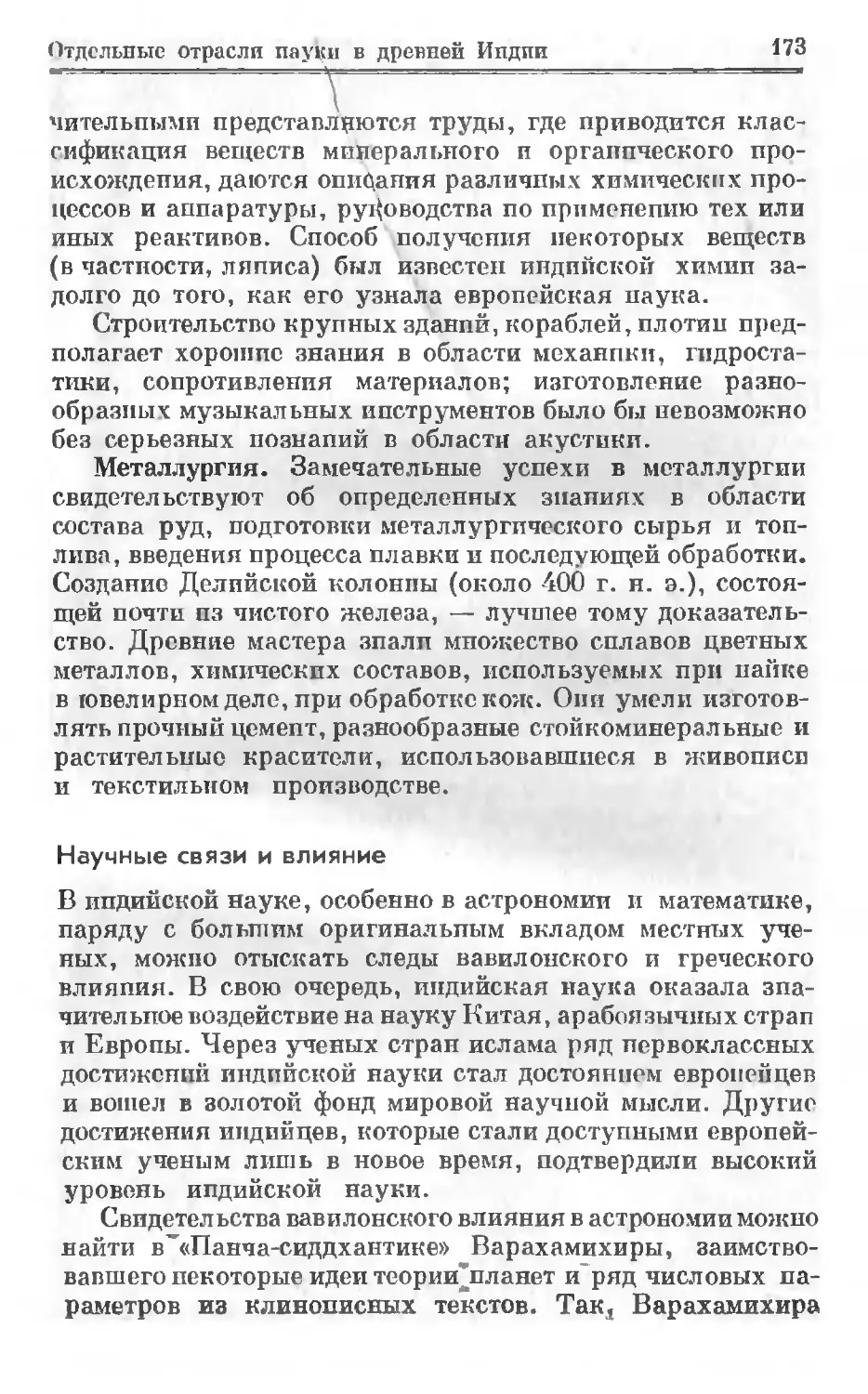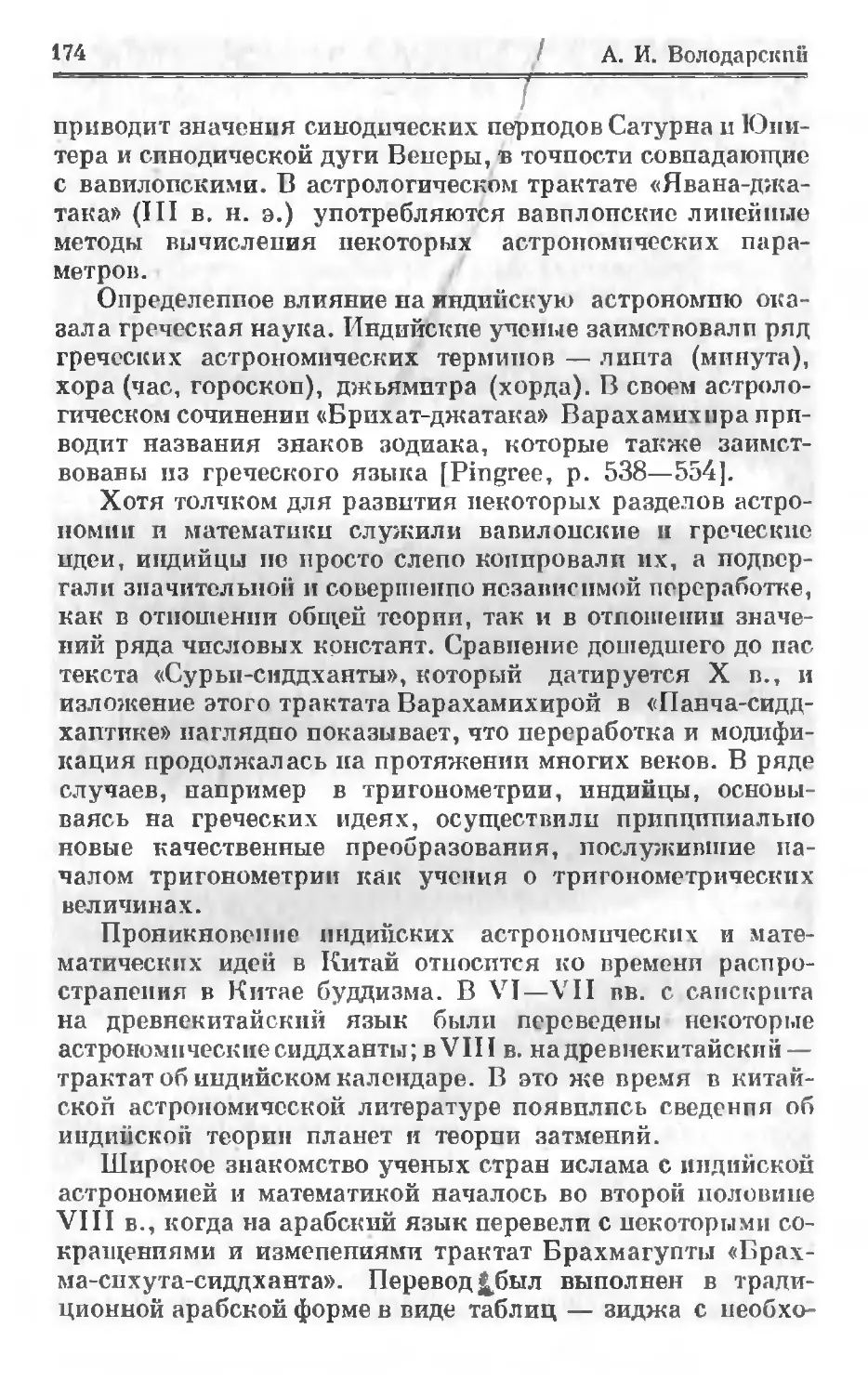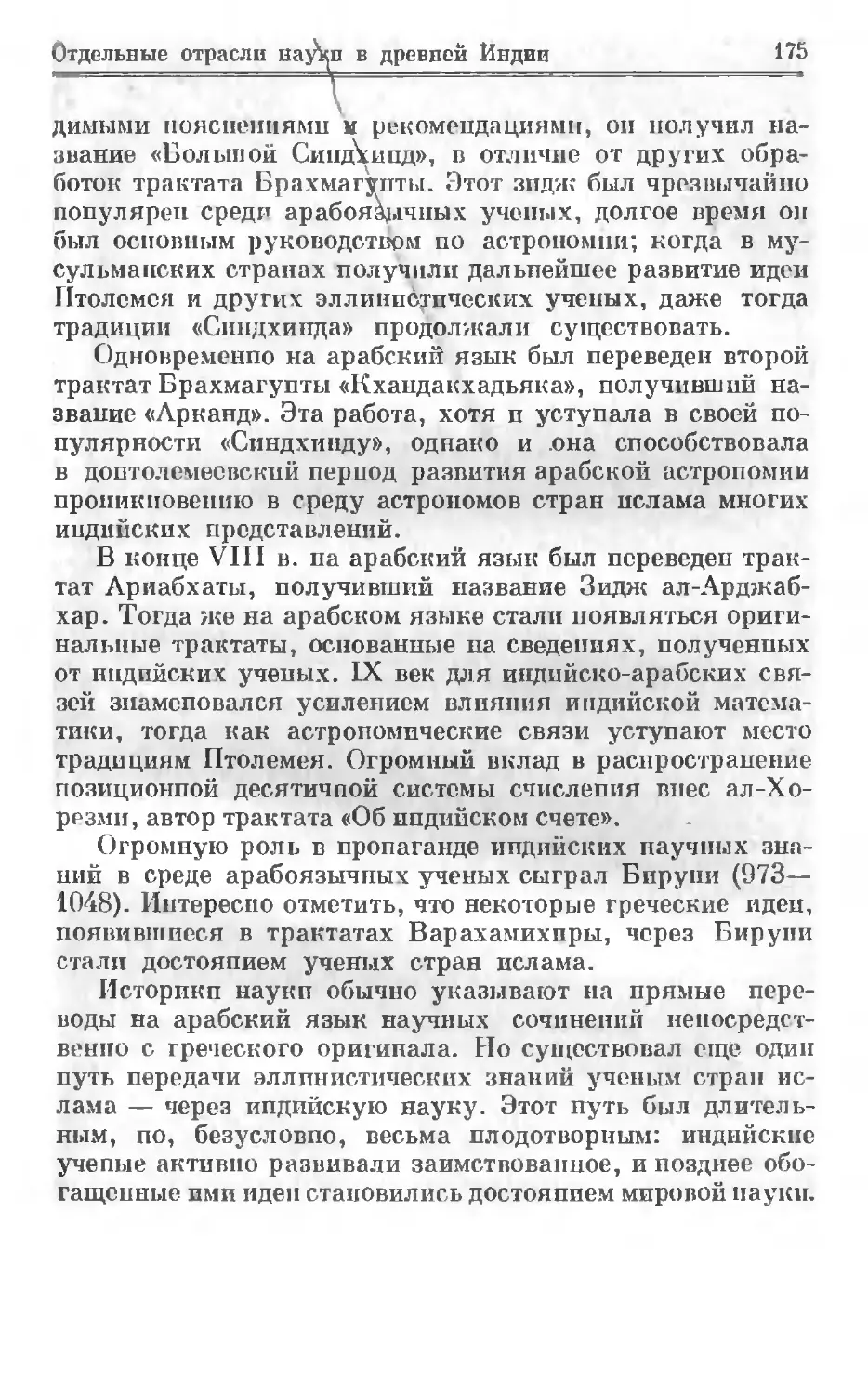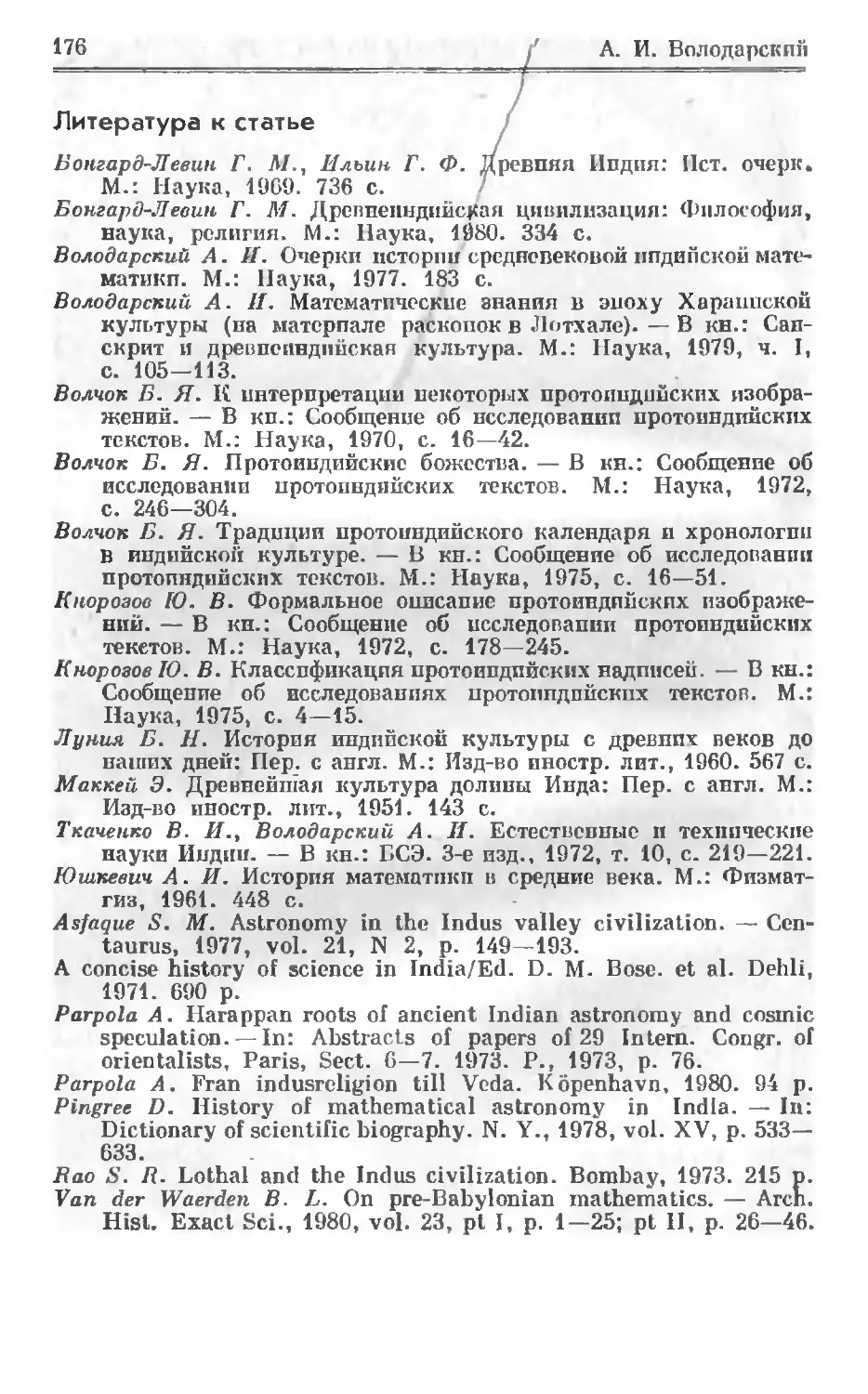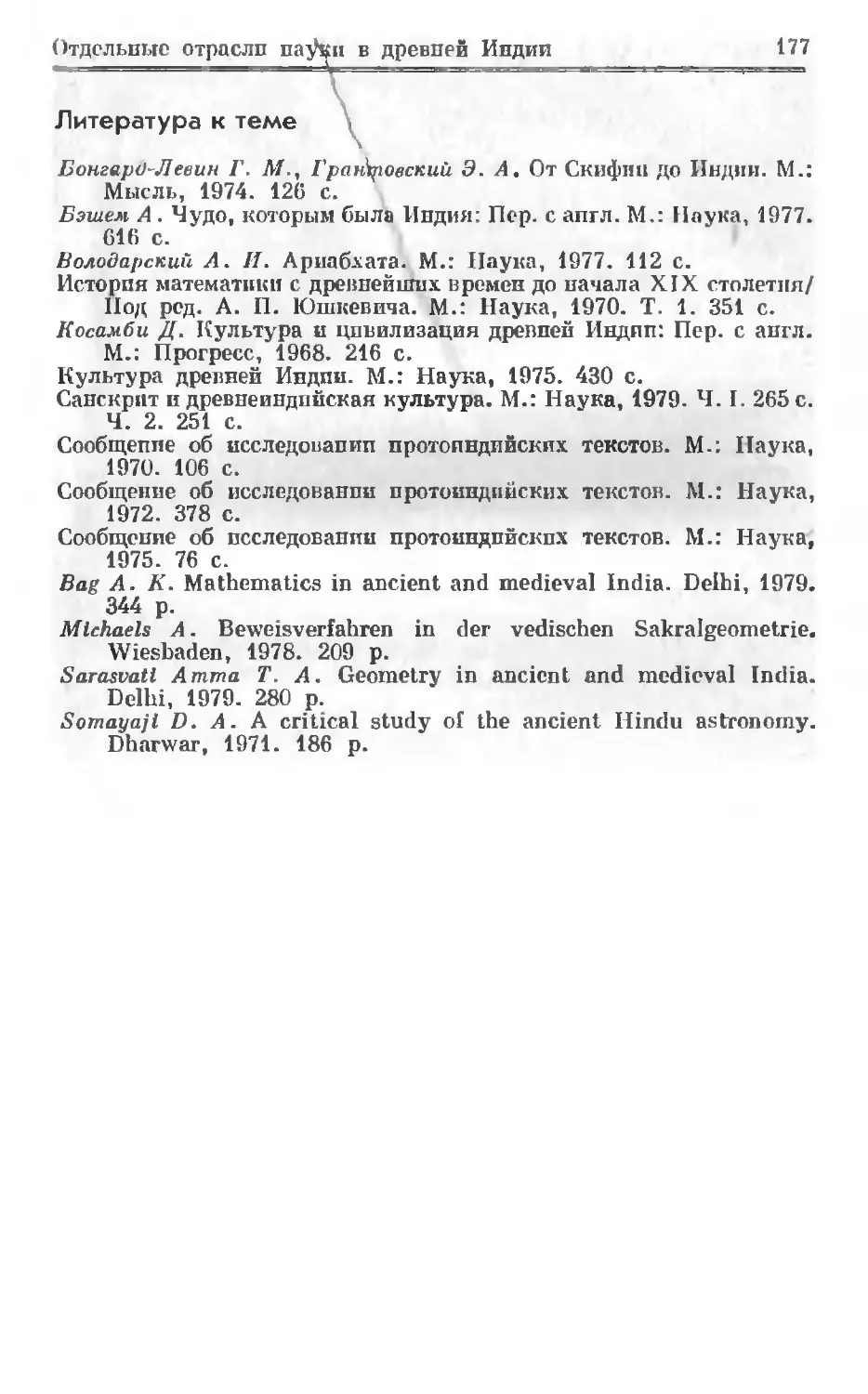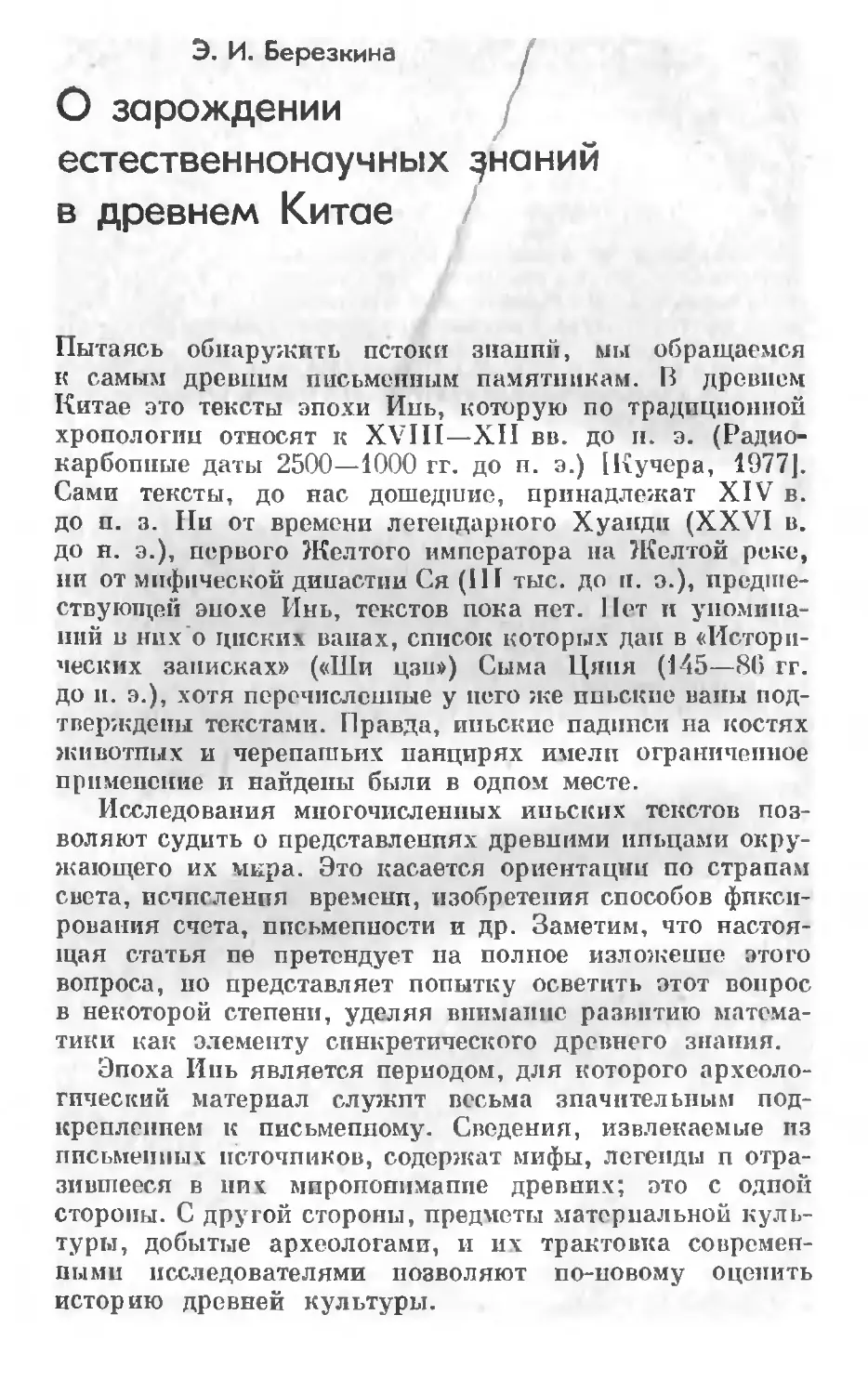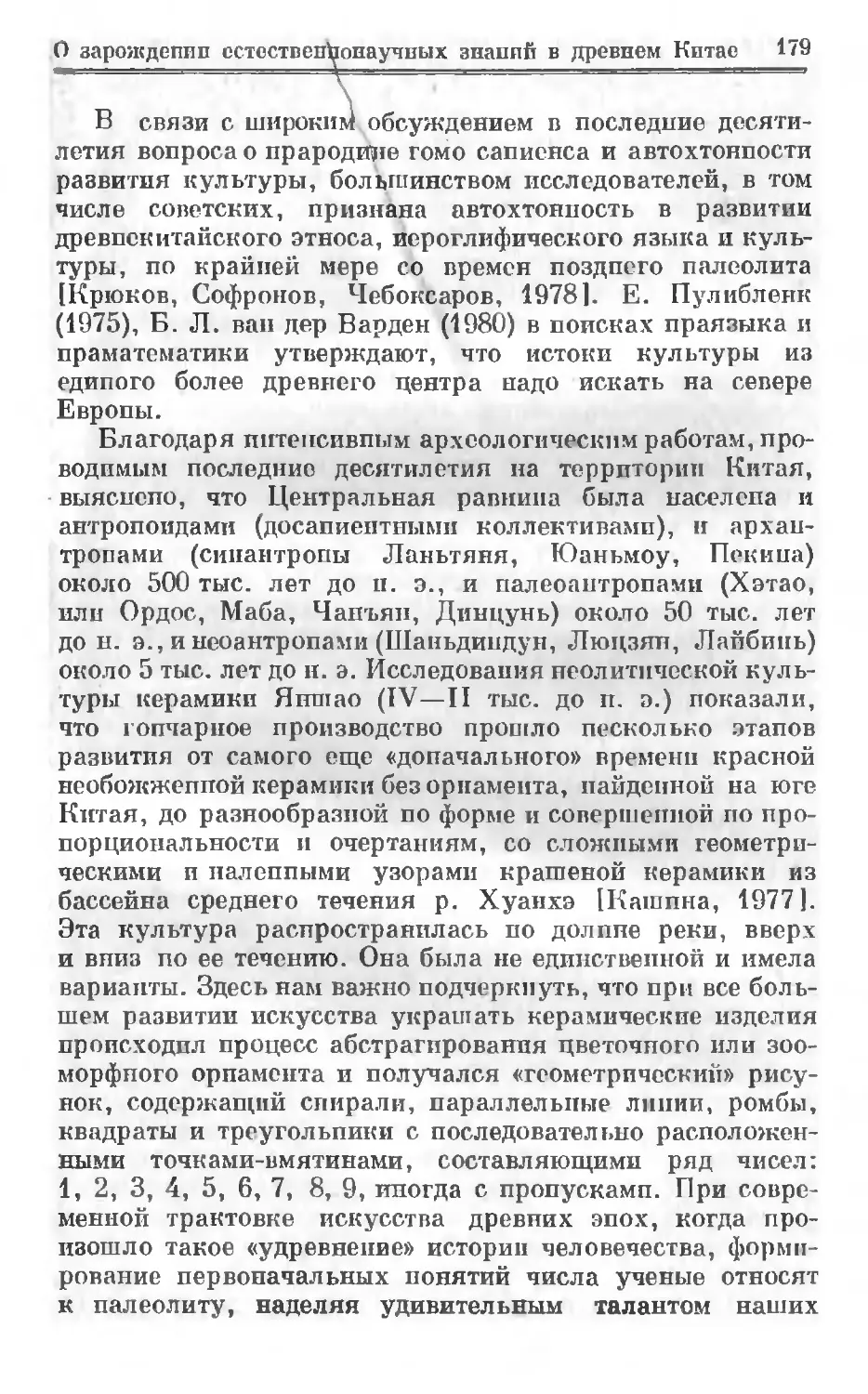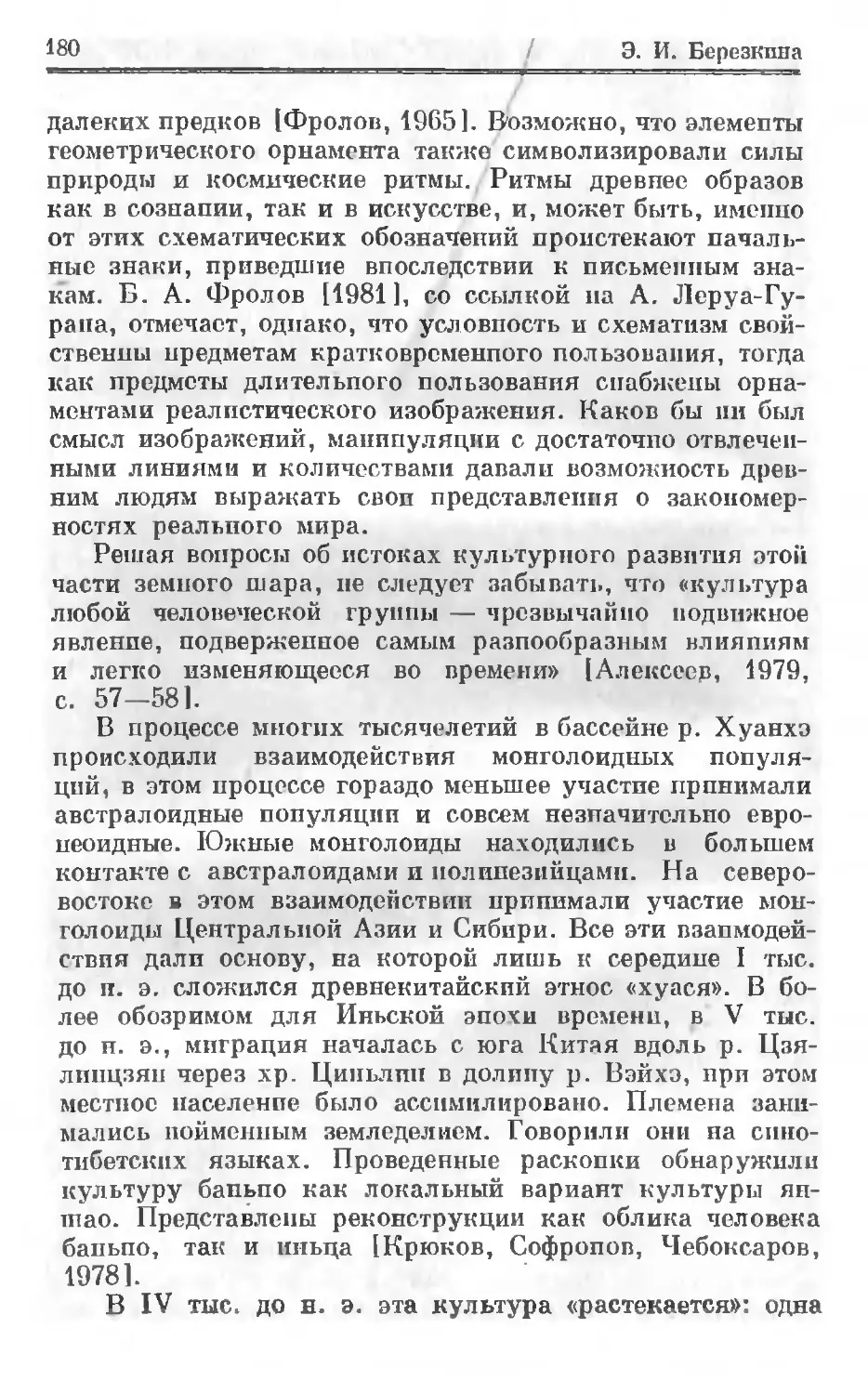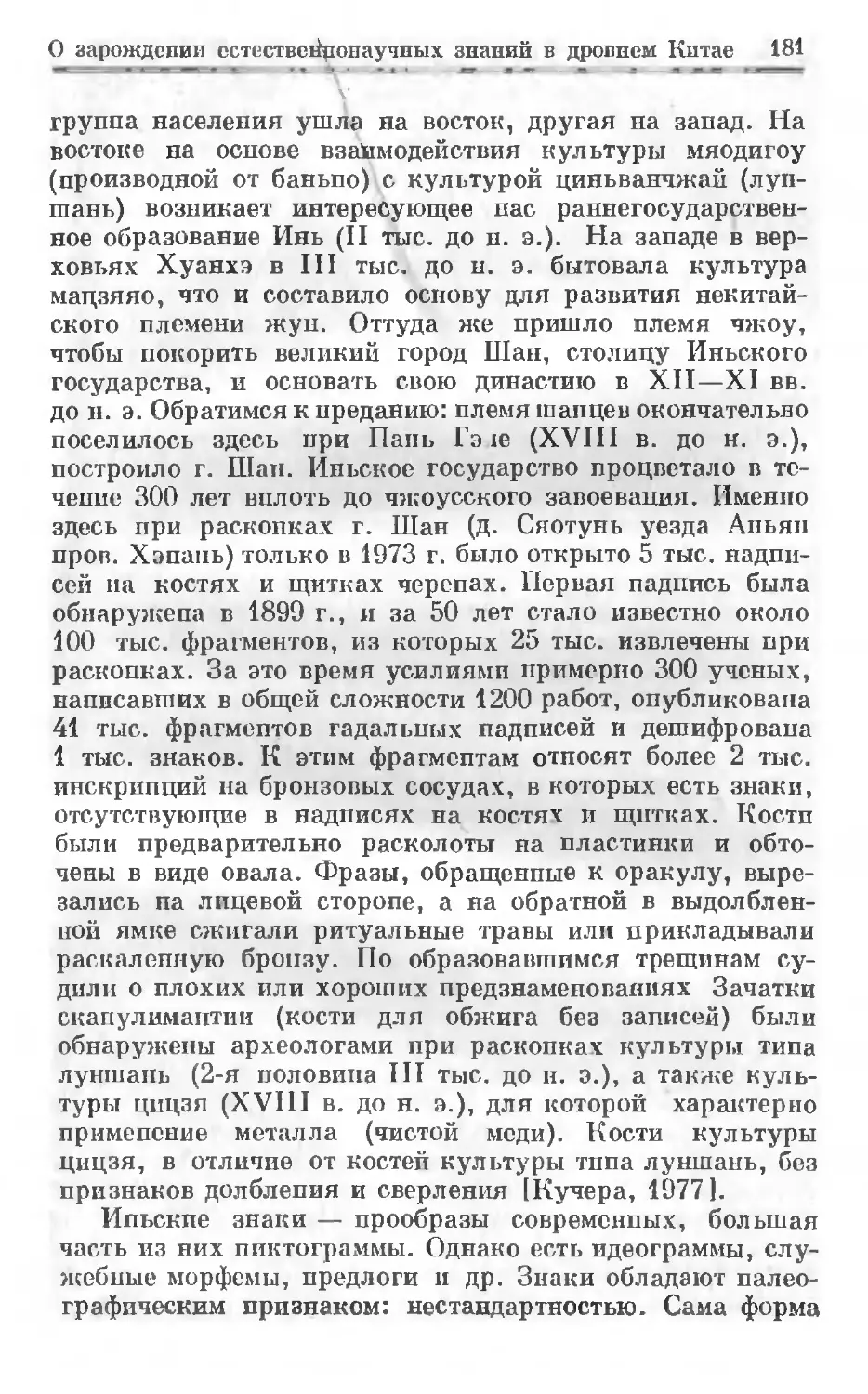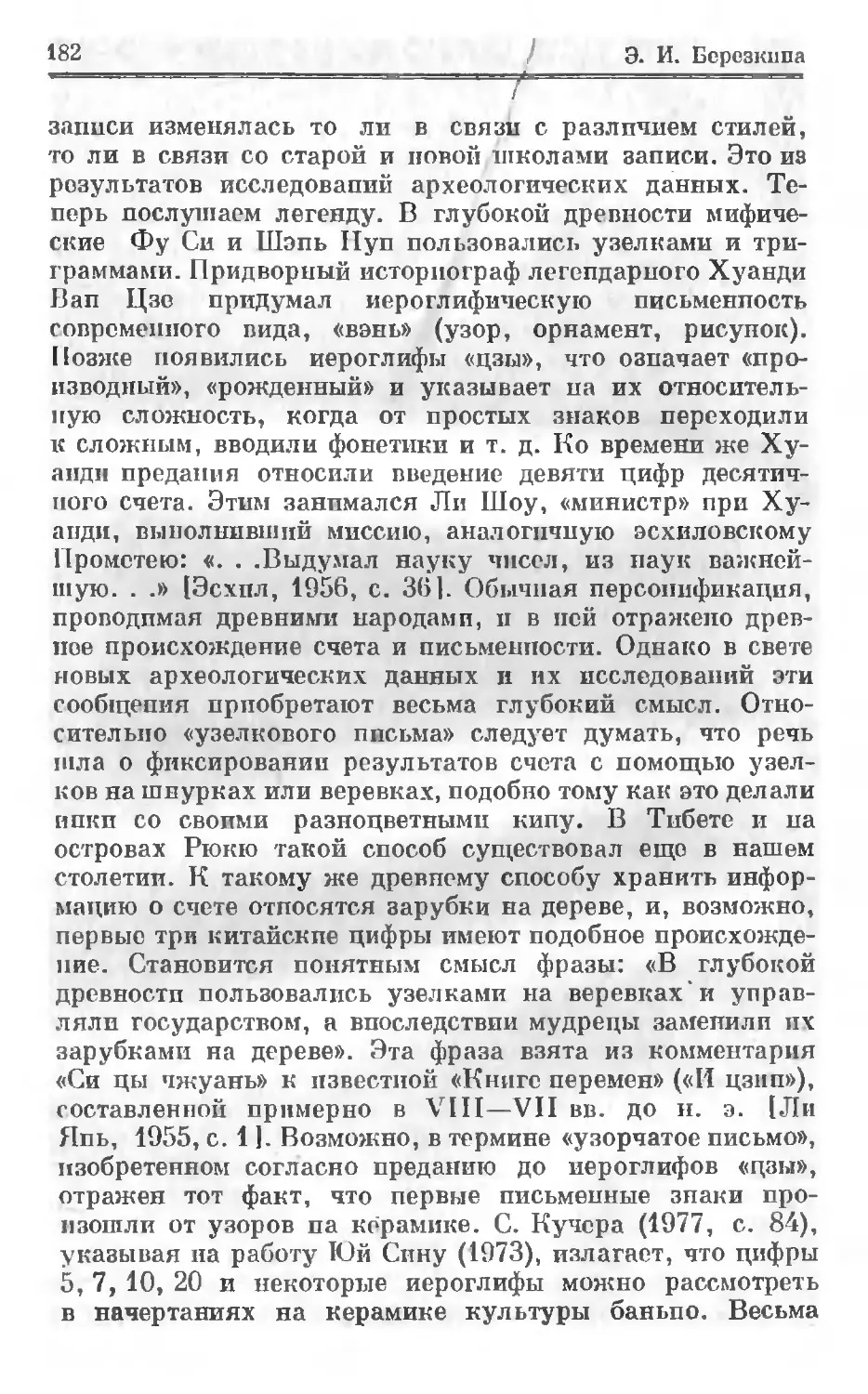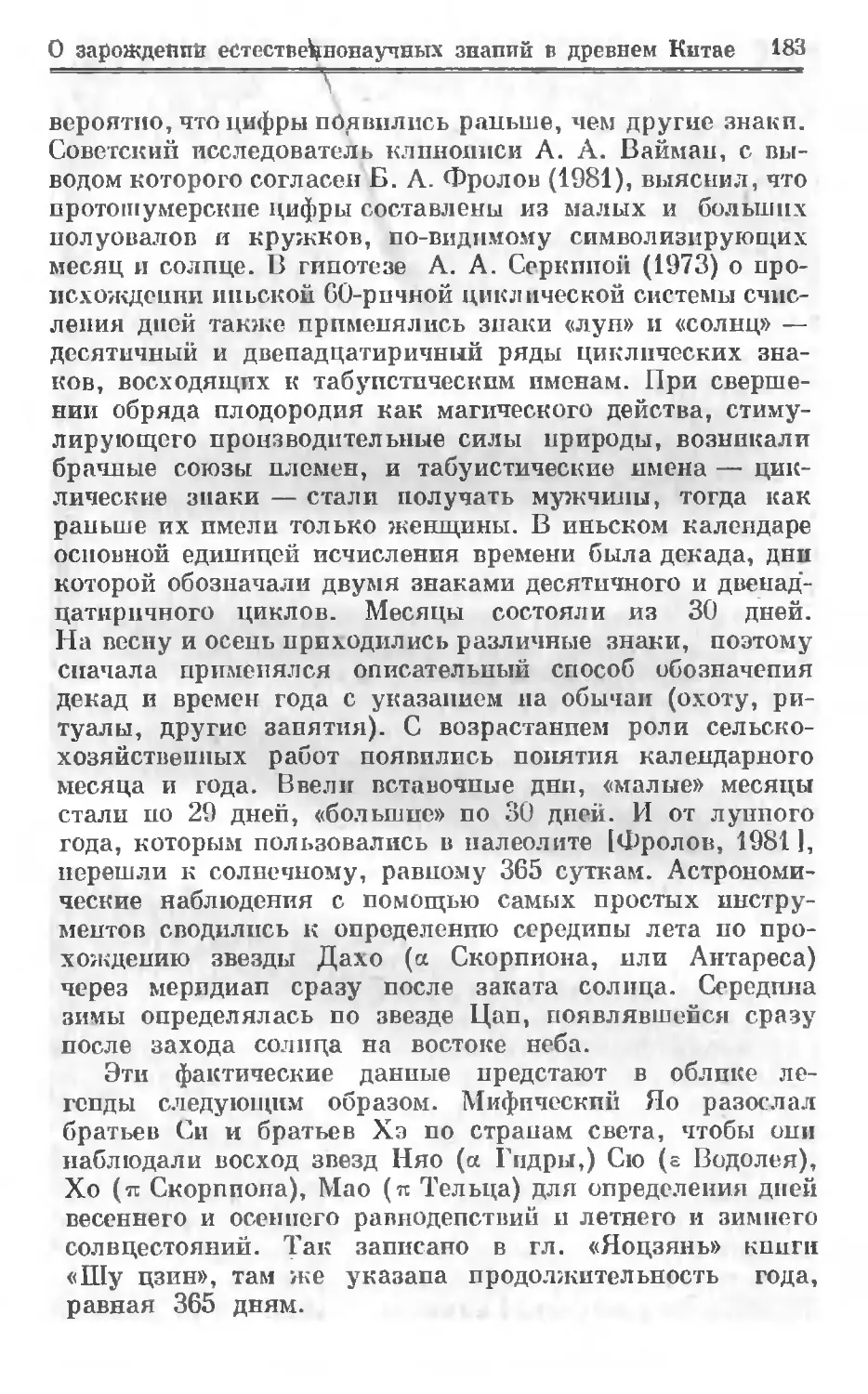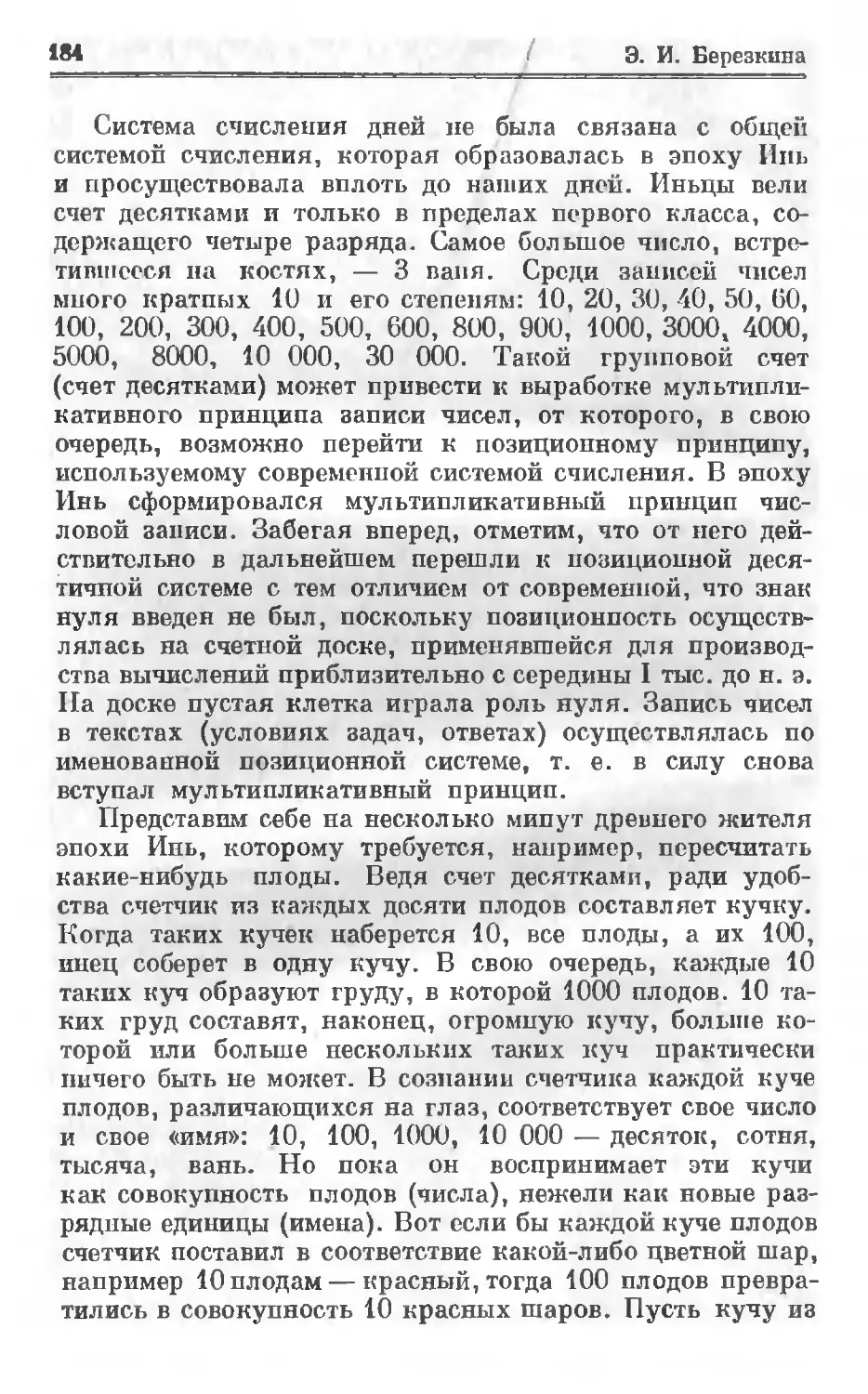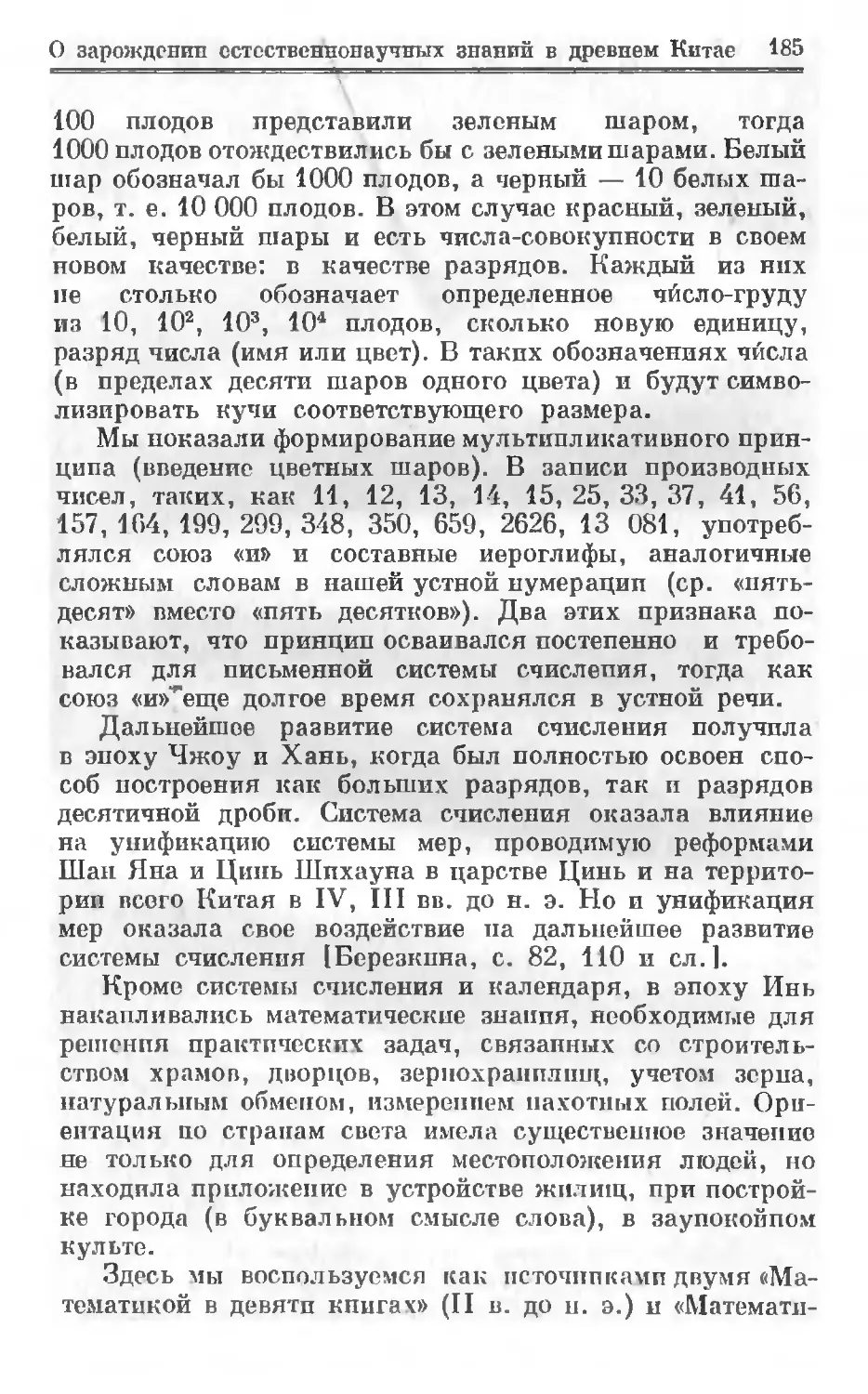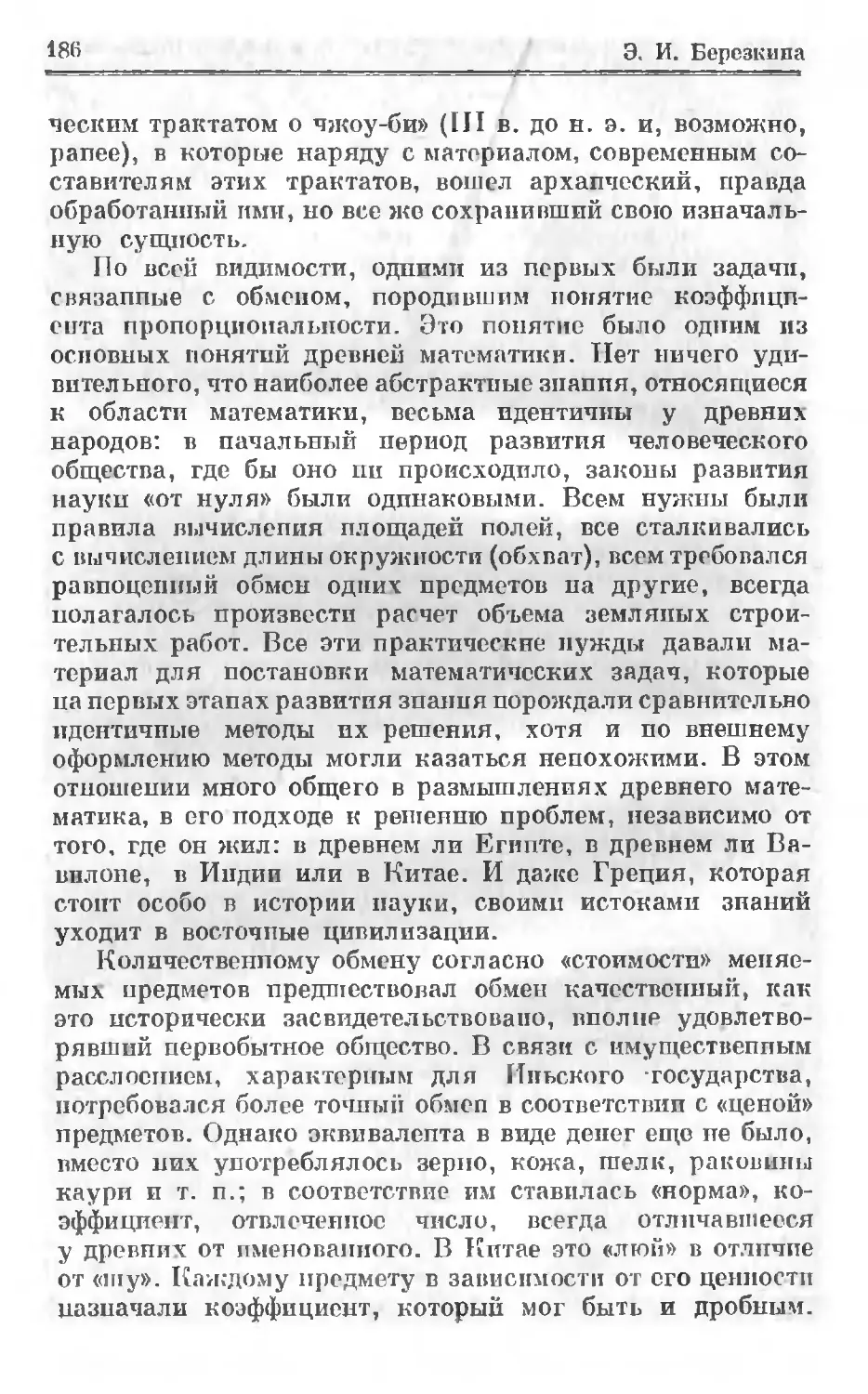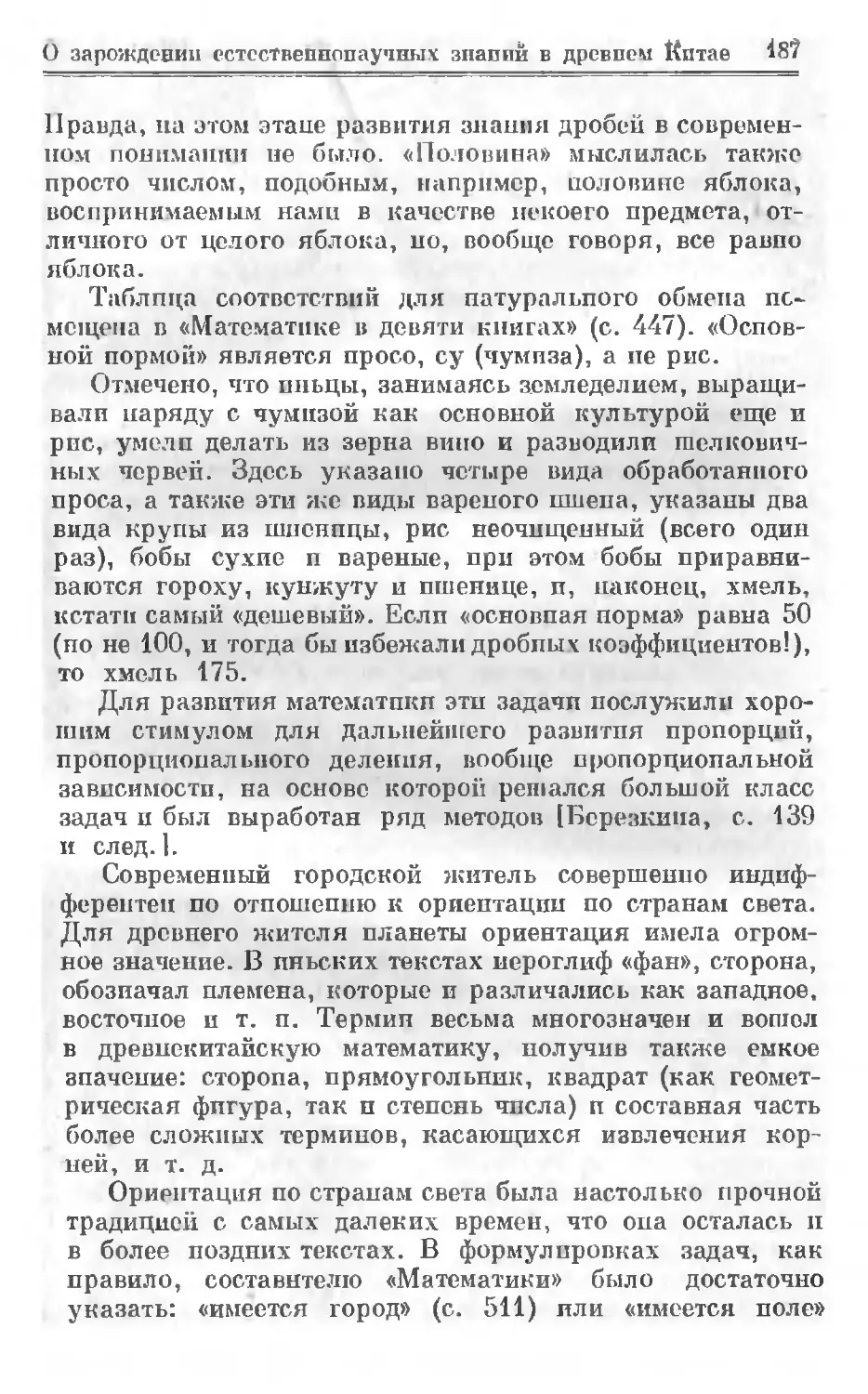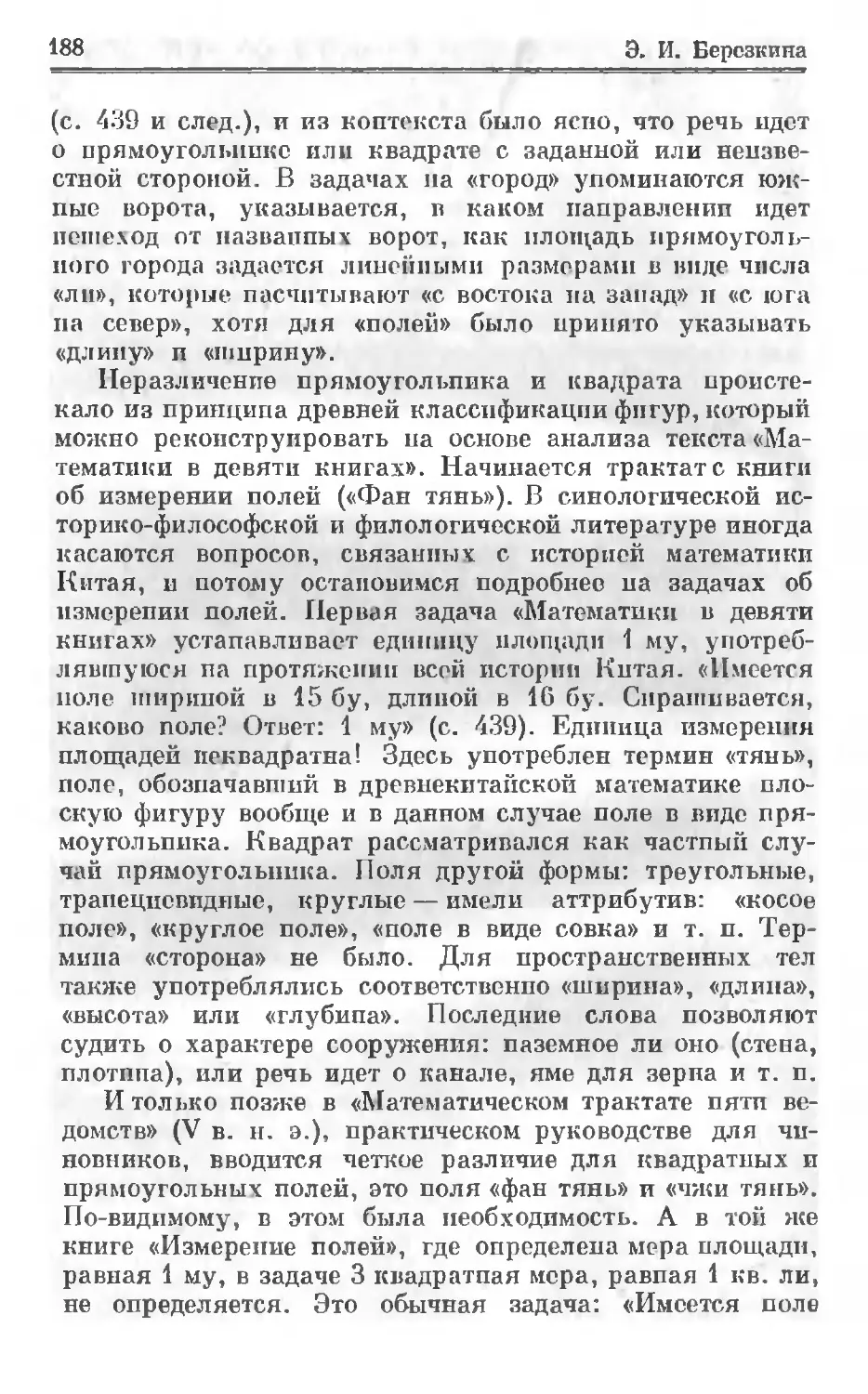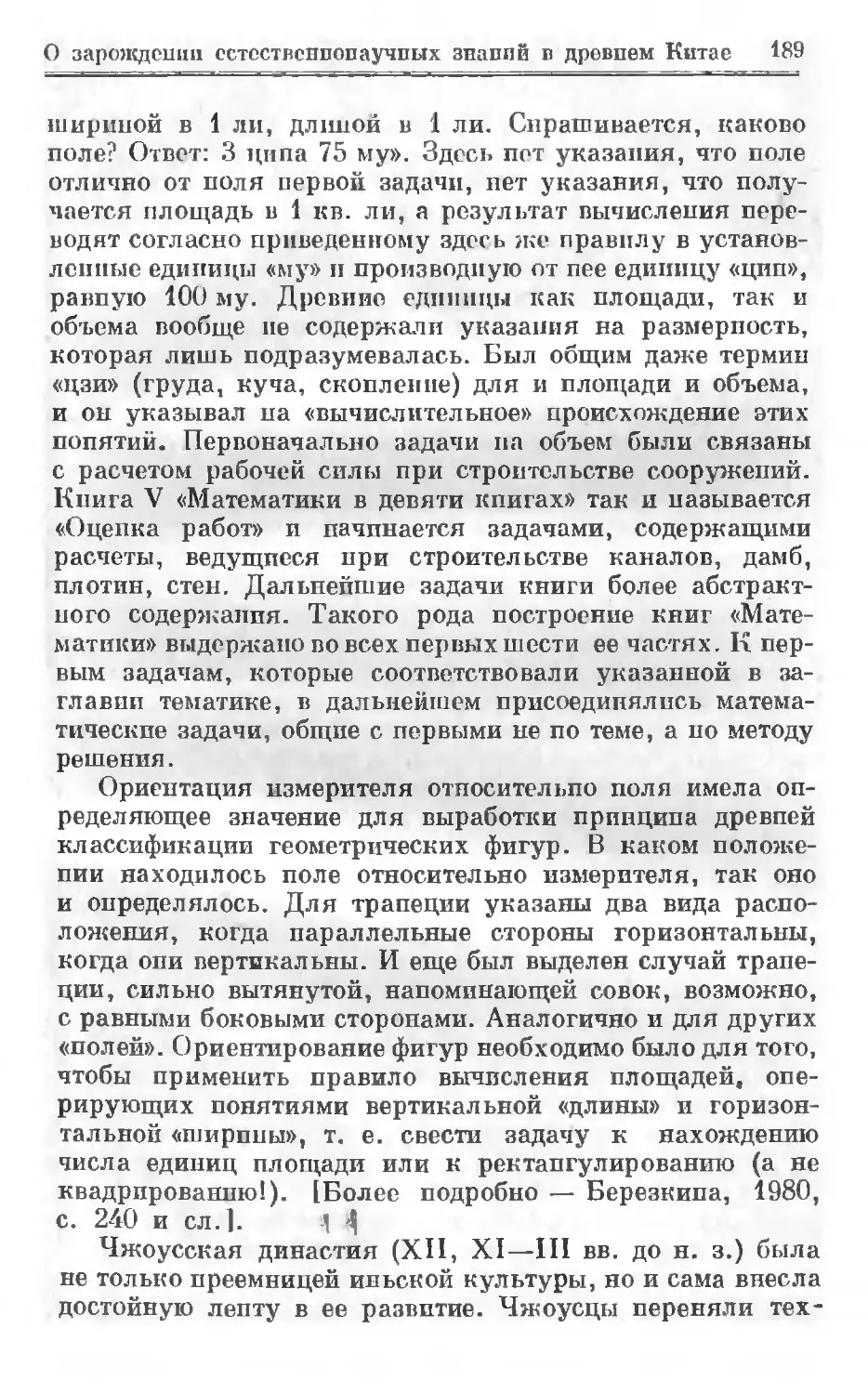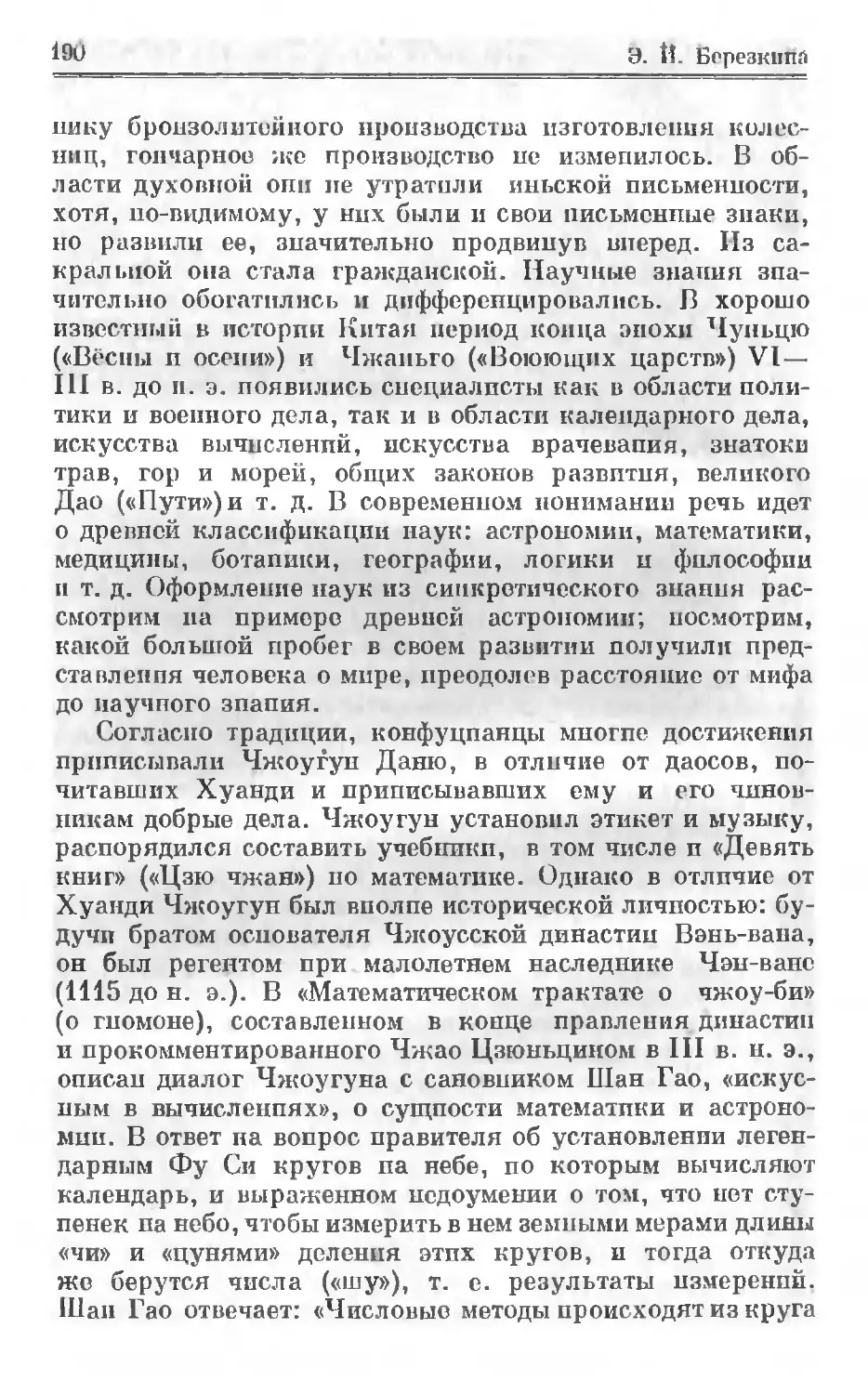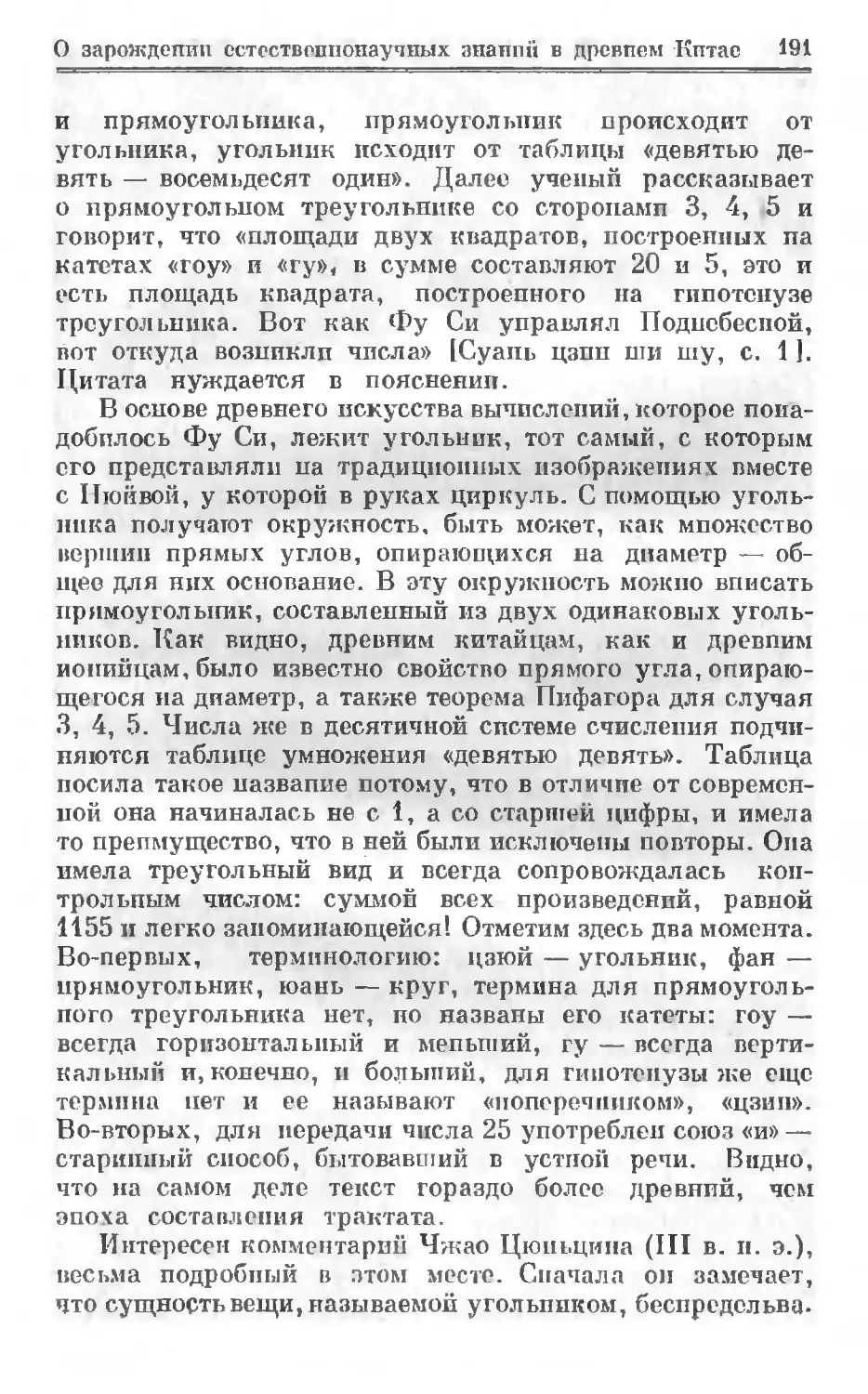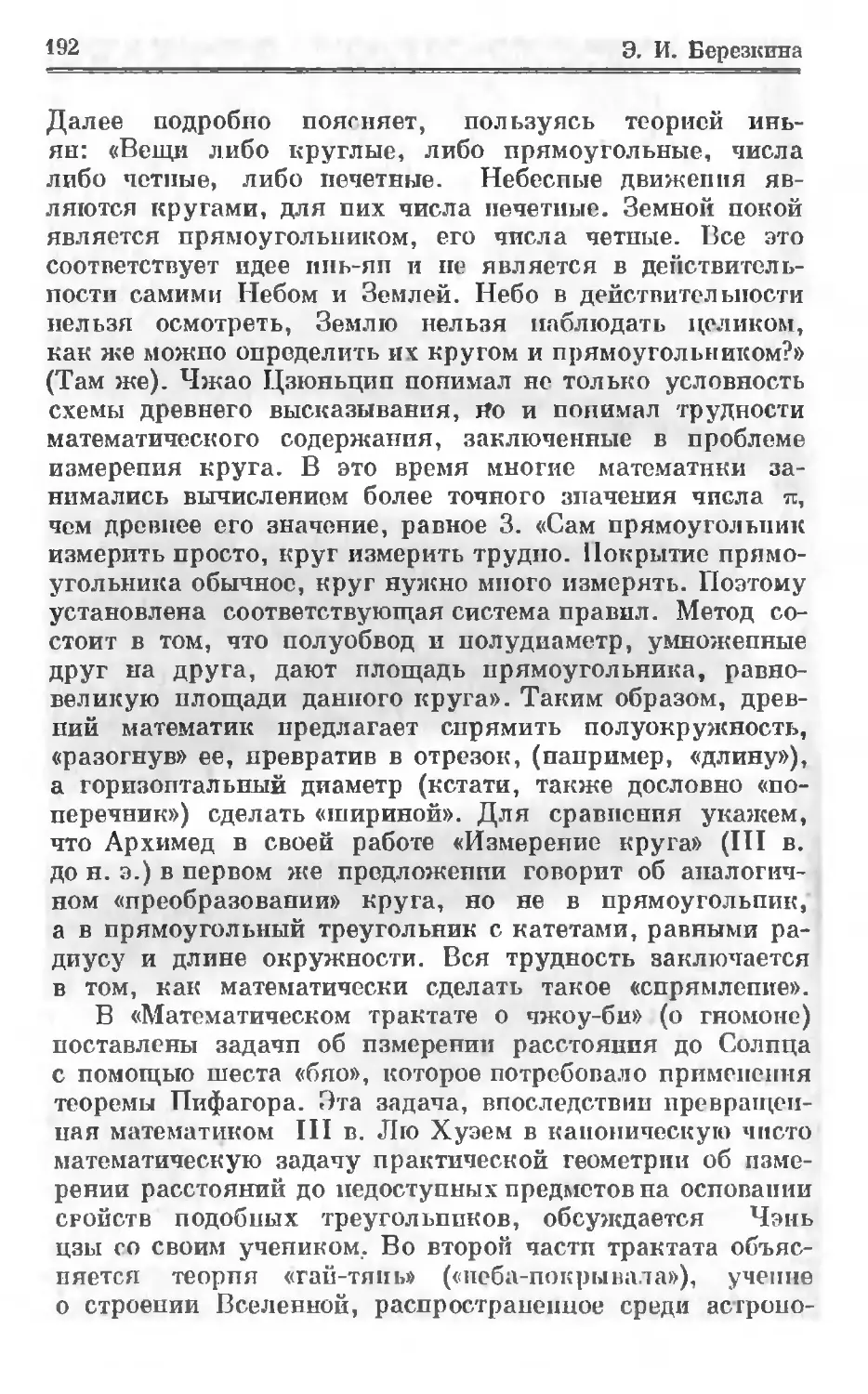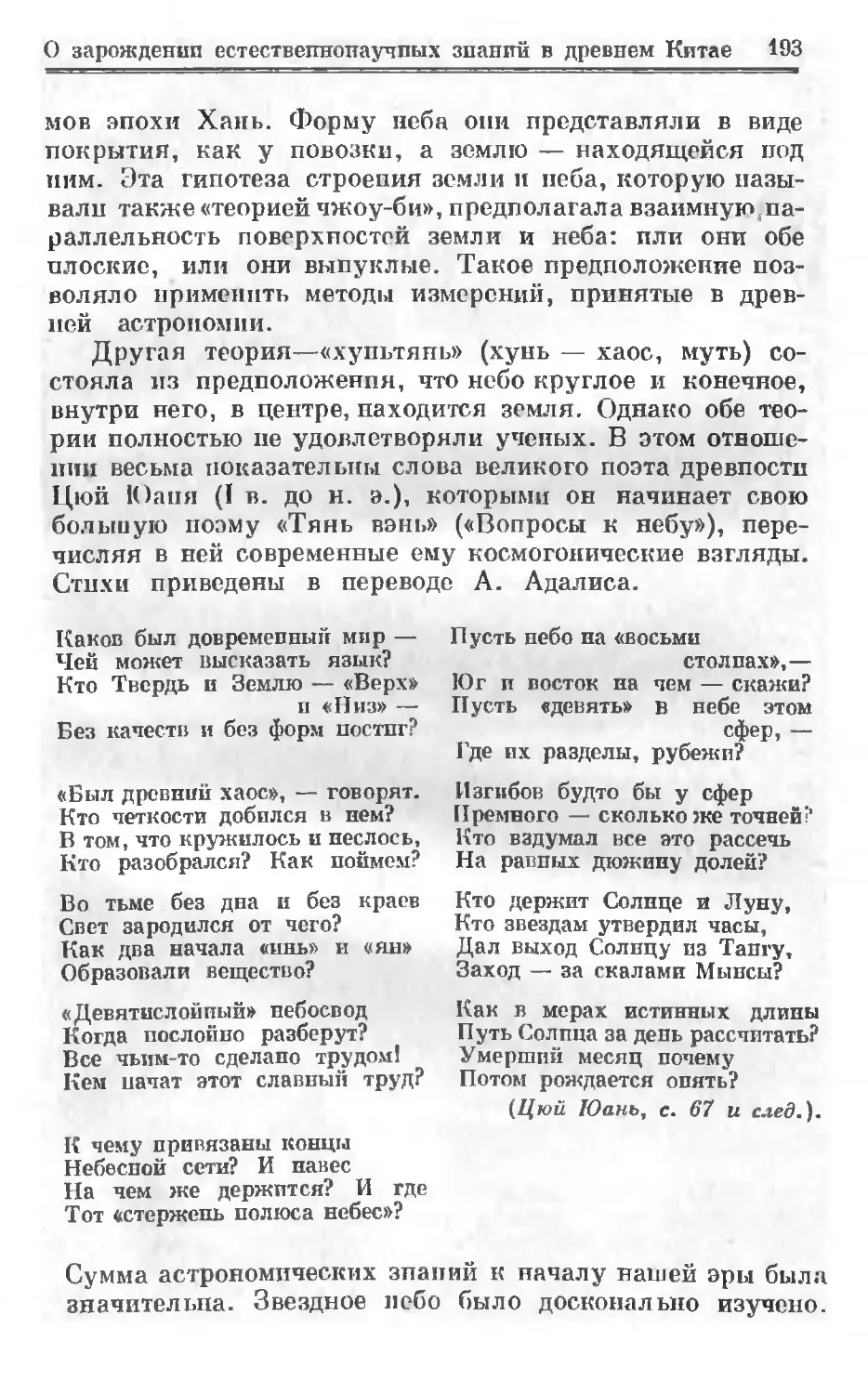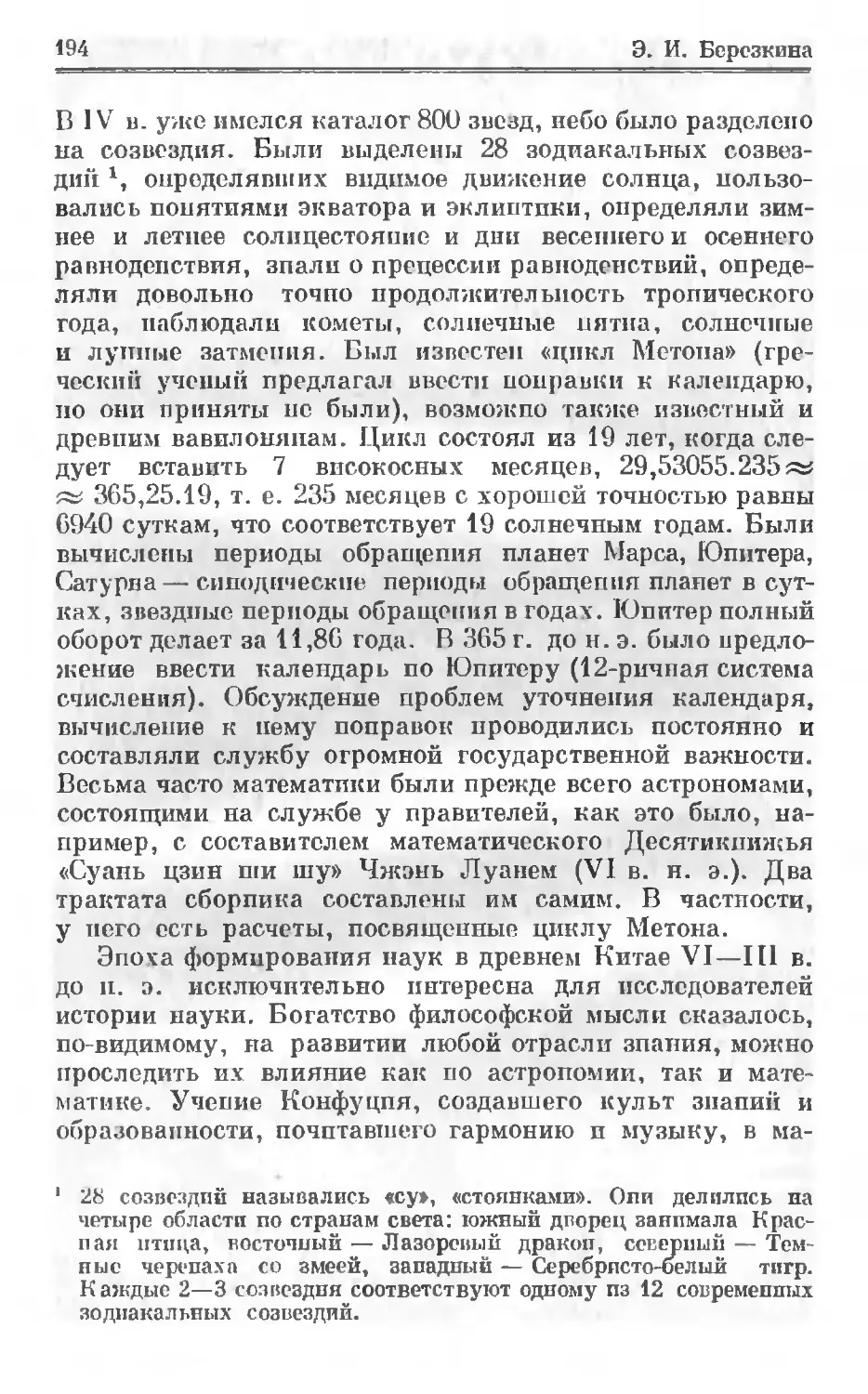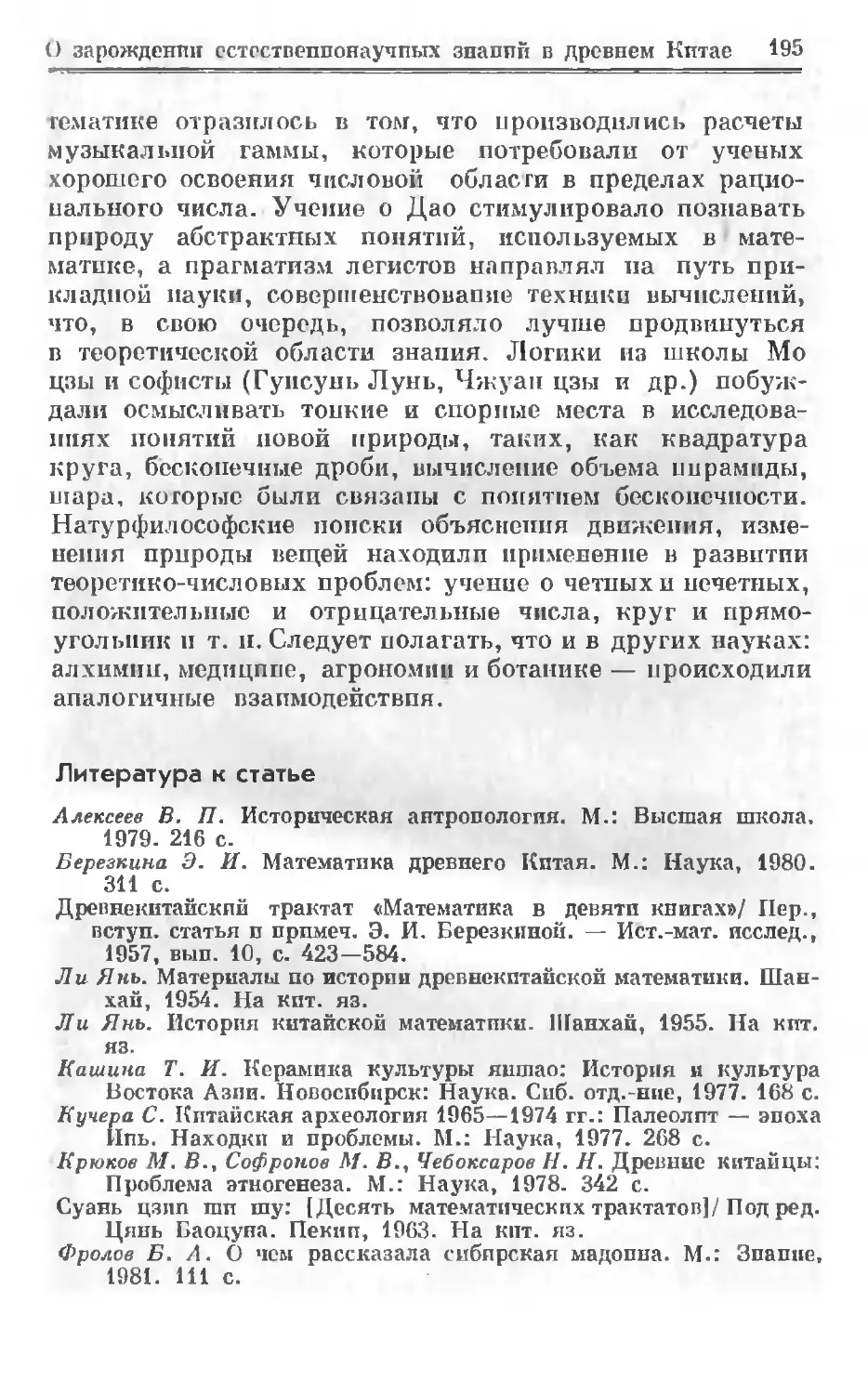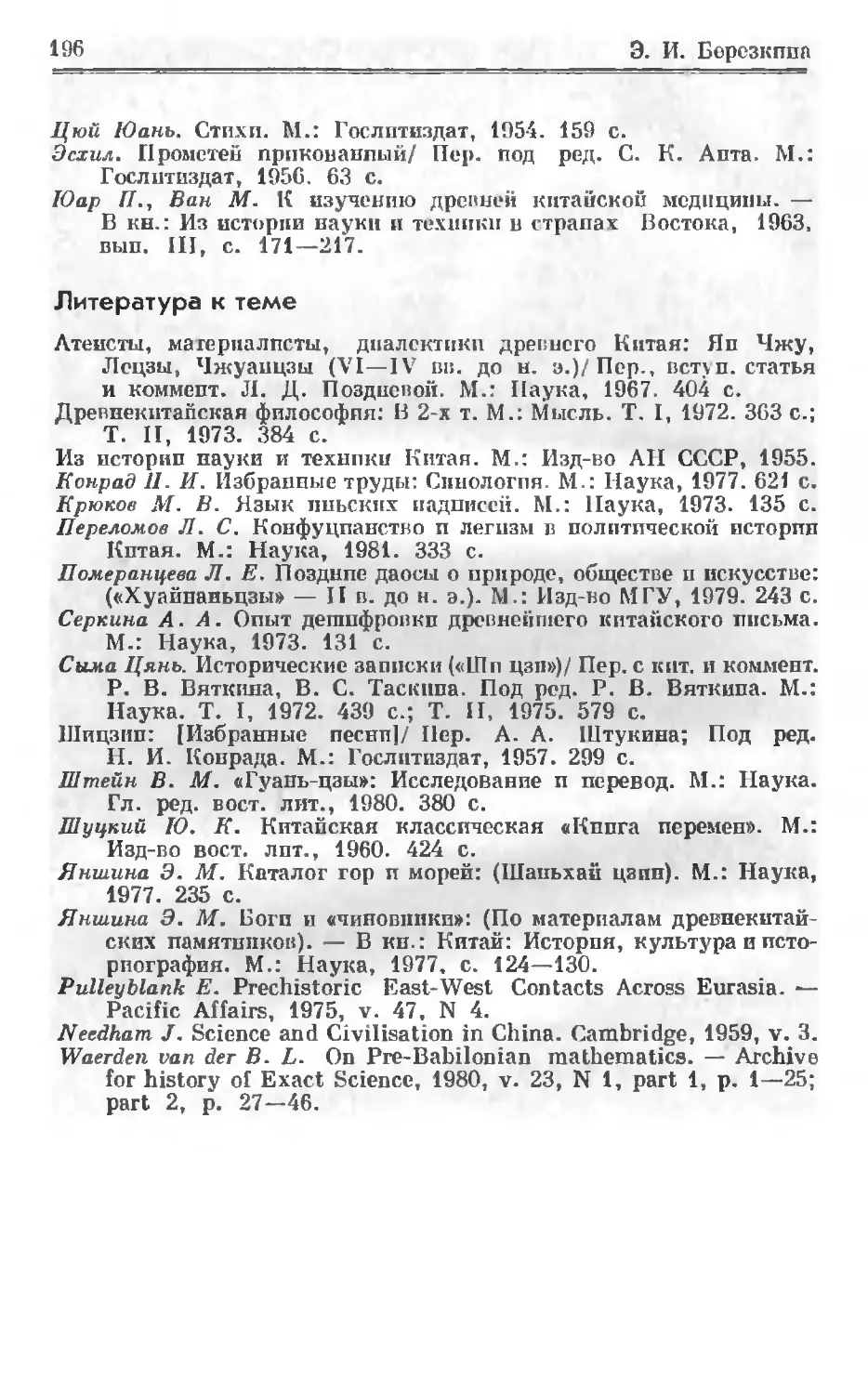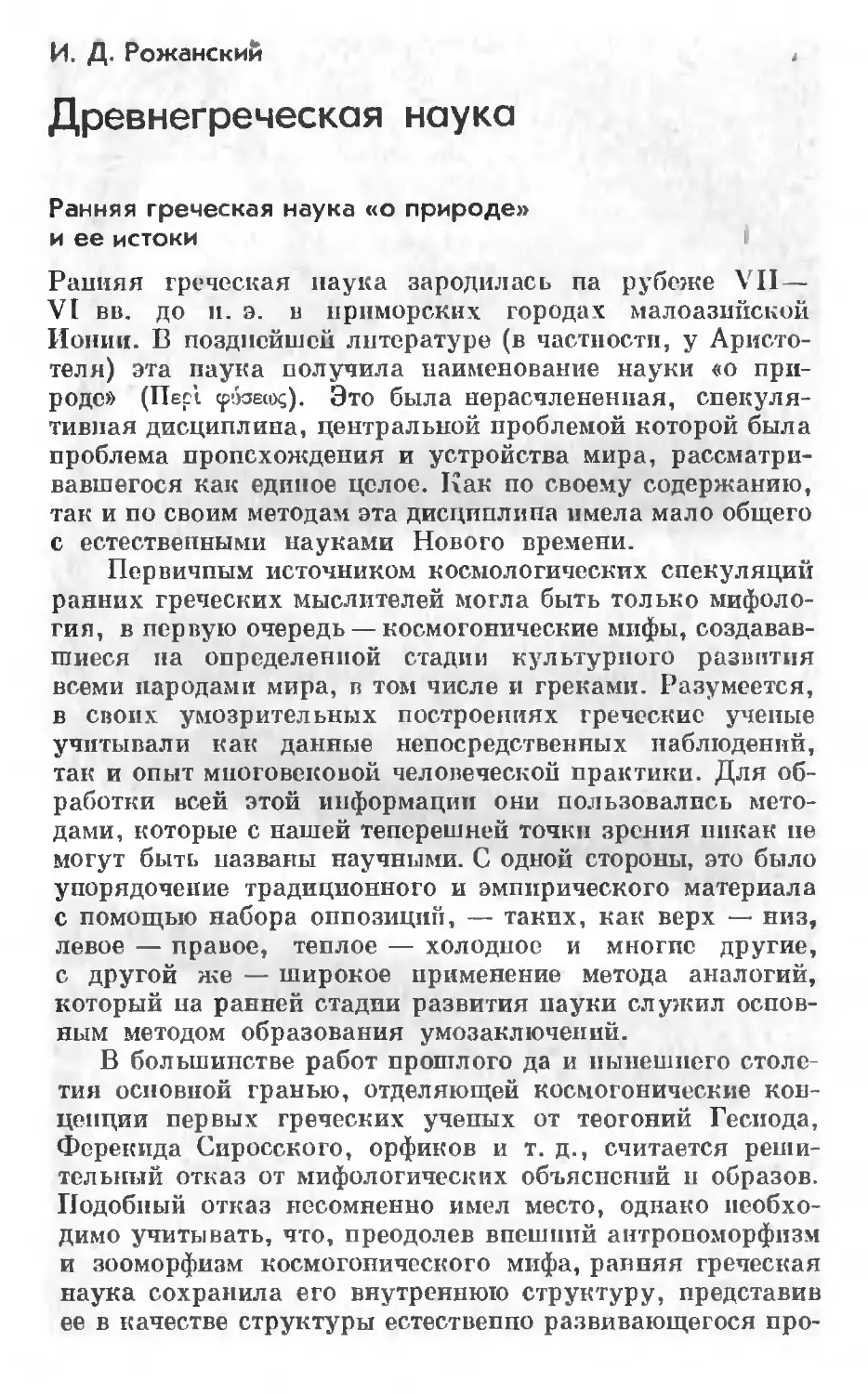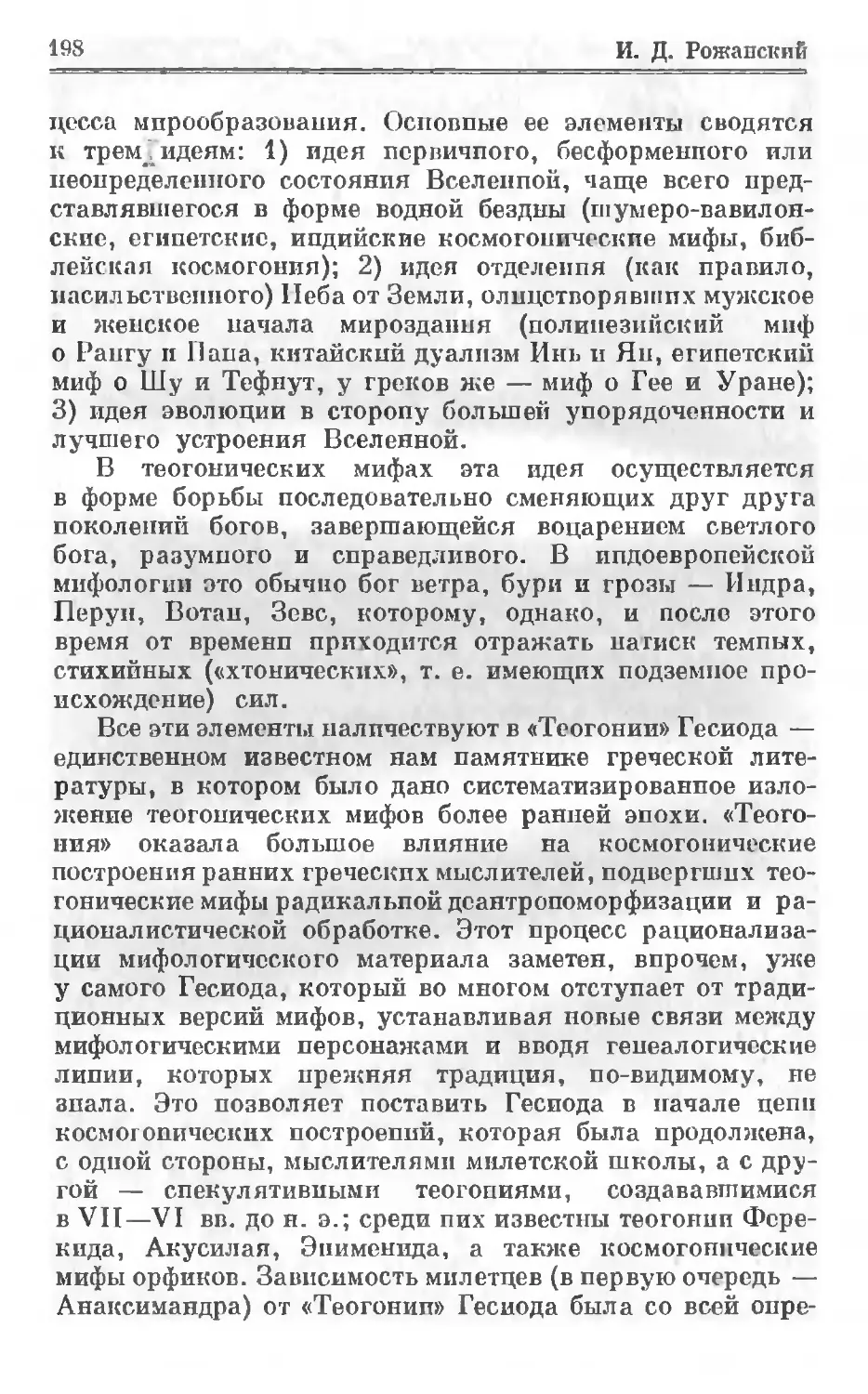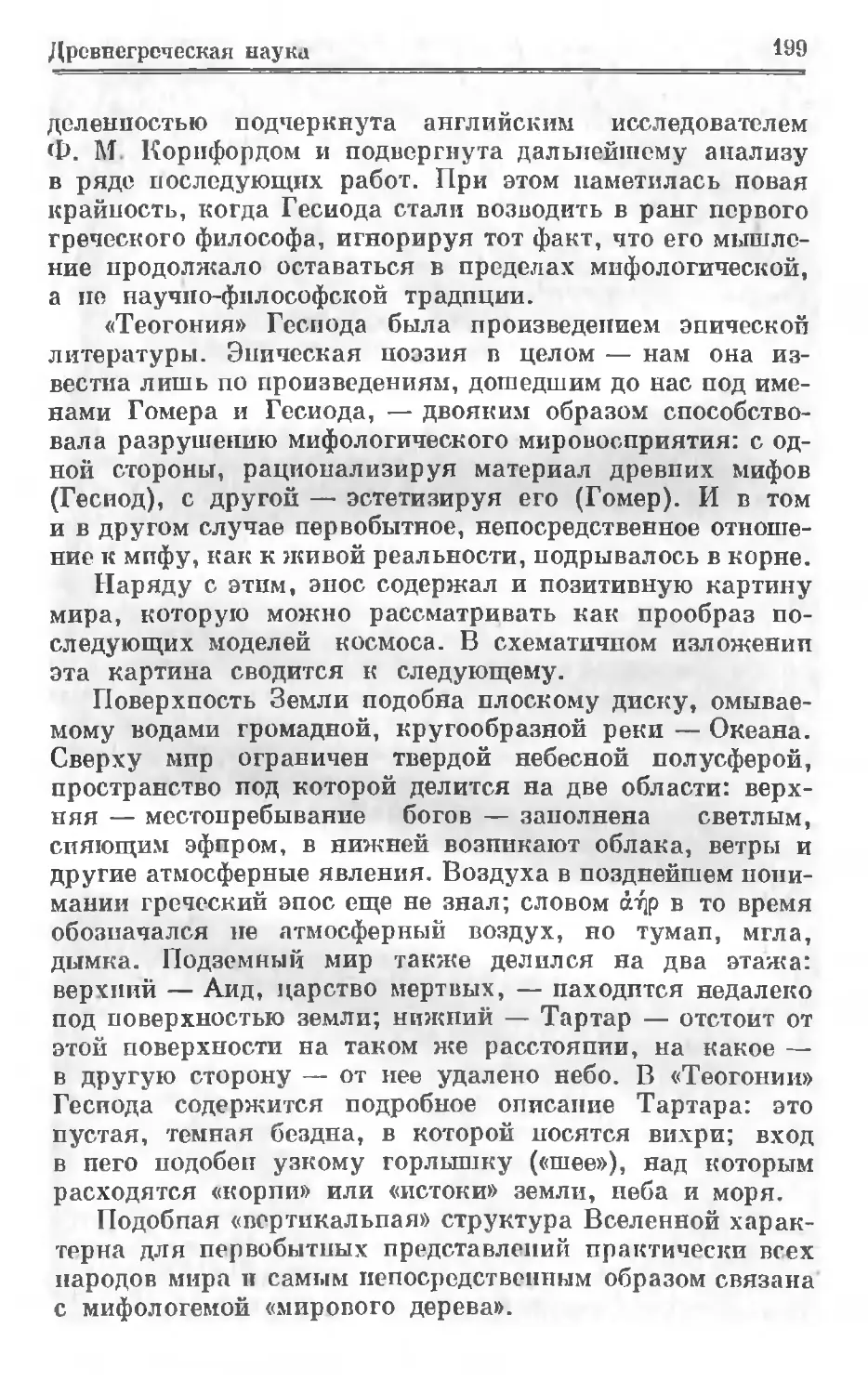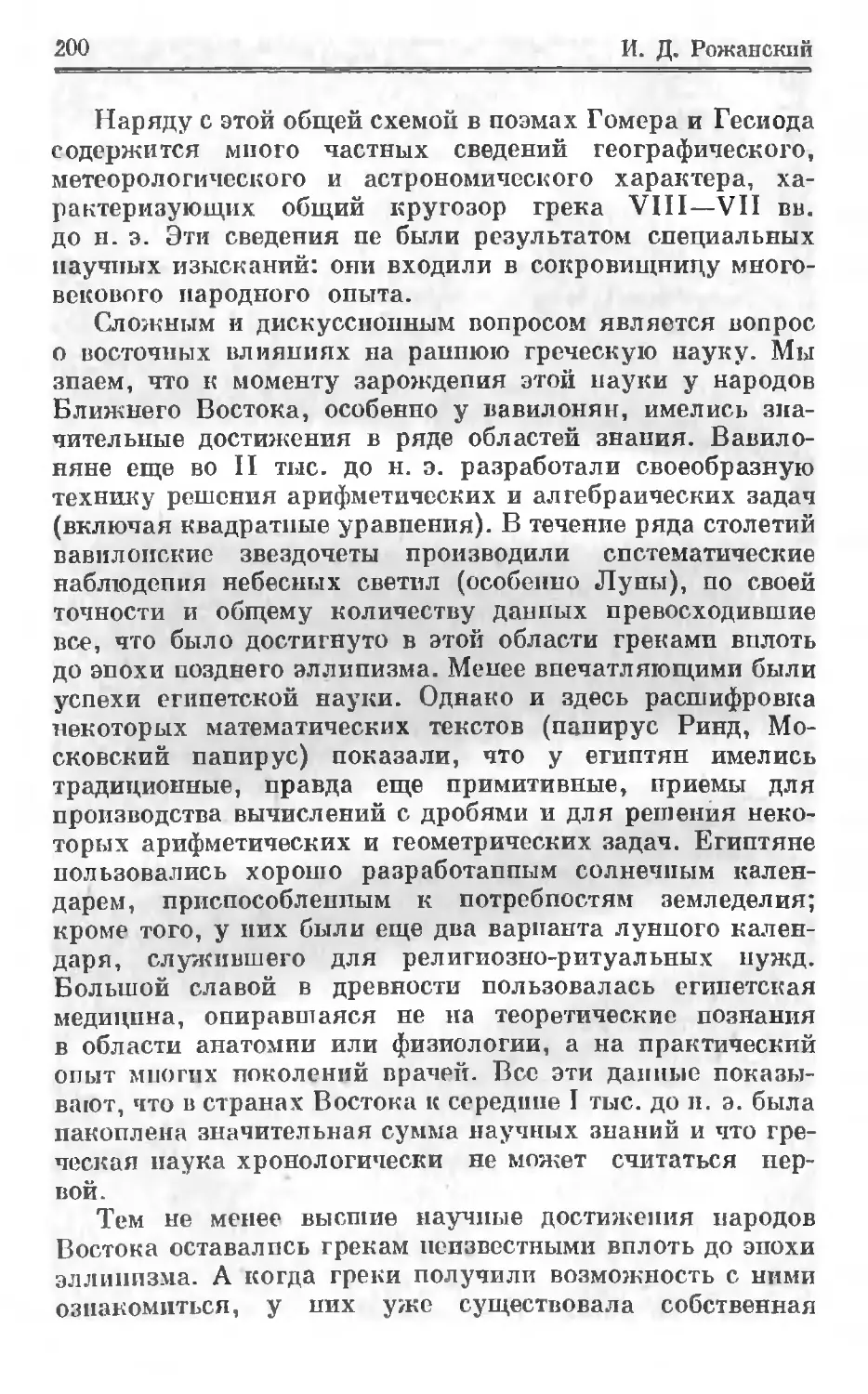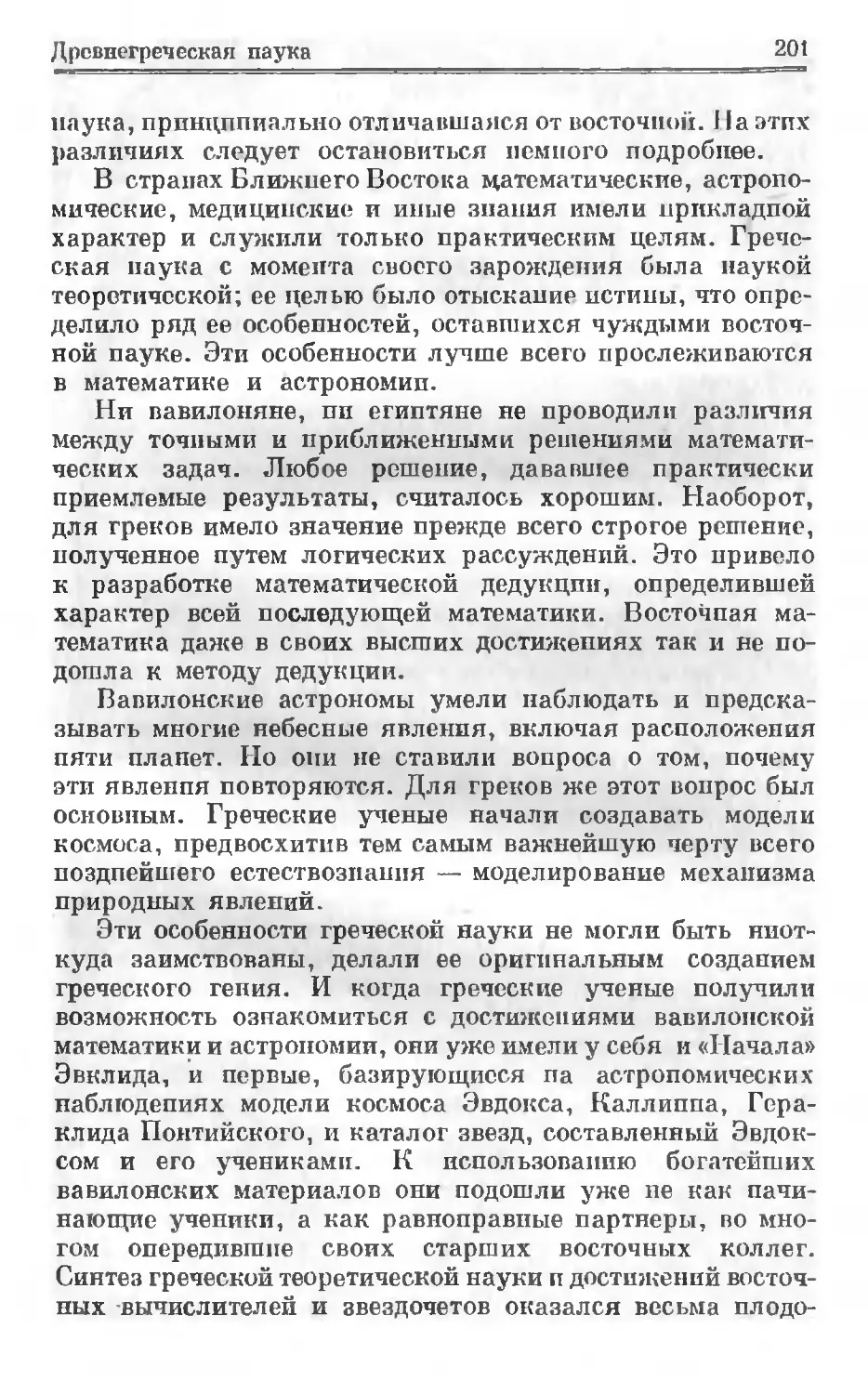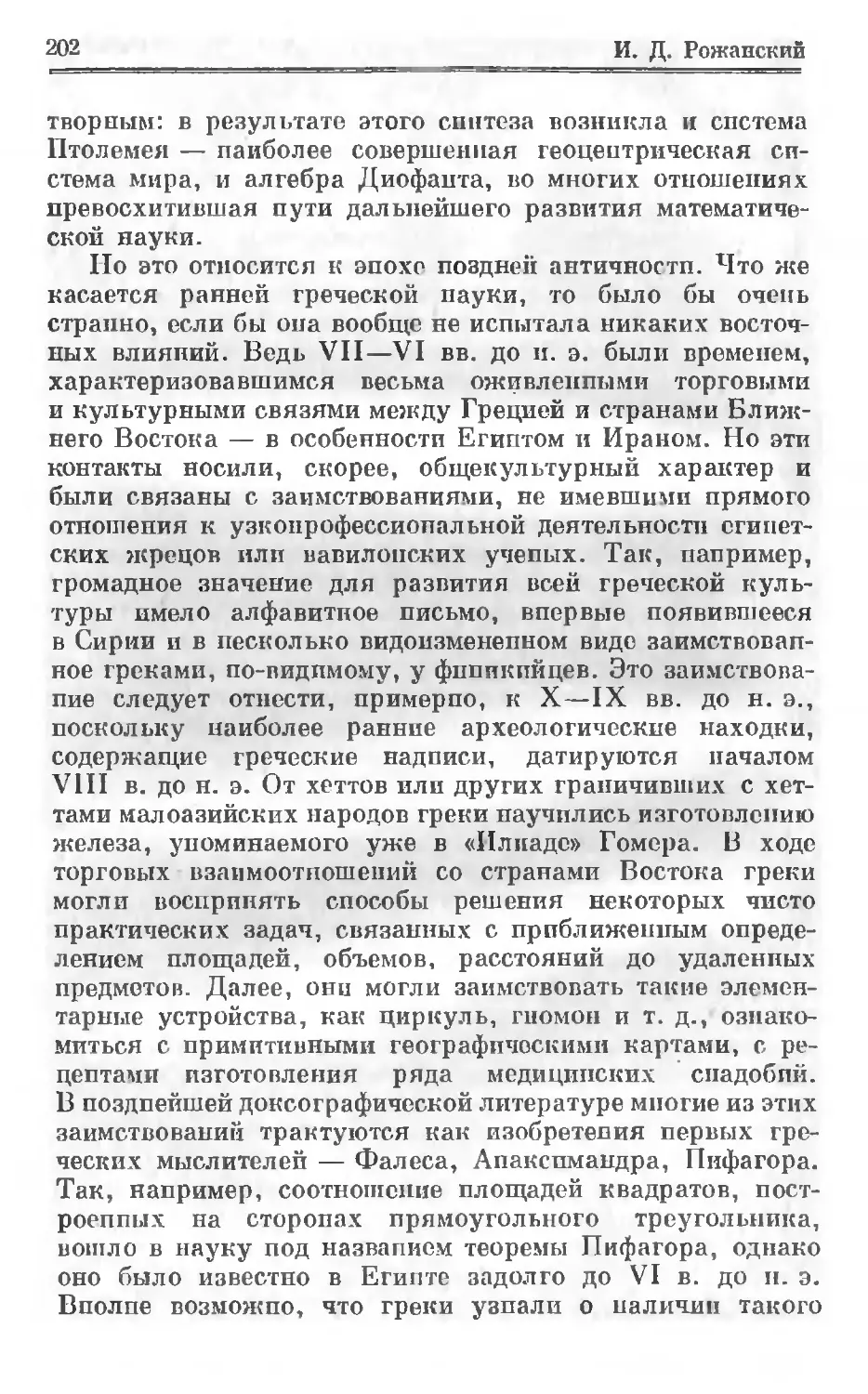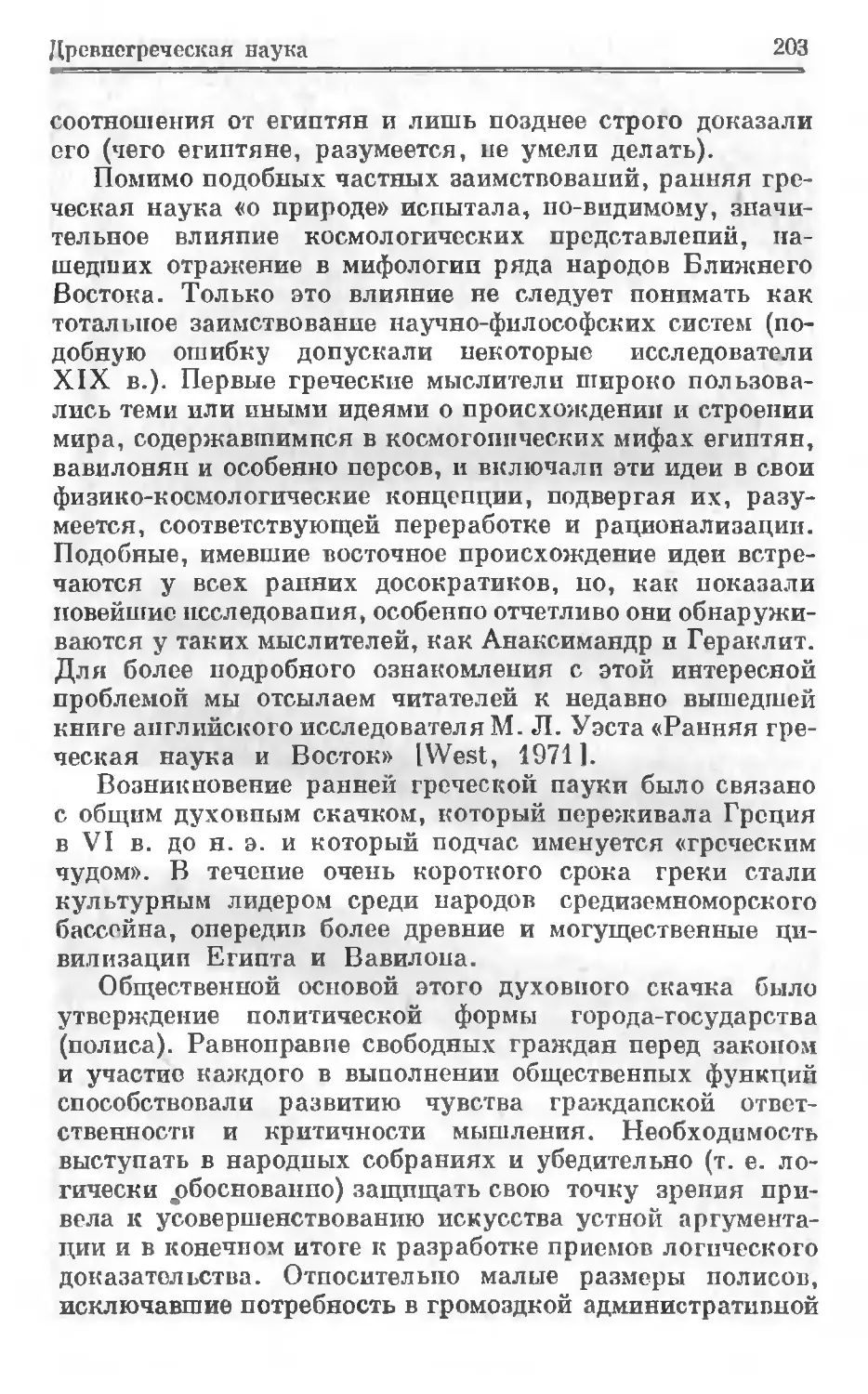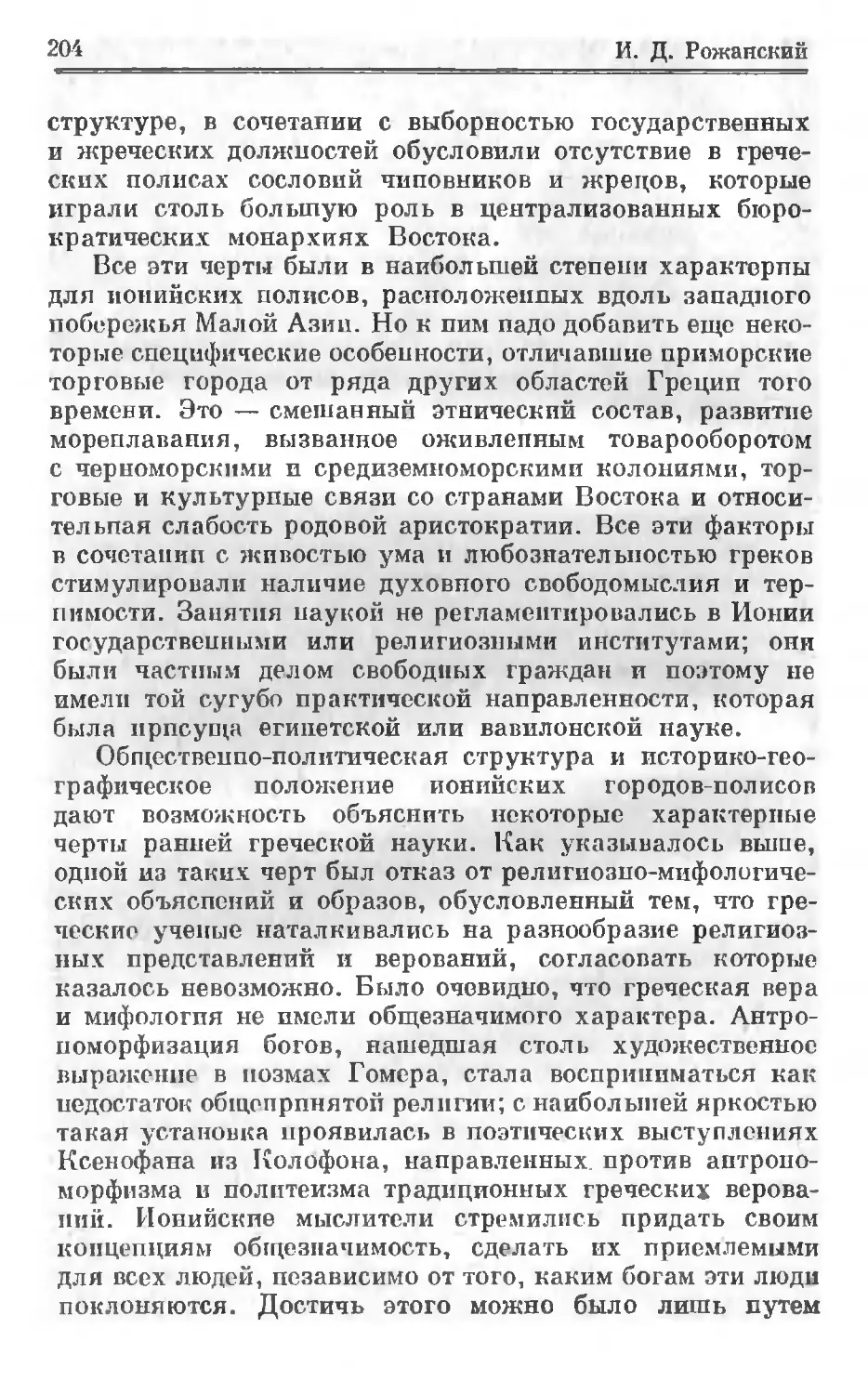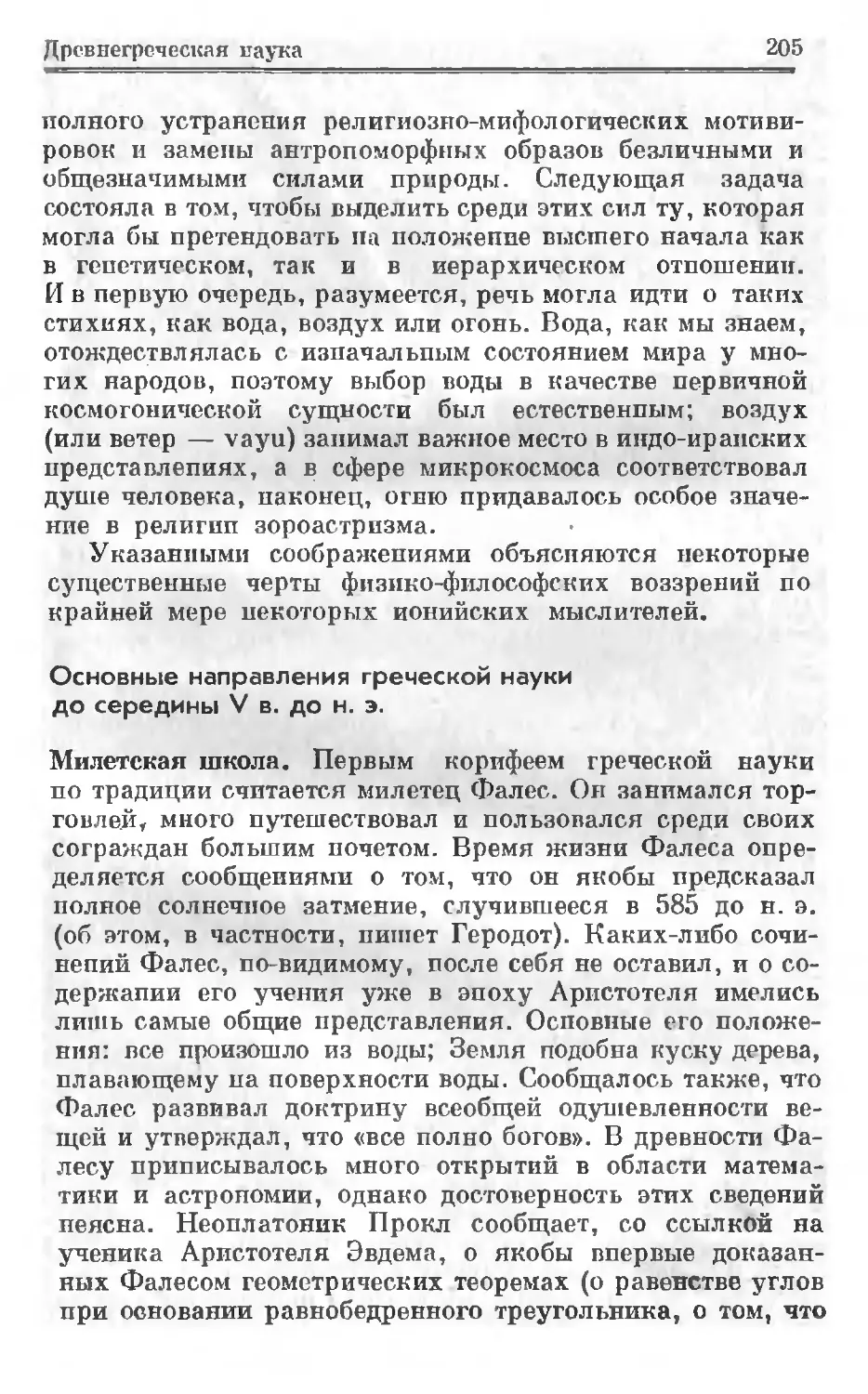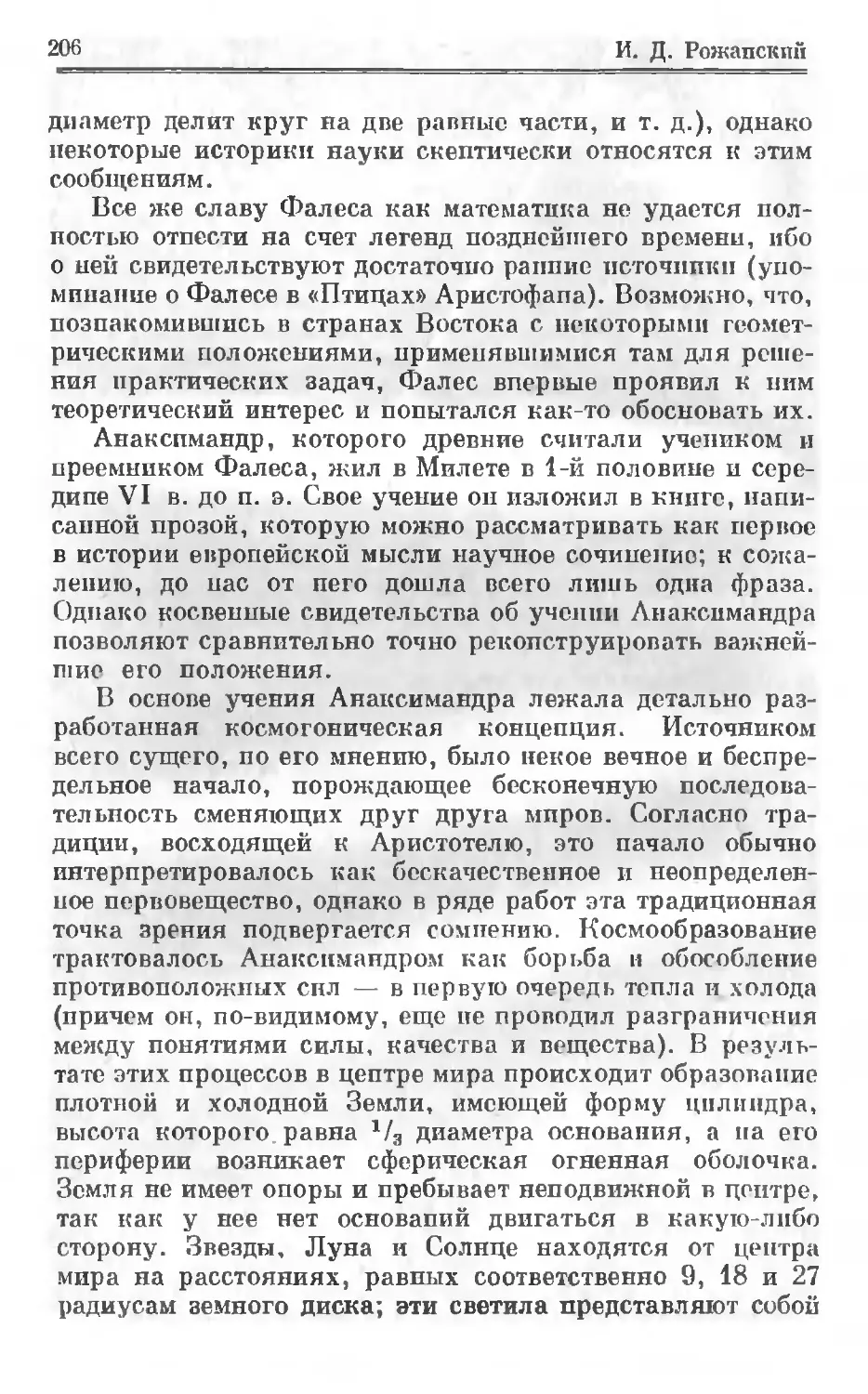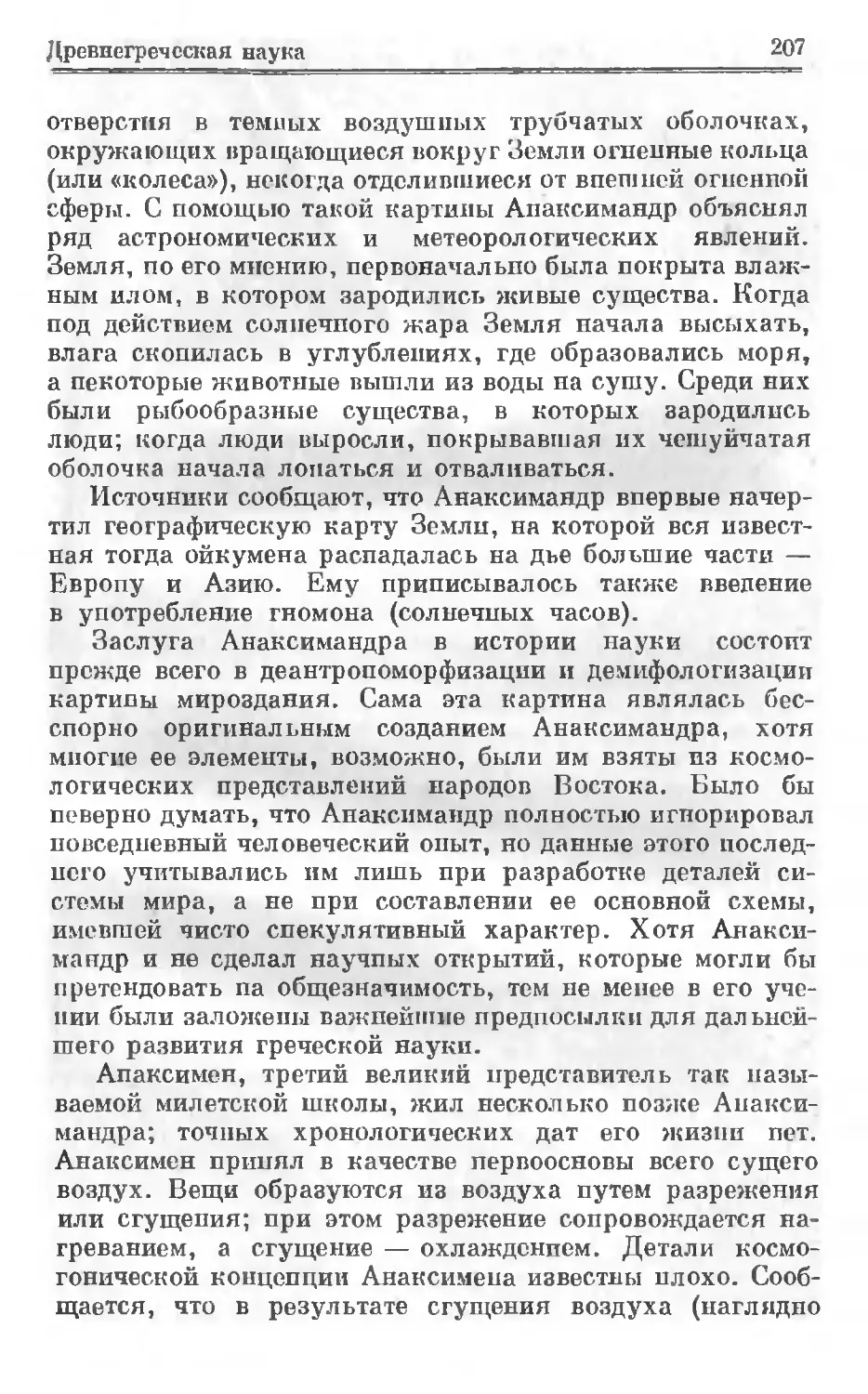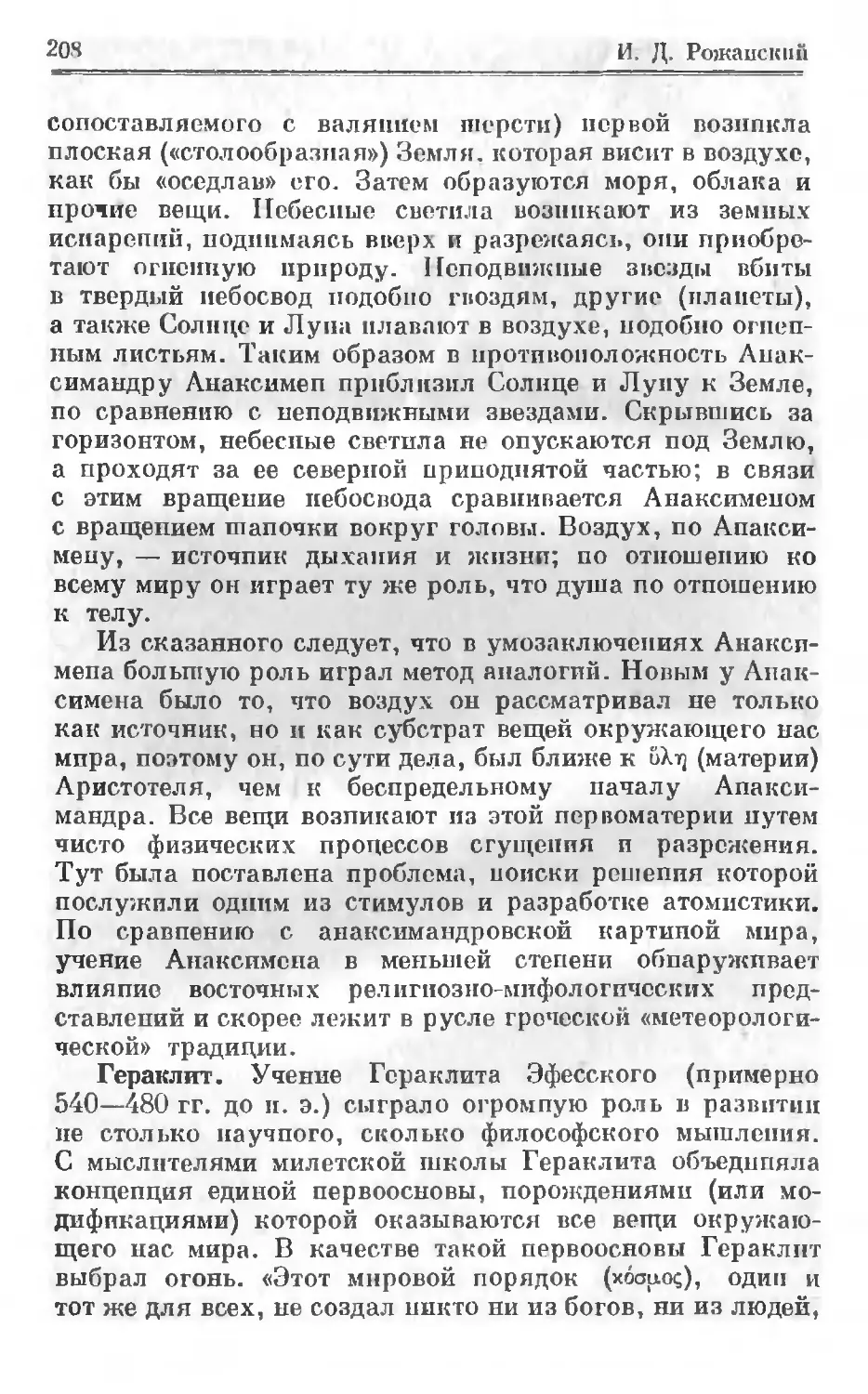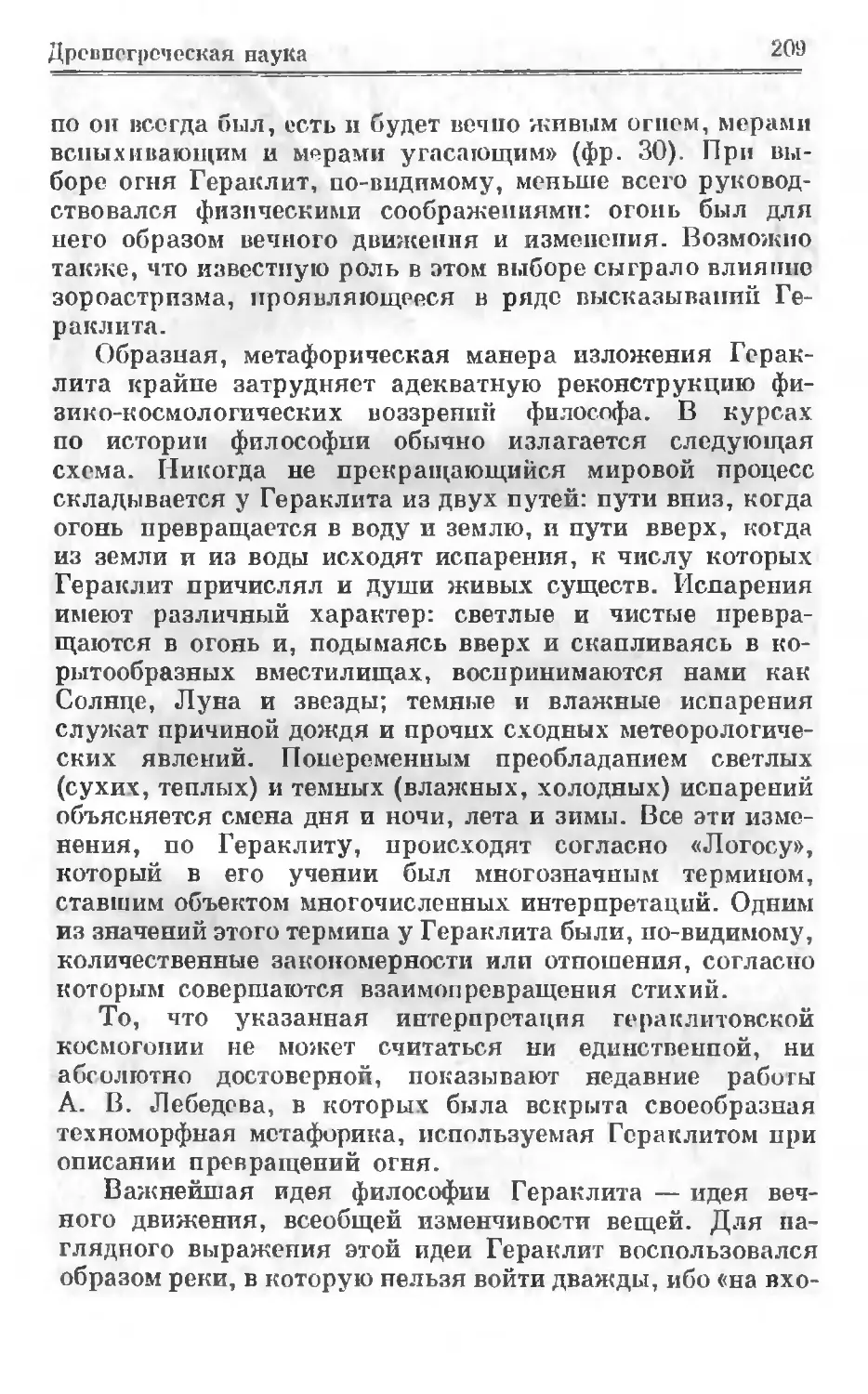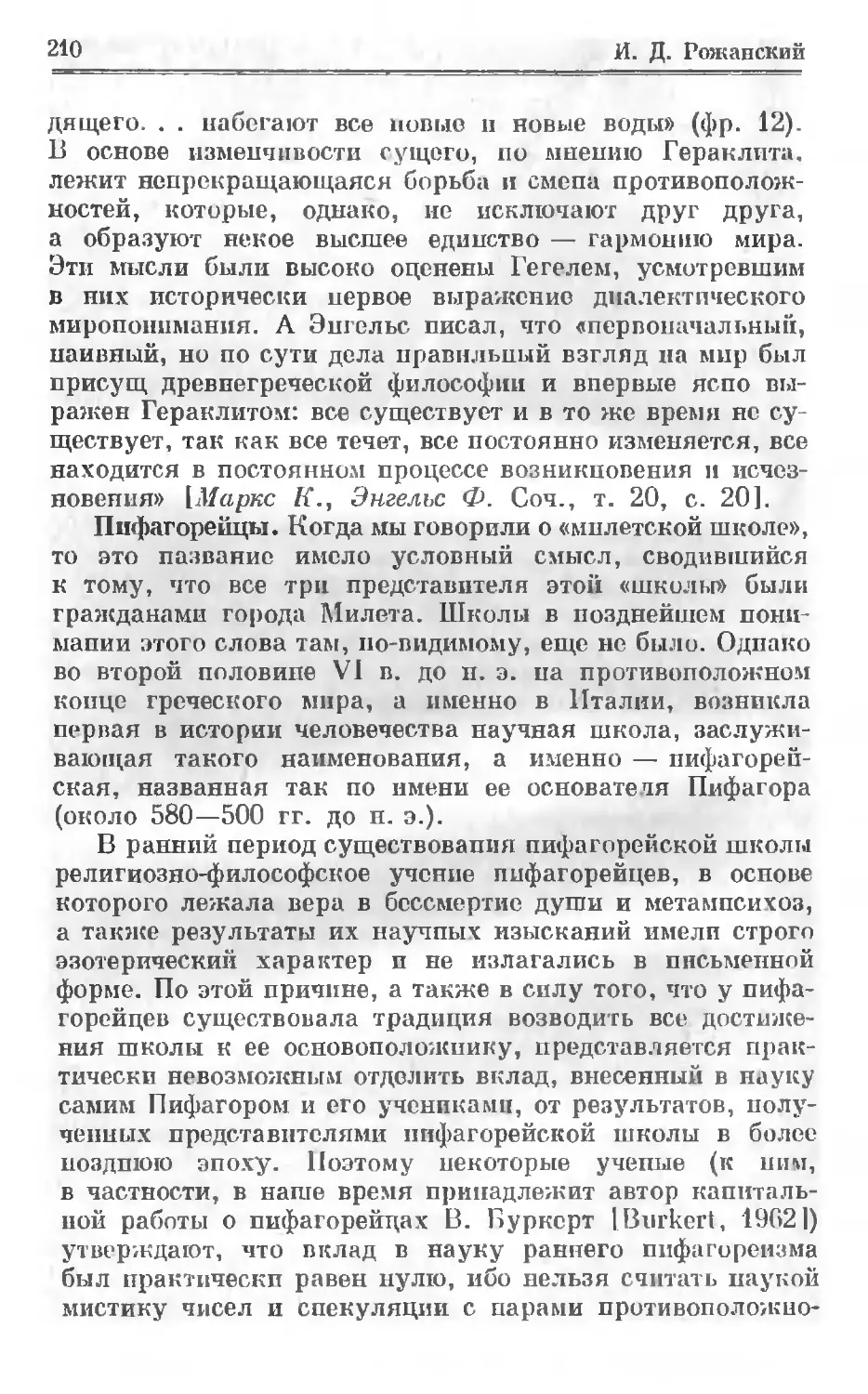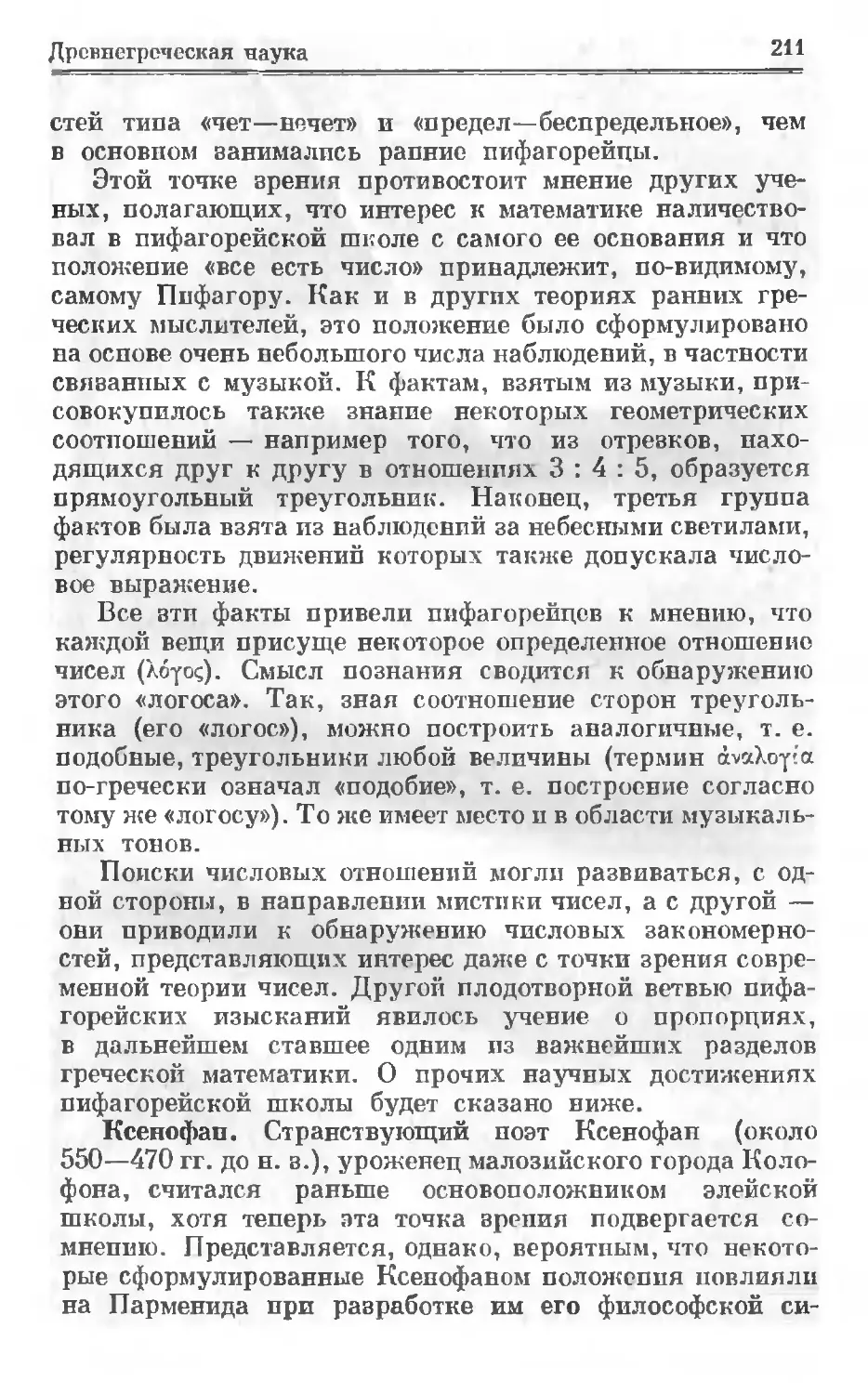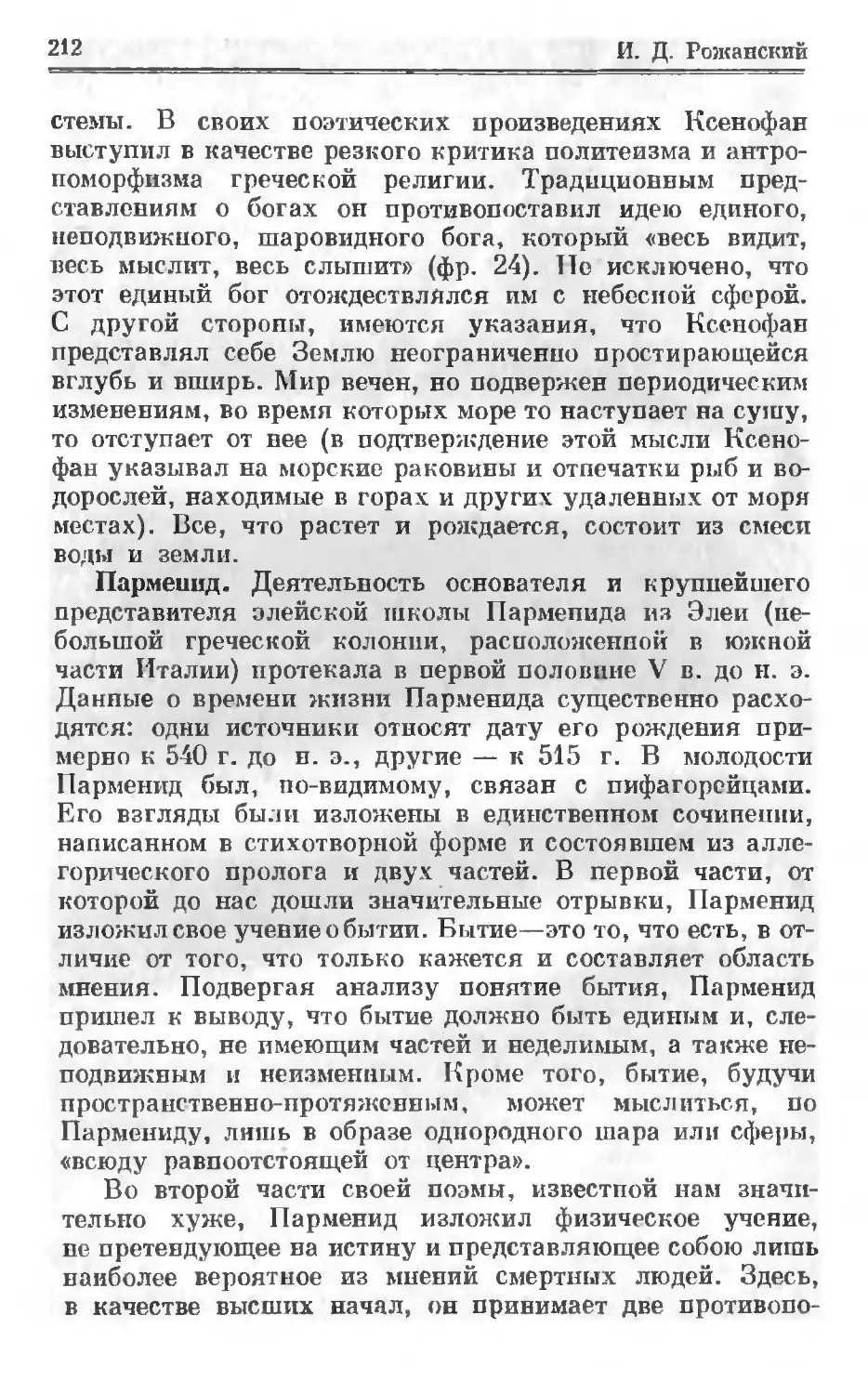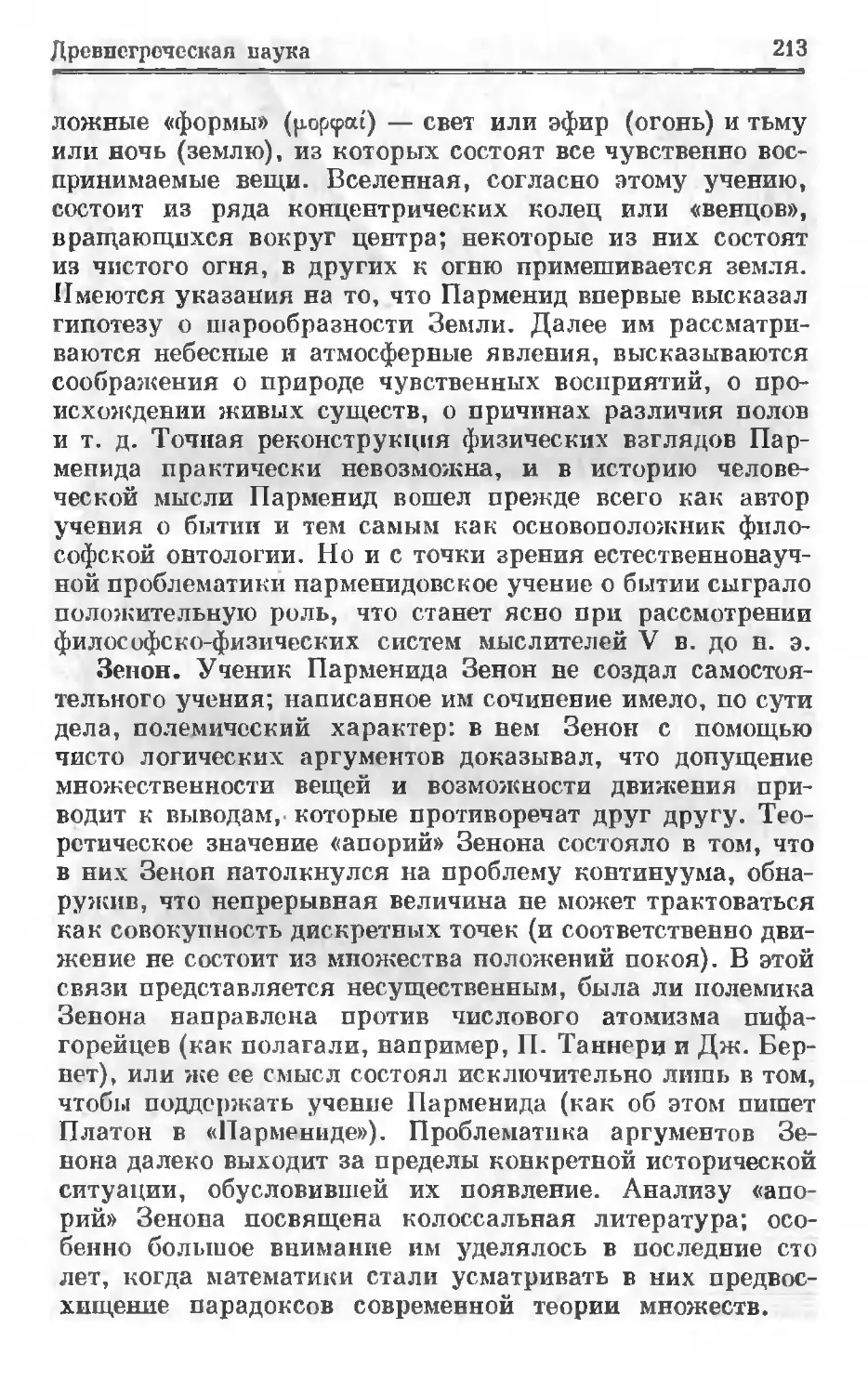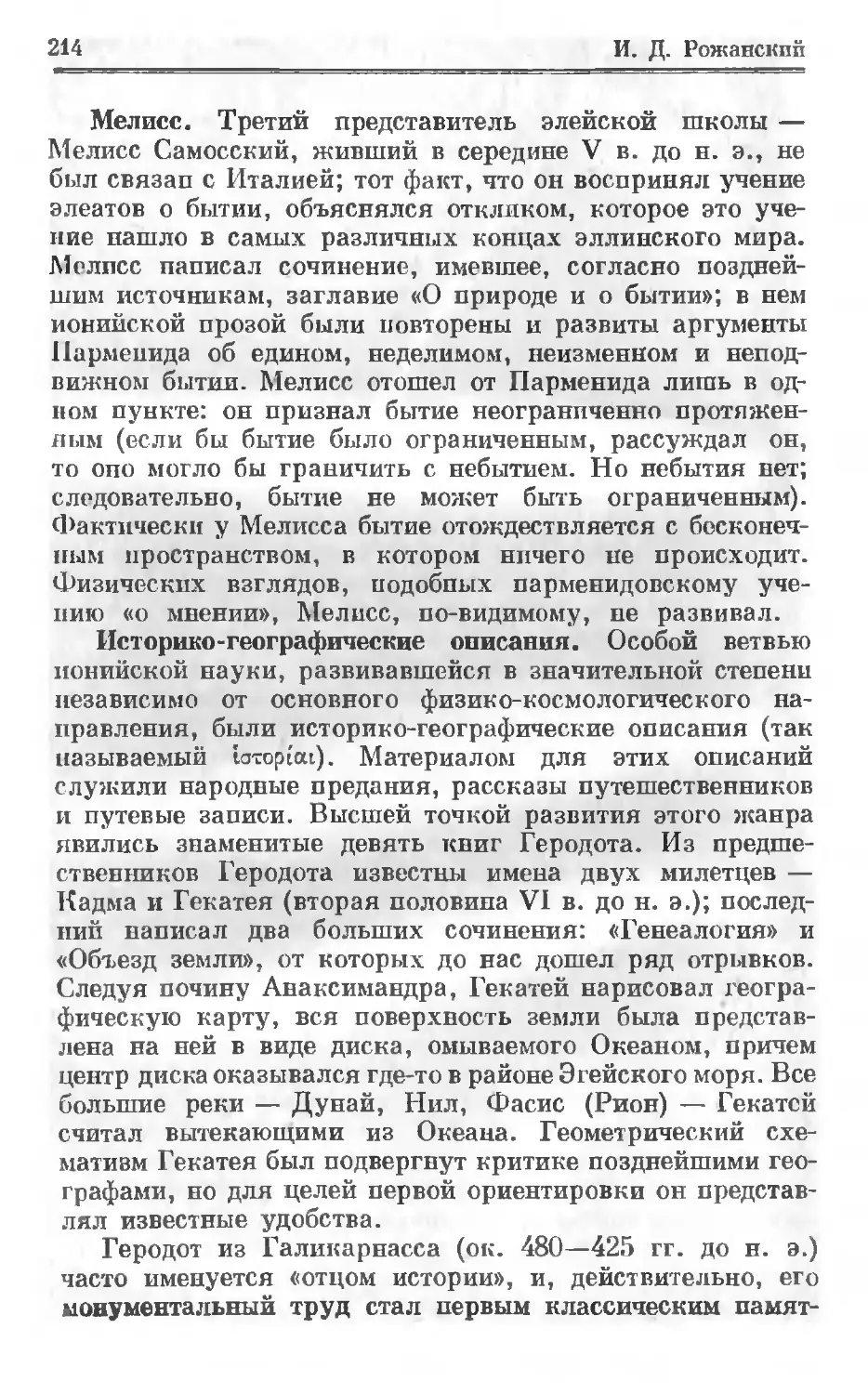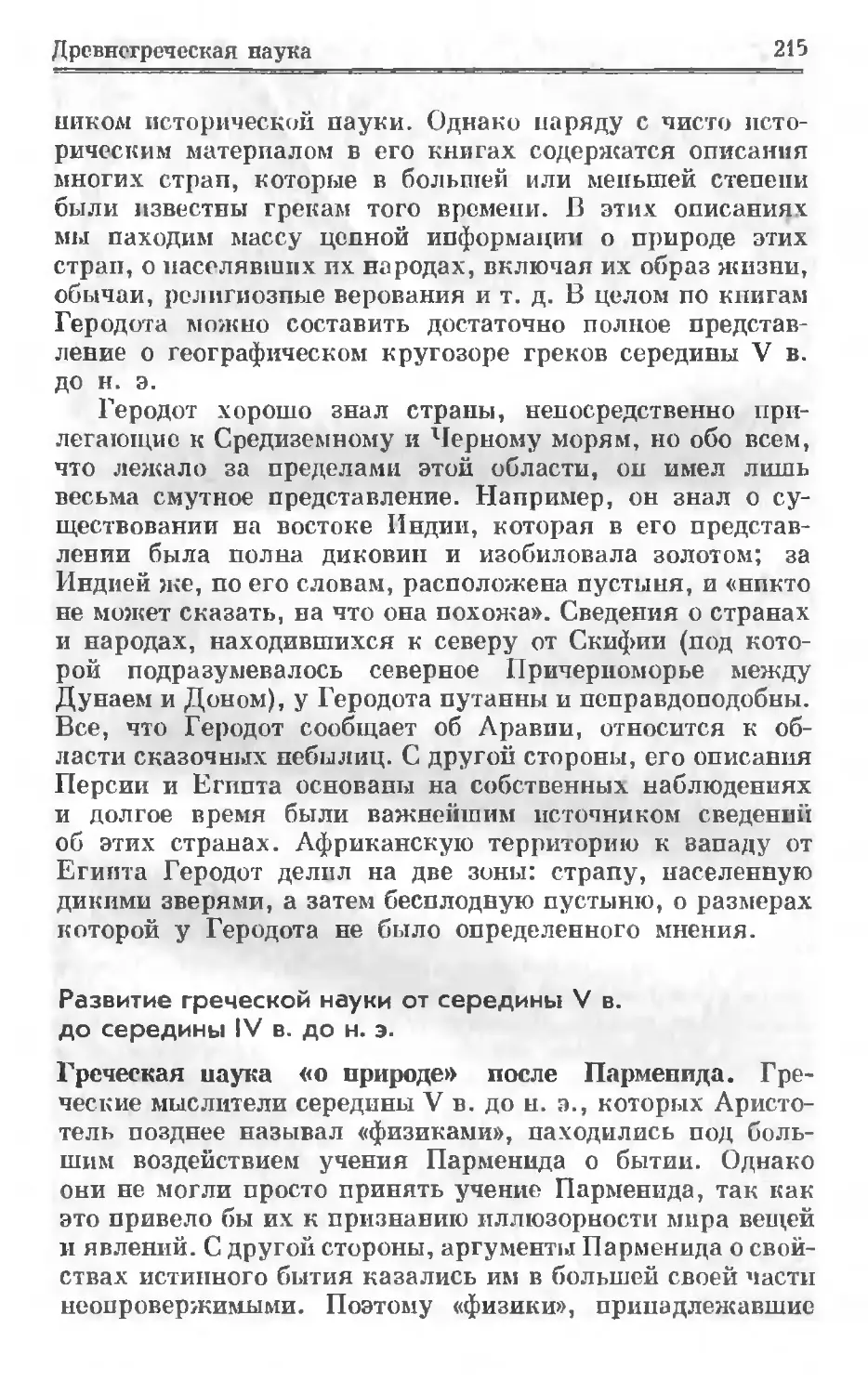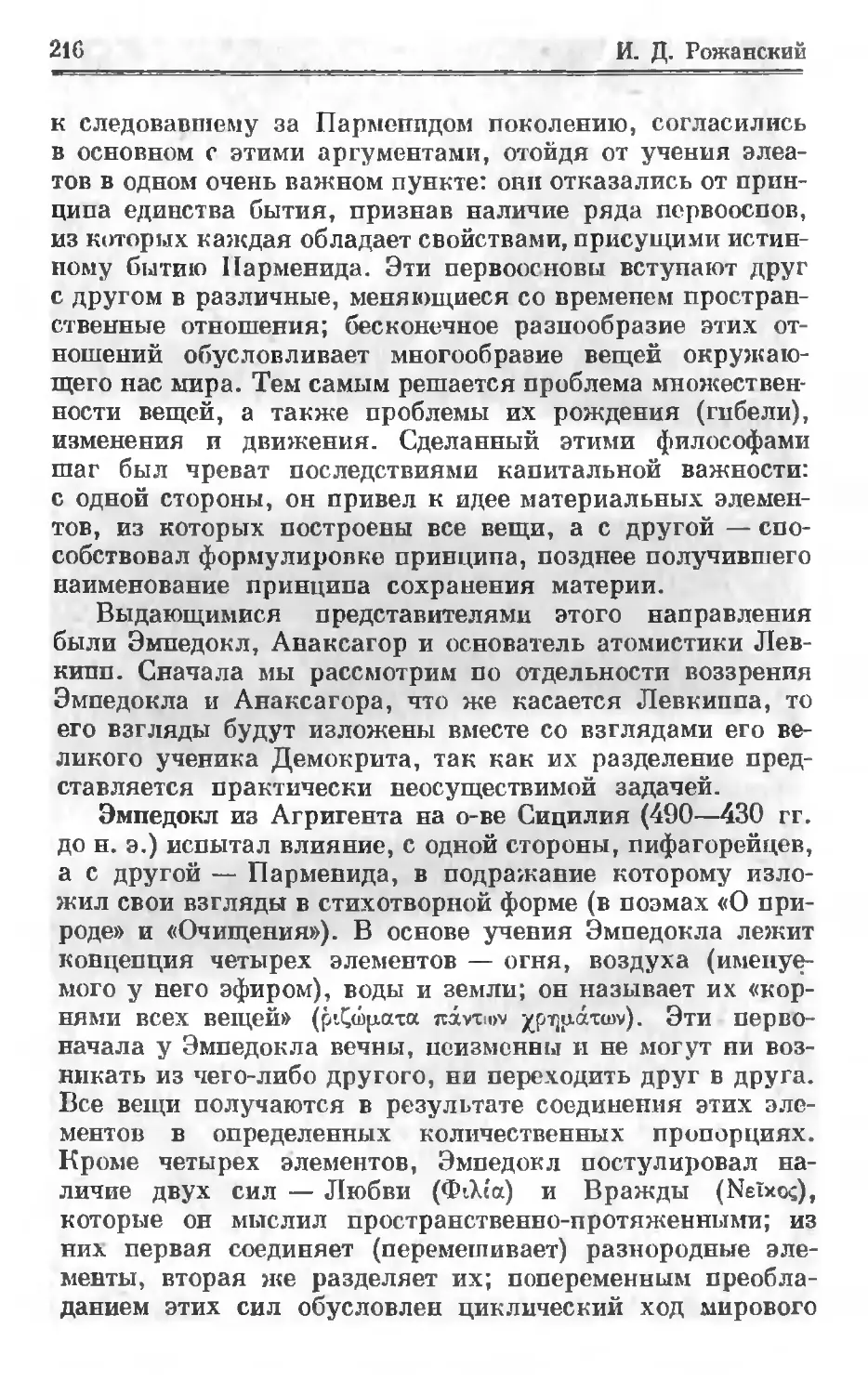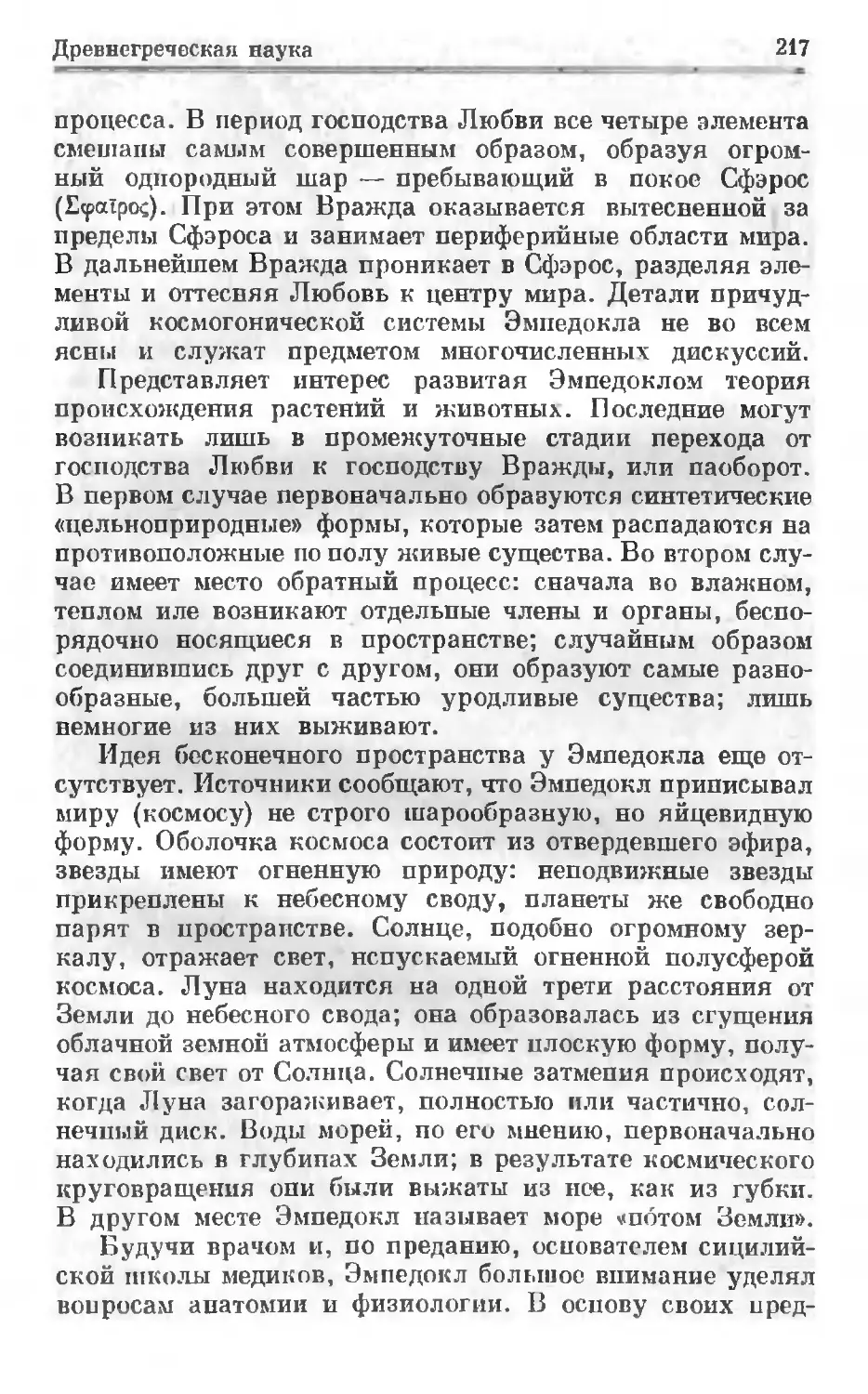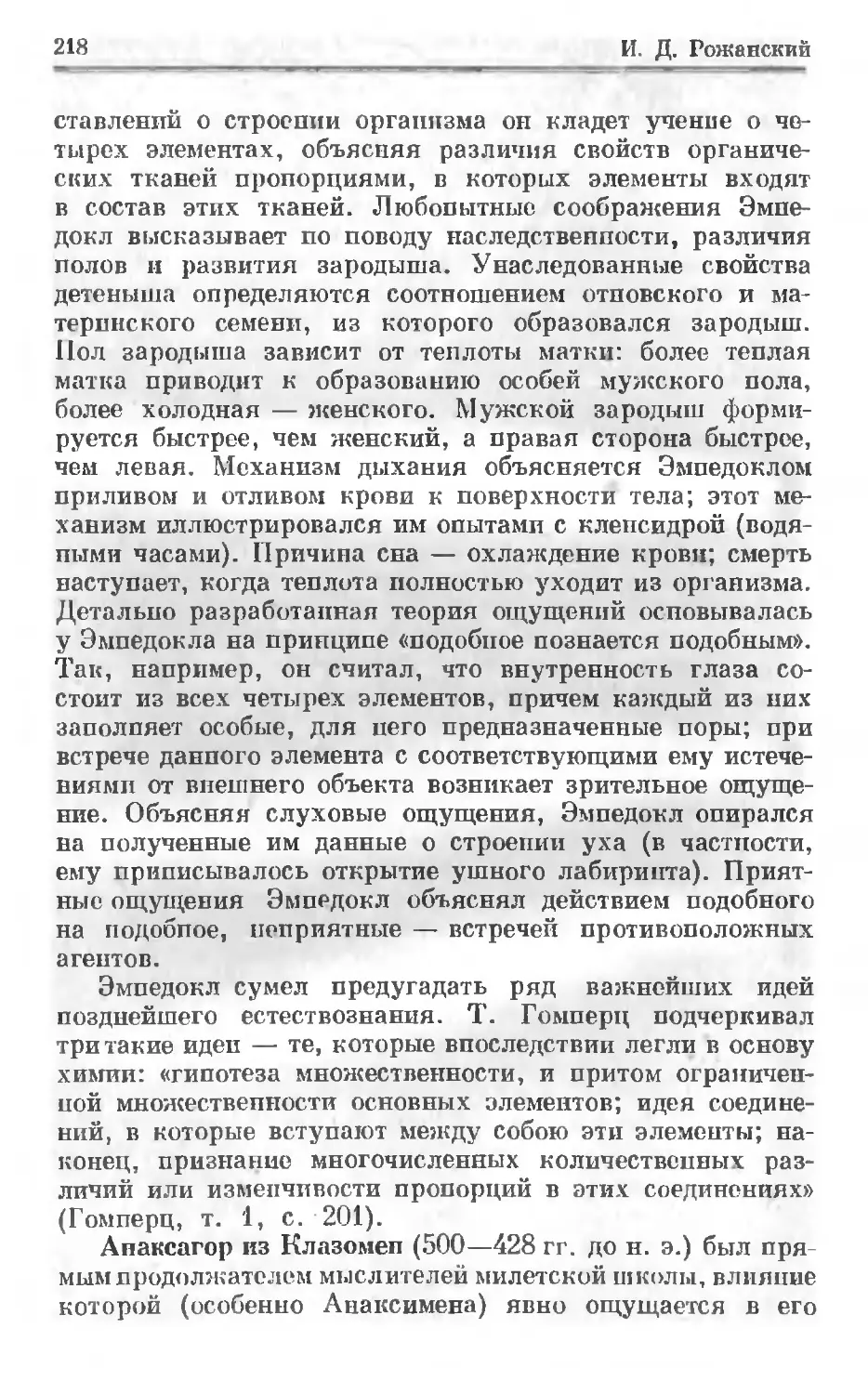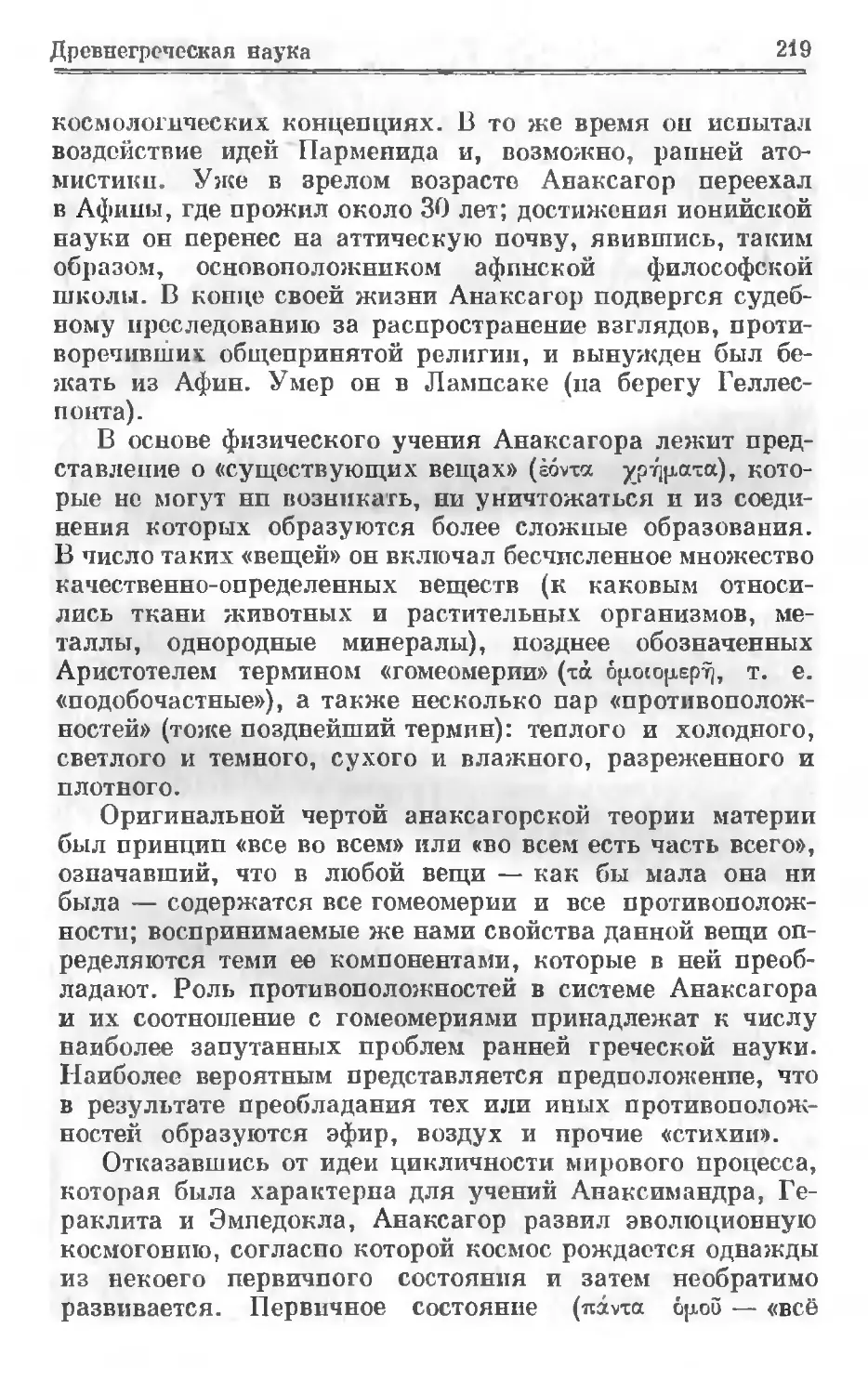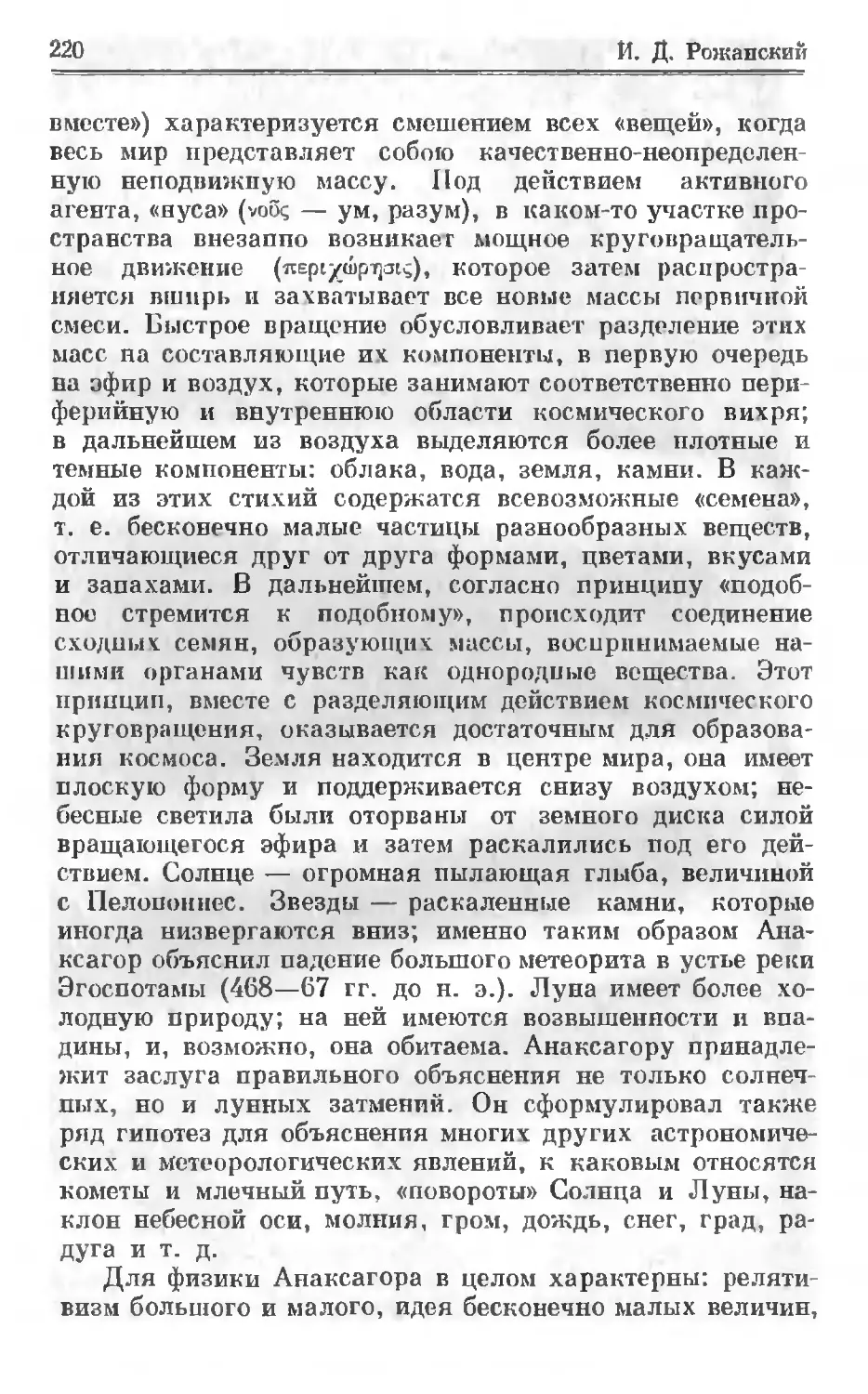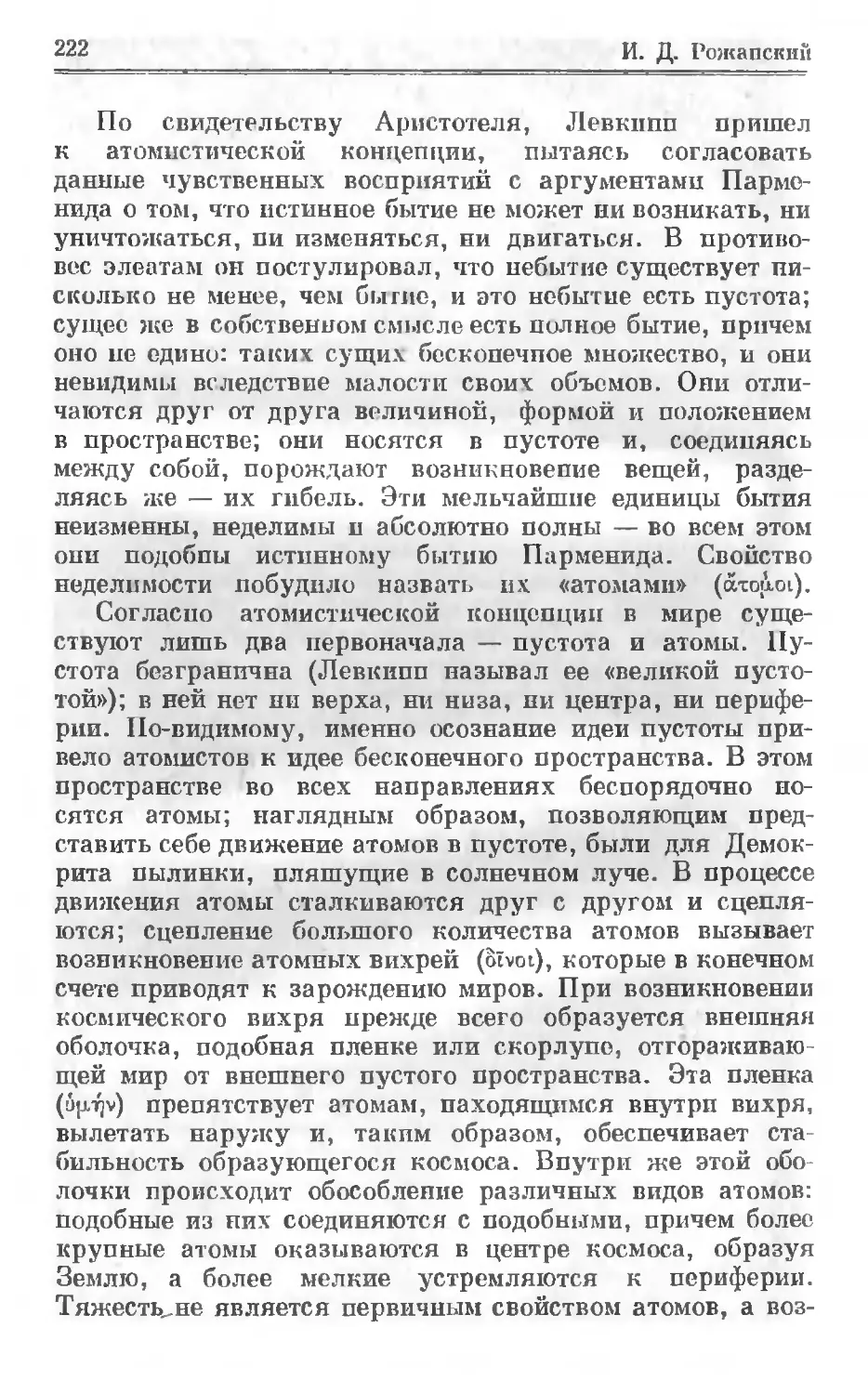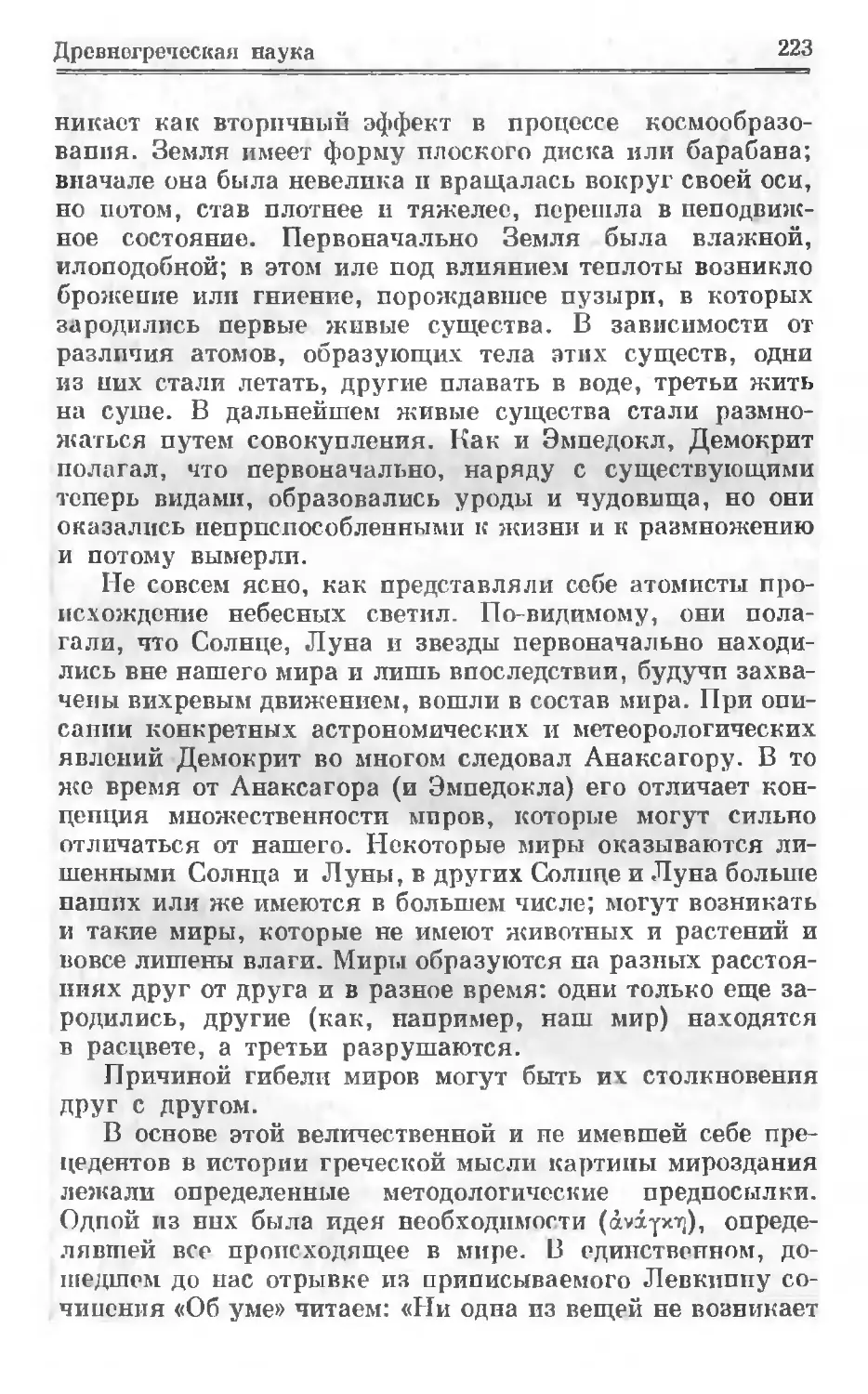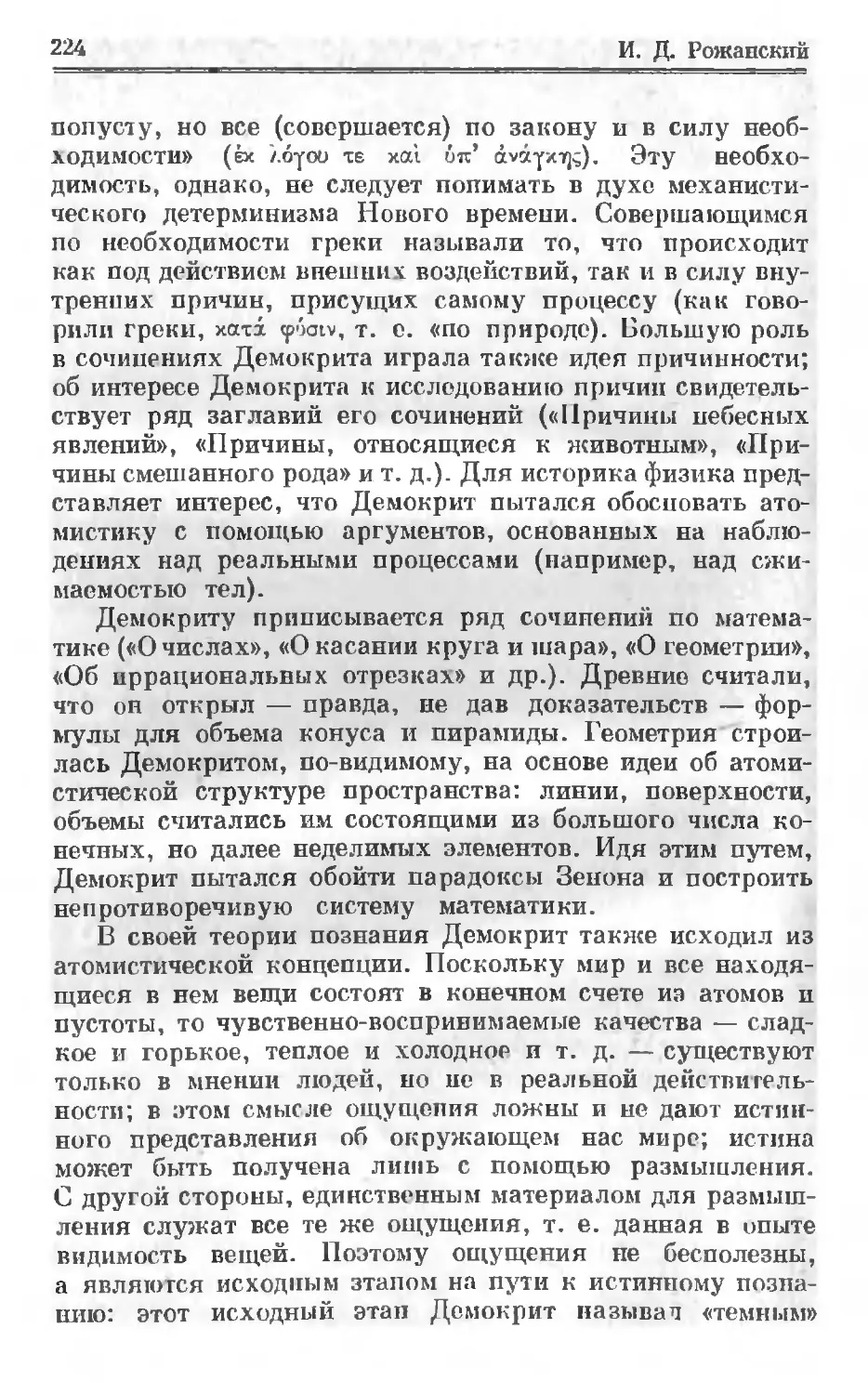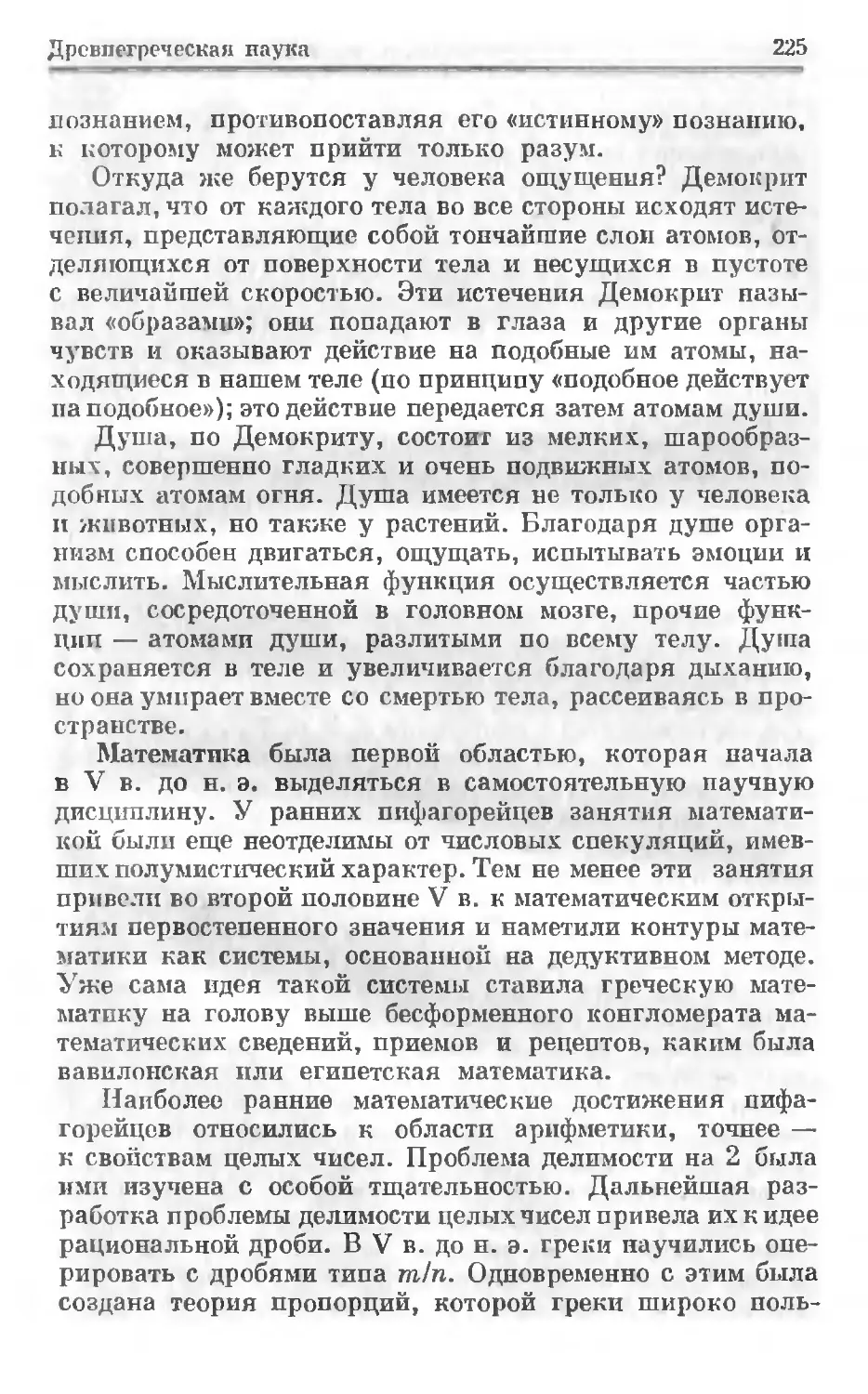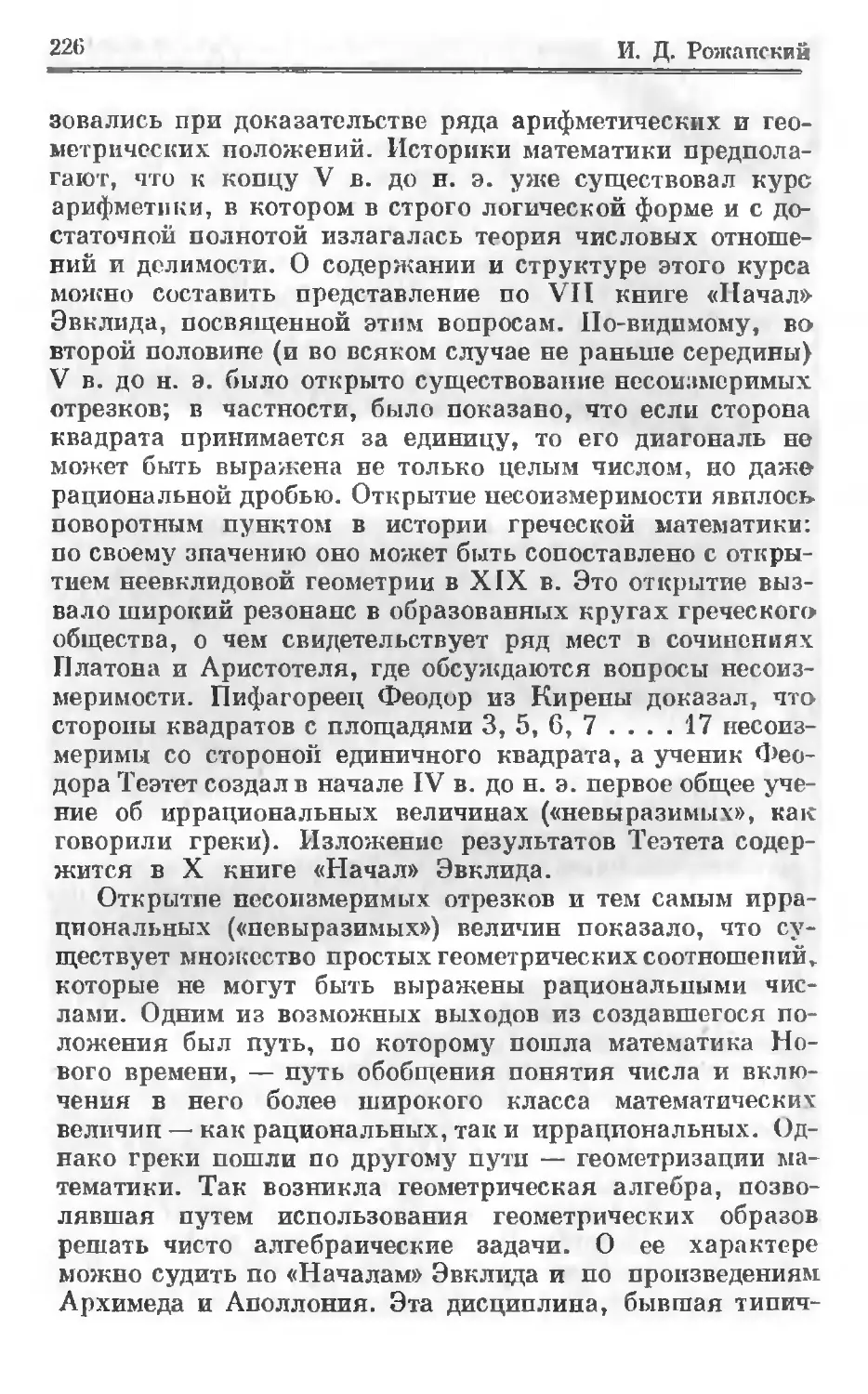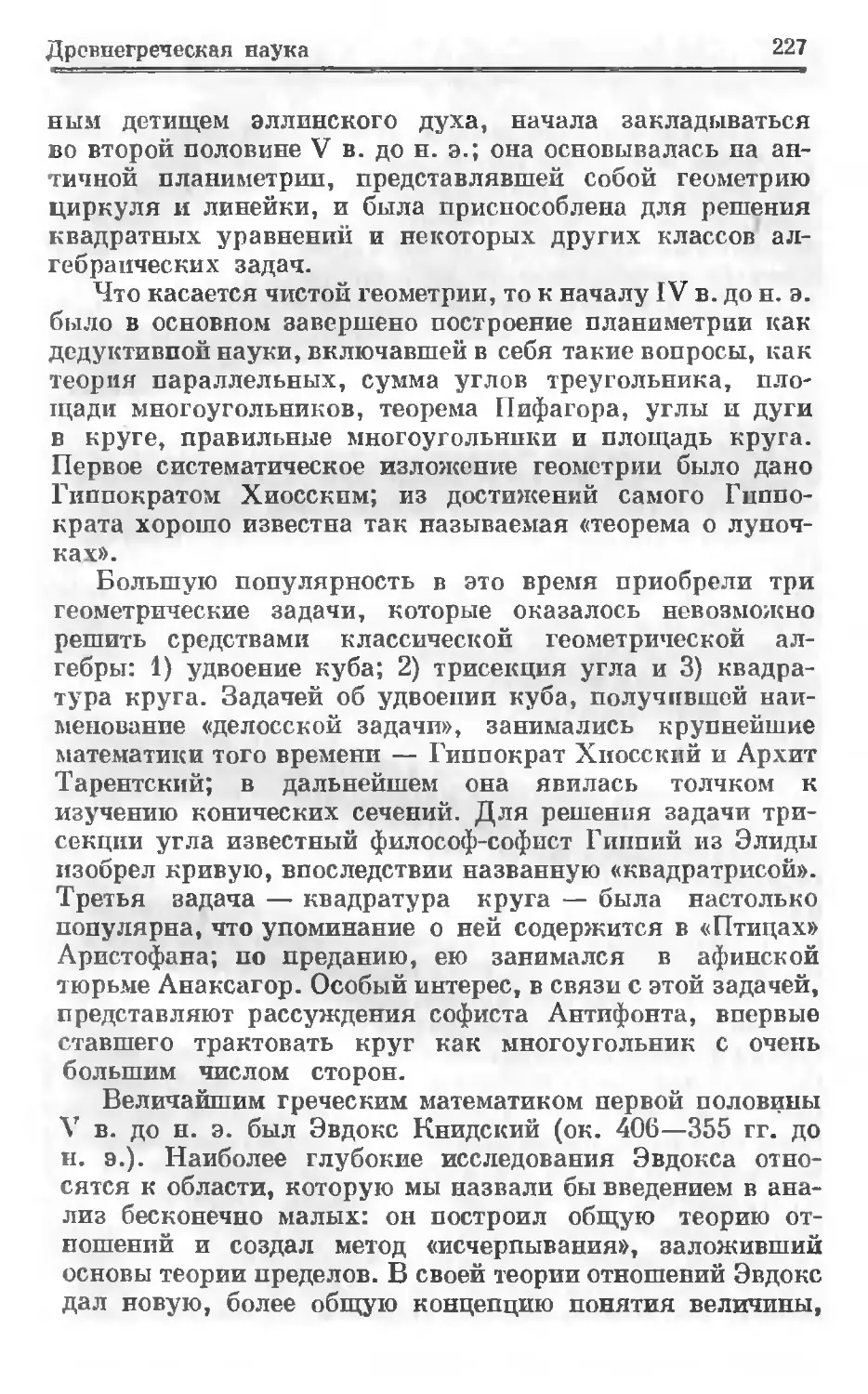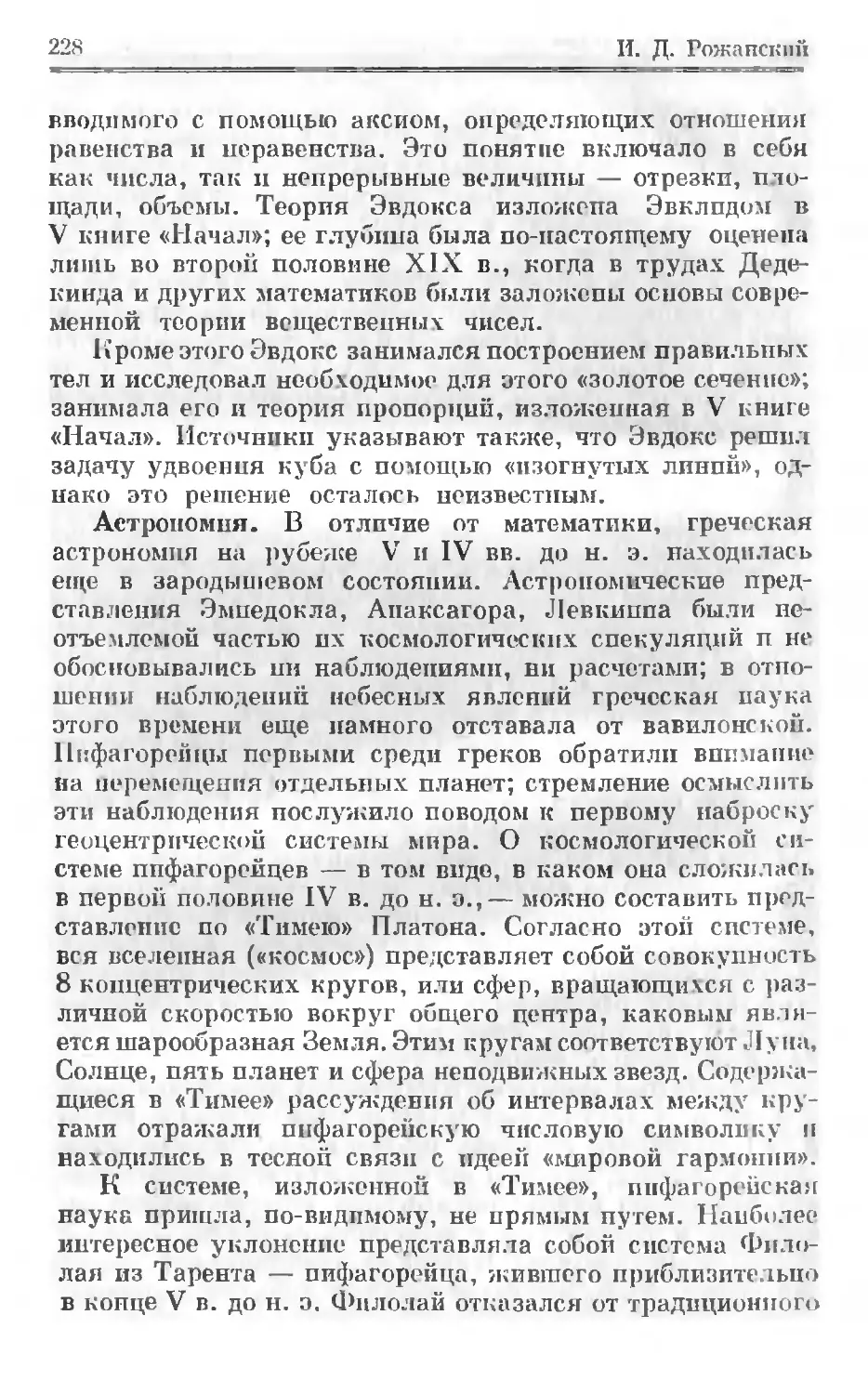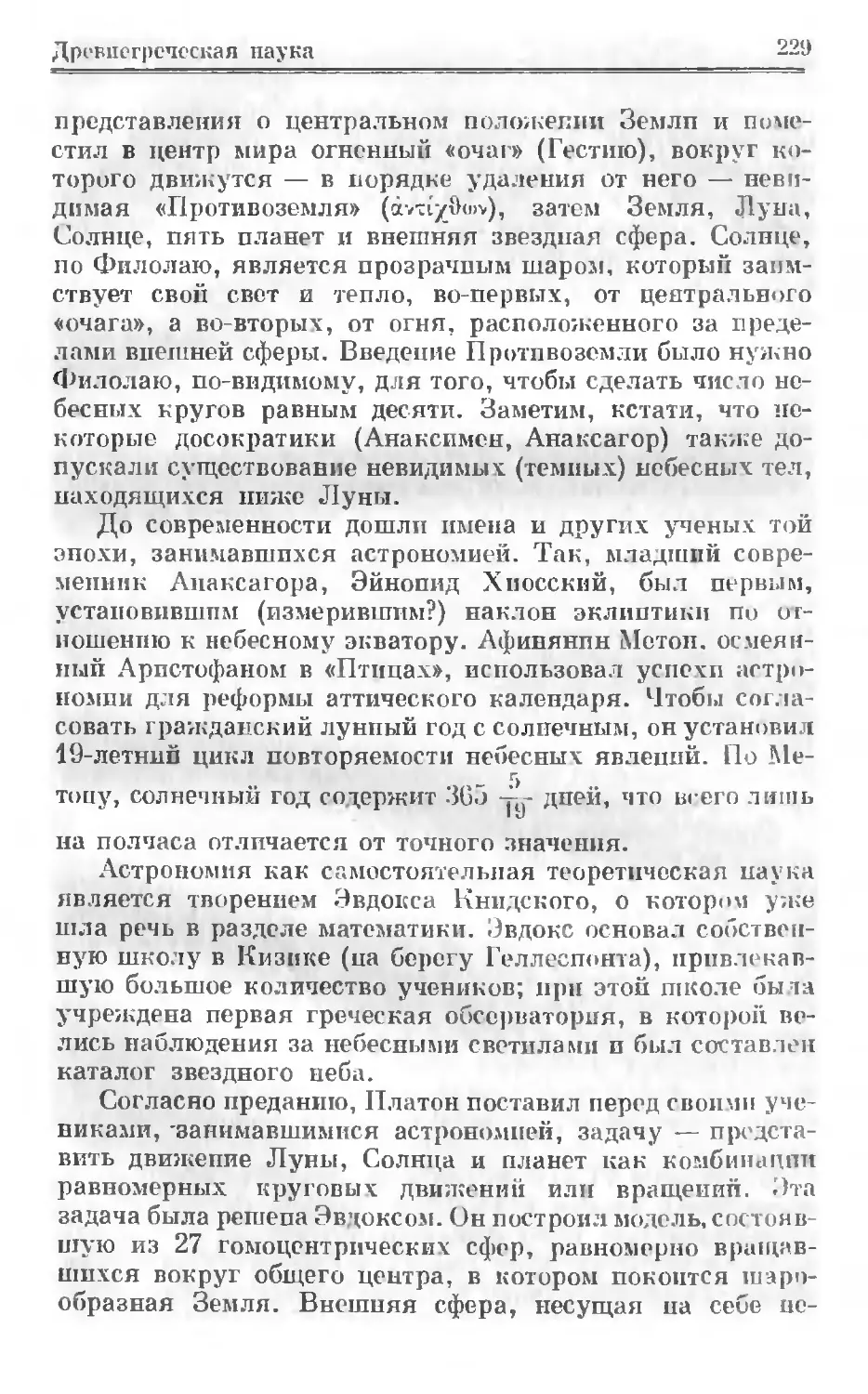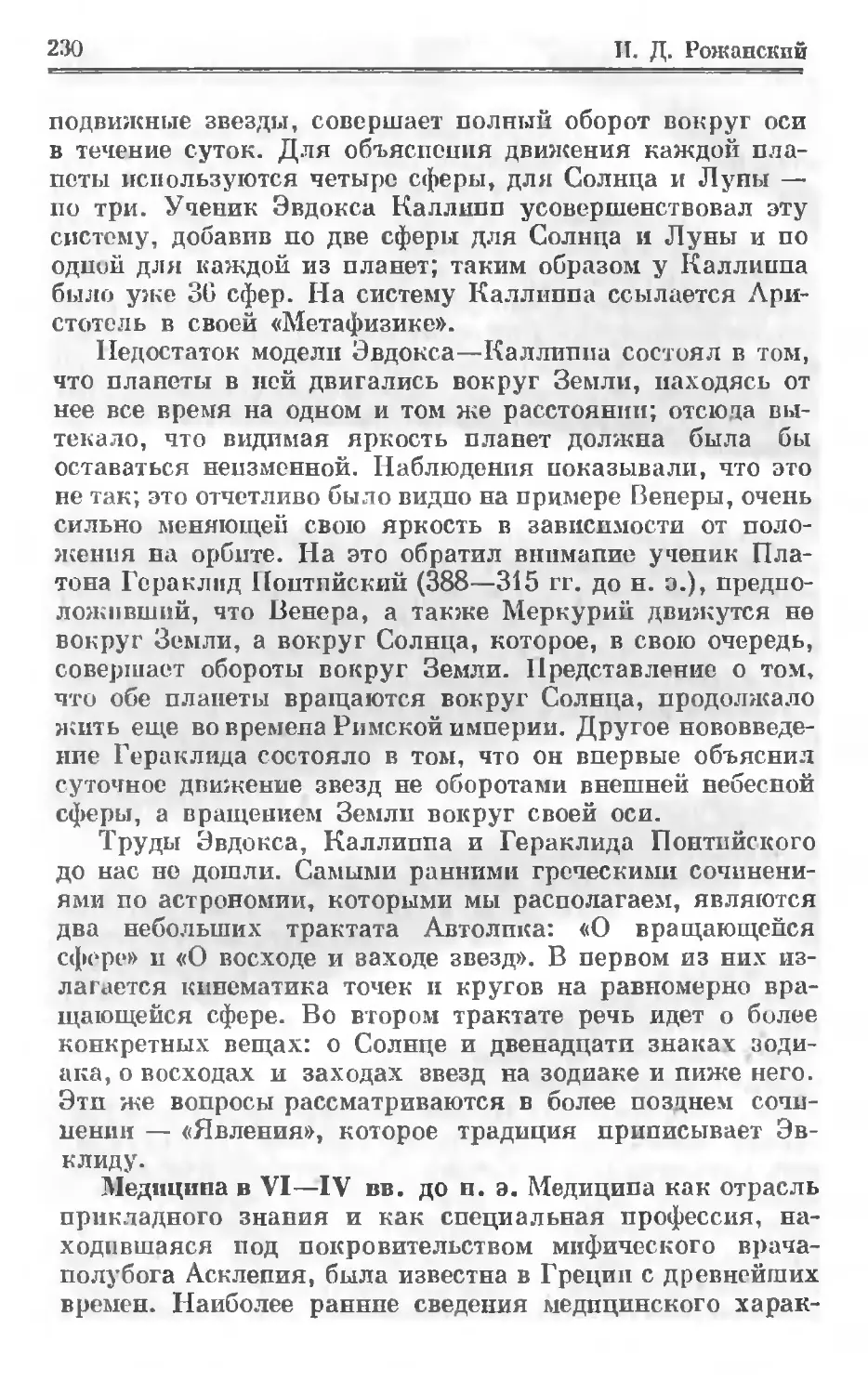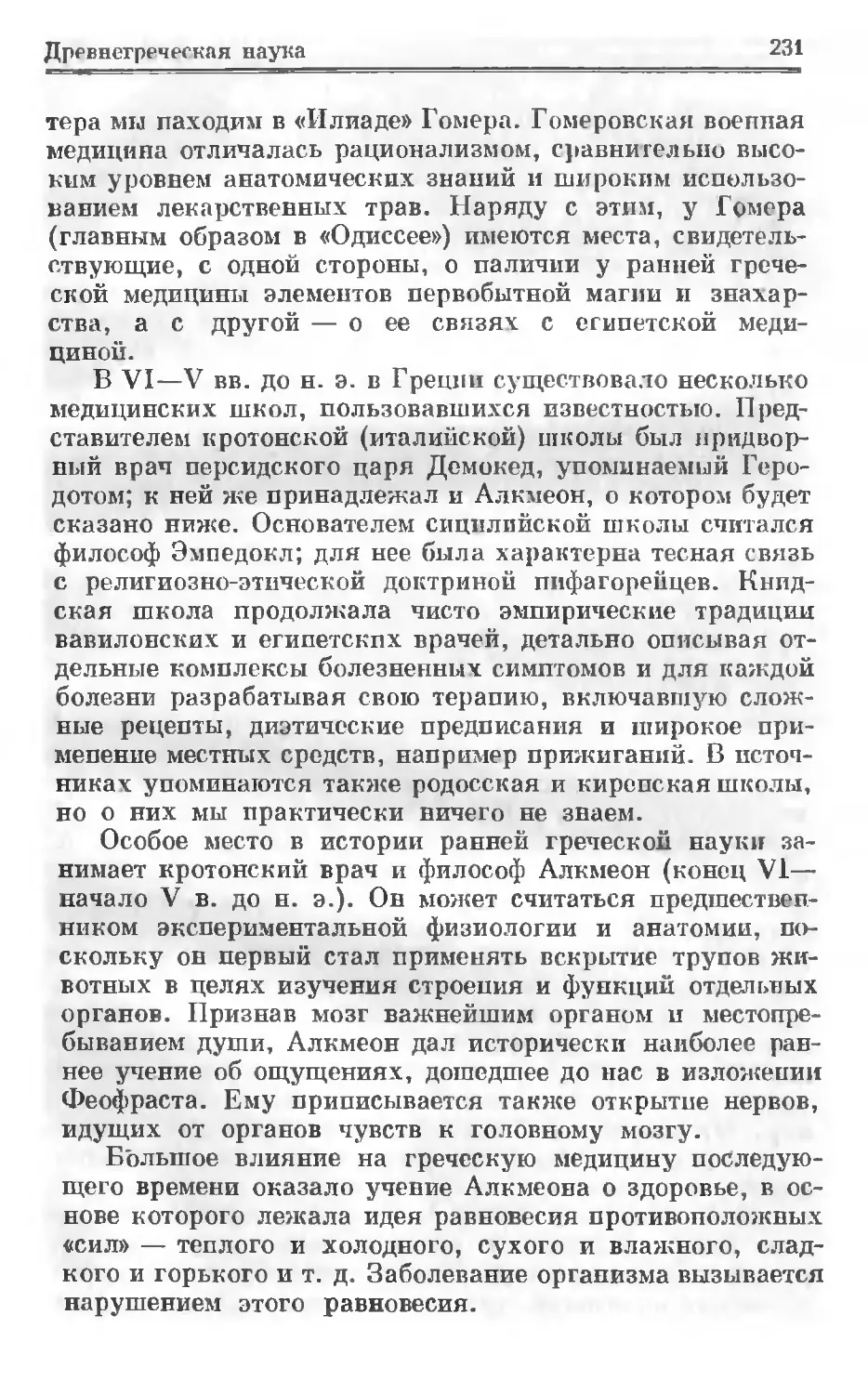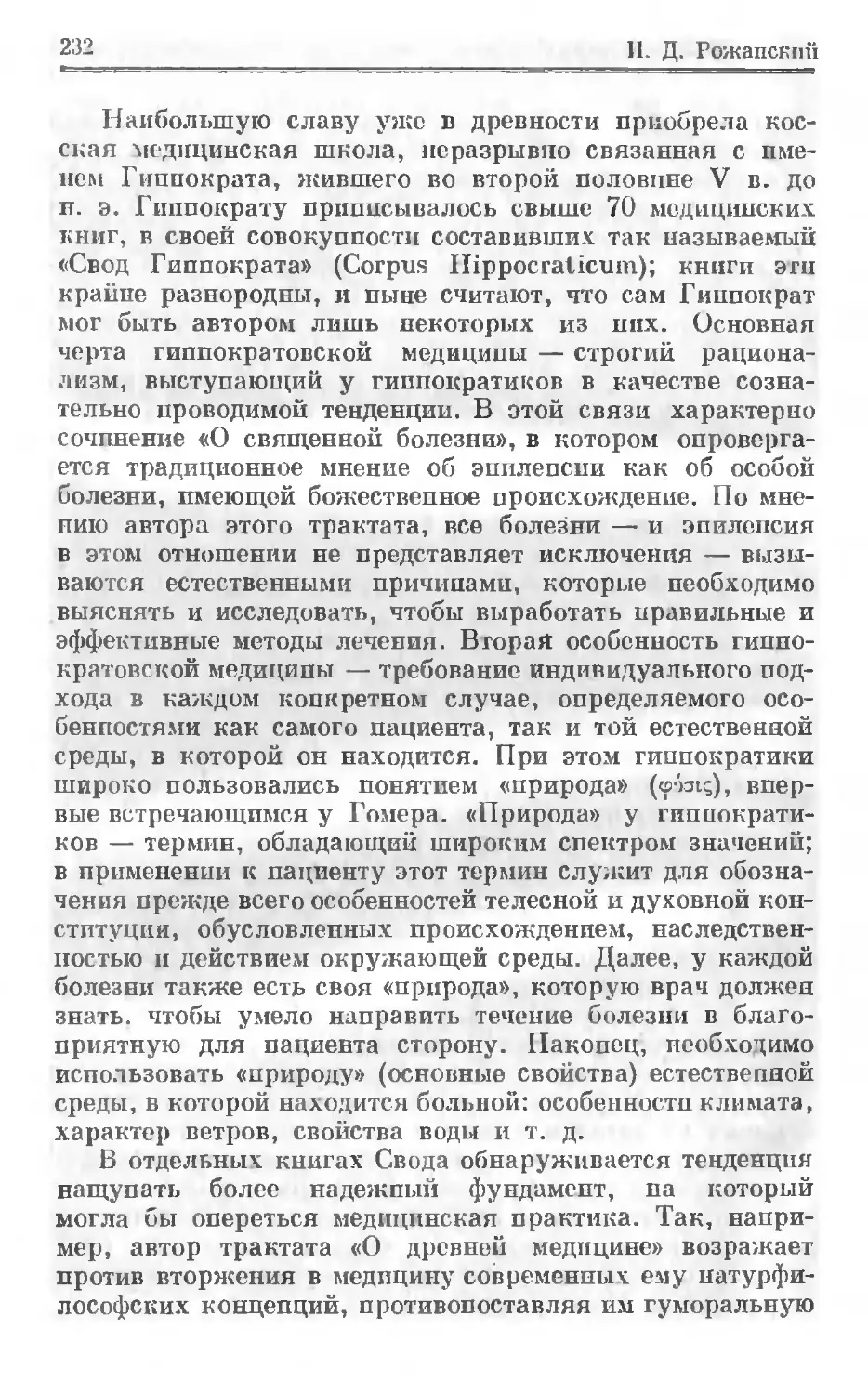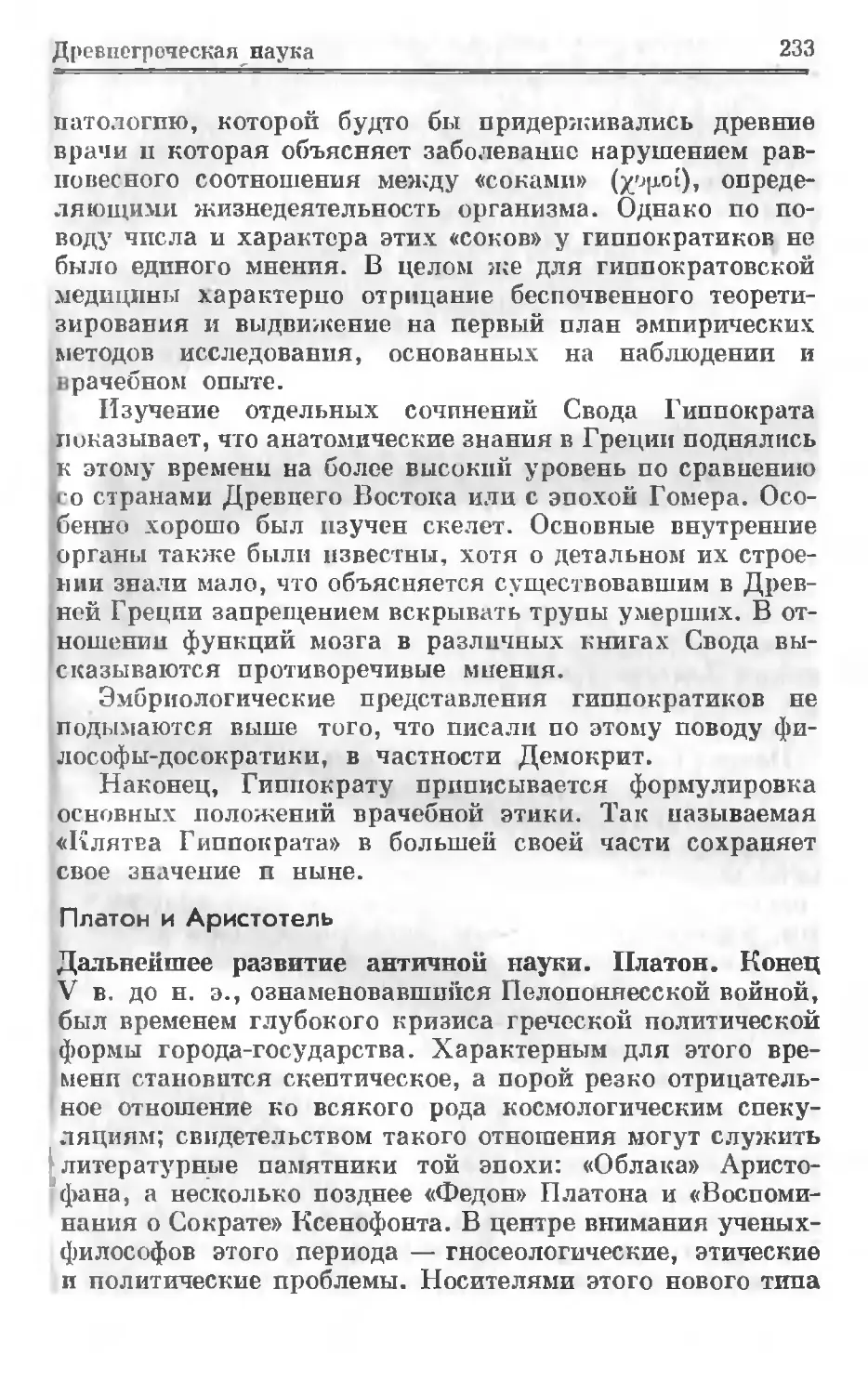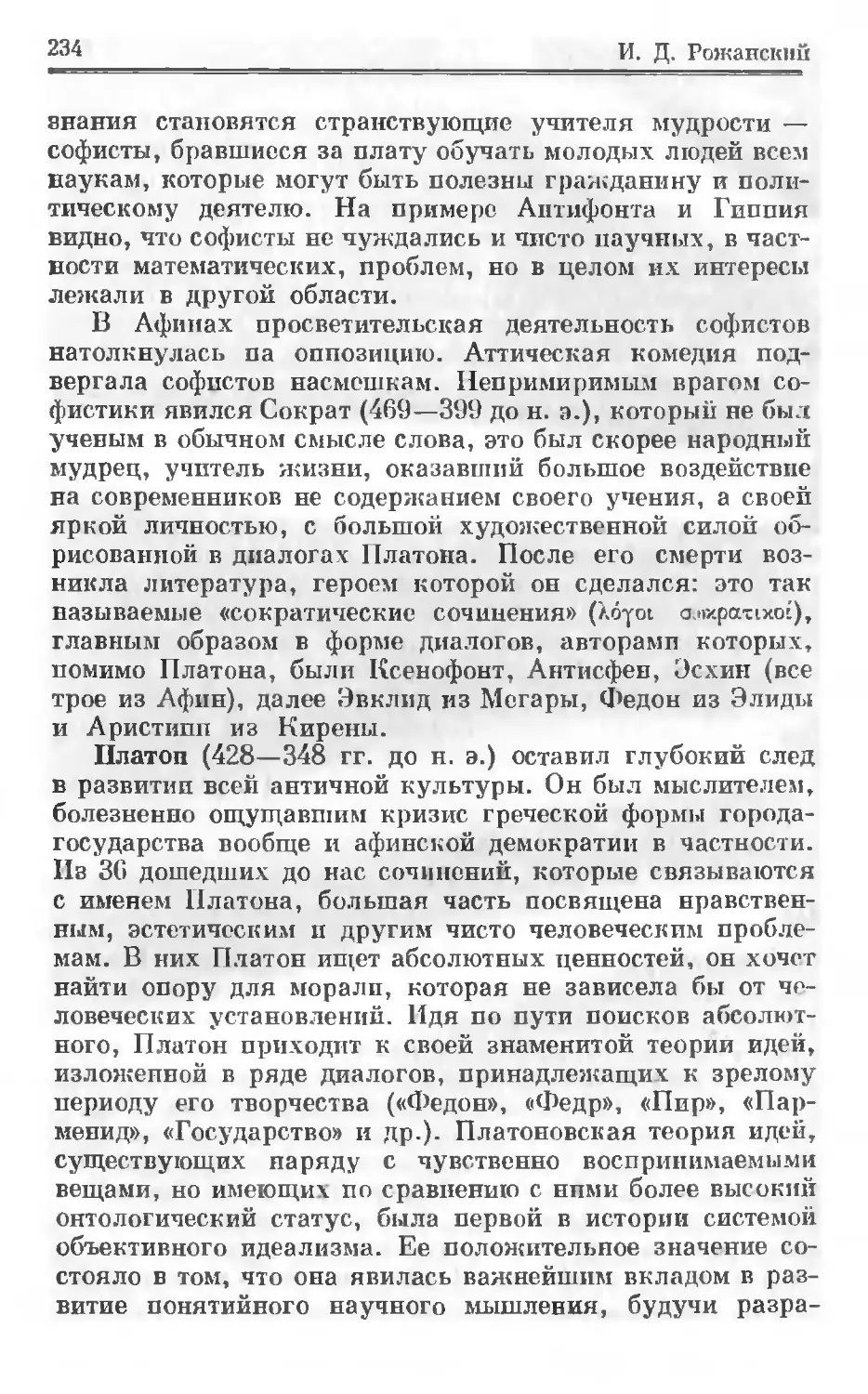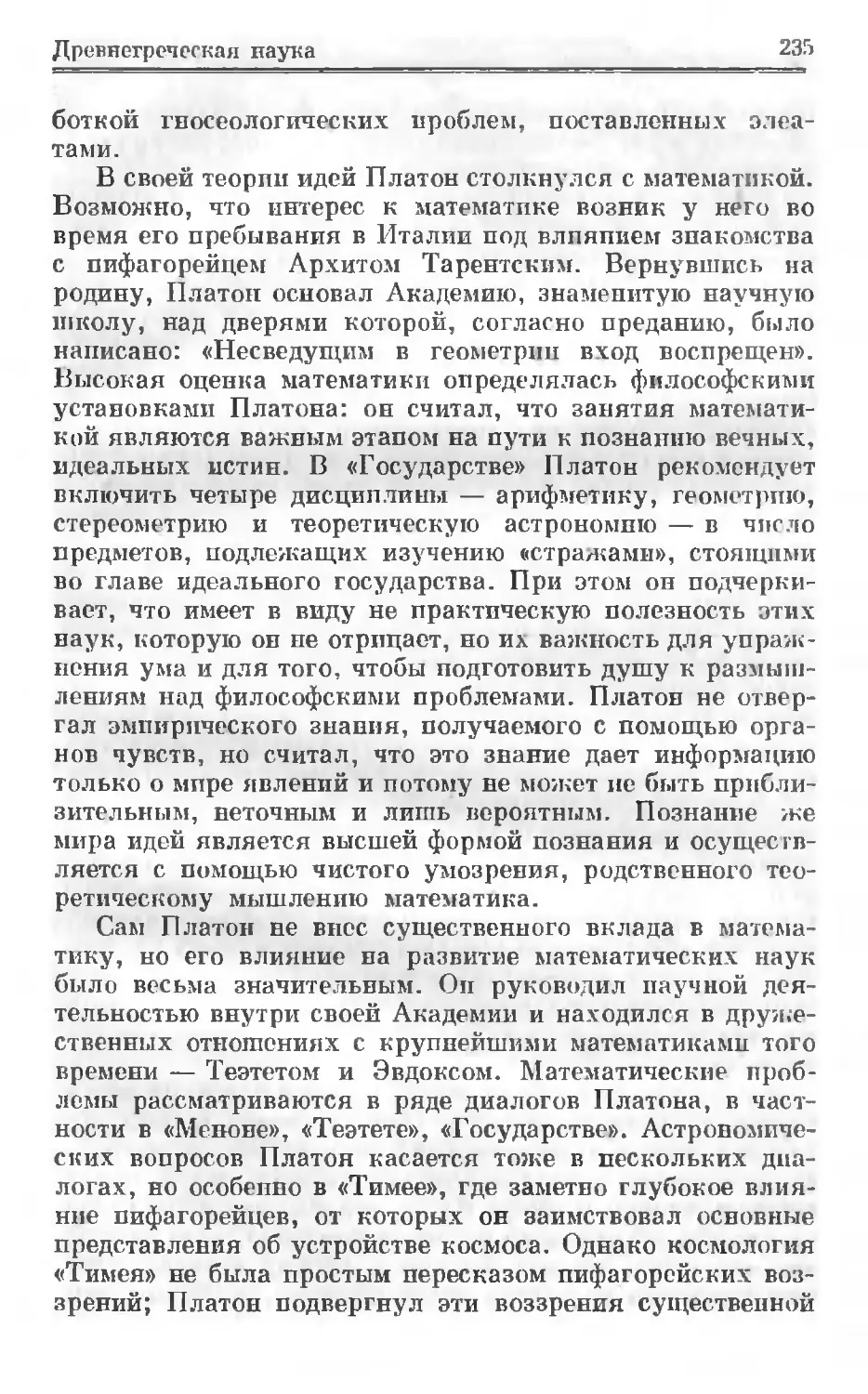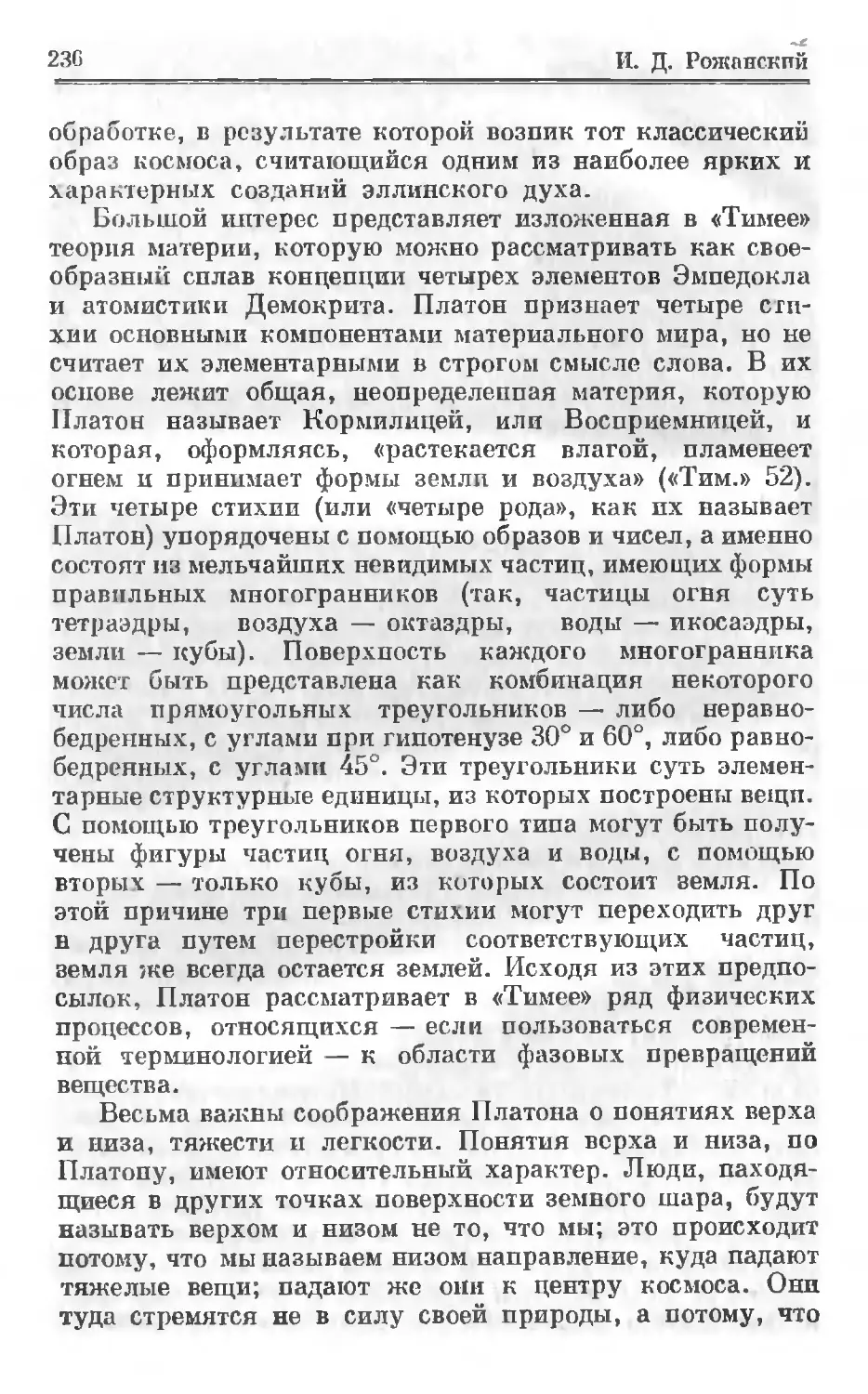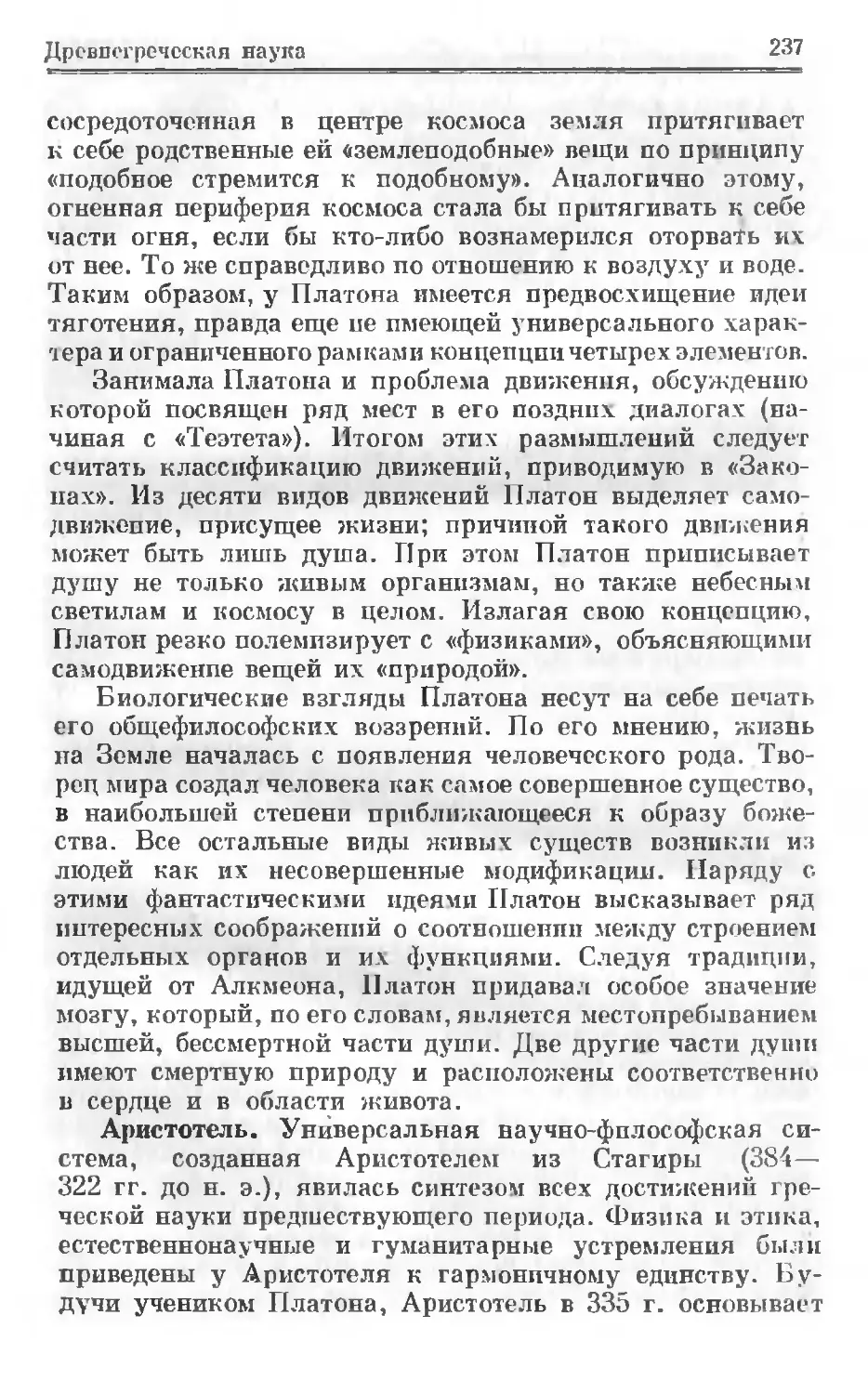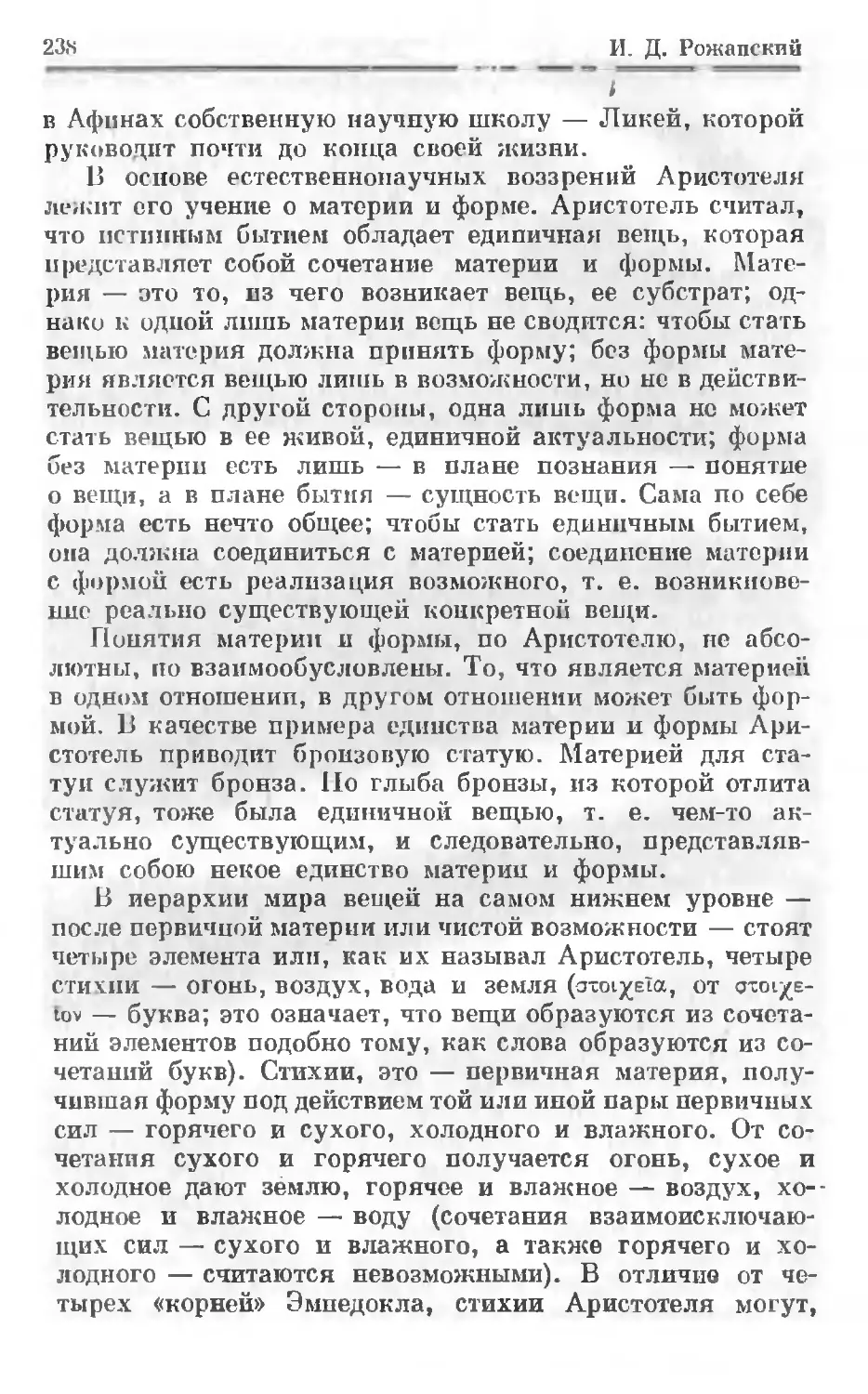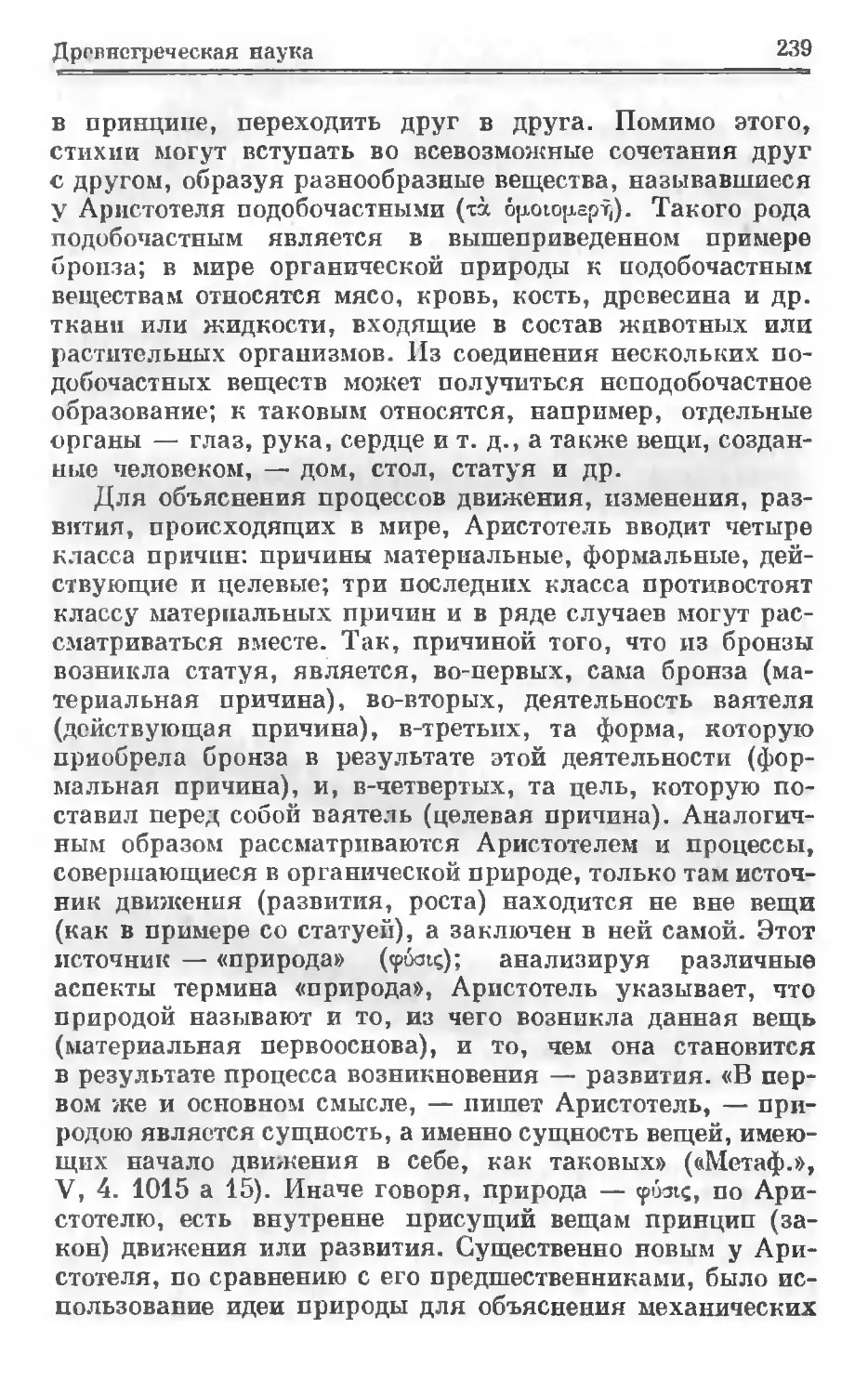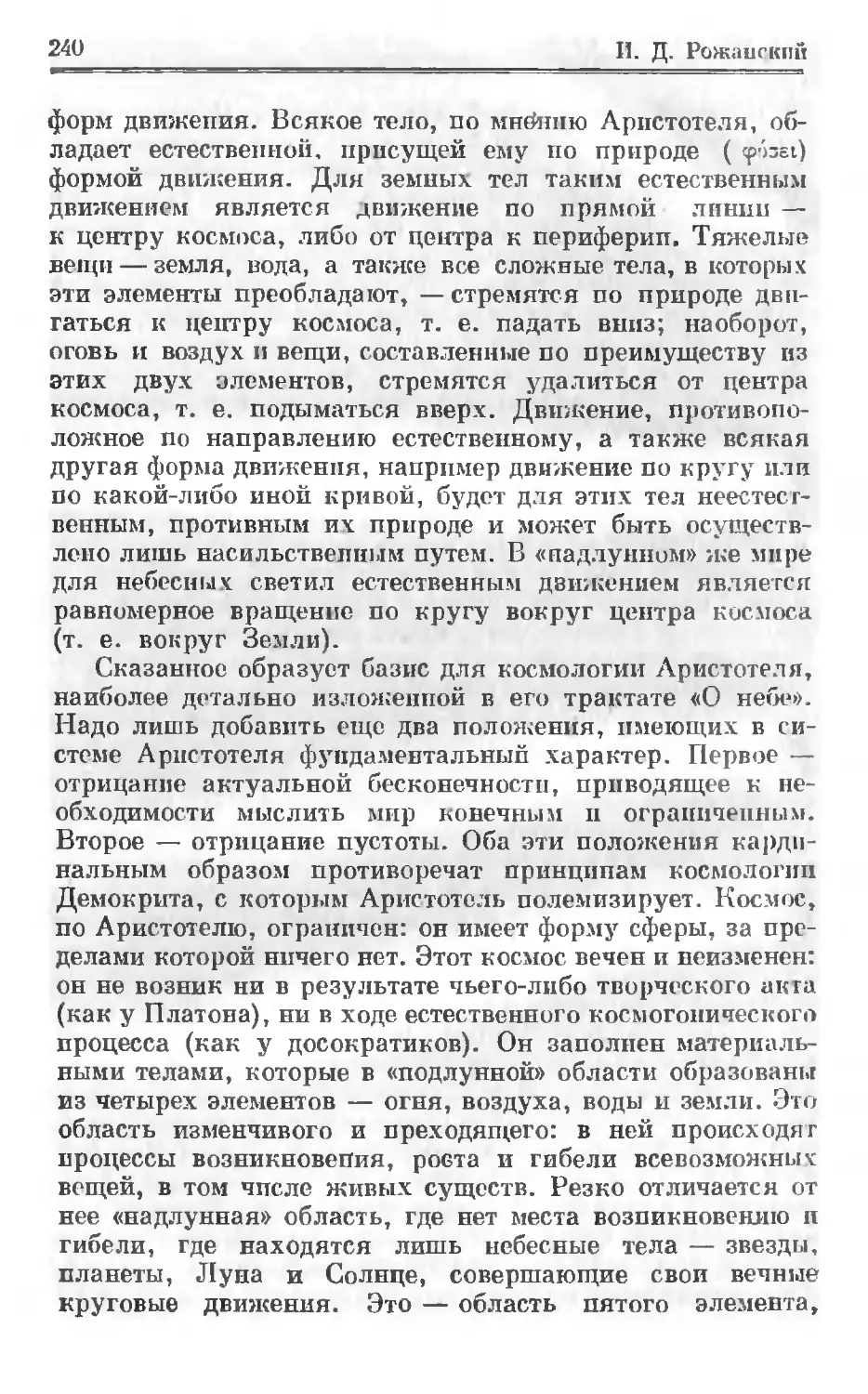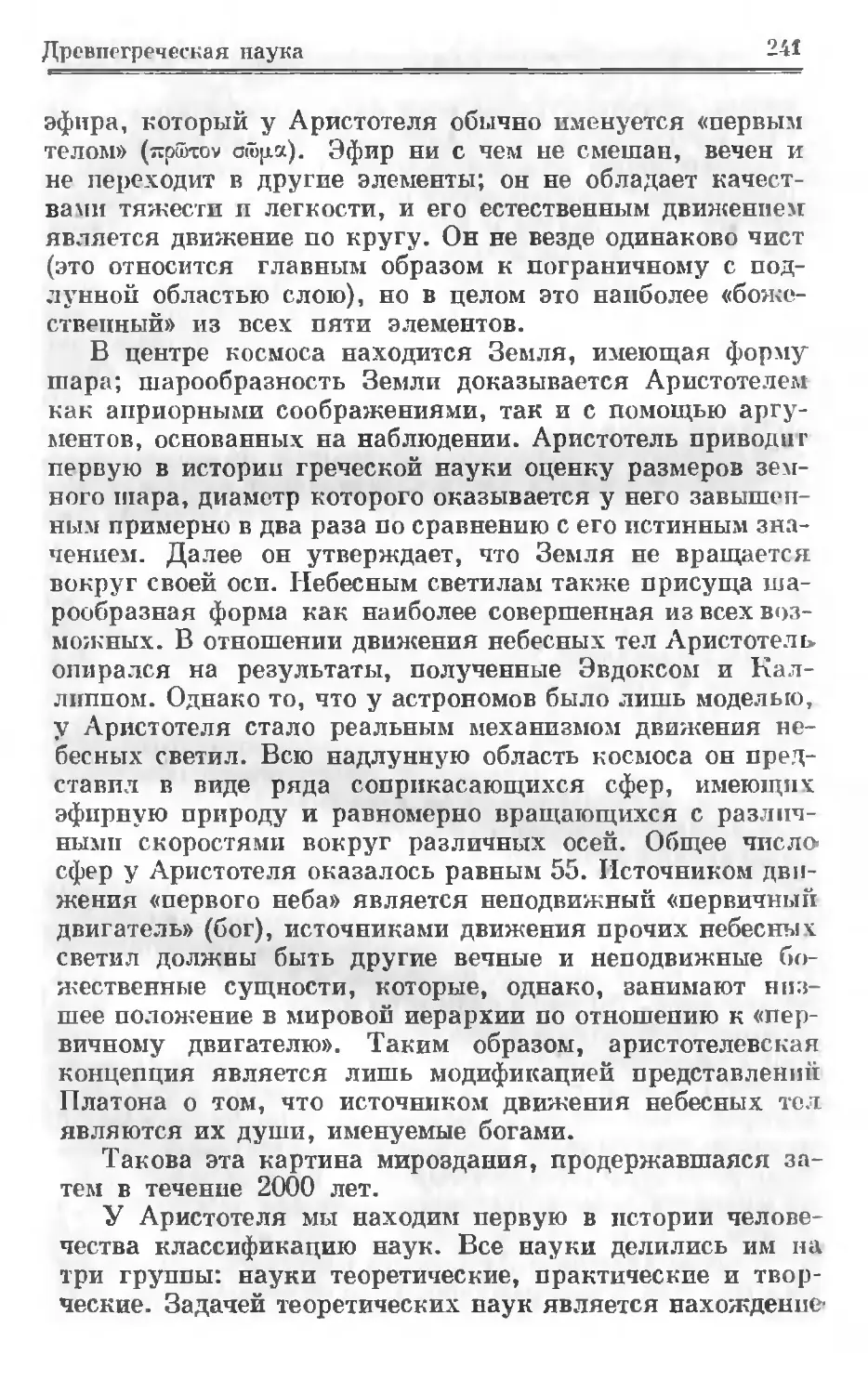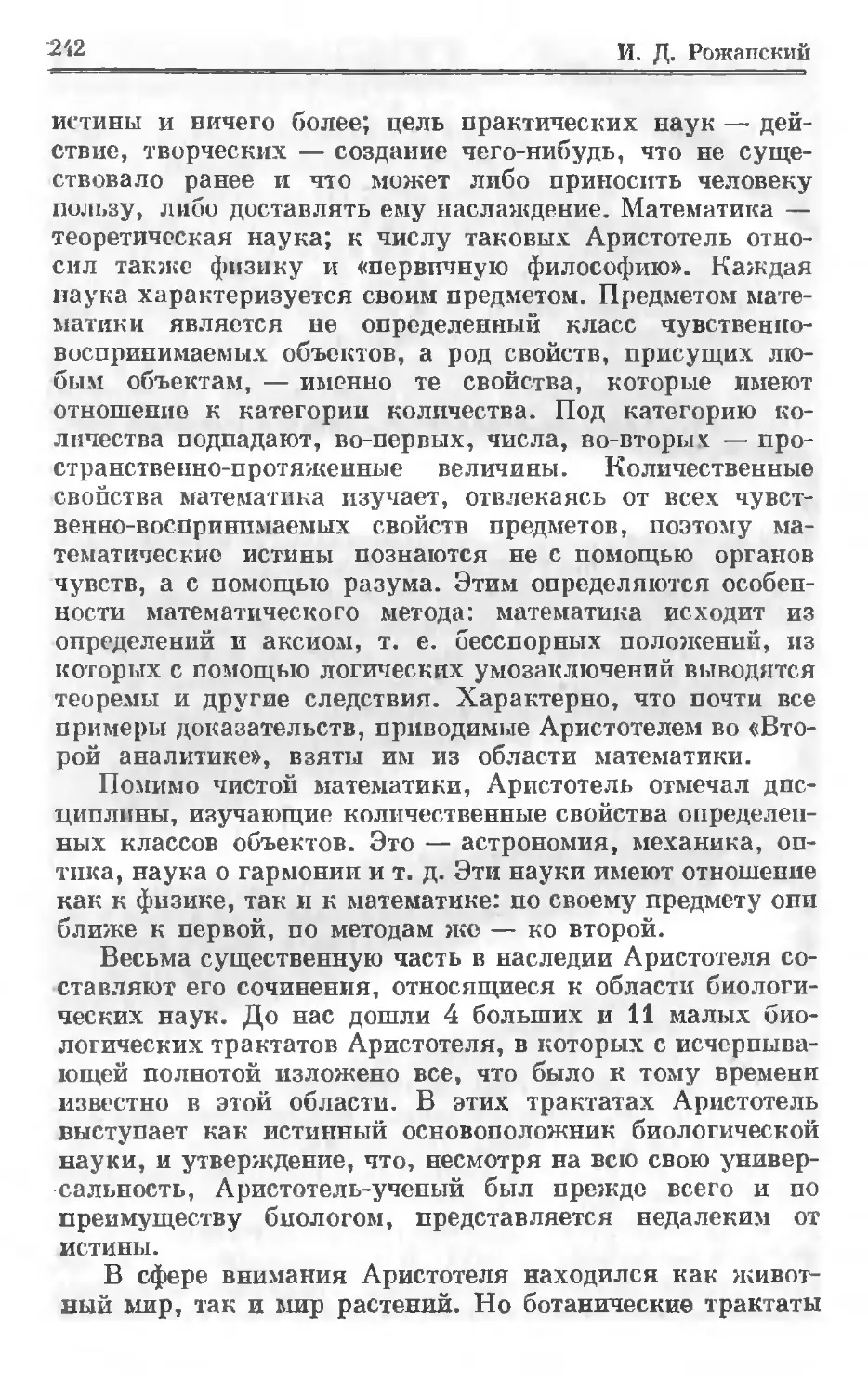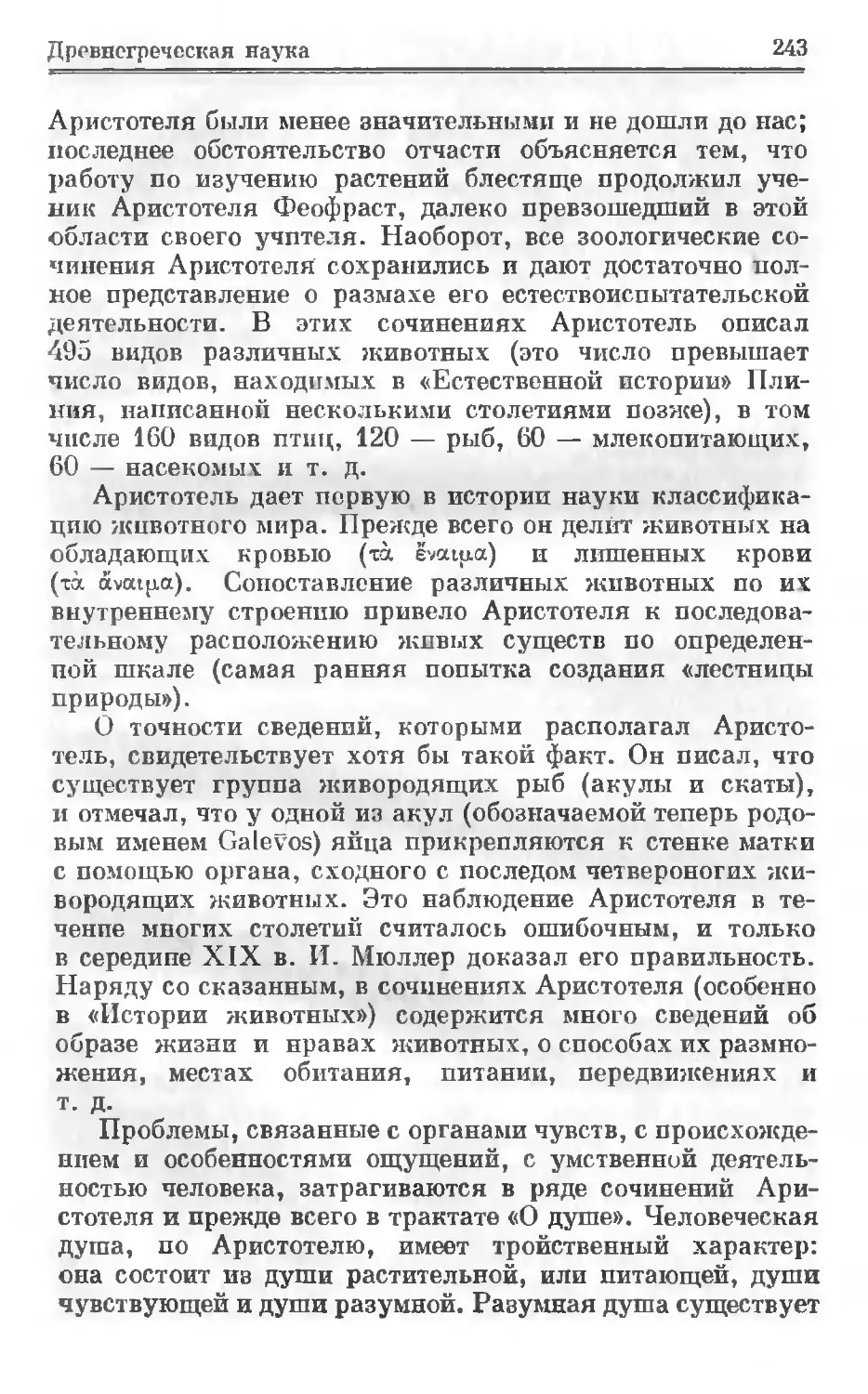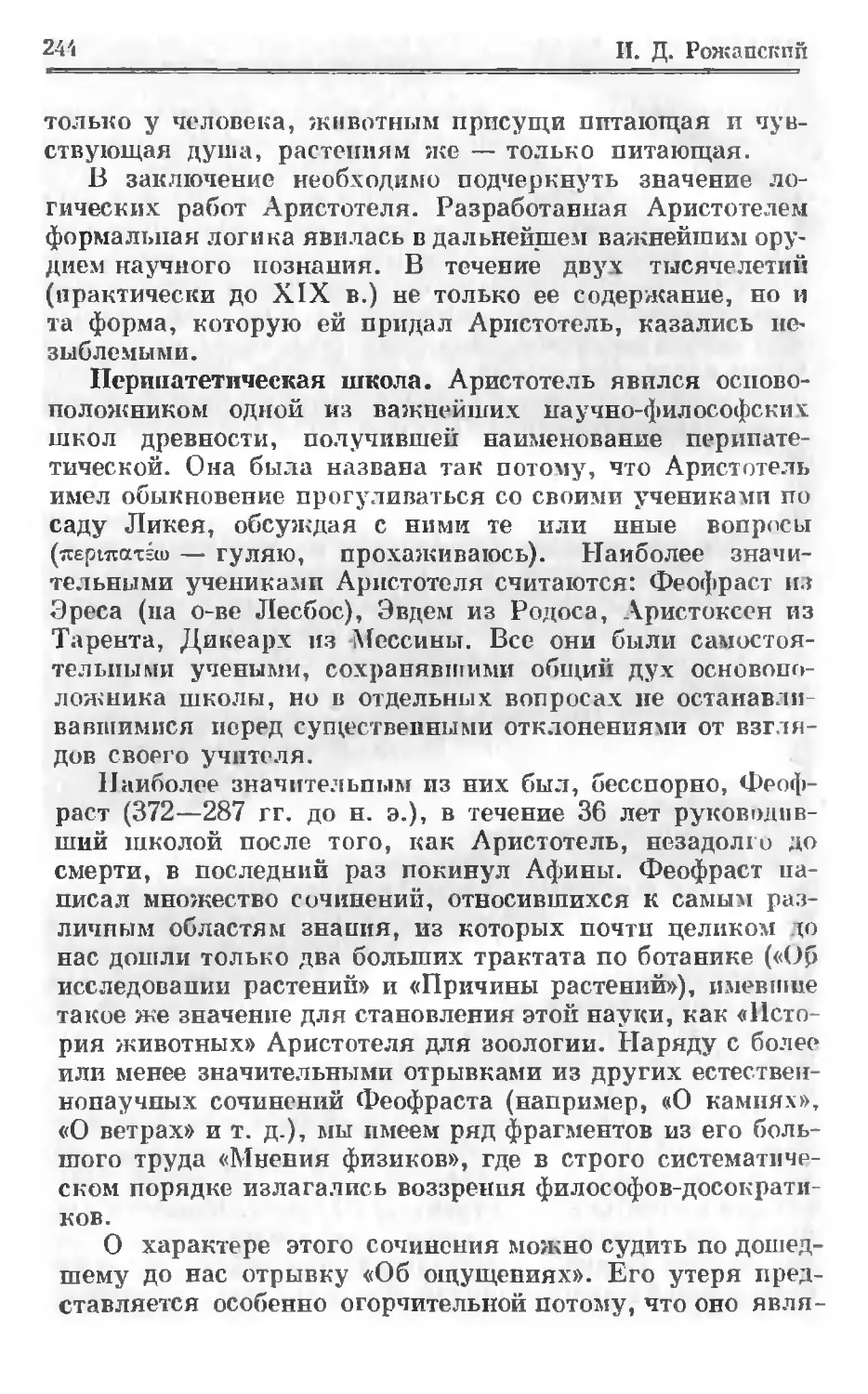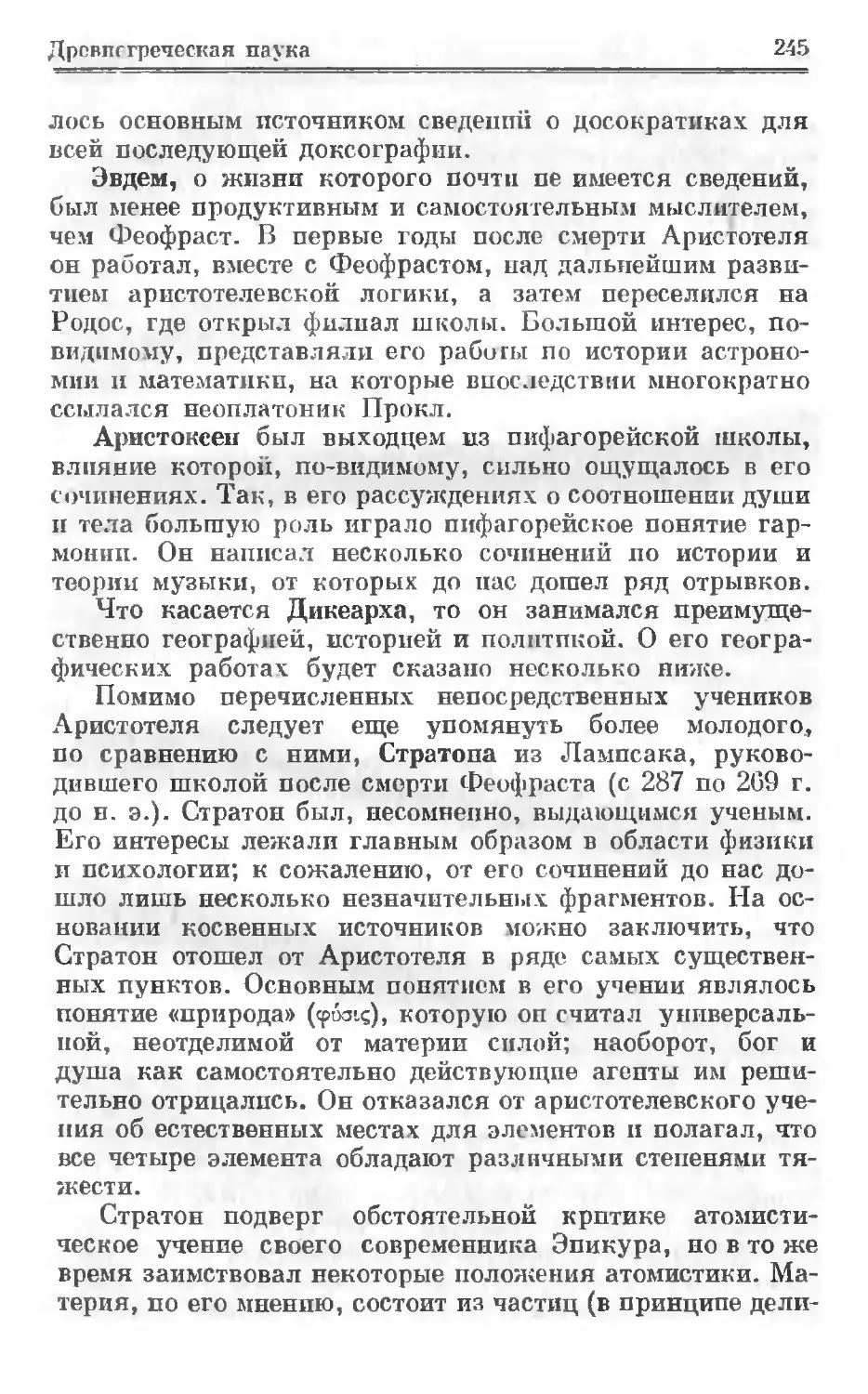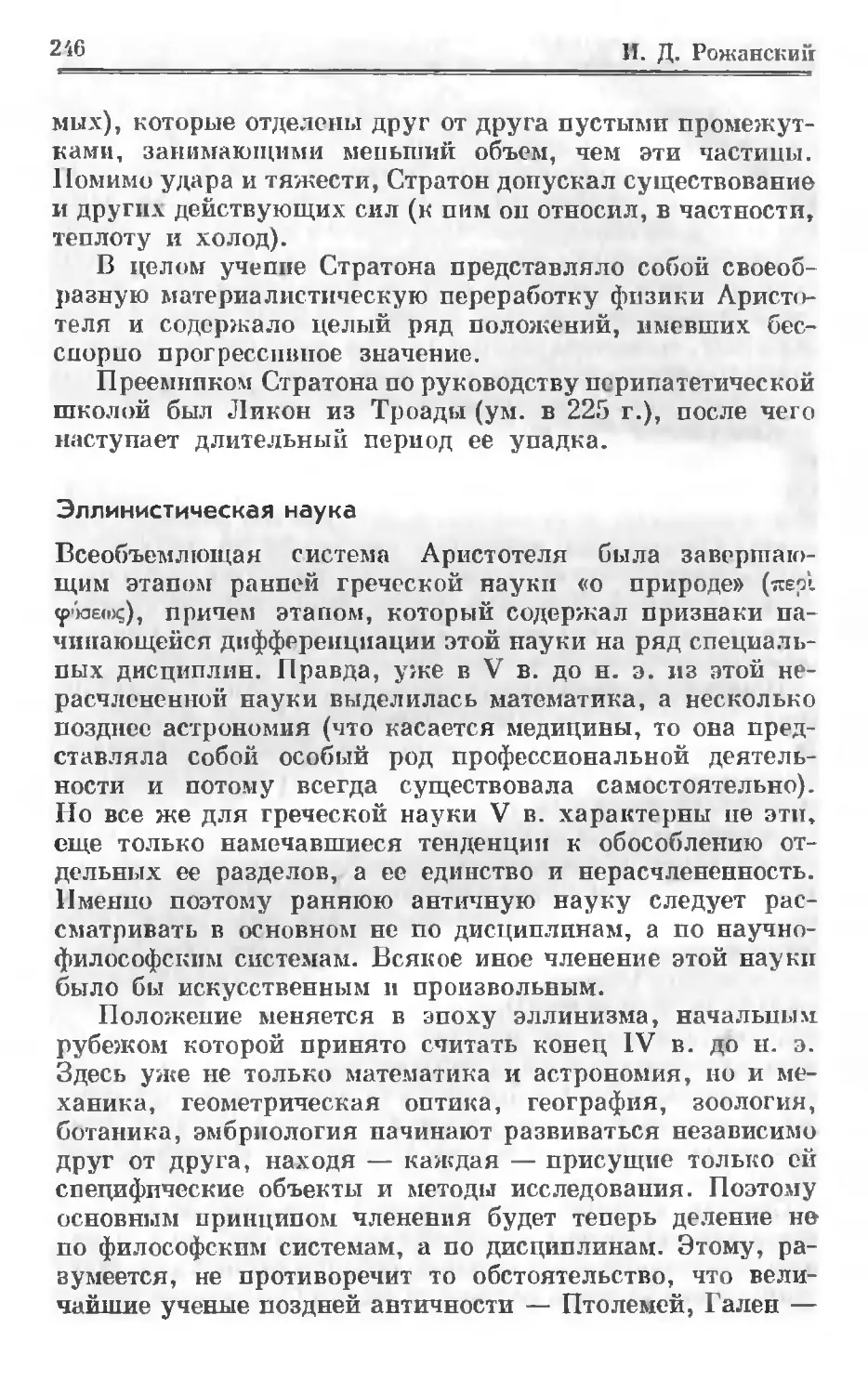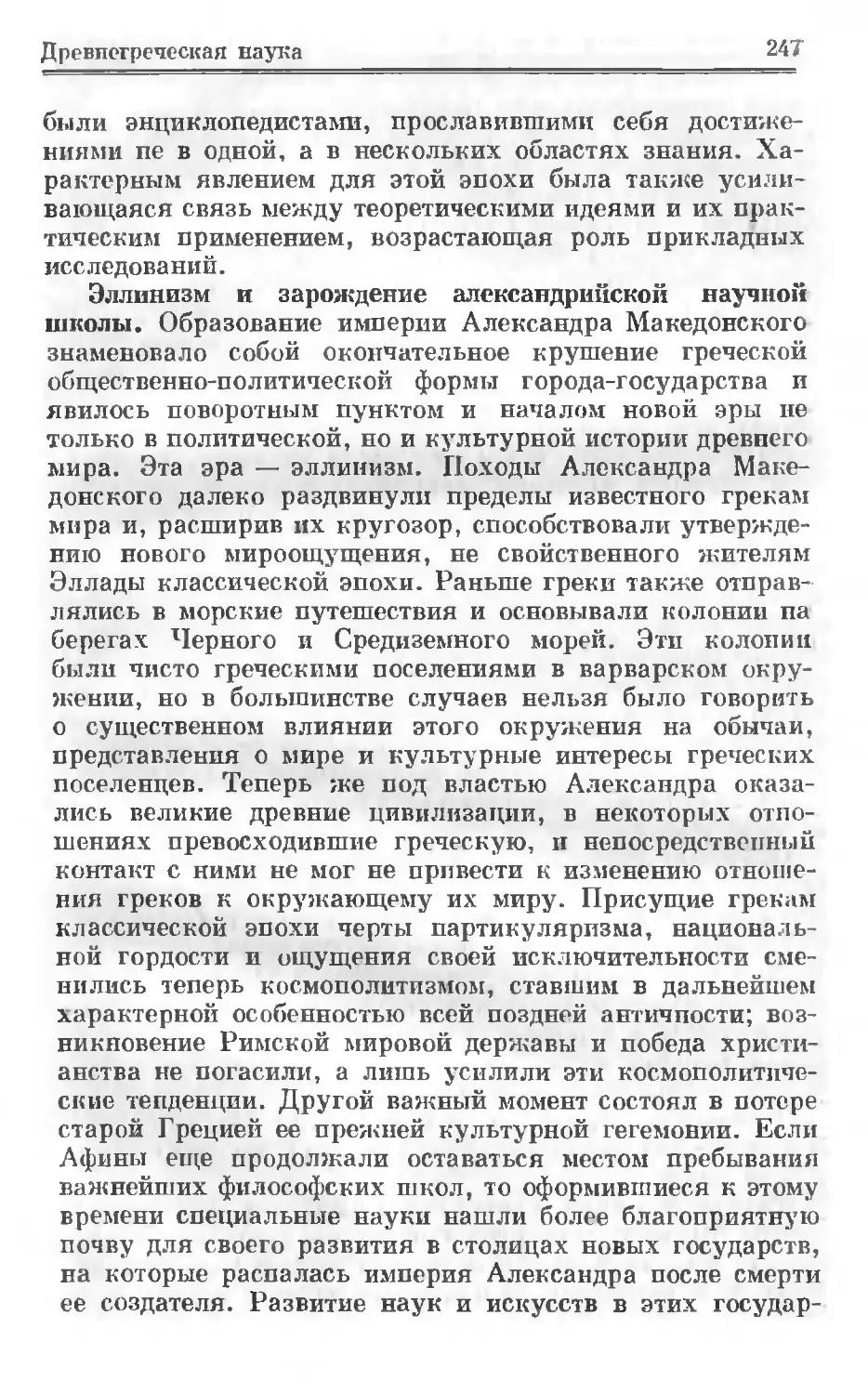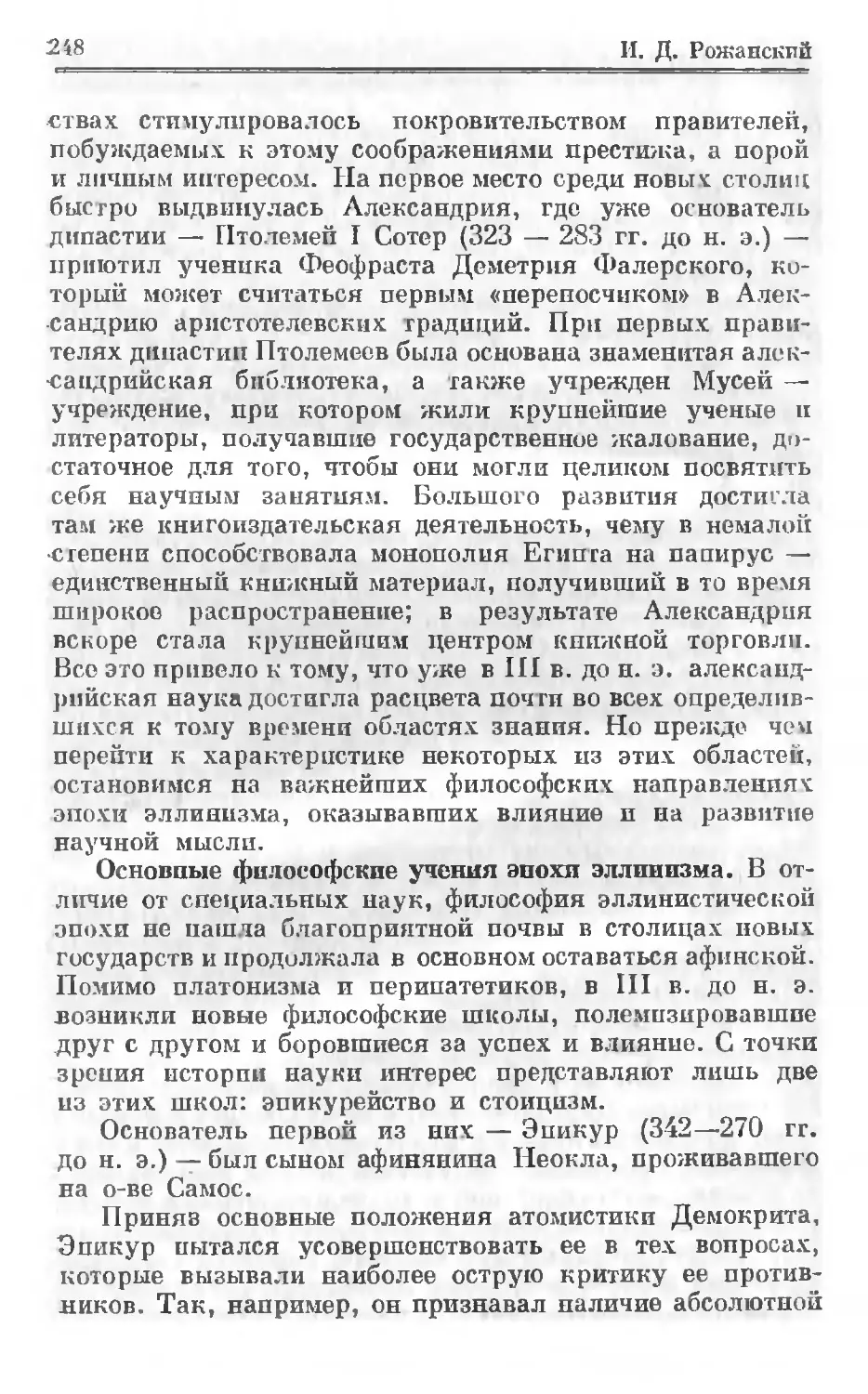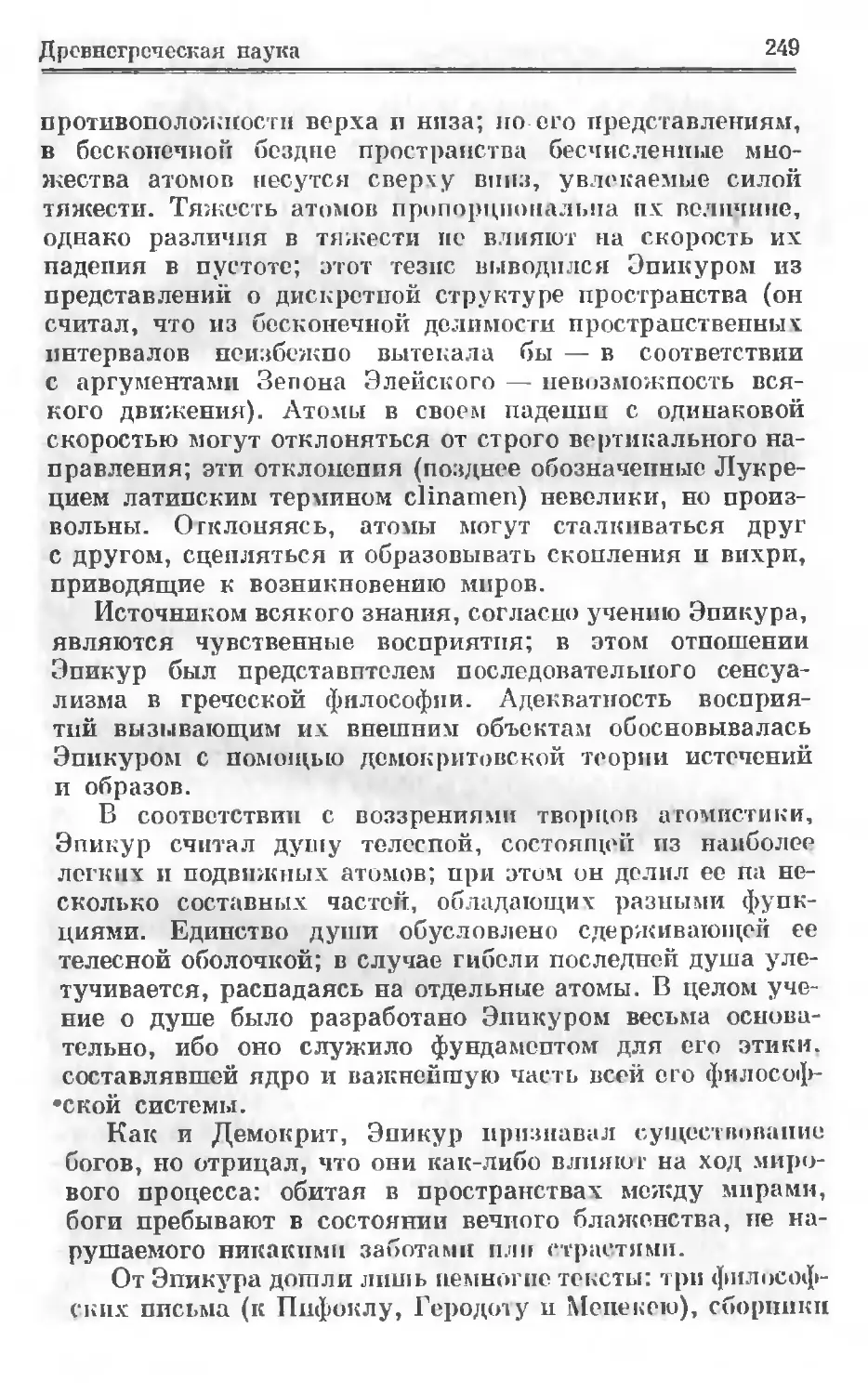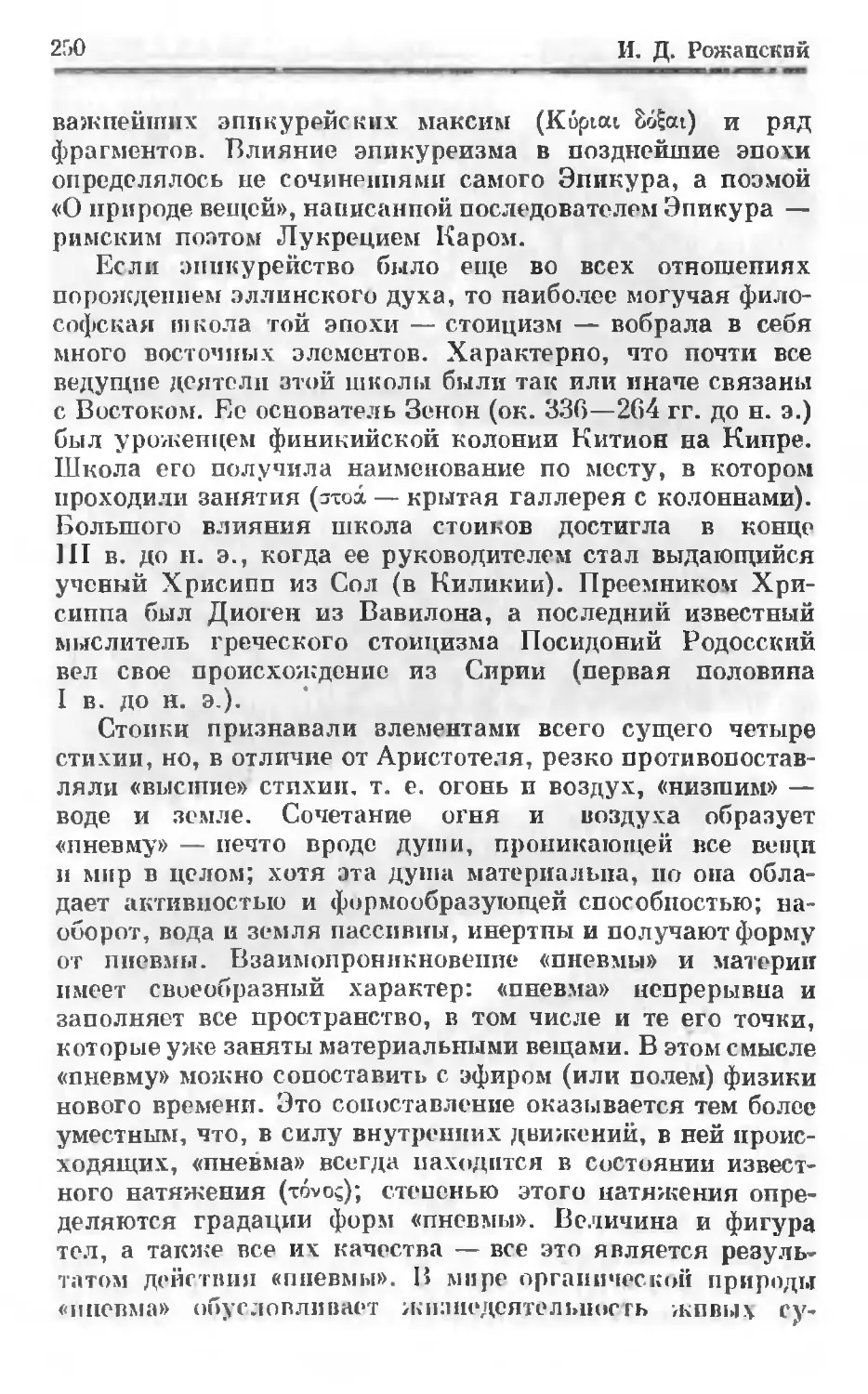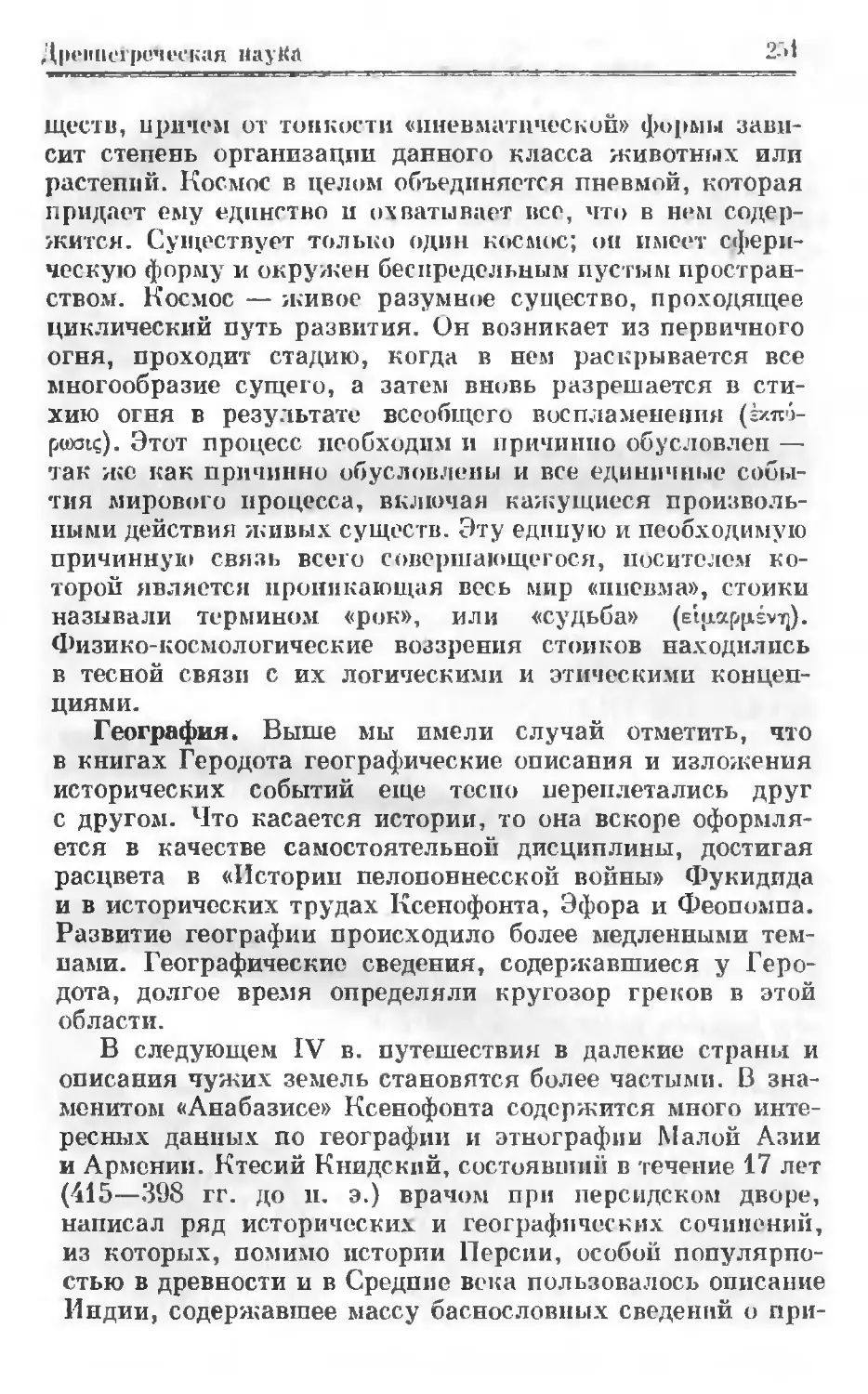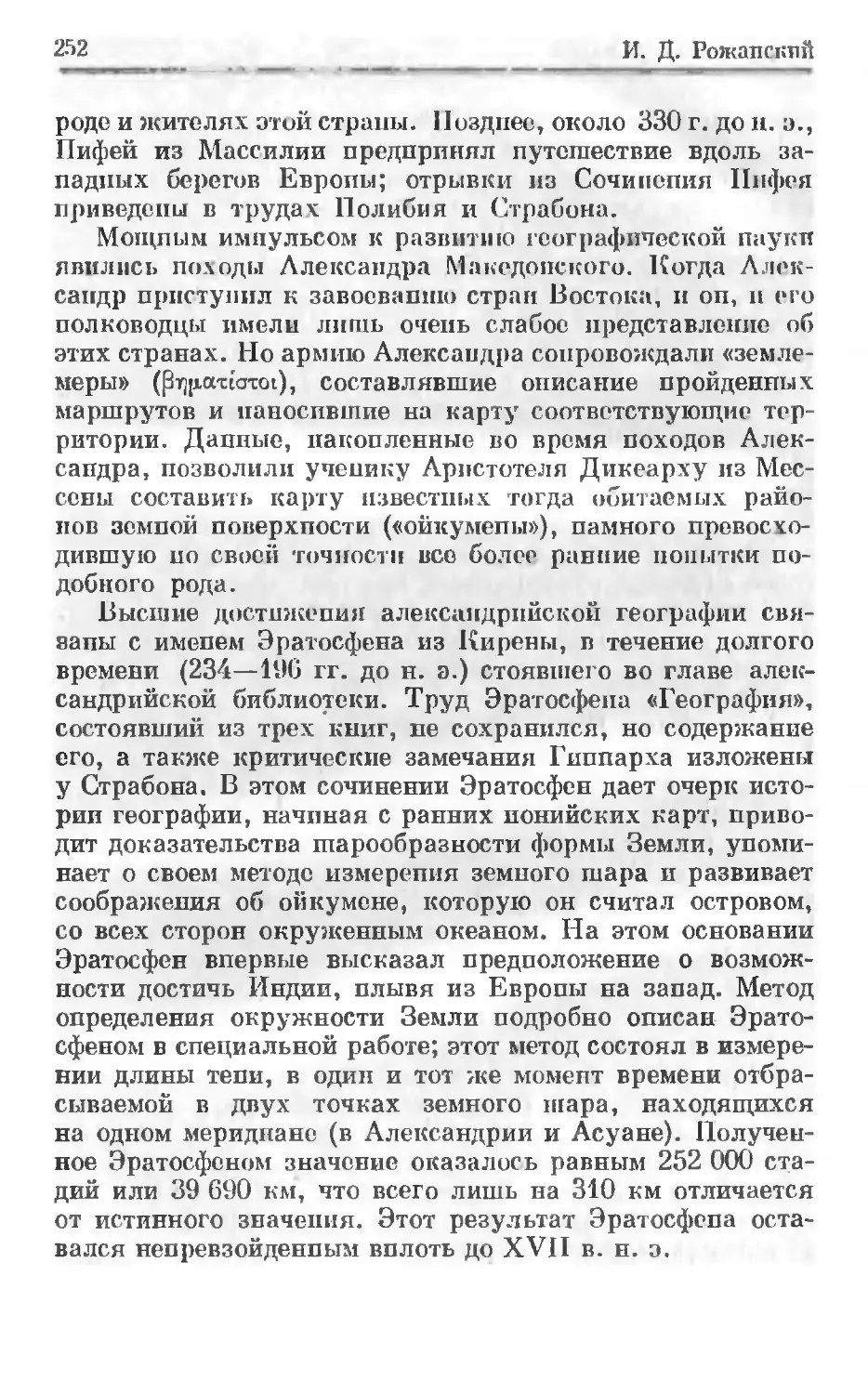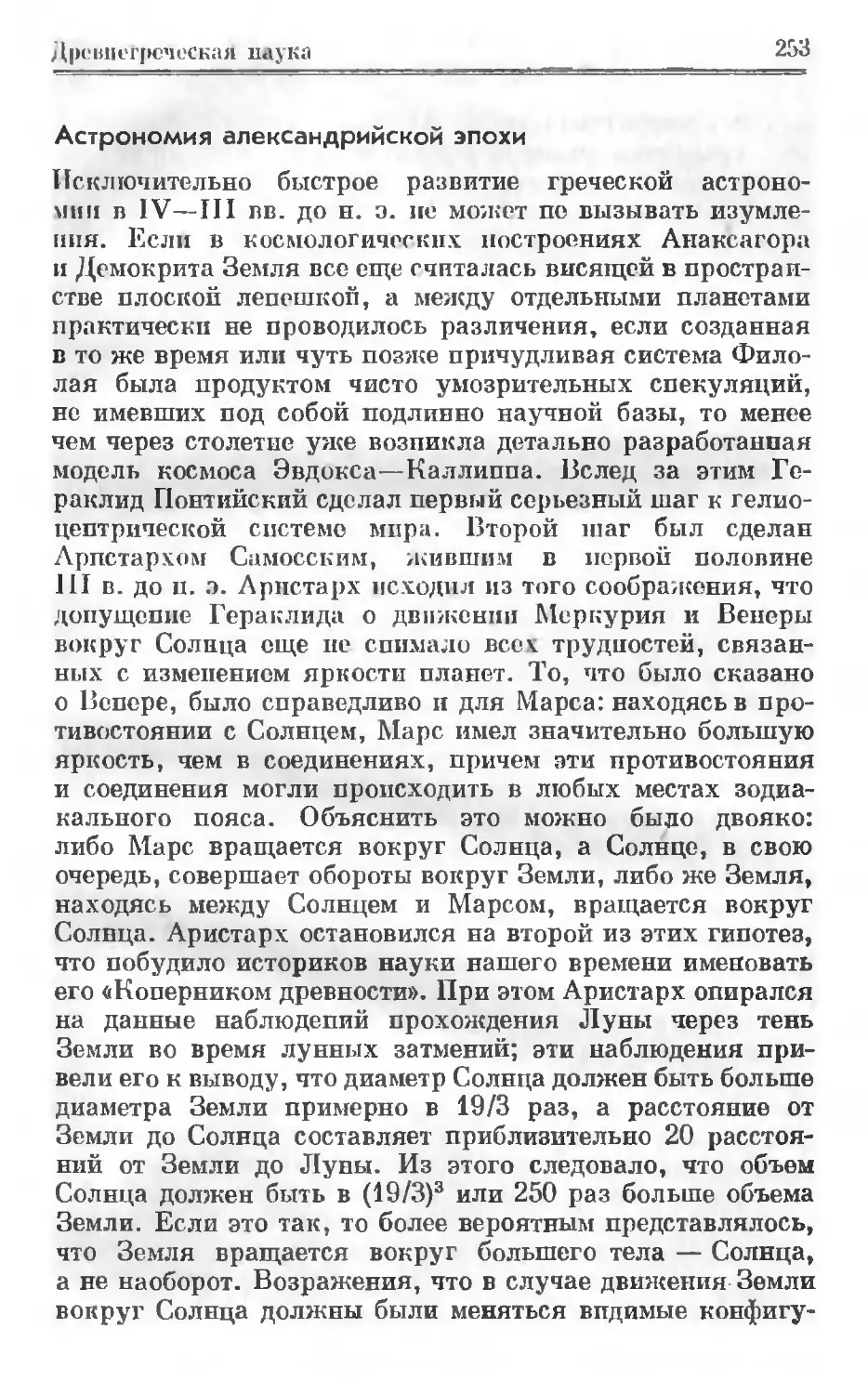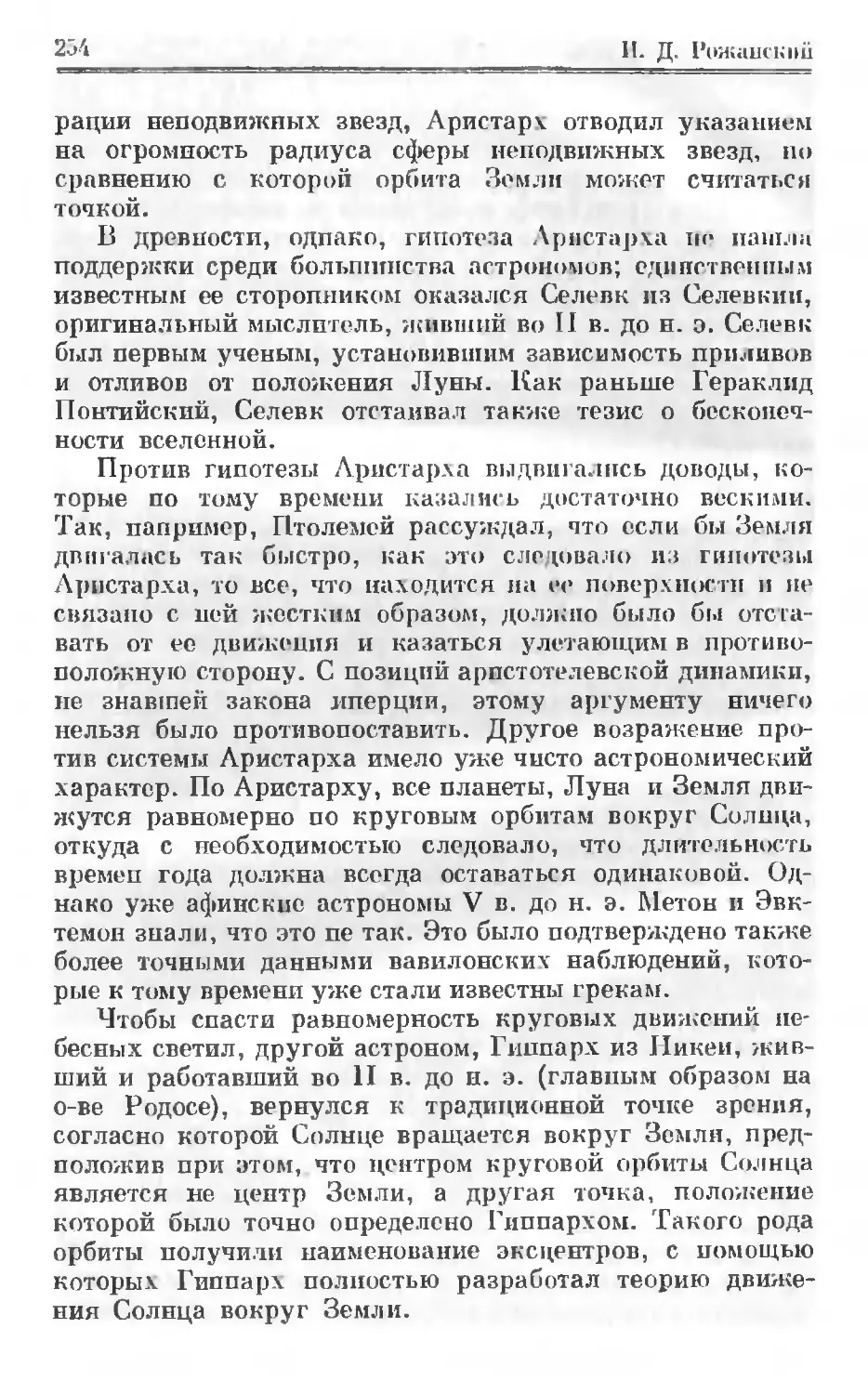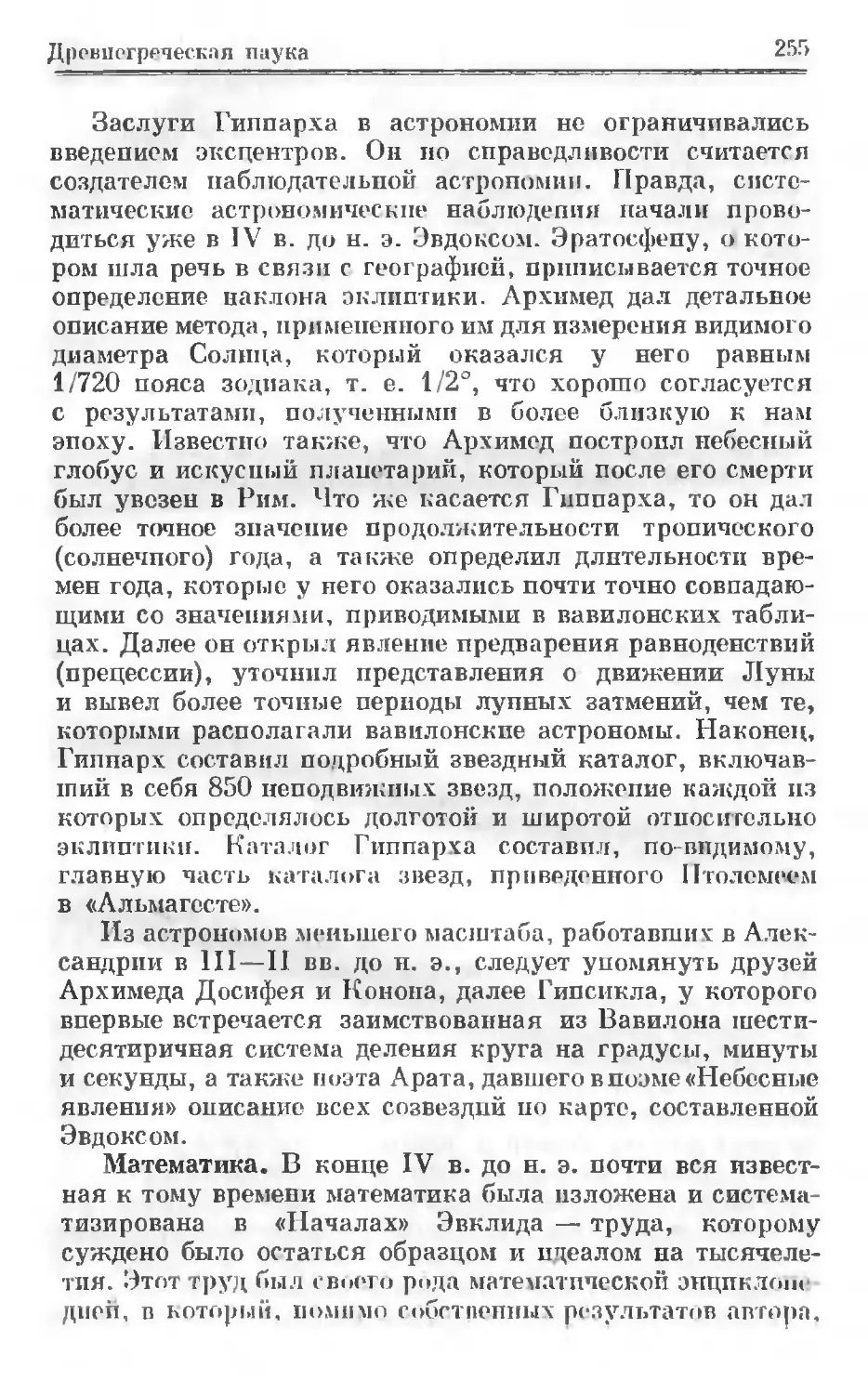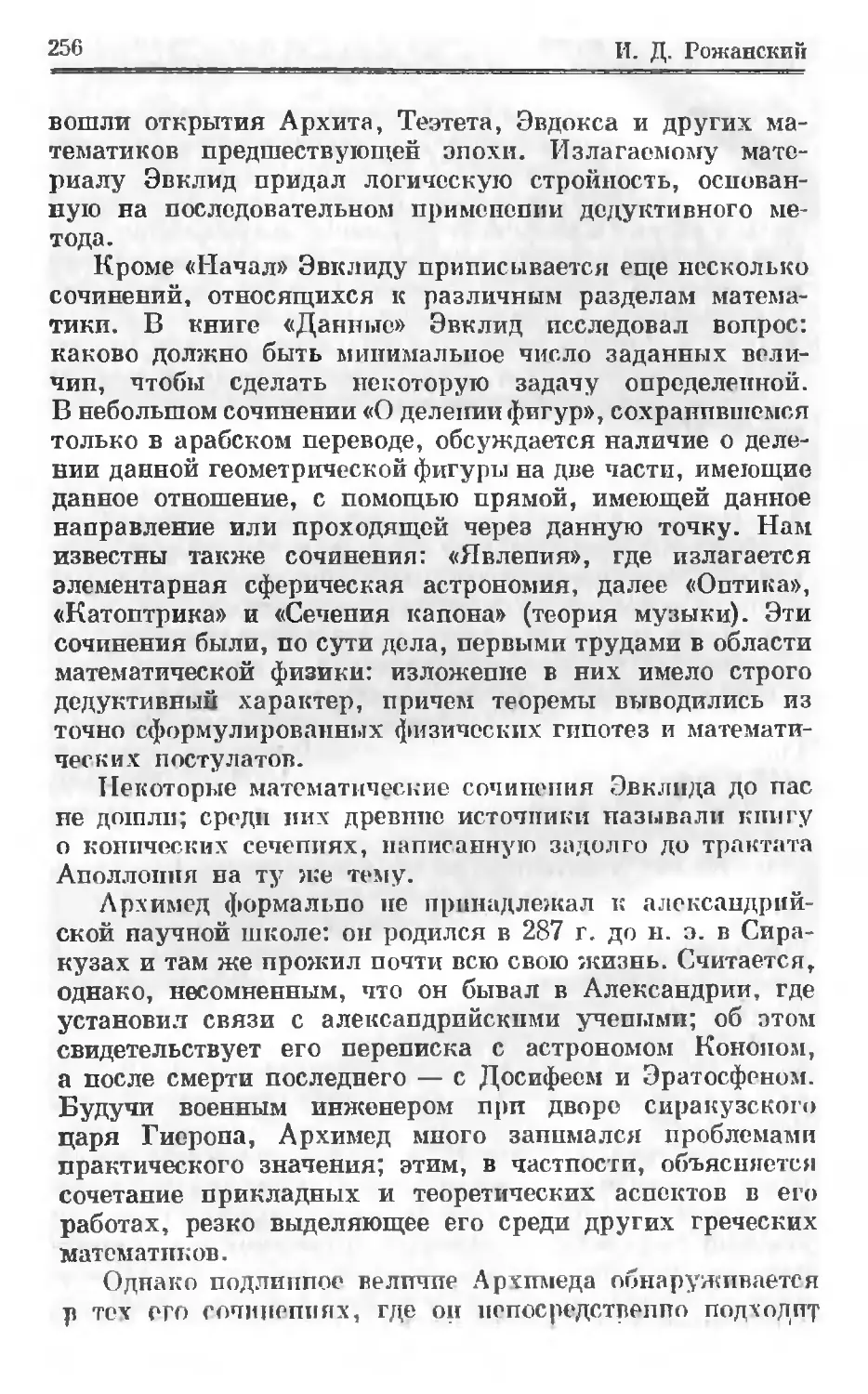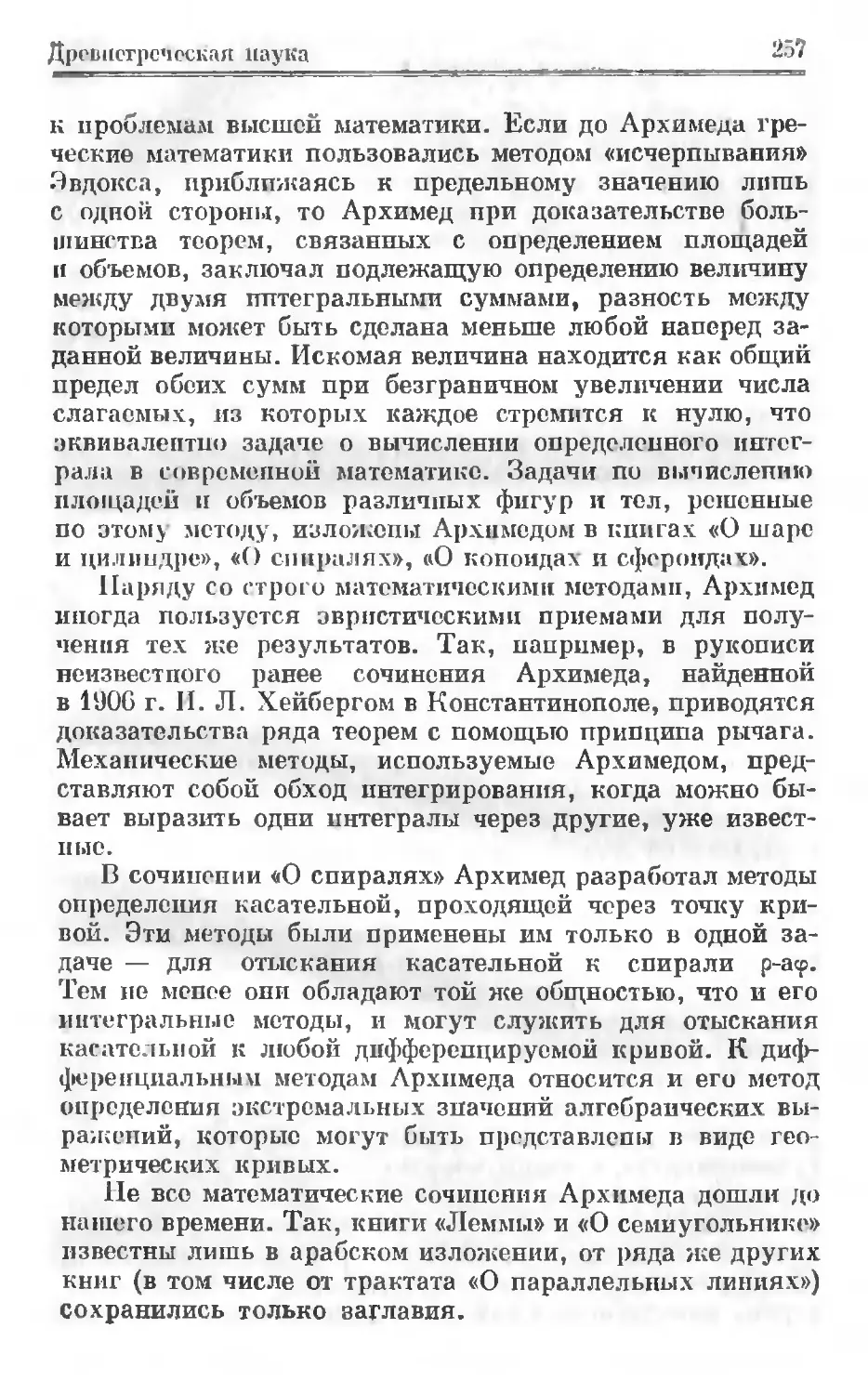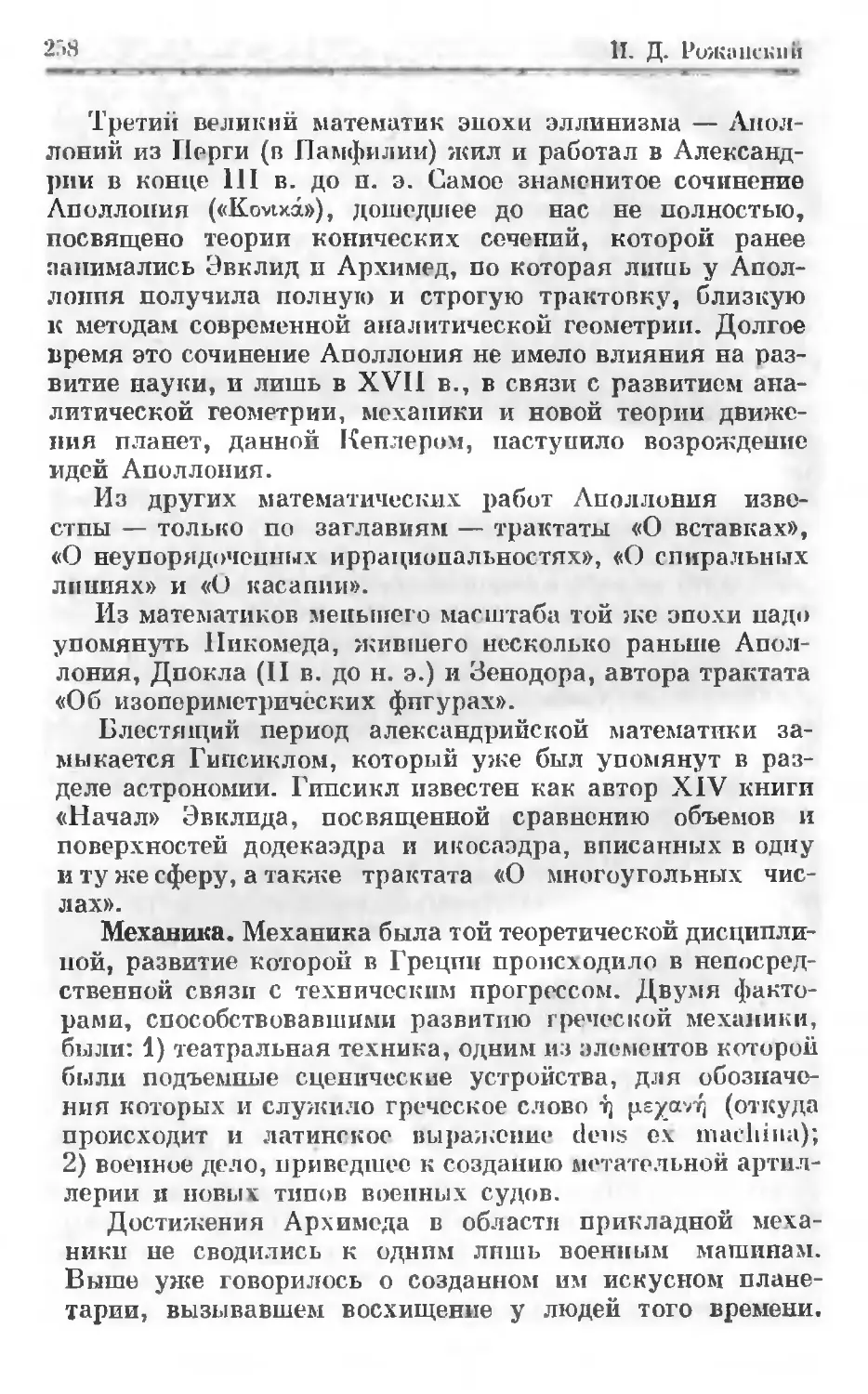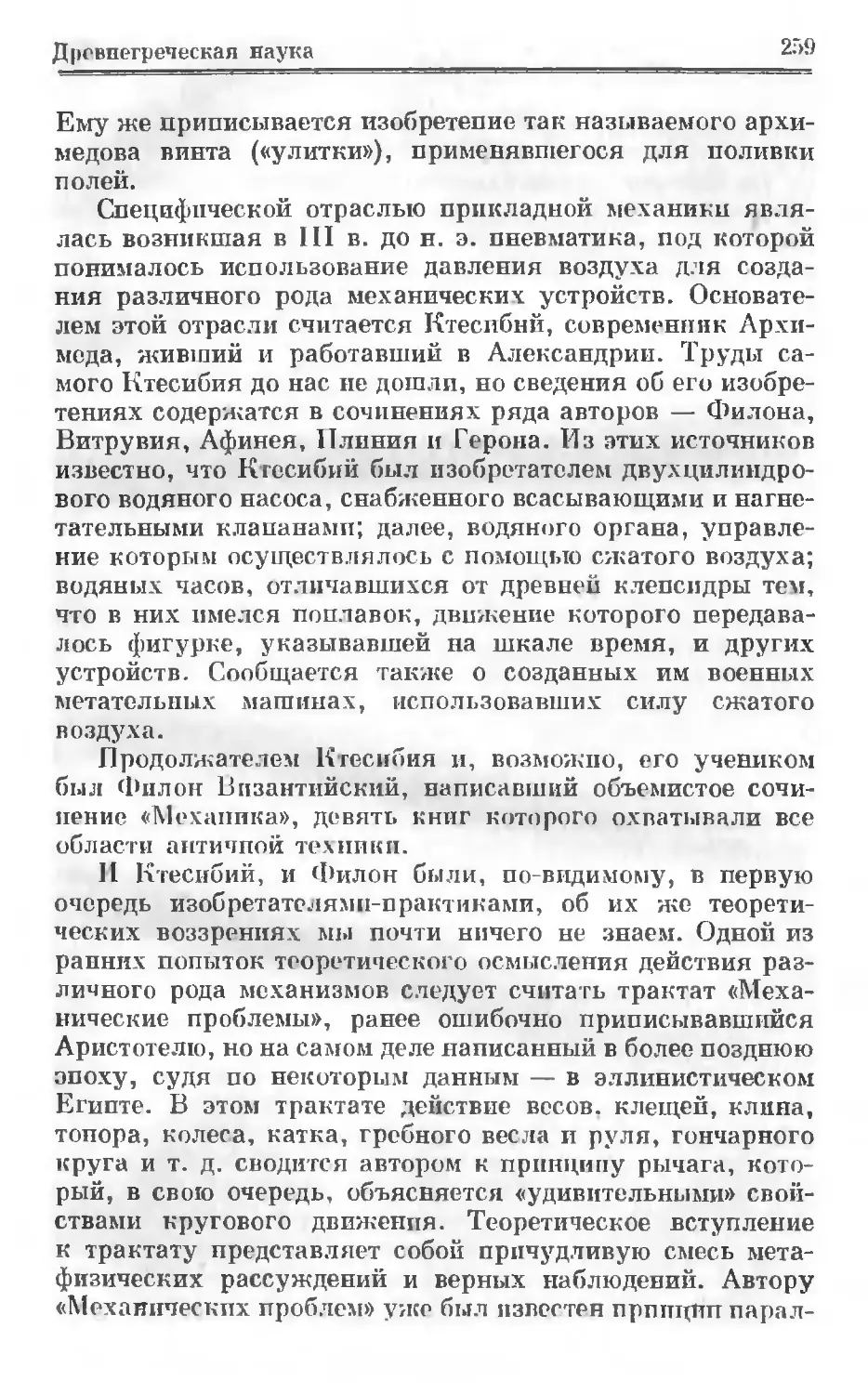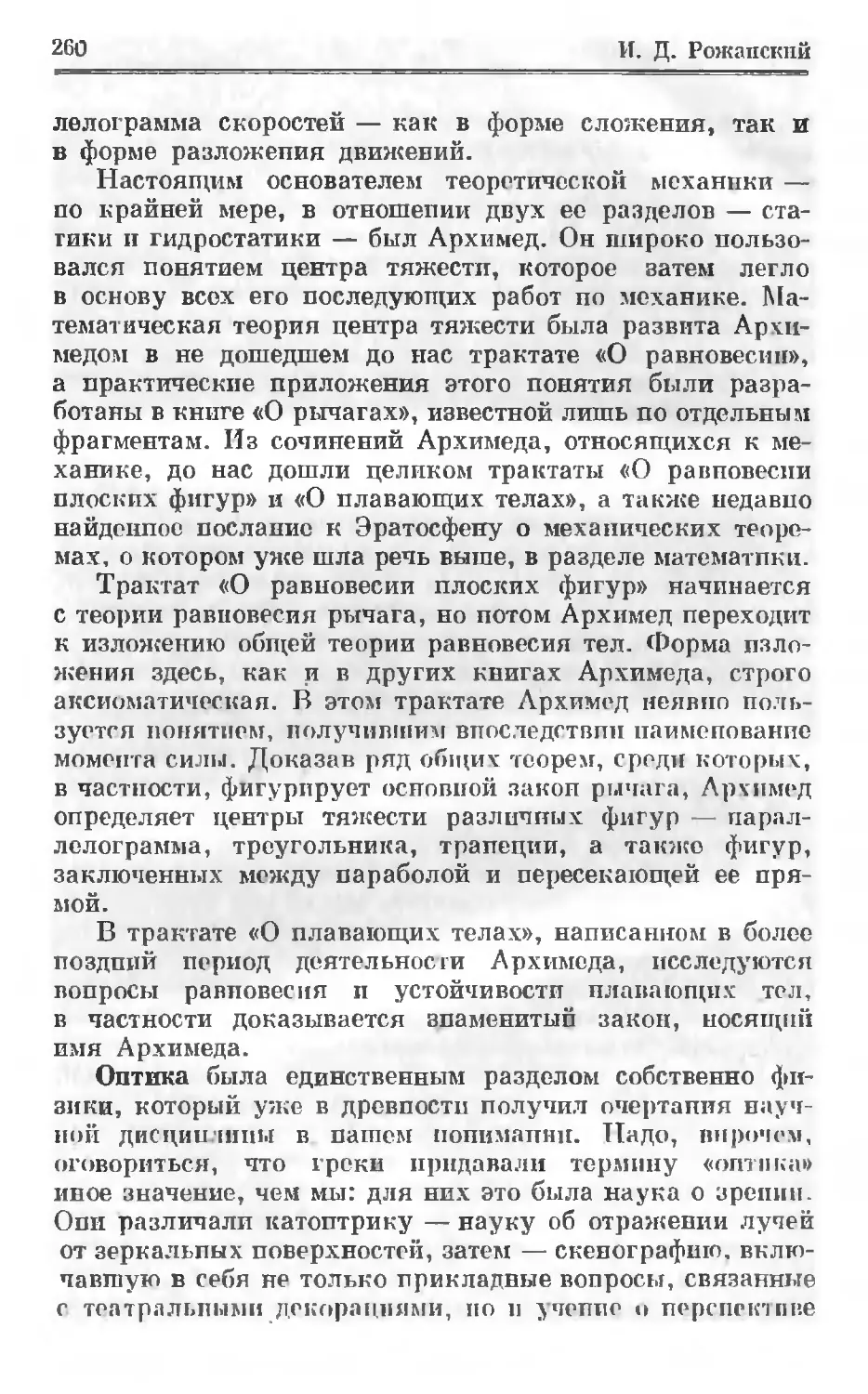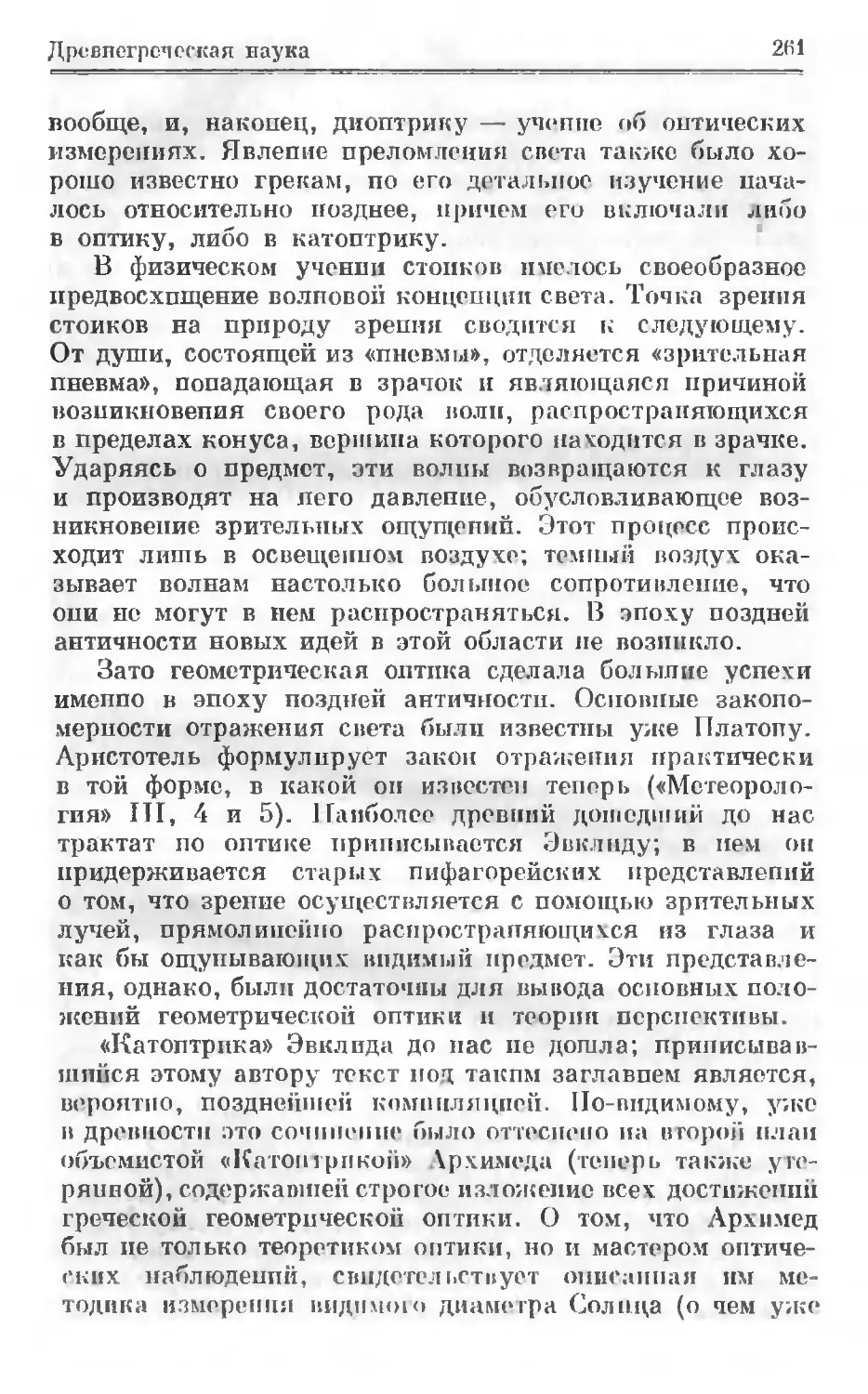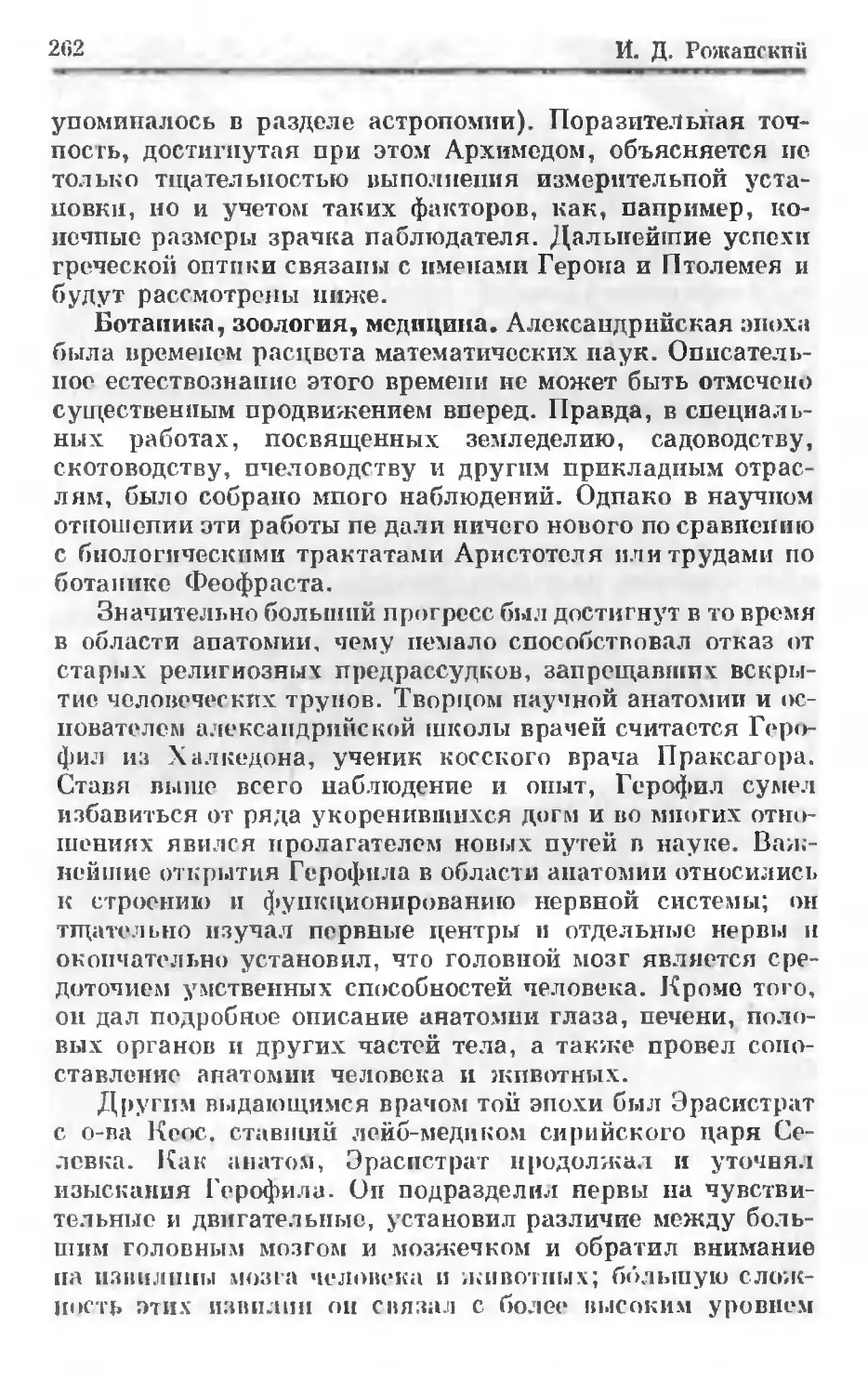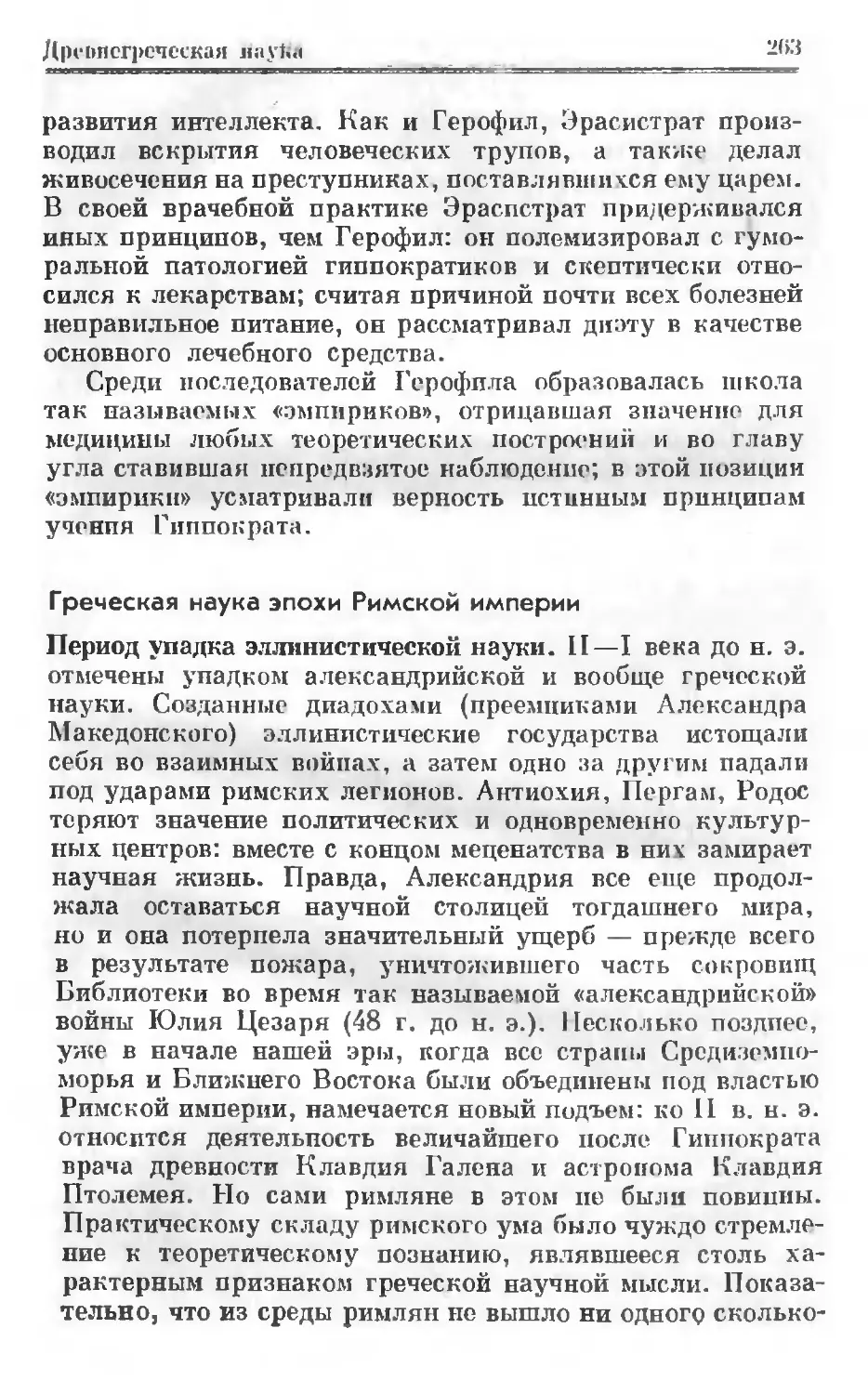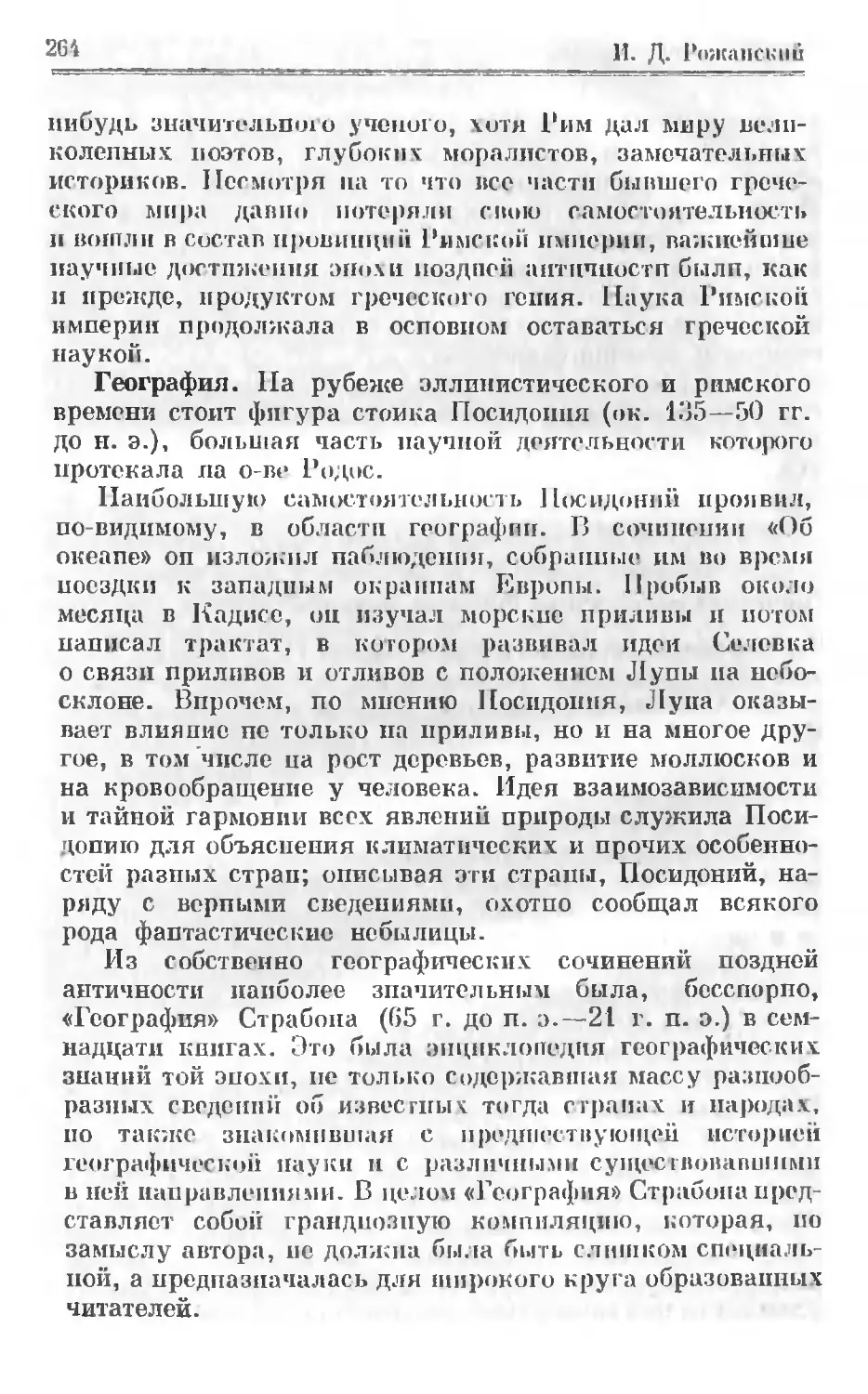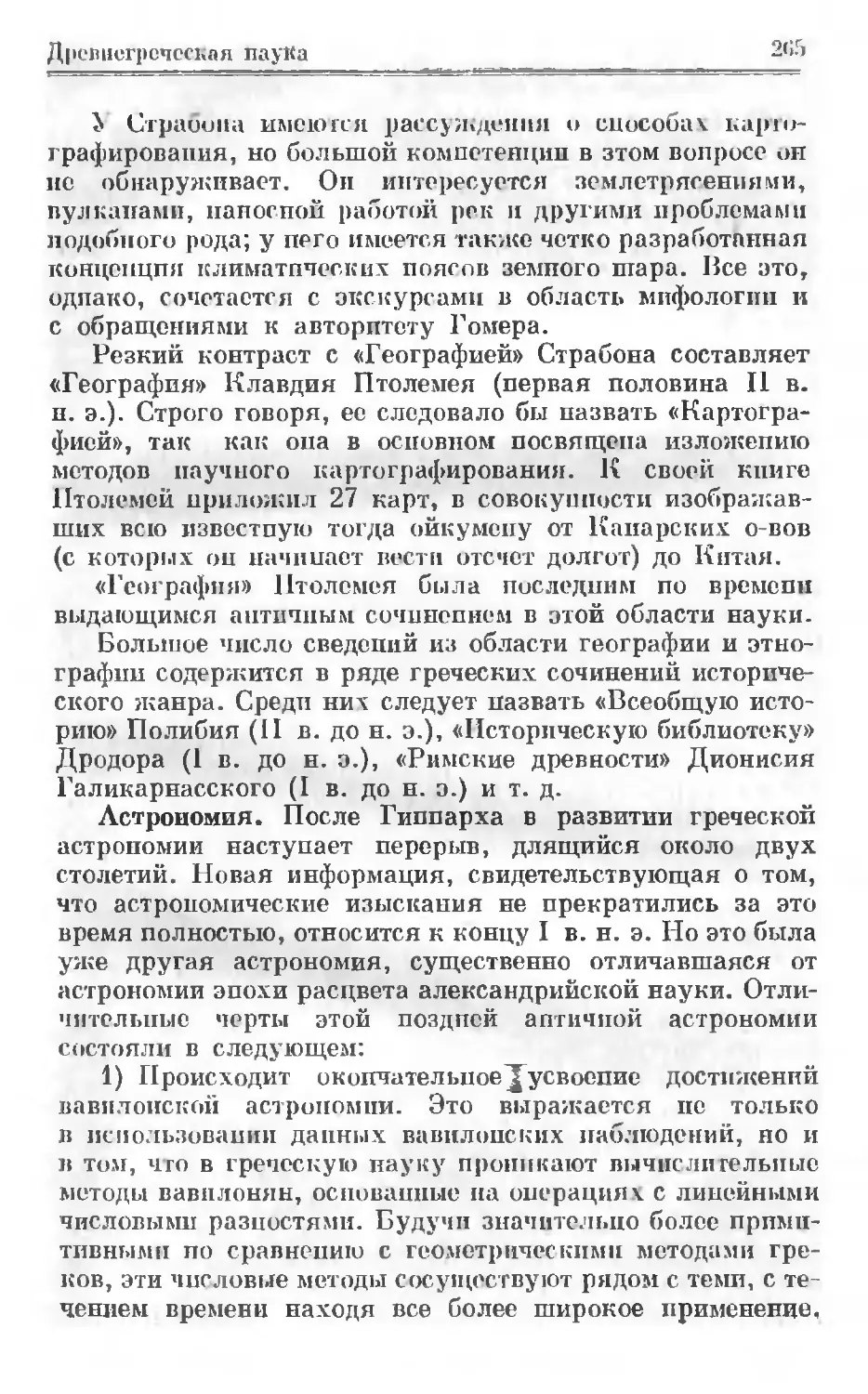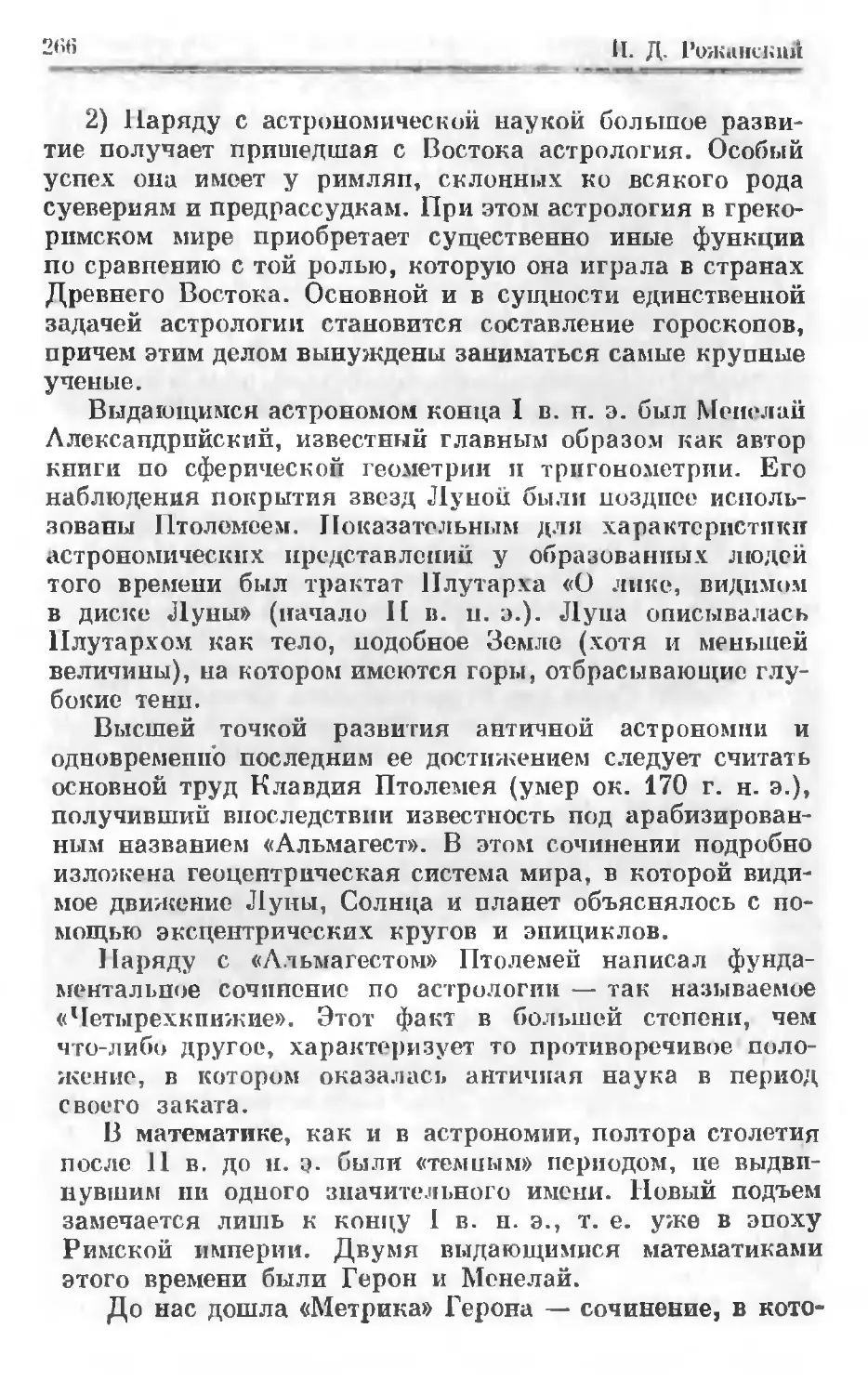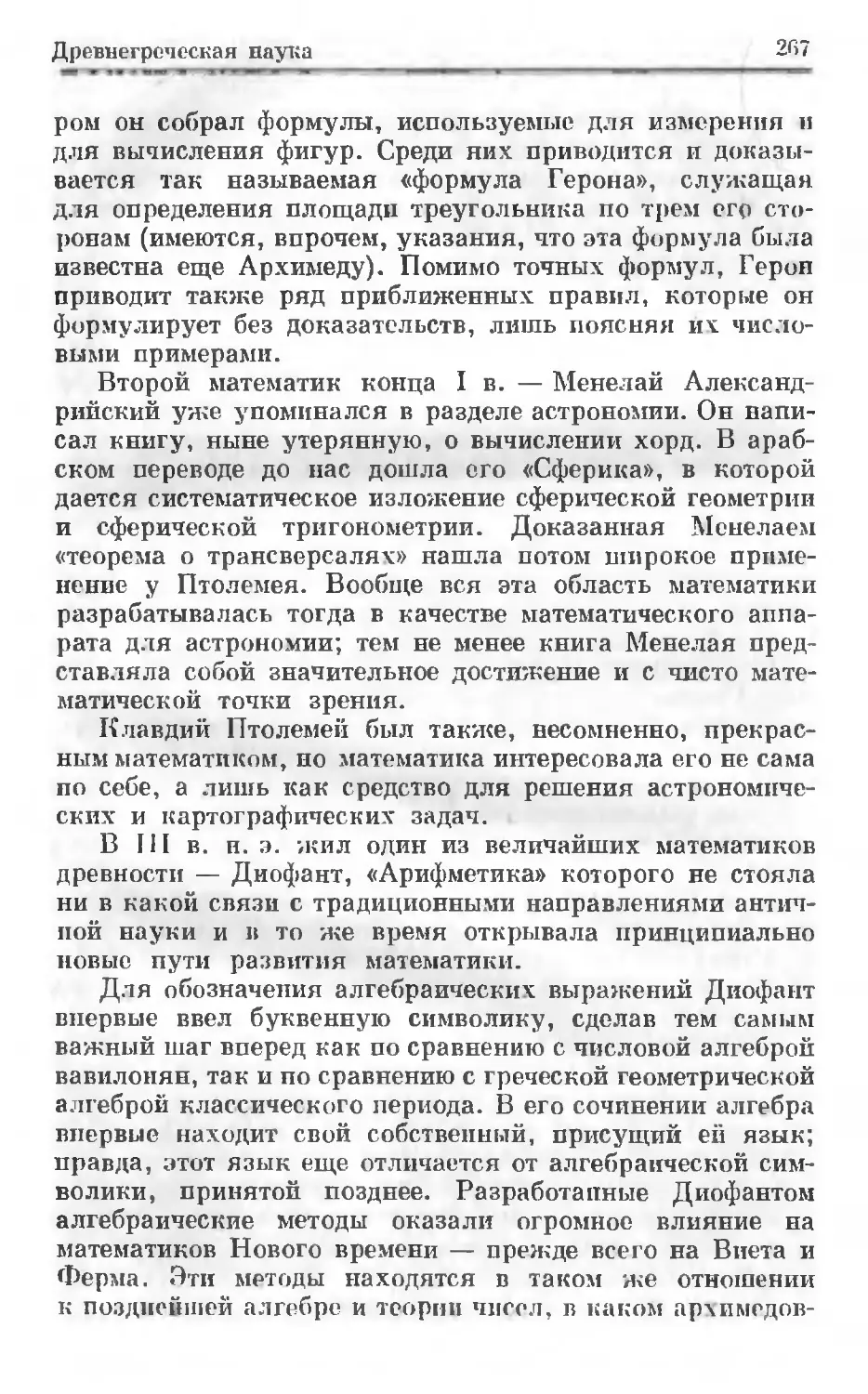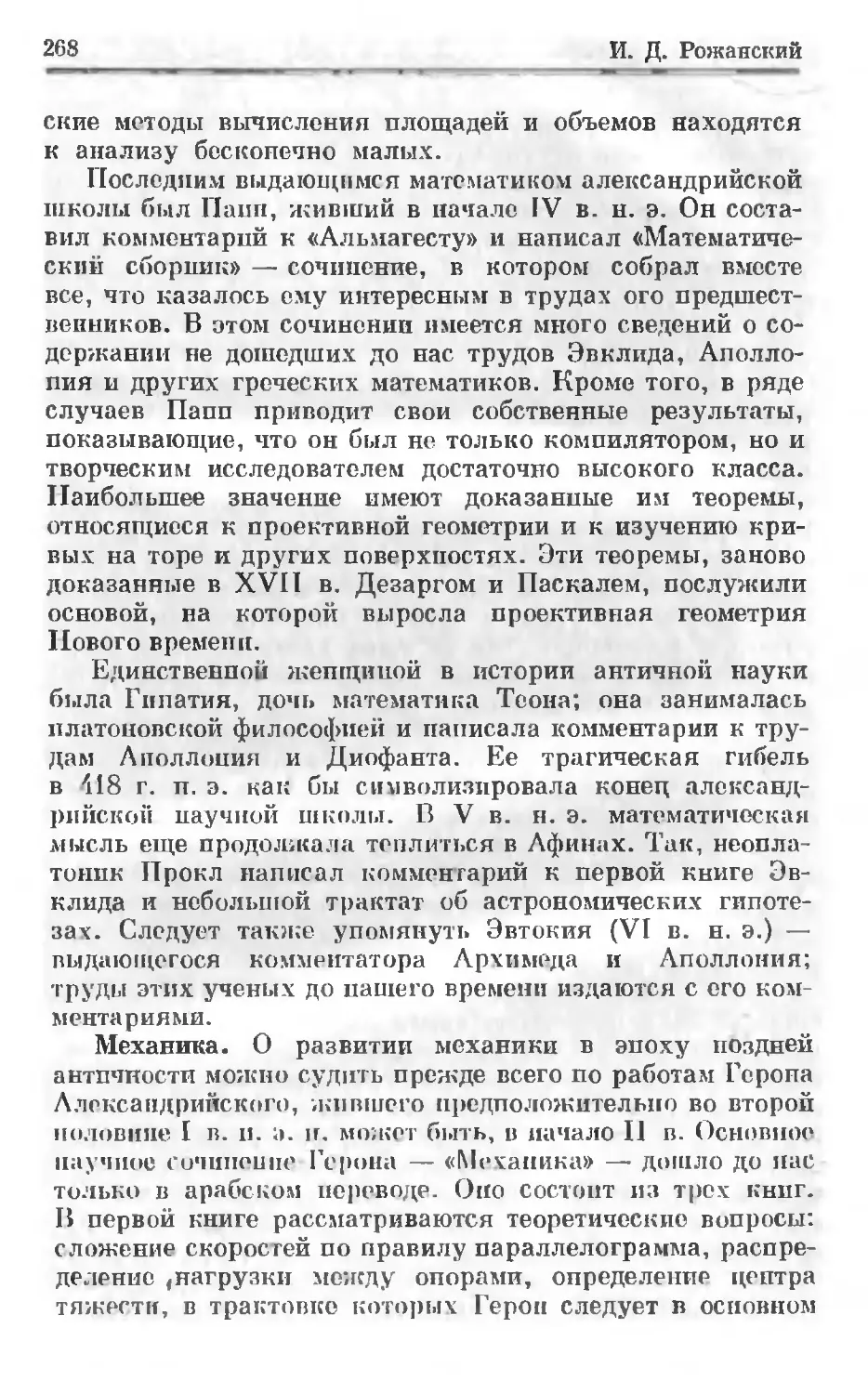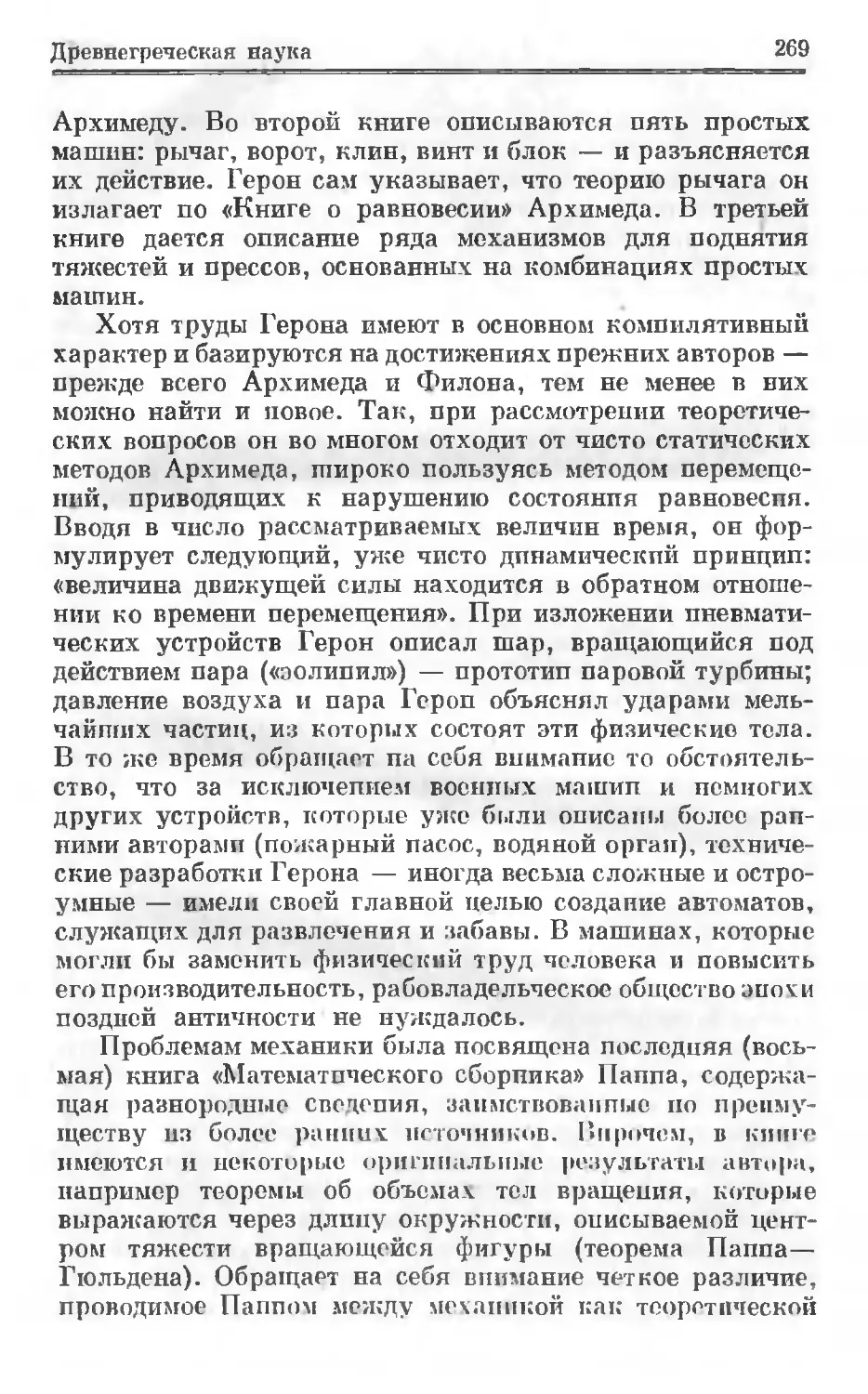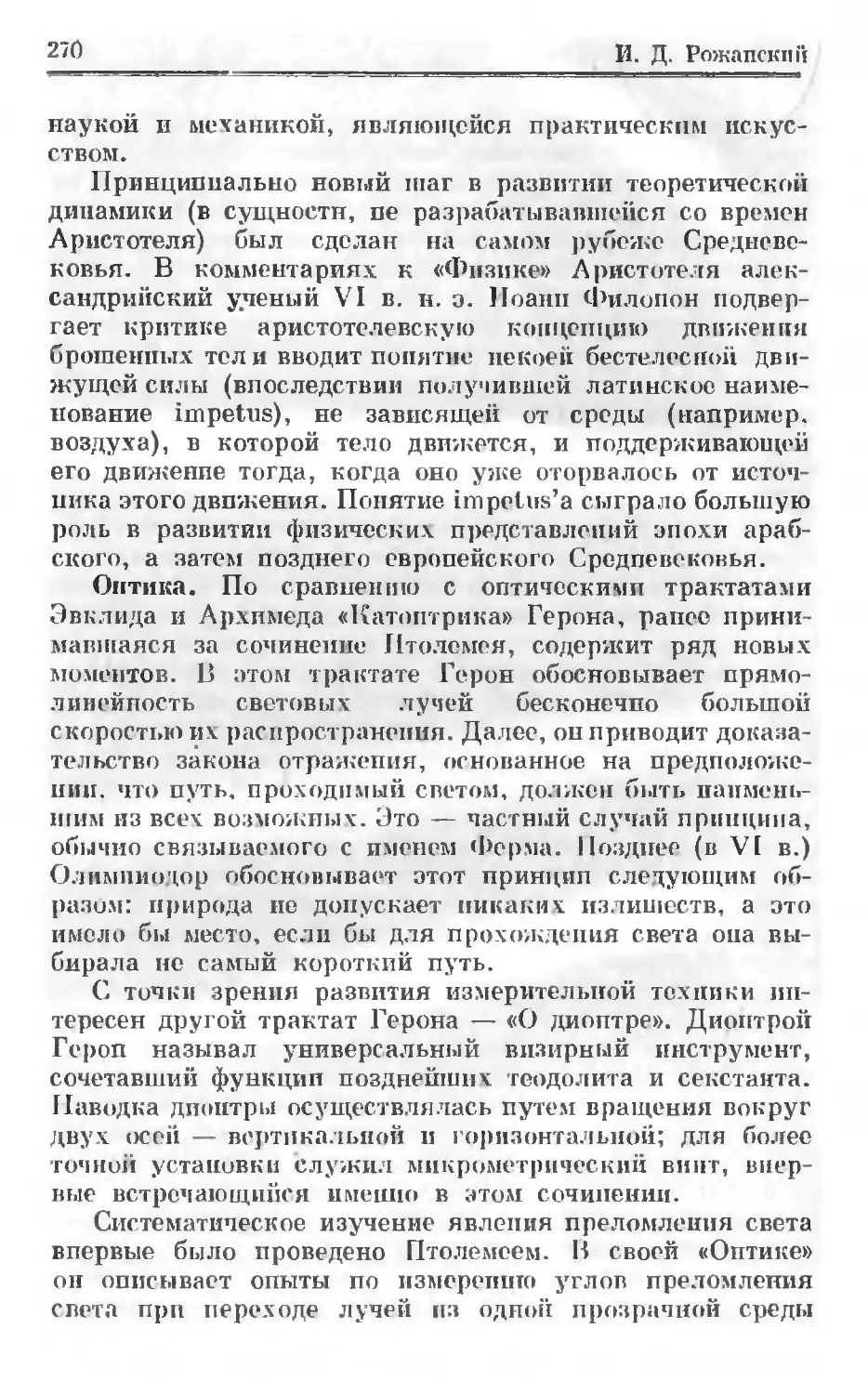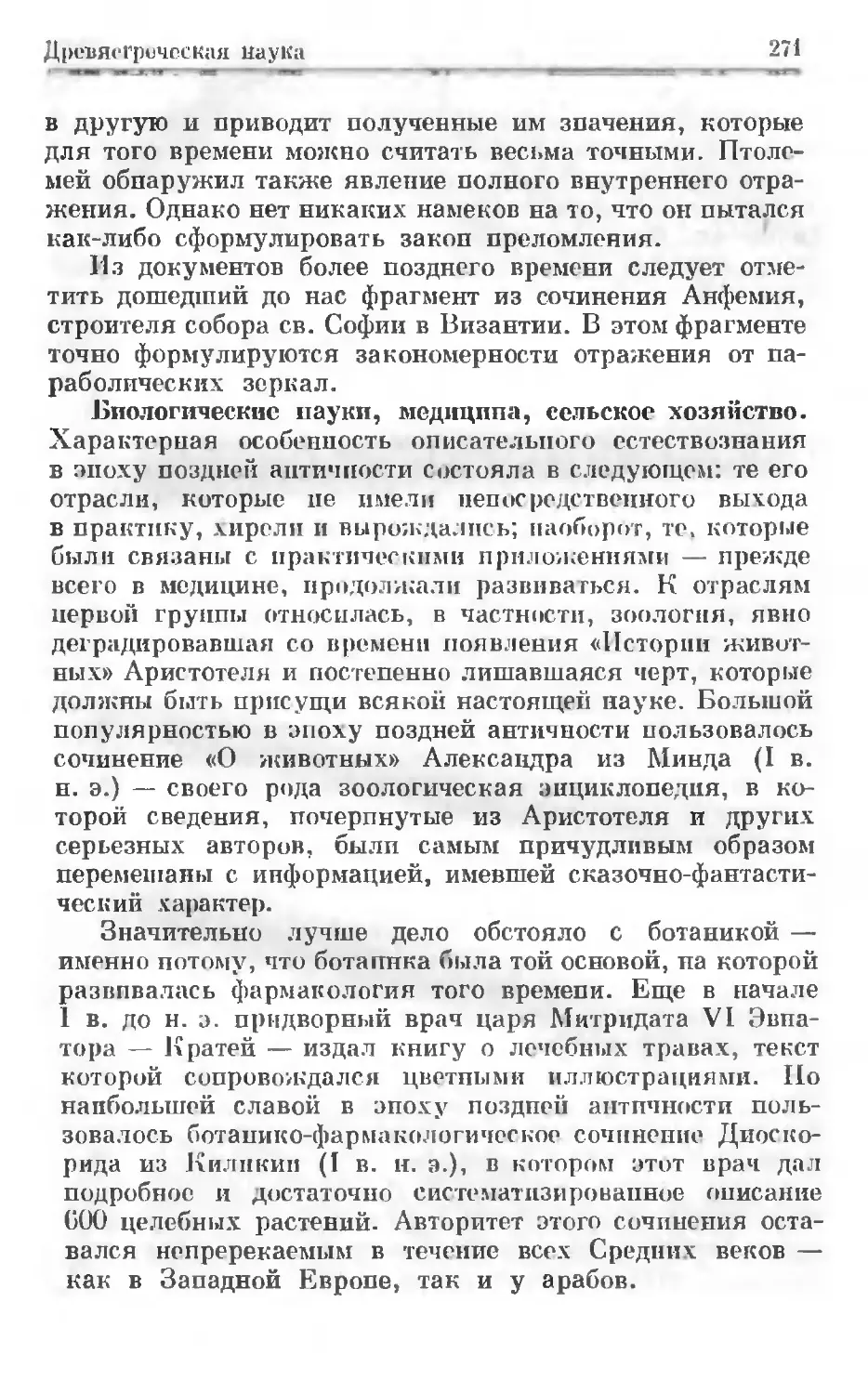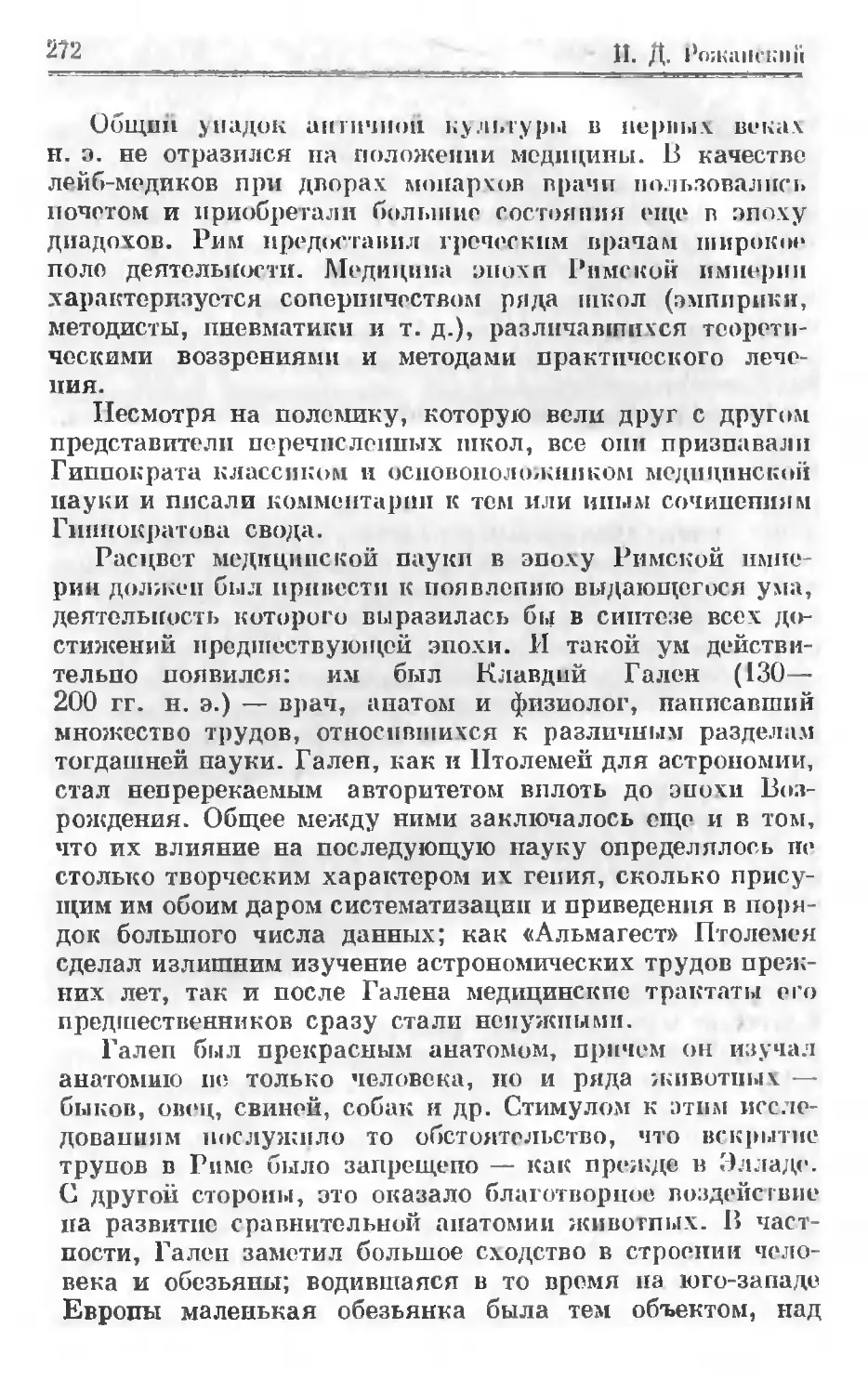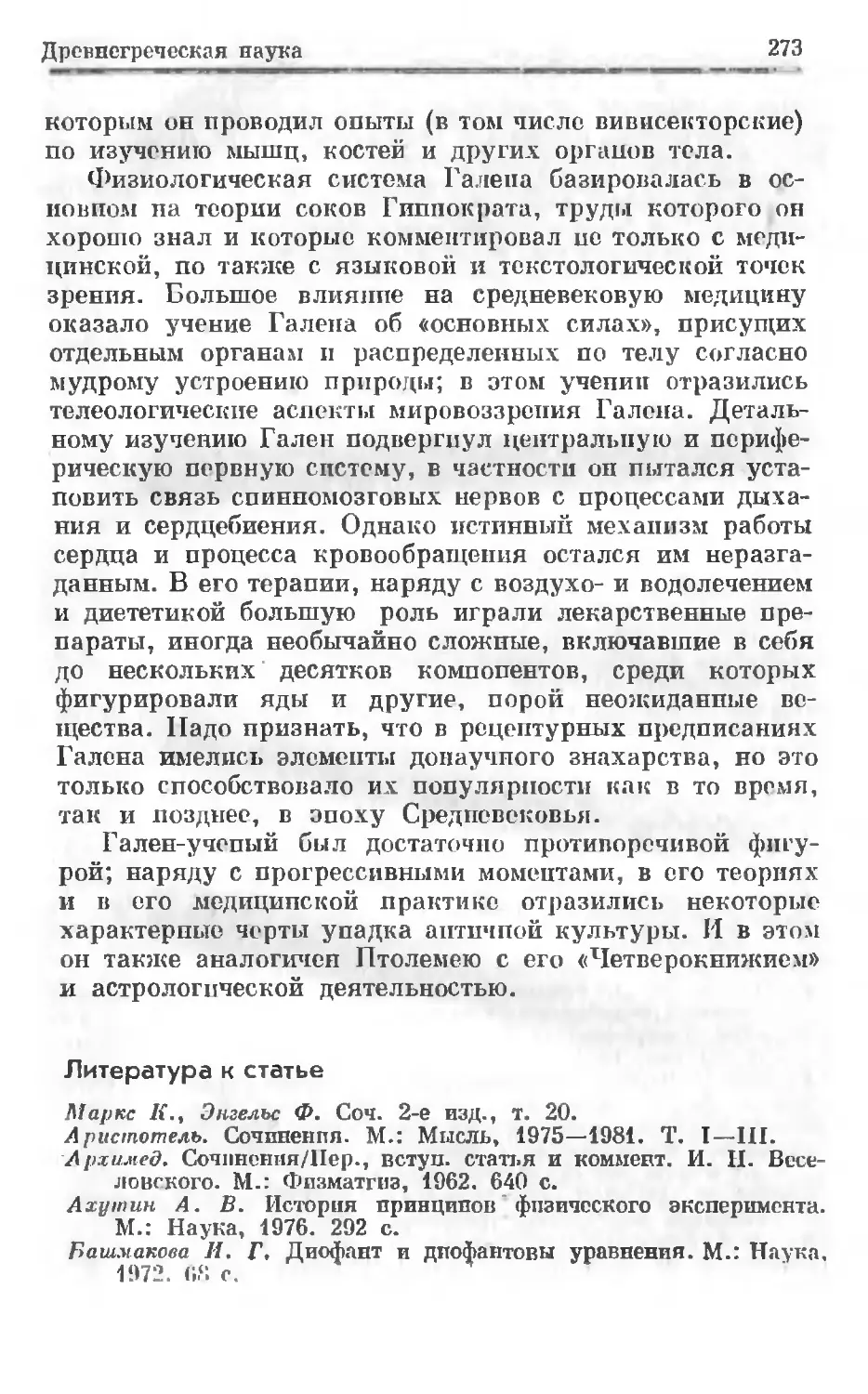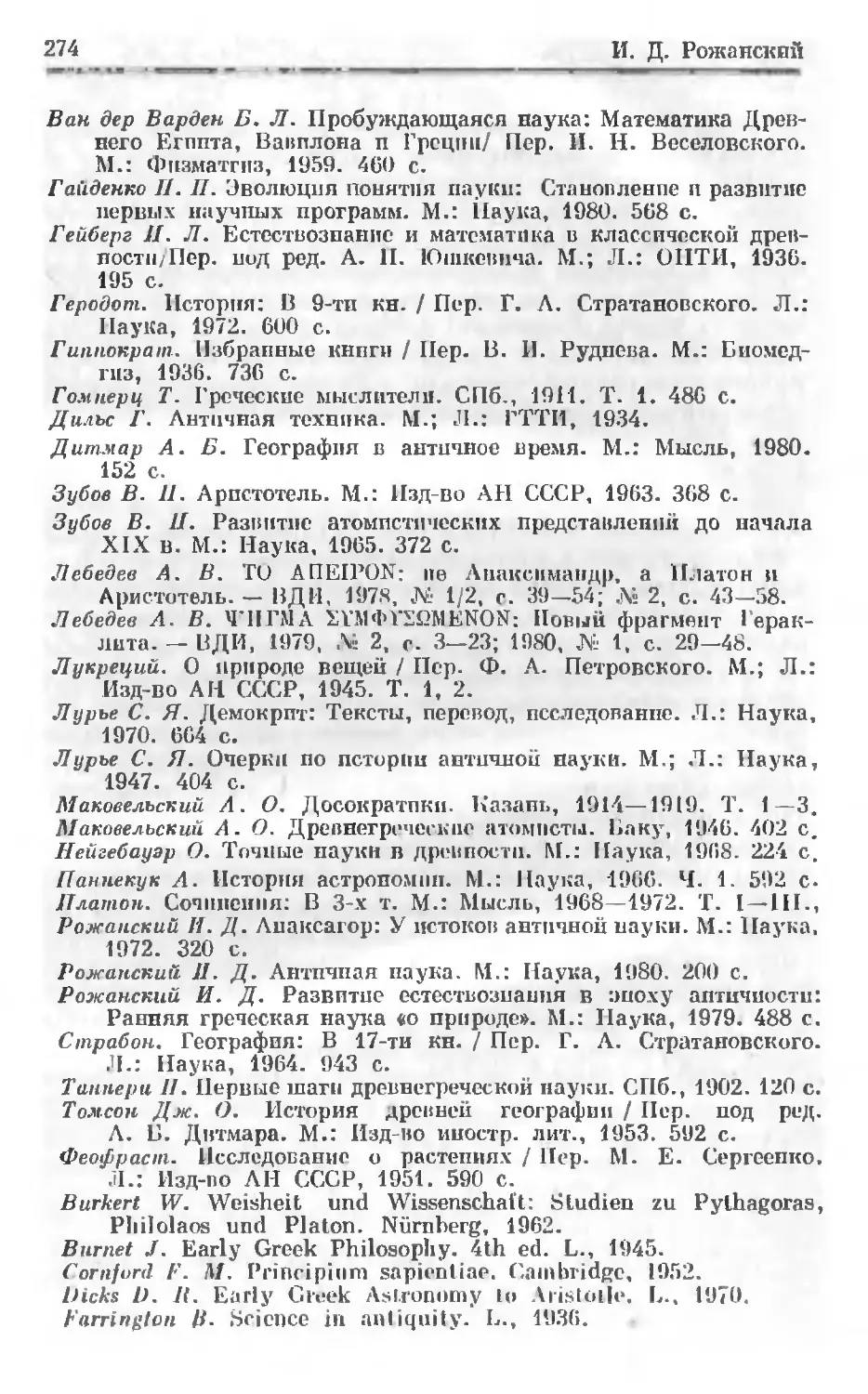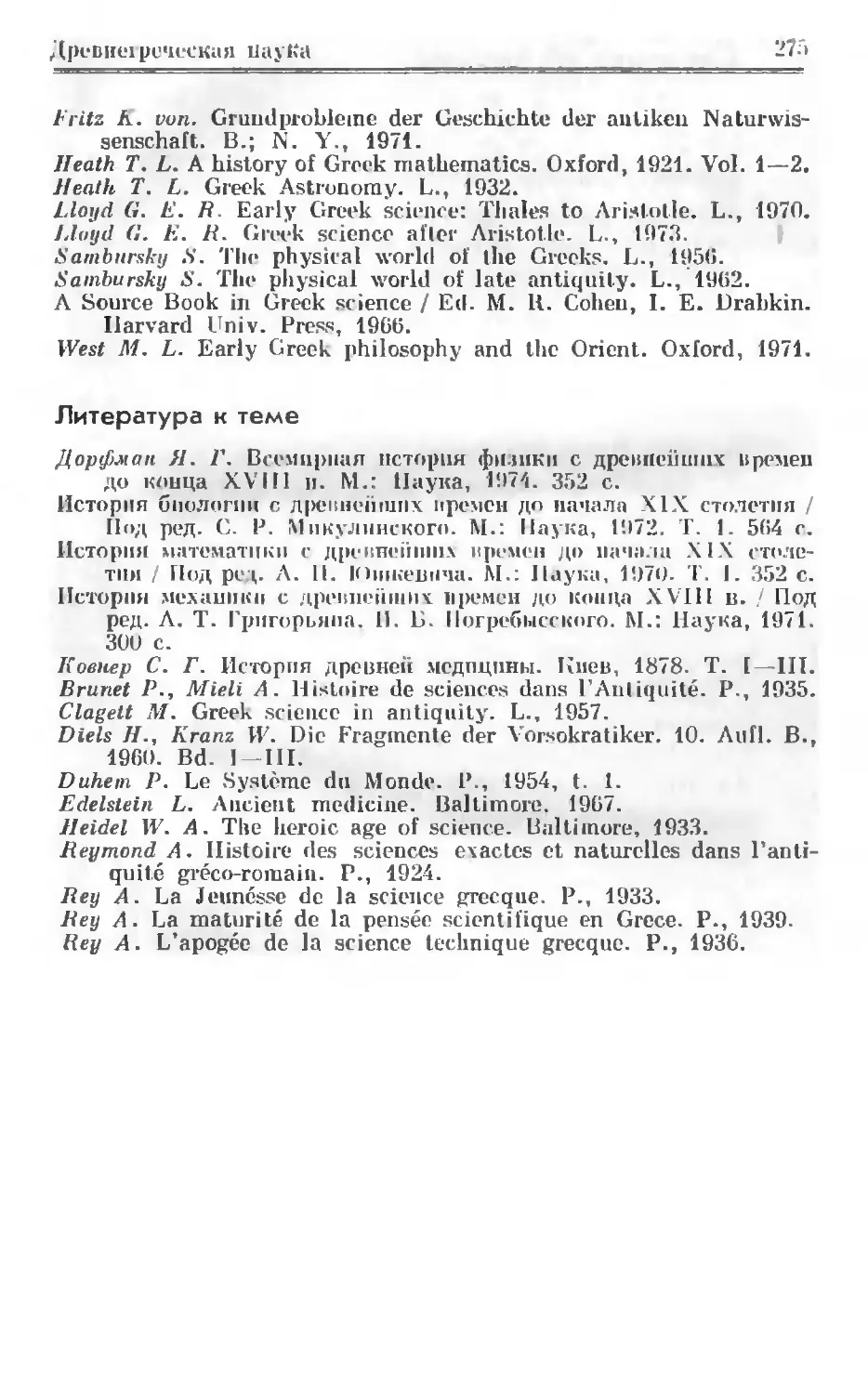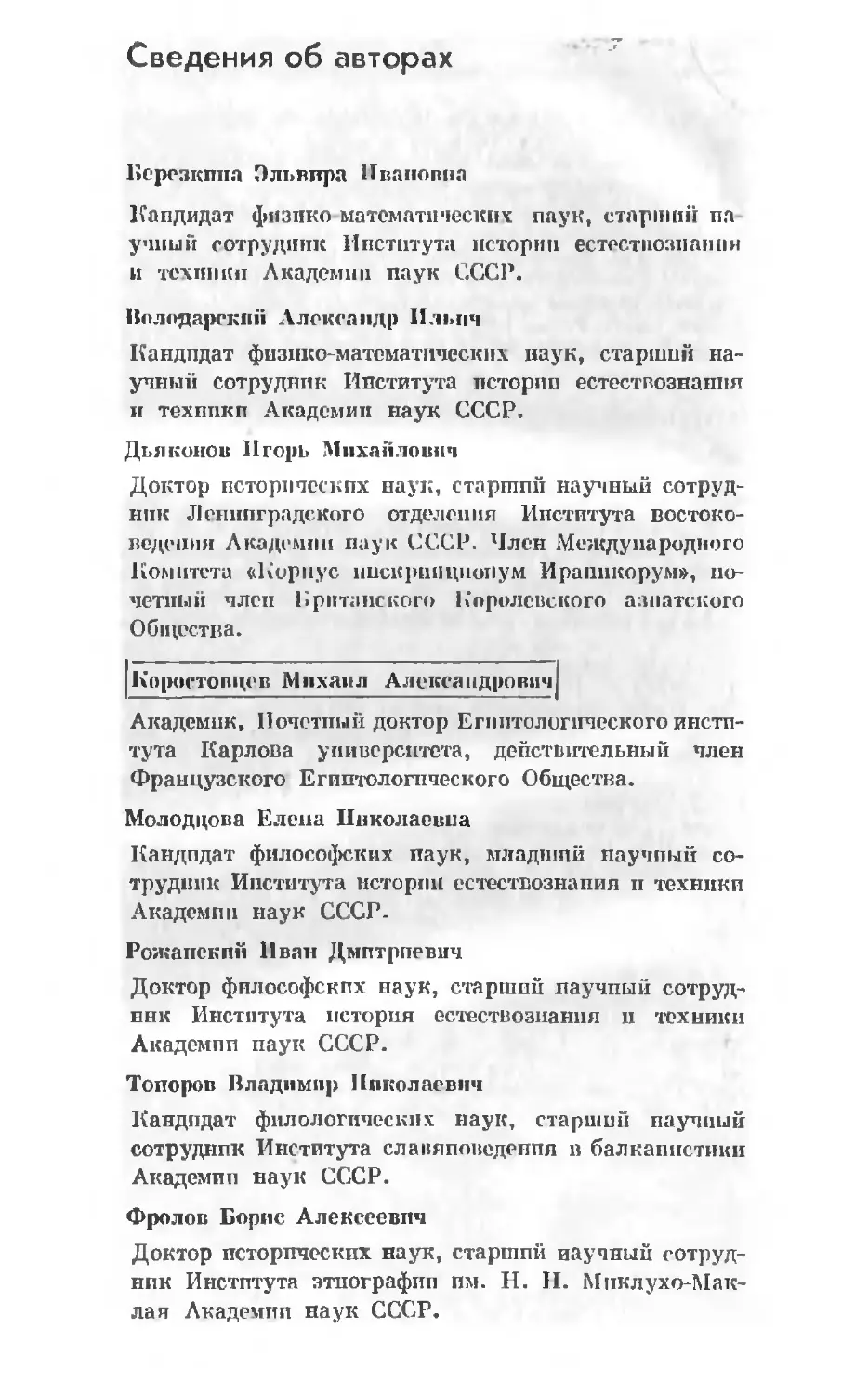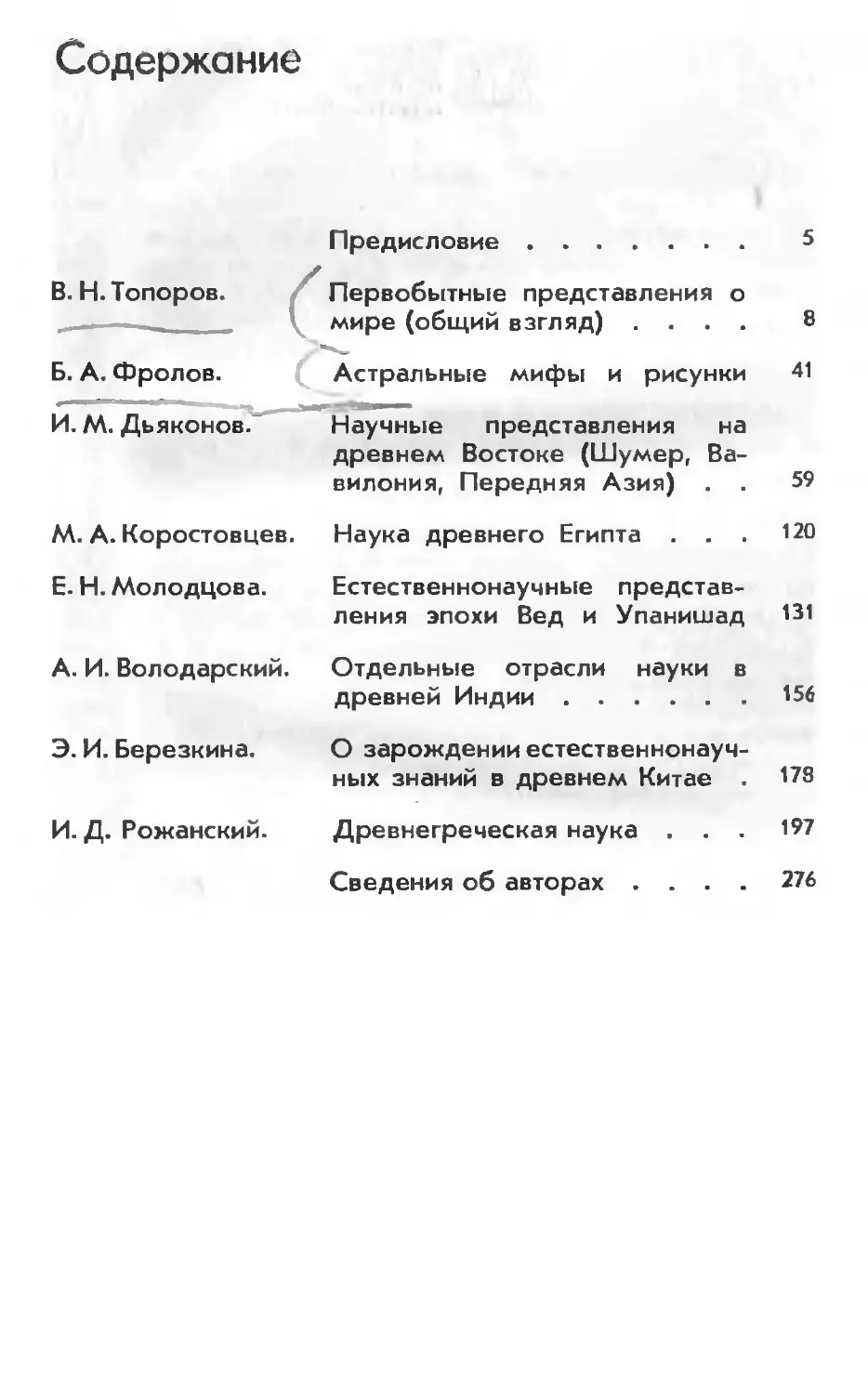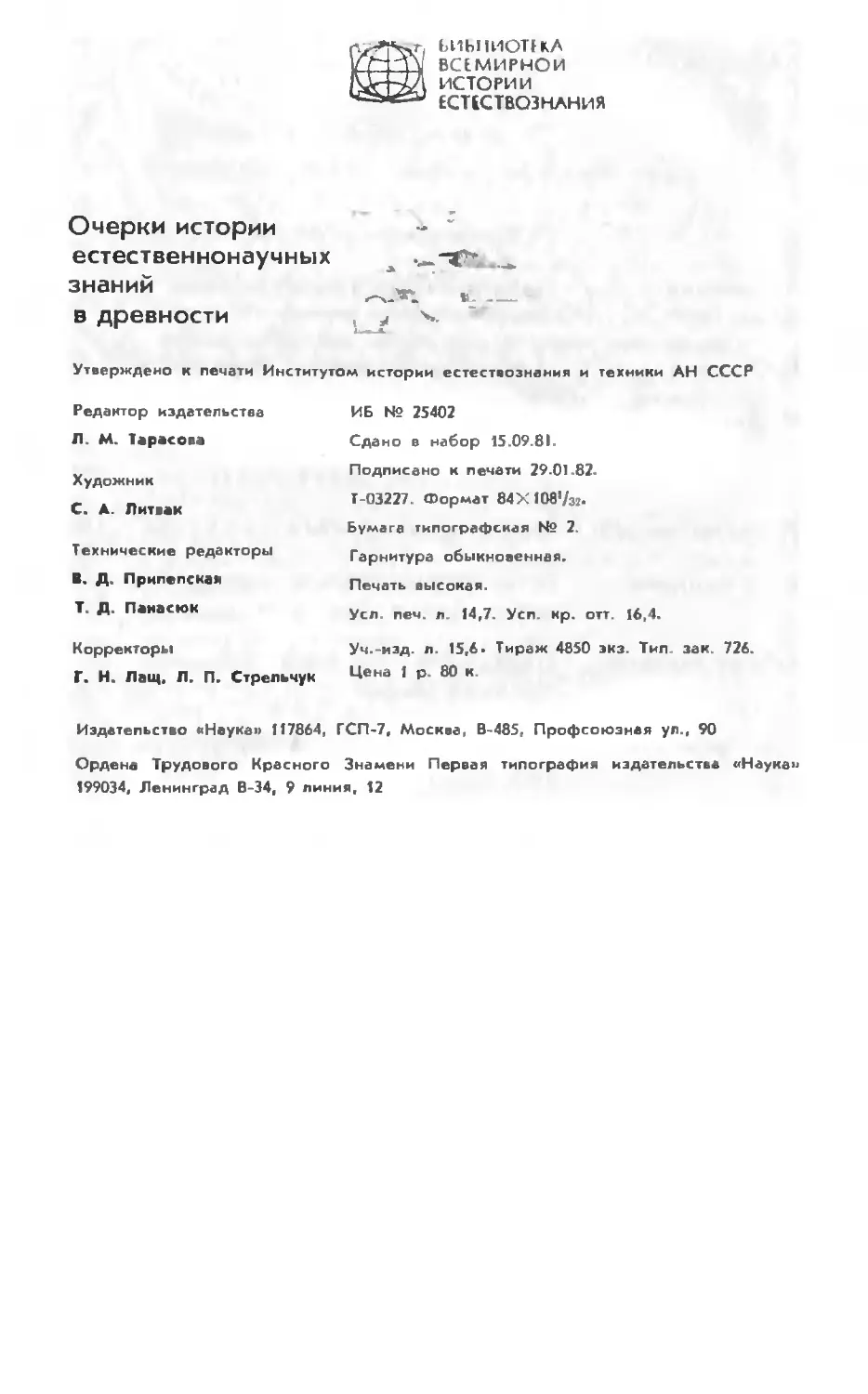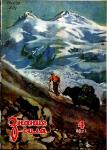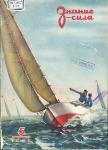Текст
БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Под редакцией члена-корреспондента АН СССР
С. Р. Микулинского
Академия наук
СССР
Институт истории естествознания и техники
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ
В ДРЕВНОСТИ
В
Издательство «Наука» Москва 1982
В книге впервые дан общин обзор основных вех в развитии естественнонаучных знаний от палеолита до античности. Показано место мифа, ритуала и его участников в фиксировании «п редка учных» мифических и рациональных представлений. В центре внимания авторов — проблемы перехода от допауч-пого знания к формированию пауки как одной из форм освоении действительности в системах древних цивп лизаций.
Огветственпый редактор
доктор химических наук А. II. ШАМИН
1402000000—QSQ gj>—(i;2—12—1980 г. (Cj ИздатФльотво «Наука».
042(02)—82 ' 1!)82 г.
I1р«адисловие
Мы ik1 знаем индивидуальных творцов пранауки. Не износ цы п никогда не будут известны те, кто впервые нонил, что знание можно распространить за пределы одного Мики.к-ния. Безымянны и первые изобретатели — созда-юлн г плеса, молота, жернова или охотничьей ловушки — .нон «первой машины», по 10. Липсу. Наука в период иного рождения предстает целостной и обобщенной.
lh возможно разрабатывать всеобщую историю науки, но касаясь се нервоистоков. Однако в древности бесконечная череда поколений, огромная протяженность времени иоусловнли ничтожную временную концентрацию дошедшей до нас информации о первом переломе в истории накоплении 31ШПИИ — неолитической революции. Мы можем понять науку лишь как единое целое, и именно анализ древпейвшх состояний знания, его накопления, оформления и передачи может дать пам то представление об эво-ницнонпых основах науки, изучение которого особенно ич.кпо сейчас, когда эволюция дополнилась регуляцией. Принцип регуляции, порождение современных революционны > изменений науки необыкновенно расширил наши ||*>.>мотпости. Однако, и это важно понять, он безвозвратно изменил ход ряда естественных процессов — это своеобразный ароморфоз на бесконечной лестнице развития 1Н111ЩЛ.
Изучение процесса формирования первичного комплекса рационального знания древности— необычайно сложное дело. Пока ясно очень немногое. Очевиден прп-|. ыдпой характер пранауки. Ясно, что, хотя практические ичн гнил людей были рациональны, основывались па hoiihperuoM зпанпп, их обоснование в издольных случаях Moi до быть иррационально.
'но может объяснять и формы оеувщетвления ряда «технологических» процессов: охоты, строительства, из-iотопления инструмента или сбора целебных трав, — начинавшихся магическим ритуалом (сила орудия или целебная сила трав при этом приписывались заклятиям
6
Предисловие
или заговорам, произносимым при изготовлении или сборе). Это связывает ритуал с важнейшим процессом преодоления «замкнутости во времени», с первичными формами храпения, передачи и обмена рациональней информацией, перебрасывает мост между поколениями.
Отсюда две системы доказательств предлагаемых реконструкций: анализ материальных источников и анализ межвременных коммуникативных образований (прежде всего языка).
История человеческой мысли также отмечена некоей двойственностью. В. И. Вернадский писал, что к ряду представлений, связанных с мироощущением человека, можно прийти не только «путем точного научного наблюдения и опыта. . ., а путем философских исканий и интуиций» т. Здесь намечается еще одна связь, обусловившая историческое единство и знания, и научной мысли. Она основана на том, что человек свой идеальный мир строил в системе ограничений, в рамках окружающей его природы, среды обитания, глубокую и органичную связь с которой он осознавал в процессе исторического развития.
Вернадский писал далее: «В истории философской мысли мы находим уже за много столетий до нашей эры интуиции и построения, которые могут быть связаны с научными эмпирическими выводами, если мы перенесем эти дошедшие до пас мысли — интуиции — в область реальных научных фактов нашего времени. Корни их теряются в прошлом. Некоторые из философских исканий Видии много столетий назад — философия упани-шад — могут быть так толкуемы, если их перенести в область пауки XX столетия» 2. Хотя это утверждение и не носит абсолютного характера, но его нс гннпость нельзя отрицать полностью, а гипотеза полицентризма возникновения пауки позволяет распространить его и на зоны зарождения других древних цивилизаций.
Статьи настоящего сборника посвящены истории естественнонаучных знании в древности, анализу некоторык материальных памятников палеолита, истории шумеро-вавилонской и древнеегипетском науки. Эти статьи, под-1 Вернадский В. II. Размышления натуралиста. Кп. 2. Научпая мысль как планетпое явление. М.: Паука, 1977, с. 25.
2 Там же.
Н|><| inrioiitte
7
чоркивая правильность положения К. Маркса, что «нерпой теоретической деятельностью рассудка, который еще Колеблется между чувственностью и мышлением, является «чет»’, одновременно показывают истоки формирования и иных структур, что особенно хорошо видно из статей »ь истоках естественнонаучных знаний в Древней Индии, и, наконец, подводят к процессам формирования науки 1(11 ТОЧНОСТИ.
Эсхил вложил в уста своего Прометея следующие < лова:
Смотрели раньте люди а не видели И слышали, пе слыша. Словно тени снов Туманных, смутных, долгую и темную Влачили жизпь. Из кирпичей пе строили Домов на солнцепеке и не ведалп О древоделье. Врывшись в землю, в плесенп Пещер без солнца, муравьями жалкими Ютились. Пн примет зимы остужено# Не знали, нп ве< пы, цветами пахнущей, Ни лета плодоносного. И без толку Трудились. Я восходы п закаты звезд Им первый ноцазал. Для ппх я выдумал Науку чисел, из наук важнейшую.
Сложенью букв я научил их: вот опа, Всепамять, нянька разуменья, матерь муз! 1
Единовременность, смпкретичность явления знания и самосознания, сложность структуры пауки и искусства, понимаемой как познание и оценка реальности, или модель и знак, и т.п., могут быть усмотрены в этих гениальных строках.
Мы надеемся, что этот сборник, хотя в нем и не рассмотрен ряд вопросов — проблемы развития естественнонаучных знаний в некоторых регионах, в доколумбовой Америке, например, — послужит все же определенным « шмулом для дальнейшей разработки упомянутых воп-
Мы будем благодарны за все замечания и пожелания, как но отдельным статьям, так и но сборнику в целом.
А. Н. Шамин
'' Паркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. I. с. 31.
4 Эиил. Прометей прикованный М.: Гос. изд-во худояь лит., 1956, с. 35—36.
В. Н.Топоров
Первобытные представления о мире
(общий взгляд)
Формулировка этой темы требует ряда уточнении. Прежде всего речь пдст о представления'", принадлежащих человеку (homo sapiens), поскольку в результате многочисленных работ последнего времепн, посвященных биологическим основам языка и некоторые существенных элементов вторичных знаковых систем, стадиям развития гоминид, предшествующим появлению homo sapiens, и, наконец, «представлениям» о мире У высших приматов, дельфинов и т. п., — целесообразно подчеркнуть именно человеческий аспект названной темы. Далее, необходимо уточнение стадиально-хронологического порядка, относящееся к понятию «первобытный». Под первобытными представлениями здесь будут иметься в виду прежде всего те модели мира, которые возникли как целое после неолитической революции, т. е. после начала усиленных контактов человека с природой, приведших к одомашниванию животных, появлению земледелия, гончарного производства, ткачества и, видимо, после того, как человек осознал, что его целенаправленная деятельность вызывает определенного рода изменения (которые, хотя и продолжают еще вписываться в старые цикл1гческпе схемы, но уже намекают па будущие представления эволюционного типа); последнее соотношение действие -> изменение (новое состояние) —> действие, учитывающее достигнутое новое состояние, привело к осознанию механизма обратной связи между членами этого соотношения, способствовало в дальнейшем возникновению идеи развития и началу создания ноосферы.
Верхней границей понятия «первобытный» является эпоха, непосредственно предшествующая созданию великих цивилизаций Ближнего Востока, Средиземноморья, Индии и Китая, применительно к которым уже можно говорить не только о появлении письменности, но и о началах науки, генетически связанной с современной наукой, соответствующим мировоззрением 11 социально-культурной атмосферой сциентизма.
lln|iii<>iii.tTiii.ie представления о мире
9
Ila этих хронологических границ, однако, но следует, что обращение к более ранним (наир., верхнепалеолити-шгьим) или более поздним (наир., древним ближневосточным или античным и т. д.) источникам исключено. По-< ладнее уточнение связано с понятием «мир». Под миром ид1ч I. понимается человек и среда в их взаимодействии. К >гом смысле мир, понимаемый как пассивная память машины, есть результат переработки информации и о среде м о самом человеке. Переработка информации о мире •ловском предполагает дешифровку осмысленного со-о1ццеиия, что вводит нас в ситуацию акта коммуникации чглоеек—природа. Ниже будет рассмотрен тот вариант, и котором природа представлена не как результат переработки первичных данных органическими рецепторами (органы чувств), а как результат вторичной перекодировки первичных данных с помощью знаковых систем. Иначе говоря, представления о мире не что иное, как модель мира, реализующаяся в различных семиотических воплощениях (ни одно из которых не является полностью независимым, поскольку все они соотнесены с единой знаковой универсальной системой).
Источники наших знаний о первобытных представлениях о мире многообразны — от данных палеоантрополо-i ни и биологии до сведений по этнографии современных архаических коллективов (австралийские туземцы и т. п.); пережитков первобытных представлений в сознании современного человека; данных, относящихся к языку, снови-дениям, художественному творчеству и т. п., в которых могут быть обнаружены или реконструированы архетипические структуры, и т. д.
Космологические схемы описания мира. «Космологическое» versus «историческое»
Период, определяемый господством первобытных представлений, можно назвать космологическим или мифопо-мничвеким, поскольку основное содержание текстов (в семиотическом смысле) этого периода состоит в борьбе космического упорядочивающего начала с хаотическим деструктивным началом, в описании этапов последова-ii’jibnoro сотворения мира, а основной способ понимания мира и разрешения противоречий обеспечивается мифом,
10 В. II Топоров
мифологией, понимаемой не только как система мифов, но и — главное — как особый тип мышления, хронологически и по существу противостоящий историческому и естественнонаучному типам мышления [см. исследования Levi-Strauss, Eliade, Frankfort и др. ].
Космологическая схема в наибольшей степепи определяет первобытные представления о мире. О ней лучше всего можно судить по полным синтезированным вариантам, относящимся обычно уже к стадиально более поздним периодам (ср. гелиопольскую версию древнеегипетского мифа о творении, шумерскую, вавилонскую, древнееврейскую версии, Ригведу X, 129, Пополь-Вух, Старшую Эдду (прорицание вёльвы), сибирские, древнекитайские, полинезииские варианты и т. д.)
Соответствующие тексты часто состоят из двух частей. Первая посвящена тому, что было «до начала» (т. е. до акта творения): описанию хаоса, характеризуемого обычно серией общенегативных суждений типа «Тогда не было ни сущего, ни не-сущего; ни неба, ни земли; ни дня, ни почи; ни жизни, ни смерти. . .» или «Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездною. . .» Вторая часть схемы, напротив, состоит из серии положительных суждений о последовательном сотворении элементов мироздания в направлении от общего и космического к более частному и человеческому. Ср. обычные последовательности: отделение Хаоса от Космоса, неба от земли, вод от земли; возникновение Солнца п Месяца, светил, ветров; появление основных элементов ландшафта, камней, растений (в частности, монокультур или растений, из которых приготовляются напитки галлюциногенного или просто опьяняющего действия), животных; возникновение человека («первочеловека», первого культурного героя, основателя традиции и т. д.), социальной иерархии, структура которой обусловливается различными функциями, социальных институций, культурной традиции и т. п.
Для структуры подобных текстов характерны следующие особенности: 1) построение текста как ответа (или серии ответов) на некий вопрос; 2) членение текста, заданное описанием событий (составляющих акт творения), которые отражают последовательность временных отрезков с указанием начала; 3) описание последовательной организации пространства (в направлении извне
H< piiutiijTiri.ie представления о миро
И
iiiixipb); 4) введение операции порождения для перехода it одного этапа творения к следующему; 5) последовательное нисхождение от космологического и божественного । «историческому» и человеческому (часто в варианте нисхождения от «золотого» века к «железному», максимально греховному); как следствие предыдущего —’ совмещение последнего члена космологического ряда с первым ч и ном исторического (пли хотя бы квазиисторического) рндп; 7) указание правил социального поведении и, в частности (нередко), правил брачных отношений для членов i.iihkhii коллектива и, следовательно, схем родства.
Последняя особенность нуждается в особом разъ-hi'ik пни. Схемы родства, актуальные для любого, даже амиго архаического из человеческих коллективов, отра-ыны в предании, языке, правилах социального поведения (пк .очая времепной и пространственный аспекты его) и г. д. Эти схемы, как и правила брачных отношений, нужно рассматривать как переинтерпретацию в социальных терминах проблемы продолжения коллектива в но-HiMcino и регулирования половых связен. Социальные । рентуры, возникающие на этой основе, определяют iiiunii широчайший круг фактов, актуальных для кол-зек шва: организация поселения, состав возрастных групп, праздники, экономические, религиозно-юридические, попы плоские функции, особенности языка и т. д. Эти струк-|уры указывают не только характер генеалогических свя-41, по и являются шаблоном, образцом поведения для членов данного коллектива. Связи внутри подобных оцнилыгых структур как бы определяют каналы коммуникации в обществе и служат гарантией его стабильное ш. и ЭТОц смысле правила брачных отношений, дейст-пп к и.по, отражают важнейшую часть процесса упивер- и и.кого обмена («change) культурными ценностями, без второго не может существовать ни один коллек-। пи.
Важно подчеркнуть, что для первобытного сознания । он,пильные факты выступают одновременно и как вещи, к । ак представления. Сама же коммуникация осуществ-iiueH я непременно с помощью знаковых систем. Таким <a>|iii.uiM, исходными и основными для текстов космоло-игнчыио периода нужно считать схемы трех типов: I) 1 ибг । пенно космологические схемы; 2) схемы, описываю
12
В. II Топорпр
щие систему родства и брачных отношений и 3) схемы мифо-исторической традиции. Последние семы состоят, как правило, из мифов и того, что условно можно назвать «историческими» преданиями.
Характерно, что обычно пе вполне яспое различие между этими двумя компонентами традиции для современного исследователя, как правило, весьма четко осознается первобытным сознанием. Можно думать, что «исторические» предания по логике первобытных представлений связапы с учаотполт человеческих существ, подооныт носи телям данной традиции, — во-первых, и с событиями, охватываемыми актуальной памятью коллектива (собственная память рассказчика, память поколения отцов, генеалогические схемы и т. и.),— во-вторых. Любопытно, что сходные «исторические» предания соседних племен квалифицируются внутри данной традиции как лежащие в мифологическом (а пе «историческом») времени. Наконец, существенно, что для «исторических» преданий этого типа все прошлое за пределами охватываемого актуальной памятью лежит педифферепцпроваппо в одной плоскости без различения более пли менее удаленных от времени рассказчика событий. Актуальность «исторических» преданий подтверждается жанром этимологических объяснений основных объектов на территории данного коллектива и его основных социальных установлений.
В силу операционности определения объектов в мифо-поэтическом мышлении (как это сделано?, как произошло?, почему?) актуальная картина мира неминуемо связывается с космологическими схемами и с «историческими» преданиями, которые рассматриваются как прецедент, служащий образцом для воспроизведения уже только в силу того, что данный прецедент имел место в «первоначальные» времена. Следовательно, «исторические» предания (как и генеалогические схемы, схемы родства и брачных отношений), служа в конечном счете одним и тем же целям, образуют как бы временной диапазон данного социума, выраженный в терминах поколений, — от предков в прошлом до потомства в будущем. Поэтому миф, как и мифологизированное «историческое» предание, совмещает в себе два аспекта — диахронический (рассказ о прошлом) и синхронический (средство объяснения настоящего, а иногда и будущего).
। pn6fii.iTJH.ie Представления о мпрс 13
Urn неразрывная двуединая связь диахронии и синхронии — неотъемлемая черт первобытных представле-iitiii о мире. Она объясняет, видимо, и принципы «прочтения» (восприятия) таких текстов первобытным сознанием — синтагматическое развертывание текста есть усто->1н<« «прочтения» мифа, а парадигматический набор повто-(ннтцнхся мотивов есть условие понимания текста, причем само это понимание не что иное, как знание правил (отнесения прецедента с данным актуальным событием, другими словами — умение определить, образом чего нптястся данное событие.
< ледовательпо, для первобытного сознания все, что 14’it. сейчас, — результат развертывания первоначального прецедента, экспликация исходной ситуации в новые условия оплотпяющегося космологического бытия. В этом । мысле все события космологического мифа лишь повторения того, что было в общем виде манифестировано и иие творепия («аллособытия»), а все герои мифа — рпипые вариации демиурга в акте творепия («аллогерои»). Гик впутри космологического мифа создается весьма и пиная, наглядная и тотальная сеть отождествлений правилами переходов (трансформаций) от одного собы-1И11 к другому, от одного героя к другому герою. Перво-Ги.|||1ос сознание поэтому в высшей степени ориентировано я । постоянное решение задачи тождества, с которой свинины, ио крайней мерс, две важные операции — умение ||||д<чъ в событии и герое пучок дифференциальных (су-|<|(ч’тиеппых для различения) и нерелевантных (несущест-1>пцпых) признаков — во-первых, и умение делать пере-। чат между двумя различными объектами — во-вторых.
Ьондество макрокосма и микрокосма.
I (ространство и время. Сакральное. Ритуал.
Чнфопоэтическое мировоззрение космологического периода исходит пз тождества (или, по крайней мере, особой । и шиш пости, зависимости) макрокосма и микрокосма, природы и человека. Человек как таковой один из крайних ипостасных элементов космологической схемы. Его । I» in и, плоть его в конечном счете восходят к космической 'iiiH-рпи, которая, оплогпившнсь, легла в основу стихий и природных объектов (например, элементов ландшафта).
14
В П. Топоров
Существует класс весьма многочисленных мифопоэтических текстов из самых разных традиций, в основе которых лежат отождествления космического (природного) и человеческого (плоть — земля, кровь — вода, волосы — растения, кости — камень, зреппс (глаза) — солнце, слух (уши) — страны спета, дыхание (душа) — ветер голова — небо, разные члены тела — разные социальные группы, п т. д.). Это же тождество определяет многочисленные примеры моделирования не только космического прос траиства н земли в целом, по и других сфер — жилища, утвари, одежды, разные ча< тп которых н.ч языковом и па надъязыковом уровнях соотносимы с названиями человеческого тела (ср. подножие горы, ножка cinow. ножка рюмки и т. п.; ср. также многочисленные случаи антропоморфпЬации неодушевленных объектов в языке, в образных системах — словесных и изобразительных, и т. д.)
Человеческое общество в первобытных представлениях также выступает как сложное сочетанпе элементов с космологической телеологией. Таким образом, для первобытного сознания все космологизоваио, поскольку псе входит в состав космоса, который образует высшую ценность внутри мифопоэтического универсума. Разумеется, в жизни первобытного человека можно выделить аспект злободневности, «низкого» быта пт. д. По жизнь в этом аспекте пе входит в систему высших ценностей, она нерелевантна с точки зрения высших интересов и сугубо профаннчна. Существенно, реально лишь то, что сакрали-зовапо (сакрально отмечено), а сакралпзовано лишь то, что составляет часть космоса, выводимо пз него, причастно к нему [см.: М. Eliadel; но вместе с тем все может быть возведено к первоначальной сфере сакрального. Эта все-сакральность и, так сказать, «безбытность» составляют одну из наиболее характерных черт мифопоэтической модели мира.
Только в сакрализованном мире известны правила его организации, относящиеся к структуре пространства и времени, к соотношению причин и следствий. Вне этого мира — хаос, царство случайностей, отсутствие жизни. Для мифопоэтического взгляда характерно признание негомогенпостн пространства и времени. Высшей ценностью (максимум сакральности) обладает та точка в про-
Кгриооитные представления о мире
15
। |uiпстве и времени, где и когда совершился акт твор< ния, г. с. ifeiihiu мира, мрсто, где проходит мировая ось (axis niiiiiili), где гголт разные варианты земного образа крсми-пч'ын, структуры — «мирового дерева» (дерево жизни, не |ц« ное дерево, дерево предела, шаманское дерево и т. д.), |де находится мировая гора, башня, столп, трон, камень, ii.ricpb, очаг и т. и. — все то, что кратчайшим образом । называет землю п человека с Пебем и Творцом,— и «л начале», время творения, отмеченное высшим подъемом тирчоской теургической энергии. Эти сакральные точки (пространственная и временная) вписаны в серию все унс ошивающихся и друг в дру1а мецд^щх пространств, i.oropi.ic по мерс удаления от центра становятся все менее и менее сакральными (жертва на алтаре — храм — посе-lenue — своя страна и т. д.). Таким образом, центр мира совпадает с центром ряда вписанных друг в друга < акральных объектов, которые в этом смысле изоморфпы ipyi Другу и изофупкциональны.
Пл сказанного вытекает несколько следствий, харак-к рплующих мифопоэтическую концепцию пространства и ьр< меня. Из них особенно важны два. Первое hi них состоит в том, что пространство (как и время) ш । имигеппо и монейтрально (в аксиологическом плане), «нт «качественно» по преимуществу, и его «качество» ииредилиетт я объектами, в нем находящимися, что в свою очередь так или иначе соотнесено с положением данного рин н.н пространства по отношению к центру. По и эта днффиршщированность пространства не остается неизменной: и определенной ситуации, приуроченной к некоему .|Hi«irimoMy временному моменту, указанная простран-iiii'Hiiaii картина динамизируется и, более того, меняет • hioifii иич1ные» характеристики: поединок с хаотическим tij’Hi him ведется уже не на периферии пространства, и и t>iM>iM сакральном центре, который при этих условиях • iiiiiiiiiiiiiji и центром хаотических, вра/кдебных человеку н I I пкнм образом, для архаичного сознапия простран-I он 1ч и, нечто предельно противоположное изотропному | <н иному абсолютному пространству Ньютона, ха-p«i< Hipii 1унпцемуся неизменностью и, так сказать, пусто-1 11, । г босструктурностыо (отсюда — измерение как и по ид» пно единственного параметра такого простран-i н1н> .|||ф1И1оэтическое представление о пространстве
16
В. И. Топоров
и времени скорее напоминает пространство и вре,мя естествоиспытателя (ср. идеи Вернадского).
Второе следствие заключается в том, что мифопоэтическая концепция в принципе соотносит пространство и время друг с другом теснее и органичнее, чем это предусматривалось до открытий Минковского и Эйнштейна (пространственно-временная непрерывность). В критической ситуации — на стыке Старого и Нового года — и пространство и время теряют свою прежнюю структуру, «разрываются», остается лишь слитая воедино пространственно-временная точка, в которой все и решается и которая становится зародышем будущего пространства и будущего времени, создаваемых заново в каждом новом цикле творения. Любопытно, что языковые данные ряда архаичных традиций доставляют немало свидетельств исходного тождества как в обозначении указанных пространственной и временной точек (здесь и теперь), так и в обозначении всего объема пространства и всего объема времени (круг земли — круг времени как выражение идеи Вселенной и Года).
То, что было вызвано к бытпю’в акте творения, может и должно воспроизводиться в ритуале, который замыкает собой диахронический и синхронический аспекты космологического бытия, напоминает о структуре акта творения и последовательности его частей и тем самым верифицирует вхождение человека в тот же самый космологический универсум, который был создан «в начале». Это воспроизведение акта творения в ритуале (подобно повторениям в сказке) актуализирует самое структуру бытия, придавая ей в целом и в ее отдельных частях необыкновенно подчеркнутую символичность и семиотичность, и служит гарантией безопасности и процветания коллектива. Отсюда и роль жертвы, которая с точки зрения первобытного сознания связывает здесь и теперь с там и тогда.
В свете сказанного ясно, что космологическая драма — пример и руководство в жизни человека той эпохи. Чтобы воспроизвести акт творения в ритуале, необходимо уметь найти центр мира и тот момент, когда профаническая длительность бездуховного и безблагодатного времени разрывается, время останавливается и возникает то, что было «в начале» (ср. понятную в этой связи практику ритуальных измерений и вычислений в обществах архаич-
•|i rtii.iiiUip представления о мире I/
ни и unia, которая с точки зрения современного паблю-IHI4IH полностью оборвана от практических целей).
Ил пременпом плане ситуация «в начале» повторяется •ш иримн праздника, помещаемого в центре вписываемых ipvi 11 Друга циклов (время ритуала — день ритуала — 11НД1О11.1П1Й, месячный, годовой, сверхгодовые циклы, пилон, до космических эпох типа древнеиндийской юги « IH древнегреческого эона). Праздник своей структурой iiui’iipoiiinioAHT порубеясную ситуацию, когда из Хаоса пони и киот Космос. Он начинается с действий, которые |||>ыи111Л1ол()ЯС1Ш тому, что считается в данном коллективе нормой, г отрицания существующего статуса, и заканчи-Н1н и я восстановлением организованного целого путем iiii|> |.|>1>|>1!ц11пции элементов Космоса и Хаоса с помощью < io H-мы общих семантических противопоставлений цм и же).
• om.iiijTi твепно строится и образ творения — ритуал. Ih rtiijui.ir положение — мир распался в Хаосе, задача — HHU-1 piipoii.iTb Космос из его составных частей, зная правили । i ождествления этих частей и частей жертвы, в част-Ai<i in чнлшюческой; далее — произнесение жрецом текста, Inin ржащего эти отождествления, над жертвой, находя-Н|| Ih и пн алтаре, соответствующем центру мира; наконец принятие лсертвы, прообразующее синтез Космоса.
Ни । лучийно, что смысл жизни и ее цель человек к цп ini irioi кого периода видел именно в ритуале, основ-i»i>4 ..i*> i минной и экономической деятельности челове-
i'(hiiin кпллектиаа. В этом смысле нужно понимать и так л ‘inrtiiiHMhili прагматизм первобытного человека (ср. ра-
।. <> II ,М или конского и других последователей функцио-||<л|пмн) который ориентирован на ценности знакового ин|<111(|||| и ифлидо большей степени, чем на материальные Hritiiin 1 и, Хиги бы в силу того, что последние определяются •*|1Ы>1Ы11| по но наоборот.
11 pin «in in'inocTb ритуала объясняется прежде всего *im Ч1П пн валяется главной операцией по сохранению । in мт и, но управлению им, по проверке дейст->»нп>1г и 1<г<> cnii.ien с космологическими принципами г, л in 1 iihiiivii'ibiih). Отсюда—первостепенная роль prti | и m 11 цпфопоэгической модели мира, установка па •г 'iHiitixihi nit.xM для тех, кто пользуется этой моделью. • iflii o 11 ритуале достигается высший уровень сакраль-
18
В. II. Toiio|i
ности и одновременно обретается чувство наиболее ни тенсивного переживания сущего, особой жизненной пол ноты, собственной укорененности в данном универсум' Стержневое место ритуала в жмзим архаичных коллектп вов (по имеющимся сведениям, «праздники» могли занимат ь половину всего времени) вынуждает признать, что в мифе поэтическую эпоху основой религии, ее нервом является именно ритуал, таинство, священнодействие. Мифология как таковая в этой ситуации занимает периферийное место: она обслуживает сферу прецедеюа и мотивировок, иногда она выстраивает свои относительно полный ря ; параллельно ходу ритуала, но этот ряд всегда реализуется в форме, напоминающей словесную отсылку, комментарий, своего рода сноску. Если при этом учесть, что архаический основной ритуал предполагает не только участие всех членов коллектива в нем (причем не тольнв и не столько как зрителей, но —в объеме всею ритуала и как участников; в этом смысле ритуал (напр., австралийский) справедливо сопоставляется с liappening'oM. где эстетическая отчужденность может и отсутствовать), но и своего рода парад всех способов выразительности, всех знаковых систем (естественный язык, я «ык жестов, мимика, пантомима, хореография, пение, музыка, цвет, запах ит. п.; ср. типологически более позднее храмовре действо — Флоренский), никогда более не образующих такого всеобъемлющего единства, то напрашивается вывод о том, что именно ритуал выступает как своего рода колыбель изобразительного искусства в его синкретической форме. В условиях, когда воспринимаемое и воспринимаю щес, актер и зритель, содержание и форма в акте ритуала многократно меняются местами, когда основные ценности данной модели мира разнообразно проверяются, в частности и путем их ритуального ратвенчания, #хаотизацпп» приведения к абсурду, к противоположному, — теургическая энергия, активность мпфопоэтического мироощущения и творчества, прорывы в духовные глубины возрастают и учащаются. Можно думать, что живая мифопоэтическая мысль преимущественно развивается именно в подобной ситуации, в зазорах между неподвижно покоящимися частями общей схемы ритуала. Следовательно, и искусство, поскольку оно включено в названные выше трансформации и в сферу импровизационного, не может
imiifii.i-nb.ie представления о мире 19
пн принимать участия в создании новых мифопоэтических •шелон и в решении теургических задач. При таком по-oiiMfiniiH архаичное «предчсчусство» не только форма, но и одержание, суть мифопоэтического. Аналогии с дзен-ц иньским искусством, эстетика которого ориентирована lei равенство творческой активности художника и зрителя, ни неопределенность соотношения (свободную игру) inopn.1, твари п творчества, па поясность границ между пи 'иным и неявленным, при всей сложности таких I nioi'iaii.'KHiiin, могут отчасти бросить луч света па твор-к • । ую, мпфостроптельпую функцию как ритуала, так и * пинанною с ним искусства в архаичную эпоху.
1|*<р1. — первосвященник, поэт.
О новной» миф
ll'itoiiiio тому как ритуал и праздник суть образы акта iiii'Iii-iiiiH, главная фигура ритуала царь в роли первосвя-1ш ннпьа является диахроническим вариаптом демиурга.
I in первобытного сознания царь, несомненно, был участ-HiiiioM космологического действа, а нс исторического про-111-1111; ею роль в обществе определялась его космологи-!•’ |<пми функциями, сходными с функцией другие сакральны» представителей «центра мира» — как ипостасных, hi и н по ипостасных. Отсюда — вера в божественность гири, и то, что он носитель идеи порядка, закона, спра-i»r1 пнкн ти, подобно солпцу, с которым связываются те же pi к жилеиня в сфере природных явлений. Уравнение Hnfi царь- солнце (небо) и царица—земля подчеркивает , । н каря в космологическом плане (ср ритуальный ран цари с землей в связи с мотивом брака Солнца и 1 млн), кик и возможность сведения социального и нрирп iiiiiro аспектов в один — космологический [см.: lloIHlI, l''l'llllkfort И др. 1-
Природа и человек, макрокосм и микрокосм обслужи-»'Н>чг1| п мифопоэтической традиции одним и тем же । O'iiupt-м понятий. Сцеди них одно из важнейших свя-•ЧН'1 г идеей оответствия некоей мере, закону, призна-iiMiMiiMy справедливым (ср. понятия типа maal у древ- цн '111411111, ria — в Древней Индии, Абуо? и Aix-q —
(pi-uni'll Греции). Употребление этих понятий позвони । । Н'лнп. вывод о наличии единого общего принципа
20
В Л Топоров
организации тех сфер, которые позже рассматривались не только как разные, но и как противоположные друг другу. Как царь — образ демиурга, так и каждый человек в сакрально отмеченный момент (рождение, свадьба, смерть) — образ царя, и соответствующие обряды (особенно свадебные) моделируют первые прецеденты (ср., напр., свадебпую номенклатуру и т. п.). В этом отношении фигура царя — это то посредствующее звено, которое, связывая человека с актом творения, космологизи-рует его.
Другая важнейшая фигура космологического пери ода — поэт с его даром проникновения с помощью воображения в прошлое, во «время творения», что позволяет установить еще один канал коммуникации между сегодняшним днем и днем творения. С поэтом связана функция памяти, видения невидимого — того, что недоступно другим членам коллектива, — ив прошлом, и в настоящем, и в будущем. Поэт как носитель обожествленной паляти выступает хранителем традиций всего коллектива. Память, противостоящая забвению, воплощенному в мертвой воде и связанному с царством мертвых, фиксируется в поэтических текстах о событиях времени акта творения, причем последовательность этих событий (при общей циклической схеме времени) отражается во временной структуре повествования. При этом само повествование, поскольку опо должно репродуцироваться и передаваться во времени, строится с учетом возможном ей человеческой памяти, чем и объясняется употребление формул па всех уровнях текста, дублирование содержательной структуры звуковой и т. п., что и обеспечивает максимальную экономию в организации текста и его необычайную помехоустойчивость. Для выполнения этих задач поэт не может не анализировать язык и не соотносить его элементы с элементами космо логического ряда.
Вместе с гем поэт — творец слова, которое есть кратчайший путь между мыслью и делом. Сама эта триада мысль — слово — дело, берущая начало в архаичных представлениях мифопоэтической эпохи, выступает как свидетельство взаимосвязи перечисленных элементов — вплоть до возможности их отождествления (ср. особенно частые случаи кодирования понятий «мысль» и «словом
рш'нытпы npi цстаплсппя о миро 21
> И'лово» и «дело» одними и теми же звуковыми комп- игами).
Поэт пе только мифохранитсль и мифотворец. Он — пн рпретатор мифов как в чисто содержательном, так и сугубо прагматическом планах. Оказывается, что все нфы данной традиции суть одип основной миф, пред-шпленпый серией трансформаций; что все эти трапс-ьормаи.ни сохраняют лишь общую «арматуру», являю-Пюгя инвариантной, но меняют или код, или сообщс-чие; что миф, так понимаемый, приобретает универ-гп.пую экспланаторпую силу и тем самым становится । ригмагической категорией. Миф в интерпретации поэта, t впиваемой коллективом, превращается в средство разрешения главных противоречий существования путем 4i'<tiui{uu, т. е. прогрессивного посредничества, при котором основное противопоставление даппой ситуации запнется другим противопоставлением с менее ярким иьнфликтом составляющих его членов. Наконец, именно nuai является носителем мифологической логики «бри-1 ника» (от фр. bricoler — играть отскоком, т. е. поль-•п 1Т1.ся окольным путем для достижения поставленной Hi'iii), которая в системе первобытных представлений iju> ту наст как основная стратегия в отношениях между шпеком и природой. Цель этой стратегии — усвоить • elm хотя бы часть внеположелного мира путем оргапиза-1ЧН, упорядочения его с перераспределением между •1н‘|1лми природы и культуры в направлении последней, I к. от непрерывного к дискретному. Одно из основных |ц и in для этого — создание условий, при которых Kpiipii щые» объекты, оставаясь самими собой, вместе и ч начинают входить как элементы и в знаковые сп-мы.
Исследования в области архаических поэтических । и< ши и лежащих в их- основе поэтических систем (ср. <• «Нино ставшие известными труды Ф. де Соссюра 1см.: niiliinski, 1971] по этому вопросу) показывают, что мн in i звукового состава слов был основой науки о про-• HKu'iiMoii форме слов. Этот анализ предполагал разные пи сознательной деформации слова — его рассечение, р иг ипание, изъятие звуков, их перестановки и т. п. 1 lepiiH.V с этим (и па другом уровне) поэт занимался и цинением» слов, организацией их последовательности
99
В. II. Toni
II то и другое занятие должны были обеспечить не толы; создание поэтического текста, но и его сохранение (npi чем проверка сохранности осуществлялась не только и осознаваемом всеми содержательном уровне, но и на ,и ступпом лишь поэтам «звуковом» уровне). В архаически традициях поэтический текст, слово, как и Вселениу в космологических мифах, «строят», «вытесывают», «купи «плетут», «ткут», «лепят» и т. п. (элементарные термин производства).
Так создается пекий первично организованный ш этический текст из непоэтического. Чтобы оживить поэте вескую силу, увеличить ее, спасти текст от шаблоппзацпи его нужно «перековать», «переплести», «перестроить» даже «разломать», «разорвать», «рассечь». Оказывается что «поэтическое» возникает и функционирует в покое пространстве, определяемом такими крайними состоя ниямп (операциями), как создание и разрушение. Тольк в этом пространстве субстанциальные элементы прион рстают способность репрезентировать нечто отличие от себя и делать нечто явным.
Сказанной выше о социальном статусе позта и о сгн функциях в мифоноэтическую эпоху, об основных «пора циях, совершаемых поэтом при создании поэтического текста, н вспомогательных технических приемах и т. п , позволяет выдвинуть взгляд, согласно которому поэт в архаичном обществе был не только особой ипостасью демиурга или его трансформацией (как творец «вторичной» Вселенной — в слове), но и одновременно его жертвой — во-первых, и, следовательно, во-вторых, может и должен быть объяснен в рамках так называемого «ос новного» мифа. Наиболее существенным в данной связи нужно считать наказание Громовержцем своих детей (числом — трое, семеро или девятеро) за какое-то преступление, совершенное ими самими или чаще их матерью (жепой Громовержца), поср<дством их рассечения, расчленения, разъединения, обращения их в обитателей под земного царства (мир мертвых). Отмеченным среди сыновей Громовержца является младший. Угпатив изначальную целостность и «иебеспость», он приобщается царству смерти, но, найдя там живую воду жизпп, напиток бег смертия, «мед поэзии» (о котором говорится в Ригведе или Эдде), он возвращается на землю в ипостаси обпль-
Ii ,1ичГи.1тп1.1С' представления о мире
lit множественности, неся успех, процветание, богат->но. Он становится родоначальником повой культурной Ч"* 1ПЦ1П1, ее учредителем и гарантом (другой вариант — щи прощение младшего сына в растение, из которого из-«нгоплиется опьяняющий напиток — вино, пиво, сома и 1 и.; ср. этот мотив в связи с Дионисом).
> уть же этой новой традиции — в преобразовании пре иного косного и хаотического мира в мир динамиче-| ц<1Й организации, где только риск, подвиг, поиск могут прнпигти успех. Поэт по идее и является создателем )||>и) нового способа существования. Он — автор «ос-1НИНН11О» мифа, и его герой-жертва и герой-победитель, । уЬынгг и объект текста, жертвующий (жрец) и жертвуемый (жертва), вина и ее искупление, одним словом — I пирен, и тварь (эта принципиальная амбивалентность, и [и ишлагающая возможность наличия двух нротиво-позиций (актера и зрителя), с которых поэт min ыпаег мир, соотносится с более широкой сферой Vlh iinin начала, сопоставимого с боровскцм принципом 1<|||||>|пптельности; ср. непротиворечивость для архаич-H'Hti сознания таких стандартных формул, как «ты — in и гы — не это» или «ты — это, то, другое (третье)» и I п., где предикаты, казалось бы, взаимоисключаю! Ji.fi,VI' друга). Но поэт еще и установитель имен (ономатет): до него Вселенную он сотворил в слове, собрав пн частям, по элементам, которые он отождествил ц выразил в звуке (нужно помнить об установке на моти-|111|11111иппость, сугубую неконвенциональность имени рхпичном сознании: ноэт дает имя вещи или человеку ин тогда, когда он «найдет», откроет, выявит внутреп-Hiniii суть объекта, жестко связанную с ее наименованием), i ц и младший сын Бога, поэт связан и с Небом, и с Зем-oil и с Подземным царством, с будущим и с прошлым
< шли.ю и смертью. Он двигается между этими край-•»*» fiijni и осуществляет медиацию между ними. Поэт, iiiiiinfliii) Орфею, спускается в Преисподнюю, ио возвра-i iiivii, преодолев смерть. Связь с этим миром противо- luiitiincrefi и умение «снять» их делают поэта незамени-|i‘U фигурой в архаичном коллективе — тем более что ! linn коллективы пользовались универсальным двоич-M'lN Индом, организоЬанным как система наиболее общих ....ни пых семантических противопоставлений.
24
В. Н. Топоров
Система бинарных противопоставлений
Конкретно речь идет о выработке в недрах первобытного сознания системы бинарных (двоичных) различительных признаков, набор которых является наиболее универсальным средством описания семантики мира. Следует подчеркнуть, что этот способ классификации не служит лишь операционным приемом позднейшего исследователя. Он вполне объективен и ясно осознаваем в системе первобытных представлений, в частности и потому, что им определяется все поведение членов архаичных коллективов (и прежде всего — ритуализовапное). Обычно такие наборы дифференциальных признаков символической классификации включают в себя 10—20 пар противопоставленных друг другу признаков, одному из которых приписывается положительное, а другому отрицательное значение. Вся система в идеале сводится к одной паре противопоставлений (оппозиций): + ** —, которая в зависимости от избранной кодовой системы или от сферы расщепляется на целый ряд изоморфных противопоставлений. Одна часть этих противопоставлений связана с характеристикой структуры пространства: верх—низ, небо—земля, земля—подземное царство, правый—левый, восток—запад, север—юг", другие — с временными координатами: день—ночь, весна (лето)—зима (осень)', третьи — с цветовыми: белый—черный или красный—черный; четвертые — находятся па стыке природно-естественного и культурно-социального начала: сухой—мокрый, вареный—сырой, огонь—вода; пятые — отчетливо социального толка: мужской—женский, старший—младший (в разных значениях — возрастном, генеалогическом (предки—потомки), общественном), свой—чужой, близкий—далекий, внутренний—внешний (два пос яедних противопоставления, часто синонимичные между собой, омонимичны в том смысле, что принадлежат и к природному и социальному кодам; кроме того, эти противопоставления иногда манифестируются, как дом—лес, видимый—невидимый и т. д.); сюда же в известном смысле относится и более общее противопоставление, определяющее модус всего набора: сакральный—мирской (про-фанический).
Все левые и все правые члены противопоставлений об
Первобытные представления о мире
25
разуют некие единства, отношение между кот орыми может быть описано с помощью более общих оппозиций (уже е локализованных в пространственном, временном, при-одпом или социальном планах): счастье—несчастье 1,0 л я—недоля), жизнь—смерть и наиболее абстрактное тсловое обозначение их чет—нечет.
Противопоставление, существенное и, более того, неразрешимое на данном уровне, может быть «снято», преодолено па более высоком уровне. Наконец, в определенных ситуациях (панр., в черных заговорах, черных ритуалах и т. п.) члены противопоставления могут быть «вывернуты наизнанку», меняться местами, деформироваться и т. п. Особый случай — «снятие» противопоставлений в особых состояниях (медитация, связанная с последовательным восхождением духа; экстатические состояния — индивидуальные и коллективные, например во время праздника, когда наиболее эффективно снимается и нервное напряжение (ср. идеи Давиденкова о психофизическом воздействии ритуала на человеческий организм и т. п.). Показательно, что в этих же ситуациях актуализируются и некоторые другие тенденции, укорененные в мифопоэтическом сознании: нечеткость границ между субъектом и объектом, адепз’ом и patiens’oM (и соответственно—активностью и страдательностью), живым и мертвым, одушевленным и неодушевленным (вообще следует помнить о том кардинальном различии в определении границ между членами двух последних оппозиций, которое существует между архаичным мышлением и более поздними его продолжениями), словом и мыслью, делом и словом и т. п. Тем пе менее в ситуациях, pt уцениваемых как стандартные, и эти противопоставления, и весь набор основных двоичных признаков сохраняет все свои функции.
На основе этих наборов двоичных признаков, являющихся как бы сеткой, набрасываемой на то, что до сих пор было хаосом, конструируются универсальные знаковые комплексы (УЗК), эффективное средство усвоения себе мира первобытным сознанием. Их универсальность опредсляетЬя рядом обстоятельств: при впутрпсемиоти-ческом переводе им обычно соответствуют самые различные знаковые системы и, наоборот, разные и вполне независимые знаковые системы одной традиции переводятся
26
В. И. Топоров
в УЗК, рсли в данной традиции он существует; эти комплексы в принципе должны быть действительны для каждого члена коллектива (причем эта «действительность» соответствует реальному положению вещей или планируй ется как норма, следование которой может достигаться и принудительными мерами); указанные V3K возникают с непремеипостыо в лопе мпфопоэтическон традиции.
«Мировое дерево»
как универсальный знаковый комплекс
Одним ыз папболее распространенных воплощений УЗК нужно считать мировое дерево, образ некоей универсальной концепции, определявшей в течение долгого времени модель мира в мифологических традициях Старого и Нового Света. Мировое дерево стало синтетическим средством, описывающим в мпфопоэтической традиции мир. Так, оно символизирует пространственную структуру мира. Тройное членение по вертикали (верх—середипа — низ, соответственно ветви—ствол—корпи; птицы—копытные—змеи пли другие утопические животные; солнце, месяц, звезды — человек, жилище — атрибуты подземного царства; голова—туловище—ноги; положительное— нейтральное—отрицательное и т. п.) идеально отвечает представлению о динамической целостности и в силу этого может рассматриваться как модель-схема любого динамического процесса, предполагающего триаду: возникновение—развитие—упадок.
Схема мирового дерева в ее горизонтальной трактовке предполагает четверичное членение (передний—задний— правый—левый; север—юг—восток—запад; весна — осень—лето—зима; четыре бога, четыре мифологических героя, четыре ветра, четыре растения, четыре животных, четыре цвета, четыре элемента и т. д.) плюс выделение центра (как места пересечения и тем самым связи вертикали с горизонтальной плоскостью и как места пересечения линий связи четырех координат горизонтальней плоскости). Горизонталь же символизирует ситуацию ритуала: жертва, объект почитания, ,кертвователь — в центре, участники ритуала — справа и слева. Четырех-члепная структура мирового дерева по горизонтали соответствует образу статической целостности, идеально ус-
Первобытные представления и мире
27
тойчнвой структуре. Числовая характеристика мирового дерева обычно константна — семь (три-фчетыре); ср. семь ветвей дерева, семь птиц, семь пебес, семь светил, семь этажей подземного царства, семь мест по горизонтали в изображении ритуала нт. д., чему соответствуют и другие многочисленные в мифопозтической традиции примеры использования семи как совершенного числа (ср. семь (плюс—минус два) как константу, определяющую глубину человеческой памяти); разумеется, саг; рально отмечены также три (сферы Вселенной, высши к ценности, божественных персонажа, героя сказки, члена социальной структуры, социальные функции, иолып>и, повторения и т. д.) и четыре (см. ьыше). В ряде традиций три и четыре рассматриваются соответс гвенно как мужское н женское числа, а человеческая пара, мыслимая как единица, характеризуется числом семь. Во многих традициях вплоть до настоящего времени три— четыре используются как способ обозначения малой приблизительности. Если сумма трех и четырех дает семь, то их произведение дает другое сакрально отмоченное число — двенадцать, широко используемое в мифологической традиции, в частности как «счастливое» число в противопоставлен и и «несчастливому» (тринадцать). В этом смысле можно сказать, что число не только опре деляет внешние размеры мирового дерева, количественные соотношения его частей, по и качественные признаки.
Число оказывается пе только введенным в мир (и его образ), но и определяющим высшую суть его и даже прогнозирующим будущую < го интерпретацию. Следовательно, и число используется как средство «брико-лажа», что — в известной степени — соответствует и ситуации, характерной для современной теоретической математики: «В своей аксиоматической форме математика представляется скоплением абстрактных форм — математических структур и оказывается . . . что некоторые аспекты экспериментальном действительности как будто в результате предопределения укладываются в некоторые из этих форм. Конечно, нельзя отрицать, что большинство этих форм имело при своем возникновении вполне определенное интуитивное содержание, но, как раз сознательно лишая их этого содержания, им сумели придать всю их действенность, которая и составляет их силу, и
28 В. II. Топоров
сделали для них возможным приобрести новые интерпретации и полностью выполнить свою роль в обработке данпых ... Но этот метод доказал свою мощь своим развитием, и отвращение к нему . . . можно объяснить лишь тем, что разум по естественной причине затрудняется допустить мысль, что в конкретной задаче может оказаться плодотворной форма интуиции, отличная от той, которая непосредственно подсказывается данными» [Бурбакн, 1963].
Стратегия архаичного сознания.
Универсальный детерминизм
Для первобытного сознания еще более очевидно, что мифопоэтические схемы, формальная сетка отношений часто предшествуют содержательной интерпретации элементов, ее составляющих, и, более того, сложившиеся формы предопределяют (провоцируют) те или иные содержательные заключения, подобно тому как в аристотелевской логике структурное отношение частей силлогизма предопределяет правила вывода н конечный его результат. Такая ситуация зависит от общей стратегии первобытного сознания, а если говорить о более частных темах, то от особого понимания магическим мышлением структуры причинно-следственного пространства (о чем см. ниже), которое можно назвать, вслед за Юбером и Моссом (Hubert, Mauss, 1904] «гигантской вариацией на тему принципа причинности». Другое следствие той же особенности проявляется в возможности передавать одним и тем же материальным образом параллельную информацию разного содержания. Так, композиционные структуры, сопоставимые со схемой мирового дерева, одновременно сообщают о параметрах вселенскою пространства и правилах ориентации в нем. о временных числовых, этнологических, этических, генеалогических и иных структурах. С этим в овою очередь связано то, что во многих языковых традициях соответствующие элементы разпых структур кодируются одинаково (пли уже эксплицитно формируются подобные уравнения); например, «год», «пространство» и «мировое дерево»; «Бог», «небо» и «день»; «человек», «земля», «смерть» и т. п.
Возвращаясь к теме бинарнзма, следует заметить,
lliinuiiH.iiiii.il представления и мире
29
‘no по многих архаичных коллективах двоичная символи •нгкня классификация непосредственно связана с дуаль-UOII организацией с двумя вождями, двумя экзогамными половинами племени и соответственно — территориями, тпумя предками родоначальниками (ср. близиечныо мифы, Miiiiiiibi двойпнчества п т. и.), двусторонней системой нношений — символических, ритуальных, брачных, экономических и т. п. Одна из характерных черт первобытного сознания заключается в том, что указанные двоичные противопоставления могут реализоваться не только и чистом виде, но и в разных кодовых системах и на разных иерархических уровнях. Таким образом, одно и то же |'|>держание может быть передано средствами растительного, животного, минерального, астрономического, кулинарного, абстрактного и т. п. кодов или же применительно к разным сферам деятельности — религиозно-юридичес-|’ьой, военной, хозяйственной и т. д.
Наличие разных кодовых систем приводит к проблеме классификаторов и классификаций («логика конкретною»), которые п являются основным средством первобытной стратегии в ситуации противостояния природа— культура. Исследователи первобытной культуры уже Давно обращали внимание на пристрастие человека згой эпоаи к разного рода классификациям, которые образуют как бы продолжения ( = приложения) основного текста о творении, доведенные до инвентаря конечных и конкретных вещей и их названий. Необыкновенно тонкая дифференциация различных видов животных и растений,
>м объем подобного словаря и подчеркнутость операционного и таксономического аспекта делают маловероятным заключение, что столь систематическое и разветвленное знание представляет собой функцию исключительно практической полезности соответствующих объектов.
Как замечает Леви-Стросс, многочисленные растительные и животные виды известны человеку — носителю первобытных представлений не потому, что они полезны; скорее наоборот, они считаются полезными, потому что опп заранее известны, потому что они суть звенья универсальной таксономии, где все сакрально значимо. Цель таких классификаций, конечно, не в практическом плане (хотя и он иногда может актуализироваться), а в создании предпосылок для своего рода интеллектуальной
30
В II. Топорок
игры, выработке формальною и достаточно мощного аппарата, который предлагает схемы группировок конкретных вещей, выявляет их сходства и различия, определяет («высвечивает») вещную структуру Вселенной, тем самым закладывая предпосылки для настоящих и будущих содержательных интерпретаций. Такие классификации упорядочивают мир и сами представления о нем, отвоевывая новые части хаоса и космологизируя его. Внутри же космически организованного пространства все связано друг с другом (сам акт мысли о такой связи есть для первобытного сознания уже объективизация этой связи: мысль —► вещь); здесь господствует глобальный и интегральный детерминизм, который, кстати, и является основной предпосылкой того, что Левч Брюль называл «логикой нартиципацнп», наиболее наглядно реализующейся в магических действиях и в магических текстах типа заговоров (не случайно поэтому, что именно в заговоры включаются длиннейшие перечисления, например списки частей тела, лекарственных растений, болезней, вредоносных объектов, элементов пространства и т. п.). Эта особенность объясняет и такие трансформации, как метампенхоз (вера в переселение душ), метаморфозы типа животное -> человек и т. д. — в связи с общей циклической схемой, и выделение сакрально отмеченных объектов (священных предметов типа австралийской чурииги, особых сил /мана, аренда, иддхи и т. д./, персонажей с пуминальной /от лат. пнтеп/ функцией, временных отрезков /алтжира, время снов, время праздника и т. д./), и многочисленные серии отождествлений (вплоть до слияния субъекта с объектом в спекулятивном мышлении и в экстатическом состоянии).
1 лобальпый детерминизм мпфопоэтнческого сознания предполагает идею законосообразности мира, в котором все, что происходит, объясняется действием закона. Но полное торжество закона, вовлечение всего во Вселенной в сферу его действия лишает самое законосообразность ее значения. Парадоксальность ситуации состоит в том, что в этих условиях выбор как категория поведения оказывается исключенным и возникает призрак фатализма. Такое положение отчасти противоречило бы самому существованию Вселенной, мыслимому как ее поведение во времени, как развертывание некоей космо
Иерпобитныг представления о мире
31
логической мистерии с неясным исходом, и, следовательно, этическому началу, предполагающему выбор. Не исключено, что пандстпрмпппзм «будней» уравновешивался той случайностью, неопределенностью, которая определяла всю атмосферу основного годового праздника (снятие всех ограничений, переоценка всех цепкостей, выворачивание логики мира наизнанку, развенчание закона, правила, догмы, нормы ради случая, шанса, исключения) н — в более ограниченном виде — других праздников и ритуалов. В этой связи нельзя, конечно, упускать из вида то обстоятельство, что поэт как непременный участник ритуала также имеет отношение к евгрх-обычпому, исключительному, связанному с крайним риском, цепа которому смерть (см. выше). Можно сказать, что пространство, в котором действует поэт, максимально динамично, опо анизотропно, п в нем нарушаются правила симметрии (жизнь -> смерть —► новая жизнь): оно «дпе-симметрпзируется» (ср. в качестве научной аналогии те же свойства пространства, охваченного жизнью, в отличие от коспого пространства, согласно Пастеру). Следовательно, деятельпос гь поэта и его творения также могут рассматриваться как прорыв в плотной без изъятия ткани законосообразности и универсального детерминизма, как пыход в ситуацию выбора и связанной с ним неопределенности, как интенсификация жизненного начала. Мпфопоэгическая картина в этом отношении возвращает пас к проблематике «Ню World gov'crned by Laws» versus a thorougly Chance World» (приводящей к тем же самым результатам), намеченной Пирсом, подсказавшим и выход из этой альтернативы.
Классификаторы, классификации.
Набор основных операций
В этом всепрошщающем детерминизме одно пз существенных отличий мпропоэтпческого знания от пауки, которая дифференцирует уровни (условия) проявления при-чпппых отношений, всегда имея в виду пекое гетерогенное причинное пространство, одни полюс которого — абсолютный детерминизм, а другой — абсолютная случайность. Среди многочисленных классификаций мпфо-цочтической эпохи существует определенная связь. Опа
32
В. II. Tonopoi
может указывать на аспект тождественности соответствующих элементов в данных классификациях, и тогда создаются концептуальные матрицы, с помощью которых описывается мир, как, папр., в Древнем Китае, Упанишадах, у индейцев зуньи и т. п. (ср. цепочки типа лето— юг—солнце—пебо—огонь—красный—железо—некое жи вотное—некое растение—некая пища—некое боже ство — определенный социальный класс и т. д.). Другое тип связи внутри таких классификаций предполагает прежде всего иерархичность. В этом случае классификаторы определенного типа приобретают исключительное почти универсальное значение и начинают выступите как представители целых совокупностей явлений. Такова согласно современным воззрениям, сущность первобыт ного тотемизма, составляющего основу естественно! классификации.
Различия внутри тотемистической системы исполь зуются для интерпретации широкого круга фактов — п не только природных, но и социально-культурных Другой пример иерархической выделенности определен пого класса классификаторов — первоэлементы (земля вода, огонь, воздух, иногда эфир, металл, дерево, ка мень), которые, с одной стороны, репрезентируют целы» классы явлений, как бы им подчиненных, а с друго! стороны, связаны между собой отношениями особого рода но также построенными по иерархическому признаку Известное представление о системе такого рода мо;кн< получить из древнекитайской традиции, где представ лепы разные «порядки» следования одних и тпх же эле ментов («Космогонический порядок»: Дерево—Огонь-Вода—Металл—Земля; «Современный порядок»: Металл-Вода—Дерево—Огонь—Земля; «Порядок взаимног
порождения»: Огонь —> Земля —> Металл —> Дерево —
-> Вода -♦ Огонь; «Порядок взаимного преобладания (ил разрушения)»: Земля > Дерево > Огонь > Металл
> Вода > Земля). Аналогии таким «порядкам» пред ставлены и в ряде других архаичных традиций. Некот< рые из этих «порядков» задают набор операторов над пер воэлементамп-классификаторами, что создает более моп ную систему моделирования мира.
Еще в раннегреческой нат\ рфилософской традици сохраняются операции подобного рода, например порол
Тсрвобытпые представления о мпрс
33
щппе четырех элеме нтов через циклическое применение гротпвопоставлеиня жизнь—смерть (Гераклит). Суще-:твует также целый класс мифологических и ранпсфило-•офскпх текстов, восходящих к мифопоэтпческой традп-цш, в которых выступает тетрада операторов: рождение (возникновение) — рост (увеличение) — деградация [уменьшение) — смерть (исчезновение). Эта серия операторов описывает и космический цикл, и религиозно-щлософские концепции и — поздпбе — сам процесс по-гнания. Тексты такого рода хорошо известны мифопозти-1ССКОЙ традиции и строятся по следующим основным гринципам: 1) перечисление элементов в разных после-щвательностях (движение по цепи) с введением гумерации или без нее: a) 1A&2B&3C&4D. .
з) A&B&C&D. . , с) D&C&B&A. . , 2) указание мссто-гахождепия одного элемента относительно другого А находится в В, В — в С, С — в D); 3) указание нашла (порождение) п конца (уничтожение) одного элемента относительно другого (Л живот смертью В, В живет смертью С и т. д.); 4) указание «ценности» одного эле-
L лента относительно другого (Л превосходит В, В превосходит С и т. д.). Правила, подобные этим, а также те, 1 <оторые определяют построение «правильных» последовательностей элементов (т. е. таких, когда по данному фрагменту с точностью предсказывается следующий элемент и/или фрагмент), весьма характерны именно для •' архаичного сознания.
[l От предыдущей эпохи мифопоэтическая отличается Существенно более сильной организацией мира, а от последующей гораздо мспьлгей мерностью причинного - гространства. Коэффпцш нт использования таких правил В текстах мифопоэтпческой эпохи чрезвычайно высок.
г
(ризис мифопоэтического сознания.
Наследие архаичного знания *
1 Можно предполагать, что указанные правила, идеально Р уписывающие формальную и содержательную структуру и гтфопоэтических текстов, возникли пли сложились в систему именно в эту эпоху, став тем резервуаром, из кото-и рого н последующие эпохи обильно черпали как элемец-
11 3 Очерки исгориц
34
В. Н. Топоров
тарные логические схемы, так и тропы и фигуры, легшие в основу позднейшей поэтической образности. Подобным же образом ритуал, связанный с мифом творения, дал в последующие эпохи начало эпосу, драме, лирике, хореографии, музыкальному искусству и другим родам и жанрам искусства. Мифопоэтический «бриколаж», интуиция, составлявшие основное средство познания в системе архаичного мышления, в принципе и в общих чертах вполне соответствуют научно-историческому мировоззрению позднейшей эпохи, по крайней мере в том отношении, что и то и другое равным (хотя и разным) образом удовлетворяли глубоко укорененным теоретическим и интеллектуальным потребностям человеческого бытия, хотя и считали основной своей задачей решение чисто практических вопросов.
Кроме того, и первобытное знание и наука исходят из презумпции доверия к миру, с которым они находятся в коммуникации и от которого ждут ответов. Слова Эйнштейна о том, что «Бог изощрен, но не злонамерен», хорошо описывают ситуацию и соответственно объясняют стратегию к ней применимую. Но в отношении первобытного знания к науке есть и другой аспект — преемственность между ними. Если говорить в общем, то для перехода от первого ко второму нужно было деперсонпфици-ровать героев старой космологической мистерии (Земля, Небо, Океан и т. д. стали соответствующими стихиями, а далее — в ряде традиций — первоэлементами, классификаторами и т. д.), придать более абстрактный вид операциям, связывавшим героев в мифе (вместо конкретных актов рождения, смерти — возникновение, исчезновение и т. п.), расслоить старые мифипоэтпческие континуумы и приложить к их составным частям результаты абстрагирования мифопоэтических операций (например, операции возникновения, исчезновения и т. д. применительно к временному и пространственному аспекту бытия), допустить свободную игру, участниками которой были бы элементы мира, а правила определялись бы новыми абстрагированными операциями (создание логически парадоксальных ситуаций за счет максимального снятия дистрибуционных ограничений), привести полученные результаты в соответствие с эмпприческпмп дан-j нтп за счет выделения феноменального и абсоиощ-
Первобытные ирсдслайлснпя о Мире
3..
кого аспектов бытия, и, наконец, проецировать достигнутые результаты на область эпистемологии.
Конкретная же картина того, каким образом из практики ритуальных измерений и числового «брнколатца>> возникали ранпие варианты математической науки, из мифопоэтических териоморф.to вегетативных классификаций возникала зоология и ботаника, из учения о космических стихиях и составе тела — медицина, из размыкания последнего этана в текстах об акте творения — истории, а из спекуляций над схемами мифопоэтическич операций и лингвистического «брпколажа» — начала логики, языка науки (метаязыка) и лингвистики, — хороню известна и многократно описапа. Во всяком случае древнегреческая натурфилософия в лице Гераклита, Пифагора, Анаксагора, история в лице Геродота, логика и математика в лице Аристотеля и Эвклида (и того же Пифагора) сохраняют живые связи с наследием мифопоэтической эпохи.
В еще большей степени то же можно сказать о том, что называют началами науки в Древней Ппдии или Китае. Одним из важных симптомов кризиса архаичного сознания была отчетливо проявляющаяся тенденция к отказу, вернее, к игнорированию концепции гетерогенного пространства. С ней соотносилось еще более ярко выраженное тяготение к геометризации пространства, предполагающее известную независимость меры и формы пространства от находящихся в нем объектов. Реализации этой тенденции довольно многочисленны. Здесь достаточно назвать две сферы: практику ритуальных измерений, часто не имеющих никакого практического значения (ср. древние традиции Двуречья, Индии, Китая, Месоамерики и т. д.), и распространение геометрических символов. Последние (ср. круг, квадрат, мандалу, крест /в частности, как геометризованную замену мирового дерева/, разного рода многоугольники и липни /волюта, меандр и т. п./) составляют особый класс мифопоэтических знаков, по форме идентичных геометрическим элементам и широко использующихся в сфере символики и эмблематики. Хронологические границы появления подобных символов и особенно эпохи лавинообразного возрастания их использования не оставляют сомнения в том, что геометрические символы сигнализируют переход к другой
36
В. Й. tопоров
эпохе. Столт заметить, что структура этих символов часто выявляет непосредственную связь с задачей поиска центра (ср. круг, квадрат, крест и т. и.), членения пространства на равные части (при котором «качественные» характеристики пространства отступают на задний план), определения границ некоего пространства и т. п. Этот этап в развитии геометрической символики, конечно, подготавливает выработку концепции геометрического (т. е. изотропного и пустого) пространства и элементов языка геометрии как науки. Вместе с тем геометрические символы этой эпохи могут рассматриваться и как фрагмент универсального языка описания мира (ср. разные опыты «мифологизированной» геометрии от Пифагора до современности). Стандартность и относительная простота геометрических символов обеспечивает стабильность и заданную точность моделирования мпфопоэтпче-ских объектов с их помощью. Сам геометрический код («алфавит» геометрических символов) связан с установкой на идеализацию и унификацию реальных объектов и поэтому удобен для классификационных целей, в частности для создания универсальных схем, подчеркивающих единство разных сфер бытия. Геометрические символы описывают структуру Космоса в его вертикальном и гори-зонгальном аспектах, оплотняющиеся образы Космоса (Земля, страна, город, поселение, дворец, храм, алтарь), ритуальное пространство и т. п. Такое использование геометрических символов для описания сакрализованниго пространства свидетельствует о том, что сами эти фигуры еще не стали принадлежностью исключительно геометрии. Их семантика в это время, несомненно, еще осознавалась, как, видимо, и позже, в эпоху зарождения геометрии как науки (ср. проблему вписывания квадрата и Kpyia друг в друга в связи с семантикой мапдалы). Сходные тенденции определяли и развитие концепции времени.
Уже то обстоятельство, что циклическая схема акта творения и жизни как вечного возвращенпя, присущая мифопоэтнческому сознанию, была уже в лоне той же эпохи разомкнута (хотя бы в принципе) за счет выпрямления последней — человеческой — стадии творения и гипостазирования ее, — имело исключительное значе ние для развития научного мировоззрения и соответствующей методологии. Дело в том, что указанное выпрям-
Первобытные вреде гавяения о мире
37
теине цепи событий снимало принципиальную необходимость повтор* инн, циклов и тем самым сильно увеличивало количество информации в соответствии с теоретике* информационными постулатами. Хотя и приглушенно, вводилась идея прогрессивного развития, эволюции. А именно в зоне эволюции возникает со шаппе и самосознание отношений между исследователем и исследуемым, что, в частности, является существеннейшим стимулом для развития научного знания. И, конечно, в высшей степени характерно, что современная наука приходит к исключительно высокой оценке операционной ценности и познавательной силы первобытного знания именно в самые последние годы.
Литература к статье
Бурбаки II. Элементы математики: кн. 8. Очерки но истории математики. М.: Изд-во иностр, лит., 1963. 292 с.
Вернадский В. 11. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1965. 374 с.
Вернадский В. II Размышления натуралиста: Кн. 1. Пространство и время в пежиной и живой природе М.: Наука, 1975. 173 с.
Давиденков С. II ЭКлгоциоино-генетпческпе проблемы в невропатологии. Л.: 1947. 382 с.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Л.: Атеист, 1930. 337 с. Флоренский II. А. Храмовое действие как синтез искусств. — Ма-ковец. Журнал искусств, 1921, № 4.
Флоренский II. А. Мнимости в геометрии. М., 1922. 69 с.
Флоренский II. А. Symbolariitin. — Тр. по знаковым системам, Тарту, 1971, № 5, с. 521—527.
Christensen A. Le premier homme et le premier roi dans 1’histoire legendpire des Iranieus. Uppsala, 1918—1939. T. I—II.
Eliade M. La chamanisme et les techniques archaiques de 1’extase. P., 1951.
Eliade M. Aspects du inythe. P., 1963.
Eliade M. Le Sacre et le Prvfan. P., 1965.
Engell J. Studies in Divine Kingship in the Ancient Near East. Uppsala, 1943.
Irankjort H. Kingship and the Gods. Chicago, 1948.
Frankfort H. and oth. Before Philosophy. Harmonsworth, 1969.
Ilocart A. M. Kingship. Oxford: London, 1927.
Hocart A. M. Kings and Councillors. Cairo, 1936.
Hubert II., Mauss M. Esquisse d’unc theorie generale de la magie. — In: Annee sociologiqne, 1902—1903. P., 1904.
Lenncberg E. H. Biological foundations cf Language. N. Y., 1967. Leroi-Gourhan A. Les religions de la prehistoire. P., 1964.
Leroi-Gourhan. A. Prehistoire de 1’art occidentale. P., 1965. Levi-Strauss C. La pensee sauvage. P., 1962.
Levi-Strauss C. Mylhologique. P., 1964—1971, vol. 1—4.
38
В. Н. Теноров
Malinowski В. Myth in primitive psy. hologj. L., 1926.
Malinowski B. A scientific theory of culture and other essays. Chapel-Hill, 1944;
Malinowski B. Magic, science and religion. N. Y., 1954.
Mauss M. Sociologie el anllnopologie. P., 1950
A’redham J. Science and civilization in China. Cambridge, vol. 1, 195'., Vol. 2, 1956.
Peirce Ch. S. The Doctrine of Chances. 1878.
Peirce Ch. S. The Doctrine of Necessity, 1892.
Starobinski J. Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. P., 1971.
Teilhard de Chardin P. Oeuvres. P., 1955—1965, vol. 1—9.
Литература к теме
Маркс К., Энгельс Ф. ( оч. 2-е изд., т. 21.
Брайант А. Т. Зулусский народ до прихода европейцев. М.: Изд-во иностр. лит., 1953. 343 с.
Веселовский А. А. Историческая иоэтика. JL: Гослитиздат, 1940. 648 с.
Ефименко 11 И. Первобытное общество. Киев: Пад-г.о АН УкрССР, 1953. 664 с.
Золотарев А. М. Родовой строй и первобытная мифология. М.: Паука, 1964. 328 с.
Иванов В. В. Двоичная символическая классификация в африканских и азиатских традициях. — Народы Азии и Африки, 1969, № 5, с. 105—115.
Иванов В. В. Чет и нечет. М.: Сов. радио, 1978.
Иванов В. В., Топоров В. И. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М.: Наука, 1965. 246 с.
Иванов В. В., Топоров В. И. Исследования в области славянских древностей. М.: Наука, 1974, 342 с.
Иванов С. В. Материалы ио изобразительному искусству народов Сибири XIX—начала XX вв. М.; Л.: Изд-во АИ СССР, 1954. 839 с.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Л.: Атеист, 1930.
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. — В кн.: Первобытная мифология. М.: ГАИЗ, 1937.
Леоц-Портилъя М. Философия нагуа: Исследование источников. М.: Изд-во ппостр. лит., 1961. 384 с.
Мелетинский Е. М. Поэтика мпфа. М.: Наука, 1976. 407 с.
Морган Л. Г. Древнее общество. Л.: Изд-во Ин-та народов Севера, 1934. 350 с.
Первобытное искусство/Под ред. Р. С. Василевского. Новосибирск: Паука. Снб. отд-нпе. 1971. Т. I.
Рапнне формы шкусства/Под ред. Е. М. Мелетпнского. М.: Искусство, 1972. 479 с.
Тейлор Э. Первобытная культура. М.: Соц. экон, пзд-по, 1939. 570 с.
Тернер В. У. Проблема цветовой классификации в примитивных культурах. — В кн.: Семиотика и искусствометрия. М.: Мир, 1972. ‘
Первобытные пргд< тавлепиг о мире
39
Топоров В. Л. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева». — Тр. по злаковым системам. Тарту, 1971, № 5, с. 9 62.
Топоров В. Н О космологических источниках рапнепсторическнх описании. — В кп.: Тр. ио знаковым системам. Тарту, 1973, № б, с. 106—150. (Учел. зап. Тарт, ун-та; Выи. 308).,
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980. 831 с.
ФреыЭенберг О. М. Поэтика сюжета п жапра. Л.: Паука, 1978. 605 с.
Штернберг Л. Л. Первобытная религия в свете этнографии. Л.: Изд-во Ип-та народов Севера, 1936. 572 с.
Anthropology Today. Chicago, 1953.
Baumann Л. Schdpfung und Urzeit des Menschen im Mylhus der af-rikanischen Volker. B., 1936.
Baumann Л. Das doppelle Geschlecht. B., 1955.
Boas F. Ethnology of the K'vnkintl. Wash., 1921.
Boas F. Contributions to the Ethnology of the Kwakiull. N. Y., 1925.
Boas F. Primitive Art. Oslo, 1927.
Boas F. The religion of the Kwakiutl Indians. N. Y., 1930.
Campbell J. The Masks of God: Primitive Mythology. N. Y., 1959.
Cazeneuve J. La mentalite primitive. P., 1961
The Concept of Primitive. N. Y., 1928.
Durkheirn E. Les fornu ; el-imentaires de la vie reLgieuses. P., 1912.
Ellade M. Le Mylhe de 1'Eternel Retoure. P., 1049.
Eliade M. Traite d’Histoire des Religions. P., 1949.
Eliade M. Le Yoga. Immoralite et Liberte. P., 1954.
Eliade M. Structure ct Fonc.tion du mylhe cosmogonique. — In: Sources orientales. P., 1959, t. 1.
Eliade M. Naissance mystiques. Essai sur quelques types d'initia-tion. P., 1959.
Eliade M. Aspects du mylhe. P., 1963.
Eliade M. Australian Religion: An introduction. Ithaca, London, 1973.
Elkin A. The Australia Aborigines. N. Y., 1964.
Evans-Pritchard E. E. Niter Religion. Oxtord, 1956.
Firth B. We, the Tikopia. A Soi iological study of kinship in primitive Poh tii'Kiti. L., 1957.
Firth B. Rank and rehgion in Tikopia. A Study in Polynesian paganism and conversion to Christianity. L. 1970.
Firth B. The Work of Gods in Tikopia. Melbourne, 1967.
Granet M. La pensee chinoise. P., 1934.
Griaule M., Dieterlen G. Le Renard Pale. P., 1965. T. 1.
Легтапп F. Die Symlinlik in den Religionen der Naturvolkern.
Stuttgart, 1967.
Hocart A. M. The Northern Slates of Fiji. L., 1952.
Hobart A. M. The Life giving myth. L., 1952.
Jensen Ad. E. Mythos und Kull bei Naturvolkern. Wiesbaden, 1951.
Hoppers IF. Der Urmensch und sein Wellbild Wien, 1957.
Kroeber A. L. Anthropology. Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory. N. Y., 1948.
Kroeber A. L. Handbook of the Indians of California. Wash., 1925.
40
В. II. Топоров
Kroeber A. L. Cultural and natural areas of native North America. Berkeley, 1939.
Kroeber A. L., hluckht hn C. Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge (Mass )_, 1952.
Laming-Empereur A. La signofication de 1’art rupestre paleolithiques. P., 1962.
Levi-Strauss C. Les structures elementaires de la parente. P., 1965.
Levi-Strauss C. Tristes Tr^piques. P., 1955.
Levi-Strauss C. Anthropologic structurale. P., 1958.
Levi-Strauss C. L’Honime nu. P., 1970.
Lowie R. Primitive Religion. N. Y., 1924.
Loiaie R. Primitive Society. N. Y., 1961.
Malinowski B. Argonauts of the Western Pacific. L., 1922.
Malinowski B. Myth in primitive Psychology. L., 1926.
Malinowski B. Coral Gardens and their Magic. L., 1935. Vol. I—II.
Malinowski B. Magic, Science and Religion. N. Y., 1954.
Malinowski B. Crime and Custom in Savage Society. L., 1959.
Radin P. Primitive man as philosopher. N. Y., 1927.
Radin P. Primitive Religion. Its Nature and Origin. N. Y., 1957. Schmidt IF. Der Ursprung des Gottesidee. Wien, 1912. Bd. 1—9. Sommerfelt A. La langue et la societe. Oslo, 1938.
Sejournee L. La pensee des ancient Mexicains. P., 1966.
Turner V. The ritual process. Chicago, 1960.
Turner V. The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca;
London, 1967.
Vernant J.-P. Mythe et pensee chez les grecs. P., 1969.
Wharf B. L. Language, Thought and Reality: Selected Writing. N. Y., 1956.
Б. А. Фролов
Астральные мифы и рисунки
Интерес к небесным явлениям и разные способы их отображения в устной и графической формах начали складываться в первобытном обществе эпохи палеолита (древнего каменного века). Материальной, документальной основой для установления этапов генезиса астральных мифов и рисунков с эпохи палеолита служат вещественные археологические свидетельства о деятельности древних людей.
Историко-археологические данные
В конце раннего палеолита, в мустьерский период (около 100—40 тыс. лет назад) на стоянках неандертальцев сосредоточивались и растирались куски красной и желтой минеральной краски (в пещерах Франции: Ля Ферраси, Ле Мустье, Комб-Капель, Ля Кина и др.); выдалбливались ямки на плитах камня (Ля Ферраси), гальках (Тиволи, Италия), вырезались 4-конечные кресты па камне (Цонская пещера в Грузии), кости (Вилен в ФРГ). Погребальные комплексы включали круговые ограды из рогов горного козла (погребение мальчика-неандертальца в пещере Тешик-Таш в Узбекистане), из камней (Монте-Чирчео в Италии). Эти факты рассматриваются как элементы зарождающихся представлений о небосводе, Солнце — «небесном огне», четырех сторонах горизонта (Те-шик-Таш, 1949, с. 75—85; Ефименко, 1953, с. 217—248; Окладнпков, 1950, 19671. Круг, крест, группы ямок (пятен), цвет красно-желтой части спектра, как и смысловой контекст их первоначального использования (в непосредственной связи с практикой сезонных промыслов мустьерских охотничьих общин, с устройством ими долговременных очагов и жилпщ, с культом промыслового зверя и почитанием умерших сородичей, с представлениями о жизни и смерти по аналогии с восходом и заходом светил), — характерные составные части позднейших астральных мифов и рисунков.
42
Б. Л. Фролов
В верхнем (или поздпом) палеолите (около 40—10 тыс. лет назад) у людей современного тина развитие изобразительного искусства имело ряд черт, позволяющих выявить отражавшиеся в них довольно сложные сюжеты мифов о людях, животных, небесных светилах. О развитии солярной символики в этот период свидетельствуют костяные и каменные круги и диски с радиально расходящимися лучами (напр., в Лурде и Гурдане во Франции, в стоянках Афонтова гора-III на Енисее у Красноярска, Сунгирь у Владимира), круги с точкой в центре. В Лурде, Лесшоге, Арюди во Франции солярные круги чередуются с полумесяцами как элементы резного орнамента на полукруглых багета< из рога северного оленя.
Очертания Луны в разных фазах ущербности являются наиболее наглядным, но пе едппствеппым свидетельством наблюдений за Лупой в палеолите. В Евразии от Бискайского залива до Байкала обнаружены серии костей, кусков бивней мамонтов и оленьих рогов, а также изделий из этих материалов и камня, имеющих ряды зарубок, ямок, нарезок по числу дней в 1,2, 3 и более лунных месяцев, расположенные в ритме месячной динамики лунных фаз (Фролов, 1974; Marshack, 1972).
Сложные орнаментальные композиции на художественных изделиях из бивня мамонта (меандры и зигзаги на браслетах в Мезинской стоянке у Чернигова, змеевидные спирали из сверленых ямок на пряжке в Мальте у Иркутска, па Ангаре) показывают, что около 20 тыс. лет назад существовали определенные приемы счета времени по Луне и Солнцу, а также связанные с этими приемами астральные мифы и рисунки, широко распространенные затем в первобытных культурах Старого и Нового Света (Henlze, 1932]. Выделение в орнаментах палеолита периодов по 5 и 10 лунных месяцев, а также украшение скульптурных женских фигурок из бивня мамонта графическими лунными символами подтверждают формирование лунарной мифологии в специфических условиях материнской родовой общины. У охотников ледниковой эпохи, как и у аркт ических народов в недавнем прошлом, жен щины были хранительнпцами лунного календаря, по которому шел счет сроков беременности и родов (цикл беременности — 10 лунных месяцев). Отсюда общие для мировой мифологии идеи связи между Луной и женщиной,
Астральные мифы и рисунки
43
плодородием, судьбой. О практике счисления сроков беременности по лунным месяцам упоминает даже «Илиада», а традиции 10-мссячиого лунного календаря, с которым связан раздел этих мифов, имели одинаковое объяснение у мифических предков древних римлян и у индейцев Америки: на руках 10 пальцев, беременность женщин длится 10 месяцев Нэйлор, 189G, с. 231; Levi-Strauss, 1968, 3, р. 280-282].
В монументальном пещерном искусстве палеолита минеральные краски (в основном красно-желтого участка спектра) служили для нанесения аналогично сгруппированных ио счетно-календарному принципу серий пятеп и других знаков рядом с изображениями животных или внутри контуров их фигур. Яркие примеры этому выявлены в пещерных комплексах с полихромными росписями Альтамиры (на севере Испании), Ляско (Франция), абсолютный возраст которых определяется радиоуглеродным анализом в 15 тысячелетий.
Большие многофигурпые панно на скальных степах и потолках Альтамиры, Ляско, пещер Труа-Фрер, Нио, Комбарель, Фон-де-Гом, Пеш-Мерль, Ла Мут, Габийю (Франция), Ппидаль, Кастильо, Лас Монедас (Испания) позволяют заключить, что и в наскальных изображениях, и в мелкой пластике той норы рисунки и скульптурные фигурки тех же животных (дикие быки, лошади, олени, мамонты, козлы, рыбы, птицы), как со счетно-календарными отметками, так и без пих, входили в тот же смысловой контекст архаической мифологии, что и орнаменты и женские фигурки. Ее центральные темы обращены к периодическим изменениям в природе, совпадающим с динамикой небесных явлений, пронизаны стремлением к успеху коллективных сезонных охот и к плодородию животных и людей, к воспроизводству промысловой дичи, ибо от этих условий зависело не только благосостояние, но и само существование охотничьих общин, их жизпь или смерть. Рациональный опыт простейших астрономических, биологических, геофизических наблюдений, технических и математических навыков тесно переплетался здесь с верой в волшебную силу изображения и заклинания, в магию «космических» или «лунпых» чисел 3. 4, 7, 5, 10, в единство земных и iieoei ны\ явлений |<йротоп, 1'1741.
44
Б. А. Фролов
Преобладание в этот период лунарных изображений над солярными соответствует мнению о том, что в целом мифов о Луне было создано больше, чем о Солнце [Штернберг, 1936, с. 504]. Затем изображения Солнца и Луны, звезд, небосвода стали наноситься на посуду, одежду, жилые и культовые сооружения, на скалы и камни, на принадлежности ритуалов и украшений.
В эпохи мезолита (около 8—5 тыс. л. до н. э.), неолита (с 5 тыс. л. до п. э.) и особенно с началом (в 3 тыс. л. до н. э.) эры металлов растет неравномерность культурного и общественного развития у населения разных районов земного шара. Вследствие этого традиции палеолита в астральных мифах и рисунках либо сохраняются и продолжаются (напрпмер, у охотничьих племен Северной Азии), либо преобразуются (например, у земледельцев и скотоводов Средиземноморья, Западной Азии).
Вместе с тем дошедшие до нас первобытные и классические астральные мифы и рисунки обнаруживают ряд общих черт, доказывающих единство их истоков и развития олицетворение светил в образах животных и людей, отождествление их с предками, аналогии их движения с круговоротом жизни и смерти на Земле, противопоставление функций двух главных персонажей астральных мифов и рисунков — Солнца и Лупы, проецирование на трактовку астральных явлений конкретных семейно-родовых отношений и производственных навыков людей.
Так, сю/кет древнеегипетских мифов о лодке солнечного бога Ра, в которой души умерших ежедневно плывут по небосводу, был распространен, судя по наскальным изображениям «солнечной ладьи*, до северных и восточных районов Евразии [Окладников, 1950, 1959] и в Америке. До изобретения лодкн в эпоху мезолита движение Солнца уподоблялось бегу зверя повсеместно; распространение колесниц в бронзовом веке обусловило новый мифический образ: солнечную колесницу Гелиоса [Кожин, 1968] (ср. образ Солнца — небесного огня, движущегося но небу с оленем, оставшийся на Севере Евразии от Чукотки (в мифах коряков) до связанных с петроглифами Карелии мифов лопарей) [Окладников, 1950, с. 294]. Любопытно, что и в античной науке, напр. в трактовке метеорологических явлений Аристотелем [Aristote, 19411, сохраняется эта аналогия между Солнцем и огпем
Устральпыс мифы п рпсупки
45
(домашним очагом) — одна из наиболее древних и фундаментальных «Парадигм» первобытной мифологии.
Рационально-познавательные
и фантастические аспекты астральных мифов и рисунков
В мифах о Солнце и Луне, как правило, одно из светил представлялось мужчиной, другое — женщиной. При этом Солнце мыслилось как хозяин огпя. Лупа — владыка воды. По представлениям эскимосов и новозеландских маори, так же как древних греков и кельтов, с Луной связаны морские приливы и отливы. В мифах африканских бушменов, австралийцев, индейцев Америки персонажи, связанные с Луной, обладают властью вызывать или прекращать дождь и даже катастрофические наводнения. По одному из сюжетов мифологии даяков (о-в Калимантан) смерть гигантской змеи боа («лунного животного») вызвала столь сильный потоп, что спаслась лишь одна женщина, которая затем нашла палочку для добывания огня и дала начало современному человечеству.
Роль лунного персонажа, вызывающего дожди и наводнения, в легендах многих народов выполняют также лягушка или жаба, так как их силуэт видят в пятнах на Луне. Соответственно изображения земноводных и пресмыкающихся у ряда племен и пародов Америки, Африки, Азии, Австралии посвящены Луне, им приписывается магическая сила воздействия на воду, на плодородие растений и животных, на судьбу людей.
В мифах Австралии постоянными спутниками Луны являлись три змеи (ср. рисунок 3 змей на палеолитической пряжке с древнейшими лунными символами в Мальте), и Лупа обещает людям бессмертие (т. е. циклическое возрождение, подобное возрождению Луны после новолуния), если люди перенесут луппых змей через водный поток, однако люди боятся змей и остаются смертными. Подобные мотивы звучат и в шумерских мифах: змеи ассоциируются с Луной, змея похищает у Гильгамеша траву бессмертия, когда он, решив искупаться, погружается в воду. Традиция связывать движение Луны с идеями плодородия, со змеей и водой, идущая от древних мифов, прослеживается даже у Аристотеля и Плиния.
46
Б. А. Фролов
М. Элиаде и другие исследователи объясняют наличие змей на изображениях богинь и женских персонажей из классической мифологии Средиземноморья (Афина, Артемида, Геката, Эринии, Горгона и др.) связями их с архаическими лунными мифами. Луна и змея были обычными символами идеи плодородия или атрибутами богинь плодородия не только в мифах в Евразии, но и у отдельных племен Африки, Америки, Австралии. При этом мифическая змея нередко почитается как первопредок людей. Тот же М. Элиаде строит следующий универсальный типологический ряд в структуре и динамике лунарной мифологии: «Луна — Дождь — Плодородие — Женщина — Змея—Смерть—Воскрешение» [ELiade, 1964, р. 151].
Однако в мировой мифологии есть множество сюжетов, трактующих в роли лунного животного также и медведя (особенно у народов Северной Азин и Северной Америки), быка (Евразия, районы Африки) и др. животных.
Согласно Плутарху, в облике древнеегипетского бога загробпого царства, подателя воды и жизни Осириса (воплощением которого считался священный бык Апис) архаические мифы подчеркивали связь с лунным циклом: Осирис царствовал 28 лет и был убит при ущербной Луне; погребенный Исидой, олицетворявшей небо (священным животным ее была корова; ср.: «волоокая» Гера и бык — священное животное Зевса в древнегреческой мифологии), он был найден Сетом, охотившимся в лунную почь; Сет расчленил труп Осириса на 14 (по другим версиям — на 40) кусков.
В этой связи важно отметить, что числа 28, 14, 40 связаны с древнейшим лупным календарем и использованы, например, в узорах на палеолитическом браслете* из 5 пластин Мамонтова бивня (узорами фиксирован лунный женский календарь палеолита) в Мазине. В свете такого рода фактов становится очевидным, что первоначальная лупарная мифологии в ее истоках основывалась не на «мистической интуиции», таинственным образом ассоциировавшей земные и небесные явления (точка зрения Элиаде и других западных исследователей), но на реальной организации во времени всей жизнедеятельности охотничьих общин палеолита, па реальном совпадении во времени ряда явлений с движением Лупы. .Пуна существует для измерения времени, счета дней — таков исход-
\| |>,|.1ЬНЫ(’ мифы и рисунки
47
иып смысл, фиксированным в мифах п в самих языках далеких друг от друга народов мира.
В целом мифические функции Лупы, в сравнении с функциями Солнца, представляются более консервативными и универсальными, охватывая прежде всего целый комплекс идей, связанных с матерями прародительницами, начатием, плодородием растений и животных, с продолжением рода, судьбой, здоровьем, смертью, душой, с водой и ее обитателями, змеями, с динамикой метеорологических условий. Сходство этих идей па всех континентах (например, у пигмеев и бушменов юга Африки, эскимосов и индейцев Америки, аборигенов Австралии) не дает оснований для клерикальной их модернизации в духе Вспской культурно-исторической школы (Schmidl, 1926—1931 ]. Аналогии образов первобытных лунарных мифов с образами богипь-матерей в мифологии древних государств (шумерской Гаутумдуг, китайской Нюйва, >ч ипетской Исиды) доказывают, что последние появились ни довольно поздпих ответвлениях от основного ствола и тральных мифов, сложившегося в первобытных родовых общинах. Даже древнегреческая богиня Луны Артемида (как и древнеримская Диана) считалась покрови-.ельницей животных и охоты (почиталась в образе медведицы) и вместе с тем — охранительницей рожениц, дарующей плодородие. Функции эти в их взаимосвязи намечаются еще в сериях женских статуэток верхнего палеолита.
О том, что светила не обожествлялись в первобытном обществе, мы можем судить, например, по следующему архаическому сюжету астральных мифов: мифический герой ловит Солнце (так, в Океании, в мифах новозеландских маори — Мауи ловит Солнце в рыбацкую сеть) и заставляет дневное светило двигаться по небу медленнее— в темпе, удобном для людей. Не менее показателен миф о стрелке из лука, который убивает стрелами 1, 2 и более «липших» солнц и лун, мешавших нормальной жизни людей и зверей. С этим сюжетом связаны, например, пеоли-тические петроглифы Нижнего Амура; мифы керенпого населения нанайцев относят их к периоду, когда расплавленные «лишними» солнцами базальтовые глыбы застыли, сохранив отпечатки людей и животных. Возраст самого нозднего неолитического поселка с керамикой, имеющей
48
Б. Л. Фролов
орнаментацию, аналогичную петроглифам па базальто вых глыбах, определен с помощью радиоуглеродного анализа: 3590 лет. [Штернберг, 1908, с. 156—158; Оклад ников, 1971 ].
Аналогичные представления существовали в других районах Азин, в Америке, Европе. В античном мифе Геракл, обжигаемый в походе лучами Гелиоса, прицелился в него из лука, по солнечный бог спешит помириться с Гераклом, принося ему в дар свой золотой кубок. Герой первобытного мифа мог быть на равных с Солнцем, а в мифологии династического Египта оно уже недосягаемо в своем могуществе.
О связи с почитанием светил многих сюжетов первобытного искусства (независимо от присутствия в них астральных рисунков) свидетельствует ориентация по Солнцу (па юг в Северном полушарии, на север — в Южном) многих групп петроглифов (например, Урала, Сибири, Южной Африки). Однако остается дискуссионным вопрос о принадлежности астральным мифам и рисункам тех комплексов наскальных изображений, в которых нет солярных и лупарных рисунков, поскольку в них не выявлено с достаточной достоверностью изображений каких-либо других конкретных небесных тел и явлений. Вместе с тем, выявляя все больше совпадений в сюжетах петроглифов Карелии и «Калевалы», петроглифов и мифов коренного населения Сибири и т. п., ряд исследователей заключают о космогоническом значении основного массива наскальных изображений животных.
В этой связи важно подчеркнуть, что у первобытных народов, независимо от шумеровавилопский, греческой и римской астрономии и мифологии, 5 видимых невооруженным глазом планет (Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн), вместе с Солнцем и Луной, объединялись в 7 «блуждающих светил» [Штернберг, 1936, с. 5101; существовали также довольно сложные описания созвездий и звездного неба в целом, связанные с практической ориентировкой в пространстве и времени, с организацией промысла животных, миграции которых обычно совершались с астрономической точностью.
Способы описания и их мифическая трактовка зависели от практических нужд первобытной общины. Так, на юге Австралии аборигены называли созвездие Лиры
Астральные мифы и рисунки
49
именем местной птицы, япца которой можно было добывать в сезон, определяемый по заходу созвездия [Тэйлор, 1908, с. 332]. Аналогичный принцип обозначения созвездий в Старом и Новом Свете позволяет попять обусловленность первобытно-охотничьей традицией названия ряда созвездий, в том числе в поясе Зодиака (от грсч. — животное): Телец, Овен, Козерог и др.
В Древнем Египте, Месопотамии, Индии земледельцы первых государств, подобно многим племенам Африки и южных районов Евразии, изображали Вселенную в виде коровы, подобно тому как таежные охотники севера Евразии уподобляли пебо или его части главному промысловому зверю: оленю, лосю, медведю. Так, лопари представляли Орион в виде охотника, стреляющего, как из лука, из Большой Медведицы в созвездие Кассиопеи (оленей); ханты и другие племена на севере Евразии и Америки изображали Млечный Путь как следы лыж охотника, преследовавшего лося (Большую Медведицу)-
В Древнем Египте и у соседних скотоводческих народов тема «небесной охоты» сменяется темой «небесного пастбища»: звезды — телята в стаде небесного пастуха. Вместе с тем, например, аборигены Австралии, американские индейцы, тунгусы в Сибири обозначали Плеяды так же, как и классическая мифология Средиземноморья,— в образах 7 сестер. Коренные жители севера Сибири — энцы — указывали число звезд на небе равным 7000, помимо Плеяд (7 звезд) и Большой Медведицы (7 звезд) [Долгих, 19С4, с. 22 и сл. ].
Такого рода числовые обозначения могли зависеть не только и не столько от непосредственных эмпирических наблюдений, сколько от опосредованных другими сторонами первобытной общественной жизни и достаточно абстрагированных представлений о строении мира. Одно из них у пародов севера Сибири формулировалось в виде утверждения о том, что па небе все группируется по 7 (или по числу кратному 7), в связи с общей семиричной «моделью мира», истоки которой восходят к палеолиту [Фролов, 1974]. Продолжение этой традиции первобытных астральных мифов и рисунков в древних государствах Месопотамии (в частности, шумеры обозначали идею Вселенной тем же знаком, что .и число 7) [Томсон, 1959,
t>0
Ъ. Л. Фролов
с. 79] затем поддерживается и развивается пифагорейцами, тезис которых «все есть число», по-видимому, первоначально имел смысл «все есть число семь» [Маковельскпй, 1919, с. XII. Любопытно, что Аристотель (несмотря на присущее ему последовательно-критическое отношение и к учению пифагорейцев, и к мифологической числовой символике) в упомянутом уже трактате о метеорологии, анализируя качественные характеристики природных явлений, группирует их по три, а общая схема его рассуждений представляется в итоге семичленной [см.: Визгни, 1977, с. 731. Иными словами, мысль великого философа развивается здесь как бы в определенных рамках, формальных границах, соответствующих архаическим традициям греческой мифологии, выделявшей числа 3 и 7, типичные для числовой символики астральных мифов и рисунков большей части древнего населения Старого Света. Кстати, и в изобразительном искусстве Греции архаического периода сохранялись узоры той же конфигурации (спирали, меандры), что мы находим теперь в геометрических орнаментах палеолита, связанных с фиксацией календарно-астрономических мотивов; меандр столь типичен для древнегреческой орнаментики, что всегда считался изобретением греков, а термин «grecque» в его обозначении сохранился и после открытия меандровых узоров (древнейших образцов астральной символики) в палеолите.
Итак, в дописьмспный период истории астральны х мифов и рисунков фиксировались многообразные и сложные представления о наглядных, регулярно повторяющихся небесных явлениях, своеобразно трактуемых в связи с практическими потребностями первобытного общества. На этой основе, как позволяют судить наиболее древпие из известных сейчас письменных источников, около 3 тыс. л. до н. э. в Месопотамии и других древних цивилизациях получают все более значительное развитие астрономия и астрология, сохранявшие, в той или иной мере, как и классическая мифология, специфические культурные традиции первобытного общества. Нити этих традиций вплетались и в ткань античной науки.
Астральные мифы и ршлпки
51
Астральные мифы и рисунки и предыстория науки
Астральные и космологические мотивы, как уже неоднократно отмечалось, относятся к наиболее общим, стабильным, сходным у первобытного населения разных уголков земного шара разделам мифологии. Менее других ее разделов они менялись во времени и в «пространстве» (в ходе расселения человечества по планете).
Это обстоятельство может объясняться, с одной стороны, постоянством объективной основы астральных мифов: повседневно наблюдаемые небесные явления с их регулярной четкой повторяемостью и «одинаковостью» в разных широтах и в разные исторические эпохи — самое наглядное и универсальное свидетельство постоянства и закономерного характера природных процессов. С другой стороны, объяснение может быть обращено к субъективной стороне дела, к каким-то общим свойствам отражения упомянутых природных процессов в сознании и культуре человечества па протяжении его истории или определенного этапа истории.
В послсдпем случае современная наука стоит перед альтернативой, наиболее четко, пожалуй, выраженной еще во второй половине XIX в. в трудах Э. Тейлора и Дж. Фрэзера. По Тейлору, мышление первобытных творцов астральных мифов в основе своей было таким же, как и у современных людей, современных ученых: первобытная и современная астрономия различаются лишь в количественном отношении, так сказать, по количеству сообщаемого ими знания, но эго ступени одной эволюционной лестницы развития науки. По Фрэзеру же, здесь существует глубочайшее качественное различие: астральные мифы должны были создаваться совершенно иным, «магическим» строем мышления, в корне отличным от научного, ибо генезис культуры, по Фрэзеру, шел по триаде: магия — религия—паука. •
Основной упрек, адресуемый Тейлору до сих пор: в его концепции «дикарь-философ» предстает «робинзоном» без социального контекста. Концепция Фрэзера лишь по видимости снимала этот коренной недостаток всей эволюционистской антропологии XIX в., ибо была обращена лишь к одному — культовому аспекту социального контекста
52
Б. А. Фролов
первобытной культуры. Теперь этот контекст в целом изучен гораздо полнее, что позволяет в известной нам первобытной мифологии, наряду с художественным началом, уже на современном уровне исследований выявлять устойчивое ядро познавательного, рационального, зачаточно-паучного начала. Этот подход фундаментально обоснован трудами последователей Э. Тейлора, затем Э. Ланга (1903), Л. Ф. Лосева (1930), Н. Н. Харузина (1901-1905), Дж. Бернала (1956), Дж. Томсона (1959) и др., но имеет значительно более раннюю историю (напр., в России частично выражен еще С. П. Крашенинниковым), широко распространен у полевых этнографов (школы Д. II. Анучина и Л. Я. Штернберга в России, Ф. Боаса в Америке, К. Леви-Стросса во Франции и др.) и у археологов [Ефименко, 1953; Окладников, 1950,1959,1967 и др.]
Вторая, противоположная точка зрения до сих пор представляет первобытные мифы как сугубо и всецело иррациональные, мистические феномены, несовместимые с научной картппой мира. Эта точка зрения наиболее полно выражена в концепции Л. Леви-Брюля о «пралогпч-посги» и мистической направленности первобытного мышления. Вообще первобытная культура, по Леви-Брюлю, даже имея в качестве продуктов «исключительную ценность некоторых произведений и приемов», с точки зрения процессов их создания «не предполагает с необходимостью аналитической деятельности разума или обладания знанием, способным применять анализ и обобщение». 11 далее, первобытные люди вместо размышлений «руководятся здесь своего рода нюхом или чутьем. Опыт развивает или утончает это чутье, оно может сделаться безошибочным, не имея, однако, ничего общего с интеллектуальными операциями в собственном смысле слова» [1930, с. 298-3001.
Основания последней концепции сейчас уже не вы lep-жпвагот критики, и ее несостоятельность в свете современных археолого-исторических и психологических исследований достаточно очевидна [Фролов, 1977]. Здесь же мы ограничиваемся одним примером из обширного, связанного с астральными мифами и рисунками круга археологических свидетельств древнейшего творчества, показывающим, что они имеют паучпое объяснен™ лишь в рамках первого подхода.
Астральные мпфы и рисунки। 53
•
В пещерном искусстве палеолита чаще других животных изображены дикие быки, лошади, олени. При этом на орудиях охотничьего (т. о. прежде всего мужского) промысла изображались лошади и олеин, по практически ни разу — быки, женские фигуры и знаки. Центральная тема монументальных пещерных росписей и рисунков — противопоставление лошадей и быков (последние часто дополнены женскими символами). Отсюда вопрос о смысле такой группировки изображений и о соответствуют!!1 им мифологических мотивах |Loroi-Gourban, 1965].
Интерпретация тем «бык-жепщина» или «лошадь-мужчина» как мистических продуктов «пралогического мышления» (по Л. Леви-Брюлю), или как сексуально-символических иносказаний (по Э. Фрейду), или как «архетипов коллективного бессознательного» (по К. Юнгу) быстро обнаруживает свою бесперспективность. Ситуация меняется с обращением к календарно-астрономическому аспекту проблемы.
Действительно, регулярные сезонные миграции копытных животных плейстоцена совершались в соответствии с годовым обращением Солнца. Этим определялась основа организации охотничьих промыслов палеолита, главного занятия мужчин и главного источника существования всей первобытной общины. Поскольку организация промыслов строилась по солнечному календарю (уже освоенному в палеолите), уже не составляло большого труда отметить совпадения циклов беременности лошадей с длительностью солнечного года, а у самок северных оленей — с 2/3 года.
Наглядное свидетельство тому — узор на пряжке в Мальте (где северные олени составляли Й0% всей охотничьей добычи): в центральной спирали количество ямок (243) соответствует числу дней от течки до отёла у самок северных оленей, и одновременно — зимнему периоду сезонного календаря арктических охотников и оленеводов: здесь зимние месяцы считаются от течки до отёла важенок и называются ио характерным изменениям в физиологии этих животных. Половины указанной величины (по 122 ямки) расположены слева и справа от центральной спирали па пря.ьье Мальты, что позволяет легко полечить число дней в году (243-|-122—365). Последняя величина связывалась с определением цикла беременности
54
Б. Л. Фролов
лошадей и соответствующими наблюдениями за циклом движения Солнца у первобытных народов Евразии, что отмечал еще Аристотель [1940, с. 127]. Напротив, беременность коров исчислялась по лунному календарю как совпадающая со сроками беременности женщин (10 лунных месяцев) — эта величина также была хороню известна в палеолите и фиксировалась графически. В итоге перед нами реальные, практически важные совпадения по астрономическому времени двух фундаментальных основ бытия и сознания людей палеолита: воспроизводство человеческого коллектива и воспроизводство промысловых животных, необходимых для его существования, — ведущих доминант бытия и сознания той эпохи, своеобразно трактованных в астральных мифах и рисунках [Фролов, 1974, 1978].
Существенно в этой с вязи и то обстоятельство, что современные исследования первобытных изображений и связанных с ними устно-поэтических сюи.етов приводят к результатам, сравнимым с данными экспериментальной психологии и психофизиологии в области изучения фундаментальных ‘войств человеческой психики, проявляющихся в различных формах поведения, в творческой деятельности. Тем самым конкретизуется и развивается извест ное общее положение современной антропологии о том, что фундаментальные свойства физиологии и психики современного человека в принципе те же, что и во все предшествующие периоды истории человека современного типа (Homo sapiens), начиная с верхнего палеолита.
В частности, речь идет о постоянстве границ объема оперативной памяти и внимания, определяемых в экспериментальной психологии обычно числом 7 (или 7 + 2) единиц — а это и есть основной круг количественного обозначения исходных пространственных п временных структурных делений в астральных мифах и рисунках с эпохи палеолита. Кроме того, целая серия прямоугольных фигур в искусстве палеолита имеет пропорции 1: 0,62— т. е. соотношение то же, что п экспериментально установленное основным психофизическим законом (законом Вебера—Фехнера) пороговое отношение в процессе восприятия. В пещерах Ляско и Пасьега такие прямоугольники помещены рядом с фигурами оленей и лошадей, как бы выражая ту же идею, что и пряжка в Мальте т< . же пропор-
Астральные мифы и .рисунки
£5
цич с орнаментальным солнечным календарем, но которому можно исчислять беременность самок оленей и лошадей.
Даже если бы эти солярно-зоологические ассоциации с прямоугольниками оказались случайными совпадениями, даже в этом случае налицо графическая фиксация людьми в противоположных концах ойкумены палеолитического искусства Евразии фундаментального свойства человеческой психики — порога восприятия (развитие этого аспекта первобытного искусства в культуре Древнего мира и последующих эпох связано с пропорцией «золотого сечения» — «божественной пропорцией»). Наконец, сравнение хронологически последовательных этапов изобразительной деятельности палеолита позволяет выявить в каждом этапе прямой и побочный (неосознаваемый) продукты творчества. Осознание побочного продукта предыдущего этапа па последующем этапе деятельности также изучается экспериментальной психологией в качестве важнейшего механизма интуитивного «озарения» в процессе научного и художественного творчества.
Такого рода констатации показывают, что нет уже необходимости в гипотезе о качественно отличном от научного мышления «магическом», «пралогическом первобытном мышлении». Дело здесь в разной направленности, различной мотивированности мышления. Кстати, глубокие различия в мотивации познания у представителей «европейских» и «архаических» обществ при изучении последних вызывали вначале иллюзию «ущербности» их интеллекта, неспособности к абстрагированию, логическим операциям. Углубление исследования рассеивало эту иллюзию «ущербпости», «примитивности» мышления и познания в «архаическом» обществе [Фролов, 1974].
Все это значительно проясняет истоки астральных мифов и рисунков и древнейших научных представлений. Орнаменты и фрески палеолита в их «космобиологических» мотивах явно обнаруживают календарный подтекст, рассмотренный нами применительно к фигурам быков, лошадей, оленей. Кстати, такого рода анализ проясняет астральное значение указанных животных в послепалео-литических астральных мифах и рисунках Евразии: «лунного быка», «солнечной лошади» (на севере, от Скандинавии до Чукотки, «солнечного оленя»). Здесь теперь уже нет необходимости прибегать к психоаналитическим схемам.
56
Б. Л. Фролов
к концепции «пралогического мышления», но номятна и логика обращения к ним прежде. Ведь первоначально астральные мифы и рисунки предстают перед современным исследователем как хаотическое смешение разнородных (в понимании и трактовке европейских паучпых класси фикаций) явлений, как нечто чуждое логике современного мышления. Эта иллюзия длится до тех пор, пока изучение астральных мифов и рисунков в качестве реального предмета исследования обращено к уровню индивида, изъятого из временной динамики специфических общественных и экологических условий жизнедеятельности первобытных коллективов. По мере «возвращения» его в эти реальные динамические условия жизнедеятельности иллюзия рассеивается.
Так, в рассмотренных примерах сюжетов астральных мифов и рисунков палеолита выявленные нами и теперь трактуемые как первоначальные астрономические, биологические, математические знания, соответствие которых реальным явлениям объективного мира нс вызывает сомнений, — эти древнейшие представления о мире взаимосвязаны отнюдь не хаотически, не мистически, не по какому-то субъективному произволу, но прежде всего логикой их реальной практической ориентации на удовлетворение специфических общественных потребностей охотничьих коллективов палеолита — потребностей, тесно связанных с цикличностью природных процессов, соотносимых с реальным астрономическим временем.
Разумеется, первоначальный природоведческий каркас астральных мифов и рисунков мог быстро обрастать ассоциировавшимися с ним причудливыми художественными образами и магико-релнгиозпыми представлениями В этом смысле, например, мифические образы «лунного быка» и «солнечной лошади» представляются вторичными образованиями, естественно происходящими из календарноастрономических представлений палеолита. Вместе с тем невозможно доказать противоположный тезис: происхождение знания из магической фантазии. Никакое суеверие (магическое, астрологическое) не могло бы обеспечить построение достаточно четких в математическом и астрономическом отношении, сложных в техническом и художественном отношении промысловых и родовых календарей палеолита.
Лстральпые мпфы п рнсупкп
57
Орнаментально-геометрическая компоновка последних в итоге выражает те же идеи, что и центральные композиции пещерных монументальных ансамблей, в которых, в свою очередь, фигуры быков и лошадей и ряды счетно-календарных знаков даны то порознь, то налегающими друг па друга. Это также говорит об известной самостоятельности зачаточно-научных представлений палеолита п о их взаимосвязях с художественно-эстетическими сторонами астральных мифов и рисунков.
К концу палеолита представ тспия о природе по ограничивались обширным кругом точных эмпирических знаний; было достигнуто, по-видимому, нечто большее: сформировалась идея Вселенной как единого целого [Окладников, 1950], семиричная «модель мира» с 3 вертикальными и 4 горизонтальными делениями, выделялись 4 стихии, сходные с «первоэлементами» древнегреческих космологических концепций (вода, земля, воздух, огонь) [Фролов, 1974; 19781, подлинная сложная предыстория науки, множеством корпей питавшая ее дальнейший рост, ее историю. .__
Литература к статье
Аристотель. О возникновении животных. М., Л.: Изд-во АП СССР, 1940. 250 с.
Бернал Дж. Наука в истории общества. М.: Изд-во иностр, лит., 1956. 735 с.
Долгих Б. О. Мифологические сказки и исторические предания лщев. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 243 с.
Визгин В. П. Качества в картине мира Аристотеля. — Природа, 1977, № 5, с. 68—77.
Ефименко П. П. Первобытное общество. Киев: Изд-во АН УкрССР, 1953. 664 с.
Дожин П. М. Гобийская квадрига. — Сов. археология, 1968, № 3, с. 35—42.
Лонг Э. Мифология. СПб., 1903. 209 с.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М.: Атеист, 1930. 337 с.
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Изд. автора, 1930. 268 с. Маковельский 4. Досократнкп. Казань, 1919. Ч. 3. 189 с.
Ок тдников А. II. Неолит i бронзовый пек Прибайкалья. М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1950. 412 с.
Окладников А. П. Шишкинские ипсаппцы. Иркутск: Кп. нзд-во, 1959. 211 ".
Окладников А. П. Утро искусства. Л.: Искусство, 1467. 135 с.
Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура. Л.: Наука. 1971. Тейлор Э. Первобытная культура. СПб.. 1896 - IS9f Т. 1, 2.
Тейлор Э. Антропология. СПб.: Изд. И- И. Ьнлибина, 1908. 436 с.
58
Б. А. Фролов
Тешик-Таш. Палеолитический человек: Сб. статей. М.: Изд-во МГУ, 1949. 184 с.
Томсон Дж. Первые философы. М.: Изд-во иностр, лит., 1959. Т. 2. 371 с.
Фролов Б. А. Числа в графике палеолита. Новосибирск: Паука, 1974. 239 с.
Фролов Б. А. Изучение палеолитических жилищ па Русской равнине и проблемы содержание палеолитического искусства. — В кн • Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы. Л.: Паука, 1977.
Фролов Б. А. Палеолитическое искусство и мифология. — В кн.: У истоков первобытного творчества. Новосибирск, 1978.
Фрэзер Д. Золотая ветвь. М.: Атеист, 1928. Вып. 1—4.
Харузин И. II. Этнография. СПб.: Гос. тип., 1901—1905. Т. 1—4.
Штернберг Л. Л. Материалы к изучению гиляцкого языка и фольклора. СПб.: Тип. Акад, наук, 1908. Т. I. 232 с.
Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л.: Ип-т народов Севера, 1936. 572 с.
Aristotle. Les meteorologiques. Р., 1941.
Eliade М. Traite d’histoire des religions. P., 1964.
Hentze K. Mythes et symboles lunaires. Anvers, 1932.
Leroi-Gourhan A. Prehistoire de 1’nrt occidentale. P., 1965.
Marshack A. The roots of civilization. N. Y., 1972.
Levi-Strausse C. Mylhologiques. P., 1964- 1971. T. 1—4.
Schmidt W. Die Ursprung der Gottesidee. Miinsler, 1926—1931. Bd. I—III.
Литература к теме
Анисимов А. Ф. Космологические представления пародов Севера. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 106 с.
Аполлооор. Мифологическая библиотека. Л.: Наука, 1972. 215 с.
Боас Ф. Ум первобытного человека. М.: Госиздат, 1926. 153 с.
Котович В. М. Древнейшие писаницы горного Дагестана. М.: Наука, 1976. 100 с.
Лаушкин К. Д. Онежское святилище. — В кн.: Скандинавский сборник. Тарту, 1962, т. 5, с. 177—198.
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976. 407 с.
Окладников А. П., Фролов Б. А. Древности Сибири: петроглифы, орнаменты, мифы. — В кн.: Наука и человечество. М.: Знание, 1977, с. 66—81.
Паннекук А. История астрономии. М.: Наука, 1966. 592 с.
Первобытное искусство: Сб. статей. Новосибирск: Наука, 1971— 1976. Вып. 1. 203 с.; Вып. 2. 180 с.
Пиотровский Б. Б. Археология Закавказья. Л.: Изд-во ЛГУ, 1949.
Рыбаков Б. А. Космогоппя и мифология земледельцев энеолита. — Сов. археология, 1965, № 1, с. 24—47; № 2, с. 13—33.
Формозов А .А. Очерки по первобытному искусству. М.: Паука, 1969.
Фролов Б. А. К истокам первобытной астрономии. — Природа, 1977, № 8, с. 96—106.
Хокинс Дж. Кроме Стоунхендж». М.: Мир, 1977.
И. М. Дьяконов
Научные представления на древнем Востоке (Шумер, Вавилония, Передняя Азия)
Koi да мы говорим о науке древней Передней Азии, то имеем в виду прежде всего вавилонскую науку. Вплоть до эпохи эллинизма (с конца IV в. до н. э.) наука в других странах Передней Азии была не более как ответвлением вавилонской. Могли несколько меняться метрологические системы, восприниматься или же оставляться в стороне те или иные сочинения пли задачи, созданные вавилонской наукой, но всюду переписывались, иногда лишь снабжаясь переводом на местный язык, в основном вавилонские письменные образцы. Так обстояло дело у всех народов, воспринявших клинообразную письменность из Нижней Месопотамии; но что касается народов, имевших собственную письменность, — например, финикийцев, евреев древнего периода и других, — то об их научных представлениях мы попросту почти ничего не знаем. Это, конечно, очень упрощает задачу изложения научных знаний древней Передней Азии: несмотря па то что в ней обитали десятки народов, нам достаточно рассмотреть представления вавилонян и их предшественников — шумеров.
Речь в настоящем очерке, конечно, пойдет пе о практических знаниях вавилонян, а о науке как систематизированных знаниях, причем имеется в виду такая их систематизация, которая выявляет причинно-следственные или хотя бы системные связи явлений и тем самым позволяет увеличивать познания о них.
Шумеры, как позже них и вавилоняне 1 * * * * * VII, занимались
1 Нижняя Месопотамия (ныне в Ираке) с глубочайшей древности
была населена двумя народами — шумерами, язык которых не находится в родстве ни с каким из других ныне известных
языков, п восточными семитами, со второй половины III тыс.
до н. э. получившими название аккадцев. К 200U г. до н. э.
оба народа слились в один народ аккадцев. Аккадский язык
делился по крайней мере на два главных диалекта — ассирийский на среднем течении р. Тигра, язык царства Ассирии (XV—
VII вв. до н. э.), и вдрилонский в собственно Нижней Месопотамии, язык царства Вавилонии, существовавшего с перерывами
60
Й. М. Дьякойов
(если не считать самого позднего периода их истории) систематизацией знаний только в ходе школьного преподавания, и паука у них была либо непосредственно связапа со школьным преподаванием, либо я влилась развитием идеи н методов, возникавших в ходе его. Поэтому в дальнейшем мы вынуждены будем ш е время ориентироваться па точку зрения древних преподавателей; достижения науки, которые могли существовать, по по отразились в дошедших до нас учебных пособиях древних вавилонян, для нас недоступны.
В противоположность мнению, долго господствовавшему в Европе, шумеро-вавилонская наука была ь весьма малой мере связана с культом, магией и астрологией — такое мнение через европейское средневековье восходит к временам Рима, когда под названием «халдеев» 2, «магов» 3, «математиков» действовали шарлатаны, выдавав-
с XX но V I I). до и. э. (XX—XVI вв. — старовавилонский период, XVI—XII вв. —сресневавилонский, или касситский, XI — VI ив. до в. э. — нововавилонский период). После уничтожения царств Ассирии (мпдявамп, 614—605 гг. до и. э.) п Вавилонии (персами, 538 г. до в. э.), аккадским языком (а также шумерским как мертвым «ученым» языком) продолжали пользоваться в ш которых городах Нижней Месопотамии (V в. до н. э. —I в. в. э. — поздиевавилонский период). Аккадскпй был в свою очередь вытеснен арамейским — общим языком Передней Азин второй половины I тыс. до н. э.—первой половины I тыс. и. э.; после VIII в. в. э. арамейский здесь постепенно стал вытесняться арабским, но еще сохраняется кое-где в Ираке, Иране, Сирии, СССР и других странах под названием новоасспрпйского, или новосирнйского. Если аккадский язык относится к восточно-семитским, то арамейский (как древнееврейский или, позже, иврит, п финикийско-пунический) — к западносемптским, а араб скин (и эфиопский) — к южносемптским. В периферийных областях древней Передней Азии были распространены пссемпт-ские языки: на полуострове Малая Азия (ныне в Турции) — хеттский и родственные ему; в северной Сирии, северной Месопотамии и далее к северу вплоть до Закавказья — х у р-рптский и урартский, в Иране — касситский и другие; позже — иранские языки: мидийский, персидский, парфянский и т. п.; в юго-западном Иране был распространен эламский язык, родственный дравидским языкам южной Индии.
2 В действительное ги халдеями называлась группа арамейскпх племен, проникшая в Вавилоппю около 1000 г. до н. э. и постепенно слившаяся с более древним ее населением.
3 Маги, т. е. жрецы иранской релнжи так называемых «огнепоклонников» — зороастризма, тоже в действительности не занимались • никаким волшебством, кроме отправления официального культа.
Научные представления па древпем Востоке 61
шис себя за колдунов п волшебников я навлекавшие ла себя гонения властей, принимавших их всерьез.
Итак, чтобы представить данные о шумеро-вавилонских научных представлениях, нужно прежде всего познакомиться с шумеро-вавилонской школой и подал» икон.
Шумеро-вавилонская школа и педагогика
Нужда в школьном преподавании возникла в Нижней Месопотамии около 3U00 г. до н. э. в связи с изобретением, для нужд больших храмовых, а затем и царских хозяйств, шумерской письменности, сначала иероглифической (рисуночной), а затем более скорописной клинообразной. Этим письмом писали па глиняных плитках углом среза тростниковой палочки. Система клинообразного письма включала несколько сотен знаков, первоначально изобразительных, каждый знак передавал название изображаемого предмета или любое из группы слов, близких к этому названию по значению, а иногда — и по звучанию; но.зже, кроме того, знаки могли обозначать либо только корень этих слов, либо отдельные последовательности фопем (слоги или части слогов), независимо от их места в структуре слова. Слоговые значения знаков выбирались по принципу «ребуса», т. е. в соответствии со звучанием целых слов, обозначавшихся теми же знаками. Более редкие корни и слова могли изображаться комбинациями двух и более первичных знаков [Вайман, 1966; Дьяконов, 1966, с. 37-44, 88-89; Gelb, 1952, с. 61—71, 120-121] 4.
Такой характер письменности заставил начинать обучение письму с зазубривания учеником списка знаков, главным образом путем многократного его переписывания. Зазу бривались также списки различных терминов, которые могли встретиться в хозяйственных документах, в особенности термины, писавшиеся комбинацией из двух или более
В современной науке «магическим действием» называется всякая попытка воздействия па явления окружающего мира, основанная на неправильном представлении об их прпчипно-следственных связях, в особенности же если эти действия не базируются на определенной осознанной религиозно-философской идеология (в противном случае опи называются «культовыми действиями», пли «культом»).
4 При этом омонимы, слова, одинаковые ио звучанию, по равлпч-ные по значению — а в шумерском их было много, — обознача-
62
If. M. ДьЯКОНОб
знаков. Затем преподаватель переходил к следующему этапу: ученикам давались для переписывания легко запоминающиеся текстики, например пословицы, а потом уже и целые литературные произведения — фольклорные пли специально созданные для школы (поучения для школьников); вероятно, давали переписывать также образцы хозяйственных и деловых текстов, а также писем. Религиозные тексты в стали включаться в школьный письменный канон значительно позже так как жрецы долго грамоте пе учились, а богослужебные обряды заучивали наизусть.
Древнейшие перечни знаков были составлены в то время, когда письмо из иероглифического еще не превратилось в клинообразное (не позже XXVIII- XXVII в. до н. э.), и затем переписывались без существенных изменений до второй половины III тыс. до н. э. В течение некоторого времени составление их иногда приписывалось определенным, названным по имени писцам 6 или их писцовым школам, но потом списки окончательно приобрели анонимность.
В связи с тем, что к концу III тыс. до н. э. (III династия из города Ура, 2111—2004 гг. дон. э.) язык преподавания— шумерский — стал мертвым языком, пришлось перестроить характер преподавания и пересмотреть набор бывших в ходу пособий. Принцип их составления в виде перечней (столбцами) и списков, подлежащих зазубриванию без участия логических умозаключений, сохранился, но списки усложнились и удлинились.
При династиях из города Иссина (2021—1794/3 гг. до н э.) и Ларсы (1932—1763 гг. до н. э.), особенно к концу их правления, наблюдается расцвет шумероязычной школы (так называемой e-dub-(b)a). Ее высокие достижения видны из неполного перечня предъявлявшихся при выпуске экзаменационных требований 7. Оканчивающий
лись разными знаками; соответственно могло быть и по несколько знаков с одинаковым слоговым значением.
ь Имеются в виду религиозно-к у л ь т о в ы е тексты; само собой разумеется, что любые литературные тексты били в то время проникнуты религиозной идеологией.
• Шум. sang а в тот период значило, как показал А. А. Ваймап, «писец, чиновник» и лишь позже — «верховным жрец храма».
7 Это так называемый Examination Text A [Landsberger, 1960; S joberg, 1975|.
Научные представления на древнем Востоке
63
учение писец должен был уметь устно и письменно переводить с шумерского па аккадский и наоборот, знать наизусть шумерские писцовые и грамматические термины и шумерское словоизменение (спряжение и склонение), знать шумерское произношение, шумерские эквиваленты любых аккадских слов, различные виды каллиграфии и тайнописи (?), технический язык различных жреческих и других профессий, категории культовых песнопений, должен был уметь руководить хором и пользоваться музыкальными инструментами, уметь составить, завернуть в глиняный конверт и опечатать юридический или хозяйственный документ любого рода, знать математику, включая землемерную практику, уметь подсчитать и распределить рационы для работников, знать различные нормы расходования материалов и продуктов, уметь вычислить объем землекопных работ и т. п. За время курса молодые писцы должны были прочесть довольно много дидактических и литературно-религиозных текстов и даже выучить их канонический список. Но настоящие мудрецы знали и много других вещей, никакого практического значения не имевших, в том числе, например, собрания изречений, часто весьма темных и неоднозначных.
После завоевапия южных городов Ииппура, Ларсы, У рука, Ура вавилонским царем Хаммурапи (1763 г.) и их разрушения его сыном Самсуилуной (1739 г.) центр учености был перенесен в пригород Вавилона — Бор-сиппу, а место сравнительно общедоступной светской школы [ ё - d п Ъ - ( 1) ) а 1 заняла индивидуальная выучка у отдельных грамотеев (нередко — гадателей или низших жрецов, так как к середине И тыс. до и. э. царские хозяйства пришли в упадок, а вместе с тем испытали качественное и количественное ослабление кадры писцов-администраторов, к которым примыкали и светские учителя). Новые учителя гораздо хуже прежних знали шумерский язык. Хотя его не прекращали изучать вплоть до I в. н. э., основным средством письменного общения стал аккадский язык.
Еще в «э-дубе» важнейшее место в преподавании заняли двуязычные терминологические перечни, т. е., в сущности, словари. Ранние их. варианты вошли, вместе с рядом памятников шумерской письменности, в состав первого (шумер ского) «ниппурского потока традиции» (XX—XVIII вв до н. э ).
64
1Г. M. Дьяконов
XVII—XVI века до и. э. были периодом застоя в развитии клинообразной письменности; nunibBXV—XII вв. до п. э. она вповь расцветает — уже как аккадская письменность, хотя п с обязательным изучением шумерского языка, без чего не были бы понятны словесные знаки клинописи. Центры образованности теперь — города Вавилон, Борсиппа, Иссип, Ппппур; создается второй (аккадский) «ниппурский поток традиции», в составе которого принимают окончательную форму и важнейшие филологические пособия.
Следующие «филологические» списки, словари и другие пособия (все они традиционно, хотя и неправильно, называются «силлабариями») были наиболее распространены8:
1) Списки знаков, подобранных по группам в соответствии с их внешнимп формами (не входили в ниппурские каноны).
2) Списки знаков, подобранных по пх произношению (без какого-либо строгого классификационного принципа, помимо того, что мог выдерживаться порядок огласовки: сначала слоги с гласным и, потом с а, потом с i). Произношение более сложных знаков передавалось более простыми слоговыми знаками; приводились также названия знаков (типа старых русских — «аз, буки, веди»). Эти списки носят в науке условное обозначение «Силлабарий S°» (он тоже не входит в ниппурские каноны; дошел преимущественно из ассирийских библиотек).
3) Ниппурский список «Прото-Эа»: перечень знаков с указанием всех чтений каждого знака, а также их названий .
4) Дальнейшее развитие этого списка (в «ниппурском [аккадском] потоке традиции»), условно обозначаемое как «тип Эа»: основным текстом является перечень-серия из сорока таблиц; он назывался у вавилонян, согласно их обычаю, по первой строке всего сочинения
8 Полное научное издание существует только для списков «Прото-Эа», Sa, S6, «Ana itlisu», «l)iinnier=dingir=ilu» и «II AR-ra-hu-bullu», а также для нескольких менее важных силлабарпев. Они выходили с 1937 по 1970 г. в обработке Б. Лапдсбергера, а сейчас издаются М. Спвплем в серии cMaterialen zum sumerischen Le-xikon, Roma»; см. также: Archiv fur Orientforscliung 1957—1958, t. 18, c. 81—86, 328—341. Обзор «< пллабарнов» и литературу по ппм см. [Онпопхенм, 1980, с. 251—257].
Паучпые представления па дрсвпсм Востоке
65
«£-а=А—m.qu» (вариант: «а=A — пади»), дословно: <<(е)а» (есть произношения знака) [условно транслитерируемого ассириологами каь А] в значении «жаловаться» (аккадск. «пади»), Название это сразу определяет структуру перечпя: три его столбца дают: шумерское чтение — самый знак — и аккадский перевод данного шумерского знака при данной его чтении (напомним, что каждый знак мог иметь целый ряд разных чтений). Кроме того, в типе «Е-а А -пади» мог прибавляться еще и четвертый столбец, с названием знака.
Существовали более краткие выдержки из этой полной серии таблиц; одна из подобных выдержек, условно называемая в науке «Силлабарием Sb» и состоявшая из всего двух таблиц, служила в начале I тыс. до н. э. элементарным школьным учебником клинописи.
5) Ншшурский список «Прото-Пзи» — список знаков по их звучанию, включая составные.
G) Расширенный список «1 z i = isatu» (оба слова означают «Огонь», соответственно по-шумерски и по-аккадски); отличается от «Прото-Изи» добавлением аккадского перевода, состоит из 16 таблиц; аналогичны вокабуляры «L u = sa» («Который»), «К a-g а 1 = abullu» («Ворота») H«Nig-(g)a = таккиги» («Имущество»).
7) Список «Di-ri=DIRIG=si«A"u=iz?c<ru» был сразу составлен как двуязычный и включен в ннппурский канон. Первая его строка, она же заглавие, означает: «(как) dirt (читается знак) [условная транслитерация
D1RIGJ, (носящий название) siaku [т. е. f'f' SI+fjAj (и имеющий значение) «излишний, превосходящий» [аккадск. watru]». Список составлен по группам знаков в соответствии с формой их начальных частей и включает только такие знакп, чтение которых отлично от чтения составных частей каждого из них.
8) Ряд двуязычных списков содержит шумерские слова, имеющие более одного аккадского перевода (обычно подбираются еппонимы, по возможности по три). Сюда относятся списки А н - t а - g а 1 =saqil (оба слова значат, по-шумерски и по-аккадски, «Верхний»), «Е re т - 1)11 й= ananlu» («Сражение»), «А 1 а н = 1апи» («Облик, пли рост»).
66
И. М. Дьяконов
9) Наиболее важное сочинение этого типа — это список из свыше тридцати таблиц «SIG4 + ALAM® = nabntlu» («Создание»), датируемый, видимо, касситскпм периодом», т. е. второй половиной II тыс. до н. э. Это тематически подобранный список слов, означающий части тела (в порядке от головы до ног), а также их деятельность.
10) Из ранних шумерских терминологических списков слов (пли составных знаков), подобранных но их первому составному элементу (плп по зпаку-детермипа-тиву), позже был составлен большой словарь терминов «НАН-г а - hubullu» («Долг»),(|. В нем аккадские переводы шумерскпх слов иногда содержат ошибки, поскольку словарь составлялся тогда, когда шумерский язык давно уже вымер.
11) Поскольку некоторые аккадские термины в серии «HAR- г а - hubullu» с течением времени устарели, к ней был составлен дополнительный словарь-комментарий В ЛR. GGD=imm=ballu 11.
* Прописными буквами дается условное чтение знаков, точное чтение которых по-шумерски пам в данном случае неизвестно илп почему-либо безразлично. Здесь речь идет о знаке, составленном из двух: S1G4 (ппдекс указывает на то, что это четвертый по частоте из знаков с чтением SIG) и ALAM; чтеппе этого сочетания не установлено.
10 В этом словаре даются следующие группы терминов: юридические термины (эта часть взята в сокращении из другого пособия — «А па litis иъ, о котором ниже), деревья, деревянные пред меты, тростник и предметы из тростника, глппяпая посуда, кожаные изделия, металлы и металлические изделия, домашние животные, дикие животные, части тела человека и животных, камни и каменные изделия, растения, рыбы и птпцы, шерсть и одежда, местности, пиво, патока и мед, ячмень и другие пищевые продукты.
11 Термин HAR.GUD [вероятно, правильнее читать mur-g u (d)[, по-видимому, означает «воловьп отруби»; аккадское imril означало «средство для откорма»; когда это слово вымерло, его заменило слово ballu «(пищевая) смесь». Комментарии к vcTa ревшим словам составлялись и для других, литературных и нелитературных произведений. Сюда же должны быть отнесены словари аккадских устаревших слов и словарп синонимов. В I тыс. до н. э. делались наивные попытки составлять перечни слов, "группированных по мнимо одинаковому корневом} составу. Следует также отметить перечень-пособие по палеографии [Materialen zum sumerischen Lexikon, III, S. 10; Meissner, II, 1927]. Оно показывает, между прочим, что представление ассирийцев о древних формах клппоппси было довольно превратным, и то же самое видно и из нововавилонских царских надписей.
Чаучные представлений па древнем Востоке
67
12) Помимо обычного «литературного» шумерского языка (шум. е ш е - К U или е m е - g i гх) существовал еще особый «женский» шумерский язык12 eme-sal, употреблявшийся, в частности, в культе богинь. Соответственно был составлен трехъязычный eme-sal — erne-К U — аккадский словарь, «Dimmer = dingi r = ilu» (все три слова значат «бог» на трех языках).
Были также списки — орфографические справочники для написания имен собственных, имен богов п т. п.
В терминологические словари иногда вводились (с соответственными пометами) иноязычные глоссы — хур-рптскпе, или «субарейские», западносемитскпе и т. п. [Frank, 1928—1929]. Встречаются попытки составить небольшие словпнчки иностранных слов [Balkan, 1954|. Позже все важнейшие шумеро-вавилонские «филологические» пособия как необходимые для изучения клинописной грамоты были введены всюду, где распространилась клинопись, иногда снабжаясь переводом па местный язык — хеттскпй [Giiterbock, 1957; Laroche, 19711, хуррптский [Nougayrol, 1968; Thureau-bangin, 19511, занадпосемит-скни угаритский. Известен даже вокабуляр древнеегипетских слов в клинописной транскрипции [Smith, Gadd, 19251.
В форме перечней составлялись также пособия по всем другим наукам — праву, ботапике, медицине, минерало-niu, химической рецептуре, перечни звезд, богов и их храмов (так называемая «Адресная книга богов»), математические таблицы и задачники. Об этих науках мы скажем ниже, а сейчас важно отметить, что и в их изучении первое место отводилось зазубриванию терминологических списков, рецептов и задач.
Описки являлись одновременно н словарными пособиями (по ним можно было найти значение шумерского часто написанных письмом, по ci всем удачно имитирующим монументальные пошпбы конца III—начала II тыс. до н. э. 12 Он употреблялся (и письменности) для речей богинь и женщин, а также евнухов. Тем не менее очень многие шумерологи не решаются признать сше-sal «женским языком», а считают его особым, «изнеженным» или «изысканным», диалектом. Однако существование у многих примитивных народов табу на мужское произношение для женщин хорошо известно пс^этнографическим данным.
68
И. М. Дьяконов
термина, правильное написание того или иного нечасто употреблявшегося слова), и зачатком энциклопедии (они являлись сводками известные по каждой отрасли зпания терминов). По главным образом они служили пособием для самого усвоения грамоты — как шумерской, так и аккадской, — путем постоянного переписывания и заучивания.
Логическому мышлению в вавилонской школе но обучали — тот процесс логически\ умозаключений, результатом которого могло явиться составление таблиц, списков или рецептов, был проделан заранее составителями; мы не имеем ни одного трактата или другого какого-либо сочи нения, посвященного дедукцпп, индукции или другому чисто логическому оперированию с фактами. II, однако, такое оперирование должно было происходить на каком-то этапе
Это видно, между прочим, на примере одного учебного пособия, позволяющего нам представить себе одновременпо уровень старовавилонской грамматической, правовой и педагогической науки. Это тоже двуязычный текст, называемый «К i - KI.К XL - b i - s e = ana itti.su», или кратко «Ana litisu» (сПо извещению об этом»), датируемый в своем окончательном виде, вероятно, серединой XVIII в. до н. э. iMaterialen zum sumerischen Lexikon, I].
Как уже упоминалось, в начале 11 тыс. до н. э. шумерский язык полностью вышел из живого употребления, однако в школах его продолжали изучать, переписывая шумерские литературные и другие произведения, ио обиходным языком был только аккадский. Юридические документы тем не менее все еще полагалось составлять либо целиком по-шумерски, либо по-крайней мере выдерживать все стандартные части юридического формуляра по-шумерски; по-аккадски, помимо имен собственных, нередко делались нестандартные приписки и вписывались клаузулы, специфические только для данного конкретного дела. По иной раз писец — особенно в тех случаях, когда он плохо помнил все необходимые выражения шумерского формуляра, — отходил от этих правил и составлял и другие части документа по-аккадски.
По-видимому, в конце XIX — начале XVIII в. до н. а., когда в Нижней Месопотамии временно началось бурное развитие чагшого предпринимательства и частного права, стороны в участившихся юридических сделках не всегда
Научные нредсгавлспни на дреписм Востоке
69
могли располагать помощью высококвалифицированных писцов, знавших юридическую терминологию и прошедших полный курс шумерского языка. Поэтому документы часто составлялись на варварском, чудовищно искаженном шумерском языке; так, некоторые писцы не умели образовать множественное число от i - 1 а 1 - е «он отвесит» (серебро, т. е. заплатит цену), и вместо i - 1 а 1-е-пе «они отвесят» писали i - 1 а 1- е - m ей буквально «он отвесит опи суть». Положению, видимо, и должно было помочь пособио «.Ana ittiisu». Подобно другим «филологическим» текстам, оно было составлено в двух столбцах (по-шумерски и по- аккадски) и имело следующее содержание:
а) Подборка нескольких фраз, связанных с уведомлением об уплате долга; б) парадигмы спря/кепия важнейших глаголов, встречающихся в юридических текстах, с отдельными иллюстрирующими примерами; в) подборка фраз, связанных с кредитом иод проценты; г) некоторые типичные для процентных документов глагольные формы; д) подборка фраз, связанных с процентным и беспроцентным долгом и с разделом имущества; е) подборка оборотов (в том числе и примеров на употребление притяжательных местоимений), а также глагольных форм, типичных для юридических документов различного содержания; ж) подборка терминов и оборотов, связанных: с сельскохозяйственными работами, и в особенности нужных при составлении арендных сделок, с вопросами наследования и усыновления. Под конец обороты, связанные с наследством и усыновлением, подобраны так, что образуют сплошное повествование, которое прерывается только синонимическими вариантами отдельных употребленных выражений. На этом заканчивается первая часть пособия, занимающая три глиняные таблицы из семи. Далее следует:
з) Подборка терминов и оборотов, связанных: с организацией сельскохозяйственных работ в пределах государственного земельного фонда (на собственно царских землях и па находящихся в частном пользовании) и со сдачей в наем жилых помещении; и) парадигма словоизменения шцрн существительных, встречающихся в юридических текстах («хозяин, дом, поле, сад, раб, рабыня, обязательный взнос в храм, содержание, паек, ячмень» и ДР-): они склоняются как отдельно, так и вместе с притяжательными местоимениями; к) подборка терминов и оборотов, касающихся
70
И. М. Дьяконов
взаимных расчетов сторон, клятв и т. п., связанных с наймом работника; с засвидетельствованием сделок; с различными типами юридических документов; л) подборка слов, которые могут встретиться в различных документах юридического содержания («срок», «рядом», «между», «по ту сторону» и т. п.); м) подборка терминов и оборотов из процессуального права, а также связанных с рабством, с оспариванием рабского состояния и выкупом из рабства (такой выкуп практически мог осуществляться только путем усыновления раба хозяином); н) подборка довольно пространных оборотов и предложений, относящихся к брачному праву. Под конец эти предложения опять приобретают характер квазидокументального повествования, связанного с браком и усыновлением и довольно логично подводящего к полностью приведенному в пособии тексту законов о приемных детях, а затем и других законов, преимущественно по семейному праву:
«Девушка, став женщиной, дала приблизиться к себе для соития. Из ее дома он ее похитил. В дом отца своего он ее привел, брачный договор с нею заключил, брачный выкуп (nf(g)-munusGs-sa) отнес.// Брачный выкуп (приведен альтернативный термин вместо n I (g) - m п-nus-sa:ku(g)-dam-tuk и).// Брачный выкуп свой на стол положил, к отцу (ее) ввел (ее). Он был милостив к ней. //Не был милостив к ней.//Он возненавидел ее и обрезал бахрому ее (платья), ее разводную плату он возместил и привязал к ее лону (и) вывел ее из дому. В будущем муж, что по сердцу ей, можег взять ее (замуж). Он не будет предъявлять о ней иска. Впоследствии перодулу (т. е. храмовую проститутку) с улицы он принял, из любви к ней, в ее состоянии иеродулы он взял ее (заму?к). Эта иеродула приняла сына улицы, приложила его к груди с человечьим молоком, — а отца и матери своих он не знает. Он (же) обращался с ним ласково, не бил его по шоке, вырастил, научил писцовому искусству, сделал крепким, дал ему жену. Отныне и навеки:»
«Если сын скажет своему отцу „ты не мой отец", его должно обрить, сделать ему рабскую прическу 13 и продать за серебро. . .» — следуют остальные законы.
13 Рабская прическа (abbuttu) заключалась в выбривании передней половины волос на голове. При отпуске раба на волю его
Научные представления на древнем Востоке
71
Ив «Ana ittisu» видно, как вавилоняне классифицировали правовые знания, а именно по реальным областям жизни, к которым относятся правовые нормы: правовые отношения, связанные с долгами и кредитом, вообще с различным имуществом, с сельскохозяйственными работами и наймом работников, с рабами и процессами в связи с рабством, с усыновлением и браком и т. п. Отдельно стояло законодательство, также классифицировавшееся сообразно областям жизни, которые оно затрагивало. При этом общих обозначений для отдельных отраслей права не существовало. Все это еще яснее видно по сборникам законов, где уголовное законодательство не выделяется особо, а группируется вместе с гражданско-правовыми нормами по тем же областям реальной жизни. Характерно также, что нигде в письменных памятниках не изложено общих положений права; в то же время, хотя изложение правовых норм и форм казуистично, зто не значит, что каждая из нпх относится к индивидуальному случаю: казус есть образец решения, с которым юрист (судья или писец) должен сообразовываться во всех аналогичных случаях. Поэтому образец можно выбрать разный, что мы и видим в различных вавилонских законодательных сборниках, из которых «Законы Хаммурапи» — только наиболее известный и наиболее разработанный [Дьяконов (ред)., 1952, № 3]. Столь же характерно, что право изучалось путем переписывания либо таких пособий, как «Ana ittisu», либо самих законов (так, «Законы Хаммурапи» переписывали около тысячи лет — спустя сотни лет после того, как они перестали действовать).
Существенно, что, в отличие от Индии, Палестины и многих других стран, в Вавилонии правовая наука была чисто светской и, как и большинство других наук, связывалась со школой и школьным преподаванием.
Однако «А па ittisu» представляет интерес не только как памятник юридической науки, но, пожалуй, не меньше — и как памятник вавилонской педагогики и лингвистической (грамматической) науки.
В отличие от составителей других шумеро-вавилонских «филологических» текстов, одолевать которые учекику
«делали (ритуально) чистым», что выражалось в сбривании и задней половины шевелюры (muttatu): бритоголовыми были и «ритуально-чистые» жрецы.
72
И. М. Дьякопов
приходилось, борясь с непобедимой скукой, автор «Апа ittisu» был озабочен тем, чтобы сделать свое пособие интересным. С преподавательской точки зрения композиция его продумана и рациональна. Автор начинает не с парадигм, а с фраз и тем самым убеждает ученика в том, что, в отличие от привычных ему гигантских перечней слов, здесь он будет иметь дело с осмысленными фразами; после этого успокоенный ученик уже легче переходит к сухим таблицам спряжения (которые всюду перемежаются с фразами и занимают подряд совсем немного места). Дальнейший текст состоит опять из отдельных фраз, а частично — из отдельных глагольных форм: очевидно, предполагается, что проспрягать их ученик теперь уже может, с устной помощью учителя, по аналогии с парадигмами, данными ему выше. Текст все время усложняется, пока не переходит в связное повествование по-шумерски (с переводом па аккадский, как и все остальное в этом учебнике). Повествование сделано сюжетпым, и герой его даже обучается писцовому искусству, чтобы сделать его ближе ученику! Во второй части построение то же, только после начальных фраз введены парадигмы пе глагольных, а именных форм; затем идут все усложняющиеся термины и фразы, подобранные по их юридической тематике, и, наконец, процитированное нами сюжетное повествование, тоже состоящее из юридических выражений, но сделанное занимательным, — и опять один из героев его обучается писцовому искусству; все зто подводит учащегося к сложному, настоящему законодательному тексту ,4.
Любопытно, что «Л па ittisu» включает, наряду с терминами, действительно характерными для юридических документов из Нпппура, также и терминологию, по-видимому, применявшуюся только при устных сделках и переговорах. Как впдпо, автор стремился дать своим ученикам шумерские формулы даже на случаи введения в сделку редких клаузул с тем, чтобы они, по возможности, и и-когда не переходили на аккадскпй.
14 Из школьных поучений мы довольно много з таем о характере преподавания в «Э-дубе», в частности о том. что старшие и более успевающие ученики («старшие братья») были помощниками учителя («мастера»), что отношение учптеля к ученику откровенно зависело от подарков родителей, что учеников били и т. п. (См.: [Канет а, 1966, .N? 2, с. 68—78; Крамер, 1965, с. 17—30)),
Научные представления па древнем Востоке
73
Хотя этот превосходный для своего времени учебник шумерского языка и юридической Терминологии для писцов-юристов и вошел в ниппурский канон, он впоследствии не пользовался популярностью в Вавилонии и дошел лишь в весьма немногочисленных поздпих (VIII—VII вв. до н. э.) ассирийских списках. Это объясняется тем, что после разрушения южных шумерских школ (e-dub -(Ь) а) в 1763-1739 гг. до и. э. (при Хаммурапи и его сыне) уровень знания шумерского языка настолько снизился, что поддерживать традицию ведения документации только по-шумерски стало невозможно; аккадский язык полностью вытеснил шумерский из канцелярий, хотя частично и сохранился в школе и в храме.
Следует сказать несколько слов об уровне грамматических понятий автора «А па ittisu». Анализ классификации глагольных форм в его пособии показывает, что автор последовательно различал совершенный и несовершенный виды, имевшие по-аккадски и специальные терминологические обозначения («быстрый» и «жирный» — т. е. «медленный»), умел отличать единственное от множественного числа, удвоение основы, характерное для несовершенного вида многих глаголов, от «породного» удвоения (разница между простой и удвоенной породой в шумерском языке примерно такая, как между русскими глаголами «везти» н «возпть», «пить» и «попть», т. е. не сводится к противопоставлению совершенного и несовершенного видов). Однако уже падежи, которых в шумерском было гораздо больше, чем в его родном аккадском, составитель «.Ana ittisu» различал плохо; делал он и другие ошибки в шумерском под влиянием родного языка (например, путал шумерский падеж действующего лица, применимый только с глаголами действия, с аккадским именительным падежом, возможным и при глаголах с о с т о я н и я). Существенно, что он понимал необходимость парадигматической классификации грамматических форм (автор другого «Литологического» пособия, «SiG^AL^l—nabnitu», считал*видовые «быстрые» и «медленные» формы не грамматическими, а словарными категориями).
Конечно, мы находимся здесь лишь у первых истоков языковедческой науки.
Из других гуманитарных наук следовало бы, казалось, здесь же упомянуть о начатках истории. Но история как
74
И. М. Дьяконов
таковая никак не была связана с практической деятельностью писцов, а тем самым — и со школьным преподаванием. Начатки истории у вавилонян были связаны с заупокойным культом предков, с попытками находить в окружающем мире явлений предзнаменования важных событий и с нуждами отсчета времени; в этой связи мы и вернемся ниже к историческим представлениям, существовавшим в древней Месопотамии.
Естественные науки в древней Вавилонии были развиты слабо. Едва ли можно считать зачатками ботаники и минералогии списки названий растений и камней из «НАВ-га=7шЬиИи». Позже, правда, появляются, тоже в форме списков, описания отдельных растений («Затти sikinsu») и камней («АЬпи sikinsu»), но они еще не изучены, да и с трудом поддаются объяснению из-за неизвестности терминологии. Затем в канон были включены некоторые химические и растительные рецепты — медицинские, а также, например, рецепты изготовления цветной эмали и цветного стекла; последнее было изобретено хурритами северной Месопотамии или северной Сирии в XVIII в. до н. э. [Oppenheim, Brill, Barag, Soldern, 1970]. Все это тоже подавалось в виде перечней, без всяких обобщений и с расчетом на механическое зазубривание. Специально о медицине мы еще скажем ниже. Если не считать некоторых рецептов, все это было довольно далеко от жизни.
Чаще всего знание рецептур (в сущности техническое) передавалось изустно, лишь частично и неполностью попадая в письменный канон школ, поэтому мы мало о них знаем. Занесение рецептур в канонические записи могло даже тормозить техническую мысль, так как становилось частью традиции «предков», не подлежавшей оспариванию. Но целый ряд областей технического знания — например, строительное искусство — так никогда и не стал достоянием письменности. То же касается агротехники и ряда ремесел. Сохранилось, правда, агротехническое пособие для крупных хозяйств на шумерском языке, и даже составленное в стихотворной форме, а не в виде пер эчня [Крамер, 1965, с.78—84], но, в связи с переходом к мелкому земледелию во II тыс. до н. э., а также изменением агротехнических условий в результате возраставшего засоления почв, это пособие в дальнейшем не переписывалось.
Научные представления па древпем Востоке
75
Если пе считать нужд писцов-администраторов и хозяйственников, отчасти правоведов и жрецов, то можно сказать, что шумеро-вавилонская школа была далека от практической жизни. Особенно наглядпо видна степень оторванности вавилонской науки от практики на примере географии. Существовали перечни городов с расстояниями между ними (далеко не всегда реальными 16 — да и списки городов переписывались даже тогда, когда самих городов давно уже пе существовало), планы городов (довольно близкие к действительности, например план г. Плппура) [Meissner, 1925, II, рис. 541 и даже известна карта мира (там же, 378). Последняя носила чисто мифологический характер: земля была представлена в виде круга, обтекаемого Мировым соленым океаном, огражденным Плотиной небес; в Мировом океане были указаны отдельные острова, посещенные мифическими героями. Па севере земли — горы Урарту, на юге — Болотистая лагуна (=Персидский залив); от гор до моря землю пересекают Тигр и Евфрат. Эта карта была начертана, видимо, в начале I тыс. до п. э., т. е. в те времена, когда купцы Передней Азии знали пути в Испанию (Таршиш), Африку и Индию! Правда, купцы, вероятно, держали свои географические познания втайне от официальных лиц, однако упоминания весьма дальних стран не так уже редко встречаются в шумерской и вавилонской письменности (не школьной).
Техническое обучение, как и вообще все области жизни, не касавшиеся деятельности писцов, не входило в поле деятельности «э-дубы». Основной задачей школы, а позже индивидуальных учителей было учить нелегкой клинописной грамоте во всей ее сложности. Падо сказать при всем том, что грамотность в некоторые периоды истории Вавилонии была распространена удивительно широко. В эпоху «э-дубы» (т. е. в старовавилонский период) какой-нибудь старший пастух мог, не прибегая к помощи писцов-специалистов, вести учет скота, порученного отдельным пастухам, и не делал при этом арифметических и орфогра
16 См., например, список расстояний между городами в царстве Саргона Древнего, царя города Аккада (XXIV—XXIII вв. до н. э.), составленный, видимо, во II—I тыс. до п. э. [Дьяконов, 1959, с. 222] с реальным купеческим дорожником или, вернее, отчетом о расходе па проводников по дороге между различными городами [Goetze, 1964, с. 51—73[.
76
И. М. Дьяконов
фических ошибок; так, он правильно писал имена собственные, — правда, лишь такие, которые имелись в зазубренном им списке-справочнике. Это пе значпт, конечно, что старший пастух мог читать шумерские гимны и эпосы или что грамотный жрец умел произвести бухгалтерские или адмипистративпые подсчеты. Хотя зваппе «писца» (шумер. (1 и I) - s а г, аккад. lupsarrum) было общим обозначением образованного человека (и часто ценилось выше различных конкретных чинов), однако средн писцов существовало определенное разделение труда. Высшую группу представляли люди, называвшие себя «шумерами» — пе в этническом смысле, а в смысле высшей образованности.
Система счисления
Помимо обучения грамоте, одной из основных задач шумерской школы было обучение счету [Веселовский, 1955; Вап-дер-Варден, 1959; Нейгсбауар, 1968; Ваймап, 1961; Выгодский, 1967; Neugebauer, 1935—1937; Neugebauer, Sachs, 1945; Thureau-Dangin, 1938J. Эта дисциплина была тоже далеко пе легкой, имея в виду, что сам шумерский язык предполагал сложную пятирично-десяти-рично-шестпдесятиричную систему счисления 16, а на
10 В шумерском языке числительные были следующие (со звезточками — реконструированные филологами формы):
1 — а § (пли d i S), 2 - m in, 3 — e S u s n3, 4 — 1 i m, 5 — i [иначе: 1 — aS, 2 — min -a, 3 — *eS-a,4 — limu (< ♦] i m - a), 5 — i - a[.
6—i-aS, 7 — i-min, 8 — usu (из *i - u s u?), 9 — i-1 i ni (u), 10 — h ii.
20 — n i S, 30 — u s s u (из * n i S - Ij u?), 40 — n i (8)-
min, 50 — n i n п u (из * n i s - m i n - [) u), 60 — d i S, g e S.
Дальнейшие разряды обозначались так:
(60Х10)=600 — g е S - h u, (600X20) =4200 — g е S - (j u -min, u т. д. до (600X5)=3000 — geS-hu-i a;
(60X60)=3600 — sar (3600x2)=7200—sar min и т. д. до (3600X9);
(3600ХЮ)=3600 — s а г - h й, (36000X2)=72000 — 8 а г-Ь й - m i п и т. д. до (36000X5);
(3600X60)=216000 — sar-diS и т. д. до (216.000X9); (216 000ХЮ)=2 160 000 — Sar-diS-Ьй и т. д. до
(2 160 000X5);
По-видимому, первоначально счет был на пальцах до одной руки (i), потом до двух рук (h й), до двух рук и двух ног (n i 5), при-
Паучпые представления па древнем Востоке
77
письме для неименованных чисел существовала непози-циоппая десятирично-шестидесятиричная система счисления, где цифры Г ГГ ПТ FF FF FTF W означали числа от 1 до 9, десятки обозначались таким же повторением знака f, шестидесятки обозначались так же, как единицы (или более крупными черточками). Но вавилоняне, имевшие, в отличие от шумеров, десятиричную систему счисления, ввели новые обозначения: г г- ггг- гггг- ш г>- , которые означали 100, 2U0, 300, 400, 500 и т. д. Цифры Г и т. д.
означали у аккадцев 1000, 21100 и т. д.; но числа 3600 и т. д. обозначались по шумерской системе. Еще сложнее была система именованных чисел, имевших свои особые цифровые обозначения для каждой системы единиц мер (длины, площади, веса и т. д.), причем отдельные разряды в такой системе могли и пе быть кратными 10 или 60.
При этих условиях удивительно, как мало ошибок делали шумерские писцы в подсчетах для хозяйственных документов. Это объясняется тем, что они очень рано — во всяком случа« еще в 111 тыс. до н. э. — специально для вычислений придумали упрощенную шестидесятиричную позиционную систему. Вычисления первоначально производились, вероятно, двумя родами камешков (скажем, черным и белым) прямо на земле, расчерченной на столбики (существование настоящего счетного абака, или счетов, археолошчески пока не засвидетельствовано); потом стали вести вычисления в письменной форме, на обычных тогда глиняных плитках (так называемых
чем с «16» и с «26» каждый раз пачипался новый трехчленный тип счета (25 — • n i S - 1, 26 — * n i й - i - a S), так что соблюдалась пятиричная система. Затем ввела число «дважды две руки и две ноги» (n i m i n) п к нему, ради соблюдения пятиричного счета, приставили еще десятку (50). Шедшее затем ges означало «много». Когда за g е 5 закрепилось значение «пятьдесят и еще десять», стало возможным представить себе чередование десятиричных и шестидесятиричных разрядов, возникших, несомненно, гораздо позже, хотя и не позднее IV тыс. до в. э. Для чпсел g е § (60), S а г (3600) и § а г - d i S (216 000) суще! твоналп специальные цифровые обозначения.
В аккадском языке господствовала десятиричная система « числения, подобная нашей.
78
И. М. Дьякопов
табличках, или таблетках) с применением гсею двух17 знаков: f7 для единиц и для десятков. Так, например, выражение < < FFFf означало число 27, —15 и
т. д. Одпако одно и то ясе выражение могло означать и число в 60 раз большее, и 00x00 раз большее и т. д., или в 00 раз меньшее; или в 00 60 раз меньшее, и т. д. Такая запись аналогична записи наших обычных десятичных чисел, с топ лишь разницей, что разряды пе деся-тегчиые, а шестидесятиричные и опущены пули и запятые, отделяющие целую часть числа от дробной.
Такая система приводила к неоднозначности, хотя в конкретных действиях вычислители, конечно, подразумевали вполне определенные числа, лапример возведем перемножение <( < FFFF на 4FF^> т- с- 27 (или 27 -60 или 27/00 и т. д.) и 15 (пли 15-60, или 15/60 и т. д.). Произведение этих чисел равно 405 (или 405-G0, или 405/60, или 405/00- 60 и т. д.), что во всех случаях выражается в вавилонских обозначениях как FFF < « FF^» т- с-6 ХбО -|-45 (плп па один или несколько шестидесятиричных разрядов выше плп ниже).
При современном воспроизведении вавплопских математических текстов пользуются транскрипцией с помощью арабских цифр, в которой шестидесятиричные разряды отделяются друг or друга штрихом (или запятой), а целая часть числа от дробной — двумя штрихами (или точкой с запятой). Например, число FFF « FF^ обозначается, в зависимости от конкретных условий, либо 6'45"0=405, либо 6'45'00"--405-60, либо 6"45=405/60, либо '0"6'45 -405/60-60 и т. д.
Большим недостатком шумеро-вавилонской позиционной вычислительной системы, который нередко приводил к ошибкам в счете, было отсутствие нуля; иногда он отмечался увеличением пробела между разрядами, по специальный знак для пуля был введен только поздневавилонскими астропомамп.
Казалось бы, что при таком удобстве шумеро-вавилоп-
7 Первоначально знаки писались круглым концом палочки и различались размерами в зависимости от разряда.
Научные представления па древнем ВостоКо
79
ской десятирично-шестидесятиричной позиционной системы счисления по сравнению с имевшей хождение в быту непозициопной системой, она должна была бы повсеместно вытеснить последнюю. Этого не случилось, и но окончании вычислений шумеро-вавилонский писец записывал в официальном документе полученный результат посредством старой, громоздкой непозициопной системы счисления или же посредством цифр, применявшихся для именованных чисел и различавшихся в зависимости от системы мер.
Шумерский язык с его сложными средствами выражения числительных оставался до середины II тыс. до н. э. языком школы н канцелярии. Сохранялась инерция метрологической традиции: все системы мер оставались обычно соотнесенными каждая с одной и той же, основной для данной системы, стабильной единицей, настолько мало менявшейся, что кажется возможным предположить существование обязательных эталонов; однако в конечном счете такие основные единицы были все же абстрагированы из простейших, удобных «естественных» мер, каковы ширина пальца, ладонь, локоть и т. и.
Разработанная шумерами техника вычислений позволяла писцам набить себе руку и добиться известного автоматизма прп довольно сложных подсчетах. И здесь, также как и при обучении грамоте, навыки вырабатывались в школе путем многократного переписывания и, по возможности, заучивания наизусть различных таблиц и перечней; эти таблицы служили также подручными пособиями-справочниками. Существовали таблицы обратных величин, умножения, квадратов (или, с точки зрения вавилонских математиков, «площадей») корней квадратны г 18, степеней 19 и — что было особенно прак
18 Таблиц кубов нс было; это связапо с тем, что во встречавшихся практических задачах возведения в куб не требовалось; его не требовалось даже при вычислен ин объема, так как любой объем выражался как сумма слоев толщиной в 1 локоть, в единицах, номенклатура которых не отличалась от единиц площади. На-прпмер, при площади 1 SAR=1GAR X ЮАР (1GAR=12 локтям), куб с основанием 1 SAR был равен 12 SAR объема, т. е. 12 параллелепипедам высотой в 1 локоть и длиной и шириной в 12 локтей. Таким образом, не 1 GAR возводится в куб, а 1 SAR умножается на 12. См.: [Вайман, 1961, с. 631-
19 Таблицы степеней относятся к поздневавилонскому периоду.
80
И. М. Дыпсопов
тически важно— эмпирических постоянных величин, куда прежде всего относились нормы расходования материалов и затрат рабочей силы на всевозможного рода хозяйственные работы. Обратной величиной в данном случае мы называем дробь вида 1/п, выраженную в шестидесятиричной позиционной системо счисления. Операция деления в вавилонской математике сводилась к умножению делимого на обратную величину делителя, например: 4:3 = =4-0'20=1'20, или в переводе на непозицпопную систему Г2/6 (непозициоппая система имела только следующие цифровые обозначения для дробей: 1 6, 2'6, 1/2, 4/G, 5/6; при необходимости вводилось обозначение обратной величины, например: i g i - 4 - g a 1=1/4). Ясно, что таблицы обратных величин были необходимейшим пособием для ипсцов.
В таблицу умножения при шестидесятиричной позиционной системе теоретически должно было бы быть введено 59x59 умножении Однако те таблицы, которые дошли до нас и условно обозначаются как таблицы умножения, на самом деле являются таблицами произведений т на 1/п, где т и п — целые числа, выраженные в шестидесятиричной позиционной системе, причем п^>т. При этих условиях дробь mtn никогда не может быть равна 7, 13, 19 и т. д.: эти числа не делятся без остатка на 2, 3, 5 в шестидесятиричной позиционной системе и поэтому не могут иметь целочисленной обратной величины. В самом деле, 1 : 2=0”30, 1 : 3- =0"20, 1 : 4=0"15, 1 : 5=0''12, 1 : 6--0"10. 1 : 8=0''7'30, 1 : 9=0"6'40, 1 : 10=0"6, по 1 : 7 в шестидесятиричных дробях- выразить нельзя. Вследствие того что в шумерской 60-ричной позиционной вычислительной системе дроби принципиально не отличаются от целых чисел, эта же таблица могла использоваться п как таблица умножения; для этого в число заглавных (множимых) чисел добавлялось число 7, однако 11,13,17,19 и большинство чисел натурального ряда от 21 до 60 ( = 1'0) опускались. В дальнейшем мы будем, по предложению историка-математика О. Пей-гебауэра, обозначать числа, имеющие обратную величину, выражаемую конечной дробью в шестидесятиричной позиционной системе, как «правильные числа».
Научные представления па древнем Востоке
81
Деление чисел занимало центральное место в вавилонской вычислительной технике. Деление па любое правильное число могло быть осуществлено благодаря сочетанию таблицы обратных величин с вырабо!аппым вычислительным алгоритмом образования обратных величин от правильного числа. Были пайдены все правильные числа, и именно они и фигурируют в большинстве составлявшихся таблиц и обыкновенно также и в задачах. Однако шумеро-вавилонские математики умели делить и на неправильные числа, по частные от такого деления были, по-видпмому, найдены эмпирически, путем подгонки; во всяком случае нет текстов, в которых давалось бы объяснение пли какое-либо пособие к такому делению; если по ходу решения задачи требовалось произвести деление на неправильное число, частное задавалось в условии задачи.
Описанная техника вычислений позволяла, при выработке достаточного навыка, добиваться значительных результатов. Опа сложилась к началу II тыс. до и. э.т т. е. ко времени, к которому относится большинство текстов шумеро-вавилонских школ ё-dub - (b) а.
Наряду с таблицами, из этих школ до нас дошли также и записи условий математических задач, а в ряде случаев — их решений.
Хотя ё - d u Ь - (Ь) а была шумероязычпой и хотя основные начала шумеро-вавилонской математики (судя по ее прикладным применениям) явно были заложены в шумерский период истории Нижней Месопотамии, однако языком месопотамских математиков был аккадский. Аккадская математическая терминология, как она дошла до нас в задачниках, все еще примитивна. Так, нет единого обозначения для «сложения»: слово «складывать» употребляется для равноправных величин, если же одна значительно больше другой, употребляется термин «прибавлять». При вычитании задается вопрос: «на сколько а превышает Ь?» 20 или чЬ до а сколько педостает?»; для нахождения ответа предлагалось «отнять b от
20 Конечно, алгебраические обозначения а, b и тому подобные принадлежат нам, а пе панилопяиам: они не знали столь абстрактных форм выражения понятий и пользовались описательными средствами или же конкретными числовыми обозначениями.
.42
И. М. ДьякипоЬ
но если речь шла, например, о вычитании длины, то можно было сказать «я отломил» вместо «я отнял». «Увеличением» называлось умножение на два, но можно было сказать и «увеличь а в b раз»; более распространено было, однако, выражение «а на b подними»; или же — в особенности при образовании площадей при сторонах а и Ъ — говорилось, что «а и b съели друг друга». Ход решения часто указывался лишь сокращенно, — вероятно, в расчете на устные пояснения.
Важную роль в обуч< пни играли геометрические задачи, связанные главным образом с рытьем каналов и бассейнов, вычислением объема зернохранилищ, строительством дамб и стен и т. п. Существовала кое-какая планиметрическая терминология, но, как указывает советский исследователь А. А. Ваймап, «геометрическая терминология шумеров по существу ие выражала основных геометрических понятий пространства» (1961, с. 108). Характерно, например, что вместо «какова длина тростника?» задавался вопрос «каков тростник», в крайнем случае — «какова мера тростника». Различались «передняя сторона» и «боковая сторона» (для прямоугольника и параллелепипеда это означало — «ширина» и «длина», для треугольника — «большой и малый катет»); были термины «диагональ», «продольная линия раздела», «поперечная линия раздела», «спуск» (т. е. «отрезок высоты»), по не было понятия «высота треугольника». Прямоугольник обозначался просто как «боковая сторона и передняя сторона», треугольник назывался «клин», трапеция — «лоб быка», любые криволинейные фигуры, от дуги до окружности, а также круг назывались «сгиб»; впрочем, окружность точнее обозначалась и как «обхват шнура». При этом вавилоняне знали циркуль и умели вычерчивать окружность.
Стереометрической терминология нс было совсем, и задачи имели дело непосредственно с конкретными объектами: дамбой, канавой, кучей зерна, трубкой и т. п. Лишь параллелепипед назывался «боковая сторона, ис-
Примитивность вавилонской математики нередко скрадывается в работах современных историков науки тем, что они по-современному формализуют условия вавилонских задач и решают их с помощью современных средств.
Научные представления па древнем Востоке
83
редпяя сторопа и глубина». Любопытно выражение «1 локоть подъема к пищи съедает», что означает в задачах по пространственной геометрии «котангенс угла равен /с». Столь же «конкретны» и другие геометрические выражения, например, «площадь» называется «полем» для плоской фигуры пли «грунтом» для основания трехмерной фигуры в зависимости от того, что имеппо измеряется, «емкость» может называться «водой», «мастом», «зерном» или «финиками», например: «Сосуд серебряпып такого-то веса, вода его — 1 мора». «Объем» обозначается темп же терминами, что и «площадь», лежащая в его основании: имеется в виду совокупность стандартных слоев в 1 локоть толщиной па дапной площади (ср. прим. 18).
Геометрические задачи в текстах часто иллюстрируются чертежами или, точпее, кроки, на которых приблизительно обозначены линии, являющиеся заданными или искомыми величинами, а также приведены соответствующие числовые данные.
Планиметрические задачи имеют дело преимущественно с треугольником, трапецией п кругом; за л приближенно принималось число 3, хотя есть довольно обоснованное предположение, что вавилонянам было известно и более точное значение тг=31/8 (т. е. 3,125).
В стереометрии, как уже упоминалось, шумеро-вавилонские математики занимались вычислением объема различных пространственных объектов, что было связано главным образом с необходимостью определения затрат материала или рабочей силы (причем учитывались как расход па ее пропитание, так и человекодни).
В области алгебры центральное место занимали задачи на квадратиьп уравнения типов ах2=с, ах2+Ьх=с, ах2—Ьх=с', по-видимому, в ходе решения задач могла возникать необходимость во введении уравнений также и типа ах2—Ъх=—с, хотя г ответ™ отрицательные числа пе встречаются; уравиеппя типа ах2-}-Ъх=—с, пе имеющие положительных корней вообще, не рассматривалисьа. Для современного читателя стоит еще раз подчеркнуть, что сами вавилонские математики не делали различия между арифметикой и алгеброй, алгебраических симво-
21 Разумеется, и здесь нотация — современная, причем а, Ъ и с — положительные числа.
84
И. М. Дьяконов
лов не зпали, а условия ставились в описательных выражениях. Целый ряд, с нашей точки зрения, чисто алгебраических задач мыслился и решался геометрически. Геометрическая модель до известной степени заменяла паши алгебраические сокращенные формулы.
Со средпевавтглопского периода появляются серин клинописных таблиц, представляющих собой сборники алгебраических задач, сгруппированных по типам хода решения, хотя в тексте даются только условия задачи (первый раз — полностью, но, если следующая задача была того же типа, се условия давались сокращенно. Этим достигалась экономия места, что всегда было важно для писцов, пользовавшихся тяжелым и ломким материалом — глиной. Но той же причине — как и в других клинописных сочинениях, составлявших длинные серии, — использовались преимущественно сокращенные написания слов — одними шумерскими злаками для корней слов без обозначения аккадских словоизменительных префиксов и суффиксов)22.
22 Для примера приводим образец из задачника YI3C 4711, в толковании Л. Л. Ваймаиа и с заменой конкретных обозначений «поле, передняя сторона, боковая сторона» па более абстрактные «площадь, ширина, длина» н т. п.:
«Площадь 1 е й ё. Длпна 1 раз увеличена, ширина 4 раза увеличена, то, на что длина над шириной выдается, 2 раза увеличено, сложено, 1/|3 этого, 45 прибавлено, */и этого к длине прибавлено, и 35. Длила, ширина этого сколько? (т. е. ху=10'0; х + /=35, где /=*/п (45+1/13 [2 (х—у) + 4у . х] ); 2 раза увеличено, длина, прибавлено, и 40 (т. е. х + 2/ =40);
Из длипы отнято, и 25 (т. е. х 1-2/-25);
2 раза увеличено, и отнято, 20 (т. е. х—2/ =20);
6 раз увеличено, п длина (т. е. 6/=х);
8 раз увеличено, и над длиной 10 GAR выдается (т. е. 8/—х= = 10);
8 раз увеличено, и к длине 10GAR недостает (т. е. 8/—х=10); К ширине прибавлено, и 25 (т. е. у+ /=25);
2 раза увеличено, и 30 (т. е. у+ 2/ =30);
Ширина, отнято и 15 (т. е. у -/=15);
2 раза увеличено, отнято, и 10 (т. е. у—2/=10);
4 раза увеличено, и ширина (т. е. 4 f—yY,
б раз увелпчепо, и 10 GAR выдается (т. е. 6/—у=10); Длина, ширина, прибавлено, и 55 (т. е. (х +у)+ /=55);
2 раза увеличено, прибавлено, и 1 (т. е. (х+ у) + 2/=1); Длила, ширила, отнято, и 45 (т. е. (а. + у)—/15);
2 раза отнято, и 40 (т. е. (х—у)—2/=10);
10 раз увеличено, длина, ширина (т. е. Ю/=х + у)».
Научные представления па древнем Востоке
85
В подобные сборники были сведены задачи па системы уравнений с двумя, тремя, а иногда и с четырьмя неизвестными. Записи падо рассматривать скорее как мнемоническое пособие, чем как учебник в собственном смысле, так как некоторые из пих нельзя расшифровать без дополнительных пояснений; последние, очевидно, передавались длительной устной традицией. При этом отдельные задачи приводят к решениям, недоступным средствам вавилонской математики — либо составитель решил их неправильно, либо их вообще пе решал, а вписал по аналогии с другими.
Конечно, подобные случаи надо признать исключениями: обычно составители школьных задач должны были в качестве задаваемых величин предварительно подбирать числа, наиболее удобные для расчетов. Так, среди вавилонских математических текстов нет задач, в которых частное от деления нельзя было бы выразить шестидесятиричной дробью.
Передки случаи, когда любое изменение заданных числовых условии задачи приводит к ее неразрешимости средством вавилонской математики: другими словами, умели решать данную конкретную задачу при соответствующем искусственном подборе условий, по пе вообще задачи даппого типа.
При составлении задач па извлечение квадратного корня математик так подбирал числовые данные, чтобы корень извлекался точно.
Здесь можно говорить о зачатках теории чисел; толчком для их возникновения послужили геометрические задачи, связанные с так называемой теоремой Пифагора. Например, для составления задачи на определение гипотенузы по заданным катетам нужно было обеспечить, чтобы все числа входили в ряд «пифагоровых троек», т. е. целых чисел, удовлетворяющих формуле а2+Ь2=с2. Существовало пе менее двух приемов вычисления пифагоровых чисел. Умение пользоваться пифагоровыми чпс-
12 раз увеличено, и 10 GAR выдается (т. е. 12/—(х+у)= =10);
Длина, ширина, 12 раз увеличено, 10 GAR недостает (т. е. 12/—(х+ у)=10).
Характерен систематический таблпцеобразный порядок размещения задач, типичный вообще для вавилонской педагогику.
86
И. М. Дьяконов
ламп позволило вавилонским математикам решать также задачи на деление треугольников, а затем трапеций па параллельные равновеликие полосы. Для этого они определили так называемые «вавилонские числа», удовлетворяющие условию где и ж3=основапиям
трапеции, а я2=линиям раздела параллельных равновеликих полос. «Вавилонские числа» ж1, я2, ж3 связаны с «пифагоровыми чпсламп» а, 1>, с; эта связь может в современной нотации быть выражена как Ху—к (Ь—а), кс п а”3 к(Ь-\-а). Имелись и более сложные геометрические задачи, с которыми вавилоняне успешно справлялись.
По-видимому, вавилонские математики считали достаточным для решения задачи, чтобы был известей определенный набор операций по нахождению искомых величии, но при этом пе обращалось достаточного внимания на то, вытекает ли одна операция логически из другой. Поэтому иногда применялась подгонка условий задачи к заранее известному ответу, и сознательно (а иногда и бессознательно) допускались неправомерные упрощения и прямые ошибки. Это, однако, нисколько но смущало гпкольпую'традицию, и задачники с ошибочными решениями и с условиями, практически не имеющими решений, спокойно переписывались из поколения в поколение. Но подобные случаи все же не отменяют того общего правила, что решение большинства задач должно было выводиться путем последовательных логических умозаключений [Нейгебаузр, 1937, с. 227] и исходя из некоторых общих понятий, хотящий зти умозаключения, пи эти общие попятия нигде письменно как таковые пе изложены. Однако то, что интуитивно казалось очевидным, сиецпально не выводилось логически. Процесс умозаключения пе был осознан как таковой и формализован. Тем более удивительно, что вавилонские математики, оставаясь целиком в области конкретного и не только лишенные большинства современных средств формализации, но не имевшие и почти никакой точно установленной математической терминологии, могли путем умозаключений (частично интуитивных, но в подавляющем большинстве случаев логических) достичь столь значительных результатов.
Важно еще раз подчеркнуть то обстоятельство, что
Научные представления па древпом Востоке
87
вавилонская математика, созданная ради школьного преподавания .будущим писцам и администраторам, выросла в науку, целью которой была уже пе столько хозяйственная практика, сколько «мудрость», т. е. умение поразить своей мыслью, в том числе и путем решения головоломки. В этом смысле многое, что создано вавилонянами в математической области, — это «теоретическая» математика. Это относится к квадра гным уравнениям и более сложным задачам. «До сих пор, — пишет А. А. Вайман [1961, с. 208], — несмотря на предпринятые поиски, не удается найти ни одного конкретного случая, который потребовал бы от древнего экономиста или инженера решить полное квадратное уравнение. То же относится к задачам по элементарной теории чисел. . . Нет данных, которые свидетельствовали бы о том, что древние строители занимались техническими расчетами», если не считать расчетов приходно-расходных, требовавших знания преимущественно арифметики и некоторых, элементов геометрии.
На высоком уровне, вплоть до распада гигантских царских рабовладельческих хозяйств «Царства Шумера и Аккада» (так называемой «III династии Ура», погибла в конце XXI в. до н. э.), стояла бухгалтерия.
Как мы уже упоминали, были установлены постоянные величины, выражающие практически наличествовав-щие в хозяйстве нормы (урожайность, настриг шерсти, затрата труда на изготовление, переноску и кладку кирпичей; количество кирпичей на данный объем кладки, залитие кирпичной кладки цементирующим слоем асфальта, и многие другие). Однако все эти бухгалтерские таблицы и расчеты не требовали знания той математической «мудрости», которую проходили — и зазубривали — в шумеро-вавилонской «э-дубе».
Магия. Гадания
Огромного развития в Вавилонии достигли лженауки гаданий (но специально вызванным явлениям, например по фигуре, образуемой каплей масла в воде, по дыму зажженного костра из благовонных растений) и предзнаменований (но естественно наблюдаемым явлениям). Подход к гаданиям и предзнаменованиям ничем не отличался от подхода к другим областям знания: целью
88
И. М. Дьяконов
и тут и там была систематизация познанных (или мпимо-познанпых) явлений и установление их причини о-след-ственных или хотя бы системных связей, а методом являлось составление и заучивание перечней этих явлений в данном случае по формуляру: «если произошло событие а, то последует событие Ь». Конечно, действительные причинно-следственные связи па самом деле не выявлялись, и, в сущности, вавилонские гадатели просто исходили из того более или менее вероятного предположения, что среди любых явлений, объединяемых временной связью, по крайней мере некоторое число должно быть связано также и причинно. Так, в первобытном обществе миф, т. е. умозаключение по недостаточным логическим основаниям, мог тысячелетиями жить и не быть опровергнутым индивидуальной практикой человека (потому что достоверной признавалась только массовая, коллективная практика предков, а первобытная масса в ц е-л о м не могла и не хотела ставить эксперименты с целью проверки справедливости мифа); точно так же в вавилонском мышлении, даже в математике, иной раз бралась па веру достаточность определенной последовательности операций без проверки того, вытекает ли одна операция логически из другой; и так же «наука» гаданий могла просуществовать не менее двух тысячелетий, базируясь на ошибочном логическом постулате —post hoc, ergo propter hoc, «после этого, значит поэтому». Ничто так ясно не доказывает по существу «до-паучный» характер вавилонской пауки, как ее сосуществование с «наукой» гаданий и предзнаменований.
Справедливость требует сказать, что «э-дуба» пе включала в свой курс гадательства, хотя косвенно нам известно о существовании гаданий и учета предзнаменований (примет) с древнейших времен. Первые записи предзнаменований, дошедшие до нас, относятся к XX—XIX в. до н. э., но их содержание заставляет предполагать, что эти записи восходят к другим, еще более древним, относившимся к XXIV—XXI вв. до н. э. Предзнаменования или предвестия (в ассириологии их принято называть латинским словом Omina) пе входили в шумерский письменный канон и с древнейших времен записывались по-аккадски. Некоторые явления, якобы предзнаменованные наблюдениями гадателей и записанные в списках
Научные представления на древнем Востоке
89
Omina, кажутся вполне реалистичными: например, царь Утухепгаль сорвался со строящейся плотины и утонул; другой царь запозил ногу и умер от заражения крови, и т. п. И лишь тот факт, что ипая редкостпая смерть в разных списках Otnina постигает пе одного и того же царя, заставляет задуматься, взаправду ли перед памп запись гадапий, совершенных в связи с действительно случившимися событиями [Falkenstein, 1965, с. 461—475; Goetze, 1964, с. 253—265]. По древние, во всяком случае, предполагали, что, если данное предзнаменование повторится, наступят те же последствия, что и записанные в данпом Omen, илп аналогичные им. В символике правого и левого, черного и краспого, в привязывании дурных последствий к приметам внешне неприятным чувствуется известная работа мысли, поиски — пусть ложных — ответов па вопрос «почему».
Первоначально записывали, по-видимому, только наблюдения гадателей (Ъагй) над печепыо жертвенного ягненка — ее формой п другими особенностями (гепатоско-пия), — и при этом только такие предзнаменования, которые относились к царю и государству. Однако гадали также вообще по внутренностям жертвепных животных (гапуспиция, пли эктиспиция), по маслу, накапанному в воду (леканомантия), по дыму благовоний (либаномап-тия), по рождению уродив (тератология), по полету птиц (авгурация), по поведению людей и животных, по спам, по физиогномическим приметам и, наконец, по небесным явлениям, включая также и метеорологические (астрология). Авгурация была, по-видимому, видом гадания чуждого для Месопотамии происхождения [Оппепхейм, 1980, с. 213, 225 и прим. 36—40], а астрология была наиболее поздней из оформившихся в Вавилонии гадательских «наук» (в основном уже в I тыс. до н. э.). Постепенно в круг явлений, о которых можно было гадать на основании клинописных Omina, входили и события пе только из жизни царя и царства, но и из жизпи города, определенных социальных групп (например, большой семьи) и даже отдельных частных лиц. Были составлены огромные, отчасти систематизированные списки предзнаменований; из них важнейшие это «Summa izbu» («Если плод»), «Summa а1ш> («Если город»), «Епрапа Апи Е1Ш» («Когда боги Ану и Эллиль») [Reiner, Pingree, 1975]; первая из них была
90
И. М. Дьяконов
посвящена гаданиям по рождениям уродов п т. п. и содержит множество явно искусственно надуманных, небывалых «примет»; опа состояла не менее чем из 24 таблиц; вторая сообщала предзнаменования по небесным явлениям и состояла не менее чем из 70 таблиц гз. Помимо этого, существовало еще множество других сепий Oinina, а для гаданий по печени и внутренностям существовали также специальные чертежи и глиняные модели.
Серни предзнаменований пе следует рассматривать как просто собрания суеверной чепухи: они содержат мпоясество любопытных эмпирических наблюдений над природой; гадания по спам иногда содержат знакомую современным психиатрам символику подсознательного, а в серии «.Summa alu» содержится, между прочим, отражение вавилонских политических 23 24 и этических воззрений, не совпадавших ни с религиозными, ни с правовыми (неэтичные действия рассматриваются как дурные предзнаменования для совершившего их) [Kraus, 19361.
Казалось бы, предзнаменования существовали уже на все случаи жизни; но когда царь или частное лицо, перед тем как предпринимать какое-либо действие, обращался к гадателю, часто оказывалось, что признаки, обнаруженные, скажем, в печени ягненка, не могут, судя но каноническому перечню Omina, быть отнесены к данному конкретному случаю; поэтому гадатель иной раз не давал конкретного истолкования полученных им примет и ограничивался только сообщением, что гадание было неблагоприятным или же благоприятным (нередко со всяческими натяжками стараясь толковать любую примету как благоприятную). В ряде случаев от божества при гадапип вообще требовался только ответ «да или пет» 25 26.
23 Эти предзнаменования имеют мало общего с гороскопами средневековых астрологов; древнейшие частные гороскопы тоже еще сильно отличающиеся от средневековых, относятся, видимо, к V в. до н. э. [Sachs, 1952].
24 О прямой связи политического сочинения, разбираемого в ра-
боте [Diakonqff, 1966], с серией «Summa alu» см.: [Оппепхейм, 1980, с. 360, прим. 61].
26 К гаданиям «па случаи» следует отнести также избрание высших жрецов и жриц, разделы наследства и т. д. В этих случаях вместо того, чтобы бросать простой жребий в виде палок или камней, чаще тоже прибегали к гаданию по внутренностям жертвенны животных, но толковали результат "ишь в смысле «нет»
Научные представления на древнем Востоке 91
Записи предзнаменований начали делать уже с начала II тыс. до н. э., если не раньше; но расцвета данный род письменности (как и обширнейшая литература заклинаний злых духов 26) достигает только тогда, когда к га-дателям-baru и заклинателям-Tnasmasu — этим непрофессиональным жрецам, зарабатывавшим от щедрости клиентов, — перешла и роль учителей грамоты. Поэтому Omina относятся к более позднему, аккадскому «ниппур-скому потоку традиции» (вторая половина II тыс. до н. э.), а отчасти вообще не входят в канон.
Любопытным ответвлением «науки» гаданий явились собрания анекдотов из жизни царей прошлого (от XXIV до XX вв. до н. э.), извлеченные из списков Omina там, где они «предвещали» пе общие блага или бедствия, а конкретные события, будто бы случившиеся с этими царями. Этим собраниям анекдотов иной раз придавали дидактический оттенок под влиянием жреческой эпической поэзии, где судьба царей прошлого объяснялась на основании их поступков по отношению к культу бога Эллиля Нип-пурского, или бога Мардука Вавилонского, или богини Иштар и т. п. [Falkenstein, 1965, с. 43—124; King, I—II, 1907]. Анекдоты были расположены в хронологическом порядке, причем хронология заимствовалась из так называемого «Царского списка» — сочинения времен Шульги27 [Jacobsen, 1939], царя III династии Ура (2094—2047 гг. до н. з.); оно представляло перечень всех царей от создания мира до Великого потопа и от Потопа до тогдашней современности. Идея была в том, чтобы показать вечность и непрерывность царской власти: некая божественная субстанция «Царственности» в начале времен будто бы спустилась с небес и затем переходила от одного законного царя к дру тому; время от времени родной город той пли иной династии бывал «побит оружием»,
или «да» без всяких уточнений предзнаменования. В некоторых городах существовали оракулы богов, к которым царь как бы непосредственно обращался; ответ оракула базировался на Qinina, как и прочие гадапия [Оппепхейм, 1980, с. 219, 213 сл.; Knudlzon, 1893; Klaubcr, 1913].
26 Помимо ее часто высоких художественных достоинств, эта литература может представлять интерес для психолога и психиатра, не говоря уже о фольклористах и этнографах.
27 Т. Якобсен датирует список несколько раньше, чем предложено нами.
92
И. М. Дьяконов
п «Царственное ть» тогда переходила в другой город. Действительность была иной: в течение почти всего III тыс. до п. з. в Нижней Месопотамии не существовало вечно-единой «Царственности», а было множество отдельных государств, где долгое время царской власти в собственном смысле вовсе и не было [Дьяконов, 1959; Jacobsen, 19391 28.
Эта концепция истории мира была не единственной: с ней соперничали и другие [Sollberger, 1967, с. 279 сл.[. J [ачипая со времени Хаммурапп (1792—1750 гг. до и. э.), как показал В. А. Якобсон [ 1978], возникло учение, что Совет богов принял решение навечно передать царскую власть над «Шумером и Аккадом» (пли даже над «четырьмя странами света») богу города Вавилона — Мардуку, с тем чтобы только царь Вавилона всегда был его представителем. Одновременно было прекращено составление продолжений «Царского списка» с его «побиением» отдельных городских династий «оружием»; вероятно, с этой же концепцией «вечного царства» как-то связано и то обстоятельство, что события жизни и смерти позднейших вавилонских царей перестали заноситься в своды Oniina — по крайней мере с упоминанием их собственных имен.
Однако хронологической последовательностью вавилонских царей в Месопотамии продолжали интересоваться и позже — между прочим, потому, что сами цари весьма стремились передать память о себе потомству. Это стремление имело мало общего с ощущением историзма 20: приказывая составлять надписи о своих деяпиях и прятать их в основаниях храмов, дворцов пли других зданий из сырцового кирпича, степы которых неизбежно
28 «Царский список» игнорирует одновременность мноп , перечисленных им династий, а расчет продолжительное! и отдельныт правлений, несмотря па кажущуюся точность цифр, в действительности базируется в основном на простом счете поколений (если не считать двух-трех наиболее поздних династии). Кроме того, отдельные имена царей п целые династии в нем опущены по политическим соображениям или по ошибке.
2В Само прошедшее мыслилось как то, к чему человек уходит, следовательно, как находящееся впереди; а будущее — как то, что нагоняет человека, следовательно, как находящееся позади. Это связано с концепцией «Золотого века» в прошлом и прямо противоположно современному псторпзму.
Научные предетавлепин па древнем Востоке
93
обветшают и будут срыты п, возможно, построены заново кем-нибудь пз последующих правителей, цари рассчитывали, что, велев прочитать об их деяниях, повын правитель принесет их имени заупокойную жертву и тем самым избавит их от голода и жажды в загробном мире даже столетия спустя после их смерти.
Сохранс пие хронологии в памяти люден имело, конечно, и другие, более практические задачи, о чем мы скажем пижп.
Астрономия. Хронология. Календарь
Если определенный круг научных достижении древних вавилонян создался в школе п в связи со школьным преподаванием — в первую очередь с обучением грамоте и счету, а затем также н другим сведениям, нужным писцу — администратору и юристу, — то еще одна группа научных достижений связана с необходимостью измерения времени |Бикермаи, 1975|.
Древнейшей и, так сказать, естественной единицей измерения времени был сельскохозяйственный год, приблизительно совпадающий с обращением Земли вокруг Солнца — солнечным годом. Однако сельскохозяйственный год и даже его сезоны не годились для более дробных измерений времени, тем более что, в отличие от Египта, в Двуречье разливы рек повторялись не вполне точно в одно и то же время, и соответственно не вполне фиксированы были н сезоны сельскохозяйственных работ. Более дробные подразделения времени требовались также для культа— для определения дней, благоприятствующих жертвоприношениям космическим и хтопическим божествам, «счастливых» и «неблагоприятных» дней и т. п. «Естественным» календарем являлись для этого периоды фаз Лупы и особеппо периоды се исчезновения и появления. В отличие от сельскохозяйственных сезонов, фазы Луны сменяются через гораздо более определенные и притом короткие промежутки времени. В результате во всех городах-государствах древней Месопотамии уже в первой половине III тыс. до и. э. установились календари, основанные па лунном годе из 12 лунных месяцев, содержавших, чаще всего поочередно, 30 и 29 дней. Каждый месяц начинался вечером того дня, когда после периода невп-
94 И. М. Дьякопов
димости появлялась новая Лупа. День этот определялся — пока не существовало математико-астрономических расчетов — очень неточно, так как небо Вавилонии почти всегда в большей или меньшей степени затянуто дымкой пустыни, а у горизонта, где должна взойти Лупа, видимость особенно плоха и, главное, непредсказуема; поэтому действительно существенные различия в длине между календарным месяцем и реальным периодом от новолуния до новолуния давали себя знать не сразу и не каждый год 30.
При употреблении лунного календаря не терялась и связь его с сельскохозяйственным годом: это видно из сохранения таких названий, как «месяц жатвы ячменя» и т. п. Чтобы эта связь была реальной (что представляло и государственную необходимость, прежде всего в связи со взиманием натуральных налогов и поборов), к лупному году из 354 дней время от времени добавлялся (после 6-го или после 12-го месяца) дополнительный, «високосный» месяц. Момент его вставки не был определен заранее и зависел не только от того, насколько лунный год успевал разойтись с сельскохозяйственным, но отчасти и от произвола царского или городского правительства.
Однако, помимо подразделения года на более мелкие периоды, связанные с фазами луны, требовалось исчисление времени и для отрезков, более длительных, чем год. Как обходились шумеры в древнейший период истории — этого мы не знаем, потому что документы не датированы, но, судя по косвенным данным 31, время считали приблизительно — по поколениям илп по числу лет, протекших с какого-либо памятного события32: особо разрушительной войны, мора или засухи. В шумерском городе-государстве Шуруппаке незадолго до 2aUl) г. до н. э. засвидетельствовано обозначение годов по «очередям» (b а 1 а), т. е. по каким го ежегодно сменяющимся должностным лицам, вероятно исполнявшим ту или иную
30 Окончательно в Ннашей Месопотамии со II тыс. до и. э. утвердился шатурский лунный календарь, введенный еще при III династии Ура в большинстве городов; он перешел впоследствии к евреям, сирийцам н отчасти к арабам [Дьяконов, 19751.
31 Это можно заключить из анализа «Царского списка».
82 На периферии Месонотамии (в Аррапхе, ныне Киркуке, в Урарту) так продолжали считать время и во II и даже в I тыс. до и. э.
Научные представления па дрсвпем Востоке
95
ритуальную обязанность; «очереди» распределялись по отдельным округам города-государства [Дьяконов, 1959, с. 113]. Несколько позже, в Лагаше, нам известна датировка ио годам правления правителя-жреца, затем надолго устанавливается система называть каждый год по какому-либо выдаюнд муся событию (до наступления такого события год назывался «следующим за» названным по предшествующему событию; с XIX в. до п. з. года стали именовать по важнейшему событию предшествовавшего года) [Edzard, 1965, с. 2G—28]. Разумеется, для того чтобы на практике можно было прп этой системе определять временные отрезки, необходимо было иметь списки подобных «годовых датировочпых формул», которые одновременно являлись родом первичной летописи [Ungnad, 1938, s. v. DatenlistcnJ. Начиная с XVI в. в Вавилонии опять перешли на счет лет только по годам правления царей, и списки датировочпых формул прекратились; однако велись (не всегда достоверные) списки вавилонских царей и даже синхронические списки царей Вавилонии и Ассирии. Идея эры, т. е. отсчета лет от раз навсегда фиксированной точки во времени, впервые появилась еще в XVIII в. (при РпмСине I, царе Ларсы), по его эра, установленная в 1793 г., продержалась только тридцать лет, а вновь зра летосчисления была установлена лишь в эллинистический период при Селевкидах (в 312/311 г. до н. э.).
В городе Ашшуре, ядре Ассирийского царства к северу от Вавилонии (XIV—VII вв. до н. э.), до конца применялась та же система, что в древнем шумерском Шуруп-паке, — обозначения годов по «эпонимам» — в данном случае эпонимами были должностные лица-limmu33;
33 Счет годов по Нтти связан с древней системой счета времени, во многом еще загадочной и связанной с определенными чередами не только «годовых», по и «недельпых8 должностных лиц (JjamuStu)-, те и другие, по-видимому, были организованы в особые коллегии по 2-3 и по 5 человек и сменялись в сложном порядке, который пыталась объяснить Н. Б. Япковская [1968; Jankowska, 1967, с. 524—5481; по ее мнению, «неделя» в этой системе была шестидневная. Однако часть ее реконструкций вызвала различные возражения. Эта система засвидетельствована у купцов, главным образом пз Ашшура, образовавших сеть торговых колоний при городах Малой Азии XX—XIX вв. до н. э. Центральная колония находилась прп г. Канише (на юго-востоке полуострова); одпако предполагают, что та же система функционировала и в самом Ашшуре.
96
И. М. Дьяконов
первоначально это, видимо, были ежегодно сменявшиеся казначеи городского совета, но йогом за пими остались только обрядовые функции, и должность limmu по очереди занимали царь и главнейшие чиновники Ассирийского царства в строго иерархическом порядке. Разумеется, и туг велись списки эпонимов, и в ппх против имени того или иного эпонима иногда приписывалось краткое сообщение о наиболее примечательном событии года, так что и здесь создалась некая первичная хроника [Ungnad, 1938, Epony menlistenJ. Событиями, заслуживавшими упоминания в ней, были по большей части военные походы, гражданская война, мор и в одном случае — солнечное затмение, теперь точно датируемое вплоть до секунды с помощью современной вычислительной астрономии; это позволило ныне привязать соответственный список эпонимов (с 1033 г. до в. э.) к абсолютной хронологии. Более древние события истории Передней Азии не могут быть датированы с такой точностью 34, так как либо не имеют никакой астрономической привязки, либо имеют только ненадежную (о пей мы скажем ниже). Кроме того, всегда следует помнить о неопределенной продолжительности самого календарного года в различных государствах древнейшей Передней Азии, о вольных и невольных ошибках при составлении списков царей и названий годичных дат (что иногда могло быть вызвано политическими причинами ит. п.) 35
Подлинная летопись, очень лаконичная и ограничивавшаяся одними фактами без их истолкования, начала вестись с 747 г. до н. з. (начало правления вавилонского царя Набопасара); серия летописей была затем доведена по меньшей мере до II в. до н. э. и в позднейший период увязывалась с астрономическими наблюдениями 36.
34 Делу не помогает и так называемый радпокарбопнып метод датировки, дающий систематическую ошибку, не зависящую от величины измеряемого отрезка времени и поэтому слишком большую для исторических периодов.
86 См. также выше о «Царском списке».
30 О том, что вавилонские наблюдения затмений записывались со времени Набопасара, сообщал позже греческий антроном Птолемей. Отрывки позднейших частей летописи включены в астрономические тексты, напр. [Pinches, Strassmaier, Sachs, 1955; Sachs. 1950; Smith, 1!Ц0[. Материалы этой летописи, а также царских списков и тому подобных источников послужили оспо-
Научные представления па дреьпгм Востоке
97
Ассириологам еще со времени до I Мировой войны стало ясно, что вавилонская математическая астрономия [Пейгебауэр, 11)68; Паппекук 1966; Pinches, Slrassmaier, Sachs, 1955; Sachs, 1950; Van dor Waerden, 1919—1951], в противоположность традиционным взглядам, не была связана ни с какими-либо астральными культами (их в Месопотамии вообще пе существовало37, если пе считать, может быть, наиболее поздних периодов вавилонской истории), ни с астрологией. В свою очередь, вавилонская астрология, сама по себе поздняя для древней Месопотамии, имеет мало общего с астрологией, как ее понимало средневековье. Прямое наблюдение светил имело тоже мало значения для возникновения математической астрономии ввиду’ плохой видимости пеба в Праке, а время сельскохозяйственных работ было более связано с метеорологическими, чем с астрономическими условиями. Астрономия развивалась тут как теоретическая наука, главным образом связанная с нуждами лунного календаря и его увязки с солнечным. Однако первый интерес к небесным явлениям был, вероятно, вызван развитием учений о предзнаменованиях.
С довольно раппего времени шумеры и вавилоняне обратили внимание па странности и кажущиеся неравномерности в движениях Солнца, Лупы п планет относительно неподвижных звезд, движущихся по небосводу более закономерно; они пытались уяснить себе все эти движения с целью попытаться их предсказывать. По всей вероятности, сначала речь шла именно о попытках найти новый материал для предзнаменований. Среди всех многообразных явлений, учитываемых в качестве Omina, явления небесные представляли для гадателей особый интерес, ибо они были одними из немногих, которые казались имеющими какую-то закономерность и которые можно было надеяться заранее предсказывать. Возможно, этому ванном для создания уже в эллиппстпческпй период вавилонским жрецом и астрономом Беросом (IV -III вв. до н. я.) истории Вавплопии па греческом языке; к сожалению, это сочппеппе до пас не дошло п известно лишь по поздним греческим пересказам далеко не из первых рук [Дьякопов, 1956, с. 35—39; Schnabel, 1923].
37 Еслп не считать покдоненпя богам Шамаыу (Солнцу), Сипу (.Лупе) и богине Ищтар (почитавшейся, мекду пр ешм. под именем Дпльбат и в виде планеты Венеры).
98
И. М. Дьяконов
обстоятельству мы и обязаны первыми попытками астрономических наблюдений и расчетов. Но возможную связь ранних астрономических наблюдений с попыткой предсказывать события нельзя отождествлять с предполагавшимся прежде жреческим происхождением вавилонской астрономии: гадатели не были с точки зрения вавилонян жрецами (пи шумеры, ни вавилоняне вообще не имели общего понятия «жречества», «священства», а гадатели долго даже не входили в состав храмового персопала). И уж во всяком случае нет никаких данных о том, чтобы знаменитые вавилонские ступенчатые башни (зиккураты) были, как недавно еще многие думали, астрономическими обсерваториями.
Едва ли не наиболее ранние собственно астрономические тексты относятся к позднему старовавилонскому периоду (XVII в. до н. э., конец династии Хаммурапи). Речь в данном случае идет о записи появлений и исчезновений Венеры, по ниппурскому лунному календарю в правление царя Аммицадукп [Папнекук, 1966, с. 33— 35; Weir, 1972; Reiner, Pingree, 1975]. При условии, что записи точпы, они позволяют привязать даты старовавилонских (а соответственно и более ранних) царей к абсолютной хронологии по современному календарю. К сожалению, данные «таблички Аммицадуки» допускают несколько различных решений проблемы хронологической привязки лет правления этого царя. Наиболее распространено мнение, что Аммицадука царствовал с 1646 по 1626 г. до п. э., а это значило бы, что Хаммурапи правил с 1792 по 1750 г. до н. з. («средняя хропология»), однако другие распространенные системы датируют Хаммурапи с 1728 по 1686 г. до н. з. («краткая хронология») или с 1856 (1848) по 1814 (1806 г.) до н. э. («длинная хронология»). Достаточных данных для окончательного решения в пользу той, другой или третьей хронологической системы пока нет, не говоря о том, что точность вавилонских наблюдений появления Венеры над горизонтом подвержена немалым сомнениям |Бикерман, 1975, с. 13—23, 307 сл.; Струве, 1947; Albright, 1965; Goetze, 1964; Lands-berger, 1954; Van der Meer, 1955, 85 и прим.|.
К касситскому времени (XVI—XII вв. до н. э.) относятся копии, возможно, несколько более ранних текстов, представляющих перечни важнейших звезд и их видимых
Научные представления на древнем Востоке
99
групп (созвездий, впрочем не совпадающих с принятыми сейчас), с указанием, как определить расстояние между ними в линейных мерах («вавилонских милях», Ъёги\ такая миля равна двум часам пешего хода; иногда ее принимали равной 21 600 локтям или —10 тыс. метров); возможно, эти тексты отражают представление о восьми небесных сферах, на которых расположены Луна, планеты и неподвижные звезды, а «расстояния», о которых идет речь38, по-видимому, мыслятся как расстояния между поверхностями этих сфер, причем общее расстояние от первой до восьмой сферы (?) составляет 120 миль, т. е. около 1200 км. В других текстах примерно того же времени небо делится на три зоны по 12 секторов в каждой, но математические вычисления, делаемые в этой связи, не интерпретированы [Нейгебауэр, 1968, с. 108J. Наконец, сводку астрономических знаний, по-видимому, конца II тыс. до н. э. (в копии первой трети 1 тыс. до н. э.) представляет текст из двух таблиц, называемый по первым словам «Mui А р i п» («Звезда Плуг») [Van der Waerden, 1949—1951; Weidner, 1924, с. 186—2081. Здесь все небо делится на три «дороги» неподвижных звезд, из которых средняя представляет собой зону вокруг небесного экватора шириной около 30°; эклиптика особо не выделена. Следуют — в обычном вавилонском школьном стиле перечисления — данные о планетах, Луне, их восходах и заходах, о временах года, длине тени и т. д. Текст этот пока еще недостаточно изучен.
Еще в начале I тыс. до н. э. дальнейшие астрономические наблюдения производились все еще в поисках «предзнаменований». Ассирийские цари — по крайней мерс в X—VII вв. до и. э. — имели при дворе астрономов-астрологов, регистрировавших с этой целью небесные явления, как собственно астрономические, так и метеорологические, без разбора. Солнечное затмение, наблюдавшееся в Ассирии 15 июня 763 г. до н. э., было отмечено
88 В тексте ученику задается вопрос: «Как далеко один бог от другого бога», что и предлагается вычислить с помощью некоторых приведенных для сведения ученика числовых данных. «Бог» здесь н е означает «звезда», как принято думать, — в эту эпоху истории Месопотамии божества не отождествлялись со звездамп; по каждая небесная сфера была посвящена одному из главнейших богов, который п мыслился обитающим там.
100
И. М. Дьяконов
в списке эпонимов, что, как уже упоминалось, позволяет точно привязать ассирийскую хронологию с XI в. (менее уверенно — с XV в.) к абсолютной юлианской хронологической шкале. Впоследствии великчй эллинистический астроном Птолемей сообщал, что в его распоряжении были записи о затмспиях с начала правления вавилонского царя Набонасара (747 г. до н. э.), т. е синхронизованные с официальной вавилонской летописью, о которой говорилось выше.
К концу правления персидской династии Ахеменидов (не позже 380 г. до н. э.) была создана упорядоченная система привязки нпппурского л} иного года к солнечному году путем более регулярного вставления дополнительных месяцев. Это требовало некоторого прогресса астрономических знаний по сравнению с теми, которые известны иа серии «М u 1 А р i п» и других. 11о-видимому, примерно к 450—400 г. до н. э. эклиптика была разбита наблюдателями па 12 равных участков по 30е «как стандартная шкала для описания движений Солнца и Луны» (О. Пейгебауэр); эти участки («знаки Зодиака») были отождествлены с некоторыми уже ранее выделенными созвездиями. Тогда же были выяснены некоторые основные отношения периодов обращения Луны и планет. Стало возможным предвычисление довольно сложных лунных движений. Вавилонские математические астрономические тексты, созданные позже, являются дальнейшей разработкой достижений V—IV вв. до и. э. [Нейге-бауэр, 1966, с. 111].
Ранее, как мы знаем, дополнительные месяцы вставлялись довольно произвольно. С IV в. до н. э. устанавливается правило фиксированной вставки дополнительных месяцев, в семь определенных сроков в лечение цикла, на который падает конечное число лунных месяцев (235) и солнечных лет (19). Этот расчет равносилен определению длины солнечною года в 365 1/19 дней. Для тоге чтобы рассчитать соотношения между лунным и солнечным годами и наиболее благоприятное время для вставок дополнительных месяцев и нужно было создать математическую теорию движений Солнца и Луны. Эта теория была создана незадолго до завоевания Востока Александром Македонским, а дошедшие до пас астрономические клинописные тексты относятся ко времени от 250 г.
Научные представления па древнем Востоке
101
до н. э. н до 75 г. и. э., и, стало (н*гь, опа принадлежит, в сущности, к истории науки эллинистического периода; однако существующее сейчас разделение труда среди ученых приводит к тому, что в изложении истории эллинизма традиционно рассматривается только грекоязычная паука этого периода, а пауку, одновременно развивавшуюся у других народов, приходится рассматривать отдельно, в связи с предшествующими периодами.
Задача вавилонской математической теории лунных движений заключалась в следующем. Для определения длины каждого данного лунного месяца, который колеблется между 29 и 30 сутками, нужно определить момент первой видимости лунного серна над горизонтом после новолуния. Этот момент зависит от целого ряда факторов: во-первых, Солнце сдвигается за месяц примерно на 30° по эклиптике (имея в виду, что за 365 с дробью дней оно совершает полный оборот в 360°); во-вторых, тем самым Луна до наибольшего сближения с Солнцем по прошествии месяца должна продвинуться на 360°-|-30о=390о; в-третьих, для обеспечения видимости серпа Луны она должна не только максимально сблизиться с Солнцем, но и затем достаточно отойти от Солнца, а Солнце при заходе серпа должно достаточно глубоко зайти за горизонт; между тем видимое движение Солнца по небосводу имеет меняющуюся скорость, так что суточное расхождение между Луной и Солнцем (элонгация) может колебаться от 10 до 14°; таким образом, одно знание их среднего месячного движения недостаточно для предсказания точного момента появления новой Луны. Далее, в-четвертых, неподвижные звезды в каждом данном месте земного шара восходят и заходят под постоянным углом, зависящим от наклона пебеспого экватора к горизонту, в свою очередь зависящего от шпроты места; по пуп. Солнца — эклиптика — составляет с экватором угол около 24 и может в разное время иода находиться по ту или но другую сторону экватора; необходимо длн каждого момента знать угол между эклиптикой и горизонтом; и, в-пятых, путь Луны может отклоняться перпендикулярно к эклиптике еще примерно па 5° в ту или иную сторону. Для того чтобы разобраться во всех этих факторах, надо ясно представить себе, что все они совершенно независимы друг от друга, а результаты их. накладываясь
102
И. М. Дьяконов
один на другой, дают впечатление полной неправильности движения. Поздневавилонские астрономы зто и осознали; для расчетов они располагали описанным выше арсеналом численных методов старовавилонской математики, а также усвоили идею описания периодически меняющихся величин с помощью арифметических прогрессий.
Ими были созданы эфемериды, включавшие следующие данные, расположенные столбцами: даты средних соединений Солнца и Луны в каждом месяце и году но Се-левкидской эро (считавшейся в Вавилонии со 2 апреля 311 г. до н. э.); период изменения скорости движения Луны; продвижение Солнца за данный месяц (скорость Солнца); долгота точки на эклиптике, соответствующая среднему соединению Солнца и Лупы на каждый месяц; продолжительность дня или ночи при данной долготе Солнца (и Луны); колебания шпроты Луны; продолжительность затмений (если они произойдут при данном соединении); продолжительность лунного (синодического) 30 месяца, исходя из данного изменения скорости Луны, но в предположении неизменности скорости движения Солнца; поправка, вызванная колебаниями скорости движения Солнца; алгебраическая сумма слагаемых, указанных в двух предыдущих столбцах; и даты момента последовательных соединений, отнесенные к заходу Солнца, — моменту начала вавилонскпх суток, так как предшествующие даты рассчитывались для полуночи. Таким образом, решается задача — найти действительный момент появления Луны для любого месяца и года. Далее, указывались разность во времени между моментом соединения Солнца и Луны и последующим заходом Солнца, при котором можно ожидать первого появления луппого серпа; затем указывалось, будет ли Луна видима уже в вечер соединения или, если величина времени между заходом Солпца и заходом Луны слишком велика, то давался резу пьтат расчета первой видимости Луны для следующего дня, и таким образом определялось, будет ли месяц иметь 29 или 30 дней.
На некоторых данных этих лунных эфемерид стоит зв Синодическим месяцем называется возвращение Лупы к одной и той же фазе. Бавилоняне исчвсляли также и аномалистический месяц, т. е. период возвращения Луны к той же скорости движения по орбите (или, что то же, к перигею).
Научпьгс представления на древнем Востоке
<03
остановиться даже в нашем очень кратком изложении. Весьма интересно, как вычисляется и отмечается в эфемериде изменение скорости Солнца. Здесь имеется две системы: по одной скорость движения Солнца считается меняющейся непрерывно, по второй — считается постоянной, но различной на двух дополняющих друг друга дугах эклиптики. В первом случае продвижение Солнца обозначается числом, равномерно и линейно уменьшающимся до определенного момента, а с пего — столько же времени и настолько же равномерно и линейно увеличивающимся. Графически это изменение можно изобразить линейно закономерным зигзагом, с достаточной точностью передающим действительно ожидаемый криволинейный график постоянного изменения скорости движения Солнца. Во втором случае допускается значительное упрощение закона изменения скорости движения Солнца. Только в этом случае в эфемериде особо указывается период изменения скорости движения Лупы, зато, поскольку скорость движения Силнца здесь принимается постоянной в пределах каждой из двух дуг на эклиптике, постольку нет специального столбца с данными о продвижении Солнца за каждый месяц.
Особенно интересны данные лунных эфемерид, относящиеся к затмениям. Следует заметить, что эфемериды вычислялись чисто математически. Поэтому определялись не столько моменты реальных затмений, — которые, естественно, бывают только при строго определенном взаимном расположении дисков Луны и Солнца, — сколько теоретические расстояния менаду диском Луны и диском Солнца при каждом соединении как функция широты; при известном значении этой функции вычисленное число соответствовало глубине погружения лунного диска в тень Земли (исходя иэ нашей модели астрономической системы Земля—Солнце—Луна). Расчеты вавилонских астрономов довольно близко соответствовали действительности, и лунное затмение и даже его фазу можно было предсказывать правильно в подавляющем большинстве случаев. Ошибка иногда зависела от того, что расчет не проверялся наблюдениями 40. Кроме того, всегда сле
40 Вавилонские астрономы отдавали себе отчет в том, что при известных численных значениях положения Лупы или планеты
104
И. М. Дьяконов
дует учитывать, что при расчетах иной раз допускались подгонки (округления) ради удобства оперирования с «правильными» числами или для сокращения числа разрядов шестидесятиричпых дробей.
Как известно, лунное затмение — это погружение Луны и конус тени, отбрасываемой Землей; поэтому оно видно на всей ночной (теневой) половине Земли, где видна полная (т. е. противостоящая зашедшему Солпцу) Луна. Напротив, солнечное затменье означает покрытие диска Солнца невидимым диском Лупы в новолуние, и поэтому опо видно только в узкой полосе, прочерчиваемой на поверхности Земли лунной тенью; для наблюдателя, находящегося вне этой полосы, невидимый в лучах Солнца на голубом небе темный диск новой Луны проходит мимо диска Солнца, и затмения не происходит. Не зная действительного расстояния между всеми тремя небесными телами — Солнцем, Луной и Землей, вычислить длину и направление конуса лунной тени и полосу ее прохождения по поверхности Земли невозможно. Вавилоняне не только не знали этих расстояний, но даже не имели никакой ясной геометрической модели для объяснения явления затмений; поэтому вавилонские (и все вообще древние) астрономы не могли предсказывать солнечных затмений; сообщения о таки"’ предсказаниях, якобы сделанных Фалесом или другими мудрецами древности, относятся к области историографических мифов. Вавилонские астрономы знали только, что солнечные затмения происходят в момепты соединения Солнца и Луны в новолуние (в то время, как луЛые затмения — в полнолуние), и могли указать, когда солнечное затмение, несмотря на такое соединение, исключается вследствие большого расстояния Луны по широте от эклиптики.
Лунные эфемериды — наиболее важное, по далеко не единственное достижение поздневавилонской астрономии. Прежде всего к ним (как и к другим эфемеридам) существовали так называемые «процедурные тексты», содержавшие данные для вычисления эфемерид, например списки
она будет заслонена горизонтом (такое положение небесного тела называлось даже опрсделеипьп термином LU. что, вероятно, значит «захвачена»); однако речь шла скорее о захождении светила за математический горизонт, чем о моменте оптического исчезновения.
Научные представления на дрсвпом Востоке
105
коэффициентов, па которые нужно умножать элонгацию для получения разности во времени между заходами Солнца и Луны для разных долгот; не все в этих текстах сейчас понятно. Далее, существовали и другие эфемериды, вапример эфемериды долготы Солнца изо дня в день в предположении равномерной скорости, выраженной опять-таки в виде зигзагообразной линейной функции, а также эфемериды движения планет, рассматриваемых с точки зрения моментов их исчезновения и появления- — геометрия движения планет вавилонян не интересовала, и они не создали для нее никакой модели. Поэтому каждый элемент движения планет рассматривается сам по себе, независимо от других, а не как результат какого-либо известного геометрического истинного движения. Для вычисления планетных явлений (а также моментов появления и исчезновения важнейших неподвижных звезд, например Сириуса) не предъявлялось требования такой точности, как для вычисления лунных движений, поэтому изменения продолжительности лунного месяца игнорировались (иначе приходилось бы пользоваться лунными эфемеридами на столетие вперед), и месяц условно считался за состоящий из 30 средних суток.
Как и многие другие клинописные тексты I тыс. до н. э., астрономические тексты часто указывают имя писца, хотя по большей части нам остается неясным, имеется ли в виду составитель, переписчик или заказчик копии. В городе У руке 41, долее всего сохранявшем традиции клинописной грамотности, эти писцы принадлежали к одному из двух родов — Экурзакира и Синликеуннинпч. Это были большие роды, восходившие, по-видимому, еще ко II тыс. до п. э.; к ним принадлежали очень многие граждане Урука самого разнообразного социального положения и профессий, поэтому то обстоятельство, что Экурзакир назван жрецом-заклинателем (masma.su), а Синликеуннинни — жрецом-пеьчкм (kalu) ни о чем не говорит, разве о том, что грамотность передавалась теперь в родах, происходивших из низшего жречества. Кстати говоря, тому же Синликеуннинни — правда, названному в данном случае, не kal'i, а тоже masmasu — приписывалось составление окончательной версии гениальной эпи
41 Он ясе Эрех, или Орхоя, ныне Варка.
106
И. М. Дьякопов
ческой поэмы о Гильгамеше. Античные авторы еще знали по именам знаменитейших вавилонских астрономов — Soudines, Nabourianos и Kidenas. Имена эти — подлинные аккадские (уменьшительные Sum-iddina и Kidenu, Ki-dinnu и полное имя N аЪй-rlmanni, в ноздпевавилонском или арамейском произношении — *Sowiddin(a), *Ki-вапп(а) или *Kiden(a), *Naburiwan. Два последних имени упоминаются, среди прочих, на подлинных клинописных астрономических табличках, — правда, в не вполне ясном контексте. Существует мнение о том, что Набуриан изобрел более древнюю систему вычисления лунны х эфемерид (исходящую из скорости Солнца как из постоянной), а Киден — более совершенную (основанную на зигзагообразных функциях); но это мнение принято не всеми специалистами.
Знакомство эллинистических астрономов с именами астрономов вавилонских уже само по себе показывает существование некоторого вавилонского влияния на эллинистическую науку; мы знаем к тому же, чти вавилонский астроном и историк Берос жил и преподавал па греческом о. Кос между 31G и 290 гг. до н. э. Отчетливые следы знакомства с вавилонскими астрономическими достижениями заметны у греческих авторов II в. до и. э., хотя они быстро ушли значительно дальше.
Вавилонская медицина
Пам осталось сказать несколько слов о еще одной области знания в Вавплонии, а именно о вавилонской медицине. Хотя, по мнению большинства специалистов, она сильно уступала древнеегипетской, все же она представляет определенный интерес.
Как и повсюду, медицина в Нижней Месопотамии развивалась по двум линиям, магической и практической, и лекарем был либо колдун-заклинатель, либо практик — костоправ или- знаток лечебных трав и других снадобий [Ritter, 1966J. Это деление, еще доисторическое, проходит и через всю древнюю историю Месопотамии. В обоих случаях записи, относящиеся к деятельности лекарей, попали в письменный канон сравнительно поздно. Как мы уже знаем, заклинания вообще стали записываться и сводиться в канонические серии табличек лишь во II тыс.
Научные представления па древнем Востоке
107
до н. э., преимущественно во второй его половине, а рецепты врачей-практиков — если не считать простых терминологических перечней лекарственных средств, известных с конца III тыс., — стали записываться тоже примерно в это время.
Пособием для знахарей — заклппателей духов (asipu) являлась серия из 40 табличек, называемая «ЕпИта апа bit marsh («Когда в дом больного (заклинатель идет]») ILabat, 1965; Kinnicr, Wilson, 1962; Ivinnier, Wilson, 1956|. Эта серия содержит, во-первых, приметы, перечисляемые систематически, в соответствии с частями тела, — по именно приметы, а пе диагностические признаки болезни, — и, во-вторых, указания, что именно эти приметы предзнаменуют: «Он умрет», «Он поправится» и т. п. Что нужно при этом делать заклинателю, указывается редко (во всяком случае речь идет о магических манипуляциях); очевидно, предполагалось, что заклинатель станет применять известные общепринятые правила изгнания злых духов. Существовали многочисленные серии заклинаний против духов («Utukki lem.iUti» — «Злые духи», «Asakki marsuti» — «Болезненные нечисти» и мн. др.); но эти заклипапия и сопровождавшие их описания обрядовых дей( твий никак не связываются с какими-либо определенными болезнями или симптомами болезней. Сохранились каменные таблички конца II — начала I тыс. до н. э. с изображением наводящего болезни демопа женского пола — чудовища Ламашту, которое поднимается из преисподней. На таких табличках встречаются и изображения больного в постели и рядом с нпм — заклинателя с бубном (?) в руке, одетого в рыбообразную одежду доброго бога Эйа, владыки пресноводного Мирового океана, на котором плавала плоская земля, по представлениям вавилопян.
По-видимому, и заклинатели пользовались иной раз практическими медикаментами, но главную роль у них играла симпатическая магия, магия чисел и т. п. Одпако определенный эффект их лечение имело, — вероятно,-преимущественно психотерапевтический.
С другой стороны, магии не чужды были и врачи-практики: на это указывает уже их название (asu из шумерского а - z и «знающий [магически чистую] воду»). Несомненно, что их манипуляции сопровождались молит
108
И. М. Дьяконов
вами. Лечили они травами и иногда довольно диковинными средствами, из разни х, главным образом органических ингредиентов, часть которых (далеко пе все!) могли иметь практическую лечебную ценность. Большинство упоминаемых зелий для нас пеотождествимо, но о некоторых нам известно, что они имеют слабительное, мочегонное действие и т. п. Из медицинских инструментов упоминаются бритва (!), шпатель, медные трубки. Па печати одного вавилонского врача изображено нечто похожее на медицинские инструменты, в том числе акушерские, щипцы (?), однако истолкование этих изображений весьма спорно (Meissner, 1920—1925, II, с. 43J. Сколько-нибудь существенных хирургических операций вавилонские ко-стоправы-asu делать не умечи 42. Все же некоторая врачебная специализация существовала. Повитухами были, конечно, просто опытные женщины; известен случай из старовавилонского царства Ларса, когда для женщип дворца существовала специальная жепщппа-врач; в ассирийских дворцах были врачи-гинекологи — видимо, евнухи, иногда женщины. В нововавилонское время упоминается глазной врач. Особую специальность составляли ветеринары (niuna'isu), или «скотьи врачи» [Дьяконов, 1952. № 3, § 2241.
Перечни лекарственных средств составлялись по-шумерски еще при III династии Ура (XXI в. до н. э.) [Civil, 19(>0[ и позже; двуязычный перечень взаимозаменяемых (??) лекарств «U г н - a n - n а = m a s t а к а 1» из трех таблиц входил уже в старовавилонский письменный канон. По-видимому, к старовавилонскому времени восходят в конечном счете и дошедшие в более поздних копиях (I тыс. до н. э.) медицинские пособия, составленные по типу: «Если у человека такие-то симптомы болезни, изготовь то-то и таким-то образом, дай так-то, он поправится» — если только симптомы не считаются указывающими на безнадежное заболевание [Оппенхейм, 1980]. Иногда болезнь обозначена по названию (сходные пп сим- 43
43 Ссылаясь на Законы Хаммурапи, § 218, часто предполагают, что старовавилонские врачи умели снимать катаракту; но, как показал А. Л. Онненхейм. речь идет о надрезе, делавшемся на глазу с лечебной целью. Производилось также кесарево се-чепие, но только в случае смерти роженицы [Оппенхейм, 1980; Labat, 1959].
Научные представления ла древпем Востоке
109
птомам болезни плохо дифференцировались); иногда указаны причины недуга, как правило, сглаз или совершение пациентом «греха»: под «грехом» столь же часто разумелось нарушение магических, как и этических, табу, да и этическим запретам придавалось магическое значение.
Проходили ли врачи-asn общую подготовку писцов в школе-е - d u b - (Ь) а — не ясно; известно лишь, что были ученики врача {пт acasgii), которые были или могли быть грамотными. Социальное положение врачей было невысоким. Есть данные о том, что во второй половине II тыс. до п. э. славились врачеватели из города Иссииа, хотя неясно, были ли они iitipu или asii, или объединяли в своем лице то и другое.
Хотя мы пе знаем, был ли иссинцем по происхождению и образованию врач Мукаллим, чьи письма дошли до нас приблизительно от XIV в. до н. э., однако из этих писем мы получаем хорошее представление о практической врачебной деятельности средневавилопского времени [Wascliow, 1936]. При касситской династии в Ниппуре существовала больпица для храмовых писцов и певиц; в ней же при случае лечились и лица всякого происхождения и положения. Во главе нее и стоял Мукаллим — числился он служителем богини болезней и врачевания — Гулы; помощником его был фармацевт. При больнице работали чужестранцы, видимо рабы: врач отчитывался перед администратором храма. Лечение было чисто эмпирическим, а не магическим. Вот примеры из писем Мукал-лима: отчет о лечении группы певиц, по-видимому во время эпидемии гриппа: «Этирту заразилась от этой заразы; дочери (неких) Куру и Ахуии благополучны и телом здоровы; если господин мой напишет мне, они могут выйти и засесть за учение. Что касается дочери Мушталу, то ее воспаления 43 прошли, — а что раньше она кашляла, то теперь пе кашляет. У дочери Илииппашры двустороннее воспаление продолжается; она побледнела», и т. д. Этирту было так плохо, что гонцов о се здоровье слали по два-три раза в сутки; лихорадка кончилась потом, так же как и у большинства других пациенток. В следующем письме сообщается, что Этирту поправилась, 43
43 Речь пдет, ио-впдпмому, о воспалении обоих легких; о другой пациентке прямо говорится, что у нее «воспаление под ребрами»
110
И. М. Дьяконов
а дочери Мушталу стало гораздо хуже: «с вечера ее охватил жар; под утро я поил ее зельем, по жар такой же; ноги у нее холодные; но что раньше она кашляла, то теперь [не кашляет]». Ей давали отхаркивающее и средства от болей в животе; чем кончилась ее болезнь, мы из сохранившихся писем пе узнаем. Среди многих других пациенток была и царевна, у которой «был жар», по «от обертываний и напитка она успокоилась».
Кроме того, сохранились письма о глазпой болезни и о хирургических случаях: «Два твоих 44 взрослых раба, которые свалились в колодец: у одного сломана ключица, второй разбил голову; пусть господин мой напишет, чтобы выдали масла (для втирапия), дабы дать им поправиться». В одном письме фармацевт запрашивает множество разных лекарственных трав; часть из пих приходится затребовать у садовников через градоначальника. Во всей переписке — пи слова о молитвах и заклинаниях!
Естественпо, что между заклинателями {(Isipu) и лекарями-эмпириками (asii) происходила борьба. Победили в ней заклинатели: asfi постепенно сошли на низшую ступеньку иерархии профессий. Причина тому, по-видимому, заключалась г в том, что asii с возникновением письменного канона перешли на зазубривание серии записанных симптомов п рецептов, а изучению и обследованию больного не уделяли никакого внимания. Старовавилонские медицинские пособия переписывались без изменения столетиями, а новых наблюдений либо не делалось, либо они не считались достойными записи и тем самым на будущее выпадали из традиции. Поэтому эффективность лечения asG, все более снижалась даже по сравнению с «психотерапией» заклинателей — asipu и masmasu. По-видимому, с течением времени заклинатели усвоили наиболее полезные приемы эмпирической медицины; уже ниппурский врач Мукаллим, письма которого мы выше цитировали, не спешил обозначать себя как asu, а в I тыс. до н. э. при ассирийском дворе лечили исключительно asipu [Оппенхейм, 1980, с. 305—306; Ritter, 1966]. В результате уровень вавилонской медицины стал отставать от
44 Главного администратора храма.
Ниучпыс представления иа древнем Востоке Н1
уровня древнеегипетской и греческой, и греческий историк V в. до и. э. Геродот (III, 1) отмечает ее сравнительную отсталость.
Система знания
Мы можем подвести итоги рассмотрению научных представлений древних шумеров и вавилонян; отметим также их влияние на другие народы.
Все знания шумеров и вавилонян об окружавшем их миро были созданы практической необходимостью. Некоторые так и оставались в области чистой практики и передавались от поколения к поколению только устно — например, большинство ремесленных приемов, навыков и рецептов; эти знания лишь сравнительно поздно и частично фиксировались в канонической письменности, и такая их фиксация скорее мешала дальнейшему развитие познания в подобных областях. Другие знания с самого начала потребовали письменной фиксации и тем самым включились в поток традиции, в писцовый канон. Сюда относятся филологические и математические знания, требовавшиеся администратору, счетоводу, правоведу, астрономические знания, нужные главным образом для правильного счета времени, и регистрация многочисленных естественных или вызываемых человеком явлений, из которых надеялись вывести предзнаменования для судьбы людей и царств — гепатоскопия, гаруспиция, лекапомантия, либаномантия, тератология, астрология, ни также и наблюдения за поведением людей и животных. Усвоение знаний в школе в основном сводилось к переписке и заучиванию всякого рода составленных на сей предмет перечней, списков, таблиц, казусов, рецептов и т. д. Письменно фиксированные знания вавилонян были до-научными в том смысле, что в основе их лежало только описание и внешняя классификация, вопрос же «почему», с которого, собственно, только и начинается наука, не ставился — или, во всяком случае, ставить этот вопрос не обучали. Это не мешает тому, что в некоторых областях, например в языкознании, праве, математике, включая геометрию, а к началу эллинистического времени — и в астрономии, были накоплены внушительные для своего времени знания.
112
И. М. Дьяконов
Школа, как и деятельность гадателей и астрономов-астрологов, ставила себе совершенно практические задачи: в первом случае — обучение писцов-администраторов, отчасти жрецов и т. п., во втором — выработку возможностей предвидеть судьбы (задача неразрешимая, но тем не менее но идее вполне практическая). Но в то же время та мыслительная деятельность, которая была необходима при преподавании и особенно при подготовке пособий, раз начавшись, становилась автономной, и накапливаемые знания и приемы постижения явлений пачали выходить за пределы простого практического спроса на них и ставили себе целью «мудрость» в чпстом виде, как осознание силы мысли, как способность понимать то, что не всякому доступно. Отсюда нередкие в клинописных текстах разного рода (не только «научных») призывы к будущим писцам показывать написанное «только знающему, а незнающему не показывать». Это, однако, вовсе не означает, что вавилонская наука была чем-то эзотерическим, мистическим, тайным, — напротив, мы знаем, что образованность была доступна сравнительно широким слоям населения; дело именно в сознании исключительности самой достигнутой мудрости; к ней, помимо запоминания древних изречений и мифов, могло также относиться, скажем, умение решать квадратные уравнения и другие сложные математические задачи или умение предвычислить движение планет, само по себе лишенное какого бы то ни было практического значения.
У изучающего историю вавилонской науки создается впечатление, что первые века II тыс. до н. з. (а может быть и III тыс.) были эпохой интенсивной умственной деятельности, за которой наступила эпоха оформления (отчасти и расширения) письменного канона, завершившаяся с концом II тыс. до н. э , после чего наступил умственный застой; некоторые новые достижения, особенно в математике и астрономии, намечаются лишь накануне завоеваний Александра Македонского и наступления эры эллинизма.
В этом впечатлении есть большая доля истины. Задержка в развитии вавилонской науки, наблюдающаяся примерно с XVII в. до н. э., объясняется, как нам кажется, гибелью традиционной светской школы — «э-дубы» с ее высокими требова еиями к ученикам и учителям.
Научные Представ лепил Па древнем Востоке ИЗ
Дальнейшая ученая деятельность была направлена преимущественно на кодификацию знаний, на создание возможно более обширных и полных перечней, таблиц, компендиумов, рецептов и предзнаменований. Ученикам по-прежнему предлагалось все это бездумно переписывать и зазубривать. Подобная деятельность имела свой естественный предел: им была ограниченная способность человеческого мозга к механическому заучиванию информации. «Мудрец», освоивший сотпи и сотни канонических перечней и не учившийся при этом логически мыслить, был уже неспособен двигаться дальше в познании явлений.
Некоторый подъем умственной жизни в V—IV вв. до н. э. можно, пожалуй, объяснит D тем, что в условиях происходившего при персидском и эллинистическом владычестве грандиозного смешения народов и обычаев и обмена эмпирическими сведениями авторитет письменной клинописной традиции несколько расшатался, и стало возможно более самостоятельное мышление, — хотя и на той же традиционной основе, но уже выходящее эа ее п р е д е л ы. Но это — только догадка: мы слишком мало знаем о культурной жизни Вавилонии того времени.
Весь шумеро-вавилонский письменный канон как необходимая принадлежность школ, где изучалась клинопись, во II тыс. дол- з. распространился вместе с этой системой письма по всей Передней Азии, частью без изменений (по с многочисленными ошибками, так как местным писцам был чужд не только шумерский, но и аккадский язык), частью с добавлением перевода на местный язык. Так, большинство филологических пособий ппннурского канона, а также вавилонские Omina были известны хеттам в Малой Азии, во всяком случае целый ряд из пих был известен хуррнтам и западным семитам в Сирии, эламитам в юго-западном Иране. Нечего говорить, что в Ассирии (где говорили, как и в Вавилонии, по-аккадски) вавилонский письменный канон изучался едва ли не тщательнее, чем в Нижней Месопотамии. Но клинопись штудировали и в западной Малой Азии, едва ли не вплоть до Трои и островов Эгейского моря, п к югу от Сирии — в Финикии, в Палестине и даже Египте.
Во второй половине II тыс. до н. э. у западных семитов — по-видимому, у финикийцев — было изобретено
114
И. М. Дьяковой
«алфавитное» письмо, — вернее, письмо, состоявшее из знаков для комбинации-согласной фонемы с произвольным гласным или нулем гласного. Это письмо было бесконечно легче учить, чем аккадскую клинопись, но гораздо сложнее понимать, и первые столетия оно применялось только как мнемоническое средство для записи общеизвестных культовых текстов, хозяйственных документов, содержание которых было приблизительно задано, реже — для коротких писем, и т. п. Но в I тыс. до н. э., когда арамеи и другие западпосемитские народы усовершенствовали эту письменность, введя в нее, во-первых, словоразделы, а во-вторых, отдельные обозначения хотя бы только для долгих гласных, новый семитский алфавит (предок всех алфавитов мира) стал успешно конкурировать с аккадской клинописью и в конце концов вытеснил ее совсем.
Однако при распространении арамейской письменности на Иран в V—III вв. до н. в. возникла ситуация, сходная с той, что существовала в Вавилонии рубежа III и 11 тыс. до и. э.: сначала все писцы были арамееязычными и документы составлялись только по-арамейски; потом, при политическом отрыве Ирана от Передней Азии, арамейских писцов стало там не хватать. Документы тем не менее продолжали, по мере возможности, писать по-арамейски, но только пока дело касалось заученных из школы стандартных оборотов документального формуляра. Сперва стали писать отдельные слова, а наконец — и весь текст, хотя и но-прежпему арамейской скорописью, но уже на том или ином иранском языке. Но наиболее ходовые слова и тогда продолжали писать по-арамейски: они остались в тексте как уже непонятные иероглифы, читавшиеся по-ирански, несмотря на * арамейское написание букв: так MLK’ (т. е. арам, malka — «царь») читалось х«Л — «царь, шах».
Поэтому потребовались арамейско-иранские словари (так называемые «фарханги»). Писцы Вавилонии во II— I вв. до н. э. еще знали, наряду с арамейским, и аккадский и еще пользовались старыми шумеро-вавилонскими филологическими пособиями. После нового завоевания Вавилонии иранцами-парфянами принципиальное сходство арамейской гетерографии, существовавшей для написания иранских текстов, с системой аккадской клинописи,
Нау иные представления па древпем Востоке
115
где тоже каждое слово можно было при желании написать знаками для его шумерского эквивалента, было осознано писцами, и «фарханги» были созданы по образцам шумероаккадского «силлабария» Sb [Ebeling, 1941]. Но грамматические представления аккадцев были, кажется, забыты.
У нас, по-видимому, нет даппых о распространении вавилонской математики и астрономии за пределы Вавилонии и Ассирии во 11 и начале I тыс. до н. э. Сведения о вавилонских математических методах дошли до Египта, вероятно, лишь в эпоху великих «мировых» держав, скорее всего — при Персидской державе Ахемепидов. Они оказали заметное влияние на раннюю греческую математику и астрономию и продолжали оказывать еще долго после великих математических открытий Эвклида и Архимеда (Гипсикл, Гиппарх, Диофант, Гемин, Герои — II в. до и. э. — I в. н. э.), по постепенно численные методы вавилонского происхождения были вытеснены в область главным образом астрологических наблюдений. Сохранялось довольно длительное время использование шестидесятиричной системы счисления, пережитком чего является до сих пор деление окружности па 360 градусов, градуса на 60 минут и минуты на 60 сскупд — и также часа на 60 минут и т. д., хотя само деление суток на 24 часа, по-видимому, египетского происхождения: вавилоняне делили отдельно ночь на три или шесть «страж» — временных отрезков (ср. у римлян четыре vigilia) и точно так же отдельно день; эти отрезки были неравной длины в зависимости от времени года.
Любопытна судьба вавилонской астрономии. Таблицы лунных и планетных движений, созданные вавилонянами, попали к эллинистическому астрологу Тевкру «Вавилонянину» 45 и римскому астрологу II в. п. э. Веттию Валенту. Их сочинения были в III в. н. э. переведены в Персии, а оттуда вавилонские расчеты попали в Индию, где жили еще полтора тысячелетия.
46 Поскольку он жил, видимо, в I в. до н. а., когда Вавилон уже был почти заброшен, постольку вероятно, что эпитет «Вавилонянин» означает, что он был уроженцем Селевкни па Тигре — греческого города по соседству с Вавилоном, заселенного в значительной мере бывшими вавилонянами. Такой перенос термина заев гдетельствован и в дрчтих анатогш'як х случаях.
116 И. М. Дьяконов
Живучими оказались вавилопские лженауки. Гепато-скопия, изобретенная и разработанная в Нижней Месопотамии, быстро распространилась у соседних народов: мидель печени для гадания, по образцу вавилонских, была найдена уже в ханаанейской Палестине II тыс. до н. э.; гадапие по печени па вавилонский лад было известно хеттам и, наряду с другими элементами культуры древней Малой Азии, было занесено в Италию этрусками. Гадание по естественным Omina тоже распространилось всюду, куда проникала клинописная грамота, а па возникшую в последние века до н. э. эллинистическую астрологию оказала определенное, хотя и не решающее влияние астрология вавилонская.
Значение начатков науки, создавшихся в Вавилонии, однако, совсем не в том, что то или иное их открытие (илп заблуждение) продолжало еще долго жить или продолжает жить в какой-то степени и сейчас. Важнее, что вавилонская наука была одним из первых шагов человечества, вообще сделанных им в направлении рационального познания мира, в котором оно обитает.
Литература
Бикерман Э. Хронология древпего мира. М.: Наука, Гл. род. вост, лит., 1975, 336 с.
Вайман А. А. К расшифровке иротошумерской письменности. (Предвар. сообщ.). — В кн.: Передпеазпатекий сборник. М.: Наука, Гл. род. вост, лит., 1966, № 2, с. 3—15.
Вайман А. А. Шумеро-вавилонская математика III—I тысячелетия до. н. э. Ч.: Изд-во вост, лит., 1961. 278 с.
Ван-дер-Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука. М.: Физматгиз, 1959. 459 с.
Веселовский И. II. Вавилонская математика. — Тр. И НЕТ, 1955, т. 3, с. 241-303.
Выгодский М. Я. Арифметика и алгебра в древнем мире. 2-е изд. М.; Л.: Гостехиздат, 1967. 252 с.
Дьяконов И. М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства: (Публ. текстов, комментарий).— Вести, древней истории, 1952, № 3, с. 225 -303.
Дьяконов И. М. История Мидии с древнейших времен до IV в. до н. э. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 485 с.
Дьяконов И. М. Народы древней Передней Азин. — В кн.: Пе-реднеазпатскпй этнографический сборник. М.: Изд-во вост, чпт., 1958 № 1. 230 с.
Дьяконов II. М Общественный и государственный строй древнего Двуречья; Шумер. М.: Изд-во вост, лит., 1959. 300 с>
Научпыс представления на древнем Востоке
117
Дьяконов И. М. Языки древней Передней Азии. М.: Паука, 1966. 492 с
Канева И. Т. Новая табличка с отрывком из шумерской поэмы <-Писец и его непутевый счп». - Вести, древней истории, 1966, № 2, с. 68—78.
Крамер С. II. История начинается в Шумере. М.: Паука, 1965. 256 с.
II ейгебауэр О. Лекции по истории античных математических наук. М.; Л.: ОНТИ, 1937. Т. 1. Догреческая математика. 243 с. С доп. С. Я. Лурье.
Пейгебауэр О. Точные науки древности. М Наука, 1968. 224 с. Оппенхеим А. Л. Дранная Месопотамия. М.: Hay 1-*н. 1980. Наииекук .1. История астрономии. М.: Наука, 1966. ч. 1, 592 с. Струве В. В. Датировка I Вавилонской династии. Вести, древ-пей псторип, 1947, № 1, с. 9—35.
Якобсон В. А. Представление о государство в древпеп Месопотамии. — Древний Вост к. III, Ереван, 1978, с. 55—70.
Янковская Н. Б. Клинописные тексты из Кюль-тепе в собраниях СССР. М.: Наука, 1968. 396 с.
Albright W. F. — Bull. Amer. Schools Orient. Res., 1945, vol. 77, 25 sqq.; 1965, vol. 179, 38 sqq.
Balkan X Die Sprache der Kassilen (Kassitenstiidien I). New Haven, 1954.
Ch’ll M. Prescriptions medicales sumeriennes. - Rev. assyriol., 1960, vol. 54, p. 57—72; 1961, vol. 55, p. 91 94.
Diakonojf I M. A nolitii al pamphlet rrom about 701) В. C. —Studies in honor ot B. Landsberger. (Assyriological Studies, 16). Chicago, 1966.
Ebeling E. Das aramiiisch-inittelpersische Glossar «Frahang-i-Pahla-vik» im Lichte der assyriologischen Forscliung. — Mitt. Alt.-Orient. Ges. Leipzig, 1941, Bd. 14, S. 1.
Edzard D. O. Die «Zweite Zwiescheuzeit» Babylonians. Wiesbaden, 1937.
Falkenstein A. Fluch uber Akkade. — Ztschr. Assyriol., 1965, Bd. 23 57), S. 43—124.
Finkelstein J. J. Mesopotamian Historiography. — Proc. Amer. Phil. Soc., Philadelphia. 1963, vol. 107, p. 461—472.
Frank C. Fremdsprachige Glossen in assyrischen Listen und Vokabu-laren. — Mitt. Alt Orient. Ges., 1928—1929, Bd. 4, S. 81—95.
Gadd C. J. Ideas of divine rule in the Ancient East. — The Schweich Lectures of the British Academy 1945. L., 1938.
Gelb I. J. A study of writing: The foundation of grammatologv. L., 1952.
Goetze A. An Old Babylonian Itinerary. — J. Cuneiform Stud., 1964, vol. 17, p. 51—73.
Goetze A. Historical Allusions in Old Babylonian Omen texts. — J. Cuneiform Studies, 1947, vol. 1, p. 253—265.
Giiterbock H. G. — Rev. Hittite et Asian., 1957, vol. 60, 80 sqq.
Jacobsen Th. The Sumerian King List. — Assyriol. Stud., Chicago, 1939, vol. 11.
Jankou’ska N. B. A System of Rotation of Eponyms ot the Commercial Association at KaniS (Asis Minor XIX cent. В. C.). — Arch orient., 1967, vol. 35, s. 524—548.
118
И. М. Дтякопов
King L. W. Chronicles concerning Early Babylonian kings. L., 1907. Vol. I—II.
Kinnier Wl'jon J. V. The Nimrud catalogue of medical and physiognomical Oinina. — Iraq, 1962, vol. 24, p. 52—62.
Kinnier Wilson J. V. Two medical texts from Nimrud. — Iraq, 1956, vol. 18, p. 130—146.
Klauber E. Politisch-religiose Texte aus der Sargonidcnzeit. Leipzig, 1911.
Knudtzon J. A. Die Gebete an den Sonnengott fur Staat und konigli-rhes Ilans aus der Zeit Assarhaddonsund Assurhanipals. Leipzig, 1893.
Kraus F. R. Ein Sittenkanon in Omenform.— Ztsclir. Assyriol., 1936, Bd. 43, S. 77—113.
Labat R. A propos de la chirurgie babylonienue.— J. Asiat., 1959, vol. 242, p. 207-218.
Labat R. Traite akkadien de diagnostics et pronostics medicanx. P., 1965.
Lambert W. G. Babylonian wisdom literature. Oxford, 1960.
Landsberger R. Chronologic nnd Dunkles Zeitalter. — J. Cuneiform Srud., 1854, vol. 8, p. 31—73, 106—133.
Landsberger B. Materialien zum sumerischen Lexikon — 52. I—X.
Landsberger B. The scribal concept of education. — In: City Invin-cible/Ed. by R. McAdams, С. H. Kraeling. Chicago, 1960, 99 sqq.
Langdon, Fotheringham J. К. [C. Schoch). The Venus tablets of Am-mizaduga. Oxford. 1928.
Laroche E. Catalogue des textes hittites. P., 1971. IV A: Vocabufaires.
Malerialcn zum sumerischen Lexikon, I—XII. Roma (I—X: B.: Landsberger: XI—XIII — M. Civil).
Meissner B. Bahylonien und Assyrien. Heidelberg, 1920—1925. Bd. I—II.
Meissner B. Ein assyrisches Lehrbuch der Palaographie. — Arch. Orientforsch.. 1927, Bd. 4, S. 71—73.
Neugebauer O. Astronomical Cuneiform Texts. Babylonian Ephemerides of the Seleucid peiiod for the motion of the Sun, the Moon and the planets. Princeton; London, 1955.
Neugebauer O. Mathematische Keilschrifttexte. B., 1935—1937. Bd. I—III.
Neugebauer O., Sachs A. Mathematical Cuneiform Texts. New Haven, 1945.
Nougayrol J. — In: Ugaritica/Ed. Cl. Schaeffer. P., 1968. T. V, N 130 sqq.
Oppenheim A. L., Brill R. H., Barag D. von Soldern A. Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia. N. Y., 1970.
Oppenheim A. L. Or the observation of the pulse in Mesopotamia. — Orientalia. N. S., 1962, vol. 31, p. 27—33.
Pinches Th. G., Strassmaier J. N., Sachs A. J. Late Babylonian astronomical and related texts. Providence, 1955.
Reiner E., Pingree D. Eniim 1 Auu Eulil... The Venns Tablet of Ammisaduga. Malibu, 1975.
Ritter E. K. Magical-expert (=ASipu) and Physician (=Asfl): Studies in honor of B. Landsberger (Assyriological Studies, 16). Chicago, 1966, p. 299—321.
Научные Представления на дрсписм Востоке 119
Sachs A. Babylonian Horoscopes. — J. Cuneiform Stud., 1952, vol. 6, p. 49—75.
Each* A. A classification of Babylonian astronomical tablets of the Seleucid period. — J. Cuneiform Stnd., 1950, vol. 2, p. 271—290.
Schnabel P. Berossos und die babylonische—hellenistische Lilera-tur. B., 1923. ।
Sjbberg A. Examentext A. —Zeitschr. fiir Assjriologie. 1975, Bd. 64.
Smith S. Alalakh and Chronology. L., 1940.
Smith S. Babylonian historical texts relating to the capture and downfall of Babylon. L., 1924.
Smith S., Gadd C. J. A Cuneiform vocabulary of Egyptian words. — I. Egypt. Archeol., 1925, vol. It, p. 230—239.
Sollberger E. The Billers of Lagas. — J. Cuneiform Slud., 1967, vol. 21. 279 sqq.
Thompson ft. Campbell. Assyrian medical texts. L., 1923.
Thureau-Dangin F. — Syria, 1931, vol. 12, p.
Thureau-Dangin F. Textes mathematiques babyloniens. Leiden, 1938 (=«Ex Oriente Lux», 1).
Townsend В. B. An Assyrian dental diagnosis. — Iraq, 1938, vol. 5, p. 32—84.
Ungnad A. Datenlisten. — In: Keallexikon der Assyriologie. Bd. II/ Ed. by E. Ebeling et al. Berlin; Leipzig, 1938.
Ungnad A. Eponymenliste.1 — Ibid.
Van der Meer P. The chronology of ancient western Asia and Egypt. 2nd ed. 1955.
Van der Wacrden B. L. Babylonian Astronomy. — J. Near East. Stud., 1949, vol. 8, p. 6—26; 1951, vol. 10, p. 20—34.
Waschow II. Babylonische Briefe aus der Kassitenzeit. — Mitt. All-Orient. Ges., Leipzig, 1936, Bd. 10, S. 1.
Weidner E. F. Alter und Bedeutung der babylonischen Astronomic.
Leipzig, 1914.
Weidner E. F. Ein Babylonisches Kompendium der Ilimmelkunde. — Amer. J. Semit. Lang, and Liter., 1924, vol. 40, p. 186—208.
Weidner E. F. — Arch. Orientforsch., 1942, Bd. 14, S. 172; 1952, Bd. 16, S. XVIII; 1954, Bd. 17, S. 71—89.
Weir J. D. The Venus tablets of Ammizaduga. Istanbul, 1972.
М. А. Коростовцей
Наука древнего Египта
Под наукой древнего Египта мы понимаем комплекс естественнонаучных, математических и медицинских знаний в этом регионе с начала третьего тысячелетия до н. э. до эпохи эллинизма (111—I вв. до н. э.).
Древнеегипетское общество было одним из древнейших классовых обществ на нашей планете, выросшим непосредственно из предшествующей ему доклассовой структуры. Таким образом, оно было раннеклассовым обществом, еще далеко не изжившим стандарты быта и мышления доклассового общества, не получившим, по сути дела, никакого культурного наследия от доклассового общества.
Во многих исследованиях, посвященных той же тематике, можно встретить утверждения, что свои познания египтяне в значительной мере получили от других, современных им народов. В отдельных случаях это, несомненно, так: нельзя отрицать наличие культурного обмена у древнейших классовых обществ нашей планеты. По все же это не более чем необходимая и естественная деталь в истории науки. Общее развитие научной мысли определялось фактическими условиями развития того или иного общества. Поэтому утверждения, что, например, египетское общество было неоплатным должником в области культуры у Месопотамии, — не более, как искажение исторической перспективы в результате неэквивалентного состояния источников.
Становление классового общества и главным образом его дальнейшее развитие ставили человеческий коллектив в очень определенные и жесткие рамки: необходимо было заботиться об удовлетворении своих насущных жизненных нужд, и поэтому вся его деятельность в основном была чисто практической. Теоретическое мышление как обобщение этой практики в раннеклассовом обществе самой жизпыо этого общест за не ставилось в повестку дня. Тем более не могло быть и речи о подлинно научной проблематике даже в сравнительно узком кругу.
В египетской литературе времени Х1Х династии
Наука дренвего Египта
121
(XIII в. до н. э.) сохранилось нечто вроде образца литературной критики: папирус Anastasi I, в котором содержится полемика между двумя писцами и учеными, Хори и Аменемоне. Хори упрекает Аменемоне в недостаточной компетентности, и эти упреки служат яркой иллюстрацией того, что именно требуется от «ученого» писца: Аменемоне, оказывается, не умеет вычислить количество необходимых пайков для прокорма отряда войска; Аменемопе не умеет вычислить размеры и необходимое количество строительных материалов для возведения строительной насыпи с уклоном; Аменемопе не умеет составить необходимые расчеты для установки каменного колосса, подсчитать запас продовольствия для военного отряда, а также не знает ни областей, ни городов Северной Сирии, ни городов Финикии и т. д. Словом, в папирусе Anastasi I прямо сказано о том, что должен знать «ученый писец». Оказывается, что все это исключительно такие сведения, которые необходимы в ежедневной практической деятельности. Ни о каких теориях и абстракциях нет и речи.
Однако это обстоятельство никак не исключает смелого и творческого полета мысли в ряде случаев неизвестных нам по имени лиц. В частности, таким лицом был и неизвестный нам автор медицинского трактата, так называемого папируса Edwin Smith.
Когда мы говорим о науке древнего Египта, то имеем в виду только первые шаги египетского общества в сторону науки, это, если можно так выразиться, лишь «пред-паука», или «протонаука». Но это был неизбежный и необходимый этап в развитии человеческого мышления: без пего не могла бы возникнуть и развиться уже настоящая наука с ее методами, абстракциями и проблемами.
Наши термины, как математика, например, в применении к познаниям египтян далеко пе точны. Ведь в древнем Египте, как мы увидим далее, не было ни высшей, ни средней (элементарной) математики, как не было выделившейся от других отраслей математики геометрии; в египетских текстах встречаются, несомненно, геометрические задачи, ио они решаются не геометрическими приемами, составляющими отличительный признак геометрии, а исключительно вычислительными приемами обыкновенной арифметики. Точно так же нельзя говорить
122
М. А. Коростовцев
и о наличии в древнем Египте алгебры: несомненно, некоторые задачи разрешались приемами, которыми мы в наше время называем алгебраическими. Но никакой алгебраической методики и символики у египтян не было. Поэтому египетскую «математику» точнее всего назвать умением вычислять, техникой вычисления или просто вычислением, в котором уже намечалась дифференциация арифметики, геометрии, алгебры, по именно лишь намечалась в самом зародыше.
Математика (вычисление)
До нас дошел ряд так называемых египетских «математических» текстов. Самыми полными и важными для современной науки являются: 1) московский математический папирус издан, переведен и комментирован академиком В. В. Струве (Struve W. W. Mathematischer Papyrus des Staatlichen Museums der schonen Kiinste in Moscau. Berlin, 1930). По палеографическим особенностям восходит ко времени XIII династии (XVII век до и. э.); 2) Папирус Ринд (Р. Bhind) Британского музея (конец XVII в. пли начало XVI в. до н. з.), переписанный с более древнего текста неким А <месом. Издан два раза с переводом и комментарием: Е. Peet. The Bhind Mathematical Papyrus. London, 1923; A. B. Chase, L. Bull, H. P. Manning, В. C. Archibald. The Bhind Mathematical Papyrus. Aberlin (Ohio), 1923.
Оба папируса представляют собой практические пособия для решения задач разного тина. Дается условие задачи, а также ответ, но способ получения ответа не приводится. Такого же типа берлинский папирус 6619, содержащий задачу разделения большого квадрата па два малых (Schack-Schakenburg. Der Berliner Papyrus 6619. ZAS, Bd. 38, S. 136—140 (1900), а также некоторые математические тексты в Кахупских папирусах Среднего царства (Fr. Griffith. The Petrie Papyri, Hieratic Papyri from Kahun. London, 1989).
Имеются и другие математические тексты — демотические, значительно более позднего времени, ряд которых до сих пор пе издап.
Все эти тексты в общем однотипны: здесь нет ни теоретических исследований, ни постановки проблем.
Наука древпего Египта
123
Египтяне в глубокой древности создали систему нумерации, не менявшуюся у них на протяжении всей истории египетской культуры. Для единиц от «одного* до «девяти» включительно употреблялись короткие вертикальные или иногда горизонтальные короткие прямые черты. Так, «один» обозначался знаком I, «два» — знаком — II, и т. д. Число «пять» можно было написать так
число «восемь—'р, и т. д. Для обозначения «десяти» служил знак Q, для «сто»—S’, для «тысячи» — для «десяти тысяч» — для «ста тысяч» — (го-
ловастик), для миллиона и вообще «много» — 5 . Число 233 обозначалось ??ллл m и т. д.
Вычислительные операции, выполняемые египтянами в письме, носили совершенно своеобразный характер и весьма отличались от наших. Сложение и вычитание по своей технике не отличались от наших, и поэтому распространяться о них излишне. Совершенно иначе дело обстояло с умножением и делением, которые по существу сводились к сложению. Умножение целых чисел выполнялось с помощью приема, вероятно, очень древнего. В основе этого приема лежит операция удвоения. Например, нужно умножить 213 на 37. Египетский вычислитель составляет таблицу:
1 213 4 852 16 3408
2 246 8 1704 32 6816
В 1,3, 5 столбцах помещаются соответствующие множители вида 2fcf таблица продолжается до тех пор, пока в этих столбцах не появится наибольшее пз чисел 2", меньших, чем множитель 37. Таким наибольшим числом является 32=2®. Это наибольшее число этих столбцов отмечается наклонной черточкой. Такой же черточкой отмечаются и некоторые другие числа этих столбцов, выбираемые таким образом, чтобы сумма отмеченных чисел давала множитель. В данном случае еще 4 и 1, ибо 32 + + 4 + 1=37. В 2,4,6 столбцах складываются те числа, которые стоят против множителей типа 2К, в 1,3,5 столбцах, отмеченных косой черточкой, в данном случае 213, 852 и 6816. Их сумма и будет произведением.
124
M. А. Киростовцев
Этот метод разложения множителя на сумму слагаемых вида 2“, по сути дела, представляет этот множитель по двоичной системе исчисления. Однако нет никаких оснований полагать, что сами египтяне стремились к этому: эквивалентность двух систем с точки зрения математики ничуть не означает их исторической эквивалентности.
Деление, ио сути дела, также сводилось к умножению. Например, деление 18 на 3 просто означает сдвоение 3 до получения 18:
г 3 /2 6 /4 12,
в левом столбце складываются числа, обозначенные черточкой: 2 + 4=6. Итак, 18 деленное на 3=6.
Обозначение дробей состояло в следующем: числителем любой дроби была единица, знаменателем — любое число, исключение составляли 1/2, 2/3, 3/4, для которых были специальные обозначения. В одной еще неопубликованной демотической рукописи обнаружена дробь в/и.
Здесь нет ни места, ни возможности рассмотреть все приемы египтян для оперирования этими дробями, но в общей форме можно сказать, что это было сложение, вычитание, умножение и деление дробей, причем последние два действия в принципе основаны, как и умножение и деление целых чисел, па удвоении. Упомянутый папирус Ринд содержит таблицу деления 2 : К, где самое большое значение К достигает 101.
В задаче N2 34 папируса Ринд (а также в других задачах этого папируса — № 28- № 38) и в трех задачах Московского папируса разыскивается совершенно отвлеченное число (мы бы сказали X), в египетском языке обозначаемое словом «куча* (сйс).Эти задачи решались бы в наше время как уравнение с одним неизвестным первой степени. Именно поэтому и распространилось мнение, чю египтянам было известно понятие о таковом уравнении. Но, как топко отметил М. Я. Выгодский, такое мнение ноосповательно: оно было бы оправдано, если бы египтянам был известен этот вывод в обобщенной форме, доказательства чею пет. Решение нескольких простейших задач этого типа свидетельствует лишь о тенден-
Наука древнего Египта 1Z 1
цин развития, о ее первых робких тагах, но далеко еще пс о результатах.
Задача № 64 папируса Ринд свидетельствует о знакомстве египтян с арифметической прогрессией, а в задаче № 79 того же текста требуется нахождение суммы геометрической прогрессии.
Задача № 14 Московского папируса предлагает найти объем усеченной пирамиды с квадратным основанием — исчисление объема. Пути решения этой задачи нам неизвестны, но решалась она правильно, может быть, это результат чисто эмпирического характера.
В папирусе Ринд имеется и действительно геометрическая задача — вычисление площади круга. Для этого предписывается возвести в квадрат 8/9 диаметра круга, что дает для числа достаточно точное значение.
В одном из неопубликованных демотических папирусов речь идет об извлечении квадратного корня из 10.
В настоящее время оценки «математических познаний египтян» расходятся: в Московском папирусе задача № 10 разными исследователями читается ио-разному: В. В. Струве считал, что там речь идет об определении поверхности полушария с диаметром в 4 1/2 локтя, другие авторы считают, что здесь речь идет вовсе не о полушарии Как бы это ни понимать, числовой ответ один и тот же в обоих случаях.
Но в случае правильности первой интерпретации (т. е. в нонимании В. В. Струве), по словам О. Нейгебауера, «все наши взгляды на общий уровень египетской математики необходимо изменить в корне, а это оказалось бы в полном противоречии с выводами из остального материала, содержащегося в источнике» \Нейгебауер, 1973, с. 146]. Таким образом, существуют противоположные оценки уровня познания египтян.
М. Я. Выгодский подчеркивает, чго если задача 79 папируса Ринд и задача 14 Московского папируса не Содержат никаких намеков на высокий уровень египетской математики, то из этого лишь следует, что «вопрос о наличии более тонких методов, остается совершенно открытым — не более», и несомненно, что составители текстов знали больше, чем сказано в самом тексте. Некоторые ученые утверждают, исходя из результатов обмера египетских памятников, и в частности пирамид, что соотно-
126
М. А. Коростопцев
шепия разных результатов обмера являются якобы неоспоримым доказательством высоких геометрических и стереометрических позиаиий египтян. Но реально существующие соотношения, например в пирамидах, не могут служить доказательством, что при постройке пирамид эти соотношепия заранее теоретически учитывались, они могли быть результатом богатого опыта строителей, их интуиции и чутья.
Египетский календарь и исчисление времени
Египтяне внесли серьезный вклад в последующее развитие науки прежде всего созданием своего календаря, затем разделением суток па 24 часа.
Египетский календарь, как отметил Нейгебауэр, «является единственным разумным календарем во всей человеческой истории» IНейгебауэр, 1968, с. 92].
Год состоял из 365 дней (12 месяцев по 30 суток и 5 добавочных суток). Эгот календарь с некоторыми исправлениями был введен в Риме в 45 г. до н. э. и сохранил свое значение в Европе и в Средние века.
Египетский гражданский год ровно в 365 суток стал блуждающим годом, так как астрономический год состоит из 365, 25 суток. Высокосного года у египтян не было. Опережение па 0,25 суток в год привело к тому, что каждые четыре года гражданский год начинался на сутки раньше астрономического, и начало нового года гражданского и астрономического (последний начинался в день гелиатического восхода Сириуса) расходилось за 4 года па сутки, а за 1460 лет — на целый год (365x4), т. е. 1460 лет астрономических равнялись 1461 календарному, когда день нового года обоих годов снова совпадал. Этот период называется «периодом Сириуса», и так как в текстах сохранились данные о гелиактическом восходе Сириуса в определенные даты гражданского года, то эти данные очень ценны для уточнения египетской хронологии.
Египетский гражданский календарь соответствовал практическим потребностям земледелия и делился на три сезона по четыре месяца в каждом в соответствии с циклами разлива Пила — время разлива (середина июня — середина ноября), время зимы (середина ноября — середина марта) и время лета (середина марта — середина июня).
Наука древнего Египта
127
Кроме гражданского календаря, в Египте было еще два варианта лунного календаря для религиозных нужд.
Следует упомянуть еще и «деканы». Так называются в науке некоторые неподвижные звезды, известные и названные египтянами, но отождествлять которые не удается, исключая Сириус и Орион. Деканов было 36 в соответствии с 36 декадами египетского гражданского календаря. Декапы были расположены по линии, параллельной эклиптике, по несколько южнее ее. Каждый декан представлял 10° эклиптики.
В качестве деканов были избраны именно те звезды (или группы звезд), гелиакгические восходы которых происходили последовательно через 10 дней. Так были составлены звездные часы, т. е. рисунки, изображающие Пнбо с написанными на нем названиями деканов. Отвечающие декапам десятидневные интервалы заполняют весь год, образуя 36 колонок, каждая из которых разбита па 12 строк (по числу часов ночи). Название одного и того же декана переходит из одной колонки в другую по диагонали. По этим таблицам можно было установить любом час из 12 часов почи в любую декаду года. Эти звездные часы были нужны для религиозных и ритуальных целей. Впервые эти «звездные часы» были начертаны на крышках саркофагов времен IX—XII династий (2400— 2100 гг. до и. э.), затем в эпоху Нового царства (1500 — 1250 гг.) и, наконец, в храме Депдера (греко-римское время).
В греко-римское время деканы стали играть роль одной трети каждого знака зодиака, представления о котором проникли из Вавилонии. Во времена XX династии для определения времени ночью по звездам два астронома располагались друг против друга в плоскости меридиана, держа визирный прибор. Каждый из них определял положение звезд относительно своего партнера (такая-то звезда над левым глазом, такая над ухом, и т. д.). Экземпляры подобных записей сохранились в царских гробницах XX династии для каждого полумесяца па все часы ночи. Все эти примитивные наблюдения были далеки от математики, но начиная со II века до н. э. встречаются демотические и греческие папирусы, основанные уже на вычислениях, а не на наблюдениях (например, указаны даты, когда светило входит в знак зодиака).
128
М. А. Коростовцев
В Египте были изобретены и водяные часы — клепсидра. На их фрагменте сохранилась надпись, в которой изобретатель Амснемхаг гордится тем, что фараон Аменхотеп I высоко оценил его изобретение.
Hhtciwoho указать, что египтяпс умели измерить длину Нила от острова Элефантииы до впадения реки в море. В одном тексте времен ХП династий эта длина определяется в 10G итру (итру — 10,5 км), что составляет 1113 км, т. е. соответствует действительности
Египетская медицина
Медицина Египта пользовалась славой во всем древнем мире, включая и греков. Медицинская литература существовала и в Древнем царстве, но от этого времени до нас ничего не дошло. Древнейшие дошедшие до иас медицинские тексты (Кахуские времена Среднего царства) — это фрагменты гинекологического и ветеринарного содержания. В первом говорится о поздних и ранних родах, во втором — о пгицах, с трудом носящих яйца, о ядовитых мухах на скоте и т. п.
Более крупные медицинские сборники дошли от эпохи Нового царства. Они такого же типа, как и математические пособия: практические руководства для лекарей.
Самыми важными являются: 1) папирус Эберса (начало XVIII династии) и 2) папирус Эдвина Смита (то же время). Кроме упомянуты«, имеется еще несколько медицинских текстов в разных музеях мира, также относящихся ко временп Нового царства и позже. Судя по совокупности этих текстов, несомненно, что египетская медицина ставила перед собой в основном чисто практические цели, т. е. как именно должен относиться лекарь к тому или иному случаю, перед которым он поставлен.
Прежде всего надо подчеркнуть, что во всем древнем мире медицинские познания египтян пользовались высокой репутацией — как у древневосточных народов, например персов, цари которых охотно пользовались услугами египетских лекарей, так и у древних греков. В частности, именно Геродот (II, 84) сообщает, что египетские лекари различались по специальностям: «Каждый врач лечит только один определенный недуг, а не не-
Наука древнего Египта
129
сколько, и вся египетская страна полна врачей. Так, есть врачи по глазным болезням, болезням головы, зубов, чрева и внутренним болезням». Без сомнения, какая-то специализация существовала, по опять-таки чисто практическая и вместе с тем относительная, как это свидетельствуют тексты, в которых упоминаются врачи, а пе столь категорическая, как утверждает Геродот.
Египтяне хорошо знали анатомию человеческого тела, однако далеко не столь детально, как можно было бы полагать, учитывая практику мумифицирования: извлеченные из тела умерших внутренности специально не подвергались обследованию.
Упомянутые медицинские папирусы содержат диагноз, указание как лечить пациента и предписываемый ему рецепт, т. е. данные фармакологии. Надо сказать, что многие анатомические термины и названия составных частей лекарств до сих пор не отождествлены, что создает большие затруднения для точной оценки медицинских познаний египтян. Во всяком случае они не знали функций некоторых частей тела, для которых существовали специальные названия (например, мозга), совершенно не представляли себе функций мышц, нервной системы, кровепосной системы, как и самого процесса кровообращения. Было бы заблуждением полагать, что им известно было нечто подобное современной хирургии — встречающееся иногда утверждение о их умении трепанировать череп и т. п. операциях требует дополнительного изучения. Пе имеется достаточных указаний в текстах, которые бы могли подтвердить их умение хирургического вмешательства для лечения недугов. Единственным исключением является обрезание, несомненно им известное и практиковавшееся, хотя не в массовом масштабе.
Очень любопытно, что египтяне создали нечто вроде своей этиологии: Геродот (II, 77) сообщает, что египтяне убеждены в том, что «все людские недуги происходят от пищи», и поэтому оберегают свое здоровье систематическими приемами слабительных, рвотных и клизмы. Тем не менее в странном противоречии с принципом подобного наблюдения находится вера в участие разных демонов в недугах людей. Эту сторону заболевания предписывалось лечить разного рода магическими заклипа-
130
М. Л. Коростовцов
пиями, сопровождавшими применение внешних и внутренних лекарств, которых было очень много.
Достижения египетской фармакологии были широко заимствованы греками, от последних они проникли в Рим, Византию и средневековую Западную Европу, в частности в так называемую Салернскую школу.
Литература к статье
Выгодский М. Я. Арифметика и алгебра в Древнем мире. 2-е изд. М.: Гостехпздат, 1967. 252 с.
Нейгебауэр О. Точные науки в древности. М.: Наука, 1968. 224 с.
Нейгебауэр О. Лекции по истории античных математических наук. М.; Л.: Наука, 1973.
Веселовский А. И. Египетская наука и Греция. — Тр. Ин-та истории естествознания и техники АН СССР, 1948, т. 2, с. 426— 498.
Grapoui II. el al. Grudriss der Medizin der alten Agypten. B., 1954— 1973. Bd. 1—9.
Erman A., Grapow H. Agypten nnd agyptisclie Leben in Altertum. Tubingen, 1923.
Литература к теме
Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. М.: Изд-во иностр, лит., 1958. 717 с.
Очерки по исторпи техники Древнего Востока/ Под ред.
В. В. Струве. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 352 с.
Черезов Е. В. Техника сельского хозяйства Древнего Египта. Черновцы: Изд-во Черновицкого гос. ун-та, 1968—19t>9. Т. 1, 2. 193 с.
Lefebvre G. Essai sur la medicine eguptienne de I’epoque pharaonique. P., 1956.
Borhardt L. Die altagyptische Zeitmessung. B., 1920.
Neugebauer 0., Parker K. Egyptian astronomical Texts. L., 1960— 1969. Vol. 1—3.
Wolf W. Kulturgeschichte des alten Agypten. Stuttgart, 1962.
Е. Н. Молодцова
Естественнонаучные представления эпохи Вед и Упанишад
Самосознание традиционной индийской культуры вплоть до настоящего времени склонно выводить истоки всех своих форм из древнейших памятников человеческий мысли — текстов Вед и Упанишад. И такое выведение отнюдь не лишено оснований. Дело в том, что в Индии, стране с богатыми традициями духовной культуры, чрезвычайно рано возникает профессионализация умственного труда, и каждый профессионал в этой сфере начинает свое обучение с заучивания наизусть ритмически организованных текстов Вед и Упанишад. С древнейших времен и долгое время потом оформление духовной культуры было в Индии специальным делом, профессией членов жреческой варны брахманов, и лишь иногда к этому делу оказывались причастны члены правящей варны 1 кшатриев, чей ум, благодаря воспитанию, работал в заданных брахманской культурой рамках. А каждый «брахман при рождении родился с тройным долгом: ученичества по отношению к риши 2, жертвоприношения по отношению к богам, потомства по отношению к предкам» (Яджурведа, VI, 3.10). Процесс обучения у риши заключался в передаче традиционных знаний, прежде всего тех, которые содержатся в Ведах и Упанишадах, и благодаря этому первые памятники духовного освоения мира своим идейным и образно-эстетическим строем входили в мышление, определяли пути его развития, задавая проблематику и способы выражения. Отсюда целесообразно, следуя индийской традиции, начать изучение древнеиндийских естественнонаучных знаний именно с этих текстов.
1 Варна — vama, букв «цвет». Древнеиндийское общество делилось на четыре слоя, или варны: брахманов, или жрецов; кшатриев, или правителей, воинов; вайшьев, илп торговцев; шудр, пли 'луг. Впоследствии из этого деленпя возникает более сложное и разветвленное деленпе на касты.
2 Рпшп — r§i, провидец, мудрец, в данном контексте — учитель.
132
Е. Н. Молодцова
Ведические корни естественнонаучного мышления в древней Индии
Первой фигурой, встречающей пас у входа в храм древнеиндийского мышления, оказывается фигура поэта-жреца Ригведы, сборника гимнов, создание и функционирование которых в устной традиции приблизительно (как и всякий древнеиндийский источник) датируется концом II—началом I тыс. до н. э., а их кодификация в едином сборнике относится к V—VI вв. до н. э. Рассмотрение специфики деятельности этого поэта-жреца поможет пролить свет на расстановку акцептов в проблемах последующего развития индийских естественнонаучных представлений.
Творец гимнов Ригведы — лицо, наделенное прежде всего способностью видения (dlii) и способностью выражения своего видения в священной речи (brabinan). Иными словами, этот человек наделен тем, что мы сейчас обозначаем словом «талапт». Искусство поэта-жреца выступает как общий язык,' формировавшийся в стародавние времена и являвшийся в те времена единственным языком, несущим в себе все человеческие знания, которые нуждались в словесном выражении.
Наделенный такими способностями поэт-жрец Ригведы встает на восходе солнца посреди людей и богов и восклицает: «Взлетают мои уши, взлетает глаз, взлетает этот свет, что заложен в сердце. Воспаряет моя мысль, устремившаяся далеко. Что же скажу я, что же придумаю?» (Ригведа — далее: РВ, VI, 9, 6) 3. Поэт должен не повторить нечто уже известное, но действительно здесь и сейчас создать свое и новое, ведь это его просят люди: «О Соб-хари, позови громко своей самой повой песней юных, сильных и чистых Марутов, как пастух сзывает коров (курсив мой. — Е. 71/.)» (РВ, VIII, 20, 19 SBE). Способность жреца импровизировать в нужный момент нуждается в постоянной тренировке, и поэтому моменты его творчества, состояния его психики четко фиксируются сознанием жреца, отрабатывающего для себя и своих
8 Гимны Ригведы цитируются по книге: Ригведа. Избранные гимны. М.: Паука, 1472. Гчмны РВ с пометкой SBE — по изданию: The Sacred Books of the East. Oxford, 1891, vol. 32, 46.
Естественнонаучные представления эпохи Вед и Упанишад 133
коллег приемы активизации психики, способы достижения творческого состояния.
Первый такой прием — питье Сомы, опьяняющего напитка, изготавливаемого перед началом жертвоприношения. «Ведь зто ты, Сома, тот, кто укрепляет, когда выжат для буйного опьянения певца, чтобы помочь ему, о бык!» (ГВ, IX, 51, 4). Это к нему, богу Соме, обращаются с просьбой: «Как огонь, добытый трением, зажги меня! Дай нам озарение! Сделай нас лучше!» (РВ, VIII. 48, 6). При этом питье Сомы пе может быть процессом не контролируемым, оно должно привести к вполне определенному состоянию, и ногому все фазы действия этого напитка фиксируются крайне внимательным к своему внутреннему состоянию жрецом, описываются им в священной речи: «Вот исчезли недомогания, болезни. В бегство обратились силы тьмы: они испугались. В нас поднялся Сома, распространяющийся повсюду. Мы достигли (того места), где продлевают срок жизни» (РВ, VIII, 48, 11). Однако хорошее физическое состояние для певца — не самоцель при питье Сомы, и далее оп описывает уже свое творческое состояние: «Царь всего, что видит солнце, очищается. Превосходя мудрецов, оп заставил зазвучать мысль, познающую истину, тот, кто чистится солнечным лучом, отец мыслей, обладающий недостижимым даром провйдения» (РВ, IX, 76, 4).
Питье Сомы, чтобы привести поэта в нужное состояние, сопровождается также декламацией уже созданных дли этого случая гимнов, обращенных к богам, которым приписывается способность возбуждать поэта. Сама по себе декламация подкрепляет поэта (РВ, VII, 87, 3), а также бог Агни, огонь, возжигаемый при каждом жертвоприношении и «пробуждающий мысли» (РВ, V, 8, 6, SBE). Очень нужен в этом случае и бог Варуна, ибо «Варуна создает молитву. К нему, ведающему путь, мы обра щаемся. Оп открывает сердцем мысль. Пусть родится новая, истинная хвалебная песнь» (РВ, I, 105, 15). Другие боги тоже далеко не бесполезны в данной ситуации, однако поэт не может просто пассивно ждать, пока они ниспошлют ему вдохновение, но должен уметь вызывать его сам — оно нужно ему здесь и сейчас. Очевидно, что деятельность собственной психики, придание импульса творчеству — это уже профессиональная проблема для
Е. Н. Молодцова
жреца, и проблемой же становится для пего достижение определенных состояний психики и техника их вызова в нужный момент, тем более что певцу приходится еще и состязаться с другими певцами (видимо, в ходе таких состязаний и отбирались вошедшие в Ригведу гимны). «Повелителя Речи, Вишвакармапа, подгоняющего мысли, будем мы призывать сегодня на помощь при состязании» (РВ, X, 81, 7). «Те твои состояния, которые высшие, которые низшие, а также и средние, о Вьшвакар-ман, — помоги понять их при жертвоприношении, о Самосущий» (РВ, X, 81, 5). Важно, как видим, не только вызвать определенное состояние, но еще и понять его, отнести к определенному разряду согласно уже существующей классификации (на высшие, средние и низшие).
Неправильно осуществляемое возбуждение психики мстит за себя импровизатору-профессионалу, он горько сетует на свое состояние крайнего нервного истощения: «Запрягли меня запрягания людей. . . Повсюду меня изводят болью ребра, как жены-соперницы изводят мужчину. Ушетает бессмысленность, нагота, усталость. Мысль трепещет, как птица» (РВ, X, 33, 1—2).
Такое напряженное внимание к собственной психике заставляет человека воспринимать ее как некую всемогущую сущность, а себя самого как ее носителя — в качестве могущего все. Особенно ярко такое восприятие выразилось в Атхарваведе, сборнике гимнов, окончательная редакция которого произошла примерно в VII— VI вв. до н. э., но куда вошли гимны, создававшиеся гораздо раньше, еще до арийского вторжения. Атхарва-веда традиционно считается в индологии книгой магии, и именно маг Атхарваведы более всех способен заявить «Этот человек — повелитель Индры, глава небес, глава земли, глава всех существ» (Атхарваведа, VI, 86, 1) 4, выражая тем самым и аналогичное самовосприятие жреца Ригведы. Но именно потому, что специфику Агхар-ваведы составляют магические заклинания для устранения или достижения чего-либо, этот памятник, к сожалению, нельзя переоценивать как источник по истории формирования естественнонаучных знаний. Формула заклинания всего лишь словесно запечатлена в тексте, дана
1 Цит. по: Harvard Oriental Series. Cambridge, 1905, vol. 6—7.
Естествеппопаучпые представления эпохи Вед и Упанишад 135
нам по в процессе своего создания, который детально описывает поэт Ригведы относительно творимого им гимна, а как нечто уже ставшее, существующее. Процесс становления этой формулы оказывается за пределами текста.
Кроме того, словесно выраженная формула является лишь средством воздействия на психику, а связанное с этой формулой действие также остается за пределами текста, вообще за пределами речевого сообщения, а потому содержащиеся в действии эмпирические знания и приемы не становятся специальными объектами сознания, они так и застывают в культуре, не имея собственного развития и иногда случайно смыкаясь с развившимися иными способами научными представлениями. Впрочем, такова же структура и некоторых чисто магических гимнов Рчгведы, где, например, к Рудре обращаются за целебными травами, однако о самих этих травах ничего не говорят (РВ, II, 33, 2) — они известны на другом уровне и нет нужды их упоминать. Те же гимны Атхар-ваведы, которые не являются магическими и несут в себе некоторое реконструируемое содержание, по структуре вполне аналогичны подобным 1 имнам Ригведы. Важно отметить, что повышенное внимание к психике ведет за собой представление о необычайном могуществе тех ее носителей, которые способны ею управлять.
Что ясе создает на первых этапах столь озабоченный собственным состоянием поэт? Прежде всего он творит образные картппы эстетически организованного космоса, и эти картины, меняющиеся от гимна к гимну, запечатлеваются впоследствии в сознании образованных людей, постоянно воспроизводятся, становятся исходным материалом для последующих теоретических построений.
Описание картин мира в Ригведе начинается с воспроизведения визуально ясного, не требующего дополнительных операций деления мира на «два обращенных друг к другу мира» (РВ, III, 1.7), порождающие посредника между ними — огонь. Между небом и землей располагается воздушное пространство, и смена дня и ночи объясняется вращением двух его половин — белой и черной: «Черный день и светлый депь — вращаются две половины воздушного пространства по своему разумению» (РВ, VI, 9, 1). Исходная данность, рамка ведической вселепной — три пространства, и в ни разыгрывается
136
Е. II. Молодцова
весьма вариабельный процесс творепия, в ходе которого координация действий людей, богов и космоса осуществляется посредством риты (ria), хода вещей, никогда не нарушаемого, ибо «закон риты окружает все, как небеса окружают землю» (РВ, I, 65, 3 SBE).
Зафиксировав три пространства, мышление начинает игру с цифрой три, число три становится основой космологии, и все уже не просто фиксируется как наблюденное, но еще и утраивается, при этом выясняется, что движется уже пе только воздушное пространство, но и все, охваченное этой цифрой три: «Савитар — тот, кто охватывает своим величием тройное воздушное пространство, три небесных пространства, три светлых пространства. Он приводит в движение .три неба, три земли» (РВ, IV, 53, 5).
f Еще далее, вслед за игрой с числами, идет игра на непредставимости, акцентировка не только ненаблюдае-мости, по невозможности представить и понять, выход за рамки визуально данного, ответ на вопрос о том, что было, когда ничего из наблюдаемого сейчас не было: «Не было ни смерти, ни бессмертия тогда. Не было ни признака дня или ночи. Дышало, не колебля воздуха, по своему закону Нечто Одно, и не было ничего другого, кроме него» (РВ, X, 129, 2). Это — уже серьезный шаг мышления, отрывающегося от поэтического описания непосредственно данного, эстетически подающ» го некоторую умопостигаемую реальность, здесь перед нами уже не непосредственное творение вдохновенного поэта, но опосредованное воспроизведение результатов мышления.
Да и жрец Рпгведы, которого мы на первых порах застаем в роли вдохновенного импровизатора, не может вечно оставаться таковым. В отличие от деятельности мага Атхарваведы, которая никогда не социализируется, а потому и не претерпевает изменений, не порождает новых операций мышления, всегда оставаясь воспроизведением готовых формул, деятельность^ жреца-поэта Ригведы, обслуживая потребности все более усложняющегося социума, становится из индивидуальной совместной, усложняется, специализируется, превращается в наследственно закрепленное ремесло, стаповптся профес спинальной. Специализируются и постепенно закреп-
Естественнонаучные представления эпохи Вед и Упанишад 137
ляютси также и роли жреца в процессе жертвоприношения: «Кто-то сидит, расцвечивая цветок гимна. Кто-то поет мелодию к стихам шаквари. Кто-то — брахман — возглашает знание сути вещей. Кто-то измеряет меру жертвоприношения» (РВ, X, 71.11). Это — уже описание ритуального действия со многими ролями, ему и посвящена Яджурведа, к моменту создания которой слагавшиеся в Ригведе гимны только воспроизводятся в ритуале, а функция поэтическая постепенно вытесняется из этой сферы уже как особая, собственно поэт ическая. Деятельность же собственно творческая постепенно отходит к брахману, возглашающему суть вещей. Этот брахман — главное действующее лицо ранних упанишад, но прежде, чем обнаружить это лицо в упанишадах, нам предстоит увидеть его в сфере ритуала, фиксированного в Яджур-веде.
Яджурведа — сборник текстов, очень приблизительно датируемый, как и Ригведа, концом II—началом I тыс. до н. э., однако же Яджурведа создавалась позднее Риг-веды, так как включает в себя многие ее гимны. Эта веда предоставляет нам возможность проследить становление некоторых операций теоретического мышления. В этом сборнике уже нет видений и откровений, дар видения покинул жрецов, и они создали жестко организованную но определенным принципам, замкнутую систему мышления, соответствующую специализированной ритуальной деятельности. Текст Яджурведы дает нам набор принципов, в соответствии с которыми можно уже не описывать, а моделировать практически любое представление о действительности. Попытаемся рассмотреть эти принципы.
Прежде всего метафизической предпосылкой этой системы является видение мира как нуждающегося в постоянном делании и поддержании хода событий посредством ритуальных действий. Что-либо может происходить постоянно только потому, что жрецы постоянно совершают ритуальные действия. Жрец Яджурведы осознает себя поддерживающим без изменений год, времена года, атмосферу и землю, весь мир и все, происходящее в нем. Мир возникает на глазах жрецов непосредственно в ходе жертвонрин ошения.
В сфере этого всеобъемлющего делания в качестве метаправила любого представления господствует уни-
138
Е. II. Молодцова
нереальный антропоморфизм — Яджурведа вообще не знает мира объектов, мира неживых предметов. Поведение всякого предмета в ритуале подчиняется тем же законам, что и поведение человека. Так, например, жертвенная лепешка может согласиться на просьбу стать твердой ради Агпи. но никак не ради Брихаспати и Вишвадевов (Ядж, Л, 6, 3) — она капризпа и обладает свободой выбора. Стихотворные размеры могут обидеться на несправедливость и убежать от богов, сказав: «Мы не хотим носить жертвы, раз мы не имеем доли» (Ядж, II, 6, 3). Любой другой предмет будет вести себя точно так же, в результате чего любой процесс выступает в Яджурведе всегда как взаимодействие, а не только воздействие.
Вторым важнейшим направлением ритуальности мира будет универсальный символизм, благодаря которому ни один предмет в ритуале не является самим собой, именно этим предметом, но всегда выступает как символ чего-то другого, причем не чего-то раз навсегда определенного, но того, чему он ставится в соответствие в данном конкретном действии. Например, бруски в одном обряде могут обозначать зарю (Ядж, V, 3, 5), в другом — молочную корову (Ядж, V. 4, 2), огонь может выступать в качестве Рудры (Ядж, V. 4, 3), может — в качестве смерти (Ядж, V. 4, 4) и т. п.
Все предметы, участвующие в ритуале, оказываются символами каких-то других предметов, и все операции с предметами в ритуале есть операции с символами, совершающиеся по установленным правилам и имеющие значение для тех реальных предметов, символами которых они являются. Воспроизводя тройственное строение вселенной, складывают друг на друга три лепешки, причем так, чтобы каждая верхняя была больше (Ядж, II, 3, 6). Представляя среднюю часть — атмосферу — как вместилище дыханий, а также как проводник света, моделируют это с помощью бруска с естественным отверстием, через которое должны проходить дыхания и свет, и заставляя лошадь обнюхать этот брусок, чтобы таким образом поместит ь в него дыхание (Ядж, V, 3, 2).
А жертвоприношение коня моделирует практически уже весь космос, так как каждой части жертвенного животного ставится в соответствие какой-либо мировой
Естествепвопаучпые представления эпохи Вед и Упанишад 139
феномен. «Голова жертвенной лошади суть заря, глаз — солнце, дыхание — ветер, ухо — луна, ноги — части света, ребра — промежуточные части света, мигание — день и ночь, суставы — половины месяцев, сочленения — месяцы, конечности — времена года, туловище — год, волосы — лучи солнца, форма — Накшатрас, кости — звезды, плоть — туман, волосы — растения, хвост — деревья, рот — Агни, открытый рот — Вайшванара, живот — море, анус — атмосфера, яички — небо и земля, семя — Сома, когда он жует, здесь появляется молния, когда он двигается, здесь идет дождь, его речь суть речь» (Ядж, VI, 2, 5). Весь космос возникает из этого приносимого в жертву ежегодно коня, творится заново в ходе обряда.
Столь универсальный символизм свидетельствует об уже сформировавшейся установке мышления предполагать за всяким явлением некий другой ряд событий, более значимый, нечто, лежащее в основе, и совершаемое действие по сути своей — действие с идеальным предметом.
Для сформированного символизмом мышления вполне осмысленным будет вопрос, почему совершается именно такое действие, этим вопросом постоянно задаются жрецы Яджурведы. Существует и возможный спектр ответов на этот вопрос.
Прежде всего основным правилом, способным обосновать любое действие, является принцип подобия — чувственно-интуитивно усматриваемая общность, осознаваемая как механизм действия. Действие, совершаемое согласно этому принципу, непосредственно достоверно. На этом принципе базируются в Яджурведе довольно сложные процессы управления природой. Так, например, чтобы вызвать дождь, надо принести в жертву черное животное. «Оно — черное, черное — это облик дождя, поистине, посредством его формы он завоевывает дождь» (Ядж, II, 1, 8). Если же это действие не имеет успеха, то сей факт никогда не анализируется, просто взамен тут же предлагается другой комплекс действий, направленных к той же цели. Например, чтобы вызвать дождь, жрец одевает черную одежду с черной бахромой, так как это цвет дождя, тем самым он становится подобным дождю, потом он отталкивает с определенными словами западный ветер и производит восточный чтобы завое
140
Е. Н. Молодцова
вать дождь, и совершает жертвоприношение именам ветра, поскольку ветер управляет дождем, и все это вместе заставляет бога Парджанью дождигь (Ядж, II, 4, 9). Помимо введения принципа подобия, жрецу нужно здесь установить причинную зависимость дождя от направлений ветра, определить направление существующее и желательное, т. е. включить в обряд основы метеорологических знаний, только тогда жертвоприношение будет иметь успех.
Принцип подобия действует в Яджурведе чрезвычайно разнообразно, так, например, подобие может устанавливаться между числом произносимых стихов и числом месяцев в году, между качеством приносимого в жертву и качеством называемого явления, между качеством бога и качеством приносимого в жертву и т. д., зачастую бога просто наделяют эпитетом, совпадающим с тем, чего добиваются (зто — частый поэтический прием Ригведы), метафора вообще оказывается здесь реально действующим механизмом. Можно также использовать соответственно подобранные стихи из Ригведы, совершенно пе считаясь с их смыслом, что зачастую производит (на паш взгляд, но не па взгляд жреца) совершенно комический эффект, когда, например, стих из Ригведы, трактующий о тайнах мироздания, используют для флирта с богом: «„Золотой зародыш первым возник", с этими словами он изливает порцию масла, золотой зародыш есть Праджапати, поистине, это служит для того, чтобы понравиться Праджапати» (Ядж, V, 5, 1). Словом, принцип подобия может вводиться совершенно искусственно, из чего следует, что он вводится сознательно, его необходимость осознана, и мы можем считать его действительно принципом, тогда как в Ригведе подобие возникало непроизвольно, в акте поэтического творчества.
Однако бывает, что этот принцип ввести невозможно, а совершать определенное действие совершенно необходимо, так как оно заранее предписано. В таком случае процедурой оправдания этого действия будет введение объяснительного мифа, отвечающего на вопрос о том, как это действие возникло, отыскивающего его генезис, обязательно относящийся к миру богов. Определенными словами можно вызвать дождь, поскольку, произнося
Еатествешгонаутпые представления эпохи Вед и Упанишад 141
именно их, боги достигали этой цели (Ядж, II, 6, 2). Чтобы прогнать врагов, надо совершить определенное возлияние, так как именно это увидел Индра, когда после убий ства Вритры враги угрожали ему (Ядж, 11,5, 3). То, что говорили и делали боги, является совершенно достоверным, потому что они видели это действие непосредственно, тогда как жрец Яджурведы сам ничего увидеть не может, его задача — точно воспроизвести.
По точнме воспроизведение — отнюдь не простая задача. С одной стороны, жрец, облачающий ритуальным знанием, — фигура необычайно могущественная: «Что бы ни захотели сделать боги, посредством этого они в состоянии это сделать. Тот, кто знает это, может сделать все, что захочет» (Ядж, II, 6, 2). Но могущество это далеко не абсолютно и чревато опасностями. Чтобы достигать поставленных целей, жрец должен обладать колоссальными знаниями в области ритуальных действий, причем знания эти должны быть вовсе не знанием принципов, по знанием мельчайших деталей ритуала. Жрецу нельзя отступать пи на шаг от детально расписанного образца действия, нельзя вставить лишнее слово, поскольку могущественный эффект жертвоприношения вызывается не смыслом слов и действий, но их формой. Невежественный, т. е. лишенный детальнс йших знаний жрец будет в ритуале подобен стихийному бедствию, постоянно разрушая космос, принося в жертву и самого себя. Жрец связан бесконечными предписаниями жертвенного клише, расписывающими до мелочей, как он должен выполнять обряд — стоя или сидя, с гневом или с дрожью, о чем должен думать, что представлять себе и т. д. Состояние психики жреца оказывается включенным в магическую сеть жертвенного действия, а потому он должен уметь своей психикой управлять. Сложные мировые связи словно предчувствуются исполняющим ритуал жрецом, и потому он боится задеть или изменить любую мелочь. Однако все предписания, обязательные для успеха его действий, ни один жрец все равно соблюсти не в силах, какое-нибудь непременно нарушит, и на каж дую возможную ошибку в ритуале разрабатывается соответствующий ритуал искупления, в который тоже необходимо будут вкрадываться ошибки, и так до бесконечности. За счет ритуала искупления самозамкнутая сфера
142
Е. Н. Молодцова
ритуала получает возможность неограниченного развития вширь.
Итак, жрец Яджурведы непременно должен обладать знанием сложных образцов собственпо ритуальных действий, а также и знанием образцов действий, ис купаюших возможные ошибки жертвоприношения. Без этих знаний он не может выполнять свои ритуальные функции. Поскольку же всякий предмет, участвующий в ритуале, является в пем заместителем, символом другого предмета, постольку жрец должен знать и символические значения жертвенных реалий. Но так как их значений бесконечное множество, так что жрец может знать их больше или меньше, в зависимости от этого ритуал будет более или менее действенным, по все же осуществленным. Так же обстоит дело и со знанием объяснительных мифов. Знать все это надо, ибо, как это будет сформулировано уже в упанишадах, «оба совершают действия с его (слога Ом) помощью, и тот, кто его так знает, и тот, кто не знает. Однако знание и незнание различны. Ибо то, что совершают со знанием, верой и размышлением, бывает более сильным» (Чхандогья упанишада, I, 1, 10).
Практически вся процедура объяснения, возникающая в сфере ритуала, выносится как бы за его рамки и выступает как избыточное по отношению к ритуалу знание, имеющее тем не менее важное значение для его действенности. Из этого избыточного знания и возникает в упанишадах сфера теоретического знания, причем престижность этой сферы закреплена утверждением магической значимости всякого знания самого по себе.
Естественнонаучное мышление авторов ранних упанишад
Итак, тот же самый жрец Яджурведы, но запечатленный в другой своей ипостаси, оперирующий с избыточным знанием, встречает нас в ранних упанишадах. Упанишады — древнейшие памятники теоретической мысли, старейшие из которых, Чхандогья и Брихадараньяка, датируются примерно VIII—VI вв. до п. э., а последующие из упанишад, относящиеся к числу ранних, созданы, по-видимому, не позднее первых веков до н. э. Оперирование
Естественнонаучные представления эпохи Вед и Упанишад 143
с избыточным зиянием, организованным не по формальному, но но смысловому принципу, порождает также и новый стиль мышления, прекрасно демонстрируемый эпизодом из Чхаидогья упанишады (этот стиль мышления легко будет узнан нами как научный).
Однажды Шветакету Арунея, «став учеником в двенадцать лет, вернулся домой двадцати четырех лет, изучив все веды, самодовольный, мнящий себя ученым, гордый» (Чх, VI, 1, 2). Что же изучил самодовольный юноша? Несомненно, он выучил традиционный перечень «наук» — vidya, знаний, и мог бы сказать о себе так, как ответил Наряда Сапаткумаре: «Почтенный, я знаю Ригведу, Яджур-веду, Самаведу, Атхарваиу — четвертую веду, итихасы и пураны — пятую, веду вед, правила почитания предков, науку чисел, искусство предсказаний, хронологию, логику, правила поведения, этимологию, пауку о священном знании, науку о демонах, военную науку, астрономию, науку о змеях и низших божествах. Вот что, почтенный, я знаю» (Чх, VII, 1, 2—3). Но Шветакету не мог бы добавить то, что еще сказал Нарада: «Однако, почтенный, я знаю во всем этом лишь слова и пе знаю Атмана» (Чх, VII, 1, 3), ибо Шветакету не осознает недостаточности имеющегося у него знания, благодаря чему и заслуживает ироническое отношение со стороны отца.
Дело в том, что, помимо перечисленных выделенных отраслей, каким можно совершенно одинаково обучиться у всякого учителя, существует еще целый корпус знания, в котором каждый учитель учит не так и не тому, как другой, и с которым как раз и оперируют риши упаиишад. Для этих риши знание выступает уже пе как видение в пе как воспроизведение готового зпания, но как создающееся в процессе мышления. Именно для этого свода знаний существенной является оппозиция знание—мышление, процесс воспроизведения готового знания — процесс выработки зпания оригинального, знание формальных щ-талей — процесс выработки смысла. Так что весьма характерно для этого корпуса знаний следующее утверждение : «Если даже много знающий лишен мысли, то о нем говорят: пОн — ничто, хоть и знает много. Ведь, поистипе, если бы он действительно знал, то не был бы до такой степени лишен мысли". И, напротив, если мало знающий наделен мыслью, то его желают слушать» (Чх, VII, 5, 2).
144
Е. Н. Молодцова
И вот отец, недовольный полученным сыном образованием, преподает ему урок естественнонаучного мышления, в корне отличающийся от усвоенной Шветакету привычки знания мельчайшие деталей, знания формы. Отец дает Шветакету наставление, благодаря которому становится узнанным все действительное, «подобно тому как по одному комку глипы узнается все, сделанное из глины» (Чх, VI, 1, 4). Отцу пе надо зпать частности, ему надо знать смысл, «целое являемое в частях», как сформулирует этот принцип царь Ашвапати Кайкейя в той же упанишаде (Чх, V, 18, 1).
Для отца Шветакету существуют два уровня бытия — действительное и его видоизменение, которое есть лишь имя. По сути дела, такое рассуждение по своей схеме является продолжением универсального символизма ритуала, где тоже различаются два уровня — наличный уровень операций с предметами-символами и стоящий за ним второй, смысловой уровень — операций с символизируемыми ими феноменами. Теперь же действие оторвалось от предмета, превратилось в действие с предметом идеальным без свойственного ритуалу подкрепления реальными предметами, и эти идеальные предметы (набор которых, так же как и набор предметов ритуальных, ограничен) позволяют моделировать множество их проявлений. Причем если в ритуале реальным представляется не действие с предметами, но действие с символизируемыми ими феноменами, то здесь — наоборот: реальна именно идеальная конструкция, ограничивающая многообразие.
Содержание наставления для Шветакету сводится к утверждению, согласно которому действительное — это жар, вода и пища, все остальное — лишь их видоизменения, так что «теперь никто не назовет нам ничего неуслышанного, незамеченного, неузнанного» (Чх, VI, 4, 5). Если в ритуале из немногих жертвенных предметов рождалось все многообразие мира, то здесь — тот же ход мысли, но уже эксплицированный. Однако просто высказать сделанное отцом утверждение — недостаточно. Нужна процедура его обоснования, при которой будет работать и принцип подобия, и введение объяснительного мифа, но также и ряд других процедур: процедура обо
Естественнонаучные представления эпохи Вед и Упаппгаад 145
снования сильно усложнилась по сравнению с используемой в ритуале.
Прежде всего отец прибегает к объяснению генезиса всего из некоего Сущего. Отсылка в объяснении к происхождению совершенно аналогична введению объяснительного мифа в ритуале, именно отсюда берет начало обращение к генезису как средству объяснения, и генетическое объяснение очепь долгое время остается чисто мифологическим.
Отец говорит: «Вначале, дорогой, все это было Сущим, одним, без второго» (Чх, VI, 2, 1). Однако возможно и противоположное мнение, ибо некоторые говорят: «Вначале все это было не Сущим, одним, без второго. Из этого пе Сущего родилось Сущее» (Чх, VI, 2, 1). И вот тут-то отец делает совершенно генпальпую вещь, его мышление совершает скачок: необходимость доказать правильность имешиТ своей точки зрения для него очевидна, в ней он не сомневается, но он не прибегает к введению объяснительного мифа, который был бы вполне уместен и па этом этапе рассуждепия и ответил бы на вопрос «почему?». Нет, отец Шветакету надеется на свои собственные мыслительные способности и спрашивает не о том, «почему?», а «как это возможно?». Это уже научный принцип объяснения. «Но как же, дорогой, могло зто быть? Как из не Сущего родилось Сущее?» (Чх, VI, 2, 2). Отец пе видит возможности построения механизма, переводящего пе Сущее в Сущее, а потому и останавливается на Сущем и далее объясняет, как именно из него могло все возникнуть.
Основной действующий принцип возникновения — думание. Здесь мы опять возвращаемся к ведическим корням мышления, где все прежде всего антропоморфно и где, во-вторых, напряженная психика, акт думапия осознается как могучее творящее начало. «Оно (Сущее) подумало: „Да стану я многочисленным, да вырасту я!” Оно сотворило жар. Жар подумал: „Да стану я многочисленным, да вырасту я!” Он сотворил воду. Поэтому, когда человек горюет или потеет, то это из жара рождается вода. Эта вода подумала: „Да стану я многочисленной, да вырасту я!” Она сотворила пищу. Поэтому, где бы ни шел дождь, там бывает обильная пища» ^Чх, VI, 2, 3-4).
146
Е. Н. Молодцова
Механизмом дальнейшего построения, как и в 1’пгведе, становится числовой принцип, число три, а также принцип подобия, сходства цвета. Так, «красный образ солпца— это образ жара, белый — образ воды, черный — пищи. Так из солпца ушло качество солпца, ибо это видоизменение — лишь имя, основанное па словах, действительное же — три образа» (Чх, VI, 4, 2). Благодаря такому механизму любое явление оказывается сведенным к трем образам: «Они узнали то, что казало1 ь красным, — это образ жара. Онп узнали то, что казалось белым, — это образ воды. Онп узнали то, что казалось черным, — это образ пищи» (Чх, VI, 4, 6).
Рассуждение идет дальше, и в центре внимания оказывается, конечно же, человек. Применительно к человеку действует та же тройственная генетическая схема объяснения. «Поглощенная пища разделяется па гри части. Ее грубейшая часть становится калом, средняя — мясом, тончайшая — разумом. Выпитая вода разделяется на три части. Ее грубейшая часть становится мочой, средняя — кровью, тончайшая — дыханием. Поглощенный жар разделяется па три частп. Его грубейшая часть становится костью, средняя — мозгом, тончайшая — речью. Ибо разум, дорогой, состоит из пищи, дыхание состоит из воды, речь состоит из жара» (Чх, VI, 5, 1—4).
Но и это утверждение само по себе недостаточно, и отец прибегает к экспериментальному его доказательству, заставляя сына 15 дней ничего не есть, только пить. После этого Шветакету пе может вспомнить изученные им веды, и это доказывает, что разум состоит из пищи. Поскольку дыхание Шветакету не пресеклось, постольку это доказывает, что оно состоит из воды (Чх, VI, 7). Здесь — также новый шаг мышления по сравнению с ритуалом. В Яджур-веде при неудаче действия одни комплекс просто заменялся другим, действенность же его сомнению не подвергалась, ибо в слишком многочисленные связи был этот комплекс втянут, в данном же случае суть эксперимента состоит как раз в том, что, сколько бы ни повторял его Шветакету, результат неизменно будет одним и том же, однажды установленная связь проявляется всегда одинаково.
Далее устанавливается иерархическая последовательность выделенных отцом трех частей (точнее, оиа установ
Ei гсствеппопаучпые представления эпохи Вед и Упаппшад 147
лена уже при генетическом разворачивании, а теперь осуществляется сворачивание, обратная процедура, которой не знал ритуал) по принципу «ищи корень». «Если пища — росток, ищи корень в воде, если жар — росток, дорогой, ищи корень в Сущем. Все эти творения, дорогой, имеют корень в Сущем, прибежище в Сущем, опору в Сущем» (Чх, VI, 8, 4). А то, что существование этого Сущего реально, отец опять подтверждает экспериментом, доказывающим Шветакету, что существует пе только то, что воспринимается. Оп заставляет сына положить соль в воду и оставить до утра. Утром сын нс паходит соли, однако вода соленая. Отец говорит Шветакету: «Поистине, дорогой, ты пе воспринимаешь здесь Сущего, по здесь опо и есть» (Чх, VI, 13, 1-2).
Отец утверждает также ту истину, что из чего что возникает, в то оно и возвращается, применительно к человеку. «И когда, дорогой, этот человек умирает, то его речь погружается в разум, разум — в дыхание, дыхание — жар, жар — в высшее божество. И эта топкая сущность — основа всего существующего. То — действительное — То— А/мап. Ты — одно с Тем, Шветакету» (Чх, VI, 8, 6—7). Но со смертью живого не кончается жизнь, и отец утверж дает, что «поистине, покинутое жизнью, это существо умирает, но сама жизнь пе умирает» (Чх, VI, 11, 3).
Итак, отец Шветакету развернул перед пами прозрачпо ясное построение единообразной картины мира, исходящей из единого принципа и включающей в себя все разнообразные феномены этого единого в своей основе, не знающего исключений мира. Но, к сожалению, эта последовательно проведенная теория завершена, опа, как и сфера ритуала, может развиваться только монотонно вширь, и потому мы с ней простимся. В упанишадах, помимо таких кристально ясных построений, существуют и иные пласты мышления, несущие в своих темных водах неизвестно как накопленные знания. Эти знания относятся к психофизиологии человека, вписанного в космос, единого с ним (ведь действующее лицо упанишад, как мы помпим, жрец, для которого управление психикой долгие века назад превратилось в профессиональную проблему), и выстраиваются в довольно стройную систему, причем теория построения ее не эксплицируется, а подлежит реконструкции.
148
Е. И. Молодцова
В такой теоретически не эксплицированной системе рассматривается в упанишадах проблема дыхания, опо считается важнейшей из жизненных сил. Чтобы доказать его главенство, обращаются к мысленному эксперименту, в ходе которого из тела последовательно уходят речь, глаз, ухо, разум, по тело остается жить. Одпако дыхание, пожелав уйти, вырвало из тела все жизненные силы (Чх, V, 1, 6—12). Прием мысленного эксперимента в этой части — явно позднейшая, принадлежащая мыслителям упанишад вставка, служащая для оправдания в рамках мышления упанишад неизвестно откуда взятого утверждения о том, что «жизненное дыхание — старейшее и наилучшее» (Чх, V, 1, 1).
Концентрируя внимание на дыхании, мыслители упапи-шад приводят как общеизвестное деление жизненного дыхания на пять отдельных дыханпй (pranas), связанных с различными жизненными силами и соотнесенных с устойчивой системой макрокосмических соответствий, складывавшихся уже в Ригведе и развитых в ритуал? (см., например, жертвоприношение коня). Так, индийцы различали дыхание в легких (ргаца), с которым соотносятся глаз— солпце—пебо; дыхание, разлитое по телу (vyana)—ухо— луна—страны света; дыханпе, идущее вниз (арапа)—речь— огонь—земля; общее дыхание (samana)—разум—дождевое облако—молния; и, наконец, дыхание, идущее вверх (udana)—кожа—ветер—пространство (Чх, V, 20—23). Функции этих дыханий таковы: дыхание, разлитое по телу, поддерживает дыхание в легких и дыхание, идущее вниз. Общее дыхание доставляет дыханию,’идущему вниз, грубейшую часть пищи, а тончайшую разносит по всем членам, оно по своей природе выше дыхания, разлитого по телу. Дыхание, идущее вверх, выводит наверх и вниз выпитое и съеденное (Майтри, И, 6). Все эти пять дыханий помещены в сердце, каждое в одном из его пяти божественных отверстий (Чх, III, 13, 1—8). Кроме того, в сердце, помимо пяти отверстий, имеется еще сто одна артерия (хита), и у каждой из этих артерий — по сто меньших артерий, но и этого мало, так как у каждой из этих мепьших артерий — по семьдесят две тысячи составляющих артерий. По ним движется дыхапие, разлитое по телу, а по одной из них идет дыхание, идущее вверх (Прашпа, III, 6—7), и «подобно тому, как владыка прика
Естественнонаучные представления эпохи Вед и Упанишад 149
зывает слугам: «Управляйте тгкими-то и такими-то деревнями», так и это дыхание по отдельности распределяет по своим местам остальные жизненные силы» (Прашна, Ш, 4).
Рамкой дыхания и жизненных сил является, разумеется, макрокосм, ибо «поистине, солнце поднимается как внешнее дыхание, ибо оно поддерживает жизненное дыхание в глазу. То божество, которое в земле, укрепляет в человеке дыхание, идущее вниз. То пространство, что между солнцем и землей, — общее дыхание. Ветер — дыхание, разлитое по телу. Поистине, жар — дыхание, идущее вверх» (Прашна, III, 8—9). Собственно говоря, человек един с миром настолько, что «свет, который сияет над этим небом, над всем, над каждым, в непревзойденных высших мирах, поистине, он и есть тот свет, который находится в этом человеке. Его видно, когда прикосновением ощущают тепло тела. Его слышно, когда, заткнув уши, слышат нечто, словно гул, словно гудение, словно шум пылающего огня» (Чх, III, 13, 7—8).
С неизвестно как возникшей теорией дыхания в упа-нишадах связана теория сна, которая является одновременно и теорией психических состояний, происхождение ее столь же темно. Дыхание отождествляется с познанием (Каушитаки уп., III, 3), а сон без сновидений— с состоянием человека, все жизненные силы которого (речь, глаз и т. д.) погрузились в дыхание (Каушитаки, III, 3). Познание, как и дыхание, локализуется в сердце, и потому «сердце — средоточие всех знаний» (Брихадарань-яка уп., II, 4, 11). Во время сна со сновидениями состоящий из познания пуруша движется в пространстве внутри сердца. Когда же человек погружен в глубокий сон и пичего не знает, то его пуруша проходит через семьдесят две тысячи артерий, которые называются хита и ведут от сердца к перикардию, и пребывает в перикардии, где отдыхает, достигнув блаженства (Брихадараньяка, II, 1, 16-19).
Состояние сна, согласно древнеиндийской психологии, выше, чем состояние бодрствования. Состояние сна без сновидений выше, чем состояние спа со сновидениями, это — наиболее желательное состояние, к которому следует стремиться. Собственно, стремление к подавлению сферы сознания и растормаживание сферы бессознатель-
150 Е. Н. Молодцова
кого — это продолженное и теоретически разработанное стремление жреца-поэта Ригведы к состоянию творческого экстаза, когда он не осознает свой творческий процесс, но лишь осуществляет его наиболее полно. Стремление к достижению такого состояния, а точнее, профессиональная необходимость его достижения в нужный момент порождает управление психикой через конкретные анатомофизиологические приемы.
Согласно древнеиндийской психофизиологической теории, мышление — отнюдь не высшая познавательная способность, выше его, например, созерцание. «Поистипе, созерцание (dhyanam) больше, чем мысль. Земля словно созерцает, воздушное пространство словно созерцает, небо словно созерцает, боги и люди словно созерцают. Поэтому те из людей, которые достигают здесь величия, словно причастны плодам созерцания. Те, что ничтожны, предаются ссорам, клевете и злословию, те же, что возвышепны, словно причастны плодам созерцания» (Чх., VII. 6. 1). Да и связанные с позпапием состояния — тоже отнюдь не высшие.
Иерархия состояний психики такова. Первая ее стопа, вайшванара — это находящаяся в состоянии бодрствования, вкушающая грубое, познающая внешнее. Вторая стопа, тайджаса — находящаяся в состоянии сна, познающая внутреннее, вкушающее тонкое. Третья стопа, праджня — находящаяся в состоянии глубокого сна, пропизаппая лишь познанием, вкушающая блаженство, чье лицо — мысль, это всезнающий, внутренний правитель, источник всего, начало и конец существ. И, наконец, четвертая стопа — А т м а н, недвойственная, не являющаяся ни познанием, ни не-позна-нием, немыслимая (Мандукья, 2—7).
Эти состояния психики не просто описываются, но сопровождаются рассказом о приемах, ведущих к их достижению. Так, например, говорится, что, «надавив на нёбо кончиком языка, сдерживая речь, разум и дыхание, он созерцательным исследованием видит Брахмана» (Майтри, VI, 20). И не просто предписывается такое действие для достижения состояния созерцания, по и дается его объясненпе через привязку к конкретным анатомическим деталям. «Идущая вверх артерия, называемая cymyMHaj ведущая дыхание! разделяется в нёбе. Через
Естественнонаучные представления эпохи Вед и Упанишад 151
нее, соединенную с дыханием слогом AVM и разумом, пусть он поднимается вверх. . . Лишившись собственного существа, он не бывает причастен счастью и несчастью, достигает одиночества» (Майтрп, VI, 21).
Более того, существует и отвот па вопрос, почему никакое зло не касается человека, находящегося в таком состоянии: потому, что тогда он наделен жаром солнца. Объяснение это также развернуто путем построения развитой картипы анатомии человека и каналов ее связи с макрокосмом. «И эти артерии сердца состоят из тонкой сущности — красновато-корпчневой, белой, синей, желтой, красной. Поистине, то солнце — красновато-коричневое, оно белое, оно синее, оно желтое, оно красное. Подобно тому как большая длинная дорога проходит через обе деревпи — и эту, и ту — так же и эти лучи солнца проходят через оба мира — и этот, и тот. Они простираются от солнца и проникают в эти артерии, они простираются от этих артерий и проникают в солнце. Когда человек погрузился в сон, всецело успокоившись и пе видя сновидений, то он пропик тогда в эти артерии. Никакое зло его не касается, ибо тогда он наделен жаром солнца. . . Когда же он оставляет свое тело, то с помощью этих лучей он восходит вверх» (Чх, VIII, 6, 1—5). При установлении этого единства мы опять встречаемся с работающим издревле принципом подобия как психологически наиболее достоверным обоснованием. Принцип единства микро- и макрокосма является работающим принципом в этой системе апатомо-психо-физиологически-космичсскпх соответствий, но и этот принцип полностью сохраняет в себе тот образно-эстетический пласт мышления, который сложплся в Водах в ходе создания гимнов и установления символики жертвоприношения, в ходе ритуального моделирования мира. И благодаря сохранению традицией этого пласта впоследствии в развитии индийской психофизиологии сохранится принцип единства психофизической проблематики.
Мир — един, и потому «и тот, который в огне, и тот, который в сердце, и тот, который в солнце, — это единый» (Майтрп, VI, 17). Принцип подобия обоснует нам и это утверждение, поскольку, «поистине, и то дыхание во рту, и то солнце одинаковы: и то горячо, и другое горячо» (Чх, I, 3, 3). В пространстве сердца пребывает космиче
152
Е. И. Молодцова
ский жар Брахмана, и с «помощью сосредоточения рассеивают пространство сердца, которое как бы становится его светом» (Майтри, VI, 27), психическое сосредоточение производит физический эффект, поскольку, как мы убедились, все связано со всем. Этот свет внутри сердца и есть высший Атмап (Брихадараньяка, IV, 3, 7). Самость, сущность человека, которая тоже многоступенчата, привязана к конкретным уровням строения человека, и постепенно отрывается от них в виде концентрированной духовной сущности, сливающейся с ее объективным экви-вален гом — Брахманом. Упанишады находят в теле несколько различных, иерархически соподчиненных Атма-нов, Самостей. Первая — Атман, состоящий из соков пищи. От него отличен внутренний Атман, состоящий из дыхания (prapamayab). Затем следует внутренний Атман, состоящий из разума (manomayah). От него отличен внутренний Атман, состоящий из распознавания (vijnana-mayali), и от него, в свою очередь, отличен внутренний Атман, уже не имеющий отношения к познанию и состоящий из блаженства (anandamayab) (Тайттирия, 2,5).
Первый Атман, или Атман телесный, понимается как состоящий из элементов, как Бхутатман. Этот Бхутатман (bhutatma) состоит из пяти тонких частиц (рапса — tan-matra) — бхута, и из пяти великих элементов, тоже называемых бхута (рапса—maha—bhutani, — это вода, огонь, земля, ветер, пространство, и их сочетание названо телом — Бхутатман (Майтри, III, 2). Элементы, из которых построен космос, являются также и элементами строения человека.
С теорией Атмана, Самости, рассматриваемой в единстве с космосом, связана в упанишадах теорья времени, рассматриваемого на микро- и макрокосмическом уровнях как один и тот же феномен. «Поистине, этот Атман поддерживает себя в двух состояниях том, которое дыхание, и в том, которое солнце» (Майтри, VI, 1). Дыхание и солнце — внутренний и внешний Атман, два состояния единого Атмана. «Далее, тот, который, обитая в лотосе сердца, поедает пищу, это солнечный огонь, обитающий в небе, который поедает всех существ, словно пищу. . . Поистине, этот лотос — то же, что и пространство» («Майтри, VI, 2). Как видим, учение о тождестве микрокосма и макрокосма не только не исчезает, но, базируясь на принятой
Естествеппопаугпые представления эпохи Вед и Упанишад 153
уже,вошедшей в теоретическую, системе соответствий, принимает все более утонченные формы, так что тождество дыхания и солнца, света внутри сердца и света солнца оборачивается учением о времени, локализованном в пространстве сердца, но являющемся там представителем космоса.
Итак, солнце — источник времени (Майтри, VI, 14). «Поистине, существуют два образа Брахмана — время и пе-время. Далее, что перед солнцем, то не-время, лишенное частей. Далее, что начинается от солнца, то — время, состоящее из частей. Поистине, год — это образ состоящего из частей. Поистине, от года рождаются эти существа. Поистине, с годом возрастают рожденные, в году они исчезают» (Майтри, VI, 15). И вот теперь мы встретились с ритуалом, годичным жертвенным циклом, восстанавливающим космос и апеллирующим к солнцу, и исток этого спекулятивного и достаточно темного построения становится ясен. И отсюда же — утверждение о негибнущем Атмане, из которого все воспроизводится, раз уж ему предопределено регулярно погибать в соответствии с жертвенным циклом. «Это воплощенное время — великий океан творений, в нем находится тот, называемый Санитаром, от которого родились лупа, звезды, планеты, год и прочее. Далее от них — весь этот мир» (Майтри, VI, 16). «Непостижим этот высший Атман — безграничный, нерожденный, невообразимый, немыслимый, этот Атман пространства. Когда все гибнет, он одип бодрствует. Поистипе, из этого пространства он пробуждает эту долю мышления. Благодаря ему и мыслит все это, в нем оно и исчезает» (Майтри, VI, 17). Такой вариант космогонии, хотя и связан с ежегодным ритуальным творением мира, тем не менее является в упанишадах, пожалуй, наиболее спекулятивным.
А вообще космогопия в упанишадах не находит развития — опа не интересует мудрецов упанишад как самостоятельная область, поскольку вполне достаточно принципа тождества макро- и микрокосма, где предпочтение отдается микрокосму, для которого изоморфизм макрокосма задан в символике жертвоприношения.
Там же, где космогония все же вводится, мы имеем дело обычно с генетическим мифом, придающим авторитет тому или иному явлению. Типичным будет, например.
154
Е. Н. Молодцова
такой вариапт мифа: «Вначале этот мир был несуществующим. Он стал существующим. Он стал расти. Он превратился в яйцо. Оно лежало в продолжении года. Оно раскололось. Из двух половин скорлупы яйца одна была — серебряной, другая — золотой. Серебряная половина — это земля, золотая — небо, впсшняя оболочка — горы, внутренняя оболочка — облака и туман, сосуды — реки, жидкость в зародыше — океан. И то, что родилось, это солнце. Когда опо рождалось, поднялись возгласы, крики и поднялись все существа и всем желанпое» (Чх, III, 19, 1—3). Миф приводится с целью обосновать утверждение о том, что солпце — это Брахман, причем мыслители упанишад даже не дают себе труда придумать новый миф, но просто приводят эквивалент ведического мифа о яйце. Так же обстоит дело и с другими космогоническими мифами.
Итак, мы рассмотрели в самых общих чертах естественнонаучные знания древней Индип. Характерно то, что эти знания создавались людьми, чья профессия состояла в отправлепии ритуала и разработке избыточного по отношению к этому ритуалу знания, усиливающего эффект ритуального действия, а также наделяющего могуществом самого носителя этого знания. Знание это, продолжающееся непрерывно с древнейших времен, представлено иногда как рационально конструируемое, с экспликацией способов его получения, иногда же, и чаще всего, как нуждающееся в дополпительпой реконструкции, восходящей к древнейшим истокам. Весь корпус этих знаний существует как нерасчлененное единство психофизического, и дело в том, что именно в таком нерасчлененном виде оно и будет продолжаться специфически индийской традицией, что и позволит этой традиции дать достаточно неожиданные для Европы результаты. Так что апелляция индийской культуры к Ведам и Упанишадам в указаниях на истоки своей специфики является вполне оправданной.
Естественнонаучные представления эпохи Вед и Упанишад 155
Литература к статье
Ригведа: Избр. гимны. М.: Наука, 1972. 418 с.
Атхарваведа: Избр. гимны. М.: Наука, 1977. 406 с.
Брихадараньяка упанишада. М.: Наука, 1964. 239 с.
Упанишады. М.: Наука, 1967. 336 с.
The Sacred Блока of the East/Vols. 32, 46. Vedic Hj inns, Rg-Veda.
Transl. Engl. Muller, H. Oldenberg. Oxford, 1891.
Harvard Oriental Series/Transl. and notes Whitney’s. Cambridge. 1905. Vols. 7, 8. Atharva—Veda.
Harvard Oriental Series/Vol. 18, 19. Veda of the Black Ya jus School, intitled Taittiriya Samhita. Transl. Keith, Litt. Cambridge, 1914.
Литература к теме
Patwardhan К. 1. Upanishads and modern biology. Bombay, 1957. Prakash S. Founders of science in ancient India. New Dehli, 1965. Ross R. Symbols and civilisation: Science, morals, religion, art. N. Y. 1962.
Seal B. The positive science in ancient India. Dehli, 1948.
А. И. Володарский
Отдельные отрасли науки в древней Индии
Развитию культуры древней Индии уделено много внимания как в советской, так п в зарубежной литературе. Что касается пауки древней Индии, то ей посвящено гораздо меньше публикаций. Это либо работы, исследующие только одну из областей знания — математику [Володарский, 1977, 1979; Юшкевич 1961], астрономию [Pingree, 1978J, либо обобщающие работы, но выходящие далеко за рамки рассматриваемого периода [Ткаченко, Володарский, 1972; A concise history of science in India, 19711.
В настоящей статье прослеживается развитие отдельных отраслей пауки в эпоху Индской цивилизации, ведийский период, первые века нашей эры.
Эпоха Индской цивилизации III—II тысячелетия до н. э.
Более четырех тысяч лет назад обитатели бассейна реки Инд создали высокоразвитую культуру, не уступавшую таким центрам древней цивилизации, как Месопотамия и древний Египет, а в некоторых отношениях и превосходившую их. Основные центры цивилизации в долине Инда — древние города Хараппа и Мохенджо-Даро: по названию первого города эта цивилизация носит также название Хараппской культуры, или Хараппской цивилизации По долиной Инда эта культура не исчерпывается: она охватывала также районы Пенджаба, Саураштры, Раджастхана, на западе она доходила до Белуджистана, на востоке до Уттар-Прадеша, на севере до Пенджаба, па юге до Гуджарата. Таким образом, Хараппская культура простиралась с запада на восток примерно па 1600 км и с севера на юг на 12а0 км. Поареалу распространения Индская цивилизация была одной из самых крупных на всем Древ-пем Бостоке. В основу Хараппской культуры легли местные традиции, существовавшие на севере Индостанского субконтинента. По сама эта культура не была чем-то раз и навсегда застывшим и неизменным: за свое многовековое существование она прошла несколько этапов. Новейшие
Отдельные отрасли пауки в древней Индии
157
исследования, проведеппые па основании археологических раскопок в Рангпурс иЛотхале, позволили, наряду с общими чертами, характерными для всей цивилизации в целом, выявить яркую специфичность отдельных регионов в копкретпые периоды ее развития. Тесные контакты, которые поддерживались жителями Хараппской цивилизации с Месопотамией, Центральной и Средней Азией, Южной Индией, также способствовали этому своеобразию [Бон-гард-Левпн, 1980, с. 14].
Хотя отдельные археологические неходки в долине Инда были сделаны еще в середине прошлого столетия, по-настоящему научные раскопки были начаты лишь в начале 20-х годов XX в. и ведутся до сих пор. О степени развития Индской цивилизации главным образом можно судить по раскопкам городских поселений. Для своего времени Ха-раппа и Мохенджо-Даро были крупными городами; так, в Мохенджо-Даро проживало не менее 100 тысяч жителей. Города строились цо заранее составленному плану: улицы шли параллельно друг другу и пересекались под прямыми углами. Дома достигали трех этажей и строились из обожженного кирпича, который был довольно прочен и служил в течение длительного времени. Наряду с обожженным пользовались и необожженным сырцовым кирпичом — в зданиях, построенных из такого кирпича, в знойный летний период было значительно прохладней. Раскопки свидетельствуют о существовании тщательно разработанной системы канализации, одной из наиболее совершенных па Древнем Востоке. Такой же налаженной была и система водоснабжения [Бонгард-Левчн, Ильин, 1969, с. 96—98; Лунин, с 27—28].’
В хараппских городах существовало большое число общественных зданий— склады, зернохранилища, древние сооружения для помола зерна. Для защиты от наводнений часть из них была построена на специальном кирпичном возвышении. Такие постройки в значительном количестве найдены, папример, в Лотхале, в котором для защиты от наводнений пе только жилые дома и общественные здания строились па особых платформах, но и сам город был защищен от наводнений глиняной стеной. Лотхал был большим портовым городом, он занимал ключевое положение в устье реки, впадающей в Камбейский залив. Река часто меняла свое русло, и для надежной связи с морем был прорыт
158
А. И. Володарский
специальный канал. Каменные якоря, поднятые со дна древнего русла реки, подтверждают возможность судоходства в древпий период по рекам на расстояние до 50 км. Наибольший вклад, сделанный жителями Лотхала в развитие древней пауки и техники, состоит в постройке искусственного дока для стоянки судов, куда заходили суда из Египта и Месопотамии. Это самое большое сооружение, которое было построено в эпоху Хараппской культуры для развитии мореплавания и морской торговли. Док был построен пе на основном русле реки, а иа одном из рукавов, чтобы уменьшить, с одной стороны, опасность наводнений, а с другой — избежать чрезмерного наполнения илом судоходного участка. При постройке дока жителям Лотхала приходилось учитывать множество проблем, в том числе скорость течения реки, силу давления воды, колебания уровня реки. Этот док также примечателен своим водным шлюзом. Во время постоянных приливов и отливов этот шлюз регулировал поступление воды и препятствовал опорожнению дока, гарантируя судоходство даже при отливе. По своим техническим достоинствам док в Лотхале превосходил более поздние финикийские и римские доки. Средние размеры дока составляли 214x36 м, максимальная глубина 4,15 м, весь док был окружен кирпичными стенами, шириной от 1,04 м до 1,78 м. Суда входили в док через ворота шириной 12 м. В доке одновременно могло находиться 30 судов грузоподъемностью в 50 тонн. Все это требовало больших познаний в области математики, вычислительной техники, строительного дела, физики и механики [Rao, р. 70—73].
Показателем высокого культурного развития Индской цивилизации является существование письменности, к сожалению, до сих пор не расшифрованной. Тексты записывались на особые печати, имевшие чаще всего квадратную, прямоугольную или круглую формы; существуют надписи, сделанные на медных пластинках, круглых палочках из слоновой кости, сосудах, различных орудиях, глиняных браслетах. Надписи на печатях часто сопровождаются изображениями животных, растений и даже целых сцен. Расшифровка текстов затруднена рядом объективных причин — прежде всего отсутствием какой-нибудь билингвы и малым объемом текстов. Изучение текстов ведется во многих странах. В СССР работа по исследованию письменности
Отдельные отрасли пауки в древней Индии
159
долины Ипда, называемой протоиндийской, с 1964 г. ведется под руководством Ю. В. Кнорозова. Жители харапп-ских поселений писали горизонтальными строками справа налево; короткие надписи, содержащие от 1 до 8 знаков, имеют преимущественно рисуночный характер, но наряду с пими существовали и фонетические знаки. Среди знаков обращают внимание вертикальные черточки, которые ученые справедливо считают цифрами.
Математика. Обзор математических знаний естественно начать с арифметики. В Мохенджо-Даро найден обломок линейки, основанной, видимо, па десятичной системе. Это узкая полоска раковины с нанесенными на ней девятью делениями. В Лотхале найдена часть линейки из слоновой кости, длиной 12 см и 1,5 см шириной. На отрезке длиной 4,6 см па несены 27 вертикальных черточек; среднее расстояние между двумя отметками равно 1 ,| мм. Шестая и двадцать первая линии более длинные, чем все остальные; возможно, что линейка была основана на пятиричной системе счисления или на системах кратных пяти. Линейка из Лотхала содержит более частые деления, чем мерный инструмент из Мохенджо-Даро, и с ее помощью можно выполнять более точные измерения. Так, ширина между двумя соседними делениями на линейке из Мо-хепджо-Даро составляет 6,7 мм, т. е. в 4 раза больше, чем на линейке из Лотхала. Следует отметить, что десять делений лотх а льской линейки (17,7 мм) примерно равны «ан-гуле» (17,86 мм) — линейной мере, встречающейся в «Арт-хашастре». Единицами линейных мер в Хараппскую эпоху, вероятно, служили «ступня» и «локоть»; «ступня» составляла 33,5 см, а величина «локтя» колебалась от 51,5 см до 52,8 см. Поскольку «ступня» и «локоть» были довольно большими величинами, существовали и более мелкие единицы измерения, например 5,7 см, неоднократно встречающаяся при обмерах кирпичей. Все кирпичи были строго определенных размеров, их стороны относились как 1:2:4 или как 1 : 3 : 9.
Числа обозначались штрихами-зарубками; такие зарубки обнаружены, в частности, на каменных кольцах, из которых строились колонны, поддерживающие кровлю жилищ. Вертикальные черточки, обозначавшие числа, найдены и на печатях. Числа от 1 до 4 состоят из одной группы штрихов; числа от 5 до 7 — из двух групп, рас
160
А. И. Володарский
положенных как горизонтально, так и вертикально; запись, обозначавшая 8, отсутствует; число 9 состоит из трех вертикальных групп штрихов. Некоторые горизонтальные и вертикальные черточки сохранились в позднейших числовых системах кхарошти и брахми.
Одной из популярных в древности игр бы ла игра в кости; ею увлекались жители Хараппских поселений: от них до нас дошли самые древние в мире игральные кости. В Лотхале игральные кости кубической формы изготовлялись из терракоты; ямочками обозначались цифры: 1 против 2; 3 против 4; 5 против 6. В Хараппе найдены игральные кости с другим расположением цифр: 1 против 6; 2 против 5; 3 против 4; при таком расположении сумма каждой пары противоположных сторон равна 7. Игра в кости была распространена в Индии и позднее. Так, в «Махабхарате» паревич Пандава говорит, что при игре в кости он потерял все, включая царство; в «Рпгведе» упоминается сорт дерева, из которого изготовляли игральные кости.
Изучая геометрические знания эпохи Хараппской культуры, следует обратить внимание на то, что города строились в соответствии с заранее составленным планом. Так Мохенджо-Даро, Хараппа, Лотхал расположены на территории, напоминающей по форме трапецию. При раскопках найдено большое число предметов правильной геометрической формы: разнообразные металлические конусы и предметы полусферической формы. Геометрическую форму имел орнамент на керамических изделиях. При изготовлении одинаковых по форме, но различных по величине предметов нужно было знать основы подобия — элементарные, чаще всего полученные эмпирическим путем, а также сведения о центре подобия и о коэффициенте пропорциональности. При геометрических построениях нужно было решать ряд геометрических задач на построение и преобразование: построение прямой, кривой, замкнутой, ломаной линий; построение прямого угла и перпендикуляра; построение квадрата, четырехугольника, окружности, многоугольника; построение куба, параллелепипеда; деление отрезка пополам и на равпые части, делепие круга пополам, деление круга на четыре равные части, деление пополам сферы; построение сектора и сегмента круга; построение концентрических окружностей
Отдельные отрасли пауки в древпей Индии
161
и параллельных линий. Строительство на местности требовало употребления специальных инструментов для проведения прямых линий, построения прямых, вертикальных, смежпых углов и их измерения, определения расстояний до данных предметов. Необходимые для этого вертикальные отвесы в большинстве случаев были сделаны из терракоты. В Лотхале найдены два типа отвесов, напоминающих по форме конус. Один из них имел боковое отверстие и терракотовый диск сверху, как у современных металлических отвесов, второй — горизонтальное отверстие в узкой части. В Мохенджо-Даро также найдены отвесы из раковин. Многие задачи практики требовали знания площадей и объемов основных геометрических фигур, хотя мы не знаем, как жители долипы Инда вычисляли их [Володарский, 1979, с. 109—111].
Многие черты роднят Хараппскую культуру с другими дреьнейшими цивилизациями — древним Египтом, Вавилоном, древним Китаем. Во всех этих и других древних цивилизациях математика, взятая в целом, была единой по своему типу: по предмету исследования, по методам исследований, по своим внутренним связям, хотя, разумеется, в каждом регионе существовали свои особенности. И тем не менее в течение всего периода зарождения математики, когда были образованы простейшие понятия и господствовала практическая математика, мы теперь с уверенностью можем говорить о единстве математики в различных древних культурных регионах.
Астрономия. В ходе исследования протоиндийских материалов — объектов с надписями, изображениями и символами, появилась возможность более точно судить об астрономических познаниях жителей долины Инда, а также составить представление, хотя пока и неполное, о протоиндийском календаре. Действительно, трудно представить, чтобы Хараппская культура, просуществовавшая около тысячи лет, обходилась бы без каких-либо форм астрономии.
Среди исследователей существуют различные точки зрения. для каких именно целей служили печати. Вполне вероятно, что на них, в частности, изображались сезоны года, месяцы и числа. Если исходить из такого предположения, то некоторые из фигур реальных и мифологических животных (бык, слон, тур, носорог, крокодил, тигр, еди-
162
А. И. Володарский
порог) и богов в человеческом облике можно интерпретировать как схему деления неба на созвездия, хотя и довольно условную.
Видимо, жители долины Инда различали несколько видов года — астрономический, гражданский, сельскохозяйственный. Начало каждого года могло приходиться па разное время: астрономический год начинался со дня весеннего равноденствия; гражданский год начинался со дня зимнего солнцестояния; о начале сельскохозяйственного года пока трудно судить ввиду отсутствия точных данных [Волчок, 1975, с. 34]. Среди протоиндийских изображений имеется ряд сиен, которые могут быть увязаны с сезонными циклами, основанными па определенных подразделениях солнечного года.
Протоиндийский год делился на два полугодия между зимним и летним солнцестояниями. С другой стороны, год делился на шесть сезонов, каждый сезон состоял из двух месяцев или четырех полумесяцев. Таким образом, наряду с единицей времени — месяцем, длительностью в 30 дней, существовали 15-дневные полумесяцы, отличавшиеся друг от друга фазами луны — новолуниями и полнолуниями. Жители Хараппских поселений специально выделяли два равноденствия и два солнцестояния, отмечая их специальными праздниками. С этими четырьмя праздниками связана целая группа печатей и оттисков [Волчок, 1975, с. 23-24].
Одним из важных знаков в протоиндийских текстах является расположенное вертикально изображение рыбы. Дравидийское слово min (рыба) ассоциировалось с понятием «звезда». Этот знак с различными сочетаниями составляет около 20% всего индского письма. Согласно интерпретации, предложенной советскими учеными, если рядом со знаком рыбы поместить вертикальные черточки, имеющие, как известно, числовое значение, то такие сочетания будут означать созвездия, а количество черточек будет соответствовать числу звезд. Так, шесть вертикальных черточек в сочетании с изображением рыбы означают «шесть звезд» (aru-rnin — старинное тамильское название созвездия Плеяды в ведийской системе накшатр). Семь вертикальных черточек со знаком рыбы означают «семь звезд» (elu-min старинное тамильское название Большой Медведицы).
Отдельные отрасли науки в древпем Индии
163
В интерпретации финских исследователей протоиндийского письма (А. Парполы и других) символ рыбы в сочетании с черточками может означать пять видимых планет. Эти ученые исходят из того, что в старотамильском языке п па языке телугу планеты обозначались различными цветовыми оттенками. Кроме того, согласно религиозным воззрениям древних, каждой планете должен соответствовать одни из богов ведийского пантеона. Поэтому учепыми предлагаются следующие соответствия: Ганеша — Меркурий — зеленая звезда; ьаларама — Венера — белая звезда; Шива — Марс — красная звезда; Брахма — Юпп тер — золотистая звезда: Кришна — Сатурп — черная звезда |Рагро1а, 1980. р. 25].
А. Парпола аргументирует свои выводы, исходя из предположения, что в хараппской религии существовало двойное поклонение звезде и рыбе; это позволяло связывать небеса с землей. Возможно, древние жители долины Пида представляли небо окруженным океаном или широкой рекой, где звезды соответствуют плавающим рыбам |1980, р. 24—25]. Концепция небесной реки в древпей дравидийской философии и астральной религии имеет много общею с такими понятиями, как окружающий океан или широкая река, известными в древних месопотамской и египетской космологиях. Для всех трех цивилизаций, расположенных в долинах великих рек, впадающих в обширные водные пространства, концепции небесной реки вполне объяснимы. Ведийское сравнение реки Сарасвати (одного из притоков Инда) со всей системой накшатр, а ее притоков и рукавов с отдельными созвездиями, предложенное финскими учепыми, представляется интересным, поскольку свидетельствует о Хараппском происхождении системы накшатр [Asfaque, р. 171—173].
В эпоху Хараппской культуры в астрономии использовался 60-летний цикл, состоявший из пяти 12-летних периодов [Кнорозов, 1972, с. 236]. Само по себе употребление 5-летпего цикла свидетельствует о том, что продолжительность солнечного года была определена в 360 дней; лунный год принимался равным 354 дням, поскольку он состоял из 12 лунпых месяцев по 29,5 дней. При этом за 5 лет разница между солнечным и лунным календарями составляла приблизительно лунный синодический месяц — 30 дней (6 дней по 5 лет). Таким образом, повторялись
164
А. И. Володарский
те же фазы Луны, что и 5 лет назад. Широкое распространение получил и 12-летппй цикл, основанный на согласовании движения Солпца и планеты Юпитер, поскольку 12 солнечных лет приблизительно равпы 11 синодическим периодам Юпитера. 12-летннп цикл оказался особенно удобен, посколы у получалась полная аналогия с годом, и каждому из 12 месяцев соответствовал один из годов 12-летнсго цикла. Объединение 12-летиего и 5-летнего циклов позволило ввести 60-летний период, основанный па согласовании движения Солнца, Луны и Юпитера. Этот период получил название «большого года» и служил в качестве срока власти царей. Позднее «большой год» стал называться «сезоном богов», а «год богов», состоявший из шести сезонов, стал равным 3G0 годам, т. е. «день богов» равен году [Кнорозов, 1975, с. 12—13).
Некоторые надписи па храмовых копьях и топорах явно имеют календарно-хронологический смысл. Только в этих надписях встречаются большие чш ла. Принимая вертикальную черту за единицу, а знак «купола» за 10, можно констатировать, что в надписях даны числа И и 35 — последние годы первого и третьего 12-летия. На других печатях изображены числа 19 и 76 (=19x4), кратные 19-летнему циклу Метона [Кнорозов, 1975, с. 15].
Установлено, что жителям долины Инда было известно деление эклиптики на 12 частей. О высоком уровне развития практической астрономии можно судить, например, по такому факту: звезда Альфа Дракона была идентифицировала с Полярной звездой — Дхрува (санскр. — «неподвижная»). В третьем тысячелетии до н. э. звезда Альфа Дракона находилась около небесного северного полюса, поэтому представление об этой звезде как о неподвижно фиксированной должно относиться к этому же периоду. Возможно, что к тому же времени восходит и обширнейший круг мифов и легенд, связанных с Полярной звездой и найденных в позднейших древнеиндийских письменных памятниках [Волчок, 1975, с 16].
Говоря о древнеиндийском календаре, следует иметь в виду, что на огромной территории Индостанского субконтинента с различными природными, религиозными, этническими условиями существовали различные системы счета времени. И сейчас в некоторых районах Индии еще
Отдельные отрасли науки в древней Индии
165
действуют местные календари. Но при всей сложности, а порой и запутанности местных календарей достаточно очевидно выступает единая древнеиндийская система счета времени, ставшая основой при формировании различных индийских календарей.
Можно предположить, что в Хараппскую эпоху жители пользовались пятидневной неделей — па некоторых печатях изображен купол, внутри которого расположены пять вертикальных черточек. Купол, видимо, означал небесный свод и имел значение дня, а число дней, как обычно, определяется количеством черточек. По мнению пакистанского историка астрономии Асфака, возможно, что идея пятидневной недели, как и ряд других астрономических концепций, могли быть привнесены в Месопотамию из долины Инда [Asfaque, р. 180]. Здесь затронута одна из интереснейших проблем Хараппской культуры — проблема научного воздействия и влияния Индской цивилизации на древний Египет, Месопотамию и другие регионы. Историки науки только начинают подступать к изучению этой проблемы, и предположение Асфака представляется весьма интересным. Следует указать также на работу швейцарского историка математики Ь. Л. ван дер Вардена «О довавилонской математике» [1980, р. 29, 38]. Сопоставляя уровень развития математики в Вавилоне, древних Египте, Китае, Индии, Греции, ван дер Варден делает вывод о том, что примерно между 3500 и 2500 г. до и. э. существовала «неолитическая алгебра и геометрия», откуда берет начало математика во всех древних цивилизациях. Вряд ли можно согласиться с существованием единого математического центра, поскольку это противоречит общеисторическим фактам о нескольких центрах древних культур. Но предложенная ван дер Варденом идея о сравнении научных традиций в регионах, отстоящих друг от друга на большие расстояния, может оказаться плодотворной. В контексте такой постановки проблемы не исключено, что Хараппская культура могла оказать воздействие на вавилонскую математику и астрономию.
Достижения жителей Хараппских поселений в области астрономии не могли исчезнуть бесследно. Позднейшее паселенпе Пндпи, независимо от того, откуда оно прибыло, должно было унаследовать уже выработанный и приспособленный к местным условиям протоиндийский календарь
166 А. И. Володарский
с учетом особенностей клима та, географического положения, звездного неба этих широт. С фактами большой преемственности протоиндийской и последа ющих культур приходилось неоднократно сталкиваться. Такая же преемственность наблюдается и в календарпо-астрономических расчетах. Протоиндийская система отсчета времени, восстанавливаемая па основе надписей па печатях, имеет очепь много параллелей с ведийской календарной системой [Волчок, 1973, с. 16—18, 35]. По мнению Асфака, «ведийская астрономия, изложенная в «Атхарваведе» и «Махабхарате», является истинной наследницей астрономической традиции цивилизации долины Инда» [Asfaque, р. 157—158]. На наличие хараппских корней древнеиндийской астрономии указывает и Парпола [Parpola, 1973, р. 76]. При этом Парпола считает, что истоки всех идей древнеиндийской космологии следует искать в доригве-дийской астральной религии. Следует отметить, что американский историк математики А. Сейденберг также пишет о ритуальном происхождении арифметики п геометрии [см. Van der Waerden, р. 28].
Металлургия. Хараппская культура была культурой эпохи бронзы, которая, наряду с медью, играла важную роль в хозяйстве и ремеслах. Из этих металлов изготовлялись многие орудия производства и оружие. Жителям были хорошо известны плавка, ковка и литье металлов. Прп раскопках было найдено много ножей, топоров, зеркал, бритв, а также кинжалов, мечей, наконечников стрел и копий.
Анализ процентного содержания металлов свидетельствует об употреблении особого сплава меди и мышьяка, причем процент последнего был довольно высоким. Высоким было и содержание олова. Употреблялось также золото, серебро, свпнец, из которых делали различные украшения и предметы домашнего обихода.
Ведийский период
Следующие естественнонаучные сведения можно найти в имеющей религиозно-философское направление ведийской литературе — самхнтах, брахманах, араньяках, упанишадах (II—I тыс. до н.э.). Хотя эти сочинения не посвящены специально точным наукам, в них можно найти много сви
Отдельные отрасли науки в древней Индии
167
детельств для понимания математики, астрономии, ботаники, медицины.
Астрономия. В самхитах и брахманах встречаются упоминания о месяце — одной из естественных едипиц времспи, промежутке между последовательными полнолуниями или новолуниями. Месяц делился па две части, две естественные половины: светлеющая половина (шукла) от новолуния до полнолуния и темнеющая половина (крыпна) от полнолуния до новолуния. Первоначально лунный синодический месяц определялся в 30 дней, позднее он был более точно вычислен в 29,5 дней. Звездный месяц был больше 27, но меньше 28 дней, что нашло свое дальнейшее выражение в системе накшатр — 27 или 28 лунных стоянок.
Индийцы рассматривали солнечный день как 360-ю часть года. Звездный день определялся как время, необходимое созвездиям для совершения одного оборота. Лунный депь (титхи) представлял собой 30-ю часть одного лунного месяца. Половина лунного месяца (пакша) содержала 15 титхи, названными порядковыми числительными — пратхама (первый), двитийя (второй) и т. д.
Названия некоторых лунных месяцев произошли от соответствующих названий лупных стоянок, в которых появляется полная Луна. Поскольку на каждый месяц приходится по 2 или 3 лунных стоянки, то названия месяца происходят от одной из них.
Продолжительность года чаще всего принималась равной 360 дпям и 12-ти месяцам. Поскольку это на несколько дней меньше истинного года, то со временем начало года приходилось па все более раннее время и месяцы не соот-вет( твовали сезонам года. Для того чтобы преодолеть это различие, необходимо было ежегодно прибавлять по 5 или 6 дней или через несколько лет присоединять добавочный тринадцатый месяц.
В ведийскую эпоху существовали следующие лупно-солнечные календари: звездный год продолжительностью 324 дня состоял из 12 месяцев по 27 дней каждый; звездный год продолжительностью 351 день состоял из 13 месяцев по 27 днем каждый; лунный год продолжительностью 354 дня состоял изб месяцев по 30 дней и из 6 месяцев по 29 дней; гражданский, или год Савана, продолжительностью 360 дпей состоял из 12 месяцев по 30 дпейкаждый; год про-
168
А. И. Володарский
должительностыо 378 дней; в нем 18 дней добавлялись к третьему году после двух годов Савана по 360 дней, чтобы привести в соответствие гражданский и солнечный год из 366 дней.
Для согласования их продолжительности с солнечным годом прибавляли добавочные дни — интеркаляции. Кроме добавлений из 9, 12, 15, 18 дней, в ведийской литературе имеются ссылки на интеркаляцпонпый период в 21 день, ко'1 орый добавлялся к каждому четвертому году Савана. Такой четырехлетний период составлял 1461 день, что давало хорошее приближение для года — 365 1/4 дня. [A concise history of science in India, p. 72—76].
Математика. Особое место в ведийской литературе занимали разделы под общим названием «Шульба-сутра», содержащие правила построения различных жертвенных алтарей.
Эти тексты были составлены в VI—III вв. до н. а. и до нас дошли в четырех редакциях — Баудхайаны, Манавы, Апастамбы, Катпайаны.
В ряде предпш анпй «Шульба-сутры» можно проследить высказывания, сходные с утверждениями Евклида. Так, прямую линию можно делить на бесконечное число равных частей; круг может быть разделен на любое число частей, если проводить различные диаметры; диагональ прямоугольника делит его на две равные части; прямая, соединяющая вершину равностороннего треугольника с серединой противоположной стороны, долит его на две равные части; параллелограммы, построенные на одном и том же основании и между теми же параллельными линиями, равновелики между собой и ряд других.
Значительное место в геометрических построениях занимает так называемая теорема Пифагора, известная в Вавилоне, Мидии, Китае за несколько столетий до его рождения. Эта теорема приведена во всех редакциях «Шульба-сутры», начиная с самой ранней, относящейся к VI в. до п. э. Хотя детально разработанное доказательство этой теоремы пе найдено, не исключено, что широкое применение теоремы о гипотенузе и катетах основано на теоретическом выводе, а по эмпирических догадках [Юшкевич, с. 112- 118]
«Шульба-сутра» далеко пе исчерпывается геометрическим содержанием. Она, так же как и другие сочинения
Отдельные отрасли науки в древней Индии
169
отой эпохи, содержит сведения по системам счета, арифметическим операциям с целыми числами и дробями, квадратным уравнениям, неопределенным уравнениям первой и второй степеней, приближенному нахождению иррациональных величии, арифметической и геометрической прогрессиям, элементам комбинаторики.
В различных трактатах приводятся арифметические прогрессии с разностью 2, 4, 5, 10, а также геометрическая прогрессия со знаменателем 2. В некоторых случаях указывается и результат суммирования. Конечно, в ведийскую эпоху еще не существовало общих правил суммирования прогрессий, но встречающиеся примеры с верными результатами позволяют полагать, что были известны некоторые частные методы нахождения суммы как арифметической, так и геометрической прогрессий.
Видное место в ведийской математике занимают проблемы комбинаторики — перестановки и комбинации. Одним из побудительных толчков послужили вопросы древнеиндийского стихосложения; позднее комбинаторика нашла широкое применение, когда необходимо было вычислить число элементов, взятых из некоторого количества по одному, по два, по три и т. д. одновременно. Большой интерес представляет «Чхандах-сутра» Пингалы (III—II вв. до н. э.), в которой приведен метод, называемый «меру-прастара», для нахождения числа комбинаций из п слогов, взятых по 1, 2, 3 и т. д. слогов одновременно. Метод заключается в построении таблицы, позднее получившей название треугольника Паскаля.
Медицина. Согласно суеверным представлениям того времени, болезни вызывались происками злых духов или враждебных чар. Поэтому медицина была неразрывно связана с магическими образами, имевшими целью уничтожить влияние сверхъестественных враждебных сил. Древние индийцы умели определять более сотни болезней и знали лечебный эффект многих лекарственных растений. Кроме микстур, применялись мази, ингаляция, окуривание дымом. Полоскание рта и омовение при совершении религиозных обрядов несомненно говорят о понимании гигиенического значения водных процедур. В «Рпгведе» уже упоминаются профессиональные лекари; занятие врачеванием в то время было весьма почетным, и даже боги порой уважительно называются лекарями.
170
А. И. Володарский
Расцвет науки древней Индии
К первым векам нашей эры относится начало литературной традиции в математике, астрономии, медицине, химии: у основания науки стоит некое главное произведен™----
либо анонимное, либо приписываемое легендарному автору и представляющее собой собрав ие крайне сжатых положений, как правило, в стихотворной форме. Затем это произведение перелагают более развернуто или истолковывают в многочисленных комментариях. Как правило, новые зпания также преподносятся в форме различных комментариев.
Астрономия. Из астрономических работ этой эпохи прежде всего следует назвать пять спддхапт, которые па протяжении многих последующих веков изучались, комментировались, добавлялись и перерабатывались. Это «Пайтамаха-сиддханта», «Вашшитх i-сиддханта», «Паули-ша-сиддхапта», «Ромака-сиддханта», «Сурья-сиддхаита». Все эти трактаты (некоторые до нас пе дошли) подробно описаны Варахамихирой в сочинении «Панча-сиддхантика» (VI в.). Составление всех текстов относится к III—IV вв.
К астрономическим сиддхантам тесно примыкает творчество крупнейшего индийского математика и астронома Ариабхаты (V—начало VI вв.), из двух сочинений которого до нас дошло лишь одно — «Ариабхатийа» (499 г.). Оно состоит из четырех отделов: дашагитика (система обозначения чисел), ганитапада (математика), калакрийапада (онределение времени и планетарные модели), голапада (небесная и земная сферы).
В астрономической части, имеющей много общего с «Сурьеп-сиддхаптой», Ариабхата высказал гениальную догадку: ежедневное вращение небес только кажущееся вследствие вращения Земли вокруг своей оси. Эта смелая гипотеза пе была принята последующими индийскими астрономами.
Идеи Ариабхаты получили свое дальнейшее развитие в трудах Брахмагупты (конец VI—VII в.). В двух ого сочинениях наряду с математическими главами содержатся большие астрономические разделы: о форме неба и земли, об определении времени, о затмениях Лупы и Солпца, о соединепии н противостоянии светил, о лунных стоянках, о среднем и истинном положении планет, о сфере, об инструментах и измерении.
Отде-Л1>ныо отрасли науки в древнем Индии
171
Младшим современником Брахмагупты был Бхаскара I (VII в.). В 629 г. он составил комментарии к трактату Ариабхаты. Два других его сочинения посвящены традиционным астрономическим и математическим проблемам его времени.
Математика. Выдающимся достижением индийской культуры рассматриваемого периода является создание десятичной позиционной системы счисления, которой ныне пользуются во всем мире [Володарский, 1977, с. 22—30].
Если современные геометрические курсы в значительной степени восходят к греческой математике, то наша школьная арифметика имеет индийское происхождение. Основываясь на десятичной позиционной системе обозначения чисел, индийцы разработали правила арифметических действий, которые практически ничем не отличаются от современных.
Большим достижением индийских математиков было создание развитой алгебраической символики. Эта символика гораздо богаче, чем у греческих математиков. В Индии впервые появились особые знаки для многих неизвестных величин, свободного члена уравнения, степеней. Символами служили первый слог или буква соответствующего санскритского слова.
Крупных успехов достигли ипдпйскпе математики в решении неопределенных уравнений, возникших в связи с календарно-астрономическими задачами, в которых надо было определить периоды повторения одинаковых относительных положений небесных светиле различными временами обращения. В отличие от Диофанта, искавшего только рациональные решения, индийцы дали способ решения неопределенных уравнений в целых положительных числах. Решение в целых числах неопределенного уравнения первой степени с двумя неизвестными приводит уже Ариабхата, но более подробно оно изложено у Брахмагупты.
Вершиной достижений в теории чисел является решение в целых положительных числах общего неопределенного уравнения второй степени с двумя неизвестными ах2-\-Ь=у2 и его важного частного случая a.r24-l=i/2, где а целое неквадратпое число. Это уравнение имеет бесчисленное множество решений, но индийские математики обычно ограничивались нахождением одного из них
172
А. И. Володарский
Впрочем, более поздние ученые располагали правилами, согласно которым по одному решению можно получить другие [Юшкевич, с. 147—149].
Значительными были достижения в медицине, химии, металлургии.
Медицина. Врачебное искусство — Аюрведа (паука о долгой жизни) высоко ценилось.
Самые ранпис из дошедших до пас трактатов по медицине — «Чарака-самхита» и «Сушрута-самхита». Индийские медики знали множество болезней и умели определять их симптомы по температуре тела, цвету кожи и т. д. Врачи хорошо знали большое число растительных, животных и минеральных лекарств.
Выдающимися операциями прославились индийские хирурги, особенно при лечении ран, опухолей, извлечении из ран стрел. Они применяли кесарево сечение, удаляли катаракты, умели ампутировать конечности и лечить переломы костей, делать трепанации черепа. Достижения древних индийцев в пластических операциях лица (восстановление правильной формы искалеченных увечьем поса и губ) не были превзойдены европейской медициной до начала XVIII в.
С развитием медицины в Индии теспо связаны накопление и систематизация эмпирических знаний в других областях естественных паук. Появились специальные трактаты по уходу за лошадьми и слонами и их лечению, классификации растепий и животных, а также минералов, поскольку последние имели лекарственное значение. Однако эги классификации были лишь зачатками ботаники, зоологии и минералогии: не будучи подкреплены обпщми теоретическими положениями, фактические зпапия, зачастую весьма обширные, не превратились в то время в самостоятельные науки.
Химия. Химия, по существу, выросла из фармакологии, и первые описания химических процессов встречаются в разделах, посвященных приготовлению лекарств. Помимо медицины, источником химических знаний была техника приготовления парфюмерии, красок, стали, цемента, достигшая очень высокого уровня в древней Индии.
К V в. относятся первые сочинения, носвящеппые непосредственно проблемам химической и алхимической теории и практики. Из поздних сочинений наиболее зна-
Отдельные отрасли navitn в древней Индии 173
-----------------------------------------------------
читальными представляются труды, где приводится клас-< ификация веществ минерального п органического происхождения, даются описания различных химических процессов и аппаратуры, руководства по применению тех или иных реактивов. Способ получения некоторых веществ (в частности, ляписа) был известен индийской химии задолго до того, как его узнала европейская паука.
Строительство крупных зданпй, кораблей, плотин предполагает хорошие знания в области механики, гидростатики, сопротивления материалов; изготовление разнообразных музыкальных инструментов было бы невозможно без серьезных познапий в области акустики.
Металлургия. Замечательные успехи в металлургии свидетельствуют об определенных знаниях в области состава руд, подготовки металлургического сырья и топлива . введения процесса плавки и последующей обработки. Создание Делийской колонны (около 400 г. н. э.), состоящей почти пз чистого железа, — лучшее тому доказательство. Древние мастера зпалп множество сплавов цветных металлов, химических составов, используемых при пайке в ювелирном деле, при обработке кож. Они умели изготовлять прочный цемент, разнообразные стойкоминеральные и растительные красители, использовавшиеся в живописи и текстильном производстве.
Научные связи и влияние
В индийской науке, особенно в астрономии и математике, паряду с большим оригинальным вкладом местных ученых, можно отыскать следы вавилонского и греческого влияния. В свою очередь, индийская наука оказала значительное воздействие на науку Китая, арабоязычных страп и Европы. Через ученых стран ислама ряд первоклассных достижений индийской науки стал достоянием европейцев и вошел в золотой фонд мировой научной мысли. Другие достижения индийцев, которые стали доступными европейским ученым лишь в новое время, подтвердили высокий уровень индийской науки.
Свидетельства вавилонского влияния в астрономии можно найти в’вПанча-сиддхантике» Варахамихиры, заимствовавшего некоторые идеи теории чланет и'ряд числовых параметров из клинописных текстов. Так, Вчрахамюира
174
А. И. Володарский
/ приводит значения синодических периодов Сатурна и Юпитера и синодической дуги Венеры, в точности совпадающие с вавилонскими В астрологическом трактате «Явана-джа-така» (III в. н. э.) употребляются вавплопские линейные методы вычисления некоторых астрономических параметров.
Определенное влияние на индийскую астрономию оказала греческая наука. Индийские ученые заимствовали ряд греческих астрономических терминов — липта (минута), хора (час, гороскоп), джьямитра (хорда). В своем астрологическом сочинении «Брихат-джатака» Варахамихпра приводит названия знаков зодиака, которые также заимствованы пз греческого языка [Pingree, р. 538—554].
Хотя толчком для развития некоторых разделов астрономии и математики служили вавилонские и греческие идеи, индийцы не просто слепо копировали их, а подвергали значительной и совершенно независимой переработав, как в отношении общей теории, так и в отношении значений ряда числовых констант. Сравнение дошедшего до пас текста «Сурьи-сиддханты», который датируется X в., и изложение этого трактата Варахамихирой в «Панча-сидд-хаптике» наглядно показывает, что переработка и модификация продолжалась на протяжении многих веков. В ряде случаев, например в тригонометрии, индийцы, основываясь на греческих идеях, осуществили принципиально новые качественные преобразования, послужившие началом тригонометрии как учения о тригонометрических величинах.
Проникновение индийских астрономических и математических идей в Китай относится ко времени распространения в Китае буддизма. В VI—VII вв. с санскрита на древнекитайский язык были переведены некоторые астрономические сиддханты; в VIII в. на древнекитайский — трактат об индийском календаре. В это же время в китайской астрономической литературе появплпсь сведения об индийской теории планет и теории затмений.
Широкое знакомство ученых стран ислама с индийской астрономией и математикой началось во второй половине. VIII в., когда на арабский язык перевели с некоторыми сокращениями и изменениями трактат Брахмагупты «Брах-ма-спхута-сиддханта». Перевод £был выполнен в традиционной арабской форме в виде таблиц — зиджа с необхо-
Отдельные отрасли ватап в древней Индии 175
димыми пояснениями ч рекомендациями, он получил название «Большой СиндУипд», в отличие от других обработок трактата Брахмагупты. Этот зпдж был чрезвычайно популярен средн арабояздгчпых ученых, долгое время он был основным руководством по астрономии; когда в мусульманских странах получили дальнейшее развитие идеи Птолемея и других эллинистических ученых, даже тогда традиции «Синдхипда» продолжали существовать.
Одновременно на арабский язык был переведен второй трактат Брахмагупты «Кхандакхадьяка», получивший название «Арканд». Эта работа, хотя и уступала в своей популярности «Синдхипду», однако и .она способствовала в доптолемесвский период развития арабской астрономии проникновению в среду астрономов стран ислама многих индийских представлений.
В конце VIII в. па арабский язык был переведен трактат Ариабхаты, получивший название Зидж ал-Арджаб-хар. Тогда же на арабском языке стали появляться оригинальные трактаты, основанные па сведениях, полученных от индийских ученых. IX век для индийско-арабских связей знаменовался усилением влияния индийской математики, тогда как астрономические связи уступают место традициям Птолемея. Огромный вклад в распространение позиционной десятичной системы счисления внес ал-Хо-резми, автор трактата «Об индийском счете».
Огромную роль в пропаганде индийских научных знаний в среде арабоязычпых ученых сыграл Бируни (973— 1048). Интересно отметить, что некоторые греческие идеи, появившиеся в трактатах Варахамихпры, через Бируии стали достоянием ученых стран ислама.
Историки наукп обычно указывают на прямые переводы на арабский язык научных сочинений непосредственно с греческого оригинала. Но существовал еще один путь передачи эллинистических знаний ученым стран ислама — через индийскую науку. Этот путь был длительным, по, безусловно, весьма плодотворным: индийские ученые активно развивали заимствованное, и позднее обогащенные ими идеи становились достоянием мировой пауки.
176
А. И. Володарский
Литература к статье
Бонгаро-Левин Г. М , Ильин Г. Ф. Древпяя Индия: Пет. очерк. М : Наука, 1969. 736 с.
Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация: Философия, наука, религия. М.: Паука, 1980. 334 с.
Володарский А. И. Очерки истории средневековой индийской математики. М.: Наука, 1977. 183 с.
Володарский А. И. Математические знания в эпоху Хараппской культуры (на материале раскопок в Лотхале). — В кн.: Санскрит и древнеиндийская культура. М.: Наука, 1979, ч. I, с. 105—113.
Волчок Б. Я. К интерпретации некоторых протоиндийских изображений. — В кп.: Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. М.: Наука, 1970, с. 16—42.
Волчок Б. Я. Протоиндийские божества. — В кн.: Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. М.: Наука, 1972, с. 246—304.
Волчок Б. Я. Традиции протоиндийского календаря и хронологии В индийской культуре. — В кн.: Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. М.: Наука, 1975, с. 16—51.
Кнорозов 10. В. Формальное описание протоиндийских изображений. — В кн.: Сообщение об исследовапип протоиндийских текстов. М.: Наука, 1972, с. 178—245.
Кнорозов 10. В. Классификация протоиндийских надписей. — В кн.: Сообщение об исследованиях протоиндийских текстов. М.: Наука, 1975, с. 4—15.
Луния Б. Я. История индийской культуры < древппх веков до наших дней: Пер. с англ. М.: Изд-во иностр, лит., 1960. 567 с.
Маккей Э. Древнейшая культура долины Инда: Пер. с англ. М.: Изд-во иностр, лит., 1951. 143 с.
Ткаченко В. И., Володарский А. И. Естественные п технические науки Индии. — В кн.: ВСЭ. 3-е изд., 1972, т. 10, с. 219—221.
Юшкевич А. И. История математики в средние века. М.: Физмат-гиз, 1961. 448 с.
Asfaque S. М. Astronomy in the Indus valley civilization. — Centaurus, 1977, vol. 21, N 2, p. 149—193.
A concise history of science in India/Ed. D. M. Bose, et al. Dehli, 1971. 690 p.
Parpola A. Harappan roots of ancient Indian astronomy and cosmic speculation. — In: Abstracts of papers of 29 Intern. Congr. of orientalists, Paris, Sect. 6—7. 1973. P., 1973, p. 76.
Parpola A. Fran indusrcligion till Veda. Kopenhavn, 1980. 94 p.
Pingree D. History of mathematical astronomy in India. — In: Dictionary of scientific biography. N. Y., 1978, vol. XV, p. 533— 633.
Rao S. R. Lothal and the Indus civilization. Bombay, 1973. 215 p.
Van der Waerd'n B. L. On рге-Babylonian mathematics. — Arch. Hist. Exact Sci., 1980, vol. 23, pt I, p. 1—25; pt II, p. 26—46.
Отдельные отрасли паузи в дрсвп.й Индии
177
Литература к теме >
БонгарО Левин Г. М., Г'ранкповский Э. А. От Скифии до Индии. М.: Мысль, 1974. 126 с.
Бэшем А . Чудо, которым была Индия: Пер. с апгл. М.: Наука, 1977. 616 с.
Володарский А. И. Ариабхата. М.: Паука, 1977. 112 с.
История математики с древнейшпл. времен до начала XIX столетня/ Под род. А. П. Юшкевича. М.: Наука, 1970. Т. 1. 351 с.
Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии: Пер. с англ.
М.: Прогресс, 1968. 216 с.
Культура древней Индии. М.: Наука, 1975. 430 с.
Санскрит и древнеиндийская культура. М.: Наука, 1979. Ч. I. 265 с.
Ч. 2. 251 с.
Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. М.. Паука, 1970. 106 с.
Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. М.: Наука, 1972. 378 с.
Сообщение об псследованпи протоиндийских текстов. М.: Наука, 1975. 76 с.
Bag А. К. Mathematics in ancient and medieval India. Delhi, 1979. 344 p.
Michaels A. Beweisverfahren in der vedischen Sakralgeometrie. Wiesbaden, 197’8. 209 p.
Sarasvatl Атта T. A. Geometry in ancient and medieval India.
Delhi, 1979. 280 p.
Somayajl D. A. A critical study of the ancient Hindu astronomy.
Dharwar, 1971. 186 p.
Э. И. Березкина ,
О зарождении естественнонаучных знаний в древнем Китае
Пытаясь обнаружить истоки знаний, мы обращаемся к самым древним письменным памятникам. В древнем Китае это тексты эпохи Инь, которую по традиционной хронологии относят к XVIII—XII вв. до п. э. (Радио-карбоппые даты 2500—1000 гг. до п. э.) [Кучера, 1977]. Сами тексты, до нас дошедшие, принадлежат XIV в. до и. з. Ни от времени легендарного Хуаидп (XXVI в. до н. э.), первого Желтого императора на Желтой реке, ни от мифической династии Ся (111 тыс. до п. э.), предшествующей эпохе Инь, текстов пока нет. Пет и упоминаний в них о циских ванах, список которых дан в «Исторических записках» («Ши цзп») Сыма Цяня (145—86 гг. до и. э.), хотя перечисленные у пего же ппьские ваны подтверждены текстами. Правда, иньские падипси на костях животных и черепашьих панцирях имели ограниченное применение и найдены были в одпом месте.
Исследования многочисленных иньских текстов позволяют судить о представлениях древними ипьцами окружающего их мира. Это касается ориентации по странам света, исчисления времени, изобретения способов фиксирования счета, письменности и др. Заметим, что настоящая статья пе претендует па полное изложение этого вопроса, по представляет попытку осветить этот вопрос в некоторой степени, уделяя внимание развитию математики как элементу синкретического древнего знания.
Эпоха Инь является периодом, для которого археологический материал служпт весьма значительным подкреплением к письменному. Сведения, извлекаемые из письменны к источников, содержат мифы, легенды п отразившееся в них миропонимание древних; это с одной стороны. С другой стороны, предметы материальной культуры, добытые археологами, и их трактовка современными исследователями позволяют по-новому оцепить историю древней культуры.
О зарождепип естественНидаучпых знаний в древнем Китае 179
В связи с широким обсуждением в последние десятилетия вопроса о прародине гомо сапиенса и автохтонпости развития культуры, большинством исследователей, в том числе советских, признана автохтонпость в развитии древнекитайского этноса, иероглифического языка и культуры, по крайней мере со времен поздпего палеолита [Крюков, Софронов, Чебоксаров, 1978]. Е. Пулибленк (1975), Б. Л. ван дер Варден (1980) в поисках праязыка и праматематики утверждают, что истоки культуры из едипого более древнего центра надо искать на севере Европы.
Благодаря интенсивным археологическим работам, проводимым последние десятилетия на территории Китая, выяснспо, что Центральная равнина была населена и антропоидами (досапиентными коллективами), и архан-тропеми (синантропы Ланьтяня, Юаньмоу, Пекина) около 500 тыс. лет до п. э., и палеоантропами (Хэтао, или Ордос, Маба, Чапъяп, Динцунь) около 50 тыс. лет до н. э., и неоантропами (Шаньдиндун, Люцзяп, Лайбипь) около 5 тыс. лет до н. э. Исследования неолитической культуры керамики Яншао (IV—II тыс. до п. э.) показали, что гопчярное производство прошло песколько этапов развития от самого еще «допачалыюго» времени красной необожжеппой керамики без орнамента, найденной на юге Китая, до разнообразной по форме и совершенной по пропорциональности н очертаниям, со сложными геометрическими и налеппыми узорами крашеной керамики из бассейна среднего течения р. Хуанхэ [Кашина, 1977]. Эта культура распространилась по долппе реки, вверх и вниз по ее течению. Она была не единственной и имела варианты. Здесь нам важно подчеркнуть, что при все большем развитии искусства украшать керамические изделия происходил процесс абстрагирования цветочного или зооморфного орнамента и получался «геометрический» рисунок, содержащий спирали, параллельные линии, ромбы, квадраты и треугольники с последовательно расположенными точками-вмятинами, составляющими ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, иногда с пропускамп. При современной трактовке искусства древних эпох, когда произошло такое «удревнение» истории человечества, формирование первоначальных понятий числа ученые относят к палеолиту, наделяя удивительным талантом наших
180
/
Э. И. Березкина
далеких предков [Фролов, 1965]. Возможно, что элементы геометрического орнамента также символизировали силы природы и космические ритмы. Ритмы древпее образов как в сознапии, так и в искусстве, и, может быть, именно от этих схематических обозначений проистекают начальные знаки, приведшие впоследствии к письменным знакам. Б. А. Фролов [1981], со ссылкой на А. Леруа-Гурана, отмечает, однако, что условность и схематизм свойственны предметам кратковременного пользования, тогда как предметы длительного пользования снабжены орнаментами реалистического изображения. Каков бы пи был смысл изображений, манипуляции с достаточно отвлеченными линиями и количествами давали возможность древним людям выражать своп представления о закономерностях реального мира.
Решая вопросы об истоках культурного развития этой части земного шара, пе следует забывать, что «культура любой человеческой группы — чрезвычайно подвижное явление, подверженное самым разнообразным влияниям и легко изменяющееся во времени» [Алексеев, 1979, с. 57-58].
В процессе многих тысячелетий в бассейне р. Хуанхэ происходили взаимодействия монголоидных популяций, в этом процессе гораздо меньшее участие принимали австралоидные популяции и совсем незначительно европеоидные. Южные монголоиды на годились в большем контакте с австралоидами и полинезийцами. На северо-востоке в этом взаимодействии принимали участие монголоиды Центральной Азии и Сибири. Все эти взаимодействия дали основу, на которой лишь к середине I тыс. до и. э. сложился древнекитайский этнос «хуася». В более обозримом для Иньской эпохи времени, в V тыс. до н. э., миграция началась с юга Китая вдоль р. Цзя-липцзян через хр. Ципьлип в долину р. Вэйхэ, нрп этом местное население было ассимилировано. Племена занимались пойменным земледелием. Говорили они на сино-тибетских языках. Проведенные раскопки обнаружили культуру бапьпо как локальный вариант культуры ян-шао. Представлены реконструкции как облика человека бапьпо, так и иггьца [Крюков, Софропов, Чебоксаров, 1978].
В IV тыс. до н. э. эта культура «растекается»- одна
О зарождении сстествейпопач чпых знаний в дровнем Китае 181
группа населения ушла на восток, другая на запад. На востоке на основе взаимодействия культуры мяодигоу (производной от баньпо) о культурой циньванчжай (луп-шань) возникает интересующее пас раннегосударственное образование Инь (II тыс. до п. э.). На западе в верховьях Хуанхэ в III тыс. до н. э. бытовала культура мацзяяо, что и составило основу для развития некитайского племени жуп. Оттуда же пришло племя чжоу, чтобы покорить великий город Шан, столицу Иньского государства, и основать свою династию в XII—XI вв. до н. а. Обратимся к преданию: племя шапцев окончательно поселилось здесь при Папь Гэю (XVIII в. до н. э.), построило г. Шап. Иньское государство процветало в точение 300 лет вплоть до чжоусского завоевания. Именно здесь при раскопках г. Шан (д. Сяотунь уезда Апьяп пров. Хэпапь) только в 1973 г. было открыто 5 тыс. надписей на костях и щитках черепах. Первая падпись была обнаружена в 1899 г., и за 50 л«т стало известно около 100 тыс. фрагментов, из которых 25 тыс. извлечены при раскопках. За это время усилиями примерно 300 ученых, написавших в общей сложности 1200 работ, опубликована 41 тыс. фрагментов гадальных надписей и дешифрована 1 тыс. знаков. К этим фрагментам относят более 2 тыс. инскрипций на бронзовых сосудах, в которых есть знаки, отсутствующие в надписях на костях и щнтках. Кости были предварительно расколоты на пластинки и обточены в виде овала. Фразы, обращенные к оракулу, вырезались па лицевой сторопе, а на обратной в выдолбленной ямке сжигали ритуальные травы или прикладывали раскаленную бронзу. По образовавшимся трещинам судили о плохих или хороших предзнаменованиях Зачатки скапулимаптии (кости для обжига без записей) были обнаружены археологами при раскопках культуры типа луншапь (2-я половина III тыс. до и. э.), а также культуры цицзя (XVIII в. до н. э.), для которой характерно применение металла (чистой меди). Кости культуры цицзя, в отличие от костей культуры типа луншань, без признаков долбления и сверления [Кучера, 19771.
Ипьскпе знаки — прообразы современных, большая часть из них пиктограммы. Однако есть идеограммы, служебные морфемы, предлоги и др. Знаки обладают палеографическим признаком: нестандартностью. Сама форма
1Я2 Э. И. Березкина
--------------------------------------------------™
записи изменялась то ли в связи с различием стилей, то ли в связи со старой и повой школами записи. Это из результатов исследований археологических данных. Теперь послушаем легенду. В глубокой древности мифические Фу Си и Шэпь Пуп пользовались узелками и триграммами. Придворный историограф легендарного Хуанди Ban Цзе придумал иероглифическую письменность современного вида, «вэнь» (узор, орнамент, рисунок). Позже появились иероглифы «цзы», что означает «производный», «рожденный» и указывает на их относительную сложность, когда от простых знаков переходили к сложным, вводили фонетики и т. д. Ко времени же Ху-аидн предания относили введение девяти цифр десятичного счета. Этим занимался Ли Шоу, «министр» при Ху-апди, выполнивший миссию, аналогичную эсхиловскому Прометею: «. . .Выдумал науку чисел, из паук важнейшую. . .» [Эсхпл, 1956, с. 361. Обычная персонификация, проводимая древними народами, п в пой отражено древнее происхождение счета и письменности. Однако в свете новых археологических данных и их исследований эти сообщения приобретают весьма глубокий смысл. Относительно «узелкового ппсьма» следует думать, что речь шла о фиксировании результатов счета с помощью узелков на шнурках или веревках, подобно тому как это делали ипкп со своими разноцветными кипу. В Тибете и на островах Рюкю такой способ существовал еще в нашем столетии. К такому же древнему способу хранить информацию о счете относятся зарубки на дереве, и, возможно, первые три китайские цифры имеют подобное происхождение. Становится понятным смысл фразы: «В глубокой древности пользовались узелками на веревках "и управляли государством, а впоследствии мудрецы заменили их зарубками на дереве». Эта фраза взята из комментария «Си цы чжуань» к известной «Книге перемен» («II цзнп»), составленной примерно в VIII—VII вв. до н. э. [Ли Япь, 1955, с. 11. Возможно, в термине «узорчатое письмо», изобретенном согласно преданию до иероглифов «цзы», отражен тот факт, что первые письменные знаки произошли от узоров па керамике. С. Кучера (1977, с. 84), указывая на работу Юй Сину (1973), излагает, что цифры 5, 7, 10, 20 и некоторые иероглифы можно рассмотреть в начертаниях на керамике культуры баньпо. Весьма
О зарождений естественнонаучных знаний в древнем Китае 183 . = = ,
вероятно, что цифры появились раньше, чем другие знаки. Советский исследователь клпноииси А. А. Вайман, с выводом которого согласен Б. А. Фролов (1981), выяснил, что протошумерскпе цифры составлены из малых и больших полуовалов и кружков, по-видимому символизирующих месяц и солпце. В гипотезе А. А. Серкиной (1973) о происхождении иньской 60-рпчной циклической системы счисления дней также применялись знаки «луп» и «солнц» — десятичный и двенадцатиричный ряды циклических знаков, восходящих к табупстическим именам. При свершении обряда плодородия как магического действа, стимулирующего производительные силы природы, возникали брачные союзы племен, и табуистические имена — циклические знаки — стали получать мужчины, тогда как раньше их имели только женщины. В иньском календаре основной единицей исчисления времени была декада, дни которой обозначали двумя знаками десятичного и двенадцатиричного циклов. Месяцы состояли из 30 дней. На весну и осень приходились различные знаки, поэтому сначала применялся описательный способ обозначения декад и времен года с указанием па обычаи (охоту, ритуалы, другие занятия). С возрастанием роли сельскохозяйственных работ появились понятия календарного месяца и года. Ввели вставочные дни, «малые» месяцы стали но 29 дней, «большие» по 30 дней. И от лунного года, которым пользовались в палеолите [Фролов, 19811, перешли к солнечному, равному 365 суткам. Астрономические наблюдения с помощью самых простых инструментов сводились к определению середины лета по прохождению звезды Дахо (а Скорпиона, или Антареса) через меридиап сразу после заката солнца. Середина зимы определялась по звезде Цап, появлявшейся сразу после захода солнца на востоке неба.
Эти фактические данные предстают в облике легенды следующим образом. Мифический Яо разослал братьев Си и братьев Хэ по странам света, чтобы они наблюдали восход звезд Няо (а Гпдры,) Сю (е Водолея), Хо (л Скорпиона), Мао (п Тельца) для определения дней весеннего и осеннего равноденствий и летнего и зимнего солнцестояний. Так записано в гл. «Яоцзянь» книги «Шу цзин», там же указана продолжительность года, равная 365 дням.
184
/
Э. И. Березкина
Система счислеиия дней не быта связана с общей системой счисления, которая образовалась в эпоху Ипь и просуществовала вплоть до наших дней. Иньцы вели счет десятками и только в пределах первого класса, содержащего четыре разряда. Самое бол ыпое число, встретившееся па костях, — 3 вайя. Среди записей чисел много кратпых 10 и его степеням: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 3000, 4000, 5000, 8000, 10 000, 30 000. Такой групповой счет (счет десятками) может привести к выработке мультипликативного принципа записи чисел, от которого, в свою очередь, возможно перейти к позиционному принципу, используемому современной системой счисления. В эпоху Инь сформировался мультипликативный принцип числовой записи. Забегая вперед, отметим, что от него действительно в дальнейшем перешли к позиционной десятичной системе с тем отличием от современной, что знак нуля введен не был, поскольку позиционность осуществлялась на счетной доске, применявшейся для производства вычислений приблизительно с середины I тыс. до н. э. На доске пустая клетка играла роль нуля. Запись чисел в текстах (условиях задач, ответах) осуществлялась по именованной позиционной системе, т. е. в силу снова вступал мультипликативный принцип.
Представим себе на несколько минут древнего жителя эпохи Инь, которому требуется, например, пересчитать какие-нибудь плоды. Ведя счет десятками, ради удобства счетчик из каждых десяти плодов составляет кучку. Кшда таких кучек наберется 10, все плоды, а их 100, инец соберет в одну кучу. В свою очередь, каждые 10 таких куч образуют груду, в которой 1000 плодов. 10 таких груд составят, наконец, огромную кучу, больше которой или больше нескольких таких куч практически ничего быть не может. В сознании счетчика каждой куче плодов, различающихся на глаз, соответствует свое число и свое «имя»: 10, 100, 1000, 10 000 — десяток, сотня, тысяча, вань. Но пока он воспринимает эти кучи как совокупность плодов (числа), нежели как новые разрядные единицы (имена). Вот если бы каждой куче плодов счетчик поставил в соответствие какой-либо цветной шар, например 10 плодам — красный, тогда 100 плодов превратились в совокупность 10 красных шаров. Пусть кучу из
О зарождении остоствениинаучпых знаний в древнем Китае 185
100 плодов представили зеленым шаром, тогда 1000 плодов отождествились бы с зелеными шарами. Белый шар обозначал бы 1000 плодов, а черный — 10 белых шаров, т. е. 10 000 плодов. В этом случае красный, зеленый, белый, черный шары и есть числа-совокупности в своем новом качестве: в качестве разрядов. Каждый из них пе столько обозначает определенное число-груду из 10, 102, 103, 104 плодов, сколько новую единицу, разряд числа (имя или цвет). В таких обозначениях числа (в пределах десяти шаров одного цвета) и будут символизировать кучи соответствующего размера.
Мы показали формирование мультипликативного принципа (введение цветных шаров). В записи производных чисел, таких, как И, 12, 13, 14, 15, 25, 33 , 37 , 41, 56, 157, 164, 199, 299, 348, 350, 659, 2626, 13 081, употреблялся союз «и» и составные иероглифы, аналогичные сложным словам в нашей устной нумерации (ср. «пятьдесят» вместо «пять десятков»). Два этих признака показывают, что принцип осваивался постепенно и требовался для письменной системы счисления, тогда как союз «и»”еще долгое время сохранялся в устной речи.
Дальнейшее развитие система счисления получила в эпоху Чжоу и Хань, когда был полностью освоен способ построения как больших разрядов, так и разрядов десятичной дроби. Система счисления оказала влияние на унификацию системы мер, проводимую реформами Шан Яна и Цинь Шпхауна в царстве Цииь и на территории всего Китая в IV, III вв. до н. э. Но и унификация мер оказала свое воздействие па дальнейшее развитие системы счисления [Березкпна, с. 82, НО и сл.].
Кроме системы счисления и календаря, в эпоху Инь накапливались математические знания, необходимые для решения практических задач, связанных со строительством храмов, дворцов, зернохранилищ, учетом зерна, натуральным обменом, измерением пахотных полей. Ориентация по странам света имела существенное значение не только для определения местоположения людей, но находила приложение в устройстве жилищ, при постройке города (в буквальном смысле слова), в заупокойном культе.
Здесь мы воспользуемся как источниками двумя «Математикой в девяти книгах» (II в. до и. э.) и «Математи
186
Э. И. Березкина
ческим трактатом о чжоу-би» (III в. до н. э. и, возможно, рапее), в которые наряду с мате риалом, современным составителям этих трактатов, вошел архаический, правда обработанный ими, но все же сохранивший свою изначальную сущность.
По всей видимости, одними из первых были задачи, связаппые с обменом, породившим понятие коэффпцп еита пропорциональности. Это понятие было одним из основных понятий древней математики. Нет ничего удивительного что наиболее абстрактные знания, относящиеся к области математики, весьма идентичны у древних народов: в начальный период развития человеческого общества, где бы оно пи происходило, законы развития науки «от нуля» были одинаковыми. Всем нужны были правила вычисления площадей полей, все сталкивались с вычислением длины окружности (обхват), всем требовался равноценный обмен одних предметов па другие, всегда полагалось произвести расчет объема земляных строительных работ. Все эти практические нужды давали материал для постановки математических задач, которые па первых этапах развития знания порождали сравнительно идентичные методы их решения, хотя и по внешнему оформлению методы могли казаться непохожими. В этом отношении много общего в размышлениях древнего математика, в его подходе к решению проблем, независимо от того, где он жил: в древнем ли Египте, в древнем ли Вавилоне, в Индии или в Китае. И даже Греция, которая стоит особо в истории пауки, своими истоками знаний уходит в восточные цивилизации.
Количественному обмену согласно «стоимости» меняемых предметов предшествовал обмен качественный, как это исторически засвидетельствовано, вполш удовлетворявший первобытное общество. В связи с имущественным расслоением, характерным для Иньского государства, потребовался более точный обмен в соответствии с «ценой» предметов. Однако эквивалента в виде денег еще пе было, вместо них употреблялось зерно, кожа, шелк, раковины каури и т. п.; в соответствие им ставилась «норма», коэффициент, отвлеченное число, всегда отличавшееся у древппх от именованного. В Китае это «люй» в отлпчпе от «Biy». Каждому предмету в зависимости от его цсниостп назначали коэффициент, который мог быть и дробным.
О зарождении естсствеппопаучиыт знаний в древнем Китае 18'«
Правда, на этом этане развития знания дробей в современном понимании не было. «Половина» мыслилась также просто числом, подобным, например, половине яблока, воспринимаемым нами в качестве некоего предмета, отличного от целого яблока, но, вообще говоря, все равно яблока.
Таблица соответствий для натурального обмена помещена в «Математике в девяти книгах» (с. 447). «Основной пормой» является просо, су (чумпза), а пе рис.
Отмечено, что пньцы, занимаясь земледелием, выращивали наряду с чумизой как основной культурой еще и рис, умелп делать из зерна вино и разводили шелковичных червей. Здесь указано четыре вида обработанного проса, а также эти же виды вареного пшена, указаны два вида крупы из шпенпцы, рис неочищенный (всего один раз), бобы сухие п вареные, при этом бобы приравниваются гороху, кунжуту и пшенице, и, наконец, хмель, кстати самый «дешевый». Если «основная норма» равна 50 (по не 100, и тогда бы избежали дробпыт коэффициентов!), то хмель 175.
Для развития математики эти задачи послужили хорошим стимулом для дальнейшего развития пропорций, пропорционального деления, вообще пропорциональной зависимости, на основе которой решался большой класс задач и был выработан ряд методов [Березкина, с. 139 и след. 1.
Современный городской житель совершенно индифферентен по отношению к ориентации по странам света. Для древнего жителя планеты ориентация имела огромное значение. В пньских текстах иероглиф «фан», сторона, обозначал племена, которые и различались как западное, восточное и т. п. Термин весьма многозначен и вошел в древнекитайскую математику, получив также емкое значение: сторона, прямоугольник, квадрат (как геометрическая фигура, так и степень числа) п составная часть более сложных терминов, касающихся извлечения корней, и т. д.
Ориентация по странам света была настолько прочной традицией с самых далеких времен, что опа осталась и в более поздних текстах. В формулировках задач, как правило, составителю «Математики» было достаточно указать: «имеется город» (с. 511) или «имеется поле»
188
Э. И. Берсзкипа
(с. 439 и след.), и из контекста было ясно, что речь идет о прямоугольнике или квадрате с заданной или неизвестной стороной. В задачах на «город» упоминаются южные ворота, указывается, в каком направлении идет пешеход от названных ворот, как площадь прямоугольного города задается линейными размерами в виде числа «ли», которые насчитывают «с востока на запад» и «с юга па север», хотя для «полей» было принято указывать «длину» и «ширину».
Неразличение прямоугольника и квадрата проистекало из принципа древней классификации фигур, который можно реконструировать на основе анализа текста «Математики в девяти книгах». Начинается трактате книги об измерении полей («Фан тянь»), В синологической историко-философской и филологической литературе иногда касаются вопросов, связанных с историей математики Китая, и потому остановимся подробнее на задачах об измерении полей. Первая задача «Математики в девяти книгах» устанавливает единицу площади 1 му, употреблявшуюся па протяжении всей истории Китая. «Имеется поле шириной в 15 бу, длиной в 16 бу. Спрашивается, каково поле? Ответ: 1 му» (с. 439). Единица измерения площадей пеквадратна! Здесь употреблен термин «тянь», поле, обозначавший в древнекитайской математике плоскую фигуру вообще и в данном случае поле в виде прямоугольника. Квадрат рассматривался как частный случай прямоугольника. Поля другой формы: треугольные, трапециевидные, круглые — имели аттрибутив: «косое поле», «круглое поле», «поле в виде совка» и т. п. Термина «сторона» не было. Для пространственных тел также употреблялись соответственно «ширина», «длина», «высота» или «глубина». Последние слова позволяют суди гь о характере сооружения: наземное ли оно (стена, плотппа), или речь идет о канале, яме для зерна и т. п.
И только позже в «Математическом трактате пяти ведомств» (V в. н. э.), практическом руководстве для чиновников, вводится четкое различие для квадратных и прямоугольны < полей, это поля «фан тянь» и «чжи тянь». По-видимому, в этом была необходимость. А в той же книге «Измерение полей», где определена мера площади, равная 1 му, в задаче 3 квадратная мора, равная 1 кв. ли, не определяется. Это обычная задача: «Имеется поле
О зарождении сстоствснпопаучпых зпапий в дровпем Китае 189
шириной в 1 ли, длиной в 1 ли. Спрашивается, каково поле? Ответ: 3 ципа 75 му». Здесь пот указания, что поле отлично от поля первой задачи, пет указания, что получается площадь в 1 кв. ли, а результат вычисления переводят согласно приведенному здесь же правилу в установленные единицы «му» и производную от пее единицу «цип», равную 100 му. Древние единицы как площади, так и объема вообще не содержали указания на размерность, которая лишь подразумевалась. Был общим даже термин «цзи» (груда, куча, скопление) для и площади и объема, и он указывал на «вычислительное» происхождение этих попятий. Первоначально задачи на объем были связаны с расчетом рабочей силы при строительстве сооружений. Книга V «Математики в девяти книгах» так и называется «Оценка работ» и начинается задачами, содержащими расчеты, ведущиеся при строительстве каналов, дамб, плотин, стен. Дальнейшие задачи книги более абстрактного содержания. Такого рода построение книг «Математики» выдержано во всех первых шести ее частях. К первым задачам, которые соответствовали указанной в заглавии тематике, в дальнейшем присоединялись математические задачи, общие с первыми не по теме, а по методу решения.
Ориентация измерителя относительно поля имела определяющее значение для выработки принципа древпей классификации геометрических фигур. В каком положении находилось поле относительно измерителя, так оно и определялось. Для трапеции указаны два вида расположения, когда параллельные стороны горизонтальны, когда опи вертикальны. И еще был выделен случай трапеции, сильно вытянутой, напоминающей совок, возможно, с равными боковыми сторонами. Аналогично и для других «полей». Ориентирование фигур необходимо было для того, чтобы применить правило вычисления площадей, оперирующих понятиями вертикальной «длины» и горизонтальной «ширпны», т. е. свести задачу к нахождению числа единиц площади или к ректапгулированию (а не квадрированпю!). [Более подробно — Березкина, 1980, с. 240 и сл.]. j *
Чжоусская династия (XII, XI—III вв. до н. з.) была не только преемницей иньской культуры, но и сама внесла достойную лепту в ее развитие. Чжоусцы переняли тех-
190
Э. tl. Березкппй
пику бронзолитейного производства изготовления колесниц, гончарное же производство не изменилось. В области духовной они пе утратили иньской письменности, хотя, ио-видимому, у них были и свои письменные знаки, но развили ее, значительно продвинув вперед. Из сакральной она стала гражданской. Научные знания значительно обогатились и дифференцировались. В хорошо известный в истории Китая период конца эпохи Чупьцю («Веспы и осени») и Чжаиьго («Воюющих царств») VI— III в. до и. э. появились специалисты как в области политики и военного дела, так и в области календарного дела, искусства вычислений, искусства врачевапия, знатоки трав, гор и морей, общих законов развития, великого Дао («Пути») и т. д. В современном понимании речь идет о древней классификации наук: астрономии, математики, медицины, ботаники, географии, логики и философии и т. д. Оформление наук из синкретического знания рассмотрим па примере древней астрономии; посмотрим, какой большой пробег в своем развитии получили представления человека о мире, преодолев расстояние от мифа до научного зпапия.
Согласно традиции, конфуцианцы многпе достижения приписывали Чжоугун Даню, в отличие от даосов, почитавших Хуанди и приписывавших ему и его чиновникам добрые дела. Чжоугун установил этикет и музыку, распорядился составить учебники, в том числе и «Девять книг» («Цзю чжан») по математике. Однако в отличие от Хуаиди Чжоугун был вполпе исторической личностью: будучи братом основателя Чжоусской династии Вэнь-вана, он был регентом при малолетнем наследнике Чэн-ване (1115 до н. э.). В «Математическом трактате о чжоу-би» (о гномоне), составленном в конце правления династии и прокомментированного Чжао Цзюньцииом в III в. н. э., описан диалог Чжоугуна с сановником Шан Гао, «искусным в вычислениях», о сущности математики и астрономии. В ответ на вопрос правителя об установлении легендарным Фу Си кругов па небе, по которым вычисляют календарь, и выраженном недоумении о том, что нет ступенек па небо, чтобы измерить в нем земными мерами длины «чи» и «цунями» деления этпх кругов, п тогда откуда же берутся числа («шу»), т. е. результаты измерений. Шан Гао отвечает: «Числовые методы происходят из круга
О зарождепип естественнонаучных знаний в древпем Кптае 191
и прямоугольника, прямоугольник происходит от угольника, угольник исходит от таблицы «девятью девять — восемьдесят один». Далее ученый рассказывает о прямоугольном треугольнике со сторонами 3, 4, 5 и говорит, что «площади двух квадратов, построенных па катетах «гоу» и «гу», в сумме составляют 20 и 5, это и есть площадь квадрата, построенного на гипотенузе треугольника. Вот как Фу Си управлял Поднебесной, вот откуда возникли числа» [Суапь цзпн ши шу, с. 1 ]. Цитата нуждается в пояснении.
В основе древнего искусства вычислений, которое понадобилось Фу Си, лежит угольник, тот самый, с которым его представляли на традиционных изображения; вместе с Июйвой, у которой в руках циркуль. С помощью угольника получают окружность, быть может, как множество вершин прямых углов, опирающихся па диаметр — общее для них основание. В эту окружность можно вписать прямоугольник, составленный из двух одинаковых угольников. Как видно, древним китайцам, как и дрсвпим ионийцам, было известно свойство прямого угла, опирающегося на диаметр, а также теорема Пифагора для случая 3, 4, 5. Числа же в десятичной системе счисления подчиняются таблице умножения «девятью девять». Таблица носила такое название потому, что в отличие от современной она начиналась не с 1, а со старшей цифры, и имела то преимущество, что в ней были исключены повторы. Она имела треугольный вид и всегда сопровождалась контрольным числом: суммой всех произведений, равной 1155 и легко запоминающейся! Отметим здесь два момента. Во-первых, терминологию: цзюй — угольник, фан — прямоугольник, юань — круг, термина для прямоугольного треугольника нет, по названы его катеты: гоу — всегда горизонтальный и мепьший, гу — всегда вертикальный и, конечно, и больший, для гипотенузы же еще термина нет и ее называют «поперечником», «цзип». Во-вторых, для передачи числа 25 употреблен союз «и» — старинный способ, бытовавший в устной речи. Видно, что на самом деле текст гораздо более древний, чем эпо<а составления трактата.
Интересен комментарий Чжао Цюпьцина (III в. и. э.), весьма подробный в этом месте. Сначала он замечает, что сущность вещи, называемой угольником, беспредельна-
192
Э. И. Березкина
Далее подробно поясняет, пользуясь теорией инь-ян: «Вещи либо круглые, либо прямоугольные, числа либо четные, либо нечетные. Небесные движения являются кругами, для них числа нечетные. Земной покой является прямоугольником, его числа четные. Все это соответствует идее инь-яп и не является в действительности самими Небом и Землей. Небо в действительности нельзя осмотреть, Землю нельзя наблюдать целиком, как же можно определить их кругом и прямоугольником?» (Там же). Чжао Цзюньцип понимал нс только условность схемы древнего высказывания, Ио и понимал трудности математического содержания, заключенные в проблеме измерения круга. В это время многие математики занимались вычислением более точного значения числа л, чем древпее его значение, равное 3. «Сам прямоугольник измерить просто, круг измерить трудно. Покрытие прямоугольника обычное, круг нужно много измерять. Поэтому установлена соответствующая система правил. Метод состоит в том, что полуобвод и полудиаметр, умноженные друг на друга, дают площадь прямоугольника, равновеликую площади данного круга». Таким образом, древний математик предлагает спрямить полуокружность, «разогнув» ее, превратив в отрезок, (например, «длину»), а горизонтальный диаметр (кстати, также дословно «поперечник») сделать «шириной». Для сравнения укажем, что Архимед в своей работе «Измерение круга» (III в. до н. э.) в первом же предложении говорит об аналогичном «преобразовании» круга, но не в прямоугольник, а в прямоугольный треугольник с катетами, равными радиусу и длине окружности. Вся трудность заключается в том, как математически сделать такое «спрямлепие».
В «Математическом трактате о чжоу-би» (о гномоне) поставлены задачп об измерении расстояния до Солпца с помощью шеста «бяо», которое потребовало применения теоремы Пифагора. Зта задача, впоследствии превращенная математиком III в. Лю Хуэем в каноническую чисто математическую задачу практической геометрии об измерении расстояний до недоступных предметов на основании свойств подобных треугольников, обсуждается Чэнь цзы оо своим учеником.. Во второй части трактата объясняется теорпя «гай-тяпь» («неба-покрывала»), учение о строении Вселенной, распространенное среди асгроно-
О зарождении естественнонаучных знаний в древнем Китае 193
мов эпохи Хань. Форму неба они представляли в виде покрытия, как у повозки, а землю — находящейся под ним. Эта гипотеза строения земли и неба, которую называли также «теорией чжоу-би», предполагала взаимную параллельность повепхпостей земли и неба: пли они обе плоские, или они выпуклые. Такое предположение позволяло применить методы измерений, принятые в древней астрономии.
Другая теория—«хупьтяпь» (хунь — хаос, муть) состояла из предположения, что небо круглое и конечное, внутри него, в центре, находится земля. Однако обе теории полностью пе удовлетворяли ученых. В этом отношении весьма показательны слова великого поэта древности Цюй Юаня (I в. до н. э.), которыми он начинает свою большую поэму «Тянь вэнь» («Вопросы к небу»), перечисляя в ней современные ему космогонические взгляды. Стихи приведены в переводе А. Адалиса.
Каков был довременный мир — Чей может высказать язык? Кто Твердь и Землю — <Верх» п «Низ» — Без качеств и без форм постпг?
«Был древний хаос», — говорят. Кто четкости добился в нем?
В том, что кружилось и неслось, Кто разобрался? Как поймем?
Во тьме без дна и без краев Свет зародился от чего?
Как два начала «инь» и «ян» Образовали вещество?
«Девятислойпый» небосвод Когда послойно разберут? Все чьим-то сделано трудом! Кем начат этот славный труд?
К чему привязаны концы Небесной сети? И навес На чем же держится? И где Тот «стержень полюса небес»?
Пусть небо на «восьми столпах»,—
Юг и восток на чем — скажи?
Пусть «девять» в небе этом сфер, — Где их разделы, рубежи?
Изгибов будто бы у сфер Премного — сколько же точней? Кто вздумал все это рассечь На равных дюжину долей?
Кто держит Со шце и Луну, Кто звездам утвердил часы, Дал выход Солнцу из I ангу. Заход — за скалами Мыпсы?
Как в мерах ис тинных длины Путь Солпца за день рассчитать? Умерший месяц почему Потом рождается опять?
(Цюй Юань, с. 67 и след.).
Сумма астрономических знаний к началу нашей эры была значительна. Звездное небо было досконально изучено.
194
Э. И. Березкина
В IV в. уже имелся каталог 800 звезд, небо было разделено на созвездия. Были выделены 28 зодиакальных созвездий \ определявших видимое движение солнца, пользовались понятиями экватора и эклиптики, определяли зимнее и летнее солнцестояние и дни весеннего и осеннего равноденствия, зпали о прецессии равноденствий, определяли довольно точно продолжительность тропического года, наблюдали кометы, солнечные пятна, солнечные и лунные затмения. Был известен «цикл Метопа» (греческий ученый предлагал ввести поправки к календарю, по они приняты нс были), возможно также известный и древним вавилонянам. Цикл состоял из 19 лет, когда следует вставить 7 високосных месяцев, 29,53055.235?» 365,25.19, т. е. 235 месяцев с хорошей точностью равны 6940 суткам, что соответствует 19 солнечным годам. Были вычислены периоды обращения планет Марса, Юпитера, Сатурна — синодические периоды обращения планет в сутках, звездные периоды обращения в годах. Юпитер полный оборот делает за 11,86 года. В 365 г. до н. э. было предложение ввести календарь по Юпитеру (12-ричпая система счисления). Обсуждение проблем уточнения календаря, вычисление к нему поправок проводились постоянно и составляли службу огромной государственной важности. Весьма часто математики были прежде всего астрономами, состоящими на службе у правителей, как это было, например, с составителем математического Десятикпижья «Суань цзин ши шу» Чжэнь Луанем (VI в. н. э.). Два трактата сборника составлены им самим. В частности, у пего ость расчеты, посвященные циклу Метона.
Эпоха формирования наук в древнем Китае VI—III в. до и. э. исключительно интересна для исследователей истории пауки. Богатство философской мысли сказалось, по-видимому, на развитии любой отрасли зпапия, можно проследить их влияние как по астрономии, так и математике. Учение Конфуцпя, создавшего культ знаний и образованности, почитавшего гармонию и музыку, в ма-
1 28 созвездий назывались <су», «стоянками». Оли делились на четыре области по странам света: южный дворец занимала Красная птица, восточный — Лазоревый дракой, северный — Темные черепаха со змеей, западный — Серебристо-белый тигр. Каждые 2—3 созвездия соответствуют одному из 12 современных зодиакальных созвездий.
О зарождении естественнонаучных знаний в древнем Китае 195
тематике отразилось в том, что производились расчеты музыкальной гаммы, которые потребовали от ученых хорошего освоения числовой области в пределах рационального числа. Учение о Дао стимулировало познавать прпроду абстрактных понятий, используемых в математике, а прагматизм легистов направлял па путь прикладной пауки, совершенствование техники вычислений, что, в свою очередь, позволяло лучше продвинуться в теоретической области знания. Логики из школы Мо цзы и софисты (Гупсунь Лунь, Чжуап цзы и др.) побуждали осмысливать тонкие и спорные места в исследованиях понятий повой природы, таких, как квадратура круга, бесконечные дроби, вычисление объема пирамиды, шара, которые были связаны с понятием бесконечности. Натурфилософские поиски объяснения движения, изменения природы вещей находилп применение в развитии теоретико-числовых проблем: учение о четных и нечетных, положительные и отрицательные числа, круг и прямоугольник и т. п. Следует полагать, что и в других пауках: алхимии, медицине, агрономии и ботанике — происходили аналогичные взапмодействия.
Литература к статье
Алексеев В. П. Историческая антропология. М.: Высшая школа, 1979. 216 с.
Березкина Э. И. Математика древнего Китая. М.: Наука, 1980. 311 с.
Древнекитайский трактат «Математика в девяти книгах»/ Пер., вступ. статья и прпмеч. Э. И. Березкиной. — Ист.-мат. исслед., 1957, вып. 10, с. 423—584.
Ли Янь. Материалы по истории древнекитайской математики. Шанхай, 1954. На кт. яз.
Ли Янь. История китайской математики. Шанхай, 1955. На кит. яз.
Кашина Т. И. Керамика культуры яншао: История и культура Востока Азии. Новосибирск: Наука. Сиб. отд.-ние, 1977. 168 с.
Кучера С. Китайская археология 1965—1974 гг.: Палеолит — эпоха Ппь. Находки и проблемы. М.: Наука, 1977. 268 с.
Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы: Проблема этногенеза. М.: Наука, 1978. 342 с.
Суань цзип ши шу: [Десять математических трактатов]/Под ред. Цянь Баоцуна. Пенни, 1963. На кит. яз.
Фролов Б. А. О чем рассказала сибирская мадоппа. М.: Знание, 1981. 111 с.
196
Э. И. Берсзкппа
Цюй Юань. Стихи. М.: Гослитиздат, 1954. 159 с.
Эсхил. Прометей прикованный/ Пер. под ред. С. К. Апта. М.: Гослитиздат, 1956. 63 с.
Юар ГТ., Ван М. К изучению древней китайской медицины. — В кн.: Из истории науки и техники в странах Востока, 1963, вып. III, с. 171—217.
Литература к теме
Атеисты, магерпалпсты, диалектики древнего Китая: Яп Чжу, Лсцзы, Чжуаицзы (VI—IV вв. до н. э.)/Пер., всту и. статья и коммепт. Л. Д. Поздневой. М.: Паука, 1967. 404 с.
Древнекитайская философия: В 2-х т. М.: Мысль. Т. I, 1972. 363 с.;
Т. II, 1973. 384 с.
Из истории науки и техники Китая. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Конрад II. И. Избранные труды: Синология. М.: Наука, 1977. 621 с. Крюков М. В. Язык иньских надписей. М : Паука, 1973. 135 с. Переломов Л. С. Конфуцианство п легизм в политической истории
Китая. М.: Наука, 1981. 333 с.
Померанцева Л. Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве: («Хуайнаньцзы» — II в. до н. э.). М.: Изд-во МГУ, 1979. 243 с.
Серкина А. А. Опыт детпфровкп древнейшего китайского письма. М-: Наука, 1973. 131 с.
Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзп»)/ Пер. с кит. и коммент. Р. В. Вяткина, В. С. Таскипа Под род. Р. В. Вяткипа. М.: Наука. Т. I, 1972. 439 с.; Т. II, 1975. 579 с.
Шицзип: [Избранные пеенп]/ Пер. А. А. Штукина; Под ред. Н. И. Конрада. М.: Гослитиздат, 1957. 299 с.
Штейн В. М. «Гуань-цзы»: Исследование п перевод. М.: Наука. Гл. ред. вост, лит., 1980. 380 с.
Шуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». М.: Изд-во вост, лит., 1960. 424 с.
Яншина Э. М. Каталог гор и морей: (Шаньхай цзип). М.: Наука, 1977. 235 с.
Яншина Э. М. Коги и «чиновники»: (По материалам древнекитай ских памятников). — В кн.: Китай: История, культура и историографии. М.: Наука, 1977, с. 124—130.
Pulleyblank Е. Prechistonc East-West Contacts Across Eurasia. — Pacific Affairs, 1975, v. 47, N 4.
Needham J. Science and Civilisation in China. Cambridge, 1959, v. 3. Waerden van der B. L. On Pre-Babilonian mathematics. — Archive for history of Exact Science, 1980, v. 23, N 1, part 1, p. 1—25; part 2, p. 27—46.
И Д Еэжанский
Древнегреческая наука
Ранняя греческая наука «о природе» и ее истоки
Ранняя греческая паука зародилась па рубеже VII — VI вв. до и. э. в приморских городах малоазийской Ионии. В позднейшей литературе (в частности, у Аристотеля) эта паука получила наименование науки «о природе» (Пес! ербаеюс). Это была нерасчлененпая, спекулятивная дисциплина, центральной проблемой которой была проблема происхождения и устройства мира, рассматривавшегося как единое целое. Как по своему содержанию, так и по своим методам эта дисциплина имела мало общего с естественными науками Нового времени.
Первичным источником космологических спекуляций ранних греческих мыслителей могла быть только мифология, в первую очередь — космогонические мифы, создававшиеся па определенной стадии культурного развития всеми пародами мира, в том числе и греками. Разумеется, в своих умозрительных построениях греческие ученые учитывали как данные непосредственных наблюдений, так и опыт многовековой человеческой практики. Для обработки всей этой информации они пользовались методами, которые с нашей теперешней точки зрения никак пе могут быть названы научными. С одной стороны, это было упорядочение традиционного и эмпирического материала с помощью набора оппозиции, — таких, как верх — низ, левое — правое, теплое — холодное и многие другие, с другой же — широкое применение метода аналогий, который на ранней стадии развития пауки служил основным методом образования умозаключений.
В большинстве работ прошлого да и нынешнего столетия основной гранью, отделяющей космогонические концепции первых греческих ученых от теогоний Гесиода, Ферекида Сиросского, орфиков и т. д., считается решительный отказ от мифологических объяснений н образов. Подобный отказ несомненно имел место, однако необходимо учитывать, что, преодолев впешппй антропоморфизм и зооморфизм космогонического мифа, равняя греческая наука сохранила его внутреннюю структуру, представив ее в качестве структуры естественно развивающегося про
198
И. Д. Рожанский
цесса мпрообразования. Осповпые ее элементы сводятся к тремл идеям: 1) идея псрвичпого, бесформенного или неопределенного состояния Вселенной, чаще всего представлявшегося в форме водной бездны (шумеро-вавилонские, египетские, индийские космогонические мифы, библейская космогония); 2) идея отделения (как правило, насильственного) Неба от Земли, олицетворявших мужское и женское начала мироздания (полинезийский миф о Рангу п Папа, китайский дуализм Инь и Ян, египетский миф с Шу и Тефпут, у греков же — миф о Гее и Уране); 3) идея эволюции в сторону большей упорядоченности и лучшего устроения Вселенной.
В теогонических мифах эта идея осуществляется в форме борьбы последовательно сменяющих друг друга поколений богов, завершающейся воцарением светлого бога, разумного и справедливого. В индоевропейской мифологии это обычно бог ветра, бури и грозы — Индра, Перун, Вотан, Зевс, которому, однако, и после этого время от времени приходится отражать нагиск темпых, стихийных («хтонических», т. е. имеющих подземное происхождение) сил.
Все эти элементы наличествуют в «Теогонии» Гесиода — единственном известном нам памятнике греческой литературы, в котором было дано систематизированное изложение теогонических мифов более ранней эпохи. «Теогония» оказала большое влияние на космогонические построения ранних греческих мыслителей, подвергших тео-гонические мифы радикальной дсантропоморфизации и рационалистической обработке. Этот процесс рационализации микологического материала заметен, впрочем, уже у самого Гесиода, который во многом отс гупает от традиционных версий мифов, устанавливая новые связи между мифологическими персонажами и вводя генеалогические линии, которых прежняя традиция, по-видимому, пе знала. Это позволяет поставить Гесиода в начале цепи космогонических построений, которая была продолжена, с одной стороны, мыслителями милетской школы, а с другой — спекулятивными теогопиями, создававшимися в VII—VI вв. до н. э.; среди пих известны теогонии Фсре-кида, Акусилая, Эпименида, а также космогонические мифы орфиков. Зависимость милетцев (в первую очередь — Анаксимандра) от «Теогонии» Гесиода была со всей опре-
Древнегреческая наука
199
деленпостыо подчеркнута английским исследователем Ф. Л Корпфордом и подвергнута дальнейшему анализу в ряде последующих работ. При этом наметилась новая крайность, когда Гесиода стали возводить в ранг первого греческого философа, игнорируя тот факт, что его мышление продолжало оставаться в пределах мифологической, а пе научпо-фнлософской традиции.
«Теогония» Господа была произведением эпической литературы. Эпическая поэзия в целом — нам она известна лишь по произведениям, дошедшим до нас под именами Гомера и Гесиода, — двояким образом способствовала разрушению мифологического мировосприятия: с одной стороны, рационализируя материал древпих мифов (Гесиод), с другой — эстетизируя его (Гомер). И в том и в другом случае первобытное, непосредственное отношение к мифу, как к живой реальности, подрывалось в корне.
Наряду с этим, эпос содержал и позитивную картину мира, которую можно рассматривать как прообраз последующих моделей космоса. В схематичном изложении эта картина сводится к следующему.
Поверхность Земли подобна плоскому диску, омываемому водами громадней, кругообразной реки — Океана. Сверху мпр ограничен твердой небесной полусферой, пространство под которой делится на две области: верхняя — местопребывание богов — заполнена светлым, сияющим эфиром, в нижней возникают облака, ветры и другие атмосферные явления. Воздуха в позднейшем понимании греческий эпос еще не знал; словом ат]р в то время обозначался не атмосферный воздух, но тумап, мгла, дымка. Подземный мир также делился на два этажа: верхний — Аид, царство мертвых, — находится недалеко под поверхностью земли; нижний — Тартар — отстоит от этой поверхности на таком же расстоянии, на какое — в другую сторону — от нее удалено небо. В «Теогонии» Гесиода содержится подробное описание Тартара: это пустая, темная бездна, в которой носятся вихри; вход в пего подобен узкому горлышку («шее»), над которым расходятся «корпи» или «истоки» земли, неба и моря.
Подобная «вертикальная» структура Вселенной характерна для первобытных представлений практически всех народов мира п самым непосредственным образом связана с мифологемой «мирового дерева».
200
И. Д. Рожанскпй
Наряду с этой общей схемой в поэмах Гомера и Гесиода содержится много частных сведений географического, метеорологического и астрономического характера, характеризующих общий кругозор грека VIII—VII вв. до и. э. Эти сведения пе были результатом специальных научных изысканий: они входили в сокровищницу многовекового народного опыта.
Сложным и дискуссионным вопросом является вопрос о восточных влияниях на раннюю греческую науку. Мы знаем, что к моменту зарождения этой науки у народов Ближнего Востока, особенно у вавилонян, имелись значительные достижения в ряде областей знания. Вавилоняне еще во II тыс. до н. э. разработали своеобразную технику решения арифметических и алгебраических задач (включая квадратные уравнения). В течение ряда столетий вавилонские звездочеты производили систематические наблюдения небесных светил (особенно Луны), по своей точности и общему количеству данных превосходившие все, что было достигнуто в этой области греками вплоть до эпохи позднего эллинизма. Менее впечатляющими были успехи египетской науки. Однако и здесь расшифровка некоторых математических текстов (папирус Ринд, Московский папирус) показали, что у египтян имелись традиционные, правда еще примитивные, приемы для производства вычислений с дробями и для решения некоторых арифметических и геометрических задач. Египтяне пользовались хорошо разработанным солнечным календарем, приспособленным к потребностям земледелия; кроме того, у них были еще два варианта лунного календаря, служившего для религиозно-ритуальных нужд. Большой славой в древности пользовалась египетская медицина, опиравшаяся не на теоретические познания в области анатомии или физиологии, а на практический опыт многих поколений врачей. Все эти данные показывают, что в странах Востока к середине I тыс. до и. э. была накоплена значительная сумма научных знаний и что греческая паука хронологически не может считаться первой.
Тем не менее высшие научные достижения народов Востока оставались грекам неизвестными вплоть до эпохи эллинизма. А когда греки получили возможность с ними ознакомиться, у них уже существовала собственная
Древнегреческая паука
201
паука, принципиально отличавшаяся от восточной. На этих различиях следует остановиться немного подробнее.
В странах Ближнего Востока математические, астрономические, медицинские и иные знания имели прикладной характер и служили только практическим целям. Греческая паука с момента своего зарождения была наукой теоретической; ее целью было отыскание истины, что определило ряд ее особенностей, оставшихся чуждыми восточной пауке. Эти особенности лучше всего просле/киваются в математике и астрономии.
Ни вавилоняне, пи египтяне не проводили различия между точными и приближенными решениями математических задач. Любое решение, дававшее практически приемлемые результаты, считалось хорошим. Наоборот, для греков имело значение прежде всего строгое решение, полученное путем логических рассуждений. Это привело к разработке математической дедукции, определившей характер всей последующей математики. Восточная математика даже в своих высших достижениях так и не подошла к методу дедукции.
Вавилонские астрономы умели наблюдать и предсказывать многие небесные явления, включая расположения пяти планет. Но они не ставили вопроса о том, почему эти явления повторяются. Для греков же этот вопрос был основным. Греческие ученые начали создавать модели космоса, предвосхитив тем самым важнейшую черту всего поздпейшего естествознания — моделирование механизма природных явлений.
Эти особенности греческой науки не могли быть ниоткуда заимствованы, делали ее оригинальным созданием греческого гения. И когда греческие ученые получили возможность ознакомиться с достижениями вавилонской математики и астрономии, они уже имели у себя и «Начала» Эвклида, и первые, базирующиеся па астрономических наблюдениях модели космоса Эвдокса, Каллиппа, Гера-клида Понтийского, и каталог звезд, составленный Эвдок-сом и его учениками. К использованию богатейших вавилонских материалов они подошли уже пе как начинающие ученики, а как равноправные партнеры, во многом опередившие своих старших восточных коллег. Синтез греческой теоретической науки и достижений восточных -вычислителей и звездочетов оказался весьма плодо
202
И. Д. Рожанский
творным: в результате этого синтеза возникла и система Птолемея — наиболее совершенная геоцентрическая система мира, и алгебра Диофанта, во многих отношениях превосхитившая пути дальнейшего развития математической науки.
Но это относится к эпохе поздней античностп. Что же касается ранней греческой пауки, то было бы очень странно, если бы опа вообще не испытала никаких восточных влияний. Ведь VII—VI вв. до и. э. были временем, характеризовавшимся весьма оживленными торговыми и культурными связями между Грецией и странами Ближнего Востока — в особенности Египтом и Ираном. Но эти контакты носили, скорее, общекультурный характер и были связаны с заимствованиями, не имевшими прямого отношения к узкопрофессиональной деятельности египетских жрецов или вавилонских ученых. Так, например, громадное значение для развития всей греческой культуры имело алфавитное письмо, впервые появившееся в Сирии и в несколько видоизмененном виде заимствованное греками, по-видимому, у фппикпйцев. Это заимствование следует отнести, примерно, к X—IX вв. до н. э., поскольку наиболее ранние археологические находки, содержащие греческие надписи, датируются началом VIII в. до н. э. От хеттов или других граничивших с хеттами малоазийских народов греки научились изготовлению железа, упоминаемого уже в «Илиаде» Гомера. В ходе торговых взаимоотношений со странами Востока греки могли воспринять способы решения некоторых чисто практических задач, связанных с приближенным определением площадей, объемов, расстояний до удаленных предметов. Далее, они могли заимствовать такие элементарные устройства, как циркуль, гномон и т. д., ознакомиться с примитивными географическими картами, с рецептами изготовления ряда медицинских снадобий. В позднейшей доксографической литературе многие из этих заимствований трактуются как изобретения первых греческих мыслителей — Фалеса, Анаксимандра, Пифагора. Так, например, соотношение площадей квадратов, построенных на сторонах прямоугольного треугольника, вошло в науку под названием теоремы Пифагора, однако оно было известно в Египте задолго до VI в. до и. э. Вполне возможно, что греки узпали о наличии такого
Древнегреческая наука
203
соотношения от египтян и лишь позднее строго доказали его (чего египтяне, разумеется, не умели делать).
Помимо подобных частных заимствований, ранняя греческая наука «о природе» испытала, по-видимому, значительное влияпие космологических представлений, нашедших отражение в мифологии ряда народов Ближнего Востока. Только это влияние не следует понимать как тотальное заимствование научно-философских систем (подобную ошибку допускали некоторые исследователи XIX в.). Первые греческие мыслители широко пользовались теми или иными идеями о происхождении и строении мира, содержавшимися в космогонических мифах египтян, вавилонян и особенно персов, и включали эти идеи в свои физико-космологические концепции, подвергая их, разумеется, соответствующей переработке и рационализации. Подобные, имевшие восточное происхождение идеи встречаются у всех ранних досократиков, но, как показали новейшие исследования, особенно отчетливо они обнаруживаются у таких мыслителей, как Анаксимандр и Гераклит. Для более подробного ознакомления с этой интересной проблемой мы отсылаем читателей к недавно вышедшей книге английского исследователя М. Л. Уэста «Ранняя греческая наука и Восток» [West, 1971 ].
Возникновение ранней греческой пауки было связано с общим духовным скачком, который переживала Греция в VI в. до н. э. и который подчас именуется «греческим чудом». В течение очень короткого срока греки стали культурным лидером среди народов средиземноморского бассейна, опередив более древние и могущественные цивилизации Египта и Вавилона.
Общественной основой этого духовного скачка было утверждение политической формы города-государства (полиса). Равноправие свободных граждан перед законом и участив каждого в выполнении общественных функций способствовали развитию чувства гражданской ответственности и критичности мышления. Необходимость выступать в народных собраниях и убедительно (т. е. логически обоснованно) защищать свою точку зрения привела к усовершенствованию искусства устной аргументации и в конечном итоге к разработке приемов логического доказательства. Относительно малые размеры полисов, исключавшие потребность в громоздкой административной
204
И. Д. Рожанский
структуре, в сочетании с выбораостью государственных и жреческих должностей обусловили отсутствие в греческих полисах сословий чиновников и жрецов, которые играли столь большую роль в централизованных бюрократических монархиях Востока.
Все эти черты были в наибольшей степени характерны для ионийских полисов, расположеипых вдоль западного побережья Малой Азии. Но к ним падо добавить еще некоторые специфические особенности, отличавшие приморские торговые города от ряда других областей Греции того времени. Это — смешанный этнический состав, развитие мореплавания, вызванное оживленным товарооборотом с черноморскими и средиземноморскими колониями, торговые и культурные связи со странами Востока и относительная слабость родовой аристократии. Все эти факторы в сочетании с живостью ума и любознательностью греков стимулировали наличие духовного свободомыслия и терпимости. Занятия наукой не регламентировались в Ионии государственными или религиозными институтами; они были частным делом свободных граждан и поэтому не имели той сугубо практической направленности, которая была присуща египетской или вавилонской науке.
Общественно-политическая структура и историко-географическое положение ионийских городов-полисов дают возможность объяснить некоторые характерные черты ранней греческой науки. Как указывалось выше, одной из таких черт был отказ от религиозно-мифологических объяснений и образов, обусловленный тем, что греческие ученые наталкивались на разнообразие религиозных представлений и верований, согласовать которые казалось невозможно. Было очевидно, что греческая вера и мифология не имели общезначимого характера. Антро-поморфизация богов, нашедшая столь художественное выражение в поэмах Гомера, стала восприниматься как недостаток общепринятой религии; с наибольшей яркостью такая установка проявилась в поэтических выступлениях Ксенофана из Колофона, направленных, против антропоморфизма в голптеизма традиционных греческих верований. Ионийские мыслители стремились придать своим концепциям общезначимость, сделать их приемлемыми для всех людей, независимо от того, каким богам эти люди поклоняются. Достичь этого можно было лишь путем
Древнегреческая наука
205
полного устранения религиозно-мифологических мотивировок и замены антропоморфных образов безличными и общезначимыми силами природы. Следующая задача состояла в том, чтобы выделить среди этих сил ту, которая могла бы ппетендовать па положение высшего начала как в гепетическом, так и в иерархическом отношении. И в первую очередь, разумеется, речь могла идти о таких стихиях, как вода, воздух или огонь. Вода, как мы знаем, отождествлялась с изначальным состоянием мира у многих народов, поэтому выбор воды в качестве первичной космогонической сущности был естественным; воздух (или ветер — vayu) занимал важное место в индо-иранских представлениях, а в сфере микрокосмоса соответствовал душе человека, наконец, огню придавалось особое значение в религии зороастризма.
Указанными соображениями объясняются некоторые существенные черты физико-фило,,офских воззрений по крайней мере некоторых ионийских мыслителей.
Основные направления греческой науки до середины V в. до н. э.
Милетская школа. Первым корифеем греческой науки по традиции считается милетец Фалес. Он занимался торговлей, много путешествовал и пользовался среди своих сограждан большим почетом. Время жизни Фалеса определяется сообщениями о том, что он якобы предсказал полное солнечное затмение, случившееся в 585 до н. э. (об этом, в частности, пишет Геродот). Каких-либо сочинений Фалес, по-видимому, после себя не оставил, и о содержании его учения уже в эпоху Аристотеля имелись лишь самые общие представления. Основные его положения: все произошло из воды; Земля подобна куску дерева, плавающему на поверхности воды. Сообщалось также, что Фалес развивал доктрину всеобщей одушевленности вещей и утверждал, что «все полно богов». В древности Фалесу приписывалось много открытий в области математики и астрономии, однако достоверность этих сведений неясна. Неоплатоник Прокл сообщает, со ссылкой на ученика Аристотеля Эвдема, о якобы впервые доказанных Фалесом геометрических теоремах (о равенстве углов при основании равнобедренного треугольника, о том, что
206
И. Д. Рожапскпй
диаметр делит круг на дне равные части, и т. д.), однако некоторые историки науки скептически относятся к этим сообщениям.
Все же славу Фалеса как математика не удается полностью отнести на счет легенд позднейшего времени, ибо о ней свидетельствуют достаточно ранние источники (упоминание о Фалесе в «Птицах» Аристофана). Возможно, что, познакомившись в странах Востока с некоторыми геометрическими положениями, применявшимися там для решения практических задач, Фалес впервые проявил к ним теоретический интерес и попытался как-то обосновать их.
Анаксимандр, которого древние считали учеником и преемником Фалеса, жил в Милете в 1-й половине и середине VI в. до п. э. Свое учение он изложил в книге, написанной прозой, которую можно рассматривать как первое в истории европейской мысли научное сочиненно; к сожалению, до нас от пего дошла всего лишь одна фраза. Однако косвенные свидетельства об учении Анаксимандра позволяют сравнительно точно реконструировать важнейшие его положения.
В основе учения Анаксимандра лежала детально разработанная космогоническая концепция. Источником всего сущего, по его мнению, было некое вечное и беспредельное начало, порождающее бесконечную последовательность сменяющих друг друга миров. Согласно традиции, восходящей к Аристотелю, это пачало обычно интерпретировалось как бескачественное и неопределенное первовещество, однако в ряде работ эта традиционная точка зрения подвергается сомнению. Космообразование трактовалось Анаксимандром как борьба и обособление противоположных сил — в первую очередь тепла и холода (причем он, по-видимому, еще пе проводил разграничения между понятиями силы, качества и вещества). В репульта ге этих процессов в цептре мира происходит образование плотной и холодной Земли, имеющей форму цилиндра, высота которого равна 1/3 диаметра основания, а на его периферии возникает сферическая огненная оболочка. Земля не имеет опоры и пребывает неподвижной в центре, так как у нее нет оснований двигаться в какую-либо сторону. Звезды, Луна и Солнце находятся от центра мира на расстояниях, равных соответственно 9, 18 и 27 радиусам земного диска; эти светила представляют собой
Древнегреческая наука 207
отверстия в темных воздушных трубчатых оболочках, окружающих вращающиеся вокруг Земли огненные кольца (или «колеса»), некогда отделившиеся от внешней огненной сферы. С помощью такой картины Анаксимандр объяснял ряд астрономических и метеорологических явлений. Земля, по его мнению, первоначально была покрыта влань-ным илом, в котором зародились живые существа. Когда под действием солнечного жара Земля начала высыхать, влага скопилась в углублениях, где образовались моря, а некоторые животные вышли из воды на сушу. Среди них были рыбообразные существа, в которых зародились люди; когда люди выросли, покрывавшая их чешуйчатая оболочка начала лопаться и отваливаться.
Источники сообщают, что Анаксимандр впервые начертил географическую карту Земли, на которой вся известная тогда ойкумена распадалась на дье большие части — Европу и Азию. Ему приписывалось также введение в употребление гномона (солнечных часов).
Заслуга Анаксимандра в истории науки состоит прежде всего в деантропоморфизации и демифологизации картины мироздания. Сама эта картина являлась бесспорно оригинальным созданием Анаксимандра, хотя многие ее элементы, возможно, были им взяты из космологических представлений народов Востока. Было бы неверно думать, что Анаксимандр полностью игнорировал повседневный человеческий опыт, но данные этого последнего учитывались им лишь при разработке деталей системы мира, а не при составлении ее основной схемы, имевшей чисто спекулятивный характер. Хотя Анаксимандр и не сделал научных открытий, которые могли бы претендовать па общезначимость, тем не менее в его учении были заложены важнейшие предпосылки для дальнейшего развития греческой науки.
Апаксимея, третий великий представитель так называемой милетской школы, жил несколько позже Анаксимандра; точных хронологических дат его жизни пет. Анаксимен принял в качестве первоосновы всего сущего воздух. Вещи образуются из воздуха путем разрежения или сгущения; при этом разрежение сопровождается нагреванием, а сгущение — охлаждением. Детали космогонической концепции Анаксимена известны плохо. Сообщается, что в результате сгущения воздуха (наглядно
20S
И. Д. Рожаиский
сопоставляемого с валянием шерсти) первой возникла плоская («столообразная») Земля, которая висит в воздухе, как бы «оседлав» его. Затем образуются моря, облака и прочие вещи. Небесные светила возникают из земных испарений, поднимаясь вверх и разрежаясь, они приобретают огненную природу. Неподвижные звезды вбиты в твердый небосвод подобно гвоздям, другие (планеты), а также Солнце и Лупа плавают в воздухе, подобно огненным листьям. Таким образом в противоположность Анаксимандру Анаксимеп приблизил Солнце и Лупу к Земле, по сравнению с неподвижными звездами. Скрывшись за горизонтом, небесные светила не опускаются под Землю, а проходят за ее северной приподнятой частью; в связи с этим вращение небосвода сравнивается Анаксименом с вращением шапочки вокруг головы. Воздух, по Анаксимену, — источник дыхания и жизни; по отношению ко всему миру он играет ту же роль, что душа по отношению к телу.
Из сказанного следует, что в умозаключениях Анаксимена большую роль играл метод аналогий. Новым у Анаксимена было то, что воздух он рассматривал не только как источник, но и как субстрат вещей окружающего нас мира, поэтому он, по сути дела, был ближе к оХт; (материи) Аристотеля, чем к беспредельному началу Анаксимандра. Все вещи возникают из этой первоматерии путем чисто физических процессов сгущеппя и разрежения. Тут была поставлена проблема, поиски решения которой послужили одним из стимулов и разработке атомистики. По сравнению с апаксимандровской картиной мира, учение Анаксимена в меньшей степени обнаруживает влияние восточных религиозно-мифологических представлений и скорее лежит в русле греческой «метеорологической» традиции.
Гераклит. Учение Гераклита Эфесского (примерно 540—480 гг. до и. э.) сыграло огромпую роль в развитии не столько научного, сколько философского мышления. С мыслителями милетской школы Гераклита объединяла концепция единой первоосновы, порождениями (или модификациями) которой оказываются все вещи окружающего нас мира. В качестве такой первоосновы Гераклит выбрал огонь. «Этот мировой порядок (хбаио;), один и тот же для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей,
Древнегреческая наука
209
по он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим» (фр. 30). При выборе огня Гераклит, по-видимому, меньше всего руководствовался физическими соображениями: огонь был для него образом вечного движения и изменения. Возможно также, что известную роль в этом выборе сыграло влияние зороастризма, проявляющееся в ряде высказываний Гераклита.
Образная, метафорическая манера изложения Гераклита крайне затрудняет адекватную реконструкцию физико-космологических воззрений философа. В курсах по истории философии обычно излагается следующая схема. Никогда не прекращающийся мировой процесс складывается у Гераклита из двух путей: пути вниз, когда огонь превращается в воду и землю, и пути вверх, когда из земли и из воды исходят испарения, к числу которых Гераклит причислял и души живых существ. Испарения имеют различный характер: светлые и чистые превращаются в огонь и, подымаясь вверх и скапливаясь в корытообразных вместилищах, воспринимаются нами как Солнце, Луна и звезды; темные и влажные испарения служат причиной дождя и прочих сходных метеорологических явлений. Понеременным преобладанием светлых (сухих, теплых) и темных (влажных, холодных) испарений объясняется смена дня и ночи, лета и зимы. Все эти изменения, по Гераклиту, происходят согласно «Логосу», который в его учении был многозначным термином, ставшим объектом многочисленных интерпретаций. Одним из значений этого термина у Гераклита были, по-видимому, количественные закономерности или отношения, согласно которым совершаются взаимопревращения стихий.
То, что указанная интерпретация гераклитовской космогонии не может считаться ни единственной, ни аб( олготно достоверной, показывают недавние работы А. В. Лебедева, в которых была вскрыта своеобразная техноморфная метафорика, используемая Гераклитом при описании превращений огня.
Важнейшая идея философии Гераклита — идея вечного движения, всеобщей изменчивости вещей. Для наглядного выражения этой идеи Гераклит воспользовался образом реки, в которую нельзя войти дважды, ибо «на вхо
210
И. Д. Рожанский
дящего. . . набегают все новые и новые воды» (фр. 12). В основе изменчивости сущего, по мнению Гераклита, лежит непрекращающаяся борьба и смепа противоположностей, которые, однако, не исключают друг друга, а образуют некое высшее единство — гармонию мира. Эти мысли были высоко оценены Гегелем, усмотревшим в них исторически первое выражение диалектического миропонимания. А Энгельс писал, что «первоначальный, наивный, но по сути дела правильный взгляд на мир был присущ древнегреческой философии и впервые яспо выражен Гераклитом: все существует и в то же время нс существует, так как все течет, все постоянно изменяется, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения» [Л/аркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 20].
Пифагорейцы. Когда мы говорили о «милетской школе», то это пазвание имело условный смысл, сводившийся к тому, что все три представителя этой «школы» были гражданами города Милета. Школы в позднейшем понимании этого слова там, по-видимому, еще не было. Одпако во второй половине VI в. до п. э. на противоположном конце греческого мира, а именно в Италии, возникла первая в истории человечества научная школа, заслуживающая такого наименования, а именно — пифагорейская, названная так по имени ее основателя Пифагора (около 580—500 гг. до н. э.).
В ранний период существования пифагорейской школы религиозно-философское учение пифагорейцев, в основе которого лежала вера в бессмертие души и метампсихоз, а также результаты их научпых изысканий имели строго эзотерический характер и не излагались в письменной форме. По этой причине, а также в силу того, что у пифагорейцев существовала традиция возводить все достижения школы к ее основоположнику, представляется практически невозможным отделить вклад, внесенный в науку самим Пифагором и его учениками, от результатов, полученных представителями пифагорейской школы в более позднюю эпоху. Поэтому некоторые ученые (к ним, в частности, в наше время принадлежит автор капитальной работы о пифагорейцах В. Бурксрт [Burkert, 1962]) утверждают, что вклад в науку раннего пифагореизма был практически равен нулю, ибо нельзя считать наукой мистику чисел и спекуляции с парами противоположно
Древнегреческая наука
211
стей типа «чет—нечет» и «предел—беспредельное», чем в основном занимались ранние пифагорейцы.
Этой точке зрения противостоит мнение других ученых, полагающих, что интерес к математике наличествовал в пифагорейской школе с самого ее основания и что положение «все есть число» принадлежит, по-видимому, самому Пифагору. Как и в других теориях ранних греческих мыслителей, это положение было сформулировано на основе очень небольшого числа наблюдений, в частности связанных с музыкой. К фактам, взятым из музыки, присовокупилось также знание некоторых геометрических соотношений — например того, что из отрезков, находящихся друг к другу в отношениях 3:4:5, образуется прямоугольный треугольник. Наконец, третья группа фактов была взята из наблюдений за небесными светилами, регулярность движений которых также допускала числовое выражение.
Все зтп факты привели пифагорейцев к мнению, что каждой вещи присуще некоторое определенное отношение чисел (лбу о?). Смысл познания сводится к обнаружению этого «логоса». Так, зная соотношение сторон треугольника (его «логос»), можно построить аналогичные, т. е. подобные, треугольники любой величины (термин dvakoyi л по-гречески означал «подобие», т. е. построение согласно тому же «логосу»). То же имеет место и в области музыкальных тонов.
Поиски числовых отношений могли развиваться, с одной стороны, в направлении мистики чисел, а с другой — они приводили к обнаружению числовых закономерностей, представляющих интерес даже с точки зрения современной теории чисел. Другой плодотворной ветвью пифагорейских изысканий явилось учение о пропорциях, в дальнейшем ставшее одним из важнейших разделов греческой математики. О прочих научных достижениях пифагорейской школы будет сказано ниже.
Ксенофан. Странствующий поэт Ксенофан (около 550—470 гг. до н. з.), уроженец малозийского города Колофона, считался раньше основоположником элейской школы, хотя теперь эта точка зрения подвергается сомнению. Представляется, однако, вероятным, что некоторые сформулированные Ксенофаном положения повлияли на Парменида при разработке им его философской си
212
И. Д. Романский
стемы. В своих поэтических произведениях Ксенофан выступил в качестве резкого критика политеизма и антропоморфизма греческой религии. Традиционным представлениям о богах он противопоставил идею единого, неподвижного, шаровидного бога, который «весь видит, весь мыслит, весь слышит» (фр. 24). Но исключено, что этот единый бог отождествлялся им с небесной сферой. С другой стороны, имеются указания, что Ксенофан представлял себе Землю неограниченно простирающейся вглубь и вширь. Мир вечен, но подвержен периодическим изменениям, во время которых море то наступает на сушу, то отступает от нее (в подтверждение этой мысли Ксенофан указывал на морские раковины и отпечатки рыб и водорослей, находимые в горах и других удаленных от моря местах). Dee, что растет и рождается, состоит из смеси воды и земли.
Парменид. Деятельность основателя и крупнейшего представителя элейской школы Пармепида из Элеи (небольшой греческой колонии, расположенной в южной части Италии) протекала в первой половине V в. до н. э. Данные о времени жизни Парменида существенно расходятся: одни источники относят дату его рождения примерно к 540 г. до н. э., другие — к 515 г. В молодости Парменид был, по-видимому, связан с пифагорейцами. Его взгляды были изложены в единственном сочинении, написанном в стихотворной форме и состоявшем из аллегорического пролога и двух частей. В первой части, от которой до нас дошли значительные отрывки, Парменид изложил свое учение о бытии. Бытие—это то, что есть, в отличие от того, что только кажется и составляет область мнения. Подвергая анализу понятие бытия, Парменид пришел к выводу, что бытие должно быть единым и, следовательно, не имеющим частей и неделимым, а также неподвижным и неизменным. Кроме того, бытие, будучи пространственно-протяженным, может мыслиться, по Пармениду, лишь в образе однородного шара или сферы, «всюду равноотстоящей от центра».
Во второй части своей поэмы, известной нам значительно хуже, Парменид изложил физическое учение, не претендующее на истину и представляющее собою лишь наиболее вероятное из мнений смертных людей. Здесь, в качестве высших начал, он принимает две противопо
Древнегреческая паука
213
ложные «формы» (popspai) — свет или эфир (огонь) и тьму или ночь (землю), из которых состоят все чувственно воспринимаемые вещи. Вселенная, согласно этому учению, состоит из ряда концентрических колец или «венцов», вращающихся вокруг центра; некоторые из них состоят из чистого огня, в других к огню примешивается земля. Имеются указания на то, что Парменид впервые высказал гипотезу о шарообразности Земли. Далее им рассматриваются небесные и атмосферные явления, высказываются соображения о природе чувственных восприятий, о происхождении живых существ, о причинах различия полов и т. д. Точная реконструкция физических взглядов Парменида практически невозможна, и в историю человеческой мысли Парменид вошел прежде всего как автор учения о бытии и тем самым как основоположник философской онтологии. Но и с точки зрения естественнонаучной проблематики парменидовское учение о бытии сыграло положительную роль, что станет ясно при рассмотрении философско-физических систем мыслителей V в. до н. э.
Зечон. Ученик Парменида Зенон не создал самостоятельного учения; написанное им сочинение имело, по сути дела, полемический характер: в нем Зенон с помощью чисто логических аргументов доказывал, что допущение множественности вещей и возможности движения приводит к выводам, которые противоречат друг другу. Теоретическое значение «апорий» Зенона состояло в том, что в них Зенон натолкнулся на проблему континуума, обнаружив, что непрерывная величина не может трактоваться как совокупность дискретных точек (и соответственно движение не состоит из множества положений покоя). В этой связи представляется несущественным, была ли полемика Зенона направлена против числового атомизма пифагорейцев (как полагали, например, П. Таннери и Дж. Бернет), или же ее смысл состоял исключительно лишь в том, чтобы поддержать учение Парменида (как об этом пишет Платон в «Пармениде»). Проблематика аргументов Зенона далеко выходит за пределы конкретной исторической ситуации, обусловившей их появление. Анализу «апорий» Зенона посвящена колоссальная литература; особенно большое внимание им уделялось в последние сто лет, когда математики стали усматривать в них предвосхищение парадоксов современной теории множеств.
214
И. Д. Рожанскпй
Мелисс. Третий представитель элейской школы — Мелисс Самосский, живший в середине V в. до н. э., не был связан с Италией; тот факт, что он воспринял учение элеатов о бытии, объяснялся откликом, которое это учение нашло в самых различных концах эллинского мира. Мелисс паписал сочинение, имевшее, согласно позднейшим источникам, заглавие «О природе и о бытии»; в нем ионийской прозой были повторены и развиты аргументы Парменида об едином, неделимом, неизменном и неподвижном бытии. Мелисс отошел от Парменида лишь в одном пункте: он признал бытие неограниченно протяжен-пым (если бы бытие было ограниченным, рассуждал он, то опо могло бы граничить с небытием. Но небытия нет; следовательно, бытие не может быть ограниченным). Фактически у Мелисса бытие отождествляется с бесконечным пространством, в котором ничего не происходит. Физических взглядов, подобных парменидовскому учению «о мнении», Мелисс, по-видимому, не развивал.
Историко-географические описания. Особой ветвью ионийской науки, развивавшейся в значительной степени независимо от основного физико-космологического направления, были историко-географические описания (так называемый icrcopiai). Материалом для этих описаний служили народные предания, рассказы путешественников и путевые записи. Высшей точкой развития этого жанра явились знаменитые девять книг Геродота. Из предшественников Геродота известны имена двух милетцев — Кадма и Гекатея (вторая половина VI в. до н. э.); последний написал два больших сочинения: «Генеалогия» и «Объезд земли», от которых до нас дошел ряд отрывков. Следуя почину Анаксимандра, Гекатей нарисовал jeorpa-фическую карту, вся поверхность земли была представлена на ней в виде диска, омываемого Океаном, причем центр диска оказывался где-то в районе Эгейского моря. Все большие реки — Дунай, Нил, Фасис (Рион) — Гекатей считал вытекающими из Океана. Геометрический схематизм Гекатея был подвергнут критике позднейшими географами, но для целей первой ориентировки он представлял известные удобства.
Геродот из Галикарнасса (ок. 480—425 гг. до н. э.) часто именуется «отцом истории», и, действительно, его монументальный труд стал первым классическим намят-
Древнегреческая наука
215
никол! исторической пауки. Однако наряду с чисто историческим материалом в его книгах содержатся описания многих стран, которые в большей или меньшей степени были известны грекам того времени. 13 этих описаниях мы находим массу цепной информации о природе этих стран, о населявших их народах, включая их образ жизни, обычаи, религиозные верования и т. д. В целом по книгам Геродота можно составить достаточно полное представление о географическом кругозоре греков середины V в. до н. э.
Геродот хорошо знал страны, непосредственно прилегающие к Средиземному и Черному морям, но обо всем, что лежало за пределами этой области, он имел лишь весьма смутное представление. Например, он знал о существовании на востоке Индии, которая в его представлении была полна диковин и изобиловала золотом; за Индией же, по его словам, расположена пустыня, и «никто не может сказать, на что она похожа». Сведения о странах и народах, находившихся к северу от Скифии (под которой подразумевалось северное Причерноморье между Дунаем и Доном), у Геродота путанны и неправдоподобны. Все, что Геродот сообщает об Аравии, относится к области сказочных небылиц. С другой стороны, его описания Персии и Египта основаны на собственных наблюдениях и долгое время были важнейшим источником сведений об этих странах. Африканскую территорию к западу от Египта Геродот делил на две зоны: страпу, населенную дикими зверями, а затем бесплодную пустыню, о размерах которой у Геродота не было определенного мнения.
Развитие греческой науки от середины V в. до середины IV в. до н. э.
Греч ‘екая наука «о природе» после Парменида. Греческие мыслители середины V в. до и. э., которых Аристотель позднее называл «физиками», находились под большим воздействием учения Парменида о бытии. Однако они не могли просто принять учение Парменида, так как это привело бы их к признанию иллюзорности мира вещей и явлений. С другой стороны, аргументы Парменида о свойствах истинного бытия казались им в большей своей части неопровержимыми. Поэтому «физики», принадлежавшие
21G
И. Д. Рожа некий
к следовавшему за Парменидом поколению, согласились в основном с этими аргументами, отойдя от учения элеа-тов в одном очень важном пункте: они отказались от принципа единства быгия, признав наличие ряда первооснов, из которых каждая обладает свойствами, присущими истинному бытию Парменида. Эти первоосновы вступают друг с другом в различные, меняющиеся со временем пространственные отношения; бесконечное разнообразие этих отношений обусловливает многообразие вещей окружающего нас мира. Тем самым решается проблема множест вен-ности вещей, а также проблемы их рождения (гибели), изменения и движения. Сделанный этими философами шаг был чреват последствиями капитальной важности: с одной стороны, он привел к идее материальных элемен тов, из которых построены все вещи, а с другой — способствовал формулировке принципа, позднее получившего наименование принципа сохранения материи.
Выдающимися представителями этого направления были Эмпедокл, Анаксагор и основатель атомистики Левкипп. Сначала мы рассмотрим по отдельности воззрения Эмпедокла и Анаксагора, что же касается Левкиппа, то его взгляды будут изложены вместе со взглядами его великого ученика Демокрита, так как их разделение представляется практически неосуществимой задачей.
Эмпедокл из Агригента на о-ве Сицилия (490—430 гг. до н. э.) испытал влияние, с одной стороны, пифагорейцев, а с другой — Парменида, в подражание которому изложил свои взгляды в стихотворной форме (в поэмах «О природе» и «Очищения»). В основе учения Эмпедокла лежит концепция четырех элементов — огня, воздуха (именуемого у него эфиром), воды и земли; он называет их «корнями всех вещей» (р'Лшрата rcavtiov ^рцр.атш>). Эти первоначала у Эмпедокла вечны, неизменны и не могут ни возникать из чего-либо другого, ни переходить друг в друга. Все вещи получаются в результате соединения этих элементов в определенных количественных пропорциях. Кроме четырех элементов, Эмпедокл постулировал наличие двух сил — Любви (Ф'.Хс’а) и Вражды (Neixoc), которые он мыслил пространственно-протяженными; из них первая соединяет (перемешивает) разнородные элементы, вторая же разделяет их; попеременным преобладанием этих сил обусловлен циклический ход мирового
Древнегреческая наука
217
процесса. В период господства Любви все четыре элемента смешаны самым совершенным образом, образуя огромный однородный шар — пребывающий в покое Сфэрос (£<patpoc). При этом Вражда оказывается вытесненной за пределы Сфэроса и занимает периферийные области мира. В дальнейшем Вражда проникает в Сфэрос, разделяя элементы и оттесняя Любовь к центру мира. Детали причудливой космогонической системы Эмпедокла не во всем ясны и служат предметом многочисленных дискуссий.
Представляет интерес развитая Эмпедоклом теория происхождения растений и животных. Последние могут возникать лишь в промежуточные стадии перехода от господства Любви к господству Вражды, или наоборот. В первом случае первоначально образуются синтетические «цельноприродные» формы, которые затем распадаются на противоположные по полу живые существа. Во втором случае имеет место обратный процесс: сначала во влажном, теплом иле возникают отдельные члены и органы, беспорядочно носящиеся в пространстве; случайным образом соединившись друг с другом, они образуют самые разнообразные, большей частью уродливые существа; лишь немногие из них выживают.
Идея бесконечного пространства у Эмпедокла еще отсутствует. Источники сообщают, что Эмпедокл приписывал миру (космосу) не строго шарообразную, но яйцевидную форму. Оболочка космоса состоит из отвердевшего эфира, звезды имеют огненную природу: неподвижные звезды прикреплены к небесному своду, планеты же свободно парят в прострапстве. Солнце, подобно огромному зеркалу, отражает свет, испускаемый огненной полусферой космоса. Луна находится на одной трети расстояния от Земли до небесного свода; она образовалась из сгущения облачной земной атмосферы и имеет плоскую форму, получая свой свет от Солнца. Солнечные затмения происходят, когда Луна загораживает, полностью или частично, солнечный диск. Воды морей, по его мнению, первоначально находились в глубипах Земли; в результате космического круговращения они были выжаты из нее, как из губки. В другом месте Эмпедокл называет море «потом Земли».
Будучи врачом и, по преданию, основателем сицилийской школы медиков, Эмпедокл большое внимание уделял вопросам анатомии и физиологии. В основу своих пред
218
И. Д. Рожанскпй
ставлений о строении организма он кладет учение о четырех элементах, объясняя различия свойств органических тканей пропорциями, в которых элементы входят в состав этих тканей. Любопытные соображения Эмпедокл высказывает по поводу наследственности, различия полов и развития зародыша. Унаследованные свойства детеныша определяются соотношением отповского и материнского семени, из которого образовался зародыш. Пол зародыша зависит от теплоты матки: более теплая матка приводит к образованию особей мужского пола, более холодная — женского. Мужской зародыш формируется быстрее, чем женский, а правая сторона быстрое, чем левая. Механизм дыхания объясняется Эмпедоклом приливом и отливом крови к поверхности тела; этот механизм иллюстрировался им опытами с клепсидрой (водя-пыми часами). Причина сна — охлаждение крови; смерть наступает, когда теплота полностью уходит из организма. Детально разработанная теория ощущений основывалась у Эмпедокла на принципе «подобное познается подобным». Так, например, он считал, что внутренность глаза состоит из всех четырех элементов, причем каждый из них заполняет особые, для пего предназначенные поры; при встрече данного элемента с соответствующими ему истечениями от внешнего объекта возникает зрительное ощущение. Объясняя слуховые ощущения, Эмпедокл опирался на полученные им данные о строении уха (в частности, ему приписывалось открытие ушного лабиринта). Приятные ощущения Эмпедокл объяснял действием подобного на подобное, неприятные — встречей противоположных агентов.
Эмпедокл сумел предугадать ряд важнейших идей позднейшего естествознания. Т. Гомперц подчеркивал три такие идеи — те, которые впоследствии легли в основу химии: «гипотеза множественности, и притом ограниченной множественности основных элементов; идея соединений, в которые вступают между собою эти элементы; наконец, признание многочисленных количественных различий или изменчивости пропорций в этих соединениях» (Гомперц, т. 1, с. 201).
Апаксагор из Клазомеп (500—428 гг. до н. э.) был прямым продолжателем мыслителей милетской школы, влияние которой (особенно Анаксимена) явно ощущается в его
Древнегреческая Наука
219
космологических концепциях. 13 то же время он испытал воздействие идей Парменида и, возможно, ранней атомистики. Уже в зрелом возрасте Анаксагор переехал в Афины, где прожил около 30 лет; достижения ионийской науки он перенес на аттическую почву, явившись, таким образом, основоположником афинской философской школы. В конце своей жизни Анаксагор подвергся судебному преследованию за распространение взглядов, противоречивших общепринятой религии, и вынужден был бежать из Афин. Умер он в Лампсаке (па берегу Геллеспонта).
В основе физического учения Анаксагора лежит представление о «существующих вещах» (ёбмта уртцла-а), которые нс могут нп возникать, ни уничтожаться и из соединения которых образуются более сложные образования. В число таких «вещей» он включал бесчисленное множество качественно-определенных веществ (к каковым относились ткани животных и растительных организмов, металлы, однородные минералы), позднее обозначенных Аристотелем термином «гомеомерии» (та бросорерт], т. е. «подобочастные»), а также несколько пар «противоположностей» (тоже позднейший термин): теплого и холодного, светлого и темного, сухого и влажного, разреженного и плотного.
Оригинальной чертой анаксагорской теории материи был принцип «все во всем» или «во всем есть часть всего», означавший, что в любой вещи — как бы мала она ни была — содержатся все гомеомерии и все противоположности; воспринимаемые же нами свойства данной вещи определяются теми ее компонентами, которые в ней преобладают. Роль противоположностей в системе Анаксагора и их соотношение с гомеомериями принадлежат к числу наиболее запутанных проблем ранней греческой науки-Наиболее вероятным представляется предположение, что в результате преобладания тех или иных противоположностей образуются эфир, воздух и прочие «стихии».
Отказавшись от идеи цикличности мирового процесса, которая была характерна для учений Анаксимандра, Гераклита и Эмпедокла, Анаксагор развил эволюционную космогонию, согласно которой космос рождается однажды из некоего первичного состояния и затем необратимо развивается. Первичное состояние (ламта броб — «всё
220
И. Д. Рожапский
вместе») характеризуется смешением всех «вещей», когда весь мир представляет собою качественно-неопределенную неподвижную массу. Под действием активного агента, «нуса» (voo? — ум, разум), в каком-то участке пространства внезапно возникает мощное круговращательное движение (лерс^шрцз^). которое затем распространяется вширь и захватывает все новые массы первичной смеси. Быстрое вращение обусловливает разделение этих масс на составляющие их компоненты, в первую очередь на эфир и воздух, которые занимают соответственно периферийную и внутреннюю области космического вихря; в дальнейшем из воздуха выделяются более плотные и темные компоненты: облака, вода, земля, камни. В каждой из этих стихий содержатся всевозможные «семена», т. е. бесконечно малые частицы разнообразных веществ, отличающиеся друг от друга формами, цветами, вкусами и запахами. В дальнейшем, согласно принципу «подобное стремится к подобному», происходит соединение сходных семян, образующих массы, воспринимаемые нашими органами чувств как однородные вещества. Этот принцип, вместе с разделяющим действием космического круговращения, оказывается достаточным для образования космоса. Земля находится в центре мира, она имеет плоскую форму и поддерживается снизу воздухом; небесные светила были оторваны от земного диска силой вращающегося эфира и затем раскалились под его дей ствием. Солнце — огромная пылающая глыба, величиной с Пелопоннес. Звезды — раскаленные камни, которые иногда низвергаются вниз; именно таким образом Анаксагор объяснил падение большого метеорита в устье реки Эгоспотамы (468—67 гг. до н. э.). Луна имеет более холодную природу; на ней имеются возвышенности и впадины, и, возможно, она обитаема. Анаксагору принадлежит заслуга правильного объяснения не только солнечных, но и лунных затмений. Он сформулировал также ряд гипотез для объяснения многих других астрономических и метеорологических явлений, к каковым относятся кометы и млечный путь, «повороты» Солнца и Луны, наклон небесной оси, молния, гром, дождь, снег, град, радуга и т. д.
Для физики Анаксагора в целом характерны: реляти визм большого и малого, идея бесконечно малых величин,
Древнегреческая наука
221
отрицание пустого пространства, попытки качественно сформулировать некоторые положения механики («скорость порождает силу») и наконец, убеждение в строгой упорядоченности всего совершающегося. Анаксагор утверждал, что если бы первичное круговращение возникло где-нибудь еще, то оно привело бы к образованию мира, во всех отношениях сходного с нашим. Однако идеи множественности миров Анаксагор, пе-видимому, не разделял.
Биологии Анаксагор уделял меньше внимания, чем Эмпедокл, однако отдельные его положения представляют интерес. Так, он учил, что живые существа развились из зародышей, образовавшихся во влажной среде в результате соединения семян, увлеченных каплями дождя, с семенами, находившимися в земле. Растения принципиально не отличаются от животных: они способны ощущать, печалиться и радоваться. Человек — самое разумное из всех животных потому, что он имеет руки. Ощущения возникают вследствие действия подобного на неподобное; контрастностью этого действия определяется интенсивность ощущения; в силу этого ощущения всегда относительны и не могут быть источником истинного знания.
Имеются данные, что Анаксагор занимался и математикой, в частности проблемой квадратуры круга и теорией перспективы. Однако детальной информации о его достижениях в этой области нет.
Атомисты: Левкипп и Демокрит. Создание и разработка атомистического учения в Древней Греции были заслугой Левкиппа и его ученика Демокрита из Абдеры. По вопросам общего характера, включая учение об атомах, между Левкиппом и Демокритом существенных расхождений, по-видимому, не было. Демокрит развил учение Левкиппа, превратив его во всеобъемлющую научную систему, заключавшую в себе, наряду с учением о бытии и космосе, также теорию познания, логику, этику и ряд специальных областей: математику, биологию, психологию, учение о языке и т. д. От сочинений Демокрита до нас дошло лишь некоторое количество коротких и в большинстве своем незначительных фрагментов; по этой причине его учение приходится восстанавливать главным образом на основе косвенных и не всегда надежных свидетельств.
222
И. Д. Рожапскнй
По свидетельству Аристотеля, Левкипп пришел к атомистической концепции, пытаясь согласовать данные чувственных восприятий с аргументами Парменида о том, что истинное бытие не может ни возникать, ни уничтожаться, пи изменяться, ни двигаться. В противовес элеатам он постулировал, что небытие существует нисколько не менее, чем быгие, и это небытие есть пустота; сущее же в собственном смысле есть полное бытие, причем оно не едино: таких сущих бесконечное множество, и они невидимы вследствие малости своих объемов. Они отличаются друг от друга величиной, формой и положением в пространстве; они носятся в пустоте и, соединяясь между собой, порождают возникновение вещей, разделяясь же — их гибель. Эти мельчайшие единицы бытия неизменны, неделимы и абсолютно полны — во всем этом опи подобны истинному бытию Парменида. Свойство неделимости побудило назвать их «атомами» (атой-oi).
Согласно атомистической концепции в мире существуют лишь два первоначала — пустота и атония. Пустота безгранична (Левкипп называл ее «великой пустотой»); в ней нет ни верха, ни низа, ни центра, ни периферии. По-видимому, именно осознание идеи пустоты привело атомистов к идее бесконечного пространства. В этом пространстве во всех направлениях беспорядочно носятся атомы; наглядным образом, позволяющим представить себе движение атомов в пустоте, были для Демокрита пылинки, пляшущие в солнечном луче. В процессе движения атомы сталкиваются друг с другом и сцепляются; сцепление большого количества атомов вызывает возникновение атомных вихрей (olvot), которые в конечном счете приводят к зарождению миров. При возникновении космического вихря прежде всего образуется внешняя оболочка, подобная пленке или скорлупе, отгораживающей мир от внешнего пустого пространства. Эта пленка (u]jltqv) препятствует атомам, находящимся внутри вихря, вылетать наружу и, таким образом, обеспечивает стабильность образующегося космоса. Внутри же этой оболочки происходит обособление различных видов атомов подобные из пих соединяются с подобными, причем более крупные атомы оказываются в центре космоса, образуя Землю, а более мелкие устремляются к периферии. Тяжесть,не является первичным свойством атомов, а воз-
Древнегреческая наука
223
никаст как вторичный эффект в процессе космообразо-вапня. Земля имеет форму плоского диска или барабана; вначале она была невелика п вращалась вокруг своей оси, но потом, став плотнее и тяжелее, перешла в неподвижное состояние. Первоначально Земля была влажной, илоподобной; в этом иле под влиянием теплоты возникло брожение или гниение, порождавшее пузыри, в которых зародились первые живые существа. В зависимости от различия атомов, образующих тела этих существ, одни из них стали летать, другие плавать в воде, третьи жить на суше. В дальнейшем живые существа стали размножаться путем совокупления. Как и Эмпедокл, Демокрит полагал, что первоначально, наряду с существующими теперь видами, образовались уроды и чудовища, но они оказались неприспособленными к жизни и к размножению и потому вымерли.
Пе совсем ясно, как представляли себе атомисты происхождение небесных светил. По-видимому, они полагали, что Солнце, Луна и звезды первоначально находились вне нашего мира и лишь впоследствии, будучи захвачены вихревым движением, вошли в состав мира. При описании конкретных астрономических и метеорологических явлений Демокрит во многом следовал Анаксагору. В то же время от Анаксагора (и Эмпедокла) его отличает концепция множественности миров, которые могут сильно отличаться от нашего. Некоторые миры оказываются лишенными Солнца и Луны, в других Солнце и Луна больше наших или же имеются в большем числе; могут возникать и такие миры, которые не имеют животных и растений и вовсе лишены влаги. Миры образуются на разных расстояниях друг от друга и в разное время: одни только еще зародились, другие (как, например, наш мир) находятся в расцвете, а третьи разрушаются.
Причиной гибели миров могут быть их столкновения друг с другом.
В основе этой величественной и пе имевшей себе прецедентов в истории греческой мысли картины мироздания лежали определенные методологические предпосылки. Одпой из ннх была идея необходимо! ти (амарл;), определявшей все происходящее в мире. В единственном, дошедшем до нас отрывке из приписываемого Левкиппу сочинения «Об уме» читаем: «Ни одна из вещей не возникает
224
И. Д. Рожанский
попусту, но все (совершается) по закону и в силу необходимости» (ёх /.буоо те xai ок’ ахаухт]^). Эту необходимость, однако, не следует понимать в духе механистического детерминизма Нового времени. Совершающимся по необходимости греки называли то, что происходит как под действием внешних воздействий, так и в силу внутренних причин, присущих самому процессу (как говорили греки, хата <p6atx, т. о. «по природе). Большую роль в сочинениях Демокрита играла также идея причинности; об интересе Демокрита к исследованию причин свидетельствует ряд заглавий его сочинений («Причины небесных явлений», «Причины, относящиеся к животным», «Причины смешанного рода» и т. д.). Для историка физика представляет интерес, что Демокрит пытался обосновать атомистику с помощью аргументов, основанных на наблюдениях над реальными процессами (например, над сжимаемостью тел).
Демокриту приписывается ряд сочинений по математике («О числах», «О касании круга и шара», «О геометрии», «Об иррациональных отрезках» и др.). Древние считали, что он открыл — правда, не дав доказательств — формулы для объема конуса и пирамиды. Геометрия строилась Демокритом, по-видимому, на основе идеи об атомистической структуре пространства: линии, поверхности, объемы считались им состоящими из большого числа конечных, но далее неделимых элементов. Идя этим путем, Демокрит пытался обойти парадоксы Зенона и построить непротиворечивую систему математики.
В своей теории познания Демокрит также исходил из атомистической концепиии. Поскольку мир и все находящиеся в нем вещи состоят в конечном счете из атомов и пустоты, то чувственно-воспринимаемые качества — сладкое и горькое, теплое и холодное и т. д. — существуют только в мнении людей, но не в реальной действительности; в этом смысле ощущения ложны и не дают истинного представления об окружающем нас мире; истина может быть получена лишь с помощью размышления. С другой стороны, единственным материалом для размышления служат все те же ощущения, т. е. данная в опыте видимость вещей. Поэтому ощущения не бесполезны, а являются исходным этапом на пути к истинному познанию: этот исходный этап Демокрит называл «темным»
Древнегреческая наука
225
познанием, противопоставляя его «истинному» познанию, к которому может прийти только разум.
Откуда же берутся у человека ощущения? Демокрит полагал, что от каждого тела во все стороны исходят истечения, представляющие собой тончайгчие слои атомов, отделяющихся от поверхности тела и несущихся в пустоте с величайшей скоростью. Эти истечения Демокрит называл «образами»; они попадают в глаза и другие органы чувств и оказывают действие на подобные им атомы, находящиеся в нашем теле (по принципу «подобное действует па подобное»); это действие передается затем атомам души.
Душа, по Демокриту, состоит из мелких, шарообразных, совершенно гладких и очень подвижных атомов, подобных атомам огня. Душа имеется не только у человека и животных, но также у растений. Благодаря душе организм способен двигаться, ощущать, испытывать эмоции и мыслить. Мыслительная функция осуществляется частью души, сосредоточенной в головном мозге, прочие функции — атомами души, разлитыми по всему телу. Душа сохраняется в теле и увеличивается благодаря дыханию, но она умирает вместе со смертью тела, рассеиваясь в пространстве.
Математика была первой областью, которая начала в V в. до н. э. выделяться в самостоятельную паучзую дисциплину. У ранних пифагорейцев занятия математикой были еще неотделимы от числовых спекуляций, имевших полумистический характер. Тем не менее эти занятия привели во второй половине V в. к математическим открытиям первостепенного значения и наметили контуры математики как системы, основанной на дедуктивном методе. Уже сама идея такой системы ставила греческую математику на голову выше бесформенного конгломерата математических сведений, приемов и рецептов, каким была вавилонская или египетская математика.
Наиболее ранние математические достижения пифагорейцев относились к области арифметики, точнее — к свойствам целых чисел. Проблема делимости на 2 была ими изучена с особой тщательностью. Дальнейшая разработка проблемы делимости целых чисел привела их к идее рациональной дроби. В V в. до н. э. греки научились оперировать с дробями типа mln. Одновременно с этим была создана теория пропорций, которой греки широко ноль-
226
И. Д. Рожапский
зовались при доказательстве ряда арифметических и геометрических положений. Историки математики предполагают, что к концу V в. до н. э. уже существовал курс арифметики, в котором в строго логической форме и с достаточной полнотой излагалась теория числовых отношений и делимости. О содержании и структуре этого курса можно составить представление по VII книге «Начал» Эвклида, посвященной этим вопросам. По-видимому, во второй половине (и во всяком случае не раньше середины} V в. до н. э. было открыто существование несоизмеримых отрезков; в частности, было показано, что если сторона квадрата принимается за единицу, то его диагональ не может быть выражена не только целым числом, но даже рациональной дробью. Открытие несоизмеримости явилось поворотным пунктом в истории греческой математики: по своему значению оно может быть сопоставлено с открытием неевклидовой геометрии в XIX в. Это открытие вызвало широкий резонанс в образованных кругах греческого общества, о чем свидетельствует ряд мест в сочинениях Платона и Аристотеля, где обсуждаются вопросы несоизмеримости. Пифагореец Феодор из Кирепы доказал, что стороны квадратов с площадями 3, 5, 6, 7 .... 17 несоизмеримы со стороной единичного квадрата, а ученик Феодора Теэтет создал в начале IV в. до н. э. первое общее учение об иррациональных величинах («невыразимых», как говорили греки). Изложение результатов Теэтета содержится в X книге «Начал» Эвклида.
Открытие несоизмеримых отрезков и тем самым иррациональных («невыразимых») величин показало, что существует множество простых геометрических соотношений, которые не могут быть выражены рациональными числами. Одним из возможных выходов из создавшегося положения был путь, по которому пошла математика Нового времени, — путь обобщения понятия числа и включения в него более широкого класса математических величин — как рациональных, так и иррациональных. Однако греки пошли по другому путп — геометризации математики. Так возникла геометрическая алгебра, позволявшая путем использования геометрических образов решать чисто алгебраические задачи. О ее характере можно судить по «Началам» Эвклида и по произведениям Архимеда и Аполлония. Эта дисциплина, бывшая типич-
Дрсвпегреческая наука
227
ныл детищем эллинского духа, начала закладываться во второй половине V в. до н. э.; она основывалась на античной планиметрии, представлявшей собой геометрию циркуля и линейки, и была приспособлена для решения квадратных уравнений и некоторых других классов алгебраических задач.
Что касается чистой геометрии, то к началу IV в. до н. э. было в основном завершено построение планиметрии как дедуктивной науки, включавшей в себя такие вопросы, как теория параллельных, сумма углов треугольника, площади многоугольников, теорема Пифагора, углы и дуги в круге, правильные многоугольники и площадь круга. Первое систематическое изложение геометрии было дано Гиппократом Хиосским; из достижений самого Гиппократа хорошо известна так называемая «теорема о луночках».
Большую популярность в это время приобрели три геометрические задачи, которые оказалось невозможно решить средствами классической геометрической алгебры: 1) удвоение куба; 2) трисекция угла и 3) квадратура круга. Задачей об удвоении куба, получившей наименование «делосской задачи», занимались крупнейшие математики того времени — Гиппократ Хиосский и Архит Тарентский; в дальнейшем она явилась толчком к изучению конических сечений. Для решения задачи трисекции угла известный философ-софист Гиппий из Элиды изобрел кривую, впоследствии названную «квадратрисой». Третья задача — квадратура круга — была настолько популярна, что упоминание о ней содержится в «Птицах» Аристофана; по преданию, ею занимался в афинской тюрьме Анаксагор. Особый интерес, в связи с этой задачей, представляют рассуждения софиста Антифонта, впервые ставшего трактовать круг как многоугольник с очень большим числом сторон.
Величайшим греческим математиком первой половины V в. до и. э. был Эвдокс Книдский (ок. 406—355 гг. до н. э.). Наиболее глубокие исследования Эвдокса относятся к области, которую мы назвали бы введением в анализ бесконечно малых: он построил общую теорию отношений и создал метод «исчерпывания», заложивший основы теории пределов. В своей теории отношений Эвдокс дал новую, более общую концепцию понятия величины,
228
И. Д. Гожапскпй
вводимого с помощью аксиом, определяющих отношения равенства и неравенства. Это понятие включало в себя как числа, так п непрерывные величины — отрезки, площади, объемы. Теория Эвдокса изложена Эвклпдом в V книге «Начал»; ее глубина бы па по-настоящему оценена лишь во второй половине XIX в., когда в трудах Дедекинда и других математиков были заложены основы современной теории вещественны < чисел.
1»роме этого Эвдокс занимался построением правильных тел и исследовал необходимое для этого «золотое сечение»; занимала его и теория пропорций, изложенная в V книге «Начал». Источники указывают также, что Эвдокс решил задачу удвоения куба с помощью «изогнутых линпй», однако это решение осталось неизвестным.
Астрономия. В отличие от математики, греческая астрономия на рубеже V и IV вв. до н. э. находилась еще в зародышевом состоянии. Астрономические представления Эмпедокла, Анаксагора, Левкиппа были пе-отъе 1лемой частью их космологических спекуляций п не обосновывались пн наблюдениями, ни расчетами; в отношении наблюдений небесных явлений греческая паука этого времени еще намного отставала от вавилонской. Пифагорейцы первыми среди греков обратили внимание на перемещения отдельных планет; стремление осмыслить эти наблюдения послужило поводом к первому наброску геоцентрической системы мира. О космологической системе пифагорейцев — в том виде, в каком она сложилась в первой половине IV в. до н. о.,— можно составить представление по «Тимею» Платона. Согласно этой системе, вс я вселенная («космос») представляет собой совокупность 8 концентрических кругов, или сфер, вращающихся с различной скоростью вокруг общего центра, каковым явля ется шарообразная Земля. Этим кругам соответствуют Луна, Солнце, пять планет и сфера неподвижных звезд. Содержащиеся в «Тимее» рассуждения об интервалах между кругами отражали пифагорейскую числовую символику и находились в тесной связи с идеей «мировой гармонии».
К системе, излолчонной в «Тимее», пифагорейская наука пришла, по-вндпмому, не прямым путем. Наиболее интересное уклонение представляла собой система Фию-лая из Тарента — пифагорейца, жившего приблизительно в конце V в. до н. э. Филолай отказался от традиционного
Древнегреческая паука
229
представления о центральном положении Земли и поместил в центр мира огненный «очаг» (Гестшо), вокруг которого движутся — в порядке удаления от него — невидимая «Противоземля» (avti/fh»»), затем Земля, Луна, Солнне, пять планет и внешняя звездная сфера. Солнце, по Филолаю, является прозрачным шаром, который заимствует свой свет и тепло, во-первых, от центрального «очага», а во-вторых, от огня, расположенного за пределами внешней сферы. Введение Протпвоземли было нужно Филолаю, по-видимому, для того, чтобы сделать число небесных кругов равным десяти. Заметим, кстати, что некоторые досократики (Анаксимен, Анаксагор) также допускали существование невидимых (темных) небесных тел, находящихся ниже Луны.
До современности дошлп имена и других ученых той эпохи, занимавшихся астрономией. Так, младший современник Анаксагора, Эйнопид Хиосский, был первым, установившим (измерившим?) наклон эклиптики по отношению к небесному экватору. Афинянин Мотон, осмеянный Аристофаном в «Птицах», использовал успехи астрономии для реформы аттического календаря. Чтобы согласовать гражданский лунный год с солнечным, он установил 19-летний цикл повторяемости небесных явлений. По Ме-топу, солнечный год содержит ЗЬо -уд- дней, что всего лишь на полчаса отличается от точного значения.
Астрономия как самостоятельная теоретическая наука является творением Эвдокса Книдского, о котором уже шла речь в разделе математики. Эвдокс основал собственную школу в Кизике (па берегу Геллеспонта), привлекавшую большое количество учеников; при этой школе 61 та учреждена первая греческая обсерватория, в которой велись наблюдения за небесными светилами и был составлен каталог звездного неба.
Согласно преданию, Платон поставил перед своими учениками, 'занимавшимися астрономией, задачу — пр< дста-вить движение Луны, Солнца и планет как комбинации равномерных круговых движений или вращений. &та задача была решена Эвдоксом. Он построил модель, состоявшую из 27 гомоцентрических сфер, равномерно вращавшихся вокруг общего центра, в котором покоится шарообразная Земля. Внешняя сфера, несущая па себе не
230
IT. Д. Рожанскпй
подвижные звезды, совершает полный оборот вокруг оси в течение суток. Для объяснения движения каждой планеты используются четыре сферы, для Солнца и Луны — по три. Ученик Эвдокса Каллипп усовершенствовал эту систему, добавив по две сферы для Солнца и Луны и по одной для каждой из планет; таким образом у Каллиппа было уже 3G сфер. На систему Каллиппа ссылается Аристотель в своей «Метафизике».
Недостаток модели Эвдокса—Каллиппа состоял в том, что планеты в ней двигались вокруг Земли, находясь от нее все время на одном и том же расстоянии; отсюда вытекало, что видимая яркость планет должна была бы оставаться неизменной. Наблюдения показывали, что это не так; это отчетливо было видно на примере Венеры, очень сильно меняющей свою яркость в зависимости от положения на орбите. На это обратил внимание ученик Платона Гсраклпд Понтийский (388—315 гг. до н. э.), предположивший, что Венера, а также Меркурий движутся не вокруг Земли, а вокруг Солнца, которое, в свою очередь, совершает обороты вокруг Земли. Представление о том, что обе планеты вращаются вокруг Солнца, продолжало жить еще во времена Римской империи. Другое нововведение Гераклида состояло в том, что он впервые объяснил суточное движение звезд не оборотами внешней небесной сферы, а вращением Земли вокруг своей оси.
Труды Эвдокса, Каллиппа и Гераклида Понтийского до нас но дошли. Самыми ранними греческими сочинениями по астрономии, которыми мы располагаем, являются два небольших трактата Автолпка: «О вращающейся сфере» и «О восходе и заходе звезд». В первом из них излагается кинематика точек и кругов на равномерно вращающейся сфере. Во втором трактате речь идет о более конкретных вещах: о Солнце и двенадцати знаках зодиака, о восходах и заходах звезд на зодиаке и пиже него. Эти же вопросы рассматриваются в более позднем сочинении — «Явления», которое традиция приписывает Эвклиду.
Медицина в VI—IV вв. до н. э. Медицина как отрасль прикладного знания и как специальная профессия, находившаяся под покровительством мифического врача-полубога Асклепия, была известна в Греции с древнейших времен. Наиболее ранние сведения медицинского харак
Древнегреческая наука
231
тера мы паходим в «Илиаде» Гомера. Гомеровская воеппая медицина отличалась рационализмом, сравнительно высоким уровнем анатомических знаний и широким использованием лекарственных трав. Наряду с этим, у Гомера (главным образом в «Одиссее») имеются места, свидетельствующие, с одной стороны, о наличии у ранней греческой медицины элементов первобытной магии и знахарства, а с другой — о ее связя, с египетской медициной.
В VI—V вв. до н. э. в Греции существовало несколько медицинских школ, пользовавшихся известностью. Представителем кротонской (италийской) школы был придворный врач персидского царя Демокед, упоминаемый Геродотом; к ней же принадлежал и Алкмеон, о котором будет сказано ниже. Основателем сицилийской школы считался философ Эмпедокл; для нее была характерна тесная связь с религиозно-этической доктриной пифагорейцев. Книдская гпкола продолжала чисто эмпирические традиции вавилонских и египетских врачей, детально описывая отдельные комплексы болезненных симптомов и для каждой болезни разрабатывая свою терапию, включавшую сложные рецепты, диетические предписания и широкое применение местных средств, например прижиганий. В источниках упоминаются также родосская и кирепская школы, но о них мы практически ничего не знаем.
Особое место в истории ранней греческой науки занимает кротонский врач и философ Алкмеон (конец VI— начало V в. до н. э.). Он может считаться предшественником экспериментальной физиологии и анатомии, поскольку он первый стал применять вскрытие трупов животных в целях изучения строения и функций отдельных органов. Признав мозг важнейшим органом и местопребыванием души, Алкмеон дал исторически наиболее раннее учение об ощущениях, дошедшее до нас в изложении Феофраста. Ему приписывается также открытие нервов, идущих от органов чувств к головному мозгу.
Большое влияние на греческую медицину последующего времени оказало учение Алкмеона о здоровье, в основе которого лежала идея равновесия противоположных «сил» — теплого и холодного, сухого и влажного, сладкого и горького и т. д. Заболевание организма вызывается нарушением этого равновесия.
232
И. Д. Рожапскпп
Наибольшую славу уже в древности приобрела кос-сьая медицинская школа, неразрывно связанная с именем Гиппократа, жившего во второй половине V в. до н. э. Гиппократу приписывалось свыше 70 медицинских книг, в своей совокупности составивших так называемый «Свод Гиппократа» (Corpus Ilippocraticuin); книги эти крайне разнородны, и пыне считают, что сам Гиппократ мог быть автором лишь некоторых из них. Основная черта гиппократовской медицины — строгий рационализм, выступающий у гиипократиков в качестве сознательно проводимой тенденции. В этой связи характерно сочинение «О священной болезни», в котором опровергается традиционное мнение об эпилепсии как об особой болезни, имеющей божественное происхождение. По мнению автора этого трактата, все болезни — и эпилепсия в этом отношении не представляет исключения — вызываются естественными причинами, которые необходимо выяснять и исследовать, чтобы выработать правильные и эффективные методы лечения. Вторая особенность шппо-кратовской медицины — требование индивидуального подхода в каждом конкретном случае, определяемого особенностями как самого пациента, так и той естественной среды, в которой он находится. При этом гиппократики широко пользовались понятием «природа» (®>3t;), впервые встречающимся у Гомера. «Природа» у гиппократи-ков — термин, обладающий широким спектром значений; в применении к пациенту этот термин служит для обозначения прежде всего особенностей телесной и духовной конституции, обусловленных происхождением, наследственностью и действием окружающей среды. Далее, у каждой болезни также есть своя «природа», которую врач должен знать, чтобы умело направить течение болезни в благоприятную для пациента сторону. Наконец, необходимо использовать «природу» (основные свойства) естественной среды, в которой находится больной: особенности климата, характер ветров, свойства воды и т. д.
В отдельных книгах Свода обнаруживается тенденция нащупать более надежный фундамент, на который могла бы опереться медицинская практика. Так, например, автор трактата «О древней медицине» возражает против вторжения в медицину современных ему натурфилософских концепций, противопоставляя им гуморальную
Древнегреческая наука
233
патологию, которой будто бы придерживались древние врачи и которая объясняет заболевание нарушением равновесного соотношения между «соками» (x'jp.ot), определяющими жизнедеятельность организма. Однако по поводу числа и характера этих «соков» у гиппократиков не было единого мнения. В целом же для гиппократовской медицины характерно отрицание беспочвенного теоретизирования и выдвижение на первый план эмпирических методов исследования, основанных на наблюдении и пачесном опыте.
Изучение отдельных сочинений Свода Гиппократа показывает, что анатомические знания в Греции поднялись к этому времени на более высокий уровень по сравнению »о странами Древнего Востока или с эпохой Гомера. Особенно хорошо был изучен скелет. Основные внутренние органы также были известны, хотя о детальном их строении знали мало, что объясняется существовавшим в Древ-гей Греции запрещением вскрывать трупы умерших. В отношении функций мозга в различных книгах Свода высказываются противоречивые мнения.
Эмбриологические представления гиппократиков не подымаются выше того, что писали по этому поводу фи-лософы-досократики, в частности Демокрит.
Наконец, Гиппократу приписывается формулировка основных положений врачебной этики. Так называемая «Клятва Гиппократа» в большей своей части сохраняет свое значение п ныне.
Платон и Аристотель
Дальнейшее развитие античной науки. Платон. Конец V в. до н. э., ознаменовавшийся Пелопоннесской войной, был временем глубокого кризиса греческой политической формы города-государства. Характерным для этого времени становится скептическое, а порой резко отрицательное отношение ко всякого рода космологическим спекуляциям; свидетельством такого отношения могут служить литературные памятники той эпохи: «Облака» Аристофана, а несколько позднее «Федон» Платона и «Воспоминания о Сократе» Ксенофонта. В центре внимания ученых-философов этого периода — гносеологические, этические и политические проблемы. Носителями этого нового типа
234
И. Д. Рожанскнй
знания становятся странствующие учителя мудрости — софисты, бравшиеся за плату обучать молодых людей всем наукам, которые могут быть полезны гражданину и политическому деятелю. На примере Аптифонта и Гиппия видно, что софисты не чуждались и чисто научных, в частности математических, проблем, но в целом их интересы лежали в другой области.
В Афинах просветительская деятельность софистов натолкнулась па оппозицию. Аттическая комедия подвергала софистов насмешкам. Непримиримым врагом софистики явился Сократ (469—399 до н. э.), который не был ученым в обычном смысле слова, это был скорее народный мудрец, учтель жизни, оказавший большое воздействие на современников не содержанием своего учения, а своей яркой личностью, с большой художественной силой обрисованной в диалогах Платона. После его смерти возникла литература, героем которой он сделался: это так называемые «сократические сочинения» (Хоуос о чхра’Ло'), главным образом в форме диалогов, авторамп которых, помимо Платона, были Ксенофонт, Антисфен, Эсхин (все трое из Афин), далее Эвклид из Могары, Федон из Элиды и Аристипп из Кирены.
Платой (428—348 гг. до н. э.) оставил глубокий след в развитии всей античной культуры. Он был мыслителем, болезненно ощущавшим кризис греческой формы города-государства вообще и афинской демократии в частности. Из 36 дошедших до нас сочинений, которые связываются с именем Платона, большая часть посвящена нравственным, эстетическим и другим чисто человеческим проблемам. В них Платон ищет абсолютных ценностей, он хочет найти опору для морали, которая не зависела бы от человеческих установлений. Идя по пути поисков абсолютного, Платон приходит к своей знаменитой теории идей, изложенной в ряде диалогов, принадлежащих к зрелому периоду его творчества («Федон», «Федр», «Пир», «Парменид», «Государство» и др.). Платоновская теория идей, существующих наряду с чувственно воспринимаемыми вещами, но имеющих по сравнению с ними более высокий онтологический статус, была первой в истории системой объективного идеализма. Ее положительное значение состояло в том, что она явилась важнейшим вкладом в развитие понятийного научного мышления, будучи разра
Древнегреческая наука
235
боткой гносеологических проблем, поставленных олеатами.
В своей теории идей Платон столкнулся с математикой. Возможно, что интерес к математике возник у него во время его пребывания в Италии под влпяпием знакомства с пифагорейцем Архитом Тарентским. Вернувшись на родину, Платон основал Академию, знаменитую научную школу, над дверями которой, согласно преданию, было написано: «Несведущим в геометрии в\.од воспрещен». Высокая оценка математики определялась философскими установками Платона: он считал, что занятия математикой являются важным этапом на пути к познанию вечных, идеальных истин. В «Государстве» Платон рекомендует включить четыре дисциплины — арифметику, геометрию, стереометрию и теоретическую астрономию — в число предметов, подлежащих изучению «стран.амн», стоящими во главе идеального государства. При этом он подчеркивает, что имеет в виду не практическую полезность этих наук, которую он не отрицает, но их важность для упражнения ума и для того, чтобы подготовить душу к размышлениям над философскими проблемами. Платон не отвергал эмпирического знания, получаемого с помощью органов чувств, но считал, что это знание дает информацию только о мпре явлений и потому не может не быть приблизительным, неточным и лишь вероятным. Познание же мира идей является высшей формой познания и осуществляется с помощью чистого умозрения, родственного теоретическому мышлению математика.
Сам Платон не внес существенного вклада в математику, но его влияние на развитие математических наук было весьма значительным. Оп руководил научной деятельностью внутри своей Академии и находился в дружественных отношениях с крупнейшими математиками того времени — Теэтетом и Эвдоксом. Математические проблемы рассматриваются в ряде диалогов Платона, в частности в «Меноне», «Теэтете», «Государстве». Астрономических вопросов Платон касается тоже в нескольких диалогах, но особенно в «Тимее», где заметно глубокое влияние пифагорейцев, от которых он заимствовал основные представления об устройстве космоса. Однако космология «Тимея» не была простым пересказом пифагорейских воззрений; Платон подвергнул эти воззренггя существенной
236
И. Д. Рожапскпй
обработке, в результате которой возник тот классический образ космоса, считающийся одним из наиболее ярких и характерных созданий эллинского духа.
Большой интерес представляет изложенная в «Тимее» теория материи, которую можно рассматривать как своеобразный сплав концепции четырех элементов Эмпедокла и атомистики Демокрита. Платон признает четыре едп-хии основными компонентами материального мира, но не считает их элементарными в строгом смысле слова. В их основе лежит общая, неопределенная материя, которую Платон называет Кормилицей, или Восприемницей, и которая, оформляясь, «растекается влагой, пламенеет огнем и принимает формы земли и воздуха» («Тим.» 52). Эти четыре стихии (или «четыре рода», как их называет Платон) упорядочены с помощью образов и чисел, а именно состоят из мельчайших невидимых частиц, имеющих формы правильных многогранников (так, частицы огня суть тетраэдры, воздуха — октаэдры, воды — икосаэдры, земли — кубы). Поверхность каждого многогранника может быть представлена как комбинация некоторого числа прямоугольных треугольников — либо неравнобедренных, с углами при гипотенузе 30° и 60°, либо равнобедренных, с углами 45°. Эти треугольники суть элементарные структурные единицы, из которых построены вещи. С помощью треугольников первого типа могут быть получены фигуры частиц огня, воздуха и воды, с помощью вторых — только кубы, из которых состоит земля. По этой причине три первые стихии могут переходить друг н ДРУга путем перестройки соответствующих частиц, земля же всегда остается землей. Исходя из этих предпосылок, Платон рассматривает в «Тимее» ряд физических процессов, относящихся — если пользоваться современной терминологией — к области фазовых превращений вещества.
Весьма важны соображения Платона о понятиях верха и низа, тяжести и легкости. Понятия верха и низа, по Платопу, имеют относительный характер. Люди, находящиеся в других точках поверхности земного шара, будут называть верхом и низом не то, что мы; это происходит потому, что мы называем низом направление, куда падают тяжелые вещи; падают же они к центру космоса. Они туда стремятся не в силу своей природы, а потому, что
Древнегреческая наука
237
сосредоточенная в центре космоса земля притягивает к себе родственные ей «землеподобные» вещи по принципу «подобное стремится к подобному». Аналогично этому, огненная периферия космоса стала бы притягивать к себе части огня, если бы кто-либо вознамерился оторвать их от нее. То же справедливо по отношению к воздуху и воде. Таким образом, у Платона имеется предвосхищение идеи тяготения, правда еще пе имеющей универсального характера и ограниченного рамками концепции четырех элементов.
Занимала Платона и проблема движения, обсуждению которой посвящен ряд мест в его поздних диалогах (начиная с «Теэтета»). Итогом этих размышлений следует считать классификацию движений, приводимую в «Законах». Из десяти видов движений Платон выделяет самодвижение, присущее жизни; причиной такого движения может быть лишь душа. При этом Платон приписывает душу не только живым организмам, но также небесным светилам и космосу в целом. Излагая свою концепцию, Платон резко полемизирует с «физиками», объясняющими самодвижение вещей их «природой».
Биологические взгляды Платона несут на себе печать его общефилософских воззрений. По его мнению, жизнь на Земле началась с появления человеческого рода. Творец мира создал человека как самое совершенное существо, в наибольшей степени приближающееся к образу божества. Все остальные виды живых существ возник ти из людей как их несовершенные модификации. Наряду с. этими фантастическими идеями Платон высказывает ряд интересных соображений о соотношении между строением отдельных органов и их функциями. Следуя традиции, идущей от Алкмеона, Платон придавал особое значение мозгу, который, по его словам, является местопребыванием высшей, бессмертной части души. Две другие части души имеют смертную природу и расположены соответственно в сердце и в области живота.
Аристотель. Универсальная научно-философская система, созданная Аристотелем из Стагиры (384— 322 гг. до н. э.), явилась синтезом всех достижений греческой науки предшествующего периода. Физика и этика, естественнонаучные и гуманитарные устремления были приведены у Аристотеля к гармоничному единству. Будучи учеником Платона, Аристотель в 335 г. основывает
23.S И. Д. Рожапский
I
в Афинах собственную научную школу — Ликей, которой руководит почти до конца своей жизни.
В основе естественнонаучных воззрений Аристотеля ле вит ого учение о материи и форме. Аристотель считал, что истинным бытием обладает единичная вещь, которая представляет собой сочетание материи и формы. Материя — это то, из чего возникает вещь, ее субстрат; однако к одной лишь материи вещь не сводится: чтобы стать вещью материя должна принять форму; без формы материя является вещью лишь в возможности, но не в действительности. С другой стороны, одна лишь форма нс может стать вещью в ее живой, единичной актуальности; форма без материи есть лишь — в плане познания — понятие о вещи, а в плане бытия — сущность вещи. Сама по себе форма есть нечто общее; чтобы стать единичным бытием, она должна соединиться с материей; соединение материи с формой есть реализация возможного, т. е. возникновение реально существующей конкретной вещи.
Понятия материи и формы, по Аиистотелю, пе абсолютны, по взаимообусловлены. То, что является материей в одном отношении, в другом отношении может быть формой. В качестве примера единства материи и формы Аристотель приводит бронзовую статую. Материей для статуи служит бронза. По глыба бронзы, из которой отлита статуя, тоже была единичной вещью, т. е. чем-то актуально существующим, и следовательно, представлявшим собою некое единство материи и формы.
В иерархии мира вещей на самом нижнем уровне — после первичной материи или чистой возможности — стоят четыре элемента или, как их называл Аристотель, четыре стихии — огонь, воздух, вода и земля (aroi^ela, от axoi^e-tov — буква; это означает, что вещи образуются из сочетаний элементов подобно тому, как слова образуются из сочетаний букв). Стихии, это — первичная материя, получившая форму под действием той или иной пары первичных сил — горячего и сухого, холодного и влажного. От сочетания сухого и горячего получается огонь, сухое и холодное дают землю, горячее и влажное — воздух, холодное и влажное — воду (сочетания взаимоисключающих сил — сухого и влажного, а также горячего и холодного — считаются невозможными). В отличив от четырех «корней» Эмпедокла, стихии Аристотеля могут,
Древнегреческая наука
239
в принципе, переходить друг в друга. Помимо этого, стихии могут вступать во всевозможные сочетания друг с другом, образуя разнообразные вещества, называвшиеся у Аристотеля подобочастными (та броюрарт,). Такого рода подобочастным является в вышеприведенном примере бронза; в мире органической природы к подобочастным веществам относятся мясо, кровь, кость, древесина и др. ткани или жидкости, входящие в состав животных или растительных организмов. Из соединения нескольких по-добочастных веществ может получиться нсподобочастное образование; к таковым относятся, например, отдельные органы — глаз, рука, сердце и т. д., а также вещи, созданные человеком, — дом, стол, статуя и др.
Для объяснения процессов движения, изменения, развития, происходящих в мире, Аристотель вводит четыре класса причин: причины материальные, формальные, действующие и целевые; три последних класса противостоят классу материальных причин и в ряде случаев могут рассматриваться вместе. Так, причиной того, что из бронзы возникла статуя, является, во-первых, сама бронза (материальная причина), во-вторых, деятельность ваятеля (действующая причина), в-третьих, та форма, которую приобрела бронза в результате этой деятельности (формальная причина), и, в-четвертых, та цель, которую поставил перед собой ваятель (целевая причина). Аналогичным образом рассматриваются Аристотелем и процессы, совершающиеся в органической природе, только там источник движения (развития, роста) находится не вне вещи (как в примере со статуей), а заключен в ней самой. Этот источник — «природа» (<p6at?); анализируя различные аспекты термина «природа», Аристотель указывает, что природой называют и то, из чего возникла данная вещь (материальная первооснова), и то, чем она становится в резулы ате процесса возникновения — развития. «В первом же и основном смысле, — пишет Аристотель, — природою является сущность, а именно сущность вещей, имеющих начало движения в себе, как таковых» («Метаф.», V, 4. 1015 а 15). Иначе говоря, природа — <рб«с, по Аристотелю, есть внутренне присущий вещам принцип (закон) движения или развития. Существенно новым у Аристотеля, по сравнению с его предшественниками, было использование идеи природы для объяснения механических
240
II. Д. Рожапгкпй
форм движения. Всякое тело, по мнению Аристотеля, обладает естественной, присущей ему по природе ( p<3st) формой движения. Для земных тел таким естественным движением является движение по прямой линии — к центру космоса, либо от центра к периферии. Тяжелые вещи — земля, вода, а также все сложные тела, в которых эти элементы преобладают, — стремятся по природе двигаться к центру космоса, т. е. падать вниз; наоборот, оговь и воздух и вещи, составленные по преимуществу из этих двух элементов, стремятся удалиться от центра космоса, т. е. подыматься вверх. Движение, противоположное по направлению естественному, а также всякая другая форма движения, например движение по кругу или по какой-либо иной кривой, будет для этих тел неестественным, противным их природе и может быть осуществлено лишь насильственным путем. В «надлунном» же мире для небесных светил естественным движением является равномерное вращение по кругу вокруг центра космоса (т. е. вокруг Земли).
Сказанное образует базис для космологии Аристотеля, наиболее детально изложенной в его трактате «О небе». Надо лишь добавить еще два положения, имеющих в системе Аристотеля фундаментальный характер. Первое — отрицание актуальной бесконечности, приводящее к необходимости мыслить мир конечным п ограниченным. Второе — отрицание пустоты. Оба эти положения кардинальным образом противоречат принципам космологии Демокрита, с которым Аристотель полемизирует. Космос, по Аристотелю, ограничен: он имеет форму сферы, за пре делами которой ничего нет. Этот космос вечен и неизменен: он не возник ни в результате чьего-либо творческого акта (как у Платона), ни в ходе естественного космогонического процесса (как у досократиков). Он заполнен материальными телами, которые в «подлунной» области образованы из четырех элементов — огня, воздуха, воды и земли. Это область изменчивого и преходящего: в ней происходят процессы возникновения, роста и гибели всевозможных вещей, в том числе живых существ. Резко отличается от нее «надлунная» область, где нет места возникновению и гибели, где находятся лишь небесные тела — звезды, планеты, Луна и Солнце, совершающие свои вечные круговые движения. Это — область пятого элемента,
Древнегреческая паука
241
эфира, который у Аристотеля обычно именуется «первым телом» (згрштоу ай[ла). Эфир ни с чем не смешан, вечен и не переходит в другие элементы; он не обладает качествами тяжести и легкости, и его естественным движением является движение по кругу. Он не везде одинаково чист (это относится главным образом к пограничному с подлунной областью слою), но в целом это наиболее «божественный» из всех пяти элементов.
В центре космоса находится Земля, имеющая форму шара; шарообразность Земли доказывается Аристотелем как априорными соображениями, так и с помощью аргументов, основанных на наблюдении. Аристотель приводи г первую в истории греческой науки оценку размеров земного шара, диаметр которого оказывается у него завышенным примерно в два раза по сравнению с его истинным значением. Далее он утверждает, что Земля не вращается вокруг своей осп. Небесным светилам также присуща шарообразная форма как наиболее совершенная из всех возможных. В отношении движения небесных тел Аристотель опирался на результаты, полученные Эвдоксом и Кал-лпппом. Однако то, что у астрономов было лишь моделью, у Аристотеля стало реальным механизмом движения небесных светил. Всю надлунную область космоса он представил в виде ряда соприкасающихся сфер, имеющих эфирную природу и равномерно вращающихся с различными скоростями вокруг различных осей. Общее число сфер у Аристотеля оказалось равным 55. Источником движения «первого неба» является неподвижный «первичный двигатель» (бог), источниками движения прочих небесных светил должны быть другие вечные и неподвижные божественные сущности, которые, однако, занимают низшее положение в мировой иерархии по отношению к «первичному двигателю». Таким образом, аристотелевская концепция является лишь модификацией представлений Платона о том, что источником движения небесных тел являются их души, именуемые богами.
Такога эта картина мироздания, продержавшаяся затем в течение 2000 лет.
У Аристотеля мы находим первую в истории человечества классификацию наук. Все науки делились им на три группы: науки теоретические, практические и творческие. Задачей теоретических наук является нахождение’
242
И. Д. Рожапскин
истины и ничего более; цель практических наук — действие, творческих — создание чего-нибудь, что не существовало ранее и что может либо приносить человеку пользу, либо доставлять ему наслаждение. Математика — теоретическая наука; к числу таковых Аристотель относил также физику и «первичную философию». Каждая наука характеризуется своим предметом. Предметом математики является не определенный класс чувственно-воспринимаемых объектов, а род свойств, присущих любым объектам, — именно те свойства, которые имеют отношение к категории количества. Под категорию количества подпадают, во-первых, числа, во-вторык — пространственно-протяженные величины. Количественные свойства математика изучает, отвлекаясь от всех чувст-венно-воспринимаемых свойств предметов, поэтому математические истины познаются не с помощью органов чувств, а с помощью разума. Этим определяются особенности математического метода: математика исходит из определений и аксиом, т. е. бесспорных положений, из которых с помощью логических умозаключений выводятся теоремы и другие следствия. Характерно, что почти все примеры доказательств, приводимые Аристотелем во «Второй аналитике», взяты им из области математики.
Помимо чистой математики, Аристотель отмечал дисциплины, изучающие количественные свойства определенных классов объектов. Это — астрономия, механика, оптика, наука о гармонии и т. д. Эти науки имеют отношение как к физике, так и к математике: по своему предмету они ближе к первой, по методам жо — ко второй.
Весьма существенную часть в наследии Аристотеля составляют его сочинения, относящиеся к области биологических наук. До нас дошли 4 больших и 11 малых биологических трактатов Аристотеля, в которых с исчерпывающей полнотой изложено все, что было к тому времени известно в этой области. В этих трактатах Аристотель выступает как истинный основоположник биологической науки, и утверждение, что, несмотря на всю свою универсальность, Аристотель-ученый был прежде всего и по преимуществу биологом, представляется недалеким от истины.
В сфере внимания Аристотеля находился как животный мир, так и мир растений. Но ботанические трактаты
Древнегреческая наука
243
Аристотеля были менее значительными и не дошли до нас; последнее обстоятельство отчасти объясняется тем, что работу по изучению растений блестяще продолжил ученик Аристотеля Феофраст, далеко превзошедший в этой области своего учптеля. Наоборот, все зоологические сочинения Аристотеля сохранились и дают достаточно полное представление о размахе его естествоиспытательской деятельности. В этих сочинениях Аристотель описал 495 видов различных животных (это число превышает число видов, находимых в «Естественной истории» Плиния, написанной несколькими столетиями позже), в том числе 160 видов птиц, 120 — рыб, 60 — млекопитающих, 60 — насекомых и т. д.
Аристотель дает первую в истории науки классификацию животного мира. Прежде всего он делит животных на обладающих кровью (та ёташа) и лишенных крови (та oivaipa). Сопоставление различных животных по их внутреннему строению привело Аристотеля к последовательному расположению живых существ по определенной шкале (самая ранняя попытка создания «лестницы природы»),
О точности сведений, которыми располагал Аристотель, свидет( льствует хотя бы такой факт. Он писал, что существует группа живородящих рыб (акулы и скаты), и отмечал, что у одной из акул (обозначаемой теперь родовым именем Galevos) яйца прикрепляются к стенке матки с помощью органа, сходного с последом четвероногих живородящих животных. Это наблюдение Аристотеля в течение многих столетий считалось ошибочным, и только в середине XIX в. И. Мюллер доказал его правильность. Наряду со сказанным, в сочинениях Аристотеля (особенно в «Истории животных») содержится много сведений об образе жизни и нравах животных, о способах их размножения, местах обитания, питании, передвижениях и т. д.
Проблемы, связанные с органами чувств, с происхождением и особенностями ощущений, с умственной деятельностью человека, затрагиваются в ряде сочинений Аристотеля и прежде всего в трактате «О душе». Человеческая душа, по Аристотелю, имеет тройственный характер: она состоит из души растительной, или питающей, души чувствующей и души разумной. Разумная душа существует
24 \
И. Д. Рожапскпп
только у человека, животным присущи питающая и чувствующая душа, растениям же — только питающая.
В заключение необходимо подчеркнуть значение логических работ Аристотеля. Разработанная Аристотелем формальная логика явилась в дальнейшем важнейшим орудием научного познания. В течение двух тысячелетий (практически до XIX в.) не только ее содержание, но и та форма, которую ей придал Аристотель, казались незыблемыми.
Перипатетическая школа. Аристотель явился основоположником одной из важнейших научно-философских школ древности, получившей наименование перипатетической. Она была названа так потому, что Аристотель имел обыкновение прогуливаться со своими учениками по саду Ликея, обсуждая с ними те или иные вопросы (керигатйо — гуляю, прохаживаюсь). Наиболее значительными учениками Аристотеля считаются: Фе^фраст из Эреса (на о-ве Лесбос), Эвдем из Родоса, \ристоксен из Тарента, Дикеарх из Мессины. Все они были самостоятельными учеными, сохранявшими общий дух основоположника школы, но в отдельных вопросах не останавлп вавшимися перед существенными отклонениями от взглядов своего учителя.
Наиболее значительным из них был, бесспорно, Феоф-раст (372—287 гг. до н. э.), в течение 36 лет руководивший школой после того, как Аристотель, незадолго до смерти, в последний раз покинул Афины. Феофраст написал множество сочинений, относившихся к самым различным областям знания, из которых почти целиком to нас дошли только два больших трактата по ботанике («Ор исследовании растений» и «Причины растений»), имевшие такое же значение для становления этой науки, как «История животных» Аристотеля для зоологии. Наряду с более или менее значительными отрывками из других естественнонаучных сочинений Феофраста (например, «О камнях», «О ветрах» и т. д.), мы имеем ряд фрагментов из его большого труда «Мнения физиков», где в строго систематичс ском порядке излагались воззрения философов-досократи-ков.
О характере этого сочинения можно судить по дошедшему до нас отрывку «Об ощущениях». Его утеря представляется особенно огорчительной потому, что оно явля
Древнегреческая паука
245
лось основным источником сведении о досократиках для всей последующей доксографии.
Эвдем, о жизни которого почти пе имеется сведений, Пыл менее продуктивным и самостоятельным мыслителем, чем Феофраст. В первые годы после смерти Аристотеля он работал, вместе с Феофрастом, над дальнейшим развитием аристотелевской логики, а затем переселился на Родос, где открыл филиал школы. Большой интерес, по-видимому, представляли его работы по истории астрономии и математики, на которые впоследствии многократно ссылался неоплатоник Прокл.
Арнстоксен был выходцем из пифагорейской школы, влияние которой, по-видимому, сильно ощущалось в его сочинениях. Так, в его рассуждениях о соотношении души и тела большую роль играло пифагорейское понятие гармонии. Он написал несколько сочинений по истории и теории музыки, от которых до пас дошел ряд отрывков.
Что касается Дикеарха, то он занимался преимущественно географией, историей и политикой. О его географических работах будет сказано несколько ниже.
Помимо перечисленных непосредственных учеников Аристотеля следует еще упомянуть более молодого., по сравнению с ними, Стратопа из Лампсака, руководившего школой после смерти Феофраста (с 287 по 2G9 г. до н. э.). Стратой был, несомненно, выдающимся ученым. Его интересы лежали главным образом в области физики и психологии; к сожалению, от его сочинений до нас дошло лишь несколько незначительных фрагментов. На основании косвенных источников можно заключить, что Стратон отошел от Аристотеля в ряде самых существенных пунктов. Основным понятием в его учении являлось понятие «природа» (tpfaig), которую он считал универсальной, неотделимой от материи силой; наоборот, бог и душа как самостоятельно действующие агенты им решительно отрицались. Он отказался от аристотелевского учения об естественных местах для элементов и полагал, что все четыре элемента обладают различными степенями тяжести.
Стратон подверг обстоятельной критике атомистическое учение своего современника Эпикура, но в то же время заимствовал некоторые положения атомистики. Материя, по его мнению, состоит из частиц (в принципе дели
246
И. Д. Рожанский
мых), которые отделены друг от друга пустыми промежутками, занимающими мепьший объем, чем эти частицы. Помимо удара и тяжести, Стратой допускал существование и других действующих сил (к пим он относил, в частности, теплоту и холод).
В целом учение Стратона представляло собой своеобразную материалистическую переработку физики Аристотеля и содержало целый ряд положений, имевших бесспорно прогрессивное значение.
Преемником Страгона по руководству перипатетической школой был Ликон из Троады (ум. в 225 г.), после чего наступает длительный период ее упадка.
Эллинистическая наука
Всеобъемлющая система Аристотеля была завершающим этапом ранней греческой науки «о природе» (keoi <Р’хзе<1><;), причем этапом, который содержал признаки начинающейся дифференциации этой науки на ряд специальных дисциплин. Правда, уже в V в. до н. э. из этой не-расчлененной науки выделилась математика, а несколько позднее астрономия (что касается медицины, то она представляла собой особый род профессиональной деятельности и потому всегда существовала самостоятельно). Но все же для греческой науки V в. характерны пе эти, еще только намечавшиеся тенденции к обособлению отдельных ее разделов, а ее единство и нерасчлененность. Именно поэтому раннюю античную науку следует рассматривать в основном не по дисциплинам, а по научно-философским системам. Всякое иное членение этой науки было бы искусственным и произвольным.
Положение меняется в эпоху эллинизма, начальным рубежом которой принято считать конец IV в. до н. э. Здесь уже не только математика и астрономия, но и механика, геометрическая оптика, география, зоология, ботаника, эмбриология начинают развиваться независимо друг от друга, находя — каждая — присущие только ей специфические объекты и методы исследования. Поэтому основным принципом членения будет теперь деление не по философским системам, а по дисциплинам. Этому, разумеется, не противоречит то обстоятельство, что вели чайшие ученые поздней античности — Птолемей, Гален —
Древнегреческая наука
247
были энциклопедистами, прославившими себя достижениями пе в одной, а в нескольких областях знания. Характерным явлением для этой эпохи была также усиливающаяся связь между теоретическими идеями и их практическим применением, возрастающая роль прикладных исследований.
Эллинизм и зарождение александрийской научной школы. Образование империи Александра Македонского знаменовало собой окончательное крушение греческой общественно-политической формы города-государства и явилось поворотным пунктом и началом новой эры не только в политической, но и культурной истории древнего мира. Эта эра — эллинизм. Походы Александра Македонского далеко раздвинули пределы известного грекам мира и, расширив их кругозор, способствовали утверждению нового мироощущения, не свойственного жителям Эллады классической эпохи. Раньше греки также отправлялись в морские путешествия и основывали колонии па берегах Черного и Средиземного морей. Эти колонии были чисто греческими поселениями в варварском окружении, но в большинстве случаев нельзя было говорить о существенном влиянии этого окружения на обычаи, представления о мире и культурные интересы греческих поселенцев. Теперь же под властью Александра оказались великие древние цивилизации, в некоторых отношениях превосходившие греческую, и непосредственный контакт с ними не мог не привести к изменению отношения греков к окружающему их миру. Присущие грекам классической эпохи черты партикуляризма, национальной гордости и ощупц ния своей исключительное ти сменились теперь космополитизмом, ставшим в дальнейшем характерной особенностью всей поздней античпости; возникновение Римской мировой державы и победа христианства не погасили, а лишь усилили эти космополитические тенденции. Другой важный момент состоял в потере старой Грецией ее прежней культурной гегемонии. Если Афины еще продолжали оставаться местом пребывания важнейших философских школ, то оформившиеся к этому времени специальные науки нашли более благоприятную почву для своего развития в столицах новых государств, на которые распалась империя Александра после смерти ее создателя. Развитие наук и искусств в этих государ
248
И. Д. Рижанскпй
ствах стимулировалось покровительством правителей, побуждаемых к этому соображениями престижа, а порой и личным интересом. На первое место среди новых столиц быстро выдвинулась Александрия, где уже основатель династии — Ито темей I Сотер (323 — 283 гг. до н. э.) — приютил ученика Феофраста Деметрия Фалерского, который может считаться первым «переносчиком» в Александрию аристотелевских традиций. При первых правителях династии Птолемеев была основана знаменитая алек-саидрийская библиотека, а также учрежден Мусей — учреждение, при котором жили крупнейшие ученые и литераторы, получавшие государственное жалование, достаточное для того, чтобы они могли целиком посвятить себя научным занятиям. Большого развития достигла там же книгоиздательская деятельность, чему в немалой •степени способствовала монополия Египта на папирус — единственный книжный .материал, получивший в то врг ля широкое распространение; в результате Александрия вскоре стала крупнейшим центром книжной торговли. Все это привело к тому, что уже в III в. до и. э. александрийская наука достигла расцвета почти во всех определившихся к тому времени областях знания. Но прежде чем перейти к характеристике некоторых из этих областей, остановимся на важнейших философских направлениях эпохи эллинизма, оказывавших влияние п на развитие научной мысли.
Основные философские учения эпохи эллинизма. В отличие от специальных наук, философия эллинистической эпохи не нашла благоприятной почвы в столицах новых государств и продолжала в основном оставаться афинской. Помимо платонизма и перипатетиков, в III в. до н. э. возникли новые философские школы, полемизировавшие друг с другом и боровшиеся за успех и влияние. С точки зрения истории науки интерес представляют лишь две из этих школ: эпикурейство и стоицизм.
Основатель первой из них — Эпикур (342—270 гг. до н. э.) — был сыном афинянина Неокла, проживавшего на о-ве Самос.
Приняв основные положения атомистики Демокрита, Эпикур пытался усовершенствовать ее в тех вопросах, которые вызывали наиболее острую критику ее противников. Так, например, он признавал наличие абсолютной
Древнегреческая наука
249
противоположности верха п низа; но его представлениям, в бесконечной бездне пространства бесчисленные множества атомов несутся сверху вниз, увлекаемые силой тяжести. Тяжесть атомов пропорциональна их величине, однако различия в тяжести пе влияют на скорость их падения в пустоте; этот тезис выводился Эпикуром из представлений о дискретной структуре пространства (он считал, что из бесконечной делимости пространственны * интервалов неизбежно вытекала бы — в соответствии с аргументами Зенона Элейского — невозможность всякого движения). Атомы в своем падепип с одинаковой скоростью могут отклоняться от строго вертикального направления; эти отклонения (позднее обозначенные Лукрецием латинским термином clinamen) невелики, но произвольны. Отклоняясь, атомы могут сталкиваться друг с другом, сцепляться и образовывать скопления и вихри, приводящие к возникновению миров.
Источником всякого знания, согласно учению Эпикура, являются чувственные восприятия; в этом отношении Эпикур был представителем последовательного сенсуализма в греческой философии. Адекватность восприятий вызывающим их внешним объектам обосновывалась Эпикуром с помощью демокритовской теории истечений и образов.
В соответствии с воззрениями творцов атомистики, Эпикур считал душу телеспой, состоящей пз наиболее легких и подвижных атомов; при этом он делил ее па несколько составных частей, обладающих разными функциями. Единство души обусловлено сдерживающей ее телесной оболочкой; в случае гибели последней душа улетучивается, распадаясь на отдельные атомы. В целом учение о душе было разработано Эпикуром весьма основательно, ибо оно служило фундаментом для его этики, составлявшей ядро и важнейшую часть всей его философской системы.
Как и Демокрит, Эпикур признавал существование богов, но отрицал, что они как-либо влияют на ход мирового процесса: обитая в пространствах между мирами, боги пребывают в состоянии вечного блаженства, пе нарушаемого никакими заботами пли страстями.
От Эпикура дошли лишь немногие тексты: три философских письма (к Пнфоклу, Геродоту и Мепекею), сборники
250
И. Д. Рожапскпй
важнейших эпикурейских максим (Koptai S6;at) и ряд фрагментов. Влияние эпикуреизма в позднейшие эпохи определялось не сочинениями самого Эпикура, а поэмой «О природе вещей», написанной последователем Эпикура — римским поэтом Лукрецием Каром.
Если эпикурейство было еще во всех отношениях порождением эллинского духа, то паиболее могучая философская школа той эпохи — стоицизм — вобрала в себя много восточных элементов. Характерно, что почти все ведущие деятели этой школы были так или иначе связаны с Востоком. Ее основатель Зенон (ок. 336—2б4 гг. до н. э.) был уроженцем финикийской колонии Китион на Кипре. Школа его получила наименование по месту, в котором проходили занятия (зтоа — крытая галлерея с колоннами). Большого влияния школа стоиков достигла в конце 1П в. до и. э., когда ее руководителем стал выдающийся ученый Хрисипп из Сол (в Киликии). Преемником Хри-сиппа был Диоген из Вавилона, а последний известный мыслитель греческого стоицизма Посидоний Родосский вел свое происхождение из Сирии (первая половина I в. до н. э.).
Стоики признавали элементами всего сущего четыре стихии, но, в отличие от Аристотеля, резко противопоставляли «высшие» стихии, т. е. огонь и воздух, «низшим» — воде и земле. Сочетание огня и воздуха образует «пневму» — нечто вроде души, проникающей все вещи и мир в целом; хотя эта душа материальна, по опа обладает активностью и формообразующей способностью; наоборот, вода и земля пассивны, инертны и получают форму от пневмы. Взаимопроникновение «пневмы» и материи имеет своеобразный характер: «пневма» непрерывна и заполняет все пространство, в том числе и те его точки, которые уже заняты материальными вещами. В этом смысле «пневму» можно сопоставить с эфиром (или полем) физики нового времени. Это сопоставление оказывается тем более уместным, что, в силу внутренних движений, в ней происходящих, «пневма» всегда находится в состоянии известного натяжения (tovos); степенью этого натяжения определяются градации форм «пневмы». Величина и фигура тел, а также все их качества — все это является результатом действия «пневмы». В мире органической природы «пневма» обусловливает жизнедеятельность живых су
Дреиши речесиая НауКй 2->1
ществ, причем от тонкости «пневматической» формы зависит степень организации данного класса животных или растений. Космос в целом объединяется пневмой, которая придает ему единство и । кватывает все, что в нем содержится. Существует только один космос; он имеет сферическую форму и окружен беспредельным пустым пространством. Космос — живое разумное существо, проходящее циклический путь развития. Он возникает из первичного огня, проходит стадию, когда в нем раскрывается все многообразие сущего, а затем вновь разрешается в стихию огня в результате всеобщего воспламенения (гхлб-ршл;). Этот процесс необходим и причинно обусловлен — так же как причинно обусловлены и все единичные события мирового процесса, включая кажущиеся произвольными действия живых существ. Эту единую и необходимую причинную связь всего совершающегося, носителем которой является проникающая весь мир «пиевма», стоики называли термином «рок», или «судьба» (etixappsvi;). Физико-космологические воззрения стоиков находились в тесной связи с их логическими и этическими концепциями.
География. Выше мы имели случай отметить, что в книгах Геродота географические описания и изложения исторических событий еще тсспо переплетались друг с другом. Что касается истории, то она вскоре оформляется в качестве самостоятельной дисциплины, достигая расцвета в «Истории пелопоннесской войны» Фукидида и в исторических трудах Ксенофонта, Эфора и Феопомпа. Развитие географии происходило более медленными темпами. Географические сведения, содержавшиеся у Геродота, долгое время определяли кругозор греков в этой области.
В следующем IV в. путешествия в далекие страны и описания чужих земель становятся более частыми. В знаменитом «Анабазисе» Ксенофонта содержится много интересных данных по географии и этнографии Малой Азии и Армении Ктесий Книдский, состояншпи в течение 17 лет (415—398 гг. до и. э.) врачцм при персидском дворе, написал ряд исторических и географических сочинений, из которых, помимо истории Персии, особой популярностью в древности и в Средние века пользовалось описание Индии, содержавшее массу баснословных сведений о при
252
И. Д. Рожапскнй
роде и жителях этой страны. Ииздпес, около 330 г. до н. э., Пифей из Массилии предпринял путешествие вдоль западных берегов Европы; отрывки из Сочинения Пнфея приведены в трудах Полибия и Страбона.
Мощным импульсом к развитию географической пауки явились походы Александра Македонского. Когда Александр приступил к завоеванию стран Востока, и оп, и его полководцы имели лишь очень слабое представление об этих странах 11о армию Александра сопровождали «землемеры» (p-rjpLex-rtaTot), составлявшие описание пройденных маршрутов и наносившие на карту соответствующие территории. Данные, накопленные во время походов Александра, позволили ученику Аристотеля Дикеарху из Мес-соны составить карту известных тогда обитаемых районов земной поверхности («ойкумепы»), намного превосходившую ио своей точности все более ранние попытки подобного рода.
Высшие достижения александрийской географии свя-вапы с именем Эратосфена из Кирены, в течение долгого времени (234—196 гг. до н. э.) стоявшего во главе александрийской библиотеки. Труд Эратосфена «География», состоявший из трех книг, не сохранился, но содержание его, а также критические замечания Гиппарха изложены у Страбона. В этом сочинении Эратосфен дает очерк истории географии, начиная с ранних ионийских карт, приводит доказательства шарообразности формы Земли, упоминает о своем методе измерения земного шара и развивает соображения об ойкумене, которую он считал островом, со всех сторон окруженным океаном. На этом основании Эратосфен впервые высказал предположение о возможности достичь Индии, плывя из Европы на запад. Метод определения окружности Земли подробно описан Эратосфеном в специальной работе; этот метод состоял в измерении длины тени, в один и тот же момент времени отбрасываемой в двух точках земного шара, находящихся на одном меридпанс (в Александрии и Асуане). Полученное Эратосфеном значение оказалось равным 252 000 стадий или 39 690 км, что всего лишь на 310 км отличается от истинного значения. Этот результат Эратосфена оставался непревзойденным вплоть до XVII в. н. э.
. Ipcuiii грс'п.-ская наука
253
Астрономия александрийской эпохи
Исключительно быстрое развитие греческой астрономии в IV—III вв. до н. э. ие может по вызывать изумления. Если в космологических построениях Анаксагора и Демокрита Земля все еще считалась висяшей в пространстве плоской лепешкой, а между отдельными планетами практически не проводилось различения, если созданная в то же время или чуть позже причудливая система Фило-лая была продуктом чисто умозрительных спекуляций, нс имевших под собой подлинно научной базы, то менее чем через столетие уже возникла детально разработанная модель космоса Эвдокса—Каллиппа. Вслед за этим Ге-раклид Понтийский сделал первый серьезный шаг к гелиоцентрической системе мира. Второй шаг был сделан Арпстархом Самосским, *№ш«м в первой половине 111 в. до и. з. Аристарх исходил из того соображения, что допущение Гераклида о движении Меркурия и Венеры вокруг Солнца еще не снимало всех трудностей, связанных с изменением яркости планет. То, что было сказано о Вспере, было справедливо и для Марса: находясь в противостоянии с Солнцем, Марс имел значительно большую яркость, чем в соединениях, причем эти противостояния и соединения могли происходить в любых местах зодиакального пояса. Объяснить это можно было двояко: либо Марс вращается вокруг Солнца, а Солнце, в свою очередь, совершает обороты вокруг Земли, либо же Земля, находясь между Солнцем и Марсом, вращается вокруг Солнца. Аристарх остановился на второй из этих гипотез, что побудило историков науки нашего времени именовать его «Коперником древности». При этом Аристарх опирался на данные наблюдений прохождения Луны через тень Земли во время лунных затмений; эти наблюдения привели его к выводу, что диаметр Солнца должен быть больше диаметра Земли примерно в 19/3 раз, а расстояние от Земли до Солнца составляет приблизительно 20 расстояний от Земли до Луны. Из этого следовало, что объем Солнца должен быть в (19/3)3 или 250 раз больше объема Земли. Если это так, то более вероятным представлялось, что Земля вращается вокруг большего тела — Солнца, а не наоборот. Возражения, что в случае движения Земли вокруг Солнца должны были меняться видимые конфигу
25-4
И. Д. 1'ожаискпй
рации неподвижных звезд, Аристарх отводил указанием на огромность радиуса сферы неподвижных звезд, по сравнению с которой орбита Земли может считаться точкой.
В древности, одпако, гипотеза \рпстар<а пе нашла поддержки среди большинства астрономов; един, т венным известным ее сторонником оказался Селевк из Селевкии, оригинальный мыслитель, живший во II в. до н. э. Селевк был первым ученым, установившим зависимость приливов и отливов от положения Луны. Как раньше Гераклид Понтийский, Селевк отстаивал также тезис о бесконечности вселенной.
Против гипотезы Аристарха выдвигались доводы, которые по тому времени казали* ь достаточно вескими. Так, например, Птолемей рассуждал, что если бы Земля двигалась так быстро, как это следовало из гипотезы Аристарха, то все, что находится на ее поверхности и не связано с ней жестким образом, должно было бы отставать от ее движения и казаться улетающим в противоположную сторону. С позиций аристотелевской динамики, не знавшей закона иперции, этому аргументу ничего нельзя было противопоставить. Другое возражение против системы Аристарха имело уже чисто астрономический характер. По Аристарху, все планеты, Луна и Земля движутся равномерно по круговым орбитам вокруг Солнца, откуда с необходимостью следовало, что длительность времен года должна всегда оставаться одинаковой. Однако уже афинские астрономы V в. до н. э. Метон и Эвк-темон знали, что это пе так. Это было подтверждено также более точными данными вавилонских наблюдений, которые к тому времени уже стали известны грекам.
Чтобы спасти равномерность круговых движений небесных светил, другой астроном, Гиппарх из Никеи, живший и работавший во II в. до и. э. (главным образом на о-ве Родосе), вернулся к традиционной точке зрения, согласно которой Солнце вращается вокруг Земли, предположив при этом, что центром круговой орбиты Солнца является не центр Земли, а другая точка, положение которой было точно определено Гиппархом. Такого рода орбиты получили наименование эксцентров, с помощью которых Гиппарх полностью разработал теорию движения Солнца вокруг Земли.
Древнегреческая паука
255
Заслуги Гиппарха в астрономии нс ограничивались введением эксцентров. Он по справедливости считается создателем наблюдательной астрономии Правда, систематические астрономические наблюдения начали проводиться уже в IV в. до н. э. Евдоксом. Эратосфену, о котором шла речь в связи с географией, приписывается точное определение наклона эклиптики. Архимед дал детальное описание метода, примененного им для измерения видимого диаметра Солнца, который оказался у него равным 1/720 пояса зодиака, т. е. 1/2°, что хорошо согласуется с результатами, полученными в более близкую к нам эпоху. Известно также, что Архимед построил небесный глобус и искусный планетарий, который после его смерти был увезен в Рим. Что же касается Гиппарха, то он дал более точное значение продолжительности тропического (солнечного) года, а также определил длительности времен года, которые у него оказались почти точно совпадающими со значениями, приводимыми в вавилонских таблицах. Далее он открыл явление предварения равноденствий (прецессии), уточнил представления о движении Луны и вывел более точные периоды лупных затмений, чем те, которыми располагали вавилонские астрономы. Наконец, Гиппарх составил подробный звездный каталог, включавший в себя 850 неподвижных звезд, положение каждой из которых определялось долготой и широтой относительно эклиптики. Каталог Гиппарха составил, по видимому, главную часть каталога звезд, приведенного Птолемеем в «Альмагесте».
Из астрономов меиынего масштаба, работавших в Александрии в III—II вв. до и. э., следует упомянуть друзей Архимеда Досифея и Коиона, далее Гипсикла, у которого впервые встречается заимствованная из Вавилона шестидесятиричная система деления круга на градусы, минуты и секунды, а также поэта Арата, давшего в поэме «Небесные явления» описание всех созвездий по карте, составленной Эвдоксом.
Математика. В конце IV в. до н. э. почти вся известная к тому времени математика была изложена и систематизирована в «Началах» Эвклида — труда, которому суждено было остаться образцом и г еалом на тысячелетия. Этот труд был своего рода математической энцпклош дней, в который, помимо собственных результатов автора.
256
И. Д. Рожанский
вошли открытия Архита, Теэтета, Эвдокса и других математиков предшествующей эпохи. Излагаемому материалу Эвклид придал логическую стройность, основанную на последовательном применении дедуктивного метода.
Кроме «Начал» Эвклиду приписывается еще несколько сочинений, относящихся к различным разделам математики. В книге «Данные» Эвклид исследовал вопрос: каково должно быть минимальное число заданных величин, чтобы сделать некоторую задачу определи иной. В небольшом сочинении «О делении фигур», сохранившемся только в арабском переводе, обсуждается наличие о делении данной геометрической фигуры на две части, имеющие данное отношение, с помощью прямой, имеющей данное направление или проходящей через данную точку. Нам известны также сочинения: «Явления», где излагается элементарная сферическая астрономия, далее «Оптика», «Катоптрика» и «Сечепия капона» (теория музыки). Эти сочинения были, по сути дела, первыми трудами в области математической физики: изложение в них имело строго дедуктивный характер, причем теоремы выводились из точно сформулированных физических гипотез и математических постулатов.
Некоторые математические сочинения Эвклида до пас пе дошли, среди них древние источники называли книгу о конических сечепиях, написанную задолго до трактата Аполлония на ту же тему.
Архимед формально пе принадлежал к александрийской научной школе: он родился в 287 г. до н. э. в Сиракузах и там же прожил почти всю свою жизнь. Считается, однако, несомненным, что он бывал в Александрии, где установил связи с александрийскими учеными; об этом свидетельствует его переписка с астрономом Конопом, а после смерти последнего — с Досифесм и Эратосфеном. Будучи военным инженером при дворе сиракузского царя Гиеропа, Архимед много занимался проблемами практического значения; этим, в частности, объясняется сочетание прикладных и теоретических аспектов в его работах, резко выделяющее его среди других греческих математиков.
Однако подлинное величие Архимеда обнаруживаетап р тех его сочинениях, где он непосредственно подходит
Древнегреческая наука
257
к проблемам высшей математики. Если до Архимеда греческие математики пользовались методом «исчерпывания» Эвдокса, приближаясь к предельному значению лишь с одной стороны, то Архимед при доказательстве большинства теорем, связанных с определением площадей и объемов, заключал подлежащую определению величину между двумя интегральными суммами, разность между которыми может быть сделана меньше любой наперед заданной величины. Искомая величина находится как общий предел обоих сумм при безграничном увеличении числа слагаемых, из которых каждое стремится к нулю, что эквивалентно задаче о вычислении определенною интеграла в современной математике. Задачи по вычислению площадей и объемов различных фигур и тел, решенные по этом} методу, изложены Архимедом в книгах «О шаре и цилиндре», «О спиралях», «О коноидах и сфероидах».
Наряду со строго математическими методами, Архимед иногда пользуется эвристическими приемами для получения тех же результатов. Так, например, в рукописи неизвестного ранее сочинения Архимеда, найденной в 1906 г. И. Л. Хейбергом в Константинополе, приводятся доказательства ряда теорем с помощью принципа рычага. Механические методы, используемые Архимедом, представляют собой обход интегрирования, когда можно бывает выразить одни интегралы через другие, уже известные
В сочинении «О спиралях» Архимед разработал методы определения касательной, проходящей через точку кривой. Эти методы были применены им только в одной задаче — для отыскания касательной к спирали р-а<р. Тем не мепее они обладают той же общностью, что и его интегральные методы, и могут служить для отыскания касатс кьиой к любой дифференцируемой кривой. К дифференциальным методам Архимеда относится и его метод определения экстремальных значений алгебраических выражений, которые могут быть представлены в виде геометрических кривых.
Не все математические сочинения Архимеда дошли до нашего времени. Так, книги «Леммы» и «О семиугольнике» известны лишь в арабском изложении, от ряда же других книг (в том числе от трактата «О параллельных линиях») сохранились только заглавия.
2'.S
И. Д. Рожа некий
Третий великий математик эпохи эллинизма — Аполлоний из Перги (в Памфилии) жил и работал в Александрии в конце 111 в. до п. э. Самое знаменитое сочинение Аполлония («Kovtxa»), дошедшее до нас не полностью, посвящено теории конических сечений, которой ранее занимались Эвклид и Архимед, по которая лишь у Аполлония получила полную и строгую трактовку, близкую к методам современной аналитической геометрии. Долгое время это сочинение Аполлония не имело влияния на развитие науки, и лишь в XVII в., в связи с развитием аналитической геометрии, механики и новой теории движения планет, данной Кеплером, наступило возрождение идей Аполлония.
Из других математических работ Аполлония известны — только по заглавиям — трактаты «О вставках», «О неупорядоченных иррациональностях», «О спиральных линиях» и «О касании».
Из математиков меньшего масштаба той же эпохи надо упомянуть Иикомеда, жившего несколько раньше Аполлония, Дпокла (II в. до н. э.) и Зенодора, автора трактата «Об изопериметричёских фигурах».
Блестящий период александрийской математики замыкается Гипсиклом, который уже был упомянут в разделе астрономии. Гипсикл известен как автор XIV книги «Начал» Эвклида, посвященной сравнению объемов и поверхностей додекаэдра и икосаэдра, вписанных в одну и ту же сферу, а также трактата «О многоугольных числах».
Механика. Механика была той теоретической дисциплиной, развитие которой в Грецпп происходило в непосредственной связи с техническим прогрессом. Двумя факторами, способствовавшими развитию греческой механики, были: 1) театральная техника, одним из элементов которой были подъемные сценические устройства, для обозначения которых и служило греческое слово т] ре/се/г] (откуда происходит и латинское выражение dens ex machina); 2) военное дело, приведшее к созданию метательной артиллерии и новых типов военных судов.
Достижения Архимеда в области прикладной механики не сводились к одним лишь военным машинам. Выше уже говорилось о созданном им искусном планетарии, вызывавшем восхищение у людей того времени.
Древнегреческая наука
2Г>9
Ему же приписывается изобретение так называемого архимедова винта («улитки»), применявшегося для поливки полей.
Специфической отраслью прикладной механики являлась возникшая в III в. до н. э. пневматика, под которой понималось использование давления воздуха для создания различного рода механически' устройств. Основателем этой отрасли считается Ктеспбнй, современник Архимеда, живший и работавший в Александрии. Труды самого Ктесибия до нас не дошли, но сведения об его изобретениях содержатся в сочиш ниях ряда авторов — Филона, Витрувия, Афинея, Плиния и Европа. Из этих источников известно, что KiCCm6hm был изобретателем двухцилиндрового водяного насоса, снабженного всасывающими и нагнетательными клапанами; далее, водяного органа, управление которым осуществлялось с помощью сжатого воздуха; водяных часов, отличавшихся от древней клепсидры тем, что в них имелся поплавок, движение которого передавалось фигурке, указывавшей на шкале время, и других устройств. Сообщается также о созданных им военных метательных машинах, использовавших силу сжатого воздуха.
Продолжателем Кгесибия и, возможно, его учеником был Филон Византийский, написавший объемистое сочинение «Механика», девять книг которого охватывали все области античной техники.
И Ктесибий, и Филон были, по-видимому, в первую очередь изобретагелямп-практиками, об их же теоретических воззрениях мы почти ничего не знаем. Одной из ранних попыток творагического осмысления действия различного рода механизмов следует считать трактат «Механические проблемы», ранее ошибочно приписывавшийся Аристотелю, но на самом деле написанный в более позднюю эпоху, судя по некоторым данным — в эллинистическом Египте. В этом трактате действие весов, клещей, клина, топора, колеса, катка, гребного весла и руля, гончарного круга и т. д. сводится автором к принципу рычага, который, в свою очередь, объясняется «удивительными» свойствами кругового движения. Теоретическое вступление к трактату представляет собой причудливую смесь метафизических рассуждений и верных наблюдений. Автору «Механических проблем» уже был известен прппцип парал
260
И. Д. Романский
лелограмма скоростей — как в форме сложения, так и в форме разложения движений.
Настоящим основателем теоретической механики — по крайней мере, в отношении двух ее разделов — статики и гидростатики — был Архимед. Он широко пользовался понятием центра тяжести, которое затем легло в основу всех его последующих работ по механике. Математическая теория центра тяжести была развита Архимедом в не дошедшем до нас трактате «О равновесии», а практические приложения этого понятия были разработаны в книге «О рычагах», известной лишь по отдельным фрагментам. Из сочинений Архимеда, относящихся к механике, до нас дошли целиком трактаты «О равновесии плоских фигур» и «О плавающих телах», а также недавно найденное послание к Эратосфену о механических теоремах, о котором уже шла речь выше, в разделе математики.
Трактат «О равновесии плоских фигур» начинается с теории равновесия рычага, но потом Архимед переходит к изложению общей теории равновесия тел. Форма изложения здесь, как и в других книгах Архимеда, строго аксиоматическая. В этом трактате Архимед неявно пользуется понятием, получивший впоследствии наименование момента силы. Доказав ряд общих теорем, среди которых, в частности, фигурирует основной закон рычага, Архимед определяет центры тяжести различных фигур — параллелограмма, треугольника, трапеции, а также фигур, заключенных между параболой и пересекающей ее прямой.
В трактате «О плавающих телах», написанном в более поздпий период деятельности Архимеда, исследуются вопросы равновесия и устойчивости плавающих тел, в частности доказывается знаменитый закон, носящий имя Архимеда.
Оптика была единственным разделом собственно физики, который уже в древности получил очертания научной дисци1 шин в пашем попнмапнн. Надо, впрочем, оговориться, что греки придавали термину «оптика» иное значение, чем мы: для них это была наука о зрении. Они различали катоптрику — науку об отражении лучей от зеркатьпых поверхностей, затем — скенографшо, включавшую в себя яр только прикладные вопросы, связанные с театральными декорациями, но и ^чеппе о перспективе
Древнегреческая паука
261
вообще, и, наконец, диоптрику — уч<-ппе об оптических измерениях. Явление преломления света также было хорошо известно грекам, по его детальное изучение началось относительно позднее, причем его включали либо в оптику, либо в катоптрику.
В физическом учении стоиков пче юсь своеобразное предвосхищение волновой концепции света. Точка зрения стоиков на природу зрения сводится к следующему. От души, состоящей из «пневмы», отделяется «зрительная пневма», попадающая в зрачок и яв тяющаяся причиной возникновения своего рода воли, распространяющихся в пределах конуса, вершина которого находится в зрачке. Ударяясь о предмет, эти волны возвращаются к глазу и производят на пего давление, обусловливающее возникновение зрительных ощущений. Этот процесс происходит лишь в освещенном воздухе; темшлй воздух оказывает волнам настолько большое сопротивление, что они нс могут в нем распространяться. В эпоху поздней античности новых идей в этой области пе возникло.
Зато геометрическая оптика сделала большие успехи именно в эпоху поздней античности. Основные закономерности отражепия света были известны уже Платову. Аристотель формулирует закон отражения практически в той форме, в какой он известен теперь («Метеорология» III, 4 и 5). Наиболее древний дошедший до нас трактат по оптике приписывается Эвклиду; в нем он придерживается старых пифагорейских представлений о том, что зрение осуществляется с помощью зрительных лучей, прямолинейно распространяющихся из глаза и как бы ощупывающих видимый предмет. Эти представления, однако, были достаточны для вывода основных положений геометрической оптики и теории перспективы.
«Катоптрика» Эвклида до нас пе дошла; приписывавшийся этому автору текст под такпм заглавием является, вероятно, позднейшей компиляцией По-видимому, уже в древности это сочинение было оттеснено на второй план объемистой «Катонгрпкоп» Хрхимеда (теперь также утерянной), содержавшей строгое изложение всех достижении греческой геометрической оптики. О том, что Архимед был пе только теоретиком оптики, но и мастером оптических наблюдений, свидетельствует описанная нм методика измерения видимого диаметра Солнца (о чем уже
202
И. Д. Рожапскпй
упоминалось в разделе астрономии). Поразительная точность, достигнутая при этом Архимедом, объясняется не только тщательностью выполнения измерительной установки, но и учетом таких факторов, как, например, конечные размеры зрачка наблюдателя. Дальнейшие успехи греческой оптики связаны с именами Герона и Птолемея и будут рассмотрены ниже.
Ботаника, зоология, медицина. Александрийская эпоха была временем расцвета математических паук. Описательное естествознание этого времени не может быть отмечено существенным продвижением вперед. Правда, в специальных работах, посвященных земледелию, садоводству, скотоводству, пчеловодству и другим прикладным отраслям, было собрано много наблюдений. Одпако в научном отношепии эти работы пе дали ничего нового по сравнению с биологическими трактатами Аристотеля пли трудами по ботанике Феофраста.
Значительно больший прогресс был достигнут в то время в области анатомии, чему немало способствовал отказ от старых релит иозных предрассудков, запрещавшие вскрытие человеческих трупов. Творцом научной анатомии и основателем александрийской школы врачей считается Геро-фил из Халкедона, ученик косского врача Праксагора. Ставя выше всего наблюдение и опыт, Герофил сумел избавиться от ряда укоренившихся догм и во многих отношениях явился пролагателем новых путей в науке. Важнейшие открытия Герофпла в области анатомии относились к строению и функционированию нервной системы; он тщательно изучал первные центры и отдельные нервы и окончательно установил, что головной мозг является средоточием умственных способностей человека. Кроме того, ои дал подробное описание анатомии глаза, печени, половых органов и других частей тела, а также провел сопоставление анатомии человека и животных.
Другим выдающимся врачом той эпохи был Эрасистрат с о-ва Кеос, ставший лейб-медиком сирийского царя Соловка. Как анатом, Эрасистрат продолжат и уточнял изыскания Герофила. Он подразделил нервы на чувствительные и двигательные, установил различие между большим головным мозгом и мозжечком и обратил внимание па извилины мозга человек.» и животных; большую слож-цость этих извилин он связал с более высоким уровнем
Древнегреческая JtaVtta -(>-Ч
развития интеллекта. Как и Герофил, Эрасистрат производил вскрытия человеческих трупов, а также делал живосечения на преступниках, поставлявшихся ему царем. В своей врачебной практике Эраспстрат придерживался иных принципов, чем Герофил: он полемизировал с гуморальной патологией гиппократиков и скептически относился к лекарствам; считая причиной почти всех болезней неправильное питание, он рассматривал диэту в качестве основного лечебного средства.
Среди последователей Герофпла образовалась школа так называемых «эмпириков», отрицавшая значение для медицины любых теоретических построений и во главу угла ставившая непредвзятое наблюдение; в этой позиции «эмпирики» усматривали верность истинным принципам учения Гиппократа.
Греческая наука эпохи Римской империи
Период упадка эллинистической науки. II—I века до н. э. отмечены упадком александрийской и вообще греческой науки. Созданные диадохами (преемниками Александра Македонского) эллинистические государства истощали себя во взаимных войнах, а затем одно за другим падали под ударами римских легионов. Антиохия, Пергам, Родос теряют значение политических и одновременно культурных центров: вместе с концом меценатства в нм х замирает научная жизнь. Правда, Александрия все еще продолжала оставаться научной столицей тогдашнего мира, но и она потерпела значительный ущерб — прежде всего в результате пожара, уничтожившего часть сокровищ Библиотеки во время так называемой «александрийской» войны Юлия Цезаря (48 г. до н. э.). Несколько поздпее, уже в начале нашей эры, когда все страны Средиземноморья и Ближнего Востока были объединены под властью Римской империи, намечается новый подъем: ко II в. н. э. относится деязельпость величайшего после Гиппократа врача древности Клавдия Галена и астронома Клавдия Птолемея. Но сами римляне в этом пе были повинны. Практическому складу римского ума было чуждо стремление к теоретическому познанию, являвшееся столь характерным признаком греческой научной мысли. Показательно, что из среды римлян не вышло ни одного сколько-
26i
И. Д. РоЖаИСЮШ
пибудь значительно! *> .учению, хоти Гим дал миру великолепных поэтов, глубоких моралистов, замечательных историков. Несмотря на то что все части бывшею греческого мира давно потеряли свою самостоятельность и вошли в состав провинций Римской империи, важнейшие научные достижения эпохи поздней античности были, как и прежде, продуктом греческого гения. Наука Римской империи продолжала в основном оставаться греческой наукой.
География. На рубеже эллинистического и римского времени стоит фигура стоика Посидония (ок. 135—50 гг. до н. э.), большая часть научной деятельности которого протекала па о-ве Родос.
Наибольшую самостоятельность Посидонии проявил, no-видимому, в области географии. П сочинении «Об океане» он изложил наблюдения, собранные им во время поездки к западным окраинам Европы. Пробыв около месяца в Кадисе, он изучал морские приливы и потом написал трактат, в котором развивал идеи Селевка о связи приливов и отливов с положением Лупы па небосклоне. Впрочем, по мнению Посидония, Лупа оказывает влияние пе только па приливы, но и на многое другое, в том теле па рост деревьев, развитие моллюсков и на кровообращение у человека. Идея взаимозависимости и тайной гармонии всех явлений природы служила Посидонию для объяснения климатических и прочих особенностей разных стран; описывая эти страны, Посидоний, наряду с верными сведениями, охотно сообщал всякого рода фантастические небылицы.
Из собственно географических сочинений поздней античности наиболее значительным была, бесспорно, «География» Страбона (65 г. до п. э.—21 г. п. э.) в семнадцати кишах. Это была энциклопедия географических знаний той эпохи, пе только Содержавшая массу разнообразных сведений об известных тогда странах и пародах, по также знакомившая с предшествующей историей географической пауки н с различными сущее свивавшими в пен направлениями. В целом «География» Страбона представляет собой грандиозную компиляцию, которая, ио замыслу автора, пе должна была быть слишком специаль пой, а предназначалась для широкого круга образованных читателей.
Диепиегрсчсскап паука 2,'-с>
J Страница имею ген рассуждения о способах, ьлрго- рафировапия, но большой компетенции в этом вопросе ои нс обнаруживает. Ои интересуется землетрясениями, вулканами, наносной работой рек и другими проблемами подобного рода; у пего имеется также четко разработанная концепция климатических поясов земного шара. Все это, однако, сочетается с экскурсами в область мифологии и с обращениями к авторитету Гомера.
Резкий контраст с «Географией» Страбона составляет «География» Клавдия Птолемея (первая половина II в. п. э.). Строго говоря, ее следовало бы назвать «Картографией», так как опа в основном посвящена изложению методов научного картографирования. К своей книге Птолемей приложил 27 карт, в совокупности изображавших всю известную тогда ойкумену от Канарских о-вов (с которых он начинает вести отсчет долгот) до Китая.
«География» Птолемея была последним по времени выдающимся античным сочинением в этой области науки.
Большое число сведений из области географии и этнографии содер/кится в ряде греческих сочинений исторического жанра. Среди них следует назвать «Всеобщую историю» Полибия (II в. до н. э.), «Историческую библиотеку» Дродора (1 в. до н. э.), «Римские древности» Дионисия Галикарнасского (I в. до н. э.) и т. д.
Астрономия. После Гиппарха в развитии греческой астрономии наступает перерыв, длящийся около двух столетий. Новая информация, свидетельствующая о том, что астрономические изыскания не прекратились за это время полностью, относится к концу I в. н. э. Но это была уже другая астрономия, существенно отличавшаяся от астрономии эпохи расцвета александрийской науки. Отличительные черты этой поздпей античной астрономии состояли в следующем:
1) Происходит окончательное^усвоение достижений вавилонской астрономии. Это выражается по только в использовании данных вавилонских наблюдений, но и в том, что в 1реческую пауку проникают вычислительные методы вавилонян, основанные па операциях с линейными числовыми разностями. Будучи значительно более примитивными по сравнению с геометрическими методами греков, эти числовые методы сосуществуют рядом с теми, с те чением времени находя все более широкое применение.
2tit>
II. Д. I’oiK.lHvMbi
2) Наряду с астрономической наукой большое развитие получает пришедшая с Востока астрология. Особый успех она имеет у римляп, склонных ко всякого рода суевериям и предрассудкам. При этом астрология в греко-римском мире приобретает существенно иные функции по сравнению с той ролью, которую она играла в странах Древнего Востока. Основной и в сущности единственной задачей астрологии становится составление гороскопов, причем этим делом вынуждены заниматься самые крупные ученые.
Выдающимся астрономом конца I в. н. э. был Менелай Ллексапдрпйский, известный главным образом как автор книги по сферической геометрии и тригонометрии. Его наблюдения покрытия звезд Луной были позднее использованы Птолемеем. Показательным для характеристики астрономических представлений у образованных людей того времени был трактат Плутарха «О лике, видимом в диске Луны» (начало И в. н. ».). Луна описывалась Плутархом как тело, подобное Земле (хотя и меньшей величины), на котором имеются горы, отбрасывающие глубокие тени.
Высшей точкой развития античной астрономии и одновременно последним ее достижением следует считать основной труд Клавдия Птолемея (умер ок. 170 г. н. э.), получивший впоследствии известность под арабизированным названием «Альмагест». В этом сочинении подробно изложена геоцентрическая система мира, в которой видимое движение Луны, Солнца и планет объяснялось с помощью эксцентрических кругов и эпициклов.
Наряду с «Альмагестом» Птолемей написал фундаментальное сочинение по астрологии — так называемое «Четырехкпижие». Этот факт в большей степени, чем что-либо другое, характеризует то противоречивое положение, в котором оказалась античная наука в период своего заката.
В математике, как и в астрономии, полтора столетия после 11 в. до н. о. были «темным» периодом, пе выдвинувшим ни одного значительного имени. Ногый подъем замечается лишь к концу 1 в. и. э., т. е. уже в эпоху Римской империи. Двумя выдающимися математиками этого времени были Герои и Менелай.
До нас дошла «Метрика» Герона — сочинение, в кото
Древнегреческая наука
267
ром он собрал формулы, используемые для измерения и для вычисления фигур. Среди них приводится и доказывается так называемая «формула Герона», служащая для определения площади треугольника по трем его сторонам (имеются, впрочем, указания, что эта формула была известна еще Архимеду). Помимо точных формул, Герои приводит также ряд приближенных правил, которые он формулирует без доказательств, лишь поясняя их числовыми примерами.
Второй математик конца I в. — Менелай Александрийский уже упоминался в разделе астрономии. Он написал книгу, ныне утерянную, о вычислении хорд. В арабском переводе до нас дошла его «Сферика», в которой дается систематическое изложение сферической геометрии и сферической тригонометрии. Доказанная Менелаем «теорема о трансверсалях» нашла потом широкое применение у Птолемея. Вообще вся эта область математики разрабатывалась тогда в качестве математического аппарата для астрономии; тем не менее книга Менелая представляла собой значительное достижение и с чисто математической точки зрения.
Клавдий Птолемей был также, несомненно, прекрасным математиком, но математика интересовала его не сама по себе, а лишь как средство для решения астрономических и картографических задач.
В III в. и. э. жил один из величайших математиков древности — Диофант, «Арифметика» которого не стояла ни в какой связи с традиционными направлениями античной науки и в то же время открывала принципиально новые пути развития математики.
Для обозначения алгебраическ! х выражений Диофант впервые ввел буквенную символику, сделав тем самым важный шаг вперед как по сравнению с числовой алгеброй вавилонян, так и по сравнению с греческой геометрической алгеброй классического периода. В его сочинении алгебра впервые находит свой собственный, присущий ей язык; правда, этот язык еще отличается от алгебраической символики, принятой позднее. Разработанные Диофантом алгебраические методы оказали огромное влияние на математиков Нового времени — прежде всего на Виета и Ферма. Эти методы находятся в таком же отношении к позднейшей алгебре и теории чисел, в каком архимедов
268
И. Д Рожанский
ские методы вычисления площадей и объемов находятся к анализу бесконечно малых.
Последним выдающимся математиком александрийской школы был Паня, шивший в начало IV в. н. э. Он составил комментарий к «Альмагесту» и написал «Математический сборник» — сочинение, в котором собрал вместе все, что казалось ему интересным в трудах ого предшественников. В этом сочинении имеется много сведений о содержании не дошедших до нас труден Эвклида, Аполлония и других греческих математиков. Кроме того, в ряде случаев Папп приводит свои собственные результаты, показывающие, что он был не только компилятором, но и творческим исследователем достаточно высокого класса. Наибольшее значение имеют доказанные им теоремы, относящиеся к проективной геометрии и к изучению кривых на торе и других поверхностях. Эти теоремы, заново доказанные в XVII в. Дезаргом и Паскалем, послужили основой, на которой вырос па проективная геометрия Нового времени.
Единственной женщиной в истории античной науки была Гипатия, дочь математика Теона; она занималась платоновской философией и паписала комментарии к трудам Аполлония и Диофанта. Ее трагическая гибель в 418 г. п. э. как бы символизировала конец александрийской научной школы. В V в. н. э. математическая мысль еще продолжала теплиться в Афинах. Так, неоплатоник Прокл написал комментарий к первой книге Евклида и небольшой трактат об астрономических гипотезах. Следует также упомянуть Эвтокия (VI в. н. э.) — выдающегося комментатора Архимеда и Аполлония; труды этих ученых до нашего времени издаются с его комментариями.
Механика. О развитии механики в эпоху поздней античности можно судить прежде всего по работам Гсропа Александрийского, жившего предположительно во второй половине I в. п. и. может быть, в начало II в. Основное научное сочинение Герона — «Механика» — дошло до нас только в арабском переводе. Оно состоит из трех книг. В первой книге рассматриваются теоретические вопросы: сложение скоростей по правилу параллелограмма, распределение ^нагрузки между опорами, определение центра тяжести, в трактовке которых Герои следует в основном
Древнегреческая наука
269
Архимеду. Во второй книге описываются пять простых машин: рычаг, ворот, клин, винт и блок — и разъясняется их действие. Герон сам указывает, что теорию рычага он излагает по «Книге о равновесии» Архимеда. В третьей книге дается описание ряда механизмов для поднятия тяжестей и прессов, основанных на комбинациях простых машин.
Хотя труды Герона имеют в основном компилятивный характер и базируются на достижениях прежних авторов — прежде всего Архимеда и Филона, тем не менее в них можно найти и повое. Так, при рассмотрении теоретических вопросов он во многом отходит от чисто статических методов Архимеда, широко пользуясь методом перемещений, приводящих к нарушению состояния равновесия. Вводя в число рассматриваемых величин время, он формулирует следующий, уже чисто динамический принцип: «величина движущей силы находится в обратном отношении ко времени перемещения». При изложении пневматических устройств Герон описал шар, вращающийся под действием пара («эолипил») — прототип паровой турбины; давление воздуха и пара Герон объяснял ударами мельчайших частиц, из которых состоят эти физические тела. В то же время обращает па себя внимание то обстоятельство, что за исключением военных машип и немногих других устройств, которые уже были описаны более ранними авторамп (пожарный пасос, водяной орган), технические разработки Герона — иногда весьма сложные и остроумные — имели своей главной целью создание автоматов, служащих для развлечения и забавы. В машинах, которые могли бы заменить физический труд человека и повысить его производительноегь, рабовладельческое общество эпохи поздней античности не нуждалось.
Проблемам механики была посвящена последняя (восьмая) книга «Математического сборника» Паппа, содержащая разнородные сведения, заимствованные по преимуществу из более ранних источников. Впрочем, в книге имеются и некоторые оригинальные результаты автора, например теоремы об объемах тел вращения, которые выражаются через длину окружности, описываемой центром тяжести вращающейся фигуры (теорема Паппа— Гюльдена). Обращает на себя внимание четкое различие, проводимое Паппо'1 между механикой как теоретической
270
И. Д. Рожапскпй
наукой и механикой, являющейся практическим искусством.
Принципиально новый шаг в развитии теоретической динамики (в сущности, пе разрабатывавшейся со времен Аристотеля) был сделан на самом рубеже Средневековья. В комментариях к «Физике» Аристотеля александрийский ученый VI в. н. э. Поанп филопон подвергает критике аристотелевскую концепцию движения брошенных тел и вводит понятие некоей бестелесной движущей силы (впоследствии получившей латинское наименование impetus), не зависящей от среды (например, воздуха), в которой тело двил.ется, и поддерживающем его движение тогда, когда оно уже оторвалось от источника этого движения. Понятие impetiis’a сыграло большую роль в развитии физических подставлений эпохи арабского, а затем позднего европейского Срсдпевековья.
Оптика. По сравнению с оптическими трактатами Эвклида и Архимеда «Катоптрика» Герона, ранее принимавшаяся за сочинение Птолемея, содержит ряд новых моментов. В этом трактате Герои обосновывает прямолинейность световых лучей бесконечно большой скоростью их распространения. Далее, он приводит доказательство закона отражения, основанное на предположении. что путь, проходимый светом, должен быть наименьшим из всех возможных. Это — частный случай принципа, обычно связываемого с именем Ферма. Позднее (в VI в.) Олпмпио юр обосновывает этот принцип следующим образом: природа не допускает никаких излишеств, а это имело бы место, если бы для прохождения света опа выбирала не самый короткий путь.
С точки зрения развития измерительной техники интересен другой трактат Герона — «О диоптре». Диоптром Героп называл универсальный визирный инструмент, сочетавший функции позднейших теодолита и секстанта. Паводка диоптры осуществлялась путем вращения вокруг двух осей — вертикальной и горизонтальной; для более точной установки служил микрометрический впит, впервые встречающийся именно в этом сочинении.
Систематическое изучение явления преломления света впервые было проведено Птолемеем. В своей «Оптике» оп описывает опыты по измерению углов преломления света при переходе лучей из одной прозрачной среды
Древнегреческая наука 271
в другую и приводит полученные им значения, которые для того времени можно считать весьма точными. Птолемей обнаружил также явление полного внутреннего отражения. Однако нет никаких намеков на то, что он пытался как-либо сформулировать закон преломления.
И.з документов более позднего времени следует отметить дошедший до нас фрагмент из сочинения Анфемия, строителя собора св. Софии в Византии. В этом фрагменте точно формулируются закономерности отражения от параболических зеркал.
Биологические пауки, медицина, сельское хозяйство. Характерная особенность описательного естествознания в эпоху поздней античности состояла в следующем: те его отрасли, которые пе имели непосредственного выхода в практику, хирели и вырождались; наоборот, те. которые были связаны с практическими приложениями — прежде всего в медицине, продолжали развиваться. К отраслям первой группы относилась, в частности, зоология, явно деградировавшая со времени появления «Истории животных» Аристотеля и постепенно лишавшаяся черт, которые должны быть присущи всякой настоящей науке. Большой популярностью в эпоху поздней античности пользовалось сочинение «О животных» Александра из Минда (I в. н. э.) — своего рода зоологическая энциклопедия, в которой сведения, почерпнутые из Аристотеля и других серьезных авторов, были самым причудливым образом перемешаны с информацией, имевшей сказочно-фантастический характер
Значительно лучше дело обстояло с ботаникой — именно потому, что ботаника была той основой, на которой развпьалась фармакология того времени. Еще в начале 1 в. до н. э. придворный врач царя Митридата VI Эвпа-тора — К ратей — издал книгу о лечебных травах, текст которой сопровождался цветными иллюстрациями. Но наибольшей славой в эпоху поздней античности пользовалось ботанико-фармакологическое сочинение Диоско-рида из Киликии (I в. и. э.), в котором этот врач дал подробное и достаточно систематизированное описание 600 целебных растений. Авторитет этого сочинения оставался непререкаемым в течение всех Средних веков — как в Западной Европе, так и у арабов.
272
11. Д. Рожанскпп
Общий .упадок апгичиеч кулыуры в верных веках н. э. не отразился па положении медицины. В качестве лейб-медиков при дворах монархов врачи пользовались почетом и приобретали большие состояния еще в эпоху диадохов. Рим предоставил греческим врачам широкое поло деятельности. Медицина эпохи Римской империи характеризуется соперничеством ряда школ (эмпирики, методисты, пневматики и т. д.), различавшихся теоретическими воззрениями и методами практического лечения.
Несмотря на полемику, которую вели друг с другом представители перечисленных школ, все они признавали Гиппократа классиком и основоположником медицинской науки и писали комментарии к том или иным сочинениям Гиппократова свода.
Расцвет медицинской пауки в эпоху Римской империи должен был привести к появлению выдающегося ума, деятельность которого выразилась бы в синтезе всех достижений предшествующей эпохи. И такой ум действительно появился: им был Клавдий Гален (130— 200 гг. н. э.) — врач, анатом и физиолог, написавший множество трудов, относившихся к различным разделам тогдашней пауки. Гален, как и Птолемей для астрономии, стал непререкаемым авторитетом вплоть до эпохи Возрождения. Общее между ними заключалось еще и в том, что их влияние на последующую пауку определялось пе столько творческим характером их гения, сколько присущим им обоим даром систематизации и приведения в порядок большого числа данных; как «Альмагест» Птолемея сделал излишним изучение астрономических трудов прежних лет, так и после Галена медицинские трактаты его предшественников сразу стали ненужными.
Галеп был прекрасным анатомом, причем он изучал анатомию пе только человека, по и ряда животных — быков, овец, свиной, собак и др. Стимулом к этим исследованиям послужило то обстоятельство, что вскрытие трупов в Риме было запрещено — как прежде в Эл гаде. С другой стороны, это оказало благотворное воздействие па развитие сравнительной анатомии живогпых. В частности, Галеп заметил большое сходство в строении человека и обезьяны; водившаяся в то время па юго-западе Европы маленькая обезьянка была тем объектом, над
Древнегреческая наука
273
которым он проводил опыты (в том число вивисекторские) по изучению мышц, костей и других органов тела.
Физиологическая система Галена базировалась в основном па теории соков Гиппократа, труды которого он хорошо знал и которые комментировал ио только с медицинской, по также с языковой и текстологической точек зрения. Большое влияние на средневековую медицину оказало учение Галена об «основных силах», присущих отдельным органам и распределенных по телу согласно мудрому устроению природы; в этом учепип отразились телеологические аспекты мировоззрения Галена. Детальному изучению Гален подвергнул центральную и периферическую нервную систему, в частности он пытался установить связь спинномозговых нервов с процессами дыхания и сердцебиения. Однако истинный механизм работы сердца и процесса кровообращения остался им неразгаданным. В его терапии, наряду с воздухо- и водолечением и диететикой большую роль играли лекарственные препараты, иногда необычайно сложные, включавшие в себя до нескольких десятков компонентов, среди которых фигурировали яды и другие, порой неожиданные вещества. Надо признать, что в рецептурных предписаниях Галена имелись элементы донаучного знахарства, но это только способствовало их популярности как в то время, так и позднее, в эпоху Средневековья.
Гален-учепый был достаточно противоречивой фигурой; наряду с прогрессивными моментами, в его теориях и в его медицинской практике отразились некоторые характерные черты упадка античной культуры. И в этом он также аналогичен Птолемею с его «Четверокнижием» и астрологической деятельностью.
Литература к статье
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20.
Аристотель. Сочинения. М.: Мысль, 1975—1981. Т. I—III.
Архимед. Сочинения,Пер., вступ. статья и коммент. И. II. Веселовского. М.: Физматгиз, 1962. 64и с.
Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента. М.: Наука, 1976. 292 с.
Башмакова II. Г. Диофант и диофантовы уравнения. М.: Наука,
274
И. Д. Рожанский
Ван дер Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука: Математика Древнего Египта, Вавилона п Греции/ Пер. И. И. Веселовского. М.: Физматгиз, 1959. 460 с.
Гайденко Л. П. Эволюция понятия пауки: Становление и развитие первых научных программ. М.: Наука, 1980. 568 с.
Гейберг Л. Л. Естествознание и математика в классической древности Пер. иод ред. А. 11 Юшкевича. М.; Л.: ОПТИ, 1936. 195 с.
Геродот. История: В 9-ти кн. / Пер. Г. А. Стратановского. Л.: Паука, 1972. 600 с.
Гиппократ. Избранные книги / Пер. В. 11. Руднева. М.: Виомед-П13, 1936. 736 с.
Гомперц Т. Греческие мыслители. СПб., 1911. Т. 1. 486 с.
Дильс Г. Античная техника. М.; Л.: ГТТИ, 1934.
Дитмар А. Б. География в античное время. М.: Мысль, 1980. 152 с.
Зубов В. Л. Аристотель. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 368 с.
Зубов В. II. Развитие атомистических представлений до начала XIX в. М.: Наука. 1965. 372 с.
Лебедев А. В. 'ГО AIIEIl’ON: пе Анаксимандр, а Платон и Аристотель. — ВДН, 1978, № 1/2, г. 39—54; № 2, с. 43—л8.
Лебедев А. В. Ч'ПГМА SYM<l>YSQMENON: Новый фрагмент Гераклита. — ВДИ, 1979, V 2, с. 3—23; 1980, № 1, с. 29-48.
Лукреций. О природе вещей / Пер. Ф. А. Петровского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945. Т. 1, 2.
Лурье С. Я. Демокрит: Тексты, перевод, исследование. Л.: Наука, 1970. 664 с.
Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. М.; Л.: Паука, 1947. 404 с.
Маковельский А. О. Досократпки. Казань, 1914—1919. Т. 1—3. Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. Ваку, 1946. 402 с. Лейгебауэр О. Точные пауки в древности. М.: Наука, 1968. 224 с. Паниекук 1. История астрономии. М.: Наука, 1966. Ч. 1 592 с. Платон. Сочинения: В 3-х т. М.: Мысль, 1968 -1972. Т. I—III., Рожанский И. Д. Анаксагор: У истоков античной науки. М.: Паука, 1972. 320 с.
Рожанский И. Д. Античная паука. М : Наука, 1980. 20и с.
Рожанский И. Д. Развитие естествознания в зпоху античности: Ранняя греческая наука «о природе». М.: Паука, 1979. 488 с.
Страбон. География: В 17-ти кн. / Пер. Г. А. Стратановского. Л.: Паука, 1964. 943 с.
Танпери Л. Первые шаги древнегреческой науки. СПб., 1902. 120 с. Томсон Дж. О. История древней географии / Пер. под ред.
А. С. Двтмара. М.: Изд-во иностр, лит., 1953. 592 с.
Феофраст. Исследование о растениях / Пер. М. Е. Сергеенко. Л.: Изд-no АН СССР, 1951. 590 с.
Burkert W. Weisheit und Wissenschait: Sludien zu Pythagoras, Plnlolaos und Platon. Nurnberg, 1962.
Burnet J. Early Greek Philosophy. 4th ed. L., 1945.
Cornford Г. M. Prineipium sapientiae. Cambridge, 1952.
Dicks 1). II. Early Greek Astronomy lo tnstoile. I,., 1970.
Earrington li. Science in antiquity. L., 1936.
IpeBiiei рическая nayfta
♦75
Fritz 1 . von. Gruudprobleme der Geschichte der antiken Naturwis-senschaft. B.; N. Y., 1971.
Heath T. L. A history of Greek mathematics. Oxford, 1921. Vol. 1—2.
Heath T. L. Greek Astronomy. L., 1932.
Lloyd G. E. R. Early Greek science: Thales to Aristotle. L., 1970.
Lloyd G. E. R. Greek science after Aristotle. L., 1973
Fambiirsky .S'. Tins physical world of the Greeks. L., 195(5.
Sambursky S. The physical world of late antiquity. L., 1962.
A Source Book in Greek science / Ed. M. R. Cohen, I. E. Drabkin.
Harvard Univ. Press, 1966.
West M. L. Early Greek philosophy and the Orient. Oxford, 1971.
Литература к теме
Дорфман Л. Г. Всемирная история фишки с древнейших времен до конца XVIII р. М.: Наука, 1974. 352 с.
История биологии с древнейtiinx времен до начала XIX столетня / Под ред. С. Р. Мпкулииского. М.: Паука, 1972. Т. 1. 564 с.
История математики с дрсвпеппип времен до начали XIX столетии I Под р< д. А. II, Юшкевича. М.: Пауки, 1970. Т. 1. 352 с.
История механики с древнейших времен до коица XVIII в. . Под ред. А. Т. Григорьяна. 11. В. Погребысского. М.: Наука, 1971. 300 с.
Ковнер С. Г. История древней медицины. Киев, 1878. Т. [—III.
Brunet Р., Mieli A. Histoire de sciences dans 1’Anliquite. P., 1935.
Clagelt M. Greek science in antiquity. L., 1957.
Diels H., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker. 10. Aufl. B., 196< . Bd. I -III.
Duhem P. Le Systcme du Monde. P., 1954, t. 1.
Edelstein L. Ancient medicine. Baltimore. 1967.
Heidel W. A. The heroic age of science. Baltimore, 1933.
Reymond A. Histoire des sciences exactes et naturelles dans 1’anti-quite greco-romain. P., 1924.
Rey A. La Jeunesse de la science grecque. P., 1933.
Rey A. La maturite de la pensee scientifique en Grece. P., 1939.
Rey A. L’apogee de la science technique grecque. P., 1936.
Сведения об авторах
Березкппа Эльвира Ивановна
Кандидат физики математических паук, старший па учпый сотрудник Института истории естестпозпаппн и техники Академии паук СССР.
Володарский Александр Ильич
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники Академии наук СССР.
Дьяконов Игорь Михайлович
Доктор исторических наук, старпшп научный сотрудник Ленинградского отделения Института востоковедения Академии паук СССР. Член Международного Комитета «Корпус инскрппциопум Ираппкорум», почетный член Британского Королевского азиатского Общества.
Коростовцев Михаил Александрович
Академик, Почетный доктор Египтологического института Карлова университета, действительный член Французского Египтологического Общества.
Молодцова Елена Николаевна
Кандидат философских паук, младший паучпый сотрудник Института истории естествознания п техники Академии наук СССР.
Рожапскпй Иван Дмитриевич
Доктор философских наук, старшин паучпый сотрудник Института история естествознания п техники Академии паук СССР.
Топоров Владимир Николаевич
Кандидат филологических наук, старший паучпый сотрудник Института сланяповедеппя и балканистики Академии наук СССР.
Фролов Борис Алексеевич
Доктор псторпческпх наук, старший научный сотрудник Института этнографии пм. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР.
Содержание
Предисловие .................. 5
В. Н. Топоров. Первобытные представления о - — ’ мире (общий взгляд) .... 8
Б. А. Фролов. Астральные мифы и рисунки 41
И. М. Дьяконов. Научные представления на древнем Востоке (Шумер, Вавилония, Передняя Азия) . . 59
М. А. Коростовцев. Наука древнего Египта ... 120
Е. Н. Молодцова. Естественнонаучные представления эпохи Вед и Упанишад 131
А. И. Володарский. Отдельные отрасли науки в древней Индии...................................156
Э. И. Березкина. О зарождении естественнонаучных знаний в древнем Китае . 128
И. Д. Рожанский. Древнегреческая наука ... 197
Сведения об авторах .... 276
Ы1БПИОПХА ВСЕМИРНОМ истории
ЕСТЕ ГВОЗНАН1.Я
Очерки истории естественнонаучных знаний
в древности
Утверждено к печати Институтом истории естествознания и техники АН СССР
Редактор издательства
Л. М. Тарасова
Художник
С. А. Литвак
Технические редакторы
В. Д. Припепская
Т. Д. Пама с юк
Корректоры
Г. Н. Лащ, Л. П. Стрельчук
ИБ № 25402
Сдано в набор 15.09.81.
Подписано к печати 29-01.82.
Т-03227. Формат 84Х108’/з2.
Бумага типографская № 2.
Гарнитура обыкновенная.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 14,7. Усп. кр. отт. 16,4.
Уч.-изд. л. 15,6- Тираж 4850 экз. Тип зак. 726.
Цена 1 р. 80 к.
Издательство «Неука» 117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука 199034, Ленинград В-34, 9 линия, 12