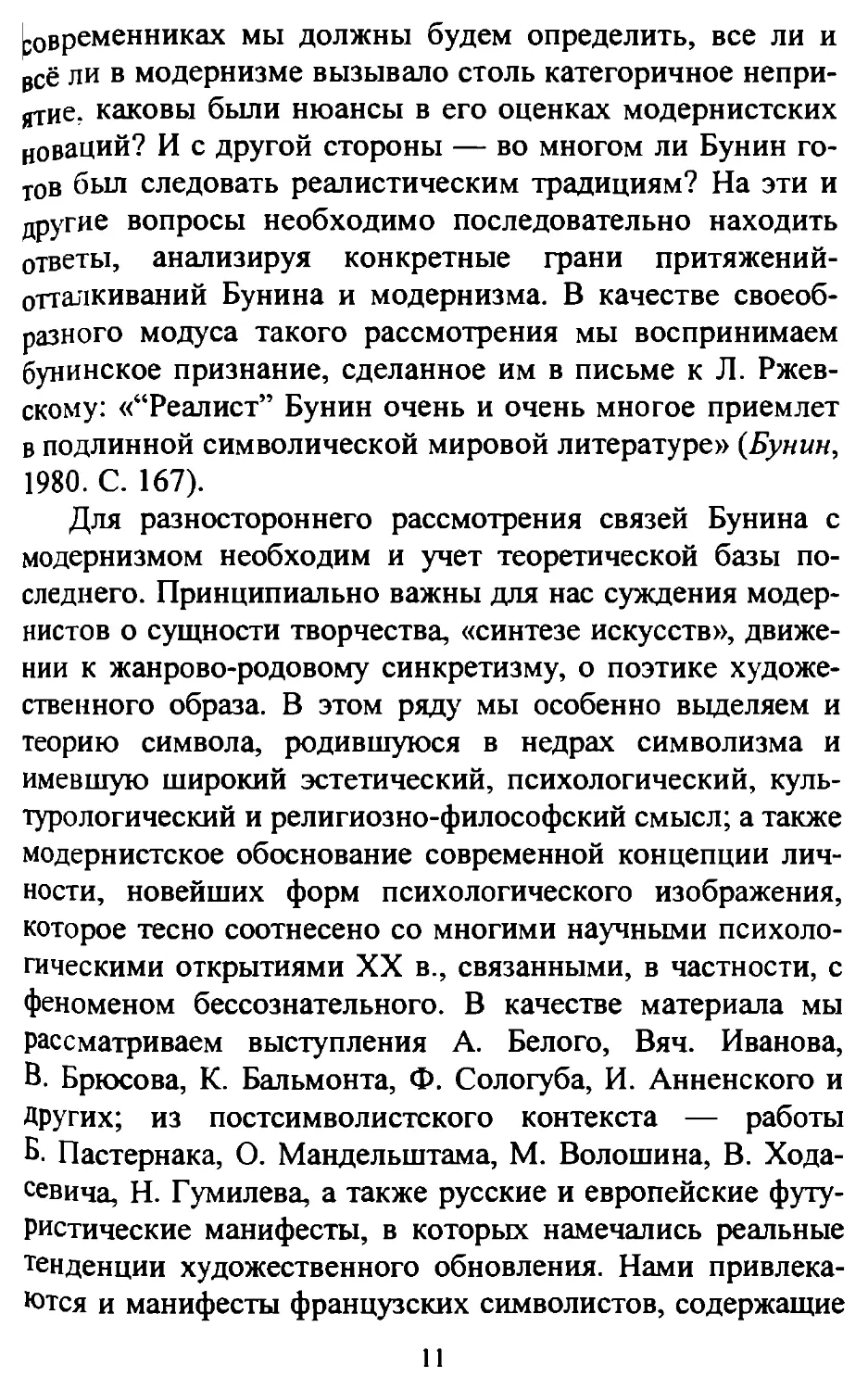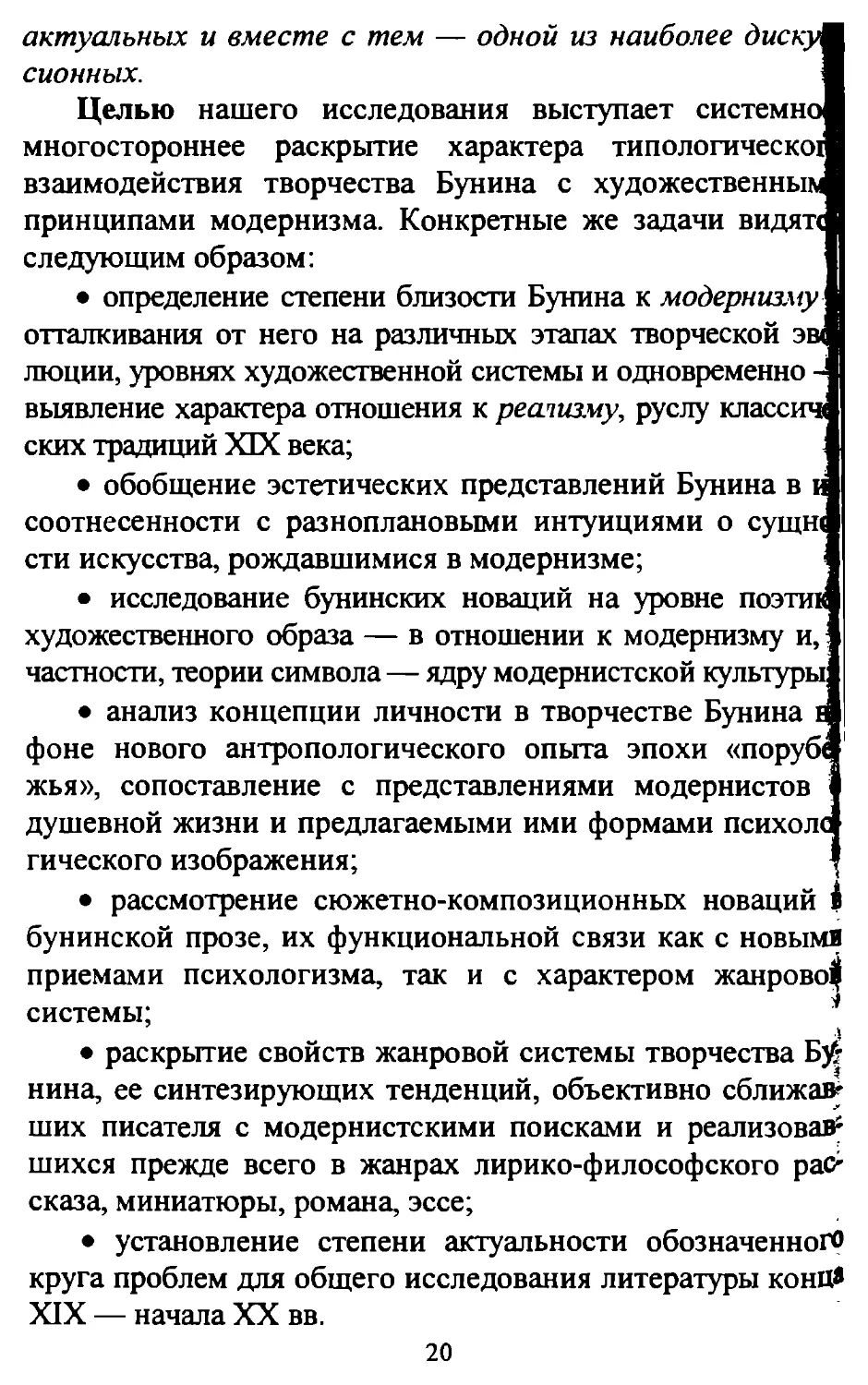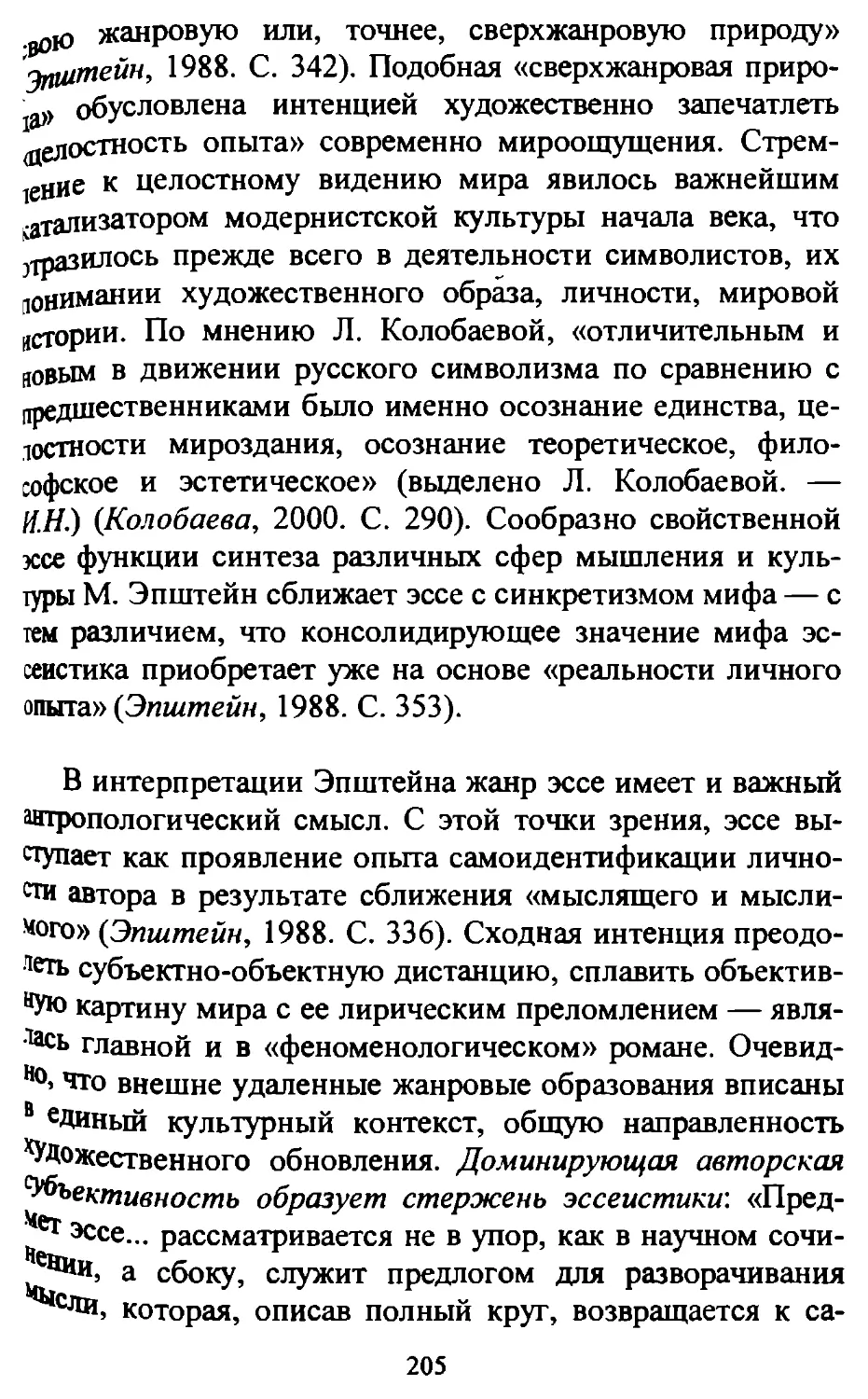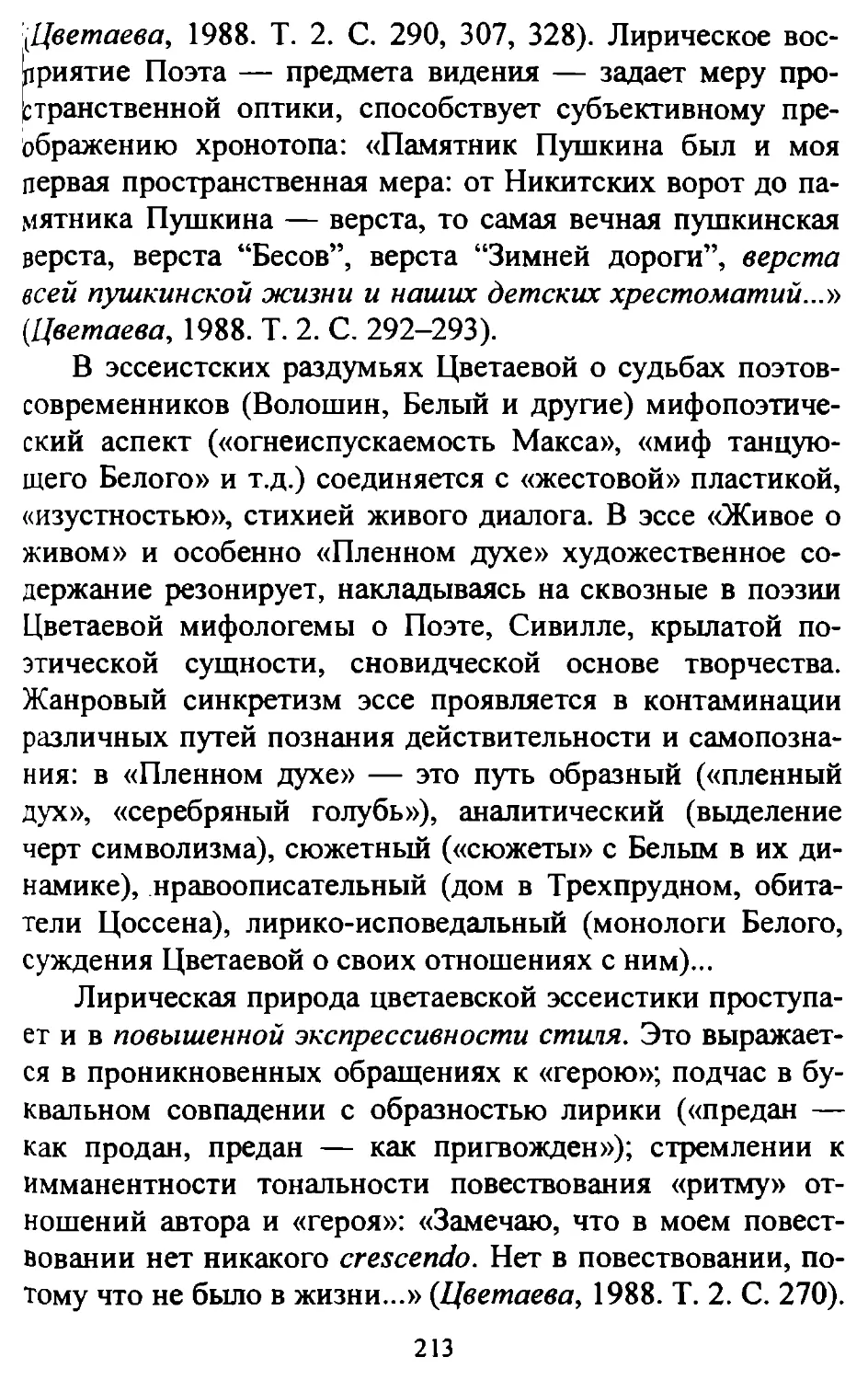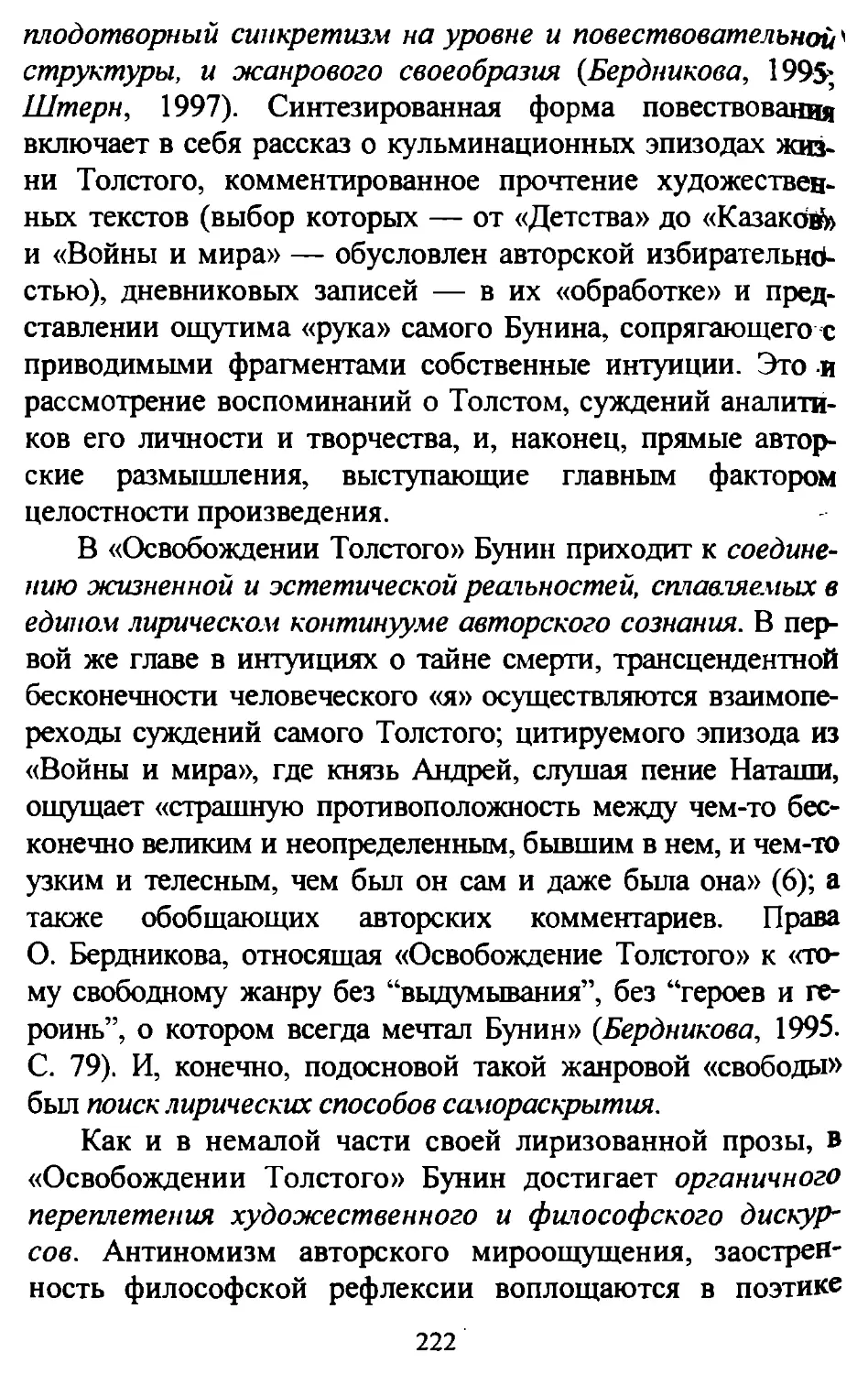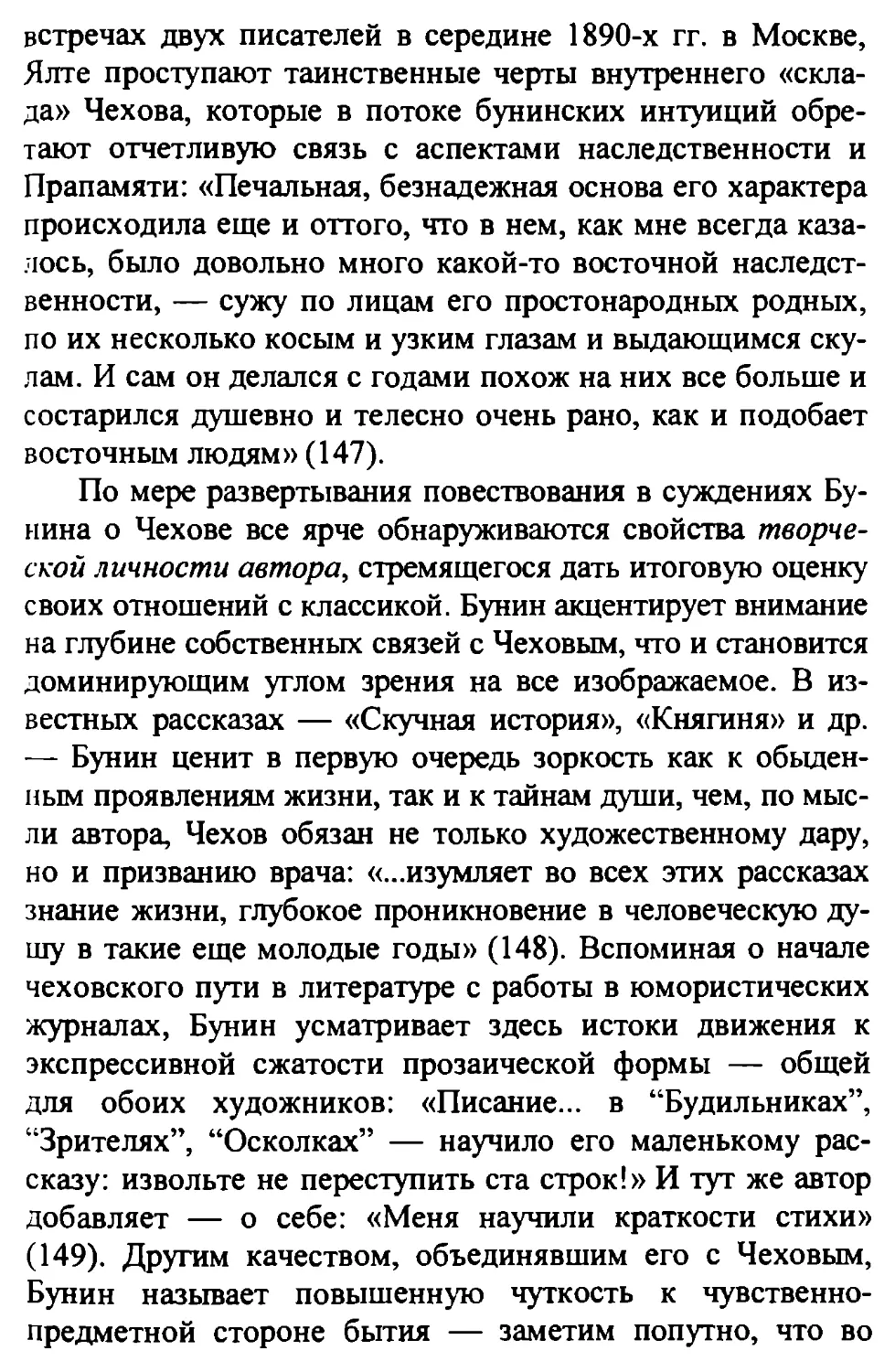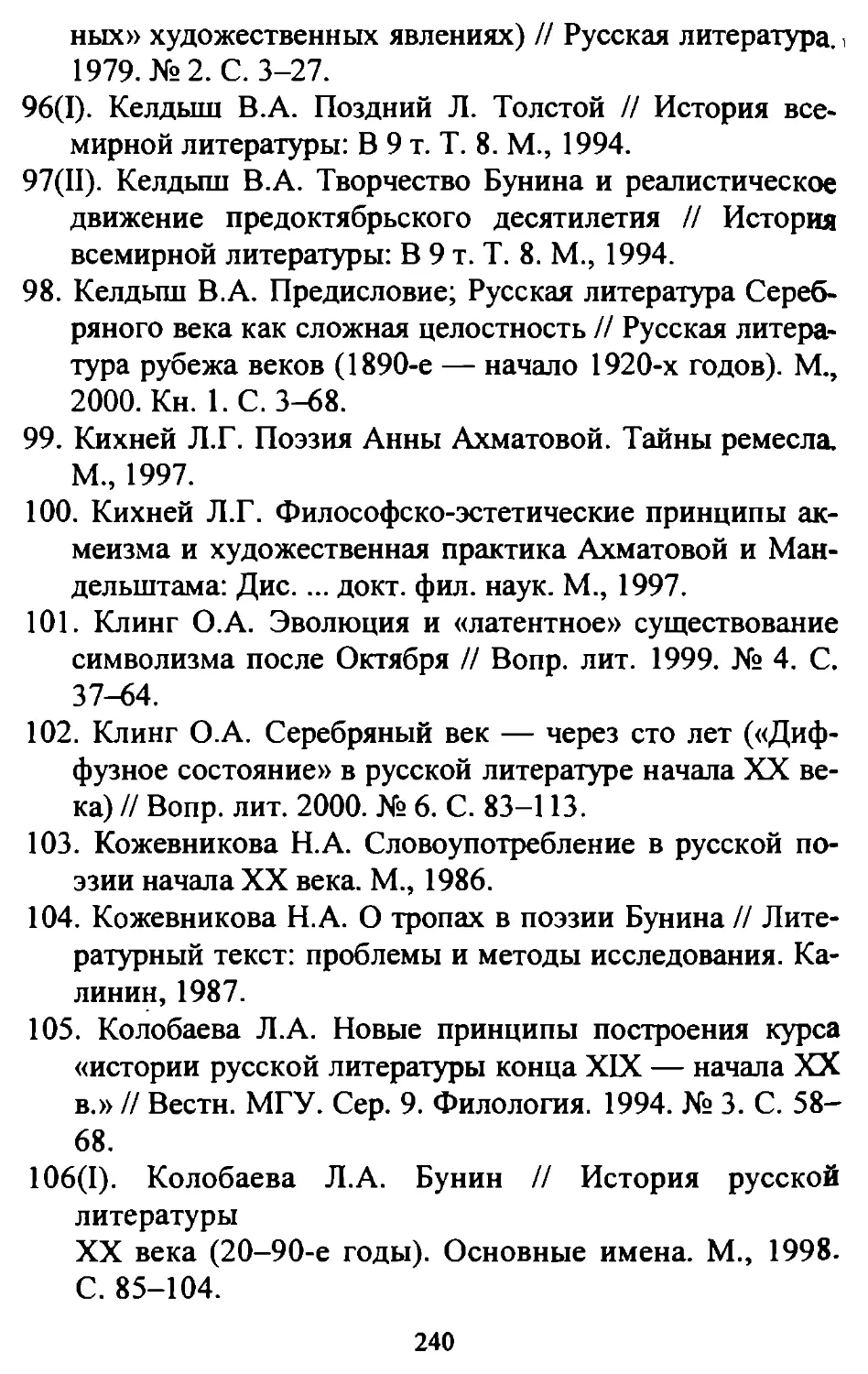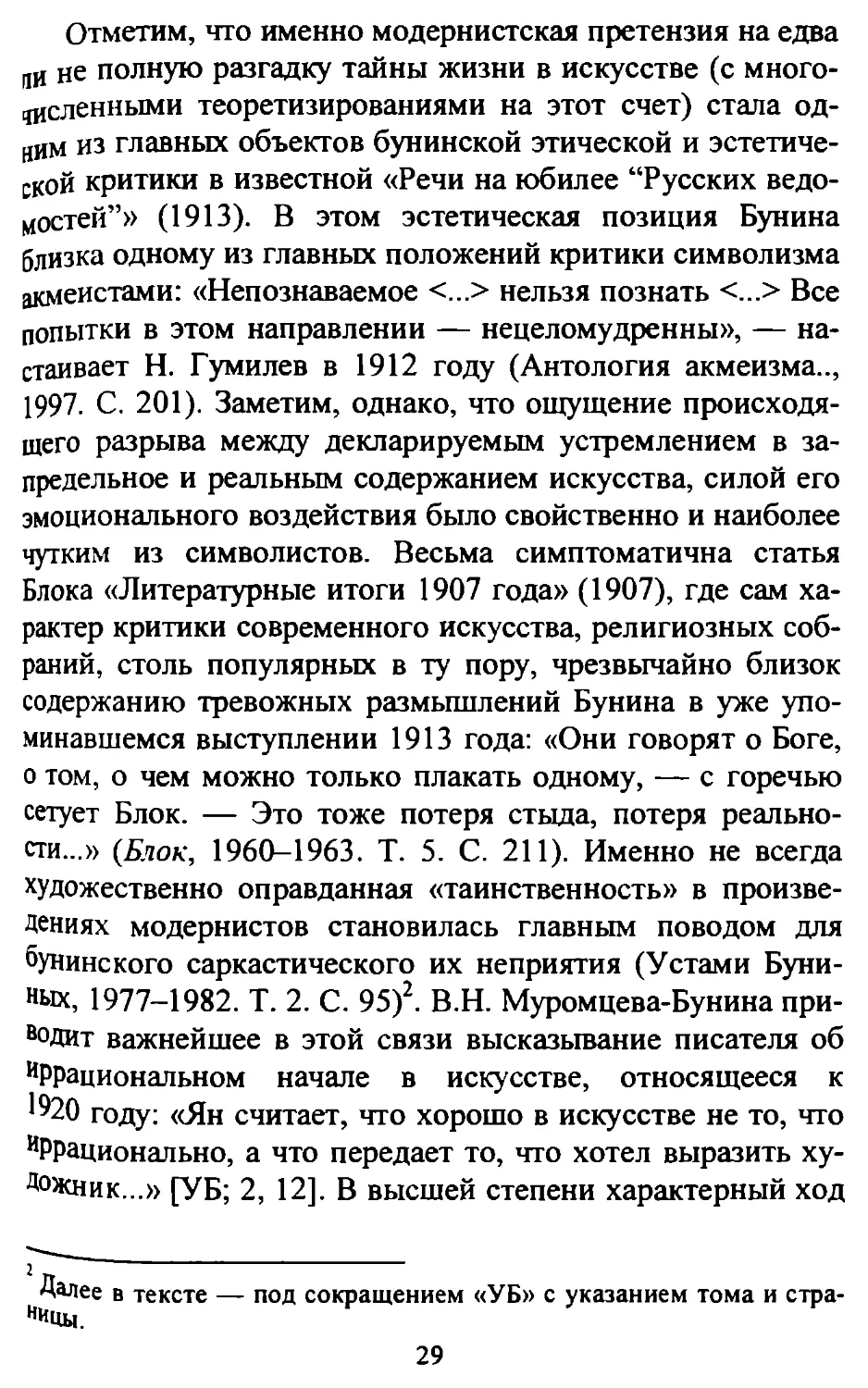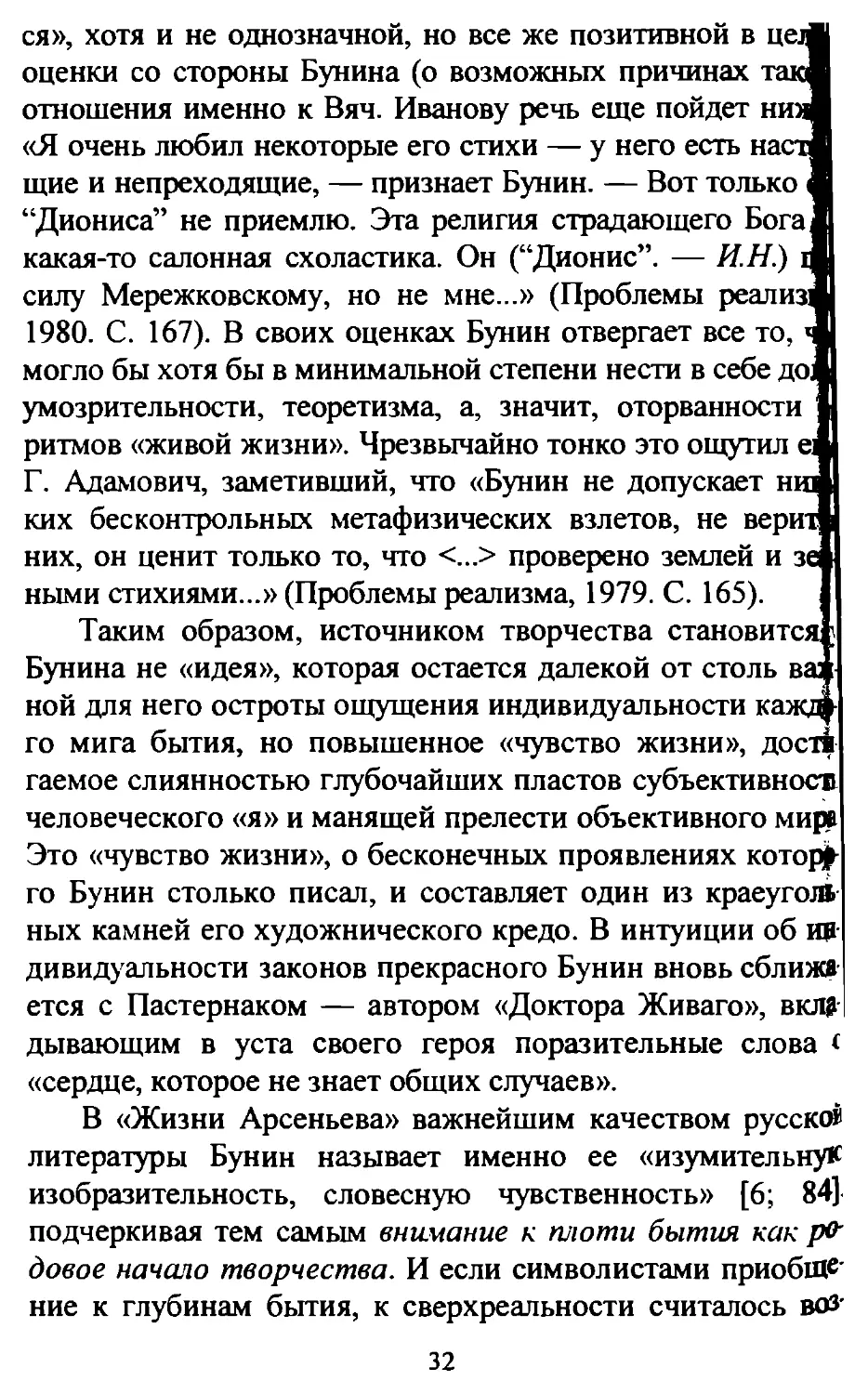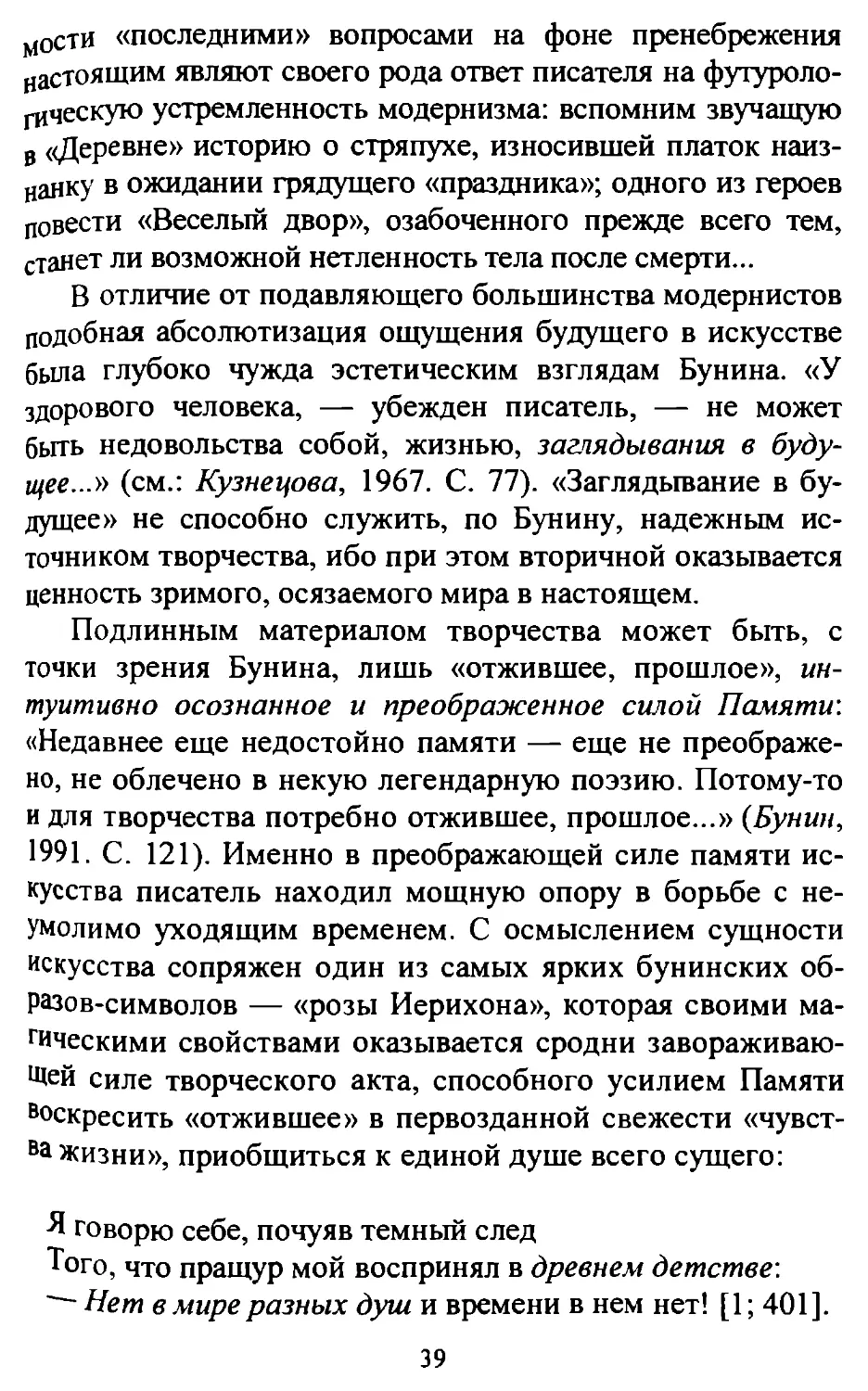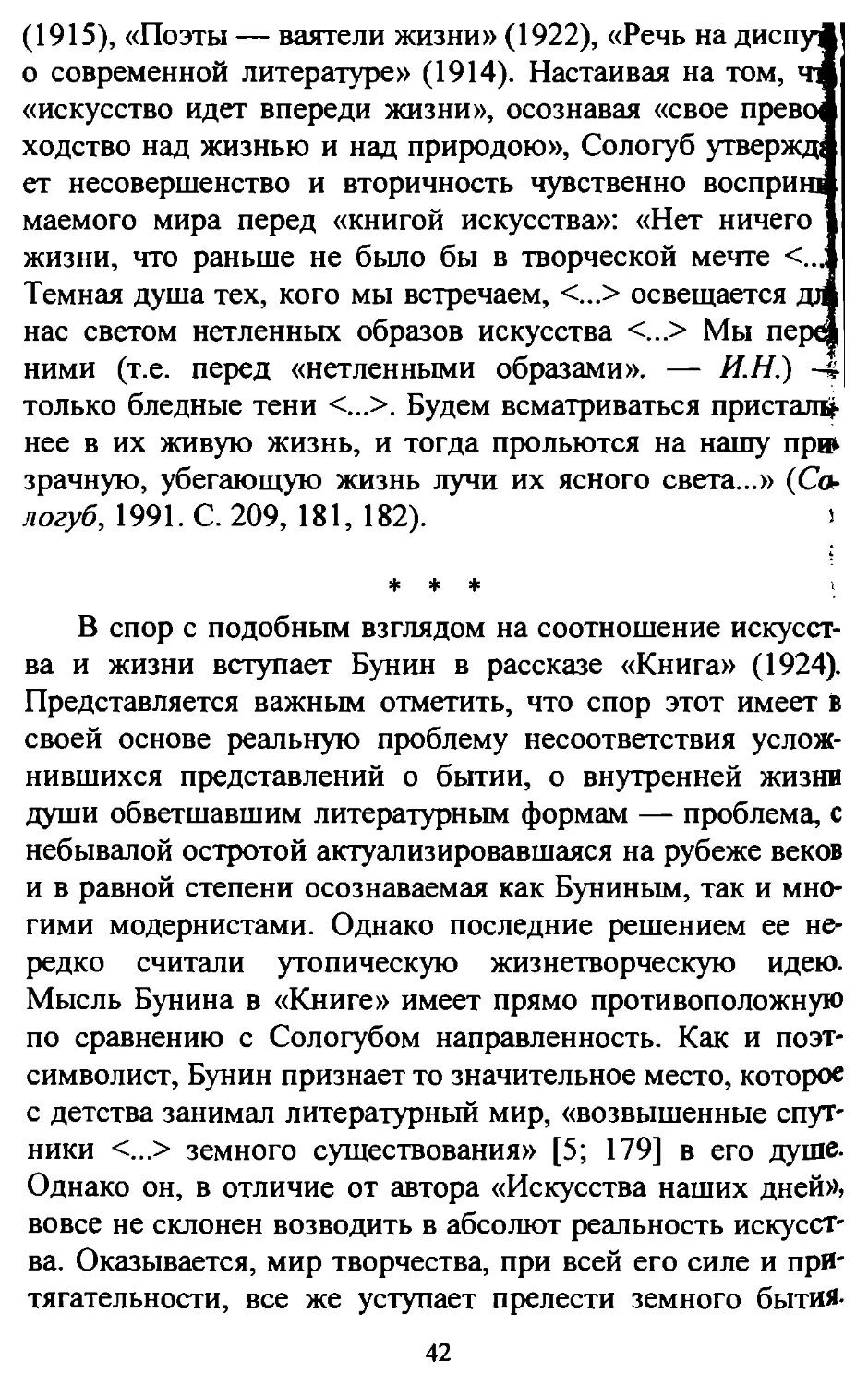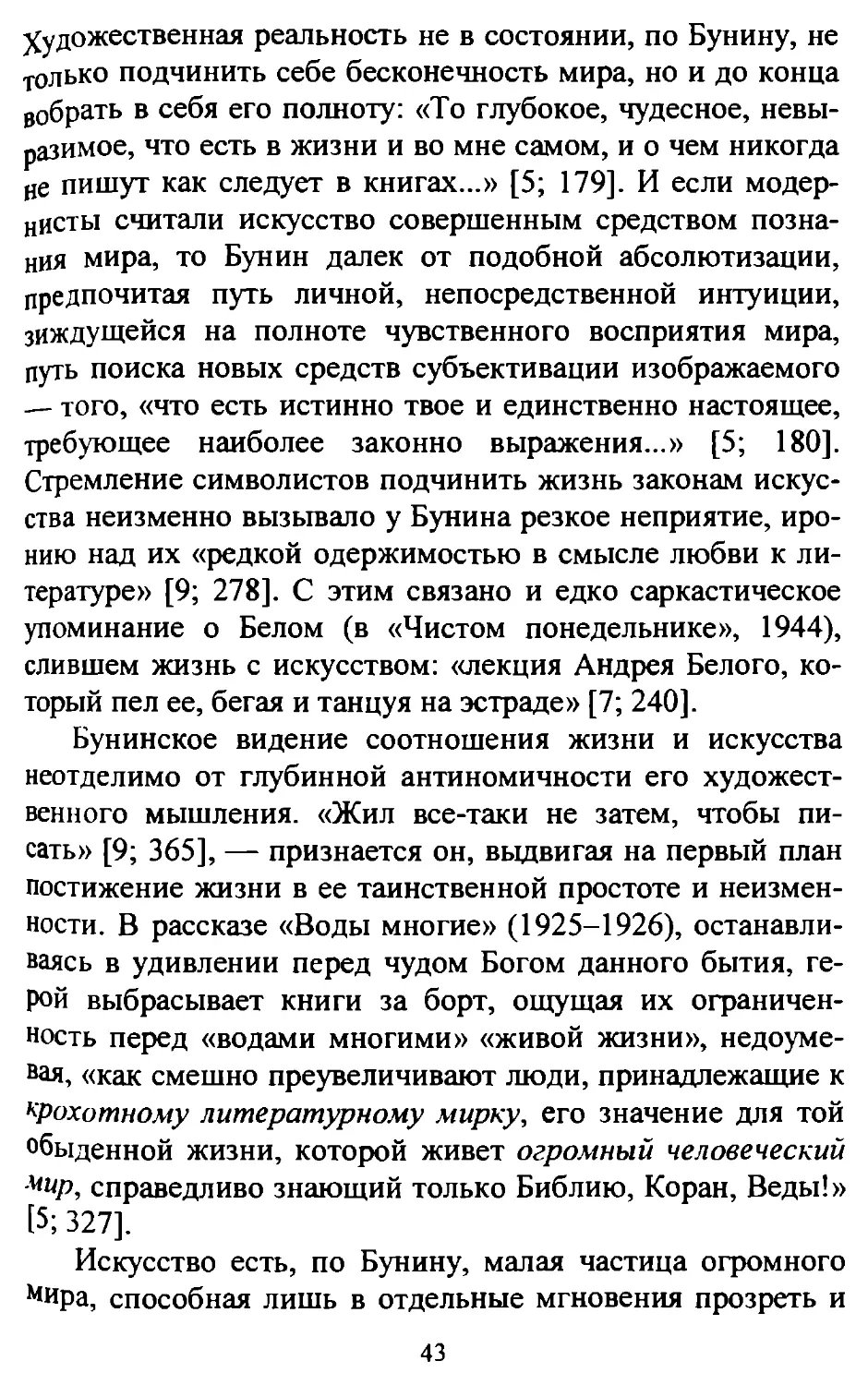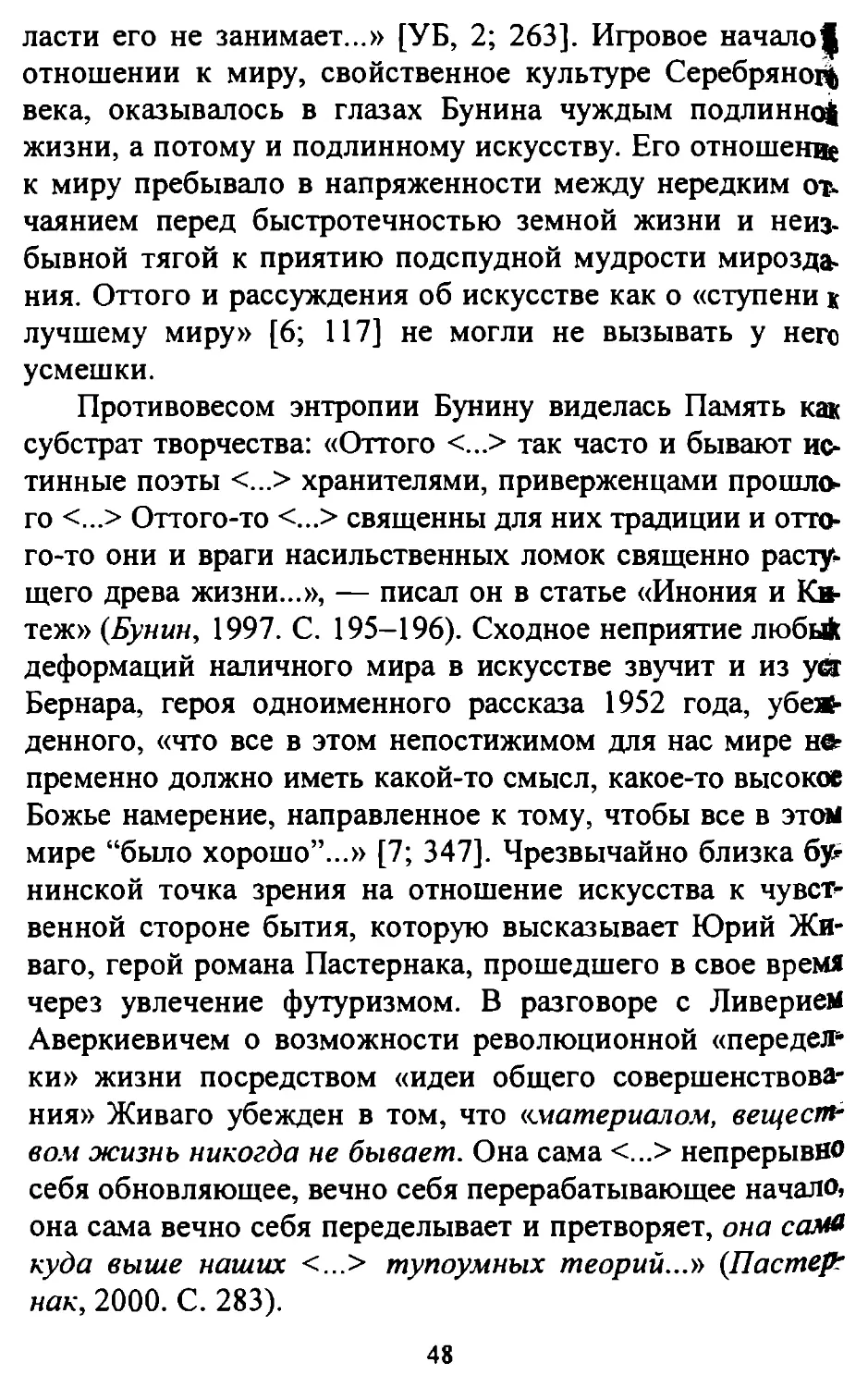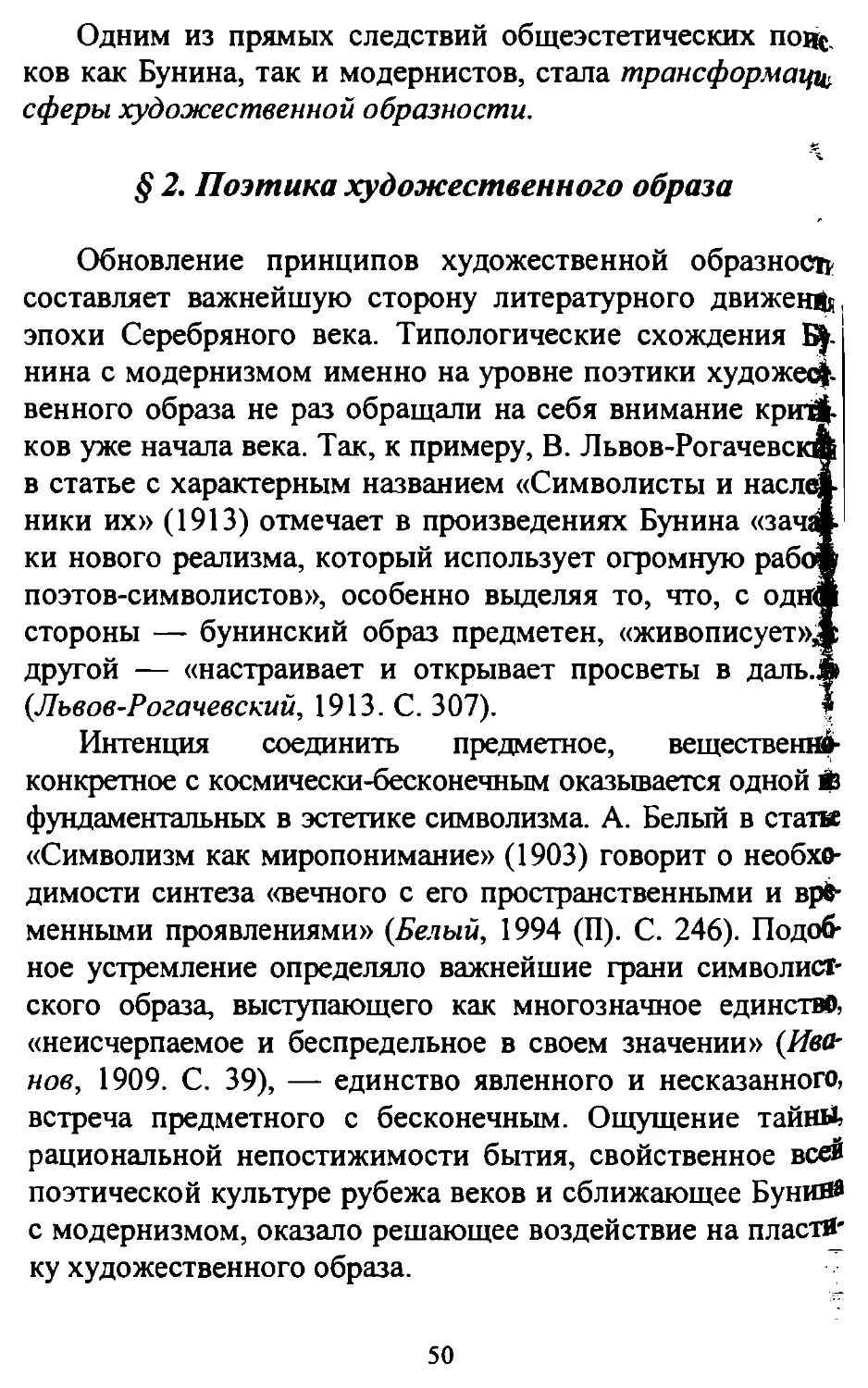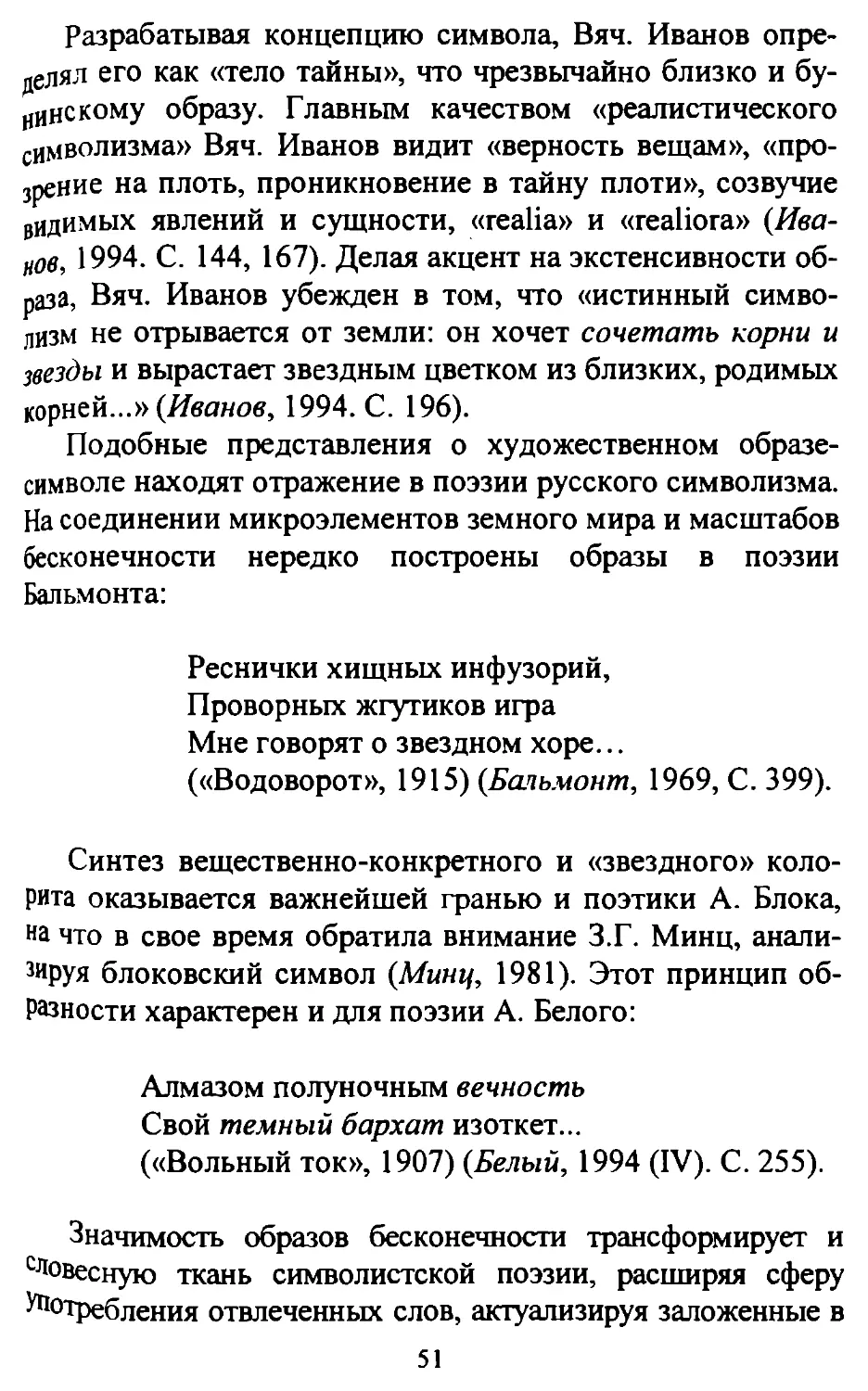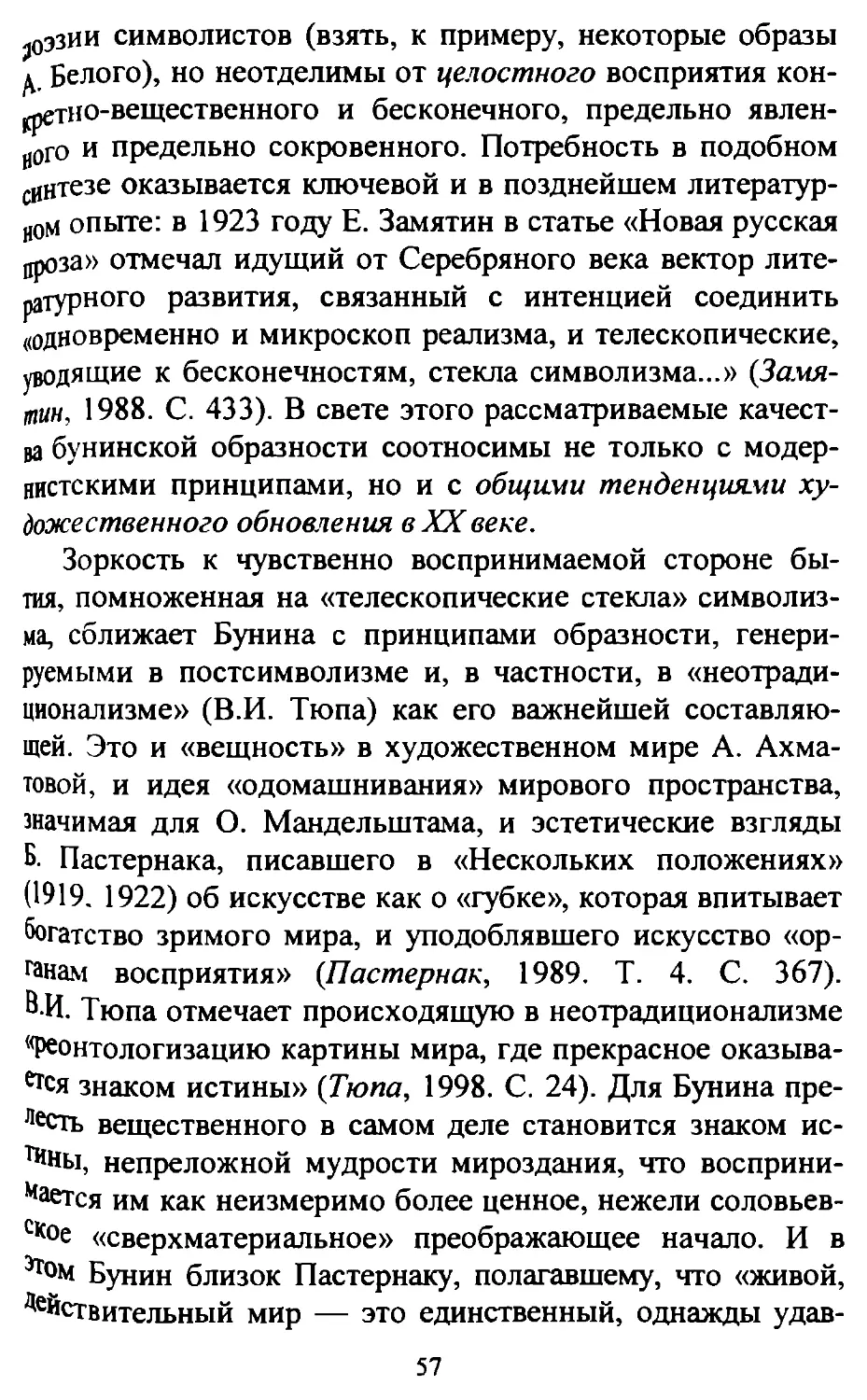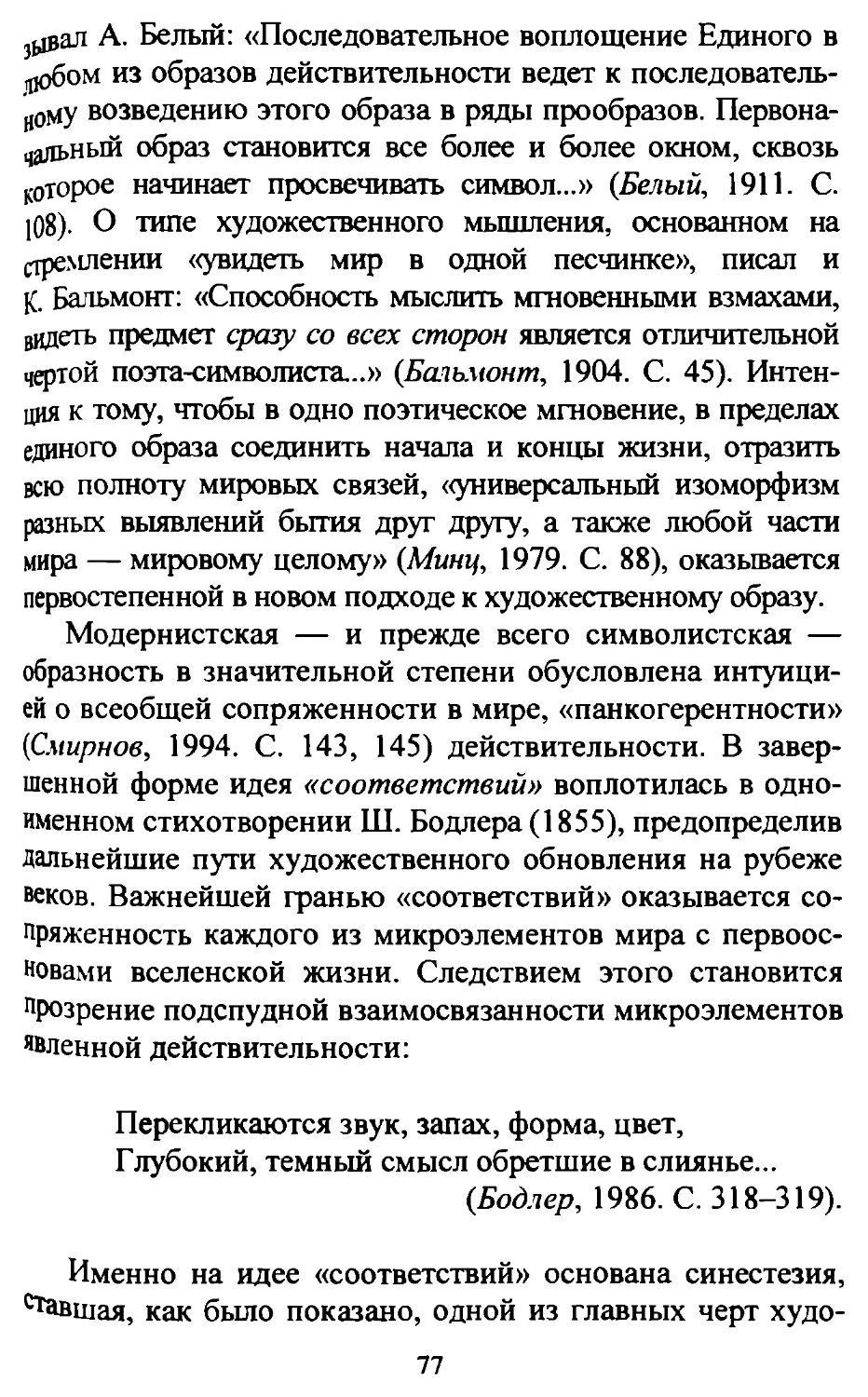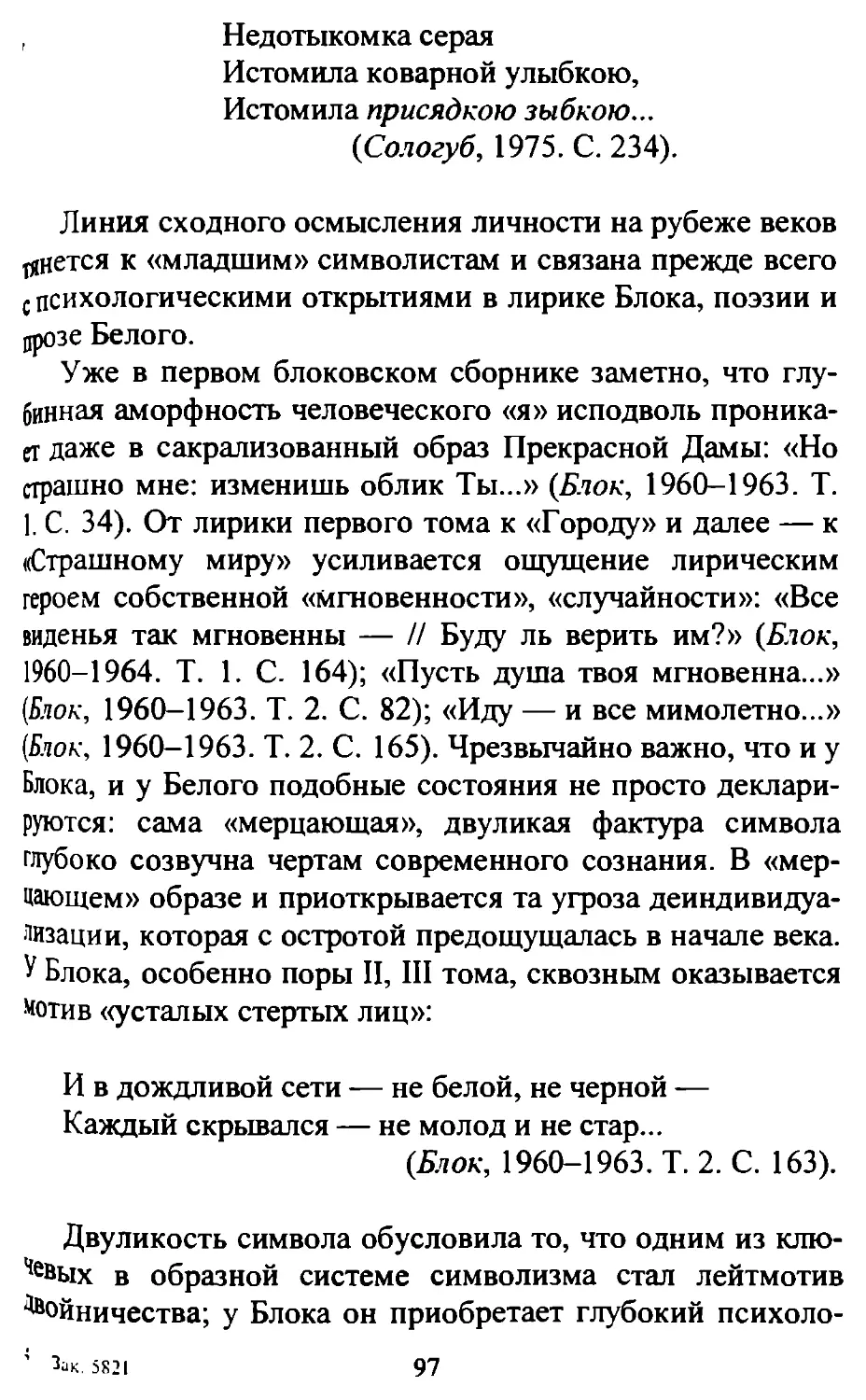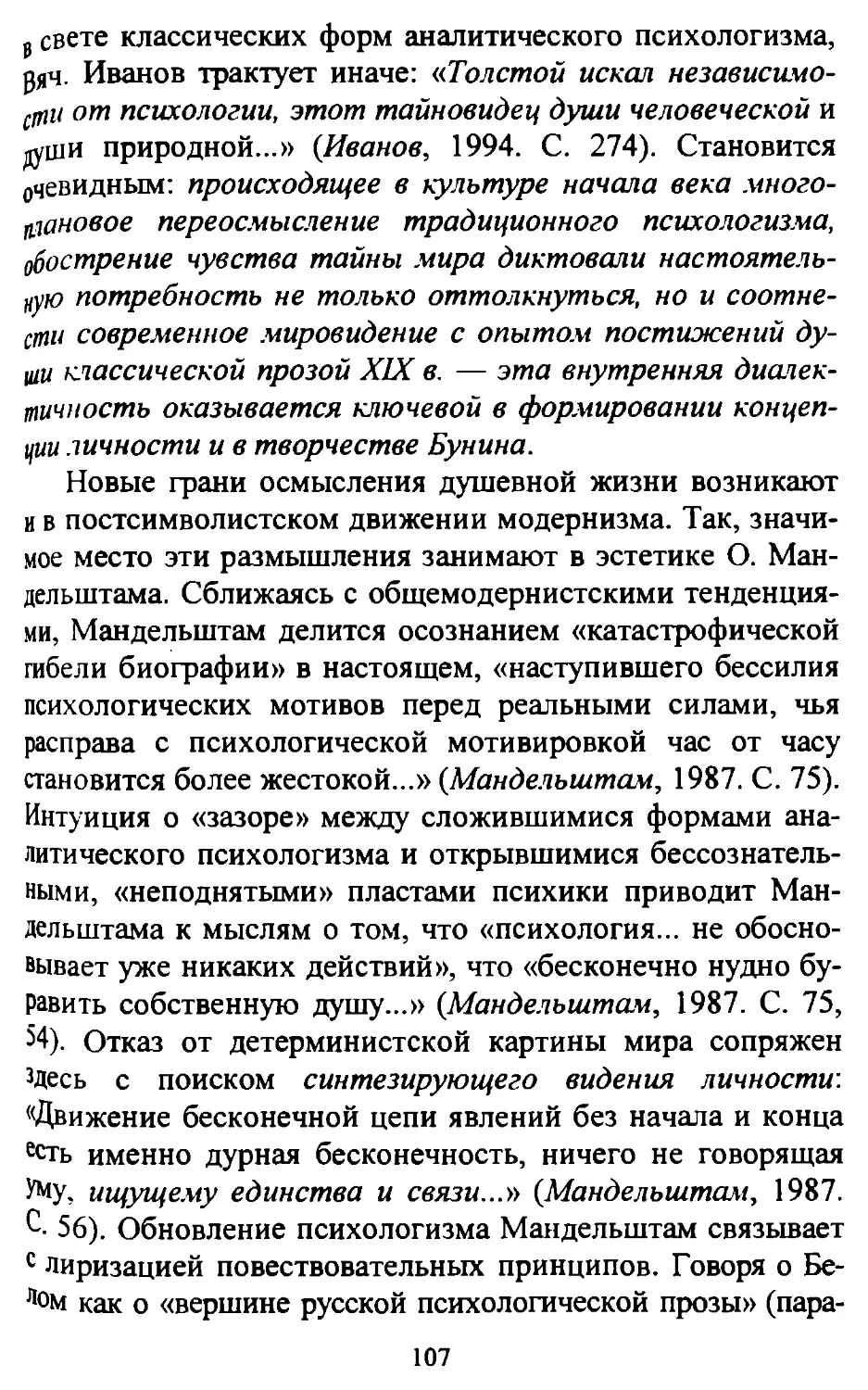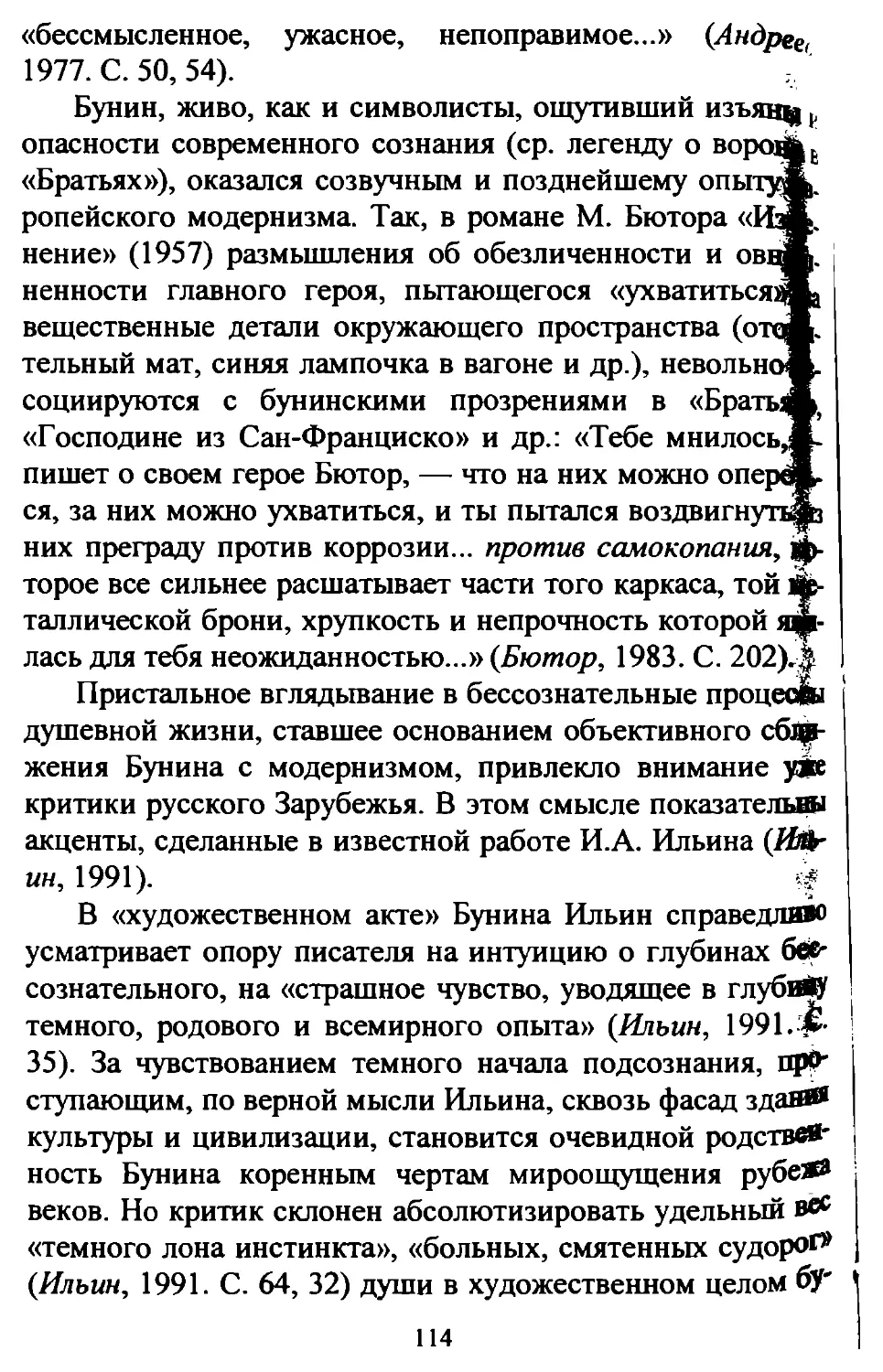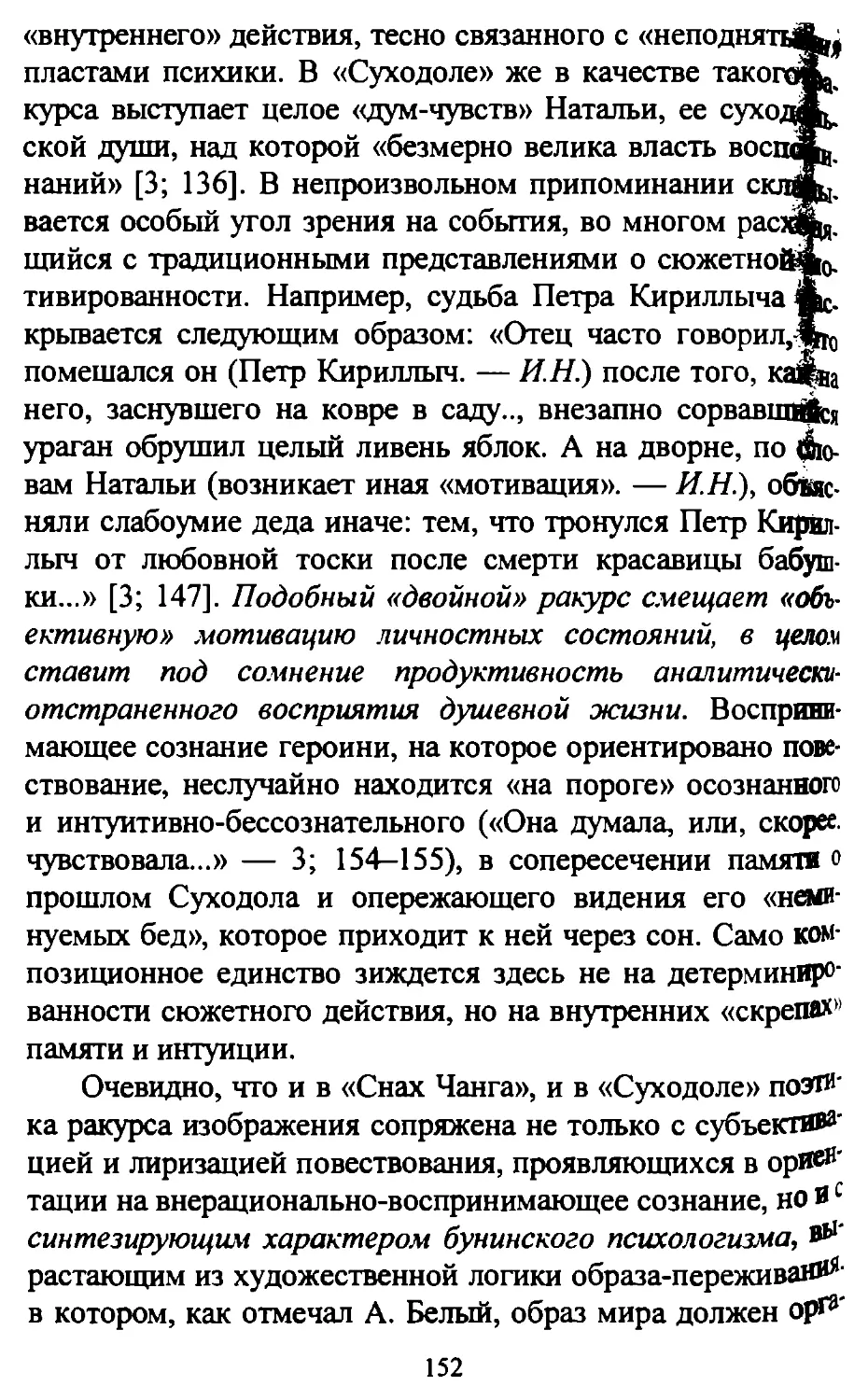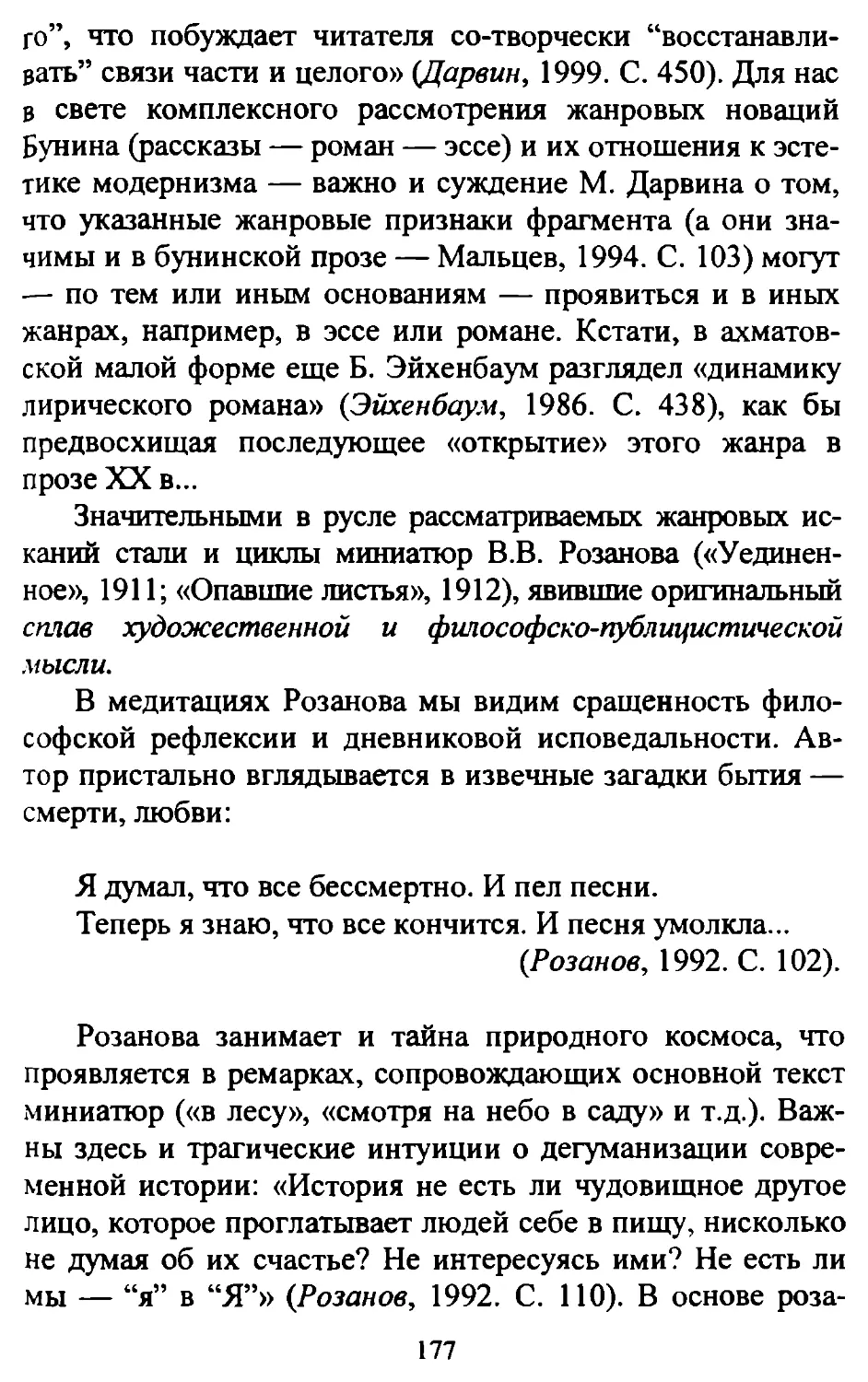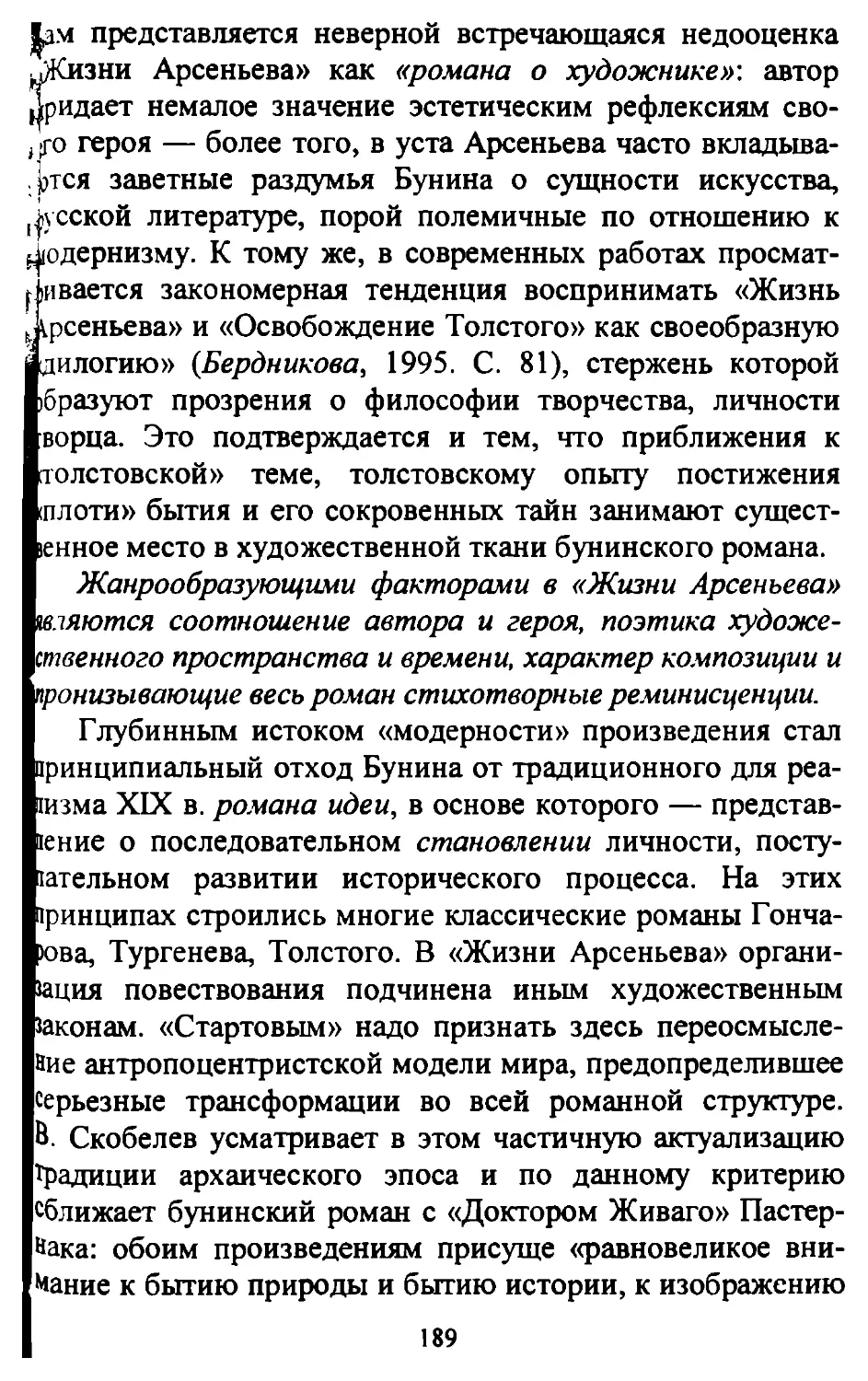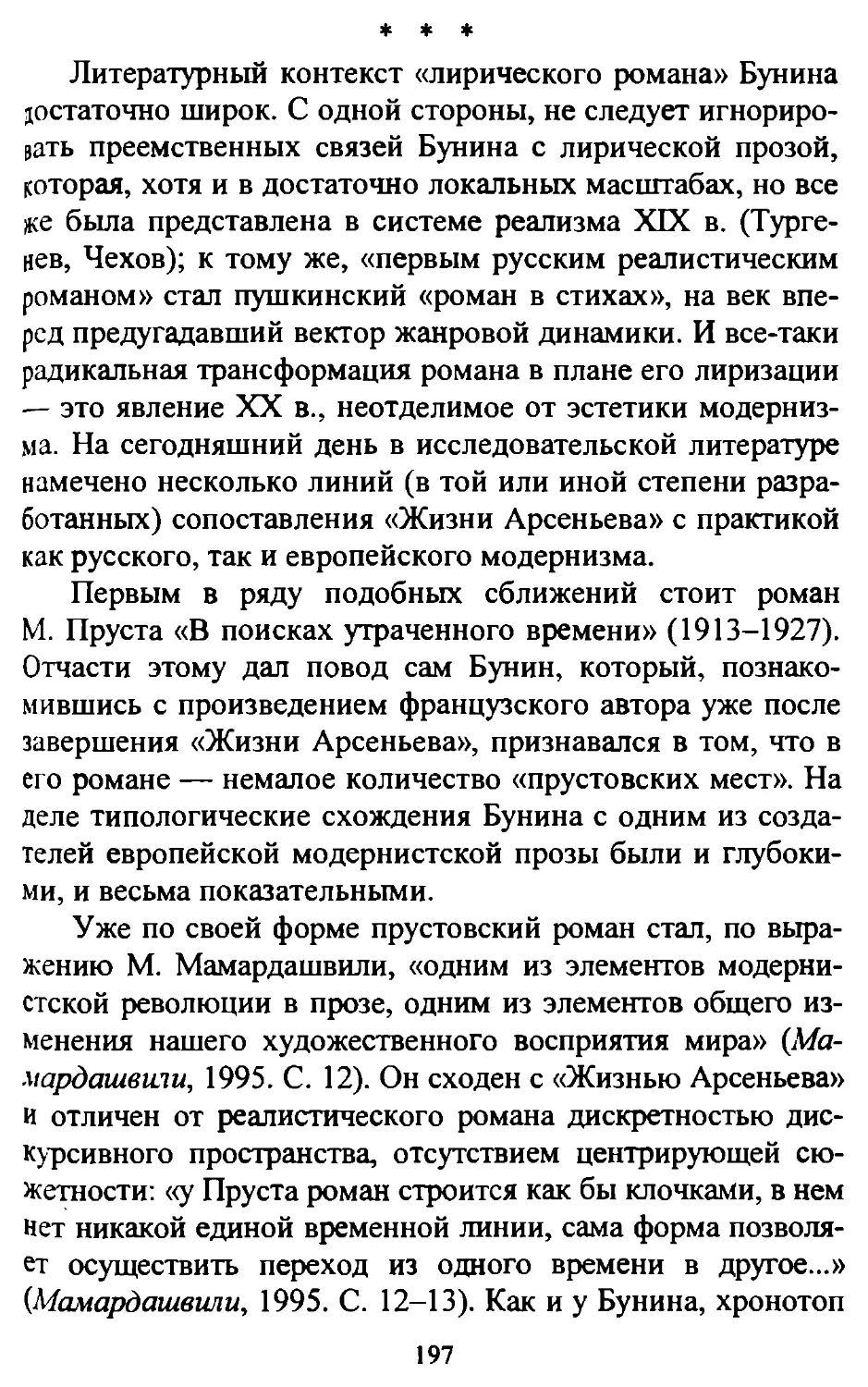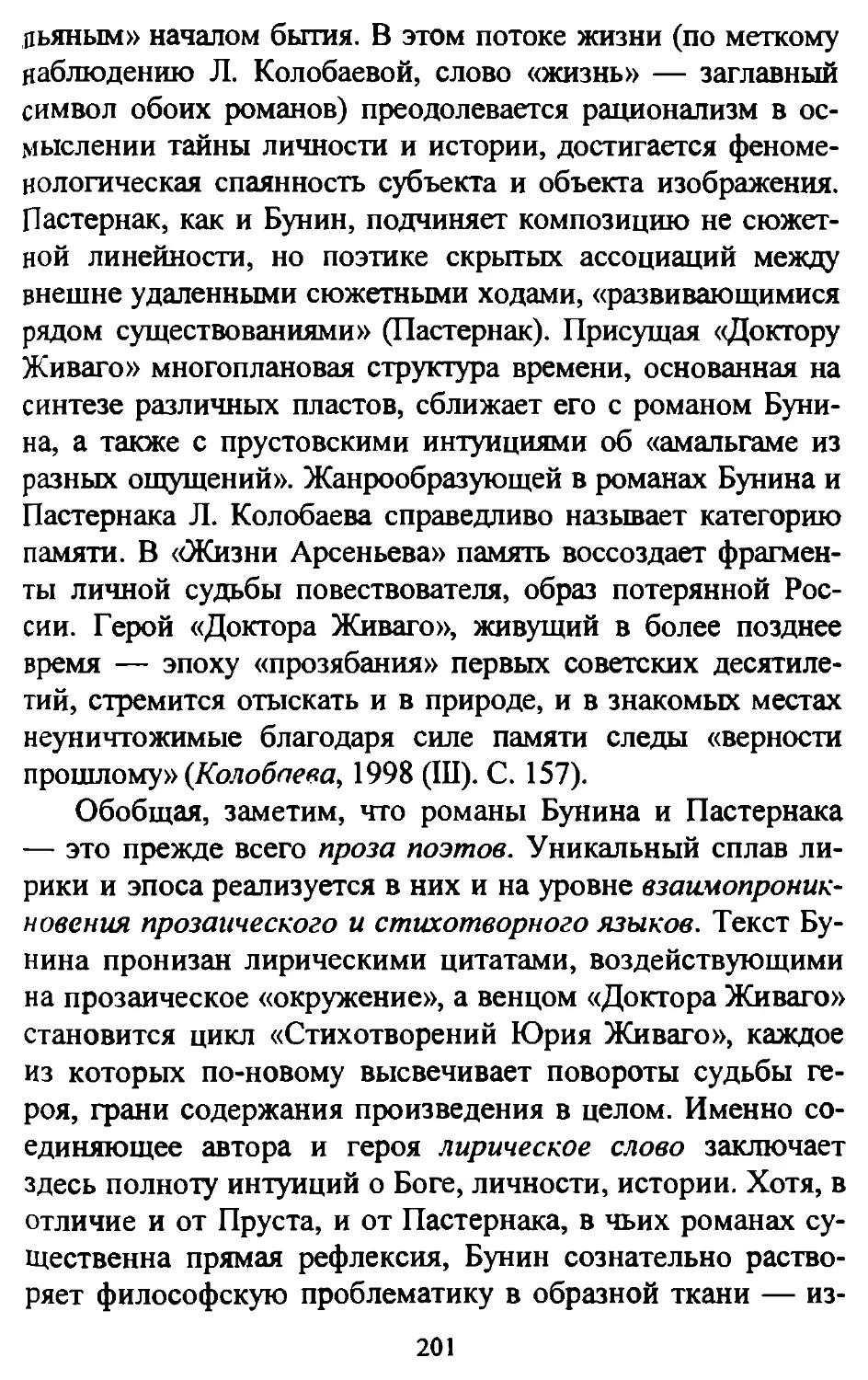Текст
УДК 821.161.1.0+929 Бунин
ББК 83.3 (2Рос=Рус) 6-8 Бунин И.А.
Н70
Адрес: 103001, Москва, ул. Малая Бронная, 28/2 (
Издательство «Метафора». Телефон (095) 202-48-58
Ничипоров И.Б.
Н70 Поэзия темна, в словах не выразима... Творчество И.А.Бунина
и модернизм. — Монография. — М.: Метафора, 2003. — 256 с
ISBN 5-85407-009-Х
УДК 821.161.1.0+929 Бунин
ББК 83.3 (2Рос=Рус) 6-8 Бунин И.А.
В монографии кандидата филологических наук преподавателя М]
И.Б.Ничигюрова творчество классика отечественной литературы И.А.Бунг
рассмотрено на широком фоне русского и европейского модернизма, а так
философской и эстетической мысли рубежа XIX - XX веков.
Книга адресована специалистам-филологам, студентам, преподавател
высших и средних учебных заведений и всем интересующимся историей р;
ской культуры.
Рецензент: д.фил. н., проф. Л.Г.Кихней,
Московский международный независимый
эколого-политологический университет
Главный редактор: О.С. Копылова
В офс " использована картина
Все права зашищень
какой бы то ни былс
ISBN 5-85407-0
2003001488
От автора
В основе монографии - защищенная на филологиче-
ском факультете МГУ им. М.В.Ломоносова кандидатская
диссертация, многие идеи которой вынашивались автором
в процессе плодотворного общения с коллегами по кафед-
ре истории русской литературы XX века МГУ, вне науч-
ной и творческой ауры которой эта работа, вероятно, была
бы совсем иной. Решающую роль в этом «общении-
учении» сыграло научное руководство доктора филологи-
ческих наук, профессора Лидии Андреевны Колобаевой,
под немалым влиянием идей которой создавалось это ис-
следование. Выражаю также сердечную благодарность
коллегам из Института мировой литературы им.
А.М. Горького, Псковского педагогического института,
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина,
Саратовского государственного университета, Владимир-
ского государственного педагогического университета за
ценные замечания, высказанные при апробации основных
положений работы на научных конференциях.
з
Жене Саше и сыну Андрею посвящается
СОДЕРЖАНИЕ
ЗВЕДЕНИЕ.............................................6
Глава I. ЭСТЕТИКА И ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
В ТВОРЧЕСТВЕ НА. БУНИНА И МОДЕРНИЗМЕ
§ 1. И.А. Бунин и модернисты о сущности искусства.21
§ 2. Поэтика художественного образа...............50
Глава 11. КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ И ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЗМА
§ 1. И.А. Бунин и литературные течения рубежа XIX-XX веков:
опыт осмысления личности..............................90
§ 2. Новое соотношение осознанного и бессознательного начал.. 108
§ 3. Хронотопические формы психологизма..............130
§ 4. Сюжетно-композиционные формы психологизма.......140
Глава III. ЖАНРОВЫЕ НОВАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА
В КОНТЕКСТЕ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МОДЕРНИЗМОМ
Вводные замечания............................162
§ 1. Лирико-философские рассказы и миниатюры.167
§ 2. «Лирический роман»......................182
§ 3. Жанр эссе...............................203
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................232
БИБЛИОГРАФИЯ...................................235
5
ВВЕДЕНИЕ
Рассмотрение творчества И.А. Бунина в контексте х
дожественных принципов модернизма является неотьез
лемой частью масштабной теоретической и историк;
литературной проблемы — соотношения реализма и м
дернизма в русской литературе первой трети XX в. В б
нинском наследии, преемственно связанном с традиция»
классики, в то же время активно аккумулировались и н
вейшие эстетические открытия, совершенные модернис
ской культурой Серебряного века.
В современных подходах к изучению русской литер
туры рубежа XIX-XX вв. все определеннее обозначает
тенденция к интерпретации этого периода, опирающей
не только на различия художественных течений нача
века, но и на понимание культурного пространства эпоз
как сложной и динамичной целостности, основанной 1
«диффузном» взаимопроникновении подчас полярш
творческих установок. «Там, где участникам и первым и
терпретаторам литературного процесса виделась борьб
столкновение различных течений и школ, ныне — особе
но на уровне исторической поэтики — открывается схо
ство эстетических систем... Диффузное состояние — од
из характерных черт не только словесности, но и всего и
кусства начала XX века в целом» (выделено О. Клинго
— И.Н) (Клинг, 2000. С. 83). В сознании участников худ
жественной жизни Серебряного века действительно «п
верх барьеров» «цеховых» размежеваний рождалось пон
мание внутренне закономерного соприкосновения реалг
ма и символизма. А. Блок в статье «О современной Крит
ке» (1907) писал об этом: «Реалисты тянутся к символа
му, потому что они стосковались на равнинах русской де
ствительности и жаждут тайны и красоты... Символис:
* Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, курсив наш. — И.Н.
6
идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух
“келий”, им хочется вольного воздуха, широкой деятель-
ности, здоровой работы» (Блок, 1960-1963. Т. 5. С. 206).
На возможные линии взаимодействия двух эстетических
систем и качества обновляющегося реализма указывала в
первое десятилетие XX века и один из первых теоретиков
«неореализма» критик Е.А. Колтоновская, широко опира-
ясь на конкретный анализ творчества Бунина, Андреева,
Зайцева, Сергеева-Ценского, А. Толстого (Колтоновская,
2000).
Однако в последующие десятилетия подобные синте-
зирующие импульсы литературоведческой мысли оказа-
лись оттесненными на периферию в результате выдвиже-
ния на первый план схематичной теории «двухпоточно-
сти» литературы. Лишь с конца 1970-х гг. в отечественном
литературоведении стали появляться отдельные работы
(Л. Долгополов, В. Келдыш и другие), где намечалось
комплексное рассмотрение оснований диалога реализма и
модернизма. Л.К. Долгополов (1976) попытался в своей
статье, имея в виду и Бунина, выделить некоторые типоло-
гические универсалии в литературном сознании начала ве-
ка и рассуждал, в частности, о принципиально изменив-
шихся, по сравнению с XIX в., концепции личности, вос-
приятии личного и исторического времени. Исследованию
объективных сближений, «равнодействующей» между
реализмом и модернизмом посвящен и целый ряд работ
В.А. Келдыша (1979, 1994, 2000 и др.). В новейшей из них,
как бы подводя итоги своим размышлениям о «промежу-
точных» феноменах в «порубежном литературном процес-
се» эпохи, ученый верно отмечает диалектику открытости-
закрытости в типологических общностях, сложившихся в
конце XIX — начале XX вв.: «Текучесть, нестабильность,
постоянная изменчивость художественных состояний рез-
ко усилилась... внутри направлений. Но даже при самых
больших разноречиях здесь присутствовало чрезвычайно
7
сильное подчас ощущение своей “особости”, которая, о,
нако, не приводила к изоляции (вопреки острым спорам
ибо соседствовала с не менее интенсивным восприятие
“чужого” художественного опыта» (Келдыш, 2000. С. '
Подчеркнем, что для обсуждения проблемы соотношен]
Бунина с модернизмом подобное представление о диале
тических механизмах литературного движения эпохи явл:
ется первостепенным. Хотя заметим, что, следуя, вероятна
инерции прошлого, В. Келдыш фактически не рассматр]
вает творчество Бунина в контексте «синтезирующих xi
дожественных тенденций», а предпочитает приводить
пример более «привычно» звучащие с этой точки зреш
имена — Л. Андреева, А. Ремизова и других. Бунин я
представляется им преимущественно как продолжите;
традиций позднего реализма (Келдыш, 1994-II).
Проблема «Бунин и модернизм» предполагает и о
временную теоретическую интерпретацию понятия моде]
низма. В вопросе о хронологических границах модерни
ма, его периодизации, соотнесенной с фазами эволющ
реализма, мы опираемся на работы Л. Колобаевой (199
2000) и О. Клинга (1999, 2000). Характеризуя эстетич
скую ситуацию начала века, Л.А. Колобаева отмечает: «
модернизме — это фаза символизма (1890-1900-е гг.)
фаза постсимволизма — 1910-е годы. В реализме — э'
фаза итогов, освоения и развития традиций XIX ве:
(1890-1900-е гг.) и фаза начал, неореализма, включающе
в себя опыт модернизма, — 1910-е годы» (Колобаев
1994. С. 61). В целом принимая это определение, мы сч
таем нужным внести в него одно уточнение: в реализг
уже 1890-1990-х гг. наблюдается не только продолжен:
классических традиций, но и возникают первые типолог
ческие сопересечения с модернизмом — вспомним заме
ные жанровые новации в «малой» прозе Бунина данно
периода, сблизившие его с направленностью символис
ских исканий, или же «ницшеанство», парадоксальным с
разом «объединяющее» молодого Горького с одной из фи-
лософских опор русских «декандентов»... Однако под мо-
дернизмом понимаются не только символизм, акмеизм и
футуризм, но и более поздние явления европейской и рус-
ской культуры: проза М. Пруста, французские сюрреализм,
школа «нового романа»... По мысли О.А. Клинга, сложный
сплав символизма с постсимволистским движением в «ла-
тентном» виде присутствовал в русской литературе вплоть
до «Доктора Живаго» Б. Пастернака (Клинг, 1999).
Помимо уточнения хронологических рамок и внут-
ренних составляющих модернизма, необходимо и его
сущностное определение в плане соотношения с реализ-
мом и особого места, занимаемого им в культуре XX в.
Весьма распространенная точка зрения на этот счет отра-
зилась в статье Н.Л. Лейдермана «Космос и Хаос как ме-
тамодели мира» (1996). Появившаяся в середине 90-х гг.,
она демонстрирует взгляд «образца» 1960-70-х гг. на
классическую (реалистическую) модель мира как на гар-
монию, «Космос»; в модернизме же усматривается лишь
деструктивное начало, «мирообраз Хаоса». Модернизм
действительно был сопряжен с ощущением кризиса, раз-
рушения традиционных форм бытия и культуры, но зна-
чительны в нем и поиски новой целостности, «всеединст-
ва» в потрясенной катастрофическим опытом современ-
ности человеческой душе, в историческом процессе, ин-
терес к которому (пусть и в особых, мифопоэтических
формах) был у многих модернистов ничуть не слабее, чем
в реализме. Нам близка точка зрения Л.А. Колобаевой,
согласно которой «модернизм стал сильнейшим обнов-
ляющим ферментом искусства и литературы» XX столе-
тия, и что особенно важно — «и модернизм и реализм
мыслятся как явления многосложные, за каждым из этих
понятий стоит не одна литературная ветвь. Кроме того, ни
одно из них, и реализм в том числе, нельзя считать моно-
польным обладателем художественной “правды”. Модер-
9
низы... не исключает, а предполагает искание истины,
обретает ее на иных по сравнению с реализмом путя
(Колобаева, 2000. С. 5).
Обозначенные новейшие представления о соотноц
нии реализма и модернизма, сущности модернизма явл
ются методологической базой нашего исследования. В »
честве исходного определения типологических художес
венных принципов модернизма мы принимаем вариан
предложенный Л.А. Колобаевой: «Модернизмом мы наз1
ваем художественные течения конца XIX-XX веков, аде]
ты которых ставят своей целью создание нового, “болыц|
го стиля” в искусстве, лежащего за пределами ближайш^
традиции, с установкой на осознанное экспериментатор^
во, исходят из убеждения в автономности искусства и opi
ентируются на творческую активность читателя (зрителя
(Колобаева, 2000. С. 5). j
* * *
Теоретическая основа данной работы двуедина. В<
первых, это творческое самоосознание как Бунина, так.
ведущих представителей русского и отчасти европейско1
модернизма. Во-вторых, это научные теоретические иссл
дования.
В начале своего творческого пути Бунин был доводы
тесно связан с главными деятелями «нового искусства» -
В. Брюсовым и К. Бальмонтом. Он редактировал беллетр]
стический отдел газеты «Южное обозрение», в которс
печатались многие символисты, а его «Листопад» появил<
в 1901 г. в символистском издательстве «Скорпион
Позднее в силу целого ряда литературных и внелитерату
ных факторов (начиная с размолвки с Брюсовым) позиц!
Бунина по отношению к подавляющему большинству м<
дернистое делается антагонистичной и сохраняется таю
вой вплоть до самых поздних отзывов. Но в многочи
ленных бунинских высказываниях о писателях XIX в.,
10
^временниках мы должны будем определить, все ли и
всё ли в модернизме вызывало столь категоричное непри-
лтие, каковы были нюансы в его оценках модернистских
новаций? И с другой стороны — во многом ли Бунин го-
тов был следовать реалистическим традициям? На эти и
другие вопросы необходимо последовательно находить
ответы, анализируя конкретные грани притяжений-
отталкиваний Бунина и модернизма. В качестве своеоб-
разного модуса такого рассмотрения мы воспринимаем
бунинское признание, сделанное им в письме к Л. Ржев-
скому: «“Реалист” Бунин очень и очень многое приемлет
в подлинной символической мировой литературе» {Бунин,
1980. С. 167).
Для разностороннего рассмотрения связей Бунина с
модернизмом необходим и учет теоретической базы по-
следнего. Принципиально важны для нас суждения модер-
нистов о сущности творчества, «синтезе искусств», движе-
нии к жанрово-родовому синкретизму, о поэтике художе-
ственного образа. В этом ряду мы особенно выделяем и
теорию символа, родившуюся в недрах символизма и
имевшую широкий эстетический, психологический, куль-
турологический и религиозно-философский смысл; а также
модернистское обоснование современной концепции лич-
ности, новейших форм психологического изображения,
которое тесно соотнесено со многими научными психоло-
гическими открытиями XX в., связанными, в частности, с
феноменом бессознательного. В качестве материала мы
рассматриваем выступления А. Белого, Вяч. Иванова,
В. Брюсова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, И. Анненского и
Других; из постсимволистского контекста — работы
Б. Пастернака, О. Мандельштама, М. Волошина, В. Хода-
севича, Н. Гумилева, а также русские и европейские футу-
ристические манифесты, в которых намечались реальные
тенденции художественного обновления. Нами привлека-
ются и манифесты французских символистов, содержащие
11
симптоматичные особенности видения искусства, структ
ры поэтического образа; и декларации, связанные с поз,
нейшим модернизмом — например, теоретические стал
Н. Саррот, А. Роб-Грийе о принципах «нового романа
Безусловно, все эти теоретические аспекты осознаются
тесной сопряженности с творческой практикой. Кроме т<
го, вследствие особой спаянности художественного и ф!
лософского мышления в эпоху Серебряного века, возник
ет необходимость и в частичном привлечении филосоя
ского дискурса в свете обсуждаемых проблем: ряд работ J
Белого, Ф. Степуна, О. Мандельштама, а таюн
В. Соловьева, Н. Бердяева, посвященных, в частности, фи
лософии русского Эроса.
В качестве исходного материала нашего исследованц
мы опираемся на ряд теоретических трудов, различных
направлению и проблематике. Это работы о типологии 1
эстетических принципах русского и европейского моде|
низма как целостного литературного и культурного явл^
ния — Г.К. Косикова (1972, 1993), Л.А. Колобаевой (2000
Е.Г. Эткинда (1997), В.А. Сарычева (1991), И.П. Смирнов
(1977, 1994), Г.А. Белой (1992), Л.Г. Кихней (докт. дис
1997), В.И. Тюпы (1998), О.А. Клинга (1999, 2000
Е.В. Ермиловой (1989), М.Л. Гаспарова (1995), З.Г. Мин
(1979, 1981), И.Ю. Искржицкой (1997), И.В. Корецко
(1995) и других. Это и исследования, рассматривающи
классические и новейшие представления о реализме с уч(
том его эволюции в XX в.: реалистические психологизм
модель характера, нарративные принципы — Л.И. Тим(
феева (1959), С.Г. Бочарова (1962), Л.Я. Гинзбург (197
1979), В.А. Келдыша (1975, 1994, 2000), А.Б. Есина (1988
Л.В. Чернец (1999), В.Е.Хализева (1999) и других. Теор<
тического подкрепления требует, несомненно, и выделенв
синтезирующих жанровых тенденций как у Бунина, так и
модернизме, и здесь мы ориентируемся в основном на сл<
дующие источники: о феномене «прозы поэта» — работ
12
^>.0. Якобсона (1987), Ю.Б. Орлицкого (1993); об экспери-
ментах модернистов в сфере метризованной прозы —
С.И- Кормилова (1996); о новациях в жанре рассказа —
0.Я. Гречнева (1979), М.С. Штерна (1997); о «лирическом
романе» и теории романа в целом — Б.М. Эйхенбаума
(1986), М.М. Бахтина (1975), В.Д. Днепрова (1965),
В.Е. Хализева (1999), Г.К. Косикова (1972); об эссеистике
— МН. Эпштейна (1988), В.Е. Хализева (1999) и т.д. Мы
не упускаем из виду и некоторые общегуманитарные ис-
следования, придающие новый ракурс интерпретации ху-
дожественных явлений XX в.: труды М.М. Бахтина (1986)
о «философии поступка», М.К. Мамардашвили (1995) об
онтологических аспектах современного романного мыш-
ления (на материале прозы М. Пруста); исследования Гру-
зинской психологической школы (Д.Д. Узнадзе, А.Е. Ше-
розия) о роли бессознательного и его соотношении с соз-
нанием в структуре личности и др.
В историко-литературном плане мы опираемся на
комплекс идей по проблеме «Бунин и модернизм», генери-
ровавшихся на различных этапах литературоведческой
мысли: в критике дореволюционной, эмигрантской, совет-
ского периода, рубежа 1980-1990-х гг., середины и второй
половины 1990-х гг.; отчасти в зарубежном литературове-
дении.
Что касается дореволюционных критиков, то в их оцен-
ках «синкретизма» бунинского метода, парадоксально со-
единявшего традиционализм с самой смелой «модерно-
стью», часто преобладало либо непонимание, как, напри-
мер, в символистских рецензиях, либо недоумение. С упре-
ком о заимствовании автором «Листопада» «декадентских»
Приемов писалось в самом начале 1900-х гг. В. Брюсовым
(1901), В. Кораблевым (1901), в редакционной рецензии
’курнала «Русское богатство» (1902). Другая группа крити-
ков видела в бунинской образности лишь следование тра-
диции (В. Шулятиков, 1901; А. Куприн, 1901; С. Глаголь,
13
1902) или даже «эпигонство натурализма» (Н. Гумил
1910). Более внятно о характере бунинских новаций гово]
ли критики 1910-х гг. — В. Львов-Рогачевский и особей
Е. Колтоновская. Львов-Рогачевский, сосредотачиваясь
поэтике образа у Бунина, усматривает здесь самобытн
сплав реалистической предметности и символическ
обобщенности, что связано, по мнению критика, с «испоз
зованием огромной работы поэтов-символистов» (Льв(
Рогачевский, 1913. С. 307). Е. Колтоновская прослеживг
постепенный путь к художественному синтезу реализма
символизма, очерчивая его с «крестьянских» рассказов]
повестей 1900-1910-х гг. («Сосны», «Деревня», «Суходол»
«Бунинская “Деревня” имеет много общего с чеховским
“Мужиками”, но тон у нее иной — нервический, крас?
сгущены, рисунок упрощен — стилизован. Еще дальп
ушел Бунин по тому же пути в “Суходоле”, где с фанати^
ской убежденностью, на фоне своей символической дерев?
обнажает самые корни русского народного естества» (Kd
тоновская, 2000. С. 176-177). Следующую же стадию это]
плодотворного пути Колтоновская видит в насыщенной о!
тологической проблематикой прозе середины 1910-х гг.: «
интернациональных по теме рассказах “Господин из Са
Франциско” и “Петлистые уши” художник-символист опр
деленно вытесняет в Бунине прежнего реалиста, вернее, ri
глощает его. О более гармоничном синтезе символизма
реализмом нельзя и мечтать...» (Колтоновская, 2000. ]
177). 1
Более интенсивно, по сравнению с дореволюционна
критикой, проблема «Бунин и модернизм» обсуждалась;
диаспоре — статьях Г. Адамовича, И. Ильина, М. Алдан!
ва, Ю. Иваска, П. Бицилли, Ф. Степуна, В. Ходасевич
В. Вейдле и др.
Критики-эмигранты, размышляя о направленности б
нинских поисков, верно стремились обозначить его вод
разделы с реализмом. М. Алданов писал об отказе Буни
14
tT аналитических форм психологизма («не лежит душа... к
онкологическому анализу» — Алданов, 1994. С. 69), схо-
дясь с И. Ильиным в фиксации повышенной роли «внеш-
ней изобразительности» в произведениях Бунина. Однако
Ильин, пристально и с энциклопедической полнотой рас-
смотревший стереоскопическую выпуклость бунинских
образов чувственного мира, ошибочно отделял писателя от
сферы «нечувственного духовного опыта», во многом од-
носторонне подходил к трактовке феномена бессознатель-
ного в системе психологизма Бунина, что неизбежно вело
к абсолютизации его противопоставления классикам.
Кстати, сходные с Ильиным суждения о некоторой «ов-
нешненности» в фактуре бунинского образа не раз выска-
зывались и модернистами: «В Бунине... при его тончайших
ощущениях окружающей внешности, есть все-таки внут-
ренняя нетонкость понимания личности, — человека... Он
весь в одних ощущениях, но очень глубоких» (Гиппиус,
1951. С. 308, 307).
Однако в целом ряде работ намечался и более диалек-
тичный подход к исследованию соприкосновений реали-
стических и модернистских тенденций в творчестве Буни-
на. Понимание очевидной «противоположности» бунин-
ской художественной манеры качествам символистского
стиля (П. Бицилли) не исключало, однако, установления
предпосылок типологического сближения Бунина с модер-
низмом. В глубокой работе Ф. Степуна (1926) о повести
«Митина любовь» содержатся ценные наблюдения не
только о природе бунинского Эроса, объективно ставящие
автора произведения в контекст философско-эстетической
мысли рубежа веков, но и анализ антропологических
взглядов Бунина, сопряженных с прозрением «космическо-
ГО», иррационального в личности, с поисками новаторских
композиционных приемов. В 1931 г., основываясь на более
Широком материале («Жизнь Арсеньева», рассказы, ми-
ниатюры), Степун напишет также и о «музыкальности»
15
бунинской прозы, временном синкретизме в «Жизни /
сеньева», об антиномизме художественного мышления I
нина, получившем особенно заостренное выражение в j
коничных миниатюрах: «Последняя форма его жизненн
мудрости — удивление: то восторженное, то умиленное,
гневное, то скорбное...» (Степун, 1931. С. 488). Глубок
суждения относительно «модерности» бунинских «кратк
рассказов» принадлежат и В. Ходасевичу, который одн
из первых сформулировал диалектическую мысль о том, ч
«врагом символизма Буниным» в реальных творческ.
свершениях осуществлялось многое из того, что в симб
лизме и модернизме в целом недовоплотилось. Своеобразн
обобщение критической мысли диаспоры по интересующ
нас проблеме сделал В. Вейдле (1954). Зачатки новых пр»
мов художественного письма Вейдле распознает еще в ра
них лирических рассказах Бунина, значимость которых св
зана не с сюжетностью, а с «их субстратом, лирически п
режитым, с некоторой судорогой чувства и мысли, в кот
рой весь смысл рассказа и заключен» (Вейдле, 1954. С. 8-
85). Вейдле выдвигает веские основания сближающ
контрастного сопоставления общеэстетических воззреш
Бунина и символистов, рассматривает бунинские языков!
новации, анализирует «двойную субъективность» в «Жизе
Арсеньева», а также субъективацию повествовательнь
форм на фоне европейского модернистского опыта (Прус
Музиль, Джойс и др.).
В западном литературоведении преобладает тенде!
ция к решительному отнесению Бунина к числу модерн!
стов, что отчасти оправданно, но и не свободно от изде
жек (Т. Марулло, Р. Поджоли, В. Вудворт, А. Жолковски
и другие). Так, например, Т. Марулло (1994) в одной W
своих работ идет от контрастного сопоставления дв$
«крестьянских» рассказов — «Бежина луга» Тургенева!
«Ночного разговора» Бунина. Если у Тургенева исследг
ватель отмечает реалистическую конкретность и уравнв"
16
вешенность в изображении героев, то в «Ночном разгово-
ре» авторские интуиции о темных бессознательных глу-
бинах души закономерно облекаются в модернистские
стилевые формы. Марулло совершенно справедливо по-
лагает, что в осмыслении болезней человеческого духа
Бунин — художник XX века, разделяющий многие
антропологические взгляды модернистов. Однако, ведя
речь лишь об отдельно взятом произведении, иссле-
дователь абсолютизирует увиденные здесь стилевые
тенденции. В характеристиках Марулло доминируют явно
«леонид-андреевские» или «сологубовские» тона: «модер-
нистская развязка метафизической драмы»; герои —
«воплощение злых сил, чья телесная оболочка искажена и
изломана “модернистской” кистью автора...» {Марулло,
1994. С. 116, 120).
В литературоведении советской эпохи в силу предвзя-
того отношения к модернизму и модернистским тенден-
циям в творчестве Бунина объективное рассмотрение
данной проблемы оказывалось затрудненным. Тем не ме-
нее было немало сделано в плане сопоставления Бунина
как с классикой, так и исканиями XX века (В. Гейдеко,
О. Сливицкая, В. Линков, Л. Крутикова и другие). Что ка-
сается первой части данного сравнения, то советские кри-
тики, с подспудным осуждением отмечая «бунинский ху-
дожественный гедонизм» {Лакшин, 1978. С. 186), нередко
ошибочно противопоставляли бунинское творчество
нравственному пафосу, историзму литературы XIX в.
(Линков, 1989). Во многих работах этого времени часто
преувеличивалась и поляризация Бунина модернизму, ос-
нованная на буквалистском следовании высказываниям
самого писателя. Однако, не всегда говоря прямо о связи
с модернизмом, исследователи выявляли многие новации
на разных этапах бунинской эволюции. Так, например,
Делались попытки прояснить отношения Бунина с модер-
низмом на реально-биографическом уровне, с привлече-
17
нием сведений о его сотрудничестве с символистамиЯ
1890-1900-е гг. (В. Афанасьев, 1968), проследить взаимЯ
проникновение поэзии и прозы в его раннем творчеств
(Э. Полоцкая, 1970; Э. Денисова, 1972); провести обоЯ
щения о поэтике художественного образа, способах субЯ
ективации изобразительной стихии (Н. КучеровскиЯ
1968; Л. Долгополов, 1985). Важный аспект исследованЛ
— новые формы психологизма, обновление повествовЯ
тельных принципов: особую ценность представляют мнЯ
гочисленные статьи О. Сливицкой, статьи и монографий
И. Вантенкова (1974), а также труды В. Келдыша (1975Я
М. Иофьева (1977), Л. Крутиковой (1968) и других. Чтя
касается работ о специфике жанровой системы писателЯ
то среди них выделим книгу В. Гречнева (1979), рассмат
ривающего рассказы Бунина в жанровом контексте вре
мени; статьи Л. Никольской (1978) и Е. Магазанник
(1978), выявляющие элементы «модерности» в поэтик
миниатюр.
Заметной на рубеже 1980-1990-х гг. стала монографи
В. Линкова (1989), в основу которой легло системное со
поставление художественного сознания Бунина с класс»
ческим типом мышления — на примере творчества
Л.Н. Толстого. В.Я. Линкову удалось найти многое, чк
разделяет эти два явления, — в подходе к личности, исто
рии, видении межчеловеческих связей, соотношении ра-
зумного и иррационального, объективного и субъективно
го начал. Но, по справедливому замечанию рецензента
книги С. Шешуновой (1992), автор абсолютизирует кон
фронтацию Бунина с классической, толстовской, традици-
ей, а утверждая тезис об отсутствии у Бунина «чувства ио
тории», не учитывает принципиально новых качеств исто
ризма, выработанных культурой XX в.
Серьезным импульсом к изучению творчества Бунина;
в том числе и в его связях с русским и европейским мо
дернизмом, стала монография Ю.В. Мальцева (1994), в|
18
значительной мере изменившая сложившиеся в литерату-
роведении представления о Бунине. В ключевых главах
работы («Прапамять», «Состав души», «“Модерность”»,
«Элизий памяти», «Феноменологический роман» и др.)
предложены наблюдения над глубинными типологиче-
скими схождениями-отталкиваниями Бунина с символи-
стами, авангардистскими течениями, Прустом, «новыми
романистами» и др. Мальцевым дано новаторское опре-
деление «Жизни Арсеньева» как «феноменологического
романа», получившее дальнейшую разработку (Колобае-
ва, 1998-П). Важно, что впервые проблема «Бунин и мо-
дернизм» была осознана системно и заявлена как ключе-
вая для целостной интерпретации бунинского творчества.
В работах 1990-х гг. прослеживается тенденция к широ-
кому соотнесению наследия Бунина с художественным,
религиозно-философским опытом Серебряного века (Г.
Карпенко, О. Сливицкая, О. Бердникова, М. Штерн и др.).
Предпринимаются (во многом с творческой ориентацией
на Ю. Мальцева) первые попытки системного описания
взаимодействия Бунина с модернизмом, но пока в преде-
лах небольших работ, ограниченных либо самыми общи-
ми масштабами осмысления проблемы (Колобаева, 1998-
III), либо отдельным периодом бунинского творчества
(Сафронова, 2000). Особый смысл приобретают в этой
связи и исследования жанрового состава произведений
писателя — в частности, миниатюр (Максимова, 1997;
Штерн, 1997), романа (Скобелев, 1992; Штерн, 1997; Ко-
лобаева, 1998 (II); Чой Чжин Хи, 1999; и др.), эссеистики
(Бердникова, 1995; Штерн, 1997; Колобаева, 1998-1).
Следует выделить и целостную интерпретацию жанровой
Динамики в художественной системе Бунина, предложен-
ную М.С. Штерном (1997).
Таким образом, в современных исследованиях русской
литературы начала XX в. и творчества Бунина проблема
его соотношения с модернизмом является одной из самых
19
актуальных и вместе с тем — одной из наиболее дискуЯ
сионных.
Целью нашего исследования выступает системно!
многостороннее раскрытие характера типологическом
взаимодействия творчества Бунина с художественным
принципами модернизма. Конкретные же задачи видятЛ
следующим образом: II
• определение степени близости Бунина к модернизму Ц
отталкивания от него на различных этапах творческой эвЯ
люции, уровнях художественной системы и одновременно -
выявление характера отношения к реализму, руслу классш®
ских традиций XIX века;
• обобщение эстетических представлений Бунина в и
соотнесенности с разноплановыми интуициями о сущн<
сти искусства, рождавшимися в модернизме;
• исследование бунинских новаций на уровне поэтик
художественного образа — в отношении к модернизму и,
частности, теории символа — ядру модернистской культуры
• анализ концепции личности в творчестве Бунина е
фоне нового антропологического опыта эпохи «поруб<
жья», сопоставление с представлениями модернистов I
душевной жизни и предлагаемыми ими формами психол»
гического изображения; |
• рассмотрение сюжетно-композиционных новаций i
бунинской прозе, их функциональной связи как с новымя
приемами психологизма, так и с характером жанрово^
системы; *
• раскрытие свойств жанровой системы творчества Бу?
нина, ее синтезирующих тенденций, объективно сближав^
ших писателя с модернистскими поисками и реализовав‘
шихся прежде всего в жанрах лирико-философского рас*
сказа, миниатюры, романа, эссе;
• установление степени актуальности обозначенного
круга проблем для общего исследования литературы конН*
XIX — начала XX вв.
20
Глава I. ЭСТЕТИКА И ПОЭТИКА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ
И.А. БУНИНА И МОДЕРНИЗМЕ
1. И.А. Бунин и модернисты о сущности искусства
Вопрос о сущности искусства, его онтологическом ста-
нсе и соотношении с действительностью приобретает
)собую актуальность и остроту в литературном сознании
Серебряного века.
Бунин, в отличие от многих модернистов, не создал
развернутой эстетической теории, однако его раздумья о
гворчестве, литературе, приобретающие зачастую весьма
драматичное звучание, существенны для понимания как
его художнической позиции, так и общего культурного
климата эпохи.
Важнейшие принципы модернистского взгляда на ис-
кусство были сформулированы в одном из первых про-
граммных выступлений символистов — работе Д.С. Ме-
режковского «О причинах упадка и о новых течениях со-
временной русской литературы» (1892). «Мистическое со-
держание, символы и расширение художественной впечат-
лительности» (Мережковский, 1893. С. 43) — таковы ос-
новы «нового искусства», делающего ставку на интуицию
как путь познания действительности в творчестве. Мереж-
ковский говорит о глубинной связи искусства с ощущени-
ем тайны бытия, острота которого оказывается столь
свойственной современной душе: «Куда бы мы ни уходи-
ли, как бы мы ни прятались за плотину научной критики,
всел/ существом своим мы чувствуем близость тайны,
близость океана. Никаких преград! Мы свободны и одино-
ки! С этим ужасом не может сравниться никакой порабо-
щенный мистицизм прошлых веков...» (Мережковский,
1893. С. 38). Акцент на преобладании интуитивного начала
в творчестве характерен и для других символистов. Так,
21
Вяч. Иванов в «Заветах символизма» (1910) формулиру
«представление о поэзии как об источнике интуитивно
познания и символах как о средствах реализации этого в
знания» {Иванов, 1994. С. 185). В. Брюсов в статье «Клю
тайн» (1904) осознает искусство в качестве откровеш
призванного постичь мир нерассудочными путями чер
«мгновения сверхчувственной интуиции» {Брюсов, 197
1975. Т. 6. С. 92). Видоизменяясь, эти мотивы звучат и
ряде программных выступлений футуристов: «В мире, в
стигнутом интуицией, как стихийный поток бесконечш
жизней <...>, родились глубинные слова, родилась душе
ная вскрытость, характеризующая устремления совреме
ного творчества» (Русский футуризм.., 1998. С. 141),
писал В. Ховин в 1915 году.
Видение искусства как интуитивного приобщения
тайнам бытия в высшей степени характерно и для ху;
жественного сознания Бунина и определяет общую i
правленность всех его размышлений о творчестве.
Уже в раннем рассказе «Тишина» (1902) мотив б<
молвия перед тайной мироздания неотделим в сознан
героя от волнующей «красоты искусства и религии»
240]'. Ощущение невыразимости словом подлинного (
держания жизни с остротой переживается Буниным на <
мых разных этапах его творческого пути: «Нет, настоян
го никогда не напишешь, не выразишь!» (Новый жур
1974. С. 153) — отмечает он в письме от 21 марта 1945 1
да. Но если у символистов интуиция о невыразимом бы
спроецирована прежде всего на мир «высших сущностей
то для Бунина — источник невыразимого в искусстве к[
ется в удивлении и восхищении перед многоцветием пло\
бытия:
1 Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, ссылки
текст И.А. Бунина даны с указанием тома и страницы по изданию:
ним И.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1965-1967.
22
Поэзия темна, в словах не выразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат,
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костер и горький запах дыма! [1; 401].
С общим ощущением загадки бытия сопряжена и
мысль о конечной непостижимости творческого процесса.
Творить — означает «делать нечто совершенно непости-
жимое» [5; 145], — читаем в рассказе «Музыка» (1924).
Это напрямую связано с представлением писателя о
трансцендентном характере творческого акта. Творящее
начало, по Бунину, заключено не только (а, подчас, и не
столько) в индивидуальном «я» художника, но и в выс-
шей, надындивидуальной, таинственной для него самого
энергии прекрасного, проводником которой он становится
в моменты творчества. «Не только “я”, но и “мною” — та-
ков модус бунинского взгляда на искусство — взгляда,
кардинально переосмысляющего устоявшееся классиче-
ское представление о художнике как об активном субъекте
творческой деятельности: “Кто творил? Я, вот сейчас пи-
шущий эти строки, думающий и сознающий себя? Или же
кто-то, сущий во мне помимо меня, тайный даже для
меня самого, и несказанно более могущественный по срав-
нению со мною, себя в этой обыденной жизни сознаю-
щим?” [5; 146]. Именно интуицией о трансцендентности
творчества вызвана бунинская изумленность художниче-
ской натурой Лермонтова, отмеченной поразительной про-
ницательностью, не совместимой, казалось бы, ни с его мо-
лодостью и житейской неопытностью, ни со взраставшей
его пустынной Кроптовкой: «Вот бедная колыбель его <...>,
вот его начальные дни... <.„> А потом что? А потом вдруг
«Демон», «Мцыри», «Тамань», «Парус» <...> Как связать с
этой Кроптовкой все то, что есть Лермонтов?» [6; 157].
Представление Бунина о трансцендентном начале
творческого акта типологически близко и образу «продик-
23
вестно, как настойчиво устранял он философские понятий
в ходе работы над беловым вариантом.
Творческие эксперименты Бунина в русле трансфер,
мации романного сознания отчасти пересекались и с но-
вейшим европейским модернистским опытом — француз-
ским «новым романом» (следует вспомнить созвучие дек-
лараций Н. Саррот о необходимости видоизменения жанра
романа бунинским интуициям, касающимся, в частности,
Флобера). В предыдущей главе, при выделении сюжетно-
композиционных новаций в бунинской прозе, мы обраща-
ли внимание на возможные типологические связи Бунина с
исканиями во французском «антиромане» — к примеру, в
«Изменении» (1957) М. Бютора. Дискурс романа Бютора
сопряжен с созданием синтезированной временной и про-
странственной структуры, где на коротком отрезке жизни
героя, едущего из Парижа в Рим, происходит встреча вре-
мен (прошлого, момента настоящего, предчувствий буду-
щего), взаимоналожение «парижского» и «римского» хро-
нотопов. Как и в «Жизни Арсеньева», повествовательная
динамика «Изменения» нелинейна, находится вне традици-
онной хронологии, но подчинена «пространству» сознания^
воображения; само «действие» произведения преимущест-
венно интроспективно. Пути обновления романной формы
сближали Бунина с модернистами, однако антропологиче-
ские результаты этого обновления скорее противоположны.
У Бунина синтезированный хронотоп, углубление в сферу
памяти знаменуют прежде всего обретение внутренней це-
лостности, у Бютора — стыковка различных временных
пластов, их взаимная несогласованность ведут к абсолюти-
зации тотальной дробности человеческого «я», демонтажу,
обессмысливанию окружающей реальности.
* * *
Итак, переосмысление реалистических принципов ро-
манного жанра, важнейшее для литературы XXв., состо-
202
giuio интересную сторону соотношения Бунина с модер-
низмом. Новации Бунина связаны с созданием «лирическо-
го романа», во многом созвучного феноменологической эс-
тетике и основанного на жанрово-родовом синкретизме.
Автор «Жизни Арсеньева» сближался с рядом явлений как
русского, так и европейского модернизма, в отказе от ан-
тропоцентристской модели мира, движении к синтезу
форм пространства и времени, лиризации всего арсенала
художественных средств — от общей композиции до осо-
бенностей языка. Еще в 1934 г. В. Ходасевич писал, что
«Бунин обогащает нас опытом — не “идеями”» {Ходасе-
вич, 1991. С. 555). И это было верно: в «Жизни Арсеньева»
Бунин, как и многие модернисты, уходит от классического
«романа идеи».
Вместе с тем близость Бунина к модернизму и здесь не
была полной. Л.А. Колобаева сделала очень существенное
для нас уточнение о том, что «Жизнь Арсеньева» — это
все же не модернистский роман «потока сознания», но ро-
ман «потока жизни» {Колобаева, 1998 (III). С. 158). Дейст-
вительно, в отличие от модернистов, Бунин не абсолюти-
зирует отчужденность сознания от эмпирической реаль-
ности, а раскрывает их единство в «блаженно-хмельной»
стихии бытия, достигая целостности в изображении
субъективного и объективного мира.
§ 3. Жанр эссе
Приметной стороной литературного и культурного
развития в Серебряном веке явилось движение к сплаву
различных форм творческой мысли: собственно художе-
ственной, философской, публицистической. Этот процесс
характеризовал отчасти и систему позднего реализма,
вбиравшую в себя эстетические свойства эпохи «порубе-
жья». Так, «сближение публицистической и образной
сферы» в поздней прозе Л. Толстого фиксирует В. Кел-
203
дыш, говоря, к примеру, о романе «Воскресение»
дыш, 1994(1). С. 28).
(Аед
Указанные тенденции отражались и на жанровой пара
дигме: как мы показывали выше, с ними был сопряжен
расцвет лирико-философской прозы в первой трети XX в
Тяготением литературного сознания к жанровому синхро
тизму объясняется и выдвижение на авансцену жанра эс-
се. Современные теоретики сделали немало для определе-
ния жанрово-родовой специфики эссеистики. В. Хализев
подчеркнул то, что эссеистская форма не укладывается в
сложившиеся жанровые классификации, и так обозначил
ее своеобразие: «Эссеистская форма — это непринужден-
но-свободное соединение суммирующих сообщений о
единичных фактах, описаний реальности и (что особенно
важно) размышлений о ней... Эссеистика тяготеет к син-
кретизму: начала собственно художественные здесь легко
соединяются с публицистическими и философскими» (Ха-
лизев, 1999. С. 317). Однако анализ данного жанра нужда-
ется и в иных уточнениях. В. Муравьев верно отметил ори-
ентацию эссе на «субъективно окрашенное слово» (Му-
равьев, 1987. С. 516): именно личность автора, его субъек-
тивность становятся ядром эссе. На рубеже веков активи-
зация эссеистического мышления оказалась закономерной
в свете общей тенденции к субъективации предметно-
изобразительных форм искусства.
Опорные жанрообразующие факторы эссе были сфор-
мулированы и подробно обоснованы в статье М. Эпштейна
(Эпштейн, 1988). Называя эссеистику «наджанровой систе-
мой», Эпштейн помещает ее «на перекресток образа и поня
тия» вследствие происходящей здесь контаминации Р33®*?
ных путей постижения бытия в художественном, философ
ском, историческом и прочих аспектах: «Эссе... вклю
все... разнообразные способы постижения мира в чИСЛ<’п>,
их возможностей, не ограничиваясь одной из них, но
янно переступая их границы и в этом движении oof*
204
-в010 жанровую или, точнее, сверхжанровую природу»
'эу^итейн, 1988. С. 342). Подобная «сверхжанровая приро-
1Я» обусловлена интенцией художественно запечатлеть
(целостность опыта» современно мироощущения. Стрем-
1еНИе к целостному видению мира явилось важнейшим
катализатором модернистской культуры начала века, что
отразилось прежде всего в деятельности символистов, их
понимании художественного образа, личности, мировой
истории. По мнению Л. Колобаевой, «отличительным и
новым в движении русского символизма по сравнению с
предшественниками было именно осознание единства, це-
тостности мироздания, осознание теоретическое, фило-
софское и эстетическое» (выделено Л. Колобаевой. —
И.Н.) (Колобаева, 2000. С. 290). Сообразно свойственной
эссе функции синтеза различных сфер мышления и куль-
туры М. Эпштейн сближает эссе с синкретизмом мифа — с
тем различием, что консолидирующее значение мифа эс-
сеистика приобретает уже на основе «реальности личного
опыта» (Эпштейн, 1988. С. 353).
В интерпретации Эпштейна жанр эссе имеет и важный
антропологический смысл. С этой точки зрения, эссе вы-
ступает как проявление опыта самоидентификации лично-
сти автора в результате сближения «мыслящего и мысли-
мого» (Эпштейн, 1988. С. 336). Сходная интенция преодо-
леть субъектно-объектную дистанцию, сплавить объектив-
Чло картину мира с ее лирическим преломлением — явля-
лась главной и в «феноменологическом» романе. Очевид-
н°, что внешне удаленные жанровые образования вписаны
в единый культурный контекст, общую направленность
божественного обновления. Доминирующая авторская
субъективность образует стержень эссеистики: «Пред-
ает эссе... рассматривается не в упор, как в научном сочи-
а сбоку, служит предлогом для разворачивания
^епи, которая, описав полный круг, возвращается к са-
205
мой себе, к автору как точке отбытия и прибытия..-,»
(Эпштейн, 1988. С. 338). При этом авторское «я» в эссе
часто ускользает от прямой выраженности, многослой-
ность его раскрывается дискретно, порой в ипостаси «не»
я». Эта черта эссе проявится в «Освобождении Толстого^,
где глубинные уровни авторского сознания, саморефле^-
сии проступят в бунинских интуициях о Л. Толстом («нё-
я»). Следствием вышеочерченных жанровых примет эссен-
стики становится ее тяготение к лирическому роду, лири-
ческая экспрессия, преобладание ассоциативности над ли-
нейной композиционной организацией, а также подмечен-
ные Эпштейном «зигзагообразность мыслительного ри-
сунка», «жанрообразующая краткость эссе... в сравнении с
такими “линейными” формами, как роман и эпопея, кото-
рые развертывают действие во времени» (Эпштейн, 1988.
С. 339, 353). В характерной для рубежа веков ситуации
жанровой диффузности происходит эссеизация и других
жанров, творческой мысли в целом. Исследователи не раз
обращали внимание на эссеистские элементы в философ-
ско-дневниковых «медитациях» Розанова, зрелой бунин-
ской прозе и т.д.
В конкретном историко-литературном плане актуали-
зация эссеизма (корни которого восходят к «Опытам»
Монтеня») в начале XX в. происходила прежде всего в
широком поле модернистской культуры и явлений, так или
иначе с ней «рифмующихся», что было сопряжено с об-
щим фоном жанровых открытий модернизма. Яркое во-
площение эссе получило в творчестве Д. Мережковского,
А. Ремизова, М. Цветаевой, В. Ходасевича, К. Бальмонта,
отчасти 3. Гиппиус и других.
Жанр эссе постепенно вызревал и в творчестве Бунина,
будучи на содержательном уровне связанным с углублени-
ем творческой саморефлексии писателя. Черты художест-
венно-философского эссе исследователи справедливо на-
ходят в его лирической прозе 1920-х гг. — рассказах
206
'.«Ночь», «Несрочная весна» и др. {Штерн, 1997). Именно
на 1920-е гг. приходится заметная активизация бунинских
интуиций о философии творчества, внутреннем «составе»
художнической натуры. Эти интуиции отливались в худо-
жественные формы, стимулируя жанровые искания: лири-
ко-философские рассказы нового типа, затем «Жизнь Ар-
сеньева»: напомним, что одним из жанровых определений
произведения является как раз «роман о художнике». Нити
от «Жизни Арсеньева» к «Освобождению Толстого» про-
ходят и на проблемно-тематическом уровне, так как роман
впитал некий исходный бунинский опыт в восприятии ми-
роотношения Толстого. В плоскости поэтики жанрообра-
зования в творчестве Бунина выстраивается единая цепь,
спаянность звеньев которой подчинена усилению роли ав-
торской субъективности, постепенному обогащению спо-
собов лирического самовыражения: «малая» лирическая и
лирико-философская проза — «лирический роман» — эссе.
* * *
В модернистской эстетике возникает потребность тео-
ретического обоснования жанровой формы эссе, ее акту-
альности в решении современных художественных задач.
Это осуществлено, в частности, Д. Мережковским в преди-
словии к сборнику эссе «Вечные спутники» (первое изда-
ние — 1897 г.).
Говоря об эссе — «критических очерках», в термино-
логии Мережковского, — автор формулирует лежащий в
их основе принцип «субъективной» критики: «Есть крити-
ка субъективная, психологическая, неисчерпаемая, беспре-
дельная по существу своему, как сама жизнь, ибо каждый
век, каждое поколение требует объяснения великих писа-
телей прошлого в своем свете, в своем духе, под своим уг-
лом зрения...» (выделено Д. Мережковским. — И.Н.) {Ме-
режковский, 1994. С. 310). В постижении «живой души
писателя» приоритетным для Мережковского является
207
творческий диалог двух индивидуальностей: художника.и
эссеиста, критика как «представителя известного поколе-
ния». С преобладанием принципов лирического воплощу
ния авторского «я» связана, по Мережковскому, и ассоциа-
тивная архитектоника эссе: он подчеркивает между фигу-
рами «спутников» — «не внешнюю, а субъективную внугя-
реннюю связь в самом "я”, в миросозерцании критика.*®
{Мережковский, 1994. С. 310). Об этом напишет в эссе
«Быт и события» (1904) 3. Гиппиус, видя эссеизм основан-
ным на «логике» образа-переживания.
В итоговом же определении «Вечных спутников» Ме-
режковский выделил лирико-фрагментарное, дневниковое
начало книги: «Это — записки, дневник читателя в конце
XIX века» (Мережковский, 1994. С. 310). В связи с по-
следним вспомним, что имеющая лирические «корни»
жанровая форма дневника воспринималась модернистами
и Буниным как одна из наиболее продуктивных, и связь ее
с эссеистикой оказывается симптоматичной.
Заявленные Мережковским жанровые принципы эссе с
достаточной полнотой воплотились в его творческой дея-
тельности, и прежде всего — в «Вечных спутниках». В
центре каждого из разделов («Флобер», «Достоевский»,
«Гончаров», «Пушкин») находится эссеистская интерпре-
тация личности художника, его произведений, прорисовы-
вающаяся сквозь мозаику цитат. Портреты «вечных спут-
ников» культуры пронизаны токами авторской субъектив-
ности, его размышлениями о «религиозном сознании», ре-
лигиозных корнях творчества. Так, Достоевский, по выра-
жению Мережковского, «знает самые сокровенные наши
мысли, самые преступные желания нашего сердца» (Мег
режковский, 1994. С. 385). Сознание читателя «сливается»
с личностями героев Достоевского, «исчезает граница ме-
жду вымыслом и действительностью», — иными словами,
эстетическая сфера выходит у Мережковского далеко за
рамки художественного текста: «Мало-помалу личность
208
читателя перевоплощается в личность героя, сознание сли-
вается с его сознанием, страсти делаются его страстями»
(Мережковский, 1994. С. 386). В эссе наблюдается наме-
ренное стирание временных границ, мгновенное обретает
черты вечного. Как верно считает И. Приходько, в «образ-
ах великих» у Мережковского заключен «образ автора в
его константах, то вечно человеческое, что он видит и в
себе...» (Приходько, 1999. С. 200). Здесь вступают в дейст-
вие механизмы мифологизации культуры, именно в плос-
кости «мифомышления» происходит «создание своего, ин-
дивидуально увиденного образа личности, как бы заново
сконструированной и понятой» (Приходько, 1999. С. 199).
И это — универсалия эссеистики Серебряного века (неслу-
чайно М. Эпштейн проводил параллели между мифом и
эссе): у Мережковского моделируется мифология мировой
истории и культуры; у Ремизова — векового пути русской
литературы, в эссе Цветаевой сквозной становится мифо-
логема Поэта, Времени и т.д. И. Приходько выявляет у
Мережковского сплав «мифомышления» и психологизма,
причем психологизм в эссе отличен от того, с которым мы
сталкиваемся в реалистическом произведении: «Есть
принципиальное отличие между реалистическим психоло-
гизмом и условным психологизмом мифа, который откры-
вает личность писателя через основные идеи и мотивы его
творчества; через его героев; через абсолютизацию какой-то
главной, проявленной во всем черты-идеи; через зритель-
ные ассоциации, вызываемые обликом писателя; через со-
отнесенность с мифологическими и литературными образ-
ами; с самим “я” критика» (Приходько, 1999. С. 202). Тес-
нейшая связь «с самим “я” критика» обнаруживается в эссе
Мережковского в доминировании религиозного угла зрения
на эстетическую реальность как «вечный спор Ангела и Де-
мона». Достоевского писатель-символист прочитывает пре-
жде всего в качестве «поэта евангельской любви»; он дает
христианскую интерпретацию коллизиям гончаровского
209
«Обрыва», видя в Вере прообраз человеческой души, ока-
завшейся «между двумя безднами»; в художественном же
строе произведений Л. Толстого — от автобиографической
трилогии до «Анны Карениной» и «Смерти Ивана Ильичам
— им усматривается лишь «языческая душа плоти», что
позднее вызовет резкое несогласие Бунина.
Стиль мышления Мережковского-эссеиста условно
можно было бы назвать «метонимическим»: путем выде-
ления какой-либо одной грани мироощущения художника
конструируется представление о целом. В дискурсе Мереж-
ковского «спутники» часто парадоксально соотносятся друг
с другом, то по контрасту, то в неожиданных сближениях:
например, Л. Толстой воспринят как «антипод, совершенна»
противоположность и отрицание Пушкина в русской лите-
ратуре», а Гончаров назван вдруг «первым великим юмори-
стом после Гоголя и Грибоедова» {Мережковский, 1994. С.
527, 413). И. Приходько подмечает, что объект художест-
венной рефлексии нередко предстает у Мережковского в
«тройном отражении»: Марк Аврелий через Ренана, Каль-
дерон и Шекспир через Гете, Гете через Эккермана и т.п. В
таком тройном зеркале отражаются и раскрываются все
трое: сам автор, воспринимающее лицо и лицо восприни-
маемое» (Приходько, 1999. С. 204). Добавим, что подобная
множественность ракурсов изображения расширяла сферу
субъективности. Типологическое сходство с этим есть и в
бунинском «Освобождении Толстого», где образ Толстого
преломляется в призме восприятия и автора, и других ана-
литиков личности писателя-мыслителя (Алданов, Шестов,
Мережковский, Чинелли и другие). Это сопряжено с важ-
нейшим качеством самосознания культуры Серебряного
века: напряженный поиск своего «я» в «другом», в мировом
культурном пространстве — и жанр эссе в значительной
степени способствовал подобному поиску.
Особенности художественного «мифомышления» по-
лучили яркое отражение и в многочисленных эссе А. Реми-
210
зова, составивших книгу «Огонь вещей». Мифологизация
русской литературы связывается Ремизовым с выявлением
ее тайных «сновидческих» смыслов, ибо сон выступает
здесь «как особая действительность (существенность)»:
«Сон, как литературный прием, — без него по-русски не
пишется: Гоголь, Погорельский, Вельтман, Одоевский,
Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Мельников-Печерский,
Лесков. В снах, не имеет значения, выдуманные они или
приснившиеся, лишь бы имели сонное правдоподобие, —
‘’смысл” второй “бессмысленной” реальности, когда суще-
ственность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных
видениях первосония» (Ремизов, 1989. С. 144). Как у Ме-
режковского, отчасти Бунина, в эссеистике Ремизова рас-
ширение лирико-субъективного поля происходит благодаря
активному привлечению иных, мифологизирующих, «вос-
приятий»: «Пушкин не был бы Пушкиным, если бы ограни-
чились историческим матерьялом о жизни и трудах Пушки-
на. Только легенда о Пушкине, как явлении чрезвычайном и
“пророческом”, созданная Гоголем и подтвержденная Дос-
тоевским, сделала единственное имя — Пушкин» (Реми-
зов, 1989. С. 52). От «Пушкина легенды» (если использо-
вать излюбленную цветаевскую форму родительского
приименного) нити у Ремизова тянутся к авторской лично-
сти — центру эссе («С Пушкина начинаются мои первые
впечатления от словесного искусства») и творческим
обобщениям: «Всякое творчество воспроизводит память;
память раскрывается во сне» (Ремизов, 1989. С. 142-143,
58). Эссеистская манера Ремизова тяготеет к глубинной,
порой мифопоэтической интерпретации деталей налич-
ного бытия. В этом таилось, вероятно, некое типологиче-
ское свойство жанра: вспомним «пелерину» Белого, сим-
волически осмысленную Цветаевой («Пленный дух»), или
«надбровные дуги» Толстого, послужившие импульсом
Для мистических интуиций Бунина («Освобождение Тол-
стого»), А у Ремизова — такова, к примеру, «девочка с
211
блюдечком земляники», якобы встретившаяся Гоголю на
его последней дороге в Оптину: «Да ведь это Россия, рус-
ская земля, она подала ему землянику в последний про-
щальный путь с родной земли» (Ремизов, 1989. С. 57). В
ремизовском эссе мифопоэтические детали, импрессиони-
стское восприятие прочитанных текстов перерастают в
обобщение закономерностей литературного развития (как
это было и у Мережковского, и в эссеистских размышле-
ниях В. Ходасевича о Пушкине, символизме и др.) — свя-
занных, в частности, с лиризацией художественных форм:
«Указание Андрея Белого на Гоголя, как на поэта в прозе,
сгладившего грань между “стихом” и “прозой”, имеет ог-
ромное значение, и разве не ясно, что для поэзии — все
формы и нет особых форм» (Ремизов, 1989. С. 145).
Лирическая стихия отчетливо проявилась и в прозе
М. Цветаевой, центральное место в которой принадлежит
эссеистике. В этой «прозе поэта» Ю. Орлицкий отмечает
лирическую «нелинейность», «стихоподобную структу-
ру.., повышенную эмоциональность, органично сочетаю-
щуюся с постоянно заявляемой личностью, субъективно-
стью повествования» (Орлицкий, 1993. С. 110, 111).
Мотивы цветаевской эссеистики прорастают из глу-
бин ее лирического миропереживания. Содержательным
ядром эссе Цветаевой выступают ее статьи о поэтах («Мой
Пушкин», «Пушкин и Пугачев», «Живое о живом»,
«Пленный дух» и др.). В сопоставлении с Мережковским
и даже Ремизовым, у Цветаевой заметно возрастает сте-
пень субъективации повествования, что делает его прин-
ципиально не-хронологичным — там, где идет речь о по-
эте, его героях: «Первое, что я узнала о Пушкине, это —•
что его убили» («Мой Пушкин»); «С младенчества посей-
час, весь “Евгений Онегин” для меня сводится к трем сце-
нам: той свечи — той скамьи — того паркета» («Мой
Пушкин»); «Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою ог-
ромную семилетнюю жизнь...» («Пушкин и Пугачев»)
212
(Цветаева, 1988. Т. 2. С. 290, 307, 328). Лирическое вос-
приятие Поэта — предмета видения — задает меру про-
странственной оптики, способствует субъективному пре-
ображению хронотопа: «Памятник Пушкина был и моя
первая пространственная мера: от Никитских ворот до па-
мятника Пушкина — верста, то самая вечная пушкинская
верста, верста “Бесов”, верста “Зимней дороги”, верста
всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий...»
(Цветаева, 1988. Т. 2. С. 292-293).
В эссеистских раздумьях Цветаевой о судьбах поэтов-
современников (Волошин, Белый и другие) мифопоэтиче-
ский аспект («огнеиспускаемость Макса», «миф танцую-
щего Белого» и т.д.) соединяется с «жестовой» пластикой,
«изустностью», стихией живого диалога. В эссе «Живое о
живом» и особенно «Пленном духе» художественное со-
держание резонирует, накладываясь на сквозные в поэзии
Цветаевой мифологемы о Поэте, Сивилле, крылатой по-
этической сущности, сновидческой основе творчества.
Жанровый синкретизм эссе проявляется в контаминации
различных путей познания действительности и самопозна-
ния: в «Пленном духе» — это путь образный («пленный
дух», «серебряный голубь»), аналитический (выделение
черт символизма), сюжетный («сюжеты» с Белым в их ди-
намике), нравоописательный (дом в Трехпрудном, обита-
тели Цоссена), лирико-исповедальный (монологи Белого,
суждения Цветаевой о своих отношениях с ним)...
Лирическая природа цветаевской эссеистики проступа-
ет и в повышенной экспрессивности стиля. Это выражает-
ся в проникновенных обращениях к «герою»; подчас в бу-
квальном совпадении с образностью лирики («предан —
как продан, предан — как пригвожден»); стремлении к
имманентности тональности повествования «ритму» от-
ношений автора и «героя»: «Замечаю, что в моем повест-
вовании нет никакого crescendo. Нет в повествовании, по-
тому что не было в жизни...» (Цветаева, 1988. Т. 2. С. 270).
213
Лирическая чуткость к «физическо-магической» стороне
слова предопределяет ассоциативность повествователь-
ной структуры, зиждущейся на «законе тесноты поэтиче-
ского ряда»: «Вожатый во мне рифмовал с жар. Пугачев —-
с черт и еще с чумаками... Чумаки оказались бесами, их
червонцы — горящими угольями, прожегшими свитку и,
кажется, сжегшими и хату...» (Цветаева, 1988. Т. 2. С.
331). У Цветаевой, как и у Мережковского, Ремизова, в ли-
ризованном континууме эссе рождаются обобщающие
размышления об импульсах творческого процесса, синтезе
стиха и прозы: «Был Пушкин — поэтом. И нигде он им не
был с такой силой, как в “классической” прозе “Капитан-
ской дочки”» (Цветаева, 1988. Т. 2. С. 354).
Обобщая сказанное о модернистской эссеистике, зна-
чимой и в символизме, и в постсимволистском контексте,
отметим следующее. В этом жанре отчетливо проявились
черты синтезированного мифомышления при «прочте-
нии» явлений культуры, в соединении конкретики и вечно-
сти, психологии и онтологии. В эссе раскрывалась множе-
ственность авторского «я», различными путями соотне-
сенного с «не-я», расширялась область субъективного вос-
приятия. Лирическая экспрессия выразилась здесь на уров-
не композиции (лейтмотивный, ассоциативный принци-
пы), стилистики. Для нас в данном исследовании модер-
нистская эссеистика важна как тот жанровый контекст, с
которым было типологически связано творчество Бунина,
эволюционировавшее на позднем этапе именно в сторону
жанра эссе («Освобождение Толстого», 1937; «О Чехове»,
1953 —незаверш.).
* * *
Непосредственной подосновой бунинских эссе стали
глубокое преклонение перед личностью Толстого и дружба
с Чеховым. Авторский угол зрения на изображаемое в этих
книгах изначально не был одинаков. В «Освобождении
214
олстого» заметна большая дистанция автора при раскры-
ли личностных свойств Толстого; главный же упор сделан
а онтологическую интерпретацию биографии писателя (в
собенности заключительной ее фазы), на толстовскую
илософию, воплотившуюся в образной ткани его произ-
здений. С Чеховым Бунина связывало разностороннее
ичное, бытовое знакомство, поэтому в эссе о нем сильнее
редставлен мемуарно-биографический план.
* * *
В творческом сознании Бунина шло постепенное фор-
ирование целостного восприятия фигуры Толстого, отра-
ившееся в дневниковых записях начала 20-х гг. как само-
э писателя, так и В.Н. Муромцевой. Дневники запечатле-
и частые споры с Мережковским, Гиппиус о Толстом и
[остоевском и бунинскую убежденность в том, что «безд-
у Толстой чувствовал не меньше Достоевского» [УБ; 2,
47]. Бунин заворожен глубокими думами Толстого о
мерти и одновременно обостренным «физическим чувст-
ованием людей» — общим для обоих художников.
Позднее к опыту Толстого Бунин возвращается в
Жизни Арсеньева», и вновь это обращение вызвано недо-
менным восхищением как перед силой толстовского чув-
твования прелести земного естества, так и в не меньшей
тепени перед его пронзительными интуициями о тайне
мерти, возникающими во многих произведениях: «Ведь
то все его (выделено Буниным. — И.Н.) — эти Ростовы,
1ьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей: “Ни-
его нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного мне
[ величия чего-то непонятного, но важнейшего...” Пьеру
то-то все говорил: “Жизнь есть любовь... Любить жизнь
- любить Бога...” Это кто-то и мне всегда говорит, и как
Юблю я все, даже вот эту дикую ночь!» [6; 159]. Залогом
«утреннего притяжения к Толстому было восприятие им
айны бытия — «под знаком смерти», ставшее отличи-
215
тельным свойством и уже самых первых бунинских произ-
ведений. Этот объединяющий заряд заключен в много-
значном образе «освобождения», давшем название эссе, —
искомого и Толстым и Буниным освобождения от страха
смерти, власти времени и пространства... О. Бердникова
(1995) резонно рассматривает «Жизнь Арсеньева» и «Ос-
вобождение Толстого» как «дилогию», сведшую воедино
начала и концы жизни, «Путь Выступления» — радостного
вхождения художника, человека в мир и «Путь Возврата»
— «ухода, возврата к Богу, растворения — снова раство-
рения в нем...» {Бунин, 1996. Т. 6. С. 5)*.
Если, к примеру, в эссеистике Цветаевой актуализация
образа автора достигалась за счет слитности эссе с ее ли-
рическим дискурсом, то у Бунина авторское сознание, оп-
ределяющее весь строй «Освобождения Толстого», прояв-
ляется в сквозных, идущих от его лирико-философской
прозы, бытийных интуициях о Прапамяти, жизни и
смерти, нерациональных путях познания действительно-
сти, об отношении к чувственной стороне мира, тайне
творчества.
Лейтмотивом многих приводимых в эссе «записей»
Толстого становится интуиция о недостаточности рацио-
нального способа познания мира; конечном предназначе-
нии бытия, выходящем за рамки постижимого: «Избави
Бог жить только для этого мира. Чтобы жизнь имела
смысл, надо, чтобы цель ее выходила за пределы постижи-
мого умом человеческим» (29). Подобный взгляд влечет за
собой тягу к «расширению сознания», представление о
трансцендентности индивидуального «я», которая прояв-
ляется в неподвластности разуму самого процесса мышле-
ния: «Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю,
о чем я думаю. А теперь я о чем думаю? Я думаю, что я
думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил...»
(103-104). Сходные признания в том, что «думанье» есть
«действие совершенно... непостижимое» [5; 298], звучали
216
51 в рассказе «Ночь» (1925): это сближает бунинское эссе с
!бщим контекстом его лирико-философской прозы и ан-
ропологическрй проблематикой, актуализировавшейся в
итературном сознании начала XX в. Подчеркивая обост-
ренное ощущение великим реалистом ограниченности ра-
зума, Бунин решительно оспаривает выдвинутый Макла-
ковым тезис о Толстом — «сыне позитивного века и... по-
зитивисте» (114). В восприятии Толстого как фигуры
близкой современности своей концепцией личности Бунин
пересекается с Вяч. Ивановым, именовавшим его, как мы
отмечали выше, «тайновидцем души человеческой и души
природной» (Иванов, 1994. С. 274). Во «внутреннем соста-
ве» Толстого Бунин видит вместе с тем и драматичное
столкновение недюжинной энергии аналитического разума
(«целые томы дневников, исповедей» — 104) и мощных
прозрений об иррациональности бытия. Для автора эссе
личность Толстого выступает как своеобразное «про-
странство» стыка двух эпох — XIX и XX столетий, что
было чрезвычайно значимым для творческой самоиденти-
фикации самого Бунина, переосмыслившего реалистиче-
ские традиции XIX в.
В толстовских высказываниях о душе, тайне творчест-
ва Бунин настойчиво подчеркивает влияние глубинных
слоев Прапамяти, воспринимавшееся им в качестве типо-
логического свойства истинно художнической натуры.
Лейтмотив Прапамяти возникает также на уровне «внеш-
ней» изобразительности, в сфере авторского слова. Осо-
бую значимость приобретает в этой связи «жестовая» пла-
стика образа Толстого: его «зоологический жест», глаза —
«по-звериному зоркие» (80), «опять нечто “зоологиче-
ское”» в манере держать перо и т.д. Эти детали объединя-
ются благодаря обобщающей авторской характеристике
того особого “первобытно-естественного” типа художника,
который видится ему в Толстом: он “при всей этой перво-
бытности носил в себе столь удивительную полноту, со-
217
средоточенность самого тонкого и самого богатого раз!
вития всего того, что приобрело человечество за всю истс!
рию на путях духа и мысли...» (84). В раздумьях Бунина о!
одаренности художника «“способностью перевоплощать!
ся”,.. живой и особенно образной (чувственной) “палий
тью”» (40) звучат прямые автореминисценции из рассказу
«Ночь», подкрепленные и повторяющимися деталями чу»
ственного мира («немолчный звон ночных степных цикад!
— 40). Подобные автореминисценции, весьма существе»
ные в «Освобождении Толстого», несомненно усиливаю!
субъективацию повествования и позволяют воспринят!
данное эссе как итог творческой саморефлексии Бунина
Многочисленные интуиции о Прапамяти, таинственное
пра-знании, обретаемом душой «прежде этой жизни!
(122), наполняют и высказывания Толстого, облекаясь, ка!
и в бунинской лирико-медитативной прозе, в форму удив|
ленно-восторженных вопросов: «Когда же я начался? Кс4
гда начал жить? И почему мне радостно представлять себй
тогда... когда я опять вступлю в то состояние смерти, erf
которого не будет воспоминаний, выразимых словами?
Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, под-
нимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь
и смеялся и радовал мою мать?» (37-38).
Архитектоника эссе обусловлена антиномичным ха-
рактером художественного мышления Бунина. В страстно-
религиозной натуре Толстого, далекой, конечно, от орто-
доксальности, Бунин вновь и вновь выявляет исходную ан-
тиномию неизбывного восторга от «плоти» мира и столь же
обостренного чувствования угрозы смерти, нависающей
над всем земным. Эту антиномию автор обнаруживает, со-
поставляя различных толстовских персонажей: с одной
стороны, князь Андрей Болконский, который «не переста-
вал ощущать в продолжение всей своей жизни... грозного,
вечного, неведомого» присутствия смерти; с другой —
«звериность Хаджи-Мурата, Брошки, <у которых> была
218
райски сильна, бездумна, слепа, бессознательна “осущест-
вленная в теле воля к жизни”» (96). В калейдоскопе выска-
зываний Толстого, цитат из его произведений все ярче
проступает художнический облик Бунина. В записях Тол-
стого он находит близкую ему мысль о несущественности
оппозиции «материального» и «духовного» перед лицом
бесконечности, и в этом слышны отголоски давнего спора
с символистами: «.Этот мир — не шутка, не юдоль испы-
тания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один
из вечных миров, который прекрасен, радостен...» (85). Ес-
ли Д. Мережковский был склонен абсолютизировать тол-
стовское «беспредельное упоение чувственностью» и ви-
деть в нем признак «язычества», «плотскости» (Мереж-
ковский, 1994. С. 526), то Бунин опровергает такой взгляд
указанием на антиномизм отношения Толстого к смерти,
ко «всему ее телесному и духовному процессу»: «степень
чувства жизни пропорциональна степени чувства смер-
ти» (137). В разговоре о себе Бунин неоднократно призна-
вался, что принадлежит к числу людей, которые, глядя на
колыбель, не могут не вспомнить о могиле... Актуализация
этого образа в «Освобождении Толстого» заряжает весь
текст лиризмом: «...если уж кто наделен был двойным зре-
нием и именно от ангела смерти, слетевшего еще к колы-
бели его, так это Толстой» (115). Именно в соединении по-
люсов, «Пути Выступления» и «Пути Возврата» в целост-
ном духовном восприятии Бунин усматривает путь к Все-
единству, беспредельности «внутреннего человека»: «так
сливается сознание, жизнь человека с Единой Жизнью, с
Единым Я — начинается его духовное существование» (15).
В «Освобождении Толстого» важно развернутое эссеи-
стское прочтение ряда произведений Толстого, которое
представлено как в целостном виде, так и в форме прохо-
дящих через весь текст лейтмотивов. Уже в «Детстве» Бу-
нина привлекло — одно из первых у Толстого — описание
смерти: смерть матери, показанная глазами Николеньки.
219
Подспудно споря с Мережковским, Бунин так отзывается
о характере толстовской образности: «Сила изобрази-
тельности внешнего как будто преобладает... Но из этого
внешнего исходит истинный ужас внутреннего...» (126). В
пространных цитатах из «Трех смертей», «Холстомера»,
«Казаков», «Войны и мира» автор нащупывает точки наи-
высшего смыслового напряжения, связанные со «знаком
смерти». Например, размышляя о «Казаках», Бунин оста-
навливается на уникальном опыте народного понимания
смерти, каким обладает дядя Брошка: в его словах о «тра-
ве», которая «вырастет» после его смерти, — не раз повто-
ряющихся в эссе — просматриваются явные ассоциации с
«Худой травой» (1913) и другими «крестьянскими» рас-
сказами 1900-10-х гг. Кульминационными в «Войне и ми-
ре» автор называет смерть княгини, а также постепенный
«исход» князя Андрея: первым «порогом» к его «освобож-
дению», «пробуждению от жизни» стало, по Бунину, небо
Аустерлица, наполнившее героя радостным «сознанием
отчужденности от всего земного» (133). Вообще интуиции
о смерти как естественном преодолении земных «проявле-
ний» (Бунин особенно вслушивается в это слово, прозву-
чавшее в последней фразе Толстого) оказываются стерж-
невыми в эссе. Однако речь идет не просто о выходе из те-
ла, но о внутреннем движении к победе над земным, над
самим страхом смерти — об этом размышляет Бунин в
связи с драмой толстовского Левина: «А в чем спасение?
Не в убийстве тела, не в выходе из него “не готовым”, а в
преодолении его и в потере “всего, кроме души”» (33).
Общие художественные принципы сближают «Осво-
бождение Толстого» с особенностями как лиризованной
прозы самого Бунина, так и модернистской эссеистики.
Прежде всего заметна принципиальная нелинейность
дискурсивного пространства произведения, его ассоциа-
тивно-лейтмотивная организация. Сюжетная инверсия
возникает с самого начала эссе, открывающегося рассказом
220
b последнем этапе пути Толстого к «освобождению» от
земного, страха смерти: «Астапово — завершение “освобо-
ждения”, которым была вся его жизнь, невзирая на всю ве-
ликую силу “подчинения”» (5). Подобное начало создает
онтологический ракурс постижения всей судьбы Толстого.
С этим связана и кольцевая композиция эссе: оно начинает-
ся с проникновенных раздумий Толстого-Бунина об «осво-
бождении» от власти пространства и времени, а завершает-
ся фрагментом письма доктора Альтшуллера, в котором
приведены значимые слова Толстого, сказанные им во вре-
мя тяжелой болезни еще в Крыму: «“От Тебя пришел, к Те-
бе вернусь, прими меня, Господи”, — произнес так, как вся-
кий просто верующий человек» (145). Бунин, вопреки мне-
нию многих писавших о Толстом отмечает у него глубин-
ное, неуничтожимое чувство «инаго жития вечнаго», веру в
«Смерти умерщвление», в конечном итоге превозмогавшую
рациональное сомнение: «Но люди находят спасение от
смерти не умом, а чувством... Ведь все в чувстве. Не чувст-
вую этого “Ничто” — и спасен...» (144).
Лейтмотивен и сам образ «освобождения» — преодоле-
ния пространственно-временных пределов, каузальной обу-
словленности душевной жизни, дословно повторяющийся в
I и V главах книги, а также в обращениях Бунина к образ-
ному ряду «Казаков». Повествование развивается не за
счет сюжетной последовательности, но в ассоциативных
связях лейтмотивов, на основе концентрических кругов.
Так, например, Бунин трижды возвращается к описанию
последнего ухода Толстого из Ясной Поляны — вначале
почти поминутно прослеживает путь, лежавший через Оп-
тину пустынь, Шамардинский монастырь, а позднее допол-
няет это описание тонкими психологическими штрихами
(лицо его в ночь ухода «было светло, прекрасно и полно
решимости» — 55), дорисовывающими картину тревожно-
радостной поспешности в движении к искомому духовному
«освобождению». Исследователи обоснованно видят в эссе
I
221
тованных строчек», не раз возникающему в поэзии А.
матовой (ст. «Муза», 1924; «Творчество», 1936 и др.)Л
размышлениям О. Мандельштама об онтологической Д
причастности поэта «провиденциальному собеседник
(Мандельштам, 1987. С. 52), и особенно взгляду пастер J
ковского Живаго на суть творчества: «В такие минутые
минуты творчества. — И.Н.) Юрий Андреевич чувствовЯ
что главную работу совершает не он сам, но то, что вым
его, что находится над ним <...>: состояние миров®
мысли и поэзии и то, что ей предназначено в будущей
следующий по порядку шаг, который предстоит ей сд
лать в ее историческом развитии» (Пастернак, 2000. i
365). У бунинского же Арсеньева первые проблей
творческого вдохновения также были неотделимы <
«состояния поэзии», прежде всего почитаемых им Пуг
кина и Лермонтова.
В размышлениях целого ряда художников-модернистх
об искусстве возникает мотив вслушивания в таинственhi
ритмы мироздания, что понимается как важнейший су
страт творчества. «Прислушивание к звучащей <...> в дал
ких глубинах <...> души <художника> смутной музык<
(Иванов, 1916. С. 167) Вяч. Иванов считает истоком ш
эзии. М. Метерлинк в одном из интервью (1891) говорит
«вслушивании» в «тайную и вечную гармонию» бытия к<
об основе творчества (Косиков, 1993. С. 442).
Чуткость художника ко вселенским ритмам составил
существенную сторону и бунинского эстетического кред
Недаром, говоря о происхождении своих рассказов, пиа
тель признавался о прислушивании к некоему общему зв;
чанию, из которого впоследствии вырастает все произв<
дение (ср. поразительно близкое бунинскому признан^
А. Белого, мечтавшего о слиянии формы и содержания: «В
звуке будущая тема сюжета подана издали; она обозрима®
моменте <...>; в звуке — <...> тема целого, <...> форм<х
содержание» — Как мы пишем, 1930. С. 16-17). В стихО*
24
гВорении «Ритм» (1912) в образной форме явлена сердце-
вина бунинского взгляда на искусство как на уникальный
синтез личностного и надындивидуального в их неслиян-
ности и нераздельности. Именно «ритмическая мечта» по-
зволяет прозреть единство субъективно-индивидуального
и вселенского в трансцендентности творческого акта:
И слышу сердца ровное биенье,
И этих строк размеренное пенье,
И мыслимую музыку планет [1; 353].
Подобное соединение интимно-личностного и вселен-
ско-космического в лирике становится важнейшей чертой
поэтического мышления Серебряного века. «Темы косми-
ческие стали главным содержанием поэзии», — замечает
Вяч. Иванов {Иванов, 1916. С. 132). «Обменяться сигна-
лами с Марсом — задача, достойная лирики...», — вторит
ему О. Мандельштам {Мандельштам, 1987. С. 54).
Существеннейшим для понимания бунинской концеп-
ции искусства оказывается его рассказ «Неизвестный
друг» (1923), по форме представляющий собой серию без-
ответных писем женщины к почитаемому ею писателю, по
сути же — сокровенные мысли самого Бунина о месте ис-
кусства в бытии. Безответность этих писем легко может
ввести исследователя в заблуждение: так, Л.Н. Афонин,
подробно и основательно прокомментировавший проис-
хождение рассказа, увидел в нем лишь «произведение о
трагически одиноком человеке, зов которого, “брошенный
куда-то вдаль”, так и не был услышан» {Афонин, 1973. С.
^22; см. также об этом: Сливицкая, 1998).
В отсутствии ответа художника на письма восторжен-
ной читательницы, означавшем отказ от общения на жи-
Тейском уровне, которое неизбежно повлекло бы за собой
Некое смешение жизни и творчества, мы видим, по сути,
дубинное неприятие Буниным жизнетворческих, а позд-
25
плодотворный синкретизм на уровне и повествовательной'
структуры, и жанрового своеобразия {Бердникова, 1995;
Штерн, 1997). Синтезированная форма повествования
включает в себя рассказ о кульминационных эпизодах жиз-
ни Толстого, комментированное прочтение художествен-
ных текстов (выбор которых — от «Детства» до «Казаков^
и «Войны и мира» — обусловлен авторской избирательно-
стью), дневниковых записей — в их «обработке» и пред-
ставлении ощутима «рука» самого Бунина, сопрягающего с
приводимыми фрагментами собственные интуиции. Это -и
рассмотрение воспоминаний о Толстом, суждений аналити-
ков его личности и творчества, и, наконец, прямые автор-
ские размышления, выступающие главным фактором
целостности произведения.
В «Освобождении Толстого» Бунин приходит к соедине-
нию жизненной и эстетической реальностей, сплавляемых в
едином лирическом континууме авторского сознания. В пер-
вой же главе в интуициях о тайне смерти, трансцендентной
бесконечности человеческого «я» осуществляются взаимопе-
реходы суждений самого Толстого; цитируемого эпизода из
«Войны и мира», где князь Андрей, слушая пение Наташи,
ощущает «страшную противоположность между чем-то бес-
конечно великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то
узким и телесным, чем был он сам и даже была она» (6); а
также обобщающих авторских комментариев. Права
О. Бердникова, относящая «Освобождение Толстого» к «то-
му свободному жанру без “выдумывания”, без “героев и ге-
роинь”, о котором всегда мечтал Бунин» {Бердникова, 1995.
С. 79). И, конечно, подосновой такой жанровой «свободы»
был поиск лирических способов самораскрытия.
Как и в немалой части своей лиризованной прозы, в
«Освобождении Толстого» Бунин достигает органичного
переплетения художественного и философского дискур-
сов. Антиномизм авторского мироощущения, заострен-
ность философской рефлексии воплощаются в поэтике
222
монтажных композиционных «стыков»: так, на горестное
воспоминание о «газетном листе... в траурной раме», обво-
дившей портрет Толстого, накладывается развернутый
фрагмент из «Казаков», запечатлевший прелесть жизни,
«странное чувство беспричинного счастья»: «Я смотрел на
портрет, а видел светлый, жаркий кавказский день, лес над
Тереком и шагающего в этом лесу худого загорелого юн-
кера» (25). По-лирически вольно Бунин варьирует ритмику
повествования (сам он не раз говорил о своей чуткости к
«ритму» произведения), от углубленных философских раз-
думий обобщенного характера переходя к личным воспо-
минаниям о юношеских мечтах встретиться с Толстым,
временном сближении с толстовцами в Полтаве, волную-
щих деталях первой встречи — все это, придавая эссе ли-
рическую «подсветку», избавляет его от излишнего теоре-
тизма. И здесь давние бунинские чаяния преодолеть ус-
ловность художественной формы находили свершение
благодаря типологическим жанровым признакам эссе: по
словам М. Эпштейна, особая «правдивость» эссеистики
связана с тем, что она «не только сплавляет общую идею с
чувственным образом, но их вместе с протекающей реаль-
ностью... реальностью личного опыта». И еще: эссе, как
полагает М. Эпштейн, идет дальше многих других жанров,
снимая дистанцию, «отделяющую созданный мир от под-
линного» (Эпштейн, 1988. С. 353, 341).
Жанровый синтез в «Освобождении Толстого» соот-
носится с межродовым взаимопроникновением эпического
и лирического элементов. Эпичны здесь наличие «сюже-
тов», получающих религиозно-философское освещение; по-
добие объективно-повествовательной манеры. Однако не-
посредственные сюжетные связи оказываются все-таки вто-
ричными (это особенно очевидно, к примеру, когда Бунин
опровергает прямолинейные объяснения толстовского
«ухода») — глубинные «сцепления» между событиями ухо-
дят корнями в лирико-медитативную сферу, где почти не-
223
видимыми становятся грани, разделяющие «субъект» и
«объект» изображения. Более того, лирический элемент
ощутим и в тональности авторской речи, ее повышенной
выразительности (изобилие вопросов, восклицаний и т.д.),
доходящей во многих местах до экстатической напряженно-
сти. Синтез эпоса и лирики в бунинском эссе открывал ши-
рокие возможности обобщения: один жест, одна реплика,
одна дневниковая запись, пропущенные сквозь призму ав-
торской субъективности, вели к онтологическому знанию о
личности и мире.
Эссе «Освобождение Толстого» в силу типологических
жанровых качеств и специфики художественного содержа^
ния стало актом самопознания Бунина. Вместе с тем, текст,
стержнем которого явилась авторская субъективность, таил
и диалогические потенции, связанные с исканием «я» в
«другом», пути от субъективно-индивидуального к Всееди-
ному. Как и у Мережковского, сфера субъективности рас-
ширена у Бунина за счет того, что Толстой предстает здесь в
оптике и иных точек зрения. Однако сам автор полемичен
по отношению и к традиционной трактовке толстовского
«рационализма» (Маклаков), и к символистской интерпре-
тации в духе Мережковского, и к «левым» политизирован-
ным истолкованиям Толстого в качестве «бунтаря, анархи-
ста, невера...» (108). У Бунина диалогическая встреча двух
речевых потоков — автора и «героя» вела к лирически-
участному вчувствованию в судьбу титана русской класси-
ческой культуры.
* * *
Интересной реализацией эссеистского жанра стала в
творчестве Бунина и незавершенная книга «О Чехове», над
которой писатель работал до последних дней жизни.
Внешней канвой эссе явилось воссоздание жизненного
пути Чехова, характеристика его отдельных эпизодов. За
обманчиво «объективным» повествованием о первых
224
встречах двух писателей в середине 1890-х гг. в Москве,
Ялте проступают таинственные черты внутреннего «скла-
да» Чехова, которые в потоке бунинских интуиций обре-
тают отчетливую связь с аспектами наследственности и
Прапамяти: «Печальная, безнадежная основа его характера
происходила еще и оттого, что в нем, как мне всегда каза-
лось, было довольно много какой-то восточной наследст-
венности, — сужу по лицам его простонародных родных,
по их несколько косым и узким глазам и выдающимся ску-
лам. И сам он делался с годами похож на них все больше и
состарился душевно и телесно очень рано, как и подобает
восточным людям» (147).
По мере развертывания повествования в суждениях Бу-
нина о Чехове все ярче обнаруживаются свойства творче-
ской личности автора, стремящегося дать итоговую оценку
своих отношений с классикой. Бунин акцентирует внимание
на глубине собственных связей с Чеховым, что и становится
доминирующим углом зрения на все изображаемое. В из-
вестных рассказах — «Скучная история», «Княгиня» и др.
— Бунин ценит в первую очередь зоркость как к обыден-
ным проявлениям жизни, так и к тайнам души, чем, по мыс-
ли автора, Чехов обязан не только художественному дару,
но и призванию врача: «...изумляет во всех этих рассказах
знание жизни, глубокое проникновение в человеческую ду-
шу в такие еще молодые годы» (148). Вспоминая о начале
чеховского пути в литературе с работы в юмористических
журналах, Бунин усматривает здесь истоки движения к
экспрессивной сжатости прозаической формы — общей
для обоих художников: «Писание... в “Будильниках”,
“Зрителях”, “Осколках” — научило его маленькому рас-
сказу: извольте не переступить ста строк!» И тут же автор
добавляет — о себе: «Меня научили краткости стихи»
(149). Другим качеством, объединявшим его с Чеховым,
Бунин называет повышенную чуткость к чувственно-
предметной стороне бытия — заметим попутно, что во
многих фрагментах размышлений о «герое» эссе преобла-
дает лирически-проникновенная тональность авторского
слова: «Выдумывание художественных подробностей и
сближало нас, может быть, больше всего. Он был жаден до
них необыкновенно, он мог два-три дня подряд повторять
с восхищением удачную художественную черту, и уже по
одному этому не забуду я его никогда, всегда буду чувстг
вовать боль, что его нет» (207). В нескольких чеховски^
«советах» пишущему, бережно сохраняемых автором в па-
мяти, Бунин находит созвучие своему заветному желанию
преодолеть условность «литературы»: рекомендации после
написания рассказа «вычеркивать его начало и конец»
(155); «жажда наивысшей простоты» (156) поэтического
образа и т.д.
Глубинным основанием родства Бунина с Чеховым и
как следствие — лирической близости автора и «героя»
эссе — предстает в книге антиномизм мироощущения. В
творческом темпераменте Чехова Бунин неоднократно вы-
деляет свойственное и ему соединение внешней «сдержан-
ности», «совсем особой холодности» (162) с «силой вос-
приимчивости», затаенной страстностью натуры: «А он
любил жизнь, радость, и за последние годы эта жажда
радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, осо*
бенно часто сказывалась в его разговоре...» (157). Более
того, у Чехова, как и самого Бунина, антиномизм, знаме-
нующий удивление перед загадкой жизни, становится мо-
дусом осмысления онтологических проблем. Автор заин-
тересованно воспроизводит слова Чехова о смерти и бес-
смертии — проблеме, мучавшей Бунина едва ли не с са-
мого начала: «Что думал он о смерти? Много раз стара-
тельно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после
смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор... Но
потом несколько раз еще тверже говорил противополож-
ное: — Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после
смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам
226
это...» (187). Заметим, что в эссе «О Чехове», так же, как
и в «Освобождении Толстого», мы видим диалогическое
сопересечение двух речевых планов — автора и «героя».
Кроме того, разговор о Чехове стал для Бунина и оче-
редным поводом высказать свое неприятие «декандентов»,
модернистов, хотя степень полярности Чехова и «нового
искусства» Серебряного века автор все же изрядно абсо-
лютизирует. С другой стороны, упоминание о «модерно-
сти» самого Бунина относительно классических принципов
письма, например, в плане организации повествования,
функций детали и ее соотношения с сюжетом, звучит в
произведении из уст Чехова: «Писал ли я Вам насчет “Со-
сен”? — Это очень ново, очень свежо и очень хорошо,
только слишком компактно, вроде сгущенного бульона»
(179). Очевидно, что в бунинском эссе просматривается
диалектика авторской самоидентификации в отношении
и к классической традиции, и к новейшим чертам художе-
ственного мышления.
Таким образом, в «Освобождении Толстого» и эссе «О
Чехове» художественная структура насквозь лирична'.
именно авторская личность, осмысляющая себя в соотне-
сенности с культурным хронотопом прошлого и настояще-
го, выступает как ядро эссе. И именно «позиция» Бунина
относительно «героев» этих эссе, их философских и эсте-
тических воззрений, предопределяет жанровую специфику
данных произведений, близкую во многом модернистской
эссеистике.
* * *
В заключение обобщим основные положения данной
главы.
1. Главным для нас является восприятие жанровых
новаций Бунина как динамичной системы, органично
вписывающейся в русло движения эстетического созна-
ния и художественной практики рубежа XIX-XX вв. к
максимальной жанровой диффузности, жанрово*
родовому синтезу, соединению различных форм творче|
ской мысли — художественной, философской, публици-
стической. На этих путях возникали закономерные сопе-
ресечения Бунина с модернизмом. Ключевые звенья сис-
темы бунинских жанровых исканий соответствуют ос-
новным подразделам главы: лирико-философские расска-
зы и миниатюры — «лирический роман» — эссе.
2. Жанру лирико-философского рассказа суждено было
стать «сквозным» в творчестве Бунина: с ним сопряжены и
первые шаги писателя в литературе 1890-1900-х гг., и зре-
лые произведения эмигрантского периода. Формирование
«малой» прозы Бунина прошло под знаком лиризации,
расширения форм выражения авторской субъективности.
Движение к подобному «синтетизму» несомненно сближа-
ло Бунина с вектором модернистских художественных и
теоретических поисков — достаточно вспомнить многие
суждения и творчество А. Белого, А. Блока и других. Бу-
нинские лирико-философские рассказы, значительно эво-
люционировавшие к 1920-м гг. в сторону усиления собст-
венно философской рефлексии, не вытеснявшей, впрочем,
образного плана, — диалектически соотносились с модерн
нистскими новациями и вместе с тем — развивали потен-
ции, проявившиеся в системе позднего реализма — напри-
мер, в лиризованной прозе Чехова.
И у Бунина, и у модернистов сближение прозаическо-
го слова с лирикой определяло стремление к лирическому
лаконизму, сплавляющему картину зримого мира с «обра-
зом переживания». Это обуславливало актуализацию
жанра миниатюры, парадоксально сочетающей мини-
мальное повествовательное поле с масштабностью под-
текста. Здесь возникает интересное и неоднозначное со-
отношение Бунина с европейским и русским модерниз-
мом. Французские символисты, заново «открывшие»
жанр миниатюры в литературе эпохи, зачастую использо-
228
вали его для отвлеченных экспериментов с текстовой
фактурой: типичными у Рембо, Гюисманса и других ста-
новились эпатирующие сближения, «соответствия», дро-
бящие образ зримой реальности. Однако в экспрессии
этого жанра они стремились отразить тайные импульсы
психической жизни, что отчасти объединяло их с бунин-
скими «краткими рассказами». Речь шла и о типологиче-
ских схождениях-расхождениях Бунина с опытами ми-
ниатюры в русском модернизме — на примере творчества
И. Анненского и В. Розанова. Кроме того, для Бунина, как
и для ряда модернистов, значимым был жанровый прин-
цип «фрагмента», получивший разноплановое худо-
жественное воплощение.
3. В недрах «малой» прозы Бунина постепенно обозна-
чался путь к «лирическому роману» («Жизнь Арсеньева»).
В основе переосмысления романного жанра Буниным и
модернистами лежали принципиально новые, по сравне-
нию с XIX в., антропологические интуиции, влекшие за
собой отход от линейной романной структуры, классиче-
ского типа «романа идеи», традиционной субъектно-
объектной парадигмы. Мечты Бунина о «лирическом ро-
мане», «книге ни о чем», шедшие во многом от Флобера,
были «подхвачены» и в позднейшем модернизме — в ча-
стности, французским «новым романом». Жанровый син-
тез в «Жизни Арсеньева» сопряжен с соединением эпичес-
кой широты в воссоздании целой эпохи национального
бытия и лирической субъективации изображения. Нели-
нейный характер повествования очевиден, где на смену
сюжетной динамике приходят ассоциативно-монтажные
принципы композиции, заданные общей ориентацией все-
го произведения на нерациональный модус памяти, лири-
чески преображающей явления объективного мира в пото-
ке душевной жизни. Уникальной гранью взаимопроникно-
вения прозаического и поэтического языков стал и цитат-
ный потенциал «Жизни Арсеньева».
229
Бунинский «лирический роман» вращается в достаточ-
но разноплановом литературном — модернистском —•
контексте. Выше развивались основные линии сопоставле-
ния «Жизни Арсеньева» с романом М. Пруста «В поисках
утраченного времени» (на почве синкретической формы
художественного времени, а также категории памяти);
«Доктором Живаго» Б. Пастернака — в связи с принципа-
ми «феноменологического романа», синтезом поэзии и
прозы («Стихотворения Юрия Живаго»). Но при очевид-
ных типологических схождениях с Прустом и Пастерна-
ком, роман Бунина отличается все-таки большей автоном-
ностью образной сферы от философско-рефлективного на-
чала. Интенции преобразования романного хронотопа по-
зволяют вести сопоставление «Жизни Арсеньева» с «Из-
менением» М. Бютора. Но если Бютор, монтируя различ-
ные временные и пространственные планы, абсолютизиру-
ет раздробленность личности, то Бунин сближается с реа-
лизмом в движении к ее целостному видению, но обретает
эту целостность на иных, более сложных основаниях, учи-
тывающих изменившиеся представления о психической
жизни.
4. Лирическая трансформация жанровой системы лите-
ратуры Серебряного века обусловила и расцвет эссеисти-
ки. Модернистская, символистская и постсимволистская,
культура дала яркие образцы этого жанра (Д. Мережков-
ский, М. Цветаева, В. Ходасевич и др.), в котором раскры-
лись возможности мифопоэтических обобщений сквозь
призму авторской субъективности. Жанр эссе в его худо-
жественно-философской и литературно-биографической
разновидностях актуализируется и в позднем творчестве
Бунина («Освобождение Толстого», «О Чехове»). Как и у
ряда модернистов, бунинские эссе становятся проекциями
лирического дискурса, философских интуиций автора. В
них пластично раскрывается многослойность авторского
«я», находящего себя в «другом» и движущегося от субъ-
230
активного к вечному. В целом же, в творчестве Бунина
происходит постепенное обогащение средств лирического
самовыражения — от камерности ранних медитативных
рассказов к лирическому образу России и эссеистской ин-
терпретации ключевых фигур русской классики. Что же
касается жанра эссе, сыгравшего значительную роль в
творческой самоидентификации как Бунина, так и многих
модернистов, то свою продуктивность он обнаружил и в
позднейшей русской культуре, пример тому — блестящая
эссеистика И. Бродского.
5. В структуре нашего исследования рассмотрение сис-
темы жанровых новаций неслучайно замыкает комплекс-
ное сопоставление Бунина с модернизмом, так как спектр
этих новаций во многом определялся генерировавшимися
в эстетическом сознании рубежа веков взглядами на сущ-
ность искусства, трансформацией поэтики образности и,
конечно, новыми антропологическими идеями и формами
художественного психологизма.
231
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги. 1
Мы попытались предложить первую на сегодняшни^
день развернутую комплексную интерпретацию проблем
мы «Бунин и модернизм» — с привлечением всего кон-
текста творчества Бунина, широкого материала русского
и отчасти европейского (французский символизм, Пруст,
школа «нового романа» и др.) модернизма, а также фи-
лософской и эстетической мысли рубежа XIX-XX вв.
Мы полагаем, что в основании всех самых разнообраз-
ных типологических сближений Бунина с модернизмом
лежали три важнейших аспекта: ощущение кризиса рацио-
нализма в познании мира, истории и человеческой души;
усиление, по сравнению с XIX в., трагедийности мироощу-
щения и, наконец, складывание новых представлений об
искусстве. Обсуждение схождений-расхождений Бунина и
модернистов на каждом этапе предполагало и уточнение
вопроса об отношении писателя к реализму, установление
того, в какой степени сильна была опора на традицию —
шла ли речь об общеэстетических взглядах или системе
жанровых новаций... В этой связи важным представлялось
понять: что доминировало — «классичность» или все-таки
«модерность», как соотносились они между собой. Рас-
сматривая этот круг проблем, мы намеренно не педалиро-
вали хронологического принципа в подходе к бунинскому
творчеству — ведь многие предпосылки объективных
сближений Бунина с «новым искусством» проявились уже
начиная с его первых литературных опытов и даже в сти-
листике самых ранних стихотворений. Правда, позднее эти
предпосылки становились и ярче, и разнообразнее, если
учесть хотя бы обогащение жанровой палитры: «краткие
рассказы», «лирический роман», эссеистика.
Важно подчеркнуть и еще один методологический
принцип сопоставления бунинского творчества с модер-
232
низмом. Очень часто мы имели дело с теоретическими
выступлениями модернистов, их эстетическими програм-
мами, а с другой стороны — с творческой практикой Бу-
нина. И это неслучайно. Парадоксальность и драматизм
историко-литературного развития русского модернизма, и
символизма прежде всего, состояли в реальной недовоп-
лощенности многих глубинных интуиций — о поэтике об-
раза, синтезе искусств, формах психологизма, системе
жанров... Но, попадая в широкий культурный контекст, в
саму «атмосферу» времени, эти интуиции находили подчас
неожиданное продолжение в художественном творчестве
— в частности, бунинском. Порой осознание единых задач
обновления литературы сближало Бунина с модернистами,
но различные, нередко противоположные эстетические
решения разводили их на полюса. Однако некоторые кри-
тики диаспоры (В. Ходасевич, В. Вейдле и другие), как бы
предвосхищая дальнейший ход литературоведческой мыс-
ли, видели в творчестве Бунина оригинальное художест-
венное свершение тех колоссальных возможностей и пер-
спектив, которые генерировались в модернизме на потен-
циальном уровне.
Обобщая многоаспектное сопоставление Бунина с мо-
дернизмом, отметим, что наибольшее притяжение писате-
ля к модернизму и соответственно — максимальное оттал-
кивание от реализма наблюдаются, на наш взгляд, в сфере
концепции личности и поиска новых форм психологизма,
— сфере, ставшей решающим фактором эволюции литера-
туры рубежа веков. Бунин принципиально отказывается от
реалистического детерминизма, исторического оптимизма,
присущего в целом сознанию XIX в., и сближается с мо-
дернистами на почве трагедийного мироощущения.
Вместе с тем наибольшее сродство с реализмом видно
в мире Бунина на уровне поэтики художественного об-
раза: все новации, «модерность» ложились здесь на реа-
233
листическую почву, облекались в классическую форму,
сохраняющую внутреннюю соразмерность и достовер-
ность предметного плана. Что касается жанровой систем
мы, то Бунин, развивая многие потенции позднего реа-
лизма, диалектически соприкасался и с модернистским
опытом, участвовал в процессе обогащения жанровой па-
литры литературы XX в.
Сохраняя классическую ясность и строгость худо-
жественного мышления, реалистическую зоркость к
предметной, чувственной стороне индивидуального и
национально-исторического бытия, Бунин в то же вре-
мя был типологически близок модернизму трагедийным
опытом миропереживания, движением к обновлению
поэтики образности, принципов психологического изо-
бражения, системы литературных жанров. И, сходясь
с модернистами в видении актуальных эстетических
задач, Бунин нередко осуществлял в творческой прак-
тике то, что в модернизме оставалось на уровне эсте-
тических построений.
Сегодня наступает, как видится, новый период иссле-
дования культуры Серебряного века с вековой историче-
ской дистанции, и приметной чертой данного этапа стано-
вится углубленное изучение не только родственных, но
удаленных и даже полемичных друг другу явлений: реа-
лизма и модернизма, символизма и протяженной постсим-
волистской традиции... Именно осознание недостаточно-
сти «направленческого» критерия при рассмотрении
типологических универсалий художественной жизни
может стать надежной основой целостной литературной
истории XX века.
234
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. / Под ред. А.С. Мясникова,
Б.С. Рюрикова, А.Т. Твардовского. М., 1965-1967.
2. Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1996.
3. Бунин И.А. Окаянные дни. М., 1990.
4. Бунин И.А. Великий дурман. М., 1997.
5. Бунин И.А. Происхождение моих рассказов // Новый
журн. 1958. № 53.
6. Бунин И.А. Письмо А.А. Измайлову (от 15.XIL1914) //
Вопр. лит. 1969. № 7. С. 192.
7. Бунин И.А. Письма к Н.А. Тэффи // Новый журн. 1974.
№ 117.
8. Бунин И.А. Письмо к Л. Ржевскому // Проблемы реализ-
ма. Вологда, 1980. Вып. VII. С. 167.
9. Бунин И.А. Записи // Новый журн. 1991. № 82.
10. Алданов М.А. Статьи о И.А. Бунине // Лит. обозрение.
1994. № 7/8. С. 47-77.
11. Андреев Л.Г. Сюрреализм. М., 1972.
12. Андреев Л.Н. Рассказы. М., 1977.
13. Андреев Л.Н. Избранное. М., 1996.
14. Анненский И.Ф. Избр. произв. М., 1988.
15. Антология акмеизма: Стихи. Манифесты. Статьи. За-
метки. Мемуары. М., 1997.
16. Афанасьев В.Н. Бунин и русское декадентство 1890-х гг.
(в порядке постановки вопроса) // Русская лит. 1968. № 3.
С. 175-181.
17. Афонин Л.Н. О происхождении рассказа «Неизвестный
друг»// Лит. наследство. М., 1973. Т. 84. С. 412-423.
18. Ахматова А.А. Стихотворения. М., 1977.
19. Бабореко А. Бунин. Материалы для биографии. М.,
1983.
20. Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов Серебряного
века. М., 1993.
21. Бальмонт К.Д. Горные вершины. М., 1904.
235
Т1. Бальмонт К. Стихотворения. Л., 1969.
23. Бальмонт К. О любви // Русский Эрос, или Философия
любви в России. М., 1991.
24. Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследова-
ния романа) // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эс-f
тетики. М., 1975.
25. Бахтин М.М. К философии поступка И Философия и
социология науки и техники. 1984-1985 гг. М., 1986. С.
80-160.
26. Белая Г.А. Авангард как богоборчество // Вопр. лит.
1992. Вып. III. С. 115-124.
27. Белый А. Символизм: Кн. статей. М., 1910.
28. Белый А. Арабески: Кн. статей. М., 1911.
29. Белый А. На перевале I. Кризис жизни. Пг., 1918.
30. Белый А. О художественной прозе // Горн. Изд. Моск.
Пролеткульта. Кн. 2-3. М., 1919. С. 49-55.
31. Белый А. О себе как о писателе И А. Белый. Проблемы
творчества. М., 1988.
32. Белый А. Симфонии. Л., 1991.
33(1). Белый А. Литературный дневник. Об итогах разви-
тия нового русского искусства // Белый А. Критика. Эс-
тетика. Теория символизма: В 2 т. Т. 2. М., 1994.
34(11). Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
35(111). Белый А. Петербург. М., 1994.
36(IV). Белый А. Стихотворения и поэмы. М., 1994.
37. Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1996.
38. Бердникова О.А. Личность творца в книге И.А. Бунина
«Освобождение Толстого» И Царственная свобода. О
творчестве И.А. Бунина. Воронеж, 1995. С. 77-95.
39. Бердяев Н.А. Метафизика пола и любви // Русский
Эрос, или Философия любви в России. М., 1991.
40. Бицилли П.М. Бунин и его место в русской литературе
// Русская речь. 1995. № 6.
41. Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960-1963.
42. Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986.
236
43. Бочаров С.Г. Характеры и обстоятельства // Теория лите-
ратуры. Основные проблемы в историческом освещении.
Образ, метод, характер. Кн. 1. М., 1962. С. 312-451.
44. Бродский И. Меньше единицы: Избр. эссе. М., 1999.
45. Бройтман С.Н., Магомедова Д.М. Иван Бунин И Рус-
ская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х
годов). М., 2000. Кн. 1. С. 540 - 585.
46. Брюсов В.Я. Вступительная заметка // Русские симво-
листы. М., 1894. Вып. 2.
47. Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973-1975.
48. Бютор М. Изменение; Роб-Грийе А. В лабиринте; Си-
мон К. Дороги Фландрии; Саррот Н. Вы слышите их? /
Пер. с фр. Л.Г. Андреева. М., 1983.
49. Вантенков И.П. Бунин-повествователь (рассказы 1890—
1916 гг.). Минск, 1974.
50. Вейдле В. На смерть Бунина // Опыты. Кн. 3. Нью-
Йорк, 1954.
51. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
52. Волошин М. Лики творчества. М., 1988.
53. Выготский Л.С. Бунин «Легкое дыхание» // Выготский
Л.С. Психология искусства. М., 1968. С. 187-208.
54. Гартман Н. Эстетика. М., 1958.
55. Гаспаров М.Л. Антиномичность поэтики русского мо-
дернизма//Гаспаров М.Л. Избр. статьи. М., 1995.
56. Гейдеко В.А. Чехов и Бунин. М., 1976.
57. Гинзбург Л.Я. О лирике. М.; Л., 1964.
58. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1971.
59. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979.
60. Гиппиус 3. (Крайний А.) Что и как. Вишневые сады //
Новый путь. 1904. № 5. С. 251-257.
61. Гиппиус-Мережковская З.Н. Д. Мережковский. Париж,
1951.
62. Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. М., 1982.
63. Городецкий С.М. Некоторые течения в современной
русской поэзии // Поэтические течения в русской лите-
237
ратуре к. XIX — н. XX вв. Литературные манифесты и
художественная практика: Хрестоматия / Сост.
А.Г. Соколов. М., 1988.
64. Гофман В. Язык символистов // Литературное наслед-
ство. М„ 1937. Т. 27-28.
65. Гречнев В.Я. Русский рассказ конца XIX — начала XX
вв. (проблематика и поэтика жанра). Л., 1979.
66. Гречнев В.Я. Цикл рассказов И. Бунина «Темные ал-
леи» (психологические заметки) // Русская лит. 1996.
№ 3. С. 226-235.
67. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция.
М„ 1979.
68. Дарвин М.Н. Поэт и книга в системе художественного
творчества (к вопросу об эволюции понятий: от роман-
тизма к авангарду) // Постсимволизм как явление куль-
туры. М., 1998. С. 44—49.
69. Дарвин М.Н. Фрагмент // Введение в литературоведе-
ние. М., 1999. С. 446—451.
70. Денисова Э.И. «Прозаические» стихи и «поэтическая»
проза (к спорам о поэзии Бунина) // Уч. зап. Моск. гос.
пед. ин-та им. В.И. Ленина. 1972. Т. 485. С. 22-39.
71. Дзуцева Н.В. «И таинственный песенный дар» (Фраг-
ментарная форма в поэзии Ахматовой) // Вопросы он-
тологической поэтики. Потаенная литература. Иссле-
дования и материалы. Иваново, 1998. С. 128-137.
72. Долгополов Л.К. На рубеже веков. О русской литерату-
ре конца XIX — начала XX вв. Л., 1985.
73. Долгополов Л.К. Начало знакомства. О личной и лите-
ратурной судьбе А. Белого // А. Белый. Проблемы твор-
чества. М., 1988. С. 25-102.
74. Днепров В.Д. Черты романа XX века. М.; Л., 1965.
75. Есин А. Б. Психологизм русской классической литера-
туры. М., 1988.
76. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Сти-
листика. Л., 1977.
238
77. Жолковский А.К. «Легкое дыхание» Бунина — Выгот-
ского семьдесят лет спустя // Жолковский А.К. Блуж-
дающие сны. Из истории русского модернизма. М.,
1992. С. 130-154.
78. Замятин Е.И. Сочинения. М., 1988.
79. Зверев А. XX век как литературная эпоха // Вопр. лит.
1992. Вып. II. С. 3-56.
80. Зеньковский В.В. История русской философии. Л.,
1991. Т. II, ч. 1.
81. Иванов Вяч. По звездам. СПб., 1909.
82. Иванов Вяч. Борозды и межи. М., 1916.
83. Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1976.
84. Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994.
85. Ильев С.П. Русский символистский роман. Киев, 1991.
86. Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художест-
венной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев. М., 1991. С.
25-78.
87. Иофьев М. Профили искусства. М., 1965.
88. Искржицкая И.Ю. Культурологический аспект литера-
туры русского символизма. М., 1997.
89. Иссова Л.Н. Жанр стихотворения в прозе у Тургенева и
Бунина // Изв. Воронежского гос. пед. ин-та. 1968. Т.
72. С. 70-78.
90. Исупов К.Г. Философия и литература Серебряного века
(сближения и перекрестки) // Русская литература рубе-
жа веков (1890-е — начало 1920-х годов). М., 2000. Кн.
1. С. 69-130.
91. Как мы пишем. Л., 1930.
92. Кандинский В. О духовном в искусстве. Л., 1990.
93. Карпенко Г.Ю. Творчество И.А. Бунина и религиозно-
философская культура рубежа веков. Самара, 1998.
94. Келдыш В.А. Русский реализм начала XX века. М.,
1975.
95. Келдыш В.А. К проблеме литературных взаимодейст-
вий в начале XX в. (о так называемых «промежуточ-
239
них» художественных явлениях) // Русская литература.,
1979. №2. С. 3-27.
96(1). Келдыш В.А. Поздний Л. Толстой // История все-
мирной литературы: В 9 т. Т. 8. М., 1994.
97(11). Келдыш В.А. Творчество Бунина и реалистическое
движение предоктябрьского десятилетия // История
всемирной литературы: В 9 т. Т. 8. М., 1994.
98. Келдыш В.А. Предисловие; Русская литература Сереб-
ряного века как сложная целостность // Русская литера-
тура рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов). М.,
2000. Кн. 1.С. 3-68.
99. Кихней Л.Г. Поэзия Анны Ахматовой. Тайны ремесла.
М„ 1997.
100. Кихней Л.Г. Философско-эстетические принципы ак-
меизма и художественная практика Ахматовой и Ман-
дельштама: Дис.... докт. фил. наук. М., 1997.
101. Клинг О.А. Эволюция и «латентное» существование
символизма после Октября // Вопр. лит. 1999. № 4. С.
37-64.
102. Клинг О.А. Серебряный век — через сто лет («Диф-
фузное состояние» в русской литературе начала XX ве-
ка) // Вопр. лит. 2000. № 6. С. 83-113.
103. Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской по-
эзии начала XX века. М., 1986.
104. Кожевникова Н.А. О тропах в поэзии Бунина // Лите-
ратурный текст: проблемы и методы исследования. Ка-
линин, 1987.
105. Колобаева Л.А. Новые принципы построения курса
«истории русской литературы конца XIX — начала XX
в.» // Вести. МГУ. Сер. 9. Филология. 1994. № 3. С. 58-
68.
106(1). Колобаева Л.А. Бунин // История русской
литературы
XX века (20-90-е годы). Основные имена. М., 1998.
С. 85-104.
240
107(11). Колобаева Л.А. Феноменологический роман в рус-
ской литературе XX века // Научные доклады филоло-
гического факультета МГУ. М., 1998. Выл. 2. С. 155—
166. (Статья опубликована также: Вопр. лит. 1998. № 3.
С. 132-144).
108(111). Колобаева Л.А. Иван Бунин и модернизм // Науч-
ные доклады филологического факультета МГУ. Вып.
3. М„ 1998. С. 173-188.
109(IV). Колобаева Л.А. «Чистый понедельник» И. Бунина
// Русская словесность. 1998. № 3. С. 19-24.
110(V). Колобаева Л.А. Проза И. Бунина. М., 1998.
111. Колобаева Л.А. «Никакой психологии», или Фанта-
стика психологии? (О перспективах психологизма в
русской литературе нашего века) // Вопр. лит. 1999.
№ 2. С. 3-20.
112. Колобаева Л.А. Русский символизм. М., 2000.
113. Колтоновская Е.А. Общая характеристика эпохи (от
Чехова до революции) // Русская культура XX в. на ро-
дине и в эмиграции. Имена. Проблема. Факты / Публ.,
предисл., коммент. А.М. Грачевой. Вып. 1. М., 2000. С.
165-194.
114. Корецкая И.В. Над страницами русской поэзии и про-
зы начала века. М., 1995.
115. Кормилов С.И. Метризованная проза в 1910-е годы //
Серебряный век русской литературы. Проблемы, доку-
менты. М., 1996. С. 64—77.
116. Косиков Г.К. Проблема жанра и французский «новый
роман» (на материале творчества Н. Саррот): Дис. ...
канд. фил. наук. М., 1972.
117. Косиков Г.К. (сост.) Поэзия французского символиз-
ма. М., 1993.
118. Кривонос В.Ш. Бунин и петербургская традиция в
русской литературе // Филологические записки. Вып. 7.
Воронеж, 1996. С. 63-74.
241
нее жизнестроительных идей, необычайно популярный
модернистов. Таким образом, задача искусства состоит,!
Бунину, вовсе не в том, чтобы подчинить жизнь своим I
конам или «преобразить» ее. Глубинным же предназна!
нием его оказывается преодоление индивидуальной ов
собленности личности, прорыв к «единой душе» мин
осознание онтологической слиянности единичного и В|
общего: «Чья-то рука где-то и что-то написала, чья-то 1
ша выразила малейшую долю своей сокровенной жия
малейшим намеком <...>, и вот вдруг исчезает простран!
во, время, разность судеб и положений, и Ваши мысли!
чувства становятся моими, нашими общими. Поисти
только одна, единая есть душа в мире...» [5; 91]. Творч
ский акт, осознаваемый как путь к «единой душе» всего а
щего, становится одним из способов преодоления простр^
ства и времени, о котором Бунин столько размышлял. Ci
новится понятнее парадоксальная авторская мысль, вози
кающая в одном из писем героини: «В сущности, о всявд
человеческой жизни можно написать только две-три стр
ки...» [5; 97]. «Две-три строки» — не потому, что человеч
ская жизнь не стоит большего, но потому, что именно эти»
немногочисленными строками, наполненными силой суп?
стии, великое искусство способно, по Бунину, нащупать в
пряженность сугубо индивидуального с единой душой/
вечными законами бытия. Суггестивная сила искусства о
новывается на проникновенном лиризме произведения: «I
рассказать что-нибудь, а высказать себя», — такова, по Е|
нину, движущая сила творчества. «Что побуждает пися.
Вас? Желание рассказать что-нибудь или высказать (хос
бы иносказательно) себя? Конечно, второе <...> А что т
кое искусство? Молитва, музыка, песня человеческой д.
ши...» [5; 96]. Об искусстве, связанном с приобщением
единой душе мира, ее манящей и подчас пугающей анти»
мийности, идет речь и в «Снах Чанга» (1916): «Они пой
все страстней, все звончее, — и через минуту переполняет1
26
Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она
дрожит от непонятного восторга, от какой-то сладкой муки,
уг жажды чего-то...» [4; 379].
* * *
Итак, ощущение тайны бытия как важнейшего суб-
страта творчества сближает эстетические взгляды Бу-
нина с модернистскими концепциями искусства. Однако
уже здесь возникает принципиальное расхождение Бунина
с модернизмом, которое, по сути, явилось одним из опре-
деляющих в формировании его неприятия подавляющего
большинства художников Серебряного века.
Из убежденности в причастности творчества загадке
бытия модернисты нередко выводили претензии на исчер-
пывающее «тайновидение», владение тайной мира посред-
ством искусства, роль и возможности которого при этом
чрезмерно абсолютизировались.
Соотнесенность творческого процесса с претензией на
исчерпывающее знание о тайном ощутима уже в эстетиче-
ских программах французских символистов.
«Поэт, — убежден Ж. Ванор («Символистское искус-
ство», 1889), — может расшифровать и объяснить <...>
тайнопись» Божественного творения. (Косиков, 1993. С.
440) Сходная абсолютизация возможностей искусства ха-
рактерна и для русского модернизма: так, Вяч. Иванов в
«Заветах символизма» видит в художнике не только «орган
мировой души», что, как мы отмечали, близко бунинской
эстетической позиции, но и «ознаменователя сокровенной
связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни» (Ива-
нов, 1994. С. 185). В другой работе Вяч. Иванов формули-
рует эту мысль еще определеннее: «Поэзия — совершенное
Знание жизни» (Иванов, 1994. С. 78). «Мы: немногие
знающие, символисты», «теург, то есть обладатель тайного
3Нания», — подводит итог символистской концепции
творчества А. Блок в статье «О современном состоянии
27
119. Крутикова Л.В. Крестьянские рассказы И.А. Бунина
1911-1913 гг. // Уч. зап. Ленинградск. ун-та. Сер. фил.
наук. 1968. Вып. 72, № 339. С. 171-198.
120. Кузнецова Г.А. Грасский дневник. Вашингтон, 1967.
121. Кучеровский Н.М. О концепции жизни в лирической
прозе Бунина (вторая половина 90-х — начало 900-х
гг.) // Русская литература XX века (дооктябрьский пе-
риод). Калуга, 1968. С. 80-106.
122. Кшондзер М.К. И.А. Бунин и поэзия Серебряного века
// Филологические записки. Вып. 7. Воронеж, 1996. С.
74-79.
123. Лавров А.В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф —
фольклор — литература. Л., 1978. С. 137-170.
124. Лакшин В. Чехов и Бунин — последняя встреча //
Вопр. лит. 1978. № 10. С. 166-188.
125. Лейдерман Н.Л. Космос и Хаос метамодели мира //
Русская литература XX века: направления и течения.
Вып. 3. Екатеринбург, 1996. С. 4-12.
126. Линков В.Я. Мир и человек в творчестве Л. Толстого
и И. Бунина. М., 1989.
127. Лотман Ю.М. Стихотворения раннего Пастернака и
некоторые вопросы структурного изучения текста // Уч.
зап. Тартуск. гос. ун-та. Тарту, 1969. Вып. 236. С. 206-
238.
128. Львов-Рогачевский В. Символисты и наследники их И
Современник. СПб., 1913. № 7. С. 298-307.
129. Магазанник Е. «Краткие рассказы» Бунина в свете по-
этики //Тр. Самаркандск. ун-та. 1978. Вып. 361. С. 33-40.
130. Максимов Д.Е. «Апология символизма» Брюсова и его
эстетические взгляды 1890-х гг. // Уч. зап. Ленингр. пед.
ин-та им. Покровского. 1940. Т. 4, вып. 2. С. 260-269.
131. Максимова Е. О миниатюрах И.А. Бунина («Страш-
ный рассказ» — 1926 год) // Русская лит. 1997. № 1. С.
215-220.
132. Мальцев Ю.В. Бунин. М., 1994.
242
133. Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. М., 1995.
134. Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987.
135. Марулло Т.Г. «Ночной разговор» Бунина и «Бежин
луг» Тургенева // Вопр. лит. 1994. № 3. С. 109-124.
136. Мережковский Д.С. О причинах упадка и о новых те-
чениях современной русской литературы. СПб., 1893.
137. Мережковский Д.С. Акрополь: Избр. лит.-
критические статьи. М., 1991.
138. Мережковский Д.С. Эстетика и критика: В 2 т. Т. 1.
М„ 1994.
139. Мескин В.А. Человек в круге бытия (о творчестве
И. Бунина) // Русская словесность. 1993. № 4. С. 16-24.
140. Минц З.Г. О некоторых «неомифологических» текстах
в творчестве русских символистов // Блоковский сб. III.
Вып. 459. Тарту, 1979. С. 76-120.
141. Минц З.Г. Символ у Блока // В мире Блока. М., 1981.
С.179-208.
142. Муравьев В.С. Эссе // Литературный энциклопед. сло-
варь. М., 1987. С. 516.
143. Называть вещи своими именами: Программные вы-
ступления мастеров западноевропейской литературы
XX века. М., 1986.
144. Найман А.Г. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1999.
145. Никольская Л.Д. Значение «кратких рассказов» в эво-
люции творчества Бунина // Проблемы истории, критики
и поэтики реализма. Вып. 3. Куйбышев, 1978. С. 99-113.
146. Ничипоров И.Б. Мотив смерти в прозе И.А. Бунина
1890-1910 годов // Третьи Майминские чтения. Псков,
2000. С. 155-161.
147. Ничипоров И.Б. Литературные реминисценции в худо-
жественном целом романа И.А.Бунина «Жизнь Арсень-
ева» И Русский роман XX века. Духовный мир и поэтика
жанра. Сб. научн. трудов. Саратов, 2001. С.90-98.
148. Одоевцева И. На берегах Сены. Париж, 1982.
243
149. Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в культуре Серебряного
века // Время Дягилева. Универсалии Серебряного ве-
ка. Материалы Третьих Дягилевских чтений. Вып. 1.
Пермь, 1993. С. 106-114.
150. Орлицкий Ю.Б. Стихотворная цитата в прозе Буни-
на (Предварительные замечания) // Наследие
И.А. Бунина в контексте русской культуры. Материа-
лы медунар. научн. конф., посвященной 130-летию со
дня рождения И.А. Бунина. Елец, 2001. С. 119-128.
151. Пастернак Б.Л. Воздушные пути. Проза разных лет.
М„ 1983.
152. Пастернак Б.Л. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989.
153. Пастернак Б.Л. «Несвобода предназначенья». Из пи-
сем // Знамя. 1990. № 2. С. 194-204.
154. Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. Повести. Статьи и
очерки. М., 2000.
155. Пискунов В. «Второе пространство» в романе А. Бе-
лого «Петербург» // А. Белый. Проблемы творчества.
М„ 1988. С. 193-214.
156. Полоцкая Э.А. Взаимопроникновение поэзии и прозы
у раннего Бунина // Изв. АН СССР. Сер. Лит. и язык.
1970. Т. XXIX, вып. 5. С. 412-418.
157. Полякова М.А. Лирическая проза И. Бунина и
Б. Зайцева (конец 1890-х — 1900-е годы) // И. Бунин
и литературный процесс начала XX в. Л., 1985. С.
101-111.
158. Приходько И.С. «Вечные спутники» Мережковского
(К проблеме мифологизации культуры) И Д.С. Мереж-
ковский: мысль и слово. М., 1999. С. 198-206.
159. Проблемы реализма. Вып. VI. Вологда, 1979.
160. Проблемы реализма. Вып. VII. Вологда, 1980.
161. Пруст М. В поисках утраченного времени: Под сенью
девушек в цвету. М., 1992.
162. Ремизов А.М. Огонь вещей. М., 1989.
163. Розанов В.В. Опавшие листья. М., 1992.
244
юч. гусскии футуризм: теория, практика, критика, воспо-
минания. М., 1998.
165. Русское богатство. 1902. № 7 (рец. на кн.: Бунин И.
Рассказы. Т. 1. СПб.: Изд-во Т-ва «Знание», 1902).
166. Саррот Н. Флобер — наш предшественник // Вопр.
лит. 1997. №3. С. 225-243.
167. Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. Про-
блема «жизнетворчества». Воронеж, 1991.
168. Сафронова Э.П. И.А. Бунин и русский модернизм
(1910-е гг.). Вильнюс, 2000.
169. Северянин И. Ананасы в шампанском. Поэзы. М.,
1915.
170. Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. Сара-
тов, 1958.
171. Скафтымов А.П. К вопросу о принципах построения
пьес А.П. Чехова // Скафтымов А.П. Нравственные ис-
кания русских писателей. М., 1972.
172. Скобелев В.П. О лирическом начале в русском романе
в начале XX столетия («Жизнь Арсеньева» Бунина —
«Доктор Живаго» Б. Пастернака) // Воронежский край
и зарубежье: Платонов, Бунин, Замятин, Мандельштам
и другие в культуре XX в. Воронеж, 1992. С. 57-60.
173. Сливицкая О.В. О концепции человека в творчестве
Бунина (рассказ «Казимир Станиславович») // Русская
литература
XX в. (дооктябрьский период). Сб. 2. Калуга, 1970. С.
155-163.
174. Сливицкая О.В. Рассказ И.А. Бунина «Петлистые уши»
(Бунин и Достоевский) // Русская литература XX в. (до-
октябрьский период). Сб. 3. Калуга, 1971. С. 156-168.
175. Сливицкая О.В. Фабула — композиция — деталь бу-
нинской новеллы // Бунинский сборник. Орел, 1974. С.
90-103.
176. Сливицкая О.В. О природе бунинской «внешней изо-
бразительности»// Русская лит. 1994. № 1. С. 72-80.
245
177. Сливицкая О.В. К проблеме «Бунин и Толстой»: «Та-
ня» и «Воскресение» // Филологические записки. Вып.
4. Воронеж, 1995. С. 16-22.
178. Сливицкая О.В. Бунин: психология как онтология: О
рассказе «В ночном море» // Концепция и смысл. СПб.,
1996. С. 283-294.
179. Сливицкая О.В. Человек Бунина как космос и личность
// Сб. научн. трудов СПб. гос. ин-та культуры. 1997.
№ 148. С. 294-307.
180. Сливицкая О.В. Что такое искусство? (бунинский от-
вет на толстовский вопрос) И Русская лит. 1998. № 1. С.
44-54.
181. Сливицкая О.В. Сюжетное и описательное в новелли-
стике Бунина // Русская лит. 1999. № 1. С. 89-110.
182. Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция
поэтических систем. М., 1977.
183. Смирнов И.П. Психодиахронологика. М., 1994.
184. Соловьев В.С. О лирической поэзии. По поводу по-
следних стихотворений Фета и Полонского // Соловьев
В.С. Собр. соч.: В Ют. Т. 6. СПб., 1912. С. 234-260.
185. Соловьев В.С. Смысл любви // Русский Эрос, или Фи-
лософия любви в России. М., 1991.
186. Соловьев В.С. Сочинения. М., 1994.
187. Сологуб Ф.К. Стихотворения. Л., 1975.
188. Сологуб Ф.К. Творимая легенда. Кн. 2. М., 1991.
189. Солоухина О.В. О нравственно-философских взглядах
Бунина // Русская лит. 1984. № 4. С. 47-59.
190. Степун Ф.А. Литературные заметки (по поводу «Мити-
ной любви») // Современные записки. 1926. Кн. 27. С.
323-346.
191. Степун Ф.А. И. Бунин. «Божье древо» // Современные
записки. 1931. Кн. 46. С. 486-489.
192. Степун Ф.А. Памяти А. Белого И Русская литература.
1989. №3. С. 133-147.
246
193. Страда В. А. Чехов // История русской литературы:
XX век: Серебряный век / Под ред. Ж. Нива и др. М.,
1995. С. 48-72.
194. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. М., 1959.
195. Тоффлер О. Столкновение с будущим // Иностр, лит.
1972. №3. С. 228-256.
196. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино.
М., 1977.
197. ТюпаВ.И. Постсимволизм. Самара, 1998.
198. Устами Буниных: В 3 т. Франкфурт-на-Майне, 1977—
1982.
199. Хализев В.Е. Опыты преодоления утопизма И Пост-
символизм как явление культуры. М., 1995.
200. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999.
201. Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991.
202. Цветаева М.И. Сочинения: В 2 т. Минск, 1988.
203. Чернец Л.В. Персонаж И Введение в литературоведе-
ние. М., 1999.
204. Чой Чжин Хи. Роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева»
Проблема жанра: Автореф. дис. ... канд. фил. наук. М.,
1999.
205. Шаховская 3. Отражения. Париж, 1975.
206. Шерозия А.Е. Психоанализ и теория неосознаваемой
психологической установки: итоги и перспективы И
Бессознательное: природа, функции, методы исследо-
вания. Т. 1. Тбилиси, 1978. С. 37-67.
207. Шешунова С.В. Бунин против критического реализма
// Вопр. лит. 1993. № 4. С. 340-347.
208. Штерн М.С. В поисках утраченной гармонии. Проза
И.А. Бунина. 1930-1940-х гг. Омск, 1997.
209. Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. Л., 1986.
210. Эпштейн М.Н. На перекрестке образа и понятия (эс-
сеизм в культуре Нового времени) // Эпштейн М.Н. Па-
радоксы новизны. М., 1988. С. 334—380.
247
211. Эткинд Е.Г. Там, внутри: О русской поэзии XX века.
СПб., 1997.
212. Якобсон P.O. Заметки о прозе поэта Пастернака //
Якобсон P.O. Работы по поэтике. М., 1987. С. 324-338.;
213. Ярлыкова Ю.В. «Стихотворения в прозе» И. Тургеневай
«Краткие рассказы» И. Бунина: к проблеме жанра // На-
следие И.А. Бунина в контексте русской культуры. Мате-
риалы междунар. научн. конф., посвященной 130-летию
со дня рождения И.А. Бунина. Елец, 2001. С. 45-53.
248
Из поэтического наследия И.А.Бунина
В горах
Поэзия темна, в словах не выразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат,
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костер и горький запах дыма!
Тревогой странною и радостью томимо,
Мне сердце говорит: «Вернись, вернись назад!»
Дым на меня пахнул, как сладкий аромат,
И с завистью, с тоской я проезжаю мимо.
Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше я поэт.
Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
- Нет в мире разных душ и времени в нем нет!
1916
249
русского символизма» (1910) (Блок, 1960-1963. Т. 5.
426). Эти же мотивы остаются весомыми в ряде програЯ
ных выступлений русских футуристов: «Мы первые наши
нить лабиринта и непринужденно разгуливаем в нем»,
пишет А. Крученых в «Новых путях слова» (Русский Я
туризм.., 1998. С. 53). 1
Абсолютизация искусства, характерная для разных Я
чений внутри .модернизма, не .могла не вызывать раздразЛ
ния Бунина, чье собственное осмысление искусства, его пЛ
частности к загадке бытия движется в ином направлен™
сближаясь с эстетикой Н. Гартмана: «Настоящего знания я
конов прекрасного не существует, — пишет Гартман. —
жется, в их сущности заложено то, чтобы они оставалии
скрытыми от сознания и составляли бы только тайну совев
шенно скрытого заднего плана» (Гартман, 1958. С. 16). Л
Бунину, искусство не .может претендовать на исчерпа
вающее знание тайны бытия, но лишь в .минуты откроЛ
ния способно прозревать его целостность. Примечательж
его стихотворение «Мистику» (1906), явившееся своего р|
да полемическим ответом на некоторые положения одно$
из действующих лиц статьи В. Брюсова «Карл V. Диалог#
реализме в искусстве» (1906). Зоркость поэта, согласие
брюсовскому Мистику, заключается в «заглядывании»#
«иные миры»; художник «должен сделать явления просве-
том в иной мир, должен помочь более слабым глазам чита-
телей...» (Брюсов, 1973-1975. Т. 6. С. 125). Бунин же, возра-
жая против видения в чувственно воспринимаемом мир
лишь «отблеска иного», высшую мудрость искусства видитя
диалектической сопряженности интуиции о тайне бытия, *
одной стороны, и классической ясности — с другой:
Теперь давно мистического храма
Мне жалок темный бред:
Когда идешь над бездной — надо прямо
Смотреть в лазурь и свет [1; 223].
28
Отметим, что именно модернистская претензия на едва
иИ не полную разгадку тайны жизни в искусстве (с много-
иисленными теоретизированиями на этот счет) стала од-
ним из главных объектов бунинской этической и эстетиче-
ской критики в известной «Речи на юбилее “Русских ведо-
мостей”» (1913). В этом эстетическая позиция Бунина
близка одному из главных положений критики символизма
акмеистами: «Непознаваемое <...> нельзя познать <...> Все
попытки в этом направлении — нецеломудренны», — на-
стаивает Н. Гумилев в 1912 году (Антология акмеизма..,
1997. С. 201). Заметим, однако, что ощущение происходя-
щего разрыва между декларируемым устремлением в за-
предельное и реальным содержанием искусства, силой его
эмоционального воздействия было свойственно и наиболее
чутким из символистов. Весьма симптоматична статья
Блока «Литературные итоги 1907 года» (1907), где сам ха-
рактер критики современного искусства, религиозных соб-
раний, столь популярных в ту пору, чрезвычайно близок
содержанию тревожных размышлений Бунина в уже упо-
минавшемся выступлении 1913 года: «Они говорят о Боге,
о том, о чем можно только плакать одному, — с горечью
сетует Блок. — Это тоже потеря стыда, потеря реально-
сти...» (Блок, 1960-1963. Т. 5. С. 211). Именно не всегда
художественно оправданная «таинственность» в произве-
дениях модернистов становилась главным поводом для
бунинского саркастического их неприятия (Устами Буни-
ных, 1977-1982. Т. 2. С. 95)2. В.Н. Муромцева-Бунина при-
водит важнейшее в этой связи высказывание писателя об
иррациональном начале в искусстве, относящееся к
1920 году; «Ян считает, что хорошо в искусстве не то, что
Иррационально, а что передает то, что хотел выразить ху-
дожник...» [УБ; 2, 12]. В высшей степени характерный ход
Далее в тексте — под сокращением «УБ» с указанием тома и стра-
ницы.
29
бунинской эстетической мысли: глубина и правда искус
ва — не в свойствах, умозрительно привнесенных изв
будь то «рациональность» или «иррациональность», н<
силе его суггестивного, эмоционального воздействия,
торое достижимо, по Бунину, через интуитивное приоб]
ние к «общей душе», через лиризм, устраняющий гр:
между творящим и воспринимающим, через выход к ‘
«родовой субъективности», о которой впоследствии бу
говорить Б. Пастернак.
* * *
Важным следствием модернистских притязаний на <
ладание тайной бытия посредством творчества стал оп
деленный теоретизм, взгляд на искусство преимуществ
но как на сферу приложения философских, религиозна ।
эстетических и иных идей. Подобная специфика в понш i
нии сущности искусства была присуща целому ряду св i
волистов. Ее истоки прослеживаются уже в эстеп [.
В. Соловьева. В статье «Общий смысл искусства» (189 )
размышляя о соотношении «идеального содержания»®
«природной красоты», философ приходит к характерной
выводу о том, что искусство, «художество вообще есть об
ласть воплощения идей», подразумевая под последним!
прежде всего Божественную идею. Годом раньше, в стать
«Красота в природе» (1889) Соловьев уже не только искус
ство, но и природную красоту рассматривает как «вопле
щенную идею» (Соловьев, 1994. С. 251, 208). 1
Данные философско-эстетические воззрения Соловье
ва во многом продолжались и конкретизировались в пре
граммных выступлениях символистов в связи с раскрыт#
ем глубинной сути творчества. Так, К. Бальмонт в «ЭЖ
ментарных словах о символической поэзии» (1900), выр2
жая характернейшую устремленность эстетического со-'
нания эпохи к слиянию «скрытой отвлеченности и очеви®
ной красоты», пишет, что «поэт, создавая свое символик
30
кОе произведение, от абстрактного идет к конкретному,
>1П идеи к образу» (Бальмонт, 1904. С. 77, 94).
Принципиально иная, по сравнению с модернистами,
1аПравленность характеризует раздумья Бунина об искус-
стве. Размышляя о сути творческого процесса, писатель не
,аз подчеркивал, что в основе его — «не готовая идея, а
только самый общий смысл произведения владеет мною в
лот начальный момент — лишь звук его...» [9; 375]. В этом
же очерке — «Как я пишу» (1929) — Бунин признается в
невозможности творчества под влиянием привнесенных
извне идей, касающихся как формы, так и содержания
произведения: «Я никогда не писал под воздействием при-
входящего чего-нибудь извне, но всегда писал “из самого
себя” <...> Я вообще не ставил себе в своем писании внеш-
них заданий <...> Когда я писал стихи, я никогда не ставил
себе задачи нарочито изломать стих, внести “новшество” в
него...» [9; 375].
В ощущении несовместимости умозрительных идей и
творчества, зиждущегося, по убеждению писателя, на ин-
туитивном прозрении антиномийности бытия, и кроется
глубинная причина отсутствия у Бунина разработанной
эстетической теории, о чем мы упоминали выше. Мучи-
тельное чувство бессилия «определений», «идей» в пости-
жении жизни и искусства как ее частицы оказывается не-
редко решающим в характере бунинской оценки самых
разных литературных явлений. «Определения <...> гроша
настоящего не стоят», — с горечью записывает Бунин в
1940 году, разочарованно перечитав трактат Л. Толстого
«Что такое искусство?» [УБ; 3, 40]. Этим же продиктована и
язвительная оценка, данная им Леониду Андрееву («прият-
но было говорить с ним, когда он переставал мудрство-
вать...» [УБ; 2, 15]), и упреки в «литературщине», направ-
ленные в адрес модернистов. Примечательно высказывание
Бунина о Вяч. Иванове, который, кстати, стал одним из
°Нень немногих художников-модернистов, «удостоивших-
31
ся», хотя и не однозначной, но все же позитивной в цел
оценки со стороны Бунина (о возможных причинах так
отношения именно к Вяч. Иванову речь еще пойдет ния
«Я очень любил некоторые его стихи — у него есть наст
щие и непреходящие, — признает Бунин. — Вот только <
“Диониса” не приемлю. Эта религия страдающего Бога
какая-то салонная схоластика. Он (“Дионис”. — И.Н.) i
силу Мережковскому, но не мне...» (Проблемы реализ:
1980. С. 167). В своих оценках Бунин отвергает все то, ч
могло бы хотя бы в минимальной степени нести в себе до;
умозрительности, теоретизма, а, значит, оторванности
ритмов «живой жизни». Чрезвычайно тонко это ощутил е
Г. Адамович, заметивший, что «Бунин не допускает ни
ких бесконтрольных метафизических взлетов, не верит
них, он ценит только то, что <...> проверено землей и зе
ными стихиями...» (Проблемы реализма, 1979. С. 165).
Таким образом, источником творчества становится
Бунина не «идея», которая остается далекой от столь важ
ной для него остроты ощущения индивидуальности кажд^
го мига бытия, но повышенное «чувство жизни», доста
гаемое слиянностью глубочайших пластов субъективност
человеческого «я» и манящей прелести объективного мира
Это «чувство жизни», о бесконечных проявлениях которо-
го Бунин столько писал, и составляет один из краеугоЛБ
ных камней его художнического кредо. В интуиции об ив
дивидуальности законов прекрасного Бунин вновь сближа-
ется с Пастернаком — автором «Доктора Живаго», вкл?
дывающим в уста своего героя поразительные слова <
«сердце, которое не знает общих случаев».
В «Жизни Арсеньева» важнейшим качеством русской
литературы Бунин называет именно ее «изумительную
изобразительность, словесную чувственность» [6; 84]
подчеркивая тем самым внимание к плоти бытия как р&
довое начало творчества. И если символистами приобШе'
ние к глубинам бытия, к сверхреальности считалось воЗ'
32
>10жным, по выражению исследователя, «помимо чувствен-
ного опыта» {Смирнов, 1977. С. 31), то для Бунина именно
«вещественность», восприятие чувственной стороны мира и
делает творчество хотя бы отдаленно родственным акту
Божественного творения: «Я творил <...> с такой же веще-
ственностью, как может творить только Бог...» [5; 145-146].
Взгляды Бунина на основу творческого акта сближа-
ются отчасти с представлениями о смысле искусства, ак-
туализирующимися в постсимволизме {Тюпа, 1998). Близ-
кими бунинским оказываются интуиции Пастернака о
творчестве в стихотворениях «Весна» (1914), где поэзия
уподобляется «греческой губке», впитывающей в себя бо-
гатство созерцаемого мира, и особенно в стихотворении
«Давай ронять слова...» (1919), где прослеживается поле-
мичность по отношению к символистской абсолютизации
«запредельного»:
Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна...
{Пастернак, 1989. Т. 1. С. 168).
Как и для Пастернака, для Бунина «подробность» жиз-
ни и есть торжество уникальности и свидетельство рацио-
нальной непостижимости бытия.
Близкими бунинским признаниям о происхождении
его произведений становятся и размышления Ахматовой о
творчестве в цикле «Тайны ремесла». В стихотворении
«Мне ни к чему одические рати...» возникает ощущение
микродеталей земного мира как главного субстрата твор-
чества: «Когда бы вы знали, из какого сора // Растут стихи,
не ведая стыда...» {Ахматова, 1977. С. 364).
О силе изобразительности как о неотъемлемой основе
творчества Бунин, полемизируя с Г. Адамовичем, говорит
2 Зак. 5821 33
в статье «На поучение молодым писателям» (1928). ХарЯ
терно, что немногим ранее, отвечая на анкету о ПушкиЯ
он связывает свое «желание написать что-нибудь Л
пушкински» именно с остротой чувствования земнаЛ
«...чувствую бесконечное счастье от принадлежности всЛ
моего существа к этому летнему деревенскому дню, к эЛ
му саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дед
и всех их далеких дней, пушкинских дней...» {Бунин, 19
Т. 2. С. 494). Понимание осязательности, вещественное
воссоздаваемого искусством мира как критерия подлиш
сти творчества определяет и бунинскую оценку художее
венной манеры Достоевского и Толстого: «...Поехал 1
Достоевский в Альпы и стал бы о них рассказывать. Ра
сказал бы хорошо, а Толстой дал бы какую-нибудь чер»
одну, другую — и Альпы выросли бы перед глазами...» [У|
2, 125]. f
Итак, силу суггестии искусства Бунин связывает не?,(
привнесенными «идеями», как это зачастую понимаА
символисты, но со способностью писателя заразить чувст
вом «живой жизни» душу читателя — словом, со всем тем
чем исконно была наделена, по Бунину, русская классиче
ская литература, последним представителем которой oi
себя ощущал.
Однако принципиально важно и то, что вся систем^
эстетических взглядов Бунина являет, пожалуй, уникалъ
ный в Серебряном веке синтез повышенного чувства сти
хии жизни и не менее значительной убежденности в необ
ходимости трезвенного отношения художника к искусств
и действительности. В.Н. Муромцева-Бунина воспроизво
дит важнейшее в этой связи высказывание писателя, отно
сящееся к 1930 году: «Настоящий поэт должен быть умен.
Поэт должен осознавать мир, вспомним Пушкина, Лер
монтова, Тютчева, Фета...» [УБ; 2, 223]. Вспомним и те ка
чества, недостаток которых в современной литературе Бу
нин с горечью отмечал еще в 1913 году: «Исчезли драге
34
ценнейшие черты русской литературы: глубина, серьез-
ность, простота, непосредственность...» (Бунин, 1996. Т.
2. С. 486), — иными словами, то трезвение в отношении к
миру, которое в высшей степени было присуще художниче-
ской натуре самого Бунина. Симптоматично, что черты по-
добного понимания действительности писатель ценил и вы-
делял даже у нелюбимого им Блока: так, после прочтения
дневников Блока Бунин высказал следующую мысль: «Нет,
он был не чета другим. Он многое понимал. И начало в нем
было здоровое...» (цит. по: Кузнецова, 1967. С. 138).
В этой связи становится понятнее ключевое высказы-
вание Бунина о себе как о художнике аполлонического ти-
па: «...Терпеть не могу ничего противоестественного. Во
мне только аполлоновское начало...» [УБ; 2, 55-56]. Ху-
дожническая индивидуальность писателя и впрямь соеди-
няет экстатически-напряженное отношение к стихии жиз-
ни и не менее напряженное усилие мысли, неизменно при-
сутствующее в осмыслении Буниным значительнейших
тем его творчества.
* * *
Квинтэссенцией раздумий Бунина об искусстве стано-
вится рассказ 1925 г. «Ночь»: «Что это за разряд, что это за
люди?» — в недоумении останавливается писатель перед
тайной того, что есть творческая личность. Бунин прозре-
вает два переплетенных между собой начала, которые со-
ставляют ядро натуры художника. Первое из них — повы-
шенная острота восприятия чувственного мира. Второе пи-
сатель называет «способностью особенно сильно чувство-
вать не только свое время, но и чужое, прошлое <...>, осо-
бенно живой и особенно образной (чувственной) Памя-
тью...» [5; 302].
Опора на Память в ее онтологическом смысле становит-
Ся ключевой в бунинском понимании сути творчества.
Именно в пространстве Памяти он видит синтез «огромной
35
подсознательности», то есть чувствительности художнике
стихии жизни, и «огромной сознательности», связанной, Д
мы отмечали выше, с тем аполлоническим началом, котоД
было одним из доминирующих в бунинской интуиции о тм
творческой личности, ему в наибольшей степени близком.
Мысль Бунина о «претворении чужого в себе», npoi
ходящем в творчестве и опирающемся на Прапамять, а
рождает ощущение одновременности переживания вре»
ни в искусстве («Моя душа расширилась: я чувствую, ч
могу творить» [УБ; 3, 70] — цитирует он в 1940 году ело ,
Пушкина, произнесенные им незадолго до смерти).
Подобное переживание времени оказывается зная
мым и в творческом сознании Серебряного века. По зал
чанию И.Ю. Искржицкой, символизм осознавал себя к i
«контрапункт различных мысле-образов минувших эпс :
выступающих — здесь и теперь — в сопонимании, диал
ге...» (Искржицкая, 1997. С. 129). На это, в частности, с н
ращала внимание 3. Гиппиус в своих размышлениях об ф
кусстве: «В искусстве мы не только связываем концы на
тей, едва минувшее с едва наступающим, но мы как &
сразу смотрим на весь путь, хотим иметь его весь, в нераз
рывности...» (Гиппиус, 1904. С. 259-260). Позднее об это» {
будет говорить и Б. Пастернак в «Нескольких положена
ях» (1918, 1922), называя искусство «свежей и стремитель
ной повсеместностью и повсевременностью...» (Пастер
нак, 1989. Т. 4. С. 368).
Важной в творческом сознании Серебряного века бьиг
и интуиция о Памяти как о субстрате творчества, весь
ма созвучная эстетическому кредо Бунина. Прежде всеп
следует выделить здесь таких художников, как Вяч. Ива
нов и М. Волошин.
Называя поэта «органом мировой души», родовьв
свойством его Вяч. Иванов считает «сознание живой пре
емственности и внутренней связи с прошлыми поколения
ми» (Иванов, 1994. С. 188). Более того, суггестивную сил?
36
искусства Иванов сопрягает именно с воспоминанием по-
эзии о том времени, когда она выступала как «посредст-
вующая между миром Божественных сущностей и челове-
ком {Иванов, 1994. С. 185).
О том, что «Память — Мнемосина является как бы
старшей из муз, память — родоначальница всех искусств»
(Волошин, 1988. С. 99), напоминает и М. Волошин в статье
«Аполлон и мышь» (1911), видя в Памяти глубинное раз-
решение антиномии мгновенного в его изменчивости и
вечного. Примечателен в этой связи тот факт, что именно
Вяч. Иванова и М. Волошина Бунин особенно выделял, в
целом одобрительно отзываясь об их творчестве, что было,
как известно, крайне редко в оценках писателем литерату-
ры Серебряного века (см.: Проблемы реализма, 1980. С.
166-167). Возможно, что не последнюю роль сыграла здесь
именно ориентация на Память как на важнейшую опору
творчества, свойственная эстетике и Волошина, и Вяч.
Иванова.
И все же доминирующим в литературном и культур-
ном сознании модернизма был прямо противоположный
бунинскому футурологический вектор в осмыслении ис-
кусства, его внутренних опор и предназначения.
Одним из первых о подобной направленности в трак-
товке искусства заговорил В. Соловьев. В статье «Общий
смысл искусства» (1890) он определил суть художественно-
го произведения как «всякое ощутительное изображение
какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его
окончательного состояния, или в свете будущего мира...»
{Соловьев, 1994. С. 246). Взгляд на искусство как на вопло-
щение будущего состояния мира был характерен для не од-
ного поколения модернистов — от «старших» символистов
До футуристов, для которых идея будущего стала в бук-
Нальном смысле заглавной. Почти вслед за Соловьевым о
т°м, что «только грядущее область поэта», заявляет В. Брю-
сов в 1896 году в программном стихотворении «Юному по-
эту». Сходное понимание искусства сохранится в целом f
младосимволистов, пришедших на литературную арену
начале 1900-х и исполненных предчувствий «новых зор!
«Современное искусство обращено к будущему <.„>, к
подслушиваем в себе трепет нового человека <...> Худо;
ник — проповедник будущего», — настаивает А. Бел!
(Белый, 1994 (I). С. 222, 225). О глубинном драматизме ц
добной футурологической ориентированности мысли нач
ла века с тревогой писал А. Блок в статье «О театре» (1901
«Та действительно великая, действительно мучительш
действительно (выделено Блоком. — И.Н.) переходная эп
ха, в которую мы живем, лишает нас всех очарований, и к
всех перекрестках подстерегает нас какая-то густая мгй
какое-то далекое багровое зарево событий, которых мы в*
страстно ждем, которых боимся, на которые надеемся.
(Блок, 1960-1963. Т. 5. С. 257). Ценность и сила подобно^
понимания искусства сопряжены с его неотделимостью ф
глубинного проникновения в самые ритмы эпохи, чреватой
историческими потрясениями. Но вместе с тем справедливс
и другое. Правы те исследователи, которые связывают по
добную абсолютизацию категории будущего в подходе f
искусству с преобладанием утопического сознания в куль
туре начала века. По мысли В.Е. Хализева, этот утопи»
являет собой «небрежение ценностями наличного бытия)
(Хализев, 1995. С. 12) — что и стало, по существу, одним к
мощных водоразделов между эстетическими взглядами Бу
нина и художественными исканиями эпохи. В.В. Зеньков
ский связывает произошедший футурологический «крен» ‘
рядом важных черт национального сознания: «Дух утопиз
ма веет вообще над русской мыслью, — это и есть свиде
тельство столь же радикальной обращенности ее к “послед
ним” целям истории, сколько и неумения связать с живо*
исторической реальностью (без насилия над нею) эти Не
ли...» (Зеньковский, 1991. С. 150). С этой точки зрения, раз
мышления Бунина о русской душе, о ее нередкой одержи
38
мОсти «последними» вопросами на фоне пренебрежения
настоящим являют своего рода ответ писателя на футуроло-
гическую устремленность модернизма: вспомним звучащую
в «Деревне» историю о стряпухе, износившей платок наиз-
нанку в ожидании грядущего «праздника»; одного из героев
повести «Веселый двор», озабоченного прежде всего тем,
станет ли возможной нетленность тела после смерти...
В отличие от подавляющего большинства модернистов
подобная абсолютизация ощущения будущего в искусстве
была глубоко чужда эстетическим взглядам Бунина. «У
здорового человека, — убежден писатель, — не может
быть недовольства собой, жизнью, заглядывания в буду-
щее...» (см.: Кузнецова, 1967. С. 77). «Заглядывание в бу-
дущее» не способно служить, по Бунину, надежным ис-
точником творчества, ибо при этом вторичной оказывается
ценность зримого, осязаемого мира в настоящем.
Подлинным материалом творчества может быть, с
точки зрения Бунина, лишь «отжившее, прошлое», ин-
туитивно осознанное и преображенное силой Памяти'.
«Недавнее еще недостойно памяти — еще не преображе-
но, не облечено в некую легендарную поэзию. Потому-то
и для творчества потребно отжившее, прошлое...» (Бунин,
1991. С. 121). Именно в преображающей силе памяти ис-
кусства писатель находил мощную опору в борьбе с не-
умолимо уходящим временем. С осмыслением сущности
искусства сопряжен один из самых ярких бунинских об-
разов-символов — «розы Иерихона», которая своими ма-
гическими свойствами оказывается сродни завораживаю-
щей силе творческого акта, способного усилием Памяти
воскресить «отжившее» в первозданной свежести «чувст-
ва жизни», приобщиться к единой душе всего сущего:
Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве'.
Нет в мире разных душ и времени в нем нет! [1; 401].
39
В этом образе «древнего детства» явлено соединен
двух важнейших, в понимании Бунина, составляющих и
кусства: повышенной остроты восприятия чувственно
мира, родственной детскому взгляду, и укорененности
глубинных пластах личной и родовой Памяти.
* * *
Проблема соотношения искусства и жизни, с особ<
остротой заявившая о себе в Серебряном веке, весьма с
щественна для понимания степени отталкивания и прит
жения эстетического кредо Бунина и общих тенденщ
эпохи. J
Определяя сущность художественных исканий симво-
листов в их стремлении нащупать новые точки соприкос-
новения жизни и искусства, В. Ходасевич писал: «Симво-
лизм не хотел быть только художественной школой, лите-
ратурным течением. Все время он порывался быть жиз-
ненно-творческим методом, и в этом была его глубочай-
шая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянно»!
стремлении к этой правде прошла, в сущности, вся его ис-
тория. Это был ряд попыток, порой истинно героических
— найти сплав жизни и творчества, своего рода философ-
ский камень творчества...» (Ходасевич, 1991. С. 269-270).
Именно тягой к отысканию «философского камн>
творчества» было обусловлено появление столь притя-
гательной, особенно для младосимволистов, теургической
идеи, представления об искусстве как «второй действи-
тельности», о жизни как части искусства, организуемой пс
его законам. О взаимном уподоблении искусства и жизни
как цели художественных поисков эпохи писал А. Белый f
1908 году: «Художник должен стать собственной формой
его природное “я” должно слиться с творчеством; егс
жизнь должна стать художественной...» (Белый, 1994 (И)
С. 338). Подобный взгляд ведет к признанию вторичносП
жизни по отношению к реальности искусства. Белый в ста
40
тье «Театр и современная драма» (1908) прямо писал об
эТОм: «Жизнь есть одна из категорий творчества. Жизнь
радо подчинить творчеству, творчески ее пересоздать там,
Где она резкими углами врывается в нашу свободу...» (Бе-
чый, 1994 (II). С. 154). Мысль об изначальном превосход-
стве реальности творчества над плотью бытия высказывает
и Вяч. Иванов: в «Заветах символизма» (1910) он видит в
творчестве «живую связь соответственно соподчиненных
символов, из коих художник ткет драгоценное покрывало
Душе Мира, как бы творя природу, более духовную и про-
зрачную, чем многоцветный пеплос естества...» (Иванов,
1994. С. 189).
Тенденция к устроению жизни по законам искусства,
видоизменяясь, находит свое отражение и в постсимво-
лизме — в частности, в «жизнестроительстве» футуристов:
«Вразрез с пропитанным стилизациями <...> мистифици-
рованным <...> бытом символистской эпохи, — пишет со-
временный исследователь, — у кубофутуристов быт орга-
низовывался по игровой модели, подразумевавшей афи-
шированное освобождение от правил повседневного эти-
кета...» (Смирнов, 1977. С. 114).
Одним из следствий подобного видения искусства ста-
новится важнейший для поэтики модернизма мотив «мир
— книга», связанный с подспудной убежденностью в том,
что вся бесконечность мира интегрирована в книге, в ре-
альности творчества. М.Н. Дарвин приводит целый ряд
примеров, позволяющих увидеть значимость этого мотива
не только в символизме (Блок, к примеру, называл свои
книги лирики «Трилогией вочеловечения»), но в некоторой
степени и в постсимволистской традиции (Дарвин, 1998. С.
44-49).
Актуализация данного мотива в творческой практике
Модернизма была далеко не спонтанной. Теоретическая
база его была четко сформулирована, в частности, Ф. Со-
логубом — в таких статьях, как «Искусство наших дней»
—41
(1915), «Поэты — ваятели жизни» (1922), «Речь на диспу]
о современной литературе» (1914). Настаивая на том, m
«искусство идет впереди жизни», осознавая «свое прево
ходство над жизнью и над природою», Сологуб утвержд
ет несовершенство и вторичность чувственно восприщ
маемого мира перед «книгой искусства»: «Нет ничего
жизни, что раньше не было бы в творческой мечте <...:
Темная душа тех, кого мы встречаем, <...> освещается дя
нас светом нетленных образов искусства <...> Мы пера
ними (т.е. перед «нетленными образами». — И.Н.) S-
только бледные тени <...>. Будем всматриваться пристал^
нее в их живую жизнь, и тогда прольются на нашу при*
зрачную, убегающую жизнь лучи их ясного света...» (Са-
логуб, 1991. С. 209, 181, 182). >
* * * '
В спор с подобным взглядом на соотношение искусст-
ва и жизни вступает Бунин в рассказе «Книга» (1924).
Представляется важным отметить, что спор этот имеет в
своей основе реальную проблему несоответствия услож-
нившихся представлений о бытии, о внутренней жизни
души обветшавшим литературным формам — проблема, с
небывалой остротой актуализировавшаяся на рубеже веков
и в равной степени осознаваемая как Буниным, так и мно-
гими модернистами. Однако последние решением ее не-
редко считали утопическую жизнетворческую идею.
Мысль Бунина в «Книге» имеет прямо противоположную
по сравнению с Сологубом направленность. Как и поэт-
символист, Бунин признает то значительное место, которое
с детства занимал литературный мир, «возвышенные спут-
ники <...> земного существования» [5; 179] в его душе.
Однако он, в отличие от автора «Искусства наших дней»,
вовсе не склонен возводить в абсолют реальность искусст-
ва. Оказывается, мир творчества, при всей его силе и при-
тягательности, все же уступает прелести земного бытия-
42
Художественная реальность не в состоянии, по Бунину, не
только подчинить себе бесконечность мира, но и до конца
вобрать в себя его полноту: «То глубокое, чудесное, невы-
разимое, что есть в жизни и во мне самом, и о чем никогда
не пишут как следует в книгах...» [5; 179]. И если модер-
нисты считали искусство совершенным средством позна-
ния мира, то Бунин далек от подобной абсолютизации,
предпочитая путь личной, непосредственной интуиции,
зиждущейся на полноте чувственного восприятия мира,
путь поиска новых средств субъективации изображаемого
— того, «что есть истинно твое и единственно настоящее,
требующее наиболее законно выражения...» [5; 180].
Стремление символистов подчинить жизнь законам искус-
ства неизменно вызывало у Бунина резкое неприятие, иро-
нию над их «редкой одержимостью в смысле любви к ли-
тературе» [9; 278]. С этим связано и едко саркастическое
упоминание о Белом (в «Чистом понедельнике», 1944),
слившем жизнь с искусством: «лекция Андрея Белого, ко-
торый пел ее, бегая и танцуя на эстраде» [7; 240].
Бунинское видение соотношения жизни и искусства
неотделимо от глубинной антиномичности его художест-
венного мышления. «Жил все-таки не затем, чтобы пи-
сать» [9; 365], — признается он, выдвигая на первый план
постижение жизни в ее таинственной простоте и неизмен-
ности. В рассказе «Воды многие» (1925-1926), останавли-
ваясь в удивлении перед чудом Богом данного бытия, ге-
рой выбрасывает книги за борт, ощущая их ограничен-
ность перед «водами многими» «живой жизни», недоуме-
вая, «как смешно преувеличивают люди, принадлежащие к
крохотному литературному мирку, его значение для той
обыденной жизни, которой живет огромный человеческий
'чир, справедливо знающий только Библию, Коран, Веды!»
[5; 327].
Искусство есть, по Бунину, малая частица огромного
мира, способная лишь в отдельные мгновения прозреть и
43
передать его таинственные ритмы. Моменты прозрения i
являют загадку творчества, соединение интуиции худо»
ника и его «душевного труда»: «Теперь у меня было ещ
одно тайное страдание, — признается бунинский Арсещ
ев, — еще одна горькая неосуществимость <...> Образе
вать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойно
писания — какое это редкое счастье — и какой душевны
труд!» [6; 229].
Считая творчество, «писание» «самым странным и
всех человеческих дел» [6; 230], Бунин не раз останавли
вался перед мучительной невозможностью передать сред!
ствами литературы глубинное содержание жизни, склонят
ясь к скептической оценке возможностей искусства: «Две
трети сил своей жизни я убил на этот будто бы необходи-
мый для меня труд...» {Бунин, 1991. С. 119). Главной чер-
той бунинского взгляда на искусство является его антино-
мийность: чувствование творчества то как малой и несо-
вершенной сферы человеческой жизни, то как мощного
средства преображения бытия силой памяти и пережитого
страдания: «Иногда мне кажется, что многое, что я писал,
— совсем не то. И не так. А утром вспоминаю, что я со-
всем недавно написал лучшее во всей моей жизни —
«Темные аллеи» — и чувствую гордость» (цит. по: Одоев*
цева, 1982. С. 366). Писатель неслучайно упоминает здесь
«Темные аллеи». Именно этот сборник и явился для него
подтверждением той великой, Божественной силы искус-
ства, которая способна противостоять самым тяжким поЗ
трясениям современности: «“Декамерон” написан был в($
время чумы. “Темные аллеи” в годы Гитлера и Сталина —
когда они старались пожирать один другого» (цит. ned
Шаховская, 1975. С. 158), — такова надпись, сделанная
автором в 1950 году на издании сборника, предназначав*
шемся 3. Шаховской. i
Итак, в высшей степени многоплановым оказывается
осмысление Буниным тайны отношений искусства и жизЛ
44
ли. С одной стороны, это спор с модернистами, непри-
ягпие абсолютизации роли искусства и его возвышения над
жизнью; мучительные поиски выражения глубинного со-
держания бытия и человеческой души средствами искус-
ства, осознание ограниченности и несовершенства кото-
рых нередко привносило ноты скептического отношения к
возможностям творчества в целом. Вместе с тем — это
интуиция о творчестве как о спасительном прибежище в
борьбе со временем, страхом смерти, трагическими кол-
лизиями эпохи.
* * *
Важнейшей чертой эстетики модернизма становится
понимание искусства как средства радикального пересоз-
дания мира. Видение задачи творчества в «преображении»
мира мы находим уже у В. Соловьева, который в статье
«Общий смысл искусства» (1890) писал о том, что оно
«должно одухотворить, преосуществитъ нашу действи-
тельную жизнь...» (Соловьев, 1994. С. 250). И если у Со-
ловьева речь идет пока об одухотворении действительно-
сти высшими идеями, привносимыми искусством, то позд-
нее некоторые из крупнейших символистов будут напря-
мую сопоставлять творческий акт с революционной пере-
делкой жизни. Симптоматична в этом смысле статья
А. Белого «Революция и культура» (1917).
Исходной позицией статьи Белого является признание
существования «сокровенной связи» революции и искус-
ства. Осознавая революцию как «проявление творческих
сил», автор убежден, что именно «из разрывов встает не-
раскрытое содержание грядущей эпохи в волне символиз-
ма» (Белый, 1994 (II). С. 300, 302). Характерное для модер-
низма неразличение искусства и жизни приводит к тому,
что на первый план выступает здесь «стремление слиться с
внутренним ритмом стихий; пережить их как стих1, речь
художника к голосу революционной стихии есть внутрен-
45
ний стих о прекрасной возлюбленной даме <...>, отноцД)
ние к революции, как к возлюбленной, есть проявлен»
инстинктивной уверенности, что брак ее с творчеством са
стоится...» (Белый, 1994 (II). С. 303). Отметим, что подо®,
ная установка на кардинальное переустройство мира
рактерна и для футуризма, глубинную основу эстетики ко-
торого, как отмечают исследователи (И. Смирнов, Г. Бела^
и другие), составляет недоверие к плоти бытия, к сотво-
ренному миру (показательны строки И. Северянина: «Ис-
чезни, мне все чуждое! Исчезни, город каменный! Исчез®
все, гнетущее! Исчезни вся вселенная! Все краткое! Все
хрупкое! Все мелкое! Все тленное!» — Северянин, 1915. С.
20). Тенденция к деформации, рассечению мира, понимае-
мого как материал искусства, осознавалась самими футу-
ристами: «Мы рассекли объект! Мы стали видеть мир на-
сквозь. Мы научились следить мир с конца...», — уверен
А. Крученых в «Новых путях слова». «Наша поэзия не ста-
вит себя ни в какие отношения к миру, не координируется
с ним <...> Прежде всего поэт связан пластическим родст-
вом словесных выражений», — писал Б. Лившиц в статье
«Освобождение слова» (1913) (Русский футуризм.., 1998.
С. 54, 55). По сути, поэтическое слово мыслится здесь как
«альтернатива» Богом сотворенному миру: «Гласные мы
понимаем как время и пространство <...>, согласные —
краска, звук, запах...», — читаем в «Садке Судей И» (Рус-
ский футуризм.., 1998. С. 42).
Рассказ И.А. Бунина «Безумный художник» (1921), в
центре которого — изображение судьбы творчества, ху-
дожника в пору революционных потрясений, важен не
только как выражение авторской эстетической позиции, но
и как спор с сутью модернистского понимания искусства
Герой рассказа, художник, движим почти теми же чаяния-
ми, что и Белый в «Революции и культуре»: Белый —
46
сТремился предвидеть «чудо рождения жизни из недр ре-
волюции» {Белый, 1994 (II). С. 301), герой бунинского рас-
сказа — охвачен жаждой изобразить Рождество, «Рожде-
ние Нового Человека» [5; 45], произошедшее на фоне над-
вигающейся революции - действие рассказа происходит
24 декабря 1916 года. Однако результатом утопических
надежд соединить искусство с насильственным переуст-
ройством мира оказывается исполненная ужаса картина, на
которой «чудовищно громоздилось то, что покорило его
воображение в полной противоположности его страстным
мечтам. Дикое, черно-синее небо до зенита пылало пожа-
рами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся хра-
мов, дворцов и жилищ...» [5; 50].
В противовес модернистам, нередко видевшим в
творчестве средство пересоздания мира, понимаемого как
материал, объект, Бунин считает искусство несовмес-
тимым с любыми проявлениями распада, деструктивно-
сти в отношении к плоти бытия-, именно поэтому совре-
менную литературную ситуацию в статье «Инония и Ки-
теж» (1925) он видит как время, «когда всяческий распад,
то есть нечто совершенно противоположное искусству —
сцеплению, устроению, — и всяческие “искания” (то есть
как раз то, что не есть искусство и что художник должен
скрывать в своей мастерской) были столь бесстыдно про-
славлены самими же представителями всего этого...» {Бу-
нин, 1997. С. 188). Опасность несовместимого с искусст-
вом распада связывается Буниным и со свойственной Се-
ребряному веку тенденцией к игре, театрализации, мифо-
логизации частной жизни, не отделяемой от искусства
(жизнь Блока, Белого, «башня» Вяч. Иванова и т.д.). Пока-
зательно в этом смысле отношение Бунина к игре, о чем
писала В.Н. Муромцева-Бунина: «Ян вообще ничем не
Может себя забавлять — он даже ни в одну игру не играет,
^о важная черта в его характере. Он может наслаждаться
только подлинной жизнью, и никакая игра ни в какой об-
47
ласти его не занимает...» [УБ, 2; 263]. Игровое начало^
отношении к миру, свойственное культуре Серебряной
века, оказывалось в глазах Бунина чуждым подлинно!
жизни, а потому и подлинному искусству. Его отношение
к миру пребывало в напряженности между нередким от-
чаянием перед быстротечностью земной жизни и неиз-
бывной тягой к приятию подспудной мудрости мирозда-
ния. Оттого и рассуждения об искусстве как о «ступени к
лучшему миру» [6; 117] не могли не вызывать у него
усмешки.
Противовесом энтропии Бунину виделась Память как
субстрат творчества: «Оттого <...> так часто и бывают ис-
тинные поэты <...> хранителями, приверженцами прошло-
го <...> Оттого-то <...> священны для них традиции и отто-
го-то они и враги насильственных ломок священно расту-
щего древа жизни...», — писал он в статье «Инония и Ки-
теж» {Бунин, 1997. С. 195-196). Сходное неприятие любык
деформаций наличного мира в искусстве звучит и из у&
Бернара, героя одноименного рассказа 1952 года, убеж-
денного, «что все в этом непостижимом для нас мире не-
пременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое
Божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом
мире “было хорошо”...» [7; 347]. Чрезвычайно близка бу-
нинской точка зрения на отношение искусства к чувст-
венной стороне бытия, которую высказывает Юрий Жи-
ваго, герой романа Пастернака, прошедшего в свое время
через увлечение футуризмом. В разговоре с ЛивериеМ
Аверкиевичем о возможности революционной «передел"-
ки» жизни посредством «идеи общего совершенствова-
ния» Живаго убежден в том, что «.материалом, вещест-
вом жизнь никогда не бывает. Она сама <...> непрерывно
себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало,
она сама вечно себя переделывает и претворяет, она саМ&
куда выше наших <...> тупоумных теорий...» {Пастер?
нак, 2000. С. 283).
48
Отказ Бунина видеть в искусстве средство пересозда-
ния мира находит неожиданные параллели в культурной
парадигме Востока, чуждой, как известно, западному ак-
тивизму. Как отмечает Т.П. Григорьева, «для японцев са-
м0 слово “искусство” воспринималось как нечто сотво-
ренное, а сотворенность противоречит Дао. Художник
лишь улавливает ритм вещей...» (Григорьева, 1979. С.
21D-
Что касается проблемы преодоления барьера между
формой и содержанием, жизнью и «литературой», то ост-
рое осознание ее сближало Бунина с художниками-
модернистами. Бунин не раз писал о неудовлетворенности
окостеневшими литературными формами и их несоответ-
ствии содержанию «живой жизни». По сути, над этим же
размышлял и Белый, считавший «главным заданием в на-
писании — чтобы звук, краска, образ, сюжет, тенденция
сюжета проницали друг друга до полной имманентности,
чтобы звук и краска вскричали смыслом, чтобы тенденция
была звучна и красочна» (Как мы пишем, 1930. С. 20).
Стремлением слить форму и содержание были продикто-
ваны и многие искания футуристов. Но если модернисты
шли к достижению этого прорыва через увлечение жизне-
творческими, жизнестроительными идеями, через экспе-
риментирование с чистой формой, то Бунин, особенно в
своей лиризованной прозе, приходит к устранению «лите-
ратурности», рационализирующей сюжетности в передаче
Движения жизни, к сплаву объекта и его субъективного
восприятия, на практике утверждая то единство творящего
И воспринимающего, о котором мечтал когда-то Вяч. Ива-
нов («Мысли о символизме», 1912). И в этом смысле в
высшей степени справедливы слова В. Ходасевича: «Враг
символизма Бунин осуществил самое лучшее, что было в
творческой идеологии символизма — его творческую меч-
ту, которая не всегда находила воплощение даже в поэзии
символизма...» (цит. по: Мальцев, 1994. С. 137).
49
Одним из прямых следствий общеэстетических попе,
ков как Бунина, так и модернистов, стала трансформации
сферы художественной образности.
§ 2. Поэтика художественного образа
Обновление принципов художественной образное^
составляет важнейшую сторону литературного движете
эпохи Серебряного века. Типологические схождения Б|.
нина с модернизмом именно на уровне поэтики художеф
венного образа не раз обращали на себя внимание критЙ-
ков уже начала века. Так, к примеру, В. Львов-Рогачевски
в статье с характерным названием «Символисты и наслед-
ники их» (1913) отмечает в произведениях Бунина «зач»
ки нового реализма, который использует огромную рабо®
поэтов-символистов», особенно выделяя то, что, с одйи
стороны — бунинский образ предметен, «живописует»,®
другой — «настраивает и открывает просветы в даль.»
(Львов-Рогачевский, 1913. С. 307). 1
Интенция соединить предметное, вещественна
конкретное с космически-бесконечным оказывается одной йз
фундаментальных в эстетике символизма. А. Белый в стат»
«Символизм как миропонимание» (1903) говорит о необхо-
димости синтеза «вечного с его пространственными и вре-
менными проявлениями» (Белый, 1994 (П). С. 246). Подоб-
ное устремление определяло важнейшие грани символист-
ского образа, выступающего как многозначное единство,
«неисчерпаемое и беспредельное в своем значении» (Ива-
нов, 1909. С. 39), — единство явленного и несказанного,
встреча предметного с бесконечным. Ощущение тайны,
рациональной непостижимости бытия, свойственное всей
поэтической культуре рубежа веков и сближающее Бунина
с модернизмом, оказало решающее воздействие на пластй'
ку художественного образа.
50
Разрабатывая концепцию символа, Вяч. Иванов опре-
делял его как «тело тайны», что чрезвычайно близко и бу-
нинскому образу. Главным качеством «реалистического
символизма» Вяч. Иванов видит «верность вещам», «про-
зрение на плоть, проникновение в тайну плоти», созвучие
видимых явлений и сущности, «realia» и «realiora» {Ива-
нов, 1994. С. 144, 167). Делая акцент на экстенсивности об-
раза, Вяч. Иванов убежден в том, что «истинный симво-
лизм не отрывается от земли: он хочет сочетать корни и
звезды и вырастает звездным цветком из близких, родимых
корней...» {Иванов, 1994. С. 196).
Подобные представления о художественном образе-
символе находят отражение в поэзии русского символизма.
На соединении микроэлементов земного мира и масштабов
бесконечности нередко построены образы в поэзии
Бальмонта:
Реснички хищных инфузорий,
Проворных жгутиков игра
Мне говорят о звездном хоре...
(«Водоворот», 1915) {Бальмонт, 1969, С. 399).
Синтез вещественно-конкретного и «звездного» коло-
рита оказывается важнейшей гранью и поэтики А. Блока,
на что в свое время обратила внимание З.Г. Минц, анали-
зируя блоковский символ {Минц, 1981). Этот принцип об-
разности характерен и для поэзии А. Белого:
Алмазом полуночным вечность
Свой темный бархат изоткет...
(«Вольный ток», 1907) {Белый, 1994 (IV). С. 255).
Значимость образов бесконечности трансформирует и
Сл°весную ткань символистской поэзии, расширяя сферу
Употребления отвлеченных слов, актуализируя заложенные в
51
них семантические ресурсы (см.: Кожевникова, 1986). Щ
пример, в центре ряда стихотворений А. Белого оказывают^
образы Вечности, Души Мира и т.п.
Изображение мировых начал, первооснов бытия зав|.
мает существенное место и в произведениях Бунина. В »
ранней поэзии — это образ «жизни мировой» (стих. «№
гда на темный город сходит...», 1895 — 1; 96), напоЛ.
нающий некоторые стихотворения Блока и Белого; дуД
(стих. «Небо», 1903-1905); на соединении конкретз
вещественного и вселенского построено стихотворен
«Звезда дрожит среди вселенной»(1917).
«Звездный» колорит оказывается существенным ка’
ством образности и бунинской прозы. Мотивы бескои
ности звучат уже в самых ранних рассказах писан
(«Танька», «Кастрюк», 1892 и др.). Как и в произведет
символистов, через рассказы и повести Бунина проход 1
целый ряд устойчивых символов: это и образы первонаф
жизни (океан, ночь, корабль, море, Атлантида), и единив-
ные образы-символы, раскрывающиеся в контексте данф
го произведения: «темные аллеи», за которыми — интуи-
ция о неисповедимости жизненных путей; «туман», «цйф-
ры» — как символы таинственной бездонности бытйя
«антоновские яблоки», становящиеся воплощением узсо-
дящего в прошлое уклада жизни; «Роза Иерихона», симво-
лизирующая сосуд памяти и т.д.
В бунинском образе обнаруживается слиянность пре-
дельно явленного и таинственного. Так, в лирийо-
философском рассказе «Ночь» (1925) мотив бесконечности
неотделим от динамики чувственных впечатлений, переда-
ча которых построена на синтезе разноплановых воспри-
ятий. Подобное переплетение разноприродных чувствен-
ных впечатлений в пределах одного образа (синестезий
оказывается одним из существенных принципов бунин-
ской образности: («хрустальное журчание» — 5; 297), «И^
л осы остро серебрятся» [7; ПО], «тускнел воздух» [7; 15Й
52
^еЛь1Й шелковый блеск березовых стволов» [7; 161], «ру-
пахла загаром» [5; 238], «древний звук» [7; 249] и т.д.
Идущая еще от поэзии романтизма, синестезия была
^ово открыта в художественной культуре Серебряного
века, что связано прежде всего с поэтической практикой
символистов. Сближение разных по происхождению вос-
приятий (запаха и цвета, цвета и звука, звука и пережива-
ния времени и т.д.) призваны не только детализировать
полноту чувственного ощущения окружающего мира, но и
прозреть тайные связи между явлениями. В статье «Магия
слов» (1909) А. Белый говорит о происходящем в современ-
ной поэзии переходе форм изобразительности друг в друга:
«...Это стремление расширить словесное представление
данного образа, сделать границы его неустойчивыми...» (Бе-
лый, 1994 (II). С. 138). Одним из ярких проявлений «расши-
рения словесного представления» и оказывается синестезия
как ключевое качество образности: «серебряный звон»,
«аромат солнца», «звон минут» (К. Бальмонт), «ярко-
певучие стихи» (В. Брюсов), «холод бледных звезд», «про-
лился звонко-синий час» (А. Блок) и т.д. Актуализация си-
нестезии значима и для последующих поколений поэтов
Серебряного века: велика роль подобных образов в поэзии
А. Ахматовой («шорохи зеленые», «запах теплый», «весна
W трель серебряного смеха»), Б. Пастернака («где воздух
синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы»,
«и лед голов синел бездонней тепла нагретых пропастей»),
А.Н. Веселовский, который в «Исторической поэтике»
одним из первых проанализировал синестезию как худо-
жественное явление, писал о том, что она актуализирует в
°бразе «смежные, бессознательно переплетающиеся впе-
чатления» (Веселовский, 1989. С. 73). Для культуры рубежа
еков с ее высоким интересом к бессознательным сторо-
нам человеческой психики именно такое качество художе-
^ненного образа было в наибольшей степени созвучным,
близость Бунина к модернистским принципам образно-
53
сти обусловлена теми общими задачами художественна
обновления, которые стояли перед литературой.
Но вместе с тем по своей внутренней наполненности
внешней фактуре бунинский образ существенно отличав
ся от символистского. Размышляя о месте Бунина в pj
ской литературе, П.М. Бицилли писал о том, что «Бую
создает свой метод, который оказался прямой противод
ложностью методу символистов. Последние шли от слов
вещам. Бунин шел от вещей к словам...» (Бицилли, 1995. (
52). В самом деле, вещный, предметный план оказываете
первостепенно значимым в структуре бунинского образ;
который в этом смысле противоположен символистскому
Сущность отношения символистов к плоти бытия был
отчетливо выражена В. Соловьевым, который в стай
«Красота в природе» (1889) писал о зависимости красок
природного, материального мира от степени его «просвет
ленности» высшим идеальным началом, о «преображеф
материи через воплощение в ней другого, сверхматериф.
ного начала» (Соловьев, 1994. С. 205). Устремление»
сквозь земное к миру «высших сущностей» станов»
важнейшим качеством символистского образа. ПокЖ
тельно, к примеру, стихотворение А. Белого «Ожиданж
(1901). Предметный план здесь присутствует (лес, алф
багряный клен), однако в образной системе стихотворе»
он занимает промежуточное место на пути к обретен»
«невозвратной мечты» и «близости священных дней»: <
Багряный клен, кивая вдаль, <
С тоской отсюда рвется прочь... *
(Белый, 1994 (IV). С. 95). |
I
В этой связи характерен и смысл образа «прозрачное!#'
давшего название сборнику Вяч. Иванова 1904 г. На ЭЯ01
смысл обратил внимание С. Аверинцев: «В «Прозрачное#'
облачко существует для того, чтобы сквозь него просвечйг
54
речные звезды <...> Это и подразумевается словом «про-
зрачность». Взгляд должен пройти сквозь текучее и увидеть
пребывающее...» (цит. по: Иванов, 1976. С. 43).
Характеризуя принципы образности поэзии начала ве-
ка< исследователи справедливо обращают внимание на
значимую в ней тенденцию к метафоризации мира, осно-
вную на постоянных поисках аналогий, «соответствий»
земного бытия и мира «высших сущностей». Чрезвычайно
ценны в этом отношении наблюдения В.М. Жирмунского
над блоковским образом в статье «Поэтика Блока». Земная
действительность в стихах Блока нередко оказывается
предметом «метафорического преображения», а подчас и
вытесняется новой метафорической реальностью. К при-
меру, в стихотворении «Я пригвожден к трактирной стой-
ке» (1908) развернутая метафора (счастье, летящее на
тройке) заполняет все поэтическое пространство {Жирмун-
ский, 1977. С. 233).
В противовес символистскому, бунинское художест-
венное мышление отличается менее напряженной мета-
форичностью, что связано с иными, по сравнению с сим-
волистами, путями образного постижения действительно-
сти. О.В. Сливицкая (1994) связывает это с высокой ценно-
стью единичного, конкретно-вещественного в образном
мире Бунина. Н.А. Кожевникова же (1987) отмечает пре-
обладание у Бунина сравнений, основанных на зрительном
сходстве. Блок в статье «О лирике» (1907) неслучайно оха-
рактеризовал бунинский мир как «мир зрительных и слу-
ховых впечатлений и связанных с ним переживаний»
^ок, 1960-1963. Т. 5. С. 141).
В отличие от поэтики символистов, образ у Бунина,
пРи всей его «модерности», обращен прежде всего не к
х,иРУ «высших сущностей», но к открытию новых «сцеп-
^ний», нового измерения в чувственно воспринимаемом
*иРе, не перестающем поражать своей конечной непо-
С,пижимостью.
В раннем рассказе «Перевал» (1892-1898) соединен
как символическая обобщенность изображаемого, которо
представлено в надвременном ракурсе и заключает
штаб целой жизни («горести, страдания, болезни, измвЬ
любимых <...>, подъемы к новому счастью» — 2; 9), та j
предельная конкретность, богатство цветовых и звуко! 5
восприятий мира, данного «здесь и сейчас» («темнею! s
долина», «нелюдимый гул сосен», «гудящие в тумане с f
ды горного бора» и т.д.). Синтез бесконечного и конкр t.
но-вещественного происходит и в «Антоновских яблок >
(1900), где в пределах одного образа соединяются чувст f
вание «темно-синей глубины, переполненной созвезд ।
ми», созерцание «звездного неба» и вместе с тем — it
петное и неизбирательное проникновение в тайну пл i
бытия («запах дегтя в свежем воздухе», «запах яблок <jb
старой мебели красного дерева, сушеного липового цвеф
— 2; 185), служащее залогом связи героя с прошлни
«Звездный» колорит таких бунинских рассказов, ж
«Ночь» (1925), «Зойка и Валерия» (1940), «Полуночи
зарница» (1921) и др., напоминает те качества образное
символистов, без которых непредставима художествен^
культура XX столетия. Однако масштаб бесконечност)
Бунина не уводит от земного бытия, но открывает в М»
его онтологическую прелесть. В «Полуночной зарниж!
чувство единения со Всеобщим побуждает героя осу
ощутить свою причастность и к тайне явленной, земф®
плоти бытия: «И я обнимаю и целую сильную атлас»
шею своей бессловесной возлюбленной, чтобы слышать?#
грубый запах, чтобы чувствовать земную плоть, noTfljf
что без нее, без этой плоти, мне слишком жутко в этом Й8'
ре, и натягиваю поводья, и лошадь тотчас же отвечает
всем своим существом — и легко, горячо несет меня®5
темной дороге к дому...» [5; 76].
Бунинские образы-символы не поддаются внешяй
интеллектуальной расшифровке, как это порой бывало 5
56
поэзии символистов (взять, к примеру, некоторые образы
д Белого), но неотделимы от целостного восприятия кон-
[фетно-вещественного и бесконечного, предельно явлен-
ного и предельно сокровенного. Потребность в подобном
синтезе оказывается ключевой и в позднейшем литератур-
ном опыте: в 1923 году Е. Замятин в статье «Новая русская
проза» отмечал идущий от Серебряного века вектор лите-
ратурного развития, связанный с интенцией соединить
«одновременно и микроскоп реализма, и телескопические,
уводящие к бесконечностям, стекла символизма...» (Заия-
тин, 1988. С. 433). В свете этого рассматриваемые качест-
ва бунинской образности соотносимы не только с модер-
нистскими принципами, но и с общими тенденциями ху-
дожественного обновления в XX веке.
Зоркость к чувственно воспринимаемой стороне бы-
тия, помноженная на «телескопические стекла» символиз-
ма, сближает Бунина с принципами образности, генери-
руемыми в постсимволизме и, в частности, в «неотради-
ционализме» (В.И. Тюпа) как его важнейшей составляю-
щей. Это и «вещность» в художественном мире А. Ахма-
товой, и идея «одомашнивания» мирового пространства,
значимая для О. Мандельштама, и эстетические взгляды
Б. Пастернака, писавшего в «Нескольких положениях»
(1919. 1922) об искусстве как о «губке», которая впитывает
богатство зримого мира, и уподоблявшего искусство «ор-
ганам восприятия» (Пастернак, 1989. Т. 4. С. 367).
В-И. Тюпа отмечает происходящую в неотрадиционализме
«реонтологизацию картины мира, где прекрасное оказыва-
йся знаком истины» (Тюпа, 1998. С. 24). Для Бунина пре-
лесть вещественного в самом деле становится знаком ис-
^ны, непреложной мудрости мироздания, что восприни-
мается им как неизмеримо более ценное, нежели соловьев-
С1с°е «сверхматериальное» преображающее начало. И в
•^ом Бунин близок Пастернаку, полагавшему, что «живой,
действительный мир — это единственный, однажды удав-
57
шийся и все еще без конца удачный замысел воображен^
{Пастернак, 1989. Т. 4. С. 369). Неслучайно, что в густ(
«вещности» некоторых бунинских стихотворений (см., ц
пример, стих. «В гостиную, сквозь сад и пыльные гард
ны...», 1905) предугадываются черты акмеистической
разности. Соединение явленного, вещественно-конкретна i
с сокровенным в художественном целом бунинского 4k'
раза позволяет обозначить точки притяжения и omntfa
кивания Бунина не только относительно символизма ip,
начала модернизма, но и более поздних течений внутр
модернизма. %
Наряду со стремлением к синтезу явленного и беф-
нечного в структуре художественного образа, важнейж
чертой творческого сознания модернизма оказывается п»
осмысление соотношения объективного и субъективнее
начал в образе. ।
Интенция к подобному переосмыслению самой файе-
ры образа прослеживается уже в первых программных #i-
ступлениях русских символистов. Во вступительной ‘За-
метке ко второму выпуску сборника «Русские симвой
сты» (1894) В. Брюсов подчеркивал в образе «вехи невйф-
мого пути, открытого для воображения читателей» (Боо-
сов, 1894. С. 10). Немногим позднее, в статье «Аполога*
символизма» (1896), выдвигая понимание символизма ка*
«поэзии настроения», Брюсов видит в символическом W'
разе путь к полноте осмысления душевных состояний ТВ*
рящего субъекта. О новом соотношении внешнего и субЬ'
ективного мира в образе он ведет речь и в письме^
П.П. Перцову, полагая, что «эволюция новой поэзии ей1
не что иное, как постепенное освобождение субъективИ3'
ма...» (цит. по: Максимов, 1940. С. 258). Развитие этВ-'
взглядов, по сути закладывающих основы всей поэтИ^
модернизма, находим и в статье «Священная жертв8’
58
;j905): Брюсов связывает глубоко проникшую в совре-
менное искусство интуицию о том, что «весь мир во мне»,
с открывающимся путем к символу: «Роковым образом
художник может дать только то, что — в нем» {Брюсов,
1973—1975. Т. 6. С. 97). Типологически близкий подход к
^разному постижению мира отмечает современный фило-
сОф М.К. Мамардашвили, анализируя произведения
Пруста: «Узнать, понять, увидеть можно лишь то, что
есть в душе. А если этого нет, то увидеть и понять нель-
зя-» (Мамардашвили, 1995. С. 82). Это качество образа,
соединяющего в себе полноту восприятия чувственного .ми-
ра и его глубинное переживание, станет важнейшим и в
«феноменологической» прозе И. Бунина (Мальцев, 1994).
Немногим раньше, нежели Брюсов, о сплаве явлений
предметного мира и переживания в едином образе раз-
мышляет В. Соловьев в статье, посвященной разбору сти-
хотворений Фета и Полонского: «В настоящей лирике <...>
душа художника сливается с данным предметом или явле-
нием в одно нераздельное состояние...» (Соловьев, 1912. С.
236).
В 1900-е годы новая концепция художественного об-
раза находит отражение в теории символа, активно разра-
батывающейся прежде всего в статьях А. Белого и Вяч.
Иванова. В таких работах, как «Формы искусства» (1902),
«Символизм как миропонимание» (1903), «Настоящее и
°УДущее русской литературы» (1907), «Символизм» (1908),
«Смысл искусства» (1909), «Эмблематика смысла» (1909),
А- Белый связывает символ с синтетическим путем по-
^жения мира: «Символ есть единство познания в формах
Переживаний» (Белый, 1994 (II). С. 75). Единство, лежащее
в основе символа, понимается Белым как «нераздельность
и неслиянность» «образа видимости» (Белый, 1994 (II). С.
^)» т.е. отражение объективно данного мира, и «образа
ПеРеживания», вбирающего в себя полноту внутреннего
011Ыта. Белый указывает на кардинальное изменение ко-
59
ренных принципов образности, связанное с расширенЛ
горизонтов художественного зрения. Не отрицая реалис
ческого принципа отражения действительности в o6pi t
символизм утверждает необходимость претворения, < ,
сыщения образа переживанием». <
Поиск новых путей осмысления образа связан с с.
ложнением представлений о внутреннем мире личност, (
повышенным вниманием культуры эпохи к бессознатё h
ным глубинам психики. Отсюда возникает настоятель s
потребность соотнесения опыта внутреннего (т.е. «пе
живания») и опыта внешнего («образов видимости»): « |.
димость, — полагает Белый, — не покрывает внутретв J
действительности (мира переживаний...)», из чего след j
вывод о том, что «опыт внешний есть часть опыта в®
реннего в формах пространственно-временных» (Являй.
1994 (II). С. 111). Соотнесенность объективного и глуф-
чайших пластов субъективности оказывается теперь счр-
ностным качеством символа, синтезирующего «образы ф-
димости» и безобразные (т.е. находящиеся на «порой)1
вербальной выраженности. — И.Н.) переживания «вн$г-
реннего опыта» и соединяющего «образ с невообрай-
мым», явленное с «поющим переживанием души» (БелгЗй
1994 (II). С. 111, 348). Следует отметить, однако, что в тео-
рии Белого «образ действительности» все же лишается са-
мостоятельной ценности; делается акцент на «зависимости
образов видимости от условий воспринимающего созна-
ния», на то, что «содержание сознания <...> пользуется
формами видимости <...> для уяснения переживаний.-'
(Белый, 1994 (I). С. 236).
Иные, по сравнению с Белым, акценты расставлены8
статье И. Анненского «Бальмонт-лирик» (1904). Отмечая8
современном стихе «бесповоротно-сознанное стремлен#
символически стать самой природою», т.е. соедини18
внешний мир и «вехи невидимого пути» (В. Брюсов), М
ненский, в отличие от Белого, не склонен рассматривав
60
(0браз видимости» лишь как средство раскрытия внут-
^ннего переживания: «Поэт не навязывает природе своего
он не думает, что красоты природы должны группиро-
jaTbCfl вокруг этого “я”, а, напротив, скрывает и как бы
растворяет это “я” во всех впечатлениях бытия...» (Аннен-
1988. С. 495).
Отметим, что новые грани видения соотнесенности
субъективного и объективного начал возникают не только
v символистов, но характеризуют поэтику образа в модер-
низме в целом. Так, А. Крученых в манифесте «Новые пу-
ти слова» формулирует это следующим образом: «Чем ис-
тина субъективней — тем объективнее. Субъективная объ-
ективность — наш путь...» (Русский футуризм.., 1998. С.
53). Поиск путей воплощения подобной «субъективной
объективности» в образе сближает Бунина с художествен-
ными исканиями эпохи. Более того, сходные черты в по-
нимании структуры образа обнаруживаются не только в
русском, но и европейском модернизме: к примеру, лидер
итальянского футуризма Ф. Маринетти в «Техническом
манифесте футуристической литературы» (1912) видит по-
требность современного искусства в том, чтобы «.слепить
предмет и ассоциацию в один лаконичный образ...» (На-
зывать вещи.., 1986. С. 163). В 1920-е годы французские
сюрреалисты (А. Бретон, Ф. Супо и другие) будут настаи-
вать на построении художественного образа на основе
«случайного сближения двух элементов» (Называть вещи..,
1986. С. 65), что, как отмечает Л.Г. Андреев (1972), сопря-
жено со стремлением посредством «автоматического
письма» нащупать точки сопересечения объективного и
'Тбъективного начал. Хотя в манифестах Ф. Маринетти,
А- Бретона и других речь нередко идет о хаотичном объе-
мней и и разнородных элементов в образе (ср. у Маринет-
Тй: «Сплетать образы нужно беспорядочно и вразнобой»
Называть вещи.., 1986. С. 165), что таит в себе опас-
ность распада смысловых связей, все же сама тенденция к
61
синтезу явлений внешнего плана и глубочайших (пороЛ)
бессознательных) пластов субъективности в едином *
разе, дающая о себе знать и в русском и в европейском А.
дернизме, весьма симптоматична для общего вектора Ж
тературного движения XX века. Л
У Бунина обновление принципов художественна
письма предстает в тесной взаимосвязи с поиском ноА.
путей субъективации повествования (прежде всего £
уровне поэтики художественного образа), путей собствш
ного, оригинального воплощения той «субъективной об»,
тивности», о которой вел речь А. Крученых. Это и позвоЖ
ет нащупать глубинные типологические схождения бут®,
ского метода с эстетической тезой модернизма. :1
В эссе «Освобождение Толстого» автор делает с*,
дующее замечание о словах, прочитанных им в одномда
толстовских дневников: «В этом дневнике <...> он первой
употребляет совсем новые для литературы того время?
слова'. “Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливей
белый весенний запах...”» {Бунин, 1996. Т. 6. С. 77-78). ед-
раз, привлекший своей фактурой внимание Бунина, вф-
мом деле чрезвычайно близок поэтике «нового искусств!»:
здесь происходит слияние обонятельного и цветового вос-
приятия (синестезия) и, что особенно важно, состояли
объективного мира и его субъективного переживая»
(«счастливый весенний запах»). Для самого Бунина синп№
образа окружающего мира с «моделью переживания» (Бе-
лый), памяти оказывается существеннейшим принцип^
образности, который дает о себе знать еще в творчеств?
доэмигрантской поры и достигает полноты и заверим?'
ности в поздних произведениях. t
В повести «Суходол» (1911) главным качеством обра3'
ности оказывается особого рода субъективность, основа®'
ная на слиянности «образа видимости» и переживая#1
воспринимающего сознания, неотделимого от контраст®®
Суходольского бытия: «иволга вскрикивала резко и раЯ®-
62
^цо» [3; 141]; «мухи сонно и недовольно гудели» [3; 142];
«Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на
Пруде утка...» [3; 143]. Звуки полонеза Огинского услыша-
йЬ1 Натальей как «сладостно-отчаянные», и «во всем, во
^ем — и особенно в запахе цветов — чувствовалась часть
& собственной души, ее детства, отрочества, первой люб-
ви-» Pi 173]. В отличие от Белого, считавшего «образ ви-
димости» «средством передачи переживаемого содержания
сознания» (Белый, 1994 (I). С. 236), у Бунина объективный
мир, пронизанный токами переживаний воспринимающего
субъекта, сохраняет самоценность и полноту. Французский
символист Жан Руайер в статье «О современной поэзии»
(1910) дает эстетическое обоснование новому качеству ли-
ризма, весьма близкого тому, что мы встречаем у Бунина:
«Лирические описания, — убежден Руайер, — не задержи-
ваются больше на внешних очертаниях предметов, они
проникают в их душу: переживание настолько внедряется
в образ, что, погрузившись в лирическую стихию, мы уже
не способны различить источник вдохновения...» (цит. по:
Косиков, 1993. С. 459). В «Суходоле» образ, насыщенный
переживанием, вбирает в себя и процессы, происходящие в
сознании Натальи, и внутренний опыт повествователя, ко-
торый через восприятие полноты окружающего мира про-
зревает собственную «жуткую близость» [3; 186] к про-
шлому Суходольского бытия.
Взаимодействие объективного и субъективного начал
иа уровне структуры образа находит отражение и в позд-
ней бунинской прозе. Слитность объективного состояния
Мира и переживания субъекта ощутима, к примеру, в са-
м°м названии рассказа «Холодная осень» (1944). В этом
образе соединились далекие друг от друга временные пла-
с одной стороны, это холодная сентябрьская осень,
^льминационная в жизни героини, что определяет и ха-
Рактер восприятия внешнего мира («на черном небе ярко и
°стро сверкали чистые ледяные звезды» [7; 207]). С дру-
63
гой — это «осень» жизни, в которой, невзирая на год
лишь «кажущиеся такими долгими», и благодаря силе д
мяти о «том холодном осеннем вечере», о тех «д
осеннему светящих окнах дома...», сохранилось «волцф
ное», «непостижимое ни умом ни сердцем» радостное А
ство прошлого: «Пожила, порадовалась, теперь уже ск£
приду...» [7; 210]. Образ-переживание вмещает в лк
единство мгновенного и вечного, начала и конца жиЛ
полноты явленного мира и глубины его сокровенного^,
мысления силой памяти и интуиции. <
Доминирующие качества художественного образА
Бунина оказываются типологически близкими размыт»,
ниям Б. Пастернака о «родовой субъективности». В дота,
де «Символизм и бессмертие» (1913), а позднее — в «А
дях и положениях» (1956) Пастернак утверждает мысЛвс
том, что субъективность является не исключительно п*
надлежностью воспринимающего сознания, но свойства.)
которое характеризует саму действительность, само каЙе-
ство: «Чувство бессмертия сопровождает пережитое, кофа
в субъективности мы поучаемся видеть нисколько не nj*-
надлежность личности, но свойство, принадлежащее каче-
ству вообще...» {Пастернак, 1989. Т. 4. С. 682). Через эго
окружающий мир не воспринимается более как обособ-
ленный объект, но как действительность, «проникнут»
поисками свободной субъективности...». Симптоматична
что истоки подобного осмысления мира в творчестве Пас-
тернак видит именно у символистов: «Символизм раз-
мышляет до конца об этом направлении пережитого^-”
{Пастернак, 1989. Т. 4. С. 682, 683). Именно поиски 0°"
площения «родовой субъективности» в образе сближаю1
Бунина с художественными исканиями эпохи. а
Изображение мира, преодолевающее субъект^
объектное разделение, мы неоднократно встречаем я ®
«Докторе Живаго» Пастернака: «Юрий Андреевич с детст#
любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие мину#1
64
^qjio и он пропускал сквозь себя эти столбы света <...>
(от юношеский первообраз, который на всю жизнь склады-
^2£Тся у каждого, и потом навсегда служит и кажется ему
его внутренним лицом, его личностью, во всей первона-
чальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес,
^чертою зарю и все видимое преображаться в такое же
^рвоначальное и всеохватывающее подобие девочки. “Ла-
ра!” — закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался
оН ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему
расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному про-
странству...» {Пастернак, 2000. С. 288).
Насыщение образа переживанием оказывает сущест-
венное влияние на характер передачи свойств внешнего
мира. «Наставленное на действительность, смещаемую
чувством, искусство есть запись этого смещенья», — пи-
сал Пастернак в «Охранной грамоте» (1930) {Пастернак,
1983. С. 231). В поэзии символистов «смещение» «образа
видимости» переживанием обусловило динамизм передачи
признаков предметного мира. В поэзии Бальмонта — это
повышенная роль двойных определений («небесно-
радостный намек», «дымно-блещущий костер и т.д.), при-
званных изобразить гамму мгновенных переживаний вос-
принимающего «я»: «мгновенность» образа-переживания
нередко фиксируется в названиях стихотворных циклов
(«Мгновения правды», «Отсветы зарева», «Мимолетное»,
«Мгновенья слиянья» и т.д.). Динамичность признака бли-
^ательно и многообразно разработана в поэзии А. Белого
(«золотея, эфир просветлится», «золотой, янтареющий
Час», «луна алмазит стекла»), А. Блока («вечереющая
«чуть вечереют небеса», «ухожу в розовеющий
,1ес», «я с тобой, зеленеющий клен»).
Динамика в передаче свойств внешнего мира, сопря-
*енная со слиянностью «видимости» и переживания в об-
5S2I 65
разе, значима и в произведениях Бунина, написанных в t
мое разное время: «воздушно сереет <...> полный зве
Млечный Путь» [5; 297], «звенящее молчание» [5; 308] (с
у Брюсова: «звонко-звучная тишина»); «в росистом пар}
свежело» («Качели»), «лиловеющий воздух за окнод
(«Веселый двор»), «светлая ночь, все звончеющая дь
мертвой белой окрестностью» («Игнат») и т.д. Иногд|
Бунина неуловимая смена переживаний воспринимают^
субъекта обуславливает динамичность не только отделл.
го образа, но образности целого фрагмента повествовал
«Туман розовел, таял. В мглистой вышине светлело, ‘L
лело. В небесах, в дыму облаков обозначаюсь что-то вю
достное, нежное... Оно росло, ширилось — и внезапного
сияло лазурью...» («Маленький роман», 1909-1926, 2; 33».
Данные примеры позволяют говорить не просты
стилевых схождениях Бунина с принципами поэтики, Л-
работанными в недрах модернизма, но об общност^ i
подходе к самой сути художественного образа, в которцу
происходит синтез объективного и субъективного на^я
что находит воплощение в динамике «смещения действи-
тельности» переживанием воспринимающего сознания.*
Образ-переживание охватывает у Бунина не толык
реалии природного мира, но и вещные детали. Пережива-
ние субъекта оказывается нередко «вживленным» в пред-
метно-бытовые детали. В «Легком дыхании» (1916) сил3
«живой жизни», исходящая от Оли Мещерской, «напоя®'
ет» собой и детали обстановки: это и кабинет начальник
«так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестяще11
голландки и свежестью ландышей на письменном стол®’
[4; 357]; это и дважды упомянутый портрет «молодого Оа'
ря, во весь рост написанного среди какой-то блистательно1’
залы» [4; 357]. В повести «Суходол» (1911) в зеркальна
когда-то украденном Натальей у любимого ею Петра П#'
66
^вича, сосредоточены «все ее прежние страхи, радости,
нежность, ожидание стыда и счастья, запах росистых ло-
пухов на вечерней заре...» [3; 174]. (Даже обонятельная дё-
таЛь оказывается преображенной силой Памяти). Букваль-
ное оживление сухого стебля переживанием и Памятью
(«живая вода сердца, чистая влага любви, печали и нежно-
сти» — 5; 8) происходит в «Розе Иерихона»... Б. Пастернак
в отзыве на «Избранное» Анны Ахматовой (1943) неслу-
чайно поставил в один ряд «зрительные достоверности»
Бунина и «чутье подробностей» в поэзии А. Ахматовой
(Пастернак, 1989. Т. 4. С. 392).
О сопряженности ахматовской «вещности» с выраже-
нием лирической эмоции писали уже первые исследовате-
ли ее творчества (Б.М. Эйхенбаум, В.М. Жирмунский и
др.). Современный исследователь Л.Г. Кихней, опираясь на
ранние сборники Ахматовой, отмечает, что «внешний мир
в ее лирической апперцепции становится своеобразным
кодом мира внутреннего, но при этом (в отличие от поэзии
символистов. — И.Н.) не теряет своей самостоятельно-
сти...» (Кихней, 1997. С. 15). Сопряженность объекта и на-
правленного на него субъективного переживания сближает
бунинский образ с важнейшими творческими принципами
Ахматовой. Подобные «овеществление» эмоции, сублима-
ция памяти о прошлом в деталях предметного мира пред-
стают в целом ряде ахматовских стихотворений: это забы-
тые «хлыстик и перчатка» в стихотворении «Дверь полуот-
крыта...» (1911), «севрские статуэтки» и «глянцевитые пла-
Ши» в «Вечерней комнате» (1912), «перо, задевшее о верх
экипажа», в «Прогулке» (1913) и т.д. Происходящая «экс-
пансия» лирического начала в предметно-изобразительные
Ф°рмы позволяет выявить типологические схождения даже
в Достаточной степени удаленных друг от друга художест-
^нных системах Бунина и Ахматовой. На конвергенцию
субъекта и объекта творческого видения, актуализацию пе-
^Дсивания через причастность к объективности бытия ука-
67
зывает В. Тюпа, характеризуя ключевые принципы обр^
ности в неотрадиционализме как одном из ведущих }.
правлений постсимволизма (Тюпа, 1998).
Спаянность «образа видимости» и его субъективно:
переживания неотделима от особого характера словес^
фактуры. В поэзии начала века исследователи не раз «
мечали стилевые новации, связанные с расширением с
мантических возможностей словесного образа: в частям
сти, В. Гофман (1937), Н. Кожевникова (1986) указывав
на новые, в сопоставлении с классической традицией, чес
четаемостные свойства отвлеченных слов. Отвлечение
слова, связанные с внутренним состоянием воспринимав
щего «я», сочетаясь с обозначениями конкретных явлений
становятся основой образа-переживания. Критик «Русско-
го богатства» в рецензии 1902 г. на произведения Бунийц
недоумением выделял качества бунинского поэтичен»
языка, близкие к модернистским стилевым тенденции
«По примеру символистов Бунин питает некоторую склда
ность к необычным оборотам, и у него попадаются Не-
сколько замысловатые выражения, вроде “широкая вл**
ность” (которую несет с собой ветер с водяных про-
странств), “невыразимая даль”, “грудь дышала широка«
емко”, “петух сильно и выпукло захлопал крыльями...”’
(Русское богатство, 1902. С. 106). «Модерность» приве-
денных сочетаний сопряжена не просто с экспрессивно-
стью описания, но и с активизацией субъективного начал*
в передаче свойств предметного мира. На подобного рОДг
сочетаниях нередко строится образ и в поздней прозе Бу
нина — ср., к примеру, в «Жизни Арсеньева»: «Как хоро
шо всегда это смешение — сердечная боль и быстрота..^
[6; 235]. Особую значимость приобретает в этой связь
употребление и характер сочетаемости наречий. На поэ^И
ку наречий в контексте поисков новых форм художествен
ного письма обратил внимание еще В. Вейдле в статье
смерть Бунина» (1954). Нетрадиционные пути сочетай^
68
уремий, сопряженные с расширением и субъективацией
сферы изобразительности, находим в прозе и в поэзии Бу-
я1(На на самых разных этапах: «И металлически страшно,
а дикой печали // Гуси из мрака кричали...» [8; 17]; «знойно
$гня цветами» («Братья» — 4; 259. В данном случае —
оереД нами пример синтеза разноплановых восприятий,
происходящего в сознании воспринимающего субъекта,
что отражается в образной передаче свойств внешнего ми-
ра); «Она встала с горящим, ничего не видящим лицом,
поправила волосы и, закрыв глаза, недоступно села в
угол...» («Жизнь Арсеньева» — 6; 211). Ю. Мальцев спра-
ведливо отмечает, что грамматические смещения такого
типа, нередкие у Бунина, позднее (уже в новом художест-
венном контексте) будут широко использоваться в прозе
А. Платонова (Мальцев, 1994. С. 139). Яркий пример по-
добного смещения, напрямую связанного с субъективацией
принципов изображения, мы встречаем в позднем бунин-
ском рассказе «Баллада» (1938): «лик образа древне глядел
<...> в пустом кружке серебряного оклада...» [7; 20]. Замена
эпитета наречием образа действия и отнесенность наречия к
глаголу, «действие» которого направлено на воспринимаю-
щего субъекта, мотивирована выдвижением на первый план
образа-переживания. В случае традиционного атрибутивно-
го сочетания («древний образ глядел») перед нами была бы
просто констатация одного из объективных качеств пред-
метного мира. Отнесение же признака к глаголу позволяет
видеть данный образ как пропущенный через внутреннее
*Я)> субъекта повествования.
Субъективация форм образного постижения мира в
искусстве рубежа веков обусловила кардинальное переос-
мысление субъектно-объектной парадигмы художествен-
и°го видения. Отказ от традиционного субъектно-
°®ьектного подхода к изображению внешнего мира и внут-
реяних состояний воспринимающего «я» оказывается за-
Мегным качеством символистского образа: «Я блеск без-
69
донности зеркальной // Роскошно гаснущего дня» Г2061Ж1
— внезапный излом, // Я — играющий гром, // Я — вЖ
зрачный ручей...» (Бальмонт, 1969. С. 232); «Я пред тош
на амвоне, ИЯ — сумрак улиц городских...» (Блок, 1<Ж
1963. Т. 2. С. 119). Т
Смена субъектно-объектных ориентиров в высш
степени характерна и для структуры бунинского образам
отличие от традиционного олицетворения, основаннЛ
как известно, на метафорическом переносе свойств живЖ
на неживое, образ-переживание тяготеет к глубинная
снятию самой оппозиции внешнего и внутреннего, обш.
тивного и субъективного... Слиянность субъективногиЬ
объективного, изменение их традиционного соотношеш
определяет качество образности в «Жизни Арсеньеил
(см., к примеру: «...в небе мучили очертания крыш старых
домов, непонятная успокаивающая прелесть этих очер-
таний...» [6; 233]). Интуицию об этой слиянности Бунин
вкладывает в уста Арсеньева: «Нет никакой отдельной^
нас природы <...>, каждое малейшее движение воздуха
есть движение нашей собственной жизни...» [6; 214].
При этом важна типологическая близость Бунина де
только к исканиям символистов, но и к осмыслению дан-
ной стороны образа в постсимволизме. Так, например,
Б. Пастернак в «Определении творчества» (1919) утвер-
ждает чрезвычайно близкий бунинскому взгляд на субъ-
ектно-объектную парадигму в образе:
И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.
(Пастернак, 1989. Т. 1. С. 137).
Характерна в этом смысле и дальнейшая творчесКЗ*
эволюция Пастернака. В «Докторе Живаго» мы встречав*1
70
^писания внешнего мира, поражающие именно своей
субъектно-объектной организацией: «Какая-то живая бли-
^сть заводилась между птицами и деревом. Точно рябина
(Се это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась и,
свалившись над птичками, уступала, расстегивалась и да-
jana им грудь, как мамка младенцу. “Что, мол, с вами по-
делаешь. Ну, ешьте, ешьте меня. Кормитесь”. И усмеха-
лась» (Пастернак, 2000. С. 295-296). На подобные качест-
ва пастернаковской образности (правда, по большей части,
на материале поэзии) обращали внимание в своих исследо-
ваниях P.O. Якобсон (1987), Ю.М. Лотман (1969). Глубин-
ные типологические связи Пастернака и Бунина (в том
числе и с точки зрения поэтики художественного образа)
сегодня также начинают осознаваться литературоведением
(Скобелев, 1992; Колобаева, 1998-П).
Итак, тяготение» к синтезу субъективного и объектив-
ного начал оказывается сущностным качеством поэтики
художественного образа, утверждаемой в литературе ру-
бежа веков. Типологическая близость Бунина к исканиям
символистов в этой сфере, к га стремлению осмыслить
образ как синтез «видимости» и «переживаемого со-
держания сознания» (А. Белый) показательна для харак-
теристики ведущга тенденций литературного развития
в XX веке. Однако понимание Буниным видимого .мира как
истинного в своей полноте, а не как средства для пере-
дачи внутреннего переживания отличает его от симво-
листов. Хотя сами символисты были далеки от утвержде-
ния раз и навсегда данного соотношения объективного и
субъективного в образе, о чем свидетельствуют, к приме-
ру, творческие поиски А. Белого, о которых он размыш-
Ляет в предисловии к четвертой симфонии (1907): «Сле-
зет ли при выборе образа переживанию, по существу не
^Плотимому в образ, руководствоваться красотой самого
°6раза или точностью его (то есть чтобы образ вмещал
^Можный максимум переживания)? Вместе с тем, как
71
совместить внутреннюю связь невоплотимых в образЛ ।
реживаний <...> со связью образов?» (Белый, 1991Ж
252). Ж
В то же время весомыми в данном контексте оказьЖ
ются схождения Бунина с постсимволистскими (неотрЖ
ционалистскими) художественными исканиями. При эш
как справедливо полагает В.А. Келдыш (Келдыш, 1975®
186, 205), «частность» у Бунина не остается в замкнут»
камерном мире, но призвана устранить преграду меж
глубинными пластами субъективности и бесконечное^
объективного мира. Происходящее в культуре рубежа ве-
ков переосмысление субъектно-объектной парадигмы й>
пряжено, по-видимому, с тенденцией к вилоизменен^р
традиционного для западного сознания «дуального» отно-
шения к миру: «Понятийный язык греческой философп.
— пишет Т.П. Григорьева, — есть следствие дуального от-
ношения к миру: разделяются сущность и явление, субъ-
ект и объект. Язык восточных мудрецов <...> свидетель-
ствует о недуальном принципе мышления, когда сущность
неотделима от явления, субъект от объекта, идея от об-
раза...» (Григорьева, 1979. С. 75).
Представляется, что тенденция к недуальности худо-
жественного мышления, актуализировавшаяся на рубеже
веков, связана с идеей всеобъемлющего синтеза, значимой
в культурном сознании эпохи: синтеза Востока и Запада-
жизни и искусства, предельно явленного и предельно со-
кровенного, малого и вселенского, субъекта и объекта.-
Художественные же искания Бунина неотделимы от общих
устремлений к обновлению образных принципов постиже-
ния мира.
Сопряженность предметно-изобразительного и лирик0"
экспрессивного начал в образе, столь характерная для Св"
ребряного века, неотделима от антиномичности стилевой
иьииления, которая находит воплощение и в поэтике модер-
низма (Гаспаров, 1995) и в художественной системе Бунина.
Образ, воспринимаемый как «модель переживаемого со-
держания сознания» (Белый), стремится вобрать и синтези-
ровать антиномичные переживания современной души. Об
этом говорил Д.С. Мережковский в 1910 году: «Поэтиче-
ские образы <...>, которые согласуют, соединяют самые
различные, противоположные явления чувственного мира,
потому и действуют на душу, потому и пробуждают в ней
знакомый отклик, что напоминают о каком-то действитель-
ном, первоначальном единстве, согласии, гармонии ми-
ра...» (Мережковский, 1991. С. 257). Интенция к тому, что-
бы синтезировать в образе антиномии мира и глубинных
пластов воспринимающего сознания, прозреть за этими
антиномиями подспудное единство, оказывается характер-
ной и для художнического мироощущения Бунина.
Антиномичность поэтики модернизма на уровне худо-
жественного образа находит различные способы воплоще-
ния. Одним из них, как отмечает Н.А. Кожевникова (Ко-
жевникова, 1986. С. 28, 29), является соположение контра-
стных слов-понятий, знаменующее, однако, не только их
противопоставление, но и живую цельность внутреннего
переживания. Это качество образности весьма существен-
но в поэзии символистов: см., к примеру, у Бальмонта: «Я
раздвоил весь мир. Полярность. Свет и мрак. // Вновь слил
я свет и тьму. И цельным сделал зданье...» (Бальмонт,
1969. С. 330) или известное блоковское: «Принимаю тебя,
неудача, // И удача, тебе мой привет!..» (Блок, 1960-1963.
Т. 2. С. 272).
Кроме того, повышенную значимость в художествен-
ном языке эпохи приобретает оксюморон: известный лите-
ратуре еще едва ли не с XVIII века, в начале ХХ-го он ста-
новится одним из главных путей образного постижения
антиномичности бытия и личностных переживаний. Сим-
птоматично, что на эту грань образа обращали внимание и
73
сами символисты: так, к примеру, И. Анненский в стаЛ
«Бальмонт-лирик» (1904), подробно анализируя типологЖ
сложных атрибутивных сочетаний, свойственных поэзЖ
Бальмонта, особо выделяет среди них те, которые построен
на использовании оксюморона. Оксюмороны действител»
весьма характерны для бальмонтовской образности («мучж
тельно-сладостный миг»; «переплеск разорванно-слитный»»
т.д.). Оксюморонный принцип образности весом и в поэзяц
самого Анненского («К портрету Блока», «Поэзия» и др.)$й
также у Белого («Мои мечты — вздыхающий обман, леднЬк
застывших слез, зарей горящий...» и др.), Блока («Возвра-
ти мне, маска, душу, // Горе светлое мое...» и т.д.). В
упомянутой статье 1904 года Анненский связывал эту
черту художественного образа с тем, что «новая поэзия
<...> учит синтезировать поэтические впечатления» (вы-
делено Анненским. — И.Н.), стремясь передать «моменты
цельного, единого, разорванно-слитного я» (Анненский,
1988. С. 498, 499). Антиномичность образа предстает
неотделимой от общего мироощущения эпохи, современ-
ного художественного сознания, стремящегося через
синтез глубинных контрастов бытия и души интуитивно
уловить и запечатлеть единство мира, единосущность
его полярных состояний.
Острая оксю.моронностъ образа оказывается одной из
важнейших стилевых доминант в художественной системе
Бунина. Это ощутимо уже в ранней бунинской поэзии. Ан-
тиномичность бытия запечатлевается не только как борьба
противоположностей, но и как слиянность полюсов, ив-
тунция о которой и составляет ядро многих бунинских об-
разов: «И понял красоту в ее печали // И счастье — в пе-
чальной красоте...» [1; 71]; «Но в радости моей — всегда
тоска, // В тоске всегда — таинственная сладость!» [1; 270]
и т.д. Оказывается, что полнота ощущения прелести мире
вмещает в себя и дисгармоничное чувствование его коне’*'
ности; и напротив — в тоске, порожденной бренность#
74
земного, зреет восхищение многоцветием и таинственной
биполярностью бытия.
Неизбывное ощущение антиномийности сущего в са-
Mbix малых его проявлениях нередко становилось у Бунина
первоистоком целого рассказа. Так, говоря о происхожде-
нии «Легкого дыхания» (1916), писатель особенно подчер-
кивал впечатление от увиденного однажды «могильного
креста с фотографическим портретом на выпуклом фарфо-
ровом медальоне какой-то молоденькой девушки с не-
обыкновенными живыми, радостными глазами...» {Бунин,
1958. С. 6). Глубинная антиномийность заложена в одном
яз ключевых образов рассказа: дубовый крест, напоми-
нающий о смерти, и вделанный в него портрет гимназист-
ки с «поразительно живыми глазами» [4; 355], сопряжен-
ный с интуицией о мучительной прелести жизни, ее неуло-
вимого «легкого дыхания». Антиномийность образа-
символа сближает Бунина с поэтикой модернизма, но в
то время как у символистов это начало было спроециро-
вано прежде всего на мир высших сущностей, в бунинском
образе оно «прорастает» из микроэлементов чувственно
воспринимаемого мира, достигая через это обобщающего
смысла. В образной системе «Легкого дыхания» обнару-
живается не только контрастность, но и глубинное сбли-
жение полюсов: ужас от гибели молодой жизни неотделим
все же от бессмертия сияющих с медальона глаз Оли Ме-
щерской, от счастья классной дамы, усердно ходящей «на
ее могилу каждый праздник» [4; 360], от образа «легкого
Дыхания», знаменующего неуничтожимость силы «живой
Жизни». Антиномичность образа-переживания пронизыва-
и стилевую ткань романа «Жизнь Арсеньева». Так после
Похорон Писарева герой улавливает крик грачей, «орущих
со страдалъчески-счастливым упоением...» [6; 113].
(Отметим, что поэтика сложных прилагательных, разрабо-
ТаНная символистами (ср., к примеру, подробный анализ
и* употребления Бальмонтом в статье И. Анненского
75
«Бальмонт-лирик», 1904) и весьма значимая в художеЛ
венном языке Бунина, расширяет ассоциативный контеэд
изображаемого, обогащает признак объективного мира эд
субъективным переживанием, позволяет достичь макД.
мальных лаконизма и экспрессии. Я
Одной из важнейших эстетических основ «нового эд
кусства» стала интенция ощутить мир в единстве единиц,
ного и Всеобщего. О художественном образе, построение-
му по принципу «все во всем» и стремящемся осуществив,
сосредоточение абсолютного в бесконечно малом, раз-
мышлял В. Соловьев в статье «О лирической поэзии. По
поводу последних стихотворений Фета и Полонского
(1890)»: «Для того, чтобы <...> уловить и навеки идеально
закрепить единичное явление, необходимо сосредоточить
на нем все силы души (слияние объективного и субъектив-
ного начал в образе. — И.Н.~) и тем самым почувствовать
сосредоточенные в нем силы бытия; нужно признать его
безусловную ценность, увидать в нем не что-нибудь, а фо-
кус всего, единственный образчик абсолютного <...> Поис-
тине не только каждое нераздельно пребывает во всем, но
и все нераздельно присутствует в каждом <...> Истинное
поэтическое созерцание <...> видит абсолютное в индиви-
дуальном явлении, не только сохраняя, но и бесконечно
усиливая его индивидуальность...» (Соловьев, 1912. С. 242-
243).
Возможность синтезирующего познания мира, интуи-
тивно прозревающего изоморфизм малого и абсолютного,
была сопряжена в культурном сознании эпохи с символом
как особым путем образного обобщения. В многочисленных
высказываниях о символе, принадлежащих Белому, Вяч-
Иванову, Блоку, Бальмонту и др., особый акцент делается
на заложенной в символическом образе модели единство
целого мира, основанной на всеобщей связи явлений, «сооТ'
ветствиях» между ними. На подобный смысл символа уК®'
76
Зь®ал А. Белый: «Последовательное воплощение Единого в
изобом из образов действительности ведет к последователь-
ному возведению этого образа в ряды прообразов. Первона-
цздьный образ становится все более и более окном, сквозь
которое начинает просвечивать символ...» (Белый, 1911. С.
108). О типе художественного мышления, основанном на
(дремлении «увидеть мир в одной песчинке», писал и
К. Бальмонт: «Способность мыслить мгновенными взмахами,
видеть предмет сразу со всех сторон является отличительной
чертой поэта-символиста...» (Бальмонт, 1904. С. 45). Интен-
ция к тому, чтобы в одно поэтическое мгновение, в пределах
единого образа соединить начала и концы жизни, отразить
всю полноту мировых связей, «универсальный изоморфизм
разных выявлений бытия друг другу, а также любой части
мира — мировому целому» (Минц, 1979. С. 88), оказывается
первостепенной в новом подходе к художественному образу.
Модернистская — и прежде всего символистская —
образность в значительной степени обусловлена интуици-
ей о всеобщей сопряженности в мире, «панкогерентности»
(Смирнов, 1994. С. 143, 145) действительности. В завер-
шенной форме идея «соответствий» воплотилась в одно-
именном стихотворении Ш. Бодлера (1855), предопределив
Дальнейшие пути художественного обновления на рубеже
веков. Важнейшей гранью «соответствий» оказывается со-
пряженность каждого из микроэлементов мира с первоос-
новами вселенской жизни. Следствием этого становится
прозрение подспудной взаимосвязанности микроэлементов
явленной действительности:
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье...
(Бодлер, 1986. С. 318-319).
Именно на идее «соответствий» основана синестезия,
ставшая, как было показано, одной из главных черт худо-
77
жественного образа в «новом искусстве». Принципиал^ I
важным представляется подчеркнуть отличие данвЖ
подхода к осмыслению действительности от реалиспЖ
ской картины мира. Если для последней свойственно оК
литическое разграничение «индивидуального» и «тигпЖ
ского», то в основе «соответствий», как отмечает Г.К. Ж
сиков, лежит обнаружение интуитивно прозреваемых А.
ношений, незримо наполняющих явленную дсйствитеяк
ность (Косиков, 1993. С. 18). И это позволяет преодолА
неизбежную ограниченность рационального подхода, ЦБ.
зально-детерминистской структуры мироздания. -в
Вместе с тем образ, построенный на принципе «соф.
ветствий», таит в себе опасность абстрагирования, ибофа
прихотливыми сплетениями мировых связей возникает Уг-
роза недооценки единичного, ценного своей неповторимой
экзистенцией. Весьма характерно в этом смысле высказы-
вание Ф. Сологуба в статье «Искусство наших дней» (1915):
«Предметы являются не в их отдельном существовании, Цо
в общей связности между собою <...> Каждый предмет До-
стигается в его отношениях к наиболее общему, что может
быть мыслимо. Тогда все предметы становятся <...> знаками
<...> всеобщих отношений <...>, многообразными проявле-
ниями <...> мирообъемлющей общности <...> Самодовлею-
щей же ценности не имеет ни одно из явлений мимотеку-
щей действительности...» (Сологуб, 1991. С. 179).
Опасность утери единичного в «чаще символов» (Бод-
лер) и «соответствий» осознавалась самими символистами-
Так, например, Вяч. Иванов, разрабатывая концепцию «СО"
ответствий» между areal ia» и «realiora», стремился синте-
зировать ее с «реалистическим символизмом», согласно
которому символ несет в себе «прозрение на плоть, пр°"
никновение в тайну плоти».
Симптоматично в этой связи, что символистская 0°
своей сути интуиция о мировых «соответствиях», изомор"
физме единичного и абсолютного (переосмысление ИЗ'
78
устного античного представления о душе как микрокосме,
держащем в себе полноту макрокосма), оказывается
[[додотворной и для постсимволистских течений. Как по-
казывает Л.Г. Кихней, в эстетике акмеизма, тяготевшего к
установлению равновесия духовного и телесного, важ-
нейшим началом образности становится осмысление явлен-
ного мира как «организма»: «Акмеисты полагали, что ху-
дожник, не выходя за пределы реальности, может постичь
законы мироустройства. Согласно их “органической” кон-
цепции, каждое “звено” мира, каждый его элемент <...>
изоморфен другим его “звеньям”, а малый замкнутый фраг-
мент реальности оказывается подобен макроструктуре ми-
рового целого...» (Кихней, 1997 (Докт. дис.). С. 56-57).
* * *
Нерасторжимая целостность единичного, плоти бытия
и вечных законов мироздания оказывается важнейшим
качеством образности в художественной системе Бунина.
С предельной яркостью изоморфизм малого «атома» жиз-
ни и Всеобщего явлен уже в образном строе бунинской
лирики, созвучной в этом отношении не только поэзии
символизма, но и онтологической проблематике творче-
ства Тютчева:
Мир — бездна бездн. И каждый атом в нем
Проникнут Богом — жизнью, красотою.
Живя и умирая, мы живем
Единою, всемирною Душою.
(«Джордано Бруно», 1906, 1; 271);
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.
(«Вечер», 1909, 1; 322) и др.
79
В рассказе «Ночь» (1925) одним из центральных явД
ется образ Всеединого, воплощенного в чувственном Л
лике мира, каждый из микроэлементов которого (звон ш
кад, «легкое движение воздуха, морской свежести и зап»
цветов» [5; 308]) несет ощущение бездонности жизни»
рассказе «Заря всю ночь» (1902-1926) масштабность иЖ
бражения достигается через уникальный в своей всеохвЖ
ности образ-переживание, где стираются субъект»
объектные различия: «Я кого-то любила, и любовь моя т.
ла во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести зелене®
сада, в этой утренней звезде...» [2; 268]. Если образнее
мышление символистов было приковано к постижен^р
«соответствий» между видимым миром и «высшиМи
сущностями», то у Бунина интуиция о бесконечности ми-
ра оказывается «вживленной» в единичные проявления
бытия.
Внутреннее пространство образа у Бунина, как и у сим-
волистов, содержит интуицию о тайне вечных начал бытия.
Изоморфность единичного, конкретного и Всеобщего лежит
в основе образной системы таких рассказов, как «Сны Чан-
га», «Братья», «Господин из Сан-Франциско», «Копье Гое-
подне»... На единстве и взаимных переходах образных пла-
нов — конкретно-бытового и бесконечного — построена
символика таких рассказов, как «Господин из Сан-
Франциско», «Копье Господне» и др. В первом из них сим-
вол Атлантиды, обладая достоверным предметным планом
(подробно «выписаны» все ярусы гигантского парохода),
несет грандиозное по масштабности обобщение относи-
тельно духовной и социальной дисгармонии современного
мироустройства в целом. Стремление символистов ем*
стить в образ модель мира в его целостности, передав глу-
бинное тождество микро- и макрокосма, находит в худо~
жественной системе Бунина неожиданное воплощение.
С поэтикой модернизма сближает Бунина и характер
образного обобщения, в основе которого — не аналитизм,
80
но интуитивное видение мировых связей. С наделением
кажд°г0 из микроэлементов чувственного мира онтологи-
ческой ценностью сопряжено переосмысление модернист-
ской идеи «соответствий»: в образной системе Бунина «со-
ответствия» спроецированы не только «по вертикали» (т.е.
между видимым миром и «высшими сущностями»), о чем
немало размышляли символисты, но и в значительной сте-
пени — по «горизонтальной» оси, т.е. на уровне взаимной
сопряженности элементов чувственно воспринимаемого
мира, свидетельствующей о первозданном единстве всего
сущего. С яркостью эта черта выразилась в самом построе-
нии образа-переживания у Бунина: «Как холодно, росисто и
как хорошо жить на свете...» [2; 182]; «Я вижу, слышу,
счастлив» [1; 322]; «И в запахе росистых трав, и в одиноком
звоне колокольчика, в звездах и в небе было уже новое чув-
ство — томящее, непонятное...» [2; 243]. В рассказах «Над-
писи» (1924), «Скарабеи» (1924) микродетали бытия (над-
писи, коллекция камешков), даже отнесенные к далекой
временной и пространственной перспективе, воспринима-
ются как грани единой Души мира (образ, возникающий у
Бунина в рассказе «Неизвестный друг»): «Все слезы оди-
наковы, все они капли одной и той же влаги...» [5; 175].
С указанными сторонами образности сопряжен у Бу-
нина и особый характер видения предметного мира, та оп-
тика микродеталей, через которую достигается «выпук-
лость» изображения: ср., к примеру, в рассказе «Подтор-
лье»: «На рогах коров тоже блестит низкое солнце» [3; 7];
в рассказе «В августе» — соединение «общего плана»
(«Далеко, почти на горизонте...») и упоминание о летящих
Фачах, крылья которых «блестели и лоснились» [2; 246]; в
«Чистом понедельнике» — сочетание масштабной про-
странственно-временной перспективы (облик Москвы,
синтезирующий восточное и западное начала) и мозаики
^Икродеталей, за которой — ощущение необъятности ми-
^а: «...громада Христа Спасителя, в золотом куполе кото-
81
рого синеватыми пятнами отражались галки, вечно иди
шиеся вокруг него...» [7; 241].
Богатство материи мира оказывается в образной сж
теме Бунина достовернейшим свидетельством о Весе»
ном. Примечательно, что исследователи (Л. ДолгоподА
В. Келдыш и др.) не раз обращали внимание на новые*
сопоставлении с классической традицией, символичес»
пути образного обобщения у Бунина, основанные, по мьж
ли В.А. Келдыша, на передаче множественности мелкой*
дробного, «мозаичной россыпи явлений». Рассмотрев*
этих путей в контексте представлений об образе, гене]*
руемых и в символизме, и в модернизме в целом, позвоЛ
ет выявить общность векторов обновления даже в дали®
друг от друга художественных системах.
У Бунина интуиция о глубинной изоморфности всей»
сущего, микроэлементов мира и Всеобщего преобразует
художественную организацию текста. На подобной равно-
великости, свидетельствующей о новизне форм изобрази-
тельности, построены бунинские миниатюры 1930-х годов,
где малый элемент формы (предметная деталь, штрих а
речевому образу) приоткрывает бездонность мира и души.
Неслучайно, что указанное качество образности миниатюр
привлекло внимание В. Ходасевича, писавшего о том, что
«явления мира много раз увидены в этих рассказах совер-
шенно по-новому...» (цит. по: Бунин, 1965-1967. Т. 5. С.
534).
Доминирующим в целом ряде бунинских рассказов
(«Легкое дыхание», «Казимир Станиславович» и др.) ока-
зывается синекдохический принцип образности (часть вв
месте целого), становящийся чертой художественного
письма XX века и разработанный, в частности, А. Белым,
Б. Пастернаком. В «Легком дыхании» дыхание героине
(«часть» физического состояния Мещерской — деталь
как удачно подметил А.К. Жолковский, физичная, но й3
физичных — самая нематериальная — Жолковский, 1992)
82
в себе образ бесконечности, пронизанной токами
(()кивой жизни». Стоит отметить, что пространственные
образы, содержащие в себе диапазон от единичного до
бесконечного, чрезвычайно существенны и в поэтике мо-
дернизма. В рассказе же «Казимир Станиславович» целое
человеческой судьбы интуитивно воссоздается через ча-
С1пные детали окружающего (предметного и природного)
мира, представляющие, по существу, образы-
переживания воспринимающего сознания. Насыщенность
«образов видимости» субъективным началом и придает
им динамику: «казалось, что вернулась зима...»; «вол-
нующее» в московском воздухе, «золотилось вдали за до-
мами небо <...>, и чувствовалось, что в мире есть ра-
дость...»; «церковь <...> выжидательно потрескивала
свечами...» [4; 347].
Синекдохический принцип, важнейший в структуре
бунинского образа, типологически близок «случайност-
ной» поэтике Б. Пастернака. В письме сестре Жозефине от
24 июня 1927 года Пастернак писал: «...константа случай-
ных мимолетностей — это стиль, который взят нами для
данного издания, называемого жизнью на земле <...> Его
выпирающая случайность <...>, как раз и составляющая
его щемящую прелесть, эмпирически неограничима...»
(Пастернак, 1990. С. 198). Позднее, в «Охранной грамоте»
(1930), размышляя об образе-переживании, писатель фор-
мулирует принцип изоморфности единичного и мирового
Целого в образе, что чрезвычайно значимо и для эстетики
Бунина: «Каждую <подробность>, — убежден автор «Ох-
ранной грамоты», — можно заменить другою. Любая дра-
гоценна. Любая на выбор годится в свидетельства состоя-
ли, которым охвачена вся переместившаяся действитель-
ность...» (Пастернак, 1983. С. 231).
По справедливому замечанию P.O. Якобсона, автора
?атьи с характерным названием «Заметки о прозе поэта
Пастернака», утверждаемая Пастернаком «случайностная»
83
поэтика, характерная не только для его лирики, но и *
прозы (роман «Доктор Живаго» здесь весьма показателе"
сопряжена с лиризацией предметно-изобразительных фоЛ
которая выступает как одна из универсалий литература
го развития XX века: «Проза Пастернака — проза пояь
принадлежащего великой поэтической эпохе: все ее свой»
ва — отсюда...» (Якобсон, 1987. С. 325). На сопряженное^
«случайностной» поэтики Пастернака с кардинальным пе.
реосмыслением традиционной субъектно-объектной пара-
дигмы указывает и Ю.М. Лотман: «Действительность слит-
на, и то, что в языке выступает как отгороженная от других
предметов вещь, на самом деле представляет собой одною
определений единого мира. Одновременно такие характери-
стики, как “быть субъектом”, “быть предикатом” <...> вос-
принимаются как принадлежащие языку, а не действитель-
ности...» (Лотман, 1969. С. 325).
Становится очевидным, что изоморфность малого и
мирового целого, а также синекдохический принцип об-
разности, свойственные как поэтике модернизма, так и
художественной системе Бунина, сопряжены с тенденци-
ей к лиризации, повышению удельного веса субъективного
начала в изобразительной стихии.
* * *
Символическая идея «соответствий» находила во-
площение не только в синхронном, но и в диахронном ас-
пекте. Стремление к синтезу далеких времен и про-
странств в едином образе-переживании, продиктованное
тягой к преодолению причинно-следственного детерМ*1'
низма, роднит Бунина с поэтикой модернизма. В стат*®
«Магия слов» (1909) А. Белый, размышляя о глубинном
смысле символа, подчеркивал значимость «внутреннего
чувства <...> времени» (Белый, 1994 (II). С. 131), лежаШ6'
го в основе символического образа. Точную характер®'
стику модернистского подхода к трактовке времени 11
84
пространства в образе дала З.Г. Минц (с опорой на анализ
символа у Блока): «...вместить в образы мгновенных пе-
^киваний всю историю мира, его прошлое и будущее,
уплощение временного в ахронном (мгновенном) делает
трику <.••> средством наиболее глубокого постижения
сущности мира...» (Минц, 1979. С. 179). Подобное стира-
gue поверхностных границ пространства и времени мож-
во с наглядностью проследить на примере одного из бло-
ковских стихотворений — «Милый брат! Завечерело...»
0906). Поэтика полутонов в начале стихотворения («чуть
слышны колокола», «семафора зеленеет огонек») передает
ощущение тайны внутреннего переживания пространства и
времени. Переживание лирическим субъектом памяти о
встрече с женским образом трансформирует пространст-
венно-временную организацию произведения: «Словно мы
— в пространстве новом, Словно — в новых временах...'»
(Блок. 1960-1963. Т. 2. С. 91). В потоке переживаний вос-
принимающего субъекта происходит синтез далеких друг
от друга пространств, стирание временных дистанций
(«перетекание» ближайшего прошлого в интуицию о бу-
дущем), постепенное расширение пространства. Образы
мгновенных переживаний вмещают всю полноту миро-
чувствования лирического субъекта, которое «разлито»
поверх пространственно-временных барьеров.
Сопряженность диахронности образа с внутренним пе-
реживанием времени, о чем писал А. Белый, оказывается
°ДНим из доминирующих принципов образности у Бунина,
^йсль Белого о символе как о модели «переживаемого со-
Пержания сознания» находит неожиданное «соответствие» в
°Унинской художественной системе, где образ предстает
^Режде всего как «модель памяти» воспринимающего
^ьекта — памяти как на уровне личной судьбы, так и во
^Ленском масштабе. Эти начала дают о себе знать уже в
^Ней бунинской лирике: «Я человек: как Бог, я обречен И
' *°знать тоску всех стран и всех времен» [1; 319] (интенция,
85
весьма созвучная общему мироощущению Серебряного jL
ка); «Мне кажется, луна оцепенеет: // Она как будто BbipZ
ла со дна // И допотопной лилией краснеет» [1; 168]. В об^
зе «допотопной лилии» происходит глубинное преодолев
временной дистанции: лилия, воспринимаемая в мгновеа^
настоящего, оказывается вместе с тем неотделимой от вф.
реннего переживания древности. В отличие от метода цн.
прессионистов с их пафосом «мгновенного», у Бунина каж-
дое из неповторимых проявлений бытия, проходя сквозь
призму переживаний лирического субъекта, обретает вре-
менной синкретизм и свидетельствует о подспудной цело-
стности мироздания. Интенция же ощутить мир как целое
во всей полноте его пространственно-временных измерена»
осознавалась в Серебряном веке, и прежде всего символи-
стами, с небывалой остротой. У Бунина это начало образно-
сти оказывается отчасти родственным представлениям о
времени на Востоке: как отмечает Т.П. Григорьева, японцам
движение виделось не в качестве «возникновения нового за
счет старого, но восстановления «старого» в новом цикле»,
причем «движение по кругу воспринимается не как “дурная
бесконечность” <...>, а как знак неповторимости того, что
неповторимо в принципе...» {Григорьева, 1979. С. 128).
Расширение художественной ассоциативности, стира-
ние границ пространства и времени, связанное с насыщени-
ем образа переживанием, оказывается одной из универса-
лий поэтики модернизма. Как отмечает Л.Г. Кихней, в по-
эзии ранней Ахматовой «предмет адсорбирует эмоцию <•?
“консервантами” памяти сердца становятся вещные детали-
сенсорные образы» {Кихней, 1997. С. 28). Подобная репре-
зентация образов внешнего мира отчетливо видна в одно*1
из ахматовских стихотворений, приводимых Л.Г. Кихней:
Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине — нелепость.
86
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость!..
(«В последний раз мы встретились тогда», 1914)
(Ахматова, 1977. С. 79).
Как и в анализировавшихся примерах из произведений
Бунина, в приведенном отрывке из Ахматовой достоверные
детали внешнего мира («царский дом», «Петропавловская
крепость») конденсируют лирическую эмоцию, создавая осо-
бую пространственно-временную перспективу, пронизанную
юками субъективности, тем внутренним переживанием вре-
мени, на значимость которого указывал А. Белый.
Движение от отдельных реалий бытия, насыщенных ин-
туитивным видением пространства и времени, к образу ми-
ра в его надвременной данности и спаянности с субъектив-
ным началом оказывается важнейшим в художественной
системе Бунина, где заветная мечта символистов о «вопло-
щении сверхвременного видения в формах пространства и
времени» (А. Белый) находит свое осуществление.
В таких рассказах, как «Косцы» (1921), «Несрочная вес-
на» (1923), «Поздний час» (1938) и др., предстает образ ми-
ра, пронизанный мучительным переживанием субъекта по-
вествования. В воссоздаваемом памятью образе России сти-
рается грань между прошлым и настоящим, что не отменя-
ет, впрочем, трагичного звучания этого образа: в «Косцах»
Мир, преображенный силой пережитого страдания и памяти,
№иден в надвременной первобытности, как «еще не утра-
’чвший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов»
в 68]. Однако щемящая прелесть этого мира делает ощу-
^ьгм и иное время — время разлуки повествователя с
^дной стихией. В «Позднем часе» пространственно-
именные образы — от «знакомого <...>, грубо-древнего»
^°ста [7; 37] до символического образа «позднего часа»
«Часа» далекой встречи и воспоминания о ней) — соедине-
'Нь* в потоке памяти, ценностного осмысления прошлого.
87
В рассказах «Копье Господне» (1913), «Воды мноА
(1925-1926) и др. внутреннее переживание историчесдк
времени позволяет воспринимающему субъекту ощу-Лк
мироздание в его «ветхозаветной» данности: «доистопЛ^
ской неуклюжести верблюд», «вечно засыпаемые nedfc,
пути», «вечно цветущие леса», «ночь <...>, все такая же,Ж.
и тысячелетия тому назад» [5; 332]... Каждый из микроф.
ментов бытия, увиденный в своей вечной и неизменфй
сущности, позволяет проникнуть в тайну времени, ощутив
что «душа всего человечества, душа тысячелетий былсгс^
мной и во мне» [5; 316]. Эта убежденность Бунина в первен-
стве внутреннего чувствования времени очень близка сим.
волистской интерпретации времени, которая была артику-
лирована Белым: «Тысячелетия прошлого не вне нас, a~t
нас они, с нами...» (Белый, 1918. С. 25-26).
Итак, стремление к расширению пределов художест-
венного образа, стиранию поверхностных пространст-
венно-временных границ, акцент на внутреннем, интуи-
тивном переживании личного и общеисторического вре-
мени в образе, видение в каждом из микроэлементов бы-
тия свидетельства о целостности мироздания — оказы-
ваются глубинными основаниями типологических схож-
дений Бунина с эстетическими принципами модернизма.
* * *
Подводя итоги сказанному, отметим, что обновление
принципов образности, ставшее важнейшим фактором ли-
тературного развития рубежа веков, обусловило порой не-
явную, но все же глубоко значимую общность эстегичС'
ской системы Бунина и поэтики модернизма. Ключевую
роль в этом обновлении сыграло во многом объединявши
Бунина и модернистов ощущение искусства как прибЛИ'
жения к тайне бытия через интуицию, а также стремлеНИе
к максимальному преодолению «литературности», дистай’
ции между творящим и воспринимающим «я».
88
Одной из ключевых в эстетике модернизма, и симво-
ллзма прежде всего, было стремление ощутить символ как
((Плоть тайны» (Вяч. Иванов), как единство явленного и не-
достижимого, что становится важнейшей гранью поэтики
д. Блока, А. Белого и других. Это начало значимо и в струк-
^рс бунинского образа. Как и у символистов, существенное
песто занимает у Бунина изображение первоначал бытия,
нотивы бесконечности, а также синестетические образы. И
у Бунина и у модернистов синестезия сопряжена со стрем-
лением прозреть недоступные поверхностному взгляду свя-
зи, «соответствия» между явлениями. Однако, в отличие от
символистского, бунинскому художественному мышлению
присуща менее напряженная метафоричность, что связано с
высокой ценностью единичного в его образном мире, с на-
правленностью образа на открытие новых «сцеплений» не в
запредельном, но в чувственно воспринимаемом мире.
Ключевой в творческом сознании эпохи оказывается по-
вышенная значимость лирической экспрессии в предметно-
изобразительных формах. А. Белый писал о символе как о
единстве «образа видимости» и «образа переживания». На-
сыщение образа переживанием стало важнейшей универса-
лией в поэтике модернизма: от Брюсова к «младшим» сим-
волистам, а далее — к различным направлениям постсимво-
лизма. У Бунина сопряженность в едином образе достовер-
ности предметного плана и переживания, памяти оказывает-
ся одним из главных художественных принципов, что прояв-
ляется, как у модернистов, в расширении ассоциативной си-
лы слова, в динамике при передаче свойств внешнего мира,
связанной с неуловимой сменой переживаний восприни-
‘•аклцего субъекта; через «вживленность» лирической эмо-
Лии в предметно-бытовые детали (в этом — типологическая
близость к поэтике ранней Ахматовой); через «модерность»
словесной фактуры. В то же время восприятие Буниным ви-
ЛИмого мира в его самоценности, а не как «средства» переда-
'Л’ «переживаемого содержания сознания» (А. Белый) отли-
89
чает его от символистов и отчасти сближает с постсимвсЖ
стскими художественными исканиями. Ж
Важными качествами образности и у Бунина и в тЖ,
дернизме оказываются также антиномичность обряЖ
переживания, что порождено общим мироощущением эК.
хи, стремящейся через синтез глубинных контрастов бык
(острая оксюморонность — важнейшая черта стиленЛ
мышления как Бунина, так и модернистов) ощутить цеЖ.
стность мира. ф
Усилением субъективного начала в изобразительной
стихии продиктованы в «новом искусстве» тенденция^
стиранию поверхностных границ пространства и временив
образе. У Бунина временной и пространственный синк^-
тизм образа, сопряженный с переживанием-памятью, про-
является как в передаче отдельных реалий чувственно вос-
принимаемого мира, так и в картине мироздания как целого.
Такие генерируемые в поэтике модернизма принцшш
образности, как соединение предельно явленного и njjfe-
дельно сокровенного, усиление значимости лирической
начала, изоморфность малого и мирового целого, антинЬ-
мичность, ориентация на субъективное переживание про-
странства и времени, сближает Бунина с эстетической с®-
темой модернизма. В то же время указанные новации, «мо-
дерность» сочетаются у Бунина с классической ясностью
образа, зоркостью к «плоти» бытия, что и составляет ос-
нову его самобытной художнической индивидуальности.
Глава II. КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ И ФОРМЫ
ПСИХОЛОГИЗМА
$ 1. И.А. Бунин и литературные течения
рубежа XIX-XX веков: опыт осмысления личност^
Обновление принципов художественной образности" ®
русской литературе к. XIX — н. XX вв., о котором Ш®8
90
^чь в предыдущей главе, было тесно взаимосвязано с ко-
ренным пересмотром сложившейся в реалистической
Традиции XIX века системы взглядов на личность, на ха-
рактер ее обусловленности окружающей действительно-
стью, на пути постижения душевной жизни художест-
венным словом. Обратимся к рассмотрению модернистско-
[X) опыта видения личности в литературе указанного пе-
риода, чтобы затем проследить, какие из составляющих
этого опыта оказались в той или иной степени созвучными
художественному миру Бунина.
Одной из универсалий литературного развития рубежа
веков стала тенденция к расширению взгляда на психоло-
гическую реальность, выразившаяся в онтологизации пси-
хологии. Если для реализма XIX века в его классических
проявлениях свойственно доминирование социально-
исторической детерминации характера, то литературное
сознание начала XX в., не сбрасывая со счетов накоплен-
ного опыта познания глубин человеческой психики, тяго-
теет к тому, что Е. Эткинд назвал «этернизмом» (от
франц. I’elernile — вечность): «Одинокий Человек, стоя-
щий перед лицом Вечности, Смерти, Вселенной, Бога, не
может стать героем романа Гончарова или драмы Остров-
ского...» (Эткинд, 1997. С. 14). Модус этернизма во взгля-
де на личность оказался обусловленным причинами как
собственно литературного, так и общемировоззренческого
плана: ощущение устаревания традиционных форм литера-
^ры и культуры, усложнение представлений о психиче-
ских процессах, потребность в выработке новых форм
психологизма, обострение катастрофизма мирочувствова-
пия, вызванное предвестиями серьезных социально-
политических потрясений в России и Европе, глубокое
Рззочарование в эволюционизме и теории прогресса как
Продуктах эпохи позитивизма. Этернизм, ориентация на
Изображение потрясенного, отчужденного от мира созна-
ния обусловило актуализацию поэтического слова, стрем-
91
ление создать «лирику современной души» (К. Бальмоик
наполнить ею предметно-изобразительные формы. Донф’
нирование онтологического угла зрения на личность ф.
влекло за собой ощущение недостаточности возможности
аналитического психологизма (с учетом многих его paaifr
видностей — от Лермонтова до Толстого), суть которой
заключалась, по замечанию А. Есина, в интенции «любое
внутреннее состояние... разложить на составляющие, ра.
зобрать в подробностях, любую мысль довести до логиче-
ского конца...» (Есин, 1988. С. 68).
Чувство «разо.мкнутости» психической жизни в бес-
конечность, безусловно присутствовавшее и у Достоевско-
го, и у Толстого, несравненно обостряется и усиливается
на рубеже столетий, и связано это было прежде всего с ху-
дожественной деятельностью символистов. Уже Д. Ме-
режковский, говоря о современном сознании в связи с
проблемами, поставленными Достоевским, делает сущест-
венные акценты: «Каждый из нас носит в себе внутрен-
нюю психологическую бездну. Но сознание наше только
скользит по ее поверхности. Мы живем и умираем, не по-
знав своей сердечной глубины...» (Мережковский, 1893. С.
48-49). Речь у Мережковского идет о глубинном разрыве
«бездн» человеческой души с уровнем самопознания
личности и в подтексте — с возможностями сложившихся
в литературе путей этого познания.
Мысль об углублении современных художественных
представлений о психологической реальности оказывается
одной из центральных и во многих работах А. Белого. Hfr
вый характер личностного мироощущения он отметил еШе
в феврале 1903 г. в письме к Э. Метнеру: «В символизме х
пяти чувствам прибавляется и шестое — чувство Вечно-
сти: это коэффициент, чудесно преломляющий всё-*
(цит. по: Лавров, 1978. С. 160). Более развернуто БелЫ8
скажет об этом «коэффициенте» немногим позднее, в С18'
тье «Кризис сознания и Генрих Ибсен» (1911). Отмечав
92
4То «никогда еще проблемы сознания не ставились с такой
оТчетливостью, как в наши дни», углубленное представле-
ние о психологической реальности он связывает с обраще-
нием культуры к сфере подсознания, где происходит со-
прикосновение индивидуальности с миром трансцендент-
ного: «Чувством мы живем во многих мирах; мы чувству-
ем не только то, что видим и осязаем (ср. мысль Мереж-
ковского о «сознании, скользящем по поверхности». —
;///.), но и то, что никогда не видали глазами, не осязали
органами чувств; в этих неведомых, несказуемых чувствах
открывается перед нами мир трансцендентной действи-
тельности...» {Белый, 1994 (II). С. 210).
Тенденция к онтологизации психологии, стремление
расширить видение душевной жизни до масштабов беско-
нечности, провидеть в закономерностях бытия человека
тайные вселенские ритмы объективно сближали Бунина с
исканиями эпохи. Подобный модус ощутим у Бунина и в
ранней лирике, и в прозе 1910-1920-х годов («Сны Чанга»,
«Братья», «Ночь» и др.); в более скрытой форме — в
«Темных аллеях», а в «Жизни Арсеньева» он предпочтет
такой ракурс изображения «истоков дней» героя: «Я ро-
дился во вселенной, в бесконечности времени и простран-
ства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнеч-
ная система, потом что-то называемое солнцем, потом
земля...» [6; 237]. Однако бунинский «космизм» не стоит
преувеличивать. Слишком напряженным и страстным ока-
зывается в его художественном мире вглядывание в «зем-
ные» корни человеческого характера: в том же романе он-
тологическая перспектива не отодвигает на второстепен-
ной план пристального внимания к «тайной работе» [6;
'34] души героя, где тесно переплетаются осознанное и
Интуитивное. Ав 1921 г., в предисловии ко французскому
Изданию «Господина из Сан-Франциско», Бунин, говоря
Уисе о своем раннем творчестве, отмечал, насколько глубо-
1(0 занимали его «вопросы психологические...» [9; 268].
93
Происходившая на рубеже веков «этернизацияжДТ I
взгляде на личность и пути ее художественного постижеж
имела ряд существенных следствий. Онтологизация псЛГ
логии вела не только к расширению перспективы видеж
душевной жизни, но и, по справедливому замечанию Е. Ж.
кинда, к тревожной мысли о том, что «недуг, свойствевдж
человеку как таковому, излечить бесконечно труди®
труднее найти пути для оздоровления человеческой натура
нежели общественного организма. Тут невозможны р^.
люции, ни даже реформы...» (Эткинд, 1997. С. 18). Hunfa.
ция о глубинной аморфности современной души, связанней с
кризисом детерминистской картины мира, оказывается
одной из центральных в сознании эпохи. Весьма примеча-
тельна запись, сделанная Л. Толстым в 1898 г.: «Как бы хо-
рошо написать художественное произведение, в котором бы
ясно высказать текучесть человека: то, что он один и тот же,
то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бес-
сильнейшее существо...» (цит. по: Скафтымов, 1958. С. |
265). Подчеркнем: мысль эта высказана Толстым в 1898 го-
ду, когда за плечами у него остались и «Война и мир», и
«Анна Каренина», где многомерность человеческой психи-
ки получила полнейшее отображение. И все же сама дейст-
вительность «порубежья» подталкивала художников искан
новые пути постижения этой «текучести». В этом русле
развивалась концепция личности у Чехова: возрастающее
ощущение глубинной неопределенности личности, ее не-
уловимой, подчас пугающей, изменчивости («Толстый и
тонкий», 1893; «Душечка», 1898), дробления внутреннего’и
внешнего «я» («Княгиня», 1889); мотив страха перед бьПЯ'
ем, «болезнь боязни жизни» («Хамелеон», 1884; «ОтеД»-
1887; «Страх», 1892), но вместе с тем — активизация новЯ*
сюжетно-композиционных, хронотопических форм расКрУ'
тия глубин сознания.
Новый опыт видения личности ярко выразился в с&'
волистской и шире — модернистской эстетике. ВозНЯ' i
94
г111ощие здесь типологические связи с проблематикой и
Д0ЭТИКОЙ бунинской прозы позволяют выявить общие им-
пульсы развития литературы в плане художественной ан-
дрОПОЛОГИИ.
К. Бальмонт, как бы следуя собственному определе-
нию, стал одним из творцов «лирики современной души»
подзаголовок к «Горящим зданиям», 1900). В его поэзии
середины 1890 — начала 1900-х гг. мировая бесконечность
воспринята как зеркало душевных состояний, их онтоло-
гическая перспектива:
Небо — в душевной моей глубине,
Там, далеко, еле зримо на дне...
(Бальмонт, 1969. С. 180).
В бальмонтовской картине мира таится интуиция о
дроблении «я», аморфности души: «Я предан переменчи-
вым мечтаньям, И Подвижным, как текучая вода» (Баль-
монт, 1969. С. 180). Сквозными оказываются мотивы ус-
кользающих переживаний (цикл «Мгновения правды» и
др.), блуждания души (стих. «Ожиданьем утомленный»,
1896; «Удел», 1912 и др.). При всем тяготении поэта к
культурному универсализму, лейтмотив «блуждания» от-
ражает существенные стороны русского характера в пере-
ломную эпоху: вспомним горькую интуицию Бунина о
склонности русского человека к «бродяжничеству», «ша-
^нию»... Если у Бальмонта данное качество эстетизирует-
ся, то для Бунина, у которого силен нравственно-этический
^ряд классической литературы, подобное «шатание» есть
Звено трагических мутаций сознания XX века, обострив-
^Ихся при наложении на национальную почву. Это про-
фение подтвердится и позднейшим литературным опытом:
8 «Докторе Живаго» процесс формирования типа русского
Революционера Б. Пастернак будет связывать именно с ак-
тивизацией «русского бродильного начала».
95
И. Анненский, рассматривая в статье «Бальмоф.
лирик» (1904) особенности лирического «я» поэта, видЦ^
в нем откровение о современной душе. В ходе мьод^
Анненского-поэта и критика просматривается диалек^.
ка, характерная для художественной антропологии нача.
ла века. С одной стороны, видение «зыбкости» усло>.
ненного «содержания нашего “я”» («наследственное^.
атавизм, вырождение, влияние бессознательного...»)
частая неподлинность которого становилась предметов
мучительной рефлексии в поэзии самого Анненского
(образы «докучной маски», «двоящегося сердца», «хаоса
полусуществований»). Но вместе с тем «новая поэзия», в
лирика Бальмонта в частности, оперируя ассоциативным,
«беглым языком... символов», «учит», по мысли автора
статьи, «синтезировать поэтические впечатления», в
«разорванной слитности» души прозревать все же «ху-
дожественное обогащение нашего самосознания... ис-
тинно неразложимое “я”» (Анненский, 1988. С. 496, 497,
498).
Подобное ощущение мимолетности, ускользания
душевных переживаний — важнейшее в мирочувствова-
нии «эпохи зорь» — отнюдь не всегда было, как у Баль-
монта, сопряжено с импрессионистической стилевой ма-
нерой. В поэзии Ф. Сологуба трагизм «многоцветной
лжи бытия» вызван прежде всего ощущением зыбкости,
фатальной неполноты человеческих переживаний: «мыс-
ли — всегда переменные...»; «Печали ветхой злою тенью
И Моя душа полуодета...», «Ты дал мне душу зыбкую—»
(Сологуб, 1975. С. 115, 122, 417). Это предопределяет И
появление образа «личин», разъедающих лицо индиви-
дуальности. Сквозной же в сологубовском контексте об-
раз Недотыкомки (семантика неполноты — уже в самом
слове) знаменует болезненную разорванность человечС'
ского существа:
96
, Недотыкомка серая
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою...
{Сологуб, 1975. С. 234).
Линия сходного осмысления личности на рубеже веков
(янется к «младшим» символистам и связана прежде всего
с психологическими открытиями в лирике Блока, поэзии и
прозе Белого.
Уже в первом блоковском сборнике заметно, что глу-
бинная аморфность человеческого «я» исподволь проника-
ет даже в сакрализованный образ Прекрасной Дамы: «Но
страшно мне: изменишь облик Ты...» {Блок, 1960-1963. Т.
1. С. 34). От лирики первого тома к «Городу» и далее — к
«Страшному миру» усиливается ощущение лирическим
героем собственной «мгновенности», «случайности»: «Все
виденья так мгновенны — И Буду ль верить им?» {Блок,
1960-1964. Т. 1. С. 164); «Пусть душа твоя мгновенна...»
(Блок, 1960-1963. Т. 2. С. 82); «Иду — и все мимолетно...»
(Блок, 1960-1963. Т. 2. С. 165). Чрезвычайно важно, что и у
Блока, и у Белого подобные состояния не просто деклари-
руются: сама «мерцающая», двуликая фактура символа
глубоко созвучна чертам современного сознания. В «мер-
цающем» образе и приоткрывается та угроза деиндивидуа-
лизации, которая с остротой предощущалась в начале века.
У Блока, особенно поры II, III тома, сквозным оказывается
Мотив «усталых стертых лиц»:
И в дождливой сети — не белой, не черной —
Каждый скрывался — не молод и не стар...
{Блок, 1960-1963. Т. 2. С. 163).
Двуликость символа обусловила то, что одним из Клю-
евых в образной системе символизма стал лейтмотив
^ойничества; у Блока он приобретает глубокий психоло-
Зак. 5821 97
гический смысл. В известном «Двойнике» (1909) блестА
выявлена пугающая бездна бесконечных «двоений»: «с&
реющий юноша», чьи горестно-исповедальные интонат^
«соединяются» с «улыбкой нахальной».
Именно с этим сопряжена у Блока и пронзительная
туиция о бессилии традиционной причинно-следствен^
парадигмы для постижения мятущейся современной дуи&.
...И, уцепясь за край скользящий, острый,
И слушая всегда жужжащий звон, —
Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен...
(Блок, 1960-1963. Т. 3. С. 41).
Чуткость к кризисным сторонам бытия личности вы-
ражена Блоком и в публицистической форме, в оценке им
текущих литературных явлений («Творчество Сологуба».
1907; «О драме», 1907; «Ирония», 1908; «Стихия и культу-
ра», 1908; «Крушение гуманизма», 1919; «О назначении
поэта», 1921 и др.). В сегодняшней «цивилизации, все бо-
лее теряющей черты культуры» (Блок, 1960-1963. Т.6. С.
101), он отмечает утрату духа цельности в восприятии
личности и мира, приводя сравнение с постепенным кру-
шением Рима. Поэт не раз возвращается к мысли о «тре-
вожности... порядка мира» («О назначении поэта»), о том.
что «в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмогра-
фа» («Стихия и культура»), о душе, «плененной Хаосом»
(«Рыцарь-монах», 1910). Отметим, что зоркость к изъянам
современного сознания, помноженная на широту метай-
сторических обобщений как особую форму постижения w
раскрытия мироощущения на стыке столетий, сближаем
Бунина с символистами (ср.: Блок о римской империи; ЬУ'
нин о Тиберии в «Господине из Сан-Франциско»: и в тоМ и
в другом случае очевидна прямая соотнесенность с антр0"
пологическим контекстом начала века). Надо сказать, что °
98
удобного рода сближениях вел речь Блок, не раз возвра-
щаясь к проблеме «встречи» «реалистов» и «символистов»
ва актуальном витке литературного развития. Например,
отмечая в статье «Безвременье» (1906) ту «ноту безумия»,
которую уловил Андреев в личности эпохи «порубежья»,
Блок подчеркивает, что эта интуиция «роковым образом
сблизила “реалиста” Андреева с “проклятыми" декаден-
тами...» (Блок, 1960—1963. Т. 5. С. 69). Эти тревожные
раздумья о личности и предопределяют, по Блоку, объек-
тивный процесс сопересечения исканий в реализме и мо-
дерн изме; этот процесс представляется ему как «одно из
очень характерных явлений нашей эпохи...» (Блок, 1960-
1963. Т. 5. С. 205).
...А «нота безумия» личности уже в ранних произведе-
ниях Л. Андреева (именно о них и размышлял Блок) про-
звучала и впрямь резко. Связана она с изображением деин-
дивидуализации, безликости героев: «Большой шлем»
(1899), «Бездна» (1902), «Рассказ о Сергее Петровиче»
(1900) и др. В последнем рассказе эта аморфность души
героя выделена особенно рельефно («После оперы он
представлял себя певцом; после книги — ученым, выйдя
из Третьяковской галереи — художником» — Андреев,
1977. С. 71), что порождено онтологической распыленно-
стью внутреннего ядра. Как и у Сологуба, «личины», при-
нимаемые героем Андреева (певец — ученый — художник
— ницшеанец), «разъедают» индивидуальность: «Плоский
нос, толстые губы и низкий лоб делали его похожим на
Других и стирали с его лица индивидуальность...» (Андре-
ев, 1977. С. 70). Немногим позднее, в сборнике Белого
«Пепел» (1909) и особенно — в «Петербурге» (1913-1914),
Мотив «стертости» человека «пространствами» станет од-
Ийм из центральных; город же в романе наводнен «стерто-
серьгми» лицами его обитателей, образами-масками, зна-
комыми и по лирике Белого. Скользяще-масочное начало
с°пряжено в «Петербурге» с дроблением сознания: вспом-
99
ним характеристику Николая Аполлоновича: «Центру
сознания не было, мрачная там просияла дыра... копоцц.
лись там какие-то дряблые мыслишки...» {Белый, 1994 (1Ц)
С. 185). Нити от размышлений символистов об угро^
«крушения гуманизма» в эпоху потрясений тянутся *
«Доктору Живаго» Пастернака, где обезличивающая «тц.
пичность» (судьба Стрельникова) выступает как следствие
втянутости, вольной или невольной, в воронку революци-
онных катаклизмов; антитезой же «фатально типическому
в современном человеке» станут судьбы и личностные по-
зиции Юрия Живаго и Лары...
Крайним полюсом в самоосмыслении культуры рубежа
веков стала прозвучавшая с доселе невиданными надрывом
и остротой мысль об «исчезновении человека», которая
неожиданно сблизила Бунина с модернизмом. Эта интуи-
ция просматривается и в феномене «распада характера» в
сологубовском «Мелком бесе», и в образном строе «Пе-
тербурга»; напрямую же она, по меньшей мере дважды,
была выражена Блоком. В статье «Ирония» (1908) читаем:
«Этот самый человек, терзаемый смехом, повествующий о
том, что он всеми унижен и всеми оставлен, — как бы от-
сутствует...» {Блок, 1960-1963. Т. 5. С. 345). И еще резче
в предисловии к поэме «Возмездие» (1919), где чувство
угрозы этого «исчезновения» становится как бы оборотной
стороной «этернизма»: «Мировой водоворот засасывает в
свою воронку почти всего человека; от личности почти
вовсе не остается следа, сама она, если остается еще су-
ществовать, становится неузнаваемой, обезображенной,
искалеченной. Был человек — и не стало человека-»
{Блок, 1960-1963. Т. 3. С. 298).
Бунин, как известно, еще в 1913 г., указывая на значи-
мость этического начала в литературе, с резким неприяти-
ем отзывался о модернистском «“выявлении” новой пси-
хики» [9; 259]. Подчеркнем: неприятие вызывает имени0
способ «выявления» (это слово заключено Буниным в cap*
100
(астические кавычки) «новой психики», слишком нарочи-
доЙ и преднамеренный, по его мысли. Но симптоматично,
£Г0 само содержание бунинских раздумий о действительно
9овом опыте видения личности объективно лежит в русле
jex проблем, которые были поставлены в культуре эпохи.
Эти размышления особенно актуализируются у него в пору
„Окаянных дней»: «Опротивел человек! Жизнь заставила
гак остро почувствовать, так остро и внимательно разгля-
деть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние
глаза — как мало они видели, даже мои!» {Бунин, 1990. С.
107-108). Это бунинское высказывание имеет два смысло-
вых центра, во взаимодействии которых отразились суще-
ственные стороны художественной антропологии начала
века: с одной стороны, обнаружились те бездны падения
человека, которые «прежние глаза» видели не всегда с та-
кой остротой; но вместе с тем — этот горький опыт стано-
вится не итогом, а отправной точкой дальнейшего углуб-
ленного познания души. Именно поиск обновления путей
художественного постижения внутреннего мира, про-
диктованный необходимостью противодействия дегума-
низирующей тенденции времени, и стал основой сближе-
ния Бунина с творческими принципами модернизма.
Отчетливо выраженной в культуре рубежа веков ока-
зывается потребность выработать новые художественные
способы осмысления личности с учетом изменившегося
Духовного опыта современности.
Напомним, что в реализме XIX века основу концепции
чинности составляет категория обусловленности человече-
ского характера как внешними, так и внутренними обстоя-
тельствами. Л. Гинзбург отмечает, что именно эта детер-
минированность и является главным «предметом изобра-
’Кения» (Гинзбург, 1971. С. 295) в психологическом рома-
Не, пик развития которого связан с творчеством Толстого.
Говоря о толстовской «диалектике души», А. Скафтымов
Подчеркивает, что «Толстой не забывает той тысячи свя-
101
зей, которые на данный случай, на данном месте уравццч
вают его <героя> с другими в бегущем, непрерывно ме.
няющемся потоке жизни, делают его одним из многих.^
{Скафтымов, 1958. С. 287). В литературе же рубежа веи^д
ощущение кризиса межличностных связей предопределяет
частую ориентацию художника на познание личности у®,
диненной, порой отчужденной от мира. Сама обусловлен
ность, как правило, не становится объектом прямого ав-
торского изображения, прямой вербализации, так как
своими корнями она уходит в недра бессознательного', ин-
тенсивное эстетическое освоение этой сферы жизни души
стало одной из приметных черт литературного движения
эпохи.
Резкие выступления против традиционных форм психо-
логизма звучат в программах различных ветвей модернизма
— от символизма и постсимволизма до деклараций предста-
вителей европейского модернизма уже середины века — в
частности, во французской «школе нового романа». В 1965 г.
Н. Саррот писала об этом так: «...опасное слово — “психоло-
гия”. Слово... обесцененное, устаревшее, так как оно напо-
минает о традиционном анализе чувств и обо всех старомод-
ных психологических понятиях...» {Саррот, 1997. С. 235). Но
важно отметить, что и в высказываниях Саррот, и в литера-
турном контексте начала века в России скептицизм по от?
ношению к сложившимся формам психологизма означал не
отказ от исследования внутреннего мира, но коренной пере-
смотр художественных методов этого исследования.
Данная потребность проявлялась в глубоком переос-
мыслении самой реалистической модели характера, скла-
дывавшейся на протяжении почти всего XIX века. С теоре-
тической точки зрения в категории характера акцент трв'
диционно делается на достаточной выявленности свойств
внутреннего мира, изначально понимаемого как единство,
во внешнем поведении: «Характер — это присущий исто*
рической обстановке, изображенной... писателем, тип
102
д0веческого поведения — поступков, мыслей, пережива-
ний.-.» (Тимофеев, 1959. С. 137); «Характеры — общест-
венно значимые черты, проявляющиеся с достаточной от-
четливостью в поведении и умонастроении людей...» (Чер-
цец, 1999. С. 247) и др. Очевидно, что данная модель не
приемлема для модернизма с присущими ему ощущениями
разрыва межличностных связей, внутреннего и внешнего
«я», часто непредсказуемой изменчивости человеческой
натуры — ощущение, заметно усилившееся даже в сопос-
тавлении с толстовской «текучестью».
С другой стороны, в теории литературы сложилось и
более широкое понимание категории характера, соотне-
сенное с новейшими литературными исканиями. Так, С.
Бочаров, отмечая значительное расширение личностного
опыта в XX веке, подчеркивает, что «проблема характера в
литературе XX века - это проблема ответной реакции че-
ловека, испытывающего многократно усилившееся по
сравнению с прошлыми временами давление объективного
мира» (Бочаров, 1962. С. 444), — об этом писал и О. Ман-
дельштам в статье «Конец романа» (1922). Видя в катего-
рии характера «не константу, но величину исторически пе-
ременную» (Бочаров, 1962. С. 324), Бочаров справедливо
связывает эту категорию со стремлением к познанию пусть
И скрытой, но целостности личности, основ ее бытия, не
поддающихся исчерпывающей вербализации, тех бессоз-
нательных составляющих душевных процессов, которые
Далеко не всегда прямо проявляются в «типах поведения»
иными словами, с тем, что не может уйти из литерату-
ры. И расширительно истолкованная категория характера,
Помноженная, по выражению Белого, на «коэффициент
Вечности», оказывается вполне адекватной и для рассмот-
рения художественных явлений XX столетия...
В символизме, стоящем у истоков всего модернизма,
Интенция воспринять мир и душу человека в их целостно-
сти, часто таящейся за хаотичностью, была одной из осно-
103
вополагающих, что убедительно показано, в частносВ
Л.А. Колобаевой в ее труде о русском символизме {КсА
баева, 2000). Каковы были пути этого познания? Как Д
мыслялись они в художественном сознании эпохи в целоф
В творчестве Бунина? £
Речь о раздвижении пределов антропологически^
опыта идет уже в первых выступлениях символистов. Нф.
более полное творческое осмысление этот вопрос получает
в работах А. Белого и Вяч. Иванова.
А. Белый резко критикует в своих статьях традиционно-
аналитическое раскрытие «психологий», в заостренно-
полемической форме, имея в виду Достоевского, говорит о
«чечевичной похлебке психологии», о том, что «глубина,
построенная на психологии, часто фальшива» (ощущение
несоответствия «бездн» душевной жизни предлагаемым
формам их раскрытия), и призывает «очистить музыкой,
вольной и плавной, авгиевы конюшни психологии» {Белый,
1994 (II). С. 196-197) («Ибсен и Достоевский», 1905). Позд-
нее, в «Мастерстве Гоголя», неадекватность «психологий»
Белый прямо свяжет с «обволакивающей неопределенно-
стью», атомистической раздробленностью, которые он от-
мечает у гоголевских героев, но, по сути, проецирует эти
раздумья на современность.
Путь к синтезирующему видению внутреннего мира
Белый видит в символе как «живой цельности переживае-
мого содержания сознания» {Белый, 1994 (II). С. 123). Объ-
единяющий заряд, содержащийся, по Белому, в образе-
символе, и позволяет прозреть в нем экстракт психологи-
ческого содержания.
Углубление представлений о психологической реаль-
ности связывается в культуре начала века с проникновени-
ем в недра подсознания. Активизация интереса к бессозна-
тельному симптоматична: Мережковский в качестве «<а'
рактерной черты грядущей идеальной поэзии» восприни-
мает не что иное, как «погоню за неуловимыми оттенкаМН-
104
& темным и бессознательным в нашей чувствительности»
^ережковский, 1893. С. 43). Отметим пока в самом об-
щем виде, что ориентация на художественное исследова-
ние бессознательных процессов в их сложном взаимодей-
ствии с работой сознания станет одной из главных предпо-
сылок сближения Бунина с модернизмом. Именно с обост-
ренным соприкосновением подсознания и сознательного
связывает драматизм современного мировидения и Белый:
«Трагический ужас разлада из глубин бессознательного
дорос до поверхности сознания...» {Белый, 1994 (II). С.
244). Символический образ и призван, по его убеждению,
передать грани этого взаимодействия, что расширит гори-
зонты художественной антропологии. Причем пафос цело-
стного видения личности предопределяет и ход размышле-
ний символистов о текущих литературных явлениях. Так, в
поэзии Бальмонта Белый не находит сплавления «про-
странства души и звездных пространств в живом соеди-
нении, в символе» {Белый, 1994 (II). С. 406). Не обсуждая
здесь степень справедливости этой оценки, подчеркнем
саму направленность художественных устремлений сим-
волизма. Характерно, что подобное соединение Белый ви-
дит в образе у Чехова, типологически близком в этом от-
ношении Бунину: речь идет об органичном единстве эмпи-
рики жизни и «дали душевных пространств», причем в
этом единстве Белый усматривает сокровенную, но не все-
гда достижимую цель эстетических поисков модернизма.
Позднее мысль Белого как бы подхватит В. Ходасевич: го-
®оря о прозе Бунина, он замечает, что «иррациональные
события всегда им показаны в самой реалистической об-
становке и в самых реалистических тонах...» {Ходасевич,
1991. С. 555).
Искания новых форм постижения души на основе
синтеза «realia» и «realiora» характерны и для эстетики
в«ч. Иванова. Развивая раздумья своих собратьев по цеху,
°н выявляет «психологический перелом», сопровождаю-
105
щий эпоху войн и революций, усилившуюся «расплав^Ь |
ность» человека. Говоря о «разрыхленности» совремевИ.
го «я», Вяч. Иванов указывает на необходимость раЖ
кального переосмысления традиционной модели харам,
ра: «Какой-то невидимый плуг... разрыхлил современниц
душу — не в смысле изнеможения ее внутренних силЛ
в смысле разложения того плотного, непроницаемого, ж
расчлененного сгустка жизненной энергии, который Ж
зывал себя “я” и “цельной личностью” в героическую Ж
ру непосредственного индивидуализма» (Иванов, 1994Ж
91). Ресурсы обретения новой цельности личности ИЖ
нов, как и Белый, связывает с символом, заключеннымЖв
нем возможностями обобщения. Следуя значимой м
эпохи «логике» «этернизма» в восприятии личности, я
усматривает в символе путь к «раскрытию в личнос^й
сверхличного содержания, ее внутреннего “я ”, вселенского
по существу» (Иванов, 1994. С. 167), интенцию же к рф
ширению сферы реального в психологизме Вяч. Иванов I
соотносит с опытом Достоевского, его прозрениями о «вЙе I
вмещающей» душе...
Обновление путей психологического изображения не
отделяется мыслителем-символистом от активизации хрб-
нотопических мотивов, подсознательного, онейрического
измерений и в особенности — от универсализации душев-
ных состояний, переосмысления субъектно-объектной па-
радигмы: сама «экстенсивная энергия» символического
образа зиждется на осознанной глубинной связи между «я»
и «не-я» («ты еси...»). В обозначенных позициях видится
типологическая общность с чертами бунинской концепции
личности, преломившимися в его художественном мире.
Важны и акценты, расставленные Вяч. Ивановым ®
оценке наследия реалистов-психологов XIX века — оценки
часто более гибкие, чем у Белого и весьма характерные ДЛ*
умонастроения рубежа веков. Так, например, фигурУ
Л. Толстого, традиционно воспринимаемую как знаковую
106
в свете классических форм аналитического психологизма,
0Яч. Иванов трактует иначе: «Толстой искал независимо-
cjnu от психологии, этот тайновидец души человеческой и
души природной...» {Иванов, 1994. С. 274). Становится
очевидным: происходящее в культуре начала века много-
плановое переосмысление традиционного психологизма,
обострение чувства тайны мира диктовали настоятель-
ную потребность не только оттолкнуться, но и соотне-
сти современное мировидение с опытом постижений ду-
ши классической прозой XIX в. — эта внутренняя диалек-
тичность оказывается ключевой в формировании концеп-
ции личности и в творчестве Бунина.
Новые грани осмысления душевной жизни возникают
и в постсимволистском движении модернизма. Так, значи-
мое место эти размышления занимают в эстетике О. Ман-
дельштама. Сближаясь с общемодернистскими тенденция-
ми, Мандельштам делится осознанием «катастрофической
гибели биографии» в настоящем, «наступившего бессилия
психологических мотивов перед реальными силами, чья
расправа с психологической мотивировкой час от часу
становится более жестокой...» {Мандельштам, 1987. С. 75).
Интуиция о «зазоре» между сложившимися формами ана-
литического психологизма и открывшимися бессознатель-
ными, «неподнятыми» пластами психики приводит Ман-
дельштама к мыслям о том, что «психология... не обосно-
вывает уже никаких действий», что «бесконечно нудно бу-
равить собственную душу...» {Мандельштам, 1987. С. 75,
54). Отказ от детерминистской картины мира сопряжен
здесь с поиском синтезирующего видения личности-.
«Движение бесконечной цепи явлений без начала и конца
есть именно дурная бесконечность, ничего не говорящая
УМу, ищущему единства и связи...» {Мандельштам, 1987.
С- 56). Обновление психологизма Мандельштам связывает
с лиризацией повествовательных принципов. Говоря о Бе-
л°м как о «вершине русской психологической прозы» (пара-
107
доке! — если учесть приводившиеся выше высказывания «д
мого Белого о «психологиях»), о «психологическом анализу
в лирике Анненского, о глубинном родстве ахматовской дц.
рики с «психологическим богатством русского романа
XIX века» {Мандельштам, 1987. С. 200, 208, 175), — Ман-
дельштам нащупывает преемственную связь-отгалкивание
современного лирического самосознания с психологизму
литературы XIX столетия: лирическая струя, редуцируя при-
чинно-следственную детерминацию, в то же время способна
высветить в пунктире поэтических импульсов целостный
концентрат внутреннего переживания.
Подчеркнем эту глубинную диалектичностъ модерниз-
ма во взгляде на личность: с одной стороны, ярко выра-
женные антипсихологические декларации; с другой —
движение в сторону радикального обновления путей по-
знания личности, отказ от детерминистского анализа в
пользу синтеза, лиризация форм психологического изо-
бражения. И это сближает Бунина с литературным движе-
нием времени: еще Ходасевич писал, в частности, о героях
бунинской прозы 1920-х годов, что «обычная их психоло-
гия распадается и становится похожей на обессмыслен-
ные щепки» {Ходасевич, 1991. С. 555), однако неослабе-
вающий интерес писателя к «тайной работе души» побу-
ждал его искать новых способов художественного вопло-
щения душевных процессов.
$ 2. Новое соотношение осознанного и
бессознательного начал
Важнейшей гранью соприкосновения творчества Бу-
нина с модернизмом стал глубокий интерес к феномен)'
бессознательного, стремление нащупать и ощутить как
различные ипостаси, так и особенности взаимодействия
бессознательного и осознанного в структуре личности. У
Бунина пристальное внимание к бессознательному, идуШ®6
108
Bf ранней поэзии и прозы, актуализируется в произведени-
& начала и середины 1910-х годов и оказывается сопряже-
нием с возрастающим ощущением катастрофизма бытия.
Одной из важнейших ипостасей бессознательного в бу-
нинском мире становится восприятие его как темной, часто
пугающей своей непознанностью стихии души. Примеча-
зедьно признание, сделанное им в письме к А. Измайлову от
15 декабря 1914 г.: «Знаю, человечество живет еще ветхим
заветом, что люди слишком звери, теперь это доказано с не-
бывалой, ужасающей очевидностью...» {Бунин, 1969. С.
192). Мысль об укорененности психики в иррациональных
пластах, в «истоках дней» всего человечества, акцент на
темных глубинах бессознательного, нередко «злых», «вра-
ждебных» к человеку, возникают еще у раннего Бунина
(«Туман», 1901; «У истока дней», 1906) и сближаются с
прозрениями символистов.
В 1910-е годы Бунин все настойчивее обращается к ху-
дожественному исследованию темных проявлений бессоз-
нательного, что приоткрывает ограниченность традицион-
ных психологических мотиваций. В рассказе «Игнат»
(1912), где мотивы «смутных дум», «тяжелой неразреши-
мой тоски» героя оказываются сквозными, бессознатель-
ное увидено в сопряженности со стихией пола, непросвет-
ленной духовным началом. Бессознательное таит импуль-
сы к немотивированному насилию (избиение Любки, не-
ожиданно жестокое нападение на девочку, внезапное по-
кушение на убийство купца), проникающие на уровень
внутренних побуждений: «жил в тоске... в изобретении са-
мых жестоких наказаний за преподполагаемые измены» [4;
18]. Особую значимость приобретает «жестовый» психо-
логизм («ударим обухом... со всего размаху» — 4; 32), су-
щественный и в других рассказах. В «Ермиле» (1912) дест-
руктивная сила самовнушения, чувствование героем «тем-
ной силы» выражены в поэтике жеста: «Я дюже преступ-
ный, — говорил он с удовольствием...» [4; 59]. В этом ряду
109
и зловещие портретные детали персонажей «Веселого
ра» (1911), «Ночного разговора» (1911), «Весеннего ве«^_
ра» (1914), «Петлистых ушей» (1916), «Страшного рассф.
за» (1926), проницающие родовые, атавистические корд^
рационально не объяснимого насилия. На стилевом уровве
постижение сокрытых основ психики неотделимо у Бунина
от зримой пластики образа-жеста: именно о подобном
«жестовом» психологизме размышлял Белый, когда, на-
пример, в «Мастерстве Гоголя», говоря о «Страшной мес-
ти», подмечал, что «герои поданы без психологий, жестом
струения звуковых отражений...» (Белый, 1996. С. 86).
Т. Марулло, проводя сближение Бунина с модернизмом на
примере рассказа «Ночной разговор», указывал на то, что
пугающие жестовые подробности персонажей на фоне «за-
темненности» их лиц выражают авторскую интуицию о
хаотичной массовидности внутреннего мира как об одной
из болезней человеческого духа, обострившейся в XX веке
(Марулло, 1994). На русской почве подобная хаотичность и
порождает, по Бунину, «страсть ко всяким личинам» [4;
229], как бы «прикрывающим» в человеке его внутреннюю
наготу («Я все молчу», 1913). Вспомним в этой связи те
«истлевающие личины», которыми нередко стремился
скрыть свою «душу зыбкую» лирический герой Ф. Соло-
губа — во внешне отдаленных друг от друга явлениях ис-
подволь проступают черты общности в постижении совре-
менной психологической реальности.
Интуиция Бунина о том, что «все-таки самое страшное
на земле — человек, его душа» [5; 340], пронзительно про-
звучавшая в его творчестве 1910-1920-х годов, объединила
его с модернистами в зоркости к «ноте безумия» личности
(напомним выражение Блока по поводу произведении
Л. Андреева), которая вывела художественную антропо-
логию эпохи из плоскости привычных социокультурны*
детерминант. У Бунина особенно выпукло это проявилось
в рассказе «Петлистые уши», стилистика которого Ие
110
очень типична для него, но который весом именно с точки
зрения выразившейся здесь концепции личности. В из-
устных словах Соколовича о себе («Я сын человече-
ский...» — 4; 388) сказался роднящий автора с модерниз-
мом метаисторический масштаб раздумий о коренных
свойствах психобиологического «я», его болезненных
сторонах. Наследуя и одновременно отталкиваясь от про-
блематики Достоевского, Бунин различает истончение
нравственного чувства личности, «зависшего» над глуби-
нами бессознательного («Сказка о муках совести» — 4;
389). Причем активизация непросветленных иррацио-
нальных сил души проистекает в современном мире на
фоне кажущейся уравновешенности жизни: веселье «трех
счастливых хлыщей в цилиндрах» [4; 387], изображенных
на рекламе пивного завода, «выражает мечту девяти деся-
тых всего человечества» (вновь метаисторический ракурс
обобщения), напоминая мирочувствование обитателей
верхних этажей Атлантиды («Господин из Сан-
Франциско»), «не подозревающих» о темных недрах ко-
рабля и собственной души.
В изображении Бунина мрачные силы бессознательно-
го являют подчас оборотную сторону самонадеянного ра-
зума. В рассказе «В ночном море» (1923) безымянные ге-
рои, затерянные в морской безбрежности и утратившие
остроту «желания желать», опору в памяти, оказываются
отданными на волю энтропийных сил бессознательного.
Интуиция о частом торжестве энтропии в современных
Мире и личности предопределяет эволюцию образа-
переживания относительно реалистических принципов.
Если, к примеру, у Толстого подчеркивается периодич-
ность и регулярность внутренней жизни, то в культуре Се-
ребряного века, и в произведениях Бунина в частности, за-
метна большая дискретность форм психологизма, фраг-
ментарность психологических характеристик, что соответ-
ствует усложнившимся представлениям о душе, границах
111
самоосознания человека, согласно которым несомненв»
ранее целостность личности воспринимается теперь *
проблема. Ж
В стихии бессознательного у Бунина нередко обнат.
живается дробление индивидуальности, разрыв обыдент.
го и глубинного «я». Ярко показано это в образе ЕгЛ
Минаева («Веселый двор»), у которого «часто шли два т.
да чувств и мыслей: один обыденный, простой, а другой»,
тревожный, болезненный...» [3; 300]. Болезненные меД.
морфозы героя — от утопической надежды «питаясь оди^Й
редькой, попасть во святые» до играемой «роли у грсйа
матери» — соотнесены с тайным, во многом антагонЬ
стичным соприкосновением осознанного и бессознатель-
ного в его душе. Вообще ощущение дискредитированное^
привычных представлений о разумном чрезвычайно силь-
но в культуре начала века: показательна в этом смысле ин-
туиция Андреева о «бездне» между внутренним и внеш-
ним «я», обнажающей глубины бессознательного. В фина-
ле «Бездны» (1902) есть выразительная картина, предве-
щающая тревожные бунинские раздумья 10-х годов (поры
«Петлистых ушей», «Окаянных дней» и др.): «Немовецко-
го не было, Немовецкий оставался где-то позади, а тот,
что был теперь, с страстной жестокостью мял горячее по-
датливое тело...» (Андреев, 1996. С. 100-101). В рассказе
же «Мысль» (1902) недоверие к обыденным рациональным
мотивировкам достигает своего предела, что сближает Ан-
дреева с общемодернистскими мотивами. За парадоксаль-
ным восклицанием героя («Кому в себе я буду верить?»)
кроется видение «человеческой мысли, вечно лгущей, из-
менчивой, призрачной...» (Андреев, 1996. С. 133).
У Бунина, как и у многих модернистов, психологиче-
ская проблематика смыкается нередко с обостренный
переживанием кризиса традиционных форм культур#'
исторического оптимизма. К примеру, блоковские ра3'
мышления о цивилизации созвучны мотивам таких расска-
рв Бунина, как «Братья», «Господин из Сан-Франциско»,
1(0гнь пожирающий» (1923) и др. В «Господине...» утрата
дойностью духовных опор проясняет загадку «коллектив-
дого бессознательного» массовой психологии, особенно
догуальной для XX века: сюжет об императоре Тиберии,
доочему-то имевшем власть над миллионами людей...» [4;
325]. Игра бессознательных сил, сокрытая как в недрах
«всемогущей» Атлантиды, так и в сознании героев, все же
прорывается сквозь броню механического существования
— это опережающее начало бессознательного проступает
и в сне Господина, и в антиципации дочери («чувство
страшного одиночества на... чужом, темном острове...» —
4; 318). В «Огне пожирающем» ироническая двойствен-
ность образа, характерная и для поэтики символизма, про-
явилась в «театральном», бутафорском антураже траурной
церемонии (ср. маска в позднем рассказе «Un petit
accident», 1949), что передает глубинную незащищенность
личности перед лицом вечных стихий бытия. И хотя по-
добное качество образа в целом не весьма типично для бу-
нинской стилистики, его актуализация высвечивает черты
общности Бунина и многих модернистов в подходах к
познанию душевной жизни.
Приводившаяся выше мысль Мандельштама о насту-
пившем бессилии психологических мотивировок близка
видению Буниным частой редукции внутренней жизни у
современного человека, деиндивидуализации, что объяс-
няет намеренный отказ автора «Господина из Сан-
Франциско» от развернутых психологических характери-
стик. Овнешненность существования, влекущая утерю ин-
дивидуальности, провоцирует почти животный ужас чело-
века перед смертью («люди... ни за что не хотят верить
смерти...» — 4; 322) — вспомним в этой связи героев
«Большого шлема» (1899) Андреева, одержимых «таинст-
венной сутью карт», каждая из которых была для них
«строго индивидуальна» (!); героев, видящих в смерти
из
«бессмысленное, ужасное, непоправимое...» (Андрее,
1977. С. 50, 54).
Бунин, живо, как и символисты, ощутивший изъянц
опасности современного сознания (ср. легенду о ворону
«Братьях»), оказался созвучным и позднейшему опытуяк
ропейского модернизма. Так, в романе М. Бютора «И»,
нение» (1957) размышления об обезличенности и овнЖ
ненности главного героя, пытающегося «ухватиться^Ь
вещественные детали окружающего пространства (ото®,
тельный мат, синяя лампочка в вагоне и др.), невольно®,
социируются с бунинскими прозрениями в «Брать*,
«Господине из Сан-Франциско» и др.: «Тебе мнилось,ft-
пишет о своем герое Бютор, — что на них можно опер*,
ся, за них можно ухватиться, и ты пытался воздвигнуть^
них преграду против коррозии... против самокопания, Ко-
торое все сильнее расшатывает части того каркаса, той ф-
таллической брони, хрупкость и непрочность которой яви-
лась для тебя неожиданностью...» (Бютор, 1983. С. 202). Д I
Пристальное вглядывание в бессознательные процессы
душевной жизни, ставшее основанием объективного сбли-
жения Бунина с модернизмом, привлекло внимание уже
критики русского Зарубежья. В этом смысле показатель®
акценты, сделанные в известной работе И.А. Ильина (Ййк
ин, 1991).
В «художественном акте» Бунина Ильин справедливо
усматривает опору писателя на интуицию о глубинах бес-
сознательного, на «страшное чувство, уводящее в глубийу
темного, родового и всемирного опыта» (Ильин, 1991. *- |
35). За чувствованием темного начала подсознания, пре-
ступающим, по верной мысли Ильина, сквозь фасад здание
культуры и цивилизации, становится очевидной родствеЯ'
ность Бунина коренным чертам мироощущения рубеЖ3
веков. Но критик склонен абсолютизировать удельный вес
«темного лона инстинкта», «больных, смятенных судорог*
(Ильин, 1991. С. 64, 32) души в художественном целом бу* ।
114
^некого психологизма. В произведениях Бунина, как он
ролагает, первобытно-инстинктивная стихия становится
,цаком растворения личностного', «немыслящая глубина
инстинкта» делает человека «жертвой поддонных сил»
(Ильин, 1991. С. 54, 53). По сути, Ильин отделяет Бунина
от традиции русской классики, где, как известно, «акции»
индивидуальности всегда были предельно высоки. И по-
добный взгляд нам представляется неоправданным. Недо-
оценка значимости индивидуальности в мире Бунина,
идущая от Ильина, широко распространена и среди ны-
нешних работ, где бытуют суждения об «антиперсонализ-
ме» Бунина (Сливицкая, 1997), о многих его героях как о
«биологических индивидуальностях» (Кривонос, 1996. С.
70), об отсутствии у них «нравственных мучений и сомне-
ний, столь знакомых нам по русской литературе» (Соло-
ухина, 1984. С. 55) и т.д. Такая недооценка опровергается в
ходе анализа самих произведений Бунина. К примеру, в
«Солнечном ударе» (этот рассказ в числе прочих приводит
в качестве иллюстрации своих идей Ильин) важна-то как
раз индивидуализация чувства поручика к его спутнице,
именно выделение любовного переживания из сферы об-
щеродового опыта: «главным было все-таки... второе, со-
всем новое чувство — то странное, непонятное чувство,
которого совсем не было, пока они были вместе...» [5; 241].
У Бунина за интересом к бессознательным, инстинктив-
ным импульсам человеческой натуры не утерян масштаб
Личной судьбы героя — напротив, он расширяется за счет
художественного раскрытия сложного взаимодействия
осознанного и бессознательного в структуре личности.
Уязвимость концепции Ильина и его последователей
включается и в односторонней трактовке самого феноме-
на бессознательного у Бунина — исключительно как тем-
ной, деструктивной силы. Антиномичность же бунинского
нзгляда выразилась уже в его раннем рассказе «Туман»
(1901), где подчеркивается онтологическая нераздельность
115
пугающих «молчаливых тайн» мира человеческой дупА|
«бессознательной радости жизни» [2; 234]. ЯГ
Бессознательное увидено Буниным и в той ипостасЛ
которой не говорит Ильин, — как радостная стихия,Л
остряющая чувствование окружающего мира, что знамяЕ.
ет преодоление ограниченности разума, расширение тД
хологической реальности, прорыв к «realiora». Внеращ^.
нальная, интуитивно-бессознательная сторона оказывается
ключевой у героев таких рассказов, как «Лирник Родиов».
«Худая трава», «Хороших кровей», «Слепой» и др. Именно
эта стихия позволяет человеку живо ощутить «свою кров-
ную близость к тайникам и силам природы» [4; 175], един-
ство плоти бытия в его устремленности к надличной силе
прекрасного. Подобная родственность, проявляющаяся в
универсализации душевных состояний, становится путем
преодоления отчужденности современного сознания, остро
прочувствованной на рубеже веков.
В романе «Жизнь Арсеньева» Бунин через взгляд сво-
его героя создает особый ракурс видения судьбы личности,
остро восприимчивой к «блаженно-хмельной» стихии бы-
тия, но в ней, вопреки мнению Ильина, не растворяющей-
ся. В основе бунинского психологизма лежит раскрытие
граней взаимодействия осознанного и бессознательного
начал. О тайне встречи сокровенных пластов человеческой
психики, их взаимопроникновении Бунин размышляет, в
частности, в рассказе «Ночь» (1925). Автор интуитивно
прозревает в человеческом «я» «нечто основное, неразло-
жимое», корневые основы душевной жизни, которые не
затронуты разделением на осознанное и бессознательное,
обращается к Прапамяти, синтезирующей «огромную соз-
нательность» с «огромной подсознательностью» [5; 3021-
Подобный художественный опыт восприятия бессоз-
нательного во многом подтверждается исследованиями
психологов в XX веке — в частности, концепцией Грузив'
ской психологической школы (Д. Узнадзе, А. ШерозИЯ И
116
уугие), возникшей в 1920-е годы. «Психология установки
Усматривает отношения в системе “сознание — бессоз-
ргельное” не только и не столько в свете идеи антаго-
^зма, сколько в свете неустранимым образом проявляю-
щегося в них синергизма» (Шерозия, 1978. С. 37). Полеми-
(Ируя с Фрейдом и опираясь на «представление о фунда-
ментальном единстве человеческой личности» (Шерозия),
последователи проф. Узнадзе стремятся нащупать положи-
(ельное содержание бессознательного, грани его взаимо-
действия, «синергии» с сознанием. При этом в центре вни-
кания оказываются подспудные пласты психики, не знаю-
щие разделения на субъект и объект. Отметим, что у Буни-
ja образ мира и основан на этой слиянности, на глубинном
снятии оппозиции объективного и субъективного: это
сближает его творческую манеру с новейшими художест-
венными исканиями. Грузинская школа подчеркивает за-
ложенные в бессознательном возможности «опережающе-
го отражения действительности» {Шерозия, 1978. С. 41). В
культуре же рубежа веков интенция «подслушать в себе
трепет нового человека» {Белый, 1994 (I). С. 222), разгля-
деть «эмбрион завтрашнего дня в дне сегодняшнем» {Бе-
лш, 1988. С. 24) были особенно значимыми. У Бунина, как
и у ряда модернистов, интуитивно-опережающее отра-
жение действительности (вспомним частые в его прозе
^тащ-антиципации), прорастающее из недр бессозна-
тельного, выводит психологическую реальность произве-
дения далеко за рамки детерминистской картины мира.
Феномен трагического антагонизма сознания и непро-
светленных пластов бессознательного, особенно примени-
*ельно к XX в. — эпохе массовых движений — не стоит
с°расывать со счетов; этот антропологический опыт сбли-
*ал Бунина с раздумьями многих модернистов. В то же
&Ремя не менее важными оказываются и линии синергии
Знания и бессознательного, также дающие ключ к сопос-
Та8лению творчества Бунина с художественными принци-
117
пами модернизма. Для начала выделим эти основные^,
нии в бунинском мире. Ж '
Во-первых, это связано с раскрытием любовного^
реживания, встречи общеродовых импульсов, идущ^К.
стихии пола, и неповторимых свойств человеческой лК.
видуальности, что и являет, по Бунину, высшую краК
кульминационных мгновений любви («Грамматика
ви», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина» и др.)Ж
Во-вторых, синергия осознанного и бессознательЯк
нередко обнаруживается в образах «второго» проспаЛ.
ства — сна, онейрических состояний, воображения (ж.
раз вымысла» — по Белому), весьма значимых как у Бп.
на, так и для многих модернистов, с учетом, конечно, фх
функциональных различий («Сны Чанга», «МузьаЬ.
«Зимний сон» и др.). л
В-третьих, тесное взаимодействие сфер человеческой
психики нередко раскрывается через хронотопические Об-
разы — стихия Памяти в самых разных ее художественен
ипостасях, включая Прапамять («Ночь», «Соотечествен-
ник», «Жизнь Арсеньева» и др.). , i
* * *
Итак, одной из точек сопересечения осознанного и бес-
сознательного становится в художественном мире Бунша
любовное переживание. Предельно отчетливо это видно уже
в «Грамматике любви» (1915), где о «постигшем» героя
чувстве сказано весьма знаменательными словами БаратЫН'
ского: «Ни сон оно, ни бденье, — меж них оно, и в человеке |
им с безумием граничит разуменье...» [4; 304]. Ощущение
встречи «безумия» и «разуменья», происходящей в реШ®0"
щие моменты жизни, возникает и в других характеристик^
Хвощинского, который когда-то «слыл в уезде за редкой
умницу»: «сумасшедший или просто какая-то ошеломлеИ"
ная, вся на одном сосредоточенная душа?» [4; 300]. СвМ3
вопросительная модальность передачи внутренних проН^’1
118
рв свидетельствует о невозможности исчерпывающих ха-
дктеристик, о выходе психологической реальности за пре-
^ribi привычного понимания разумного, о чем впоследствии
{унии напишет в «Деле корнета Елагина».
У Бунина в миге любовного переживания заключена
предельная концентрация психологического содержания,
моменты самоосознания личности. Здесь в свернутом виде
0лен образ мира, универсализующая перспектива видения
душевных состояний. В «Митиной любви» (1924), где
примеры такой универсализации рассыпаны по всему тек-
сту, на смену традиционной причинно-следственной пара-
дигме приходит проникновение в индивидуальные, но
вместе с тем универсальные импульсы, балансирующие на
фани осознанного и бессознательного: «как всегда это
чувствуешь в толпе к тому, кого любишь...» [5; 187]; «он
чувствовал это с безошибочной чуткостью ревнивых на-
тур» [5; 189] и др. Активизация косвенных приемов психо-
логизма позволяет представить антиномии внутренней
жизни через мучительную прелесть картин окружающего
мира, где «все говорило о горечи разлуки и о сладости на-
дежды на лето...» [5; 190]. Постигая сущность любви, Бу-
нин на практике осуществляет давнюю мечту символистов
о слиянии индивидуального переживания с «душой мира»'.
«Теперь же в мире была Катя, была душа, этот мир в себе
воплотившая и надо всем над ним торжествующая...» [5;
198]. Любовь и таит, по Бунину, образ Всеединства как
’«Ира. так и разных сфер души, ту «жажду вместить в свое
сердце весь зримый и незримый мир» [4; 272], о которой
Речь шла еще в «Братьях» (1914). К этому писатель не раз
Урвется и в поздней прозе: «нестерпимое счастье», испы-
^ваемое героем «Руси» (1940), обостряя ощущение бес-
предельности души, дарит новое видение Всеединого чув-
^Венного мира — всего того, что «шуршало, ползло, про-
бралось...» [7; 51]. В рассказе «Таня» (1940) «блаженно-
бертная близость» с Таней («опережающая» психологи-
119
ческая деталь, «предугадывающая» дальнейшую cyj* I
персонажей) выводит героя к встрече его индивидуальЛ.
«я» с манящей бездонностью бытия: «...будто в первый»
видит он весь этот ночной, лунный, осенний мир...» [7;Ж
В «Натали» (1941) мгновение любовного переживания»
роя знаменует космическое расширение границ «внутЖ
него человека» (что не приводит, впрочем, к доминирЖ
нию безлично-космического начала, как ошибочно пол»
ет О. Сливицкая, 1995): «Я... застыл, оцепенел в »
страшном и дивном, что так внезапно и нежданно соф
шилось в моей жизни...» [7; 162]. 1
Показательна в этой связи и определенная доля обпшо.
сти антропологических исканий Бунина с философии
В. Соловьева, во многом повлиявшей в свою очередь^
интуиции младосимволистов о любовном чувстве. В таких
работах, как «Смысл любви» (1892), «Жизненная драма
Платона» (1898), Соловьев, взыскуя целостности человека,
что чрезвычайно важно для умонастроения эпохи, видит в
любви «больше, чем разумное сознание» (Соловьев, 1991.
С. 32) — иными словами, встречу глубин бессознательного
с вершинами самоосознания личности. В любви мыслитель
подчеркивает путь к «восстановлению единства... челове-
ческой личности.., созданию абсолютной индивидуально-
сти», к нахождению посредством преодоления эгоизма и
«соединения с другим существом своей собственной бес-
конечности...» (Соловьев, 1991. С. 46, 64). Стоит подчерк-
нуть, что размышления Соловьева о любви как сплаве ин-
дивидуально-личностного и космически-идеального, близ-
кие художественным идеям как Бунина, так и ряда симво-
листов, продиктованы стремлением отыскать пути преодо-
ления дезинтегрированности личности в современном ми-
ре — явление, живой отклик на которое объединял БуниНа
со многими из модернистов.
Важнейший «смысл любви» Соловьев усматривает ®
снятии этим чувством оппозиции духовного и телесного-
120
рзвращаясь же к контексту бунинских произведений,
ржем, что трагическая раздвоенность героев «Митиной
рбви», рассказа «При дороге» обусловлена как раз глу-
доным разрывом стихии пола и «личной любви» (Н. Бер-
иев). Так, в рассказе «При дороге» (1913) пробуждение у
фоини непросветленной силы полового притяжения к от-
Володе, Никанору не одухотворено любовью, что вле-
рт к трагичному антагонизму осознанного и бессозна-
lenbHoro, духовного и чувственного. В «Митиной любви»
цбельная близость героя с Аленкой, породившая «страш-
ную силу телесного желания, не переходящую в желание
душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего сущест-
во [5; 233], становится следствием разрыва общеродовых
начал коллективно-бессознательного опыта и индивиду-
альности. Угроза «плавления безликим полом лица любви»
(Степун, 1926), онтологическая для человека, особенно
актуализировалась, по мысли Бунина, в современном мире
л ведет к непримиримому антагонизму сознания и бессоз-
нательных сил души, дающему о себе знать в роковом сне
героя повести. Характерно, что трактовка Буниным этой
стороны раздвоенности современного «я» сближает его с
философскими исканиями начала века (В. Соловьев,
Н. Бердяев и другие). Н. Бердяев («Метафизика пола и
лобви»), видя, как и Соловьев, в любви апофеоз индиви-
дуальности, указывает на опасность смешения ее с родо-
вьтм инстинктом («Родовая половая любовь дробит инди-
видуальность»), подчеркивает, что «.Эрос есть путь к ин-
дивидуальности и вселенскости». Бунинскому художест-
^нному миру созвучна и диалектика бердяевской мысли о
т°м, что «человек в полноте своей есть космос и личность»
Бердяев, 1991. С. 238-239, 242, 271). Важна в этом плане и
Диктовка философом причин онтологической трагедийно-
любви, глубоко прочувствованной как Буниным, так и
^огими символистами: «Любовь по природе своей тра-
^чна, — убежден Бердяев, — жажда ее эмпирически не-
121
ограничима, она всегда выводит человека из данного М;
на грань бесконечности... Трагична любовь потому, ь
дробится в эмпирическом мире объектов любви, и са
любовь дробится на оторванные временные состояния.
{Бердяев, 1991. С. 242). Сущностное понимание Эроса^
устремления к обретению целостности личности, «обе
лютной индивидуальности» и одновременно как томл^цц,
земного по бесконечности обнаруживает не просто
ность Бунина с отдельно взятыми художественным^^,
лениями рубежа веков, но глубокую сопричастноспияЬ^
тем философским истокам, которые питали всю кулшу.
ру данной эпохи. ж
Действительно, повышенный художественный интякс
к проблеме любви, пола, не отделимый от общего ходив-
тропологических раздумий, сближал Бунина с исканвдмн
Серебряного века. Но существенными остаются и лиЙии
водораздела. В представлении символистов, любовь той-
звана увести в мир высших сущностей, «отблеском» t
(А. Белый) которых она является. С точки зрения Балый)н-
та, Эрос — выражение начал, исключительно внеполойн-
ных земному: «У Любви нет человеческого лица. У <йее
только есть лик Бога и лик Дьявола...» {Бальмонт, 1991; С !
99). У младших же символистов-«соловьевцев» будет^не I
раз подчеркиваться «теургический» характер любви i
вспомним блоковский образ Прекрасной Дамы, а также
значимые высказывания Белого, в частности, в стать?
«Священные цвета» (1903): «Всякая любовь... преобразо-
вательна, символична. Символическая любовь переносит6
Вечность точку ее приложения. Воплощение вечности
есть теургия. Любовь теургична по существу. Следов^'
тельно, в ней мистика. Организация любви религиозна--*’
{Белый, 1994 (II). С. 206). В бунинском же мире, в отлйЧИе
от символистов, осмысление любви основано на чувств0'
вании зримо-осязаемой действительности: это и рука Г6'
роини, «пахнувшая загаром» («Солнечный удар»); и КаТ*
122
долнившая своим конкретным присутствием природный
icmoc («Митина любовь»), и полуосознанные пережива-
Парашки («При дороге»), знаменующие углубление в
(сознательные пласты психики и в то же время усиление
ереоскопической выпуклости изображаемого.
Однако глубинные точки соприкосновения Бунина с
;дернизмом обусловлены общим восприятием Эроса в
1Пряженности с путем к интуитивному познанию мира и
1чности. Особую весомость приобретает в культурном
мании эпохи женский образ, становящийся воплоще-
1ем тайных сплетений душевной жизни. Этот образ
юникает и в художественно-философский дискурс (уче-
ie Соловьева о Софии, интуиции Бердяева о женствен-
>м начале России, символические черты женского об-
ва у Блока, загадочная стихия «легкости» бунинских
роинь и т.д.), и в «текст» реальной жизни начала века:
помним такие знаковые для своего времени фигуры, как
обовь Менделеева, Нина Петровская или Мирра Лох-
щкая... В статье «Бальмонт-лирик» И. Анненский под-
даст, что «психология женщины очень часто останав-
[вает на себе внимание» Бальмонта, и проницательно
язывает это с мироощущением рубежа столетий: «Об-
з женщины с неверной душой является... символом
бкой, ускользающей от определения жизни..» (Аннен-
ий. 1988. С. 500, 504). Примечательны в этом смысле и
интересованные высказывания Бунина о роковой судьбе
•усской Сафо» М. Лохвицкой, и следующая запись о
^нщинах: «...совсем особые существа... еще никогда ни-
to точно не определенные, не понятные, хотя от начала
ков люди только и делают, что думают о них...» [9;
•2]. Загадка женской души, обостренно чувствительной
вселенским силам Эроса, влечет к себе и Бунина и мно-
[к символистов. В этом отношении весьма показатель-
представляется рассказ Бунина «Дело корнета Ела-
'«а» (1925).
123
В фокус рассказа попадает художественное иссле^^
ние самого склада личности с декадентско-модернистед^
типом мироощущения (Сосновская, отчасти Елагин).
кальность очевидно переплетается здесь с чертами выр^
дения. Однако за модернистскими «штампами», зайр-,.
няющими и записки Сосновской («рок», «бездна» и т.ц.)
обстановку ее комнаты (опаловый фонарь, черный шелк»,
вый зонт), автор видит грани потрясенного сознания,; це
вписывающиеся ни в какие «объясняющие» мотивировки
В ярко выраженных приметах «модернистского поведе-
ния» — культ смерти и игра с нею, чтение Шопенгауэра,
частые взаимопереходы жизни и искусства — таится, по
Бунину, глубинная незащищенность современного созна-
ния перед вечными законами мироздания, понимание ко-
торых неизбежно остается лишь частичным: укажем на
символичный эпизод со вспыхнувшим пеньюаром герои-
ни. Проникая во внутренний мир и Елагина и Сосновской.
автор сосредотачивается на изображении глубин подсозна-
тельного, уводящего в тьму общеродового опыта: «первая
месса пола», «резко выраженная наследственность» и др. В
стихии Эроса происходит антиномичное соприкосновение
— и синергийное, и резко антагонистическое — бессозна-
тельных импульсов, владеющих героями, и той напряжен-
ной работы самосознания, которую вели как Елагин, так и
героиня рассказа. Показывая вместе с этим «земные» исто-
ки характеров героев (их «обостренную чувственность... во
всем мироощущении» — 5; 289), Бунин тонкими штриха'
ми очерчивает грани трагизма современного человека-
замкнувшегося в своем отчужденном «я» от прелести ПЛ°'
ти мира (общность с ходом размышлений многих сим®0'
листов): Елагин переживает мучительный разрыв «глух®*
и темных комнат», где в угаре страсти они с Сосновской
писали «ненужные записки», и того «прекрасного летнего
вечера» [5; 292], чарующая простота которого так и ост3'
лась им недоступной... Подчеркнем, что данный расска3
124
данципиально важен не только с точки зрения бунинско-
, видения Эроса как сферы одновременно и синергии и
ргичного антагонизма осознанного и бессознательного
рал, но и в свете общего понимания проблемы — «Бу-
да и модернизм». Эстетическая реальность бунинских
низведений отодвигает на второй план категоричность
югих его суждений о модернизме, показывая, что тот
йствительный психологический опыт бытия личности в
рале века, чувствование которого росло в недрах модер-
зма, влечет к себе Бунина как художника, мудро распо-
ающего за внешними наслоениями глубокие антрополо-
ческие вопросы, заявившие о себе в современности.
it it it
Наряду со сферой любовных переживаний важной точ-
й соприкосновения осознанного и бессознательного у
пина, как и модернистов, выступает онейрическое изме-
нив . Вообще культура рубежа веков проявляет повы-
гнное внимание ко «второму», неявному пространству
шевной жизни, стихии сна, воображения. К примеру,
Белый в одном из определений символа подчеркивает в
м «образ вымысла», активизацию его тайной работы у
орящего и воспринимающего «я». Стихия воображения
дится при этом как подтверждение трансцендентности
знания, опережающих потенций, заложенных в недрах
ссознательного.
У Бунина же постижение психологической реальности
отторжимо во многих произведениях от сновидческой
tuxuu, а также таинственной силы воображения.
Образ сна в психологической функции особенно ак-
ализируется в целом ряде бунинских рассказов 1910-х
Дов — «Худой траве», «Снах Чанга», «Казимире Стани-
авовиче», «Господине из Сан-Франциско»... Во многих
Учаях именно сновидческое выступает как проявление
'ережающей роли бессознательного. В рассказе «Худая
125
трава» цепь онейрических состояний готовящегося к щ
ятию смерти Аверкия сопряжена с антиципацией, с в(
можностью заглянуть «за рамку» отмеренного судьб,
срока: здесь обнаруживается сродство героя с вечность!,
воплощенной в земном облике мира («летний день, летви
ветер в зеленых полях»), трансцендентность, внутренне
беспредельность человеческого «я» («затрепетавшая
ди сладкая надежда на что-то...» — 4; 150). ГлубиЩвал
встреча земного «теаНа» и сновидческого «realiora» nj».
исходит и в «Казимире Станиславовиче», где «оперея^уу
щий» сон героя соотносится с чуть позже возникаю)^
образом-переживанием («церковь выжидательно поЙре-
скивала свечами» [4; 346] — перед приездом дочери). Jo-
добный параллелизм приоткрывает тайную жизнь дуйте
встречу в ней напряженной работы сознания (остающиеся
в подтексте раздумья о дочери, собственном прошлом) и
бессознательных сил. В «Господине...» промелькнувший
сон героя («нынче ночью... он видел именно этого джент-
льмена, точь-в-точь такого же, как этот...»), содержит не-
вольную антиципацию, весьма резко очерчивает пределы
самонадеянного разума, его подвластность таинственным
силам бытия.
Заметим, что данные примеры являются не отдельными
эпизодами, «вкраплениями» в бунинский текст, но темя со-
ставляющими, которые во многом формируют здесь повест-
вовательную стратегию — с ориентацией на мощную ассо-
циативную струю внутреннего действия, переосмысляю^^
традиционные пути сюжетной мотивированности.
Размышлениям Белого и других модернистов об онто-
логической укорененности сознания в надличной стихии
созвучна психологическая реальность бунинского рассказа
«Сны Чанга» (1916). Акцент на подсознательных сила-4
души проявляется здесь в том, что масштаб всей судьбь1
героя представлен как «серия снов» об этой судьбе. В сН°
видческом «realiora» — поток антиномичных интуиций 01
126
ifjocax «Пути всего сущего», о мире личности, разомкну-
в бесконечность: «весь мир был в его душе в эту мину-
([4; 380]. В стихии сна — памяти — воображения про-
водит соединение внутреннего и мирового пространства,
фос соединения этих сфер — один из ключевых в мо-
)нистском мироощущении. Но важно, что у Бунина сти-
i воображения не уводит от земной эмпирики, но ока-
пается зримым, осязаемым проявлением тайны бытия и
инства его уровней: «А где грань между моей действи-
пьностью и моим воображением, моими чувствами, ко-
рне есть ведь тоже действительность, нечто несомненно
Шествующее?» [5; 305]. В таких поздних рассказах-
[ниатюрах, как «Апрель» (1938), «Мистраль» (1944),
[егенда» (1949), образы «второго» пространства душев-
ой жизни — сон, воображение, дыхание прапамяти — со-
ряжены и с «чуткостью ко всему тайному и дивному, чем
рлон мир» [7; 311], и со слепящей конкретностью, «рази-
гльной остротой» [7; 303] изображения. Лирическое пе-
еживание, например, в «Легенде» раздвигает пределы
ремени до бесконечности — то, чего так страстно искали
рмволисты. В рассказах «Зимний сон» (1918), «Музыка»
)924), «Неизвестный друг» (1923), «В некотором царстве»
|923) стихия воображения явлена и как прихотливая, час-
D загадочная для самого человека игра его душевных,
ворческих сил, прорыв к сверхсознанию («кто-то, сущий
» мне помимо меня, тайный даже для меня самого» [5;
05] — «Музыка»). В «Неизвестном друге» Бунин напи-
шет об этом с предельной откровенностью, благодаря чему
Свитные линии притяжения к опыту модернизма стано-
ится особенно ощутимыми: «Ведь мы не понимаем даже
*оих собственных снов, созданий своего собственного
°ображения. Наше ли оно, это воображение? Нашей ли
°ле подчиняемся мы, стремясь к той или иной душе..?» [5;
Ч. Сила воображения, расширяя временную перспективу,
^ловится сферой обнаружения трансцендентности «я»,
127
«сочетания сознаний» (Вяч. Иванов): «...И Годунов
этому зимнему русскому вечеру, снежным полям и
что-то дикое и сумрачное, угрожающее...» [5; 108] («Я^
котором царстве», 1923). 1
Типологически бунинские интуиции о вообража^
как «встрече» сознания, бессознательных пластов и сЛх.
сознания близки и ракурсу изображения многослойна^
«я», найденному Пастернаком в «Докторе Живаго»:
Юрия Андреевича о Ларе и сыне (кн. 2 ч. 13 гл. 9) и реац.
ция на него переданы автором так: «Не сам он, а что-то
более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем... И вме-
сте со своей плакавшей душой плакал он сам...» {Пастер-
нак, 2000. С. 329). И у Бунина и у Пастернака внутренний ।
мир увиден «поверх барьеров» традиционной субъектно-
объектной парадигмы, «я» предстает здесь в неразрывном
единстве эмпирически-обозримого и трансцендентного;
личность подчас оказывается не только активным субъек-
том душевной деятельности, но и интуитивно переживаю-
щей то или иное состояние.
Однако в плане пристального интереса к онейрическо-
му измерению у Бунина с модернистами были не только
сближения. Безусловно, объединяло видение «второго»
пространства как «связующего звена с вечностью»
(Л. Долгополов в связи с Белым —Долгополов, 1988), как
расширения психологической реальности «а realibus ad
realiora» (Вяч. Иванов), а в конечном счете — как целост-
ного восприятия психики в «единстве переживаний» (Бе-
лый). Но если в художественной практике символистов
«туманные плоскости... мозговой игры» героев (например
в «Петербурге») оттеняли призрачность эмпирической
действительности, пронизанной «космическими сквознЯ'
ками», то у Бунина мы видим прямо обратное: чем глубзке
проникновение в сферы онейрического измерения, тем вь1'
пуклее и осязаемее яркость «первого», посюсторонней
пространства. Однако выделение этих различий не ноей1
128
десь аксиологического характера: речь идет о двух раз-
дох, но в чем-то принципиально схожих векторах позна-
(ця мира и личности. Если символисты в большей степе-
ни погружены в раздумья о потрясенном сознании совре-
менного «я», с его «мозговой игрой», «боязнью про-
странств», «двойниками» (от Бальмонта до Блока и Ан-
(енского), то в эстетической реальности Бунина ощути-
мее проступают пути глубинной интеграции этого отчуж-
денного сознания с вечными началами Бытия — и при-
родного, и метафизического. Восприятие этих путей в их
контаминации — «неслиянности», но и «нераздельности»
-- и способствует, на наш взгляд, уточнению общей кар-
тины антропологических исканий на рубеже веков. Кроме
того, если иметь в виду творчество Бунина в целом, то
нельзя не признать, что сновидческое все же выступает у
него как элемент в системе антропологических взглядов,
а не в качестве их основы, с чем мы сталкиваемся, говоря
о подавляющем большинстве модернистских текстов. По-
этому, отмечая всю важность онейрического измерения в
художественном мире Бунина в свете его схождений с
модернизмом, следует воздержаться от преувеличения
удельного веса этого начала в творчестве писателя, чьи
связи с классической традицией всегда оставались доста-
точно весомыми.
Что же касается подходов к осмыслению соотношения
осознанного и бессознательного начал, самого феномена
бессознательного, то здесь «встреча» Бунина с модерни-
стами была обусловлена остро прочувствованной потреб-
ностью в расширении психологического опыта, познании
Многообразного взаимодействия пластов человеческой
Психики. При этом трагические интуиции Бунина о темных
глубинах бессознательного, парадоксах массовой психоло-
гии, сближавшие его творчество с контекстом общемодер-
вистских размышлений, означали склонность вовсе не к
«редукции» личности или «антиперсонализму» (О. Сли-
Зак. 5821
129
вицкая), но к целостному видению душевной жизни с
том усложнившегося опыта современности. И если реацд.
стическая эстетика тяготеет, по мысли Л. Гинзбург, к тому
чтобы «любой душевный опыт, даже иррациональный
представить в причинно-следственных связях» (Гинзбург
1979. С. 67), то у Бунина, как и в модернизме, очевидец
отход от детерминизма XIX века в сторону «синтезирую,
щего» психологизма», основанного на мгновенном про-
никновении в «неразложимое единство процессов чувство-
вания, воления, мышления» (Белый, 1994 (II). С. 123), уг-
лублении в онейрическое измерение, на детальной худо-
жественной разработке процессов «обмена», конкретных
форм взаимоперехода осознанного и бессознательного.
§ 3. Хронотопические формы психологизма
Общие линии обновления и эволюции путей проник-
новения в глубины «внутреннего человека» в значительной
мере были сопряжены на рубеже веков с активизацией
хронотопических форм психологизма в литературе.
Кардинальный как для Бунина, так и для многих мо-
дернистов, императив целостного восприятия мира и лич-
ности (с учетом усложнившегося антропологического
опыта) влек за собой, как отмечалось выше, интенцию к
расширению психологической реальности. Именно это и
обусловило тяготение к лиризации хронотопических обра-
зов, их насыщению «переживаемым содержанием созна-
ния» (Белый), а также акцент на внутреннем — не плоско-
эмпирическом — чувствовании пространства и времени. В
художественном контексте рубежа веков активизация пси-
хологического содержания хронотопа оказывается особен-
но значимой. Об этом не раз писали сами символисты-
А. Блок, ощущая в «Крушении гуманизма» утерю равнове-
сия в современной действительности, утверждает примат
«внутреннего», глубоко личностного времени — «нечнс-
130
цимого, музыкального» — над непрочным «календарным
временем, ничего не говорящим о мире мельканием исто-
рических дней и годов...» (6; 102). Более того, сплавленйе
чувственно воспринимаемых пространства и времени с
субъективностью их внутреннего переживания понималось
как основа цельности символического образа: Белый в
«Магии слов» (1909) видел в символе «соединение... дос-
тупного моему зрению пространства и глухозвучащего во
мне внутреннего чувства, которое я называю условно...
временем...» (Белый, 1994 (II). С. 131).
Интенсификация хронотопических образов, их много-
значность при изображении душевной жизни оказывают-
ся весомыми в творческой практике Серебряного века. К
примеру, в художественной системе Бальмонта такие вре-
менные образы-лейтмотивы, как «однодневки», «дробя-
щиеся мгновения», знаменуют глубинную дробность эмо-
ции лирического «я», его «сожженность... каждой мину-
той» (стих. «Мы брошены в сказочный мир...»), что позво-
ляет зримо воплотить онтологическую разорванность
современного сознания. С другой стороны, лирический
герой Бальмонта тянется к тому, чтобы в душе ощутить
единство пространств микро- и макрокосма (ср. цикл «В
душах есть всё», 1898-99 гг.). Тем самым хронотопическая
модель оказывается созвучной «этернизму» (Е. Эткинд) во
взгляде на личность, сближавшему Бунина с приметными
сторонами символистского мироощущения.
Пространственная выраженность внутренних состоя-
ний весома и в поэзии Блока, причем уже с ранних циклов
и сборников. В «Ante lucem», «Стихах о Прекрасной Даме»
хронотопические образы (ст. «Помнишь ли город тревож-
ный...», 1899; «Город спит, окутан мглою...», 1899 и др.)
нацелены на раскрытие образа-переживания. Важны в этом
смысле и световые решения пространства. В «Стихах о
Прекрасной Даме» на первый план выходят промежуточ-
ные оттенки света и тьмы («вечереющий сумрак», «остере-
131
гающий струился свет», «сумерки невнятно трепетал*
(Блок, 1960-1963. Т. 1. С. 149, 157, 175), созвучные*
только самой «мерцающей» фактуре символа, но и черт*
аморфности, частой неустойчивости переживаний сов*
менного «я». «Мерцание» пространственных образов с®,
дает важный в символистском контексте эффект «коле*,
ния» границ между осознанным и невысвеченным, невеф.
бализованным в душевной жизни, между бесконечности^
мирового целого и микрокосмом «внутреннего» человек^.
Впоследствии хронотопические образы у Блока будут, ра-
зумеется, заметно эволюционировать, однако их функцио-
нальная взаимосвязь с психологическим содержанием со-
хранится и углубится — вспомним, например, мотивы
призрачности, «туманности» города (и в «Городе», и в
«Страшном мире»), которые напрямую соотнесены с чув-
ством глубинного расщепления сознания лирического ге-
роя в лабиринте «двойников». Как и у Бальмонта, познание
внутреннего мира сопряжено у Блока с активизацией сле-
дующих рядов временных образов-символов — «мгновен-
ной души», «мгновенных видений», явленных «случайно-
му “я”», всеобщей скользящей «мимолетности» (ст. «Иду
— и все мимолетно...», 1905), безумно «летящих» лет (ст.
«Миры летят. Года летят...», 1912). Очевидно, что художе-
ственное время отвечает здесь чувствованию утери онто-
логических опор существования личности, «мгновенной»,
пугающей укороченности душевных эмоций.
Ключевую роль выполняют хронотопические образы И
в «Петербурге» А. Белого, вступающие, что особенно зна-
чимо, в прямые корреляции с контекстом бунинского
творчества («Петлистые уши»).
Петербург у Белого охвачен всепоглощающим тума-
ном, образ которого соотнесен с «туманными плоскостя-
ми... мозговой игры» (Белый, 1994 (III). С. 29) отца и сына
Аблеуховых. Автор настойчиво устраняет границы, разде-
ляющие внешнее и внутреннее пространство и время,
132
стремясь сплавить «образ видимости» с «образом пережи-
вания»: у Аполлона Аполлоновича «каждая мысль разви-
валась упорно в пространственно-временной образ...» {Бе-
jbiil, 1994 (III). С. 31). «Неспокойная призрачность» города
обнажает кризис традиционных представлений о разумной
обусловленности человеческой личности. Лейтмотивом
оказывается здесь образ сознания, «боящегося» про-
странств, «стирающих» отличительные признаки индиви-
дуальности. «Стерто-серые» лица обитателей Петербурга
напоминают сходные блоковские образы (ср. ст. «Повесть»
из цикла «Город»), контекст сборника «Пепел»: Аполлон
Аполлонович — «боялся пространств»; «Николай Аполло-
нович... пространств не любил-, еще более его ужасали ле-
дяные пространства, явственно так повеявшие на него от
слов Александра Ивановича...» {Белый, 1994 (III). С. 76,
85). Страх перед «пространствами» символизирует бытий-
ную незащищенность, уязвимость личности перед лицом
бессознательно-хаотичных импульсов собственного «я»,
перед давшим трещину традиционным «зданием» культу-
ры и цивилизации.
Психологической функцией наделен «петербургский
текст» и в рассказе Бунина «Петлистые уши» (1916), не-
ожиданно сближающемся со стилевыми доминантами
«Петербурга». Здесь возникают близкие Белому картины
города, с его «черными» фигурами, «туманной темнотой»,
«обезглавливающей» Казанский собор, и даже хорошо из-
вестные по роману Белого мотивы «чумных бацилл» [4;
391]. И в «Петербурге» и в «Петлистых ушах» апокалип-
сическая перспектива видения города и мира проникнута
Пронзительным ощущением разрушения позитивистской
Цивилизации, воплощением которой выступала «северная
столица». Неслучайно появление в обоих текстах памятни-
ка Александру III, символизирующего своим антидвиже-
Нием, по мысли В. Пискунова {Пискунов, 1988), конечную
фазу «петровского» цикла русской истории и, что весьма
133
существенно, «крушение гуманизма», остро прочувство,
ванное и Буниным и многими из модернистов. Хронотопа,
веские образы имеют здесь в подоснове именно антропо,
логическую проблематику. Показательны даже элементу
стилевой общности на путях постижения раздробленное^
современной души: и у Белого и у Бунина этой цели слу.
жат метонимические образы-символы. В «Петербурге» це-
лостная индивидуальность все время «вытесняется» «ко-
телками», «тростью», «ушами» и т.д.; в бунинском расска-
зе фигурируют обезличенный «щуплый господин в котел-
ке» [4; 393], гротескно выделенные «усы», «губы, одереве-
невшие от стужи» [4; 392] у скрывающегося в «арктиче-
ской мгле» полицейского... Стоит отметить, что в целом
подобный стиль не типичен для бунинского дискурса, но,
наверное, тем значимее его локальное появление: катаст-
рофизм мироощущения, угроза «исчезновения» человека
во тьме «страшного мира», небывало остро заявившая о
себе в первые десятилетия XX века, сближали разных ху-
дожников — в том числе, как видим, и на уровне общей
стилистики. Это сопоставление выявляет типологическое
схождение Бунина с символизмом в плане активизации
хронотопических приемов психологизма, тенденции к экс-
прессивной субъективации форм изобразительности, что
не отменяет, впрочем, и принципиальных различий в твор-
ческой манере. Если у Белого иррациональная «мозговая»
игра нередко деформирует предметный план изображения,
то у Бунина даже самые «модернистские» образы (ср. «Но-
чью в туман Невский страшен...» [4; 393]) отличаются
классической отточенностью, осязаемой вещественностью
— это «сочетание», как полагал еще В. Ходасевич, и уси-
ливает эффект психологизма его прозы.
* * *
Итак, актуализация хронотопических образов, стира'
ние жестких границ между внутренним и мировым пр®"
134
(Дранством, обусловленные задачей расширения психоло-
гической реальности, о чем так много размышляли симво-
листы, оказываются существенными свойствами психоло-
гизма в прозе Бунина.
У Бунина, как и у многих модернистов, принципиально
важна активизация категории «внутреннего» времени, ко-
торая продиктована стремлением нащупать глубинные
опоры бытия человека в мятущемся мире, противостоять
опасной дробности, редуцированности личностных пере-
живаний. В целом ряде рассказов «выстраивается» «пси-
хологическая топология» (выражение М. Мамардашвили,
используемое им в связи с Прустом — Мамардашвили,
1995. С. 19), сопряженная с интуитивным движением от
эмпирических пространства и времени к «археологии ду-
ши», «образу переживания» (Белый). Так, например, дина-
мика «Грамматики любви» (1915) связана с постепенным
перемещением сознания автора и героя от внешнего про-
странства (дорога, по которой едет Ивлев) в глубины па-
мяти: «...вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил тут в
молодости верхом...» [4; 301] (подробнее об этом см.:
Сафронова, 2000. С. 57-98). В «Темных аллеях» (1938) от
чувственно воспринимаемой дороги путь влечет в глубь
души, к тайникам «утраченного времени»; решающее
мгновение жизни героя (нежданная встреча с Надеждой)
позволяет по-новому просмотреть прожитое, освещает
«темные аллеи» судьбы. То же и в «Позднем часе» (1938):
временной образ, присутствующий в названии, интенси-
фицирует устремление лирического «я» от внешнего про-
странства, поражающего своей полнотой и зримостью, к
«внутреннему путешествию» (Мамардашвили) в поисках
разгадки тайны пространства и времени, памяти о далеком
любовном переживании, о потерянной России. В психоло-
гической насыщенности бунинских хронотопических об-
разов мы видим оригинальный путь художественного при-
ближения к «исчислимому, музыкальному» времени (Блок)
135
в его равновесности с предметным планом, о чем мечтал
символисты, именно в этом и усматривая сущность симик
ла, «синтезирующего видения внутреннего мира» (Белье
1994(1). С. 123). I
В психологическом отношении художественный оп&
модернизма был пронизан чувством убыстрения темп®
внутренней жизни современной личности. С этим связаны
и импрессионистические тенденции в поэзии и прозе нач|.
ла века, по-своему отображающие «мгновенное “я”»; и во-
обще представление об имманентности дискретной факто-
ры лирического образа актуальной антропологический
проблематике. Указанные интуиции, разумеется, требова-
ли адекватных форм изображения: именно это вызвало к
жизни весомые в русском и европейском модернизме экс-
перименты с категорией времени — ив целом, как отме-
чалось выше, значимость хронотопических образов и мо-
тивов именно в свете психологического содержания.
При всем декларативном недоверии Бунина к любого
рода эстетическим экспериментам именно в его прозе мы
находим тенденцию к синтезированному видению време-
ни, составляющую во многом противовес укороченности
внутренней жизни современного «я». Ярчайший образен
такого восприятия времени явлен в «Солнечном ударе»,
где в «миге» «иступленного поцелуя» героев перекидыва-
ется мост сразу между тремя временными измерениями:
мгновением настоящего, памятью о прошлом (которая да-
на в антиципации) и интуицией о последующем: «Оба так
иступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоми-
нали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испы-
тал за всю жизнь ни тот, ни другой...» [5; 239]. Важен здесь
акцент на субъективно-лирическом переживании времени.
Уплотнение хронотопических форм позволяют передать
синхронность внутренних переживаний, в большей степени
(в сопоставлении с аналитизмом толстовской «диалектики»)
апеллирующую к невыявленным, бессознательным пластам
136
душевной жизни. Бунинское представление о синхронно-
сти, дискретности переживания роднит его с М. Прустом. В
романе «Под сенью девушек в цвету» (1918) мы находим
такое размышление героя: «Часто (ведь наша жизнь так не
хронологична, в вереницу дней врывается столько анахро-
низмов!) я жил не во вчерашнем и не в позавчерашнем дне,
а в одном из тех более давних, когда я любил Жильберту...»
(Пруст, 1992. С. 177). В рассказе же «Солнечный удар» об-
раз-переживание синтезирует внутреннее и внешнее про-
странства — в том «южном» (углубление в ассоциативный
слой), что было в волжском городе, таящем «во всем без-
мерное счастье...» [5; 242, 243].
Мгновения самоосознания бунинских героев, состав-
ляющие сердцевину их бытия — как, например, в «Снах
Чанга», «Солнечном ударе» или «Иде», высвечивают несо-
стоятельность причинно-следственных детерминант, «не-
хронологичность» жизни (Пруст). Показательно, что о пре-
дельно интенсивном переживании, прорастающем из «мига»
как особого художественного измерения, прямо писал А. Бе-
лый в «Петербурге» — «миг», по его мысли, видится как
«определяемый полнотой душевных событий (т.е. субъек-
тивным, «внутренним» временем. — И.Н.), он — час, либо
— ноль: переживание разрастается в миге, или — отсутству-
ет в миге — где миг в повествовании нашем походил на пол-
ную чашу событий...» (Белый, 1994 (П1). С. 396). Как видим,
психологическая весомость временных образов, сама их фак-
тура сближала Бунина с эстетическими поисками модерни-
стов, а размышления писателя о «фрагментарности само-
осознания личности (Колобаева, 1998 (Ш). С. 176) вновь
вступает в корреляции с опытом Пруста. В одном из эпизо-
дов упомянутого выше романа герой тонко анализирует
вспыхнувшее в нем по дороге в Бальбек влечение к продав-
щице молока: «В обычное время мы живем ничтожной ча-
стью нашего существа, почти все наши способности дрем-
лют, полагаясь на привычку... Но сегодня утром, в дороге...
137
моя привычка... изменила мне, и все мои способности nft
спешили ей на смену... поднимаясь разом... — поспеши™
все, от самой низменной до самой возвышенной...» (Прусш
1992. С. 188). I
Художественный эксперимент с категорией времен#
характерен и для более позднего европейского модернизме
— в частности, для французского «нового романа». Так,1
романе М. Бютора «Изменение» хронотоп выступает кп
универсальная форма психологизма — произведение вй#
строено как цепь воспоминаний, вторгающихся в момей^
настоящего. Движение пространственных и временных об-
разов (Париж — Рим) знаменует наложение различных
душевных состояний: образ Рима сопряжен с «археологи-
ей» утерянной целостности души и видится как город, где
«укрылось твое былое, подлинное “я”» {Бютор, 1983. С.
161). Но через хронотопические мотивы приоткрывается и
ощущение плазмовидности сознания, распада внутреннего
«я»: «...насколько хрупка твоя любовь и как неразрывно
связана с Римом...» Даже любимая Дельмонтом Сесиль те-
ряет для него привлекательность, «выпадая» из римского
«освещения»: «...лучи Рима, которые она отражает и соби-
рает в фокусе, гаснут с той минуты, как она оказывается в
Париже...» {Бютор, 1983. С. 206, 231).
В плане соотнесенности исканий Бунина с общемодер-
нистскими тенденциями важной точкой сближения ока-
зывается стремление к синтезированному художествен-
ному восприятию эмпирических пространства и времени и
«хронотопа сознания», уплотнение, лирическая окрашен-
ность хронотопических образов, выступающих в психоло-
гической функции.
* * *
Важнейшими художественными ипостасями «внутрен-
него» времени оказываются у Бунина Память и Прапа-
мять. В рассказе «Ночь» (1925) именно в пластах Памяти
138
рнтуируется синергия осознанного и бессознательного, ос-
нованная на проникновении в те целостные слои души, ко-
торым неведомо разделение на «огромную подсознатель-
ность» и «огромную сознательность». Актуализация «вре-
мени» Памяти способствует расширению сферы психоло-
гического изображения. Симптоматично сближение Бунина
с символистами, некоторые из которых именно в опоре на
Прапамять интуитивно видели залог прорыва к «real tor а»
душевной жизни. В «Мыслях о символизме» (1912) Вяч.
Иванов писал по данному поводу: «...И это воспоминание, и
это предчувствие... переживаются нами как непонятное
расширение нашего личного состава и эмпирически-
ограниченного самосознания...» (Иванов, 1994. С. 193).
Память составляет в бунинской прозе подспудное
«внутреннее» действие, по сути замещая причинно-
следственную логику ассоциативно-ритмическими хода-
ми. Эти свойства бунинского образа основаны на специфи-
ке его художественного образа — «модели памяти», — где
снимаются поверхностные пространственно-временные
границы. В рассказе «Ида» (1925) акцент на «внутреннем»
времени, памяти выводит за рамки ограниченного земного
измерения: «...поцеловала одним из тех поцелуев, что пом-
нятся потом не только до гробовой доски, но и в моги-
ле...» [5; 253]. Варьируясь и углубляясь, этот мотив звучит
и в поздних рассказах. Финал «Визитных карточек» (1940)
неожиданно изнутри «взрывает» тривиальную сюжетную
ситуацию случайного дорожного знакомства: «Он поцело-
вал ее холодную ручку с той любовью, что остается где-
то в сердце на всю жизнь...» [7; 77]. Образ памяти, зрею-
щей в интуиции героя, создает особый ракурс видения
психического процесса, а лаконизм формы времени позво-
ляет достичь повышенной экспрессии. Память в художест-
венном мире Бунина есть свидетельство трансцендентно-
сти человеческого «я», проявление «того Божественного,
Чего никто не понимает», знак синергии осознанного и
139
бессознательно, единства микрокосма души и «безначаль.
ного и бесконечного мира, что не доступен смерти» [4.
385]. Именно пространство Памяти позволяет соотнести
мгновенное и вечное в целом душевной жизни, остроту
чувственного восприятия мира и невербализованные глу-
бины личности. И в этом Бунин объективно близок худо-
жественным исканиям символистов с их устремленностью
к прорыву за пределы эмпирической психологии («чече-
вичной похлебки психологии» — по А. Белому) к
«геаГюга» «внутреннего» времени ради обретения «живой
цельности переживаемого содержания сознания», универ-
сализующего восприятия жизни души. Притом, что у Бу-
нина, в отличие от многих модернистов, «realiora» «внут-
реннего хронотопа» зиждется на ясности изображения
предметного мира, все же движение к временному син-
кретизму, субъективации пространственно-временных
форм ставят его в контекст художественных экспери-
ментов с категориями времени и пространства как в рус-
ском, так и европейском модернизме.
§ 4. Сюжетно-композиционные формы психологизма
Общая направленность эволюции принципов психоло-
гического изображения в литературе рубежа веков, сбли-
жавшая Бунина с модернизмом и заключавшаяся в активи-
зации художественного интереса к бессознательному,
субъективации хронотопических форм, интуиции о кри-
зисных явлениях современного сознания, — способствова-
ла обновлению сюжетно-композиционных принципов пове-
ствования относительно реалистического письма.
Классическое представление о сюжете, соотнесенное с
его психологической функцией, состояло, по словам
Л. Тимофеева, в том, что «сюжет есть история характера..,
все узловые пункты сюжета определяются именно в связи
с их значением для развития характера...» {Тимофеев, 1959-
140
с. 154). Подчеркнем здесь акцент на линейно-
доступательной динамике сюжета («история»), подчинен-
ной многосторонней причинно-следственной детермина-
ции реалистического характера. Однако в конце XIX —
начале XX века художественные представления о характе-
ре претерпевают, как было показано выше, значительные
изменения, поэтому и формы повествования становятся
нначе сопряженными с познанием личности. Но это, в ча-
стности, обратил внимание А. Скафтымов: говоря о
«принципах построения» пьес Чехова, он отметил, что в
центре здесь интерес не к событийности как таковой, но к
«внутреннему» времени бытия героев, тому «общему чув-
ству жизни... синтезирующее дыхание которого ощущает-
ся за каждой деталью...» (Скафтымов, 1972. С. 419).
Бунин о неудовлетворенности традиционными жанро-
выми и повествовательными формами, их неадекватности
глубинному психологическому содержанию писал в расска-
зе-миниатюре «Книга» (1924): «Зачем героини и герои? За-
чем роман, повесть, с завязкой и развязкой..?» [5; 180]. Но
принципиально важным представляется понять: с одной
стороны, каковы были точки пересечения Бунина с модер-
низмом в плане обновления повествовательных форм, но с
другой — почему у Бунина мы все же не наблюдаем модер-
нистского распада этих форм, окончательного отказа от
«героинь и героев», как это декларировалось, к примеру,
«новыми романистами».
Уже в ранних бунинских рассказах («На хуторе», «Вести
с родины», «Перевал» и др.), лирических в значительной сте-
пени, очевидна активизация «внутреннего» действия; поток
памяти-припоминания создает композиционную инверсию
— не линейность сюжета, но цепь нерациональных импуль-
сов сознания, направленных на постижение «цены жизни»
перед лицом вечных сил бытия, тайны смерти (подробнее об
этом см.: Ничипоров, 2000). В основе реалистической сю-
жетности лежит мысль о процессуальное™ и поступатель-
141
ности развития как мировой истории, так и внутренв*
жизни личности: на этом заострил внимание еще Н. Ч»
нышевский при установлении специфики художественноЖ
психологизма Л. Толстого. Приметной же чертой буниЖ
ской прозы оказывается дискретность повествовательна
ткани, напрямую связанная с его концепцией личности. Ж
В рассказе «Игнат» «экспозицией» характера герЖ
становится «смутно понимаемое» им влечение к Люб»
Доминируют здесь косвенные приемы психологизма: тр»
диционное место мотивировок занимает то повышена»
«чувство жизни» героя, которое раскрывается через кон-
кретику воспринимаемых им запахов, что придает деталй
особую психологическую емкость: «...Он же слышал толь-
ко дурманящий сладкий запах духов и еще более дурма-
нящий запах волос, гвоздичной помады, шерстяного пла-
тья, пропотевшего под мышками...» [4; 8-9]. Изображение
темных глубин бессознательного, не вписывается в линей-
ную сюжетность, предопределяя прерывистость компози-
ции, резкий обрыв сюжетного действия, смещающий ак-
цент с истории о купце на финальный рационально немо-
тивированный импульс Игната к насилию. Несовпадение
конца рассказа с событийной исчерпанностью порождает
ощущение бездонности бессознательных пластов психики,
оставшихся за рамками сюжетной вербализации. Сходную
психологическую функцию имеет и композиционная
структура таких рассказов, как «Ермил», «Петлистые
уши», «Старый дом» и др.
В поздней бунинской прозе лирико-фрагментарный
характер композиции становится особенно утонченным,
что создает основу прямого соотнесения с модернистскими
художественными поисками. В отличие от реалистической
процессуальности, точечная композиция рассказа «Кавказ»
(1937) отодвигает на периферию причинно-следственные
сюжетные связи (банальное бегство героев-любовников от
ревнивого мужа). Магия ритмической пульсации текста —
142
^аленький по объему рассказ разбит автором на семь сег-
ментов — «схватывает» жизнь в ее извечных антиномиях:
Пространственно-временная бесконечность мира таит в себе
то «слишком великое счастье» любви, которое в своей выс-
шей точке («безнадежно-счастливый вопль» — 7; 16) скры-
вает интуицию о глубинном трагизме всего сущего. Акти-
визация ритмической стихии приводит в действие внесю-
жетные элементы (россыпь деталей картины мира: «пред-
вечная белизна гор», «допотопные удары грома», «шумная
гробовая чернота лесов» и т.д.), именно на них смещается
семантический фокус. В теоретическом плане здесь важны
выводы М. Гиршмана (сделанные им из анализа чеховского
«Студента») о том, что ритмическая маркированность пове-
ствования есть могущественное средство художественного
обобщения, ибо сочетает «субъективное переживание жиз-
ни и ее объективный глубинный ход» (Гиршман, 1982. С.
215). Таким образом, ритмизация повествования, ставшая
важным фактором литературного развития рубежа веков
(ср. эксперименты А. Белого, А. Ремизова), напрямую соот-
несена с экспансией лирического слова, трансформирую-
щей формы психологизма. На значимость именно психоло-
гической функции ритма не раз указывали символисты:
А. Белый писал о необходимости «соединения образа с
ритмом переживания»; того, чтобы «перекинуть мост от
прерывного (фабулы) к непрерывному (музыке), от жеста к
ритму...» (Белый, 1994. (II). С. 149, 148). Именно в ритми-
ко-музыкальной насыщенности текста Белый усматривает
возможность отхода от аналитизма причинно-следственной
парадигмы, путь к синтезирующему постижению «экстрак-
та» психологического содержания: «Музыкальный мотив
объединяет разнообразные картины аналогического на-
строения, он заключает в себе как бы экстракт из всего то-
го, что значительно в этих картинах... Причинная смена
образов заменена ритмом различных тонов...» (Белый, 1994
(П). С. 102).
143
У Бунина изображение напряженного взаимодействА
осознанного и бессознательного (как «синергия», так®
«антагонизм») углубляет ассоциативно-ритмические ход
в повествовательном пространстве. Опережающая фунм
ция бессознательного в рассказе «При дороге» (1913) вл*
чет выдвижение ассоциативности на место сюжетного д*
терминизма: Парашка «заснула в чувстве того жуткого»
манящего, что есть в неизвестных прохожих и проезжж
людях, очарованная смутной думой о том, как погубит, кж
увезет ее куда-то вдаль молодой мещанин...» [4; 179]. >
переживаниях героини индивидуальное соединяется с над-
личным; в рассказе происходит интуитивное воссозданий
изначально знакомых душе состояний: «любила отца за-
стенчиво, той обостренной любовью, которой часто любят
дочери вдовых отцов» [4; 180]; «с той внезапной грубо-
стью, которой так часто ошеломляют мужчин девушки...»
[4; 186]. Подобная перспектива видения внутреннего мира
предопределяет субъективацию повествования, его ориен-
тацию на внерациональное движение образа-переживания.
В зрелой бунинской прозе детали-антиципации приобре-
тают психологическую емкость, достигающую масштаба
целой судьбы. Это качество психологизма опирается на
изоморфность малого и бесконечного в художественном
образе, что сближало Бунина с модернизмом. В рассказе
«Таня» (1940) нелинейность сюжета, сосредоточенного на
мгновениях «блаженно-смертной» близости героев, со-
пряжена и с деталями-антиципациями: «угрожающе рас-
тущий шум вокруг дома», ощущение «конца мира и всего
живого» [7; 96]. Сквозь призму опережающей интуиции об
онтологической непрочности человеческих связей, о раз-
рушительных катаклизмах эпохи и дана в «Тане» картина
мира, с очень мощной подтекстовой струей. Во многих бу-
нинских рассказах образ мира «апеллирует» к подспудным
уровням психики, в которых осознанное и бессознательное
увидены в единстве. В «Казимире Станиславовиче» (1916)
144
;1ожет о прожитой жизни представлен как поток ассоциа-
jjiii с внешним пространством: внутренняя растерянность
^роя — томящая неопределенность природных состояний;
ркидание встречи с дочерью — «волнующее в воздухе» [4;
)42] Москвы... Тем самым достигается симультанность ху-
дожественного зрения, а пульсирующая связь осознанно-
несознательного с чувственной стороной бытия как бы
устраняет грань между реальным и иррациональным, про-
гадывая путь к прорастающему из «образов видимости»
синтезирующему восприятию душевной жизни.
Выдвижение на авансцену ассоциативных, нелинейных
связей в повествовательном поле прозы Бунина обусловило
цсгуализацию лейтмотивных принципов построения, а
гакже значимость «монтажной» композиции — форм, ре-
левантных и в свете общемодернистских тенденций. В рас-
сказе «Легкое дыхание», который не раз привлекал внима-
вие исследователей в связи с сюжетно-композиционными
новациями, именно лейтмотивы (дубовый крест — «бес-
смертно сияющие глаза» героини — звон ветра — легкое
дыхание) составляют основу композиционной целостно-
сти, зримо воплощают токи бытия, не поддающиеся ис-
черпывающей вербализации, создают эффект «легкого ды-
хания», не согласующегося с сюжетной логикой. Анализи-
руя же произведения символистов, И. Корецкая писала
о том, что важнейшей функцией лейтмотивности, «монта-
жа» в прозе Сологуба и особенно Белого становилось как
раз соединение «мира Вечности с временным потоком в его
Пестроте и характерности» (Корецкая, 1995. С. 10). Это,
бесспорно, близко и Бунину, но с той лишь разницей, что
если, к примеру, лейтмотивы «Петербурга» (вспомним
’Мозговую игру», «кишащие бациллами воды») часто об-
нажали абсурдность эмпирического бытия, то бунинские
Лейтмотивы, при всей их устремленности к бесконечному,
3ИЖдутся именно на полноте конкретно-вещественного
^ана.
145
Разнонаправленность внутреннего действия с хои^
сюжета, которую Л. Выготский отмечал в «Легком дьпГ
нии», характерна и для многих иных бунинских рассказ®
В «Снах Чанга» это порождено напряженной антиномЖ
ностью авторского мироощущения, сближающим Буни»,
модернизмом неприятием линейной концепции времеЖ
которое в свою очередь вырастает из разочарования в тЖ
рии прогресса, поступательного развития личности и чеЖ.
вечества в целом. Линейной сюжетике рассказа — жиж
как цепь утрат — противостоит внутреннее, полтекст»
движение, утверждающее собирание раздробленного че®.
веческого существа силой любви и памяти. Незримая «®-
гика» памяти, «отбирающей» поворотные моменты жизфв
капитана, созвучна монтажному принципу композицф,
основанному на контрастном соположении антиномичных
сторон бытия героя, вызывавших «замирание сердца... то
летевшего в пропасть, то... возносившегося в небо» .[4;
373]. Принципиально важно, что присутствующие в ряде
бунинских рассказов черты монтажной композиции («Ху-
дая трава», «Чаша жизни», «Митина любовь») подчерки-
вают неаналитическую синхронность протекания разлт-
ных внутренних процессов. Например, в «Худой траве»
пребывание Аверкия в обыденной жизни — уводящая в
прошлое память о далекой любви — сокровенная потреб-
ность посетить Святые места — это монтажное сближение
в едином поэтическом образе позволяет выйти далеко за
рамки событийности, и в этом отношении монтаж антите-
тичен причинно-следственному детерминизму и линейной
векторности сюжета.
Бунинские новации в сфере сюжетно-композиционнои
организации повествования, во многом типологически
родственные модернистскому опыту, напрямую связаны с
происходящим на рубеже веков активным взаимопрониК'
новением субъективно-лирического и эпического начал. У
Бунина пунктирность сюжета, его частая лирическая «И3' ]
146
^рательность», акцентирующая внимание на мгновенных
^пульсах самоосознания героев и делающая избыточны-
ми их развернутые внутренние монологи — в том виде, в
jkom они выступали у Толстого, — все это дает повод го-
орить об особой, лирической ипостаси бунинского психо-
ргизма. Б. Эйхенбаум в статье об А. Ахматовой («А. Ах-
ртова», 1923) нашел очень емкую формулу, описываю-
дую процесс взаимопроникновения лирического и эпичес-
юго начал в литературе Серебряного века, ярко выразив-
шийся и в поэзии Ахматовой: по мысли ученого, в «лири-
ческом романе» Ахматовой — «чувство нашло себе новое
Сражение, вступило в связь с вещами, сгустилось в сю-
кет» (Эйхенбаум, 1986. С. 385).
«Лирический» психологизм валентен в прозе Бунина и
фи раскрытии отдельных трансформаций во внутреннем
пире героев — как, например, данное «без психологий»
расширение «личного состава» души Гаврилы («Преобра-
кение», 1921) перед таинственным явлением смерти, — и
ia уровне познания судьбы человека в целом.
В рассказе «Дело корнета Елагина», во многом поле-
мичном по отношению к традиционным принципам пси-
хологизма, очевидным становится бессилие привычных
(объясняющих» мотивировок поведения, судеб героев, что
обнаруживается через углубление в подсознательные про-
Чессы, тайную игру сил общеродового, наследственного
опыта. В плане сюжетно-композиционных новаций пока-
йтельно построение записей Сосновской, фиксирующих
Очечные «вспышки» самосознания: их напряженная экс-
прессия редуцирует сюжетные ходы: «И, наконец: — Не-
тодяй!.. Кто был этот негодяй, сделавший, конечно, то, о
Чем так не трудно догадаться?» [5; 277]. «Несказанное в
с&оей остроте и в своем излишестве ощущение мира, жиз-
”И» [5; 287] бунинскими героями — вырывается за преде-
*4 привычной мотивированности: Елагин «не помнит» ни
сПова из длинного рассказа Сосновской о детстве незадол-
147
го до гибели, в то время как мельчайшие детали их ф.
следнего вечера навсегда отложились в его сознаний
Именно нерациональная стихия памяти в мире Бунина cejj,
дает внутренние «противотоки» линейному развитию cfc.
жета. Так, в «Чаше жизни» за неподвижностью всеобщ^
самозабвения в душе героини исподволь «прослушиваф.
ся» живое биение далекого чувства — импульсы, воздви-
гающие образ-переживание любви в его слитном, синтеза,
рованном облике: «...доходит до сердца эта далекая, еще ве
истлевшая любовь — ив одно сливает и того, кого любила
она, и того, с кем, нелюбимым — а все-таки когда-то но-
сившим ее зонтик и накидку! — прожила она всю жизнь...»
[4; 217].
Психологизм Бунина генерирует особое видение «био-
графии» личности — проблема, волновавшая в XX в. и
многих модернистов. Известны суждения по этому поводу
О. Мандельштама в статье «Конец романа» (1922), где
«падение акций» личности в истории поэт связывал с ин-
туицией о «катастрофической гибели биографии» (Ман-
дельштам, 1987. С. 73, 74), во всяком случае с точки зре-
ния ее прежней психологической детерминированности.
Эти ноты не раз звучали и у символистов: вспомним, к
примеру, пронзительную строчку А. Белого, написанную в
1922 г.: «В нить // Событий — // Вплетено И Небытие!»
(Белый, 1994 (IV). С. 344). Раздумья об этом оказываются
чрезвычайно существенными в «Докторе Живаго» Б. Пас-
тернака (кстати, это произведение некоторые современные
исследователи небезосновательно, на наш взгляд, рассмат-
ривают как уникальный образец позднего символистского
романа — Клинг, 1999. С. 62-64). Записи Юрия Живаго,
нацеленные на постижение изгибов собственной жизни И,
в частности, роли в ней брата Евграфа, приобретают ха-
рактер масштабного, обобщающего восприятия биографе*1
личности — какой она предстает в современности: «Состав
каждой биографии наряду со встречающимися в ней Де®’
148
дующими лицами требует еще и участия тайной неве-
дуюй силы...» (Пастернак, 2000. С. 242). Спроецирован-
Ije на эстетическую реальность, грани нового осмысления
цчностной биографии требовали и обновления форм ху-
ржественной изобразительности, и прежде всего — нар-
ат явных принципов. Именно этой антропологической
роблемой вызвана частая дискретность, даже разорван-
рсть повествования, возникающая в самых разных произ-
едениях модернизма. Опыт Бунина-повествователя в этой
аязи особенно важен, тем более что во многих его позд-
их вещах предметом осмысления становится как раз
удьба личности, затронутой водоворотом исторических
цтаклизмов. В рассказе «Холодная осень» (1944) преры-
истый, но предельно конкретный пунктир сюжета обри-
овывает эти вехи (от первой мировой войны до беспри-
отного эмигрантского существования), действительно
наменующие крушение «состава биографии» в традици-
ином его понимании. Однако изображая это, Бунин не
щет по пути модернистского распада форм или абсолюти-
ации «жизни сонной безлепицы» (Сологуб), но, сохраняя
| себе дух классической литературы, видит прибежище в
Кловеческой индивидуальности, «внутреннее» время ко-
брой отбирает «достойные памяти» неуничтожимые пла-
сты душевной жизни (далекий вечер), согревающие своим
Телеологическим теплом» «холодную осень» современно-
сти. В таких рассказах, как «Холодная осень», «В Париже»
(1940) принципиальной становится субъективация сюжет-
ного времени, которая проявляется в восприятии героями и
втором этапов исторической жизни через «вспышки» па-
**яти, страдания, но и неизбывной радости и благодарения
51 прожитое. В последнем рассказе особенно важна онто-
•огизация времени (значимое для эпохи в целом сближе-
психологии и онтологии), его сосредоточение вокруг
^Тиномии блаженства бытия (восхищение женской преле-
стью, весенним днем, Пасхальной радостью) и смерти. В
149
финале за конкретной ситуацией смерти героя приоткЛ
ваются те «пролеты в бесконечность», к которым сознаХ’
в XX в. приблизилось как никогда прежде. Бунинским*,
роям хорошо знакома та действующая в их «биографЖ.
«тайная неведомая сила», о которой размышлял ЖивЛ
«Она... села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикиЖ
моля кого-то о пощаде...» [7; 120]. я
Финал рассказа «В Париже» формирует особый, оЛ.
логизирующий ракурс видения внутреннего мира. ВооЖе
же поэтика ракурса изображения несет в бунинской иди
существенную психологическую нагрузку и становится»,
ним из проявлений той тенденции субъективации повес®),
вания, которая была общей для Бунина и модернизма. Не-
ожиданный угол зрения на сюжетную ситуацию, возни-
кающий в финалах рассказа «Таня» (1940) или миниатюры
«Канун» (1930), способствует символическому углублению
событий и одновременно их соотнесенности с трагическим
фоном эпохи. Резкая концовка «Тани» создает ощущение
пугающей бездны, над которой беспомощно зависли судьбы
героев: «Это было в феврале страшного семнадцатого года
Он был тогда в деревне в последний раз в жизни...» [7; 109].
То же и в миниатюрной зарисовке «Канун», где рациональ-
ное спокойствие «аккуратного и уверенного в себе господи-
на» [5; 457] вдруг оказывается нелепым, ибо «шла, однако,
уже осень шестнадцатого года...» В психологическом смыс-
ле подобные ракурсы рельефно подчеркивают те черты ка-
тастрофического мирочувствования современной души, ко-
торые чутко провиделись многими символистами еще в на-
чале века. Важно, что финалы многих бунинских рассказов
(в особенности — поздних) как бы дистанцированы от ос-
новной части текста: через этот «зазор» приоткрывается
иррациональная бездонность бытия, авторская интуиции °
которой просматривается сквозь утонченную повествОР3'
тельную ткань. Происходит заметный онтологически*1
«сдвиг», расширение психологической реальности, прор*41
150
эщейся за грани собственно текстового пространства, —
расширение, о путях к которому размышляли модерни-
I разных поколений. Многие сюжетно-композиционные
5ации были глубоко осознанными для Бунина, о чем
[детельствует, скажем, то место из книги «О Чехове»,
: автор вспоминает об одном из ценнейших для него че-
тких «советов»: «По-моему, написав рассказ, следует
черкивать его начало и конец...» (Бунин, 1996. Т. 6. С.
5). Действительно, в целом ряде бунинских рассказов мы
хим редукцию (полную или частичную) экспозиции;
налы, далекие по своему смыслу и напряженно-
)ывистой тональности от традиционных «концовок» и
связок», — все это ведет к максимально возможному
гранению «литературности», к онтологизации психоло-
кской перспективы.
Поэтика ракурса изображения часто связана у Бунина
только с соотнесением бытия героев и общего дыхания
гмени, но и с постижением глубинных пластов душев-
й жизни. В ряде рассказов призмой видения и осмысле-
я происходящего оказываются память и сон, высту-
ющие у Бунина, как мы показывали выше, в качестве
ер напряженного взаимодействия осознанного и бессоз-
гельного начал. Весьма показательны в данном отноше-
и рассказ «Сны Чанга» и повесть «Суходол» (1911). В
рвом сновидческий ракурс восприятия жизни как серии
ов, внерациональных прозрений о ее сущности формиру-
уникальную композиционную структуру — монтаж не-
ачительных сцен, эпизодов и одновременно ключевых
чек самоосознания капитана, чувствования Чангом не-
сложности «третьей», глубоко антиномичной, правды о
ре. В призме «снов» создается иллюзия «необработанно-
й» потока бытия, снятие, по тонкому наблюдению О.
ивицкой (Сливицкая, 1974, 1999), жестких водоразделов
Жду главным и второстепенным. Ведь именно во внешне
Примечательном течении жизни и наблюдается усиление
151
«внутреннего» действия, тесно связанного с «неподнятьйк*
пластами психики. В «Суходоле» же в качестве такогсяк
курса выступает целое «дум-чувств» Натальи, ее суходД^
ской души, над которой «безмерно велика власть воспя^
наний» [3; 136]. В непроизвольном припоминании сюм^.
вается особый угол зрения на события, во многом pacMfe.
щийся с традиционными представлениями о сюжетнойфо-
тивированности. Например, судьба Петра Кириллыча w.
крывается следующим образом: «Отец часто говорил,^)
помешался он (Петр Кириллыч. — И.Н.) после того, кай^
него, заснувшего на ковре в саду.., внезапно сорвавши^
ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворне, по фо-
вам Натальи (возникает иная «мотивация». — И.Н.), объяс-
няли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кирнл-
лыч от любовной тоски после смерти красавицы бабуш-
ки...» [3; 147]. Подобный «двойной» ракурс смещает «объ-
ективную» мотивацию личностных состояний, в цело»
ставит под сомнение продуктивность аналитически-
отстраненного восприятия душевной жизни. Восприни-
мающее сознание героини, на которое ориентировано пове-
ствование, неслучайно находится «на пороге» осознанного
и интуитивно-бессознательного («Она думала, или, скорее,
чувствовала...» — 3; 154—155), в сопересечении памяти о
прошлом Суходола и опережающего видения его «неми-
нуемых бед», которое приходит к ней через сон. Само ком-
позиционное единство зиждется здесь не на детерминиро-
ванности сюжетного действия, но на внутренних «скрепе**1
памяти и интуиции.
Очевидно, что и в «Снах Чанга», и в «Суходоле» поэтИ'
ка ракурса изображения сопряжена не только с субъектИВЯ'
цией и лиризацией повествования, проявляющихся в ориеН'
тации на внерационально-воспринимающее сознание, но Ис
синтезирующим характером бунинского психологизма,
растающим из художественной логики образа-переживайИ<1-
в котором, как отмечал А. Белый, образ мира должен of**'
152
цчески соединиться с «ритмом переживания», тем «все-
>нским по существу... внутренним “я”» (Иванов, 1994. С.
j7), о котором писал Вяч. Иванов.
* * *
Эволюция сюжетно-композиционных принципов,
учимая как у Бунина, так и в модернизме, была обу-
ювлена и постижением уязвимых сторон современного
^знания: кризис категории поступка, ценностно окра-
енного действия, нарушение диалогических контактов в
ежличностном общении — проблемы, с необычайной
стротой поставленные на рубеже веков и напрямую со-
гнесенные с особенностями организации повествова-
У1ьного пространства.
В работе «К философии поступка», писавшейся в 1920-
)24 гг., М.М. Бахтин определяет категорию поступка,
поступающего сознания» в ее связи с «участно-
ейственным переживанием конкретной единственности
нра» (Бахтин, 1986. С. 91). Ученый отмечает, что «со-
именный кризис в основе своей есть кризис современно-
) поступка», ибо «отпавшая от ответственности жизнь...
ринципиально случайна и неукоренима...» (Бахтин, 1986.
. 123, 124). Принципиально важно, что угрозу деиндиви-
уализации, редукции личности, «отказывающейся от сво-
й долженствующей единственности», Бахтин видит в пас-
ивности сознания, утере «инициативы поступка», «эмо-
Ионально-волевого единства» (Бахтин, 1986. С. 113, 114,
12) душевной жизни.
Философские идеи Бахтина о поступке, оформившиеся
началу 1920-х годов, литературным сознанием эпохи ин-
Уировались и ранее, что в значительной степени было со-
Ряжено с антропологическими исканиями символистов,
чрезвычайно интересен в этом смысле «Петербург» А. Бе-
°го. Кризис поступка становится всеобъемлющим в ху-
°Жественном мире произведения и предопределяет харак-
153
тер развития основных сюжетных линий. Данный кризцс
обусловлен, по Белому, дробностью современного «л,
«самосознанием.., позорно увязшем в невнятности» (£’е’
лый, 1994 (III). С. 41), если использовать одно из автор,
ских суждений о Николае Аполлоновиче. Утеря лично,
стью «поступающего сознания» выражена здесь в переда,
че действий персонажей, которые по большей части обо.
рачиваются анти-действиями, анти-событиями и анти-
поступками. Николай Аполлонович и Сергей Лихутин
«недообъяснились», Лихутин — «недоповесился — чуть-
чуть»; Аблеухов же младший — «недо»-покончил с собой
(что блестяще запечатлено в жесте — «приподнятой но-
ге» героя над перилами Невской набережной), «недо»-
определился в своем отношении и к отцу, и к террористу
Дудкину... Подобная внутренняя «недоопределенность»,
«стертость» индивидуального исключает диалогические
межличностные отношения: как показала Л.А. Колобаева
(Колобаева, 2000. С. 263-264), стихия диалога предстаетв|
речевой ткани романа в редуцированном, непроявленном
виде. Слово же, если и произносится героями, зачастую
перестает выступать как знак их «участно-действенного»
отношения к миру.
Стоит заметить, что в художественном сознании нача-
ла века вызревала мысль о немалой условности речевой
характеристики как средства психологизма: так у Баль-
монта чрезвычайно важен образ «слов-хамелеонов», ко-
торые ускользают, «спешат меняться» (стих. «Слова-
хамелеоны», 1901 и др.), а в поэзии Сологуба ощущение
разъятости души передается в мотиве «двухсмысленно-
сти» слов (стих. «В его устах двухсмысленны слова.. »,
1902 и др.). Подспудно здесь лежит, конечно, идея о не-
достаточности речевой характеристики, напрямую со-
пряженной в классическом психологизме с раскрытие»1
внутреннего мира. При этом усиливается значимость
вербальных способов психологического изображения
154
эрышенная роль ритмической стихии, «жестового» пси-
^догизма (А. Белый). Чрезвычайно существенно, что по-
лное стремление преодолеть излишнюю «литератур-
эсть» психологизма отчетливо осознавалось и Буниным:
Зыдумали, что в повести каждый должен своим языком
эворить. Разве в жизни каждый действительно говорит
зоим языком? Да не так это легко говорить по-своему,
корее интонация у каждого своя...» (цит. по: Мальцев,
994. С. 122).
Ощущение кризиса категории поступка в современном
ире, найденные пути его сюжетно-композиционного вы-
ажения сближают Бунина с символистами, причем от-
лети и на уровне стилевых решений. Эти раздумья весо-
ш в целом ряде бунинских произведений 1910-20-х го-
де. Так, в финале рассказа «Казимир Станиславович»
1916) полу-поступок героя (несовершенное самоубийство,
агадочное исчезновение) демонстрирует беззащитность
ознания перед хаотичностью мира и собственного «я». В
Чаше жизни» (1913) существование героев основано на
юлуосознанном стремлении укрепиться в своем «алиби»
Бахтин) в бытии (социальное положение для Селихова и
. Кира, мечта о доме у Александры Васильевны, головная
философия жизни» Горизонтова). Изображение «непо-
тупающего» сознания исключает фактически любую со-
итийность. Символическую значимость приобретают
ронотопические образы-лейтмотивы: «Песчаная улица»,
а которой живут герои, — знаменует непрочность и онто-
агическую неукорененность их жизненного пространства;
энная семантика важна и при их уподоблении «щелоч-
ам» [4; 216], утерявшим свою целостность в потоке вре-
ени. В этом ряду - и сквозной образ пыли-забвения, ко-
°рый разворачивается до обобщающего видения недугов
ационального бытия; и все большая замкнутость простран-
тва Стрелецка, который раньше «был... проще и просто-
’Ней» [4; 201], а также селиховского дома. Это и ощущение
155
безжалостно уходящего времени вопреки «остановлен
нию» Селиховым часов. Очевидно, что психологически Ц&.
тивированное отсутствие событийности обратной сторону
имеет сгущение смыслов, образов-переживаний в еми^
символе. Изображение полу-поступков персонажей и
ши жизни», и «Казимира Станиславовича» обнажает не^.
щищенностъ современного сознания перед энтропийные
силами бытия. а
По мысли Бахтина, отказ от «инициативы поступи»
влечет за собой «жизнь на молчаливой основе своего а®.
би в бытии — отпадает в безразличное, ни в чем не укоре-
ненное бытие...» {Бахтин, 1986. С. 114). В бунинском мйре
представление о монологизации сознания оказывается
чрезвычайно значимым: вспомним селиховский запрет на
речь, которому в течение многих лет (!) повиновалась
Александра Васильевна («Чаша жизни»); мгновенный
распад элементарной языковой коммуникации после
смерти Господина из Сан-Франциско («О нет, мадам, —
поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не
по-английски, а по-французски возразил хозяин...» — 4;
323); полное растворение диалогических потенций в
«идиотическом бесчувствии» [5; 102] действующих лип
рассказа «В ночном мире» (1923). В этих антропологиче-
ских взглядах, художественном показе редукции диало-
гического слова в современности Бунин, безусловно, схо-
дится с автором «Петербурга», хотя он и не идет по пути
гротескного заострения и «обнажения приема», что МЫ
видим в романе Белого. Примечательно, что именно кри-
зис категории поступка, — поступка, означающего, как
полагает Бахтин, «признание единственности моего уча-
стия в бытии» {Бахтин, 1986. С. 112), объясняет
«страсть» целого ряда бунинских героев «ко всяким ли-
чинам» [4; 229], «ролям», как бы позволяющим «уйти» &
нелегкого осознания своей «единственности», а отсюда
актуализация темных, разрушительных проявлений бес-
156
знательного («Я все молчу», «Деревня» (позиция Серо-
«Веселый двор» и др.).
Глубокое ощущение деструкции поступка во многом
[ределяло композиционные новации и в западно-
ропейском модернистском романе. Симптоматичным
улетным и смысловым анти-изменением судьбы героя,
цущающего всю ложь собственной жизни, завершается
>ман М. Бютора «Изменение», что обнаруживает, неза-
шненные пустоты во внутреннем «я», немалую механи-
ичность душевной жизни: «...в мозгу заработал какой-то
гханизм, и сдвинулись, наплывая друг на друга и разры-
я меня на части, разные пласты моего существования...»
'ютор, 1983. С. 229). Оказывается, что кардинальное пе-
юсмысление сюжетно-композиционных форм психоло-
вма, поставившее Бунина и модернизм в единое русло
ггературного развития, обнаружило свою актуальность и
позднейшем художественном опыте.
Таким образом, важнейшей гранью сближения Бунина с
‘тетической системой модернизма стала смена тради-
юннъгх представлений о событийности, сюжете как ли-
•йиой истории характера, «биографии». Происходящее на
>беже веков усложнение психологической реальности, фи-
кофских взглядов на проблему общеисторического разви-
ия в композиционном отношении повлекло за собой акти-
вацию «внутреннего» действия, нередко разнонаправлен-
но с сюжетной «логикой». Универсальная тенденция к
аризации предметно-изобразительных форм сказалась в
объективации, частой лирической дискретности простран-
гвенно-временного континуума, повышенной роли поэти-
а ракурса изображения, лейтмотивных, монтажных нарра-
авных принципов. В этом ряду и весомость ассоциативно-
йтмических ходов в повествовании, а также смещение фо-
Уса с сюжета на внесюжетные элементы.
В антропологических интуициях Серебряного века, в
емалой степени общих для Бунина и модернизма, значи-
157
мо ощущение кризиса поступка, диалогического сознан^
в современном мире, что отражается, безусловно, и
композиционном уровне. Однако у Бунина, в отличие Ой|
некоторых модернистов, не происходит полного распар
ни сюжетных связей, ни, и это особенно важно, индивиду,
ального характера: «повышенная жизнь» немыслима
индивидуальности, — ив этом неотменяемое родство пи.
сателя с классической традицией реализма. Вместе с тем во
многих бунинских произведениях мы видим прорыв за пре.
делы сюжетности, онтологизацию психологии, сопряжен-
ную со стремлением ощутить глубины микро- и макрокосма
в их единстве, тайну бытия, не «укладывающуюся» в нсиз-
бежно «выпрямляющую» линейную сюжетность.
* * *
Суммируя сказанное в данной главе, обратим внима-
ние на то, что вопрос о концепции личности и эволюции
традиционных принципов психологизма является концеп-
туально релевантным в свете проблемы «Бунин и модер-'
низм».
1. Одной из универсалий литературного развития ру-
бежа XIX-XX веков стала тенденция к расширению клас-
сических представлений о психологической реальности.
Ощущение недостаточности реалистических форм психо-
логического изображения, основанных на категории де-
терминизма, предопределило движение к онтологизации
психологии, «этернизму» (Е. Эткинд). Недоверие к «ав-
гиевым конюшням» (Белый) психологизма в его традици-
онном понимании сближало Бунина с модернизмом и по-
буждало искать путей художественного обновления лите-
ратурных форм. За антипсихологическими декларациями
таилось стремление к видению неразложимой цельности
душевного переживания, сокрытой под аналитическими
«причинами» и «следствиями». Тяга разглядеть во внут-
реннем «я» вселенское начало (Вяч. Иванов), уловить •
158
jHOM поэтическом мгновении «единство психических
ятельностей» (Белый) была сопряжена с ключевыми
зойствами символа, в определенной степени близких
актуре бунинского образа.
2. «Расширение художественной впечатлительности»
Мережковский), сферы психологического познания
^слилось культурой эпохи в сопряженности с присталь-
ьлл вниманием к бессознательным уровням душевной
изни. И это роднило Бунина с модернистскими поисками.
Бунина художественные ипостаси бессознательного раз-
ообразны, и их типология обусловлена антиномичностью
го мироощущения. С одной стороны, в глубинах подсоз-
ания проступают темные, хаотично-разрушительные чер-
ы психики («Ермил», «Петлистые уши» и др.), постиже-
ие которых приобретает особую значимость в литературе
ачала века. С другой — в бессознательном приоткрывает-
я,радостное, стихийное чувствование «живой жизни», ус-
ользающей от рациональной детерминированности
(Легкое дыхание», «Лирник Родион» и др.).
Общий для Бунина и модернистов пафос целостности
ичности обусловил интенсификацию художественного
^следования взаимодействия осознанного и бессозна-
ельного начал, их как синергийных, так и антагонистиче-
юих соотношений, активно изучаемых психологической
1фкой (школа Узнадзе). И у Бунина, и в произведениях
ОДернистов значимы образы «второго» пространства
ЭДн, воображение, память): именно онейрическое измере-
Чр предстает как поле сопересечения сознания и подсоз-
<#гельной работы души. Однако у Бунина, в отличие от
ИМволистов, в подобного рода образах нет ослабления, а
более — вытеснения предметно-конкретного плана
’зображения. Это сопересечение происходит в бунинской
‘Розе и в любовном переживании, понимаемом как встреча
Ндивидуального с надличным, что находит значимые па-
ЭДлели с философско-эстетическим освоением русского
159
Эроса на стыке столетий (В. Соловьев, Н. Бердяев, поэть,,
символисты и т.д.).
3. В русле обновления путей познания внутреннего
мира активизируются хронотопические приемы психоло.
гизма. У символистов оказывается значимым акцент ца
приоритете «несчислимого» времени (А. Блок) над внещ.
не-событийным. Очевидна весомость психологической
функции образов пространства и времени в произведени-
ях Бальмонта, Блока, Белого и других. Существенны
здесь и конкретные линии контрастного сопоставления
Бунина с модернизмом: например, репрезентация петер-
бургского «текста» у Белого («Петербург») и Бунина
(«Петлистые уши»). В прозе Бунина наблюдается уплот-
нение форм художественного хронотопа, тяга к синтези-
рованным образам «внутреннего» времени: мгновения
самоосознания героев, полноты их «чувства жизни» вби-
рают масштаб всей судьбы, бесконечности («Солнечный
удар», «Холодная осень» и др.). Опережающая роль бес-
сознательного, интуиции, творчески раскрытая Буниным
(«При дороге», «Таня» и др.) преобразует картину мира,
изнутри взрывая внешнюю «хронологичность». Актуали-
зация пластов Прапамяти и памяти, происходящая во
многих бунинских произведениях, преображает мирови-
дение героев, приоткрывая потаенные, целостные глуби-
ны душевной жизни.
4. В свете обсуждаемой проблемы важно и переос-
мысление общих повествовательных принципов. Бунина
объединяла с модернистами неудовлетворенность тради-
ционными сюжетно-композиционными формами. Вектор
их эволюции соотнесен с экспансией лирического слова,
весьма сильной на рубеже веков. На смену реалистиче'
ской процессуальное™ выдвигаются скрытые асе ониа'
тивно-ритмические ходы в повествовании, монтажнЫ®
приемы композиции, поэтика ракурса и т.д. Генерирует®*
новое представление о биографии, наполненное опытов
160
катастрофических потрясений эпохи (раздумья Мандель-
штама, Пастернака, ряд поздних рассказов Бунина): осоз-
нание стократ усиленного воздействия на «биографию»
иррациональностью бытия, что делает невозможным ее
иинейно-хронологический показ — единство и цельность
личностной судьбы оказываются сокрытыми на глубине.
Эволюция композиционных принципов связана с ощуще-
нием кризиса категории поступка (в бахтинском значении
.лова), частой дробности внутреннего «я», антидиалоги-
иеской отчужденности личности от мира. Чуткость к де-
щдивидуализирующим опасностям современности объ-
ективно приближала Бунина ко многим модернистским
исканиям.
5. В целом в творчестве Бунина мы видим безуслов-
ную причастность контексту антропологических идей мо-
дернизма: представление о кризисных явлениях совре-
менного сознания, отход от принципов классического
психологизма, генерирование новых путей художествен-
ного познания внутреннего мира, связанных с расшире-
нием и углублением сферы психологического изображе-
ния, лирическим насыщением предметно-изобра-
зительных форм. Но есть и неотменяемые линии разгра-
ничения: важна классичность бунинского образа, не до-
текающая крайних степеней распада повествовательного
(остранства на отдельные сегменты; полного нарушения
ммуникативных связей (с «обнажением приема»);
гомистического» разрушения личности. У Бунина уг-
Ьление в подсознательное, коллективно-родовые пла-
йя психической жизни неотделимо от интереса к инди-
дуальному масштабу судьбы героя и прорастает из
^емных» корней человеческого характера. В конечном
^Цпоге — пристальное внимание Бунина к конкретике
Обыденной жизни, становившейся почвой для глобальных
обобщений, все же отличало его от модернистов и
оближало с вершинными достижениями реализма.
Зак. 5821
161
Глава III. ЖАНРОВЫЕ НОВАЦИИ В ТВОРЧЕСТВА j
И.А. БУНИНА В КОНТЕКСТЕ ЕГО £
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МОДЕРНИЗМОМ 1
Вводные замечания ф
В предыдущей главе шла речь об эволюции форм пЖ.
хологического изображения как факторе литературнЯц
развития начала XX в., в немалой степени сблизившем Ж.
нина с модернистскими исканиями. Отмечалось также, Шо
подобная эволюция была сопряжена с углублением, а ж.
рой и с радикальным пересмотром классических прелстА.
лений о душевной жизни в свете трагического мирооиу-
щения эпохи. 4=
В теории литературы давно была выявлена (хотя и Йо
сей день недостаточно разработана) сложная, иногда скри-
тая, взаимная обусловленность «определенного типа изо-
бражения человека» и жанра произведения (Тимофеев,
1959. С. 323). Следовательно, новые антропологические
взгляды в художественной культуре рубежа веков не мог-
ли не повлечь за собой преобразования жанрового мышле-
ния в литературе этого времени, что также подкрепляемая
теоретическим представлением о жанре как о системе пой'
вижной, основанной на диалектике постоянства и истори-
ческой изменчивости. Происходящая смена жанровой па-
радигмы осознавалась и самими участниками литератур-
ного процесса: их рефлексия о проблеме жанра стала важ-
ной составляющей самоосознания культуры данного пе-
риода. В статье «О драме» (1907) А. Блок писал об этом:
«Запечатлеть современные сомнения, противоречия, шата-
ние пьяных умов и брожение праздных сил способна толь-
ко одна гибкая, лукавая, коварная лирика...» И далее —• по-
эт уточняет направления этой лирической экспансии: «Од-
нозвучный шум водопада сменился чародейным пеньем (
многих мелких струек, и брызги этих лирических стрУеК k
162
[О летел и всюду: в роман, в рассказ, в теоретическое рас-
хождение и, наконец, в драму...» (Блок, 1960-1963. Т. 5. С.
64).
Итак, жанровая перестройка становится приметным
делением литературы начала века. Активизируются про-
весы межродового и межжанрового взаимодействия. Зна-
1енательные открытия в прозе XX — ив первую очередь
Серебряного века совершаются зачастую поэтами (Бунин,
Пастернак, Цветаева, Мандельштам, Белый, Блок, Сологуб
I др.). Именно в культуре Серебряного века феномен «про-
ibi поэта» получает бурное развитие, естественным
Аразом окрашивающее собой всю жанровую палитру.
Р. Якобсон отмечал, что «проза поэта не совсем то, что
проза прозаика, и стихи прозаика — не то, что стихи поэта:
разница является с мгновенной очевидностью...» (Якобсон,
1987. С. 324). Как справедливо полагал он, родовой доми-
нантой творческих поисков в русском символизме стала
чирика: «Русский символизм в высшей степени лиричен,
его обращения к эпосу — не более чем характерные по-
пытки лириков украситься эпическими крыльями...»
[Якобсон, 1987. С. 327). Взаимопроникновение лирики и
эпоса, поэзии и прозы обусловило новые направления эво-
люции образного языка XX века. И. Бродский, называвший
поэзию «высшей формой существования языка», в статье с
характерным заголовком «Поэт и проза» (1979), посвя-
щенной прозе Цветаевой, усматривал в поэзии ушедшего
столетия «движение языка в до (над) жанровые области»
(Бродский, 1999. С. 183). Очевидно, что стремление к це-
лостному, «наджанровому» видению мира и душевной
Жизни (с учетом ее бессознательных глубин) предопреде-
ляло новые качества и художественного языка, и системы
Жанров.
Наряду с влиянием лирического слова на прозу замет-
ным на рубеже веков был и обратный процесс — воздейст-
вие стилевых черт прозы на поэтический текст. Такое воз-
163
действие проявилось, например, в художественной пред,
тике Анненского, Ахматовой, Пастернака, Маяковского и
других — и, конечно же, в поэзии Бунина. Еще в рецензии
1907 г. «Стихотворения Ивана Бунина» М. Волошин отме-
чал, что в бунинской поэзии «есть глубокая органический
связь с русской прозой: с пейзажем Тургенева и с описи,
ниями Чехова», не без основания находя здесь «стихи-
творное обобщение ритма тургеневских и чеховских опи-
саний...» (Волошин, 1988. С. 493). Глубокий, подчас испо-
ведальный лиризм бунинских стихотворных текстов дей-
ствительно был неотделим от интенсивности изобрази-
тельного плана, а отсутствие подчеркнутой выделенное®
лирического «я» сближалось с принципами «объективно-
го» прозаического повествования. Подобный «синтетизм»
был, кстати, по достоинству оценен некоторыми модерни-
стами: не только М. Волошиным, но и Н. Гумилевым, а
также Г. Чулковым, высказавшим убеждение в том, что
«нельзя ставить грани между стихом Бунина и его художе-
ственной прозой» (цит. по: Денисова, 1972). Таким обра-
зом, едва ли не в первых шагах Бунина в литературе мож-
но увидеть дальние предвестия того жанрово-родового
синтеза, под знаком которого разовьется все его после-
дующее творчество и который станет одним из веских
оснований его типологического схождения с модернизмом.
В начале XX в. интуиции об обновлении жанровой па-
радигмы, о необходимости жанрово-родового синтеза на
новом витке литературной эволюции — рождались в не-
драх именно модернистской — ив первую очередь симво-
листской — эстетики. Эти интуиции характеризовали саму
направленность творческого поиска многих символистов,
предопределяя точки соприкосновения модернизма с ОК'
тивно трансформировавшейся в тот период реалистиче-
ской системой. Подобные размышления не раз возникали
у Блока — ив статьях, и в предисловии к сборнику «лирИ'
ческих драм», где, обосновывая жанровое определение
164
1редлагаемои «трилогии», поэт подчеркивал «могущест-
,0» «лирического элемента», который в современной лите-
ратуре нацелен на постижение «хаотичных» переживаний
уединенной» души. Свой взгляд на соотношение поэзии и
Прозы в прошлом и настоящем высказал и А. Белый в ста-
гье «О художественной прозе» (1919). С теоретической
(очки зрения он полагает, что «противоположение поэзии
прозе старо», что проза есть «труднейшая форма поэзии..,
гончайшая, полнозвучнейшая из поэзий...» (Белый, 1919. С.
♦9, 55). В историко-литературном плане важна мысль Бе-
лого о том, что «образцы русской прозы ковались поэтами
(Пушкиным, Лермонтовым), или теми, кто владел стихо-
творною формою (Гоголем); прозы как таковой и нет во-
все...» (Белый, 1919. С. 52). Основой такого «слияния» вы-
ступает, по Белому, ритм, «присущий обоим». Как отме-
чают исследователями-стиховеды, творческие эксперимен-
ты авторов, причастных модернистскому контексту пер-
вых десятилетий XX в., были зачастую связаны с создани-
ем «метризованной прозы»: это касается Белого — автора
«симфоний», «Серебряного голубя» и особенно «Петер-
бурга», «московской» трилогии; А. Ремизова, раннего
Е. Замятина, А. Цветаевой, Хлебникова-драматурга...
(Кормилов, 1996). В рассматриваемой же статье 1919 г. Бе-
лый четко выражает суть модернистских представлений о
жанровом синтезе: «В широком просторе ритмического по-
строения фразы нет явственной грани между поэзией и соб-
ственно прозою, потому что и нет у нас “собственно про-
зы”, в ней нет у нас потребности, как в отдельно стоящей и
Истинно поэтической форме...» (Белый, 1919. С. 50).
Синтезирующие интенции в восприятии поэзии и прозы
Чрезвычайно важны и в творчестве Бунина — как в его само-
характеристиках, так и в реальной творческой практике.
Как и Белый, Бунин не склонен разделять сферы прозы
и поэзии, причем аргументы такого взгляда, изложенные в
Интервью 1912 г., неожиданно и почти буквально сходятся
165
с размышлениями одного из главных теоретиков симж
лизма: «Я не признаю... деления художественной литеЖ
туры на стихи и прозу, — утверждает Бунин. — ПоэтшК.
ский элемент стихийно присущ произведениям изящи»
словесности одинаково как в стихотворной, так и в тж
заической форме... К прозе не менее, чем к стихам, долэЖ,
быть предъявлены требования музыкальности и гибкоЖ
языка...» [9; 359]. Немногим позднее, в 1929 г., говоря Ж
о собственной творческой практике, Бунин вновь сблиЖ
ется с Белым во взгляде на ритмическую стихию, объеЖ-
няющую поэзию и прозу: «Свои стихи... я не отграни®,
ваю от своей прозы. И здесь и там одна и та же ритЛ-
ка...» [9; 375]. Ощущая несостоятельность традиционных
жанровых разграничений, Бунин нередко колебался в «Оп-
ределении жанра своих произведений: некоторые ранние
рассказы («Кастрюк», «На хуторе» и др.) первоначально
обозначались им как «очерки», а рассказ «На край света»
(1894) предварялся подзаголовком «Из записной книжке^,
что актуализировало столь значимую в сознании писателя
форму дневника. Уже в эмиграции Бунин испытает за-
труднения в жанровой дефиниции и миниатюр 1930 года,
объединенных под общим заглавием «Краткие рассказ®»,
и «Жизни Арсеньева»: в рукописном варианте слово <фй>
ман» заключено автором в весьма многозначительные ч?'
вычки... Важно и то, что в определенные периоды Бун|н
не только одновременно работал над стихами и рассказа-
ми, но и объединял их в составе своих авторских сборф-
ков: как известно, данная форма, ее архитектоника в по-
этике Серебряного века приобретали особенную художе-
ственную весомость. Именно процесс межродового взаи-
мопроникновения явился ключевым в основных жанровФ
формах бунинского творчества.
Трехчастная структура данной главы подчинена цели
показать, как общие эстетические тенденции эпохи отр®'
зились на жанровых новациях в творчестве Бунина; кя* I
166
шологические схождения-расхождения Бунина с модер-
измом позволяют интерпретировать жанровую динамику
о прозы: от лирико-философских рассказов и миниатюр
1зных периодов к «лирическому роману» и, наконец, ори-
шальному опыту в жанре эссе — в его «художественно-
илософской» («Освобождение Толстого») и «литератур-
о-биографической» («О Чехове») разновидностях {Коло-
зева, 1998 (I). С. 100). Принципиальным является для нас
зскрытие взаимодействия Бунина — на уровне жанрооб-
азования — как с эстетической мыслью, так и с художе-
ственной практикой модернизма.
* * *
£ 1. Лирико-философские рассказы и миниатюры
На разных этапах творческой эволюции Бунина соот-
ошение лирического и эпического начал в его прозе было
е одинаковым. Большая часть его первых прозаических
пытов начала века связана с жанром лирико-философского
ас сказа.
Интенсивное развитие малой прозаической формы —
:анра рассказа — становится характерным явлением
итературы рубежа веков. Эту направленность жанровой
рансформации исследователи отмечают и в системе клас-
ического реализма, имея в виду позднюю повесть Л. Тол-
гого «Хаджи-Мурат» и рассказы А. Чехова: «И возникно-
ение “сжатой” эпопеи у Толстого, и преобразование Че-
овым “малой” прозы, вместившей в свои узкие пределы
Уть ли не романные объемы, — это два направления
ворческого поиска, поучительнейшие для литературного
роцесса XX в. По существу, они одноприродны в своем
оваторском стремлении к усилению художественной
онцентрированности и динамизма в реалистическом ис-
Усстве...» {Келдыш, 1994 (I). С. 27). Бунинские искания
890-1900-х гг. в сфере бессюжетной лирической прозы, с
167
одной стороны, роднили его с опытом зрелого Чехова, riL
ственным у которого оказывается преодоление традицией.1
ных жанровых границ (причем и в прозе, и в драматургии
а с другой — включали творчество Бунина в общий «вод,
ворот жанровых контактов эпохи» (Полоцкая, 1970. С. 4«
— эпохи модернизма. Таким образом, Бунин — автор Ж
рико-философских рассказов и начала века, и эмиграЖ
ского периода, наследуя традиции обновленного реализЖ
оказывается причастным и контексту общемодернистсЛ
исканий. По мнению некоторых исследователей, жанров*
эксперименты Бунина привели на самом позднем этапов
созданию «лирической книги в прозе» («Темные аллена,
целостность которой основана на единстве ассоциативних
связей, лирических коллизий, ритмического сцф
(Штерн, 1997. С. 12). Вспомним, что настоящее открытие
жанра лирической книги, лирического цикла произошло
именно в символистской и постсимволистской поэтиче-
ской культуре. ..
Говоря о ранних лирико-философских рассказах Буни-
на, отчасти пересекающихся с исканиями Чехова, а также
Б. Зайцева (Полякова, 1985), стоит иметь в виду, что лири-
ческая рефлексия, становящаяся на место традиционного
сюжета, носит здесь подчеркнуто фрагментарный, эск^-
ный характер. И в этом — близость Бунина прозаическим
эскизам, лирическим миниатюрам К. Бальмонта, печатав-
шимся в «Южном обозрении» как раз в пору сотрудниче-
ства Бунина в этом издании (Афанасьев, 1968). В рассказах
«Перевал» (1892-1998), «Святые горы» (1895), «Над горо-
дом» (1900) и др. развернутый лирический монолог стано-
вится структурообразующим фактором целостности про*
изведения. Медитативное начало слито здесь с образами
внешнего мира, приобретающими глубокую символиче-
скую наполненность: горный перевал («Перевал»), запах
антоновских яблок («Антоновские яблоки»), «седой КО'
выль» («Святые горы») и т.д. Импрессионистический П0" ।
168
|[ок образов, объединенных внутренними ассоциативными
связями, сочетается с их предметно-бытовой и историче-
ской достоверностью. Жанрообразующими факторами вы-
ступают здесь лирическая дискретность повествовательно-
го пространства, синкретизм художественного времени,
^'зьпсально-ритмическая насыщенность языка, близкая к
стихотворной форме; символическая емкость уводящих в
подтекст деталей-лейтмотивов. Однако подчеркнем: эти
ранние, экспериментальные для Бунина лирические этюды
не несли в себе развернутых философских рефлексий и
обобщений, что коренным образом отличало их от таких
позднейших лирико-философских рассказов, как «Ночь»
(1925), «Несрочная весна» (1923), «Музыка» (1924) и др.
По степени философской насыщенности к ним приближа-
ется, пожалуй, лишь рассказ «У истока дней» (1906), сто-
явший на дальних подступах к будущему «роману» и со-
державший оформленные интуиции о тайне времени, сли-
ян ности субъекта и объекта, осознанного и бессознатель-
ного в структуре личности.
Итак, начиная с 1920-х гг. в творчестве Бунина проис-
ходит заметная эволюция жанра лирико-философского
рассказа. Более зримым становится оригинальный сплав
образного и философско-рефлективного путей постиже-
ния бытия. И в этом Бунин по-своему разделил общие за-
кономерности эстетического развития эпохи. Чрезвычайно
значима в модернистской культуре активизация взаимо-
проникновения литературы и философии (такое взаимо-
действие оформлялось уже в системе позднего реализма —
в творчестве Достоевского, Толстого). Философская мысль
нередко получает «вторую» жизнь и дальнейшую динами-
ку в континууме художественного текста — будь то эссеи-
стика В. Розанова или культурологические идеи, вопло-
тившиеся в образную форму в прозе А. Белого, А. Блока...
Хотя Бунина отличало от модернистов стремление сохра-
нить непосредственность художественного изображения,
169
не «отягощенного» привнесенными извне «теориями» изд
«идеями». Именно это неприятие «теорий» часто влекло »
собой, как мы показывали выше, отталкивание Бунина Д
деятельности символистов. Однако и в ряде поздних лирй.
ко-философских рассказов, и особенно в эссе «Освобож/ф
ние Толстого» им достигается органичное сочетание )ф.
дожественных образов и элементов философской рефле^-
сии. В таких взаимопереходах сказались, очевидно, жот.
ровая диффузность, диффузность различных форм твор-
ческой мысли — универсалии культуры Серебряного вей!,
вне которых творчество Бунина непредставимо. $
Яркими образцами малой лирико-философской проз®
Бунина позднего периода стали рассказы «Несрочная ве&
на», «Музыка», «Ночь», «Поздний час» и др. Комплекс мис-
тических интуиций зрелого писателя нашел оригинальное
художественное воплощение в рассказе «Ночь». Стержнем
его становится ощущение непостижимой тайны бытия и
личности, загадочное для самого повествователя «понима-
ние <своего> непонимания» [5; 298] всей бесконечности
мироздания. Это и поразительные по своей исповедальной
откровенности прозрения о древнейших пластах Прапамя-
ти, об особом «разряде» людей, к которым принадлежат ху-
дожнически одаренные натуры... Существенна здесь не-
преднамеренность, органичность философской рефлексии,
далекой от отвлеченного теоретизирования. Единство худо-
жественного и философского планов обусловлено взаимо-
проникновением авторского «я» и картин окружающего бы-
тия, выведенных за пределы эмпирического времени: Юпи-
тер, Млечный Путь, «ни на секунду не смолкающий звон,
наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы
сквозным журчанием...» [5; 299]. В образе мировой беспре-
дельности «отражены» решающие мгновения самоосознания:
«Юпитер достиг предельной высоты своей...» [5; 307].
Врастание ярко выраженных философских размышле-
ний в образную ткань характеризует и другие рассказы
170
обозначенного ряда. Бунинские раздумья о Памяти и вре-
мени запечатлелись в рассказах «Несрочная весна»,
«Поздний час». В первом глубинное обоснование «Элизея
минувшего» как основы мироощущения сращено с вчувст-
вованием в лирические образы поэзии Баратынского, один
из которых («несрочная весна») явился для Бунина заглав-
ным. В «Позднем часе» философско-медитативное осмыс-
ление категории времени, диалог с миром личной памяти
переплетаются с «густотой» изобразительного плана, мно-
гозначной символикой — например, с лейтмотивным для
бунинского контекста образом «зеленой звезды, теплив-
шейся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то
говорившей...» [7; 41]. Примером жанровой диффузности
бунинской прозы может служить и рассказ «Воды мно-
гие», где лирико-философский аспект, свободное выраже-
ние авторского «я» прорастают из жанровых свойств путе-
вого очерка: реалии пути предстают одновременно и как
цепь образов-переживаний, философских обобщений о
«полнбй неизвестности и случайности всякой земной
судьбы...» [5; 327]. Вспомним, что и в ранней лирической
прозе Бунина («Новая дорога», «На край света», «Святые
горы» и др.) именно очерковое начало усиливало субъек-
тивную окрашенность повествования. Особое место зани-
мает в лирико-медитативных рассказах и философия твор-
чества: в таких вещах, как «Музыка», «Книга», «Бернар»,
эти размышления, сопряженные с сильнейшей лириче-
ской струей и иногда обретающие форму, близкую к
притчевой («Бернар»), естественным образом растворены
в стихии предметной изобразительности, которая призва-
на, по Бунину, выразить «то глубокое, чудесное, невыра-
зимое, что есть в жизни...» [5; 179].
Итак, лирико-философские рассказы Бунина, кото-
рые значительно эволюционировали от импрессионист-
ски-штриховых зарисовок к опытам самобытного со-
единения образного плана с оформленной философской
171
рефлексией, — стали проявлением жанровой диффузно
сти литературы начала XX в., выразившейся в межрл.
довых взаимодействиях, а также в сближении художЬ
ственной и философской мысли. |
* * * я
Общие тенденции жанровых новаций Серебряного в&
ка были сопряжены у Бунина и с появлением жанра .мф.
ниатюры — в прозе как 1900-х гг., так и особен^
1930 года (сборники «Краткие рассказы», «Далекое»),
Опираясь на миниатюры, есть основания говорить о зна-
менательном соприкосновении Бунина с жанровыми иска-
ниями в русском и европейском модернизме.
«Краткие рассказы» генетически связаны с лирической
доминантой бунинского художнического мировидения.
«Меня научили краткости стихи», — напишет он в позд-
нейшей книге «О Чехове» [9; 172].
Поиски возможностей «синергии» стихотворного и
прозаического языков на уровне особой жанровой формы
велись еще в русской классической литературе XIX в., ес-
ли учесть «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева, с ко-
торыми сопоставляли и бунинские миниатюры (Иссова,
1968; Орлицкий, 1993; Мальцев, 1994; Ярлыкова, 2001 и
другие). Активизация художественной разработки жанра
миниатюры в дальнейшем происходила и в европейском
модернизме — в частности, в практике французских сим-
волистов (А. Рембо, Й.-К. Гюисманс, Л. Тайад и другие).
В поэзии Рембо возникли оригинальные формы миниа-
тюр, значительная часть из которых вошла в книгу «Оза-
рения» (опубл, в 1886 г.). Написанные ритмизованной про-
зой, они представляли «осколки» чувственных восприятий,
мгновенные «озарения», «разрушающие привычные фор-
мы мира» (Косиков, 1993. С. 22) и создающие эффект
«темноты текста» — текста, который построен по принци-
пу монтажа отрывистых назывных конструкций: «Гудели
172
1веты колдовские... Пробегали звери сказочной стати. Об-
1ака собирались над морем, сотворенным из вечных горю-
(их слез...» («Детство» — Косиков, 1993. С. 93). Или:
Это светлый покой, не горячка и не истома, на ложе или на лугу.
Это друг, ни вялый, не пламенный. Друг.
Это любимая, ни мучительница, ни мученица. Любимая,
^ир и воздух, которых не надо искать. Жизнь.
— Значит, это было то самое?
— И стынет греза...
«Бдения» — Косиков, 1993. С. 97).
По мысли Г. Косикова, эксперименты Рембо в жанре
миниатюры были продиктованы стремлением найти адек-
ватную форму прорыва — в «сверхъестественных озарени-
ях» — «через барьер сознания, дать волю ничем не сдер-
живаемой игре воображения...» {Косиков, 1993. С. 22). За-
метим, что тяга запечатлеть тайные импульсы психической
жизни в максимально лаконичном и экспрессивном жанре
миниатюры была свойственна и Бунину, однако он оста-
вался чуждым модернистскому разрушению зримой ре-
альности, декадентски-эпатирующим сближениям и «соот-
ветствиям», которыми пронизан, например, сборник ми-
ниатюр Гюисманса «Ваза с пряностями» («Копченая се-
ледка», «Экстаз» и др.). Если в миниатюрах французских
символистов доминировала выделенность лирического «я»,
то в бунинских «кратких рассказах» особая «объективная
субъективность» «растворена» в метко схваченных де-
талях эмпирического бытия.
Жанровые эксперименты данного ряда были весомыми
и в русском модернизме. Символисты ощущали насущную
необходимость передать интуиции о бесконечности бытия
и души предельно емким, афористичным художественным
языком. В программной статье «Символизм как миропо-
нимание» (1903) А. Белый писал, что афоризм «позволяет
мгновенно окинуть какой угодно горизонт», что «символ...
173
есть напряженный до крайности афоризм. Афоризм позЖ.;
му — мост к символу...» (Белый, 1994 (II). С. 249, 250).
интенции культуры начала века преломились, как мы унв.
дим, в бунинских миниатюрах с их подчас широкими си.
волическими обобщениями («Старуха», 1916; «Маск»
1930; «Часовня», 1944 и др.). Как отмечает Ю. Орлицюв,
символисты вели активные эксперименты на стыке стихф
прозы. Переводя верлибры западно-европейских поэт®
они все больше осваивали стиховую форму, освобожден-
ную от формальных признаков стиха (метр, рифма, стро-
фика). А отсюда — актуализация жанра «стихотворений
прозе», миниатюры. Яркий пример тому — как оригиналж-
ные, так и переводные лирико-философские миниатюры
И. Анненского («Andante», «Мысли-иглы», «Сентимен-
тальное воспоминание», «Моя душа» и др.).
В центре миниатюр Анненского — «мысли-иглы» о
границах человеческого «я», о тайных сближениях этого
«я» с объективным миром: «И странно, как сближает нас
со всем тем, что не-мы, эта туманная ночь...» (выделено
Анненским. — И.Н.) (Анненский, 1988. С. 177). Это интуи-
ции о трансцендентности, беспредельности личностного
«я», скрывающиеся за отрывочными, часто разделенными
многоточиями, зарисовками природного мира: «Я — чах-
лая ель, я — печальная ель северного бора... С болью и му-
кой срываются с моих веток иглы. Эти иглы — мои мыс-
ли...» (Анненский, 1988. С. 178). А в миниютюре «Моя
душа» творящее «я», погруженное в онейрическое измере-
ние, достигает преодоления субъектно-объектных граней,
представляя себя в облике то старика-носильщика, паря-
щегося под солнцем, то «пожилой девушки, обесчещенной
и беременной...» (Анненский, 1988. С. 182). И в этом, со-
гласно авторской мысли, судьба поэта, от века «осужден-
ного... жить чужими жизнями, жить всяким дрязгом и
скарбом, которым воровски напихивала его жизнь...» (Ан-
ненский, 1988. С. 183). Прихотливая игра воображения со-
174
четается здесь с образной конкретикой, остротой автор-
ской мысли. И в «Моей душе», и в «Сентиментальном вос-
поминании» просматривается неожиданное сближение
Анненского с бунинскими антропологическими интуиция-
ми, его думами о творческой личности. В «Сентименталь-
ном воспоминании» в потоке «образов вымысла» о дале-
ком и кратком любовном переживании, о созерцании при-
родного мира рождаются прозрения сущности искусства:
«И в чем тайна красоты, в чем тайна и обаяние искусства:
в сознательной ли, вдохновенной победе над мукой или в
бессознательной тоске человеческого духа, который не ви-
дит выхода из круга пошлости, убожества или недомыслия
и трагически осужден казаться самодовольным или безна-
дежно фальшивым...» (Анненским, 1988. С. 181).
Анализ «стихотворений в прозе» Анненского позволяет
говорить о продуктивности жанра миниатюры в плане иско-
мого синтеза объективного и субъективного аспектов худо-
жественного изображения, а возникающие типологические
параллели с эстетической мыслью и жанровыми исканиями
Бунина доказывают внутреннее единство импульсов литера-
турного развития эпохи. У Анненского же интерес к миниа-
тюре сказался и в его переводах «стихотворений в прозе»
Ады Негри, вошедших в ее книгу «Судьба» (1892).
Что касается постсимволистского контекста, то здесь
черты миниатюры как жанра актуализируются в поэзии
А. Ахматовой — ив начале 1910-х гг., и в примечательной
форме «четверостиший» позднего периода.
О фрагментарной форме поэзии ранней Ахматовой,
«интенсивности <ее> выражения» писал Б. Эйхенбаум, ви-
дя здесь процессы межродового и межжанрового взаимо-
действия: «Обрастание лирической эмоции сюжетом —
отличительная черта поэзии Ахматовой... В ее стихах
Приютились элементы новеллы или романа, оставшиеся
без употребления в эпоху расцвета символической лири-
ки...» (Эйхенбаум, 1986. С. 386, 433). Современные иссле-
175
дователи склонны рассматривать раннюю ахматовскую
лирику как «малое пространство лирической миниатюру
Дзуцева, 1998. С. 129), воспринимать многие стихотвор|.
ния в качестве жанра «фрагмента», о принципах которой)
размышлял еще Ю. Тынянов {Тынянов, 1977. С. 257). Дек
ствительно, в таких вещах, как «Сжала руки под теми®
вуалью...» (1911), «Он любил три вещи на свете...» (191ф5
«В последний раз мы встретились тогда...» (1914), под-
черкнутая фрагментарность в воспроизведении психологи-
ческой атмосферы отвечает новым представлениям о ду-
шевной жизни, способствует, как и в бунинских миниатю-
рах, углублению подтекстной перспективы, таящейся за
«случайными» деталями. Верно подмечено, что «ахматов-
ский фрагмент держится на хрупкой диспропорции между
текстовой информацией и глубиной подтекста» (Дзуцева,
1998. С. 132). В поздних лирических миниатюрах Ахмато-
вой («Не повторяй — душа твоя богата...», 1956; «Забудут!
Вот чем удивили...», 1957; «Надпись на книге», 1956 и др.)
наблюдается максимальная компрессия лирического слова,
отточенного до афоризма:
Не повторяй — душа твоя богата —
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата.
(4 сентября 1956 г.).
Жанр фрагмента, восходящий, как известно, еще к эс-
тетике романтизма, сопряжен с активизацией суггестивно-
сти, установкой на со-творчество читателя, а потому ой
наиболее характерен для лирического способа осмысления
действительности: «В художественной форме литератур"
ного фрагмента... наиболее адекватно воплощается идея
бесконечности и разнообразия мира и в то же время пре-
дельно обостряется восприятие этого мира как “неполно-
176
го”, что побуждает читателя со-творчески “восстанавли-
вать” связи части и целого» (Дарвин, 1999. С. 450). Для нас
в свете комплексного рассмотрения жанровых новаций
Бунина (рассказы — роман — эссе) и их отношения к эсте-
тике модернизма — важно и суждение М. Дарвина о том,
что указанные жанровые признаки фрагмента (а они зна-
чимы и в бунинской прозе — Мальцев, 1994. С. 103) могут
-— по тем или иным основаниям — проявиться и в иных
жанрах, например, в эссе или романе. Кстати, в ахматов-
ской малой форме еще Б. Эйхенбаум разглядел «динамику
лирического романа» (Эйхенбаум, 1986. С. 438), как бы
предвосхищая последующее «открытие» этого жанра в
прозе XX в...
Значительными в русле рассматриваемых жанровых ис-
каний стали и циклы миниатюр В.В. Розанова («Уединен-
ное», 1911; «Опавшие листья», 1912), явившие оригинальный
сплав художественной и философско-публицистической
мысли.
В медитациях Розанова мы видим сращенность фило-
софской рефлексии и дневниковой исповедальности. Ав-
тор пристально вглядывается в извечные загадки бытия —
смерти, любви:
Я думал, что все бессмертно. И пел песни.
Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла...
(Розанов, 1992. С. 102).
Розанова занимает и тайна природного космоса, что
проявляется в ремарках, сопровождающих основной текст
миниатюр («в лесу», «смотря на небо в саду» и т.д.). Важ-
ны здесь и трагические интуиции о дегуманизации совре-
менной истории: «История не есть ли чудовищное другое
лицо, которое проглатывает людей себе в пищу, нисколько
не думая об их счастье? Не интересуясь ими? Не есть ли
мы — “я” в “Я”» (Розанов, 1992. С. ПО). В основе роза-
177
новских миниатюр лежат эскизные, но порой весьма ме».
кие наблюдения исторического, психологического, фид$.
софско-публицистического плана, однако тональность щ
иная, по сравнению с бунинскими «краткими рассказами».
У Розанова преобладает острая ироничность, стиль отл1|.
чается большими аналитизмом и публицистичностыд.
Внутренней сверхзадачей для Розанова — автора «Опав-
ших листьев» и «Уединенного» — становилось преодоле-
ние условности в восприятии бытия, освобождение от «ли-
тературности души, литературности жизни»: по его мыслц,
«суть нашего времени — что оно все обращает в шаблон
схему и фразу... Был Шопенгауэр: и “пессимизм” стал фра?
зою. Был Ницше: и “Антихрист” его заговорил тысячею
лошадиных челюстей...» (Розанов, 1992. С. 148). Эти ин-
тенции сближали Розанова с Буниным, но в художествен-
ной практике приводили к различным результатам. По
обоснованному мнению Ю. Мальцева, «Розанов преодоле-
вает условную литературную форму, но не литературу.
Сам его образ чувствования и думания становится литера-
турой. Сам Розанов с его мыслями и переживаниями дела-
ется литературным героем. Бунин торжествует над литера-
турой, ибо в отличие от Розанова — он не собственную
жизнь делает литературным произведением, а наоборот —
литературные произведения становятся лишь нотами его
внутренней мелодии...» (Мальцев, 1994. С. 281). Внимание
же Розанова к самим механизмам словопорождения («на
подошве туфли» или «ночью на извозчике») позволяет го-
ворить о том, что в его миниатюрах «происходит “вреза-
ние” слова в живую плоть предметности, благодаря чему
фраза и фрагмент, оплотняясь, становятся говорящими па-
мятниками самих себя» (Исупов, 2000. С. 71).
Подобные «оживление» слова, вчувствование в его
тайну, на которых строится весь текст, были в высшей
степени свойственны и миниатюрам Бунина. В 1931 г.
В. Ходасевич проницательно подметил здесь «новые язы-
178
ковые и стилистические формы», запечатлевшие автор-
скую картину мира; причем «на сей раз путь к бунинской
философии лежит через бунинскую филологию — и толь-
ко через нее». Как верно полагает Ходасевич, в центре
этих миниатюр — не сюжет, но «психологический жест»
(вспомним теории А. Белого о «жестовом» психологизме,
которые в бунинской практике нашли самобытное прелом-
ление) — «жест», реализующийся «не в поступке, а лишь в
словесной формуле, в замечании, в восклицании, то гармо-
нирующем, то дисгармонирующем с только что изобра-
женной картиной» (цит. по: Бунин, 1965-1967. Т. 5. С. 534).
Примечательно в этой связи, что, анализируя вслед за Л.С.
Выготским рассказ «Легкое дыхание», западный исследо-
ватель А. Жолковский обратил внимание на происходящую
в нем активизацию словесной фактуры («девочка-
женщина», «ветреность» героини — лейтмотив ветра; роко-
вая для Оли Мещерской страничка ее дневника), родствен-
ную принципам модернистской прозы. В миниатюрах же
это качество накладывается на повышенную экспрессив-
ность малой жанровой формы.
Размышляя о «кратких рассказах» Бунина, Ходасевич
точно определил и их генезис, связанный с лирической в
своей основе формой дневника', миниатюры «похожи на
мимолетные записи, на заметки из записной книжки, сде-
ланные “для себя” и лишь случайно опубликованные...»
(цит. по: Бунин, 1965-1967. Т. 5. С. 533). В литературном
сознании Серебряного века жанровая форма дневника бы-
ла весьма «привилегированной» именно вследствие тен-
денции к лирическому преобразованию системы жанров,
сближавшей Бунина с модернизмом. Так, о смысле для со-
временной ситуации дневника, сопрягающего субъектив-
ное и объективное видение мира, писал в 1911 г. А. Блок:
«Писать дневник, или по крайней мере делать от времени
До времени заметки о самом существенном, надо всем нам.
Весьма вероятно, что наше время — великое и что именно
179
мы стоим в центре жизни, то есть в том месте, где сходятся
все духовные нити, куда доходят все звуки...» (Блок, 1966-
1963. Т. 7. С. 69). Блоковскому мнению близка и точка
зрения Бунина, в прозе которого этот жанр занял видное
место («Окаянные дни»): «Дневник — одна из самых пре.
красных литературных форм. Думаю, что в недалеком бу»
дущем эта форма вытеснит все прочие...» [УБ; 1, 149].
Дневниково-исповедальный элемент весьма ощутим
уже в ранних бунинских миниатюрах 1900-1910-х гг.
(«Костер», «Надежда», «Пост» и др.). В них происходит
если не полная редукция, то значительное ослабление сю-
жетных связей. Сам текст возникает зачастую как «раз*
росшаяся» деталь чувственно воспринимаемого мира; де*
таль, «вытесняющая» сюжет и содержащая возможности
бытийного, символического обобщения, — как, например,
в «Надежде», «Костре» или «Старухе» (1916), где плач ге-
роини «включается» в универсализующее видение дисгар-
монии потрясаемого катаклизмами мира. А в «Третьих пе-
тухах» «радостный предутренний голос» [4; 421] третьих
петухов становится деталью, которая, будучи «пропущен-
ной» сквозь евангельские, легендарные ассоциации, при-
обретает вселенский масштаб. По сходному принципу вы-
страивается и «Роза Иерихона», связующая благодаря силе
Памяти «концы» далеких времен и пространств.
В таких лирических миниатюрах 1920-х гг., как «Име-
нины», «Подснежник», чрезвычайно весомым становится
монтажный принцип композиции, контрастное наложение
временных пластов: воспоминания о далеком детстве в Рос-
сии, и — «глубокая зимняя ночь, Париж» [5; 142]; выпуклая
детализация при описании именинного усадебного застолья,
и — «точно вся вселенная на краю погибели, смерти» [5;
141].
Эволюция лирико-философских рассказов и миниатюр
в творчестве Бунина закономерно вела ко все более экс-
прессивному лаконизму, отточенности жанровых форм,
180
сто проявилось, в частности, в цикле «Кратких рассказов»
[930 года.
Правы те исследователи, которые отмечают внутрен-
не переклички между миниатюрами данного цикла, свя-
1анные со сквозными мотивами. Таков, например, лейтмо-
гив «масочности», сопряженный с представлением о часто
1епостижимой парадоксальности и «хамелеонской» из-
менчивости психической жизни («Дедушка», «Убийца»,
«Обреченный дом», «Маска», «Постоялец», «Сестрица» и
1р.). В этом мотиве можно расслышать отголоски симво-
иистских антропологических идей, но у Бунина в миниа-
порах «масочность» персонажей, «потемки чужой души»
[5; 451] переданы через реалистическую конкретику, хотя
и вне реалистической детерминации.
Структурообразующими факторами миниатюр стано-
вятся ритм и речевая деталь. Последние, нередко состав-
ляющие стержень всего текста, полифункциональны. Они
могут быть связаны с углубленной психологической ха-
рактеристикой (восхищенный возглас толпы в «Убийце»);
неизбывным ощущением антиномизма бытия (оксюморо-
ны в «Ущелье»); вчувствованием в музыкальность и коло-
рит народного слова («Петухи», «Комета»); с постижением
таинственных «соответствий» далеких друг от друга явле-
ний (поэтика сравнений в миниатюрах «Старуха», «Стро-
пила», «Полдень»).
Опыты в жанре миниатюры возникали и в более позд-
ней бунинской прозе («В одной знакомой улице», «Каче-
ли», «Часовня», «Мистраль», «В Альпах», «Легенда» и
Др.). Жанрообразующими признаками многих из них вы-
ступают вкрапления стихотворных цитат, лирически пре-
ображающих повествование; сближение с принципами ор-
ганизации поэтического текста, повышенная роль симво-
лики... Так, в миниатюрах «Качели», «В одной знакомой
Улице», «В такую ночь» лирическая стихия, размывающая
Привычные сюжетные связи, привносится именно стихо-
181
творными цитатами, создающими синтезированный хар^ ,
тер повествования, где «стихи» и впрямь, по слову Бунина
«не отделяются от прозы». А отсюда — значимость анащ.
рических конструкций, присущих поэтической речи нш
одной знакомой улице»), преобладание отрывистых а.
зывных предложений («В Альпах»), лирическая эскизная^
в обрисовке действующих лиц (частое опущение личнф
местоимений в «Качелях»), пропуски сюжетных звеньевД
* * * t.
Бунинские жанровые искания при создании лири№-
философских рассказов и в немалой степени близких к
миниатюр (с принятием во внимание их эволюции), буду-
чи значимыми в масштабе его художественной системы, в
то же время дают основания представить их в контексте
общих тенденций в литературе эпохи, и в частности —-в
модернистской эстетике. Поиски новых литературных
форм и в модернизме, и в трансформирующемся реализме
неотделимы от жанровой диффузности, процессов мезцс-
родовых взаимодействий, экспансии лирического слова,
сближения образного и философского начал, тяготения к
максимальным лаконизму и экспрессии. г
У Бунина лирико-философские, миниатюрно-фраг-
ментарные элементы выступят как жанрообразующие при
создании и «лирического романа», и эссе, где также отчет-
ливо обозначатся линии притяжения и отталкивания от
опыта модернизма.
£ 2. «Лирический роман»
Происходивший в русской литературе начала XX в.
пересмотр традиционных представлений о личности, ее
«биографии», характере обусловленности окружающим
миром влек за собой коренное изменение взглядов на
жанр романа. Еще со времен Г. Гегеля, В. Белинского ро*
182
iaH интерпретировался как «эпос частной жизни», где
[Менно жизненный путь героя (героев) выступает как
давний предмет изображения, ядро художественного со-
[ержания. Однако в теории литературы утвердилось и
1редставление о принципиальной незамкнутости романной
1арадигмы. М. Бахтин называл роман «становящимся жан-
>ом», имея в виду, что «жанровый костяк романа еще да-
1еко не затвердел, и мы еще не можем предугадать всех
до пластических возможностей» (Бахтин, 1975. С. 448,
147). В свете рассматриваемой темы важны для нас и суж-
дения В. Хализева о «синтетичности» самой жанровой
природы романа, предрасположенной к взаимодействию с
иными жанрами: «Роман, как видно, обладает двоякой со-
держательностью: во-первых, специфичной для него (“са-
мостоянье” и эволюция героя, явленные в его частной
жизни), во-вторых, пришедшей к нему из иных жанров.
Правомерен вывод: жанровая сущность романа синте-
тична. Этот жанр способен с непринужденной свободой и
беспрецедентной широтой соединять в себе содержатель-
ные начала множества жанров...» (Хализев. 1999. С. 330). В
художественной практике Серебряного века происходит
существенная трансформация романа — ив модернизме,
и в обновленном реализме — именно под знаком «синте-
тизма», идея которого была ведущей в культурном созна-
нии эпохи.
В русском и европейском модернистском контексте
значимы теоретические рефлексии о романе, кризисе клас-
сической парадигмы романа XIX века. О. Мандельштам в
статье «Конец романа» (1922) весьма скептично отзывается
о дальнейших перспективах этого жанра, построенного на
«искусстве психологической мотивировки» и « системе
биографий». Сразу заметим: высказывания Мандельштама
нельзя абсолютизировать, ибо речь идет не о «конце», кри-
зисе романа вообще, но об исчерпанности устоявшихся по-
нятий о нем как «протяженном и законченном в себе пове-
183
ствовании о судьбе одного лица или целой группы лицф>
(Мандельштам, 1987. С. 72). Действительно, роман XX ве®а
разовьет гораздо более сложные формы художественно^
времени, не вписывающиеся в те характеристики, о которвд
говорит Мандельштам.
Обобщающие оценки перспектив романного жанра
прозвучат и в европейском модернизме — в частности, ф
уст Н. Саррот, одного из вдохновителей французской шко-
лы «нового романа». Констатируя необходимость рада,
кального обновления романа, Саррот апеллирует к извест-
ному высказыванию Г. Флобера: «Что бы мне хотелось
создать — это книгу ни о чем, книгу, лишенную всякой
внешней связи» (Саррот, 1997. С. 229). Развивая мысли
Флобера, Саррот усматривает в них начало пути к «новому
роману», декларирующему свой отказ от внешних скреп
(«сюжет», «интрига», «персонажи» и т.д.) как факторов
целостности произведения: «Книга ни о чем, не та ли это
книга, где неизвестная субстанция могла бы проявиться в
чистом состоянии, без поддержки персонажей и интриги?..
Книги ни о чем, почти без сюжета, освобожденные от пер-
сонажей, интриг и всех старых аксессуаров, сведенные к
чистому движению, что сближает их с абстрактным искус-
ством, — разве не к этому стремится современный ро-
ман?» (Саррот, 1997. С. 243). При очевидных издержках
эстетической программы Саррот нельзя не отметить в ее
идеях некоторую близость принципам вызревавшего в
XX в. «лирического романа», единство которого и основа-
но не на внешних, сюжетных связях, но на «чистом движе-
нии» авторской субъективности, ассоциативных сцеплени-
ях, поэтическом ритме...
* * *
Показательно, что, надолго опередив Саррот, на весо-
мость флоберовских интуиций обратил внимание Бунин. В
1921 г. (период постепенного складывания в его сознаний
184
умысла «Жизни Арсеньева») он делает в дневнике сле-
|ующую запись: «...начать книгу, о которой мечтал Фло-
бер, “Книгу ни о чем”, без всякой внешней связи где бы
(злить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что дове-
!ось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, не-
авидеть» [УБ; 2, 66]. Бунинские слова показывают, что в
снование будущего произведения положено было лириче-
ское «зерно», из которого произрастут его жанрообра-
лующие признаки.
Подступы к обновлению романного жанра и романного
мышления в целом, сблизившему Бунина с модернизмом,
пришлись в его творчестве на 1910-е годы. Творческие
эксперименты, прямо предваряющие поэтику «лирическо-
го романа», запечатлелись в повести «Суходол» (1911) и
рассказе «Чаша жизни» (1913): оба произведения с разных
сторон высветили особенности отношения Бунина к ро-
манной форме.
Повесть «Суходол» близка роману прежде всего широ-
той охвата явлений действительности: перед нами целая
история жизни дворянской усадьбы, значительно протя-
женная во времени. Но симптоматично, что представлена
эта история не линейно, а сквозь призму личной памяти
Натальи и взгляда рассказчика более младшего поколения.
Мы видим не последовательное развитие сюжета, но не-
произвольные «вспышки» памяти героини, позволяющие
ощутить концентрат и ее переживаний, и граней Суходоль-
ского бытия. Жанрообразующими факторами становятся
здесь синкретизм художественного времени, субъектива-
Ция картины мира, где вековая история соизмерима с
Мгновенным впечатлением («Иволга вскрикивала резко и
радостно» — 3; 141), а также концентрическое разверты-
вание основных лирических тем: памяти, «необычной
любви» обитателей Суходола, загадочной русской души.
На ассоциативных сопересечениях данных тем, а не на
собственно сюжетной динамике и построено все произве-
185
дение. Важно, что и ощущение «жуткой близости» к cyj^_
дольской ауре возникает в условиях «исчезновения веиЛ.
ственных следов прошлого» [3; 184] и их сохранения»
пространстве памяти, сна, воображения. Подобное виде»
России возникнет позднее в «Жизни Арсеньева» и пред,
пределит всю лирическую архитектонику романа. Как и»
«Суходоле», все будет выстроено здесь на ассоциативна
развитии нескольких лирических тем, на преломлении кф.
тины мира в глубинах субъективности — юного Арсеньева
и зрелого повествователя... В. Днепров указывал на по-
следнее качество как на универсальное в поэтике ромаф
XX в., тяготеющего к «изображению <бытия> со многйх
личных точек зрения»: «Объективная картина возникает из
суммы субъективных образов и восприятий действитель-
ности, — они как бы накладываются друг на друга, и в об-
щем результате погашаются их односторонности...» (Днеп-
ров, 1965. С. 544). То, что предпринятые в «Суходоле»
жанрообразующие новации сближали Бунина с модерни-
стскими поисками, одним из первых верно подметил за-
падный исследователь Р. Поджоли, назвавший даже «Су-
ходол» «символистским романом» (см.: Мальцев, 1994. G.
137). Это достаточно смелое определение стоит все же
воспринять расширительно: Бунин, далекий от конкретньй
образцов символистского романа Белого или Сологуб#,
Брюсова или Мережковского, объективно воплощал, одна-
ко, в своей практике многие тенденции жанрового обнов-
ления, предвосхищенные символистами.
«Чашу жизни» исследователи справедливо называют
часто рассказом «романного» типа, что имеет явные ана-
логии с открытиями Чехова в прозе (Страда, 1995. С. 57).
Этот рассказ соединил в себе идущую от ранней лирико-
философской прозы фрагментарность, эскизность компо-
зиции и эпический аспект, который сопряжен с особенно
значимыми для Бунина 1910-х гг. размышлениями о на-
циональном бытии.
186
1 Рассказ вбирает в себя романный масштаб — целой
;кизни: судьбы персонажей и в прошлом тридцатилетней
давности, и в настоящем пребывании их в Стрелецке. Од-
дако романное содержание раскрыто здесь способами, да-
лекими от классических законов жанра. Автор почти пол-
ностью редуцирует линейную сюжетность, буквально не-
сколькими строками в начале главы II очерчивая все про-
изошедшее с героями за тридцать лет. На место традици-
онной событийной логики становится динамика скрытых
ассоциаций, лейтмотивов: по мысли Ю. Мальцева, «глав-
ное действующее лицо рассказа — невидимое время...»
(Мальцев, 1994. С. 202). Мотивы бесплодно уходящего
времени жизни, забвения передаются в сквозном образе
пыли, а также через монтажный принцип композиции, что
направлено на преодоление рациональной романной про-
тяженности. Но, как верно полагает О. Сливицкая, «Бунин
избегает не единства рассказа, а его излишней кристаллич-
ности, которая грубо отрывает рассказанное от нерасска-
занного и сковывает пульсацию живой жизни... Построе-
ние рассказа у Бунина... разрешается в бесконечность...»
(Сливицкая, 1974. С. 95). Эта же особенность фрагментар-
ной организации повествовательного пространства станет
доминирующей и в «Жизни Арсеньева». И если в преды-
дущей главе речь шла о психологической функции
композиционных новаций в бунинской прозе, то теперь
очевидна и их соотнесенность с характером жанра.
Таким образом, ключевые принципы будущего «лириче-
ского романа» вызревали у Бунина в результате разнопла-
новых творческих экспериментов в сфере «малой» прозы.
* * *
Ощущение необходимости обновления классической
романной формы постепенно становится для Бунина все
более осознанным, что следует, например, из его разговора
с Г. Кузнецовой: «Говорили о романе, как... писать его но-
187
вым приемом, пытаясь изобразить то состояние мысли, j
котором сливаются настоящее и прошедшее, и живешь и ^
том и в другом одновременно...» (цит. по: Мальцев, 1994.
С. 307). Приведенные слова свидетельствуют о стремлении
Бунина отказаться от линейной структуры романа, достиг-
нув художественного синтеза различных временных изме-
рений. Этот синтез сопряжен и с межродовым взаимодей-
ствием эпоса и лирики: широта эпического содержания
«Жизни Арсеньева», проявляющаяся в многоплановом
изображении России, крепится лирической «вязью», ле-
жащей в основе композиционного единства произведения.
Исследователи, подходившие к бунинскому «роману» с
классическими жанровыми мерками, искусственно разгра-
ничивали в нем эпическое и лирическое начала: «Жизнь
России в эпическом произведении должна быть основана
на самой себе, показана в собственных объективных зако-
номерностях, а не в форме субъективного восприятия ге-
роя. В “Жизни Арсеньева” Россия есть не что иное, как
часть внутреннего мира главного героя...» (Линков, 1989.
С. 164).
К жанровому определению «Жизни Арсеньева» стоит
подходить, имея в виду «синтетизм» как сущностное ка-
чество системы жанров в литературе XX в. Исследователи
правильно отмечают здесь различные жанровые тенден-
ции: так, по словам М. Штерна (Штерн, 1997. С. 77, 127),
в романе парадоксальным образом сочетаются признаки и
биографии, и антибиографии, что обусловлено отходом от
классического видения человеческой биографии в услови-
ях современности; черты художественной исповеди: дей-
ствительно, доминирующим в повествовательном про-
странстве произведения становится лирический монолог
автора и героя о России, судьбе, русской культуре... Лири-
ческая фрагментарность композиции влечет за собой ак-
туализацию и жанровых принципов «фрагмента», воско-
дящих, конечно, к «малой» бунинской прозе. Кроме того,
188
|дм представляется неверной встречающаяся недооценка
Жизни Арсеньева» как «романа о художнике»: автор
придает немалое значение эстетическим рефлексиям сво-
его героя — более того, в уста Арсеньева часто вкладыва-
ется заветные раздумья Бунина о сущности искусства,
русской литературе, порой полемичные по отношению к
^одернизму. К тому же, в современных работах просмат-
ривается закономерная тенденция воспринимать «Жизнь
Арсеньева» и «Освобождение Толстого» как своеобразную
дилогию» (Бердникова, 1995. С. 81), стержень которой
(бразуют прозрения о философии творчества, личности
ворца. Это подтверждается и тем, что приближения к
толстовской» теме, толстовскому опыту постижения
(плоти» бытия и его сокровенных тайн занимают сущест-
|енное место в художественной ткани бунинского романа.
Жанрообразующими факторами в «Жизни Арсеньева»
являются соотношение автора и героя, поэтика художе-
ственного пространства и времени, характер композиции и
пронизывающие весь роман стихотворные реминисценции.
Глубинным истоком «модерности» произведения стал
1ринципиальный отход Бунина от традиционного для реа-
[изма XIX в. романа идеи, в основе которого — представ-
1ение о последовательном становлении личности, посту-
1ательном развитии исторического процесса. На этих
принципах строились многие классические романы Гонча-
)ова, Тургенева, Толстого. В «Жизни Арсеньева» органи-
зация повествования подчинена иным художественным
законам. «Стартовым» надо признать здесь переосмысле-
ние антропоцентристской модели мира, предопределившее
серьезные трансформации во всей романной структуре.
Г Скобелев усматривает в этом частичную актуализацию
Традиции архаического эпоса и по данному критерию
сближает бунинский роман с «Доктором Живаго» Пастер-
нака: обоим произведениям присуще «равновеликое вни-
мание к бытию природы и бытию истории, к изображению
189
внутреннего родства между этими силами» (Скобель^
1992. С. 60). Отказ от антропоцентризма обусловил и
нейный характер хронотопа.
Показательно, что в сознании самого Арсеньева, соёк
равшегося «писать свою жизнь», возникает интуитивме
отталкивание от реалистических изобразительных фош,
связанных с обязательной многосторонней обусловлен®,
стью человеческого характера: «Потом я опять пытали
погрузиться в обдумывание того, с чего надо начать писать
свою жизнь... Но тут меня охватило возмущение: да по^-
му я обязан что-то и кого-то знать с совершенной полно-
стью, а не писать так, как знаю и как чувствую!» [6; 239г-
240]. В самом деле — «с чего начать?»: ведь для бунинско-
го героя с самых первых мгновений важнейшим было не
«скудное знание, приобретаемое нами за нашу личную
краткую жизнь» [6; 13], но пришедшее из тьмы веков ин-
туитивно-нерациональное пра-знание о Боге, смерти, люб-
ви, творчестве... Дискретность художественного времени
результирует несовпадение линейно-календарного течения
жизни и степени интенсивности «внутреннего» действия,
составляющего главный предмет изображения: «Дни сла-
гались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима осень,
весна зиму... Но что я могу сказать о них? Только нечто
общее: то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь соз-
нательную...» [6; 28].
В. Днепров резонно обращает внимание на то, что чер-
ты лирической прозы, «лирического романа», которым
предстояло развиться в XX в., формировались уже у Чехо-
ва — в частности, в «Степи», где структурной единицей
выступает не «сюжет события», а «сюжет настроения»'-
«Эпические происшествия располагаются на волнах ритми-
ческих подъемов и спадов и подчиняются движению и
ритму лирического целого» {Днепров, 1965. С. 515, 517). У
Бунина интроспекция сюжетного времени связана с углуб-
лением в область Прапамяти и личной памяти: с этого «на-
190
дтается» роман («У нас нет чувства своего начала и конца»
6; 7), а финал трудно назвать его завершением, ибо про-
исходящий здесь прорыв в пространство памяти — этого
осуществления полноты жизни — знаменует принципиаль-
ную разомкнутость дискурсивного поля. В свое время
р. Белинский называл пушкинский роман «Евгений Оне-
гин» «романом без конца», что было продиктовано его на-
сквозь лиричной структурой. То же и в «Жизни Арсеньева»:
лирический элемент предопределяет нарративный склад
произведения.
С лирической доминантой связана в «Жизни Арсенье-
ва» и панхронность картины мира, одновременное ее рас-
крытие в далеких друг от друга временных и пространст-
венных координатах. Так, старая Чернавская дорога, по
которой проезжает юный герой, увидена и в конкретике
настоящего, и вместе с тем — в слитности с легендарным
прошлым, «в ощущенье связи с былым, далеким, общим,
всегда расширяющим нашу душу, наше личное существо-
вание» [6; 56]. Дискретность композиции порождена и час-
той размытостью граней между реальным и воображае-
мым: последнее выступает не в обособленности от воспри-
ятия эмпирического мира, но как мощный генератор пре-
ображающей весь текст лирической энергии. Например, с
городом Полоцком в сознании Арсеньева таинственно «со-
единилось предание о древнем киевском князе Всеславе»
[6; 269]. Причем память о давно прочитанном предании
своей незримой логикой «отбирает» кульминационные
«горько-сладкие» моменты жизни далекого князя. Взаимо-
проникновение «текстов» жизни и искусства (то, чего так
настойчиво искали многие модернисты) усиливает пронзи-
тельный лиризм видения бытия, актуализируя «второе
пространство» сознания героя: «И все-таки во мне и до сих
пор два Полоцка — тот, выдуманный, и действительный. И
этот действительный я тоже вижу теперь уже поэти-
чески...» [6; 269-270]. Категория воображения, о месте ко-
191
торой в смысловом целом бунинского психологизма од
вели речь выше, в «Жизни Арсеньева» имеет и жанрообр®.
зующее значение, способствуя лирической субъективации
повествования. Такой путь преобразования романной фор.
мы отчасти сближал Бунина с принципами модернистского
романа М. Пруста, где, по мысли М.К. Мамардашвили,
«вглядывание в то, что происходит в воображении»,
трансформирует оптику мировидения, составляя «самую
волнующую из всех геометрий» (Мамардашвили, 1995. С.
518-519).
Непроцессуальность композиционного движения в бу-
нинском романе объясняется и тем, что все художествен-
ное целое сфокусировано вокруг не сюжетной динамики,
но ассоциативного развертывания ключевых лирических
тем — этот принцип с успехом был применен Буниным
еще в «Суходоле», однако в «Жизни Арсеньева» «радиус»
таких концентрических «кругов» заметно расширяется.
«Вудворт в своей книге о Бунине замечает, что роман...
имеет по сути музыкальную структуру, строящуюся на ва-
риациях шести музыкальных тем (природа, любовь,
смерть, искусство, душа России и биологическая наследст-
венность)» (Мальцев, 1994. С. 320). Подчеркнем: конфигу-
рация этих заглавных тем подчинена в романе не сюжет-
ной логике, но внутренним ассоциативно-ритмическим хо-
дам (присущих прежде всего произведениям лирического
рода), а их осмысление сопряжено с «двойной» субъектив-
ностью — героя и автора.
По верному суждению Ю. Мальцева, поток мимолет-
ных впечатлений соединяется в романе с «универсальным
и вечным» за счет «контрапунктического столкновения
двух восприятий» — юного героя и зрелого повествовате-
ля, близкого своим мирочувствованием автору (Мальцев,
1994. С. 315). Контрапункты прошлого и настоящего про-
ходят через весь роман, предопределяя «технику» мон-
тажных переходов от «поля отроческих наблюдений» [6;
192
J] к обобщениям бытийного масштаба. Так, например, на
1ношеские впечатления Арсеньева от «гордости» Ростов-
ева «накладываются» глубинные по своему трагизму раз-
мышления о кризисных сторонах национального характе-
1, судьбе России в пору «окаянный дней»; а личные пе-
еживания молодого Арсеньева из-за ареста брата Георгия
богащаются прозрением коренных черт русской менталь-
ости, стоящими за интеллигентскими «хождениями в на-
од», «вечной... потребностью праздника» [6; 84]. Мон-
ажные стыки разноуровневых восприятий мира углубля-
эт подтекстный слой, способствуют субъективной насы-
кнности произведения, что противоречит традиционной
,инейности романной парадигмы. С теоретической точки
рения важны в связи с вышесказанным о «Жизни Арсень-
ва» некоторые взгляды М. Бахтина на жанр романа. По
>ахтину, в отличие от эпопеи, где «эпическое прошлое аб-
:олютно и завершено», «отгорожено от всех последующих
времен», роману присуща установка на временной синкре-
тизм, в этом жанре формируется «зона максимально близ-
кого контакта предмета изображения с настоящим в его
^завершенности». Следствием подобной устремленности
юмана от прошлого к настоящему Бахтин видит «возмож-
юсть появления в поле изображения авторского образа»
Бахтин, 1975. С. 459, 455, 470), что фактически означает
ювышение удельного веса лирического начала в романе,
тктивизацию авторского «я». Таким образом, теоретиче-
ские положения Бахтина о «становящемся» жанре позво-
ляют говорить о присутствии лирических потенций в не-
драх романа, в свойственных ему моделях времени. Твор-
ческая же практика Серебряного века, развивавшаяся под
знаком многопланового жанрового синтеза, эти потенции в
романе актуализировала, в своих вершинных достижениях
Максимально сблизила роман с лирическим родом.
Малоисследованной гранью лиризма «Жизни Арсенье-
ва» остается пока богатый реминисцентный пласт произве-
7
Зак.5821
193
дения, доминируют в котором стихотворные цитаты^л^
классической поэзии (Подробнее: Ничипоров, 2001). Ав®р
романа на практике осуществляет давние мечты — и codfj.
венные, и многих символистов о соединении стиха и npdfc,
в единое художественное целое. По меткому наблюдем^
Ю. Орлицкого, Бунин и в «малой» прозе в целях лириза»и
повествования использовал метрические фрагменты, заЬ-
жавшие весь текст поэтическим ритмом, — например, в ми-
ниатюре «Муравский шлях» (Орлицкий, 2001. С. 120). >
Поэзия становится в «Жизни Арсеньева» путем раскша-
тия как внутреннего мира, так и межчеловеческих отноше-
ний. Если детская влюбленность в Лизу Бибикову «на по-
этический старинный лад» неотторжима от любви Арсее-
ва «к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-
то вся русская поэзия» [6; 128], то сложные перипетии его
отношений с Ликой «просматриваются» сквозь призму пси-
хологических нюансов романтической стихии Фета и По-
лонского. Эти реминисценции, излучая пронзительный ли-
ризм, делают избыточными сюжетные мотивировки, испод-
воль приоткрывают тайный путь и сердцевину душевных
переживаний.
Принципы цитации имманентны главенствующей в ро-
мане сфере памяти. Память героя о юности органично сди-
вается с потоком пушкинских строк, которые «образуют его
душу» [6; 126] и как нельзя лучше отвечают своей просто-
той и пластикой богатству чувственных впечатлений Ар-
сеньева: от романтического «Певца» (1816) до поразитель-
ных прозрений о тайных ритмах русского природного кос-
моса — в «Зимнем утре» (1829), «19 октября
1825 года» и др. Арсеньев говорит о Пушкине и Лермонтове
как предопределивших особый склад его творческой нату-
ры, которая соединила в себе пушкинскую легкость с лер-
монтовской «страстной мечтой о далеком и прекрасном» [6-
126]. О пробуждении творческого вдохновения герой Не"
случайно говорит словами из 8 главы «Евгения Онегина»:
194
Когда в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться стала муза мне... [6; 93].
Чуть позже размышления Арсеньева о его образовании
[ольются с интонациями 1 главы «Онегина»: «...не я один
учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь...» [6; 177].
Гак развертывается диалогическое проникновение в об-
разную ткань пушкинского «романа в стихах»: автора и
героя «Жизни Арсеньева» влечет к себе этот первый в рус-
ской литературе опыт соединения эпической широты, «эн-
киклопедичности» с лирической стихией.
I Таковы лишь некоторые из важнейших стихотворных
цитат, лирически преображающих бунинский текст. Имен-
но стихотворные фрагменты создают лейтмотивный ритм
повествования; более того, поэтическое «прочтение» полу-
чают в «Жизни Арсеньева» все явления бытия: и первые
детские восприятия мира, и любовные переживания, и
творческие поиски, и чувство России. Часты в романе
свободные взаимопереходы прозаического и стихотворно-
го языков. Как убедительно доказывает Ю. Орлицкий, ли-
рические вкрапления заметно воздействуют на их прозаи-
ческое «окружение», способствуя метризации последнего,
его приближению к законам стихотворного стиля (Орлиц-
кий, 2001). Например, в VIII главке III книги, где Арсеньев
делится своим восприятием Пушкина, дискурсивное поле
выстраивается так:
«Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и... я
Восклицаю вместе с ним:
“Мороз и солнце, день чудесный...“ <...>
Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы
Нынче едем на охоту с гончими,
и опять начинаю день так же, как он:
195
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель... <...> •, >
Вот весенние сумерки <...>, и опять он со мной, вып.
жает мою заветную мечту: .1
Спеши, моя краса, 1
Звезда любви златая В
Взошла на небеса! 1
Вот уже совсем темно, и на весь сад томится, томит
соловей: >
Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали? |
Вот я в постели, и горит “близ ложа моего печальная
свеча <...>» [6; 126-127]. i
ч
Очевидно, что прозаическая «оправа» лирических
реминисценций во многом подчинена поэтическому
ритму: взять хотя бы идущие от стихотворного языка
анафорические повторы: такого рода конструкции вооб-
ще характерны для стиля романа (ср. известное: «И я
помню... Помню... Помню...» и т.д. — 6; 25), родствен-
ного по организации лирическому тексту. Цитатность в
«Жизни Арсеньева» является и своеобразной реализаци-
ей монтажно-присоединительного принципа компози-
ции, позволяющего свести далекие эпохи в едином по-
этическом мгновении.
Анализ основных жанрообразующих факторов позволяет
судить о «Жизни Арсеньева» как о романе «лирическом»,
разумея под этим определением то, что лирико-субъективная
окрашенность повествования, доминируя, не вытесняет эпи-
ческой разносторонности, но, напротив, стимулирует ее, ас-
социативно сближая пространственно-временные ракурсы
Лирическая «канва» произведения формирует ассоциативно-
ритмическое «подводное течение», преодолевающее линей-
ную сюжетность и сообщающее языку романа своеобразную
«тесноту поэтического ряда».
196
* * *
Литературный контекст «лирического романа» Бунина
достаточно широк. С одной стороны, не следует игнориро-
вать преемственных связей Бунина с лирической прозой,
которая, хотя и в достаточно локальных масштабах, но все
же была представлена в системе реализма XIX в. (Турге-
нев, Чехов); к тому же, «первым русским реалистическим
романом» стал пушкинский «роман в стихах», на век впе-
ред предугадавший вектор жанровой динамики. И все-таки
радикальная трансформация романа в плане его лиризации
— это явление XX в., неотделимое от эстетики модерниз-
ма. На сегодняшний день в исследовательской литературе
намечено несколько линий (в той или иной степени разра-
ботанных) сопоставления «Жизни Арсеньева» с практикой
как русского, так и европейского модернизма.
Первым в ряду подобных сближений стоит роман
М. Пруста «В поисках утраченного времени» (1913-1927).
Отчасти этому дал повод сам Бунин, который, познако-
мившись с произведением французского автора уже после
завершения «Жизни Арсеньева», признавался в том, что в
его романе — немалое количество «прустовских мест». На
деле типологические схождения Бунина с одним из созда-
телей европейской модернистской прозы были и глубоки-
ми, и весьма показательными.
Уже по своей форме прустовский роман стал, по выра-
жению М. Мамардашвили, «одним из элементов модерни-
стской революции в прозе, одним из элементов общего из-
менения нашего художественного восприятия мира» (Ма-
мардашвили, 1995. С. 12). Он сходен с «Жизнью Арсеньева»
и отличен от реалистического романа дискретностью дис-
курсивного пространства, отсутствием центрирующей сю-
жетности: «у Пруста роман строится как бы клочками, в нем
нет никакой единой временной линии, сама форма позволя-
ет осуществить переход из одного времени в другое...»
(Мамардашвили, 1995. С. 12-13). Как и у Бунина, хронотоп
197
«В поисках утраченного времени» ориентирован на и»-,
троспекцию, ретроспективное постижение душевной эд*,
ни: заглавие романа Пруста созвучно главному пафосу (ж
нинской книги, воссоздающей «время» утраченной РА
сии... Акцент в обоих произведениях сделан на «внутрв*.
нем», психологическом времени, преобразующем худоА.
ственное целое: динамика прустовского текста обусловлю,
на развертыванием «символов переживания». .*
Дело, однако, не только в формальной организащ»
романов. Речь идет о глубинной общности в пониманп
пути к истине через «одновременное движение в разных
временных пластах... построение амальгамы из разнес
ощущений» {Мамардашвили, 1995. С. 60). В «Жизни Ар-
сеньева» авторское «я» имеет синтезированное воплоще-
ние: оно вбирает далекие временные измерения, экзистен-
ции юного героя и зрелого повествователя, что придает
авторской субъективности объемно-стереоскопический
характер. Подобное мы видим и у Пруста, где образ автора
предстает как «амальгама многих пластов времени, многих
“я”» {Мамардашвили, 1995. С. 316). Бунин и Пруст озабо-
чены поиском «объективной субъективности», с чем свя-
зан особый взгляд на познание мира: «узнать, понять, уви-
деть можно лишь то, что есть в душе...» Отсюда — их не-
доверие к отвлеченным и рассудочным представлениям о
бытии, восприятие «познания как части жизни» (Мамар-
дашвили, 1995. С. 82, 84).
Главным основанием сближения Бунина с Прустом яв-
ляется их опора на Память как высшую субстанцию, по-
зволяющую преодолеть время и отчасти страх смерти.
«Как и у Пруста, у Бунина мы находим не воспоминания, а
память — то есть некую совершенно особую духовную
сущность, понимаемую художником как суть искусства И
даже жизни (Пруст писал, что память — это не момент
прошлого, а нечто общее и прошлому и настоящему, и го-
раздо существеннее их обоих, и что память, в отличие от
198
воспоминания, дает не фотографическое воспроизведение
фошлого, а его суть, и потому несет такую радость и дает
такую уверенность, что делает безразличной смерть; все
>то мог бы повторить и Бунин)» {Мальцев, 1994. С. 303-
J04). Вместе с тем в отношении к памяти коренятся и не-
малые различия между писателями. Пруст гораздо в боль-
Рзей степени философичен, для него механизмы воспри-
тий, памяти, работы сознания и бессознательного часто
выступают объектами рациональной рефлексии и ведут к
определенному обобщению. Следствием этого становится,
по Ю. Мальцеву, то, что «память у Пруста обладает боль-
шим самосознанием, Пруст более тонок в различении раз-
ных видов памяти и сознает, что память может обманы-
вать, тогда как Бунин целиком доверяется памяти как не-
коему удивительному и непостижимому чуду» {Мальцев,
1994. С. 312). В дополнение заметим, что отчетливо выра-
женный аналитизм сближает Пруста с реалистическим ро-
маном XIX в., Бунин же тяготеет к максимальной дистан-
цированности от классического типа «романа идеи» {Ко-
лобаева, 1998 (III). С. 159).
Отмечая жанровую уникальность «Жизни Арсеньева»,
Ю. Мальцев назвал бунинское произведение «первым рус-
ским феноменологическим романом» {Мальцев, 1994. С.
305): в феноменологической эстетике постулируется слит-
ность субъекта и объекта, сознания и бытия в искусстве.
Сравнительные исследования показали, что и этой гранью
своей художественной системы Бунин соприкоснулся с
модернизмом: речь идет о многоплановом сопоставлении
«Жизни Арсеньева» и «Доктора Живаго» Б. Пастернака.
К различным типологическим сопересечениям Бунина
и Пастернака мы не раз обращались выше, говоря о взгля-
дах Бунина и модернистов на искусство, поэтике художе-
ственного образа, принципах психологизма. Фигура Пас-
тернака в плане нашей темы примечательна, ибо Пастер-
нак соединил начала и концы русского модернизма, прой-
199
дя долгий путь от постсимволистских исканий к поздней
«апологии символизма», новому диалогу с символистской
эстетикой в «Докторе Живаго» {Клинг, 1999. С. 62-64).
Сближение романов Бунина и Пастернака намечалось еще
в начале 1990-х гг. В небольшой статье В. Скобелева
(1992) были названы некоторые общие для этих произве-
дений лейтмотивы — в частности, преодоление простран-
ства, образы движения бытия. Гораздо более полно данный
вопрос исследован в работе Л.А. Колобаевой (1998-Ш).
Выделим главные линии подобного сопоставления.
Корень родства романов кроется в доминировании
здесь «феноменологического восприятия». И в «Жизни
Арсеньева», и в «Докторе Живаго» повествование вы-
страивается по принципу «родственной субъективности»
автора в отношении изображаемого мира. Раздумья о
взаимопроникновении, «тождестве» субъекта и объекта
Пастернак вкладывает в уста Живаго, одновременно пре-
творяя их в описаниях природы, «пропущенных» сквозь
воспринимающее сознание. Как полагает Л. Колобаева,
такого рода субъективность сближает романы с лириче-
ской стихией и типологически объединяет их с прустов-
ской концепцией художественного познания действитель-
ности. Произведения Бунина и Пастернака явились свиде-
тельством радикальной трансформации парадигмы роман-
ного мышления XX в.: в них «совершается переход от ро-
мана идей к роману жизни, потока жизни»', с другой сто-
роны — очевидна и противопоставленность заглавной для
символизма теургической идее, что вырастает из непри-
ятия любых форм переделки «живой жизни» (Колобаева,
1998 (III). С. 158, 159).
Отличительной чертой сюжетно-композиционной
структуры двух произведений стал выход за рамки причин-
но-следственного детерминизма, господство органической
стихии «потока жизни», доверие тому, что у Бунина имену-
ется «блаженно-хмельным», а у Пастернака — «безотчетно-
200
пьяным» началом бытия. В этом потоке жизни (по меткому
наблюдению Л. Колобаевой, слово «жизнь» — заглавный
символ обоих романов) преодолевается рационализм в ос-
мыслении тайны личности и истории, достигается феноме-
нологическая спаянность субъекта и объекта изображения.
Пастернак, как и Бунин, подчиняет композицию не сюжет-
ной линейности, но поэтике скрытых ассоциаций между
внешне удаленными сюжетными ходами, «развивающимися
рядом существованиями» (Пастернак). Присущая «Доктору
Живаго» многоплановая структура времени, основанная на
синтезе различных пластов, сближает его с романом Буни-
на, а также с прустовскими интуициями об «амальгаме из
разных ощущений». Жанрообразующей в романах Бунина и
Пастернака Л. Колобаева справедливо называет категорию
памяти. В «Жизни Арсеньева» память воссоздает фрагмен-
ты личной судьбы повествователя, образ потерянной Рос-
сии. Герой «Доктора Живаго», живущий в более позднее
время — эпоху «прозябания» первых советских десятиле-
тий, стремится отыскать и в природе, и в знакомых местах
неуничтожимые благодаря силе памяти следы «верности
прошлому» (Колобаева, 1998 (III). С. 157).
Обобщая, заметим, что романы Бунина и Пастернака
— это прежде всего проза поэтов. Уникальный сплав ли-
рики и эпоса реализуется в них и на уровне взаимопроник-
новения прозаического и стихотворного языков. Текст Бу-
нина пронизан лирическими цитатами, воздействующими
на прозаическое «окружение», а венцом «Доктора Живаго»
становится цикл «Стихотворений Юрия Живаго», каждое
из которых по-новому высвечивает повороты судьбы ге-
роя, грани содержания произведения в целом. Именно со-
единяющее автора и героя лирическое слово заключает
здесь полноту интуиций о Боге, личности, истории. Хотя, в
отличие и от Пруста, и от Пастернака, в чьих романах су-
щественна прямая рефлексия, Бунин сознательно раство-
ряет философскую проблематику в образной ткани — из-
201